Владимир Андреевич Добряков Строчка до Луны и обратно
Строчка до Луны и обратно (повесть)
Прошлым летом я гостил у деда в деревне Великие Хомуты. Это в Ярославской области. Деревня мне показалась совсем небольшой, хотя и называлась «великой». А дед на это обиделся:
— Ты, Петруха, не заносись, что в городе живешь. Деревня, видишь, ему мала! Надо ведь сказать такое! Очень даже большая наша деревня. Двадцать четыре дома.
Эх, посмотрел бы дед на наш дом, куда мы вселились перед Новым годом! Этажей — девять, а подъездов — тринадцать. Пока от первого до последнего пройдешь — Алла Пугачева всего «Арлекина» пропоет, а может, еще и про короля немного успеет. Захочешь дом оббежать, то считай — сделал два круга на стадионе. Беговая дорожка на стадионе — четыреста метров. Значит, восемьсот получается. Это Лешка Фомин сказал. А если Лешка сказал — и проверять нечего: точно!
Ну и самое главное число: девять умножить на тринадцать да еще на три. Потому что на каждой площадке в подъезде — по три квартиры. Сколько всего выходит? То-то и оно! Без карандаша не сосчитаешь. Это почти пятнадцать таких деревень, как дедовы Великие Хомуты.
Когда вселились в новую квартиру, я деду письмо написал. Домом, конечно, похвастался. Даже хотел нарисовать его, со всеми этажами и подъездами, да листка бы не хватило. Ладно, приеду — сам увидит. В том письме от своего имени и, само собой, от имени родителей я пригласил деда в гости. Моя мама — это его младшая дочка. Должен ведь он на дочку и на всех нас посмотреть. Три года назад приезжал, на нашу старую квартиру. А теперь и подавно должен приехать.
Дед на мое письмо скоро прислал ответ. И в самом деле обещал приехать. А вот про дом так и не поверил. «Ты, — написал он, — внучок Петруха, привирай, да не шибко. Где такое видано: в одном дому да пятнадцать деревень! Ой, фантазер ты, Петруха, не хуже того барона. Не помню дальше, фамилия больно мудреная. Про него еще фильм был в телевизоре».
Мы дома чуть не до слез смеялись над дедовым письмом.
— Видишь, — сказал отец, — в какие чины произвел тебя дедушка. Барон Мюнхгаузен теперь ты у нас.
— А еще ты — Кукрыниксы! — сказала Наташка — шестилетняя сестра моя. И тут же потребовала: — Нарисуй, как я шпагат делаю!
В другой раз я и ухом бы не повел, но после письма деда и почетного титула, в какой был произведен, настроение у меня было самое отличное. Я взял листок, Наташка растянулась на ковре в «шпагат», и за одну минуту я нарисовал сестренку. Точно схватил. Наташка потом в детском саду показывала рисунок.
Только чего это я — о сестренке, ведь совсем про другое хочу рассказать.
Вот вселились мы в дом. Люди все из разных мест, почти никто никого не знает. Но, по правде сказать, сначала не особенно обращали внимание друг на друга. Не до того было. Долго вселялись, возили мебель, растаскивали ее по этажам, жаловались на кого-то, что лифты никак не пускают. Везде раздавался стук, визжали дрели, прибивали карнизы, полки, утепляли двери, заклеивали окна. И будто нарочно — проверить крепость нашего новоселовского духа — далекая Арктика в январе как дохнула стужей! Ой! На каждом стекле — целый ботанический атлас. Каких только цветков не придумал мороз-художник! Некоторые я даже на бумагу срисовал.
Потом немного обжились, попривыкли, стали знакомые лица угадывать. Здороваться при встрече. Но это с теми, кто в том же подъезде. А кто в других — разве запомнишь!
Тогда я и приметил девчонку из двести семнадцатой квартиры. Хотя и была она совсем не из нашего подъезда. Сначала увидел ее в школе. Я в новую школу сразу перешел, как только в дом вселились. Раньше мы в другой стороне города жили. Мне до старой школы надо было бы не меньше часа добираться. Эта девчонка ходила тоже в шестой класс, как и я. Только в другой, в «Д». А еще, между прочим, был класс «Б». Тоже шестой. Вот какая огромная эта новая школа.
Девчонку звали Кирой. Из себя видная. Высокая. Может, самую чуточку поменьше меня. А мне-то на свой рост обижаться нечего, в прежней школе многие ребята завидовали — метр шестьдесят четыре. Да и здесь — почти выше всех в классе… Но рост Киры, в общем, тут ни при чем. Главное — лицо. И еще взгляд. Что-то в лице было такое у нее… Не знаю, смогу ли даже объяснить. Ну, как иные девчонки смотрят? То вприщурку, еще и губы чуть оттопырит, словно хочет сказать: «А кто ты такой? И не знаю тебя, и знать не хочу!» Другая тоже — полна важности. Хоть глядит не щурясь, но так, будто и не видит никого. Ну, думаешь, не уступишь дороги — белым лбом в тебя упрется. А бывает наоборот: глазами — туда, сюда, с подружками — хи-хи, а вдруг перехватишь взгляд, она губы сразу подожмет, глаза ресницами прикроет, точно на полу что-то увидела. Или такие еще: глазами прямо зовет, и улыбка готовая — иди, мол, смелей, познакомимся, поговорим…
Ну, настоящий театр!
Конечно, немало и девчонок, которые никого из себя не изображают, не выставляются, а просто разговаривают, ходят, улыбаются нормально.
Вот и Кира из таких. Только в глазах — еще какое-то внимание живое. Смотрит на что-то, и понимаешь: это ей интересно. Когда первый раз мы повстречались в коридоре, то я больше всего запомнил этот взгляд — открытый, спокойный, и в нем интерес угадывался, словно она подумала про меня: «А вот еще один парнишка. Кто он и что из себя представляет?»
Чего скрывать: такие вопросы я и себе задавал. А еще подумал: жалко, что не в нашем классе учится. На уроке я сидел за партой и упорно вспоминал ее лицо — скулы широкие, глаза серые, большие. Нос, губы… В общем, все на месте. Нормальное, приятное лицо. И две косы длинные. Хорошие косы. Но… (тут я сделал невероятное предположение), но если бы кому-то пришло в голову провести в школе конкурс красоты, то даже из одного нашего класса нескольких девчонок наверняка отобрали бы кандидатами на этот конкурс. А вот Кира (я тогда не знал, как ее зовут) в их число, мне казалось, не попала бы.
И все же на следующей перемене я поспешил в конец коридора, где помещался их класс. И снова увидел ее. И снова с уверенностью, но почему-то без сожаления, подумал, что на конкурс красоты она никак не прошла бы.
Я почти каждый день видел Киру. И она, естественно, замечала меня. Мы даже немножко улыбались друг другу. Но заговорить отчего-то не решались.
Я уже знал, что живет Кира в нашем доме, на девятом этаже, в двести семнадцатой квартире.
А время шло. Тысячи стекол в окнах дома уже давно освободились от цветов и узоров, нарисованных крепким морозом в январе. Некоторые окна были даже открыты и темнели глубокими, как пропасть, щелями и квадратами. Наступила весна, серый, ноздреватый снег растаял.
Наш проспект Энтузиастов был еще голый, по другую сторону широкой дороги строители только лишь собирались поднимать новые дома. Там урчали бульдозеры, экскаваторы прорывали глубокие траншеи коммуникаций, всюду сновали машины.
Шум строек, долетавший до нас, был слышнее в холодное, зимнее время. А сейчас он словно отдалился, приглох. Яркое солнце и тепло выманили во двор, на лавочки, на просохшие ленты тротуаров множество народу. Звон, крики, смех, шлепки по мячу — все смешалось, и будто сам воздух наполнился праздником и весной. А дед еще сомневался! Да если всех собрать — целая первомайская колонна получится.
Ожидали, что на майские праздники дед приедет в гости. Нет, не собрался. Никак, мол, не управятся без него в колхозе. «Потому как, — написал он своим корявым почерком, — хоть должность моя считается и не очень заглавная, но, как мыслю, что без пастуха коровье стадо уже не культурное стадо, а дикая стая, и оттого личному хозяйству трудового колхозника проистекает материальный урон и сильное беспокойство».
Ну дед, как загнет! Семьдесят пятый год, а всё дела у него, не может своих коровок оставить.
Я здорово огорчился, что дед не приехал. С ним жуть до чего весело. В прошлом году месяц в деревне пробыл у него — чуть не каждый день живот от смеха болел. Его со всех домов сходятся слушать. Только и просят:
— А ну, дед Прокофей, расскажи чего поскладней!
Так иногда заслушаются — и про телевизор забудут. Вспомнит кто-нибудь, а на него только рукой машут:
— Да сиди, тут свой телевизор!..
Ну не приехал, так не приехал. Не откладывать же праздники.
Вот встретили и отгуляли все майские большие праздники, а тут совсем рядышком — и конец учебы. Вообще-то, учиться в мае — все равно что маяться. С одной стороны, надо бы как следует поднажать, четверть последняя, можно еще что-то дотянуть, исправить, чтобы год, например, без троек закончить, а с другой стороны, вся живая природа как с цепи сорвалась. «Люблю грозу в начале мая…» Ну, точно! Гроза однажды разыгралась — я даже подумал (может, это смешно, но честно говорю): вдруг, думаю, огромный домина наш завалится? Ничего, выстоял. Крепко сделали.
А в конце мая солнце принялось жарить как летом. Еще недавно бело-розовые яблони и вишни, что виднелись за палисадниками частных крошечных домиков, отцвели. Мотыльки начали порхать еще до майских праздников. А траву на газонах посеяли — ну, такая вымахала, хоть бери косу. А как, бывало, хотелось бросить учебники, тетради и бежать на площадку — в футбол играть!
И все же кое-как дотянули. Школе — конец. Вроде ура кричи — каникулы! В седьмой перешел! И с хорошими оценками, без единой тройки.
А было немножко грустно. Новая школа мне нравилась. И учеба здесь как-то лучше пошла. Но если честно: грустно больше всего было из-за Киры. То в любой час мог увидеть ее в школе. Пусть еще и не очень разговаривали мы, а только так — улыбнемся, кивнем друг другу или спросим, какой был урок, много ли на дом задали. Но даже и эти минутные встречи мне были дороги. Сидишь на уроке и думаешь: сейчас Киру увижу.
А теперь как увидишь? Можно неделю ходить, и не встретишь. Или в лагерь, вообще, уедет. Когда в начале июня те, кому на первую смену достали путевки, стали собирать рюкзаки и чемоданы, я совсем приуныл. Лежу как-то вечером и думаю: «Что же это делается со мной? Неужели в самом деле влюбился? Вот странно: сколько девчонок всяких видел, и в старой школе, и здесь, и ничего — жил себе спокойно. А с Кирой еще и не поговорил толком, почти не знаю ее, и не красавица никакая, а вот на тебе — из головы не выходит».
Утром специально уселся перед ее подъездом на лавочку — в журнале «Крокодил» карикатуры разглядываю. С места, сказал себе, не встану, пока не дождусь. Не будет же она целый день дома сидеть.
Мимо идет Лешка Фомин. Спортсмен. Плечи шире моих. Двадцать раз подтягивается на турнике. Голубая футболка с олимпийскими кольцами на Лешке, в руках — мяч. Увидел меня — обрадовался.
— Команду как раз собираю. Яшка сейчас выйдет. Игорь. Гвоздик за хлебом побежал, через пять минут будет. Сегодня играешь на левом краю нападения. А Гвоздика в центр поставим.
Все распределил Лешка. А как мне уходить — на левом краю играть? Про Киру ведь не скажешь.
— Лех, — говорю ему, а сам чешу в затылке, — такое дело… Не могу я сейчас.
— Чего? — Лешка и рот приоткрыл с обломанным передним зубом. — Глянь — как накачал! — И он сильно ударил мяч о землю. Мяч отскочил и — точно! — до второго этажа взвился.
— Дело, понимаешь, срочное. Карикатуру хочу на конкурс послать. Срок кончается, а… — Я уныло прищелкнул языком. — Еще и темы не придумал.
Лешка подошел, с уважением посмотрел рисунки на странице журнала.
— Так нарисовать можешь?
— Как получится, — скромно ответил я.
— Силен! — Теперь Лешка с не меньшим уважением смотрел на меня. Но вдруг оглянулся на подъезд и спросил: — А чего тут сидишь? Где карандаш?
Ну, мертвая подсечка! Одно только и выручило, что он еще и про карандаш спросил.
— Нарисовать — половина дела. Сначала придумать надо. Вот смотрю, вдохновляюсь.
— Ладно тогда, — сказал Лешка. — Вдохновляйся. Нарисуешь — покажешь!
Он пошел дальше, прихлопывая о землю мяч, а я остался сидеть.
«А что, в самом деле, возьму и нарисую». Это я так подумал. И правда, чего время зря терять? Может, до обеда придется сидеть.
Когда Лешка про карандаш спрашивал, я мог бы доставь из кармана шариковую ручку с красным стержнем. Тогда бы он совсем поверил. А что бумаги нет — не беда. Поля в журнале широкие.
Думал, думал — Лешку нарисовал. Стоит спиной, на майке — кольца, а правая поднятая нога впереди. Это он по мячу ударил. Но левая его нога не понравилась мне. Нового Лешку нарисовал, ногу в струнку ему вытянул, руку резко согнул. Лучше получилось. Эх, голову бы чуть откинуть назад. Был бы карандаш — стер, подправил бы. Ничего, надо руку набивать. Сверху, на чистом поле, новый эскиз сделал. Теперь сразу видно: Лешка по мячу не просто ударил, а шарахнул изо всей силы. Пушечный удар! Куда же попал?.. Впереди ворота с сеткой изобразил. Только в сетке огромную дыру еще сделал, и позади ворот, с мячом у груди, как барон Мюнхгаузен на пушечном ядре, летит в воздухе Яшка, который у нас за вратаря стоит.
Но Яшка у меня тоже не очень хорошо сначала получился. Принялся рядом нового рисовать. Рисую, и вдруг слышу:
— Здравствуй, Петя!
Кира — в двух шагах. Вот как увлекся! Не сказала бы «здравствуй» и прошла мимо — я бы, наверно, и не заметил, пропустил бы ее.
— Ты что делаешь?
— Рисую, — говорю. — Пушечный удар Лешки Фомина. А это — Яшка, вратарь. В небеса улетает.
Мое сатирическое творчество, видно, произвело на Киру не очень сильное впечатление. Ее больше интересовало другое:
— А почему у нашего подъезда сидишь?
Тоже — удар в солнечное сплетение!
— Тебя, — говорю, — дожидаюсь!
Но это я сказал таким голосом, который должен был бы начисто исключить подобную возможность. Будто пошутил. Не знаю, как поняла меня Кира. Сдерживая смех, она сказала:
— Вот я и пришла. То есть, приехала. А теперь уезжаю.
На этом «уезжаю» я и раскололся.
— Куда, со страхом спрашиваю, — уезжаешь? В лагерь?
Как рассмеется! Прямо слова не могла сначала выговорить.
— В какой лагерь! На лифте обратно уезжаю. Домой. Увидела тебя с балкона, интересно стало — чего тут у нашего подъезда делаешь. Теперь уезжаю.
— Зачем? — вздохнул я.
— Что зачем?
— Зачем уезжаешь?
— Так увидела все. Узнала. Рисуешь.
Я печально взглянул на нее и решился — спросил:
— А почему здесь, у вашего подъезда, сижу? Не знаешь?
— Но ты же сказал.
— Что сказал?
— Что меня дожидался. Или… — она сделала небольшую паузу — или ты пошутил?
Дальше играть в молчанку мне показалось глупо.
— Нет, — говорю, — не пошутил.
Кира затянула потуже поясок на цветастом халатике, в котором вышла на меня посмотреть, и, помолчав, спросила:
— Если дожидался… значит, хотел сказать что-то?
Я вздохнул тяжело и печально:
— В школе каждый день видел тебя, а теперь… Вот уже четыре дня прошло. Не видел.
— А я тебя вчера видела, — сказала Кира. — Да! С сумкой шел. Наверно, из магазина. Мне оттуда, — она улыбнулась и, задрав голову, показала на один из балконов на девятом этаже, — все видно.
— Тебе хорошо, — позавидовал я.
— А из окна на кухне вся другая сторона видна. И спортивная площадка. Позавчера смотрела, как ты играл в футбол. Видишь, все знаю о тебе. А балкон наш вон тот, с синим ящиком для цветов. Видишь? Там еще белье висит.
— Теперь буду знать, — с трудом сдерживая радость, кивнул я. — А в лагерь ты не уезжаешь?
— Нет, не смогу. — Кира сделалась сразу печальной. — У мамы зимой грипп был, а потом осложнение на сердце. Ей тяжелую работу пока не разрешают. Вот сегодня стирку затеяли, а машина отчего-то не включается. Руками приходится. Ты когда-нибудь стирал белье?
— Так, — пожал я плечами, — майку, носки.
— А ты простыню попробуй, — сказала Кира. — Даже не представляю, как раньше без стиральных машин обходились и никаких механических прачечных не было… Ты извини, ладно? Я побегу. А то за мамой смотри да смотри. Сейчас, пока белье вешала, она уже простыню выжимает. А знаешь, как тяжело выжимать большие вещи! Хотя откуда тебе знать? Я побежала.
Исчез в темных дверях ее цветной халатик, и стало мне как-то и грустно, и радостно одновременно. Радостно, что поговорили наконец, что и она, оказывается, помнит обо мне, из окна за мной наблюдает, интересуется. А грустно было оттого, что вот я могу и в футбол сейчас пойти играть, и в кино, если захочу, а Кира не может. Стирать должна. Наверно, и полы сама моет.
В футбол, левым крайним нападения, играть я не пошел. Вернулся домой, постоял на балконе. Вытянув шею, попытался со своего шестого этажа разглядеть балкон Киры. Только синий краешек цветочного ящика увидел. Немного.
Потом включил проигрыватель, поставил пластинку с «Аббой», но не дослушал и первой песни — вдруг подумал о стиральной машине. Почему же она не включается у них? Может, самая ерунда какая-нибудь? Прошлым летом у деда в комнате лампочка перегорела. Другую ввернули — не горит. А волосок целый. Дед плюнул, уже хотел спать ложиться, а я вспомнил, как отец патрон исправлял. Вывернул я пробку в сенях, потом фонариком присветил и шляпкой гвоздя контакт в патроне отогнул повыше. Дед потом всей деревне рассказывал, какой я хитроумный спец по электрическим делам. А мою будущую судьбу он так определил:
— Быть тебе, Петруха, большим ученым. А как поднатужишься шибко, то и выше взлетишь — самим электрическим министром станешь.
Сейчас, вспомнив дедовы похвалы, я с досадой подумал: «Чего бы сразу не догадаться — предложить свою помощь, когда о стиральной машине Кира сказала! Ну, стирать не умею, ладно, а включатель-то или вилку исправить могу. И не мучалась бы она со своей больной мамой. Смешно: в век электроники стирать руками!»
И я решился. Взял отвертку, плоскогубцы, кружок изоленты, хлопнул дверью и, не вызывая лифта, сбежал вниз по лестнице.
Но сразу подниматься на девятый этаж в 217-ю квартиру я все же постеснялся. Что подумает ее мама? Да и сама Кира еще неизвестно как отнесется к моему неожиданному приходу.
Я сел на бортик песочницы, где две малышки лепили желтые куличи, запрокинул вверх голову и стал смотреть на балкон с синим ящиком.
Ждать пришлось недолго. Слева от белой наволочки мелькнули руки, и появилась Кира. Я встал, хотел крикнуть ей, но вижу: она и сама, кажется, заметила меня. Так и есть — смотрит, улыбается, рукой помахала.
И я помахал — спускайся, мол, сюда. А кричать не стал. И от песочницы отошел, снова сел на ту же лавочку, у подъезда. Зачем привлекать лишнее внимание?
— Петя, ты что? — выйдя из дверей и все так же улыбаясь, спросила она.
Я показал отвертку.
— Могу посмотреть, если хочешь. Отчего она не включается.
— Стиральная машина? Спасибо. Уже все.
— Что все? — не понял я.
— Починили.
— Сама?
— Ну, где мне! Парень из соседней квартиры приходил. Что-то в вилке там было.
— Так и знал, — разочарованно сказал я, а сам как-то тревожно подумал о парне-соседе. — Вилку и я в два счета починил бы.
— Я же не знала, что ты такой мастер! — Кира улыбнулась мне, радостно улыбнулась, и я почувствовал, будто от земли отрываюсь, будто крылышки у меня на спине или мотор с пропеллером, как у Карлсона.
— Немного соображаю, — сказал я. — Дед живет в деревне — тоже хвалил меня. Если, говорит, поднатужишься, то самим электрическим министром станешь.
Я чуть смутился, решив, что так-то уж хвастаться, пожалуй, незачем, и поспешил перевести разговор на другое:
— Сейчас со своего балкона глядел — только кусочек синего ящика видно.
— А мне на твоем — только красные перила.
— Знаешь, какую штуку придумал, — сказал я. — Хотя нет, сделаю — сама увидишь. Через час принесу. Ты тогда выглянешь с балкона?
— Ладно, — удивившись, сказала Кира.
— А как мама себя чувствует?
— Хорошо. Спасибо. Интересно, что же ты придумал?
— Увидишь.
Теперь-то мне бы совсем пора было уходить, а я все тянул.
— Так я обязательно выгляну через час, — напомнила Кира.
— А что… — неловко спросил я, — машина, значит, теперь работает?
— У-у, воет, как зверь! Только белье-то почти все уже постирали.
— Кира, а это… какой парень?
— Обыкновенный, — ответила она. — Мама попросила его посмотреть. Он во вторую смену работает, на заводе.
Ну никак не хватает у меня выдержки! Нет бы промолчать, про себя обрадоваться, а я сразу, как курок нажал:
— Ах, на заводе!
Конечно, она догадалась. Ну да что теперь жалеть. Пусть и догадалась! Даже и лучше, что догадалась. Пусть знает, что мне какие-то там соседи-соперники не нужны.
А придумал я очень простую вещь. На конец палки, на тонком гвоздике, прикрепил обыкновенную вертушку-пропеллер. Вертушку вырезал из легкого липового брусочка. Таких брусочков в наборе авиамодельных деталей несколько штук дают. Но провозился я долго. Пока шлифовал шкуркой, дырочку точно в центре прожигал — больше часа прошло.
Кира, видно, уже давно стояла на балконе. Сразу замахала мне рукой. Наверно, обрадовалась. Почему наверно? Обрадовалась. Я это понимал, чувствовал.
Она быстренько спустилась на лифте, и я протянул ей вертушку.
— Не сердишься, что так долго? Хотел получше сделать. Сможешь привязать на балконе?
— Чтобы ветер ее крутил? — сразу догадалась Кира. — А ну! — Набрав воздуху, она округлила щеки и сильно подула на винт. Недаром я потрудился, центр до миллиметра выверял: пропеллер завертелся, как у настоящего самолета.
Кира обрадовалась, посмотрела на меня серыми удивленными глазами, будто не веря.
— Действительно, какой ты мастер!
— И себе такую же сделаю, — сказал я. — У тебя на балконе будет крутиться и у меня — тоже.
— Как хорошо придумал! — сказала Кира. — Спасибо! Я двумя гвоздиками прибью, к ящику.
— Правильно, — одобрил я. — А гвозди у вас есть?
— Как же можно без них! У отца в ящике много всяких гвоздей. И два молотка.
Я засмеялся:
— Тогда все в порядке. Одни молоток держи в правой руке, другой — в левой.
— Смешной ты, — сказала Кира.
— Посмотрела бы на моего деда!
— Я побегу прибивать!
Она это сказала так решительно, что я, конечно, постеснялся предложить свои услуги.
Впрочем, они вовсе и не нужны были. Стукнула Кира несколько раз молотком, и длинная белая палочка, которую я так же, как и сам винт, отшлифовал шкуркой, неподвижно замерла перед синим ящиком. Но вертушка на конце почему-то не крутилась. «Неужели погнула случайно?» — с тревогой подумал я. И только подумал, винт повернулся и — пошла машина работать! Это ветерок, значит, подул.
Кира не одной, а двумя руками замахала мне сверху. От радости замахала. И будто говорила: «Спасибо! Спасибо!»
И мне радостно-радостно стало.
Дома я опять принялся за работу. Всю кухню замусорил, зато часа через полтора такая же вертушка крутилась и на моем балконе.
Здорово! Балкона Киры не вижу, а вертушку ее вижу. И она мою видит.
В кухне я подмел и высыпал в ведро стружки, сходил на лестницу и вывернул ведро в пасть гулкого зеленого мусоропровода. Вернулся, поставил на место ведро, заглянул в открытую дверь балкона — крутится!
И так мне стало весело, хорошо, и захотелось еще что-нибудь сделать. А что сделать? Вспомнил о своем рисунке на полях «Крокодила». Посмотрел. А ведь ничего! Но это же только эскиз. Я устроился возле подоконника, где стоял толстый кактус с длинными колючками, и на листе плотной бумаги принялся рисовать молодца Лешку, от пушечного удара которого прорвалась сетка ворот и бедный Яшка полетел куда-то в космос. На этот раз карандашом рисовал, то и дело подправлял резинкой. Работал я с усердием, и все же времени на карикатуру потратил еще больше, чем на вертушку. А когда закончил, то сразу почувствовал, как зверски хочу есть. Вот чудеса — рисовал, и голода не было, а тут хоть кактус с колючками заглотал бы! Посмотрел на часы — о, еще бы не захотеть, начало пятого! В кухне вытащил из холодильника сковородку с котлетами, не разогревая, слопал две штуки, похватал вареных картошек. А пока ел, все смотрел на рисунок и улыбался. Тогда и название придумал. Красным фломастером написал внизу листка: «Фантастическая история пушечного удара Л. Фомина и полет вратаря Яшки в космос».
Надо ребятам будет показать. Я поглядел в окно, откуда, как и у Киры, была видна спортивная площадка с полем, огороженным невысокой сеткой, и удивился: неужели так с утра и гоняют мяч? Вон и Лешка по полю носится, и Яшка стоит в воротах.
Я завернул рисунок в газету и побежал во двор. Пусть Лешка посмотрит, убедится, что я не свистун.
Игра была в полном разгаре. По полю, трава на котором была совсем не такая густая, как на газонах, металось человек пятнадцать ребят.
Я попытался подозвать Лешку, но тот будто и не увидел меня — бежал по краю и кричал Гвоздику, только что отнявшему мяч у рыжего паренька в кедах: «Мне! Мне! Пасуй!»
Наконец я дождался, когда мяч у кого-то срезался с ноги и покинул, как говорят комментаторы, пределы поля, даже через железную сетку перелетел.
— Смотри! — подбежал я к Лешке и развернул газету со своим творением на альбомном листке.
Лешка заулыбался, и не только верхний щербатый зуб показал, но и все остальные — белые и крепкие.
— Вот это да! — выдохнул он. — Ребята, бегите сюда!
Сбились кучей, смотрят, хохочут, Яшку по плечу хлопают и меня, конечно, хвалят. Разве не приятно? Еще как!
— Дарю, — сказал я Лешке.
— Хотел же посылать.
— Ничего, другой нарисую… Ну, кто тут проигрывает? Кому помогать?
Я скинул рубаху и вспомнил о Кире. Поискал глазами ее кухонное окно, но, ясное дело, не нашел бы, не определил в длинном ряду других — какое и где оно, только вдруг сердце у меня екнуло: в одном из окон, в открытой половинке рамы, увидел саму Киру. Сюда смотрит! На меня!
Я поднял руку и помахал ею в воздухе. Никто же не знает, что делаю. Может, жарко мне, или специальная разминка у меня такая.
Покосился на окно — и Кира в ответ руку подняла. Молодец! А то бы высунулась от радости по пояс, и давай махать-размахивать. Все понимает Кира.
Наигрались мы, набегались, голов позабивали — больше некуда. Я и рубаху не стал надевать, до того потное и липкое было тело.
Пришел домой, а там — новость: дед письмо прислал. Может, оно еще с утра лежало в почтовом ящике, да я так целый день торопился, носился туда-сюда, что забыл и в ящик заглянуть.
После обязательных приветов и поклонов дед сообщал:
«Не думал, не гадал, что выпадет мне такая полоса, вроде как безработный я теперь сделался. А все Кирилка — сын Мотьки, которая в прошлом годе одной премии за лен четыреста целковых отхватила.
Думал я, и замены-перемены нет мне, старому ветерану пастуховского дела. А что вышло? Что Кирилка, стервец, удумал? Взял ту магнитофону на ремешке и записал на ней всякие голоса природы. Там и птахи у него поют-заливаются, и собаки брешут, и Пугачева Алка над королями разпотешается. А самое главное, быка по кличке Буран записал в ту пленку. Я хотел гнать Кирилку в шею с этой его шумовой машинкой. Зачем, думаю, нужон мне такой помощник? Стадо, думаю, все разгонит, а то и коровы вовсе перестанут доиться. А он упросил, стервец, — пожалел его, не прогнал.
И вышло тут мое полное поражение на пастуховском фронте. Бык на той пленке до того натурально ревет, что коровок моих будто кто подменил. Идут, глупые, на голос его, не разбегаются. А хозяйки говорят — и молоко лучше стало.
Вот что наука делает. Не зря, видать, Кирилка девять годов на парте штаны протирал. Удумал, головастый! И выходит, он теперь — главный командир коровьей роты. А мне, как ни крути, в отставку подавать надо. Да оно вроде и пора.
И потому, дорогой зять Алексей, внук Петруха, дочка Зина и внучка Наташа, думаю я недалеким днем, как и обещал, прибыть к вам в гости. Остаюсь ваш дед Прокофий».
Ясно, что и до моего прихода дома у нас читали забавное послание деда. Но когда я, чуть сгорбившись, энергично размахивая рукой и, как мне казалось, удачно подражая интонациям деда, вновь выразительно зачитал письмо, то мама, уже уставшая смеяться, сказала:
— Ой, не могу больше! Его бы на эстраду или в кабачок «Тринадцать стульев»!
Зато сестренка моя ничего такого смешного в письме не находила. Ее другое заботило:
— А дедушка кнут с собой привезет?
Маме и отцу она, видно, уже задавала этот вопрос, теперь до меня очередь дошла.
— Вот слушаться не будешь — он тебя кнутом этим как стеганет по спине!
— Ты все врешь! — обиделась Наташка. — Дедушка хороший.
Но долго таить обиду сестренка не могла:
— А что это крутится на балконе? Игрушка? Мне сделал? Можно, я отломаю? По улице буду бегать.
— Попробуй только! — погрозил я кулаком. — Разве это игрушка? Электростанция. Настоящий ток может вырабатывать. Чтобы лампочка горела.
— А у нас и так горят лампочки, — заметила сестренка. — Ты опять обдуриваешь!
— Не обдуриваю, — серьезно сказал я. — В чем-чем, а в электричестве понимаю. Вот гляди: если приделать к этой вертушке маленькую-маленькую динамомашину, то от нее может загореться маленькая-маленькая лампочка.
— А зачем такая маленькая-маленькая лампочка?
Мне надоело вразумлять Наташу, и я сердито сказал:
— Значит, надо! И попробуй, тронь только! Пусть крутится. — Я поднял голову и на далеком балконе девятого этажа увидел такую же тонкую, белую палочку. — Пусть крутится, — повторил я. — Может быть, другим людям очень интересно смотреть, как она крутится.
Когда я лежал в кровати и смотрел в потолок с узкими мазками голубоватого света от неплотно завернутых штор, и сон еще не путал мысли, то весь этот сегодняшний день вдруг представился необыкновенно важным, может быть, самым главным днем моей жизни. С какой-то странной, непривычной нежностью думал я о Кире, что завтра не только увижу ее, но и смогу поговорить, посмеяться, сделать что-то хорошее и нужное ей. Я вспоминал все наши сегодняшние короткие встречи и с радостью убеждался: мне все-все было дорого и приятно, ни одно слово ее или движение не вызывали досады. Все понимала и все делала именно так, как нужно, эта славная, умная, хорошая Кира.
И как только утром проснулся — это вчерашнее светлое воспоминание снова ожило во мне. Но просто лежать и вспоминать я уже не мог. Быстро поднялся и первое, на что посмотрел, — вертушка на балконе. Крутится! Выскочил босиком на прохладный бетон балкона, посмотрел вверх — крутится! И всегда будет крутиться! И всегда буду о ней думать! И буду радоваться! И всегда, как сейчас, с голубого неба будет светить горячее солнце!
Я думал так.
Так чувствовал.
Я и представить себе не мог, что через какую-то неделю все вдруг круто изменится, и ни радости этой, ни восторга уже не будет. И само солнце на том же голубом небе светить будет совсем иначе.
Но тогда я не знал этого. Я был полон надежды скорее увидеть Киру. И действительно, увидел. Она вышла из подъезда и дружески кивнула мне. Она не могла поздороваться, потому что я был слишком далеко — сидел на узкой доске песочницы, где вчера двое малявок лепили желтые куличи. Она была уверена, что я сижу не просто так, а жду ее.
Я подошел, и Кира сказала:
— Увидела тебя из окна. Здравствуй!
— Здравствуй! — сказал я.
— Как хорошо, что у нас молоко скисло. Я сказала маме, что схожу за молоком. Ты пойдешь со мной?
— Конечно.
Мы шагали по тротуару, и солнце светило нам в спину. Наши тени были одного роста.
— Что тебе снилось? — спросила Кира.
— Ничего. Я крепко спал. Видно, набегался за день.
— А ты вечером думал?
Мне хотелось перейти на шутливый тон, однако отчего-то не получалось. Все же от прямого ответа я уклонился.
— Человек всегда думает.
— Да, — согласилась она и, помолчав, добавила: — Я поздно уснула. Не спалось.
— Тоже думала?
— Тоже, — сказала она. — Петя, у тебя когда-нибудь было так? — И она посмотрела на меня. Это я по тени увидел.
— Твой нос понюхал окурок. — Я засмеялся и показал на окурок сигареты под ногами. — Вкусно пахнет?
Окурок все-таки помог мне почувствовать себя более свободно. А то какой-то уж очень сложный пошел у нас разговор. А Кира, видно, не могла не сказать того, что ее так глубоко волновало:
— У меня никогда так не было. Понимаешь?
— Понимаю, — кивнул я. Это прозвучало слишком серьезно, и я, глядя на наши тени, улыбнулся: — У меня никогда так не было — чтобы шел рядом с девчонкой, плечо к плечу, а видел ее, будто иду сзади.
— Ты фантазер.
Я и на это кивнул.
— И дед так говорит. Вот приедет скоро — познакомлю.
— А у меня сестра на днях приезжает. Римма. Редкое имя. В Норильске живет.
— У тебя тоже редкое имя. Был где-то царь такой — Кир.
— И не один даже, — сказала Кира. — Но я к ним отношения не имею. Те свирепые цари жили в древней Персии и задолго до нашей эры.
После этой исторической справки и Кира могла уже улыбаться и говорить не только о своем, личном. Пока стояли в очереди за молоком, я узнал, что ее отец работает экспедитором — почту возит. Сестра — воспитательница детского сада. Два года живет с мужем в Норильске, и скоро, видимо, приедет сюда в отпуск. И я рассказал о своих родителях, о деде. Про вчерашнее письмо вспомнил. Кира тоже посмеялась.
Разливное молоко кончилось, осталось только в бутылках. Кира купила — почти всю сумку заставила бутылками. И еще две пачки творога положила. Тяжелая оказалась сумка. Кира не возражала, когда я взял у нее сумку. Лишь улыбнулась:
— Тебе эти бутылки, наверно, как перышки. Такой сильный. Смотрела, как играл вчера. Больше всех голов забил.
— Не больше. Лешка — четыре. У него пушечный удар. Рисунок ему вчера подарил.
— Я видела, — сказала Кира.
— Хороший парень. И веселый. Один раз мы даже танцевали у меня дома. Вдвоем, — вспомнив про соседа Киры, на всякий случай уточнил я.
Когда подошли к своему большому дому, Кира взяла у меня сумку.
— Теперь я сама понесу.
Я понял ее и снова подумал: умница!
Поглядев на площадку, где несколько мальчишек били по мячу, я сказал:
— Может, пойду поиграю?
— Иди, иди, — кивнула она и добавила: — Когда сестра приедет, я ведь чаще смогу выходить во двор.
И снова, пока не стали подкашиваться ноги, гоняли мы по полю тугой футбольный мяч. И несколько раз в приметном теперь для меня окне кухни замечал я русую голову Киры. Она смотрела на нас. Улыбки ее разглядеть я не мог, но знал, что улыбается. И это будто прибавляло мне новые силы. Все же к полудню, когда солнце поднялось в самую вышину и нещадно палило наши головы, спины и плечи, мы окончательно выдохлись и, растирая на лицах пот, лениво переговариваясь, стали расходиться по домам.
Лешка Фомин, еще полный благодарности за вчерашний подарок, предложил мне пойти к нему обедать.
— Лучше ко мне, — сказал я. — Дома никого нет, а поесть и у меня что-нибудь вкусненькое отыщется в холодильнике. И «Аббу» послушаем.
— Замётано, — сказал Лешка.
Перед тем как произвести обследование холодильника, зашли в ванную. Вода так и манила прохладой. Мы включили душ и помылись более чем основательно. Пришлось потом тряпкой подтирать залитый пол.
Помылись, оделись, с уважением потрогали друг у друга бицепсы на руках и остались вполне довольны.
— Есть силенка у ребятишек с проспекта Энтузиастов! — подмигнул я Лешке и рассмеялся.
— Молотки ребята! — подтвердил Лешка и, наклонив голову, рассеивая брызги, помотал из стороны в сторону густым чубом.
Я удивился:
— Ну и волосы у тебя! Расческу сломаешь.
— По наследству достались, — сказал Лешка. — Отец тоже черный. Это, говорит, краса твоя — цыганский чуб.
За веселой болтовней освободили часть холодильника от продуктов, похлопали друг друга по тугим животам и, вопреки медицинским рекомендациям, устроили хорошенькую протряску под зажигательные ритмы и пение четверки всемирно известных любимцев эстрады.
— Давай, Петушок, давай! — высоко взбрыкивая ногами и тряся головой, кричал Лешка.
— Даю, Леха! Видишь, как даю! — стараясь перекричать все четыре заморские прекрасные голоса, отвечал я и, выгнув дугой спину, ширяя руками, норовил достать волосами гладкие досочки паркета.
Почище футбола такие танцы! Кое-как дотянули до конца одну сторону пластинки. Сработал стоп-автомат, и мы без сил повалились на диван.
— Хорошо у тебя, — сказал Лешка. — Я дома как шибану на громкость — сверху по трубе стучат. Никакой жизни! А у тебя — рай!
— Сверху которые, — показал я на потолок, — все на работе. А внизу — бабка глухая. Поднимаюсь с ней один раз в лифте «Вам какой, спрашиваю, этаж?» Не слышит. Стоит, как мумия. А больше в квартире там никого нет.
— Одна в трехкомнатной квартире? — удивился Лешка.
Говорили: еще будто кто-то должен приехать. Лучше бы одна жила. А то и правда, начнут по трубе дубасить!..
А через два дня получилось так, словно те, приезда которых я опасался, услышали меня и в отместку решили наконец переехать в давно ожидавшую их квартиру.
О новых жильцах с пятого этажа, как ни странно, я узнал от Лешки. Он подбежал ко мне утром во дворе с каким-то обалделым лицом и схватил за руку:
— Ну, видел ее? Расскажи!
Я оторопел:
— Кого?
— Да ту девчонку. Под вами вчера поселилась. Где бабка глухая. Не видел, что ли? — изумился Лешка.
— В сад с матерью ездил вчера, — сказал я. — Целый день клубнику пололи. Помидоры…
— Так ты ничего не знаешь! — перебил Лешка и закатил глаза. — Ну, Петушок, ты бы видел! Потрясная девчонка! На машине приехали, красный диван привезли и кресла. Я как увидел ее — все, думаю, пропала моя головушка с цыганским чубом. А она, представляешь, увидела, как я замер статуей, и улыбнулась. Да так весело, будто знает меня давно. Я, дурак, растерялся, надо было тоже улыбнуться: «Здравствуй, девочка! Как тебя звать?» И все такое. А я… Хотя, может, и правильно — разинул бы пасть от радости… Надо зуб вставлять.
Девчонку с пятого этажа звали Таней. Татьяна, значит. Как артистка Татьяна Доронина. Слух о ней пронесся по всем этажам дома. Говорили, что она красавица. Кто с самой Дорониной сравнивал, кто утверждал, что она еще лучше, и называли имена каких-то итальянских звезд кино.
Я только на третий день увидел ее. Во дворе. Она шла под руку с матерью, женщиной молодой и стройной, в желтом платье и соломенной шляпе с широкими полями. А девчонка была в сарафане зеленого цвета. На шее — круглый вырез, а на спине вырез как раз до пояса. Туфли на каблучке, тоже зеленые. Волосы цвета, что и шляпа у матери. Волосы пышные, хотя и коротко острижены.
Все это я специально разглядел так внимательно — столько уже наслушался о ней, что, ясное дело, и самому захотелось увидеть.
Может, и не совсем, как Лешка, но я тоже слегка обалдел. Я еще не сказал о ее лице. А как о нем скажешь? Не знаю. Вот назвали ее красавицей, и все. Больше ничего не надо и говорить. Какие там глаза, губы, брови — это не важно. Просто лицо видишь. И оторваться не можешь. Смотрел и смотрел бы.
Девчонка и по мне скользнула взглядом. Но не улыбнулась, как Лешке. Видно, цыганский чуб Лешки понравился ей больше, чем мои длинные и каштановые, но совсем не вьющиеся волосы.
«А ведь говорят, будто и ребятам делают в парикмахерской завивки», — подумал я. Но тут же и устыдился такой мысли: лезет всякая чепуха в голову! То — парни, взрослые, сами зарабатывают. Или студенты. Стипендию получают. А бывает, что и женятся там, в институте. Вот и отец мой женился на маме, когда учились в институте. И вообще, чего это я — о завивках? Нравлюсь же Кире, и без всяких кудрявых волос…
В тот же день, под вечер, усевшись на песочнице, развернул «Комсомольскую правду» и дождался, когда выйдет Кира.
Она сбежала со ступенек, откинула назад длинные русые волосы, на этот раз не заплетенные в косы, издали улыбнулась мне. На ней было серое платье с красной оборкой и красными пуговицами, маленький треугольный вырез чуть открывал белую шею. А у той новенькой, Тани-красавицы, вырез был, особенно на спине, едва не с половинку газеты. И спина была загорелая, почти бронзовая. Видно, специально загорала или все время в таких платьях ходит.
— Чистоту навела, — похвасталась Кира. — Даже в ванной по всем углам пылесосом прошлась. Ты давно сидишь?
— Минут пятнадцать. Международный фельетон прочитал. И как два чудака решили на велосипедах земной шар объехать.
— А как же через моря поедут? — удивилась Кира.
— Не знаю… У тебя красивые волосы, — сказал я. — И платье очень красивое.
Она немножко смутилась.
— Обыкновенное. Самый простой фасон… Посидим минуточку здесь? — Кира уселась рядом и посмотрела на мой балкон. — Все крутится. Я утром проснусь, глаза открою, посмотрю на балкон, на вертушку, и петь хочется. Ты поешь?
— Вообще, неважно. Медведь на ухо сел.
— Не сел, — засмеялась Кира, — лапой наступил.
— А платье мне все равно нравится. — Я потрогал красную оборку на колене. — Хорошо подходит — серое и красное.
Кира обтянула на коленях платье и сказала:
— Чего в нем особенного… Вот тут одна девочка приехала — на ней действительно — платье! Вся спина открыта… Ты слышал об этой девочке?
— Даже видел.
— Правда, красивая? — чуть вздохнув, сказала Кира.
— Красивая.
— А ты знаешь, что она под вашей квартирой живет?
— Знаю, — ответил я и, посмотрев на балкон, расположенный ниже нашего, вдруг поразился: — Как интересно! — тронул я Киру за руку. — Гляди: она в самом центре живет. Шесть подъездов — справа, шесть — слева, четыре этажа сверху, четыре — снизу.
— В самом деле, — сказала Кира и, кажется, немного с завистью добавила: — Только приехала, и уже — в самом центре… Ты не видел, как твой лучший друг Леша на велосипеде ездил, вон там по дорожке? Я так смеялась! Лег на руль, ноги вперед, а руками педали крутит.
— Во, циркач! — поразился я. — А ты удивляешься, как они по морю поедут. Да Лешка по океану, на гребешке волны, хоть в саму Африку укатит!
— А другой мальчишка на руках ходил, — сказала Кира. — Идет, и еще ногу об ногу чешет. Никогда таких концертов не устраивали… А знаешь, почему это представление затеяли? — Кира выжидательно посмотрела на меня.
— Чего же не подурачиться, — сказал я. — Каникулы, отдыхаем.
— Нет, — помотала Кира головой. — Это они для нее старались. Тани новенькой. Она стояла на балконе и смотрела на них.
— Не видел, — сказал я. — Опять с мамой в сад ездил.
— Она очень красивая девочка, — повторила Кира и снова вздохнула: — И как раз почему-то живет под вашей квартирой…
О новой девочке и ее необыкновенной внешности разговоры шли не только среди ребят и девчонок двора, но и сами взрослые не остались к этому равнодушны. По крайней мере, у моих родителей даже небольшой спор вышел.
Отец уверял, что теперь во дворе может вспыхнуть вражда между мальчишками.
— По себе помню, — сказал он. — В восьмом классе была у нас Жанна Райская. Будто по ней фамилия. Девочка, ну просто конфетка! Всем улыбалась, глазки строила, на свидания соглашалась и сама назначала. Что началось! Ребята вконец перессорились. Драки были.
— Любопытно, — иронически сказала мама, — новая страничка в твоей биографии. Ты, естественно, тоже украшал чьи-нибудь физиономии фонарями и шишками!
— Представь себе! — с удовольствием сказал отец. — Правда, однажды и мне навесили этих елочных погремушек. Неделю в школу не ходил. Директор потом потребовал, чтобы родители Жанны каждый день встречали ее у школы и отводили домой. Слава богу, что в девятом классе она с нами не училась. Отец ее был военным, и его куда-то перевели в другое место.
— Совершенно нетипичная история, — сказала мама. — Ты же помнишь Оленьку Телешову с физмата? Разумеется, помнишь! Прелесть — какое лицо, фигурка!
— Ну, это на чей вкус, — заметил отец.
— Перестань! По-моему, и ты был в нее тайно влюблен.
— Это, Зинуля, твои домыслы.
— Хорошо, пусть, — согласилась мама. — Не о том речь. Ведь никаких мужских распрей и поединков вокруг нее не было. И замуж вышла за простого, очень скромного человека. Младшим научным сотрудником в НИИ работал.
— Все дело в том, — попытался сформулировать отец, — как прекрасная представительница прекрасного пола ведет себя.
— Тут я совершенно согласна, — сказала мама. — Она, как дирижер в оркестре. Понимает, слышит — и музыка есть, все хорошо звучит. А станет без толку махать палочкой — и музыки не будет, все собьются, перессорятся.
— Сравнение не из лучших, — философски заметил отец, — но принять можно. Умная, красивая женщина — она как солнышко, всем в ее лучах тепло и отрадно. Солнышко одновременно для всех и ничье…
Мне, конечно, интересно было слушать этот разговор. А отец в моих глазах сразу как-то даже возвысился: оказывается, из-за девчонки в школе дрался. А я-то думал: он паинькой был и на одни пятерки учился.
Интересно, а как же поведет себя эта новенькая Таня? Что за дирижер будет из нее? Неужели правда, перессорятся ребята? Смотри-ка вот, Лешке улыбнулась, да так говорит, весело, будто знакомому, а на меня, пожалуйста, — ноль внимания! Конечно, мне и не нужно вовсе, чтоб улыбалась, но обидно как-то. Что уж я такой урод! И Кира какая-то грустная стала. Может, опасается, как бы я тоже не стал перед Таней на руках ходить или фокусы какие на велосипеде выделывать, как Лешка?
Да, что-то будет, подумал я. А если бы Лешке еще заменить сломанный зуб…
Однако уже на другой день я понял, что «дирижер» с бронзовой спиной в «музыке», кажется, разбирается. Палочку, во всяком случае, держит крепко. Я-то, по словам Лешки, думал, что красивая Таня изо всех ребят его выделила, курчавым цыганским чубом прельстилась да фигурой его атлетической — нет, ничего подобного.
Таня сидела в своем удивительном сарафане на лавочке вместе с другими девчонками у нашего шестого подъезда и белыми зубками грызла семечки. А ребята, то и дело поглядывая на нее, опять устроили представление. Игорь откуда-то принес ходули и метровыми шагами вымахивал по дорожкам, даже пританцовывать пытался. Гвоздик (это он на руках ходил и ногу об ногу почесывал) теперь еще забавней придумал цирковой трюк: взял по чурбачку, вскочил на стол для пинг-понга, встал на руки и теми чурбачками — бух! бух! по столу, тоже какую-то музыку изображает. Здорово получалось! Девчонки даже хлопали. И сильнее всех — Таня.
А у Лешки номер с велосипедом не получился. Прилаживался, прилаживался вместо рук ногами рулить, да не удержался — завалился на газон. Ясно: девчонки за это аплодировать не стали. Захихикали негромко. Тогда Лешка, я думаю, обиду на Гвоздика затаил. Поспорили они, кто больше на одной ноге присядет. Тут Гвоздик и оплошал.
— Ребята! — закричал Лешка. — Вы свидетелями были! Теперь пусть везет меня до газона!
— Садись, — сказал Гвоздик.
— На коленки становись!
— А мы же так не уговаривались, — нахмурился Гвоздик. — На закорках понесу.
— Нет, — потребовал Лешка, — на колени!
— Нет, — покраснел Гвоздик, — не встану!
— Ну ладно, — согласился Лешка. — Вези так. Но с кнутиком! — Он вытащил из штанов ремень и забрался на спину худенького Гвоздика.
Пока Гвоздик нес его до газона, Лешка то и дело хлестал его ремешком и прикрикивал:
— Но-о, Саврасушка! Но-о, милый!
Смотреть на это, по правде сказать, было не очень весело.
Вот тут Таня и показала, что буйный цыганский чуб Лешки цены для нее никакой не имеет. Ребята не слышали, но девчонкам она будто бы так и сказала: «У него что, не все дома? Он что, придурок?»
И все — померкла Лешкина звезда. Герой превратился в ничто.
Но самое удивительное: Лешка не взъерепенился, никому не пытался мстить. Он просто сник, с неделю ходил как в воду опущенный. Он покорно ждал, когда Таня наконец смилостивится и снова улыбнется ему.
Скрывать не стану: Таня за это мне понравилась. Какой ни друг Лешка, но восхищаться тем, как он измывался над Гвоздиком, я не мог. Пусть и не так понял Гвоздик уговор, только все равно требовать, чтобы он становился на колени и вез его, Лешка не имел права.
И Кира, когда узнала эту историю, тоже сказала, что Таня молодец.
— Она не выставляется, — сказал я. — Все девчонки смотрят ей в рот. Уважают.
— А ты? — Кира быстро взглянула на меня.
— Как все, — пожал я плечами. — Хорошая девчонка.
— Завтра Римма приезжает, — сказала Кира. — Я, кажется, сто лет в кино не была.
— И я давно не был. Сходим как-нибудь? — спросил я.
— А что ты больше любишь — комедии или серьезные?
— Все люблю. Только чтоб интересные были.
— И я, — покивала Кира. — Обязательно сходим…
Теперь, выходя на балкон, я и на далекую палочку Кириной вертушки смотрел и, опустив голову, смотрел вниз. Плохо, что балконы были не открытые, а встроены в нишах дома. Так что видел я на балконе Тани лишь узкую полоску бетонного пола.
Но в конце концов мне повезло. Взглянул вниз, а там, над красными перилами, — соломенный круг. Это волосы Тани так мне виделись сверху. А все вместе: соломенный круг, полоска бронзовой спины и на перилах — два острых загорелых локотка. В волосах — гребенка с десятком блестевших стеклянных крапинок. «Как солнышко», — подумал я.
Стоял я тихо, не шевелясь, до тех пор, пока «солнышко» не исчезло с балкона.
Увиденное будто само просилось на бумагу. Я взял набор фломастеров и на листке нарисовал желтый круг с коричневой гребенкой и белыми крапинками, а по сторонам круга, на красных перилах, — два кремовых локотка. И подпись как-то сразу пришла в голову: «Солнышко над проспектом Энтузиастов».
Написал сверху. Подчеркнул. Хорошо. Веселый рисунок. А что дальше? Кому он? Себе? А может быть…
Сидел, сидел, покусывал губы, и — решился. Нашел у сестренки ведерко с нарисованными цыплятами, свернул трубочкой рисунок, ниткой перевязал, чтобы не расправлялся, и положил его в ведерко. Моток прозрачной лески у меня был. Отмотал метров пять и оба конца привязал к дужке ведра. Петля получилась.
Ну, была не была! Приладил петлю на палочку с вертушкой и потихоньку спустил ведерко вниз. Чуть-чуть до перил не достало.
Через каждые пять минут я выбегал на балкон и свешивал голову вниз. Художественное творение мое продолжало оставаться в ведерке, не тронутое, не развернутое, не оцененное.
«Чем-нибудь занята, не видит, — с волнением думал я. — А чем занята? Да мало ли. Книжку на своем красном диване читает. Телевизор смотрит. Платье примеряет. Посуду моет… Нет, вряд ли моет посуду. И белье вряд ли стирает. Не похоже как-то. Это не Кира. И мать у нее — молодая совсем, здоровая. И бабушка есть. Это неважно, что глухая, зато не какая-то развалина древняя, без дела, наверное, не сидит. Это у Киры бабушки нет и мать больная…»
При воспоминании о Кире мне становилось немного не по себе. Не напрасно ли все это — рисунок, ведерко? И вдруг ведерко заметит не Таня, а мать или бабушка? Вот, скажут, еще один вздыхатель объявился! Может, поднять ведерко, пока не увидели?..
Я снова вытянул шею, посмотрел с балкона и… сердце тревожно-тревожно застучало. Ведерко висит на месте, а свернутого рисунка нет.
Но кто его взял? Спокойно сидеть на месте я не мог. Принялся ходить по комнате, бессмысленно брал в руки то газету, то журнал, от волненья выпил на кухне кружку яблочного компота. А потом меня неожиданно осенило: в конструкции петли с ведерком — серьезный изъян. Если Таня захочет вернуть мне ведерко, то как сможет это сделать? Оно же не будет держаться наверху. Изобретатель! Надо было на другом конце петли укрепить какой-то груз, равный весу ведерка. Эх, учили, учили дурака шесть лет в школе! Сразу не мог сообразить! Чего же привязать? В буфетном ящике на кухне, среди инструмента и железок, привезенных со старой квартиры, отыскал тяжелый болт с гайкой. Как раз по весу. Теперь почему-то я был уверен, что рисунок увидела и взяла именно Таня. Ведь перед этим она стояла на балконе. Значит, там где-то была, рядом. Я снова улыбнулся и навинтил на болт еще одну гайку.
Я вернулся в комнату и еще на балконном пороге широко разинул рот: в палку с вертушкой, прибитую мной к перилам, уперлась проволочная дужка ведра. Чуть оробев — не смотрит ли снизу Таня — осторожно ступил на балкон и заглянул в ведерко. На донышке, подняв смятые кончики золотистого целлофана, стоит конфета. Шоколадный трюфель!.. Стоп, а как же ведерко держится?.. Посмотрел вниз. Ну и ну! Надо же, ведерко удерживал привязанный внизу коричневый, с прожилками камень! Догадалась!
А ну, как будет действовать наша связь? Еще бы опустить ведерко. Но не пустое же. Что же положить в него? Рисунок, конечно. Новый. Еще нарисую. А ну, пока горит вдохновение! Вон Пушкин в Болдинскую осень сколько стихов написал!
Над новым рисунком трудился не менее получаса. Три эскиза сделал. Зато получилось — хоть, и правда, на конкурс посылать. С кремовой спиной, в зеленом своем платье, стоит Таня, руки величественно приподняты. А перед ней — Гвоздик на столе, кверху ногами. И рядом — Игорь на ходулях. Подписал так: «Подданные ее королевского величества».
Я опустил в ведерке рисунок и с интересом рассмотрел поднявшийся ко мне коричневый камень. Красивый, будто полированный, белые жилки вьются. Наверно, с Черного моря привезли.
Ответа я ждал с большим нетерпением. Точно знал: ответ будет. И Таню представлял: вот удивится!
Рисунок на этот раз исчез из ведерка быстро. Минутки через три заглянул вниз — пустое донышко.
Пока сидел над вторым рисунком и поджидал потом ответа, я всего лишь раз вспомнил о Кире. Но угрызаться сомнениями уже не стал. Подумалось: «А что особенного делаю? Рисовал? Да я, Кира, хоть двадцать рисунков тебе нарисую. Каких только захочешь!»
А вот и ведерко! Уже здесь! Ну-ка, поглядим. Ого, две трюфельные конфеты! Да еще и письмо? Интересно…
На сложенном вчетверо листке мелкими зелеными буковками было написано: «Это на меня не похоже. Я сторонница демократического правления. И все же — большое спасибо! Таня. А какое имя у свободного гражданина с шестого этажа?»
Ответного письма я не стал писать, просто посмотрел вниз — так и есть: локотки на перилах, а посредине желтое солнышко с гребешком!
Я кашлянул, и солнышко обернулось ко мне розовым лицом с огромными синими глазами. Даже зажмуриться хотелось. И я, сам не зная почему, оробел.
— Петр, — сказал я. — Доброхотов.
Показалось: она смотрит на меня уже целую минуту. Словно изучает.
— А меня — Таня, — сказала она и улыбнулась.
И снова хотелось зажмуриться.
— Ты давно здесь живешь? — спросила Таня.
— Полгода. Как и все.
— А мы только приехали… Я, кажется, не видела тебя во дворе.
Я не стал уточнять. Мне это было неприятно.
— В последние дни, — сказал я, — три раза в сад с мамой ездил. Она даже отгул брала на работе. В конструкторском бюро мама работает.
Сам не понимаю, зачем я все это рассказывал? Может быть, просто боялся молча смотреть в ее синие глаза?
— А сад у вас далеко?
— На автобусе — полчаса.
— А своей машины у вас нет?
— Пока нет. Но отец в очереди записан. «Жигули» хочет покупать.
— Сад большой, хороший?
— Шесть яблоней, четыре груши. Вишни есть. Малины много. Клубнику сейчас пропалывали. В прошлом году шесть ведер клубники собрали.
— И домик в саду есть?
Таня расспрашивала обстоятельно, и я обстоятельно отвечал:
— И домик есть. Как и у всех. Комната, веранда. Электричество проведено. Даже старый телевизор туда привезли.
— Старый телевизор? — переспросила Таня и вдруг быстро повернула лицо вниз. — Ой, ручку выронила! Если в траву отскочила, не найдешь.
— Это почему же не найдешь? — спросил я. — Какого цвета ручка?
— В том-то и дело — зеленая.
— Ерунда! Сейчас в одну минуту отыщу!
Не дожидаясь лифта, я поскакал вниз, к выходу.
Права оказалась Таня: сколько ни смотрел, ни шарил в густой траве газона — ручки нигде не было. Подошли две девчонки, поинтересовались, что ищу. Вот любопытные, вечно с вопросами лезут! А Таня, наблюдавшая сверху, таить не стала:
— Ручку обронила. Посмотрите, девочки.
«Ну, теперь раззвонят по всему дому! — с беспокойством подумал я. — Зачем ей было кричать? И почему это ручка у нее вдруг упала?.. А если нарочно обронила? Посмотреть, что я буду делать… И вообще, поглядеть на меня. Может, думает, урод я или вовсе без ноги. Как Сенька с прежней квартиры. Соскочил на ходу с трамвая, да — под колеса машины. Ногу в больнице и отрезали. Ходит с костыльком…»
Все это, немножко сердясь на Таню, я думал про себя, а сам в это время — глазами, глазами. Хоть бы скорей найти эту дурацкую ручку! Нашла девчонка. В самом деле — зеленая, с травой сливается. Найди попробуй!
— Ты отнесешь? — протянув ручку, спросила она.
— Если хочешь — неси сама.
— Нет, — подумав, сказала девчонка, — возьми. Ты же первый для нее искал.
Меня кольнуло: ишь, для нее!
Взял я ручку, вошел в подъезд, нажал верхнюю, не светившуюся красным огоньком кнопку, и дверь лифта открылась. В кабине, не раздумывая, утопил пальцем кнопку с цифрой «6», и послушная кабинка, подрагивая, потрескивая, быстро, с этажа на этаж понесла меня вверх, мимо Таниной квартиры, и замерла на площадке шестого этажа. А если Таня в дверях меня ждет?..
Но я, все еще переживая из-за разговора с девчонкой, не стал выяснять этого — открыл ключом замок своей квартиры и захлопнул дверь.
На балконе Тани не было. Я положил ее зеленую ручку в Наташкино ведерко с нарисованными цыплятами и опустил его вниз.
Как-то нехорошо мне было. Будто вот тяжелое что-то положили внутрь грудной клетки. Посидел на кухне, пожевал корку, потом взял веник, подмел пол. Но перед плитой с газовыми конфорками остались видные следы высохших капель от борща или молока. Потер ногой — не стираются. Тогда в ход пустил мокрую тряпку. Следы исчезли. Хорошее дело — тряпка. Только уж грязная очень. Открутил кран с горячей водой, намылил тряпку и принялся стирать ее. Она хоть и не простыня, но возился я долго. Все же почище сделалась. Можно сказать, совсем даже чистая стала.
Работа словно бы успокоила меня. Тогда полил еще и цветы на кухне. И в комнату прошел, где на подоконнике стоял пыльный кактус с колючками. Тоже напоил толстяка.
На балконе, у палки с крутившимся пропеллером, виднелся краешек ведерка. На дне его лежала свернутая записка. Те же зеленые, маленькие буковки: «Большое спасибо, Петр! Извини, что доставила столько хлопот. Таня».
Переживал я неспроста. На другой день увидел Киру. Не дождался, как обычно у песочницы, а встретил ее на углу дома — с хлебом шла, из магазина. Не иначе как Кира уже слышала о моих поисках зеленой Таниной ручки. А может быть, знала и не только о ручке. Разве не могли, например, те же девчонки видеть, как ведерко туда-сюда между балконами сновало? Да и мало ли, вообще, народу ходит!
Я почему говорю «может быть»? Сама Кира ничего об этом не сказала. Но я же видел: она словно какая-то замороженная была. Да и у меня язык во рту будто клеем смазали, не ворочается. Все же я спросил, что нового, приехала ли сестра.
Кира кивнула. И — никаких подробностей: поездом ли приехала или самолетом, кто ходил встречать. Ничёго. И на меня не смотрит.
Какой уж тут разговор! Но я еще и о хлебе спросил — свежий ли?
— Только сгрузили, — сказала Кира.
— Тоже за хлебом послали, — вздохнул я. — Побегу тогда. Сейчас обедать, а хлеба нет… Так побегу? — повторил я.
— Беги, — сказала Кира и сама первая пошла к дому.
Я потом все хотел рассердиться на Киру — могла бы, мол, «здравствуй» сказать, посмотреть на меня, а еще лучше — улыбнуться, как раньше, но никак не получалось — не мог рассердиться. Только и своей особой вины я не чувствовал. Рисунки, записочки, ручку в траве искал — все это ерунда на постном масле! Как была Кира для меня лучшим другом, самой хорошей девчонкой, такой и осталась. А Таня… Что ж, разве я виноват, что ее квартира как раз под нашей оказалась? Соседка. У Киры вон тоже — парень, сосед, стиральную машину им чинил.
В душе я понимал: не так это на самом деле. Но понимать, оказывается, мало. А вот взять на себя вину — куда тяжелей.
Но если сказать, что я ничего не пытался сделать и отдался, как говорится, на волю случая, что, мол, будет то и будет, — это неправильно. Например, конфеты, которые Таня прислала за второй рисунок. Не стал есть. Из протеста. Они стояли на полке так красиво завернутые, так хорошо пахли. Чего стоило съесть? Но я не притронулся. Наташка пришла из детского сада — ей в подарок преподнес.
А еще вечером минут тридцать стоял я на балконе и смотрел на тоненькую вертушку Киры. Все ждал — вдруг Кира покажется на балконе, посмотрит сюда. Обязательно помахал бы ей рукой. Только не показалась Кира. Неужели так обиделась? Хотя ведь сестра приехала, там теперь разговоры, разговоры.
У меня даже была мысль — не снять ли совсем эту капроновую петлю с ведерком? Но раздумал: ведерко было опущено на балкон Тани, стал бы его поднимать, а она может увидеть. Да и что эта ведерная почта значит! Главное — я сам. Как сам буду поступать. А поступать мне хотелось хорошо и достойно, чтобы не делать Кире больно. Она-то в чем виновата? Мне ведь как самому неприятно было, когда тот парень починил стиральную машину. А если бы он не взрослым был?.. «Нет, — твердо сказал я себе, — если дружишь, то дружи, не подставляй ножку, не обижай».
Ну разве ничего не пытался я сделать? Еще как пытался.
Пытался. И что вышло на деле? Помню, дед говорил: начал дело — не оглядывайся. Что бы вспомнить его слова, когда подумал, не снять ли ту петлю с ведерком! Вот и надо было снять. Нет, на себя понадеялся. Думал, что сильный, все могу. Да только можно ли было устоять против Таниных синих глаз и улыбки!
Как раз одиннадцать часов было, по радио производственную гимнастику стали передавать. Полезное дело. Размяться никогда не помешает. Да еще под веселую музыку. Включил погромче радио, дверь на балкон отворил и делаю: «Раз, два, наклон вправо. Раз, два…» И тут прямо на моих глазах коричневый черноморский камень дрогнул, стукнул о перила и — будто провалился.
Я — туда, голову свесил, а мне прямо в лицо — ведерко.
— Не ушибла? — Внизу — Таня. Голос веселый. И опять — лицо ее, глаза, сверканье зубов. — Доброе утро, Петр!
— Доброе утро, — говорю. Хотя какое утро — двенадцатый час!
— А я послание тебе сочинила! Прочитай. Ответ я здесь подожду.
Развернул листок. Сверху — обращение:
«Свободному гражданину Петру Доброхотову!
Для бабушки нужно купить лекарство. Где здесь аптека, я не знаю. Не сможешь ли ты оказать мне любезность и проводить до аптеки? Это, естественно, не указ, а предложение ее не королевского величества. Таня».
Сочинила ловко. Неглупая девчонка. Но что же делать? Она ждет. Я выглянул и, увидев ее обращенное ко мне лицо, лишь согласно кивнул.
— Я готова, — сказала Таня. — А сколько тебе на сборы?
— Мне… — Я посмотрел на свои босые ноги. И брюки не надеты, даже майки нет.
— Пять минут хватит? — со своего балкона спросила Таня.
— Да, — сказал я. — Конечно.
— Я буду ждать внизу. Хорошо?
— Да, да, — закивал я. — Хорошо. Я выйду.
Я не узнавал себя. Я был противен себе. Лопочу беспомощные слова, безропотно соглашаюсь. А ведь говорил, обещал. И нисколько, ничуточки не радовало меня, что сейчас буду идти по улице с такой красивой девчонкой, и мне будут завидовать и смотреть вслед. Наоборот, поспешно натягивая рубаху, я с беспокойством думал о том, как бы скорее миновать нам подъезды дома. Но все равно кто-нибудь увидит. Не могут не увидеть, столько людей живет. И погода такая хорошая. Неужели она опять будет в зеленом сарафане без спины?..
Когда я вышел из подъезда, на сердце у меня отлегло — Таня, стоявшая у заборчика газона, красовалась в голубом, чуть выше коленей платье, вырез впереди был не очень большой, а спина и вовсе закрыта до шеи. На платье не было заметно ни единой морщинки, по-моему, Таня, поджидая меня, и на лавочку потому не села, что боялась хоть сколько-нибудь помять свое наглаженное платье. В руке она держала белую сумку с иностранными буквами и головой тигра, разинувшего свирепую пасть с острыми клыками.
Таня быстро (я это заметил) оглядела меня и, кажется, осталась довольна и белой рубашкой, заправленной в штаны, и не кудрявыми моими волосами, которые я все же успел расчесать перед зеркалом.
— В какую сторону? — спросила Таня, поглядев направо и налево.
Направо было ближе, но тогда надо было бы проходить мимо девятого подъезда, того самого подъезда, откуда обычно выбегала Кира, когда я поджидал ее у песочницы.
— Сюда идем, — указал я налево.
Но через минуту мне пришлось пожалеть об этом. У второго подъезда целая стая девчонок устроила свои шумные игры. Тут и через веревку прыгали, и в мяч играли, и в классики. Я подосадовал: лучше бы в другую сторону идти, не обязательно же Кире выходить именно сейчас. Но теперь уже поздно — мы приближались к игравшим девчонкам. Впрочем, там были и ребята.
— Как тут весело, — сказала Таня. — Сколько народу! И за домом играют. Там у вас — футбольное поле?
— Да, — говорю, — поле. — А сам одно думаю: скорей бы до угла дойти.
— Обожди, — сказала вдруг Таня и запрыгала на одной ножке. — В туфлю что-то попало. Подержи… — Она передала мне сумку с тигром, расстегнула ремешок на синей туфле и сняла ее. Стоя на одной ноге, она ощупывала внизу белый, капроновый носок. Другой рукой Таня оперлась на мое плечо.
Что у нее там попало? Неужели носок снимать будет?
— Может, в туфле? — спросил я.
— Нет, нет… Сейчас…
Сейчас! Уже минуту стоим. Как на выставке. Вон девчонки и скакать перестали. Вытаращились! Хоть бы руку с плеча убрала. Еще сумка эта!
— Все, — сказала Таня. — Раздавила. Хлебная крошка, наверно, была.
Она снова надела синюю туфлю, и мы пошли дальше. А позади нас было тихо. Так, видно, все и стояли, забыв про мяч и скакалки, смотрели нам вслед.
Мы свернули за угол, миновали еще один дом и вышли на яркую, шумную улицу.
Чего бы, казалось, еще надо для полного счастья — каникулы, и только начались, впереди столько дней отдыха, яркое солнце светит, а рядом — такая девчонка! Улыбается мне, разговаривает! А у меня словно кошки отчего-то скребут на сердце.
— Ты почему такой? — наконец спросила Таня.
— Какой?
Ну… будто не свободный гражданин, — сказала Таня и лукаво, весело посмотрела на меня. Синими глазами посмотрела. Длинными ресницами взмахнула.
А где же моя веселость, где находчивость? Никогда не считал я себя каким-то недоумком или чокнутым. А сейчас все пропало. Кое-как выдавил:
— Почему? Я свободный гражданин.
— Вот и чувствуй себя таким, — сказала Таня. — Кстати, папа видел твои рисунки. Знаешь, что он сказал?
Ну хотя бы что-нибудь мало-мальски стоящее пришло в мою голову! Пустая. И я бездарно спрашиваю:
— Что же он сказал?
— У тебя, вероятно, есть талант. Со временем, если будешь развивать способности, из тебя может получиться неплохой художник.
— Разве по двум рисункам можно определить? — уже более осмысленно спросил я.
— Я тоже папе это сказала. Знаешь, что ответил?
— Откуда ж мне знать.
Таня взглянула на девушку в цветастой майке и парня, которые сидели на лавочке и с интересом смотрели в пашу сторону, и довольно громко сказала:
— У него своя теория. Он считает: для того, чтобы узнать качество и вкус вина в бочке, не надо выпивать всю бочку. Достаточно налить маленькую рюмку.
— А кто же твой отец? — с уважением спросил я.
— Он журналист. И социолог. У него две брошюры вышли в Москве. Так что прислушивайся, Петр. Папа в таких вещах разбирается. Способности надо развивать. Одного таланта мало.
«Вот нахваталась у папаши!» — подумал я. И чуть-чуть как-то отошел. Будто прояснилось в голове. И сразу от немоты своей избавился. Даже руку к голове поднес:
— Есть, ваше не величество! Прислушаюсь!
Ах, какой она меня наградила улыбкой!
В аптеке Таня купила каких-то таблеток с мудреным названием и попросила две бутылки минеральной воды.
Продавщица в белом халате смотрела на Таню так, будто в их закрытую дверь вошло само солнышко. Что ж скрывать: мне это было приятно. И я сказал, когда мы вышли из аптеки:
— Как все на тебя смотрят!
— Я привыкла, — сказала Таня. — Моя мама тоже красивая. У нее столько поклонников, такое внимание… А ты что же?.. — Таня посмотрела на меня насмешливыми глазами.
— Что я?
— Ты должен взять у меня сумку. Так полагается.
— А, конечно, — сказал я, даже не успев смутиться.
На обратном пути Таня рассказала, как они ездили прошлым летом в Крым и там в нее влюбился мальчишка из Киева.
— Он даже купался при больших волнах, — сказала Таня. — На пляже флаг вывесили, запрещающий заходить в воду, а он все равно купался. Под волны нырял.
Я сказал:
— Наверно, хотел показать тебе, какой он сильный и смелый.
— Разумеется, — кивнула Таня. А потом снова оглядела меня. — А ты сильный. Какой у тебя рост?
— Сто шестьдесят пять, — сказал я. — А недавно мерял — на сантиметр меньше было.
— Тебе четырнадцать лет?
— Еще не исполнилось. В седьмой перешел.
— На год старше меня, — сказала Таня. — Я в шестом буду учиться. Да, ты очень высокий. Я тебе — только по плечо.
Когда показался наш высокий, длинный дом, я снова забеспокоился: опять у всех на виду будем идти. И еще сумка в руке. Видно же, что не моя сумка. Может быть, она сама понесет?
Возле дома я нарочно захромал немного и сказал:
— Тоже авария. Шнурок подтяну.
Таня взяла сумку, подождала, пока я закончу возиться со шнурком, и снова вернула мне. А я-то надеялся, думал — пустяк же осталось пройти, что сама донесет. Как бы не так!
И вот тут меня ждали самые горькие минуты. Еще издали я увидел Киру в ее сером с красной отделкой платье. Она сидела на той самой песочнице, где мы встречались. Меня Кира заметила не сразу. Мы дошли с Таней уже до четвертого подъезда. А потом я понял: теперь-то Кира меня уже видит. Видит, как иду рядом с красивой Таней, как несу ее белую сумку с тигром. Я, кажется, и дышать перестал. А дышать надо было, и надо было отвечать Тане, потому что она обращалась ко мне уже второй раз с вопросом:
— Ты не знаешь, что это за кусты посажены? Как называются?
— Не знаю, — в конце концов поняв, что она спрашивает, ответил я.
Затем я увидел, как быстро отвернулась Кира и ни разу больше не посмотрела, как мы идем с Таней по дорожке, как входим в подъезд.
Если бы Кира не отвернулась, если бы она сделала вид, что ей на все наплевать, и, гордо тряхнув головой с длинными косами, побежала бы к девчонкам играть в мяч, мне было бы намного легче. Но Кира отвернулась, не в силах была смотреть. Наверное, плакала. Если не во дворе, то дома. Я был уверен, что она плакала.
«Нет, я должен успокоить ее, — говорил я себе. — Нельзя, чтобы она страдала. Не виновата она. Я виноват, один я. Если снова придет какое-нибудь послание с пятого этажа, то просто не возьму его. А если даже и возьму, то читать не стану…»
Но посланий дня три уже не было. Таня словно забыла обе мне. Я был рад этому. Подолгу стоял на балконе и смотрел во двор. Однако Киры нигде не было видно. Только пропеллер на ее балконе, где ветер был посильней, крутился почти не переставая, и мне от этого становилось легче. Вертушка будто напоминала: Кира смотрит и думает обо мне. Но что думает? И самое главное, Кира страдает. Ей плохо.
Тогда я твердо решил увидеть Киру, как-то объяснить, что же на самом деле происходит. Чтобы она поняла и не думала обо мне так уж плохо.
После завтрака я взял свежий помер «Крокодила», прихватил с собой газету и занял «наше с Кирой» место на песочнице. Часа через полтора я прочитал, кажется, все статьи на всех четырех страницах газеты. Потом ко мне подошел Лешка Фомин. Было видно, что Лешка слегка обижен. Может быть, решил, что Таня из-за меня перестала обращать на него внимание? Но мне этого Лешка не сказал. Просто посидел рядом, а поскольку меня совсем не устраивало, чтобы он торчал здесь, я уткнулся в «Крокодил», достал карандаш, и Лешка наконец сказал:
— Ладно, вдохновляйся. Может, настоящую карикатуру нарисуешь. Не буду мешать.
Он ушел. Еще с полчаса миновало, а Кира все никак не появлялась в подъезде. И на балконе я не видел ее. А дома ли она? Подняться на девятый этаж, постучать? Квартира 217… Нет, на это у меня решимости не хватало.
Вышла Кира, когда солнце сместилось за длинный карниз крыши, и вся огромная, с множеством окон и балконов стена дома в какие-то две-три минуты поблекла, сделалась серой. Остановившись на ступеньке крыльца, будто не зная, что делать дальше, Кира исподлобья взглянула на меня. И как только я поднялся навстречу, она быстро зашагала к песочнице.
— Я не ошиблась: ты меня ждешь? — глухим голосом спросила она.
— Тебя. С утра сижу.
— Я видела.
— Не хотела выходить?
— Не хотела, — подтвердила она и сжала губы.
Я попытался шуткой хоть немного смягчить ее:
— Если бы ты не вышла, я бы все равно сидел. До вечера. Потом до утра. И опять до вечера. Превратился бы в учебное пособие под названием «Скелет человека».
Никакого намека на улыбку. Серые глаза ее оставались холодными. Чужие и какие-то незнакомые мне глаза.
— Зачем я тебе понадобилась?
— Хотел поговорить.
— О чем? — пожала плечами Кира. — Все же ясно.
— Что тебе ясно?
— Не надо, Петя, — сказала она грустно. — И вообще, я скоро уеду в лагерь.
— Но ты же говорила…
— Теперь сестра приехала. Помогает. И я поеду… — Кира замолчала, чуть отвернулась, и губы ее дрогнули. — Я не могу, ты понимаешь? Я должна уехать.
— А как же я?
— Ты разве будешь скучать? — не глядя на меня, сказала Кира. — Нет, не будешь. Я пошла. До свидания.
Она не пошла. Она побежала к подъезду. Четыре-пять секунд, и скрылась в дверях.
Мне было скверно. Два дня не выходил на улицу. И чего раньше со мной никогда не бывало — пропал аппетит. Ем котлету, а вкуса будто не чувствую. Мама забеспокоилась не заболел ли я? А вот отец многозначительно сказал:
— Сын, а твоя хандра и скучный взор потускневших глаз — не результат ли вселения новых жильцов в квартиру на пятом этаже?
— Алексей! — строго взглянула мама на отца. — Ты все-таки думай, когда говоришь.
— Зинуля, я тоже был в его прекрасном возрасте и, представь, тоже худел и терял аппетит. Как раз по аналогичным причинам.
Эх, что они знали, мои родители! Вот так — шутки-прибаутки, а чтобы хоть раз сесть со мной и обо всем, обо всем поговорить, послушать меня, понять — такого не помню. А бывали минуты, когда так хотелось кому-то все рассказать или, как это говорится, раскрыть душу.
Ясно, что и в этот раз никакого разговора не получилось. Мама все-таки разыскала какое-то лекарство в пузырьке, пипеткой накапала в рюмку двадцать капель. Спорить не стал, выпил. Пусть успокоится. А отец, довольный своим тонким замечанием, развернул газету — посмотрел программу телепередач.
Не знаю, как бы я себя чувствовал на следующий день и какое после тех капель было бы у меня настроение, но утром у дверей раздался звонок. Высокая девушка в круглых, голубых очках подала мне телеграмму. Я расписался, развернул листок, и короткая, наклеенная строчка привела меня в такое бодрое состояние духа, словно я не двадцать жалких капель маминого лекарства принял, а весь тот пузырек осушил.
«Встречайте субботу вагон шестой дед».
А суббота — завтра! Поезд приходит утром.
Встречать деда поехали всей семьей. Даже Наташку пришлось взять. Хотя чего я говорю «пришлось»! Да она, из-за того, что приезжает дедушка, в детский сад отказалась идти. Такой рев устроила — мама скорей успокаивать: «Хорошо, доченька, хорошо, и ты пойдешь встречать».
Дед вышел из вагона и принялся всех нас по очереди целовать. Наташка обхватила его шею.
— Ой, ой! — запищала она. — Колючий! Усищи, как иголки.
А деду лучше не надо — еще сильней посмешить внучку:
— Так я же их у ежика взаймы взял.
И меня смех разобрал. А Наташка и вовсе зашлась хохотом. Дед сказал маме:
— Уйми ты ее. Штанишки как бы сушить не пришлось.
Ну дед! Все такой же! И с виду ничуть не изменился. Может, волосы побелей стали.
Наташка благополучно отсмеялась и на чемодан показывает:
— А кнут там лежит?
— Ах, ты! — Дед хлопнул себя по лбу. — Надо же! Вот голова дырявая, сквозняком продувает! Гостинцы везу, а кнут забыл! Хоть домой вертаться. — Дед даже оглянулся на вагон, в котором приехал.
— Не надо, — милостиво сказала Наташка. — В следующий раз привезешь.
На площади перед вокзалом отец взял такси, мы начали было рассаживаться, но шофер сказал:
— Перебор, граждане, получается. Четверых положено брать. Вас пятеро.
— Это кого ж ты, милок, за пятого считаешь? — спросил дед и привлек к себе Наташку. — Птаху, что ль, эту? Да я в карман ее посажу — еще и место останется.
— Ну, папаша, — усмехнулся шофер, в дороге нам скучно не будет. Садитесь!
Район, которым мы ехали к нашему дому, был совсем новый и еще продолжал расти. То здесь, то там глядели в небо подъемные краны с длинными стрелами, тянулись строительные заборы, дома стояли высокие — в девять этажей, в двенадцать, а два дома встретились такие, что дед, принявшийся считать этажи, лишь махнул рукой:
— Тут без среднего образования делать нечего. Не сосчитаешь. Ай, надо же, городище какой махнули! Домов-то, домов! А все обижаются — жить негде.
Дед шумно восхищался городом, а я сидел и радовался, меня прямо гордость распирала, будто это я сам строил наш красивый и просторный город. Видно, и Наташка, тесно прижатая к боку деда, радовалась. Она держала руку деда и то на усы его смотрела, то в окошко на высокие дома.
— Дедушка, а наш дом самый большой! — похвастала она.
Приехали наконец и к «самому большому», как сказала Наташка. Дед, когда еще мимо шести подъездов ехали, только головой покачивал. А выйдя из машины, огляделся в обе стороны и сказал мне:
— Все ты верно описал, Петруха. А я-то грешил на тебя — ну, думаю, приврал барон. Не приврал. А окошков-то! Ой, что соты пчелиные. И куда ж теперь? В какую дырку нырять?
Я взял тяжелый чемодан деда и сказал с достоинством:
— Не дырка, а седьмой подъезд.
Квартиру дед осматривал дотошно. Все комнаты обошел, все двери пооткрывал. Больше всего кухня ему понравилась. У раковины с кранами горячей и холодной воды долго стоял, воду открывал, языком прищелкивал:
— Надо же, какую цивилизацию в народ двинули!
— А посмотри плиту! Посмотри! — Я особенно на плиту напирал. Вчера сам ее вычистил, ножом скоблил, тряпкой с содой оттирал.
Дед и плиту удостоил вниманием. Посчитал конфорки:
— Раз, два, три, четыре. Райская жизнь!
Осмотрев все, дед вздохнул и сказал:
— Плохо.
— Да что ж тебе не понравилось? — в недоумении спросила мама. И я глаза вытаращил на деда: хвалил, хвалил…
— А как соберешься помирать — что делать? Жалко такие-то хоромы оставлять.
Отец, достав вино в красном графине, засмеялся:
— Есть, Прокофий Сергеич, из этого положения выход — отложить дело с помиранием. Давайте-ка по рюмочке — за ваше здоровье и по случаю прибытия!
Дед рюмочку выпил, обтер ладонью усы, сказал «благодарствую, Алексей Семеныч» и раскрыл свой чемодан с гостинцами. Вот почему показался мне тяжелым чемодан — дед извлек из него две большие банки. Одна с вареньем была, в другой желтел мед.
— Липовый, — сказал он. — Самый наиполезный.
Потом на стол темной горкой легли пахучие низки сушеных белых грибов. А еще каждому из нас старшая мамина сестра тетя Даша прислала в подарок по паре вязаных толстых носков.
Обнову Наташка сразу же, конечно, натянула на ноги.
— Деда, они кусаются.
— В том и самое здоровье, внучка, — сказал дед. — Это тебе не химия, не капрон. Самая наипервейшая шерсть. А что колется — хорошо, кровка в жилках будет резвей играть в тебе. Пробежись-ка по полу. Ну, ну, не трусь!
Наташка и побегала, и попрыгала. Улыбается, рада. И дед смеется:
— Понравилось? То-то! Будто босиком по травке побегала.
Даже мне захотелось надеть новые, колючие носки.
После обеда мама велела деду отдохнуть с дороги, а потом они поедут в универмаг.
— Это по какой такой надобности стану я по магазинам шастать! — заартачился дед.
— Ладно, сама знаю! — решительно сказала мама. — Отдыхай пока, и пойдем…
Вернулись они с двумя свертками и коробкой.
— Алексей, — с порога сказал дед, — ты жонку свою построже держи! Гляди: денег размотала! Костюм — восемьдесят шесть целковых. Туфли, рубашка. Жениха из меня делать вздумала! Поздно. Отжениховался.
Смеясь, мама заставила деда переодеться в новое. Дед вышел из другой комнаты в сером костюме, в желтых туфлях, рубашка в клеточку. Посмотрел на себя в зеркало, огладил усы:
— А и то — хоть к венцу молодцу!
Сказал, и как-то сразу поник, пригорюнился.
— Что такое? — спросила мама.
— Глаша вспомнилась, — вздохнул дед. — Один приехал. В костюм обрядился… Вот живу — дважды раненый, контуженый, с осколком немецкой мины, а Глаша…
— Не надо, отец, — грустно сказала мама. — Сколько на роду написано человеку жить, столько и живет…
Спал дед в одной комнате со мной. Проснулся рано. Я глаза открыл, а он — в дверях уже.
— Спи, — сказал мне. — Пойду квартиру досматривать.
Все-таки отыскал дед в нашем хозяйстве серьезнейший недостаток — нет погреба.
— Ничего, — сказал отец, — в этом есть и своя польза. Торговля стала живей поворачиваться. Сейчас в магазине и приличную картошку почти всегда купишь, и капуста хорошая. Моченые яблоки. Зиму перебились.
— Зато какой у нас, дедушка, балкон! — снова похвасталась Наташка. — Посмотри! — И распахнула дверь.
— Знатно, — похвалил дед. — Будто корабль… А мы, как на палубе. В сорок втором довелось мне, пехоте, транспорт из Мурманска сопровождать. Тоже стоишь, а море — глазом не охватишь… А это что за посудина привязана? — неожиданно сказал дед, посмотрев на ведерко с цыплятами.
— Вот оно где! — обрадованно сказала Наташка и на меня уставилась: — Зачем привязал?
Отец, стоявший сзади, многозначительно усмехнулся:
— Насколько я понимаю, это — филиал местного почтового отделения. Пресс-центр, так сказать. Петя, можешь внести ясность?
— Алексей, перестань! — сердито сказала мама. — Идемте, завтракать будем.
Дед, видно, что-то усек, положил руку мне на плечо, еще и по спине похлопал:
— Гляди орлом, Петруха!.. А хорошо тут у вас, — сказал он и посмотрел на далекий синий лес, на голубую полоску реки, протекавшую километрах в трех отсюда, впереди леса. — Далеко видно.
— Сначала на девятом этаже предлагали квартиру, — сказал отец. — Еще бы лучше вид был. Да мы отказались.
— И верно сделали, — одобрил дед. — Куда это, под самые небеса! Оно, поближе к матушке-земле, — надежней. Зачем девятый? Разве что в дали далекие поглядеть.
— А можно посмотреть с крыши, — сказал я. — Чердак в нашем подъезде открыт. Мы с ребятами лазали. Там лестница железная. Подняться…
— Мне вакурат по чердакам и лазать! — засмеялся дед. — Приеду в деревню — что, спросят, видел? Город, скажу, с крыши видел. На чердак лазал. Ой, Петруха, барон ты этот самый!..
— Мюнхгаузен, — подсказал я.
— Вот-вот, он самый…
Быстро промелькнули шумные выходные дни, а в понедельник мы с дедом остались вдвоем. Позавтракали, вышел дед на балкон, и вдруг показывает на ведерко:
— Глянь — никак яички снесла какая-то курочка?
Я посмотрел — два шоколадных трюфеля! И листок внизу.
И дед увидел листок. Подмигнул мне:
— Почитай, почитай. Я пока воды напьюсь.
Он ушел, даже дверь за собой притворил. А у меня, кажется, руки дрожали, когда разворачивал бумагу. Но ничего такого особенного в записке не было. «Привет свободному гражданину Петру Доброхотову! Это я, Таня. Просто сообщаю о себе, что я жива и здорова».
Записка и конфеты положены были не сейчас. Недавно накрапывал дождик, на листке блестело несколько капелек.
Я вошел в комнату. Дед, рассматривая за стеклом шкафа чайный сервиз, на меня не взглянул. Но я понимал: ничего не сказать деду нельзя. Просто глупо — не сказать. Будто не доверяю ему, будто он чужой. Да если по правде, то с дедом мы больше всего друзья. Маме, отцу не скажу, а деду как раз и можно.
— Съедим по яичку? — сказал я и, развернув конфету, подал деду.
Он сначала понюхал и отчего-то усмехнулся, качнул головой.
— Такие же… Немецкого офицера, помню, в блиндаже прихватили. Цельный ящик нашли у него таких вот, — дед откусил конфету, пожевал. — Шоколад. Такие же.
Можно было бы расспросить деда, как прихватили офицера, где, когда, но мне уже захотелось рассказать о Тане. И дед ведь понимает, что конфеты не курочка снесла и не с неба они свалились.
— Вкусные, — откусив от своей конфеты, сказал я и, как бы между прочим, добавил: — Девчонка снизу прислала. — Но дед опять ничего не сказал, и я тогда еще добавил: — Приехала недавно, и вот… вроде подружились.
— Что ж, хорошее дело, — обронил дед.
— Красивая она, — сказал я печально.
— Так еще лучше, что красивая.
— Она очень красивая. — Это у меня вышло еще печальнее.
— Не смотрит, что ль, загордилась? — спросил дед.
— Наоборот. Конфеты, видишь, прислала. И пишет, что жива и здорова. Привет передала.
— Никак что-то, Петруха, в голову не возьму, — удивился дед. — Отчего нос-то повесил? Орлом гляди!.. Да я бы… Эх, годочков пятьдесят соскоблить бы… Ну, рассказывай, чего у тебя приключилось?
Я лишь плечами пожал:
— Чего рассказывать? Красивая она. Даже страшно.
— А ты не робей, шустряк-воробей! Чем ты-то плох! Глянь на себя — молодец, гвардейской стати! Весь в меня. А я, Петушок, без вранья скажу: орлом я был. Девки глазами ели. А я не на всякую еще и посмотрю. С разбором. А почему все? Цену знал себе. Вот и ты — гляди орлом-беркутом!
Но, видно, совсем не был я сейчас похож на орла и беркута. Дед нахмурился, доел конфету. Вздохнул.
— Посмотреть бы, что ль, на кралю твою красы неписуемой. Где она живет, внизу?
— Под нами как раз.
— Так пойду, гляну тогда, — сказал дед.
— Что ты! — испугался я. — Тебя же не знает никто!
— Узнают. Какие такие церемонии! Соседи ведь. Это бы я в деревне так в своем доме сидел, носа не казал! Да меня всякая курица еще издали признает… Скажи-ка лучше, спички у нас есть?
— Есть, — ответил я. — А тебе зачем?
Дед одернул перед зеркалом пиджак.
— Нету у нас, Петруха, в доме спичек! Понял? Последний коробок вышел. Понял? Значит, дверь, как и наша? Ладно, пойду спички одалживать.
Я думал: дед постучится, спросит спички, на Таню взглянет и вернется. Ничего подобного. Полчаса прошло — нет деда. А я в передней стоял, и весь извелся. Потом слышу: дверь внизу захлопнулась. И шаги по лестнице. Я открыл дверь — дед! Входит, смотрит победно, коробок спичек подаст.
— Ну что? — спросил я. — Видел?
— Плохи твои дела.
— Почему?
— Опять не соврал ты, — вздохнул дед. — А можно сказать, что и недоврал. Уж до того хороша — и не видывал лучше. На что мне, пню замшелому, и то петушком кукарекнуть хотелось.
— Я же говорил тебе, — вслед за дедом вздохнул и я. — А почему так долго сидел?
— Так соседи же! Тары-бары, сухие амбары! Бабка у нее шустрая.
— Она же глухая.
— Сам ты глухой, — сказал дед. — Все она понимает. Я — про деревню ей, то, се, и она кое-что про свою жизнь… Ах, голова дырявая, забыл! Ждет ведь она тебя!
— Кто?
— Татьяна. За хлебом собиралась идти. Хотела записку тебе писать, да я сказал, что и так передам. Сходи, тоже купишь чего там надо. Торт купи. Деньги, вот они. — Дед достал бумажник, подал три рубля. — Ну, чего ты, будто замерз? Татьяна уже собралась. Сумку взяла.
Я скривился, шею потер.
— Да есть у нас хлеб.
— А я толкую про торт! — Дед вроде и осердился даже. — Вот еще рублевка, не хватит вдруг. Тоже возьми сумку.
— Она что, внизу будет ждать? — спросил я.
— Петруха, ты, часом, не поглупел? Мне, что ль, заместо тебя идти! Девчонка красы неписуемой ждет его, а он… Пойдешь мимо — в дверь и стукни. Ждет. Бегом беги…
Может быть, Таня, как и я, стояла в передней, слушала? Только я поднял руку — постучать, дверь и открылась.
— Здравствуй! — сказала она. — Пойдем?
В кабинке лифта она весело рассмеялась:
— Дедушка такой юморист у тебя! Рассказывал, как он был мальчишкой, и бык на дерево его загнал. Два раза, говорит, в жизни так страшно было — когда в окоп граната залетела и как быку на рога боялся свалиться. Бабушка у меня подозрительная, никого не пускает, а сейчас так разговорилась — даже чаю предлагала выпить.
И мне удобнее всего было говорить о деде. Так, разговаривая, смеясь, и в магазин пришли.
Пока я в очереди за тортом стоял, а Таня хлеб покупала, на улице снова дождик небольшой собрался. Тротуар заблестел.
Таня достала из сумки складной зонтик. Она раскрыла его и подняла вверх, улыбнулась:
— Будет наша общая крыша.
— Не надо, — смутился я. — Держи над собой. Да и какой это дождь! Пугает только.
— Нет, — сказала Таня. — Ты же понесешь сумки.
Хлеба в ее сумке было совсем ерунда — и сама могла бы на мизинце унести. Но пришлось нести мне. Та же самая сумка. С тигром. А в другой руке — торт.
Настроение у меня сразу упало. А тут еще Таня стала деда критиковать:
— Рассказывает он интересно, но речь у него очень засоренная. Столько неправильных слов употребляет! В городе так уже не говорят.
— И плохо, что не говорят, — сказал я.
— Почему ты так считаешь?
— Если бы дед говорил, как все, правильно, то, может, его и слушать было бы не так интересно.
— Странно. По-твоему, выходит, что надо говорить неправильно? Даже культурному человеку?
— Не знаю, — сказал я. — Только с дедом я целый день могу говорить — и не скучно.
— У тебя плохое настроение? — спросила Таня и внимательно посмотрела на меня.
А я смотреть на нее боялся. Когда смотришь на нее, вся воля куда-то пропадает, и сам не свой становишься.
— Почему, — глядя под ноги, сказал я, — обыкновенное настроение.
— Ну хорошо, не будем ссориться. Не будем? Ведь ты не хочешь ссориться? — спросила она и взяла меня за руку, пониже локтя. — Конечно, зачем нам ссориться.
Мы прошли шагов пятнадцать, а Таня мою руку все не отпускала. Это ей было не совсем удобно — в левой руке она держала зонтик, старательно прикрывала меня от мелкого дождика. А я почти задыхался — рука ее была маленькая, теплая, нежная. Но вдруг я подумал: а не специально ли она не хочет отпускать мою руку? Это я подумал, когда увидел, что навстречу нам шло трое девчонок из нашего дома. Таня даже приветливо кивнула им.
Эта неожиданная мысль не давала мне покоя. Но лишь потом, когда на повороте открылся наш дом, я осмелился и тихо спросил:
— Таня, ты можешь ответить честно?
— Постараюсь, — кокетливо сказала она.
— Мы шли прошлый раз, помнишь, мимо девчонок, они в мяч играли, у тебя по правде крошка в носок тогда попала?
Она помолчала немного и, улыбаясь, подняла на меня синие и такие большие свои глаза:
— Нет, не попала крошка.
— А зачем же ты…
— Разве не понимаешь? Просто мне нужно… Мне нужно, Петр, чтобы все видели и знали, что я хожу не одна, что у меня есть мальчик. Да, сильный такой, высокий, ростом сто шестьдесят пять сантиметров. Которого все уважают. В общем, который является моим рыцарем. Защитником. Мне без рыцаря и защитника ведь нельзя. Ты же видишь.
— А ручка тогда с балкона…
Таня легонько ударила меня по руке:
— Все тебе нужно знать! Какое это имеет значение? Разве тебе плохо дружить со мной? Мне кажется, очень многие мальчики должны завидовать тебе. Скажешь, не так?
Права была Таня. Конечно, завидуют. Лешка и разговаривать почти перестал.
Готовясь выходить из кабины лифта на своем пятом этаже, Таня ласково улыбнулась:
— Пока, рыцарь. Вкусные были конфеты? Следи за почтой. Я тебе напишу.
И я мог бы выйти на пятом этаже. Подумаешь, двадцать ступенек пробежать! Но я промедлил, и автоматические дверцы быстро закрылись.
Дома я поставил на буфет торт, а сверху положил сдачу.
— Как дела, орел? — спросил дед.
— Вот рубль и пятнадцать копеек сдачи.
— Э-э, орел, — дед даже присел, чтобы лучше посмотреть на мое лицо. — А почему блеску счастливого в очах не вижу?
Я присел на табуретку, положил руки на стол.
— Дед, скажи: сколько тебе лет было, когда залез от быка на дерево?
— А, — усмехнулся тот. — Татьяна рассказала. Да, пожалуй, сколь и тебе сейчас. Уши тогда болели у меня, мать завязала платком, и невдомек мне, не слышно, как бык сзади оказался. Увидел я, а он уж — вот, голову наклонил. Я и кинулся к черемухе, хорошо, что росла рядом. Успел забраться. Отсиделся.
— Четырнадцатый год, значит, был, — сказал я. — Ну, а с девчонками ты как? Не дружил?
— Вот ты о чем… — Дед огладил усы, собрал у глаз смешливые морщинки. — Как об этом сказать — дружил, не дружил? Пошли раз по ягоды, лет десять мне было. Много, помню, набрал ягод, а домой пошли — все Дашутке в корзинку и высыпал. Девчонка, через два дома жила. Беленькая такая.
— Она тебе нравилась? — спросил я.
— Должно так. Увижу ее — так и бегу навстречу. Ягоды тогда высыпал ей, а дома мать мне всыпала! Ягоды — не баловство было, не забава. Время какое? Империалистическая война, голодно. В кисель — ягода. А уж пирог с малиной или там с черникой испечет — праздник в доме.
— А дальше что было с Дашуткой?
— Дальше-то? — Дед нахмурился, вздохнул. — А ничего не было дальше. Эпидемия в ту пору навалилась какая-то страшная. Половина деревни вымерла. Дашутку тоже схоронили.
Помолчал дед, еще раз вздохнул и спросил:
— Сам-то чего припечалился? Отчего душа не поет? Я вижу.
— Дед, влюбился я. Ты не смейся, мы с ребятами так и говорим: влюбился, не влюбился.
— Да я ничего, — сказал дед. — Обыкновенное дело. Со всяким приключается. А если еще такая девчонка! Как же без этого? Обязательно даже.
— Дед, это не Таня.
— Ишь ты! — поразился он. — Еще красивше нашел? Ну и Петька! Весь в меня!
— Нет, она не такая красивая, — сказал я. — Может, и вовсе не красивая.
— Так, так. — Дед опять затеребил усы. — И что же?
— Кира ее зовут. Нравится мне.
— Кира, значит, Кира, — забормотал дед. — Ну-ну?
— Нравится, говорю, очень. Тоже в нашем доме живет. На девятом этаже.
— Ясно, ясно. — Закивал дед. — Обе, значит, тута. В одном дому. И Кира, значит, имеет на тебя обиду.
— А ты откуда знаешь? — Я в удивлении уставился на деда.
— Петруха, дела эти известные. И сам не единожды попадал впросак. Парень-то, сказал тебе, был я видный. И всё-то со мной было. И чего только не было. И слез тех перевидал — запрудой не запрудить… Ах ты, оборот-поворот какой! Татьяна, выходит, тут вовсе и не к делу? А как хороша!
— Я кто ей? Так, рыцарь, мальчик высокого роста. Охрана.
Я сказал это обиженным голосом, и только в эту минуту совсем ясно понял, что так оно и есть.
— А Кира, может, и плачет, — добавил я.
— Ах ты, Петушок — чистый гребешок! — сказал дед и прижал мою голову к себе. — Видишь, жизнь-то какая негладкая. Они по нас плачут, а и нам не сладко… А гляди-ка, — вдруг показал дед за окно. — Пока тут сидели, разговоры говорили, и дождик за лес ушел. Прояснило. Солнышко скоро будет. Хватит, Петруха, тужить-горевать, идем-ка во двор, домину кругом обкружим, еще чего покажешь…
А на другой день погода и совсем разгулялась. От вчерашнего разговора мне было немного не по себе, и дед словно чувствовал это — ни о чем вчерашнем не вспоминал. Я принес утром газету из ящика и стал смотреть, где какие фильмы идут. Сходим, думаю, с дедом в кино. Четвертый день живет, а нигде еще не был. Только с мамой в универмаге. Но магазин не считается. Это не развлечение.
Я газету смотрю, а дед — на балконе, дали оглядывает, на солнышке греется. До обеда солнце весь балкон заливает, хоть ложись загорай, и на пляж не надо ходить.
— Петь, — позвал меня дед. Я подошел, а он рукой показывает на трех девчонок, что, сидя на лавочке, смотрели журнал и, словно по команде, правую ногу закинули на левую. — Вон та, беленькая, не Кира будет?
— Что ты, она совсем не такая.
— А с краю, в желтой майке?
— Да нет ее здесь, — говорю я и голос сдерживаю — вдруг и Таня на своем балконе стоит?
— Показал бы мне, — сказал дед. — Татьяну видел, теперь Киру посмотреть бы.
— Ладно, — говорю, — ладно. — И тащу деда за рукав к двери. Догадался дед.
— Экий пень бестолковый! — ругнул он себя. — Ясная обстановка. Операцию держим в секрете.
В комнате я начал было про фильмы деду читать — так не слушает.
— Кино от нас не ускачет. Ты Киру мне покажи. Какая из себя она.
Чего Кира далась ему!
— Высокая, — говорю, — чуть пониже меня. Две косы длинные. Глаза серые, крупные такие. — Я взял листок и бережно нарисовал большой глаз. — Здесь вот, к носу, уголок немного загнут. А над глазом тонкая полосочка круглая, с ресницами. Зрачок черный. А брови… — Я и бровь вывел карандашом. — Нет, они ровней у нее. Волосики густые и все в одну сторону смотрят. Много. Может, тысячу волосиков на каждой брови будет.
Кирин глаз деду понравился.
— Ишь, как ловко обрисовал! Красивый глаз. Теперь еще шибче охота поглядеть на нее.
Я несколько раз смотрел с балкона. И в классики играли девчонки, и в обнимку ходили парами. Та троица с журналом все на лавочке продолжала сидеть, только ноги опять, будто по команде, переменили — теперь левая на правой. И с мячом играли, но далеко, у того же второго подъезда. Однако Киры нигде не было видно.
А в двенадцатом часу выглянул, и вот — будто в горле у меня перехватило. Сидит Кира у своего подъезда на лавочке. Она спиной сидела, но я узнал ее. И косы длинные, и серое платье с красной оборкой… Да и вообще, как же мог бы я не узнать Киру!.. Показать, что ли, ее деду?
А дед, надев очки, читал в комнате газету.
— Еще не раздумал смотреть? — подойдя к нему, спросил я. — На лавочке она сидит.
— Кира! — Дед газету — в сторону, скорей на балкон.
Я показал ему Киру. Дед смотрел, вытянув худую, морщинистую шею, молчал. Потом палец к губам приложил и вытолкал меня в комнату.
— Что на спине о девочке прочитаешь? — раздосадованно сказал он. — Пойду глядеть.
— А может, не надо? — усомнился я. — Тогда хоть недолго. Посмотришь — и назад.
— Дело само покажет.
Я испугался:
— Какое еще дело?
— А как слово захочу молвить? Не боись, Петруха. Лишнего не брякну…
Ох и дед! Умеет же — поучиться у него! Сошел с крыльца, пиджак новый одернул и — прямехонько туда, к далекой лавочке у Кириного подъезда. И там не долго раздумывал. Сел рядом с Кирой. А через минуту и рукой взмахнул. Пошел байки рассказывать!
Что? О ком? Я терялся в догадках, только стоял, смотрел на их спины и ждал, когда он там наговорится.
Не дождался. Вдруг встали оба, поднялись по ступенькам и — нет их, скрылись в подъезде.
Я и дураком обзывал себя, и на кухню воду ходил пить, потом, в большом раздражении, уселся за стол и принялся читать газету.
Читаю строчки, целый столбец одолел, а про что написано — не знаю. В голове — Кира, дед мой болтливый, зачем домой к ней пошел? Привык у себя в деревне — каждый дом открыт, заходи, куда хочешь… Чего он там наговорит обо мне?
Больше часа не было деда. Звонит, наконец, разведчик тайный! Входит, и не пойму, что с ним? Серьезный какой-то, озабоченный. Но потом, правда, улыбнулся, подмигнул даже:
— Ну, Петруха, нагляделся, насмотрелся — что на самолете том полетел. Куда как дальше видно с ихнего балкона. Такие дали заречные. Даже голова чуток закружилась. Кажись, и не бывал так высоко. Понравилось. Обратно в деревню на самолете полечу. А чего — грудных детишков возят теперь, время такое. Полечу!.. Да, чего ж хотел тебе, Петруха, сказать? Вот что — плохие твои дела.
Снова загадки! Хоть бы сказал сразу. Притих я, насторожился, жду.
— С виду она, врать не стану, конечное дело, — не Татьяна. Но душа ейная, внук мой золотой, — цветок раскрытый… Вот идешь, бывает, поутру, рано-рано, лугом некошенным, и стоят они, глядят, улыбаются, всему миру открытые, росой напоенные, первым солнцем обласканные — лютик ли желтый, колокольчик, анютины глазки. Идешь, смотришь на красу эту чистую, и ступаешь осторожно, чтоб случаем по вине своей, лености или глупой спеси — не смять цветок тот безневинный. Ты правду сказал, ростом Кира высокая, а все одно — цветок малый и чистый.
Дед все это говорил, тихо расхаживая по комнате, вздыхая, и не говорил даже, а словно читал стихотворение какое-то. Никогда я раньше не видел его таким. Подшутить, посмеяться, забавную историю рассказать — вот каким привык видеть его. А сейчас… Что с ним сделалось?
Дед умолк, а я и не знал, что сказать. Спросить — говорил ли он с Кирой обо мне, после всех его задумчивых и неторопливых слов показалось неудобным.
За обедом дед все-таки рассказал мне, как познакомился с матерью Киры, с сестрой Риммой из северного города Норильска. Рассказывал он без обычных шуток, и от него услышал я много такого, о чем и не знал совсем. Мать Киры не работает, инвалидную группу врачи ей назначили. Сказал, что она очень хорошая и душевная женщина, а вот с мужем неважно они живут, потому что он крепко попивает.
— Видишь, — сказал дед, — невеселые дела какие. А подумай: Кире каково приходится? Её, Киру, внук мой хороший, никак зобижать невозможно. Грех это.
— Она жаловалась, да? — спросил я.
— А зачем, Петя, было ей жаловаться? Про тебя, мой хороший, ни словечка я не услышал. Как и нет тебя. Будто карандашиком вычеркнула. Потому и сказал я, что плохие твои дела.
— А ты, — спросил я, — тоже ничего не говорил?
— И я про тебя молчал. Чего ж говорить? Вам самим разубираться надо. Если не поздно.
Вечером я долго не мог уснуть. Что же получается? Кира от меня отказалась, карандашиком вычеркнула. С Таней теперь дружить? Почему бы и нет? Самая красивая девчонка двора. Точно, все ребята будут завидовать. А Кира… Так не хочет ведь. И не надо! Но чтобы окончательно уверить себя в том, что действительно «не надо», что на Киру мне начихать, я должен был на нее обидеться или хотя бы разозлиться. Должен был, а не мог. Я вспомнил, что и раньше, когда Кира в первый раз не захотела разговаривать со мной, тоже хотел рассердиться, и тоже не смог. Потому что, если честно, не за что. Я виноват.
Наверно, и дальше продолжал бы я мучаться, ничего не в состоянии решить. И день бы так прошел, и другой, и третий. Не знаю, сколько бы их прошло. И еще обнаружил бы я в Наташкином ведерке конфеты и записку с обращением к «свободному гражданину». И отправился бы с красивой Таней сначала в универмаг за голубой тесьмой, а потом, может, в кино. И ловил бы завистливые взгляды ребят. Так все и было бы, но…
— Петруха, хочешь расскажу, как я женился?
Это дед сказал мне утром, когда мы расположились за столом завтракать. Сказал своим обычным голосом, и мне сразу как-то легче стало.
Дед намазал хлеб паштетом, откусил и стал тщательно пережевывать.
— Нет, поедим сначала. Это сурьезный разговор.
— А чего глаза смешные были?
— Так она жизнь такая. Что арбуз полосатый. И горько, и смешно. Все рядышком, вперемешку.
Поел дед, усы полотенцем вытер.
— Я тебе сказывал, что был я парень молодец-удалец. И нраву веселого. Да и ласковое слово в кармане не прятал, за что девки любили меня и погулять со мной за большую честь почитали. И сколько ходить бы мне в женихах — того я не знаю, да вот на двадцать третьем моем году пересеклись наши дорожки с Глашей. Не скажу, чтоб лицом она была краше других, только стал я к тому времени уже понимать, что красота — не главный у девки козырь. Красота, говорят, до венца. А вот как потом жить — не тужить, горя не знать и нраву веселого не лишиться? Вижу: вроде получается у нас песня. Свидимся с вечера, а расстаться никак не можем. Хоть утро встречай на бревнышке. И все больше разговоры промеж нас, шутки. Я говорун, а и Глаша не молчунья. Хотя и слушать умела. Большая мастерица была слушать. Просит бывало: «Расскажи, Проша, еще чего. Слушать больно тебя интересно». А я говорю: «Теперь ты рассказывай». «Нет, говорит, лучше ты. А я послушаю. — И смеется: — Знаешь, почему рот у человека один, а уха два? Чтоб услышать больше».
И всякий раз сидели бы мы до утра, все говорили бы и прощались, да больно уж строгий был у нее отец. Откроет окошко и кричит: «Глашка! Сколь повторять? Иди домой!» А потом и вовсе не велел выходить ей ко мне. Из богатых он был, до революции лавку имел. А я что — веселый да голый. Одни руки. Видишь, положение какое! Глаша со всей душой ко мне, и я без нее не могу, так отец — стеной промеж нас. Я Глаше толкую: раз отца не переиначишь, то один выход — идти поперек его отцовской воли. Не прежнее, говорю, время, чтоб во всем исполнять волю родителей. Сами хозяева. Не пропадем, говорю: четыре руки, две головы, да любовь-душа посередке. Она слушает, кивает, но пуще всего отца страшится. Отец-то, когда увидел, что не по его выходит, вконец освирепел. «Кнутом, кричит, забью! На порог родного дома не ступишь!» Видишь, зверюга какая! Недаром что новой власти уже боле десяти годов было.
Ну, что тут делать? Никак не решается Глаша поперек отцовской воли идти. Слезьми обливается. «Видно, не судьба, говорит, Проша. Отступись от меня». И что ж, Петруха, удумал я?
Дед посмотрел на меня весело. Стукнул кулаком по столу.
— Ах так, говорю я своей Глаше, не плачь тогда обо мне, не лей горючи слезы, прощевай, говорю, дорогая-любимая, а жизни мне без тебя все равно нету. Забежал я в церковь да скорей по лесенке — на самый верх. Схватился рукой за колокол, на самый краешек встал и кричу: — Прощавай, Глашенька!
— Прыгнул? — со страхом спросил я.
— А как бы я, внук золотой, говорил сейчас с тобой? Да и на свете не было бы тебя… Услышала Глаша, обмерла, руки вверх вскинула. «Прошенька! — кричит. — Пожалей меня!» И сама на траву повалилась.
— А что потом?
— Так мой верх и вышел. Поженились.
— Дед, — спросил я, — а если бы она не закричала? Прыгнул бы?
— Не могло такого быть. Должна была закричать. Она же любила меня.
— А если бы не крикнула все-таки? — допытывался я.
— Да кто ж его знает, — невесело усмехнулся дед. — Ведь под горячую руку… Мог бы и сигануть.
Мне рассказ его здорово понравился. Вот это дед у меня! У кого еще такой есть!
— Ну а дальше? — говорю я деду.
— А дальше история долгая. Прожили мы с Глашей сорок шесть годов, за вычетом двух лет и двух месяцев — это как по причине сильной контузии головы и нахождения в правом боку осколка немецкой мины признали меня полностью негодным к продолжению героических сражений с фашистскими гадами. Из армии списали, ну, а старухе моей, на ее великую радость, даже и в таком сильно поврежденном виде вполне я сгодился. Только в ту пору была Глаша, ясное дело, не старуха, а очень даже завлекательная и душевная женщина она была. Так и жили. В чины я, правда, не выбился — конюхом был, ездовым, а после до нонешнего времени пастухом состоял, но Глаша, врать не стану, в обиде на меня не была и словом никогда не попрекнула. И прожили мы с ней эти сорок с лишним годов, как один день. В мире, в согласии, а уж говорить-говорили и все никак наговориться не могли. Я тебе, внук золотой, так скажу: если бы все слова, что мы с Глашей друг дружке сказали, написать бы в одну строчку, то протянулась бы эта строчка до самой Луны, кругом нее обвилась три раза и опять бы вернулась на ту же нашу землю.
— Ого-го, строчка! — сказал я. — Миллион километров, наверно! И все языком!
— Не языком, Петруша, а сердцем. С любимым другом сердце говорит. А язык только помогает. Тут уже его не остановишь. Губы да зубы — два запора у языка, да и те не удержат.
— Дед, — я улыбнулся, — а ты сколько мне сейчас наговорил? Километр будет?
— Да кто ж его знает, может, и будет.
— А ты сердцем говорил?
— Сердцем, Петруша, — сказал дед. — Думаешь, не болит за тебя сердце? Болит. Ехал сюда, и знать не знал о твоих заботах. А тут, видишь, дела какие сурьезные. Сколько ниток напутано. Попробуй найди конец… Ладно, мой хороший, посуду пока уберем. Я мыть стану, а ты на полку складывай.
Прибрали мы на кухне, я и веником на полу еще подмел. Ведро было полное. Я пошел на лестницу, к мусоропроводу. Иду, а сам все думаю про то, о чем дед рассказывал. Особенно, как с колокольни он чуть не сиганул. Это, значит, по-настоящему любил. Не то, что я. Мне даже обидно стало за себя.
— Дед, — вернувшись с пустым ведром, спросил я, — а Кира ничего-ничего про меня не сказала?
Он лишь руками развел:
— Не сказала, Петруша. Только ведь, знаешь, какое тут дело — посмотреть надо, отчего не сказала. Я так понимаю, что от боли. От сердца. Сердце в горе молчит, в радости говорит.
— Дед, а будет она со мной разговаривать?
— Того не знаю. Попробуй.
Попробовать? А что, если и правда, попробовать? Конечно! Что же мне дед сразу не сказал? Все про сердце да про сердце…
Я вышел на солнечный балкон. Далекая вертушка на белой палочке быстро крутилась. От легкого ветерка работал пропеллер и на моем балконе. Это мне придало уверенности. Я отыскал в ящике круглое зеркальце и сказал деду:
— Я пошел.
Наверно, по моему лицу дед понял, что я собираюсь делать:
— Иди, Петруша. Хорошо поискать — в любом мотке конец сыщется…
Я уселся на доске песочницы и, достав из кармана зеркальце, навел светлый круг на балкон Киры. Если она в комнате, то должна увидеть. На потолке будет свет.
Все правильно я подумал. Через несколько секунд на балконе появилась Кира. Я помахал рукой. Она постояла, постояла, и ушла. Теперь я уже не понял: что бы это значило? Выйдет? Но в ответ она не помахала. Или не хочет разговаривать? Подождал минут пять — снова достал зеркальце.
Она долго не показывалась. И я не отступаю, навожу зеркало, дрожит на ее балконе светлое пятно. Опять вышла она. Я опять рукой. Она, кажется, пожала плечами. Ушла. Что это значит? Все-таки решила спуститься?..
И верно: теперь я увидел ее в дверях подъезда. С крыльца спускаться она не стала. Я быстро подошел, взбежал на ступеньки и, придав как можно больше решительности и уверенности своему голосу, сказал:
— Здравствуй, Кира!
— Здравствуй. — И ничего не шевельнулось в ее лице.
— Я к тебе пришел, — сказал я.
— Вижу.
— А разговаривать со мной ты не хочешь?
— О чем?
— Обо всем.
— Это с какой стати? — В ее больших серых глазах, с чуть изогнутыми у носа уголками, даже не проскользнуло усмешки.
— Кира, ты совсем-совсем не хочешь со мной разговаривать?
Она куснула верхнюю губу, изогнула ровную бровь с тысячью темных волосинок, но так ничего и не сказала.
— Кира, у вас чердак открыт? Там железная лестница должна быть.
Она пожала плечами.
— А в нашем подъезде чердак открыт. Кира, я сейчас побегу на чердак и вылезу на крышу.
Она наконец разжала губы:
— Зачем?
— Вниз прыгну.
Она посмотрела мне в глаза и усмехнулась.
— Серьезно говорю, — сказал я. — Прямо на асфальт упаду.
— Зачем? — опять спросила она и тут же с тревогой добавила: — Ты правда собирается прыгнуть?
Из подъезда вышла женщина с ребенком на руках, но я даже не обратил на нее внимания:
— Думаешь — не прыгну?
— Петя, что с тобой? — вдруг сказала Кира и покраснела. — Тебе плохо, да?
Я лишь кивнул. Мне показалось, что могу заплакать.
— Что же ты ничего не говорил мне?
— Я говорил. Ты же помнишь?
— Да, правда, — сказала Кира. — Но я думала… А почему ты еще раз не пришел?
— Я пришел. Видишь.
— Да, пришел. А я думала — уже никогда не придешь.
Из дверей вышел малец с куском булки и внимательно оглядел нас.
— У тебя есть время? — спросил я. — Чего мы здесь стоим?
— А куда мы пойдем?
— Не знаю. Куда-нибудь. Идем?
— Да.
— А дома не надо сказать?
— Ничего. Мама с сестрой платье кроят. Ведь мы не очень долго?
— Наверно.
Мы обогнули дом и вышли на улицу.
Я не знаю, о чем мы говорили и куда шли. Просто шли вперед. А говорили обо всем, что приходило в голову, что вспоминалось. И о деде говорили. Кира сказала, что он очень понравился ей. И еще спросила, почему я раньше говорил, будто он смешной.
— Вообще, он смешной, — сказал я. — Только не всегда. Знаешь, он хотел жениться, а невеста не соглашалась, боялась своего отца, так дед чуть с колокольни не прыгнул.
— А ты с крыши собирался! — засмеялась Кира и в ту же минуту стала краснеть. — Нет… я не то хотела сказать.
— Конечно, — кивнул я, чувствуя, что тоже краснею. Получалось: будто я — жених, а Кира моя невеста.
— Мы ведь просто дружим, — сказала Кира.
— Конечно. И в одной школе учимся. Ты как закончила год?
— У меня с математикой неважно, — вздохнула Кира. — Тройка годовая.
— Ерунда, — сказал я. — Чего там сложного? Вместе позанимаемся. Ладно?
— Ладно. А у тебя троек нет?
— Поднажал в последней четверти.
— А у меня вот одна — по математике…
— Ты мороженое любишь?
— Конечно. Осенью съела сразу два фруктовых и горло простудила. Ангина была.
— Тогда не куплю, — сказал я.
— И не надо!
— А у меня и денег нет!
Так, разговаривая, почти не глядя по сторонам, мы прошли до конца весь наш длинный проспект Энтузиастов, упиравшийся в другой проспект — Московский. На противоположной стороне его возвышается памятник героям Великой Отечественной войны — широкое развернутое знамя с высеченными из камня суровыми лицами бойцов, и впереди — женщина, опустившаяся на одно колено, со склоненной головой.
Перед памятником, на красноватой гранитной площадке, стоял почетный караул — две девочки с автоматами и в защитных гимнастерках с погонами и два мальчика, тоже с автоматами.
— Ты не стоял в карауле? — спросила Кира.
— Нет, — ответил я, внимательно рассматривая неподвижно застывших в строгих позах мальчишек и девчонок примерно моего возраста.
— А я стояла. В октябре. Дождь тогда начал накрапывать. А мы все равно стояли.
— С автоматом?
— Да. Я стояла и почему-то все время о дедушке думала. Отце моей мамы. Он никакой, конечно, не дедушка был. Ему только двадцать семь лет исполнилось, когда он погиб. Шестого декабря день рождения у него, а девятого, через три дня, погиб. В Сталинграде. Несколько писем его осталось. Я покажу тебе, ладно? Одно смешное такое. Не смешное, просто написано смешно. Как без обеда остался. Поставил котелок, а в него пуля попала. Взял ложку, смотрит, а борща и нет. Одна капуста на дне да картошка.
Постояли мы у памятника героям и пошли назад — Кира беспокоилась, что дома ничего не сказала.
И снова о школе говорили, я о дедушке рассказывал. А еще я спросил Киру:
— Сколько времени мы гуляем?
— Часа два примерно.
— И все время говорили, правда?
— Все время, — в подтверждение кивнула Кира.
— А если все наши слова в одну строчку написать, сколько было бы?
— Не знаю, — с удивлением сказала она. — Много. Просто не представляю.
— Вот ты сказала: «Не знаю. Много. Просто не представляю». Шесть слов. Как раз упишутся на тетради в строчку. А тетрадь — сантиметров пятнадцать. Семь раз так скажешь — больше метра получается. Может быть, мы с тобой километра два уже наговорили.
— Интересно, — улыбнулась Кира.
— А еще вопрос. Ладно? Чем мы с тобой говорили?
— Языком, — ответила Кира. — Чем же еще!
— Так, да не так, — качнул я головой.
— А как?
Но о сердце говорить я постеснялся. Потом когда-нибудь скажу. И перевел на другое:
— А слышала пословицу: зубы да губы — два запора, а языка не удержат?
— Не слышала. Это дедушка твой так говорит?
— Угадала.
— Он вообще очень интересно говорит. Хороший у тебя дедушка.
— Обожди, послушаешь, когда смешное станет рассказывать!
— Он тоже на войне был?
— Два года и два месяца. А потом сильно ранило его и контузило. Осколок мины до сих пор в боку сидит. — Наш дом был совсем близко, и я спросил: — А гулять ты можешь теперь, ведь сестра приехала?
— Да. Римма еще полтора месяца пробудет. Она от мамы отлучаться ни на шаг не хочет. Я тоже надолго не буду уходить.
— А завтра пойдем куда-нибудь? Помнишь, в кино собирались?
— Помню. Сто лет не была. А твой дедушка может пойти с нами?
— Спрашиваешь! Он кино больше всего любит!..
Мне так скорее хотелось увидеть деда, что выскочил из лифта и ключа не стал доставать — притиснул пальцем кнопку звонка и держал до тех пор, пока дверь не открылась.
— Что за пожар? — спросил дед.
А я прошел в комнату, повернулся на каблуках и говорю:
— С Кирой помирился. Гулять ходили.
— Гляди-ка! — удивился дед. — И кончик нашел?
— Что кончик! Весь моток размотал! Дед, мы два километра наговорили! Или даже три!
— Обожди с километрами, — сказал дед. — Кончик пусть ты и нашел, а моток, Петруша, еще путаный. И не один там кончик. — Он открыл ящик буфета и подал мне две толстенькие конфеты. — А еще и письмо тебе.
Я развернул листок: «Славный, верный рыцарь Петр Доброхотов! Как рыцарь смотрит на то, чтобы сопровождать даму сердца в универмаг? Мне нужно купить четыре метра голубой тесьмы. Гарантирую коктейль с вареньем. Таня».
— Что задумался? — сказал дед. — Тут, милый, в клубке этом путано-перепутано. Не гляди, что махонькая, да коготок у нее острый. Из-за таких глаз, мой хороший, короли-принцы голов лишались.
Я положил листок на стол и решительно сказал:
— То короли да принцы, а моя голова, дед, на месте пока.
На свободной половинке листка с письмом Тани я черным фломастером нарисовал тучу, а красным — маленький краешек солнца. Внизу написал: «Солнышко закатилось. Рыцарь подал в отставку».
Дед, внимательно смотревший на мою работу, с довольным видом потер руки:
— Ай да Петруха! Ай да орел! В ведерку, значит, ее! И конфеты не забудь.
— Конечно! Нужны мне ее конфеты!
Я опустил ведерко с запиской и конфетами на балкон пятого этажа, закрыл дверь и сказал:
— Дед, в кино завтра пойдем?
— А чего ж, хорошее дело. Люблю кино. А если комедия какая смешная — пять раз смотреть буду. Про Шурика в клубе у нас показывали. Три раза привозили, три раза смотрел. Когда, говоришь, пойдем, завтра?
— Сейчас газету из ящика принесу, посмотрим, какие фильмы идут в наших кинотеатрах.
— Погодь, Петруха, — остановил меня дед. — А с кем же мы в кино пойдем?
— Втроем, — сказал я.
— И Кира, значит?
— Да, с Кирой.
— Ну и молодец! Вот ты бравый какой у меня! Орел! Весь в своего деда! Ну, беги за газетой.
Староста класса
В первой четверти старостой нашего 6-го «А» был Ванька Черемухин. Вот жизнь была! Дежурные назначались только так, для видимости. Каждый делал что хотел. Никаких тебе классных собраний, ни проверок чистоты, ни учета. Опоздаешь на урок — никто и не узнает. Ванька не выдаст…
А теперь порядки другие. Ванька больше не староста. Переизбрали. Нина Сергеевна — новая классная руководительница — так сказала о нем на собрании:
— Черемухин со своими обязанностями не справился. У него не хватило ни организаторских способностей, ни твердости, ни принципиальности.
Вообще, правильно сказала. Но лично меня Ванька как староста вполне устраивал.
И еще Нина Сергеевна сказала:
— Если мы хотим по-настоящему бороться за честь класса, чтобы стал он лучшим в школе, нам в первую очередь надо избрать инициативного и серьезного старосту.
Избрали Любку Карпову. Если бы я знал, что Любка окажется такой язвой, ни за что не поднял бы за нее руку.
Началось с цветов. Девчонки понатащили из дому целую кучу всяких цветов в горшках. Все подоконники уставили, будто это ботанический сад. Ну ладно, цветы — чепуха, не мешают. Но потом на стенке появился список дежурных. Под линеечку написали, красиво. Я сразу узнал, что Томка Попова писала.
Так старалась, точно ей за это пятерку поставят. Заголовок разноцветными карандашами раскрасили.
Первыми дежурили Томка Попова и Нелька Омельченко. Я в тот день так разозлился — чуть не отколотил их. Еще бы! Стали в дверях, как тигрицы, и никого за всю переменку в класс не пустили. А мне надо было задачку по геометрии списать. Я и ругался с ними, и грозился «по косточкам разобрать» — не пустили. Ужас, до чего принципиальные оказались.
Я думал, что это дело с дежурствами скоро поломается. Даже ребят подговаривал, чтобы из класса на переменах не выходили. Но ничего из этого не получилось. Любка как кремень стояла. Чуть что не ладится — к Нине Сергеевне за помощью. Да и девчонки все за нее. И такие горластые стали! О том, чтобы опоздать к звонку, или списать домашнее задание, или вообще подурачиться, посмеяться на уроке — и думать было нечего. Прямо житья не стало от Любки. «Отлупить, что ли, ее?» — подумал я. Но побоялся. Взял тогда пришел раз в школу вечером, после второй смены, запер в классе стулом дверь и на обратной стороне крышки Любкиной парты вырезал перочинным ножом: «Любка — язва». Буквы получились большие, белые. Откуда ни посмотри — видно.
Шум из-за этого едва не на всю школу был. Я утром на другой день нарочно позднее пришел, к самому началу урока. Захожу в класс, а там около Любкиной парты — толпа. Все галдят, руками размахивают. Конечно, больше всех Томка Попова разоряется. Это у нее характер такой — задиристый.
— Ах! — говорит Томка. — Если бы только узнать, какой дурак это вырезал! Ах! Что бы я с ним сделала!
Это точно. Да ничего только она не сделает. Попробуй-ка, узнай, докажи — кто вырезал.
Как ни в чем не бывало я положил на место портфель и подошел к ребятам. Крышка парты была откинута, и буквы на черной краске так и бросались в глаза.
Томка подозрительно посмотрела на меня и сказала:
— Видал работку!
— Ого! — нарочно удивился я. — Это кто ж постарался?
— А может, ты сам знаешь? — Томка продолжала подозрительно смотреть на меня.
Но я и глазом не моргнул:
— Откуда мне знать! Я только пришел.
Тут же вместе со всеми стояла и Любка Карпова. Мне даже немножко жалко сделалось Любку. Побледнела, губы кусает, того гляди заплачет. Девчонки наперебой успокаивали ее:
— Не переживай. Все равно узнаем…
— Правильно, Люба, не расстраивайся. Ведь тот, кто вырезал это, — сам дурак, последний, набитый дурак…
Приятного в таких разговорах было мало, и потому я спросил Любку, показав на парту:
— А вчера ничего не было?
Любка отрицательно покачала головой.
— Значит, кто-то из второй смены вырезал, — сказал я.
— Никогда не поверю, чтоб восьмиклассники такими глупостями занимались, — сказала Нелька Омельченко. — И потом, на этом месте сидит никакая не Любка, а Светлана Потемкина. Отличница. И еще в кружке художественного чтения занимается…
После третьего урока в класс вошла Нина Сергеевна. Она сказала, чтобы все остались на местах.
— Мне обидно и неприятно, — начала она, — что в нашем классе произошел этот хулиганский поступок. Уже не говорю о том, что кто-то из вас, изрезав парту, испортил школьное имущество. Я хочу сказать о другом. Тот, кто сделал это, оскорбил своего товарища. И оскорбил незаслуженно. Вы все знаете: Люба Карпова — замечательный товарищ, друг, она так много помогает мне создать здоровый коллектив. Я очень благодарна ей за помощь. И вот — эта оскорбительная надпись. Я хочу, чтобы тот, кто совершил этот поступок, набрался мужества, встал и честно признался. Если он, конечно, настоящий и смелый человек, а не трус и тряпка.
Нина Сергеевна внимательно посмотрела на всех и требовательным голосом добавила:
— Ну, я жду…
Тряпкой и трусом я себя никогда не считал, но встать перед всеми и признаться — нет, я этого сделать не мог. Да и не хотел. Хорошо сделано или плохо — что теперь об этом говорить! Уже не поправишь. Я только одного боялся: вдруг Нина Сергеевна станет проверять, что у кого в карманах? И если найдет у меня перочинный ножик… Ну и что — это еще не доказательство. Разве, например, Витюшка не мог бы вырезать такое на парте у Любки? Мог бы. Он ведь тоже сердит на нее. Позавчера разбил цветочный горшок, а Любка сказала: если он не принесет новый, то она с девчонками пойдет к нему домой и расскажет родителям. Витюшка испугался и принес. И Ванька Черемухин, наверно, сердит на Любку. Как же, недавно сам старостой был, а теперь она командует ним.
Но Нина Сергеевна не стала никого обыскивать.
— Что ж, — сказала она, — выходит, никто не виноват. Ну, еще подожду…
И опять я сидел, смотрел в парту и с тоской ждал, когда все это кончится.
Не знаю, сколько бы времени продолжалась эта молчанка, но вдруг Любка подняла руку.
— Ты что? — спросила Нина Сергеевна.
Любка встала, подергала себя за косу, покусала губы и наконец сказала:
— Если не хотят признаваться — и не надо… Не надо. Кто вот это сделал… — она провела рукой по буквам, которые я вырезал, нахмурилась и сердито проговорила: — Кто это сделал, тот все равно когда-нибудь поймет, что я не такая.
И Любка села, захлопнула крышку парты.
— Что ж, — сказала Нина Сергеевна, — пожалуй, ты права. Но мне кажется, что автор этого позорного сочинения уже сейчас раскаивается и понимает, как некрасив его поступок.
А ведь правильно она это угадала. Но что толку — дело сделано, резиночкой буквы не сотрешь.
Несколько дней после этого я чувствовал себя неважно. И, если честно признаться, ребятам в глаза прямо смотреть не мог. Все-таки очень это неприятно, когда подходит, например, ко мне Ванька Черемухин и говорит:
— Ух, знал бы, кто на Любку написал, рожу бы набил!
А Витюшка говорил мне так:
— И ведь, понимаешь, ходит, подлец, среди нас и молчит, не признается. А ведь и на нас думают. И на меня, и на тебя. Ну и скотина!..
Да, вот как получилось. А я сначала еще хотел похвастаться перед ребятами — смотрите, мол, какой герой! А на деле выходит — молчи и не заикайся об этом никому.
И хоть бы парту Любка переменила. Не хочет! Один раз дежурные убирали класс и переставили ее парту в самый конец третьего ряда. Так нет, опять на свое место перетащила.
— Я, — говорит, — не боюсь. Пусть будет стыдно тому, кто вырезал…
А тем временем дела в нашем классе, как говорили на собраниях, шли в гору. В начале второй четверти восемь человек были с двойками, а к концу четверти ни одного не осталось. Я тоже двойку по геометрии исправил. За подсказки стали здорово преследовать. Морозова на географии подсказывала, так ее в стенгазете потом такой нарисовали — все чуть со смеху не попадали, а она два дня с мокрыми глазами ходила и клянчила, чтобы сняли газету. Дисциплина стала в классе лучше. Даже не сравнить, что было.
А Нина Сергеевна каждый день, наверно, к кому-нибудь из учеников на дом ходила. Только и слышно: к нам вчера приходила, у нас была… Я тоже сижу однажды вечером — как раз с ботинком возился, сбил носок и тушью его замазывал. Слышу: стучат. Открыл дверь, а это Нина Сергеевна. Отца не было — в вечернюю смену работал. Посидела она, расспросила, как с отцом живем, кто обед готовит, куда отдаем стирать белье. Думал: жалеть станет, а она ничего, не стала жалеть. Только вздохнула тяжело, да всяких полезных советов кучу надавала, что и как делать надо. Даже сказала, какие моющие средства для посуды лучше, показала, как удобнее мыть и складывать тарелки. А когда уходила, отцу привет передала.
О случае с Любкиной партой скоро совсем перестали вспоминать. Кто-то замазал буквы чернилами, и их почти не было видно. Я и сам уже редко вспоминал об этом. Но к Любке с тех пор стал относиться иначе. Зря, конечно, ее обидел. Девчонка она, если уж сказать по всей правде, неплохая.
Во-первых, справедливая. Кричать без толку не любит. Вообще, свойская, без всяких там штучек. И еще она красивая. Аккуратная всегда, белый воротничок, белые манжетики, косички тугие, золотистые, как проволока в катушке, блестят. У нее и лоб, и щеки, и подбородок с ямочкой — все прямо сияет от чистоты, будто она только из бани вышла.
Следить за чистотой и порядком было самое любимое ее дело. То, что в классе выдумали эту санитарную комиссию и проверку чистоты, — ее затея, точно знаю. В комиссию выбрали Светку Соловьеву и Пашу Евдокимову. Ох, и попортила эта комиссия мне крови! Придешь утром, а Светка и Паша тут как тут, раньше всех заявились. Важные, с красными крестами на рукавах. У Паши — специальная тетрадочка.
— Покажи руки… А ну-ка, что в ушах? Расстегни воротник…
Терпеть не мог этих осмотров! Но с ними — со Светкой и Пашей — еще можно было ладить. Например, тише и безвредней Паши в классе у нас девчонки не было. Да и Светка — не из самых занозистых. Меня во всяком случае понимала без лишних слов. Если уж очень начнет придираться — покажу кулак, она и успокаивается. А Паша и вовсе не скандалила. Скажет для порядка:
— Рубашку пора сменить… Уши вымой. — И поставит галочку в своей тетрадке.
Все бы так ничего шло, да только заболела Паша. И назначили Томку Попову.
Вот в первый же день после этого я и схлестнулся с ней. То всегда Светка первая подходила проверять чистоту, а тут Томка в самые главные начальники себя записала. Я еще и портфель не успел положить в парту, а Томка уже — около меня:
— Показывай руки!
Что значит — показывай? Тоже командирша объявилась! Но я стерпел: не стал ругаться. Показал.
Чего она в них нашла? Руки как руки. Ну, может, не такие чистые, как у других, но ничего особенного. У меня всегда такие. Грязь под ногтями! Подумаешь, какой ужас! А Томка расшумелась, будто я настоящий преступник. «Как тебе не стыдно с такими руками ходить! У тебя под каждым ногтем — миллион микробов!»
Но я и тут стерпел, ни слова не сказал. Но когда Томка посмотрела мою рубашку и закричала еще громче, что это безобразие — ходить с засаленным воротничком, что я неряха, грязнуля, то больше я не мог вытерпеть. Оттолкнул ее, обругал «дурой» и еще по затылку обещал треснуть, если не замолчит. Я хотел уйти из класса в коридор, но Томка загородила дорогу:
— Дурой не обзывай! — закричала она. — Лучше посмотри на себя! Как не стыдно ходить таким грязнулей! Или, может быть, тебя за ручку взять и отвести в баню…
Если бы в ту минуту не подошла Люба, я наверняка треснул бы Томку.
— Что за шум? — спросила Люба.
— Да ты посмотри, какая у него рубашка! — Томка потянулась к моему воротнику, но я отбил ее руку.
— Видишь, и дерется! А какая грязь под ногтями! Два месяца, наверно, не стриг…
— Ладно, обожди, — перебила Люба и сказала мне: — Покажи, Сергей, руки.
Она это сказала просто, все равно, как Нина Сергеевна, когда спрашивает у доски. И я послушался.
Взяв мои руки, Люба осмотрела их, перевернула ладонями кверху. Мне так неудобно сделалось. И ребята кругом стоят. А руки у меня действительно грязноватые. То ли дело у Любы — чистые, гладкие, ноготки подстрижены. А пальцы теплые, мягкие. Мне стыдно было и отчего-то приятно. Потом Люба посмотрела мою рубашку и спокойно сказала:
— И чего ты шум подняла, Тома? Ну, рубашка не особенно чистая. Правильно. Но не все же могут очень часто менять белье.
Я долго потом думал над ее словами. Почему она сказала о том, что не все могут часто менять белье? Неужели ей известно, что мы живем с отцом одни? Странно. Я никому никогда не рассказывал о нашей семье… Может быть, Нина Сергеевна что-нибудь говорила?..
Об этом я узнал через два дня. Получилось это так.
После уроков ко мне подошла Люба и сказала:
— Займи, пожалуйста, в раздевалке мне очередь. На минутку в учительскую зайду.
Вообще-то, никакой очереди я не признаю — пусть девчонки да которые слабенькие стоят, а тут пришлось, точно пай-мальчику, встать в очередь. Неудобно все-таки — как человека попросила.
Верно: через минуту пришла она.
— Занял? — спрашивает.
— Становись, говорю.
— Спасибо.
Знаю, что на «спасибо» надо ответить «пожалуйста», а язык как-то не поворачивается. Промолчал.
Оделись мы. На ней — шубка серая, шарфик красный, шапочка вязаная — тоже красная. Такая нарядная, даже стоять рядом неудобно. Я хотел вперед побежать, но Люба спросила — не знаю ли я, когда открывается центральный каток.
Так вместе и вышли из школы. Она рассказывает, как в прошлом году купили ей беговые коньки с ботинками, но они были немножко велики, а сейчас в самую пору… Я слушаю, поддакиваю, а сам думаю, как бы от нее отделаться. Хорошо еще, что в раздевалке задержались и все ребята успели уйти.
На перекрестке Любе надо было сворачивать направо, но она почему-то замешкалась, остановилась. Потом сдунула с варежки снежинку и сказала:
— Знаешь, Сережа, у меня задачник по алгебре пропал, а на завтра примеры заданы. Может, зайдем к тебе — я примеры в тетрадку себе спишу?
Мне это сразу показалось подозрительным. Но не мог же я отказать. Пошли.
Люба все замечала кругом. И как снег красиво лежит на ветках, и как воробей подпрыгивает на одной ножке, потому что вторая замерзла или подбита. И что снежинки, которые летят сверху, будто расчерчивают тетрадь в косую линейку. И какой смешной вон тот дядька: наверное, целый день ходит по улицам, потому что на шапке у него уже маленький сугроб вырос.
Хоть я и смеялся над дядькой вместе с Любой, но, по правде, больше думал о том, что в комнате у нас грязно, неприбрано. Кровать утром я не застелил, сковородку, кажется, забыл на столе… А если сказать, что отец ушел на работу и не оставил ключа?.. Нет, теперь поздно говорить. Сразу догадается, что вру…
Подошли к нашему дому. Я, когда отпирал замок, сказал:
— Утром сегодня заспался, понимаешь, убрать не успел.
Лучше бы, конечно, попросить Любу чуточку обождать около двери, а самому хотя бы немножко убрать в комнате, но я боялся, что кто-нибудь пойдет с верхних этажей и увидит Любу. И все-таки напрасно не сделал этого. После улицы, где было так светло, нарядно и все покрыто пушистым снегом, комната наша прямо подвалом показалась.
Я и раздеваться не стал. Кое-как быстренько прикрыл кровать, взял со стола сковородку, стакан, корку хлеба и унес на кухню. Там и разделся. Вернулся в комнату. Люба стояла у двери, держала за спиной портфель и рассматривала картину, которую моя сестра Ирина вышила — коричневый котенок с голубым бантом и зелеными глазами.
Вот стоит она, смотрит на картину, и я стою. «Сказать, чтобы села, что ли? — подумал я. — Иль пальто, может, снимет…»
— Кто это такого симпатичного котенка вышил? — спросила Люба.
Об Ирине говорить мне не хотелось, — потом еще начнет расспрашивать. Но не будешь же молчать, если вопрос задают. Я сказал. И Люба, как и думал, сразу поинтересовалась:
— Она не живет с вами?
Вот ведь какие любопытные эти девчонки! Пришла примеры списать, а сама всякие ненужные разговоры затевает.
— Нет, — говорю, — не живет.
— Значит, ни мама твоя, ни сестра не живут с вами?
— А ты откуда все знаешь? — сердито спросил я.
Тут Люба присела на стул, сняла варежки.
— Знаешь, Сережа, задачник у меня никуда не пропадал. Я тебе неправду сказала. Просто недавно Нина Сергеевна немножко рассказала мне про твою жизнь… А я староста класса. Мне нужно знать. Правильно?
Она замолчала и ждала, что я скажу. А что скажу? Подумаешь, если староста класса, так ей все нужно знать! А зачем? Потом растрепать по всему классу…
— Конечно, — сказала Люба и вздохнула, — если тебе неприятно об этом говорить, то не надо.
Она еще помолчала, подождала, но затем все-таки не утерпела — спросила:
— А твоя мама присылает вам письма?
Я вижу — не отвяжется она.
— Писала, — говорю, — в июне. — Со скуки я стал глядеть в окно. На улице все шел снег… Да, зима. Декабрь… Значит — июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь… Шесть месяцев. Целых полгода…
— Сережа, — вдруг тихо произнесла Люба и отчего-то принялась рассматривать свою варежку, будто никогда ее не видела. — Ты, пожалуйста, извини меня, Сережа, но я хочу сказать тебе одну вещь… Я… Ну и другие девочки из нашего класса… могли бы взять… Только ты, пожалуйста, не обижайся. Хорошо? Мы могли бы взять… ну, шефство, что ли, над тобой. Да, могли бы. Я, правда, с девочками еще не говорила, но они, конечно, поддержат меня…
Я, видно, так покраснел, что Люба еще больше смутилась.
— Ты не думай, — быстро заговорила она, — что это нам трудно. Ни чуточки. Например, могли бы вымыть у вас пол. А я могу постирать твои рубашки. Это мне ничего не стоит. Папа на октябрьские праздники купил стиральную машину с автоматическим отжимом. Так легко стирать! Правда, Сережа, возьми вот сейчас заверни в узелок свои рубашки, а я бы их выстирала и завтра же могла бы принести тебе. Хорошо?
Отчего мне было сердиться — не знаю. Но я рассердился.
— Ничего мне не надо, — сказал я и совсем грубо добавил: — Ничего не надо!
Люба опять начала было говорить, что для нее это сущие пустяки — постирать в машине рубашки, но я слушать не захотел больше, перебил:
— Нечего вам лезть со своей помощью. И все! Мы не калеки.
Люба тоже обиделась. Поджала губы, надела варежки.
— Пожалуйста, не навязываюсь. Я хотела по-товарищески, по-хорошему. Не хочешь — не надо. — Она взяла портфель и направилась к двери. И даже не обернулась — до того обиделась.
Ох, до чего же дурной у меня характер! Как только Люба ушла, я понял, что вел себя как хам, свинья, что меня отколотить за это мало.
Я был так противен себе, что решил весь день голодать. Часа через два здорово захотелось есть. Но я подумал: пусть, все равно ни крошки не возьму в рот. И еще я захотел выстирать свои рубашки. Поставил на газ ведро с водой, нагрел, вылил воду в корыто и начал стирать. Я так долго мылил рубахи и стирал их, что пена в корыте вспухла до самого верха. Я разошелся: еще нагрел воды, выстирал заодно две майки, трусы, носки и пионерский галстук. Когда все это прополоскал в чистой воде, выжал и развесил в кухне на веревке, было уже около пяти часов.
После работы я подобрел к себе. Разогрел суп, поджарил картошки, поел и уселся за уроки.
Утром хотел встать пораньше, чтоб успеть погладить рубашку, но отец догадался об этом раньше меня. Выглаженная рубаха висела на спинке стула около моей кровати. На стуле лежал и пионерский галстук, гладкий, как бумага.
— Поспи еще немного, — сказал отец.
А мне не хотелось спать. Я думал о Любе. Вот на этом стуле она сидела вчера, а ее варежки лежали на столе, как раз где чашка стоит. Интересно, сильно она обиделась на меня? Ну, я дурак, свинья, грубиян — правильно. Но не мог же я допустить, чтобы она стирала мои рубахи. И сам ведь могу. Вон, как новенькая! Теперь и руки у меня чистые. Действительно, после вчерашней стирки руки были белые, ногти будто прозрачные.
Потом я встал, вымыл лицо и шею, оделся, повязал пионерский галстук и постриг ногти. Отец удивился:
— О, ты сегодня, как на большой праздник вырядился!
На этот раз я и по улице шел как-то иначе. Не очень спешил, портфелем не размахивал. Самому было чудно. В класс пришел рано. Но Томка уже была на месте. Когда она подошла ко мне со своей санитарной тетрадкой, то брови у нее смешно поднялись вверх и она промычала: мм.
«Вот те и «мм»! — ехидно подумал я.
Через минуту я забыл о Томке. Ходил по классу, разговаривал с ребятами, а сам глаз не сводил с дверей — когда же придет Люба? Наконец, она пришла. Розовая с мороза, веселая. Сначала я не глядел в ее сторону, только слушал, как она разговаривает. А потом, когда обернулся, то увидел, что и она на меня смотрит. Смотрит и улыбается. Я первый бы не решился подойти к ней. А она подошла. Подвела меня к окну, где никого не было, и спросила:
— Не сердишься?
Вот тебе и раз! А я думал, что она должна на меня сердиться!
— Нет, — говорю.
— Вот и хорошо.
Больше за весь день мы ни слова не сказали друг другу. Но все равно этот день был какой-то особенный. Мне нравилось, как Николай Романович объяснял урок по физике, как Ваня Черемухин решал у доски задачку, нравилось, что дежурные хорошо намочили тряпку и она так чисто стирала мел, что доска блестела, как на солнце. Уроки мне показались короткими.
На другой день я снова не поленился — выгладил штаны, галстук, начистил гуталином ботинки.
По расписанию я и Олег Корольков — мой сосед по парте — были в тот день дежурными. На перемене Олег пошел в учительскую за мелом, а я открыл окно, чтобы проветрить класс. По улице шли люди, проезжали машины. За дверью из коридора послышались голоса, топот и смех ребят. И только в классе никого не было. Я пощупал землю в горшочках с цветами, поднял малюсенький кусочек мела с пола, заметил в проходе между партами бумажку и от нечего делать пошел поднять ее. И тут я увидел… На откинутой крышке Любиной парты я увидел слова, которые вырезал когда-то перочинным ножиком: «Любка — язва».
Кажется, что здесь такого? Сколько раз видел эти слова на ее парте. И ничего. Ну, неприятно немного, и все. Отвернешься — и забудешь. А тут, будто кто по щеке хлестнул.
Я быстро закрыл крышку — до того было противно видеть свое художество.
Весь следующий урок я придумывал всякие планы, как избавить Любу от этой парты. Заменить ее парту чьей-нибудь другой? Не выйдет. Уже пробовали. Взять из соседнего класса? Тоже не выйдет. Все равно узнают, приволокут на место, а Любе еще и попасть может ни за что ни про что. Вот если бы с другого этажа взять… Так разве дотащишь один по лестнице…
И вдруг мне пришла хорошая, просто блестящая мысль. Ладно, парту заменить нельзя. И не надо. Ведь можно сменить крышку. Отвернуть винты, и все в порядке. Эту туда, а ту — сюда. Но опять сомнение меня взяло: а если все-таки поднимется шум? Откуда, скажут, такая крышка взялась? Начнутся разговоры… Нет, не годится…
Выход я все же нашел — очень просто, оказывается. Надо самому сделать крышку. Как раньше не додумался? Возьму доску, обстругаю ровно, закруглю один угол, покрашу — и готова крышка.
На перемене я поскорее выпроводил всех из класса, Олега послал хорошенько намочить тряпку и еще принести мела. Как только он ушел, я вынул линейку, смерил длину, ширину и толщину крышки Любиной парты. Потом вырвал из тетради чистый листок, приставил его к углу крышки, точненько наметил — в каком месте продырявить дырочки для винтов, обвел карандашом закругление.
Последний урок я сидел, будто на иголках — все ждал, когда прозвенит звонок. Где взять доску, я знал. В нашем доме живет плотник дядя Сергей, у него и попрошу.
Но дяди Сергея дома не оказалось. Сын его Левка — хитрый и плаксивый мальчишка — сказал, что отец придет вечером. До вечера, понятное дело, я ждать не мог.
— Левка, — спрашиваю, — у вас доски есть?
— О, у отца сколько хочешь досок!
— Ты бы, — говорю, — дал мне кусок доски.
— Это можно, — с готовностью ответил Левка и повел меня в чулан. Там всяких досок и чурбаков целая гора была сложена. Через минуту я нашел подходящую.
— Вот эту, — говорю, — дашь?
— А ты мне что дашь? — спросил Левка.
Я пожал плечами, а Левка продолжал:
— Знаешь, сколько кубометр досок стоит? Думаешь, рубль, да? Как бы не так! И десятки не хватит.
— Денег у меня нет, — сказал я.
— А что есть?
Я стал вспоминать: компас есть, цепь от велосипеда, шарикоподшипник…
— Цепь не надо, — сказал Левка. — А подшипник и компас принеси. Посмотрю.
Пришлось сходить домой. Жалко было шарикоподшипника — новый, блестящий, так крутится здорово. Я был уверен, что Левка выберет его. Так и получилось. Левка покрутил подшипник, поморщился и положил его себе в карман. Потом осмотрел компас, проверил — оборачивается ли на Север стрелка, и опять поморщился:
— Мало за такую доску, — вздохнул он и стал поглаживать доску рукой. — Сухая, выдержанная! Эх, досочка!
— Ты что же, — испугался я, — и подшипник, и компас берешь?
— Зато какую доску даю! — Левка постучал по ней согнутым пальцем. — Слышишь — колокол!
Я пожалел, что связался с Левкой. Но делать было нечего — взял доску.
У отца в ящике с инструментом я отыскал рубанок, пилу, потом расчертил доску по мерке и принялся за работу. Прежде всего, отпилил лишнюю часть доски. Затем начал орудовать рубанком. Стесывать пришлось много. Через пять минут я вспотел. Но чтобы отдохнуть — не хотел и думать. Стружки — белые, курчавые, все лезут и лезут из рубанка. Красота! Глаз не оторвешь! Я засучил рукава, расстегнул ворот. Хорошо! Целый бы день так строгал. И точно: часа полтора работал и хотя бы сколько-нибудь надоело! Но больше строгать было нельзя. И ширина, и толщина — все тютелька в тютельку. Потом ровненько, как на листке было нарисовано, закруглил угол. Я долго еще возился с крышкой. Шлифовал шкуркой, вырезал места для петель, буравил дырочки. Начало темнеть, когда закончил работу. Крышка получилась на славу, как настоящая. Оставалось покрасить. Краски у нас не было, и я опять отправился к Левке домой. Отец его уже пришел. Он был не такой хитрый и жадный, как Левка. Дядя Сергей налил в пузырек краски, сказал, как мазать, сушить.
Я, конечно, перепачкался, как черт. Но выкрасил ровно, без пятен. Краска блестела, будто стекло.
Пришел с работы отец. Убрать я еще не успел. В комнате стружек, как соломы в хлеву. Краской пахнет. Но отец не заругался. Он почти никогда не ругает меня. Только спросил, что за вещь мастерю. Я сказал, что крышку для парты. Отец больше и спрашивать ничего не стал.
Я подмел стружки, сложил инструмент и пошел помогать отцу чистить картошку.
К утру краска хорошо высохла. Нисколько не прилипала. Я взял отвертку, спрятал крышку под пальто и отправился в школу. Так рано я никогда не ходил в школу. В раздевалке еще никого не было. Я быстро, чтобы кто-нибудь не увидел, поднялся на второй этаж, зашел в свой класс и запер дверь стулом.
Отвернуть шесть винтов оказалось делом нелегким. От волнения руки вспотели, отвертка срывалась. Но все-таки отвернул. Подошел к двери, прислушался. Никого не слышно. Не теряя времени, приложил свою крышку. Да, не ошибся — петли как раз пришлись на свои места. Дырочки немного косят, ничего — закручу.
Вот один винт зашел, второй, третий. Работа уже подходила к концу, когда услышал, что по коридору кто-то идет. Я замер. А если это кто-то из нашего класса?.. Я не дышал от волнения. Ближе, ближе… Нет, прошли мимо. Руки у меня дрожали. Вставил винт, нажал отверткой, и вдруг резануло по пальцу. Боли даже не чувствовал, хотя отвертка рассадила мясо почти до самого ногтя. Пока вынимал из кармана платок, несколько капель крови упало на пол. Я крепко замотал палец платком, торопливо закрутил последний винт. Все. Крышка на месте. Затер ботинком на полу капли крови, схватил отвинченную крышку и стал искать, куда спрятать. Подходящего места не было. Тогда положил ее под пальто, тихонько вынул из дверной ручки стул и вышел в коридор. Я благополучно спустился на первый этаж и выбежал на улицу. Зайдя за угол, огляделся. Не раздумывая, сунул крышку в решетку подвального окошка, куда летом ссыпают уголь.
На душе сделалось сразу легко и приятно. Вытер со лба пот, получше перевязал палец и снова пошел в школу. Я разделся, минут десять побыл в пионерской комнате и только после этого, не спеша, отправился в свой класс. Там уже собралось человек пятнадцать. Одни листали учебники, другие стояли у окна и разговаривали. Томка и Светка, как обычно, проверяли чистоту. Подошли ко мне. Уши посмотрели, шею. Но придраться было не к чему.
Зашло еще несколько человек. А новую крышку на Любиной парте никто не замечал. Мне это казалось странным. Ведь издали видно, что крышка новая. Просто, наверно, никому и в голову не приходило как следует посмотреть на Любину парту. Интересно, сама она заметит?
Скоро в дверях показалась Люба. Она подошла к своей парте, подняла крышку, положила портфель и… никакого внимания на крышку. Побежала с девчонками здороваться. И со мной поздоровалась, улыбнулась, но мне все равно было не по себе: вот, думаю, старался, старался — и, выходит, напрасно. Что старая крышка, что новая — никому нет дела.
Но я ошибся. На первой же перемене о новой крышке заговорил весь класс. Сама Люба заметила крышку или Валя Сорокина, ее соседка, — не знаю. Только когда кончился урок, вижу, рассматривают они крышку, поднимают ее, опускают. И обе плечами пожимают. Других девчонок позвали.
— Парта наша, а крышка другая, — с недоумением объяснила Валя Сорокина.
— Кто же ее заменил?
— Сами не знаем.
И я подошел, тоже будто поглазеть — по какой такой причине народ собрался.
Все говорили по-разному:
— Это школьный столяр сделал.
— Ага, так и будут из-за этой надписи менять! Дожидайся!
— Кто же тогда?..
— Ребус. Загадка египетской пирамиды.
— А может, кто вырезал, тот и сменил?
— Это со второй смены ребята сделали…
Мне, признаться, очень хотелось сказать, что это я привинтил, что сам и крышку сделал, но, конечно, промолчал, не подал и виду.
Целую перемену толковали о новой крышке, да так ни до чего и не договорились.
Я уже думал, что это дело навсегда похоронено и никто никогда не узнает правды, но вышло иначе.
В тот же день меня в раздевалке окликнула Люба:
— Сережа, обожди, вместе пойдем.
Я насторожился: чего ей надо? Неужели о крышке узнала? Хотя как может узнать?
Люба заговорила о всяких пустяках, что интересное кино смотрела, на каток ходила, что скоро — Новый год. Я успокоился.
— Сережа, — сказала Люба, — у нас дома будет елка. Я ребят и девочек приглашаю. Знаешь, мне хочется, чтобы ты тоже пришел. Придешь?
Мне было так приятно услышать это, но, честное слово, я не знал, что ответить.
— Приходи.
Я набрался храбрости и сказал, что приду.
Потом Люба помолчала, как-то странно посмотрела на меня и неожиданно спросила:
— Ты крышку на парте утром заменил?
Я почувствовал, что лицо мое пылает.
— Я все знаю, — проговорила Люба. — Под партой капли крови были, а у тебя палец платком перевязан… Это же ты привинтил. Правда, ты? Признайся.
Что оставалось делать? Кивнул головой.
— Вот видишь. И что те слова ты вырезал на парте, я тоже знала.
Это меня вконец ошарашило:
— Знала? Откуда же?
— Догадывалась. По тебе видела.
— Что же ты приходила ко мне домой? — спросил я. — Да еще и помогать хотела.
— Ну и что же.
— И на Новый год приглашаешь.
— Ну и что же. Ведь ты понял, что я не такая, как написал. Правда же?
— Ну, допустим… Понял.
— А это самое главное. Так придешь на Новый год?
— Ты в самом деле, не смеешься надо мной?
— Конечно, не смеюсь. Обязательно приходи… А палец сильно поранил?
— Чепухня!
— Все равно перевяжи чистым бинтом. И смотри, водой не промывай. Смажь йодом…
Мы расстались на перекрестке. Она прошла несколько шагов, затем обернулась и чуть-чуть помахала мне рукой.
Я проводил ее взглядом до угла. Затем, счастливый, пошел домой.
Уважаемый человек
Марки из серии «Животные и птицы» Гарик принес в прозрачном пакетике. Сначала ребята подумали, что он просто так принес — показать, — но Гарик сказал Васе Зотову, с которым сидел на одной парте:
— Возьми насовсем. Вот слона бери. И оленя.
Вася даже не поверил:
— Насовсем? Такие марки! А тебе что за это?
— Ничего не надо, — ответил Гарик и вслед за этим протянул Мишке Анохину — зубоскалу и самому сильному мальчишке в их классе — тоже две большие, с ровными зубчиками марки: орла с кривым, страшным клювом и полосатого тигра. — И ты бери. Насовсем. За так.
— Ничего марочки! — одобрил Мишка и хлопнул Гарика по плечу. — Не знал, что ты такой. Гвоздь-зубило!
И Вовке Жутикову, редактору стенной газеты, Гарик подарил две марки. И Вовка, конечно, был доволен.
— Спасибо! — сказал он. — В честь чего это такие хорошие марки раздаешь?
— Да просто так. Мне дядя целый альбом подарил, а у нас свои марки есть. Еще дедушка, когда живой был, собирал. Зачем мне эти? Все раздам. Сегодня вот зверей и птиц принес.
— Силен! — удивился Вовка. — И не жалко?
— Не жалко.
— А чего, хорошее дело, раз так, — вслух подумал редактор. — Я об этом в газету напишу.
— Как хочешь, — пожал плечами Гарик.
В тот день в их пятом классе все мальчишки и девчонки получили марки. Кто по две, кто по одной. Сколько кому досталось. Наташа Волкова — председатель совета отряда стала было отказываться, не хотела брать, но попугай горел на марке такими разноцветными красками, что не устояла Наташа — взяла и «большое спасибо» еще сказала.
На другой день Гарик принес в прозрачном пакетике марки из серии «Живопись». Тут никто уже не отказывался. Марки были очень большие, продолговатые, красивые, просто глаз не оторвать. Может, кто-то и в обиде был, что другим марки лучше достались, но никто не мог упрекнуть щедрого Гарика в том, что он кого-то обделил подарком. Даже Катя Мышкина, самая тихая и незаметная девочка в классе, и то получила миниатюрную копию знаменитой картины Репина «Не ждали».
Целую неделю раздавал Гарик марки своего дяди. У Мишки Анохина больше двадцати штук набралось.
Мишка по-приятельски подмигивал Гарику и говорил.
— Если кто станет к тебе задираться — сразу мне говори. Ух, гвоздь-зубило! Понюхает у меня! — И Мишка показывал свой крепкий, увесистый кулак.
А на следующей неделе, в четверг, Гарик принес целый блок ароматных жвачек в блестящих розовых обертках. Мальчишки гурьбой окружили его — не пробиться. Будто это знаменитый киноартист явился к ним в класс. Жвачек, правда, на всех не хватило, но те, кто ближе был, порасторопнее, те щедростью Гарика попользовались. Весь урок двигали челюстями и с одобрением поглядывали на пятую парту, где, розовый от удовольствия и внимания, сидел бескорыстный даритель марок и жвачки.
А потом так и повелось: входит Гарик в класс — ребята скорей к нему, здороваются, руки тискают, улыбаются во весь рот, а сами тем временем ждут — не принес ли он еще чего-нибудь? И Гарик редко когда не оправдывал ожиданий ребят. То набор спичечных этикеток достанет из портфеля, то даст всем полюбоваться толстой, серебристой открыткой, справа посмотришь — красивая девушка подмигивает тебе, чуть повернул карточку — она уже куда-то вдаль задумчиво смотрит.
Много ли прошло времени, а как все изменилось в жизни Гарика! Совершенно изменилось! Раньше и внимания на него не обращали, а если и вспоминали, то больше на собраниях — двойку по истории получил, дежурил плохо, на уроки опаздывает, общественные поручения не хочет выполнять. Никакого уважения не было к Гарику, так — балласт, последний человек, темное пятно пионерского отряда пятого «А».
Теперь — все иначе. Кто теперь Гарик? Самый уважаемый и популярный человек в классе. Все перед ним заискивают, рады доказать свою преданность. И если бы кто-то посмел тронуть его, то не один лишь Мишка Анохин встал бы на защиту товарища — может, всем классом побежали бы выручать Гарика.
Тогда обо всем этом и задумалась Наташа Волкова. Первая задумалась. Недаром же пионеры председателем отряда ее выбрали! «Что же такое получается? — удивилась Наташа. — Люди уважения и авторитета добиваются хорошей учебой, общественные поручения выполняют, а тут ничего этого и в помине нет. Учится Гарик по-прежнему, только что, например, двойку по русскому схватил, на уроки, как и раньше, опаздывает. А поручили сделать политинформацию — забыл. Вот какая петрушка вышла: Гарик все тот же, а уважения ему и славы — другим такого и не снилось! И за что? За марки, этикетки, за то, что жвачкой угостит!»
Когда Наташа ясно об этом подумала, то разволновалась так сильно, что до двенадцати часов не могла заснуть.
В школе она рассказала о своих мыслях Вовке Жутикову.
Редактор стенгазеты озадаченно почесал в затылке и вздохнул:
— И правда: вроде что-то не так… Вот штука какая! Что же теперь делать? Я заметку о Гарике написал. И на машинке уже отпечатал.
— Какую заметку?
— Положительную. Что вот хорошим товарищем стал. Некоторые пионеры начали марки теперь собирать. Хорошее дело. Полезное. Развивает общий уровень.
— Ой, Жутиков, — еще сильнее огорчилась Наташа, — уровень, может, и развивает, а вот чувствую: не так что-то. Не знаю, надо ли такого, как Гарик, поднимать на щит?..
Вовка опять завздыхал:
— Что делать-то? Жалко. Хорошая получилась заметка. На третий столбец планировал.
— Нет, обожди пока, — сказала Наташа.
В тот же день она собрала заседание совета отряда. Думали-рядили, как быть и что делать. Тогда и получил Вовка Жутиков, как редактор и человек, имеющий доступ к пишущей машинке своего деда, срочное задание — отпечатать в количестве тридцати восьми экземпляров вопрос-анкету для учеников класса.
Для Вовки отпечатать эти анкеты было плевое дело. Закладывал сразу по четыре экземпляра. Час работы — и готово!
На другой день Вовка принес в школу пачку белых листов. Сверху на каждом из них были напечатаны вопросы:
«Как ты думаешь, за какие качества надо уважать человека?»
«Достоин ли уважения человек, который учится неважно, а к общественным обязанностям относится спустя рукава?»
«Что ты думаешь в связи с этим об ученике нашего класса Гарике Шумейко?»
А после вопросов следовала приписка: «Свою фамилию можете не подписывать».
Вовка, когда печатал на машинке анкеты, улыбался про себя: не все, наверно, захотят ответить на такие нелегкие вопросы. И захотят ли портить отношения с Гариком? Может, кто-то и под защиту его возьмет?..
Наташа от Вовкиной работы сразу пришла в хорошее настроение.
— Какой ты молодец, Жутиков! Да с этими анкетами мы теперь полную информацию получим. А уж Гарика-добродетеля как под увеличительным стеклышком рассмотрим!
— А многие, думаешь, напишут? — спросил Вовка.
— Поглядим, — сказала Наташа. — Сегодня можно раздать, пусть три дня думают, а в понедельник приносят. Правильно?
— Три дня хватит, — кивнул Вовка. — Самые интересные ответы мы потом в газете поместим.
— Хорошая мысль, — согласилась председатель отряда.
В классе новость об анкетах встретили по-разному. Кто-то посмеялся, кто-то задумался. Мишка Анохин сказал:
— Без подписи? Ладно, напишем! Это нам раз-два — и в мамках!
Сам Гарик, внимательно прочитав вопросы, насупил лицо, оглянулся тревожно.
— Не робей, Гаря, — по-приятельски хлопнул его по плечу Мишка. — В обиду не дадим!
В понедельник Вовка еще до уроков сбегал в пионерскую комнату и принес оттуда красный ящик с прорезью — урна для голосования.
— Чтоб не смущались, — объяснил Вовка и поставил ящик на подоконник. — Захочет кто, подойдет, опустит листок, и порядок! И в руки никому не надо отдавать.
У этого ящика на переменках много толпилось народа.
— Освободи дорогу! — кричал Мишка. — Валерий Крутов идет! Великие плоды раздумий в ящик положит!
— Нет у меня ничего, — смущался Валерка.
— А выверни карманы. Выверни!
Валерка не знал, что и делать. А ребята смеются, ждут — пришлось вывернуть карманы.
— Значит, раньше положил, — заключил Мишка и приставил карий глаз к щели урны. — Вот твой лист! Вижу! Ух и написал сильно!
— Ничего я не писал, — упрямо говорит Валерка.
— По-русски не писал. Ребята, он по-немецки: дер, ди, дас!
— Нет, он пустую опустил. Чернила кончились!
— А может, карикатуру? Валерка на это мастак…
Много веселых разговоров было у ящика. Гарик к окну старался не подходить. Как только раздавался звонок на перемену, поскорее выскальзывал в дверь.
Про анкеты знала и классная руководительница Алла Ивановна.
— Как будете зачитывать? — спросила она председателя совета отряда.
— Я думала посмотреть сначала, что написали, — сказала озабоченная Наташа, — а ребята хотят, чтобы сразу доставала из ящика и читала вслух. Алла Ивановна, можно так?
— А почему же нельзя? Раз пионеры настаивают, пусть так и будет.
— А если что-то неправильно написано?
— Ничего, Наташа, вместе-то как-нибудь разберемся. Зачитывай, не беспокойся.
— Вы у нас после уроков останетесь?
— Посижу в уголке, — сказала Алла Ивановна. — Мне самой интересно послушать.
И вот прозвенел последний звонок с уроков, однако из класса никто и не думал уходить. Алла Ивановна неслышно прошла к последней парте, и Наташа поставила на стол красную урну.
— Кто и что написал в анкетах, никому не известно. И сколько там анкет, тоже не знаем. Начнем читать? Поднимите руки.
Только Гарик не поднял руку. Он сидел и внимательно смотрел на крышку парты.
Волкова оглядела ребят, остановилась на Гарике:
— А кто против?
Гарик и на этот раз руку не поднял.
— Все — за, один воздержался, — подвела итог Наташа. — Достаю первую анкету. — Она размотала проволочку на кольцах, открыла сбоку дверку и вынула сложенный лист.
— Муху в форточку выгоните, — послышался голос Мишки Анохина. — Мешает.
Ребята заулыбались, а Наташа сказала:
— Анохин, ты же не в цирке! Слушайте. «Уважать человека надо за хорошие качества. А если человек плохо учится и поручений не выполняет, то я сильно уважать его не буду. Но если он знает приемы самбо и карате, то я все равно уважать буду, хоть он и последний двоечник будет. А Гарик парень мировой. С ним хорошо дружить. Вот и все мои ответы».
— Это кто же, интересно, такой? — спросил Мишка. — Гвардеец! Гвоздь-зубило!
— Анохин, веди себя… — Наташа строго взглянула на Мишку. Первая анкета ей не понравилась. Ведь ее автор фактически оправдал Гарика. То-то повеселел он, глаза заблестели. Наташа достала новый лист. — Читаем дальше. «Я сразу скажу о Гарике Шумейко. Да, я стал хорошо относиться к нему. А что тут плохого? И меня не интересует, почему он стал добрым ко всем. Мне с Гариком хорошо. Марки начал собирать, вкусную жвачку жую. И не волнуюсь. Разве лучше, если бы стали принципиальничать и воспитывать его? Только озлобили бы. А Гарик сам разберется во всем. Если голова есть. А если дурак от рождения, то ничего ему не поможет».
Наташа закончила читать и вопросительно взглянула на последнюю парту. Алла Ивановна спокойно качнула в ответ головой — продолжай, мол.
— Следующая, — со вздохом сказала Наташа и вдруг улыбнулась — узнала свою собственную анкету. — «Честность, отвага, трудолюбие — вот черты, за которые следует уважать человека. А если он к делу относится спустя рукава, учится плохо и пионерских обязанностей не выполняет, то за что его уважать? А Гарик не понимает этого и старается заработать авторитет самым дешевым способом — задабривает и подкупает ребят. И некоторые клюнули на такого дохлого червяка. Им тоже надо задуматься и исправить свое поведение».
— Подписи нету, но автор известен, — пошутил Мишка.
— Теперь поглядим, что здесь, — с удовлетворением сказала Наташа. — Красными чернилами написано. «А может быть, Гарик очень умный парень, и специально затеял такую игру? Посмотреть, как мы будем перед ним на задних, лапках стоять. Может такое быть? Может. Вот и надо подумать, что это за комедия у нас в классе происходит». Интересная, между прочим, точка зрения, — заметила Наташа. — Читаю дальше: «Если я не стану Гарику подавать руку и не буду хвалить его, то какая мне польза? Кто-то будет жвачку жевать, а я, как дурак, буду слюнки глотать и ушами хлопать? Нет уж! Ура Гарику! Пусть побольше новых жвачек приносит!»
— Гаря, слышишь? — весело спросил Мишка. — Учти.
А Гарик покраснел и опять опустил голову.
— Не будем отвлекаться, — сказала Наташа, — так до темна просидим. Слушайте: «Я считаю, что история с Гариком — это боевая проверка всех нас, пионеров. Заряжены ли наши ружья, не отсырел ли порох в пороховницах? Итог? Печальный. Порох у нас сырой и ружья к бою не готовы. Позор нам!»
— Во дает! — крякнул Мишка.
На этот раз Наташа не посмотрела сердито на Анохина. Рука ее опять нырнула в ящик.
«Мне кажется, надо уважать всех людей. Только самых-самых плохих не за что. А наш Гарик хороший. Мы в одном подъезде с ним живем. Он спускает мне конфету с балкона на нитке и ничего не просит взамен. Еще у Гарика хорошие пластинки. Он громко заводит их, а я стою на балконе и слушаю. А за учебу он возьмется и всех перегонит. Гарика я очень уважаю. Мы с ним за одной партой сидим».
— Вот и расписался! — Мишка подмигнул пунцовому от смущения Васе, сидевшему рядом с героем дня.
А Наташа Волкова даром времени не теряла — достала новый листок:
«Я долго думала над вопросами анкеты и старалась понять, что заставляет Гарика поступать таким образом? А не потому ли, что мы затюкали его, и жизнь Гарика сделалась без радости? А теперь к нему хорошо относятся, уважают, и он успокоился, поверил в себя. А потом, я думаю, он обязательно встанет на правильный путь».
— А вот — новое мнение, — сказала Наташа, — «Как не стыдно Гарику! Разве так авторитет зарабатывают? Мне дедушка рассказывал, это когда он на целине был, провалился под лед трактор. Никто не знал, что делать. А один парень стал нырять в холодную воду. Три раза нырял и все-таки зацепил какую-то железную веревочку за что-то, и трактор вытащили из речки. Вот за что можно уважать человека. Он герой! А Гарика за что уважать? За то, что он раздает кем-то подаренные ему марки? Но, во-первых, раздаривать подаренное тебе неприлично, потому что ты обижаешь того, кто дарил, да еще, во-вторых, чужую доброту хочешь использовать корыстно».
— Тише, ребята, — подняла руку Наташа. — Немного осталось. «Мое мнение о проблеме Гарика…»
Услышав эти слова, Вовка радостно заерзал на месте. Это он вчера вечером размышлял в анкете о «проблеме Гарика».
«Предлагаю поставить сатирическую комедию. Давайте окружим Гарика таким вниманием, пылинки будем сдувать с него, хвалить, восторгаться, и тогда он сам увидит, как смешон в роли всеобщего благодетеля. А Гарик поймет. На контрольной он быстрее всех решил задачку. Не глупый. А когда поймет, то станет лучше. Главное, что сам до этого дойдет». Тоже интересное предложение, — заметила Наташа.
«То-то, — с гордостью подумал Вовка. — Моя анкета самая оригинальная… Ладно, послушаем, что дальше».
«У меня сестра Катька. Пять лет. Всем на шею села и ноги свесила. Скажет Катька стих: «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу» — мама ей конфету. Станцует Катька — бабушка шелковую ленту несет. Отгадает Катька загадку: два кольца, два конца, посредине гвоздик — дед в ее копилку двадцать копеек опускает. Катька и села на шею. Вот и мы зацеловали своего Гарика, на руках носим. Какие же мы друзья! Нас всех по углам развести надо и поставить носом к стенке и три дня есть не давать!»
Даже Алла Ивановна засмеялась на последней парте. Отсмеялись все, и Наташа новый лист достала. «В душе я Гарика не уважаю. Но вида не подаю. Не перехожу грань приличия. Скажете: лицемерие? Говорите на здоровье! А я думаю, что это самая правильная и нормальная позиция современного человека».
Тут Алла Ивановна беспокойно задвигалась на парте, но стоявшая за учительским столом Наташа уже держала в руке новую анкету. «Наше поведение я лично расцениваю как беспринципное. У нас во дворе недавно осудили на десять лет одного бандюгу — хотел ограбить сберкассу. А наш сосед рассказывает, что хорошо помнит этого преступника, когда тот еще маленьким мальчиком был. Он был очень хороший мальчик, кудрявый и веселый, и все его любили и баловали. Однажды он утащил у своего приятеля свисток, потом ножик складной. А в школе шапку украл. С этого началось. Теперь — в тюрьме. А мой отец говорит, что ржавчина с малой трещинки начинается. А что мы с Гариком делаем? Только расширяем эту трещину. Мы подлизы и лицемеры. И если у Гарика вины на копейку, то у нас, как говорит мой отец, — на целый рубль!»
— Ого, — выразительно проговорила Наташа. — Серьезное заявление… Ух, язык устал. Последняя осталась. — Она вынула листок, посмотрела и рассеялась: — Тут рисунок. Карикатура.
— Знаем, Валеркина работа! — сказал Мишка.
Сначала с первых парт потянулись, за ними — другие. Через минуту у стола сгрудились почти все пионеры. Валерка Крутов нарисовал Гарика, увешанного марками, жвачками, а вокруг стоят на коленях ребята и тянут к нему руки. Смешно нарисовал Валерка. Председатель совета отряда кое-как усадила ребят на места и обратилась к учительнице:
— Алла Ивановна, вы будете говорить?
— Зачем, — качнула та головой. — По-моему, достаточно сказано. Пожелаю только, чтобы вы не забыли этот разговор.
— Тогда собрание закрываем, — сказала Наташа. — Поздно уже.
Гарик первым вышел из дверей класса. В раздевалке он быстро накинул на себя пальто, и когда Мишка Анохин сказал ему: «Обожди, провожу тебя», Гарик, низко наклонив голову, лишь отмахнулся и поспешил к выходу.
За школой Мишка все же попытался догнать его.
— Ну чего несешься! — крикнул он. — Обожди, слышишь? И носа не вешай. Подумаешь, наговорили!..
Но Гарик, не обернувшись, прибавил ходу, побежал по заснеженной улице, синевато мерцавшей в прерывистом свете фонарей.
Мишка остановился, вздохнул, задумчиво взялся рукой за длинное ухо шапки. И тут увидел свою тень. Она косо перечеркнула тротуар, а выше, на сугробе, вдруг уродливо, горбато ломалась.
Мишка с ожесточением дернул ухо шапки, словно собирался оторвать его, и со всего маху всадил ботинок в сугроб. «А сам-то! — зло подумал о себе. — Сам-то лучше?..»
Мишка вытащил ногу и, не отряхнув снег, повернул обратно, к дому.
Алешины письма
Димка простудился двадцатого марта. Это он точно знал. И где простудился — тоже знал. Впрочем, и его родителям было известно, что сын попал под дождь, промочил ноги, после чего отлежал шесть дней с сильным гриппом. Два раза вызывали врача. Боялись, как бы не было осложнений.
Это все было известно. Однако никто не знал и подозревать не мог — по какой именно причине Димка попал под дождь, так зверски промочил ноги и сам весь промок. Никогда и никому не признался бы в этом Димка.
В тот день он только вышел из дверей кабинета физики в коридор, как нос к носу чуть не столкнулся с Мариной из шестого «А». Он шагнул вправо, и Марина — вправо, он — влево, и она — туда же. Тогда Марина засмеялась и сказала:
— Стой на месте, а я тебя обойду.
Вот и все. Марина, может, сразу забыла о ерундовом, забавном случае, а Димка не забыл — оба оставшиеся урока он только и думал об этом.
Димка и Марина учились в одной школе, их классы и предметные кабинеты находились на одном этаже, больше того — они жили в одном и том же доме, но Марина будто не замечала Димку — сероглазого парнишку, робкого и застенчивого, немного угловатого, потому что начал быстро расти и словно сам не мог еще привыкнуть к каким-то новым изменениям в своей внешности. Марина даже не считала нужным кивнуть ему при случайной встрече.
Марина совсем не знала, как Димка грустно смотрит ей вслед, не обращала внимания и на то, как меняется его лицо, когда он вдруг увидит ее в школьном коридоре или во дворе дома.
И вот этот неожиданный, невольный трехсекундный танец друг перед другом у двери физического кабинета и ее несколько слов, впервые обращенных к нему.
Димка понимал, что этот эпизод в Маринином отношении к нему ничего не изменит. Собственно, и отношений никаких не было. Тем не менее, выйдя в тот день, двадцатого марта, из школы, он быстро пересек улицу и остановился под деревом, ожидая, когда в школьных дверях появится Марина.
Выходило много ребят, дверь на тугой пружине то и дело хлопала, но Марина все не появлялась. Потом дверь перестала хлопать, никто больше не показывался. Димка решил, что в толчее просмотрел Марину, и хотел идти домой. Но, пройдя до угла школы, он в крайних окнах второго этажа увидел склоненные головы и даже Марию Николаевну разглядел — учительницу английского языка.
«Шестой урок у них», — подумал Димка. Он потоптался на месте, поднял воротник куртки и… вернулся к дереву, где стоял перед этим. Шел дождь. Он и утром шел, и днем, в иные минуты вперемешку с мокрым снегом, под ногами было слякотно. Посвистывал ветер, качая голые, отсыревшие ветки, усыпанные, как бисером, тяжелыми, ползущими вниз каплями воды.
Димка совсем иззяб в своей нейлоновой, намокшей и быстро потемневшей куртке. Ногам было холодно. Димка уверял себя, что надо идти домой, это просто глупо стоять и ждать, но… не уходил. «Теперь уже недолго осталось», — будто кто-то другой, со стороны, нашептывал ему. «А какой толк? — говорил себе Димка. — Ладно, дождусь. А что дальше? Зачем? Посмотреть, как она с девчонками покажется в дверях школы? Ну, могу еще сопровождать ее до самого дома. Пристроюсь шагах в двадцати сзади, и так буду идти, смотреть ей в спину. Или по другой стороне улицы буду шагать. Ведь к Марине не решусь подойти. Тем более, что идет не одна, а со своей подружкой Ленкой Мироновой, которая тоже из нашего дома и живет во втором подъезде на четвертом этаже».
Так Димка и заболел, отвалялся шесть дней в кровати.
Потом была последняя, самая короткая четверть, как обычно, немного суматошная, со спешкой, повторением всего материала, волнениями из-за годовых оценок. И все равно, даже в это беспокойное время не было ни одного дня, когда бы Димка не вспоминал о Марине.
Кончился учебный год, наступили каникулы. Димка вскоре уехал в пионерский лагерь на тихой речке Матыре. В прошлом году Димка упирался, говорил, что не хочет ехать, там скучно, что лучше будет ходить в городской лагерь. Родители ожидали, что сын и теперь начнет бунтовать, но Димка на этот раз согласился без всяких уговоров. Мать и отец даже удивились — поди-ка, пойми, отчего такое! Известно же: чем старше ребята, тем с меньшей охотой едут они в лагерь, а тут — наоборот. Не понимали родители. А все объяснялось так просто: девочка Марина из третьего подъезда — русоволосая, с тяжелой, длинной косой до пояса, с большими, задумчивыми карими глазами прошлым летом никуда из дома не уезжала. А в этом году она собиралась с матерью и отцом ехать к морю. Димка сам услышал об этом. Услышал случайно. Хотя, если подумать, то, может быть, и не так уж случайно. Ведь когда Димка стоял на балконе или гулял во дворе, то Марина, если она тоже была во дворе, все время как бы находилась под его наблюдением. Он, словно локатор, направлял глаза и уши свои в ту сторону, где была она. Поэтому разве можно сказать, что и о поездке к морю Димка услышал случайно? Нельзя.
Марина и Ленка вышли во двор с тазом выстиранного белья. Они принялись развешивать белье на веревке, протянутой между столбами, и Димка, увидев их, перешел из беседки, где читал журнал «Юность», поближе к столбам с веревками. Там тоже стояла у кустов лавочка. Сидеть на ней было даже удобнее, чем в беседке. Много ли из беседки увидишь? Кусты мешают. А здесь, на лавочке, всегда можно отыскать местечко или пригнуть ветку, и все будет видно. А слышно — тем более. До столбов — рукой подать, пять-шесть метров.
Склонившись над журналом, Димка смотрел на Марину — как она брала из таза наволочку или полотенце и, держа их за уголки, сильно встряхивала, так что в свете солнца секундно вспыхивало радужное облачко мелких водяных брызг. Она вешала полотенце на веревку, вынимала из зубастого ожерелья прищепок, висевшего на шее, одну из них, затем другую, цепляла на веревке. Руки у Марины были белые, почти не тронутые загаром, и у Димки перехватывало дыхание.
Тогда и услышал Димка о поездке на юг. Что родители ее с 10 июня идут в отпуск, и все они отправляются к Черному морю. Уже и билеты были куплены.
— Счастливая, — сказала Ленка Миронова. — Море увидишь. А мне только на третью смену мама обещала путевку в лагерь достать.
— И в лагере неплохо, — заметила Марина. — Приезжаешь — столько незнакомых девочек сразу. Мальчишки. Тоже незнакомые.
— Тебя мальчишки интересуют! — засмеялась Ленка.
— Почему обязательно мальчишки? — повесив полотенце, сказала Марина. — Просто новые лица. Кто, откуда, какие? Конечно, интересно. И мальчишки тоже. Разве они не люди?
— Еще какие люди! — опять засмеялась Ленка. — Валерий Кукин, например.
— А мне Валерий не нравится.
— Валерий не нравится? — не поверила Ленка. — Да что ты, какое у него лицо, волосы. На артиста Юрия Соломина похож. И рост высокий. И стройный.
— Заносчивый очень, — сказала Марина, и Димка, услышав это, вполне одобрил ее мнение. Кукина он знал. Точно: ходит, будто лауреат какой-то. Зато Ленка не согласилась с подругой:
— Он не заносчивый, Мариночка, а гордый. Это, между прочим, большая разница. Именно гордый. Валерий умный, хорошо учится, начитанный.
— Он не добрый, — сказала Марина. — Валерий все — только для себя. Разве он кому-то от души поможет? Ни за что. Нет, и не говори. Рыцаря из него не получится.
— Смешно! — фыркнула Ленка. — Где ты сейчас про рыцарей услышишь? Не те, Мариночка, времена. Скажи уж прямо: просто он на тебя не обращает внимания. Вот на Дину Соколову он поглядывает.
— Что ж, — сказала Марина. — Дина у нас в классе самая красивая.
— И тебе обижаться нечего. — Ленка подошла к Марине, отлепила у нее с синей лямочки на шее прищепку.
— Зачем ты так говоришь? — строго сказала Марина.
— Потому что это так и есть. Ты симпатичная.
— Но не красивая же. У меня — нос острый. Губы какие-то… Иногда в зеркало даже не хочется посмотреться. Знаешь, что Кукин недавно сказал мне? Я карикатуру с журнала перерисовывала на стекле, наклонилась низко, а он и говорит: «Осторожнее, стекло клювиком проткнешь».
— Ну и подумаешь! — сказала Ленка. — Это ведь шутка. А между прочим, Сережке Зимику Валерий один раз про тебя сказал, а я случайно услышала: «Смотри, говорит, какие ноги у Маринки красивые!»
Димке показалось, что Марина покраснела. Наверное, от смущения она так сильно тряхнула наволочку, что едва из рук не выпустила.
— Причем тут ноги! Я же о лице говорю. — Она прицепила наволочку и взяла с земли пустой таз. — И вообще, твой гордый, начитанный Кукин больше всего на ноги смотрит…
Димка проводил взглядом девчонок до самого подъезда. И на ноги Марины посмотрел. Тут с Валеркой Кукиным он согласился: ноги у Марины стройные. Но чего это она о своем лице всякой ерунды наговорила! Да у нее самое лучшее лицо! В зеркало, говорит, не хочет смотреться! Ну и придумала! И нос самый нормальный. Очень хороший нос. Этого пижона Кукина слушает! Да разве он что смыслит в носах? Индюк надутый!
До отъезда Марины оставалась всего неделя, потому Димка и возразить ничего не подумал, когда отец сказал, что в завкоме ему предложили для Димки путевку в пионерский лагерь.
Димка нисколько не пожалел, что поехал в пионерский лагерь. Правильно Марина сказала: это интересно — столько новых людей, лиц незнакомых. Ничего сначала не разберешь — кто, что, где, все мелькают перед глазами. Но прошло два-три дня — того уже запомнил, этого по имени знаешь, с тем за одним столом сидишь. А через неделю все таким привычным делается, будто сто лет живешь в этих уютных корпусах, на берегу тихой речки Матыры, с этими мальчишками и девчонками.
Время бежало незаметно. В двухдневный поход ходили, устраивали малую олимпиаду, играли с соседним лагерем в футбол, а еще в интересную военную игру. За эту игру Димку отметили на общелагерной линейке. Вообще-то, все говорили: если бы не Димка, то «синим» не видать бы победы, как своих ушей. Димка в разведке был. С венком из листьев на голове он лежал в траве почти на открытом месте, потому что цепь наступавших «зеленых» увидел неожиданно, когда они поднялись из лощины, и бежать к спасительным кустам было уже некогда. Все же его не заметили. Он буквально вжался в землю. И только они миновали его, удалились метров на сорок, он вскочил, свистнул и, петляя, как заяц, помчался к неглубокому, разведанному овражку. «Зеленые» увидели его и бросились в погоню. Но Димка, громко крича, чтоб услышали свои, и крутя трещетку-пулемет, скрылся в овраге, добежал до рощи и далеко оторвался от погони. А тут «синие» разобрались, где неприятель, и сами пошли в решительную атаку. Да еще и с флангов косили огнем.
После военной игры Райка Терских из их отряда подарила Димке гладкую, обструганную палочку. Во всю длину палочки винтом вилась синяя строчка из кругленьких, аккуратных букв: «Самому ловкому разведчику и самому хорошему мальчику Диме Кулешову от Раи Терских. На память».
Райка и поглядывала на него особо, а когда купались в речке, то она подплыла к Димке, подула на воду и спросила:
— Если бы я начала тонуть, ты стал бы меня спасать?
С девчонками Димка смелостью никогда не отличался, а тут он уверенно тряхнул мокрыми волосами:
— Обязательно!
— А если бы я совсем захлебнулась, и были бы сильные волны, а у тебя почти не оставалось бы сил?
— Ну и что? — тихонько плывя рядом с Райкой, сказал Димка.
— Ты бросил бы меня одну?
— Как же это? Ты бы тогда утонула.
— Значит, не бросил бы?
— Да уж как-нибудь дотянули бы до берега. Это же не море.
— Ты хороший! — сказала счастливая Райка. — Мне на самом деле тонуть хочется.
Вечером, лежа на своей кровати у окна, Димка слово за словом мысленно повторял весь тот разговор с Райкой, вспоминал ее счастливую улыбку, капельки воды, блестевшие в волосах, и думал, что она очень хорошая девчонка, и он бы, наверное, совсем подружился с ней, если бы не Марина. А потом он уже вспоминал Марину и особенно тот ее разговор с Ленкой Мироновой, который он слышал, сидя за кустом на скамейке. Своим лицом недовольна. Глупая! Вот у Раи хорошее лицо, но ведь у нее, Марины, оно еще лучше. Где она сейчас? Может быть, тоже купалась сегодня? Наверное. К морю затем и ездят, чтобы купаться. А если бы она стала тонуть и были бы сильные волны? А он был бы рядом. Димка представил себе эту страшную картину: он обхватил потерявшую сознание Марину за шею и плывет с ней к берегу. Волны накрывают их с головой, сил совсем уже нет. А берег еще далеко. Это ведь не узенькая Матыра, а море. Что же делать? Бросить Марину? Выплывать одному? Димке жарко сделалось… Нет, ни за что не бросил бы. Тонуть, так вместе.
Из лагеря Димка вернулся загоревший и силы будто прибавилось. На улице, возле газетного киоска и ларька с мороженым, попросил у старушки, сидевшей на складном стульчике перед белыми медицинскими весами, силомер на цепочке. Левой рукой выжал сорок два килограмма, правой — пятьдесят один. Обрадовался. До поездки в лагерь правой жал только сорок пять.
Отец, поставив Димку к косяку двери, деревянным треугольником прижал его вихры к голове, отметил карандашом.
— Поздравляю, на полтора сантиметра махнул!
Хорошо было. Только бы Марина приезжала скорей.
Каждый день, выходя на балкон, Димка с надеждой смотрел во двор — не видно ли Марины?
А узнал о том, что она вернулась, совершенно неожиданно.
Утром несколько раз смотрел с балкона — ничего интересного не увидел. Не считая Ленки Мироновой, относившей к железному ящику ведро с мусором. А Ленка — точный указатель: если бы Марина приехала, то Ленка не шла бы одна. Они такие подруги, что даже к мусорнику пошли бы, наверно, вместе.
И был Димка абсолютно спокоен. Вышел днем на улицу, купил возле старушки с весами и силомером мороженое. Развернул бумажку, ест себе, жмурится от удовольствия, и только свернул за угол своего дома — Марину под руку с Ленкой увидел. Сам потом не мог понять — ведь крепко держал мороженое, а оно почему-то выпало из руки. Марина и Ленка шагах в десяти были — видели, конечно, как шлепнулось на тротуар его молочное с вафлями.
Ленка еще пошутила, в усмешке белыми зубами сверкнула:
— Жалость-то! Хоть становись на колени и слизывай.
Марина ничего не сказала, лишь сочувственно посмотрела на Димку. Кажется, сочувственно… Но точно он бы не мог поручиться. Наверно, пожалела. А может, как и подружка, усмехнулась. Правда же, смешно. Идет парнишка, ест молочное с вафлями, никто под локоть его не толкал, и вдруг — мороженое летит на землю. Как же не улыбнуться!
Не дыша, прошел Димка мимо девчонок, потом лишь украдкой оглянулся. Какая загорелая стала Марина! Не сравнить с его лагерным загаром. Ноги, руки, шея — все будто шоколадное.
Димка так привык думать о Марине, в мечтах он столько уже переговорил с ней о всяких интересных вещах, что, казалось, так всегда и должно быть, ничего другого ему и не надо — ни личных встреч с Мариной, ни настоящих разговоров с ней, ни самых каких-то новых отношений между ним и Мариной. Ему достаточно было сознавать, что она здесь, рядом, в их доме, что он всегда может увидеть, как она ходит по двору, играет в мяч, читает книжку, смеется или сидит в обнимку с Ленкой и о чем-то шепчется с ней.
Конечно, где-то, в самой-самой глубине, острым коготком царапало на сердце: отчего же Марина никогда не заговорит с ним, не улыбнется? Почему для нее он вроде бы пустое место? Может быть, что-то надо все-таки сделать, чтобы, наконец, увидела его?..
Но, с другой стороны, боязно было — вдруг Марина, после того, как он в чем-то «покажет» себя, все равно не захочет ни смотреть на него, ни улыбаться, ни разговаривать? Тогда уже ничего не останется. А так еще есть какая-то надежда на будущее, есть его тайная, личная, собственная радость.
Однако о чем же так часто шепчутся подруги? Димка, возможно, и не проявлял бы сейчас особенного любопытства — мало ли у девчонок своих секретов! Но после того разговора, какой услышал, когда они вешали белье, оставаться равнодушным к этим тайным перешептываниям Димка уже не мог. Марину в тот раз он как бы увидел с новой стороны. Оказывается, к мальчишкам она не безразлична, оттого, наверно, и переживает из-за своего, как ей кажется, не очень хорошего лица. Только смотрит она на мальчишек по-своему. Валерка Кукин, например, не нравится ей. А Валерка, если уж говорить по чистой правде, паренек что надо! Ну, есть это в нем — важный, усмешечка на губах, но ведь красивый парнишка. Тут и спорить нечего. И умный. Доклад на историческом кружке делал — все заслушались. Как завернет, завернет цитату — просто не верилось, что мальчишка, будто взрослый говорил. Наверняка все девчонки вздыхают по нему. А Марина, видно, исключение. Он ей вроде как до лампочки. Сказала, что рыцаря из него не получится. О каком же рыцаре мечтает она?.. Может, права Ленка, и нет теперь рыцарей? Перевелись, не то время…
Так о чем же они секретничают? Сидят где-нибудь или по дорожке идут — все говорят, говорят о чем-то, перешептываются.
А как-то раз после завтрака посмотрел Димка в окно и увидел Марину со своей неразлучной подружкой — они сидели на той самой лавочке, где и он когда-то сидел, с любопытством вслушиваясь в их разговор. Только на этот раз подруги не разговаривали и не шептались. Марина читала какой-то листок, а Ленка, обняв рукой ее за шею, тоже смотрела в листок, и Димке был виден ее приоткрытый в любопытстве рот.
Прочитала Марина листок, свернула бережно, положила в карман своего синего в горошек платья, а потом они вновь, как всегда, принялись о чем-то секретничать. Вообще, место для секретов подходящее. Лавочка стоит одна, впереди — кусты.
Димка жил на третьем этаже, и до лавочки, где сидели девчонки, было метров двадцать. Будто и не очень далеко, а разве что услышишь? И Димка только смотрел. Смотрел долго. Вздыхал потихоньку. Девчонки сидели к нему спиной. Он видел толстую, русую косу Марины с металлической защелкой внизу, видел ее загорелые плечи и шею. А в те секунды, когда она поворачивалась к подруге, открывалась и часть лица ее — лоб, щека, круглый подбородок, кончик носа. Самого лучшего, самого красивого носа на свете. И Димка снова вздыхал, вздыхал…
А на другой день повторилась такая же картина: подруги сидели на лавочке у кустов, и Марина опять читала какой-то большой белый листок.
Только не из окна своей квартиры увидел их Димка примерно в такое же утреннее время, а когда возвращался из магазина с бутылками молока в сетке. Димка в дверях подъезда постоял немного, глядя на девчонок, потом поднялся бегом на третий этаж, открыл дверь и — скорей к окну. Сидят. Марина все еще листок читает… А если подойти бы тихонько и встать за кустами? Нет, могли бы заметить. Через кусты видно… Что же за листок у нее? Письмо?..
Дочитав до конца, Марина опять спрятала листок в карман. Опять девчонки минут десять еще сидели и разговаривали. На следующий день, словно предчувствуя, что подруги снова объявятся на тихой лавочке, Димка с утра занял место у окна и стал ждать. Целый час сидел, но дождался. Они торопливо прошли к кустам, сели, Марина перекинула за спину косу, достала свернутый листок, а Ленка обняла подругу за шею.
Димка не спускал с них глаз. Потом вспомнил о бинокле. Чтобы не мешало стекло, слегка приоткрыл раму. Но бинокль был маленький, театральный, и разобрать что-либо на краешке листа, видневшегося из-за плеча Ленки, он, конечно, не мог. С балкона будет ближе, подумал Димка. Хоть метра на полтора. Принеся на балкон табуретку, он с предосторожностью чуть выставил лицо над желтым щитом ограждения, навел бинокль на сидевших внизу девчонок. То ли эти полтора метра имели значение, то ли лучше резкость подкрутил, но сейчас Димке показалось, что строчки написаны на листке не рукой, а будто напечатаны на машинке. Ну, и что из этого следует? Пожалуй, одно только — никакое это не письмо. А что же тогда?..
Девчонки уже вновь о чем-то говорили, шептались, а Димка весь погрузился в мысли. Взял стоявшую в углу белую палочку с длинной, витой строчкой синих букв — подарок Раи Терских: «Самому ловкому разведчику…» Вспомнилось, как затаив дыхание лежал в траве и повторял про себя: «Только бы не заметили, только бы не заметили». И ведь не заметили! Лишь благодаря этому «синие» выиграли сражение. Если сейчас залечь как разведчику в кустах перед лавочкой, все бы услышал.
Димка настолько разволновался от своих неожиданных мыслей, что не заметил, когда девчонки ушли.
Этот дерзкий план не давал ему покоя целый день. Все передумал Димка. Как лучше укрыться и что надо свою зеленую рубашку надеть, для маскировки. И залечь сразу после завтрака. А вдруг все-таки заметят его? От такого предположения у Димки словно мороз пробежал по спине. В самом деле, что тут ответишь? Если притвориться спящим? Не поверят. А если сказать, будто специально спрятался, чтобы узнать — что они тут читают каждый день. Будто это он с ребятами поспорил, что раскроет их тайну. Такой ответ выглядел вполне подходящим. Девчонки даже посмеялись бы, наверно. Может, и похвалили. Вот Райке же понравилась его ловкость и находчивость. Палочку подарила. Сколько, поди, времени потратила — написать такие ровные, красивые буковки!
Смущало, правда, Димку другое соображение: хорошо ли это, что станет подслушивать? Но в конце концов и это сомнение отверг. Не государственные же секреты выведывает. Может, они просто стихи какие-то читают. Да и вообще, где у него гарантия, что, как дурак, не проваляется под тем кустом понапрасну? Ну, приходили три раза, а почему завтра обязательно должны снова прийти на эту лавочку? Какая уж тут гарантия! Так просто, полежит для своего удовольствия, про лагерь вспомнит, про военную игру.
Родители, уходя на работу, вынули из холодильника бутылку молока и специально поставили в центре стола, во-первых, чтобы сын сразу увидел бутылку, а во-вторых, чтобы молоко не было таким холодным.
Позаботились родители о Димке, только он ту бутылку все равно не заметил. Кусок хлеба, правда, пожевал, но, взглянув на часы, и хлеб не доел, бросил. Подумал: а вдруг не успеет? Вдруг Марина и Ленка уже во двор выходят, чтоб скорее на облюбованную лавочку сесть да листки свои таинственные достать? Посмотрел в окно — нет, еще свободна лавочка. Димка живо облачился в зеленую рубашку, черные штаны сменил на серые (все же не так будет заметно), сунул в карман ключ и, слыша, как тревожно стучит в груди сердце, зачем-то на цыпочках вышел на лестницу.
В парадном он огляделся, ничего подозрительного не увидел, и, не спеша, небрежной походкой, словно прогуливаясь и не зная, куда себя деть, прошел к лавочке у кустов. Посидел минутку, выбирая в кустах подходящее место, встал, еще раз тревожно оглянулся, раздвинул ветки, ужом протиснулся между ними, дальше пробрался и тихонько лег. Еще поворочался немного, устраиваясь удобней, и наконец затих совсем.
Положив руку под голову, Димка лежал под кустами уже минут двадцать. Он смотрел в крошечные окошечки неба, голубевшие среди листьев, и думал о том, что, видимо, долго придется ему пролежать здесь. Когда был дома, то боялся — успеет ли спрятаться, теперь же ему казалось, что можно было бы и не спешить. Ведь Марина и Ленка вчера вышли во двор позднее. А сегодня когда? И придут ли? Димка почувствовал, как затекла рука. А в бок упирался сучок. Он и руку поменял, и сучок сдвинул в сторону. Хорошо, что земля теплая, дождей давно не было. А то совсем скверно пришлось бы.
Минуло еще с полчаса. Димка уже несколько раз менял положение тела, настороженно прислушивался, когда где-то раздавались шаги. Но шаги затихали, и он снова ощущал — где-то колет, что-то жмет. Окончательно измаялся Димка. Что же делать? Вылезать? Но как-то обидно было вылезать. Ради чего же столько готовился, волновался? Нет, надо еще подождать. А как разведчикам на войне приходилось! Может, день надо было лежать в засаде, сутки, двое. И не всегда же такая погода была. И дождь мог быть, и пурга, и мороз.
Мысли о фронтовых разведчиках вселили в Димку некоторую бодрость. Минут на десять ее хватило. Потом вновь начались сомнения. Вдобавок сильно захотелось есть. Тогда он вспомнил о бутылке с молоком и так ясно увидел ее, стоящую в центре стола. Эх, не догадался прихватить! Сейчас бы потихоньку выпил молоко. Как бы славно! И кусок хлеба сунуть в карман ничего не стоило. Эх, разведчик липовый!.. Да что там опять в колено упирается? Димка хотел пощупать под коленом рукой, и как раз в ту секунду до его слуха донесся голос Ленки. Он не разобрал, что она сказала, только понял, что это ее голос. А тут и шаги послышались.
Димка вмиг забыл о колене. Замер. Шаги — ближе.
— Сейчас прямо пришло? — спросила Ленка.
— Да, — сказала Марина. — Только сейчас распечатала и прочитала.
Подруги сели на лавочку, и Димка правым глазом, в полутора метрах от себя, увидел коричневую ногу. Значит, это ее нога, Марины.
— Ну, прочитай, — торопливо сказала Ленка. — Интересно, что теперь написал.
— Ой, Лена, прямо читать неудобно. Такое написал, с таким чувством!
— Да ты читай, читай! — И Димка увидел, как другая, почти не загоревшая, Ленкина нога в нетерпении два раза притопнула.
— Только не смейся, — предупредила Марина. — А то читать перестану.
— Не буду, не буду. А большое письмо? На обеих сторонах напечатано?
— На второй — половинка. Большое. Теперь мне Алеша много стал писать. Ну, слушай.
— Слушаю.
И Димка чуть дыша приготовился слушать.
«Здравствуй, дорогая Мариша!»
— Как он хорошо называет тебя, — вздохнула Ленка.
«Получил сегодня твое письмо и сразу же отвечаю. Да, да, я все, все помню. И как ты стояла на гладких камнях, будто не решаясь войти в воду, и как упругая волна с шумом накатывалась на твои ноги, добиралась до коленей, а потом будто пугалась и откатывалась обратно. Даже закрыв глаза, я отчетливо вижу твою улыбку и как смотришь ты на меня, потом на море. Скажи теперь честно, признайся: ведь на меня ты смотрела чуть ласковее, чем на море? Или мне это только показалось? А потом я говорю тебе: «Мариша, смелей!» И тут же сам бросаюсь в катящуюся волну, выныриваю и машу тебе рукой: «Иди, Мариша, ко мне. Смелее!» Ты улыбаешься, и теперь я почти не сомневаюсь: ни морю, ни солнцу, ни горам ты не улыбалась так ласково. Мариша, прошу тебя, напиши в своем следующем письме, так ли это было? Почтальона я буду ждать на улице.
Я сейчас печатаю на дедушкиной машинке, и словно не черненькие буквы вскакивают на бумагу, и не клавиши со стуком отскакивают назад, а будто солнечные брызги летят во все стороны. Это ты, ты, Мариша, бежишь ко мне! Бежишь, не страшась встречной волны. Ведь ты знаешь: со мной тебе бояться нечего. А зеленая волна бьет тебе в ноги, в живот, и яркие брызги разлетаются от тебя в стороны и, как искры, падая, гаснут в воде.
Мариша, раньше, до знакомства с тобой, я даже не подозревал, что у меня есть столько хороших, красивых слов. Они роем носятся в голове и сами собой будто слагаются в радостную песню. Когда я читаю твои письма, они тоже звучат как песня.
Мариша, не знаю, что напишу тебе завтра, но хорошо знаю — все слова будут от самого сердца, и я уверен: так будет продолжаться всегда, пока есть это зеленое море, синее небо, голубые горы и есть ты, в глазах которой я читаю те же слова и те же чувства. С огромным нетерпением буду ждать завтра твое письмо. Буду ждать! Буду ждать! До свидания. Твой друг и верный рыцарь Алеша».
Димка едва не трупом лежал у ног девчонок. Что там сучок, собака вцепись зубами в его ногу, он бы, наверно, не пошевелился. Его собственное чувство к Марине показалось мелким и жалким. Вот Алеша, ее верный рыцарь, это да! Это чувство!
Видно, и Ленка не сразу могла прийти в себя после горячего признания неведомого Алеши.
— Если бы мне кто-нибудь написал такое… — наконец выговорила она и так вздохнула, что Димке показалось, будто даже листья на кусте шевельнулись. — Счастливая, — сказала Ленка. — Ты каждый-каждый день пишешь ему?
— И он мне.
— Марина, а там, вслух, он говорил тебе такие слова?
— Нет, — помолчав, ответила Марина. — Там не говорил. А в письмах осмелился. Он очень хороший, славный. Настоящий благородный рыцарь. Видишь, Лена, а ты говорила, что теперь рыцарей нет.
— Значит, есть, — опять вздохнула ее подруга. — Где-то есть… А у нас…
— Да, у нас не видно, — согласилась Марина.
— Ну хоть бы кто-нибудь был, — сказала Ленка. — Вот в нашем классе, например… Ну, кто? Никого. Лева Савчук если только? Но рыцарь ведь должен быть не только благородным, но и храбрым.
— Естественно, — согласилась Марина.
— А Лева, я думаю, и первоклашек боится. Какой же рыцарь из него?
— Да. — Марина печально улыбнулась. — Лева и рыцарь… Как-то не вяжется.
— И во дворе — никого. Дом большой, мальчишек много… Обожди, — неожиданно сказала Ленка, — а тот, из пятого подъезда, в шестом «Б» учится, Димка. Как он тебе?
Вот тут Димка, лежавший в кустах, точно дышать перестал.
— Да ничего вроде, — сказала Марина, и Димка словно увидел, как она пожала коричневыми плечами. — Не знаю, — договорила Марина.
— А помнишь, как мороженое вывалилось у него? — засмеявшись, спросила Ленка.
— Бедный, — в свою очередь засмеялась и Марина, — только, видно, развернул.
— А с чего бы это вдруг упало оно? Как думаешь?
— Ну мало ли. Упало просто. Бывает же.
— А я думаю, что не просто, — усмехнулась Ленка.
— Тебя увидел? — спросила Марина.
— Если бы меня!
— Ну уж и не меня, конечно! — сказала Марина. — Да он, вообще, кого-нибудь видит? Такой же, по-моему, робкий, как и наш Лева. Ростом, правда, побольше. А так — красная девица.
— Не знаю, не знаю, Марина. Только мне кажется, что, если бы этот Димка из пятого подъезда узнал про письма Алеши, он бы сильно расстроился.
— Хватит, Лена! Выдумываешь сама не знаешь что! И думать ни о ком не хочу! Вот приду сейчас и буду писать Алеше письмо. Видишь, как он мои письма ждет! Обязательно сегодня напишу.
— А что напишешь — покажешь мне? — спросила Ленка.
— Нет уж! Скажи спасибо, что Алешины тебе читаю. И то, наверно, не надо бы. Может, Алеше это было бы неприятно.
— Ну что ты, что ты! — перепугалась Ленка. — Ты мне читай его письма. Ведь он не узнает… Марина, у меня рубль есть. Идем, купим две порции пломбира.
— У меня тоже есть деньги.
— Но я хочу угостить. Могу ведь я угостить?
— Ну, идем, идем, богачка! — засмеялась Марина.
И коричневые, и чуть загорелые ноги исчезли. Димка, совсем переставший ощущать свое одеревеневшее тело, с минуту лежал неподвижно, потом шевельнулся и едва не застонал от боли. Он с трудом поднялся на колени, кое-как выбрался из кустов и поплелся к своему подъезду.
Он сидел дома за столом, опустив голову, и не мог, конечно, видеть, как Марина и Ленка через несколько минут снова появились во дворе и с аппетитом ели мороженое.
Ничего не знал Димка и о том, как, доев мороженое, подруги расстались и Марина, поднявшись по лестнице на второй этаж, позволила у дверей. Открыла ей бабушка, еще моложавая, русоволосая, как и Марина, только без косы. На ней были красивые, продолговатые очки в тонкой, золоченой оправе.
— Нагулялась? — спросила бабушка.
— Погода — сказка! — улыбнулась Марина. — Ты бы тоже прошлась. Такое солнце, как в Крыму.
— Непременно пройдусь, — сказала бабушка. — Закончу работу и отнесу на кафедру. Уже немного осталось.
Бабушка прошла к низенькому столику, села и быстро-быстро застучала по клавишам пишущей машинки. Через час она сложила напечатанные листы в папку и закрыла машинку прозрачной пленкой, чтобы не пылилась.
Когда бабушка ушла, Марина сняла пленку, вставила в машинку чистый лист, вздохнула печально и не так быстро, как бабушка, двумя пальцами выстукала первую строчку:
«Здравствуй, дорогая Мариша!»
Подумала немного и принялась выстукивать новые:
«Только сейчас получил твое письмо. Спасибо! Спасибо! Спасибо! Я так обрадовался, что схватил табуретку, стал танцевать с ней и, представляешь, Марина, чуть не разбил любимую мамину вазу…»
А на третьем этаже, через два подъезда от Марины, ходил по комнате Димка и разговаривал сам с собой. При этом даже и рукой взмахивал, только что слов не было слышно: «Несмелый, робкий, красная девица… Ну и что? Не всегда же буду таким. Буду стараться». — «А если не получится?» — «Но я же буду стараться! Вот Демосфен, он говорил плохо. Тренироваться начал. Даже камешки в рот закладывал и говорил. И как потом научился!» — «И тогда Марина заметит тебя?» — «Откуда я знаю. — Димка угрюмо пожал плечами. — Алеша у нее. Рыцарь». — «Так что же теперь делать?»
Четыре раза прошел Димка из угла в угол: «Ну, а что еще делать? Что мне остается? Буду стараться. И где этот Алеша? Может быть, за пять тысяч километров. А я здесь. Рядом. Все может быть. И будто только один ее Алеша — рыцарь! Если бы стала вдруг тонуть в море, то неизвестно, кто был бы первый! Да пусть хоть в два метра будут волны, хоть в три — какая мне разница! Ни за что не выпустил бы ее из рук. Все равно спас бы и вынес на берег».
Свои деньги
Здорово у Сереги это получалось! Соберет под козырьком кепки лоб гармошкой, печально поднимет плечи и даже вздохнет при этом:
— Никак не могу дешевле.
— Хоть пятачок скинь. Ишь, цена-то!..
— Не могу, гражданка. Так велели продавать… Зато помидорчики какие! — Сергей умиленно улыбался и, вынимая из корзины все новые и новые крупные, ровные, один к одному, плоды, бережно раскладывал их на прилавке. — Весь рынок обойдете — лучше не купите. Что в салат, что в борщ…
— Да уж ладно, отвесь килограмм, — сдавалась покупательница.
А вот Андрюшка так не мог. Он стоял рядом, и помидоры у него были, пожалуй, не хуже Серегиных, а начнут его упрашивать сбавить цену — он и уступает. Там гривенник недоберет, там пятачок уступит…
Серега косил быстрым взглядом на Андрюшку и морщился: «Разиня! Не меньше рубля уже потерял». Когда рядом не было покупателей, он раздраженно бурчал:
— Всю торговлю мне портишь! Не умеешь, так не берись. Зачем этой старухе сейчас уступил?
— Не знаю, — виновато почесал нос Андрюшка. — Жалко. Видел, руки у нее? Сухие-сухие. И жилы синие.
— Э-эх! — Серега брезгливо поморщил губы. — Не будет из тебя толку.
Андрюшка промолчал. Видимо, соглашался про себя: не будет.
— А может, это у тебя с непривычки? — стараясь ободрить приятеля, сказал Серега. — Я второй год торгую, так мне никакие синие жилы нипочем. Не нравится цена — отходи…
Первый, конечно, продал помидоры Андрюшка. Ему потом не меньше часа пришлось ожидать, пока Серега сбыл последний товар.
На остановке трамвая Серега пересчитал деньги, аккуратно сложил в кошелек, а две новенькие рублевки спрятал отдельно, в нагрудном кармане рубахи. Еще и на пуговку застегнул.
— А ты сколько заработал? — Он хитро подмигнул Андрюшке.
— На мороженое даст мать.
— Эх, тютя! На мороженое! Проторговался! Говорил — не дешеви. Синие жилы! А я вот пару рублевочок сшиб… Слышишь? — Серега потрогал спрятанные в кармане бумажки. — Хрустят.
Ехали в вагоне трамвая веселые девчата. Ехали со стройки, ругали какого-то прораба за плохие краски и смеялись над каким-то инженером Синичкиным. Ехали трое мальчишек. Они стояли на площадке и спорили — может космонавт прыгать на Луне, как кузнечик, или не может? В окна ярко светило солнце. Мимо проносились подстриженные деревья, новые высокие дома из белого кирпича. Обгоняя вагон, проплывали голубые «Жигули» и зеленые «Волги». На лавке для инвалидов и детей сидел сухонький старичок и одобрительно улыбался.
Улыбался и Серега. Но трудно было понять, отчего улыбается. На мальчишек не смотрел, и улица, похоже, мало его занимала. Просто сидел, смотрел перед собой в одну точку и улыбался. Когда Андрюшка взглядывал на него, то невольно думал: «Доволен, что заработал». Он думал об этом немножко с завистью: целых два рубля! Андрюшка понимал, что завидует, и это было ему неприятно. Он поворачивал голову в сторону мальчишек и опять слушал, как они спорят…
Сошли на последней остановке. Здесь город был похож на большую деревню. Кругом стояли одноэтажные частные домишки, на лужайке паслись степенные гуси.
Помахивая пустой корзинкой, Андрюшка сказал:
— Ну и чудеса! Слышал, ребята говорили: на Луне человек в шесть раз выше прыгнет. Это и я метров на восемь сиганул бы! Прямо на крышу! Здорово!
Серега, казалось, не слышал его. Шевелил губами, словно что-то подсчитывал в уме.
— Андрюха, — сказал он. — Зайди вечером. А если мать о базаре будет спрашивать, скажешь — плохой базар. А что, — будто убеждая сам себя, проговорил Сергей, — разве не правда? Факт. Уламываешь, уламываешь, пока настоящую цену дадут. За такую работу и двух рублей мало. Конечно! — Серега решительно достал кошелек, вынул оттуда несколько монет и удовлетворенно сказал: — Два семьдесят. Теперь хватит.
— Много уже, наверно, собрал? — забыв об удивительных прыжках на Луне, осторожно спросил Андрюшка.
— Есть капиталец… — помолчав, ответил Серега. — А как же, копеечка к копеечке — рублик. Вот и набралось… — Не выдержав, похвастал: — У тебя, Андрюха, пальцев на руках и ногах не хватит сосчитать мои рублики.
— Ух! — Андрюшка вытаращил глаза. — Больше двадцати?
— Спрашиваешь! Только смотри, об этом — молчок.
— А что купишь на них? — полюбопытствовал Андрюшка.
— Куплю-то? — Серега пощурился на белые барашки облачков в синем небе, пожевал губами, но так, видимо, и не смог решить, на что употребить свои капиталы. — А что захочу, то и куплю! — наконец важно сказал он.
— Я бы ружье для подводной охоты купил, — мечтательно проговорил Андрюшка.
— Штука хорошая, — согласился Серега. Потом, подумав, рассудил: — Да толку от этого ружья как от козла молока. Видел: целый час один нырял, в ластах, в маске с трубкой — и хоть бы малявку подстрелил… Нет, выброшенные деньги.
— Тогда фотоаппарат.
— Тоже бесполезная вещь, — поморщился Серега. — Одни расходы с ним. Бумаги на карточки купи, пленку, а еще — проявитель, закрепитель… В трубу вылетишь!
— А если книжек купить? — подсказал Андрюшка.
— Что я — дурак! Книгу и в библиотеке возьму. Любую! Сказал тоже! — Серега до того презрительно усмехнулся, что Андрюшка почувствовал себя вконец пристыженным.
Собираясь свернуть в переулок, к видневшемуся вдали дому за темным забором, Серега вдруг остановился и сказал:
— И не обязательно покупать. Просто копить буду. Много-много скоплю. — И, переходя на шепот, добавил: — Может, и всю сотню скоплю.
Шагая к дому, Андрюшка не размахивал корзинкой. Был задумчив и тих. «А я бы ружье купил, — думал он. — И книжек… Только разве мне накопить? — Он достал вырученные за помидоры деньги, посмотрел на них и сунул обратно в карман. — От этих ничего не возьмешь. Как бы мать не заругала, что дешево продавал… Нет, не накопить мне. А все оттого, что уступаю.
Старуху пожалел… Чудак я, наверно. Зачем жалеть? Серега никого не жалеет, а разве плохо ему? Вон денег сколько накопил…»
Между тем Серега открыл калитку и вошел во двор. С радостным визгом бросилась к нему Тэтька — свирепого права овчарка, целыми днями, лая и гремя цепью, бегавшая по узкой дорожке между забором и возделанными грядками. Он хотел было поласкать собаку, но на крыльце показалась бабушка. Маленькая, худая, в заношенном до дыр переднике. Она быстрым взглядом окинула Серегу, его пустую корзину и спросила:
— Где ж ты, мил дружок, запропал? Ждем, ждем…
Он напустил на себя обиженный вид:
— Вам что — наложили корзину, иди торгуй! А я измучился, как собака. Базар плохой, настоящей цены не дают… Пока продал все четырнадцать килограммов…
— Четырнадцать? — удивилась бабушка. — Это как же: дома вешали — пятнадцать было.
А Серега еще пуще рассердился:
— Это на ваших архирейских — пятнадцать…
Они еще несколько минут препирались, и хоть бабушка подозревала, что не в меру расторопный внук ее, похоже, ловчит и изворачивается, она, взяв у него и пересчитав деньги, вздохнула и примирительным голосом сказала:
— Ну да ладно, не сердись. Если чуток и взял, так за работу же. Вон и вправду, какой измученный. Шутка ли — с утра на базаре… А денежки попусту не трать. Знай: копеечка к копеечке…
— Говорю, не брал ничего! — Серега дернул плечом и проворчал: — Поесть бы лучше дали. Голодный как волк.
— Ох, милок, — словно вспомнив, встрепенулась бабушка, — еще не приготовила. Не до того было. Глаша-то совсем расхворалась. Врачиха недавно приходила. Говорит, грипп у нее какой-то особенный. Тяжелой формы.
Мать лежала на кровати с воспаленным и красным от высокой температуры лицом. Еще утром она ходила по дому, собирала его на базар и лишь жаловалась на озноб и головную боль. А теперь вон как скрутил грипп! Серега подошел к матери, сочувственно спросил:
— Болит, да?
— Плохо, сынок… Тело ломит. И голова будто раскалывается.
— Ничего, — успокоила бабушка, — сейчас вот сбегает Сережа за лекарством, дай бог и полегчает. — Взяв со стола рецепт, она добавила: — Хорошие, сказывала врачиха, лекарства, сильные. Глядишь, хворь как рукой снимет… Идем, Сережа, молочка налью. Выпьешь с пирогом да беги в аптеку.
Хоть и устал, измучился Серега, полдня проторчавши на рынке, но возражать против того, чтобы сбегать в аптеку, он, конечно, не мог. Какие могут быть разговоры — мать больна. Положив в карман рецепт и серебряный рубль, который бабушка дала ему на лекарство, он через двадцать минут уже соскочил с подножки трамвая в начале улицы Гагарина.
От трамвайной остановки до аптеки было недалеко. Серега достал бабушкин рубль и положил на ладонь. Новенький, блестящий, хорошо ощутимый на вес, он настолько понравился ему, что Серега подумал: «Возьму его себе, а на лекарство потрачу свои, мелкие. Какая разница! Эх, больно хорош рублик, хоть зайчики пускай!» Щелчком ногтя Серега подкинул монету вверх и поймал на лету. Потом снова крутанул и… Ударившись об руку, чудесный новенький рубль со звоном упал на асфальт и прямехонько, не спеша, будто смеясь над Серегой, покатился к решетке водостока. Серега кинулся вслед, но поздно — монета исчезла в отверстии решетки.
Не меньше минуты стоял он у крепко впаянной в асфальт железной решетки и смотрел, как внизу бежит тусклый, неслышимый за шумом улицы поток сточной воды. Монеты не было видно.
Доигрался! Серега со злостью прихлопнул усевшуюся на рукав красненькую «божью коровку», растер ее в пальцах и вспомнил больную мать — жалкую, с сухим, лихорадочным блеском глаз. «Доигрался!» — опять сердито подумал он и, плюнув на железную решетку, словно она была во всем виновата, пошел к аптеке. Однако, не доходя каких-нибудь десяти-пятнадцати метров, он замедлил шаг, еще замедлил, а у самых дверей аптеки и вовсе остановился.
Ну ладно, купит лекарство, а дальше?.. Значит, пропали его денежки? Ведь не скажешь бабке, что купил на свои, а ее потерял. А если и скажешь, то не поверит… Надо же было провалиться этому рублю!.. Что же делать? Серега потрогал в кармане свои деньги, позвенел ими. Нет, ни за что не поверит бабка.
«Ничего, — вздохнув, подумал он, — мать еще часик потерпит. Пойду домой и скажу, что потерял деньги. Ведь потерял же, не обманываю. Факт. А своих денег у меня могло и не оказаться. Факт, могло не оказаться».
Серега с облегчением выдохнул воздух и поспешил от дверей аптеки к трамвайной остановке.
Трудные
Я и сам не знаю отчего, но вот почувствовал как-то, понял: это, думаю, точно — родная душа.
Он сидел на парапете в коричневой куртке. Сидит, в воду смотрит. Пять минут сидит так, десять, по сторонам не оглядывается. Ясно: парнишка никого не ждет. Просто сидит. Сам по себе. А чего ж, правильно, весна, солнышко светит, парапет гранитный нагрелся — хорошо! Почему не посидеть. Зима хуже горькой редьки надоела. А то, что он один в такое время, так лично мне это понятней понятного, потому и подумал о нем — родная душа.
Я тоже сидел на парапете. Только немного в отдалении. Тоже грелся. И в воду смотрел. Хотя ничего интересного там не было, все равно смотрел. А куда еще смотреть? Некуда. А это все же вода, как говорится, стихия. Правда, волн никаких не было, даже от самой малой ряби вода не морщинилась. Стояла она, как в блюдце. Да оно блюдце и было. Если бы море, озеро, река, а то — водоем в центре города. Весь серым гранитом закопан. Вода стоит, будто стеклянная. И ничего на ней нет, ни зелени, никакая рыбешка не плеснется. Рыбешка! Откуда? Воду здесь за лето по нескольку раз спускают. Идешь утром — вода голубая до самого парка, в обед идешь — вместо воды грязь блестит. Где же тут рыбе водиться! Одни головастики мелькают. Вынырнет со дна, воздуху дохнет, и опять в мутной глуби скрывается.
Самое заметное на всей синей воде — четыре белых лебедя. Плавают себе от нечего делать то туда, то сюда, а сами, обжоры ненасытные, шеи длинные поворачивают, все поглядывают на людей — не бросит ли какой дурак кусок булки.
Булки у меня не было. Да я и не бросил бы — лучше самому съесть. В школе сейчас шел уже четвертый урок, и прямо под ложечкой сосало. Так-то на большой переменке схватишь в буфете пару пончиков по три копейки, молоком запьешь — и порядок! А сегодня выходной я себе устроил.
А руку я понарошке поднял, будто хочу что-то бросить. Глазастые! Сразу увидели — плывут. Все четверо. Подплыли и ждут. «Го-го-го» — кидай, значит. Пожалуйста! Размахнулся и бросил. Они — туда, сюда своими шеями, а ничего нет. Сердитые, бродяги! «Шу-шу-шу», — между собой. А который ближе всех был, клювище свой разинул красный да вроде за кеды хочет меня ухватить. Я ногу поднял. «Вали, говорю, отсюда!» И кулак показал. Поняли, отвалили.
Вот говорят, лебедь — гордая птица. Ерунда! От меня кукиш с маком получили, так поплыли дальше, где тот парнишка в коричневой куртке сидел. Думали: может, у него поживятся. Парнишка смотрел, смотрел на них, ничего не кинул. Только плюнул. Метко! Чуть в глаз не попал тому, нахальному.
Тут я и сомневаться больше не стал — он, родная душа. Конечно, и портфель рядом лежит.
Я подмигнул парнишке, на портфель показал:
— Сачкуешь?
— А ты? — спросил он.
— Натурально! — сказал я. — Охота была мозги сушить! Лучше посидеть, погреться.
— Из какой школы? — спросил он.
— Из шестнадцатой, — отвечаю. — А ты?
— Из девятой.
— Знаю, — говорю, — это у рынка которая.
— Точняк! — кивнул он. — У рынка.
А я новый вопросик. Понравился мне парнишка. Молоток!
— Контрольную, что ли, пишут у вас?
— Не-е. Так просто. Надоело.
Я совсем обрадовался:
— Слушай, — говорю, — ты не из этих? Не из трудных?
— Ага, — опять кивнул он. — Говорят, что трудный.
— Я тоже.
Тут он улыбнулся мне. Я подошел и протянул руку:
— Василий.
— Евгений, — отвечает. — То есть, Женька. Все так зовут. В классе только и слышно: «Женька, опять уроки не сделал!» «Это ты, Женька, спрятал мел?»
— Знакомые дела. — Я засмеялся и сел рядом. — А меня так: «Васька, перемена началась! Тебя на аркане из класса вытаскивать!» Или объявляют, например: «Завтра сбор металлолома. Все приходите. Ну, а ты, Карпов (это моя фамилия — Карпов), опять, конечно, не явишься?» Раз говорят, что не явлюсь, мне и наплевать! Охота была по дворам да свалкам рыскать, железяки ржавые искать. А потом тащи их, как дурачок!
— Точняк! — сказал Женька. — Я шестерню на дороге увидел. Жалко, думаю, добро пропадает. И потащил, идиот! А она тяжеленная, чертяка. Семь потов сошло, пока дотащил. Ну приволок, бросил в кучу, а толку? Никто и не поверил, что это я. Смеются: «Не свисти, Женька, будто не знаем тебя! Так бы и стал ты ее тащить». Научили, спасибо. Чтоб еще собирать этот лом — нет уж!
— Благодарности захотел! — Я горько усмехнулся. — Недавно смотрю — цветок в горшке сломан. Только выпрямил его, хотел повыше к палочке привязать, а Танька — председатель отряда как заорет: «Это ты, Карпов, сломал! Как не стыдно! Мы сажаем, ухаживаем, а тебе все ломать бы!» Прямо не знаю, как удержался — в лоб не закатал ей! Может, и хорошо, что не закатал. Совсем бы замордовали. Какая мне вера? Одно и слышу: «Хулиган! Трудный!»
Я даже плюнул с досады. Снова чуть в лебедя не попал. Они почему-то все продолжали возле нас круги делать. Вот же, твари обжористые, посидеть не дадут спокойно. Будто мы их кормить обязаны! Еще и поглядывают, недовольны. Ишь, ишь, голову поднял!
— Взять бы крючок, — сказал Женька, — затолкать в булку, пусть подавится!
— Они, заразы, хитрые, — сказал я. — Выплюнут. Это тебе не карась глупый. Ему бы, длинношеему, петлю накинуть, да рвануть посильнее! И каюк!
— За лебедя, говорят, и осудить могут, — сказал Женька. — А штраф — это уж точняк — не меньше сотни.
— В том-то и дело, — вздохнул я. — Поганого лебедя им жалко, не тронь, а человека замордовать — пожалуйста. В конце той четверти русачка придралась, что упражнение не сделал. «Почему, — кричит, — все слышали задание, а ты не слышал? Сколько можно с тобой мучиться! Дай дневник!» А какая радость, если ни за что двойку влепят? Я и говорю, что нету дневника, дома забыл. А Танька — тут как тут: «Карпов, зачем ты врешь? Я на первом уроке видела у тебя дневник!» Ну и пошло! Крепко погорел. И пару влепили, и на совете дружины химчистку устроили. И мать еще вызывали. А за что? Лебедя, видишь, не тронь, в суд потащат, штраф, а тут… Эх! — Я даже не договорил, так разволновался.
— Точняк, — вздохнул и Женька. — Раз в трудные попал, то все, хана.
— Конечно, хана! — подхватил я. — Хоть наизнанку вывернись — нет тебе веры. Я теперь чуть что, так и говорю: «Да отстаньте вы! Я же трудный. Какой с меня спрос?»
— Да-а, — протянул Женька, — жизнь у нас — не позавидуешь. — Он вынул из кармана куртки пачку примы. — Закуришь?
Чего ж не закурить! В самое время вспомнил Женька о сигаретах. Я затянулся, выпустил носом две голубые струйки и спросил:
— Как у тебя предки — на собрания ходят?
— Что ты! — сказал Женька. — Батя не просыхает, его самого чистят, чистят на работе за пьянку. Грозятся на принудительное лечение отправить. И мать не ходит. Если только вызовут. Да я внимания не обращаю. Поговорит да отстанет.
— И моя тоже, — сказал я. — Сначала все плакала: в могилу, мол, раньше времени сведу ее. А теперь перестала. «Пусть, говорит, милиция учит тебя жить».
— Были приводы? — спросил Женька и щелкнул в лебедя окурком. — Понимает, бродяга. И голову не наклонил, чтобы посмотреть — не съестное ли.
— Были, — говорю, — приводы. Два раза. Недавно пацана по сопатке двинул, гривенник на кино пожалел одолжить. Отцу пацан нажаловался, тот в отделение и привел. Ерунда! Потолковали о жизни, исписали лист бумаги. Потом отпустили.
— В милиции ничего люди, — согласился Женька. — Понимают. Я вырасту — может, сам в милиционеры пойду. Хорошая работа.
Я тоже докурил. В лебедя прицелился. Только и на мой окурок — никакого внимания.
— Не нравится! — усмехнулся я. — Не хотите. А булки нет у меня. Не клянчайте. Сам бы слопал.
— И я подрубал бы, — сказал Женька. — Идем в кафе. У меня сорок копеек есть.
Я замялся, вздохнул:
— Не при финансах. Гривенник только.
— Ладно, — небрежно сказал Женька. — Сорок плюс гривенник — получается полтинник. Хватит.
Женька мне нравился все больше и больше. Вот это человек — все понимает, не жмот! С таким дружить — одно удовольствие.
В кафе мы выпили по фруктовому коктейлю, съели два бутерброда с сыром. Еще и на булочку со сладким кремом осталось. Булочку Женька честно разорвал поровну.
Теперь совсем хорошая жизнь пошла. Гуляй хоть до вечера!
Мы посидели с Женькой в парке, порассказали всего друг другу, потом в бильярдной больше часа торчали, смотрели, как парни ловко забивают в лузы белые костяные шары. Мы бы и сами хотели поиграть, но нельзя. За игру надо было платить. Когда надоело смотреть в бильярдной на парней, снова отправились бродить по парку. Идем, разговариваем, вдруг гляжу — под лавочкой монета блестит. Двадцать копеек! Мы этой монете так обрадовались, будто бумажную трехрублевку нашли.
Но монета у нас не задержалась в кармане — купили два билета на карусель с цепями.
Отличная вещь — карусель с цепями! Летишь, ветер в лицо, все мелькает, и только успевай поворачиваться — то тебя ногой оттолкнут так, что в небо будто летишь, то изловчишься да сам толканешь летящего перед тобой. Впереди меня на своем стуле девчонка в красном плаще была. Мне Женька на нее показал, когда в очереди еще стояли:
— За ней пристегивайся. А я вот эту, в зеленой беретке, наколол.
Раза три удалось мне изо всех сил оттолкнуть ногой железный стул, привешенный на цепях. Девчонка в плаще только «ах» успевала вскрикнуть — летела вверх, в сторону, коса с бантом за ней. Лицо у девчонки было такое испуганное, что я прямо со смеху помирал. И еще сильнее оттолкнуть ее старался.
Покрутили нас минут пять и мотор выключили. Цепи постепенно опустились, я на ходу отстегнул ремень и соскочил, не дожидаясь остановки карусели.
— Здорово? — спросил Женька.
— Во! — Я показал большой палец, а сам за красным плащом наблюдаю. — Может, пойдем, — шепнул Женьке, — за этими девчонками? Они вдвоем были.
— А! — поморщился Женька. — Зачем они нужны!
Я вспомнил нашу Таньку — председательницу отряда и тоже поморщился:
— И правда, ну их. Еще связываться!
А Женька сделал серьезное лицо и тихо говорит:
— Есть дело интересное. Пойдем?
— Куда? — спрашиваю. — Какое дело?
— Сам увидишь.
Мы свернули на тихую боковую аллейку и мимо кустов сирени с крупными, набухшими почками пошли к мостику через ручей. Вода в ручье была мутная, текла быстро. За мостком, метров через двести, — река. Туда и бежал ручей. «Может, на реку, — думаю, — ведет меня Женька?» Я хотел остановиться, посмотреть — холодная ли вода в ручье, а Женька сказал:
— Что ее смотреть? Пошли. Уже скоро.
— Да куда ты? Скажи?
— Иди, не пожалеешь… Ты парень как, не из трусливых, или, может, боишься?
После такого вопроса — кому не станет боязно! Только я и вида не подал.
— Ладно, чего об этом разговаривать. — И сам уже тороплю: — Идем! Где там интересное?
— А вот, — говорит Женька и показывает на синий киоск, наглухо заколоченный спереди досками.
— Ну и что?
— Там дверь на честном слове держится… А кругом, видишь, — Женька оглянулся, — никого. Глухое место.
— Ну и что? — снова спросил я.
— Дверь посильней нажать — откроется.
— А что там? — Мне все-таки было страшновато.
— Да ничего. Летом водой торговали.
— Если ничего нет, так зачем же…
— Чудик! — тихо засмеялся Женька. — В том и дело, что нет ничего. Просто так залезем, и никто нас не увидит. Трусишь, что ли?
— Почему? — фыркнул я. — Не трушу… Ну давай, поглядим.
И верно: под нашим сильным нажимом в замке что-то хрустнуло, дверь со скрипом открылась. Мы еще раз оглянулись и вошли внутрь. Дверь за собой снова прикрыли, но она заскрипела так, что мне показалось, будто весь наш город услышал этот ужасный скрип.
В щели досок проникал свет, и мы разглядели прилавок, трубу с краном, внизу под прилавком стояли три запыленные пустые бутылки.
— И что? — спросил я шепотом.
— Давай бутылки кокнем? — сказал Женька.
Он взял бутылку и ударил донышком по железной трубе. Донышко отскочило.
— А ты попробуй.
У меня получилось еще лучше: бутылка разлетелась на несколько частей.
— Тише, ты, — сказал Женька и так хватил по трубе новой бутылкой, что та разлетелась вдребезги.
Потом, отдуваясь от натуги, мы вдвоем отогнули трубу в сторону, вывинтили и бросили кран. Хотели еще отодрать желтый пластик с прилавка, но пластик прибит был крепко, и мы оставили его в покое.
— А что еще? — деловито спросил я.
— Да что хочешь, то и делай, мораль никто читать не будет, — ответил Женька, и глаза его метнули какой-то злорадный блеск. Потоптавшись на месте в тесном киоске, он вдруг решительно заявил:
— Хватит, — и плюнул на прилавок.
Я тоже плюнул, чтобы Женьку поддержать.
Мы прислушались и тихонько вышли из киоска, наглухо забитого на зиму досками.
Леон Шишкин
Семиклассники считали Леона человеком особенным. Для этого были свои причины. Необычно звучало его явно французское имя в соседстве с такой типично русской фамилией — Шишкин. Но дело, конечно, не только в имени. Дело в характере Леона. Здороваясь, он никогда не подавал руки. Так объяснял: «Ты же знаешь, я не враг тебе, и нечего проверять — ни ножа, ни камня в руке у меня нет». Завидя в туалете курильщика, Леон мог серьезным топом предупредить: «Проживешь на восемь лет меньше». Когда он в школьном буфете обедал и, облокотившись на шаткий стол, залил супом свои новые брюки, то написал в журнал «Наука и жизнь» и в Управление мебельной промышленности длинное письмо. В нем Леон доказывал, что столы и стулья промышленность должна изготовлять не на четырех ножках, а на трех, потому что опора на три точки — самая устойчивая. А кроме того, утверждал Леон, это сэкономит тысячи тонн лесоматериалов.
Зимой, в самый коварный гололед, Шишкин расхаживал по обледенелым тротуарам без всякой опаски: на каблуки цеплял скобочки с малюсенькими гвоздиками, которые, по его объяснениям, куда-то втыкались, увеличивали силу трения, — короче, предостерегали от падений. Эти скобочки смастерил он сам.
Леон Шишкин, несмотря на странности характера, был вполне компанейским парнем. Те же свои диковинные скобочки для ходьбы в гололед он охотно показывал ребятам, объяснял, как их сделать, как надежно крепить на каблуке.
В классе нашлись такие, что прямо-таки загорелись этим делом, другие пожимали плечами, а Сергей Санюхин, ладный парень, с длинными, вьющимися волосами, лишь брезгливо оттопырил губу, на которой уже заметно темнела полоска будущих усов:
— Это, мсье Шишкин, из самой Франции такая штукенция у тебя?
Сергей не терпел Леона, давно копил в душе глухую неприязнь и зависть к нему. Завидовал его уверенности, его непохожести на других и тому, как Леон независимо и спокойно держится с ребятами, с девчонками. Особенно раздражало Сергея отношение самих девчонок к Леону. Что нашли в нем? Липнут как мухи, записочки пишут, вздыхают. Даже Лёля Нефедева, первая красавица класса, и та млеет перед ним.
Расчесывая дома перед зеркалом свои пышные кудри, Сергей, бывало, не раз искренно удивлялся: слепые они, что ли, эти девчонки — не видят, кто настоящего внимания достоин. Разве сравниться мозгляку Шишкину с ним, Сергеем Санюхиным, или просто Санюхой, как ласково называют его друзья! Рост, плечи, глаза, широкий лоб — мушкетер! Еще бы шпагу на бок да плащ на плечи, ух! — он бы из Леончика бифштекс приготовил, по всем правилам французских мушкетеров!
В один из дней мая, когда уже и сказать было трудно — то ли весна кончилась, то ли началось лето, и когда в классе сидеть за партой стало вовсе невмоготу, неприязнь к Леону переросла у Сергея в чувство, близкое к ненависти.
Случилось это в четверг. Разнесся слух, что с пятого урока отпустят. Будто у англичанки скорая помощь забрала в больницу мать. Причина серьезная. Разве до уроков англичанке!
Слух разнесся, а точно ли это — никто не подтвердил. Больше всех Сергей беспокоился: это же идиотизм, в такую погоду сидеть и ждать — придет, не придет. Агитировал он усердно, даже сказал, что не пожалеет трешки, и все качели и самолеты в парке будут их.
Похоже, все ребята клюнули на Серегину трешку. Да и многие девчонки не прочь были погулять по буйно зазеленевшему парку.
Едва кончился четвертый урок, Сергей подбросил вверх портфель и кинул боевой клич:
— Гвардейцы! Что подсказывает тактическое мышление? Вперед! На штурм колеса обозрения и качелей — за мной!..
На другой день были серьезные неприятности. В особенности для Сергея Санюхина — как организатора коллективного побега. Оказалось, что с урока ушли не все. Учительницу английского языка дождались девять человек. Восемь девчонок и Леон.
— Та-ак! — вернувшись из кабинета завуча и вытирая со лба пот, протянул Санюха. Это «та-ак» относилось к Леону. — Капальщик! Предатель! Восемь девок, один я!
Дело было во время перемены, в коридоре. Леон соскочил с подоконника, и сразу стало видно, что ни гневного вида Санюхи не устрашился он, ни того, что ростом был ему лишь по бровь и в плечах тоньше. Леон близко подошел к Сергею и смял в горсти его рубашку. Сказал, сузив темные глаза:
— Я подписку давал, что побегу за тобой? Обещал? За трешку хотел всех купить? — И, разжав пальцы, чуть толкнул его к стене, усмехнулся: — Капать на такого! Слишком много чести тебе!
И все это произошло в присутствии ребят, затихших, напряженно ожидающих, чем кончится стычка.
Не хватило Сергея на драку. Каким-то шестым чувством понимал: верх будет не за ним.
— Ладно! — с угрозой сказал он. — Этот разговор из тактических соображений перенесем на другой раз.
На уроке он с ненавистью смотрел в спину Леона, сидевшего за второй партой и, казалось, уже забывшего о столкновении в коридоре. Его дело, пусть забывает. Но не забыл он, Санюха. Не забыл, и дай срок — напомнит, обязательно! Да, надо отомстить. Непременно! Вот как только? Драка? Не то — мелко, старо. Что-то похитрей надо. Позаковыристей… А если от Лелькиного имени написать записку? Признание в любви… Ну и что? Может, она уже писала ему. Только разве он человек? Автомат! Ему и на красивую Лельку начихать, и на записку ее… А если наоборот; он ей напишет? Это, пожалуй, похитрей, но… тоже не очень интересно… «Стоп, стоп, стоп, — сказал себе Санюха и почесал темный пушок под носом. — Кажется, придумал…»
И ведь придумал! План его состоял в том, чтобы Леон написал записку не красивой Лельке, а Маше Кротовой. «Это будет класс! — ликовал Санюха. Этой Машке Белухе наверняка никто в жизни не писал записок. Да и кто на нее посмотрит! Лицо белое, волосы белые… Потому Белухой и прозвали. А некоторые еще Белкой зовут. Может, потому, что глазенки черные, как у белки, а может, потому, что аккуратистка и общественница — крутится как белка. Ну, это будет, действительно, класс! И даже не записку пусть напишет, а целое письмо. Вот смех! Уж она-то без памяти влюблена во французика. Наверно, только для него и гладит свои воротнички и фартук с кружевами. И вчера на английском, конечно, ради любимого Леончика осталась. Нет бы вместе с другими девчонками сбежать с урока, в парке погулять. Как же, сбежит! Ей лишь бы к Леончику поближе! Вот пусть и разбираются потом. Санюха от удовольствия потер под партой руки. Пусть разбираются… англичане с французами!»
Затея с письмом для Маши Кротовой, пришедшая Санюхе в голову, так воодушевила его, что он тут же мысленно принялся сочинять послание для «любимой».
Окончательно с этой нелегкой работой он справился только дома. Больше страницы получилось. Писал таким же характерным почерком, с резким наклоном вправо, как пишет Шишкин на доске. Сергей запечатал письмо в красивый конверт и справа от букета синих васильков вывел буквы «К. М.».
Подсунуть Кротовой письмо удалось без всяких хлопот. Дежурил в классе Толик — лучший дружок Санюхи. Толика и еще некоторых преданных ребят Сергей, конечно, посвятил в свою тайну. На последней перемене Толик выгнал всех из класса, достал из парты портфель Кротовой и сунул конверт между учебниками.
По тому, как спокойно сидела за своей партой Белуха, Сергей понял, что письмо она еще не обнаружила. «Ничего, — злорадно усмехнулся он, — не сегодня, так завтра, когда станешь делать уроки, найдешь. Еще успеешь нарадоваться!»
Санюха не ошибся в расчете. Маше Кротовой письмо попалось на глаза утром в воскресенье. Екнуло у Маши сердце. На конверте буквы — «К. М.» Ей. Да и кому же еще, если конверт не где-то лежал, а у нее в портфеле. Но от кого? Что там? Даже и распечатывать было страшно. Наконец, осторожно, словно боясь поранить букет синих васильков, оторвала узенький краешек конверта.
От первых же слов кровь ударила в голову: «Милая Машенька! Так давно собирался написать тебе, и вот решился. От тебя, видно, никогда не дождаться мне заветных слов. Другие девчонки столько уже записок мне написали. Даже Леля Нефедова прислала, дружбу предлагает. А зачем мне это? Я все от тебя жду. Потому что ты лучше всех. И лучше Нефедовой, хоть она и красивая. Что в моем сердце происходит, я и сам не знаю. Но только я уже давно думаю о тебе. Машенька, может быть, ты не веришь тому, что я пишу сейчас. Все считают, будто я на девчонок — ноль внимания. Это правда. А ты — исключение.
Очень хочу поговорить с тобой, погулять. Приходи, если ты согласна, завтра, в воскресенье, в парк. Буду ждать в шесть часов у пруда, где лебеди. Твой Л. Ш. А чтобы не сомневалась — Леон Шишкин».
Машино лицо, шея, даже плечи, перехлестнутые узорчатыми шлейками сарафана, были красны, горели, словно обожженные огнем. Первый раз она пробежала строчки так быстро, что не все поняла. Замерев, стиснув пальцы, прочитала второй раз, третий…
Если бы вдребезги разлетелись в окне стекла, обрушился потолок — она бы, наверное, так не поразилась. Леон, сам Леон — умный, благородный, необыкновенный, романтический — написал ей письмо. И какое! Вряд ли даже Леля Нефедова со своим прекрасным кукольным лицом получала такие письма.
Уроки Маша не могла делать. Она ходила по яркой комнате, которую через широкое окно заливало уже не одно, а по крайней мере с десяток солнц. А небо! Разве было оно когда-нибудь таким синим! Ей написал Леон! Из всех выбрал только ее! Но почему? Неужели то, что чувствует она сама, передалось и ему? Разве так может быть?
Маша снова схватила письмо. Перечитала. Вдруг ее поразила строка: «Потому что ты лучше всех». Лучше… Почему он так написал? Это же неправда. Ведь сколько раз, смотрясь в зеркало, она до боли закусывала губы. Ей все не правилось в себе. Так что же, врало зеркало? Маша торопливо подошла к шкафу, открыла дверцу. В блестящем прямоугольнике зеркала увидела свое отражение. Ладно, фигура не в счет. Не было бы фигуры, сама не пошла бы записываться в танцевальный кружок Дома пионеров. Третий год танцует. Две грамоты со смотров. Но лицо. Где оно? Нос широкий. А для чего эта глубокая ямочка на подбородке? Но самое ужасное — брови. Ах, какие у Нефедовой брови! Темные, пушистые, серпиком. А это что? Может, по рисунку и неплохо, но цвет! Летом, когда лицо загорит, еще как-то можно мириться. А сейчас… Белуха! Ну что делать, не краситься же в четырнадцать лет! А если слегка? Потом можно все стереть.
Маша оглядела мамину парфюмерию: помаду, тушь для ресниц и бровей, пудру, тени всякие…
«В парке зайду в кустики, — подумала она, — и чуть-чуть подкрашусь. Разве это какое преступление?..»
В парке Маша неожиданно поймала себя на том, что согласие на предложение Леона родилось в ней как-то само собой. Вроде и не думала об этом, а вот… Это ведь называется «свиданием». Ну и что ж, пойдет на свидание. Это же Леон пригласил. Умный, хороший, добрый, милый Леон.
Ощущение радости, новое, незнакомое, переполнявшее все ее существо, требовало какого-то выхода, доброго дела, словно она спешила заслужить право на эту огромную и такую неожиданную радость.
Перемыть посуду и убрать в квартире — этого было ей мало. Сбегала в магазин за продуктами, помогла матери развесить во дворе белье. Про заданные на понедельник уроки и говорить нечего — все было написано, решено, повторено. Потом выгладила школьную форму и, с особой тщательностью, передник, обшитый кружевами. А еще погладила белую с короткими рукавами и синими карманами кофточку. Она очень шла к ее узким голубым джинсам. Вполне можно было надеть кофточку — малыши бегали во дворе в одних трусиках.
— Да что с тобой, Машенька? — с удивлением глядя на принарядившуюся дочку, сказала мать. — Ты сегодня сияешь, как солнышко.
— Весна, — с загадочной улыбкой ответила Маша. — Я пойду погуляю, мама. Что нужно, я все сделала.
— Да уж куда больше! Всю квартиру перевернула.
— Так я погуляю?
— Конечно, доченька.
— Может быть, в парк схожу.
— С Наташей пойдете?
— Наверно… В парке, говорят, красиво. На карусели покатаемся…
— Деньги у тебя есть?
— Целый рубль, мама. Серебряный. Так я пошла.
Махнув на прощанье белой сумочкой, Маша скрылась за дверью. Кроме серебряного рубля в сумочке у нее лежало зеркальце и еще кое-что, прихваченное из маминой косметички.
К подруге она, конечно, не пошла. И на трамвай не стала садиться. Две остановки — долгая ли дорога! До шести часов еще двадцать минут. А пройтись по солнечной улице, мимо нарядных витрин, пестрых киосков, взглядывать в незнакомые лица прохожих, слышать обрывки чужих разговоров и музыку, льющуюся из окон, и веселый воробьиный гомон в листве над головой — это же так чудесно! Она шла по улице, и все в ней пело, и каждой своей жилкой она чувствовала упругую легкость, похожую на полет.
Впереди показались желтые, пузатые колонны входа в городской парк культуры и отдыха — сооружение, далекое от изящества и хорошего вкуса. Но сейчас даже эти неуклюжие колонны, с отвалившимися кусками штукатурки, показались Маше красивыми. Она вошла в парк, свернула к густым кустам акации, даже расстегнула сумочку — но вдруг устыдилась: а надо ли? Ведь никогда же до этого не красилась, а вот… все равно понравилась Леону. Пусть будет как есть! Повесив на локоть белую сумочку (так, ей казалось, она сможет выглядеть более независимой), словно прогуливаясь, Маша не спеша двинулась в глубь парка.
Пруд с лебедями был недалеко. Свернув с главной аллеи, она увидела голубую воду и четырех неподвижно застывших лебедей. Красивые птицы. Круто выгнув длинные шеи, лебеди будто говорили: смотрите на нас, любуйтесь. Но Маша первым делом взглянула налево, направо, где по берегу прогуливались еще немногочисленные в этот час отдыхающие. Она бы, наверное, и в огромной толпе узнала Леона. А тут секундного взгляда было достаточно, чтобы убедиться: Леона среди гуляющих нет. Видно рано пришла. Что ж, пока можно на лебедей посмотреть.
Походкой еще более неспешной она шла по берегу, изредка бросая взгляды по сторонам. «Как стыдно ждать, — подумала она. — Хорошо, хоть не одна тут». У парня с ракетками в целлофановом мешочке спросить время Маша постеснялась. Зато на руке встречной женщины она успела разглядеть стрелки часов — было уже начало седьмого.
Не верилось, что Леон, такой во всем аккуратный, точный, мот опоздать. Наверно, что-то случилось.
Вдруг к Маше подбежал мальчуган лет восьми в зеленых шортиках. В руке он держал конверт.
— Ты Кротова? — спросил мальчуган.
— Да, — растерянно ответила Маша.
— Возьми! — сказал он и побежал обратно.
Куда он побежал, Маша даже не посмотрела. На конверте стояли те же буквы — «К. М.». «Так и есть, значит, что-то случилось, не смог прийти», — тревожно подумала она.
Конверт был заклеен, и ей снова пришлось обрывать кромку. На листке было всего две строчки, написанные тем же почерком. Но эти две строчки выстрелили в нее, как два ружейных ствола.
«Ха! Вырядилась, прибежала! Да кому ты нужна, курица общипанная! Л. Ш.»
Маша не помнила, как шла домой, не знала — светило ли солнце или хлестал дождь.
В понедельник в школу она не явилась.
Дежурившая в этот день Леля Нефедова на вопрос математички: «Что с Кротовой?» — лишь пожала плечами… Однако уже перед началом второго урока, докладывая географу об отсутствующих в классе, Леля по поводу Кротовой, едва сдерживая улыбку, добавила игривым голосом:
— Нам неизвестно, почему Кротовой нет, но говорят, у нее — переживания какие-то…
А через несколько минут на вторую парту Леона пришла записка с одним словом и тремя восклицательными знаками: «Поздравляю!!!» Почерк показался ему знакомым. Он оглянулся на четвертую парту у окна и встретился с таким лукавым взглядом Лелиных глаз, что никаких сомнений относительно авторства записки у него не оставалось. Но что могло значить это многовосклицательное послание? С чем Нефедова поздравляет его?
В конце концов, решив, что это какой-то глупый розыгрыш, Леон принялся слушать географа. На перемене он сразу же побежал в буфет и совсем бы забыл о записке, если бы дежурная Леля не поспешила туда же — съесть сладкую булочку с чаем. Она сама подошла к Леону и, смерив его любопытным взглядом, сказала:
— Что-то я слышала, Леончик… — И белыми зубками Леля откусила кусочек булки.
— С этим и поздравила?
— Так, значит, это правда?
— Что — «это»?
— Ну… это. Ты лучше знаешь.
— Что знаю? — Леон со стуком поставил стакан. Капелька молока упала на Лелин рукав отглаженного платья.
— Потише не можешь? — сбив розовым ногтем белую капельку, сказала она. — И не кричи! Сейчас дадут звонок — пожалуйста, уступаю тебе место. Можешь сам доложить, почему Кротова не пришла в школу.
— Слушай, красотка! — Сжатые пальцы Леона побелели. — Ты что крутишь? Рассказывай!
От такого взгляда его и голоса съежишься. Нефедова поспешила напопятную.
— Леончик, сама не знаю. Правда, не знаю. Говорят что-то. А что? — Она покрутила опрятной головкой. — Ты бы у ребят узнал. Они там все шепчутся о чем-то.
Не допив молоко, Леон вышел из буфета. В коридоре, у своего класса действительно заметил, что на него с любопытством посматривают, оглядываются. Даже шепоток различил. В кучке ребят он увидел Костю Иванова, с которым дружил, бывал у него дома. Леон взял Костю за руку и повел в конец коридора. На лестнице он спросил:
— Ты-то можешь мне сказать?
— Чего сказать? — словно не понял Костя.
— О чем вы шепчетесь?
— А о чем?
— Обо мне и Маше Кротовой. Так?
— Ну да, — подтвердил Костя.
— Что да?
— Ну… ведь свидание ты ей назначит.
— Я назначил? — Леон опешил.
— Ты, — кивнул Костя. — В парке. А Маша теперь в школу почему-то не пришла. Леон, ты в кино ходил с ней? Или на танцы?
— И ты поверил?
— А чего же! Вообще-то, она в тебя втюрилась насмерть…
— Костя… — Леон так сильно сжал его руку, что тот скривился от боли. — Костя, ты меня другом считаешь?
— Факт.
— Тогда не трепи языком. А то… слово чести, забуду, как зовут тебя. И… не трогай Машу.
Остальные уроки Леон просидел, ни на кого не глядя. Взяв портфель, первым вышел из класса.
Улицу и дом, где живет Кротова, Леон знал. Лишь о номере квартиры не имел представления. После разговора с Костей он сразу решил, что должен все узнать у самой Маши. Выпытывать что-то у ребят, собирать слухи он посчитал для себя унизительным.
Разыскать Машину квартиру оказалось проще простого. На его вопрос первая же малышка, крутившая скакалку, не раздумывая, показала на балкон третьего этажа:
— Маша-солнышко? Видишь, где лыжи? Там живет. Она моего котенка лечила.
Так Леон узнал еще одно Машино имя. Солнышко. Это, пожалуй, больше ей подходит.
Балкон от лестничной клетки — справа. Ясно, и номер квартиры не нужен. Леон поднялся на третий этаж и позвонил у двери, обитой коричневой клеенкой. Он собирался нажать кнопку второй раз, когда услышал чьи-то шаги. Однако замок отпирать почему-то не спешили. Он снова протянул было вверх руку, но тут голос за дверью произнес:
— Не звони. Я не открою.
Голос был глухой, сердитый, и все же Леон узнал его.
— Маша, это ты?
— Чего тебе надо?
Только сейчас на темной клеенке он заметил круглый глазок. Значит, она его видит. И не хочет открывать?
— Маша, мне нужно у тебя спросить…
— Тебе нечего спрашивать.
— Ты можешь на минуту открыть?
— Уходи!
— Да в чем дело? — теряя терпение, зашептал он в глазок, словно это было переговорное устройство. — Ты можешь объяснить?
— Что объяснять… Ты все написал.
Наверху хлопнула дверь. Кто-то спускался по лестнице. Леон сделал вид, будто что-то ищет в портфеле. Показалась старушка с белым лохматым пуделем. Собачонка натянула в его сторону поводок и визгливо, противно тявкнула.
— Мальчик, ты к кому?
— Здесь Кротова живет. Маша. — Леон покраснел. — Мы учимся вместе.
— Цезарь, пошли! — дернула поводок старушка.
Когда шаги ее затихли, из-за двери донеслось:
— Ты обманщик. Ты злой. Зачем написал такое письмо?
— Да не писал я никакого письма.
— Не верю. И второе письмо твое. Тем же почерком написано.
— О чем хоть письмо? — совсем растерявшись, громким шепотом спросил он.
Маша долго не отвечала. Он услышал всхлипывание за дверью.
— Ты можешь показать эти письма?
— Зачем? — наконец спросила она.
— Посмотрю на почерк.
Ее снова долго не было слышно.
— Я не хочу показывать. Это… твой почерк.
— Не может быть. Покажи.
— Не хочу.
— Но почему? Не буду читать, только на буквы взгляну.
— Хорошо… Одну строчку покажу.
Через минуту она вернулась. Дверь приоткрылась настолько, что в нее и карандаш не просунулся бы. Из щели показалась узкая полоска бумаги. Как только Леон вытянул эту полоску, дверь со стуком закрылась.
— А теперь уходи. Уходи! — И он услышал, как Маша снова заплакала.
На бумажной полоске Леон прочитал: «А чтобы не сомневалась — Леон Шишкин».
Буквы узкие, наклоненные резко вправо. В самом деле, похоже на его почерк… Но «ч»! Он же никогда не закручивает кверху хвостик. Даже смешно! И «к» пишет совсем не так. Чья же это работа?..
Снизу послышалось визгливое тявканье Цезаря. Леон торопливо свернул бумажную полоску, сунул в карман и поспешил на улицу.
Не пришла Кротова и на следующий день. Сергей Санюха был недоволен. Шепотков и веселых взглядов в сторону невозмутимого, бесчувственного Шишкина ему было недостаточно. Как-то иначе представлял Санюха продолжение этой комической истории. Хотя бы скорей Белуха приходила. Может, еще и состоится главное представление.
А Леон Шишкин в самом деле выглядел совершенно спокойным. Разве только задумчивей стал. И смотрит как-то уж очень внимательно, без улыбки. А так — обычный Шишкин. Сидит за партой, пишет в тетради, у доски отвечает, ходит, разговаривает. И к Сергеевой парте подошел, словно и не было недавней стычки в коридоре, о баскетбольной секции что-то спросил, в раскрытую тетрадку его посмотрел, четырехцветной ручкой заинтересовался. Даже выщелкнул красный стерженек. Попробовал, как пишет.
— Импорт?
— Само собой, — сказал Сергей. — Венгрия!
Леон и зеленый цвет попробовал. Красивый. Как трава после дождя. Но ничего не сказал, не похвалил. Вдруг положил венгерскую ручку на парту и, сжав губы, зашагал в коридор.
Если бы Маша Кротова знала, что всему классу известно и о письме, и о том, что ходила в парк на свидание: она бы, вероятно, и в среду, и в четверг не решилась появиться в школе. Но Маша всего не знала. А на занятия все-таки надо было ходить.
В среду она пришла бледная, похудевшая, глаз не поднимала.
Леон, сидя на своей парте и украдкой, через плечо, взглядывая на ее склоненную голову со светлыми, гладко зачесанными волосами, горько, до болезненной остроты жалел ее. И вместе с этим чувством в нем уже натягивалась струна гнева к Санюхе, который так беззаботно развалился на парте и так, наверное, восхищен своим искусством «тактического мышления».
Леон все обдумал. На пятом уроке он произнес про себя итоговую, книжную фразу: «За все должно быть заплачено». И уже до самого звонка сидел, стиснув пальцы, мысленно повторяя: «По-другому нельзя. Иначе никогда себе не прощу!»
Как только за учительницей закрылась дверь, Леон вышел к доске и поднял руку:
— Ребята, у меня сообщение!
Были в классе такие, кого заставить полчаса посидеть на собрании — задача потрудней, чем удержать в кулаке воду, а тут самые непоседливые притихли, о портфелях забыли. Так просто Шишкин выступать не будет.
— Костя, закрой дверь, чтоб не мешали.
И другу Косте интересно, что затеял Леон — с готовностью заклинил дверную ручку стулом.
Все ждали. На лицах — любопытство. Одна лишь Кротова, не дыша, с испугом смотрела в парту. К ней и обратился Леон:
— Кротова, тут про нас третий день шепчутся. Да ты не бойся, все знают. Будто я письмо написал тебе, пригласил на свидание. Но… — Леон вздохнул, словно о чем-то сожалея, — но письма тебе я не писал. И не знаю, что в нем. И мое бы какое, в общем, дело, только под письмом фамилия моя поставлена. А это уже — подлость. И за это надо отвечать. Отвечать должен Санюхин.
— Ты докажи! — рванулся из-за парты Сергей.
— Все доказано, — спокойно ответил Леон. — Экспертиза не нужна. Точно знаю, потому и говорю. В общем, так, Сергей: извинись перед Кротовой.
— Перед кем? Перед Белухой? Ха-ха! Ребята, вы слышите?!
Леон подошел к Сергею вплотную:
— Ты извинишься перед Машей. Понял? Иначе… я изуродую тебя. Может, даже убью.
Если бы он прокричал угрозу, затопал ногами, замахнулся, то и Санюха сорвался бы на крик. Не так бы еще затопал, замахал кулаками. Но Леон произнес эти страшные слова, не повысив голоса, каждый слог выговорил четко, будто по отдельности. И понял Сергей: проиграл, надо отступать. Но отступать достойно.
— Шуток ты не понимаешь, Шишкин, — с наигранной веселостью сказал он. — Это просто шутка. Майская, веселая шутка.
— Ты извинись, — напомнил Леон, не спуская с Санюхи тяжелого, немигающего взгляда.
— Кротова, — улыбаясь, спросил Сергей, — ты-то понимаешь, что это шутка?
Все пять уроков Маша сидела бледная, как бумага. Сейчас лицо ее горело. Но что она могла сказать? Ничего не могла.
— Ладно, Кротова, если моя шутка была тебе неприятна, то я… сожалею.
— Ну и тип ты, Санюхин! — брезгливо сказала со своего места Леля Нефедова.
— Даже на это смелости не хватает! — криво усмехнулся Леон. — Ты можешь извиниться как мужчина?
Злой скороговоркой Сергей выпалил:
— Кротова, я приношу тебе самые искренние и горячие извинения! — И обернулся к Леону. — Все? Доволен?
— Так и быть, посчитаем, что извинился. С Машей в расчете. А теперь — со мной! — И Леон со всего размаха влепил Санюхе пощечину. — Теперь все, — сказал он. — Собрание закрыто.
Не больше чем на минуту задержался Леон. Это когда рассвирепевший Санюха хотел кинуться на него, но опять же струсил, сошел на базарный крик, дешевые угрозы. Впрочем, Леон уже не слушал его — поспешил к школьному выходу.
На минуту замешкался, а Маши и не видно нигде. Убежала. Здорово, наверно, переживает. Кротову он догнал почти у ее дома. Не оборачиваясь, она сказала:
— Спасибо за спектакль!
— Маша, я не мог по-другому. Неужели не понимаешь! Маша, ну чего ты так бежишь?
— Я просто иду.
— А потише никак не можешь?
— Зачем? И зачем ты меня догнал? — она по-прежнему не смотрела на него. — До свидания. Вот мой подъезд.
— Я знаю.
— Ах да! Это же тебя облаял Цезарь. До свидания! — И она скрылась в дверях.
И в школе Маша сторонилась Леона. Кажется, все в классе одобряли смелые действия Леона. Что там одобряли — шумно восхищались. Даже Серегины приятели дружески подмигивали Леону. Лишь два человека упорно не смотрели на него: злой, как пантера, Санюха и Маша. Она-то почему сердится? Леон терялся в догадках. Ведь ради нее, главным образом ради нее, так решительно обошелся он с Санюхой. Правильно, так, конечно, и надо было. Но если бы не Маша — вряд ли решился бы.
На третьем уроке от красивой Лели он снова получил записку: «Браво! За таких можно в огонь и воду! Что, герой, ответишь на это? Л…я». И без интригующих «Л…я» Леон прекрасно знал, кто от него просит ответа. Но Леле записку писать не стал, хотя, подумав, и оторвал четвертушку последней страницы из тетрадки по биологии. Леон вообще не писал записок. Девчонкам не писал. Эта была первая. Буквы он старался выводить без наклона. «Маша, мне обязательно нужно поговорить с тобой. Леон».
Свернув записку, решительно заадресовал: «Кротовой».
Когда через минуту Леон посмотрел в сторону ее парты, то поразился: ему показалось, что Маша вот-вот заплачет. Да что с ней такое?..
На этот раз после окончания уроков Маше не удалось убежать от Леона.
Они шагали по тротуару. Леон хотел идти рядом, но Маша убыстряла шаг, и он опять оказывался чуть позади.
— Как и вчера: на пожар бежишь!
— Леон, — Маша, наконец, пристально взглянула в его лицо. — Что тебе нужно от меня?
— Мне чего нужно? — удивился он. — Я не знаю. Мне ничего не нужно.
Он в самом деле не знал этого. Просто хотелось идти рядом, говорить о чем-нибудь.
Как быстро дошли! Еще два дома, и снова скажет «до свидания».
— Маша, пойдем по этой улице? — показал он направо, где, чуть спускаясь под уклон, тянулась тихая улочка с невысокими домами, зеленой травой по обочинам и толстыми старыми деревьями. — Маша, ну правда, пойдем по ней? Смотри, какая симпатичная улица.
— Зачем? — без прежнего металла в голосе сказала она. — Это улица Салтыкова-Щедрина. Очень длинная улица. Там в конце овраг.
— На овраг посмотрим.
— А все-таки, зачем? — опять спросила она. Однако шаг немного сбавила. — Ну… если так хочешь, можем пойти. Там еще ключ с холодной водой есть. Чистая вода.
— Видишь, как здорово — студеный ключ! Я и не знал.
— Хорошо, — кивнула Маша. — Идем.
Первый раз Маша послушалась его. Они шли, и Леон с интересом ко всему приглядывался.
— Смотри — гусь! — радостно сказал он. — Как в деревне. А вон кошка рыжая на заборе!
— Леон, — не поглядев на кошку, вздохнула Маша, — признайся: ведь ты просто жалеешь меня. Правда?
— Что ж здесь плохого?
— Я так и знала. Жалеешь. Только жалеешь. И все. Я не пойду дальше! Это плохо, это ужасно и отвратительно — просто жалеть.
— Ты глупости говоришь. — Леон нахмурил брови. — Чего это жалеть тебя? Ты разве калека?
— Может быть, хуже.
— Маша! Не говори так. Ты — вот какая девчонка! — Он показал большой палец.
— Я? — поразилась она. — Неправда. Ведь раньше ты не замечал меня.
— Это почему же? И раньше замечал.
— Врешь, Леон! Не замечал.
— А ты откуда знаешь?
— Видела. А сегодня записку прислал. Снова из жалости?
— Хватит тебе о жалости!
— Думаешь, не обидно? Я первый, первый раз в жизни получила записку.
— А письмо?
— Я уйду. — Она остановилась. Покусала губы и попросила: — Никогда не говори об этом письме.
— И я первый раз написал записку. Маша, а я знаю, как тебя зовут. Мне девчонка сказала с прыгалкой — «Маша-солнышко». Такая умная девчонка. Сразу и балкон показала с лыжами. Ты кошку ее вылечила?
— Не кошка это — котенок маленький. Просто ухо зеленкой ему помазала.
— Все равно — операция, — улыбнулся Леон. — Наверно, хочешь врачом стать? Угадал?
— Нет, — сказала она. — И вообще, не знаю еще, не решила. Мне, например, очень нравится, когда дома строят. Нам в прошлом году квартиру дали, так бабушка плакала от радости. А ты кем будешь?
— Тоже не решил. Может, инженером. Или в военное училище пойду… А может, носильщиком стану. Хорошее дело — носильщик! Дай потренируюсь. Вон какой портфель у тебя пузатый. Серьезно, давай понесу, а то устала.
— Нет! — Она резко отстранилась, словно он собирался силой отнять ее коричневый, с блестящими замочками портфель. И повторила: — Нет, я сама.
— Хорошо, хорошо, сама. Только отойди, пожалуйста, оттуда, крапивой обстрекаешься.
Сам Леон шел по тропинке, выбитой в зеленой траве, свободную руку держал в кармане куртки, молчал.
Маша даже устыдилась, ругнула себя: «Кошка дикая!» И правда, чуть в крапиву не влезла. Она виновато и примирительно улыбнулась Леону.
— Ну ты и устроил вчера! Надо же, при всех: «Санюха, извинись!»
— Так ты вчера не рассердилась? — живо спросил Леон.
— Я рассердилась ужасно. Я чуть не сгорела со стыда.
— Понимаешь, не мог я по-другому. Ну, никак не мог. Если такое уж прощать!.. Он же как оскорбил тебя! Пусть попробовал бы не извиниться! Я ведь точно узнал, кто сочинитель. Почерки сличал. Половину ночи не спал. Вспомню, как ты плакала за дверью…
— Значит, все-таки пожалел меня? — Она снова метнула взгляд на Леона. — Пожалел!
Он разозлился:
— Опять ты про жалость!
— Опять! — подтвердила она. — Ты из-за чего ходишь со мной? Из-за чего? Ну говори, разве тебе интересно?
— Правильно. — Леон вдруг просветлел. — Точно. Как же я не сообразил! Мне интересно с тобой. Даже очень интересно. Давай до вечера будем идти? И завтра пойдем. А скоро — каникулы. Вот красота! На речку вместе ходить, в лес, в парк.
В парк! Ее словно огнем ожег недавно пережитый стыд. И те две короткие, ужасные строки.
— Я не верю. Я ничему не верю. Леон, ты хороший, добрый, благородный. Но я не верю.
— Не веришь? Значит, не веришь?.. — Он протянул ей свой портфель. — Подержи.
Леон подошел к забору и вырвал из куста крапивы высокий побег. Подняв рукав и стиснув зубы, он принялся хлестать себя по руке.
— Что ты! — крикнула она. — Перестань!
Где там! Он сорвал с крапивного куста верхушку с пятком острых, зубчатых листьев и сунул себе в рот. Леон прожевал листья и честно проглотил их.
— Вкусно!
— Ты с ума сошел!
— Знаешь, сколько витаминов!
— А если язык распухнет и говорить не сможешь? Вон как рука покраснела.
— Переживу, — сказал Леон и улыбнулся горящими губами: — Теперь веришь мне?
— Ох, и дурной ты!
— И не дурной, — сказал Леон. — Я просто немножко француз.
— Француз? — удивилась Маша.
— Рассказать? — спросил Леон.
Сколько раз девчонки гадали между собой, почему такое имя у Шишкина. А что толку? Поговорят — и все, никто же этого не знал. И вот сейчас собирается рассказать. Не кому-нибудь, а ей. Маша смутилась, и лицо ее порозовело.
— Расскажи, — кивнула она.
— Вот твоя бабушка заплакала, когда вселились в новую квартиру, а моя бабушка все двадцать серий проплакала, когда фильм про Великую Отечественную войну смотрела. Она почти три года в Германии была. Попала в облаву, и фашисты увезли ее в эшелоне. На заводе пришлось работать. Там со всей Европы работали люди. И подружилась моя бабушка с французским пленным Леоном. А Леон в подпольной организации состоял. Потом и бабушка в ней была. Они старались не столько работать, сколько вредить. Один раз удалось вывести из строя электрическую подстанцию. Кончилось, в общем, тем, что Леона расстреляли, а бабушка уже после победы вернулась с дочкой — моей мамой. А я уж так, по наследству, дедушкино имя получил… Видишь, сколько наговорил! — Леон улыбнулся. — А ты думала, что язык распухнет и не будет ворочаться.
— Спасибо, Леон, — сказала Маша.
— За что?.. А, ясно… Между прочим, тебе первой рассказал. Только тебе… Ух, губы печет! Язык ничего, а губы — прямо огнем. Далеко еще до ключа студеного?
— Уже близко, — обеспокоено сказала Маша и заторопилась: — Правильно, надо холодной водой ополоснуть.
— Тогда бежим! — сказал Леон. — Обожди. Ты мой портфель держала — теперь моя очередь нести.
Спорить Маша не стала. Отдала ему свой коричневый, с блестящими замочками портфель.
— Теперь все правильно, — кивнул он. — Теперь бежим!
И тропой, вьющейся по зеленому лужку, они побежали к оврагу со студеным ключом.



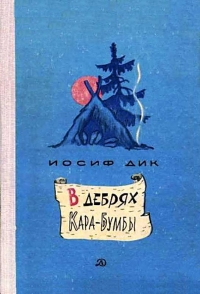

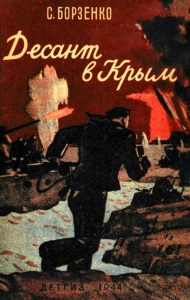
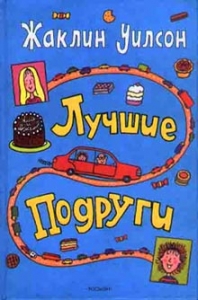
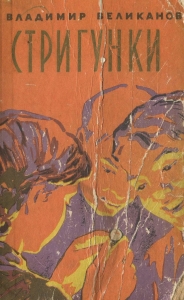




Комментарии к книге «Строчка до Луны и обратно», Владимир Андреевич Добряков
Всего 0 комментариев