Бийке КУЛУНЧАКОВА УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА
НАША СЕМЬЯ
Дорога жизни каждого человека начинается с детства, и потому, наверное, каждый из нас нет-нет да и оглянется назад, чтобы не потерять из виду это начало. Мы уходим из детства, но яркий свет его, словно маяк, не дает нам потом сбиться с правильного пути. И если, пройдя значительную часть дороги и оглянувшись назад, мы видим этот свет, то облегченно вздыхаем: «Значит, правильно иду». Если же нет его, не освещает он путь, то человек непременно заблудится и пойдет не в ту сторону. Продвигаясь вперед, он мучительно будет искать причину своих ошибок. Найдет ее — вернется к своему пути, а не найдет — так и суждено ему тогда до скончания дней плутать по чужим дорогам…
О начале жизненного пути всех людей — о детстве, из которого мы берем все самое доброе, все самое чистое, — я и хочу повести сегодня разговор. Детство — наша кладовая: в нем мы черпаем силу, когда устаем, оно дарит нам на всю жизнь неоценимые сокровища, и чем труднее детство, тем больше в нем оказывается доброты и человечности.
Семья наша считалась большой. И не только потому, что у нас было много детей, но еще и потому, что с нами жили брат и сестра моей мамы, Янибек и Сакинат. Хотя, по обычаю, это не полагалось (под одной крышей могли жить только близкие родственники со стороны отца), дядя и тетя в годы войны поселились у нас, да так и остались. А потом дядя женился, и его молодая красивая жена Марипат тоже стала жить в нашем доме.
Брата мамы Янибека мы называли нашакаем, а брата отца — акаем, хотя он тоже приходился нам дядей. Родственные отношения обозначались очень четко: материнская родня называлась по-своему, отцовская — по-своему, и мы, дети, сызмальства запоминали, кого как именовать.
Самая старшая из детей — это я, мне уже седьмой год пошел; сестренка Инжибийке помладше, ей недавно исполнилось четыре; потом братишка Бегали, ему еще и трех нет; а четвертому, Кендали, всего-то шесть месяцев.
Пока я перечисляла все наше семейство, вы, наверно, подумали, что дом у нас был огромный-преогромный. Ничего подобного. Был он низким и неказистым. Две небольшие комнатки, разделенные коридором. Вот и все. Окна одной из комнат выходили на восточную сторону, на улицу, где по утрам вставало солнце, а окна другой смотрели на запад, где каждый вечер солнце садилось. Стены из саманного кирпича, пол земляной, крыша камышовая. Взрослые, подняв руки, могли легко дотянуться до ее козырька. Зачастую, когда под рукой не оказывалось полого камыша, чтобы смастерить для детей дудочку или свисток, они выдергивали его из крыши.
В ауле, правда, у всех были такие дома, не только у нас. Даже у самого председателя колхоза. И не будь в ауле высокого красивого клуба, крытого красной черепицей, построенного на высоком каменном фундаменте, с покрашенным голубой краской крыльцом, я бы и не подозревала, что на свете бывают и другие дома, чем-то отличающиеся от нашего.
Однако никого это не огорчало. Потому что все жили примерно одинаково. Разве у кого-то были войлочные ковры поновее, а у кого-то подушек и одеял было поболее, чем у соседей.
В комнате, выходившей на восток и бывшей чуть просторнее, размещались отец, мать и мы, дети. Почти половину ее занимал тор — большое возвышение из саманного кирпича, накрытое циновкой и поверх нее застланное войлоком. Тор — это самое почетное место. В одном углу тора стоял массивный железный сундук, расцвеченный множеством узоров. Он был едва ли не главным украшением в доме. В сундуке мама хранила все наиболее ценное по тем временам, а время было послевоенное; ситцевые отрезы; наши новые платья; два-три еще не ношеных головных платка, предназначенных на тот случай, если придется кому-то что-то дарить; несколько расшитых узорами полотенец; шонтай — бархатную, всю в бисере, шкатулку, в которой лежали серебряные украшения, носовые платки. А поверх сундука складывалась высокой, почти до потолка, стопкой постель.
Войлочные ковры, которыми застилали тор, были черного, коричневого и реже белого цвета. Они делались из хорошей шерсти, были мягкими и теплыми. Чтобы уберечь их от вездесущих детей, коврами застилали лишь дальнюю половину тора, а ближнюю прикрывали циновкой, которой ой как доставалось от нас. Мы часто проливали на нее то чай, то суп. К счастью, циновка хорошо отмывалась и быстро высыхала и всегда, пока не истреплется вся, выглядела новенькой.
Чтобы голые стены не казались чересчур унылыми, мать от одного края тора до другого протянула красный ситец в крупных веселых цветах. Два окна в комнате, завешенные белыми кружевными занавесками, небольшие, зато на широких подоконниках свободно умещался портфель и даже можно было делать уроки. Но это будет потом, когда я пойду в школу. А пока на подоконниках лежали наши самодельные игрушки.
Слева, вплотную к тору, у стены стоял шкаф с потемневшими фанерными боками и дверцами. В него вмещалась вся наша посуда. В углу, сразу за дверью, находилась печь с широким, как ворота, отверстием. Зимой в ней пекли хлеб на большой жаровне, накрыв чугунным котлом и засыпав сверху горячими углями. Растапливали печь хворостом, кураем1, а потом подбрасывали кизяков. Топливо обычно заготавливали летом. Ходили с мешками в степь, где паслись коровы, и собирали кизяк. Между печью и шкафом красовалась длинная скамейка. Те, у кого имелся стол, обычно ставили на это место стол со стульями, но у нас стола не было, поэтому стояла скамейка. Земляной пол ничем не застилался, поскольку все равно все ходили в обуви. Такой пол не требовал особого ухода: хорошо подметался веником, мыть его не приходилось.
А вот комната, где жили Янибек и его жена Марипат, выглядела совсем иначе. Нам она казалась уютной и очень красивой. У них тоже были и тор, и печь. Но на торе у них не сундук стоял, а широкая никелированная кровать с блестящими шариками и колечками. Марипат застилала постель широким покрывалом с замысловатыми узорами и диковинными чудищами, вышитыми шелком. На кровати возвышались взбитые подушки в ситцевых наволочках. Весь тор устлан новыми-преновыми войлочными коврами, а стена с трех сторон тора, как и у нас, затянута ярким ситцем. Из такого же красивого ситца на окнах занавески. Шкаф для посуды тоже красивый, дверцы застекленные, сквозь них виднелись пиалы, чаши, которые так и сверкали, так и сверкали. А рядом с печкой не скамейка стояла, как у нас, а настоящие стол и стулья. На стенах, куда ни глянешь, развешаны вышивки. Тут тебе и всевозможные цветы с порхающими над ними бабочками, и звери всякие, и птицы. Ведь девушки в свободное время только рукодельем, считай, и занимались: и себе в приданое, и подружкам дарить перед свадьбой на память. Каждая вышивка — загляденье.
В комнате Марипат мне нравилось не только потому, что она была всегда опрятна, прибрана. Здесь я отдыхала. От детского плача и крика. Я сказала об этом маме, когда она поинтересовалась, не слишком ли часто бегаю я на чужую половину. Она призадумалась, опечалясь, а потом пообещала, что когда я пойду в школу, то буду делать уроки в комнате у Марипат. Я обрадовалась, потому что ждать этого мне оставалось не так-то и долго.
Все взрослые, и мама тоже, работали в колхозе. Чем они занимались, уходя из дому спозаранок, я толком не знала, но возвращались они, когда солнце уже садилось, и очень усталые. А дома убирали, стирали, чистили сарай, готовили еду, возились в огороде, и никогда эта работа не кончалась. Летом все это делалось во дворе. Домой заходили только спать. Мать и Марипат подолгу возились около печки, сооруженной напротив дома, неподалеку от порога. Марипат приносила из стога охапку курая, разжигала им печь и ставила на нее две кастрюли. В одной, той, что побольше, грели воду для стирки, в другой кипятили чай. Заварив чай, мама ставила варить мясной суп или пельмени. Если не было мяса, она готовила вареники с творогом или пекла пирожки с начинкой из свежих фруктов. И чай у нас был не такой, к какому привыкли все, а тоже особый. Он заправлялся сливками или молоком, в него добавляли также соль и сливочное масло.
Ужинать садились во дворе. К чаю подавали хлеб, сыр, помидоры. Чаепитие проходило весело. Взрослые о чем-то оживленно разговаривали, ведь они встречались только вечером. И нам, детям, без взрослых приходилось трудновато. Каждый из нас за ужином докладывал, чем занимался весь день. Докладывала, конечно, и я. Начинала с жалоб на Инжибийке, рассказывала о ее проделках. Все смеются, а по мне — так хоть плачь. Инжибийке мои жалобы мало трогали, она никогда не считала себя виноватой. Без всякого стеснения встревала в разговоры взрослых, даже тогда, когда ее не спрашивали ни о чем. Инжибийке без умолку могла болтать обо всем подряд: где играла, к кому из соседей забегала, у кого пила чай, что слышала, что видела. Она очень забавно копировала соседей, все так и покатывались со смеху. Сакинат, мамина сестра, говорила, что из нее обязательно выйдет артистка. От Инжибийке можно было узнать все аульские сплетни. По словам мамы, она заговорила, когда ей и шести месяцев не исполнилось. Вот и сегодня, к примеру, Инжибийке стала рассказывать про нашу соседку Мырас. Детей у Мырас не было, но почему-то в колхозе она не работала. Ссылалась на нездоровье, однако на больную эта полная, румяная молодая женщина вовсе не походила. Тем не менее она сидела дома. Чтобы лучше изобразить Мырас, худенькая Инжибийке вышла на середину двора, платье забрала в шаровары, рукава подвернула, а голову по самые уши повязала ситцевым платком, концы которого стянула на лбу в узелок, и они смешно торчали в разные стороны, как два рога. Оказывается, Мырас на окошке сарая каждый день оставляла в кастрюле вскипяченное молоко. Там, мол, прохладнее.
— И вот сегодня днем, сварив свежего чаю, она пошла за молоком, — рассказывает сестренка и показывает, как идет Мырас. — Смотрит, а кастрюля пустая. Тут на пороге появляется ее рыжая толстая кошка. Мырас давай бранить ее: «Ах ты такая-сякая, ах ты бесстыдница, выпила все молоко, хоть бы немного оставила. Обжора этакая! Убирайся с глаз моих!» А кошка смотрит на нее спокойно и ухом не ведет. Рассердилась Мырас еще больше, схватила хворостину и как огреет рыжую. Та — под лавку. А за сараем в это время такое дружное мяуканье раздалось, будто кошек там видимо-невидимо. Тогда Мырас еще и еще раз огрела хворостиной свою кошку: «Ах ты нахалка, это ты привела их!» Кошка опрометью бросилась из сарая, юркнула под стог курая. А Мырас — за сарай, чтоб и гостей своей кошки хорошенько хворостиной попотчевать. И что же видит? Вместо кошек кинулись от нее врассыпную ребятишки. Да еще и мяукали, убегая. «Ах озорники! Ах паршивцы!..» — кричит вслед им Мырас.
Когда я зашла к Мырас, она, бедняжка, сидела на тахте в обнимку со своей кошкой и плакала, что зря ее обидела, что не из-за нее, а из-за мальчишек не сможет она сегодня пить чай с молоком, — продолжала Инжибийке. — Я пожалела ее, взяла дома кружку молока и отнесла ей. Айбийке в это время кормила кур и ничего не видела. А то бы ни за что не разрешила.
Мне стало обидно, и я опустила голову.
Конечно, досадно, что я прозевала такой интересный случай. Но обиделась я не из-за этого. Зачем Инжибийке говорит неправду, неужели я пожалела бы для Мырас кружку молока? Я не была жадной, и если бы Инжибийке попросила, то я бы сама налила ей молока. Но она всегда сделает все без спросу, вот и на этот раз обманула меня, старшую сестру. Сколько раз обещала слушаться, но где там, все равно делает по-своему, наперекор.
После чая взрослые опять принимались за дела. Кроме отца. Он шел в дом и возвращался с домброй. Садился на свое место и принимался настраивать инструмент. Я подсаживалась к нему с Кендали на руках. Днем малыш был в яслях, смотреть за ним по вечерам было моей обязанностью, а Инжибийке и Бегали играли вместе и обязательно возле матери. Марипат около печки стирала, погрузив руки до самых локтей в пену. Сакинат изо всех сил крутила ручную мельницу — ей мать наказала намолоть столько-то зерна. Сделает — пойдет в клуб. Нашакай Янибек раздавал корм скоту (у нас несколько овец, корова с теленком и лошадь). А отец тем временем успевал настроить домбру и начинал играть. Прислонившись к его плечу, я слушала и следила за его руками. Огрубевшие загорелые пальцы быстро перебирали струны и становились словно бы тоньше и послушнее. Из двух струн домбры отец извлекает такие волшебные звуки, что я сразу погружаюсь в страну сказок. Домбра, похожая на разрезанную вдоль грушу, невелика по размеру, но мелодия ее звучит на весь аул, на всю, как мне кажется, степь. И все тонет в музыке: и блеяние овец, и мычание коров, и звяканье подойников, и говор людей, и плач людей. Я слышу только волшебную домбру и мечтаю: вот я выросла, стала красавицей, на мне красивое платье, я учусь в городе, у меня много друзей. И тот город, который я никогда не видела, рисуется мне огромным и прекрасным…
Вздрогнув, прихожу в себя. Музыка кончилась, и опять я маленькая, в застиранном ситцевом платье, с исцарапанными ногами, с выгоревшими и взлохмаченными густыми волосами, худенькая, почти до черноты загорелая от нещадного солнца. На коленях моих спит Кендали, а отец собирается раскуривать свою трубку. Как сквозь туман, вижу дым, который густыми кольцами вьется над печкой и поднимается к небу. Вместе с дымом и гаснущими в нем искрами уносятся высоко-высоко и мои мысли, вернее, не мысли, а мечты. И кажется мне, что мечты мои утром вместе с ранней зарей вернутся ко мне, и тогда в моей жизни что-то произойдет. Но наступает утро, а ничего не меняется…
Однажды мама как-то мимоходом обронила: «Если хочешь поймать счастье, просыпайся рано». Я ей поверила. Ведь она никогда не обманывала меня. На следующий день я проснулась даже раньше Сакинат. Вышла на крылечко. Заря только-только заалела на востоке. Мать растапливала печку, она удивленно глянула на меня, но ничего не сказала. Отец выгонял из загона овец. Я побежала в огород. Зеленые грядки были еще мокрые от росы. Я поднялась на самое высокое место и стала смотреть на восток. Небо вскоре прошили золотые лучи, похожие на длинные ресницы. Потом показался верхний краешек солнца. Лучи сделались ярче и длиннее. А я все ждала чего-то, ждала… Вот солнышко уже полностью взошло. Но счастье ко мне так и не пришло. Что такое счастье, я не знала, но я ждала его и теперь, разочарованная, чуть не плача, побрела но двор. «Взрослая, а обманывает. А еще нас ругает за это!» — подумала я с обидой о маме.
Домашние, сидя на циновке, уже завтракали. Я тихо подошла и села с краю. Мама предложила мне чаю. Я даже не глянула на нее: обида еще не прошла. Хорошо хоть Инжибийке не знает, отчего я так рано подскочила и столько времени торчала на огороде, а то от ее насмешек некуда было бы деваться.
Перед уходом на работу мать все-таки заметила, что со мной что-то творится.
— Ты чего такая?
— Ты меня обманула, сказала: рано встанешь, поймаешь счастье! — ответила я чуть не плача.
— Глупенькая ты моя, — обняла меня мама, улыбаясь. — Это поговорка у нашего народа такая. Ты только подумай: кто рано встает, тот успевает много сделать, а раз работает много, значит, будет лучше жить, чем другие, лентяи. И для здоровья полезно рано вставать, вон какой свежий воздух по утрам.
И обида моя прошла-растаяла.
Может, потому еще я так ждала этого счастья, что взрослые обычно желали друг другу только счастья, на свадьбах молодым тоже счастья желали и всем, кто куда-то ехал из деревни, желали счастливого возвращения. И наша мама так часто повторяла: «Хоть бы наши дети были счастливее нас!» Поэтому слово это врезалось мне в память. Я не знала, когда оно, это счастье, приходит, но раз о нем говорят, значит, оно есть и когда-то должно прийти. О счастье пела и отцовская домбра… И до сих пор при звуках домбры я думаю о счастье и продолжаю ждать в своей жизни чего-то особенного. Мне кажется, что счастье, которое я так ждала, еще в пути… Слушала я, как отец играл на домбре, и из сердца уходили обида, зависть, злоба. В душе оставалось только все хорошее, светлое, чистое. И даже теперь, уже взрослая, слушая музыку, чувствую, что становлюсь добрее и лучше…
ИНЖИБИЙКЕ
С раннего утра, когда все взрослые уходят на работу, за старшего в доме остаюсь я. Мама забирает с собой Кендали и по пути относит его в ясли. А на моем попечении Инжибийке и Бегали. Они еще маленькие и помощники никудышные. Дел же у меня — выше головы. Кроме того, что на мне дети, за которыми нужен глаз да глаз, я еще должна присмотреть за курами, утками, выгнать в степь теленка, прибрать в комнатах и во дворе. Постель, правда, убирают взрослые, но подмести тор и пол, вымыть после утреннего чаепития посуду — это уже моя обязанность.
От Инжибийке пользы никакой, хоть бы за Бегали присматривала, нет же, сама еще что-нибудь натворит. Пока я во дворе кручусь около печки с посудой, она будет носиться по комнатам, помнет постель и обязательно разобьет что-нибудь. После ее шалостей и ситец со стены сползет, и занавеска с окна упадет, и постель с сундука свалится. А едва я вхожу в комнату, она тут же подбегает к Бегали и делает вид, будто играла с ним, наклоняется к нему и что-то шепчет — подумаешь, вот так и просидела целый час, рассказывая ему сказку.
Беру веник и принимаюсь подметать.
Закончив уборку, спешу во двор. Бегали, боясь отстать, семенит за мной. Бросив корм курам и уткам, иду с ним на улицу. Теперь до обеда я свободна. Но разве поиграешь в свое удовольствие, если Бегали все время рядом и тянет тебя за подол. Идем к Байрамбийке. У них в семье тоже много детей. Но там есть бабушка, которая выполняет всю работу по дому, и потом Байрамбийке не самая старшая из детей, поэтому у нес уйма времени. Старше ее еще двое. Они-то и помогают бабушке управляться с хозяйством, а Байрамбийке может жить вполне беззаботно. Я втайне ей завидую и часто спрашиваю у своей мамы:
— А почему у нас нет бабушки? Почему нам так не повезло?
— Да-а, — вздыхает мама. — Не повезло нам, детка. Будь у нас бабушка, все у пас было бы по-другому. И у тебя было бы меньше забот. Обе бабушки наши в войну умерли.
Понимала я, что теперь никогда не будет у меня бабушки, и очень грустно мне от этого становилось. Все бабушки казались мне такими добрыми, мягкими, ласковыми. Взять хотя бы бабушку Байрамбийке. Она, как наседка, не отходит от внуков, так и кружит возле них. Проводив рано утром старших детей в школу, оставшихся она усаживала во дворе на циновке и, пока они возились, вынимала из печки горячий хлеб, заваривала свежий чай и принималась кормить своих ненаглядных, то и дело приговаривая:
— Ешьте, мои милые, ешьте, мои умные. Сыты будете, и настроение будет хорошее. Ах вы мои сладкие, любимые, слаще меда!
Я потихоньку бросаю взгляд на этих слаще меда внуков; у трехлетнего Казбия вечно мокрый нос, а Байрамбийке вытирает губы рукавом платья. «Вот тебе и сладкие, вот тебе и умные!» Хорошо, что старуха не догадывается, о чем я думаю. Она ставит передо мной и Бегали тоже тарелку с творогом, подвигает в нашу сторону поднос с хлебом и наливает чай в пиалы. Я качаю головой, дескать, сыты мы, а у самой слюнки текут— так хочется горячего ароматного хлеба. Бегали же выдает себя с головой, глаза у него растерянные, он не может отвести жадного взгляда от тарелки с творогом и подноса с хлебом. Мне становится совестно за него, и я, предательски краснея, говорю:
— Дайте Бегали только, мне не надо. Мы только что от стола, как ему не стыдно, будто голодный.
А старуха ласково меня утешает:
— Ничего, детка, ничего. Он еще ребенок. Пусть кушает на здоровье.
Я всегда удивлялась тому, какая она терпеливая и спокойная. Она никогда не раздражалась, не кричала на своих внуков, даже если они ей и досаждали. Не дай бог кто-то из ее ненаглядных упадет или расшибет коленку, она будет охать да ахать, приласкает малыша, поцелует ушибленное место.
А в нашей семье детей не баловали. Мама всегда была с нами строга, и если кто-то из моих братьев или сестер и ушибался по-настоящему, то мать и не думала бросаться к нему, а, наоборот, не давала тому даже поплакать.
— Чего расхныкался? — кричала она. — Давай поднимайся, подумаешь, поцарапался! Кости целы — и ладно!
Малыш, видя, что плакать бесполезно, все равно ничего не выплачешь, поднимался и вскоре уже опять носился по двору как угорелый.
Но замечала я и другое: бабушка Байрамбийке просто заласкала своих внуков, и они стали такими капризными, что даже одеваться самостоятельно не желали. Наш Бегали и то сам одевался и сам раздевался. А тут, стыдно сказать, моя ровесница Байрамбийке иной раз не обходилась без помощи бабушки. И все-таки ласковый, спокойный голос бабушки всегда стоял у меня в ушах, и я пробовала быть на нее похожей. Подражая ей, ее голосу, тихому, привораживающему, утешала Бегали или Кендали, смотря по тому, кто из них в этом больше нуждался.
— Ну, вставай, мое золотко, вставай, мой хороший! А ну-ка покажи, где ты ушибся, сейчас мы тебя вылечим, — говорила я, потирая ушибленное место.
Но почему-то ни Бегали, ни Кендали от этого не успокаивались, а, наоборот, принимались плакать пуще прежнего, а я не выдерживала и тут же перестраивалась:
— Ну-ка, хватит орать! Надоело! Не перестанешь, добавлю еще!
Ой, куда деться от этой малышни? С утра до вечера с ними. Ладно бы только Бегали был на мне, так по вечерам еще и Кендали, а тот еще хуже, с ним вовсе не сладишь, его ничем не запугаешь. И все время следи, чтобы в штаны не напустил. Счастливая Инжибийке, ни забот у нее, ни хлопот, поэтому и весела всегда.
Не повезло мне, конечно, угораздило родиться первой. На старшего в семье ребенка, независимо от того, мальчик это был или девочка, ложились все заботы по дому. Ему приходилось растить младших, а их в каждой семье бывало двое, а то и трое.
Называли старшего чаще всего не по имени, а просто «тунгыш». Уши мои не переставали слышать: «тунгыш» да «тунгыш». Стоило мне на секунду забыться и позволить себе, расшалившись, побегать по двору, как тут же раздавалось:
— Ты же тунгыш, как тебе не стыдно! С тебя же младшие пример берут.
Измажешь ненароком платье — и опять то же самое:
— А еще тунгыш.
Ох как надоедало это слушать, как обидно было. Забивалась я в какой-нибудь дальний угол дома, где меня не сразу можно было отыскать, и давала волю слезам. «Надоело быть тунгыш. Ничего мне нельзя! Вон Инжибийке чего только не вытворяет, а все молчат. Почему ей можно?..» — горько сетовала я. Но где бы я ни спряталась, вездесущая Инжибийке спустя какое-то время обязательно меня находила, и приходилось, пряча от нее заплаканные глаза, выходить из своего укрытия.
И только отец замечал, что я чем-то расстроена. Матери, как всегда, было не до меня.
— Признавайтесь, кто обидел мою дочь? — пытался подбодрить меня отец. — Чего вы от нее хотите? И так, бедная, замучилась с этими проказниками.
— А ты побольше заступайся за нее, — недовольно ворчала мать. — И без того слова ей не скажи, больно гордая.
— Ну и хорошо, что гордая. Моя дочь должна быть гордой, — защищал меня как мог отец.
Он подходил ко мне, гладил по голове, а потом, как маленькую, сажал себе на колени и приговаривал:
— Расти гордой и смелой. И не бойся никого.
— Учи, учи, — усмехалась мать. — Потом, когда вырастет непослушной, пожалеешь.
— На непослушную она вовсе не похожа, а ты бы лучше приласкала ее лишний раз. Что бы ты без нее делала?
Лицо матери сразу принимало обиженное выражение, она начинала ворчать: не до ласки, мол, успеть бы обстирать да поесть приготовить; наработаешься, намаешься за целый день в поле, сил никаких к вечеру нет, а едва домой доберешься, и тут засучивай рукава — где уж там нежности разводить.
Конечно, мать была права. Разве видел кто-нибудь, чтобы она сидела сложа руки? Мать была на редкость трудолюбивой. Ведь как непросто было поддерживать чистоту в доме в тех условиях — теснота, нехватка одежды, посуды, постельного белья. А воду таскали с речки, почитай, с километр надо было пройти туда и обратно. Лишь много позднее в селении появились артезианские колодцы.
Мать никогда не сердилась на меня долго. Она знала, что я люблю молоко, подходила ко мне и ставила передо мной чашку. Вот так мы и мирились.
Да я и сама старалась не забывать, что я тунгыш. Если Инжибийке или Бегали порой позволяли себе капризничать из-за того, что им налили мало супу или не дали мяса, то я никогда не осмелилась бы так себя вести. Без разрешения матери, если она бывала дома, я никуда не отлучалась, потому что в любую минуту могла ей понадобиться. Никогда не спорила и не вмешивалась, как это делает Инжибийке, в разговоры взрослых. Но были у меня, как у тунгыш, и свои привилегии. Иногда и мне кое-кто завидовал, так как новую одежду обычно покупали старшей, а Инжибийке донашивала то, что оставалось от меня. Ей это, конечно, не нравилось, и она часто бурчала себе под нос:
— Почему я должна таскать эти обноски? Что я, хуже ее?
— Конечно, хуже, — отвечала мать спокойно.
— А чем хуже? — искренне удивлялась девочка.
— Ты на два года позже родилась, — смеялась мать. — Тем и хуже.
— Ну и что? И ничего не хуже. Мне тоже нравится все новое. Из-за ее старых платьев я и не вырасту совсем.
— Вырастешь. Но платья Айбийке тебе придется носить до тех пор, пока она не выйдет замуж.
— А когда она выйдет? — спрашивала сестренка с любопытством и тайной надеждой, что это случится очень скоро. Но, оглядев меня с ног до головы, а росточка я небольшого, презрительно усмехалась.
— Когда подойдет ее время, тогда и выйдет, — отвечала мать задумчиво. — Дожить бы мне только до этого дня.
— Я, наверное, постарею, пока она замуж выйдет, — с грустью замечала Инжибийке и вздыхала.
Мать улыбалась, и на этом разговор прекращался.
Но стоило мне надеть какую-нибудь обновку, как сестренка опять затевала ссору.
— Вот назло тебе, — сказала она как-то, когда я красовалась в новом платье, — вырасту раньше, чем ты, и выйду замуж. А ты так и останешься.
По обычаю, если младшая дочь выходила замуж раньше старшей, это считалось позором. Потому что старшую, будь она даже очень молода, никто потом не хотел сватать. Точно так же обстояло дело с сыновьями: жениться должен был сначала старший.
Мама, услышав слова младшей дочери, не на шутку рассердилась:
— Я тебе покажу, как выходить замуж раньше старшей сестры, ишь какая выискалась! Ты где это научилась так разговаривать? А ты видела в нашем ауле хоть одну девушку, которая бы опозорила свою сестру? А? Видела, я тебя спрашиваю?
Мать гневалась, а Инжибийке все нипочем, она продолжала стоять на своем, да еще и улыбалась.
— Все равно выйду раньше ее! Все равно! Смотри, какого она маленького роста, кто ее возьмет замуж! А я ждать, что ли, буду, пока она вырастет?.. — В глазах Инжибийке чертики, светлые, как у матери, волосы заплетены в косички, они так и подпрыгивают, потому что худенькая Инжибийке не может устоять на месте, крутится, вертится, пританцовывает.
— Уймись, наконец! — прикрикивает на нее мать. — Айбийке раньше тебя в люльке качалась, а значит, имеет право первой носить новое платье. И поругать тебя, и наказать тебя может. А ты должна ее слушаться и меньше огрызаться.
— Тебя слушайся, отца слушайся, всех остальных тоже слушайся. И Айбийке подчиняйся! А почему Бегали меня не слушается? Я же старше его.
— Айбийке же за ним смотрит.
— Пусть тогда Айбийке оставит его в покое, я сама буду за ним смотреть.
— Вот и хорошо, — радуюсь я возможности облегчить свою участь. — Попробуй, как это легко.
— Перестаньте! — шикает на нас мать, а по глазам ее я вижу, что на какой-то момент она пугается, что я и вправду оставлю братишку на попечение легкомысленной Инжибийке.
Почему-то в этот момент я вспоминаю о своей подружке Юмазиет, которая, в отличие от меня, была самым младшим в семье ребенком, и ей, по правде говоря, трудно было позавидовать — все ее шпыняли, все ей приказывали: «Подай то, принеси это!.. Положи на место!.. Не трогай!..» Бедняжка Юмазиет часто горестно вздыхала и говорила мне:
— Счастливая ты, тебе вот никто не приказывает, кроме матери. Я бы все стерпела, лишь бы быть старшей…
Ну какие еще привилегии у тунгыш?
Если в доме случались гости, то меня из детей представляли первой.
Мы с Инжибийке, несмотря на разницу в возрасте, были одного роста, поэтому кто-нибудь из гостей обязательно спрашивал:
— Которая из них тунгыш?
— Вот она, моя тунгыш, вот она, — легонько подталкивала меня вперед мать. — Хоть и не положено своего ребенка хвалить, а похвалю. Очень она мне помогает.
Услышав такое, Инжибийке прямо из себя выходила и назло матери и мне начинала баловаться при гостях.
Оглядев меня с ног до головы, словно я какая-нибудь вещь, гости улыбались и говорили:
— Как хорошо, Хадижат, что у тебя старшая дочь. Повезло тебе. С мальчишками так трудно. А дочь… Опомниться не успеешь, как вырастет. Дай-то бог, чтоб принесла она в твой дом куез.
Слово «куез» я слышала довольно часто, а вот что оно означает, не понимала. Однажды спросила у матери. Объяснять ей пришлось долго. Куез — это, оказывается, радость, которую дети дарят родителям, став взрослыми, добившись чего-то в жизни, заслужив уважение людей.
Мать очень любила это слово, часто повторяла его, при этом голос ее становился мечтательно-грустным. Очень надеялась она, что труды ее и заботы о нас не пропадут даром, что доживет она до того дня, когда принесем мы ей куез…
В ауле бытовал хороший обычай: кто едет в город — на базар ли, по делам ли, — тот непременно привозит гостинцы — яблоки, орехи, бублики. Знает: прибегут соседские дети и их придется угощать. О том, кто уехал в город, мы каким-то чудесным образом узнавали спозаранок и ждали, как самого близкого, родного человека. Особенно если тот живет по соседству.
Улица наша, хоть и длинная, но прямехонькая, и начиналась она от моста. Вот и поглядывали мы, играя во дворе или на улице, на этот мост. Чаще всего под вечер. Не идет ли кто с корзинками и сетками? Как правило, в город ездили женщины, и всегда группами. Едва завидев издалека возвращающихся, мы со всех ног бежали им навстречу, и каждый устремлялся к своей ближайшей соседке, брал из ее рук корзину, помогал донести до дома. Потом выжидали у дверей, пока женщины открывали сумки и, стараясь никого не обидеть, раздавали гостинцы.
Когда мне исполнилось шесть лет, мама сказала: «Теперь, Айбийке, стыдно тебе бегать за гостинцами. Ты уже большая девочка, к тому же тунгыш. А Инжибийке еще можно».
Я знала, что девочки и постарше меня бегают к мосту встречать возвращающихся с базара, но с матерью не поспоришь.
С того дня я больше никого не встречала за нашей околицей. Но Инжибийке, если бывала в этот день ко мне расположена, охотно делилась со мной орехами, половинкой яблока, бубликом.
В одно жаркое лето в наш аул переехала семья из города. По обычаю, все ходили к ним в дом, поздравляли с прибытием, знакомились. Являлись, как принято, не с пустыми руками, несли кто муку, кто лук, кто картофель, кто отрез на юбку или платье. Приезд в аул новой семьи считался хорошей приметой, добрым предзнаменованием. «Значит, — рассуждали взрослые, — аул наш богатеет, тянутся сюда люди». А вот если кто-то решался переехать из нашего аула в другой, то все печалились, выражали недовольство, ворчали: «Уезжает, позорит доброе имя аула, будто в другом месте ждут его не дождутся, будто там он счастья полный мешок найдет. Даже соседей не пожалел, а ведь сколько лет бок о бок прожили…» Правда, уезжающих из нашего аула было совсем мало. На моей памяти лишь одна семья подалась куда-то, поближе к своим родным, вот и все. Те, наверное, уговорили. Как ни говори, а близким людям жить вместе лучше. Так впоследствии и рассудили аульчане.
Конечно, приезжающих к нам тоже было не густо. Но тем больше радовались им.
В воскресенье и наша мама собралась пойти к новоселам, поздравить их с прибытием, пожелать счастья на новом месте.
Новенькие поселились в доме, который оставили уехавшие. Дом этот был расположен около самого моста, далековато от нас. С матерью увязалась и Инжибийке.
Когда они вернулись домой, я сразу поняла по радостновозбужденному лицу сестренки, что ей в гостях понравилось. С опаской поглядывая на маму, она незаметно сунула мне в руку две-три подтаявшие в ее ладони мятные конфетки. Я поблагодарила Инжибийке взглядом. А когда мы с ней остались вдвоем, она, сверкая своими светло-карими глазами, стала рассказывать про эту семью, про их удивительное гостеприимство. Более всего поразило воображение сестренки то, что они выставили на стол полную тарелку конфет, целую гору, вкусных-превкусных, в красивых разноцветных обертках. И девочка у них такая красивая! Платье на ней — с оборками, в волосах — голубые ленты. А кукла у нее — ну, прямо как живая!..
— Я тебе побольше конфет хотела принести, но мама так посмотрела на меня, что я испугалась. Ты тоже сходи к ним в гости. Они и тебе дадут конфет, они добрые, — закончила Инжибийке свой восторженный рассказ.
— Нет, я не пойду, — грустно ответила я. — Вдруг потом будут над нами смеяться.
— На их девочку не хочешь глянуть? У нее такие красивые бантики. Вот бы мне такие! Мне бы тоже пошли голубые.
Очень любила наша Инжибийке ходить в гости. Она не отказалась бы и ночевать у чужих, если бы ей только разрешили. Она быстро привязывалась к людям. Рассказы сестренки про наших новоселов я давно уже успела позабыть, когда однажды она вдруг пропала на весь день. Такого еще не случалось. Где только не искали мы ее. Я и всех подружек ее обегала, и сад обшарила, и в огород заглянула. А отец искал Инжибийке даже в канале и в реке: шел по берегу и шарил по дну длинным шестом. Но она как сквозь землю провалилась. Уже стемнело. Где еще искать?..
Мама начала плакать, что случалось с ней крайне редко. Сакинат в тот вечер не пошла в клуб и тоже ходила с красными глазами. То и дело к нам заглядывали соседи, справлялись, не нашлась ли Инжибийке. Горестно покачав головами и повздыхав, уходили. Уже и свет в ауле во всех окнах погас, люди укладывались спать, а сестренку все никак не могли найти.
— Ты, наверно, побила ее! Наверно, напугала! — напустилась на меня мама.
Я расплакалась. И без этого слезы душили, так еще и мама добавила.
— Да не ругались мы! Я ее с обеда не видала, — оправдывалась я.
Уже далеко за полночь мы, дети, заснули. А мать и отец вовсе не ложились. Утром отец впервые не пошел на работу.
— Хоть тело ее надо найти, — мрачно проговорил он. — Пойду отпрошусь у председателя.
По утрам около правления собирались все, кто работал в колхозе. Отсюда они расходились в разные стороны, получив задание на целый день. Когда отец дрожащим от волнения голосом сказал сельчанам, что у него потерялась дочь и он сегодня не сможет работать, глава семьи, приехавшей в наш аул, говорят, очень растерялся и виноватым голосом произнес:
— Девочка ваша у нас. Я спросил у нее, знают ли родители, и она сказала, что мама знает. Мы и поверили ей. Видит бог, не знал я, что обманывает ребенок, сам бы привел ее.
Так Инжибийке, переполошив всех, напугав до смерти родителей, неожиданно нашлась. Разгневанный отец, размашисто шагая, вел ее, крепко держа за руку, и она еле поспевала за ним. Увидев Инжибийке, мама бросилась ей навстречу, прижала к груди и горько расплакалась. Я думала, мать всыплет ей как следует, а она давай целовать ее и только тихо сказала:
— Если ты еще раз так поступишь, то я умру от горя.
Инжибийке, тоже готовая вот-вот разреветься, сразу воспрянула духом и тут же дала слово, что такое больше не повторится.
А я поняла и другое: мать, оказывается, очень любила нас. Почему же мне всегда казалось, что она не любит нас? Потому что была не слишком ласкова с нами?
Когда мы остались с сестренкой одни, я у нее спросила:
— Зачем ты у них ночевала?
— Хотела подружиться с Гульфирой.
— У тебя что, мало подруг? У тебя их полным-полно!
— Гульфира не такая, как все, — оправдывалась сестренка. — Знаешь, какие она интересные сказки рассказывает! А кукла у нее какая, помнишь, я тебе говорила? Совсем как живая! Я играла с ней, спать укладывала, только она никак не хотела засыпать…
— Тебе игра, а другим слезы!.. — рассердилась я, хотя в душе понимала, что из-за красивой куклы, может, и сама позабыла бы обо всем на свете. Ведь у нас никогда не было настоящей куклы. Мы мастерили кукол сами из кочерыжек кукурузы. На утолщенный конец завязывали платок, подрисовывали глаза, нос, рот. Это была голова. А туловище оборачивали куском материи. И играли с этой куклой так, что нам и в голову не приходило, что она не настоящая, не «живая». Мы, конечно, слышали, что в городских магазинах продаются удивительно красивые куклы. Но почему-то никто своим дочкам их не привозил.
Точно так же наши братишки не имели ни игрушечных машин, ни тракторов, ни самолетиков. Все это они сооружали из дощечек, картонных коробок, камышинок. А если сами не справлялись, то на помощь им приходили взрослые. Ведь сделать машину, это не то что кочерыжку тряпкой обернуть.
Однажды, когда отец собрался в город, я попросила его купить мне куклу.
— Так мало риса и картофеля везу продавать, что и не знаю, доченька, хватит ли денег. Если мать разрешит, может, и куплю, — ответил он.
Они с матерью каждую осень ездили в город, иногда даже два раза. Но к моему удивлению, покупали совсем мало вещей. Везли вроде несколько мешков риса, картофеля, кукурузы, лука, чеснока, все, что выдавали на трудодни в колхозе (у нас ведь работали пятеро: мама, папа, Янибек, Сакинат и Марипат), а привозили только кое-какую одежонку. И то не всем. У нас с Инжибийке до сих пор не было пальто, зимой мы надевали теплую кофту, а поверх нее повязывались крест-накрест большим шерстяным платком.
Так куклу и не купили. Вечером, возвратись с базара, отец избегал смотреть мне в лицо. Зато мать с раздражением обронила:
— Не то что на куклу, на ботинки тебе денег не осталось. Зимой в чем будешь ходить? Об этом бы лучше подумала!
До зимы еще далеко, и я не собиралась думать о ней заранее. А вот настоящей куклы у меня сейчас нет. И попробуй-ка сдержать слезы. И я спешу на улицу, чтобы никто моих слез не видел.
Однажды Сакинат дала мне стекло от лампы, чтобы я почистила.
— Смотри, это последнее, не разбей, — сказала она.
Самой, видно, лень было этим заняться. Я не осмелилась ослушаться и стала добросовестно чистить стекло, дыша внутрь и проталкивая туда мятую бумагу. В это время ко мне подлетела Инжибийке, ей, видите ли, захотелось поиграть со мной.
— Подожди, вот почищу стекло. Отойди лучше, а то не дай бог разобьется, — предупредила я, опасаясь, как бы она ненароком не задела меня. Только я успела об этом подумать, как Инжибийке сильно толкнула меня локтем — стекло выскользнуло из моих рук и разбилось вдребезги.
Все так и ахнули.
А Инжибийке вылетела из дому быстрее пули.
Но кто-то же должен был за это ответить? Досталось, конечно, мне. У меня не было привычки убегать. Не потому, что я не умела бегать, а, скорее, потому, что привыкла за все и за всех нести наказание. Скажем, прольет Бегали за ужином себе на штаны суп, а ругают почему-то меня, недоглядела, дескать.
— Мне что, в рот ему смотреть? А самой не есть, да?.. — возмущалась я.
— Ты старшая, должна присмотреть!
Так вот и за стекло досталось мне, хотя наказать следовало Сакинат.
А Сакинат, и сама чувствуя свою вину, молчком пошла к соседям и взяла у них в долг стекло.
Когда зажглась лампа, происшествие забылось.
Только я не могла забыть обиды и успокоиться. Сидела в дальнем углу комнаты, а слезы так и катились из глаз.
Мамина досада уже улетучилась, и она подошла ко мне.
— Ни за что ни про что досталось тебе, — сожалела она о случившемся и гладила меня по голове. — Надо было Сакинатке и Инжибийке всыпать как следует. Но одна дылда здоровенная, просто стыдно руку на нее поднимать, хотя ума у нее поменьше, чем у тебя. — Сакинат слышит этот разговор и, надув губы, опускает голову. — А другая слишком проворная, не успеешь глазом моргнуть, ее и след простыл, — мать ласково взяла меня за руку. — Ну пойдем, вставай, поужинай с нами.
И всю обиду мою словно рукой сняло.
Примерно через час, когда все уже занялись своими делами, на пороге возникла Инжибийке. Сначала тихо приоткрылась дверь, и в образовавшейся щели показались один ее глаз и светлая косичка. Она, конечно, прикидывала, можно ли ей незаметно прошмыгнуть в комнату. Заметив Инжибийке, мать схватилась за палку, которую всегда держала за шкафом, и замахнулась — скорее, чтобы припугнуть, нежели ударить. Инжибийке вмиг исчезла, словно ее и не было.
Но если она после какой-нибудь очередной проделки не появлялась слишком долго, а за окном уже смеркалось, мать начинала беспокоиться.
— Ступай, Айбийке, позови эту дурочку. Скажи, что я прощаю ее, — говорила она всегда с тревогой в голосе. — Еще собаки где нападут…
Но Инжибийке, несмотря на то, что от горшка два вершка, совсем не боялась аульских собак, пусть хоть самая злая, пусть хоть только что с цепи сорвалась.
— Если смотреть собаке прямо в глаза, то она сама тебя испугается, — уверяла сестренка хвастливо.
А я окидывала взглядом ее худенькую фигурку, торчащие в разные стороны светлые тонкие косички, всматривалась в ее чуть раскосые светло-карие глаза, в которых всегда прячется плутоватая улыбка, и думала про себя: что же это у нас в ауле за собаки такие, если боятся эту маленькую забияку! Не знаю, боялись ли ее собаки, но Инжибийке их действительно не боялась. Даже мама, собираясь поздно вечером угостить соседей мясным супом или пловом, брала с собой Инжибийке.
Только две огромные собаки кузнеца Алыпкаша, который жил от нас домов за восемь-десять, оказывается, свирепо лаяли на Инжибийке, когда она входила к нему во двор Оба пса были привязаны к столбу толстыми цепями, сработанными самим Алыпкашем. Зачем он держал таких злых собак, никто не ведает — был бы побогаче других, тогда понятно, а то ведь жил как все.
Отправилась как-то Инжибийке к дочери кузнеца поиграть. Будто мало у нее подруг поближе к нашему дому. Вошла во двор. Но как бы грозно ни смотрела она на рвущихся с цепи собак, те и не думали ее пугаться. Наоборот, так рассвирепели, что цепи не выдержали и порвались. Собаки сбили девочку с ног. И, не выбеги на ее истошный крик хозяйка, несдобровать бы храброй Инжибийке.
Сестренку срочно отвезли в районную больницу, чтобы сделать необходимые уколы.
— Ну как, будешь еще собак дразнить? — спросила я у нее после возвращения из больницы.
— Они же первые начали, — ответила она, насупившись.
— Как это? — не поняла я.
— А вот так. Они первые залаяли. А это значит, они на своем языке говорят самые обидные слова. Ну я и показала им язык…
«РАЗБОГАТЕЕМ, ДОЧКА, РАЗБОГАТЕЕМ…»
Ни на одной карте не найти названия нашего аула. Обидно даже. Напрасно искала я его на карте и когда уже училась в школе, не переставая удивляться тому, что могли позабыть о существовании такого красивого аула. И все думала с возмущением: «Чем же лучше те места, которым посчастливилось быть отмеченными на карте? Ведь над нашим аулом то же небо, те же облака, то же солнце, та же луна, а вот такого клуба, такого канала и реки, наверное, и вовсе нигде нету». Так я думала, потому что места краше не знала. Я бывала и в других аулах, но они не шли ни в какое сравнение с нашим.
У нас дома стоят вдоль одной длинной прямой улицы. Чтобы попасть в аул, надо сначала перейти по ветхому деревянному мосту через реку Шобытлы, широкую и плавную, очень спокойную, в самой середке заросшую зеленым камышом; берега ее покатые и тоже зеленые, бархатистые, покрыты низкой сочной травой, которую особенно любят телята и гуси. Перейдя через мост и сделав двадцать — тридцать шагов по пыльной дороге, надо перейти еще и канал, вырытый вручную в довоенное и военное время. От Шобытлы пользы мало, потому что течение у нее чересчур тихое, а летом, в самую жару, когда воды нужно как раз побольше, Шобытлы и вовсе пересыхает Вот и пришлось, по рассказам отца, провести в засушливую степь канал от самого Терека. И колхоз наш родился одновременно с каналом. Здесь стали впервые сеять пшеницу, рис, сажать овощи. Вода изменила облик степи. В прежние времена в этих местах только пасли овец, коров, лошадей и верблюдов. А теперь еще и пашут, сеют.
Отец рассказывал, что земля здесь, веками вытаптываемая скотом кочевников, никогда досыта не утолявшая жажду, была твердая как камень. И все-таки люди без помощи машин, собственными руками прорыли глубокий канал. «Нет ничего на свете, с чем бы не справился человек, если к силе своей еще и смекалку приложит», — любил повторять отец.
Прямо от канала и начиналась наша улица. Упиралась она в самое красивое здание аула, одно крыло которого занимало правление, а другое — клуб. За ним раскинулся обширный колхозный двор, обнесенный саманным забором. В этом дворе находился и гараж для двух грузовых машин. Несколько тракторов, косилок и комбайн стояли под навесом. Тут всегда пахло керосином и машинным маслом. Запах этот, как ни странно, обожают мальчишки. Наверное, потому они и избрали это место для своих игр. Двор был большой, просторный, и они день-деньской гоняли по нему мяч, сшитый из лоскутов и туго набитый ватой.
Недаром говорят: где вода, там и красота. Наш аул все считали красивым, потому что в нем было много деревьев. По обеим сторонам канала ровными рядами стояли, трепеща серебристыми листьями, высокие тополя. И казалось, будто зеленым ковром отгорожен аул от степных суховеев. Возле канала, вдоль его берегов, люди разбили огороды, поставили сараи. Затем уже следовали дома аула, дворы. Это была восточная сторона селения. Мы жили на западной, в другом конце улицы. От нас до канала было довольно далеко. Зато совсем близко раскинулся фруктовый сад колхоза, а за ним — огромный виноградник.
На огородах колхозники сажали и фруктовые деревья. Возле дома во дворе сажать деревья было не принято. Наверно, потому, что привыкли степняки видеть перед своим жилищем открытое пространство. В большинстве дворов трудно было найти тень, чтобы укрыться от солнца. Но если на аул взглянуть издалека, то он казался очень зеленым.
И, случись мне куда-нибудь поехать, вскоре я начинала скучать, просто места себе не находила, потому что там или вовсе не было никакой зелени, а если и была, то такая скудная, что где уж до нашей. Подъезжая к нашему аулу на грузовике, а мы, как правило, сидели в кузове, я уже издали искала глазами тополя, и когда наконец находила их, то сердце билось от радости часто-часто, будто я все это время боялась, что они в мое отсутствие могут куда-то исчезнуть. Тополя росли так дружно и так ровно, что нигде, даже побывав потом во многих местах, в различных городах, мне не довелось видеть подобной прямой тополиной шеренги. По словам отца, их в свое время посадил один русский человек, которого пригласил в колхоз наш председатель. Он научил степняков возделывать сады, растить виноград, а потом уехал в свои родные края. Эти тополя еще и теперь называют «деревьями Ивана». Наш отец тоже многому у него научился. В ауле говорят, что у нашего отца золотые руки. Может быть, именно за это его и назначили бригадиром.
Наши деревья научили меня различать времена года: осень, зиму, весну, лето. Однажды, когда мне было всего лет пять, мама, прибирая в комнате, с беспокойством произнесла:
— На дворе уже осень, а у детей нет теплой одежды.
«Интересно, чем же осень отличается от лета?» — подумала я тогда и посмотрела в окно: такое же синее небо, такие же белые пушистые облака, и деревья такие же зеленые, и улица такая же пыльная, в точности так же сидят на телеграфных проводах птицы, и наша собачка Алабайпо лежит себе в тени дома и время от времени клацает зубами, это она пытается ловить мух. Никаких изменений. Как же это мама заметила осень? Я спросила у нее, и она объяснила, что осенью листья на деревьях желтеют, идут дожди, а птицы улетают в дальние края. Но ведь на дворе сейчас нет никакого дождя, и желтые листья не кружатся в воздухе, и птицы никуда не улетели. Нет, мама или чего-то напутала, или чего-то не договорила. Я думала об этом с утра и до самого полудня. А после обеда посадила Бегали (Кендали тогда еще не родился) на деревянную низкую тележку, которую отец сам смастерил, и потащила ее за веревку. Легко катилась тележка по пыльной улице, поскрипывая и постукивая деревянными колесиками. Прикатили мы с Бегали к каналу. Долго смотрела я на деревья, каждую ветку в отдельности разглядывала, даже шея разболелась. Те же зеленые веселые листочки о чем-то шепчутся между собой, не замечают, как и я, осени. «Нет, обманула меня мама, как иногда обманывают маленьких, нет нигде никакой осени», — решила я и медленно побрела по берегу, катя за собой тележку. Бегали сидел, держась руками за бортики, и что-то лопотал, вертя головой во все стороны. Вдруг на зеркальной поверхности прозрачной, почти неподвижной воды, в которой отражались перевернутые тополя и плавали облака, я увидела желтый листок, яркий, как солнечный зайчик. Печально плыл он один, чуть подгоняемый ветром, а деревья легонько махали ему ветками, словно прощались. И сразу же шепот зеленых листьев показался мне вовсе не веселым, а грустным. «Они плачут, — грустно подумала я. — Плачут…»
На обратном пути я увидела возвращающихся из школы детей и вспомнила, что ведь и каникулы давно уже кончились. Значит, скоро пойдут дожди, начнется грязь, тогда и на улицу не выйдешь, придется целыми днями сидеть дома и смотреть за Бегали — то умывать, то кормить, то развлекать, чтоб не плакал.
— Осень и правда пришла, — сказала я маме, входя в дом.
Она удивленно взглянула на меня и, должно быть заметив, что я опечалена этим, улыбнулась.
— Да ты не переживай, дожди еще не скоро польют, успеешь еще наиграться да набегаться… Эх, вам бы только поиграть. Нам бы ваши заботы, — сказала она и вздохнула.
У Шобытлы дорога круто спускается вниз. Машина притормаживает, замедляет ход. И сразу затихают шутки и смех. Нам, сидящим в кузове, хорошо видно оба моста, по которым предстоит проехать, через реку и чуть подальше — через канал. Мост через Шобытлы старый, в середине его бревна прогнили, осели. Когда проезжаешь по ним, они прогибаются и скрипят. И всяк, кто следует по этому мосту на машине ли, на арбе ли, обязательно поминает всевышнего и шепчет: «Ой, упаси нас господи! Упаси нас господи!..» Вслед за взрослыми и я повторяю эти слова. От страха зажмуриваю глаза и все твержу про себя одно и то же, не замечая, что мы давным-давно миновали мост. Лишь после того, как возобновляются прерванные разговоры, шутки и смех, я открываю глаза. И вижу, что мы уже едем вдоль нашей улицы, а за задним бортом кузова клубится желтое облако пыли.
Но только что пережитый людьми страх ничто по сравнению с тем, какой охватывает их, когда они подъезжают к другому мосту — через канал. Хорошо, что мне нет надобности пользоваться им часто. Только раза два или три его и видала, когда отец брал меня с собой в соседний аул, где пасутся овцы, коровы, лошади нашего колхоза. Там же живут и родственники отца… Так вот мост этот обветшал еще больше, чем тот, что через Шобытлы. Строили его второпях, он узкий, сколочен кое-как и весь прогнил. Перила от ветхости давно уже отвалились. Мне казалось, что мост этот, когда по нему проезжала машина, кряхтел и тяжело вздыхал. В точности как кряхтит и вздыхает верблюд, к услугам которого прибегал иногда отец. Я спросила у него однажды: «Почему твой верблюд так вздыхает, когда ты на него садишься?» — «Старый он, потому и вздыхает», — ответил отец. А мост этот был, наверное, старее еще того верблюда.
Подъехав к мосту, шофер обычно останавливал машину и высаживал всех пассажиров. Люди проходили по мосту пешком и уже с той стороны наблюдали, как проедет по нему машина. Если я находилась среди этих людей, то, умудренная уже опытом, про себя молила бога, чтобы он поддержал мост, не дал бы ему провалиться, пока по нему медленно едет машина Данибека. В нашем колхозе было всего две машины. Одну водил молодой остроумный весельчак Данибек, а другую — пожилой Байрамали. Ни тот ни другой никогда не прибегали к чьей-либо помощи. Мужчинам было совестно, что они оставляли шоферов один на один с опасностью, они предлагали свои услуги, спрашивали, чем помочь. Но ни Данибек, ни Байрамали не хотели рисковать жизнью других. А о себе они как-то не думали, будто с ними и не могло ничего случиться. «Э-э, на фронте не такие еще переправы видали!..» — говорил Байрамали.
А Данибек, чтобы успокоить волнующихся на той стороне людей, открывал дверцу и, выставив на подножку левую ногу, управлял машиной одной рукой, при этом еще и выкрикивал что-нибудь такое, чтобы всех рассмешить. И не успевали сельчане опомниться, как машина уже оказывалась на той стороне.
Вот почему я однажды спросила у отца:
— Папа, а почему вы не построите новые мосты, ведь старые такие страшные, скрипучие?
— Леса нет, доченька, — грустно ответил он. — Даже коровник в том ауле и тот никак не можем закончить. То бревен нету, то досок.
— А если мост провалится и люди вместе с машиной упадут в воду?
— Типун тебе на язык!.. — сказал отец и нахмурился. Помолчав, продолжил: — Время-то какое трудное, сколько городов заново надо отстроить после этой проклятой войны. Но ничего, народ, который такую войну выдюжил, любые трудности одолеет. И наш аул разбогатеет, и новые мосты построим, и просторную красивую школу, и ясли для малышей. Ого-го, сколько понастроим всего! И так, смотри, за какой-нибудь год в соседнем ауле три кошары построили. А сколько новых земель освоили? Скоро разбогатеем, доченька, обязательно разбогатеем, — уверенно закончил отец и, сняв со стены домбру, заиграл, наполняя комнату веселой мелодией.
Слово «разбогатеем», как теплый ветерок, согревает мне сердце. В своем воображении я уже рисую новые красивые ясли, даже красивее и больше, чем наш клуб. Тогда в них, может, приняли бы всех маленьких детей. А сейчас Кендали в яслях, а Бегали сидит на моей шее. Ему там места не хватило.
Папины слова я с радостью передаю маме. Она улыбается, а потом вздыхает:
— Конечно, первым делом построили бы ясли. А то из-за Бегали тебе и поиграть некогда.
От маминых сочувственных слов я будто ростом выше становлюсь.
А вот школа мне вовсе не кажется маленькой. Она, конечно, не такая красивая, как клуб, но больше любого другого дома в ауле. В ней два просторных класса, длинный коридор и комната для учителей. Крыша высокая, камышовая, пол земляной, хорошо утоптанный. В следующем году и я пойду учиться в эту школу. Если бы к тому времени построили новую, то я, конечно же, была бы очень рада. Но пока что я и не мечтала учиться в такой красивой школе. А клуб наш и в самом деле хорош, если бы вы его увидели, так и ахнули бы. Расположен он у колхозного двора. Высокие ступеньки ведут на веранду, покрашенную в небесно-голубой цвет, полы в клубе деревянные. Одну половину дома занимает правление, но по вечерам оно чаще всего на замке. Зато открыта дверь в просторный зал, заставленный длинными скамейками без спинок, в дальнем конце сцена, обрамленная красными плакатами, они исписаны крупными белыми буквами.
Перед клубом большая круглая клумба, на которой каждой весной высаживают цветы. А посредине клумбы стоит памятник Ленину.
Ясли в двух шагах от клуба. Рядом с ними — медпункт и магазин. Позади магазина — склады нашего колхоза, где хранят арбузы, зерно, кукурузу.
Отец уверяет, что в нашем ауле порядка гораздо больше, чем в городе, где он довольно часто бывает. Каждый раз он возвращается оттуда усталый и разбитый и принимается сетовать, что нет там никакого порядка. Дом для приезжих в одном месте, а базар совсем в другом, в противоположном конце города; аптека, магазины в центре, а столовые, где можно поесть, далеко от центра, вот и отправляйся к черту на кулички, чтобы червячка заморить. «Если бы там все было расположено, как в нашем ауле, то времени на дела уходило бы втрое меньше, — говорит отец. — А то ходишь, ищешь, где магазин, где столовая, людей спрашиваешь, беспокоишь. Хорошо еще, русский язык знаю, расспросить могу и прочитать. А кто не знает, тому каково?..»
Наслушавшись рассказов отца, я боялась очутиться в городе одна. Я не сомневалась, что нет места лучше нашего аула. И все-таки мне очень хотелось хоть разочек побывать в городе.
Меня радовало, что наш дом расположен близко к колхозному двору. Скажем, иду я к каналу искупаться, а встречные — и дети, и взрослые — спрашивают у меня, есть ли сегодня в клубе кино, не привезли ли новых товаров в магазин, не вернулся ли из другой бригады председатель, не сидит ли сейчас у себя в правлении, да много чего еще спрашивают, о чем могла знать только я, живущая в конце улицы. И сразу важной такой становишься, когда тебе смотрят в рот, ожидая, что же ты сейчас ответишь.
В особенности интересно и весело в нашем ауле весной и летом.
Я сызмальства привыкла вставать рано и каждый день, если утро было ясное, наблюдала, как разгорается заря. Солнце, еще румяное спросонок, робко высовывается из-за горизонта, ощупывает своими длинными ресницами плоскую степь, белеющую на ней извилистую пыльную дорогу, макушки тополей, перила мостов через Шобытлы и канал. А ресницы у него золотые, прямо сияют. Воздух в это время чистый, прохладный, пахнет хлебом, дышишь не надышишься. От тополей, растущих вдоль канала, доносится голос кукушки, звонкий, веселый. Сначала прислушиваешься к нему, потом и вторишь: «Ку-ку!.. Ку-ку!..» Порой мне кажется, что кукушка не «ку-ку» выкрикивает, а «Ат ёк!.. Ат ёк!..» — как в сказке, которую рассказывала нам однажды бабушка моей подружки Байрамбийке. Она знает, что я очень люблю слушать ее сказки, и, как только прихожу, начинает их рассказывать. Если б вы хоть раз слышали, как она рассказывает: то громко, когда речь идет о чем-то веселом, то почти шепотом, если случается что-то страшное. Она и старинные песни поет, когда месит тесто или занята чем-то еще. Заслушаешься и про все игры забудешь. Эх, была бы у меня такая бабушка! Байрамбийке, глупая, не понимает этого, не слушает ни. сказок бабушкиных, ни песен, еще и на меня сердится, что не иду с ней играть. Или уже вдоволь наслушалась?.. Так вот, ее бабушка рассказывала о том, что случилось в давние-предавние времена.
Одной девушке отец поручил присмотреть за его конем. Всего на один день оставил любимого коня на ее попечение. А девушка заигралась с подружками, заболталась да про коня-то, что в поле пасся, и позабыла. Вспомнила про него, когда уже смеркаться начало. Спохватилась, глядь — а коня-то и нет. Всполошилась девушка. Уж больно красивый был конь, потому отец и боялся, как бы его не украли. Побежала девушка в одну сторону, стала кликать, искать, побежала в другую, а сама горестно повторяет сквозь слезы: «Ат ёк!.. Нет лошади!.. Нет лошади!..» Забыла, бедняжка, с перепугу о том, что с заходом солнца нельзя суетиться, нельзя метаться в темноте и шуметь. Коня она так и не нашла. А крик ее всем надоел. И тогда старуха одна, у которой от ее крика разболелась голова, в сердцах сказала: «Забери тебя шайтан, нерадивая! Не могла присмотреть как следует!» Шайтан услышал это и превратил девушку в птицу. Вот как появилась на свете кукушка, и вот почему голос у кукушки такой грустный. Как только начинает она куковать, я загадываю, сколько же мне лет жить, и считаю. После пятнадцати сбиваюсь. Отец знает, что я просто не умею считать, улыбается и спрашивает:
— Ну, сколько же, дочка?
— Сто! — отвечаю радостно.
— Не много ли? — смеется отец.
— Нет. Я хочу жить тысячу лет.
Отец становится серьезным.
— Кто знает, — говорит он тихо, будто самому себе, — может, и проживешь столько. Но сколько бы ни прожила, надо прожить свою жизнь с толком, побольше сделать добра людям…
Смысл его слов мне не совсем понятен. Но я не задаю вопросов, ведь как-никак я старшая и не должна надоедать взрослым, как Инжибийке.
Поскольку в ауле нашем, можно сказать, одна улица, то вся его жизнь на виду.
Днем почти все взрослое население на работе. Кроме детей, их бабушек, дедушек, никого на улице и не увидишь. Зато вечерами все меняется. Люди возвращаются с работы. Сначала по улице проезжают двухколесные арбы, запряженные одной лошадью и верблюдом. Погромыхивают, поскрипывают огромные колеса. На арбах, словно гора, возвышается и свисает почти до земли свежее сено. И так хорошо пахнет свежескошенной травой. А на самом верху, на сене, горделиво восседает возница. Нередко и еще кто-нибудь. Чаще кто-то из местного начальства — счетоводы, звеньевые, помощники бригадиров. А начальники покрупнее, такие, как, скажем, мой отец — бригадир, или председатель, или завфермой, обычно едут верхом на лошади, а то и на верблюде.
После арб появляются брички, битком набитые сельчанами. В тесноте, да не в обиде. И чем теснее, тем веселее. Мужчины и женщины разговаривают громко, стараясь перекричать тарахтенье и скрип, шутят, смеются. И наконец, последними появляются те, кто работал неподалеку. Они возвращаются пешком. В основном это женщины. Большинство из них несут на спине вязанки дров, сухой курай, траву для скота. Среди них и моя мать. С такими вязанками в проезжающие мимо брички не берут, нет места, вот женщины и тащат свои тяжелые ноши на собственном горбу.
Возвращались с работы взрослые, и садились мы всей семьей ужинать во дворе. Вот только комары отравляли по вечерам настроение. В других степных селениях комаров не было, почему-то они избрали местом своего обитания только наш аул, так, по крайней мере, говорил отец. И облюбовали они его, видимо, неспроста, а потому, что у нас много зелени, высокой сочной травы, зеленого камыша и вдоволь воды. Как бы там ни было, а комары с тонким нудным писком принимались виться над нами целыми тучами. Очень они нам досаждали, лишая возможности спокойно и безмятежно сидеть во дворе и наслаждаться прохладным вечерним воздухом. Чтобы хоть как-то защититься от этих кровожадных тварей, мы набирали в тазик щепок, сухой травы, чуть-чуть присыпали влажной землей и зажигали. Костер не горел, а дымил. Дымок валил то беловатый, то желтоватый и был такой едкий, что раздирал глаза, а в носу щипало. Лично я предпочитала укусы комаров, чем дышать этим смрадным дымом, и отбегала в сторону, кляня проклятых кровопийц и хлопая себя по рукам, ногам и щекам.
Однако стоило мне на несколько дней поехать к родственникам (а все наши родственники жили в других аулах), как я забывала и про комаров, и про выедающий глаза дым и сама не замечала, как принималась хвастаться. Местным детям я с гордостью сообщала, что у нас и терн есть, и виноград, и арбузы, и яблоки, и кукуруза, и тыква, и высокая трава, и деревья. Мне припоминалось только все самое хорошее. Особенную зависть вызывали у местных мальчишек и девчонок наши река и канал, где мы бултыхались в жару, ныряли с головой, брызгались. И как им было не завидовать, если там, где они жили, даже питьевая вода отдавала неприятным запахом и казалась мне горьковатой и солоноватой.
Когда я не на шутку расходилась в своем хвастовстве, мне напоминали, что у нас, мол, полным-полно комаров, которые прямо-таки пожирают людей. В ответ я только смеялась, что от комаров еще никто не умер. Если же спорщики стояли на своем, то я повторяла слова мамы: «Привыкли к комарам, даже не замечаем».
Кто знает, может, мы с молоком матери усваиваем и ее мудрость? С младенчества учила нас мать, чтобы мы никогда не говорили плохо о своем ауле, чтобы в чужом доме не говорили плохо о своем, чтобы при посторонних не бранили своих родственников. И при этом всегда напоминала пословицу: «Кто ругает свой дом, тот умрет на чужбине».
Порой, когда комары особенно меня допекали, я в сердцах говорила отцу:
— Ну неужели нельзя придумать что-нибудь против них? Нет, что ли, умных людей в колхозе!
Отец улыбался:
— Обязательно, дочка, придумаем. Вот только бы нам чуть-чуть разбогатеть. Может, и сама, когда вырастешь, что-нибудь придумаешь против них…
«Когда вырасту, конечно, придумаю. Но не съедят ли они меня до того времени?..»
ВЕЧЕРОМ ДОМА
Зимой время ползет слишком медленно. По крайней мере, нам, детям, так казалось, особенно когда во дворе гуляла непогода и мы не могли выйти поиграть. Теперь и у наших мам оставалось свободное время, зимой у них было куда меньше хлопот, чем летом.
Мужчины, те косили по льду камыш, связывали его в снопы и складывали в скирды. А потом грузили в прицеп трактора или в машину и отправляли в другие аулы. Камыш был нужен везде, им крыли дома и сараи, делали рогожу. Зимой он был уже не зеленым, а зрелым — желтым и сухим — и крепким, как дерево. Косить его было не просто. Если кое-кто из женщин и шел на эту работу, то в основном молодые, бездетные.
Отец, Янибек и Сакинат косили камыш. А мать и Марипат сидели дома. Они готовили еду, стирали, ухаживали за нами и приглядывали за домашней скотиной, которой теперь до самой весны предстояло жить в сарае.
А по вечерам все собирались в нашей комнате. Марипат возилась, погромыхивая чугунными кружками и казанами, около печки. Мать, забравшись с ногами на тор, вязала чулки или варежки из белой мягкой шерсти. Янибек, сидя на корточках, подбрасывал в печь топливо, следил за огнем.
После ужина Сакинат обычно убегала в клуб. Там было тепло. Если не показывали кино, то парни и девушки танцевали под гармонь и пели. В наш клуб приходили повеселиться и парни из соседних аулов.
Отец, как бы ни уставал он за день, не любил вместе с курами укладываться спать. После ужина поднимался и уходил к соседям, к Мырас и Яхъе, у которых не было детей и где можно было посидеть спокойно. Там, уже по давней привычке, собирались трое-четверо мужчин. Поначалу они играли в нарды, но это занятие им быстро надоедало. Тогда кто-нибудь брался за домбру, а остальные слушали.
Убегала в клуб Сакинат, уходил к соседям отец, отправлялись к себе Янибек и Марипат. А мы подсаживались поближе к маме и просили что-нибудь рассказать. В долгие зимние вечера рассказывала она нам за вязанием о своей юности, о войне, о трудном голодном времени и о многом другом.
За окном черная безлунная ночь, свистит, беснуется холодный ветер, протяжно завывает в трубе, остервенело набрасывается на стены и словно пытается снести с нашего дома крышу. Снежная метель гуляет по улице, кружится и выплясывает в каждом дворе, оставляя после себя глубокие сугробы. А дома, на торе, тепло и уютно, в печке потрескивают дрова, на плите кипит мясной бульон, а рядом мама, и звучит ее негромкий ласковый голос… Я силюсь себе представить, как жили мои родители в то время, когда нас еще на свете не было, рисую в своем воображении Янибека в детстве. Они с мамой очень похожи: оба светловолосые, кареглазые, круглолицые с чуть припухлыми губами, с широкими светлыми бровями. Так и вижу, как худощавый мальчик с не по-детски серьезным лицом колет дрова, моет полы, чистит сараи, сушит солому, топит печки, а вечером, радостный, улыбающийся, спешит к сестре, прижимая к груди кусок хлеба или несколько картофелин. Мне очень жалко этого мальчика, и у меня по щекам текут слезы.
От внимательных глаз бойкой Инжибийке ничто не может укрыться. И она громко объявляет:
— Плакса наша Айбийке, плакса! — И прыгает на торе. — Чуть что, сразу в слезы. Плакса! А я вот никогда не плачу!
Она смотрит на мать, ожидая от нее похвалы. Но мама неожиданно хвалит не ее, а меня.
— Молодец, Айбийке, она добрая… И чуткая к чужой беде. Поплакать тоже не грех, когда на душе горько, и посмеяться, если весело.
У Инжибийке от удивления брови ползут вверх. Я опускаю голову и вытираю краем подола глаза.
В ШКОЛУ
Никогда не забыть мне первого школьного дня. А сколько волнений было до него…
В доме все чаще и чаще велись разговоры о том, что скоро мне в школу. До начала занятий оставалось не так уж много времени. Кто же теперь будет смотреть за детьми? Мать это очень беспокоило. Наверное, и Марипат не меньше переживала, ведь и у нее был малыш, но виду не показывала.
Однажды мама решительно заявила, что пойдет к председателю.
— Он же знает, — говорила она, надевая свое выходное платье, — что некому у нас больше смотреть за детьми. Пусть хоть невестке разрешит сидеть дома.
Я давно решила, коль уж пойду в школу, учиться буду только на пятерки. Но если мне будут мешать, если вместо уроков придется смотреть за детьми, то плакали тогда мои пятерки. А я хотела учиться не хуже брата моей подружки Байрамбийке, который уже перешел в третий класс. Он читает без запинки, я сама слышала. Наверное, и с закрытыми глазами сможет. Его фотография на доске Почета висит перед школой. На ней все лучшие ученики красуются. Может, и мою фотографию повесят, там еще есть место, я видела. И Инжибийке тогда просто лопнет от зависти. Она всегда старается ни в чем от меня не отстать, а тут пусть попробует-ка… И так мне стало жалко себя, что свет показался не мил. Ну, какая тут учеба, если ни читать, ни писать…
Мне захотелось помечтать в одиночестве, и я побежала к речке. И пока шла по нашей длинной улице, видела, что в каждом дворе кипит работа. Все что-то делают, хлопочут, суетятся. В одном из дворов, несмотря на полуденный зной, разожгли печь и собирались сажать в нее хлебы, в другом мыли шерсть, чтобы сшить теплые одеяла и связать носки, в третьем штукатурили стены, в четвертом лепили кизяки. Все были чем-то заняты. Никто не сидел без дела. «У всех свои заботы, — подумала я. — Люди не могут беззаботно дремать, как наш щенок Алабай. Нечего и мне горевать. — Я вздохнула, но уже без досады: — Что ж, придется и учиться, и детей нянчить…»
Мама на целых два дня отпросилась с работы, чтобы подготовить меня к школе.
Перво-наперво она сшила мне два платья. Одно из яркого цветастого ситца, легкое, с короткими рукавами-фонариками и с поясочком. Я надела его и стала похожа на нарядную пеструю бабочку с нашего огорода… А второе из тяжелого коричневого атласа, который блестел и переливался, как шкура змеи на солнышке, и было оно совсем не такое, как ситцевое, — с длинными рукавами, с воротничком, юбка в складку. Я еще ни разу в жизни не надевала платья из такого дорогого материала. В нем я показалась себе какой-то очень взрослой.
Мама шила быстро и хорошо, об этом с восхищением говорили все соседи. Платья мои вышли на редкость удачными, вот только длинноватыми были. Как ни упрашивала я маму хоть немного их укоротить, она не соглашалась и стояла на своем: дескать, атлас и ситец после стирки сильно садятся, и потому не стоит торопиться. Я перестала спорить, а про себя подумала: «Придется поскорее их испачкать, чтобы постирать на следующий день…» Мама же — я это поняла гораздо позже — думала совсем о другом, для нее важно было, чтобы платья эти служили мне не один год, вот и сшила она мне, как говорят, на вырост. Марипат и соседка, случайно забежавшая на минутку, увидев на мне атласное платье, дружно щелкали языками и в один голос утверждали, что платье сидит просто прекрасно, будто я слепая и не вижу, что длинное оно. Длинное!..
Внезапно откуда-то со скакалкой появилась Инжибийке. Слушала она, слушала, как расхваливают мое платье, окинула меня с головы до ног презрительным взглядом и выпалила:
— Фи-и-и, на старуху стала похожа наша Айбийке! Смотри не запутайся в таком длинном подоле, а то упадешь!
Мама строго глянула на нее и сказала:
— Если бы тебе сшили такое, с удовольствием бы носила!
— Больно нужно! Такое не надела бы.
Сказала, но глаза ее невольно задержались на моем линялом ситцевом платьице, которое я только что сбросила с себя. Мама обронила уже, что оно достанется ей. Сестренке редко покупали новые вещи. Быстрым взглядом окинув и свое и мое платья, Инжибийке отвернулась к стенке. Обиделась.
«Ну что стоит маме хоть немного укоротить подол! А если и в самом деле после стирки сядет, Инжибийке будет носить. Не пропадет же…» — с тоской думала я. Но добиваться своего, как младшая сестренка, я не умела, да и стеснялась. Не к лицу мне было кричать, плакать, как-никак — старшая.
На второй день мать взялась за шитье сумки из разноцветных лоскутков. Я разглядывала эти лоскутки и вспоминала, что платье вот из этого голубого ситца с желтыми цветочками я носила года два назад, а теперь его носит сестренка; кусок синего бархата остался от маминого жакета. Жакет был очень красивый, она и сейчас надевает его только по праздникам или когда идет к кому-нибудь в гости; а вот этот кусок тончайшего крепдешина — от нарядного платья Сакинат; кусок черного сатина — от шаровар Бегали…
Сумка получилась удачной — яркой и даже праздничной. Конечно, это не кожаный портфель, какой можно купить в городе. Ну и что же, зато те портфели одного цвета, черные или коричневые. И на них железные замки — тяжеленные, наверно. А на что эти замки, непонятно. Не деньги же носят ученики в портфелях… Нет, моя легонькая яркая сумка куда лучше! В нашем ауле испокон веку все ходили в школу с такими сумками и были довольны.
С внешней стороны сумки мама пришила два симпатичных кармашка. Один — для чернильницы, другой — для карандашей. А я прикинула и решила, что туда поместится еще и кусок хлеба, а если не поместится, то карандашам будет не хуже и внутри сумки.
Когда к сумке были пришиты и ручки, мама, приподняв сумку, стала вертеть ее так и этак, полюбовалась ею, затем, наконец, вручила мне. Я тут же принялась засовывать в нее давно приготовленные букварь, несколько тетрадей, ручку, простой карандаш, новенький, обвязанный кружевом носовой платок.
— Сейчас-то у тебя все чистенькое, все блестит, а через несколько дней каким это будет, интересно? — сказала мама, наблюдая за моими приготовлениями.
— И через несколько дней будет все блестеть, если Инжибийке не испачкает. Она ведь непременно сунется сюда, — ответила я, заранее испытывая беспокойство за содержимое своей сумки.
Так оно и вышло.
Примчавшаяся с огорода с надкушенной помидориной в руке сестренка немедленно подбежала посмотреть, чем я занимаюсь. Я вскочила, прижала сумку к груди и закричала:
— Не подходи! У тебя руки грязные!
— Я только посмотрю, что ты туда положила! — настаивала Инжибийке, запихнув помидор в рот и вытирая руки о подол своего платья. — Вот, смотри, чистые!..
— Не подходи, не покажу!
Но Инжибийке вдруг прыгнула, как кошка, ухватилась за ручку и изо всех сил дернула сумку. Та упала на земляной пол, книги из нее вывалились, карандаши разлетелись в разные стороны. Не успела я опомниться, как Инжибийке исчезла за дверью.
— Ах ты негодная! Ну я тебе покажу! — крикнула вслед ей мать…
Приготовив все необходимое для школы, мать решила привести в порядок и меня. Искупала, не торопясь расчесала волосы.
— Какие хорошие у тебя волосы. Прямо на зависть, только ухаживать за ними надо. Давай не будем больше подстригать, пусть растут себе на здоровье. Ведь косы — главное украшение девушки, — говорила мама задумчиво и почему-то вздыхала.
…Спустя десять лет, уже учась в городе и считая себя очень самостоятельной, я позабыла об этих маминых словах и, отдавая дань моде, отрезала косы. Лишилась я их в парикмахерской. Упали косы на грязный пол, а женщина-мастер, топчась вокруг меня, ступала прямо по ним. Увидев собственные волосы под чужими ногами, я невольно представила себе глаза моей матери и тут же пожалела о том, что совершила, но было поздно. И почему это сожаление не пришло ко мне минутой раньше?.. Как часто мы опаздываем всего лишь на минуту. На минуту, которая порой так многое решает в нашей дальнейшей судьбе.
…Расчесав волосы, мать занялась моими ногами. Все лето я бегала босиком, пятки стали твердыми как камень, да и ступни были не лучше — сплошь покрыты цыпками да царапинами. Мать уже в который раз меняла воду в тазике и все терла и терла ноги, а я от боли чуть не плакала. Потом мама смазала ранки жиром, остригла ногти и сурово сказала:
— Хватит бегать босиком. Вот тебе старые сандалии, а новые наденешь в школу.
Это меня очень огорчило. Я и представить себе не могла, как можно летом ходить в обуви. Ах, какое же это удовольствие бегать босиком, ощущая голыми ступнями землю, обжигать их в горячей пыли, а потом остужать в прохладной воде речки! Я попробовала возразить матери: ведь до школы или после занятий можно же походить и босиком. Она почему-то рассердилась и вдруг заявила, что девочек с грязными ногами в школу просто не берут. Пришлось согласиться.
И вот наступил долгожданный день.
Накануне я почти всю ночь не спала, боялась, что просплю, опоздаю в школу, и тогда меня не примут, отправят обратно. Поднялась чуть свет и вышла во двор. Смотрю, и мама уже встала, возится около печки, тесто для бавурсаков2 раскатывает.
— Сегодня же не праздник, зачем делаешь бавурсаки? — удивилась я.
А мама смеется:
— Как же не праздник, если старшая сегодня пойдет в школу? Это очень даже большой праздник!
Я растерялась. До этой минуты я считала, что все, связанное со школой, радует только меня, а для мамы — это лишние заботы. От маминых слов я приободрилась. Как оперившийся утенок, подошла к ней и принялась помогать. И, не переставая, говорила о школе: как буду учиться, с кем сяду за парту, с кем стану дружить. Мне казалось, что сегодня и дрова в печке горят веселее, и масло в чугунке шипит задорнее, и бавурсаки получаются более румяные, нежели всегда.
Из сарая вышла Марипат. Тоже, оказывается, встала раньше меня и успела уже подоить корову. Марипат заварила ароматный чай, заправила его свежими сливками.
Вот и Сакинат проснулась и тут же появилась во дворе. Она взяла веник, подмела перед домом, затем постелила широкую циновку, а на циновку положила, развернув, клеенку. Мама принесла из дому конфеты и пряники, о существовании которых я и не подозревала. Клеенку заставили всякими вкусными вещами — тут тебе и сметана, и сыр, и бавурсаки, и сладости.
Не заставил себя ждать и отец. Ради такого случая он принес из колхозного виноградника отборный виноград.
— Бери, доченька, это твой любимый… — сказал он, кладя сумку с виноградом мне на колени.
Сакинат взяла сумку, выложила крупный черный виноград на блюдо и помыла.
Мы сели завтракать. За чаем все только и говорили что о моей учебе.
— Бедная Айбийке, — сказала мать, взглянув на отца. — Теперь ей будет еще труднее. Ко всему прочему и учеба прибавилась. Двое малышей дома. Не знаю, что и придумать…
— Может, мне самому поговорить с председателем? Если бы Кендали остался в яслях, ей было бы полегче, — задумчиво проговорил отец, сдвинув набекрень кепку и почесывая затылок. — Но ведь он подрос уже. Председателя тоже понять можно: ясли совсем маленькие, сколько женщин сейчас сидит из-за этого дома, а рабочих рук не хватает. Ладно, я попробую попросить за Кендали, — уже твердо сказал отец и посмотрел на меня.
В глазах его читалось: «Все понимаю, доченька, мне очень хочется облегчить твое положение. Но и ты пойми, колхоз наш еще только становится на ноги… Вот когда разбогатеем…» Я тоже очень хорошо его понимала и терпеливо ждала того дня, когда наш колхоз наконец разбогатеет.
— В классе сиди тихо, старайся все запоминать, умные ученики так делают, — наставляла меня Сакинат, она вообще любила давать советы. — Внимательно слушай учителя, тогда много чего узнаешь…
— А если кто-нибудь сзади ущипнет? — спросила я, вспомнив, как кто-то из девочек рассказывал, что мальчишки во время уроков щиплются.
— Развернись и дай этому оболтусу по башке как следует, — быстро нашлась Сакинат.
Мать обернулась к ней и нахмурила брови. А мне сказала:
— Драться не смей. И никогда не ябедничай.
После завтрака отец, Янибек и Сакинат ушли на работу. А мама и Марипат сегодня не вышли в поле.
— Пока не проснулись малыши, позовем-ка на чай соседей, — сказала мама, подкладывая на поднос бавурсаков, и направилась к соседям, сначала к тем, что живут слева, потом к тем, что живут справа и напротив.
Марипат тем временем причесала меня, вплела в волосы красные ленты. После этого велела надеть новое ситцевое платье, а на ноги белые носки и новые коричневые сандалеты.
Я глянула в зеркало и не узнала себя. Когда я, одетая и немножко смущенная, вышла из дому, на циновке уже сидели соседки. От волнения я их даже не различила, чувствовала только, что все они смотрят на меня. Я и голоса своего не услышала, до того тихо поздоровалась.
— А ну-ка, поди сюда, Айбийке! — ласково позвала Каний, разглядывая меня, точно новую ткань на полке нашего магазина. Лицо мое полыхало, как и ленты в волосах.
— Не смущай девочку, — заступилась за меня другая соседка, Оразбийке. Она жила в доме напротив, на той стороне улицы; наши окна день и ночь смотрели друг на друга. Я не раз замечала, как Оразбийке в свое окно наблюдает за мной, когда я во дворе растапливаю печь, кормлю кур, подметаю, бегаю за детьми. От матери тоже не укрылось, что Оразбийке, у которой было несколько сыновей, присматривается ко мне, и, если вдруг я отказывалась идти по воду или собирать кизяк, она говорила: «Смотри, узнает Оразбийке и не возьмет тебя в невестки!» Иногда мама посылала меня к Оразбийке одолжить соли или спичек, и это было для меня сущим наказанием. А мать, видя мое замешательство, шутила: «Чего ты стесняешься. Будущая свекровь только обрадуется, что ты пришла. Она ни в чем тебе не откажет…»
Я страшно сердилась и, чуть не плача, отвечала: «Не нужны мне ее сыновья!»
И сейчас Оразбийке ласково оглядывала меня. Потом поднялась, подошла ко мне и накинула на мои плечи большой цветастый шелковый платок. Такой дорогой подарок могли дарить только близкие люди. Женщины с удивлением посмотрели на Оразбийке, переглянулись между собой, но та не обратила на них внимания, вернулась и села на место.
Каний тоже развернула сверток и положила мне на колени яркую ситцевую косынку. Соседка-старушка одарила меня синими носками и такой же синей лентой. А соседка Айшат протянула ситец на кофту и душистое мыло.
…Только много лет спустя, я поняла, что в этот праздничный для меня день они отдавали мне самое лучшее, что у них было…
— В добрый час, доченька. Пусть с первых же шагов сопутствует тебе удача, — улыбнулась Оразбийке.
Потом и все остальные высказали свои пожелания.
— Пусть знания пойдут тебе впрок, чтобы ты порадовала родителей своих и принесла пользу всему аулу!
— Расти послушной, умной! Уважай учителей!
— Дай бог посидеть нам на этом же месте в тот день, когда ты окончишь школу, порадоваться вместе с твоими родителями! Пусть дорога твоя из аула протянется в такие дали, где никто из нас не бывал.
Мама разлила всем горячего чаю.
А я тихо, сдавленным от волнения голосом, поблагодарила всех и удалилась в дом, чтобы еще раз проверить, все ли я положила в сумку. Вынула книги, тетради, карандаш, ручку, потрогала, полюбовалась и сложила обратно. Потом долго вертелась перед зеркалом. Оно висело на стене высоковато, и я могла видеть в нем себя только издали, а если приближалась, то маячила лишь голова. Я, словно невзначай, и в ладоши хлопала, и ногами топала, все ждала, когда же сестренка проснется. Не дождалась и стала будить ее.
— Вставай, ну вставай же, сегодня у нас праздник! — затормошила я ее; интересно, что она скажет, увидев меня в новом платье и с сумкой в руках?
— Какой еще праздник?! — вскочила Инжибийке, протирая глаза; испугалась, не прозевала ли что-то интересное.
— Я в школу иду!
— Ну и что? — уставилась она на меня. Затем снова ткнулась головой в подушку.
И моего радостного настроения как не бывало. Понуро вернулась я к зеркалу, вгляделась в себя пристальнее и нашла, что платье на мне как платье, ничего особенного.
Я вышла из дома с опущенной головой. Мать разговаривала с соседками. Мне хотелось незаметно проскользнуть мимо них, но не получилось. Мама вскочила с циновки, быстро подошла, одернула на мне подол, поправила оборки. Она, конечно, перемену во мне заметила, однако выяснять ничего не стала.
— Очень к лицу тебе это платье, только подними выше голову, расправь плечи! Счастливого пути тебе, доченька!
На глазах у мамы заблестели слезы, голос от волнения дрожал. Тогда мне невдомек было, отчего она так разволновалась. Лишь много позже поняла я это. Война отняла у нее юность. И молодость ее пролетела в сплошных заботах. Ей удалось закончить лишь начальную школу. И если бы не война, кто знает, может, мама пошла бы учиться дальше.
Я понимала, что сейчас мама нарушает обычай, хотя она всегда строго соблюдала их. Родители не должны при посторонних выказывать любовь к своим детям. Но мама еще и погладила меня по голове своей загрубелой рукой. Вспоминая ныне мать, я не могу ясно представить себе ее лицо, зато отчетливо вижу ее обветренные, со вздутыми венами, темно-коричневые от загара руки: они всегда то в мыльной пене, то в тесте, то в золе, то в них мелькают спицы, то иголка.
Как в пасмурный день светлеет земля, стоит хоть на миг выглянуть из-за туч солнцу, так и настроение мое сразу поднялось. Соседки заулыбались. И я радостная выбежала со двора.
Школа находилась неподалеку. Через минуту-другую я была уже там. Девочки-первоклашки сидели во дворе школы на зеленой травке и громко разговаривали. Обсуждали, у кого какое платье, какие ленты, туфли. А те, что постарше, носились по двору как угорелые, кричали, смеялись. Вон как весело, оказывается, в школе.
Я подошла к девочкам. Но садиться не стала, чтобы не испачкать платье. Они умолкли и с любопытством разглядывали меня.
— Какая ты сегодня красивая! — воскликнула Байрамбийке. — Это тебе мама сшила, да?.. У нас никто шить не умеет, кроме бабушки, а у нее, бедной, глаза плохо видят.
Я опустилась около Байрамбийке на корточки, пощупала, как это делают взрослые, подол ее платья, слегка потерев его между двумя пальцами. Платье, конечно, было сшито не ахти как, но мне не хотелось огорчать подружку.
— А кто же тебе сшил платье? — спросила я.
— Кошбийке, дочка наших соседей. Ей уже замуж пора, вот и учится шить.
— Ничего, неплохо сшила, — сказала я, а сама подумала: «Кто эту Кошбийке замуж-то возьмет, такую неумейку?» Но тут вспомнила, что ни Сакинат наша, ни Марипат тоже не умеют шить. Зато вяжут здорово. Наверное, каждый человек что-нибудь да умеет. Не может же так быть, чтобы кто-то совсем ничего не умел. Вот и Кошбийке наверняка или вкусно готовит или красиво вышивает. Только ей не надо было браться за шитье…
— Красивое у тебя платье! Ничуть не хуже, чем мое!
— Правда? — На лице Байрамбийке засветилась улыбка.
Вслед за мной и другие девочки стали наперебой расхваливать ее платье. И мне было очень радостно, когда я увидела, что настроение у Байрамбийке заметно улучшилось. Потом мы принялись сравнивать наши сумки. Они мало чем отличались друг от друга, только лоскутки разные. Попытались определить, у кого лоскутки ярче и красивее, но из этого ничего не вышло. Каждая расхваливала свою сумку и не давала рта раскрыть другому. Тогда мы выложили на траву содержимое сумок и стали смотреть, у кого что есть. Кое у кого оказались даже цветные карандаши.
В это время кто-то радостно закричал:
— Наш учитель идет, девочки!..
Мы вскочили с места, подхватили сумки.
К школе приближался высокий мужчина в сером костюме, худощавый, с густыми, седоватыми, слегка вьющимися волосами. Карие глаза его улыбались. Я и раньше не раз встречала его на улице и знала, что он учитель. И даже стала с ним здороваться еще с прошлого года. Причем делала это так громко, боясь, что он не услышит, что прохожие оглядывались на меня. Отвечая на мое приветствие, учитель, как мне казалось, присматривался ко мне, а у меня от радости прямо-таки голова кружилась. Вечером я непременно докладывала всем, и в первую очередь Инжибийке, что со мной поздоровался учитель. Теперь он будет нас учить. Я пробралась между девочками вперед и, как старому знакомому, сказала:
— Здравствуйте, учитель!
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Для меня началась совершенно новая жизнь. Дома только и слышно было: «А учитель так сказал… Учителю это не понравится… Надо сначала с учителем посоветоваться…» Учитель стал для меня тем человеком, на которого все должны были равняться, с которого все должны были брать пример, даже мой отец.
Однажды отец, рассердившись на Бегали, который то и дело проказничал, грубо выругался. С ним и раньше случалось такое, но я как-то не осмеливалась сделать ему замечание. Но на этот раз я посмотрела на отца с укором и уверенным голосом заявила:
— А при детях такие слова произносить не положено.
— Что-о?.. — не сразу понял отец, а когда до него дошло, что я сказала, на лице его застыла растерянность.
— Дети вслед за взрослыми повторяют. Учитель так говорит.
Отец покраснел и отвел в сторону взгляд, кашлянул в кулак, хмыкнул, махнул рукой и согласился со мной:
— Да, прав твой учитель, нельзя при детях.
— И вообще нельзя… — добавила я.
— Ладно, учтем.
В другой раз я поставила в неловкое положение нашу Сакинат.
Как-то я качала люльку, где лежал полусонный Кендали, и читала букварь. А Сакинат мыла посуду. Больше никого в комнате не было. Вдруг что-то со звоном упало и разбилось, Я даже вздрогнула, а Кендали расплакался. Оказывается, Сакинат уронила пиалу. Пиала была очень красивой, поэтому Сакинат испугалась. Мама очень сердилась, когда разбивали посуду. Сакинат быстро собрала осколки, выбежала из дому и выбросила их на улицу. Вернулась с таким же перепуганным лицом. Тихо подошла ко мне, погладила меня по голове и сказала:
— Пожалуйста, не говори матери, что это я разбила. Свалим все на Кендали, мол, это он разбил, ему все равно ничего не будет.
— Обманывать нельзя, — спокойно ответила я, не отрываясь от букваря.
— По-по-почему? — удивилась Сакинат.
— Учитель говорит, что обманщики — это самые бессовестные люди.
— Пустяки! — беспечно и вместе с тем почему-то зло проговорила Сакинат, но, встретившись со мной глазами, спохватилась и покраснела. — Вообще-то он прав, ваш учитель, обманывать нехорошо. Но бывают такие случаи, когда…
— Мама наказала бы за это и меня, и Кендали, а тебя не накажет, лучше правду скажи, — сказала я и снова уткнулась в букварь.
Сакинат обиделась и, хлопнув дверью, вышла из комнаты. «А может, и правда бывают такие случаи, когда приходится обманывать?» — вдруг засомневалась я. И думала об этом до самого вечера. До той минуты, пока Сакинат при мне не призналась маме, что нечаянно разбила пиалу.
Мама помрачнела лицом, но ничего не сказала.
К моему удивлению, не сплошные радости ждали меня в школе. Именно в школе я обнаружила в себе массу недостатков. Оказалось, что и бегать-то как следует я не умею. А ведь у самой всегда было ощущение, когда бежала с кем-нибудь наперегонки, что прямо лечу, а не бегу. Здесь же отставала от всех. Вдобавок ко всему меня еще очень обидели — назвали кривоногой. Прослыть кривоногой среди наших девочек я боялась. Весь первый урок только об этом и думала. Девчонка, так обидевшая меня, оказалась очень злой, на переменке она опять повторила свои слова, и я в страшном отчаянии, с ревом отправилась домой.
Мама была на работе. Марипат стирала. Продолжая тереть в мыльной пене белье, она выслушала меня, затем оглядела мои ноги и засмеялась:
— Были бы у всех девчонок такие ноги! Ровненькие у тебя ножки, успокойся.
Не поверив ей, я продолжала плакать. Тогда Марипат смахнула с рук пену и решительным голосом заявила:
— Кто тебя обидел? Сейчас пойду в школу и плюну тому в лицо!
Какой защиты от Марипат я ждала, и сама не знаю, но тут я не на шутку перепугалась. Как это можно плюнуть кому-то в лицо?! И сразу умолкла. Имя той девочки я, конечно, не назвала.
Еще хуже, как выяснилось, обстояло дело с моим музыкальным слухом. Будто слон наступил мне на ухо, между прочим, по словам той же девочки. Никак не удавалось мне точно запомнить мелодию песни. Когда пели все вместе, еще куда ни шло. Я просто открывала рот или пела так тихо, что и сама своего голоса не слышала. И все вроде бы сходило. Но стоило учителю заставить меня петь одну, как в классе начинали покатываться со смеху. А я краснела, и пение мое постепенно переходило в плач.
Однажды учитель при всех сказал:
— Ничего, Айбийке, не переживай. Подумаешь, какая беда. Не только у тебя нет слуха, главное, чтобы ты выросла хорошим человеком. У тебя есть свои достоинства, я бы сказал, даже преимущества перед другими.
Я немного успокоилась. Хотя и понимала, что учитель сказал это, чтобы в классе надо мной не слишком уж смеялись, чтобы ободрить меня. И тем не менее стала думать, о каких же таких моих достоинствах говорил учитель.
Ну наверное, прежде всего учитель имел в виду мою способность быстро запоминать прочитанное. Учеба поэтому давалась мне относительно легко. А вскоре обнаружилось, что я довольно прилично рисую. Рисовать хотелось все время. Только б рисовала и рисовала и больше ничего бы не делала. Особенно нравилось мне рисовать наши высокие зеленые тополя на берегу голубого канала и желтое солнце над ними. Но у меня был только простой карандаш, и я лишь воображала, что тополя зеленые, канал голубой, а солнце желтое. На самом же деле простым карандашом все получалось серо и уныло. Никто, кроме тебя самой, не видел ни зеленого, ни голубого, ни желтого цвета и даже разобраться не мог где и что, приходилось растолковывать, пока поймут.
Несколько раз просила я отца купить мне цветные карандаши, но их не было даже в магазинах райцентра. А в город давно уже никто из наших не ездил.
Минула зима, наступила весна — цветных карандашей у меня все не было. А весной… сколько же ярких красок в природе! Попробуй-ка обойтись без цветных карандашей. Как нарисуешь цветы, бабочек, траву, небо…
Весной аул наш преображался, становился особенно красивым. Все белили дома, красили заборы, мыли окна, подметали дворы, а под стрехами крыш ласточки лепили гнезда…
Однажды мне пришлось искать пропавшего теленка на другом берегу Шобытлы. Здесь редко кто бывает. Трава мягкая, как зеленый бархатный костюм нашей Марипат. Проведешь по ней рукой, и она приятно ласкает ладони, как пушистый мех на воротнике пальто Сакинат. И всюду разбросаны алые, синие, желтые, белые цветы, будто на огромном зеленом ковре, который я видела на полу в доме у нашего бухгалтера. Но там были цветы нарисованные, а тут живые — маки, тюльпаны, васильки, колокольчики, одуванчики, львиный зев, ромашки, кашка и сиреневые петушки. Больше всего нравились мне маки, Тонкий стебелек тянется вверх, к солнышку, а наверху большой красный венчик с черной середкой, похожий на пиалу из очень тонкого фарфора. Я опускалась на корточки и с нежностью смотрела на этот цветок. Какой он красивый и какой беззащитный. Стоит подуть легонько ветерку, как его тонкий стебелек раскачивается и клонится почти до самой земли. Подует сильнее — оторвутся и полетят, вспыхивая как искорки, яркие лепестки. «Красивой быть хорошо, а вот слабой… Плохо быть слабой», — подумала я, глядя на разлетающиеся в разные стороны лепестки.
Запахи цветов перемешивались, растворяясь в воздухе, от них чуть-чуть кружилась голова, и мне казалось, что я становлюсь легкой-прелегкой, как мотылек, и хотелось порхать, кружиться. И я запрыгала, заскакала, раскинув руки. Запыхалась и бросилась на траву. Теперь мне хорошо было видно небо. В густой синеве медленно плыли пушистые, как вата, белые облака. «Эй, облака, облака! Возьмите и меня с собой! Я тоже хочу увидеть другие аулы, города, горы. Говорят, где-то далеко-далеко есть высокие горы и огромное, без конца и края, море. Отец мой видел его, он куда-то ездил на пароходе. И говорит, что море такое сильное, что настоящий пароход подбрасывает на своих волнах, точно букашку. Как я хочу увидеть это море!.. Еще говорят, где-то за краем земли есть никогда не тающие ледяные горы. А в других местах, наоборот, никогда не бывает зимы, круглый год — лето! Вот здорово!.. Вам хорошо, облака, вы все это видите, нет для вас никаких преград, ни у кого не надо спрашивать разрешения… А я, кроме двух-трех окрестных аулов, ничего больше и не видела. Может, когда вырасту, и увижу другие края. Но это будет так не скоро!..» — думала я, провожая взглядом облака. И когда это я еще вырасту, ведь учусь всего-навсего в первом классе. И как медленно идет время! Вот если бы кто дал мне такое лекарство, от которого за одну ночь можно вырасти! И стать сразу взрослой, как наша Сакинат. Вот бы все удивились. Все бы спрашивали: «Неужели это наша Айбийке?» Но тут я вспомнила, что Сакинат не видела ни моря, ни гор, ни больших городов, только наш районный центр. И мне опять сделалось грустно. «Значит, стать взрослой это еще не все… Нужно и что-то другое, чтобы многое увидеть, чтобы многое узнать. Завтра спрошу у нашего учителя, что же для этого надо…»
Я села и, высунувшись из травы, в которой стрекотали кузнечики, огляделась. И так захотелось мне перенести всю эту красоту на бумагу. Нарисовать и волнующееся море, и горы со снежными шапками на вершинах. Но нет у меня цветных карандашей, я от обиды даже заплакала. «Попрошу завтра у Кызбийке. Всего на один день, — решила я. Тем и утешилась. — И Кызбийке заодно что-нибудь нарисую». Стала думать, что же я ей нарисую. Конечно, это небо и плывущие по нему свободные облака, и эту степь с бегущими по ней золотисто-зелеными волнами, и цветы, само собой.
Однако на следующий день меня опередила Байрамбийке. Не успела я положить перед собой тетрадку, как она уже попросила у Кызбийке красный карандаш. Та нахмурила тонкие брови, поджала губы и, сделав вид, что не слышит, поближе придвинула к себе коробку с карандашами. Старшая сестра Кызбийке учится в городе, в медучилище, и всякий раз, когда приезжает, привозит ей подарки, рассказывает про город, столько всего интересного рассказывает, что прямо заслушаешься. Оттого Кызбийке, наверное, и заносилась перед нами, никого не замечала.
Байрамбийке разозлилась:
— Жадина-говядина! Вчера у меня хлеб с маслом просила, и я дала тебе откусить! Больше ничего у меня не проси!
Кызбийке еще ближе придвинула к себе карандаши и невозмутимо сказала:
— А что у тебя есть, чтобы просить? Хлеб я и сама могу из дому принести, вчера просто забыла.
После этого у меня не хватило духу просить у нее карандаши. Байрамбийке ткнула меня в бок локтем и шепнула на ухо:
— Попроси ты, тебе она даст.
— Почему это мне даст, если тебе отказала?
— Ты учила ее читать.
— Ну и что?
— А вот и то! Благодаря тебе она пятерки получала, неужели ей карандаша жалко?
Выходит, жалко. Утром, собираясь в школу, я думала, что обязательно попрошу у подружки карандаши и весь день буду рисовать. Вот и попросила… И я уже досадовала не на Кызбийке, а на своих родителей: то денег у них нет, то времени, чтобы купить карандаши. Ведь знали, что я пойду в школу. Все возят и возят что-то продавать в город, а денег никак не прибавляется. И куклу не купили. Так без куклы и выросла.
Домой я возвращалась подавленная.
Встретила меня Марипат. Она всегда радовалась моему приходу. Но я от нее отвернулась.
— Что случилось? Опять кто-нибудь обидел? — встревожилась она.
— Ничего, — буркнула я и пошла в комнату переодеваться. Стараюсь держать себя в руках, а слезы сами по себе текут и текут по щекам. «Плакса, плакса! — ругаю себя. — Что скажет Инжибийке, если увидит?..»
Задержавшись в пустой комнате, я выплакалась, мне полегчало, и стала спокойно думать, у кого же все-таки попросить цветные карандаши? Может быть, у Арслана? Нет, он боится сестру, у них одна коробка на двоих. У Зарипат? Она очень жадная, у них в семье все жадные, снега зимой не выпросишь. Мукминат? Та — настоящая неряха: проучились всего ничего, а половина ее карандашей уже никуда не годится — обломанные, обгрызанные. У Алиме, кажется, тоже есть. Может, она даст?.. Правда, мы с ней никогда не дружили. Она жила в другом конце аула. А ребятишки из разных окраин аула почему-то не дружили между собой. Почему — и сама не знаю, У Алиме была скверная привычка ябедничать учителю, сплетничать о подружках. Ну как попросишь у такой?
В ту ночь мне и во сне приснились цветные карандаши. Привиделось, будто отец возвратился из города и привез мне целых две коробки. «Ой как здорово! — Я так и запрыгала от радости. — Одну оставлю себе, а другую, если мама позволит, отдам Байрамбийке!» Подсела я к подоконнику, раскрыла тетрадь и, позабыв обо всем на свете, стала рисовать. Травы, цветы, небо, облака. Рисую и сама диву даюсь, как это у меня хорошо получается. За спиной у меня стоят отец, мама, Сакинат, смотрят и восхищаются, цокают языками. «Ай да Айбийке, ай да молодец!..» И тут, на самом интересном месте, я и проснулась. Смотрю — рядом ни мамы, ни Сакинат, ни карандашей.
За окном сереет рассвет. Все уже встали. Со двора доносятся голоса.
В тот день, придя в школу, я решительно подошла к Арслану и попросила у него карандаши. На один день. Он криво усмехнулся:
— Карандаши? Попроси своего отца, пусть купит.
После такого ответа я уже не осмелилась подойти к кому-либо еще со своей просьбой.
На большой перемене все выбежали из класса. Кто помчался за куском хлеба домой, кто заспешил в туалет, большинство затеяло игру в жмурки.
В классе осталась только я. В раскрытые окна доносились веселые крики. Я встала из-за парты и медленно направилась к выходу. Проходя мимо первой парты, заметила в раскрытой сумке Кызбийке коробку цветных карандашей. Она лежала между тетрадками. Не соображая, что делаю, выхватила эту коробку и быстро сунула во внутренний карман безрукавки. Сердце заколотилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. И бросилась вон из класса. Торопливо пересекая двор, я краем глаза заметила, как хозяйка карандашей увлеченно играла в считалку.
Я прибежала домой, спрятала карандаши в постели, которую складывали на железном сундуке, выпила залпом кружку теплого чая с куском хлеба и побежала обратно в школу. По пути старалась себя успокоить. «Сейчас Кызбийке вряд ли спохватится. Она обнаружит пропажу попозже, станет, конечно, плакать, жаловаться учителю. Учитель, наверно, проверит наши сумки… А у меня-то и нету ничего!» — радовалась я.
И правда, Кызбийке заметила исчезновение карандашей только к концу третьего урока.
Весь урок я с нетерпением ждала звонка и ругала про себя уборщицу, что та медлит, не выходит во двор и не машет медным колокольцем, который до этого, видно, носил на шее какой-нибудь верблюд. Вдруг Кызбийке подняла руку и громко объявила, что у нее кто-то украл карандаши. Учитель поперхнулся, прервал объяснение. Слово «украл», по правде говоря, и меня больно кольнуло, я почувствовала, что заливаюсь краской.
Рамазан Аминович быстро взял себя в руки и сказал:
— Потерпи, Кызбийке, после урока выясним.
Урок продолжался. Но мне теперь казалось, что учитель, объясняя, как из букв складывать слова, незаметно наблюдает за нами, изучает в отдельности каждого. Чтобы не встретиться с ним взглядом, я сидела с опущенной головой и рассматривала свои руки, будто целый век их не видала. Во рту у меня пересохло, ноги дрожали, а уроку, казалось, не будет конца. Сейчас учитель догадается, кто взял карандаши. Или я сама заплачу и выдам себя с головой. А потом меня, конечно, выгонят из школы. Этого я боялась пуще всего. Отец непременно задаст мне ремня, а дети, встречаясь со мной на улице, станут обзывать воровкой. Это прозвище постепенно прилипнет ко мне, и все забудут мое настоящее имя. Только теперь я поняла, что совершила нечто ужасное.
Наконец-то прозвенел звонок. Рамазан Аминович сказал:
— Что касается карандашей… Пусть завтра же, кто взял, положит на место. Я знаю, у многих из вас нет карандашей, а рисовать хочется всем. Но это не значит, что можно брать чужое без разрешения. Тот, кто решился сделать это, должен крепко подумать о своем проступке…
Из школы мы возвращались с Байрамбийке.
— Интересно, кто же вытащил у этой жадины карандаши? Так ей и надо. А вдруг она подумает, что это я?.. — сказала она без тени огорчения в голосе.
Меня словно камнем по голове ударили. «Как же мне это в голову не пришло? Ведь Байрамбийке недавно просила у Кызбийке карандаши. Значит, на нее и скажут… Выходит, я вдвойне виновата!..»
Дома, за чаем, Марипат несколько раз поинтересовалась, здорова ли я, даже лоб мой пощупала. А я все горевала о том, что из-за меня плохо могут подумать обо всех, у кого нет цветных карандашей. Мне до такой степени сделалось не по себе, что кусок в горло не лез, захотелось встать и сейчас же отнести злополучные эти карандаши Кызбийке домой, а затем пойти к учителю и повиниться. Но не хватило духу, и я решила сначала посоветоваться с Байрамбийке.
Когда я пришла к подружке, она обедала. Увидев меня, всполошилась, вскочила с места:
— Что с тобой, Айбийке? На тебе же лица нет!
Убедившись, что в комнате мы одни, я быстро вытащила из-за пазухи коробку. Байрамбийке сразу все поняла, глаза ее округлились, и я заметила в них страх. Но когда я обо всем ей рассказала, то она, к моему удивлению, заявила, что незачем возвращать карандаши этой жадине. Глаза ее радостно заблестели.
— До завтра не умрет! — сказала она. — Давай лучше рисовать! Я еще ни разу не рисовала цветными карандашами, — призналась Байрамбийке, сглотнув слюну. — А завтра тихонечко положим ей в сумку. Никто и не заметит. Если же ты пойдешь к Кызбийке сейчас, то назавтра весь аул будет знать, что ты своровала. Не ходи!
— Но ведь она думает, что это ты…
— Ну и что!.. Все равно никто ей не поверит.
После ее слов улетучились последние капли моей решимости, и я осталась у подруги. Мы поудобнее расположились у окна и, пристроив тетрадки на широком подоконнике, стали рисовать. О, какое это было блаженство — небо рисовать голубым, деревья зелеными, облака белыми, маки красными!
Первой опомнилась я: ведь надо помочь Марипат, а она даже не знает, куда я запропастилась!
Зажав карандаши и листок бумаги под мышкой, я побежала домой. Однако едва я переступила порог, во мне снова заговорила совесть. Я ничего не могла делать, все у меня валилось из рук. «Оставь! Перебьешь последние чашки! — рассердилась Марипат. — Сама управлюсь!..»
И все-таки я пошла к учителю. Чем ближе подходила к его дому, тем сильнее дрожали руки и ноги, я с трудом заставляла себя идти.
Рамазан Аминович возился в огороде. Он отер рукавом пот со лба и внимательно посмотрел на меня.
— Я… я… ка… ран… даши, — с трудом произнесла я, покраснев, как мак.
Он молчал.
Я подняла глаза. Никогда не забыть мне учительского взгляда. В нем были одновременно и растерянность, и разочарование, и огорчение. И мне стало ясно: до этой минуты я была вне подозрения, учитель верил мне, а я его подвела.
— Отнести Кызбийке? — пролепетала я еле слышным голосом.
— Не надо, — сухо ответил он. — Никому ни слова. А завтра положишь карандаши на место.
Я ушла как побитая. Уж лучше бы он пристыдил меня, отругал, пригрозил наконец…
На следующий день я незаметно сунула карандаши в сумку Кызбийке. Никто не видел. Помалкивала и Байрамбийке.
Много воды утекло с тех пор. Но еще долго, стоило кому-нибудь завести речь о воровстве, я непременно краснела или бледнела. Особенно часто сетовал на нечистых на руку наш отец. Раньше я за ним этого не замечала, а теперь, казалось мне, только об этом и толкует. Он был бригадиром-полеводом, и нередко ему досаждали охочие до чужого добра соседи. Хочешь не хочешь, а приходилось отцу докладывать о них председателю.
Наступило лето. Я перешла во второй класс. Были каникулы, и, конечно, я нянчила детей.
Однажды вечером, когда сельчане возвращались с работы, я сидела на земле, прислонившись к стене дома, и покачивала на коленях дочку Марипат. Неподалеку стояли отец и наш сосед и о чем-то толковали. Мама возилась около печки. Она только что пришла с поля. Наступил как раз тот час, когда в каждом дворе были люди: одни готовили ужин, другие ждали возвращения с пастбища коров и овец, третьи просто о чём-нибудь судачили.
В конце улицы показались женщины с огромными вязанками на спинах. Они несли курай. Шли, согнувшись в три погибели. Собирая топливо, женщины словно забывали, что придется тащить вязанку на собственном горбу, и собирали столько, что с трудом могли поднять.
— И как они умудряются столько взвалить на себя? — с сочувствием проговорил сосед; его жене не приходилось заботиться о топливе, он делал это сам.
Зато нашей матери доставалось. Поэтому отец на вопрос соседа не ответил, опустил глаза и отвернулся.
В это самое время у женщины, которая еле плелась последней, вязанка распалась, и курай рассыпался по земле — наверное, веревка порвалась. Но это не привлекло бы внимания, если бы вместе с кураем не покатились по земле в разные стороны крупные картофелины. Послышался чей-то смех, кто-то многозначительно покашлял.
— Бедняжка, — произнесла мама, возившаяся около печки. — Как ей не повезло! Столько свидетелей, и председатель вон идет.
Остальные женщины, испугавшись, что и их начнут проверять, не останавливаясь, заспешили прочь.
Действительно, председатель колхоза стоял возле своей калитки и все видел.
— Надо же, ну и ну, — сокрушался наш сосед. — Кто постоянно ворует, не попадется, а кто попробует разок, непременно угодит в капкан… — а сам поглядывает на отца; видимо, не столько женщину имеет в виду, сколько себя — отец и его однажды поймал с зерном. Он просил, заклинал, чтобы отец не предавал это огласке. Узнай об этом председатель — несдобровать бы ему.
Председатель сам жил очень скромно и не терпел воровства. Сельчане говорили о нем с гордостью: «Наш коммунист». В ауле было пять коммунистов. Среди них и мой отец.
Танбийке, которая так глупо попалась на глазах у всех, сначала страшно растерялась. Уселась, как наседка, на свой курай, думая, наверное, что подолом прикроет картошку. Но, услышав чей-то смех, встрепенулась, подобралась вся, вскочила и, уперев руки в бока, приняла воинственный вид.
— Чего смеетесь? — крикнула она. В глазах ее было отчаяние. — Разве виновата я, что дети мои есть просят? Все знают, какая у меня судьба. Если б хватало на жизнь, стала бы я позориться?..
Председатель повернулся и зашел в свою калитку.
Я опять вспомнила про карандаши. Вскочила, сунула в руки растерявшемуся отцу ребенка и бросилась на помощь к Танбийке. Из соседнего двора выскочили еще двое мальчишек. Мы быстро собрали картофель и сложили в маленький мешок, который снова упрятали в вязанку курая, туго затянули веревку и помогли бедной женщине взвалить ношу себе на спину.
— Спасибо, мои милые, спасибо. Да убережет вас судьба от такого позора, — бормотала Танбийке, сгибаясь под тяжестью и все еще хлюпая покрасневшим носом.
Я заметила, что лицо у Танбийке, как у старухи, все в морщинах. А ведь ее старшая дочка мне ровесница. Танбийке и правда жилось очень трудно. Куда труднее, чем нашей маме. Пятеро детей, больной муж.
Потом отец рассказал, что правление выделило Танбийке из колхозного склада мешок картофеля и поручило подобрать ее мужу работу по силам на дому, чтобы начислять ему трудодни.
И вот так каждый раз, чуть что — вспоминала я злополучные цветные карандаши.
АБАЙ СОБИРАЕТСЯ ЗАМУЖ
Когда я училась в первом классе, дядю Янибека призвали в армию. За день до его отъезда в нашем доме собрались гости. Мужчины сидели в одной комнате, женщины — в другой. Во дворе около печки хлопотали Марипат и ее подруги. В большом жестяном чайнике, не переставая, кипел чай, а в котле варилось мясо. Мне и подружке моей Байрамбийке было поручено носить угощение от печки к гостям.
В последнее время Марипат стала молчаливой и грустной. Это заметили и ее подруги и принялись подшучивать:
— Да, милая, ничего не поделаешь, разлука с любимым — не шутка. Пока он вернется, постареешь и подурнеешь. От тоски начнешь стихи мужу писать.
— Приготовь на завтра побольше носовых платков…
— Смотри, не нарушай сгоряча обычай, не обними мужа при людях…
— Оставьте пустые разговоры, — рассердилась пожилая Алтын. — Одна Марипат, что ли, провожает мужа? Много женщин с честью ожидают суженых. Не на войну, слава богу, провожаете, вернется цел и невредим. А любовь только крепче станет.
В комнате за столом все свое внимание женщины сосредоточили на Сакинат. Она сидела с ними, кому еду подкладывала, кому чаю подливала. Потом и Марипат пришла, села от нее неподалеку и тоже стала ухаживать за гостями.
— Да, жалко, не дождался свадьбы своей сестры Янибек. Ведь вот-вот выскочит замуж, — как бы между прочим заметила одна из женщин и испытующе посмотрела сначала на Сакинат, потом на Марипат.
Но ни та ни другая не проронили ни слова.
Я сразу поняла, что неспроста женщины затеяли этот разговор. В ауле поговаривали, что у Сакинат есть жених.
Чтобы не дать оборваться нити разговора, за кончик ее ухватила другая женщина и сказала:
— Да что вы, пока брата дождется, и не заметит, как в старые девы угодит. Грушу и ту никто не ест, когда переспеет. Все хорошо в свое время.
Тогда Марипат обвела всех быстрым взглядом и тихо заметила:
— Может, и успели бы сыграть свадьбу при брате, но у Сакинат жениха еще нет.
Сидевшая рядом с ней женщина наклонилась к ее уху и что-то зашептала. Все, видимо, догадались, о чем та спрашивает, и с любопытством ждали, что ответит Марипат. Марипат отрицательно закачала головой и решительно сказала:
— Это неправда, это просто сплетни!
Сакинат еще ниже опустила голову и покраснела.
Любопытство мое разыгралось. К Сакинат уже двое присылали сватов, но она обоим отказала. Теперь никто из нашего аула к ней не сватался. «Кого же, интересно, имела в виду эта женщина?» — терялась я в догадках. Раз Марипат ответила так резко, значит, мама наша не согласна выдавать Сакинат за того человека.
С улицы донесся голос Байрамбийке. Она звала меня играть. Я выбежала к ней и тут же позабыла про Сакинат.
На следующий день одновременно со взрослыми встали на рассвете и мы с Инжибийке. У нас заночевали родственники, приехавшие провожать Янибека из других аулов. Вместе со всеми мы сели пить чай. По утрам, пока солнце пригревало еще не очень сильно, завтракали обычно во дворе. Инжибийке да и я тоже без конца задавали Янибеку всякие вопросы и, видимо, порядком надоели ему, потому что слушал он нас уже вполуха, отвечал невпопад и все смотрел и не мог насмотреться на свою жену. Высокая, стройная, белолицая, зеленоглазая, светловолосая, Марипат сегодня выглядела особенно хорошо. Нос у нее был пряменький, губы чуть-чуть припухлые и алые, я всегда говорила, что красивее ее нет женщины в нашем ауле. Может, где-нибудь в другом месте и есть, но не у нас. На Марипат синее в белый цветочек крепдешиновое платье, на голове не каждодневный тастар — косынка из белого простого холста, а голубой гульменди — шелковый платок с кистями. В длинные русые косы вплетены серебряные монеты. Девушка на выданье, да и только. Недаром Янибек любовался своей женой, думая, что никто этого не замечает.
Когда он еще только собирался жениться на Марипат, соседки восхищались:
— Не зря сказывают, что бог из одной глины слепил и свекровь и невестку! Как вы похожи! — хотя мама вовсе не приходилась Марипат свекровью, а была сестрой ее жениха. Что же касается внешности, то они действительно были похожи. А характеры совсем разные. Однако соседки предрекали, что с годами и характер у невестки будет такой же золотой, как у свекрови.
Мать, помнится, отвечала им:
— Славная у нас невестка. Только вот мать у нее какая-то странная.
— Да, мать у нее непростая, — поддакивал кто-нибудь из соседок. — А ведь в народе говорят: прежде чем отпить чай, загляни внутрь пиалы, прежде чем засватать девушку, посмотри на ее мать. Кто может поручиться, что со временем Марипат станет похожей на тебя, Хадижат, а не на свою мать…
— Что поделаешь, парень сам облюбовал ее, — вздыхала мама.
Разговор этот остался в моей памяти.
Когда Марипат стала жить у нас, мы сразу поняли, что она добрая и тихая. И всем нам она пришлась по нраву. Главное — Марипат души не чаяла в своем муже. Смеясь, рассказывала, что подруги завидуют ей, мол, бог даровал ей чересчур много, муж-то у нее и красивый, и вежливый, и добрый, жену свою жалеет.
Вот и сидел сейчас наш Янибек угрюмый: может, думал, как ей тут без него придется.
После завтрака мама сказала ему:
— А теперь попрощайся со стариками. Три года — срок немалый, кое-кто, может, и не увидит твоего возвращения.
Вместе с Янибеком увязались и мы с Инжибийке, ходили вслед за ним из дома в дом, где были старики.
— Счастливого пути тебе, родной! — напутствовали они Янибека, довольные оказанным им вниманием. — Служи примерно, не осрами нас. Если мы не встретим тебя, то встретят наши дети. С честью возвращайся!
Всех обошел Янибек, никого не забыл, всем пожелал здоровья, от всех получил благословение.
Когда мы вернулись, в нашем дворе было полным-полно народу.
Солнце уже поднялось на высоту тополей и начало пригревать. Вскоре напротив дома остановилась машина и засигналила. Услышав гудки, Марипат вздрогнула. Все поднялись. Янибек обнял сначала нас, детей, потом приехавших издалека родственников, затем друзей, Сакинат, мою маму, отца, только к жене не подошел. Я видела, что он все время смотрел на нее, по подойти и обнять не посмел. Сел в кабину и захлопнул дверцу. Когда машина отъезжала, он тоже во все глаза смотрел на Марипат. А она — даже не знаю, видела ли она его сквозь слезы или нет, — стояла бледная и все махала рукой.
После отъезда Янибека нашему отцу стало куда труднее, обязанности дяди тоже легли на его плечи: и смотреть за овцами, и содержать в чистоте сарай, а летом косить сено, возиться с двумя огородами. Конечно, отец не успевал. Мама иной раз в сердцах сетовала, что он больше болеет душой за колхозное добро, нежели за свое.
Постепенно мы привыкали к отсутствию Янибека. Я, Инжибийке и Сакинат теперь спали в одной комнате с Марипат. И она все реже вспоминала о муже, зато все чаще отлучалась к своей матери, проводя там долгие часы. Мне почему-то было обидно, но никто, кроме меня, не придавал этому значения.
В то лето, когда я перешла во второй класс, Сакинат стала получать из города письма. Наверное, она просила старого почтальона вручать письма из города, если ее не окажется дома, только мне. Письма же от Янибека он отдавал любому, кого увидит во дворе. Когда почтальон вручил мне письмо в первый раз, я все-таки показала его маме. Она внимательно оглядела его со всех сторон, вертя и так и этак.
— Этот дурак, наверно, не отвяжется от нее, — недовольно сказала мама, сразу помрачнев. — Но и она хороша: таким парням отказала, а на женатом свет клином сошелся. Мякина, что ли, у нее в башке, неужели не соображает, что рано или поздно он все равно к своей семье вернется! Ну что с ней делать?
Мать тяжело и горько вздохнула.
Вечером мама, позвав Сакинат в другую комнату, долго разговаривала с ней. И в клуб ее не пустила.
Ночью, когда Инжибийке и Марипат заснули, Сакинат принялась шепотом выговаривать мне за то, что я показала маме письмо. Я чувствовала себя виноватой и притворилась, что сплю.
Сакинат помолчала, приподнялась на локте, внимательно присмотрелась ко мне в темноте и сказала:
— Притвора! Я же вижу, что не спишь, — и совсем уже другим тоном проговорила: — Ты, Айбийке, не обижайся на меня… В следующий раз этого не делай, ладно?
— Ладно, — вздохнув, согласилась я.
— Все равно выйду за него, никто другой мне не нужен, — скороговоркой произнесла Сакинат и, кажется, всхлипнула.
— На чужом несчастье счастья не построишь, — сказала Марипат. Оказывается, она тоже не спала и все слышала.
— С женой он не из-за меня разошелся, я тут ни при чем.
— Послушала бы ты, что люди о тебе говорят…
— Людям рта не заткнешь. Что же мне теперь, из дому не выходить?
Сакинат и Марипат долго еще говорили о ком-то, кого я не знала. Даже имени его не слышала. Многое из разговора было мне неясно. Поняла только, что парень этот не из нашего аула. А более всего меня поразило, что он бросил жену и детей, а сейчас живет себе преспокойно в городе. «Он же, наверное, совсем старый», — подумала я.
Спустя несколько дней к нам пришли две женщины и двое мужчин. Родители выпроводили нас из комнаты, а сами остались с гостями, которых привечала Марипат. Сакинат же быстренько собралась и ушла к подруге. Я сразу догадалась, что эти люди пришли ее сватать.
В ту ночь Марипат рассказывала Сакинат подробности этого неудавшегося сватовства. А я, прикинувшись спящей, все подслушала. Оказывается, как только сваты заговорили о главном, мама заявила: «Разве может называться мужчиной тот, кто бросил на произвол судьбы детей? Как его уважать после этого? Или он собирается, по старому обычаю, иметь не одну семью? Но слава богу, Советская власть отменила многоженство».
И отец, якобы, тоже вставил свое слово: «Пусть лучше позаботится о своих детях, чем думать о свадьбе. Нет, мы не можем пойти на такое».
Сакинат долго плакала и вдруг, хлопнув ладонью по подушке, решительно заявила:
— Не отдадут по доброй воле, сама уйду. Убегу к нему…
— Ты что, спятила? Как такое могло прийти тебе в голову? А брат вернется из армии, что он скажет? Ни нам, ни тебе не простит этого.
Выходить замуж без родительского благословения считалось большим позором.
Хотя мы были еще маленькие, мама часто твердила нам о необходимости дорожить девичьей честью. Поэтому я тут же про себя решила непременно рассказать ей о намерениях Сакинат. И поскорее.
Однако в самый последний момент, не желая уподобляться болтушке Инжибийке, передумала.
А через некоторое время к нам опять припожаловали сваты. На этот раз среди них была и мать того парня. И опять они ушли ни с чем.
Так и лето минуло.
Я пошла во второй класс. Училась я не очень хорошо, не так, как мечтала поначалу. Занятая домашней работой, я не успевала делать уроки. Марипат, правда, отдала своего ребенка в ясли и уже работала в колхозе, но забот у меня ни капли не убавилось. К тому времени мама родила мне еще одну сестренку. Назвали ее Балбийке. Считалось: где много детей, еще один не помешает, незаметно вырастет. Теперь и Кендали был дома, и хлопот с ним хватало, особенно когда он болел. По вечерам у нас становилось шумно, как в яслях. Уже похолодало, во дворе не побегаешь, и все домашние собирались в одной комнате. В люльке плакала Балбийке, на торе возились, кричали, спорили, визжали дочка Марипат, Алимет, и Кендали. А я, улучив минутку, подсаживалась к подоконнику, раскрывала книгу и водила пальцем по строчкам, но в уши назойливо лезли визг, плач, и я не понимала, что читаю.
Шестого ноября, в канун праздника, тем, кто учился на четверки и пятерки, вручали в школе подарки, о них тепло говорили учителя, подружка моя Байрамбийке тоже была среди награжденных. Я и радовалась за нее, и было мне немножко обидно: задачи и примеры она всегда списывала у меня, но никто этого не знал.
Я заметила, как расплылось в улыбке лицо матери Байрамбийке. Глаза ее сияли. «И моя мама так радовалась бы…» — с грустью подумала я и отыскала ее взглядом. Она стояла среди женщин неподалеку от двери и тоже смотрела на Байрамбийке. Что-то похожее на зависть мелькнуло в глазах у мамы.
Учитель похвалил еще одну мою одноклассницу. Я опять обернулась. Но мамы уже не было. Наверное, побежала кормить Балбийке.
Вышла я из школы и медленно побрела по улице, глотая слезы. Придя во двор, зашла в сарай, растянулась на сене и долго плакала. Не заметила, как уснула. И вижу сон: будто стою я на берегу Шобытлы, на том самом месте, где весной любовалась полем и тополями. И главное, будто я уже взрослая, и красивая-красивая, и настроение у меня такое веселое! Все мои сестрички, братишки, племянницы выросли. И аул уже совсем другой: дома не камышом грязно-серого цвета покрыты, а красной черепицей, и высокие они, как наш клуб, при каждом доме сверкают стеклами голубые веранды, а в палисадниках подле них цветут розы. Вдоль нашей улицы стоят зеленые-презеленые, высокие-превысокие деревья, и солнце, необыкновенно ласковое и теплое, гладит меня по голове мягкими лучами, и мне так хорошо-хорошо… Открываю глаза — и вижу маму. Она тихонечко гладит меня по голове, лицо у нее мокрое, будто плакала.
— Что с тобой? Почему ты здесь? — спрашивает она.
А я молчу, все никак не могу прийти в себя, зачарованная только что увиденным сном, где все было так светло и радостно. И не хочется мне верить в то, что вовсе я не на берегу Шобытлы, а в грязном сарае, и не розами пахнет вокруг, а навозом, и на мне не сказочно красивое платье, а мое выцветшее старое.
Я вздохнула и закрыла глаза.
— Не бывает радости без печали, а печали без радости, доченька, — ласково сказала мама. — Все будет хорошо, вот увидишь. У тебя еще вся жизнь впереди… Я понимаю, малыши сейчас тебе мешают учиться, но пройдет время, и все трудности позабудутся. И тогда будешь только радоваться, что у тебя есть сестры и братья.
Я поднялась, стряхнула с платья прилипшие стебельки сухой травы и пошла вслед за матерью домой.
Она пожарила мне вкусную яичницу и поставила передо мной пиалу с ароматным чаем. И я сразу позабыла о своих печалях.
Потихоньку и зима пришла в аул. Снегу навалило куда больше, чем в прошлые годы. А чем больше снегу, тем больше радости. Жить нам стало веселее, особенно в школе. В заснеженном дворе каждый резвился как мог: одни боролись, валили друг друга в сугроб, другие катались на отшлифованных до блеска нашими подошвами и одеждой дорожках, третьи играли в снежки. После уроков мы теперь не спешили, как всегда, домой, а задерживались в школьном дворе или на улице, где сугробов было не меньше.
После того памятного дня, который запомнился моей подружке Байрамбийке как праздник, а мне как день довольно грустный, мама старалась высвобождать для меня больше времени на учебу. Теперь я вечерами много читала и даже рассказывала Бегали и Кендали сказки. Они, притихнув, слушали очень внимательно. Иногда и Инжибийке присоединялась к ним, если в тот вечер не убегала в клуб. С некоторых пор мама перестала отпускать Сакинат в клуб одну, ее постоянно сопровождала Инжибийке. Сестренке это так понравилось, что она каждый вечер собиралась в клуб едва ли не раньше Сакинат. И если та не торопилась, напоминала ей: «Мы сегодня не пойдем, что ли?..»
Однажды Инжибийке вернулась из клуба всего минутой или двумя раньше Сакинат, веселая и возбужденная, и заговорщическим голосом сообщила матери:
— Знаешь, кого я видела в клубе? Темирхана! Он все время танцевал с Сакинат. И что-то шептал ей на ухо, а она смеялась!..
Лицо у мамы вытянулось так, будто во время еды ей на больной зуб попал камень.
На следующий день Сакинат, конечно, в клуб не пустили. Инжибийке заканючила: «Мы сегодня не пойдем, что ли?» — но мама строго прикрикнула на нее: «Сиди дома! Послушай вон лучше сказку!..»
Не помню, сколько прошло дней. Я возвращалась из школы. Неподалеку от нашей калитки меня остановил незнакомы» молодой человек, коренастый, невысокого роста, черноглазый, чернобровый. Пожалуй, его можно было назвать красивым. Однако мне он не понравился. Может, потому, что я догадалась, кто это, и вспомнила, сколько волнений и хлопот этот человек доставляет маме.
— Ты Айбийке? — спросил он, ласково улыбаясь-, зубы у него были крупные и ровные.
— Да, — ответила я, нахмурившись, и, обойдя его, последовала дальше.
«Конечно, это тот самый Темирхан. Не буду с ним разговаривать!» — решила я.
Он помялся и робко попросил:
— Передай, пожалуйста, вот эту записку Сакинат…
Я ничего не ответила, только окинула его неприязненным взглядом. Он прошел рядом со мной еще немного, продолжая держать записку в руках, потом опомнился, огляделся по сторонам и спрятал руку в карман.
— Ну, что тебе стоит?.. Сакинат всегда хвалила тебя, говорила, что ты умница и на тебя можно положиться. Я не могу долго ждать, мне надо скоро уезжать…
Я упрямо продолжала молчать, уставившись в землю и нахмурив брови.
Темирхан перестал заискивающе улыбаться, лицо у него сделалось сердитое, и он процедил сквозь зубы:
— Ну и вредная же ты, как и твоя мать.
Меня словно кипятком ошпарили..
— А вы с Сакинаткой дураки оба!.. — закричала я, еле сдерживая слезы, и даже ногой, кажется, притопнула. — Моя мама жалеет детей, которых вы бросили!
Сказала и бросилась бежать.
Навстречу шли две женщины с пустыми ведрами. Заметив, что я реву, они улыбнулись, и одна из них крикнула вдогонку:
— Что, мальчишки обидели? Ничего, эти же самые озорники скоро будут сохнуть по тебе, как былинка по осени!..
Если бы меня обидели мальчишки, я не плакала бы, а дала бы им сдачи. Надо попросить маму, чтобы она не удерживала больше дома Сакинат. Пусть выходит за этого дурака, пусть…
Войдя в комнату, я увидела веселое лицо мамы. В последнее время у нее редко бывало такое хорошее настроение. Она даже не заметила моего появления, так была увлечена беседой с соседкой. Они разговаривали и вместе что-то рассматривали. Оказывается, только что принесли письмо от Янибека. Он прислал и свою фотографию.
— Как он пополнел, тьфу, тьфу, тьфу, машалла!3 — говорила мама. — Хоть там и холодно, но, видно, воздух тамошний пошел ему на пользу. Дай-то бог поскорее дождаться его возвращения!..
— Да-а, — вторила ей соседка. — Смотри, как хорошо одевают, обувают и кормят солдат…
Я тоже наклонилась над фотографией, и слезы мои высохли.
…Минула еще неделя. В один из вечеров мама вернулась с улицы чем-то крайне раздосадованная и сразу набросилась на Сакинат с упреками. Из ее слов я поняла, что кто-то постарался донести до маминых ушей аульские сплетни: оказывается, в том, что Сакинат и Темирхан чувствуют себя несчастными, виновата только наша мама.
— Отпиши своему красавцу, чтобы присылал сватов! — рассекла рукой воздух мама. — Я на все согласна! Но если он потом бросит и тебя, никого, кроме себя, не вини!
Сакинат, вместо того чтобы разобидеться, кинулась ей на шею.
И начали готовиться к свадьбе.
НЕСЧАСТЬЕ ХОДИТ В ОБНИМКУ С БЕДОЙ
После переезда Сакинат в доме стало скучнее. Особенно загрустила Инжибийке. Привыкла вечера проводить в клубе, а теперь с кем пойдешь? Впрочем, она, наверное, и одна побежала бы, если бы мама отпустила. А сейчас приходилось сидеть дома. И она приставала ко мне: «Расскажи сказку. Почитай книжку». И братишек подбивала, чтобы просили. До сказок ли мне было? Забот у меня опять прибавилось, ведь одной помощницей у мамы стало меньше. То, что раньше делала Сакинат, приходилось делать мне. И как это я раньше обо всем не подумала? А то бы ни за что не согласилась, чтобы Сакинат выдали замуж.
По словам мамы, стало трудно сводить концы с концами, потому что в колхозе теперь работали только отец и Марипат. Спустя какое-то время мама попросилась на ток в дневные сторожа. Ток находился в двух километрах от аула, и ей приходилось ходить туда по нескольку раз в день. А дома пекла хлеб, стирала, готовила еду. Алимет, к счастью, уже ходила, но Балбийке все еще висела на мне, поэтому мама, уходя, наказывала никуда не отлучаться. Мальчики наши подросли и целый день пропадали на улице. Нередко мы даже не знали, где они с дружками-приятелями носятся. А они лазили по чужим садам и огородам, бегали по степи, отыскивали там сусличьи норы, таскали из реки ведрами воду, чтобы выгонять, этих пушистых шустрых зверьков из норок, и, натешившись вволю, отпускали их.
Иногда мама брала с собой на ток и Балбийке. Она везла ее в той самой тележке, в которой совсем еще недавно я катала Кендали. Но девочка ни с того ни с сего принималась плакать, и маме по пути приходилось брать ее на руки и успокаивать. Возвращалась она до смерти уставшая, потная и раскрасневшаяся от жары. И тем не менее ей, оказывается, ' многие завидовали. Работающие на току женщины говорили: «Хорошо тебе, и дома успеваешь побыть, и здесь, а мы день-деньской пропадаем тут».
И все-таки мне казалось, что мама выглядела куда лучше, когда работала, как другие: уходила утром и возвращалась вечером. А теперь она осунулась, почернела, взгляд у нее был усталый, и я не помню, когда она в последний раз смеялась.
От Марипат в последнее время пользы было мало. Домой она возвращалась лишь к вечеру и по пути забирала из яслей Алимет. С лица ее не сходила недовольная мина, будто работала она одна, а другие сидели дома и отдыхали. Покрутится, повертится и ищет повода уйти к своим. Чаще всего повода не находилось, и исчезала она незаметно.
Может, мама и терпела бы это, но ведь соседи всегда считали своим долгом вмешиваться в чужие дела:
— Ты что это, Хадижат, невестку распустила? Каждый день бегает к своим родителям, ни стыда ни совести.
— Молодая ведь, скучно ей дома одной. У родителей собираются сестры, есть с кем посудачить… — уклончиво отвечала мама словами моего отца.
— Зря ты так легкомысленно к этому относишься. Мать у нее бестолковая, умного совета не даст. Твой долг предостеречь Марипат от ошибок. Если что, обвинять будут тебя, а не мать. И брат первым долгом с тебя спросит.
В душе мама со всем этим соглашалась. Но, уняв сердечную боль, спокойно отвечала, что не может она силой удерживать дома чужую дочь, если рядом живут ее собственные родители, что не может она бессердечно относиться к невестке, которая и так страдает от разлуки с мужем…
— Твоя жалость ей только во вред, особенно когда под боком нет мужа, попомнишь мое слово, — наставляла маму соседка Каний.
— Родители ведь тоже плохого не пожелают…
— Пусть тогда и перебирается к своим родителям насовсем. Не смогла ты, видать, сразу прибрать ее к рукам. Не зря говорят умные люди: ребенка надо воспитывать с пеленок, а невестку с порога. Или сама не была молодой невесткой? Много ты ночевала у своей матери?
— Время было другое, — пряча глаза, снова искала мама спасения в отцовских словах.
В разговорах с отцом мама нередко вспоминала, как она вела себя в доме его брата. На что отец отвечал: «Время-то было совсем другое, и сами мы были другие. Теперь молодежь вон какая. Независимая. Но это не значит, что в голове у них пустота. Ничего с твоей невесткой не случится, если разок-другой переночует у своих близких…»
И все-таки в один из вечеров мама, оставшись в комнате вдвоем с Марипат, долго с ней о чем-то разговаривала. Когда они вышли, у обеих глаза были красными и опухшими от слез.
Отец с удивлением посмотрел на одну, потом на другую, хмыкнул, но ничего не сказал, решил, наверно, что не стоит ему влезать в женские дела.
Как бы то ни было, а после того разговора Марипат стала реже ночевать у своих родителей. И только воцарилось было в доме спокойствие, как заболела Балбийке…
Медсестра Маша по нескольку раз в день приходила к нам и все уговаривала маму поехать с ребенком в больницу. Но мать и слышать об этом не хотела.
— На кого я брошу остальных детей, мужа, работу? — сопротивлялась она. — Корову и то некому будет подоить.
— Вам что, корова дороже ребенка? — возмущалась Маша.
— Чему быть, того не миновать… — отвечала мама, в душе, однако, веря в исцеление. Все ее дети болели — и ничего, выросли, любо-дорого посмотреть сейчас. И на этот раз обойдется.
Я помогала маме ухаживать за больной девочкой, старалась изо всех сил, а ей становилось все хуже и хуже. И наконец мама решилась поехать в больницу.
— Посмотри за сестренкой, а я немного постираю. После обеда поеду с ней в райцентр, — сказала она мне.
Я обрадовалась, так как была уверена, что врачи обязательно помогут сестренке.
Балбийке лежала в колыбельке с полуприкрытыми глазами и тяжело дышала. Было невыносимо больно смотреть на ее тоненькие ножки и ручки, запавшие щеки. Она была легче маленькой куклы. Мне было очень жалко ее, и я, не зная, чем помочь, стала гладить ее по горячей головке. И вдруг девочка открыла глаза и улыбнулась. Я выбежала во двор:
— Мама, мама, Балбийке улыбается! Ей уже лучше!
Мама бросила стирку и метнулась в комнату. Девочка еще раз улыбнулась.
— Ах ты моя хорошая, моя милая! Откуда у тебя силы-то взялись? Зря я до сих пор не поехала в больницу, ты уже была бы здоровенькой… — Мать расплакалась.
Дрожащими руками мама гладила головку девочки, руки, ножки и плакала, и проклинала выпавшие на ее долю беды, проклинала войну, которая отняла у нее мать и братьев.
Я впервые видела, как мама, обливаясь слезами, сетует на судьбу. Ей очень редко изменяла выдержка, хотя она и улыбалась не часто.
Вскоре девочке стало совсем плохо. Дышала она прерывисто, с трудом.
— Сбегаю за Машей, — сказала мать и бросилась из дому.
Вернулась с Машей. Та накинулась на маму, стала ругать ее за то, что не поехала в больницу. Мама побледнела, не знала, куда девать руки, глаза ее лихорадочно блестели. Девочка с трудом разомкнула веки и поискала кого-то взглядом, попыталась улыбнуться, но ей это не удалось. Она снова закрыла глаза…
Балбийке похоронили в тот же день.
Я чувствовала себя вконец обессиленной, бродила по дому, точно во сне. Почему-то все время вспоминалось, как я иногда обижала свою кроткую сестричку, не брала ее на руки, когда она плакала. Теперь у меня сжималось сердце. Так и видела перед собой ее смуглое личико, ясные глазенки… Я с беспокойством поглядывала на маму, и мне казалось странным, что она вроде бы не особенно и переживает. Глаза, хоть и красные, но уже сухие, бледные губы плотно сжаты, ходит по комнате, прибирает.
На следующий же день мама вышла на работу, а вечером согрела воды, искупала всех детей, приготовила ужин. Увидев, что я отвернулась к окну и плачу, спокойно и ласково сказала:
— Не надо так горевать, Айбийке. У тебя слишком доброе сердце. Плачь не плачь — ее не вернешь…
Временами я забывалась, но стоило мне увидеть в углу тора люльку, накрытую полосатым покрывалом, как я снова заливалась слезами…
Времени у меня теперь, когда не стало сестренки, прибавилось, я могла ходить с Марипат в поле, собирать терн, купаться с Инжибийке в Шобытлы.
Обнаружилось, что я не умею плавать. А все мои подружки давно научились.
— Айбийке, давай я тебя научу! — кричала Инжибийке и смеялась над моими неуклюжими движениями. Подгребая под себя воду, я так сильно била ногами, что серебряные шарики брызг взлетали высоко вверх, Инжибийке плавала перед самым моим носом взад-вперед: — Это же совсем просто, смотри!..
Даже Бегали умел плавать, и неплохо, нырял и кувыркался в воде, как утка. Только мы с Кендали, войдя в реку лишь по пояс, боялись удалиться от берега и завидовали другим. Я приседала, хлопала по воде руками и весело смеялась.
Теперь и я реже вспоминала Балбийке. А вот маму я все время жалела. Она, как и раньше, каждый вечер возвращалась с работы, навьюченная кураем. Отец по-прежнему не находил времени, чтобы позаботиться о доме.
— Айбийке, Инжибийке, помогите мне, а то опозоримся, останемся без топлива, — умоляюще просила мама нас. — У соседей что хочешь можно попросить, но топлива еще никто ни у кого в долг не просил. Раньше хоть Янибек помогал…
И мы с Инжибийке часто ходили в поле то кизяк собирать, то курай. Нередко звали с собой и соседских детей, чтобы веселее было, но те не всегда соглашались. А Кызбийке однажды хвастливо заявила:
— Ваш отец просто лентяй! Вот мой папа всегда сам привозит дрова.
— Мой отец не лентяй, он очень занятый человек! — ответила я с достоинством. — У него трудная работа, не то что у твоего. Он думает о колхозе больше, чем о своем доме…
— Наш папа коммунист, вот! — вставила свое слово и Инжибийке.
Тем не менее ходить за топливом стало нашей обязанностью, и эту обязанность мы с сестренкой превратили в веселое путешествие. По дороге мы гонялись друг за дружкой, играли, ловили бабочек и кузнечиков, кувыркались на траве, и каждый день ходили в разные стороны, чтобы увидеть все окрестности аула.
Однажды Инжибийке, не желая уступить мне, сделала себе из курая огромную вязанку. Хотела поднять ее да так и повалилась вместе с вязанкой, чуть носом землю не пропахала. Я громко рассмеялась. Сестренка обиделась, что я смеюсь, вместо того чтобы помочь. Переполовинила свой курай, сделала маленькую вязаночку, вскинула на спину и пошла себе, не дожидаясь меня.
А я без ее помощи долго не могла поднять свою вязанку. Для этого мы обычно садились на корточки, привалясь спиной к вязанке, перебрасывали через плечо веревку и, крепко держась за нее, резко наклонялись вперед, вставая при этом на колени, и вязанка, будто сама собой оказывалась на спине. А тут, как я ни старалась, вязанка то перекатывалась через голову, то я не могла подняться с колен. А Инжибийке все шла себе вперед и шла, не оглядываясь. Когда я совсем отчаялась и решила передохнуть, вдруг вижу: мимо меня ползет змея. Я так испугалась, что и пошевельнуться не могу. Инжибийке бы позвать — да голоса нет. Только успела эта змея скрыться в траве, смотрю — еще одна ползет. Извивается и лоснится вся, как черная лента. Слышно, как трава под ней шуршит. Прошмыгнула она возле самых моих босых ног, а у меня даже отдернуть их, поджать под себя мочи нет, такой меня сковал страх. Не успела я прийти в себя, а тут ползет третья. Прямо на меня. Со страху мне показалось, что она глаз с меня не сводит…
Не знаю, откуда и силы взялись, меня, словно пружину, подбросило вверх, я вскочила и с воплем бросилась бежать.
Услышав мой крик, Инжибийке обернулась. Поняв, что со мной что-то неладное, скинула свою вязанку и помчалась мне навстречу.
— Змеи!.. Змеи!.. — закричала я.
Когда мы поравнялись, она схватила меня за руку и сказала ровным, спокойным голосом:
— Не надо так пугаться, Айбийке, а то сердце уйдет в пятки.
От ее спокойствия я опешила. Немного придя в себя, спросила:
— Кто тебе сказал, что сердце может уйти в пятки?
— Все говорят — разве ты не слышала? — когда человек чем-то сильно напуган, сердце его уходит в пятки. А как тогда будешь ходить? — Инжибийке подошла ко мне, бесцеремонно задрала мое платье и с важным видом приникла ухом к моей груди: — Ой, Айбийке, у тебя и вправду сердце не стучит, исчезло куда-то!.. — заявила она, округлив испуганные глаза.
— Да ты не там слушаешь, сердце не с правой стороны, а с левой, — сказала я насмешливо.
— У человека два сердца, — уверенно сказала Инжибийке. — То, что трусливое, от испуга ушло у тебя в пятки. Не веришь, послушай свою пятку!
— Как я ее послушаю? Послушай ты, — сказала я и приподняла ногу.
Инжибийке опустилась на корточки и, вцепившись обеими руками в мою ступню, прижала ухо к пятке.
— Стучит, — заявила она, не моргнув глазом и без тени улыбки, и, поймав мой недоверчивый взгляд, добавила: — Послушай сама, если не веришь!.. Не бойся, я никому не скажу.
— А я и не боюсь, тебе все равно никто не поверит, — сказала я.
— Мне не поверит?.. — окинула она меня презрительным взглядом с ног до головы, и я поняла, что Инжибийке, если того пожелает, любого заставит поверить во что угодно. — Ладно, пойдем за твоей вязанкой, — сказала сестренка.
— Нет, ни за что! А вдруг змея заползла в мой курай! — испуганно сказала я.
— А веревка? Так и оставить, что ли? Мама заругает! Пошли! Я пойду впереди!
Инжибийке решительно направилась к сереющей вдалеке вязанке. Не в силах сделать и шагу, я глядела вслед ее маленькой, хрупкой, как стебелек, фигурке, и сделалось мне совестно. «Она не боится, а я струсила. Трусливому жизнь особенно дорога, говорят люди. Это про меня сказано», — подумала я и бросилась догонять сестренку.
Кое-где на земле отпечатался извилистый гладкий след.
Мы обошли вязанку со всех сторон, внимательно оглядели ее, стараясь не наступать на отпечатавшиеся кое-где на земле следы. Инжибийке даже несколько раз ткнула курай сухим стеблем чертополоха, пнула ногой. Окажись там змея, то, конечно же, перепугавшись, давно бы дала деру.
— Если бы ты не убежала, она бы тебя укусила, — заключала Инжибийке, с видом бывалого следователя разглядывая место происшествия. — Наверное, злая была… Может, поругалась со своими.
Инжибийке помогла мне взвалить на спину вязанку, и мы пошли домой. Прежде чем поднять свой курай, она и в нем хорошенько пошуровала хворостиной, попинала ногой, при этом произносила какие-то заклинания, которых якобы боятся змеи, и быстро догнала меня.
В те дни в нашем ауле произошло памятное событие. Через Шобытлы построили новый мост. Все знали, что он давно уже строится, но от нас это было далековато, и мы с Инжибийке туда не ходили. А однажды вечером отец пришел с работы радостный и с порога сказал:
— Завтра я вас возьму на открытие моста!
На следующее утро, боясь проспать, мы с Инжибийке вскочили раньше матери. А когда и она встала, помогли ей подоить корову, вскипятить чай, накрыть на стол. После завтрака оделись во все новое, как в праздник, и уселись в бричку отца, а он пока впрягал лошадь.
По дороге Инжибийке насплетничала отцу о том, как я испугалась змеи. Он не всполошился, а с улыбкой сказал:
— Я научу вас ловить гадюк и вырывать у них ядовитые зубы. Вот тогда вы не будете ничего бояться.
— Сначала меня научи! — радостно закричала Инжибийке. — Айбийке все равно трусишка. Я буду собирать яд в банку, а потом давать тем собакам, которые меня кусали.
Отец засмеялся. Я была уверена, что Инжибийке так бы и сделала, если бы научилась ловить гадюк.
Приехали.
На берегу тьма народу. Новый желтый мост, еще пахнущий свежеструганым деревом, радует глаз. Высокие перила прочные, из бревен. Вход на мост перекрыт красной лентой.
Неподалеку от моста две женщины в больших котлах готовят плов. Синеватый дым поднимается к небу, и в воздухе плывет вкусный аромат.
Митинг открыл председатель. Он говорил о том, что колхоз в этом году купил еще одну машину и трактор, в соседнем ауле построили новую овцеводческую ферму, а вот теперь и мост. Пусть он послужит символом наших успехов. Скоро сдадут в эксплуатацию и ясли-садик, так что детей и их родителей ждет еще один большой праздник. Все радовались, хлопали в ладоши. «Богатеем, из года в год богатеем», — слышалось справа, слева от меня.
Разрезать ленту попросили председателя. Но он отказался и передал ножницы шоферу Данибеку:
— Тебе эта честь…
Данибек сегодня принарядился, будто знал, что ему доверят такое.
— Столько раз проезжал по прогнившему мосту, руки не дрожали, а сейчас волнуюсь, — сказал он, медленно приближаясь к ленте.
Разрезанная лента упала наземь. Данибек сел в кабину своего видавшего виды грузовика и два-три раза проехал по мосту туда и обратно. Потом мост в мгновение ока заполнили ребятишки, стали бегать по нему, топать по настилу ногами, словно проверяя на прочность. А председатель пригласил всех на плов. Детей угостили не только пловом, нам надавали пряников, конфет.
В тот день и дома нас ждала радость. Оказывается, в гости к нам приехала со своим мужем Сакинат. Я давно ее не видела, она изменилась, похорошела, принарядилась. И походка у нее стала степенной, важной. Чувствовалось, что живется ей неплохо. Темирхан разговаривал с ней уважительно, смотрел на нее ласково.
Вскоре Темирхан с Сакинат уехали. И снова потянулись дни, однообразные и похожие как две капли воды.
В том ауле, где жила Сакинат с мужем, находились фермы нашего колхоза. Заведующий фермой настолько развалил работу, что вынужден был срочно рассчитаться и уехать. Председатель долго ломал голову, кем его заменить, и наконец попросил нашего отца хотя бы временно присмотреть за скотоводческой фермой и наладить там работу. Поначалу отец и слышать об этом не хотел, пытался убедить председателя, что не по душе ему возня с овцами да коровами. Однако председатель все-таки уломал отца. Может, и мама сыграла в этом свою роль…
Ни для кого не было секретом, что чабаны в тех краях жили куда лучше, чем другие колхозники. Вон сколько наш отец осенью возил в город картофеля, риса, лука, кукурузы, а денег не хватало даже на то, чтобы купить нам необходимую одежду. У нас с Инжибийке на двоих было одно пальто, одна пара резиновых сапог. Только галоши были и у нее, и у меня, и то, наверное, потому, что если бы она надела мои, то непременно потеряла бы где-нибудь, увязнув в грязи. Скорее всего из этих соображений мама тоже принялась уговаривать отца. И он сдался, вызвав тем самым крайнее удивление всех наших соседей. Я уже рассказывала, как у нас в ауле бывали недовольны, когда кто-нибудь уезжал. Отец, оправдываясь, уверял, что он уезжает совсем ненадолго, поработает там годика три да и вернется.
Что же касается меня, то мне до слез не хотелось никуда переезжать, не хотелось расставаться со своими одноклассниками, школой, зелеными тополями на берегу канала, соседями. А вот Инжибийке и Бегали прямо прыгали от радости; глядя на них, ликовал и Кендали. Они ожидали этого переезда как какого-то праздника. Инжибийке даже злилась на меня, что отъезд задерживается из-за моей учебы.
Как только начались каникулы, мы стали собираться в дорогу.
В день нашего переезда во дворе у нас толпились люди. Колжа Канбий даже расплакался. Он уже много лет работал в бригаде отца и был к нему очень привязан. Люди прозвали его Колжа-Наивный.
Провожая нас, мои подружки плакали, особенно Байрамбийке. Она без конца твердила, чтобы я не забывала ее.
Когда уже погрузили на машину вещи, соседи принесли хлеб, масло, сыр, помидоры, чтобы мы в дороге перекусили, хотя пути-то до того аула минут пятнадцать — двадцать. Но таков был обычай, оставшийся от старых времен, когда никого из аула не отпускали в дорогу, не снабдив запасом еды.
Мы расселись в кузове поверх свертков и узлов. Машина тронулась. Остающиеся махали руками и кричали нам вслед:
— Только смотрите, там себе дома не стройте!
— Возвращайтесь скорее!
НА НОВОМ МЕСТЕ
И началась для нас совершенно новая жизнь. Наверное, именно так жили в далекие-предалекие времена наши предки. Мы то и дело кочевали по необъятной степи в поисках хороших пастбищ. Жили то в юрте, то в вагончике на резиновых колесах. У отца было два помощника. Они пасли отару. Мы с Инжибийке нередко тоже на весь день уходили с чабанами. Привольно чувствовали мы себя в степи. Здесь и земля была какая-то совсем другая, песчаная, мягкая. Трава низкорослая, жесткая, как щетина; вместо деревьев редкие кустарники, вместо реки разбросанные то тут, то там артезианские колодцы. А простор, которому не было ни конца ни края, степной ветер, настоянный на травах и цветах, не переставали удивлять нас. Мы с Инжибийке ловили ящериц и кузнечиков, а потом отпускали; среди густой травы отыскивали гнезда жаворонков и подолгу рассматривали, боясь приблизиться, чтобы не спугнуть; долгие минуты, затаившись в полыни, проводили неподалеку от сусличьих норок, ожидая, когда же появится рыжий пушистый зверек и, приподнявшись на задних лапках, весело засвиристит; провожали взглядом стаи пролетающих над степью птиц.
Домой возвращались к обеду вместе с чабанами, загорелые, уставшие, томимые жаждой и голодом. Залпом опорожнив по огромной чашке холодного айрана, садились обедать. Мать кормила нас наваристым бульоном с лапшой и мясом. Наевшись, мы с Инжибийке стелили в тени юрты войлок и часок-другой, пока спадет жара, спали; нередко рядом с нами укладывались, свернувшись клубком, и наши собаки, словно телохранители. Взрослые тем временем отдыхали в юрте, где было прохладно и темно.
Потом мы помогали маме мыть посуду, кипятить чай и ведром на длиннющей веревке доставать из глубокого колодца воду. Когда смотришь в этот колодец, то дна не видно, только когда ведро касается воды, доносится тихий всплеск. Иногда отправлялись искать забредшего бог весть куда теленка, а он, озорник, не хотел возвращаться, бегал, прыгал, затевал с нами игру.
Особенно любила я степные закаты. Оранжевый круглый шар, все еще яркий, но уже такой, что на него можно смотреть, медленно. опускается на самый краешек степи, постепенно багровеет и подсвечивает округлые бока облаков; небо над головой быстро темнеет, а воздух словно бы все еще разбавлен розовым арбузным соком. Сколько я ни глядела на солнце, никак не могла заметить его движения, как оно опускается. Солнце все ниже и ниже клонилось к горизонту, осторожно соприкасалось с ним, так осторожно, что я ни разу не почувствовала толчка, как ни ждала и ни прислушивалась. Постепенно солнце погружалось в землю, и казалось, что это не солнце вовсе, а опрокинутый ломоть сладкого-пресладкого арбуза. «Айбийке, давай сбегаем посмотрим, что там!» — предложила однажды сестренка. «Это очень далеко, — вздохнула я. — До темноты не успеем вернуться…»
Мама разводила костер. И тьма от юрты то разбегалась в разные стороны, то опять приближалась, пряталась за юрту, то с одного ее боку выглядывала, то с другого. Мама подбрасывала в огонь курай, и темнота вновь убегала в степь.
Мы сидим перед юртой на войлоке и играем в кости или рассказываем друг другу сказки. Рассказываю в основном я, а Инжибийке, Бегали и Кендали слушают. Вскоре из темноты доносятся мужские голоса. Это возвращаются чабаны. Вот наконец и они сами. Мама снимает с прокопченного казана пропитанную маслом деревянную крышку и разливает по мискам горячую еду. Аппетитный запах распространяется вокруг, заставляя поторапливаться чабанов, и они, умолкнув, прибавляют шагу.
После ужина отец брал в руки домбру, и красивые мелодии улетали в степь. Здесь не было комаров; сидеть у костра, наслаждаясь прохладой и запахами степи, приносимыми ласковым ветерком, — такое удовольствие. Я прислушивалась к звучанию струн, плавному и нежному, и мечтала. Мечтала поскорее вырасти, стать взрослой…
В это лето я чувствовала себя счастливой. Даже очень счастливой. Я уже не нянчила детей, могла играть в свое удовольствие, да и мама меньше нервничала, и все-таки…
Все-таки временами на меня наваливалась непонятная тоска. Особенно когда я приближалась к дороге, которая пролегала неподалеку. Это была широкая степная дорога. Колеса машин и арб размололи ее поверхность в мельчайшую мягкую пыль. По утрам, выгоняя на выпас телят, я направлялась к этой дороге, садилась за обочиной на бугорок и смотрела вдаль, в ту сторону, куда убегала и терялась в зыбком мареве серая лента дороги. У самого горизонта я замечала облачко пыли. Все разрасталось облачко, и все ближе оно становилось, а ветер относил его в сторону, стлал по степи. И впереди него уже виднелась маленькая точка. Это машина… Много машин проезжало по нашей дороге. Чаще с грузом. Иногда в кузове сидели пассажиры. Они с удивлением смотрели на меня, оборачивались и улыбались. Наверное, думали: «Откуда взялась тут эта девочка, когда на много верст вокруг не видно никакого жилья». А я завидовала им, что едут они в какой-то большой мир, пока не доступный мне. Я вскакивала и махала им рукою. Они тоже махали мне и что-то весело кричали. А порою мне хотелось плакать. От обиды, что не могу поехать с ними. Кто знает, может, они и взяли бы меня с собой…
Приближался сентябрь. Пора было готовиться к школе. И Инжибийке тоже. Мы переехали в кошару, расположенную неподалеку от аула, где жили Сакинат и Темирхан. Обычно здесь зимовала отара. Аул этот был небольшой. Воду здесь пили колодезную, вкусную, холодную. Поговаривали, что вскоре тут пробурят еще одну скважину и отведут артезианскую воду в другие степные аулы, где вода была солоноватой и с неприятным запахом. Но мне этот аул совсем не нравился. Около домов ни единого деревца; ни палисадников, ни огородов, а лишь приземистые сараи, крытые камышом, возле них — сложенный горой кизяк и скирды курая. По внешнему облику аула не трудно было догадаться, что жители его занимаются в основном скотоводством.
В этот год я пошла в четвертый класс, а Инжибийке — в первый. В нашем классе было всего четверо учеников: трое мальчиков и я. Им-то хорошо, их трое. Наверное, они считали зазорным водиться с девчонкой и сторонились меня. Я же от скуки не находила себе места и вспоминала своих веселых подружек…
Мы с Инжибийке выходили из дому рано утром. До аула было километра три-четыре. Всю дорогу Инжибийке ни на минуту не замолкала, говорила о своих новых подружках, о том, что рассказывала им учительница и кто из девочек ей больше всего нравится. Я молча брела рядом с ней и думала о Байрамбийке…
К полудню, когда занятия кончались, отец верхом, ведя на поводу еще одну лошадь, подъезжал к школе. С помощью отца я садилась на серого в яблоках коня, ноги у него были тонкие, длинные и будто в белых носочках, а голову на гибкой шее он держал горделиво, словно знал себе цену. Потянув за повод, я разворачивала коня и легонько поддавала ему в бока пятками, при этом изо всех сил старалась не смотреть на наших мальчишек, делала вид, что не замечаю их, они же стояли разинув рты и с завистью смотрели мне вслед.
Отец нагонял меня где-то в середине пути. Он ехал, усадив перед собой Инжибийке и одной рукой придерживая ее. Инжибийке, возвращаясь из школы, обычно бывала не в настроении и помалкивала. Ей, конечно, очень хотелось ехать верхом самостоятельно, но отец пока не разрешал. «Айбийке научил. А меня нет…» — хныкала сестренка. «Вот подрастешь и тебя научу», — успокаивал ее отец.
Вначале, когда я только училась ездить верхом, мне было очень страшно. Отец меня поддерживал, а я вцеплюсь мертвой хваткой в гриву коня и сижу — ни жива ни мертва. Стоило отцу отнять руки, так я от страха зареветь была готова. Но вскоре привыкла. Оказывается, ездить верхом — огромное удовольствие. Особенно если конь послушный и такой красивый, какой был у меня…
Научившись ездить верхом, я стала меньше бояться темноты и собак. Не знаю, куда вся трусость моя подевалась. Теперь я могла спокойно пройти даже мимо кладбища, когда приходилось искать теленка.
Научилась я и корову доить. Как-то маме нездоровилось, и она попросила меня подоить Пеструшку. Я много раз видела, как она это делает, ничего вроде бы хитрого. Но едва я приблизилась к корове и заметила, как она покосилась на меня фиолетовым глазом, как вся решимость моя враз куда-то улетучилась. Поставила я ведро под вымя, а сама стараюсь держаться подальше. Вдруг, думаю, корове что-нибудь не понравится — лягнет еще и угодит копытом в лицо. Наклонилась я неуклюже вперед и тяну за соски. Пальцы с непривычки онемели, а струйки молока — то в ведро, то мимо. Пеструшка, конечно, сразу почувствовала: доят ее не те руки, чужие, снова покосилась и, не знаю почему — то ли рассердилась, что много молока на землю пролилось, то ли сделала я что-то не так, — ка-ак саданет ногой, ведро отлетело прочь, а меня всю молоком обдало. С перепугу я так и шмякнулась в лужу молока.
Попыталась еще раз подступиться к кормилице нашей, да куда там, она и близко к себе не подпустила.
Прибежала я домой, чтобы пожаловаться маме. А тут малыши давай потешаться надо мной, смеются, дразнят. Хотела Бегали надрать уши, но он вырвался, убежал. И Инжибийке с ними заодно. Ей бы только посмеяться. Сама-то хоть бы что-нибудь умела делать по хозяйству, так ведь палец о палец не ударит, а над другими посмеяться любит. Мне и вовсе обидно стало, и я расплакалась.
Пришлось маме звать соседку. Пеструшку подоила соседка, жена чабана.
Через несколько дней, хотя мама была уже здорова, я попросила:
— Можно, я подою?
— Только накинь на голову мой платок, — посоветовала мама.
Пеструшка несколько раз оборачивалась и смотрела на меня с недоумением. Наверное, думала: «Платок вроде тот, а руки другие…» Но в этот раз вела себя смирно. Во мне храбрости прибавилось, и я справилась с дойкой.
Однажды мне приснился сон: будто учусь я в своей прежней школе. На перемене Байрамбийке предложила поиграть в прятки. Все разбежались, попрятались, а я ищу. Ищу и никого не могу найти. И так плохо мне одной, так страшно…
Проснулась, а слезы так и льются в три ручья. Хочется в свою школу, в родной аул.
Инжибийке не встает, жалуется, что у нее болит живот. Значит, в школу мне сегодня идти одной. А так не хочется. Не люблю я эту школу. Мало в ней детей. Даже поиграть не с кем.
Некоторое время я плелась, опустив голову и глядя под ноги. Потом обернулась и, убедившись, что никто вслед мне не смотрит, свернула к кладбищу. Пересечь его по еле приметной тропинке я не решилась, а только побродила вокруг, издалека поглядывая на заросшие травой могилы. На некоторых лежали массивные серые камни с какими-то надписями, похожими на узоры. Тут царили тишина и покой.
Вскоре мне захотелось есть. Я отыскала уютную ложбинку, где трава была повыше и погуще, прилегла, подложив под голову сумку, и, глядя в чистое голубое небо, съела свой кусок хлеба с маслом. Солнце поднималось все выше, становилось теплее, в траве начали постукивать своими серебряными молоточками кузнечики. Потом они так расстарались, что монотонным звоном убаюкали меня. Я и не заметила, как сладко уснула. А в груди все росло какое-то тревожное чувство, от которого я и проснулась. Не сразу вспомнила, что не пошла сегодня в школу. Села, огляделась. По солнцу определила, что перевалило далеко за полдень. Отец, наверное, ездил встречать меня и узнал, что я не была на уроках. Теперь меня будут ругать. А вдруг отец так рассердится, что схватится за ремень? Что же делать? Не возвращаться, что ли, домой?.. Но ведь все равно придется отвечать за свой поступок. Лучше уж сразу…
Я встала и решительно направилась к дороге, ведущей к нашей кошаре. Вдруг вижу: навстречу — двое всадников. Одна лошадь серая в яблоках, другая белая. «Отец и еще кто-то, — догадалась я. — Наверное, меня ищут». И почему-то испугалась. Юркнула, пригнувшись, в заросли чертополоха и замерла. Всадники проехали мимо. От голода неприятно засосало подложечной. Я пошарила в сумке, хотя и знала, что не осталось ни крошки, и вдруг обнаружила кусочек сахара. Давно я ничему так не радовалась. Сунула сахар в рот и долго держала его там, смакуя. Положила себе на колени книжку сказок с красивыми цветными картинками и стала читать.
Когда солнце начало клониться к горизонту, я поняла, что никуда мне не деться, придется вернуться домой. Правда, надеялась, что к этому времени гнев родителей немного уляжется.
Но дома, оказывается, все было наоборот: чем больше темнело, тем сильнее росла тревога. И в конце концов поднялся настоящий переполох.
Когда отец, вернувшись из аула, сказал, что меня не было в школе, мама сначала не поверила, а потом схватилась за голову: «С ней что-то случилось!..» А тут и Инжибийке подлила масла в огонь: «Один раз пошла без меня эта Айбийке и уже заблудилась!..» Отец снова отправился в аул, настегивая лошадь. Расспрашивал у ребятишек, искал у знакомых. Так ничего и не выяснив, вернулся мрачный и растерянный. Мама стала плакать, ее причитания и вовсе вывели отца из себя, он выскочил из дому и продолжал поиски вокруг кошары…
В этот момент я и появилась на пороге. Мама осеклась и несколько мгновений молча смотрела на меня огромными, полными слез глазами, потом засыпала вопросами. Выяснив, что во всем виновата я сама, принялась мне выговаривать. А отец тем временем неторопливо снял с брюк ремень. Я сжалась вся, опустила голову, но прощения не просила, знала, что все равно не простит. Трижды просвистел в воздухе ремень. Кажется, я кричала, но крика своего не слышала, да и мало что соображала в ту минуту. Из рук отца меня вырвала мать.
А на следующее утро я заболела. И теперь уже взаправду не смогла пойти в школу. Меня то знобило, будто я вся льдом обложенная лежу, то бросало в жар. Лицо пылало, страшно болела голова, так что трудно было открыть глаза.
— Что с тобой? Ты обиделась на нас? — спрашивала мама и плакала.
Голос ее доносился как сквозь вату.
— Отпустите меня в наш аул, — просила я, еле двигая потрескавшимися губами. — Мне здесь не нравится…
— Потерпи, милая, до лета, а потом все вместе переедем. Не только ты, все мы скучаем по родному аулу, — всхлипывала мама, нервными движениями поглаживая мои плечи.
В прихожей скрипнула дверь, я вздрогнула. В комнате появился отец, а вслед за ним и какая-то женщина. В белом халате, в руках большая коричневая сумка. Оказывается, отец привез из райцентра врача. Она прослушала меня, прикладывая короткую деревянную трубку сначала к груди, потом к спине, простукала каждое ребрышко, помяла живот и сказала, что у меня сильная простуда. Дала выпить какие-то лекарства, сделала укол, но легче мне не стало. До меня, будто издалека, доносились чьи-то голоса. Я старалась разглядеть, кто тут собрался, и никак не могла. И вдруг увидела маму. Сидит за уставленным яствами столом рядом с соседкой, что-то говорит ей и смеется. Веселая-веселая. Давно она не была такой веселой. А… ну да, это же свадьба у наших соседей! На маме ее любимое крепдешиновое платье в цветочек, а на голове белый шелковый тастар. Она совсем молодая в этом наряде и очень красивая, ни единого седого волоса еще.
Когда стали танцевать лезгинку, кто-то пригласил и мою маму. Она танцует и улыбается, а концы легкого тастара то развеваются, как крылья, то обвиваются вокруг нее…
— Тебе полегче? — слышу голос отца и с трудом открываю глаза.
Как сквозь туман проступают медленно передвигающиеся по комнате силуэты. Кто-то говорит:
— Укройте ее теплым одеялом, дайте горячего чаю, пусть пропотеет…
— Сейчас я заварю чай, — слышу дрожащий голос перепуганной Инжибийке.
Почувствовав на лбу чью-то шершавую ладонь, вглядываюсь в склонившегося надо мной человека и узнаю отца. Лицо заросшее, давно не бритое, глаза от усталости ввалились.
— Что с. тобой, Айбийке? Где болит? Ты уж прости меня, девочка…
Я хорошо видела его, хорошо слышала, но ничего не понимала. Не понимала, почему он просит у меня прощения…
Мама села рядом со мной на край постели и напоила меня горячим чаем. Мне очень хотелось спать, а заснуть не могла. Стоило закрыть глаза, наваливался на меня какой-то страх, и казалось, кто-то начинает меня душить. Я кричала. Но голоса своего не слышала. Чувствовала, что вся мокрая, вокруг меня люди. Видела, мама вытирает слезы. Женщина в белом халате наклонилась ко мне и спросила:
— Ты слышишь нас? Хорошо слышишь?
— Да слышу, — прошептала я.
— Где болит? Чего ты боишься?
— Меня душат… мне страшно!..
Потом я почувствовала, что меня во что-то кутают. Несут… Я вырывалась… Бежала… Пряталась… Кто-то сильно заламывал мне руки, ноги, давил на грудь…
Когда пришла в себя, никак не могла понять, где нахожусь. Белая комната, белые занавески на большом окне и постель белая. Три койки. На одной лежит женщина. Другая пустая. Я попыталась приподняться, но не хватило сил. Женщина встала, подошла ко мне и дала воды.
— Где это я?.. Что со мной?..
— В больнице ты, милая, — сказала женщина, глаза у нее были добрые и улыбчивые. — Тебе нельзя вставать. Если чего захочешь, скажи.
Приходила мама, она сидела со мной долго, рассказывала обо всех новостях, советовалась, как со взрослой.
— Эх, дочка, — сказала она однажды, вздохнув и с сочувствием разглядывая меня. — Слишком нежное у тебя сердце. Чувствительное очень. Нелегко тебе будет в жизни… Когда-то и я была такой, всех жалела, за всех переживала, а помочь редко чем могла. Так сердце мое постепенно и огрубело. А не огрубей оно, разве смогла бы я перенести столько горя и живой остаться? Терять близких, детей собственных, думаешь, просто?.. Нежное сердце такого не выдержит… Нужно быть потверже, доченька, покрепче. Чтоб жизнь своими жерновами не перетерла тебя в пыль. А жернова у нее ой какие тяжелые… не приведи бог… Словом, покрепче будь, хочу тебе сказать, — снова вздохнула она и, помолчав, добавила: — Когда выйдешь из больницы, на день-другой отпущу тебя в наш аул. Погода сейчас — что тебе лето…
Я вернулась в кошару, радуясь одной мысли — вскоре поеду в наш аул, увижу подружек.
В школу я уходила рано. А ведь мне еще надо было успеть подоить коров. Поэтому к завтраку я ничего не подавала, кроме хлеба и молока.
Вернувшись из школы, подметала в комнатах, выносила из печки золу, приносила кизяк и разводила огонь, чтобы приготовить обед. Пока я возилась около печки, Инжибийке пропускала через сепаратор молоко.
Я думала, что мама совсем забыла о своем обещании. Но однажды, наблюдая за тем, как я верчусь, она, видно, сжалилась надо мной и сказала:
— Славная ты у меня девочка, Айбийке! Хоть и трудно мне без тебя придется, но все-таки отпущу я тебя в родной аул. Три-четыре дня управлюсь как-нибудь. И Инжибийке пора уже становиться помощницей.
Глаза мои так и загорелись от радости.
Отец сам провожал меня. Мы вышли к дороге, остановили машину. Я села в кабину рядом с веселым, никогда не унывающим Данибеком.
Когда я издалека увидела наши красивые, словно в золото одетые, тополя, то от восторга запрыгала на сиденье.
— Где тебя высадить? — спросил Данибек.
Я хотела было сказать: около дома Байрамбийке. Но тут же спохватилась: ведь у нас есть свой дом.
Данибек остановил машину прямо возле нашей калитки. Я спрыгнула с широкой подножки на землю и нетерпеливым взглядом окинула всю нашу улицу, от моста и до другого ее конца, где виднелся клуб. Мне даже не верилось, что это наяву, и я боялась, что сейчас проснусь и все исчезнет, как это случалось уже не раз.
Машина уехала.
Ко мне стали подходить соседки, дети. Здоровались, поздравляли с возвращением, расспрашивали о родителях. Я рассеянно отвечала и никак не могла оторвать радостных глаз от нашей улицы, которая казалась мне самой красивой, самой светлой улицей в мире.
1
Курай — высохшие кустики перекати-поля.
(обратно)2
Бавурсаки — обжаренные в масле кусочки теста.
(обратно)3
Машалла — возглас восхищения.
(обратно)

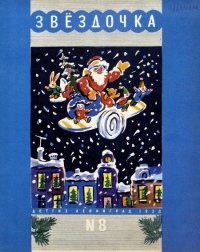



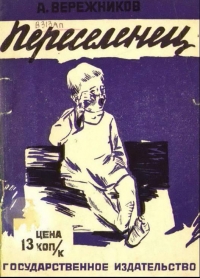






Комментарии к книге «Улица моего детства», Бийке Кулунчакова
Всего 0 комментариев