Альберт Лиханов. Музыка (Повести)
Издательство «Детская литература» Москва 1971
Крутые горы
Я не понял, что началась война.
Мы сидели на стёганом одеяле под вишнями, чтобы не просквозила земляная сырость, а отец ушёл за пивом. Его что — то долго не было, хотя пивом торговали на углу — пять минут ходу, а потом он вошёл в сад — громко хлопнула калитка, — я увидел, что он идёт быстро, будто опаздывая, и лицо его напряжённо и вообще что — то с ним такое случилось, потому что пиво не приносят с таким лицом, и немножко удивился, а отец подошёл торопливым шагом и остановился у одеяла.
— Война началась! — сказал он, и все ему улыбнулись, не понимая, а потом вдруг вскочили с одеяла, а я отвернулся, уже забыв про отцовские слова, и увидел, как опять дунул лёгкий ветер и на траву посыпались вишнёвые белые лепестки, будто в самую жару выпал снег.
Я не понял, что началась война и позже, когда собралось много родственников и отцовых друзей, все выпивали, как на празднике, а потом отец встал, в чёрном пиджаке, со значком БГТО на серебряной цепочке, надел на крутой лоб крапчатую модную кепку с длинным козырьком и закинул за плечи брезентовый походный мешок.
Все вышли во двор, знойный от жары, зелёный от травы и светлый от солнца, и, потоптавшись, помолчав, словно не зная, что прибавить, вдруг стали рассаживаться где попало. Бабушка уселась на бревно, старый такой кряж, который всё никак не собрались распилить, мама с отцом — на лавочку, а гости — прямо на траву, сочную и густую.
Взрослые сидели молча, усадив и меня, а мне всё хотелось вскочить и побежать куда — нибудь по прохладной траве. Но меня не пускали. Чья — то тяжёлая рука лежала на моём плече, будто груз, и я не мог вскочить, не мог побежать по манящей траве и удивлённо разглядывал хмурые лица, краешки опущенных губ и морщины.
Потом все встали, и отец подошёл ко мне. Я почувствовал, как он подхватил меня, подбросил вверх, к солнцу, и я счастливо рассмеялся. Я взлетал и взлетал прямо к небу и видел, как разглаживаются хмурые лица внизу, как улыбается бабушка, как смотрят на меня гости, приятели отца. Приветливо и открыто.
Я смеялся, не понимая, что началась война, ничего ещё толком не зная, и махал рукой вслед отцу, радуясь, что напоследок он всё — таки догадался, всё — таки подарил мне значок БГТО на серебряной цепочке.
Отец шёл по пыльной, жаркой улице, а справа и слева от него и мамы шли гости; они шагали, взявшись под руки, словно собрались на прогулку, и заняли всю булыжную мостовую. Они ещё пели про Катюшу — замечательная такая песня, — отец оборачивался иногда, а я стоял возле бабушки и всё улыбался, потому что у меня было хорошее настроение.
Что такое война, я узнавал постепенно.
Сначала это были письма. Отец посылал открытки с войны, и на открытках была нарисована женщина. В одной руке она держала листок с клятвой, а другой указывала вверх. Вверху же было что — то написано, я разбирал по слогам: «Ро-ди-на-м-ать зо-вёт!“, — и всякий раз подпирал кулаком подбородок. Кого это зовёт Родина — мать? Получалось, она звала всех, а значит, и меня, но я всё не мог придумать, куда идти мне. Пригорюнясь, я вспоминал светлую летнюю улицу, по которой уходил отец с гостями, пытался припомнить его лицо, но оно исчезало, стиралось в памяти, и я пугался этого. Тогда я смотрел на карточку, которая висела над комодом. Отец был там каким — то ужасно молодым, но всё — таки очень похожим на себя, и я успокаивался. Но куда же звала меня Родина — мать, я не понимал, как ни внимательно разглядывал открытку. Отец писал какие — то весёлые слова — мама всегда читала вслух его открытки, плакала при этом, а мне страшно хотелось понюхать отцовскую открытку, потому что она была жёлтой, будто пропитанной маслом.
Оставшись один, я нюхал её тщательно, долго, будто пёс, но она ничем, кроме бумаги, не пахла.
Потом мама принесла разноцветные листки. Листки состояли из клеточек с цифрами, и мама сказала, что теперь вся еда будет продаваться только по этим талончикам. И полезла в ларь — смотреть, сколько осталось у неё довоенной пшёнки и гречки. Мама вздыхала, качала головой, говорила, что остались крохи, а я радовался, что теперь меня не будут заставлять есть эти ненавистные каши.
Впрочем, скоро я переменил свою точку зрения, и пшёнка в горшочке с поджаристой румяной корочкой являлась мне во сне, как укор и как наказание, потому что мама освоила новое блюдо — завариху.
Завариха была удивительной едой. Я много раз видел, как её готовила бабушка или мама, и до сих пор помню, как это делается, до мельчайших подробностей. В горячую воду сыплют муку, добавляют чуть соли, варят — и всё в порядке: берись за ложку и проверяй свою жизнь. Если ложка в заварихе стоит торчком — ещё ничего, жить можно, мука, значит, есть, а если ложка падает — дело худо, мука на исходе и, значит, за едой мама опять станет вздыхать, а потом подойдёт к гардеробу и будет перебирать плечики с одеждой.
Мама сердито двигает плечики, они стучат железными крючками, стучат с каждым разом всё громче, потому что всё больше в шкафу пустых плечиков.
Один лишь отцовский костюм висел в стороне, укутанный простынёй, будто ему холодно и он может замёрзнуть. Мама никогда не прикасалась к нему — она двигала только свои платья и каждый раз одно из них куда — то уносила.
Мамины платья исчезали, а завариха не исчезала никуда, и тогда по ночам мне стали сниться эти маленькие глиняные горшочки с распаренной, крупитчатой кашей, покрытой румяной корочкой. Такие горшочки бабушка доставала из печи по утрам в воскресенье, и я начинал понимать, что те воскресенья были раньше.
Были до войны.
Во вторую военную осень я пошёл в школу.
Парты в нашем классе стояли в четыре ряда, оставляя узкие проходы, такие узкие, что учительница ходила по ним боком. К концу каждого урока становилось жарко и душно, на переменке дежурные строго — настрого всех выгоняли, открывали настежь все форточки. Школа была старая, маленькая, не приспособленная для такого множества учеников, и поэтому коридор в перемену был так забит стриженными наголо головами, что не только разбежаться было невозможно, не даже продираться сквозь эту толпу приходилось, усиленно работая локтями.
Мне эта толкотня и теснота не казались удивительными, потому что в другой — просторной — школе я не учился, не знал, что может быть как — нибудь по — иному, и продирался на переменках сквозь ребячью толпу, двигая локтями в бока, сам наезжая на чужие локти и радуясь этой весёлой неразберихе.
Школа работала в три смены. Первыши, конечно, ходили в первую, и подниматься приходилось рано, потому что уроки начинались в восемь.
Зимой мы с мамой выходили из дому, когда была ещё настоящая ночь, над головой висели россыпи крупных звёзд, хрупал под валенками жёсткий снег, на улице горели редкие фонари, похожие на одуванчики, оттого что их свет в морозном воздухе расходился ровным кругом.
Я шагал, ещё не совсем проснувшийся, слушал скрип своих шагов, мама вела меня за руку, и иногда я закрывал глаза. В такие минуты я походил на старую клячу, которая может и не глядеть, что делается перед ней, а только послушно поворачивает, когда дёргают вожжи. Мама молчала тоже, неуютное утро не располагало к разговору, и, если хотела, чтобы я шагал быстрее, тихонько встряхивала мою руку. Не открывая глаз, я прибавлял шагу; я чувствовал, что начинается подъём, значит, до школы уже недалеко, и с трудом разлеплял слипшиеся от инея ресницы.
Сколько раз ходил я в школу, столько раз ждал этого торжественного мгновения. Без четверти восемь в морозной тишине вдруг раздавался протяжный сиплый звук, похожий на вой доисторического чудовища. Тотчас ему подтягивал ещё один, ещё и ещё, и вот уже стадо страшных зверей выло в один голос. Люди на улицах оживлялись, шли быстрее, некоторые даже бежали, и мама отпускала мою руку, приговаривая:
— Иди скорей! Я побежала!
Она сворачивала к своему госпиталю, прибавляла шаг, а доисторические животные всё ревели в один голос, предупреждая тех, кто работает, чтобы они не опаздывали. Они ревели, сипели, наверное, с минуту, а то и больше и утихали так же неожиданно, как и начинали. Это ревели заводские гудки, и я всегда с ужасом думал о них. В первый же день в школе нам объяснили, что, если заводы загудят вот так же, как утром, среди бела дня и будут гудеть долго, это начинается воздушная тревога. И тогда надо бежать в бомбоубежища, прятаться в щели, отрытые во дворах.
Эти слова пугали меня, и, сидя на уроке, я неожиданно сжимался: мне казалось, что вот — вот загудят все заводы. Но время шло, воздушных тревог не объявляли, только однажды вечером над городом вдруг взвились три голубых прожекторных столба, перекрестились мгновенно. Я был на улице, кажется, мы с мамой шли в магазин, и я подумал, что это ищут немецкий самолёт — в небе что — то гудело. Мама, наверное, подумала то же. Она прижала меня к себе, но не двинулась с места; мы стояли посреди улицы, как загипнотизированные, и глядели вверх. Прожекторные лучи разбежались в стороны, и тут один из них ухватил своей лапой маленький самолётик. Другие лучи тотчас опять сомкнулись, и в перекрестье белых столбов, располосовавших небо, я разглядел на крыле самолёта звёздочку. Лётчик покружил неторопливо над городом, — видно, это были учения прожектористов, да и заводы не гудели, — но мы с мамой всё никак не могли оторваться от этого зрелища, пока прожекторы один за одним не погасли.
Когда мы пошли дальше, я почувствовал, что мама крепче сжимает мою руку.
Тревоги так и не было, в щелях, отрытых во дворах, играли мальчишки, однако стрелки на домах, указывающие, где ближайшее бомбоубежище, время от времени подновляли. Страх к утренним гудкам у меня не проходил. Шагая за мамой, я тревожно думал всякий раз, что сейчас я открою глаза и раздастся этот сиплый вой.
* * *
Но настоящую войну мне показал Вовка Крошкин.
Мы сидели с Вовкой за одной партой, и он вполне соответствовал своей фамилии. Вовка Крошкин был очень маленький, но очень головастый. Головастый во всех смыслах. Он хорошо соображал, особенно по арифметике, а кроме того, его голова была очень большая, круглая и крепкая. Иногда, — не злоупотребляя, впрочем, этим, — Вовка применял её, как таран, готовый снести на своём пути любую преграду. Во всяком случае — почти любую.
Спорить с этим никто в нашей начальной школе не решался, потому что это своё достоинство Вовка Крошкин продемонстрировал публично, при всех, с ледяным хладнокровием и твёрдой уверенностью. Однажды на переменке мы с Вовкой продирались, работая локтями, к уборной, боясь опоздать, потому что переменка была маленькая, а очередь в уборной, как всегда, большая. Продираясь первым, Вовка не то наступил на ногу, не то сильнее обычного толкнул в бок какого — то ушастого третьеклассника. Тот остановил Вовку за воротник — при этом у Вовки отскочила от ворота пуговица — и больно щёлкнул его по голове. Вообще — то Вовкина голова от такого щелчка совершенно не пострадала, она бы выдержала и не такое, но третьеклассник при этом оскорбительно заржал, а поскольку школа была смешанная, засмеялись и девчонки, стоявшие рядом.
Вовка повернулся к ушастому третьекласснику и смотрел на него мгновение. Я заметил, как в Вовкиных глазах мелькнула мимолётная жалость к этому большому, но глупому ушастику. Он раскинул руки, как бы собираясь взлететь, опёрся ими о толпу, шевелившуюся за спиной, откинул назад круглую, как крепкий капустный кочан, голову и, сделав стремительный шаг вперёд, неожиданно воткнулся ею в живот третьеклассника. Тот всё ещё хохотал, всё ещё веселился, и вот так, веселясь, с открытым ртом, вдруг сложился вдвое и рухнул на пол.
Вовка Крошкин повернулся и стал как ни в чём не бывало прорубать себе просеку дальше.
Возвращаясь, я думал, что третьеклассники станут приставать к нам, но то ли ушастый не пользовался поддержкой в своём классе, то ли Вовкина голова действительно произвела сильное впечатление, никто нам не сказал ни слова, даже наоборот — Вовке теперь не требовалось пыхтеть, потому что все перед ним расступались.
Когда начался урок, я почтительно оглядел Вовкину круглую голову. Он крутил ею как ни в чём не бывало.
— Больно? — спросил я с сочувствием.
— Не-е! — ответил он жизнерадостно. — Живот — то мягкий!
* * *
Однажды Вовка опоздал на уроки.
Отгромыхал медный звонок, которым помахивала нянечка в коридоре. Вошла в тёмный класс учительница Анна Николаевна, как всегда кутаясь в мягкий платок и держа в одной руке керосиновую лампу.
Наши тени таинственно задвигались по стенам, наползая друг на друга. Учительница поставила лампу на стол, чиркнула спичкой, зажгла свечку у кого — то на первой парте и двинулась с нею по узкому проходу между рядами.
Эта каждоутренняя церемония ужасно нравилась мне. Анна Николаевна шла по рядам и зажигала на партах, словно на ёлке, свечи от своего огонька. Класс постепенно выплывал из черноты, озарялся колеблющимся сиянием, только высокий лепной потолок старинного дома оставался в полумраке.
Эти пять или десять минут, пока учительница освещала класс сиянием свеч, которые мы носили в портфелях вместе с чернильницами — непроливайками и тетрадками, сшитыми из довоенных газет, вообще — то можно было бы не считать ещё уроком, хотя звонок уже и отгремел, — да так оно и было в других классах, — но Анна Николаевна говорила, что учиться можно и в некотором мраке, ничего страшного, и начинала спрашивать сразу же, едва поставив на учительский стол керосиновую лампу.
Она шла по узким рядам, зажигала наши свечи, а кто — нибудь, названный ею, уже бойко тарабанил ответ или, напротив, мялся и мемекал, пытаясь использовать полумрак в своих целях. Но учительница всё видела, всё понимала, и до полного освещения можно было вполне схлопотать двойку за подсказку, потому что больше всего не любила Анна Николаевна обмана.
Словом, Вовка Крошкин, учись он в другом классе, мог бы считать себя не опоздавшим, потому что свечки горели ещё не на всех партах, когда он возник на пороге, отдуваясь и поблёскивая белками.
Но Нина Правдина заканчивала ответ, как всегда замахиваясь на пятёрку, Анна Николаевна, довольная ею, кивала головой, зажигая последние свечки, и, казалось, не замечала Вовку.
Это был такой приём, такой способ проявления строгости, потому что, если Анна Николаевна не замечала опоздавшего, значит, она очень сердилась, и только крайне уважительная причина могла спасти виноватого.
Нина Правдина уселась, взмахнув от восторга косичками. Она заработала аккуратную пятёрку в журнале, а Анна Николаевна всё не замечала Вовку, хотя зажгла уже свечи и теперь двигалась к столу.
В грозном молчании, в трепете колышущихся язычков пламени она уселась за стол и оглядела класс, похожий на таинственную пещеру.
— Ну, — сказала она сухо, не глядя на Вовку, — где ты был?
— Это я, — бойко ответил Вовка, — бегал к реке…
Только исключительный случай мог бы спасти Вовку, а он нёс какую — то несусветную чушь, и учительница, вскинув брови, вглядывалась в безответственного ученика.
Вовка топтался на пороге, мял в руке мохнатую шапку, которая, когда он её надевал, делала его голову похожей на небольшой воздушный шар.
— На реку! — воскликнула Анна Николаевна.
— Ага! — подтвердил Вовка. — Там, в тупике, санитарный поезд…
Эти слова поразили меня. Только что, сию минуту, я насмехался над Вовкой Крошкиным, удивляясь его несообразительности — не мог будто бы соврать что — нибудь, ведь уж не такой великий грех опоздать на десять минут, когда ещё и урок — то толком не начался, — и вдруг мне стало стыдно. Смертельно стыдно.
Я плетусь по утрам за мамочкой, как телёнок, закрыв глаза и не соображая ничего, оттого что хочется спать, иду, уцепившись за её руку, будто не могу дойти сам, и ничего меня больше не интересует, словно я какой — нибудь детсадовец, а вот Вовка… Вовка — человек. Вовка узнал откуда — то про санитарный поезд и уже сбегал туда, к реке, где есть железнодорожный тупик, и всё уже увидел и разузнал.
Круглоголовый маленький Вовка рос в моих глазах с каждой секундой, его опоздание было уже не виной, а благородством. Мельчайшие детали всплывали в моей памяти: и Вовкина решительность, когда он врезался головой в живот противника — настоящий таран! — и его смелость — не побоялся один пойти этим тёмным утром к тупику! — и даже то, что Вовка в школу ходил один, никто никогда его не провожал, не тянул на верёвочке, как меня, — всё это озарилось новым светом, и я уже готов был вскочить, готов был защитить Вовку от гнева учительницы, когда она вдруг кивнула и сказала тихо:
— Садись!
Вовка стремительно разделся, повесил пальто и шапку на свободный крючок, вбитый в стенку, потому что все мы раздевались там же, где и учились, и, ещё тяжело дыша, уселся рядом со мной.
Все глядели на Вовку с удивлением и интересом, пока не раздался негромкий стук.
Я повернулся. Это стучала Анна Николаевна указкой по столу, обращая на себя внимание.
Я вгляделся в учительницу, и мне стало не по себе. Её лицо вытянулось и напряглось.
— Они приходят часто, — сказала она и повторила бесцветным голосом, будто это был диктант: — Санитарные поезда приходят часто.
— А я не знал! — сказал Вовка, и Анна Николаевна вздрогнула.
И я не знал тоже. И никто никогда не говорил мне, что к нам в город приходят санитарные поезда, даже мама, хотя она работала в госпитале. „Вот дурак! — обругал я себя. — Ведь мама работает в госпитале, значит, раненых привозят! Это же понятно всякому!“
Да, это было понятно всякому, а мне было непонятно. Не мог я сам догадаться, что раненых привозят, и спросить у мамы, как их привозят, простофиля этакий!
— Часто! — повторила глухим голосом Анна Николаевна, хоть и глядя на нас, но никого не видя.
Потом она встрепенулась, будто сбросила с себя оцепенение, — никогда ещё я не видел её такой, — и встала из — за стола.
— Вы знаете, почему такие узкие проходы между рядами в нашем классе? — спросила Анна Николаевна настойчиво. — Потому что идёт война и школы в нашем городе, большие и удобные, отданы раненым, там госпитали… Вы знаете, почему вы пишете на старых газетах, а не в тетрадях? Потому что идёт война и фабрики, где делали тетради, разрушены… Вы знаете, почему вместо ярких лампочек у нас горит керосиновая лампа, а на партах свечки? Потому что энергии не хватает заводам, потому что заводы работают на всю мощь, чтобы сделать побольше снарядов!
— Знаем! — крикнул яростно Вовка, и я снова с восхищением, как бы новыми глазами, оглядел его.
— Мало знать, — ответила ему Анна Николаевна, отходя к окну и всматриваясь в медленно расступающуюся темноту. — Надо понимать…
Она долго смотрела в окно и, повернувшись, повторила:
— Надо понимать…
Учительница снова оглядела класс посвежевшими, как бы умытыми глазами и вдруг сказала негромко:
— Давайте сходим после уроков… Вова Крошкин будет провожатым.
И хотя она не сказала, куда сходим, хотя никто не произнёс ни звука, все поняли, куда предлагает сходить Анна Николаевна, и все, наверное, удивились её словам.
В этот день Анна Николаевна так больше никого и не спросила, кроме Нины Правдиной, а только рассказывала про то, как Кутузов заманил Наполеона в Москву и там, в горящей Москве, этот наглый завоеватель вдруг понял, что он проиграл войну, хотя выигрывал все сражения и даже выиграл сражение под деревней Бородино, и бежал в свою Францию, бросив с позором войско. Ещё Анна Николаевна читала нам стихи про это Бородино и ещё басню Крылова про волка, который забрался на псарню, потому что в этой басне намекалось на Кутузова и Наполеона.
Анна Николаевна говорила, а в классе было так тихо, что даже свечечные огоньки не трепетали, а словно застыли, словно они неживые были или сделаны из стекла.
Я слушал, как рассказывала Анна Николаевна, взглядывал изредка на Вовку, и он отзывался понимающе, и отчего — то у меня щипало в глазах, к горлу подступал комок, и хотелось заплакать или сделать что — нибудь замечательное.
После уроков, быстро одевшись, мы шли чёткими парами к реке, к железнодорожному тупику, соблюдая строй и самостоятельно подравниваясь. Анна Николаевна торопилась за нами. Оборачиваясь, я ловил её улыбку, тыкал Вовку Крошкика в бок и приговаривал:
— Постой — ка, брат мусью!
Вовка меня понимал и отвечал в том же тоне:
— С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!
Мы негромко смеялись, довольно поглядывая друг на друга, шагали в ногу, печатая старыми валенками хрустящий шаг, и мрачнели, вспомнив, куда идём.
* * *
Берег круто срывался вниз. Под горой, в железнодорожном тупике, подле самой воды, стоял поезд с белой от снега крышей и красными крестами по бокам.
Там все суетились.
Подходили грузовые газогенераторки, орали на лошадей возчики, женщины в белых косынках поверх платков таскали носилки.
На носилках, укрытые серыми одеялами, лежали люди. Раненые!
Всё, что делалось под горой, казалось мне развороченным муравейником — маленькие чёрные фигурки беспорядочно двигались на белом снегу, — но не эшелон поразил меня.
Рядом с нами, на крутом берегу, стояли женщины.
Они стояли по двое, редко по трое, а чаще поодиночке — большие и маленькие, старые и молодые, но все на одно лицо — и молча, скорбно глядели вниз, на эшелон.
Над головами глухо стучали друг о друга, будто крылья недобрых птиц, голые ветки мёрзлых тополей, и я пронзительно понял вдруг, что случилась какая — то беда. Беда эта была ужасная, непоправимая, и ничего нельзя было с ней поделать, и эти ветки, похожие на птиц, — они правда птицы, от которых нельзя укрыться.
Я подошёл к краю обрыва и обернулся, чтобы увидать их лица. Некоторые женщины беззвучно плакали. А другие нет, не плакали, и лица их были угрюмы. Одна женщина поразила меня особенно.
Она стояла одна; она была ещё совсем молодая, но платок, низко надвинутый на лоб, делал её старухой. Её глаза были прозрачны, как бы пусты, и мне неожиданно показалось, что женщина эта сейчас сделает шаг вперёд. Сделает шаг вперёд и бросится вниз с обрыва.
Я подбежал к ней, чтобы остановить, но она даже не заметила моего приближения. Она стояла, по — прежнему глядя вниз, и мне показалось, что женщина слепая…
Кто — то тронул меня за плечо. Это был Вовка.
— Пойдём вниз, к эшелону, — шепнул он.
Но я никак не мог отойти от женщины: а вдруг она правда бросится вниз.
Вовка потащил меня за рукав к учительнице и стал просить, чтобы она отпустила нас двоих к эшелону.
— Ну, сходите, — сказала Анна Николаевна.
А я всё смотрел на ту женщину с пустыми глазами. Ей не поможешь…
Я вздрогнул. „Неужели? — подумал я. — Неужели?..“ И сразу, в минуту мне стало понятно, почему они тут стоят, эти женщины.
Почему они стоят здесь, а не идут вниз, к эшелону…
Внизу эшелон снова показался мне муравейником.
Торопливо сигналили машины, буксуя на обледенелом подъёме; возчики, которые вблизи оказались возчицами, безжалостно лупили лошадей, ругаясь грубыми мужскими голосами, и кони, высекая копытами грязный лёд, выволакивали, напрягаясь, сани, в которых лежали раненые.
Вовка тащил меня, умело разбираясь в этом хаосе, проскакивая между подводами и машинами, между тревожными женщинами в белых косынках поверх платков, и как — то незаметно мы очутились возле самого поезда. Но Вовка не успокоился. Он шагал вдоль вагонов и наконец остановился около одного, протянул руку.
— Гляди! — проговорил он.
И я увидел, что окна в вагоне без стёкол, только в углах торчат острые, похожие на ножи осколки, а на обшивке вагона рваные дырки.
— Бомбили! — сказал Вовка.
И я представил себе, как вот в этот вагон, до которого я могу свободно дотронуться рукой, веером ударили бомбовые осколки, как разом вылетели от взрывной волны окна, хотя они, наверное, и были заклеены крест — накрест бумагой, чтобы выдержать эту волну. Но взрыв был близко, полоски бумаги, конечно, не спасли, и, может быть, раненые, лежавшие на второй полке, упали на пол.
Сзади фыркнула и испуганно заржала лошадь. Тётка — возчица подгоняла её к вагону, к самой подножке, но лошадь норовила повернуть в сторону или пройти вперёд. Тётка яростно ругалась, хлопала вожжами, осаживала сани, конь всхрапывал и косил глазом.
В проходе вагона показалась сутулая женская спина. Она двигалась к выходу, ноги в ботах ощупывали каждый маленький шажок. Наконец женщина в белой косынке стала на первую ступеньку, потом ещё на одну. Возчица подскочила к ней, стала помогать, но носилки были очень тяжёлые, и мы с Вовкой, перегоняя друг друга, тоже кинулись помогать, но возчица крикнула нам грубо:
— Отойдите! Отойдите! — и выругалась.
Та, вторая, повернула к нам лицо, и я тихонечко взвизгнул от радости: вот здорово, это была мама! „Ну, теперь — то она скажет этой возчице, чтоб не ругалась, даже обрадуется!“ — подумал я и снова кинулся помогать, но мамино лицо сделалось белым, и она крикнула грубым, как у возчицы, голосом:
— Отойди! Отойди!
Я ещё никогда не слышал, чтобы таким голосом кричала мама, и, отступив, обиделся, но тут же забыл про всё.
Мама и тётка, помогавшая ей, вытащили, высоко поднимая над головой, носилки — с другой стороны их держал усатый санитар в лётной пилотке. Тот, кто лежал на носилках, был укрыт с лицом, но серое одеяло оказалось коротким, и из — под него виднелись жёлтые, словно восковые, ноги. Санитар и мама с тёткой положили носилки в сани, санитар полез обратно в вагон, а мама подбежала к нам, схватила меня и Вовку за плечи и потащила в сторону, подальше от вагона и храпящей лошади. Она тяжело дышала, бусинки пота покрывали её лицо.
— Вы откуда? — торопливо, не слушая нас, спрашивала мама. — Вы как тут?! Уходите, сейчас же уходите!
Её окликнули. Я хотел было повернуться на голос усатого санитара, но мама больно ударила меня по щеке.
— Не смотри! — прикрикнула она. — Не смотрите!
Я не обиделся, я понял и послушался её, и Вовка послушался тоже. Не оборачиваясь, мы побежали вперёд, долго, до стука в висках взбирались по узкой обледенелой тропке наверх, где нас ждали Анна Николаевна и весь класс.
Наверху всё было как прежде. Тополиные ветви глухо хлопали над головами, женщины всё так же вглядывались в эшелон. Анна Николаевна стояла среди девчонок с посиневшими носами, куталась в платок и внимательно глядела на нас.
Вовка, покачивая головой, подошёл к ней.
— Там убитые! — сказал он громко.
Меня трясло, я старался сдержаться, но чувствовал, как помимо моей воли губы разъезжаются в стороны, а учительница и ребята расплываются, как сквозь затуманенное стекло.
Я вдруг вспомнил отца и тот летний день.
Отец шёл, сцепившись под руку с друзьями, они перегородили всю мостовую и пели про Катюшу.
А я смеялся ему вслед и радостно махал рукой, дурачок!..
* * *
Я не знаю, почему я подумал об отце.
Может быть, всё — таки есть волны, которые передаются от человека к человеку? Может быть, предчувствие — это не суеверие, не предрассудок, а что — то такое, что есть на самом деле?
Я вздрогнул там, на берегу, подумав про отца.
И снова вздрогнул ночью. Меня будто кто — то толкнул, и я проснулся, подумав вдруг, что с отцом случилось несчастье.
В ночной тишине мерно тикали ходики, от натопленной, белеющей в темноте печки дышало теплом, а мне было тревожно и неуютно, и никак не шёл сон.
Вечером мама наказывала мне, чтобы я больше не ходил на берег, к тупику, чтобы не слушал Вовку Крошкина, если он станет звать меня снова. Мама сердилась, хотела поговорить с Анной Николаевной об этой странной экскурсии, и я не обижался на маму.
Она, конечно, думала, что я её не пойму, а я прекрасно понимал. Отлично понимал, почему она сердится на Анну Николаевну, на меня, на Вовку, понимал теперь, почему она ни разу не сказала про санитарные эшелоны, про то, что таскает на носилках раненых и вот — даже мёртвых. Теперь мне всё было понятно, всё до последней капельки.
Мама старалась скрыть от меня войну.
Мама старалась, чтобы я про неё знал поменьше. Ел бы себе завариху, ну, слушал радио, тут никуда не денешься, не заткнёшь же мне уши, и бегал бы в школу, учился себе на здоровье!
Смешно просто думала мама… Взрослая, а рассуждала, как ребёнок… Да разве же скроешь её, войну, разве упрячешь её куда — нибудь подальше?
Вот она, вся на виду, правильно говорила Анна Николаевна: и свечки в классе, й тетрадки из старых газет, а сегодня — это, страшное, куда его денешь? Я снова увидел жёлтые, словно восковые, ноги, изрешеченный осколками вагон.
— Гады, — прошептал я, — гады! — и сжал кулаки, вспомнив открытки, полученные от отца, женщину, нарисованную на этих открытках, и слова „Родина — мать зовёт!“.
Я думал не раз про эти слова, женщина с платком на плечах обращалась ко всем, — значит, и ко мне, но я не знал, что мне делать.
Убегать на войну было глупо, смешно, несерьёзно, я это понимал. Это всё равно, что путаться под ногами у взрослых, только отвлекать их и мешать им. Значит, Родине нужно было помогать здесь. Например, шить кисеты. В третьем классе девчонки шили кисеты и вышивали на них цветными нитками: „Храброму бойцу“. Конечно, шить — это девчачье дело, но сейчас шла война. Шить так шить. Пусть курят бойцы махорочку.
Я ворочался с боку на бок, представляя сшитые мною кисеты, набитые табаком. Много — много кисетов, и на каждом вышито красными нитками — нет, не „Храброму бойцу“, это пусть вышивают девчонки из третьего класса, а мои, мной придуманные слова: „Бей врага!“ Впрочем, можно было вышить ещё лучше: „Смерть фашизму!“ или „Смерть фашисту!“ — так было понятнее, и я, прикрыв глаза, попробовал представить себе фашиста.
Фашист был в рогатой каске, с вытаращенными глазами. Рукава у него закатаны; в волосатых, как у обезьян, руках он держал дымящийся автомат.
Фашист был ужасен, отвратителен, и я сказал громко, отчаянно:
— Гад, гад! — Ведь этот фашист убил бойца, которого несла мама.
На маминой кровати зашелестела простыня.
— Ты что? — спросила она тревожно.
— Гады эти фашисты! — сказал я громко. — Убили того бойца.
Мама помолчала.
— Если бы одного! — сказала она вдруг и, словно спохватившись, добавила: — Ты спи, спи!
— „Спи“! — обозлился я, вспоминая открытку.
Мама молчала. Я думал, она станет ругаться, а она молчала.
— Ты должен учиться, — сказала мама, стараясь быть спокойной. — Ты должен учиться хорошо, гулять и спать.
Странный человек! Она говорила со мной, как с маленьким. Учиться, гулять, спать!
— „Учиться, гулять, спать“! — повторил я вслух и прибавил, снова вспомнив про отца (ведь это его могли нести сегодня на носилках): — Да я их ненавижу! Ненавижу!
Мама мне говорила что — то, требовала, чтобы я спал, а я, сжав зубы, решил, что у меня будет два дела теперь. Я буду шить кисеты. И я буду ненавидеть немцев, этих проклятых гадов.
Ненависть — это не занятие, ненавидеть нельзя специально, как, например, шить кисеты. И, кроме того, я ведь не видел живых фашистов.
Но я видел две жёлтые голые ступни убитого ими бойца.
И ненависть была для меня делом, на которое, я верил, звала меня, первоклассника, Родина — мать.
* * *
Утром мы вышли пораньше, потому что мама хотела увидеть Анну Николаевну. Я не сопротивлялся, не возражал. Ну, пусть поговорит, если хочет, ведь Анна Николаевна ни в чём не виновата. Всё равно мы пошли бы к санитарному эшелону, всё равно бы Вовка показал мне изрешеченный осколками вагон, в котором выбиты стёкла, и Анна Николаевна тут ни при чём.
Было темно и морозно, как каждое утро. Скрипел под ногами снег, как всегда. Одно было не как всегда. Я шёл с открытыми глазами, шёл рядом с мамой, не отставая от неё и не давая ей свою руку.
Мама удивлённо поглядывала на меня сверху, но ничего не говорила, и я был благодарен ей, что она меня понимает.
Мы уже подошли к школе, как вдруг я увидел Вовку Крошкина. Небольшой воздушный шар на тонкой подставке летел нам навстречу, от школы. Увидев нас, Вовка будто споткнулся и выпалил:
— Уроков не будет! Учительнице похоронка пришла!
— Какая похоронка? — спросил я, зная, догадываясь, понимая, что за похоронку принесла Анне Николаевне почтальонша, и почувствовал, как крепко сжала меня за плечо мама.
— Пойдём! — сказала она глухо. — Пойдём! — и, резко повернувшись, повела меня назад, к дому.
Вовкины шаги слышались за спиной, я знал, что ему некуда идти, все у него на работе, и неуверенно спросил маму:
— Можно Крошкин к нам пойдёт?
Мама кивнула, но тут же остановилась.
— К нам? — спросила она, и я понял её, у нас ведь тоже дома было пусто, бабушка уехала в деревню менять на муку мамины вещи. — Ну ладно! Дома холодно и никого нет. Пойдёмте ко мне.
Я не поверил своим ушам. „Ко мне“ — значило на работу к маме. В госпиталь. В её лабораторию. Никогда ещё мама не брала меня с собой на работу, а сегодня предложила сама, да ещё со мной будет Вовка!
— Только слушаться! — сказала мама. — И никуда не бегать, у нас строгий начальник…
Мамин госпиталь был в бывшем театре, и, подходя к нему, я подумал, что раненые лежат, наверное, в зрительном зале и на сцене. Но ни на сцену, ни в зрительный зал мама нас не пустила. Она натянула на нас длинные халаты, загнула рукава, а полы засунула за пояс и повела нас с Вовкой, похожих на разведчиков в маскхалатах, по тёмному и узкому коридорчику, в котором стоял запах щей из кислой капусты.
Нам попался всего один раненый, да и то на раненого он не походил — шёл себе человек в халате. Ноги» у него были в белых кальсонах, подвязанных тесёмками. Он быстро прошаркал мимо мамы и нас, стесняясь, наверное, своего вида.
Потом мы пришли в маленькую комнату, где сидели две женщины в белых халатах. Увидев нас, они заохали, запричитали, но мама быстро усадила нас за шкаф и велела сидеть тихо.
— Учительнице похоронная пришла, — объяснила она женщинам, и они разом вздохнули, ничего не ответив, и склонились над какими — то приборами, у которых внизу блестело зеркальце.
Мы с Вовкой сидели на одном стуле, тесно прижавшись друг к другу, и я думал про Анну Николаевну. Вчера мы с Вовкой видели убитого бойца, а сегодня узнали, что кто — то погиб у Анны Николаевны. Может быть, муж. Или брат. Или даже сын. Анна Николаевна никогда не говорила нам, кто у неё есть. Она приходила в школу строгая, подтянутая, и мне казалось, что учительница не обращает на войну внимания. Будто нет никакой войны.
Она спрашивала по арифметике, по русскому, по чтению, она требовала, чтобы мы старательно выводили буквы на уроках чистописания, и никогда не говорила про войну.
До вчерашнего дня. До того, как опоздал на урок Вовка Крошкин, узнавший про санитарный поезд.
А сегодня учительнице принесли похоронку.
Я вспомнил, что говорила мне вчера мама. Как ворчала она, думая, что войну можно спрятать. Анна Николаевна тоже не говорила нам про войну. Но она всё — таки раньше мамы сказала про электричество, про тетрадки, про фельдмаршала Кутузова, а потом повела нас на берег. Она поняла, что от войны никуда не денешься.
Вовка наклонился ко мне и шепнул:
— А чего это они делают?
Я не знал, что делала мама, заглядывая в свой прибор.
— Мама! — спросил я. — А нам можно?
Мама посмотрела на нас внимательно, будто жалела о чём — то. Будто с чем — то прощалась и не могла проститься.
— Ну, посмотрите, — сказала она.
Мы с Вовкой вылезли из — за шкафа, разминая затёкшие ноги, и я первый заглянул в железную трубку со стеклянным глазком.
Передо мной было розовое поле с голубеющими краями. В поле лежали точечки и палочки.
— Что это? — спросил я, отрываясь от прибора.
— Микроскоп, — ответила мама.
— Нет, что там? — Я постучал по трубке.
Мама замялась.
— Кровь, — сказала одна из женщин. — Это кровь, деточка.
Оттеснив меня, в микроскоп заглядывал Вовка, а я всё не мог поверить тоэду, что сказала женщина. Ведь кровь бывает густая и красная, а там были какие — то точки и палочки.
— Человечья? — спросил Вовка, отодвинув свой шар от прибора.
— Человечья, — грустно подтвердила мама, — людская.
Уже темнело, когда мы возвращались домой, проводив Вовку. Мама была хмурой и неразговорчивой, но, увидев открытую дверь, повеселела:
— Вот и бабушка приехала! — сказала она.
А я с тоской подумал про пшёнку с поджаристой корочкой и гречневую кашу с молоком.
Мы вошли в комнату, и мама окликнула бабушку, но никто не отзывался. Мама подошла к столу и вдруг вскрикнула. Я подбежал к ней и увидел, что шкаф, где висела одежда, настежь открыт, и в нём больше ничего нет. Ни маминых платьев, ни отцовского костюма, который висел тут, завёрнутый в простыню. Только смятая простыня. валялась на полу.
Я обернулся. Верхний ящик комода, где мама держала деньги и карточки, был наполовину выдвинут. Мама перехватила мой взгляд и подбежала к комоду. Она заглянула в ящик, сунула руку, пошелестела бумажками.
— И карточки! — сказала она и заплакала, обессиленно опустившись на стул.
Плакала мама недолго. Велев мне сидеть и ждать, она побежала в милицию, а я всё не мог взять в толк, что нас ограбили. Мне всё казалось, что это шутка. Ну бывает же, кто — нибудь из соседей, например, решил разыграть нас… Сейчас вот постучат и внесут отцовский костюм на деревянных плечиках…
Но никто не стучал, и я подошёл к двери. Воры разворотили замок начисто, и, разглядев это, я испугался. Я представил себе, как воры — двое или трое — с коротким ломиком в руках ломают наш замок, трещит железо, а они ничего не боятся и нагло матерятся. И я даже обрадовался, что сегодня нам с Вовкой так повезло, да и бабушке тоже: дома никого не было, а то этим бандитам и убить недолго ради тряпок.
Я ненавидел бандитов. Я представил себя среди них не просто так, с портфельчиком в руке, а, скажем, с гранатой. Я смотрю, как они доламывают замок, ругаются, а сам стою за косяком с поднятой рукой и сжимаю гранату. Они хряпают дверью, так и рвут её, наконец открывают, а я возникаю в проёме и велю им ложиться, и они падают и трясутся, сволочи, а я веду их во двор, но не затем, чтобы отвести в милицию, — у меня нет к ним никакой жалости, никакого милосердия, потому что ограбить людей, когда идёт война, — это настоящий фашизм, а к фашистам нет у меня пощады, — я веду их во двор, велю шагать вперёд, и, когда они отходят подальше, швыряю гранату.
Меня всего колотило, меня трясло. Кража только сейчас дошла до моего сознания: исчезнувший костюм и украденные карточки не произвели на меня впечатления — их не было, и всё, — но я увидел вывороченный замок, и теперь меня колотило. Да, я не повёл бы их в милицию, этих бандитов, я вывел бы их во двор и метнул в них гранату. Надо только, чтобы побольше собралось народу. Надо, чтобы я не просто уничтожил их, а казнил. При всех людях.
В сенцах стукнуло, и я сжался: мне показалось, бандиты вернулись. Но вместо бандитов в дверях появилась мама.
Она привела милиционера с собакой. Уже стемнело, пёс молчаливо побегал по двору, глухо поворчал, раззадоривая себя, но ничего у него не получилось, и пёс, как человек, признающий свою беспомощность, поглядел на милиционера.
Милиционер не удивился, посмотрел равнодушно на пса и устало сказал маме:
— Пишите заявление: что украли, какие вещи… И подробнее… Будем искать.
— А найдёте? — спросила мама с надеждой.
— Будем искать, — равнодушно повторил милиционер.
— Костюм! Костюм мужской особенно, — просила мама умоляющим голосом. — Мужа костюм… Понимаете?..
— Понимаю, — ответил милиционер. — Вы напишите, я‑то ухожу на фронт. Заявление отдадите в отделение…
Вечером мама сидела, уставившись в одну точку, время от времени принималась плакать, и тогда я вторил ей, подвывая. На сердце скребли кошки. Вчера я думал про отца, поняв, что такое война. А сегодня нас ограбили, и, хотя без карточек жить нельзя, как нельзя жить без хлеба, меня пугало не это. Меня пугало, что украли отцовский костюм, который так берегла мама.
Это была нехорошая примета.
* * *
Спасти нас могла только бабушка, но её всё не было и не было, и последние два дня мы ложились спать, попив лишь кипятку. Сперва я очень хотел есть, и кусочки хлеба, которые приносила откуда — то мама, только разжигали к еде ненависть — всё равно её не было; куски не насыщали, а раздражали. Потом, как — то совсем неожиданно, голод исчез. Редкие куски не вызывали никакого интереса, и я удивлялся, зачем мама силком заставляет меня есть: она могла бы поесть и сама, я знал, что она вообще ничего не ела, а я не хотел — объяснить это было невозможно, — не хотел, и всё тут. Но мама плакала, держала передо мной чёрный ломтик, и этот ломтик плясал у неё на ладони. Я удивлялся — чего она плачет? — вяло жевал и чувствовал себя прекрасно — какая — то лёгкость была во мне, необыкновенная лёгкость. Правда, порой в ушах возникал шум и негромкий звон.
Но потом звон стал нарастать, и я незаметно свалился со стула. Я понял это уже потом, когда очухался на полу, а возле причитала мама, держа передо мной кружку кипятка. Я удивился, как это я вдруг очутился на полу, хлебнул воду и удивился ещё больше — она была сладкая.
Наутро мама не пустила меня в школу, и я лежал в тёплой постели, пока не рассвело. Странно, мама тоже была дома. Я удивился, но не очень, как — то издалека словно бы удивился, стал одеваться, и мама мне помогала, как маленькому. Я делал всё словно во сне, где — то глубоко в голове звенели далёкие колокольчики, главное, чтобы они не зазвенели громче, а то опять свалишься со стула, надо держать себя в руках, — я делал всё как бы во сне, так же, почти во сне, прислушиваясь к колокольчикам, пошёл потом вслед за мамой куда — то по улице.
Не знаю, долго ли мы брели. Наверное, всё — таки долго, потому что останавливались несколько раз и мама меня спрашивала: «Ну, как?», и я кивал ей в ответ — говорить мне было лень.
Потом мы пришли в какой — то дом, мама размотала мне шарф, разделась сама, положив на скамейке, рядом со мной, своё пальто, и велела его караулить.
— Ты не засыпай! — говорила мама. — Не засыпай! (Хотя я выспался только что и засыпать совсем не собирался.)
Но мамы не было очень долго, и меня стало клонить ко сну. Правда, я цепко держался за мамино пальто — не дай бог, украдут и его.
Я дремал, время от времени вздрагивая и озираясь, а мама не шла, и бороться со сном становилось всё труднее.
Наконец хлопнула дверь.
Наверное, от этого хлопка я испуганно вздрогнул, сон отпустил меня, и я с особенной ясностью увидел маму.
Она стояла, прислонившись к двери. Чёрные полукружия прорезались у неё под глазами уже давно, и не это удивило меня. Сейчас мамино лицо было зелёным. Один рукав платья был у неё загнут и выше локтя мама прижимала к руке кусок ваты.
Я бросился к ней, но она слабо улыбалась, отмахиваясь от моих тревожных слов, и я немножко успокоился.
Мы посидели, мама отняла от руки вату, и я увидел кусочек запёкшейся крови.
— Что это? — испуганно сказал я, но мама опять улыбнулась.
— Ничего, ничего, — сказала она. — Идём! — и стала натягивать пальто.
Обратно мы шли ещё медленнее, колокольчики опять звенели у меня в голове, и я уже не обращал внимания на маму — мы просто шагали, держась друг за друга, тихо передвигая ноги, и мне было всё равно, куда мы идём.
Пришёл я в себя на каком — то низком подоконнике. Снизу веяло приятной прохладой, и, скосив глаз, я увидел, что подоконник кафельный. Плитки походили на шоколад, мне до смерти захотелось лизнуть подоконник, и я едва удержался от этого.
— Ну вот, — услышал я голос мамы. — Ну вот, теперь ешь!
Я поднял голову. Мама держала в руках какие — то кульки, она раскладывала их на подоконнике, рядом со мной, и я увидел, как из одного высовывается кусочек масла. Не того, не похожего на отцовскую открытку, а настоящего, жёлтого топлёного масла.
Мама перехватила мой взгляд и раскрыла кулёк, протянула мне светло — жёлтый кусочек. Я, будто птенец, открыл рот и услышал, как тает во рту, как течёт по горлу расплавившееся масло.
— Откуда? — спросил я слабо.
— Ешь, ешь, — ответила мама и дала мне ещё кусочек.
Я сосал масло, будто леденец, оно плавилось, исчезало во мне и вместе с кусочками масла затихали колокольчики в глубине головы.
— Откуда? — снова спросил я маму.
— Это такой паёк, — сказала она.
Магазин был мне незнакомый, народу в нём почти не было, не то что в нашем, к которому мы прикреплены, да и никогда мы не получали таких пайков, которые лежали в маленьких кульках — из одного даже высовывались конфеты. Я приходил в себя от жёлтенького масла, которое таяло во рту, и всё больше понимал, что тут что — то не так.
— Откуда? — спросил я снова маму. Увидев мою настойчивость, она наконец ответила:
— Ну это такой паёк… донорский.
Донорский! Это слово я знал, потому что на всех углах в городе висели плакаты. На плакатах были нарисованы розовощёкие тётеньки и красные кресты с красными полумесяцами. Донорами называли женщин, которые сдавали свою кровь, только эти женщины должны быть румяными, а у мамы было зелёное лицо.
— Ты сдала кровь! — крикнул я.
Мама молча кивнула, улыбаясь отчего — то, глядя на меня ласково, и я вдруг вспомнил, как мы с Вовкой глядели в микроскоп. Розовые точки и палочки плавали перед глазами — это была кровь. «Человечья?» — спросил тогда Вовка. «Человечья, — ответила ему мама. — Людская».
Людская! Я знал это слово — донор, но никогда не думал, что людскую кровь можно продать, можно обменять, будто какое — нибудь пальто или платье, на еду.
Я посмотрел на кулёчки, которые лежали передо мной, вгляделся в мамино зелёное лицо и заплакал.
Ведь я ел как бы мамину кровь, и это было ужасно…
* * *
Неизвестно, чем бы всё это кончилось, но приехала наша спасительница.
Приехала благодетельница наша, бабушка.
Узнав, что нас обокрали, она поплакала, но воли себе не дала и, испуганно поглядывая на маму, стала готовить завариху.
В углу сипел примус, выбрасывая синие язычки огня, вкусно запахло едой, и я подумал о зава — рихе с вожделением. Какая уж там поджаристая пшёнка или гречка с молоком! Это было всё забытым и ненастоящим! В углу клокотала завариха, и я видел, как разглаживались морщинки на лбу у мамы.
— Наживёте! — приговаривала бабушка, шуруя у примуса. — Главное, жив бы остался, а костюм наживёте, да ещё не один, велика беда. А эти бандюги, чтоб им подавиться, бог их накажет, он ведь видит всё!
Я с удивлением поглядывал на бабушку, думая, что это она вдруг заговорила про бога. Никогда не верила, а теперь такие слова! Но голод брал своё, я нетерпеливо поглядывал на примус, и бабушкины слова тут же забыл.
Однако бабушка их скоро напомнила.
Завариху мы ели целую неделю, потом мука кончилась. Однажды, когда я вернулся из школы, бабушка стала собираться.
— Пойду, — сказала она мне, — займу денег.
Я кивнул, бабушка вышла. Только я разложил тетрадки, как дверь снова хлопнула. Я подумал, что это кто — нибудь из соседей, но это была бабушка. «Забыла чего?» — подумал я про неё, но бабушка стояла в странной позе. Одну руку она держала над собой. Я пригляделся. Бабушка держала розовую тридцатку.
Не раздеваясь, она подошла к столу и села, не выпуская бумажку. Лицо её было бледным.
— Вот! — сказала бабушка. — Вышла, иду и думаю, куда идти? У всех занимали, все без денег сидят. Бог ты мой, думаю, хоть бы ты помог, что ли? А ветер на воле — то… Позёмка… Вдруг гляжу — шуршит бумажка, наклонилась, глядь — тридцатка!
Бабушка смотрела на меня восторженными глазами, будто я и есть бог, у которого она просила помощи.
— Значит, правда! — прошептала она. — Значит, он всё — таки есть! Видит всё…
Бабушка размотала шаль, скинула пальто и вдруг принялась молиться в угол. Икон там никогда не было — я знал, что молятся на иконы, — но бабушка молилась в угол. И часто — часто кланялась.
— Господи! — шептала бабушка. — Заступись за нашего кормильца, упаси его от смерти!
Я понял, о ком молилась бабушка, и тоже с надеждой посмотрел в угол.
Сердце опять захолонуло у меня. «Господи! — подумал я. — Пусть я буду голодать всю жизнь, пусть только ничего не случится с отцом!»
И снова израненный вагон и тот, на носилках, предстали передо мной.
— Бабушка! — попросил я. — Бабушка, хватит!
Бабушка послушалась меня, повесила шаль и пальто на место, но её слова всё — таки дошли до бога.
Вечером дверь хлопнула, и в комнату ворвалась мама. На ней не было лица.
— Вася! — плакала она. — Вася!
— Похоронка? — крикнула бабушка, хватая её за руку. — Говори скорей!
— Нет! — кричала мама и плакала. — Нет! Раненый. В госпитале! У нас!
— Сильно? — крикнула бабушка. — Говори!
— Нет, — плакала мама. — В руку, ранение тяжёлое, но не страшно.
Бабушка оттолкнула её и закричала:
— Так чего ты ревёшь, дура! — и вдруг заплакала сама, прижавшись к маминому плечу.
В госпиталь мы бежали — я впереди, мама с бабушкой немного отстав. Время от времени я останавливался, нетерпеливо ждал, когда расстояние между нами сократится, и с недоумением думал о боге.
Значит, он есть? Значит, он всё видит и в самом деле, если дал бабушке денег и спас отца?
«Зачем же тогда вся эта война?» — думал я и разглядывал облака, плывущие над головой: а вдруг облака разойдутся, и я увижу его?
* * *
В душном тёмном коридоре, где пахло щами из кислой капусты, наобнимавшись, нацеловавшись, наговорившись с отцом, я рассказал ему про бога.
Я думал, он засмеётся, но отец задумался, а потом сказал:
— У нас был один солдат, он носил крест и перед боем молился. Но его убили. — Он помолчал и добавил, грустно усмехнувшись: — На бога надейся, а сам не плошай.
Я вглядывался в отца, слушал, что он говорил, любовался им и думал, был уверен — уж отец — то не плошал. Ведь не зря он старший сержант, хотя уходил на войну простым солдатом, не зря он только ранен, а немец, который стрелял в него, убит.
Отец рассказывал, как он швырнул гранату и в это время его ранило — пуля задела кость. Его отправляли в Сибирь, но он уговорил начальника санитарного поезда, зная, что они будут ехать мимо нашего города, взял у него направление в мамин госпиталь и пришёл туда с белой забинтованной рукой наперевес. Мама смотрела в микроскоп, когда он вошёл к ним в лабораторию, получив сначала халат и койку. Маме сделалось плохо — те две женщины давали ей нюхать нашатырный спирт.' От мёртвых, от крови мама не падала в обморок, а тут упала.
Но теперь всё было позади. Так мне, по крайней мере, казалось. Отец должен был долго лежать в госпитале, а потом ещё отдохнуть несколько дней дома, и я ждал этих нескольких дней, как самого счастливого времени.
Этими днями была освещена вся моя жизнь и, сидя на уроках, я часто представлял лицо отца — выбритое и молодое, совсем как на той карточке, что была на комоде.
Кража, санитарный поезд, мёртвый солдат, похоронная Анны Николаевны — всё отодвинулось куда — то, и часто я приходил в себя только тогда, когда Вовка Крошкин больно толкал меня в бок.
Я вздрагивал, ловил на себе вопросительный взгляд Анны Николаевны, поднимался, не зная, что она спросила, хлопал глазами и кое — как отвечал. Но странное дело — строгая учительница всегда ставила мне не меньше четвёрки.
Отдуваясь, я садился на место, думая с радостью, что мне везёт, но Вовка раскрыл мне глаза.
— Это она тебя жалеет, — сказал он однажды на переменке. — У тебя отец в госпитале, и-она тебя жалеет. Что бы ты сказал ему, если бы двойку схватил?
Я вздрогнул. В самом деле, что бы я сказал отцу про двойку? А ведь он каждый раз спрашивал об отметках. Врать было бы позорно, а сказать правду…
Я смотрел на Анну Николаевну так, словно впервые увидел её. Вот, значит, она какая. У самой горе, получила похоронную — она сказала нам потом: убили её сына, а сама ещё жалеет меня, думает о том, что у меня отец в госпитале и что мне нельзя получать двоек.
Анна Николаевна рассказывала уроки ровным, спокойным голосом, только иногда он отчего — то звенел, и тогда учительница умолкала на минуту, но потом продолжала снова тем же спокойным и ровным голосом, а я вглядывался в неё, и благодарность к ней расплывалась во мне.
Я вспомнил, как сказала тогда про войну Анна Николаевна. «Мало знать, — говорила она. — Надо понимать», и я теперь знал, что идёт война, и понимал тоже. Мне становилось стыдно: значит, всё — таки мало понимал, раз жалела меня учительница. Мало! Ведь и кисет я сшил всего один, да и тот было стыдно дарить, потому что он весь скукожился от моего шитья и нитки кое — где торчали петлями. Только вот вышил я хорошо красными нитками: «Смерть фашисту!»
Правильно говорила Анна Николаевна, и, вернувшись домой, я принялся старательно делать уроки, а покончив с ними, начал кроить кисеты из старых лоскутков, которые выделила мне бабушка. Я вышивал красными нитками огненные слова, а Вовка Крошкин, который вступил со мной в пай, сшивал кисеты чёрными нитками.
Это у него здорово выходило.
* * *
Отец поправлялся, мы с Вовкой шили кисеты, а устав, катались на лыжах.
Наш дом стоял на берегу оврага, и с первого дня, как только выпадал прочный снег, его склоны до блеска укатывались ребячьими лыжами.
С лыжами была проблема, потому что, говорили, лыжи теперь делали для фронта, в магазине их не продавали, да и самого магазина, где раньше торговали лыжами, тоже не было. В городе работал лишь один промтоварный магазин, где давали по ордерам валенки, калоши и изредка выбрасывали пальто. Нам с Вовкой тоже перепало по ордеру, и мы ходили в каких — то леопардовых — жёлтых с чёрными пятнами — шубах. Говорят, шубы были американские, нам это было всё равно: леопардовая одежда Вовке и мне нравилась.
Особенно приятно было кататься в этих шубах на лыжах. Правда, если часто падать, шубы промокали, но мы на этот недостаток не обращали внимания; главное, мчась с горы, можно было представить себя леопардом и даже зарычать. Вот мы с Вовкой и рычали, носясь друг за другом, играя в пятнашки, съезжая с горок, тормозя, взрыхляя снег и не забывая беречь лыжи, этот страшный дефицит. Вовкины, например, были залатаны жестянкой, потому что треснули, мои же пришлось спасать серьёзнее. Одна лыжина была у меня сломана, и я отпилил весь хвост до самого валенка. Но раз отпилил одну лыжину, пришлось подровнять и другую. Сперва я огорчился, но потом привык и даже радовался, потому что на этих лыжах, напоминавших скорее коньки, можно было стремительно и круто поворачивать, юлить и всяко елозить по горе, и леопард Вовка Крошкин почти никогда не мог меня догнать. Вовка злился, громко рычал, но я мог вдруг, на полном ходу, остановиться, а он не мог. Тогда Вовка придумал новую игру. Мы стали прыгать с нырка. Разгонялись с крутой горы, въезжали на маленький трамплин — чик, который назывался нырком, и потом мерили, кто улетел дальше.
Странное дело, и лыжи у меня были короче, и сам. я был легче Вовки, — наверное, за счёт головы, — а он всё — таки меня перепрыгивал. Вовка летел, плавно крутя руками, и мне порой казалось, что голова и правда у него воздушный шар и что он может улететь куда угодно. Куда угодно Вовка не улетал, но перепрыгивал меня чуть не в два раза, и я, поражённый, придумал себе новое дело.
Я стал кататься с самых высоких гор.
Вовка свои лыжи, — дребезжащие, когда он прыгал с нырка, жалел, мне жалеть свои коротышки не приходилось, и я, забравшись на самые крутые и обрывистые склоны, мчался вниз, поднимая столбы снежной пыли. Вовка снова потерпел поражение, а за мной укрепилось звание самого отчаянного лыжениста, как меня звал Вовка, нашего оврага.
Некоторые ребята мне завидовали, но не очень, потому что я жил на краю оврага, мне не надо было далеко ходить: вышел из дому, нацепил свои «коньки» — и шуруй вниз. Словом, дело дошло до того, что я ездил задом наперёд, естественно, надев лыжи носками назад.
Но всё — таки в овраге была гора, с которой я не мог съехать.
С неё никто не мог съехать.
Однажды в овраге появился большой парень на красивых лыжах, да ещё и с бамбуковыми палками. Он солидно прокатился раз, другой, посмотрел на мои фортели и вдруг полез на ту гору.
Она начиналась у забора, который упирался в овраг, и была почти отвесная. Мы замерли, выстроившись в неровный ряд, а большой парень забрался наверх и вдруг поехал.
Что было дальше, трудно описать. Взлетел столб снежной пыли, раздался треск, а когда всё утихло, мы увидели, как из сугроба с заляпанным снегом лицом выбирается парень. Редкий случай — сразу обе лыжины были сломаны, он ругался, как извозчик, и, отыскав меня глазами, велел:
— А ну, ты!
Я не очень испугался. Можно сказать, не испугался совсем, хотя никакого желания ехать с этой горы у меня не было. Но мальчишки подбадривали меня, толкнул в бок и Вовка Крошкин, и я стал карабкаться к забору.
Сверху гора была ещё отвесней, чем казалась снизу, у меня запищало что — то в животе, но отступать было стыдно. К тому же большой парень мог надавать мне, и я шагнул вперёд.
Сугробы кинулись мне в лицо, всё завертелось перед глазами, и на секунду я даже, кажется, потерял сознание. Когда я очнулся, все ребята, кроме Вовки, смеялись, а большой парень, разглядев меня, сказал удовлетворённо:
— То — то же! — и стал собирать остатки своих лыж.
В общем, гора эта была для меня неприступной, и, катаясь с Вовкой, я старался её не замечать, старался на неё не смотреть и не думать о ней.
Мы гонялись друг за другом в своих леопардовых шкурах, чувствуя себя сильными и ловкйми, как эти звери, прыгали с нырков, больших и маленьких, а накатавшись, шли домой, чтобы заняться нашим главным делом.
Чтобы шить кисеты.
* * *
Производство кисетов процветало, честно признаться, не столько благодаря нашему шитейному умению, сколько энтузиазму. Видя, как мы корпели, согнув спины, над лоскутками, пытаясь с помощью иголки и ниток сделать из них мешочки, бабушка не выдерживала, снимала со швейной машинки «Зингер» деревянный футляр и, нацепив очки, отчего сразу становилась строгой, строчила своей машинкой, как автоматом, ровные стежки, быстро и аккуратно делала заготовки для нашей фронтовой продукции. Вернувшись с работы, к нам присоединялась и мама — она вышивала легко и красиво, не чета нам, слова «Смерть фашисту!». Помогали нам завербованные Вовкой его мать и сестрёнка, так что дела наши шли бойко, горка кисетов росла. Мы с Вовкой, оставив иглу и нитку, теперь лишь вдевали в кисеты тесёмочки, чтобы можно было заматывать табак, — по всем правилам курительного дела.
Наконец настал торжественный день.
Накануне, предупредив своих, Вовка остался ночевать у нас. Теснясь в моей узкой кровати, мы долго не могли уснуть, шептались, таращили в темноте глаза, стараясь разглядеть стоявшую на столе просторную, как древняя ладья, большую бельевую корзину. Корзина доверху была набита пустыми кисетами и аккуратно укрыта холщовой тряпицей. Наутро нам с Вовкой предстояло открыться: притащить корзину в школу и отдать её Анне Николаевне.
Нельзя сказать, чтобы мы недооценивали сделанное нами. Нельзя сказать, чтобы наше честолюбие не ожидало барабанов славы. Ещё бы, ведь в корзине помещался кисетный запас на целый полк*.. Ну, если не на полк, так на роту, хотя, признаться, разницу между ними ни я, ни Вовка не очень — то понимали. Словом, не случайно утром, когда мы, сопровождаемые почётным эскортом из мамы и бабушки, тащили нашу корзину, в моей голове разливалась щекочущая сердце медь духового оркестра и дробь барабанных палочек. Мне казалось, утренняя темнота сегодня не так густа — иначе нас не разглядят встречные прохожие, что у школы наверняка стоит ликующая толпа, среди которой непременно Нинка Правдина и, уж конечно, девчонки из третьего класса, которых мы с Вовкой — с маминой и бабушкиной помощью — перещеголяли в шитье кисетов. Теперь мне не казалось предосудительным, что мы занимались таким девчачьим делом — шили и вышивали: героический результат покрыл все прозаические издержки.
Корзина, плотно гружённая невесомыми кисетами, тянула нас к земле, постепенно звон литавр в моей голове сменился тяжёлым перестуком крови. Я прерывисто дышал, капельки пота выползали из — под шапки. Вовка выглядел не лучше.
Бабушка и мама пытались отнять у нас наш груз, однако мы не поддавались. Можно было упасть, надорвавшись, можно было вконец запариться, но донести корзину до стола Анны Николаевны мы просто обязаны, потому что, в конце концов, честолюбие было лишь как бы наваром в хорошей ухе. Главным же было не оно. Главным был наш долг, мой долг, к которому призывала та женщина в платке, скинутом с головы, на отцовской открытке.
Недалеко от школы, согласно уговору, мама и бабушка остановились.
— Ну, с богом! — сказала бабушка, и мне показалось, что она волнуется.
Я подумал, что мы были несправедливы. Ведь мама и бабушка имели не меньше нас прав нести эту корзину. Ведь это был не только наш, но и их долг. Раскаяние часто приходит слишком поздно. Мама и бабушка сказали нам ещё какие — то напутственные слова, мы с Вовкой кивнули и, ухватившись за корзинную ручку, потащили её в школу.
И вот пробил долгожданный час.
Окружённые толпой ребят, натужась в последний раз, мы воздвигли корзину на учительский стол. Анна Николаевна сняла холщовую тряпицу, и я услышал вдруг коллективный вздох. Кто — то хлопнул меня по плечу, кто — то ткнул в бок, я видел как получал своё и Вовка, но это были не обидные тумаки, наоборот, в этом выражалось всеобщее признание.
— Ну! — сказала в растерянности Анна Николаевна. — Ну! Не ожидала!
Я взглянул на неё. Она смотрела на нас с Вовкой ласково и удивлённо.
— Что же, — спросила Анна Николаевна, — это вы вдвоём?
— Вдвоём! — сказал Вовка.
Гром оркестра снова зазвучал во мне. Звенели медные тарелки, гудела толстая кожа барабанов. И вдруг я вспомнил бабушку — как волновалась она. Мама, наверное, волновалась тоже, хотя она виду не подавала. А Вовкиной мамы и его сестрёнки там не было вовсе, и они не волновались, но ведь это и они помогали нам.
Гром оркестра мгновенно утих. Я с сожалением посмотрел на Вовку. Я его понимал. Конечно же, я его понимал! «Вдвоём!» — сказал Вовка, и в общем — то, он был прав. Но лишь в общем. Оставались ещё подробности, про которые можно было бы не говорить. Но бабушка волновалась. И потом, мы выполняли долг. А когда выполняют долг, надо быть честным.
— Вдвоём! — подтвердил я Вовкины слова. — Но нам помогали.
— Кто? — спросила с интересом Анна Николаевна.
— Мама, бабушка, мама Крошкина и его сестра, — быстро перечислил я и вздохнул с облегчением, как бы скинув с себя ношу.
Я думал, Вовка осудит меня, но удивительно — он подмигнул мне! Однако самым удивительным было не это. Самым удивительным было то, что, услышав о помощниках, Анна Николаевна ничуть не огорчилась. Наоборот, она воскликнула:
— Молодцы! Вдвойне молодцы!
Признаться, сперва я не очень понял, почему мы молодцы вдвойне, но учительница сказала, обращаясь ко всем:
— Мало сделать самому хорошее. Надо увлечь других!
Никто не слышал, как прозвенел звонок, пока Анна Николаевна не спохватилась сама. Она рассадила нас за парты, открыла журнал, чтобы спросить кого — нибудь, но вдруг подняла голову:
— Вова и Коля, — сказала она, — сделали замечательный подарок нашим воинам. Я думаю, что их поддержит весь класс.
Ребята зашумели, загалдели, хвастаясь, что, если взяться всем вместе, можно сделать десять таких корзин, но Анна Николаевна предложила:
— Давайте попробуем собрать табак… Я знаю, что это трудно, но попробовать можно. Скажите об этом дома, попросите помочь взрослых, а потом… — Она задумалась. — А потом мы подарим кисеты бойцам.
— Как? — спросил Вовка.
— Прямо бойцам, — ответила Анна Николаевна. — Время от времени из города уходят эшелоны на фронт. Вот мы и подарим кисеты тем, кто уезжает воевать.
Она обвела класс внимательными глазами. Я посмотрел на учительницу и вдруг заметил, как она похудела, сгорбилась.
— А передать кисеты, — сказала она, — я предлагаю Коле и Вове.
Ребята закивали головами, и в моих ушах снова послышался звон оркестра. Я почувствовал, как уши у меня становятся горячими, будто кто — то натёр их снегом.
Я посмотрел на Вовку. Он заливался густой краской, отчего его голова походила на огромный помидор.
Вовка смотрел в парту, боясь оглянуться.
* * *
Когда человек чего — нибудь долго ждёт, он привыкает к ожиданию. И тем неожиданней становится развязка.
В тот же день, когда прогремел гром литавр и нас с Вовкой выбрали делегатами для вручения кисетов бойцам, я вернулся домой возбуждённым и слегка хмельным от такого успеха. Однако ни возбуждённость, ни счастливое головокружение не заслонили необычайно сильного и вкусного запаха, который ударил мне в нос, едва я переступил наш порог. Раздувая ноздри, я шагнул в комнату, увидел огромное блюдо жареной картошки, в которой дымились куски мяса, глотнул слюну и вдруг… ослеп. Да, это было столь неожиданно и бесшумно, что мне показалось, будто я ослеп. В глазах сперва стало черно, а потом я уже уловил прикосновение чьих — то незнакомых рук. Я трепыхнулся, но меня держали крепко, я понял, что это шутка, и надо было отгадать, кто закрыл мне глаза, но руки, заслонившие свет, ни на мамины, ни на бабушкины не походили. Я ещё раз потрогал эти руки, нащупал рукава с металлическими пуговками, и в это время до меня донёсся тонкий табачный запах.
Неожиданная догадка пронзила меня. Я подпрыгнул, вырвался из крепких рук и повис на шее отца.
Он прижимал меня, колол щетиной, смеялся, похлопывал ниже спины, что — то приговаривал, а я молчал, сжимая зубы, чтобы не расплакаться.
Я ждал отца, знал, что он придёт домой, выписавшись из госпиталя, и всё время думал о дне, когда это случится. И вот этот день пришёл, я обнимал отца и не верил, всё никак не мог поверить, что буду теперь с ним — эти несколько дней. Буду с ним говорить, обсуждать разные вещи, смеяться, наверное, расскажу, как в прошлом году нюхал его открытку, думая, что она пахнет маслом, и вообще буду жить с отцом, с отцом, понимаете — с отцом!
Наконец отец отпустил меня, мы уселись за стол, вокруг блюда с картошкой и мясом, но — странное дело! — великолепная еда неожиданно утратила для меня своё значение. Я ел картошку с мясом, думал о том, что мама, выходит, снова сдавала кровь, а сам смотрел на отца, разглядывал его, волновался и горько вздыхал.
Мама и бабушка не сводили с отца глаз, а он посмеивался, шутил, говорил про какие — то пустяки и совсем не хотел рассказывать про войну. Я просил его об этом, но он отмахивался, пел в шутку: «Пушки, пулемёты, лётчики — пилоты!» — и говорил, чтобы лучше мы рассказали, как тут живём, как работаем и как учимся. Мама ему сказала, как работает она, — он видел сам, когда лежал в госпитале, — что бабушка хлопочет, чтобы нас накормить, я учусь неплохо пока что и выполняю большую общественную работу: вот вместе с товарищем сшил целую корзину кисетов для фронта.
И мама похлопала меня по плечу, а отец вдруг стал серьёзным, не вставая, протянул мне ладонь, и я полоясил в неё свою руку. Отец крепко сжал мою кисть, задумчиво вглядываясь в меня, потом тряхнул головой.
— Вот это по — нашему! — сказал он. — Вот это по — военному!
У меня по спине побежали мурашки, запершило в горле от такой похвалы отца, и я, вполне возможно, расплакался бы, если бы не выручила бабушка. Она вздохнула, виновато поглядела на отца и тронула его за рукав.
— Вася, Вася! — сказала она, горестно покачивая седой головой со смешным узелком на затылке. — Беда — то какая, ты не знаешь: ведь нас обокрали, и костюм твой унесли… Как ты теперь, когда вернёшься — то?
Отец улыбнулся и повторил слова, которые бабушка сама говорила когда — то.
— Вернуться бы, — сказал он беспечным голосом. — Вернуться бы, а там уж как — нибудь справим новый!
Он помолчал, и вдруг заплакала мама.
Мама заплакала, и, словно поняв её, словно поняв, отчего она заплакала, бабушка тревожно спросила:
— Когда?
— Через трое суток, — ответил отец, поглаживая маму по плечу, не успокаивая, не говоря никаких слов, только поглаживая: — Под Сталинград, полагаю, идём.
В нашем классе, на подоконнике, стоял старый глобус, и, бывало, я крутил его, забавляясь тем, как мельтешат перед глазами океаны и страны. На другой день я отыскал на глобусе Сталинград. Это была малюсенькая точка возле голубой ниточки — Волги. И точка и река были ничтожно малы по сравнению со всем глобусом, а если его крутануть, исчезали совсем, сливаясь с другими такими же точками и ниточками. Я крутил глобус, глядел в окно на пронзительно белые сугробы и думал о том, что ведь есть же где — то жаркие страны и в этих странах, пока у нас зима, люди ходят в одних трусах и не едят завариху, как мы, и солдаты в этих странах не лежат, коченея от мороза, в снегу.
Вернувшись домой, я сказал про жаркие страны отцу. Он задумался, но не согласился со мной.
— Везде сейчас плохо, — сказал он, — раз такая война. И в жарких странах тоже плохо. Вон немцы даже в Африку забрались.
Меня это потрясло. Я никогда не слышал об этом, никто мне не говорил. Африку я знал хорошо, ещё в раннем детстве, до школы, я выучил стихи, где была строчка: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» Это были стихи, а теперь была правда, немцы, оказывается, добрались и до Африки. Я представлял себе Лимпопо, под которой фырчат фашистские танки, и мне стало так тоскливо… Будто Африка мне дороже Сталинграда, хотя Африку я видел только на картинке, в детской книжке, а под Сталинград уезжал отец. Заметив, что я расстроился, отец велел мне одеться.
— На лыжах — то ты катаешься? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, предложил: — Ну, так давай покатаемся.
Я засуетился, вытащил свои «коньки», волнуясь, думая о том, как бы не ударить перед отцом лицом в грязь, как бы не осрамиться, хоть я и лучший «лыженист» оврага, но ведь бывает всякое, особенно в такой ответственный момент.
Мы вышли — я в леопардовой американской шубе, отец в шинели с красными лычками поперёк зелёных погон. Я нацепил лыжи и для начала прыгнул с нырка, однако не просто прыгнул, а удивительно далеко и, тормозя, развернулся на полный круг.
— Ого! — сказал отец, когда я к нему подъехал, и эта оценка вскружила мне голову.
Я забрался на длинную и пологую горку и, вихляя, подпрыгивая, делая веера и разные повороты, изобразил на снегу настоящие кружева.
Отец засмеялся, помотал головой, восхищаясь, и показал мне на гору — на ту самую злосчастную гору, которая начиналась от забора и которую я — единственную во всём овраге — не мог одолеть.
— Ас той можешь? — спросил он, явно задираясь.
— Не! — признался я честно.
Но отец не поверил.
— Это же простая горка! — сказал он. — Только крутая, и всё! Не побоишься — и проедешь шутя.
«Шутя»! — проворчал я про себя. — Поглядел бы, как тот парень схряпал сразу обе лыжи".
— Ну! — подзадоривал меня отец. — А так хорошо катаешься!
Я мотнул головой и нехотя стал взбираться на гору.
С высоты, от забора, отец показался совсем маленьким, и сердце у меня заколотилось часто — часто. Пока я взбирался сюда, честолюбивый план съехать с этой горы овладевал мною. Мне казалось, что кто — то неизвестный поможет мне одолеть высоту, одолеть, чтобы отец убедился до конца в моём лыжном совершенстве, но сейчас страх снова вполз в меня. Я глубоко, вздохнул, пытаясь успокоить себя и освободиться от страха и от волнения. Как будто помогло. Я взглянул в последний раз на маленькую фигурку отца и шагнул вниз.
Сначала я ехал хорошо — пригнувшись, как всегда, согнув колени и выставив для устойчивости одну ногу вперёд. Примерно на середине горы лишь на мгновение я возликовал: всё в порядке, я съехал — таки с этой горы! — и тут же струя снега ворвалась мне за шиворот.
Отплёвываясь, проклиная себя за преждевременную уверенность, я медленно подъезжал к отцу. Он притопывал сапогами, незло смеялся и, когда я подъехал к нему, неожиданно сказал:
— А ну — ка, дай я!
Улыбаясь, я снял лыжи, представляя себе, как неуклюжий отец на моих отпиленных лыжах поднимет вихрь снежной пыли, воткнувшись в сугроб, и попытался сказать об этом отцу, но он лишь улыбнулся, прицепил "коньки" к сапогам и уверенно полез на горку.
К этой высоте я подбирался, переступая лесенкой — гора была крутая, — а отец поднимался, переступая ёлочкой, и лишь последние метры, там, где было совсем круто, почти отвесно, шёл лесенкой, врубая лыжи в плотный снег.
У забора, обернувшись ко мне, он снял шапку. Звёздочка сверкнула на солнце, и неожиданно — вот так, с шапкой, зажатой в раненой руке, — отец полетел вниз. Руку с шапкой он отставил в сторону, как бы оберегая её на всякий случай.
Это видение всегда со мной, я на всю жизнь запомнил, как мчался отец вниз — эти две или три секунды. Его высокое тело согнулось, полы шинели раздвинулись на ветру, освобождая острые колени, — он стал похож на натянутую тетиву лука. Все эти секунды, пока отец мчался вниз с отвесной высоты, его ноги ни разу не дрогнули, не пошатнулись, словно он только тем и занимался каждый день, что ездил с этой горы.
Он промчался, словно стремительно пущенная стрела, вздымая за собой снежный вихрь, потом тетива распрямилась, и отец, высокий и прямой, сделав едва уловимое движение, тормознул возле меня. Обпиленные лыжи выглядели смехотворно на его тяжёлых сапогах, ему — высокому, длинноногому, было немыслимо трудно ехать на таких "коньках", но он проехал, пронёсся, как ветер, с первого раза одолев обрывистую гору.
Высота была всё такая же, только теперь прибавилась ещё зависть к отцу: вот он сумел, хотя и воевал и не катался с гор, а я не умею. Но мне не хотелось признать, что отец катается лучше меня, и вместо покорности и послушания ученика мною овладел азарт игрока.
Колени у меня дрогнули, и я снова очутился в снегу.
— Ещё раз! — приказал мне отец.
Но я уже лез на горку сам. Видно, от возбуждения, в третий раз я упал, едва лишь шагнув с обрыва, и меня несло по всей горе, ломая и перекручивая.
— Ничего, ничего! — подбодрил меня отец, едва я разлепил глаза. — Ты, главное, спокойней!
После четвёртой или пятой неудачи отцовские слова стали доходить до меня. Каждый раз, взбираясь на гору, я в нетерпении шептал себе: "Сейчас, сейчас!" — но ничего не выходило и сейчас, я снова рыл носом сугробы и снова исступлённый лез на эту гору, готовый в любую минуту зареветь от отчаяния, оттого что я оказался перед отцом таким слабым и беспомощным.
Наконец отец остановил меня.
— Ты не волнуйся, — сказал он. — Я тоже, как ты, не мог с неё съехать, когда был мальчишкой. Потом одолел. Надо только преодолеть бессилие. Понял? Отдохни, наберись сил и полезай снова.
Я_ чувствовал, как гудят у меня от усталости ноги. Даже руки и те устали от этих непрерывных подъёмов и спусков, но я кивнул и полез снова. И снова свалился.
Стало уже темно, а я всё мотался на гору и с горы, пока отец не сказал твёрдо:
— Ну, всё! Хватит. Идём домой.
Я снял лыжи, и мы пошли, проваливаясь в снег. По моему мокрому от падений лицу ползли слёзы, и я отворачивался. "Всё! — думал я. — Ведь завтра отец уедет и не увидит, что я могу съехать с этой горы!"
Отец словно услышал меня.
— Ты съедешь! — сказал он серьёзно. — Я уверен, съедешь. Тогда напиши мне письмо, слышишь?
Я кивнул головой. Конечно, напишу! Ясное дело, напишу, какой вопрос! Как съеду, так и напишу.
* * *
На уроках Анна Николаевна объявила нам, что сегодня мы вручаем кисеты бойцам. Сердце прямо оборвалось во мне. Анна Николаевна сказала, чтобы мы приходили в школу вечером, а ведь вечером уезжал отец. Что же теперь? Я, конечно, должен вручать кисеты, раз меня выбрали делегатом, но ведь не мог же я не проводить отца!
Я разрывался на части — долг и любовь тянули меня в разные стороны. Терзаемый этими чувствами, я пришёл из школы домой. Увидев моё расстроенное лицо, бабушка тут же выяснила причину, всё поняла, пригорюнилась, но в это время вернулся отец, ходивший за какими — то документами.
— Не беда! — сказал он. — Мы с тобой простимся дома. Какая разница — на вокзале или дома, а вручить кисеты ты должен сам!
И хотя это было полурешением, скорее даже жертвой со стороны отца, со стороны личного в пользу общественного, я как — то приободрился, и бабушка принялась гладить мне белую рубашку, потому что Анна Николаевна велела нам на всякий случай одеться понаряднее, так как где будет происходить торжественное вручение кисетов, пока неизвестно.
Время клонилось к вечеру, солнце торопливо уходило за тополя. Вернулась, отпросившись пораньше с работы, мама, и настал печальный час.
Отец снял с гимнастёрки звёздчатый ремень, натянул шинель и подпоясал её тем ремнём, который держал гимнастёрку. Потом аккуратно застегнул верхние пуговицы, надел шапку.
Я тревожно смотрел на отца и думал, что уже когда — то видел это. Конечно, это было уже, когда началась война. Я даже не понял тогда толком, что началась война. Просто не очень понимал, что это такое.
Тогда отец был в длинном чёрном пиджаке и в модной крапчатой кепке с длинным козырьком. На пиджаке у него висел значок БГТО на серебряной цепочке, а за спиной — зелёный мешок. Значок отец подарил мне тогда, а зелёный мешок был с ним и сейчас. Он повесил его на одно плечо, и мы присели.
Я видел, как иногда вздрагивало мамино лицо.
Она хотела плакать, но не давала себе воли, сдерживалась — только вздрагивало лицо; я видел, как комкала платок бабушка и подозрительно сухо смотрела на меня. Один отец был спокоен.
Он сидел, задумавшись, потом встрепенулся и встал.
— С богом! — сказала бабушка, и отец наклонился ко мне.
— Главное, преодолеть бессилие — всегда и во всём, — сказал он шёпотом, чтобы не услышали мама и бабушка. — Главное, почувствовать себя сильным!
Я кивнул ему, и мы вышли на улицу.
На углу наши дороги расходились. Отцу, маме и бабушке надо было к вокзалу, мне — в школу.
До угла мы с отцом шли вместе, тесно прижавшись друг к другу, — он держал меня за плечо. Прощаясь, я обнял отца за шею и снова почувствовал его запах — табак и ещё что — то неуловимое, мужское и сильное.
— Ну, сын! — сказал отец и прижал меня в последний раз к колючей шинели. Потом он отстранил меня, повернул к школе и слегка подтолкнул.
Я сделал несколько шагов и обернулся.
Всё это было уже один раз. Я стоял с бабушкой возле ворот, бездумно махал рукой вслед отцу, не очень понимая, что случилась война.
Сейчас было то же — отец снова уходил на фронт. Но теперь я уж^ знал, что такое война. Я видел израненный санитарный вагон, жёлтые пятки убитого бойца, я видел кровь под микроскопом и ел еду, заработанную маминой кровью, я шил кисеты и ел завариху, лишь во сне вспоминая пшёнку, я боялся за отца и встретил его, раненого, а теперь провожал снова, второй раз. Провожал — НА ВОЙНУ!
Я обернулся и бросился к отцу. Я тискал его, я обнимал, я жадно вдыхал отцовские запахи, стараясь запомнить их, и едва сдерживался, чтобы не зареветь.
— Ну, ну! — сказал отец. — Смелее! Шагай! — и снова повернул меня к школе, и снова слегка подтолкнул вперёд.
Я пошёл, часто оборачиваясь и махая рукой, пока наконец, ответив мне в последний раз, отец с мамой и бабушкой не скрылись за углом.
* * *
Ещё издали я увидел у школы чёрную "эмку". Никогда возле нашей школы не стояли "эмки", и, почувствовав, что это связано с нами, я припустил бегом. Вовка Крошкин встретил меня на пороге. Из — под нежаркой леопардовой шубы выглядывала, как и у меня, белая рубаха. Вовка был возбуждён, суетился, отчего крутил во все стороны своей большой головой.
— Ну где ты?! — воскликнул он, увидев меня, словно уже и не чаял со мной встретиться, и тут же, без передыха продолжал: — За нами машина пришла!
— Видел, — ответил я невозмутимо, будто так оно и должно быть, и пошёл в класс, не обращая внимания на суетящегося, взволнованного Вовку.
— А! — сказала, увидев меня, Анна Николаевна. — Вот и наш Коля!
Рядом с учительницей стоял худой очкастый человек, похожий на какого — нибудь завуча или ещё пуще — на директора школы, не будь на нём военной формы.
— Давай пять! — сказал военный, протягивая мне руку. — Давай, давай, не стесняйся! Вот тебе наше солдатское спасибо! Тебе и товарищу твоему! — Он кивнул на Вовку, который стоял у меня за спиной.
Вовка выдвинулся вперёд и сам протянул военному руку.
— Вот — вот! — сказал офицер, пожимая Вовкину ладонь. — И тебе спасибо! Потому как для солдата первое дело — махорочка!
Анна Николаевна стала снимать со стола корзину, но офицер не дал ей, подхватил корзину сам, и мы двинулись вслед за ним к "эмке". В коридоре стояла нянечка, держа в руке медный колокольчик, и, когда мы выходили, махнула нам рукой, отчего колокольчик громко, на всю школу звякнул.
За рулём тоже сидел военный. В "эмке", было хорошо — приятно пахло кожей, легко покачивало, и мы не заметили, как машина остановилась.
— Приехали! — сказал военный и добавил вдруг, став строгим: — Приготовьтесь!
Анна Николаевна заволновалась, торопливо скинула с корзины холщовую тряпицу. Кисеты лежали, как и раньше, только сверху было несколько мешочков, полных табака. Наш класс бурно взялся за дело, ребята откуда — то нанесли табаку, папиросной бумаги и даже просто папирос, — наверное, оставшихся с довоенного времени. Правда, всего этого оказалось не так много — на десяток кисетов, не больше, — но всё же эти кисеты были не пустые, а с табаком, и ведь дарить такие кисеты приятнее, чем пустые.
Шофёр помог Анне Николаевне вытащить корзину, вслед за корзиной из "эмки" выскочили и мы, и я почувствовал, как у меня холодеют кончики пальцев.
Я думал, нас привезут к какому — нибудь дому, мы разденемся и в белых рубашках станем дарить бойцам наши кисеты. Наверное, и Анна Николаевна думала так, раз велела нам одеться получше, но то, что мы увидели, было совсем по — другому.
Слева коричневой стеной был поезд, обыкновенный поезд — одна к одной стояли теплушки, — а справа, выстроившись в квадраты, стояли бойцы. Правда, у них не было оружия, но во всём остальном это были настоящие бойцы — зелёные шинели, чёрные сапоги, серые ушанки со звёздочками. Звёздочки мерцали в свете вечерних фонарей, и казалось, что это сверкают маленькие кристаллики. Перед каждым квадратом бойцов стояли командиры, туго перетянутые ремнями. На командирах были белые полушубки, и я удивился — такие полушубки я видел впервые.
Наш очкастый офицер, похожий на завуча или директора школы, подбежал к кучке военных в белых полушубках. Это были тоже командиры, но они стояли не в строю, не вместе с солдатами, а отдельно и о чём — то говорили. Наш очкастый держал руку У шапки, что — то говорил, мы. не слышали — что, и, когда кончил, военный в полушубке, которому он докладывал, пошёл к нам.
Приблизившись, он козырнул Анне Николаевне, а потом нам — каждому в отдельности.
— Полковник Николаев! — сказал он и протянул руку Вовке.
— Крошкин! — ответил Вовка и добавил: — Ученик первого класса.
Полковник не рассмеялся, не улыбнулся даже, козырнул и мне, потом спросил Анну Николаевну:
— Разрешите начинать?
Будто Анна Николаевна была генералом, а мы с Вовкой, может, и не генералами, но важными командирами!
Анна Николаевна кивнула, а полковник Николаев шагнул вперёд и крикнул неожиданно раскатистым голосом:
— Товар — рищи бойцы! К нам приехали представители одной из школ города, где сформирована наша часть. Они вручат вам кисеты, которые сшили ребята этой школы. Скажем же им спасибо!
Настала недолгая пауза, я ждал, что скажет ещё^полковник Николаев, но он молчал. И вдруг… Вдруг… Я никогда не забуду этого, сколько бы времени ни прошло с тех пор, потому что забыть этого нельзя, невозможно.
Мгновение была тишина, и вдруг раздался рокот. Сперва я не понял ничего. А когда понял, заревел.
Над площадкой, где стояли бойцы, неслось раскатистое, громкое, мощное:
— У — р–ра-а-а!
Ура! Бойцы кричали "ура"!
Они кричали это нам. Анне Николаевне и нам с Вовкой.
Я пробовал успокоиться, кусал губы, но слёзы лились из меня сами.
Полковнрш Николаев обернулся к нам. Его рот был раскрыт. Он сам кричал "ура".
Наконец всё стихло, и полковник приказал негромко:
— Действуйте!
Я схватил несколько наполненных табаком кисетов и бросился к ровным квадратам, на ходу размазывая слёзы. Мне было стыдно этих слёз, таких неподходящих сейчас, и я совал кисеты, не глядя на бойцов. Меня похлопывали по плечам, какой — то боец даже поцеловал, а я всё шёл с опущенной головой, боясь, что солдаты увидят мои мокрые щёки.
Неожиданно кто — то крепко взял меня за плечо.
Я протянул кисет, шагнул было дальше, но крепкая рука не отпускала меня.
Я поднял голову.
Отец! Это был отец!
Он присел на корточки, поближе ко мне и повторил, будто мы с ним и не прощались:
— Ну, ну, сын! Помни, что я сказал!
Я помнил. Он говорил про бессилие. Про бессилие и силу, которая лишь одна может одолеть бессилие.
Я вздохнул облегчённо и обернулся. Вовка раздавал уже пустые кисеты, ему помогали Анна Николаевна и тот очкастый офицер.
— Иди! — сказал мне отец, как бы снова подталкивая. — Иди, у тебя дело!
Но я не мог шагнуть.
— Иди! — приказал отец.
— Хорошо, — ответил я ему и позвал: — Папа!
— Что? — спросил отец, улыбаясь.
— Покажи, где он?
Отец понял и сунул руку в карман.
Он вытащил кисет, и я разглядел на нём свои слова: "Смерть фашисту!"
— Возвращайся! — шепнул я.
И отец кивнул, улыбаясь.
— Хорошо! — сказал он. — А ты напиши. Напиши, когда не упадёшь.
Я помахал отцу, отступая. Мне надо было раздать ещё целую стопку пустых кисетов.
Я шёл вдоль строя, раздавая наши кисеты, и смотрел теперь в лица бойцов. Они кивали, они улыбались, они говорили: "Учись, сынок!", говорили, прочитав мою надпись: "Не сомневайся, будем бить фашиста!" А я шёл и шёл, раздавая кисеты, как раздают награды, пока не послышалась протяжная команда:
— По ваго — о–нам!
Чётко, не теряя порядка, солдаты побежали к вагонам, а я стоял с нерозданными кисетами.
Всё произошло в считанные минуты — бойцы были уже в теплушках, только командиры в белых полушубках ещё стояли возле вагонов. Я, словно заворожённый, разглядывал молчаливый эшелон с людьми, уезжавшими воевать, и очнулся, лишь когда впереди сипло прогудел паровоз.
Командиры взобрались в теплушки, поезд медленно покатился, и я кинулся к нему:
— Дяденьки! — крикнул я, поравнявшись с вагоном. — Кисеты возьмите, дяденьки!
Кто — то наклонился ко мне сверху, подхватил мою пачку и исчез во мраке.
— Всё в порядке? — крикнул я, волнуясь.
— Всё в порядке, сынок, — сказал мне солдат из медленно плывущего поезда. — Всё в порядке…
Я остановился.
Поезд завернул дугой, и на последнем вагоне замаячил красный огонёк.
Поезд уходил на войну.
Война продолжалась…
И много было впереди всего. У меня — трудных гор. У отца — трудных дней.
Музыка
У всякого человека есть в жизни история, которая — как зарубка на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой её затянет, но приглядишься внимательнее — вот она, тут, осталась, присмотришься ещё — и время обратно пойдёт, закрутится часовая стрелка против солнца — всё скорей и скорей…
Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю её, когда слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не выучился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки: выучился… да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаивать справедливое дело.
* * *
Началось всё это как — то случайно, и никак я не мог подумать, что в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая — то там история.
Итак, это было вскоре после войны. Когда я, вернувшись из школы, ел жидкий суп с перловы ми крупицами на дне, позвякивая ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели на мою макушку, жалея меня за выпирающие из спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:
— Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идёт в музыкальную школу. Давай и Колю запишем!
Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не отрывая взгляда от крупинок на дне. Это меня и погубило.
Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза, и был наказан.
А бабушка и мама оживлённо говорили надо мной, обсуждая новую проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только раз, когда бабушка вдруг зажужжала.
Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв глаза и отведя в сторону согнутую левую руку, держит в другой руке вилку и жужжит — то громче, то тише. Лицо её выражало блаженство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку, видимо, скрипки.
Мама сидела напротив бабушки, облокотившись о стол, глядя куда — то вдаль, и лицо её было задумчиво.
Я глядел на них, и незаметно ложка упала у меня из рук, произведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фонтанчиком.
Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась. Засмеялась и мама, и они долго хохотали сами над собой, вытирая слёзы и гладя меня по макушке.
Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка чаще прислушивалась теперь, когда по радио что — нибудь играли, и, бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей, если аккорды были особо волнующие.
Я по — прежнему жил своей мелкой частной жизнью заурядного четвероклассника и всё ещё не мог осознать назревающей угрозы.
Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп, мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется французской, над моей головой произошёл ещё один разговор на музыкальную тему.
— Ты знаешь, — сказала бабушка мне, — я была у Правдиных. Они скрипку не рекомендуют: очень действует на нервную систему.
— А как же? — растерянно спросила мама. — Можно было бы мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.
— Да, — сказала бабушка, — но большой размер, взрослые. Для детей нужно поменьше. А купишь маленькую, вырастет, новую надо. Не напасёшься…
Они вздохнули.
— А фортепьяно, — сказала бабушка, — легче. Можно с кем — нибудь договориться, к кому — нибудь ходить на игру. И на нервы меньше действует… А то тут эти… как их… пиццикато. Одной рукой всё дрожать надо…
Теперь засмеялся я. Я представил себя в чёрном фраке и с галстучком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка, жёлтая, как сливочное масло. Лизни — вкусное. А я не лижу, стою на сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипываю музыку! А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший Юрка Рыжий и губы от зависти облизывает.
Ох, этот Юрка!
Трудно, в общем, невозможно установить, почему сложились у нас тогда такие отношения, но Юрка преследовал меня буквально по пятам.
В первом классе мы учились вместе, и на переменках от нечего делать, а может быть, от холода, который стоял в классе, мы становились возле стенки и толкались. Кто кого отошьёт от стенки. Юрка был посильней — во всяком случае, мне это так казалось — и всегда всех отшивал от стенки, а меня легче других. Отшивая, он нахально смеялся, и это действовало на меня особенно. Впрочем, всякая очень уж сильная уверенность человека в самом себе, самоуверенность словом, до сих пор приводит меня в некое смятение и вызывает неуверенность. Не по себе мне как — то становится…
Так вот, Юрка отпихивал всех у стены, мы орали, но уступали ему. Потом Юрка перешёл почему — то в другую школу и на некоторое время исчез с горизонта. Но только на время…
* * *
Между тем музыкальные события развивались, и в один прекрасный вечер, совершив необычайный поступок в своей практике — велев отложить уроки "на потом", — бабушка взяла меня за руку и повела в музыкальную школу.
Идти с ней за руку мне было стыдно, но такая уж существовала у бабушки традиция — водить меня по улице за руку, как слона из басни Крылова, и я шёл, озираясь по всем сторонам, чтобы в решающую минуту, когда из — за угла появится чья — нибудь знакомая личность, вдруг зачихать и полезть в карман за платком или просто напрячь силы и посильней рвануть руку, дабы доказать свою хотя и относительную, но всё — таки независимость.
А тут произошло всё как — то неуловимо. То ли я зазевался, то ли он просто вырос из — под земли, но в тот самый миг, когда я мирно волокся на бабушкином буксире, передо мной появился Юрка Рыжий…
Я мгновенно освободился от контактов с бабушкой, но это было ни к чему, потому что Юрка уже видел, как меня и в четвёртом классе водят за руку. Видно, у меня здорово покраснели уши. Юрка Рыжий уловил моё состояние и, как бандит на безоружного человека, напал на меня.
— Ну, ты! — сказал он и пошёл за мной следом. — Ну, ты! — повторил он, нахально улыбаясь, и чуть стукнул по одной моей ноге так, что я зацепился ею за вторую ногу и едва не упал.
Видно, тут — то и состояла моя главная* ошибка, потому что я не остановился, а ускорил шаг и догнал бабушку. Наберись я тогда храбрости, остановись на мгновение и ткни хотя бы легонько этого Юрку куда — нибудь в грудь, он бы, наверное, отвязался от меня и весь конфликт был бы исчерпан. Но я не остановился, не ткнул Юрку, даже ничего не сказал ему, а прибавил шагу, почти побежал, догнал бабушку, влекомую музыкой, и — о слабость! — сам взял её за руку, как бы страхуясь от Юркиного нападения.
Юрка Рыжий сухо хохотнул, увеличил дистанцию и пошёл за нами, время от времени покрикивая:
— Ну, ты!..
* * *
Музыкальная школа размещалась где — то в глубинах драматического театра, под самой крышей, и, пока мы добирались до неё, я подумал, что театр походит на огромного слона, а мы идём внутри у него, по бесконечным и узким, словно кишки, коридорам. Впечатление это подтвердилось, когда мы нашли всё — таки эту музыкальную школу. Она оказалась обыкновенным коридором, перегороженным крашеной фанерой. В этом аппендиксе было полно народу, главным образом взрослые, хотя школа называлась детской. Приглядевшись, я увидел, что взрослые не одни, а все с ребятами или девчонками, и все ведут себя так, будто ждут чего — то.
Бабушка нашла местечко, мы устроились, я начал разглядывать коридор повнимательнее, и вдруг почувствовал, как снова, второй уже раз сегодня, краснеют мои уши.
В другом углу, положив руки на колени, с белым бантом, который был больше её головы, сидела наша классная тихоня Нинка Правдина, сидела выпрямившись, как на уроке, серьёзная до невозможности, и смотрела на меня, преисполненная чувства собственного достоинства. Даже кнопочный нос с редкими веснушками у неё кверху задирался.
В краску меня бросило сразу от многих обстоятельств. Во — первых, потому, что вся эта история с музыкой казалась мне ненужной и даже постыдной в глазах серьёзных людей и в мои планы вовсе не входило, чтобы кто — то видел меня тут.
Во — вторых, потому, что Нинка Правдина в ту пору казалась мне непревзойдённой красавицей, чему не мешали даже редкие веснушки на её носу. Кроме того, она держалась в школе как — то особнячком, даже с девчонками не водилась, а потому казалась мне какой — то странной… Во всяком случае, к её ответам на уроках, за которые ей всегда ставили пятёрки, я внимательно прислушивался, а её неофициальных высказываний на переменках, равно как и взглядов, пронизывающих до пяток, просто — напросто остерегался.
Ну, а в-третьих, отчего меня бросило в жар, была её мамаша, которую я как — то видел в школе и которая теперь улыбалась мне и кивала так, будто мы с ней какие — нибудь родственники, и смотрела на меня так поощрительно, будто я уже не просто Колька, а какой — нибудь заслуженный артист республики.
Меня этот взгляд добил окончательно, но в эту минуту рядом кашлянула бабушка, кокетливо поправила гребёнку в седой голове и, поднявшись, пошла к Нинкиной маме.
Нинкина мама поднялась навстречу бабушке, они заворковали сразу о чём — то, наверное, о своих пиццикатах, присели, а Нинка прямо бабочкой вокруг них кружилась, так и вертелась вся. Бабушка, улыбаясь, поглядывала на неё, гладила её по волосам, потом посмотрела на меня и сказала Нинке что — то. Наверное, сказала, чтобы она пошла ко мне. Я подумал про себя, что уж это дудки, что уж Нинка ко мне не подойдёт, очень ей надо. Но странное дело, она, ничуточки не стесняясь — а ведь народу в коридоре было порядочно, — подошла ко мне и хоть бы хны — уселась рядышком. Словно мы с ней давнишние дружки.
От Нинки несло каким — то благоуханием, бант у неё прямо светился белым сиянием, щёки горели, как фонарики, чёрные глаза блестели, словно угольки. Нинка чувствовала себя как рыба в воде, будто она тут всю жизнь, в этом коридоре, пасётся. Она поглядывала на меня дружелюбно, а я не знал, куда от стыда деться: народ в коридоре скучал, и все прямо таращились на нас, особенно мальчишки. "Во, — скажут, — девчатник нашёлся! Девчатник музыкальный!"
Нинка же ничего* не замечала вокруг — надо же, я её такой простой, такой ненадменной первый раз видел! — и говорила со мной о всяких пустяках там: о том, какой в сорок девятом примере по арифметике ответ у меня, и всякое такое.
Она заглядывала мне в глаза, слушала моё бурканье с большим вниманием, всё время кивала головой, и мне в моём тумане, который плыл вокруг от моего стыда перед обществом, казалось, что и правда это не бант, а большая белая бабочка у меня перед глазами мельтешит.
— А ты не боишься? — спросила меня Нинка и посмотрела с участием.
— Чего? — буркнул я.
— Экзамена.
А я даже и не знал, что какой — то там экзамен будет! Я и не готовился.
— Ну, не бойся! — сказала Нинка. — Это ерунда. Простецкое упражнение. Нужно повторить, что тебе там выстучат. Слух проверяют.
Слух проверяют… Я даже и не думал, что слух ещё как — то проверяют. Я же не глухой, чего тут проверять? Но тем не менее что — то мне такое предстояло. Я заволновался ещё больше, чему способствовал Нинкин бант, заёрзал на стуле, видно, уши у меня покраснели пуще прежнего, и Нинка, заметив моё волнение, совсем обалдела: взяла меня за руку, пожала её и сказала:
— Не бойся.
Мне казалось, да что казалось — это было точно: пока Нинка сидела со мной и крутила своим бантом, все часы остановились. И люди вокруг ничего не делали, только таращились на нас.
И вдруг хлопнула дверь, все повернули голову, из — за двери вышел какой — то мальчишка, а вместо него туда впорхнул белый бант. Я даже не заметил, как Нинка проскочила мимо меня.
Я вздохнул, кровь отлила от моих ушей, и жизнь пошла дальше. Никто в коридоре не пялил на меня глаза, на душе стало очень хорошо, покойно, от Нинкиной мамы пришла бабушка и сказала мне с укором, будто я в этом виноват:
— А Ниночка уже давно играет!
Я хотел было спросить, на чём это она играет, но раздумал: хватит мне на сегодня этой Ниночки!
За дверью раздалась какая — то барабанная дробь. Через мгновение она повторилась, потом забренчал рояль. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Нинка, ещё более румяная, и угольки её блестели ещё ярче.
Она бросилась к своей маме, они зашушукались там, в своём углу, потом поднялись и подошли к нам.
— Ну вот, — сказала Нинкина мама, — Ниночке прямо там, в комиссии, сказали, что она зачислена.
Бабушка снова стала гладить Нинку по голове, заулыбалась ей, захвалила, а её мама, радуясь, сказала:
— Но мы не уйдём. Подождём, как у Коляши!
"Ничего себе, — подумал я, — Коляша! Во придумали! Не дай бог, Нинка в классе скажет, изведут! "Коляша!"
Но расстроиться как следует я не успел: бабушка подтолкнула меня в бок и кивнула на дверь. Настала моя очередь проверять слух.
Я думал, там врачи. Уха — горла — носа. По врачей никаких не было. Были две женщины средних лет, сильно накрашенные, и возле рояля сидел сутулый старик с курчавыми волосками, торчащими из ушей. Это я, как вошёл, сразу заметил, это меня очень заинтересовало, я даже хихикнул про себя. "Вот тебе и ухо — горло — нос!" — подумал я. Но старик на меня никакого внимания не обратил, даже не обернулся, не поглядел на меня — может, сразу понял, кто вошёл…
Накрашенные женщины, глядя сквозь меня, спросили мою фамилию, спросили также, не играю ли я на каком — нибудь инструменте, на что я мотнул головой, хотя в душе опять захихикал и подумал, что надо бы сказать: "Да, играю. Па нервах". Ходила тогда у нас такая шуточка. Но ничего я, конечно, не сказал, а накрашенные женщины велели, чтобы я повторил то, что мне сейчас простучат.
— Пал Саныч! — воскликнула одна из них, и старик с волосатыми ушами, всё так же не оборачиваясь, не проявляя ко мне никакого совершенно интереса, протянул вперёд длинную, прямо двухметровую, руку со стиснутым кулаком и громко постучал по роялю. В рояле что — то тоненько звякнуло, струна, наверное, и я понял, что старик стучит не просто так, а со смыслом, с какими — то едва уловимыми перерывами. Будто азбуку Морзе выстукивает.
Я провёл кулаком под носом — была у меня такая привычка, вздохнул, подошёл к столу и простучал что — то совсем не то. Даже мне стало ясно. Крашеные тётки нахмурились, но старик, всё так же не поворачиваясь, опять протянул руку вперёд. И как — то так он её протянул, что мне показалось, будто он протягивает мне руку помощи, как утопающему.
Я вцепился взглядом в эту длинную, жилистую руку и напряг все свои слуховые возможности. Старик постучал быстро, но как — то внятно, и я тут же, без остановки, повторил то, что он простучал. Точно, без помарок.
Крашеные тётки уже не глазели на меня, но вдруг повернулся старик. Он глядел на меня, щурясь слезящимися белёсыми глазами, и словно хотел что — то сказать.
Но он ничего не сказал, а одна из крашеных тёток велела мне идти, и я вышел с красными от слуховой работы ушами, растерянный, не зная, что и подумать.
В коридоре на меня набросились так, будто я неделю в тайге проплутал, и бабушка, и Нинка, и её мама не чаяли меня и увидеть. Они смотрели на меня, как на страдальца какого или как на генерала — юного, но седого и израненного всего. Опять я зарделся, как морковка, но они ничего не замечали — что им полный коридор людей, если я оттуда, от этой комиссии, живым вышел!
Еле они угомонились, еле отошли, бабушка узнала, что окончательные результаты всем скажут завтра, и мы пошли домой все вместе — Нинка со своей мамой, бабушка и я.
Охо — хо, этот несчастный день! Мало того, что мы пошли вместе и дошли до самого нашего дома, потому что, видите ли, Нинкина мама решила, что нас с бабушкой надо проводить после такого дела, одни не дойдём, мало этого, так бабушка ещё велела идти мне вместе с Нинкой впереди! Бабушка с Нинкиной мамой шли позади и всё говорили о жизни замечательных музыкантов, а я плёлся рядом с Нинкой, вогнав голову в плечи, готовый даже за руку с бабушкой идти, только не так, только не с Нинкой.
Я плёлся, и всё в моей душе переворачивалось от тяжких предчувствий.
Сейчас, много лет спустя, когда заговорили наконец о существовании телепатии, странных невидимых никому излучений, которые передают на расстояние не только мысли, но и страх и могут, говорят, формировать всяческие предчувствия, я думаю, что вот те два длинных квартала, пока я шёл с Нинкой Правдиной, были крупнейшим в моей жизни сеансом телепатии. Странные, невидимые мне, но рыжие, наверное, Юркины волны вызывали во мне определённое чувство предстоящих неприятностей.
И точно. Есть она, чёрная магия. Как только мы подошли к углу, где сегодня днём я встретил Юрку, он снова появился, как из — под земли.
Глаза у него были круглые. А рыжих ресниц и бровей, тоже рыжих, почти не было заметно.
Он стоял молча, пока мы с Нинкой, а потом и бабушка с Нинкиной мамой не прошли мимо него. Потом он так же молча забежал вперёд и снова посмотрел, как пройдём мы перед ним стройной кавалькадой. Потом он забежал вперёд ещё раз и снова пристально посмотрел на нас. И когда я в третий раз, окончательно добитый, в паре с Нинкой прошёл под его светящимся, радостным и одновременно недоумевающим взглядом, он, остановившись, отпустив нас на некоторое расстояние, крикнул адресованное мне, страшное:
— Хахарь! Э, хахарь!
Уже потом, дома, шаг за шагом разматывая клубок минувшего дня, я припомнил Нинку в эту минуту.
До сих пор она всё пыталась говорить со мной, но когда Юрка крикнул это, она сразу замолчала. Не обернулась на Рыжего, нет. Она просто замолчала, выпрямилась и высоко подняла голову. И так посмотрела на меня, словно ничего не было. Ни музыкальной школы, ни экзамена. И будто не трещала она, заговаривая со мной целый вечер.
Нинка посмотрела на меня, будто насквозь прожгла.
И тошно мне стало так!
На другой день, вернувшись из школы, я застал бабушку разрумянившейся. Она хлопотала у печки, в комнате вкусно пахло ржаным пирогом с картошкой внутри.
Бабушка моя была мастерица по части всякой выпечки, в хорошие годы, когда водилась мука, она всех удивляла неиссякаемым умением стряпать какие — то вкуснейшие коржики, пышки, пончики и пирожки.
Гремя противнями, сложив морщинки на переносице от важности производимого дела, взмахивая куриным крылышком, окунутым в масле, бабушка напоминала никак не меньше сталевара, выдающего плавку, где с горячим металлом не шути — обожжёт или переварится. В такие минуты она была сердита, сосредоточенна, и тут уж лучше было к ней не подступаться.
Из всех своих произведений больше всего любила бабушка печь пирог, какой угодно, на усмотрение и на требование — хоть с морковью, с картошкой, хоть с нежнейшей рыбой или мясным фаршем, заправленным как следует лучком, с совершенно особой, тающей во рту поджаристой верхней корочкой.
Пирог был для бабушки высшей точкой её вдохновения, как, скажем, контрапункт для композитора. Перед праздником либо перед другим каким ожидавшимся событием бабушка сначала начинала охать и волноваться, и, когда волнение достигало накала, она упрекала себя: "Что же это я!" — и начинала собирать на пирог.
В то время, о котором я пишу, пирогов с тающей верхней корочкой бабушке печь не приходилось, но она не унывала: доставала в обмен на довоенные жакеты или стоптанные туфли ржаной мучицы, но себе не изменяла. Ведь не может же композитор перестать сочинять музыку! Даже в самое трудное время.
Когда я вошёл, бабушка стряпать уже заканчивала, строгость сошла с её лица: она улыбнулась и сразу заторопила меня, чтоб я собирался в музыкальную школу за результатом.
* * *
В коридоре, перегороженном крашеной фанерой, было пусто, на стенке висели листки с фамилиями принятых учиться музыке. Бабушка велела мне быстренько найти себя в этих списках. Я посмотрел, но не нашёл, посмотрел ещё раз и снова не нашёл. Бабушка рассердилась — экая я бестолковщина, вытащила футляр, обмотанный тонкой резинкой, нацепила очки и сама стала читать списки, поводя головой: слева направо, потом быстро налево и снова направо…
Бабушка читала не торопясь, основательно, боясь упустить строчку — ведь каждая строчка была целой фамилией! Листки кончились, бабушка долго смотрела на стенку рядом с последней строкой, и что было в душе у неё в этот миг, одному богу известно!
Она постояла так, потом, решившись на что — то, взяла меня крепко за рукав и, подтолкнув вперёд, вошла в комнату, где я вчера так неудачно стучал по столу.
В комнате, будто она никуда и не уходила со вчерашнего, сидела одна из крашеных тёток. Едва она подняла голову, как бабушка стала быстро — быстро говорить. Я никогда не видел, чтобы она так быстро говорила, — как Синявский по радио. А бабушка тараторила, и так это у неё здорово получалось, я диву давался.
Конечно, она сказала, что никак невозможно, чтобы я не учился музыке, что музыка — наша семейная страсть, что бабушка, она сама из простых, из пролетариата, но всю жизнь мечтала, чтобы внук умел играть при нашей Советской власти на музыкальном инструменте.
— Видите ли, уважаемая…
— …Пелагея Васильевна, — торопливо, будто угодить хотела, сказала бабушка.
— Видите ли, уважаемая Пелагея Васильевна, мы бы зачислили вашего ребёнка, взяли бы, как говорится, сверх нормы, но увы… у него нет слуха!
Только что бабушка угодливо подсказывала этой крашеной тётке своё имя — отчество, а тут её словно перевернуло. Она выпрямилась, разгладила морщинки на переносице, голову набок наклонила и спросила с вызовом, будто её оскорбили:
— То есть как это — слуха нет? — и покрутила головой, будто сказать хотела: ну и ну, дескать, мухлюете тут немилосердно!
Тётка была хоть и накрашенная, но в душе хорошая. Она принялась объяснять, говорить, что слух — это очень важно, хотя его можно выработать, беды большой нет, тренировка в музыке тоже очень важна, и посоветовала прийти через неделю, когда будет конкурс в группу народных инструментов.
— Это на балалайке — то? — возмутилась бабушка и потянула меня к выходу. — Ну уж увольте, милочка!
На пороге бабушка остановилась на минуту, обернулась, задохнулась от возмущения и, покраснев, сказала тихо, будто уронила, будто эта тётка в чём — то виновата:
— Мы же войну вынесли… А вы — балалайку…
О, эта музыка! Из — за неё и я, поддавшись настроению бабушки и мамы, пришёл в уныние, будто завалил невесть бог какой экзамен, будто я и в самом деле виноват, что нет у меня слуха.
Вернувшись домой, мы жевали без всякого вкуса поджаристый бабушкин пирог, испечённый к не — состоявшемуся событию, запивали его крепким чаем и молчали опять, потому что говорить было нечего. Что тут скажешь?
Где — то в душе я, потихоньку остывая, успокаивался, думал, что, в общем — то, ничего страшного не случилось, какой, в самом деле, из меня музыкант, вот Юрке бы как следует надавать за "хахаря" — это дело, а с музыкой — ну что, переживём, пусть Нинка Правдина играет, это вполне для неё подойдёт…
И только я подумал про Нинку, ну вот только — только, как в дверь постучали, и вошла сначала Нинка, а за ней её мама.
Лица у них были встревоженные. Оказалось, они всё уже знали, потому что были вслед за нами в музыкальной школе. Сразу же, с порога ещё, Нинкина мама стала утешать нас, говоря, что всё это ерунда, что просто большой конкурс в музыкальную школу, а слух — ведь это не беда, его можно развить упражнениями.
— Да, да, — сказала бабушка невесело, — мне ведь и заведующая это же говорила, да что толку… Как же этот слух развивать, если Колю не приняли…
Все задумались ненадолго, а я посмотрел на Нинку. Она разглядывала нашу комнату, потом увидела фотографию на стене, где я маленький сидел голышом да ещё с бантом на голове, как девчонка, поняла, что это я, ухмыльнулась, взгляну ла на меня искоса. Я покраснел слегка, а Нинкина мама сказала:
— Вы знаете, можно же частно договориться. С каким — нибудь музыкантом. У вас есть знакомые музыканты?
Бабушка глянула на неё с интересом, а мама даже в ладоши хлопнула.
— Зинаида Ивановна! — воскликнула мама.
Бабушка надменно повела плечами, покачала головой.
— Зинаида Ивановна! — горько усмехнулась она. — Зинаида Ивановна в кинотеатре играет. Тоже музыкантша!
— Не страшно! — обрадовалась Нинкина мама. — Вовсе не страшно! Главное, музицирует, а раз музицирует — научит!
* * *
Зинаида Ивановна была дальней нашей родственницей, такой дальней — предальней, что о её существовании вспоминали, только встретив на улице или же придя в кино, где она играла перед началом вечерних сеансов.
Меня, понятное дело, на вечерние сеансы не пускали, поэтому я Зинаиду Ивановну представлял себе смутно, очень даже плохо представлял.
В кино на переговоры с дальней родственницей мама и бабушка собирались тщательно, волнуясь, потому что, по их представлениям, это был последний шанс сделать из меня великого — ну, не великого, так, по крайней мере, крупного музыканта.
Зинаида Ивановна работала в "Иллюзионе", самом шикарном кинотеатре. Двери в фойе там были стеклянными, и сквозь них можно было бесплатно послушать музыку, которую исполнял оркестр.
Мы пришли пораньше, прослушали сквозь стекло всю программу, а когда зрителей пустили в зал и оркестранты стали собирать на сцене свои трубы, бабушка попросилась у контролёрши пройти в фойе.
— В оркестр, — сказала бабушка, — к Зинаиде Ивановне.
Мы прошли в фойе все втроём, и бабушка с мамой отправились на сцену, куда — то за кулисы. Я стоял, как будто какой — нибудь безбилетник, и каждый киношный работник, проходивший по фойе, мог меня турнуть.
Наконец появилась Зинаида Ивановна. Она шла будто русалка, в чешуйчатом платье до пола, круглолицая, и в чуть выпяченных губах у неё ловко сидела папироска. Росту Зинаида Ивановна была весьма маленького, гораздо ниже мамы и бабушки, но неотразимое её платье всё — таки заслоняло их, делало сразу невидными какими — то и тусклыми.
Маленькими неторопливыми шажками, глядя мне прямо в глаза, Зинаида Ивановна подошла ко мне и вдруг потрепала по щеке.
— Уй — тютюлечки! — сказала она. — Какой большой мальчик! И учится, наверное, хорошо.
— Хорошо, хорошо, — торопливо подтвердила бабушка, и в голосе её ничуточки не было от того пренебрежения, с каким говорила она вчера о Зинаиде Ивановне.
— Ах, музыке! — воскликнула в это время Зинаида Ивановна, закатывая к потолку маленькие глазки и всплёскивая ручками. — Ах, музыке! Я вас понимаю!.. Ну что же, что же… Приходите! Я ваша!..
— Когда же? — спросила мама, как девочка стоявшая всё время в тени.
— Хоть завтра! — сказала Зинаида Ивановна, но тут же спохватилась: — Нет, завтра я не могу… Послезавтра… Впрочем, давайте на той неделе, в понедельник…
* * *
— Ишь ты, стрекоза! — ерепенилась бабушка, когда мы шли домой. — Завтра, послезавтра, в понедельник. — И тяжело вздыхала: — Будет ли какой от неё толк?
А мне почему — то вспоминалось серебряное, в чешуйку платье Зинаиды Ивановны, и казалось, что толк будет…
На первый урок мы пошли вместе с бабушкой, и Зинаида Ивановна, уже без чешуйчатого платья, поила нас чаем, а потом долго музицировала.
Она играла польки и вальсы, и бабушка, смягчаясь, молча, понимающе кивала головой, когда Зинаида Ивановна брала высокие аккорды. Бабушке первый урок очень понравился, она в корне пересмотрела своё отношение к дальней родственнице и полностью доверила меня ей.
Теперь я ходил на музыку уже один и чаем Зинаида Ивановна меня не поила, поглубже запахивалась при моём появлении в засаленный стёганый халат и садилась рядом со мной к инструменту.
Она учила меня для начала, как надо держать руки, как нажимать клавиши и в то же время жать на педали внизу.
Жать на педали мне особенно нравилось, это напоминало автомобиль — сцепления и тормоза, — и, увлекаясь этим, представляя, что я шофёр, а никакой не музыкант, я забывал об остальном.
Зинаида Ивановна обречённо откидывалась на высокую спинку стула, стирала пот со лба, тяжело дышала, по лицу её ползли красные пятна, а я сидел, опустив голову, сознавая собственное ничтожество, и боялся взглянуть на учительницу.
Наконец Зинаида Ивановна отходила, лишь в голосе её слышалась какая — то тугость, будто трудно ей было мне всё наново объяснять, и мы начинали опять.
Отметок, ясное дело, Зинаида Ивановна не ставила; бабушка, пристроив меня к музыке, успокоилась, решив, что теперь, видно, надо ждать; мама с утра до позднего вечера была на работе, так что о моих музыкальных успехах знали лишь мы — я и моя учительница, а дома на вопрос: "Ну, как там музыка?" — я непринуждённо отвечал: "Всё в порядке".
Не помню точно, какое упражнение мы разучивали с Зинаидой Ивановной первым. По — моему, это было упражнение номер 24, какая — то очень простенькая музыкальная фраза. Нужно было ударить несколько раз разными пальцами по клавишам в определённой последовательности. Выходило упражнение номер 24.
Видно, комиссия в музыкальной школе кое — что понимала всё — таки: запомнить на слух упражнение это я никак не мог, поэтому после нескольких сеансов мучений я попробовал запомнить, какими пальцами куда надо было жать.
Но запомнить это тоже оказалось не просто, что — то я там такое путал, и Зинаида Ивановна, видно отчаявшись, велела мне поучиться писать музыкальные ключи.
— Вот посмотри, — сказала она, ткнув пальцем в ноты. — Ты, конечно, знаешь, что такое музыкальный ключ?
Я кивнул.
— Вот и напиши целую страницу ключей.
Придя домой, я быстро написал по памяти страницу ключей в тетради, чтобы поскорее выбросить из головы эту музыку и заняться своими делами.
На другой день по дороге к Зинаиде Ивановне мне попался Юрка Рыжий. Я шёл с нотной папкой на верёвочке, с довоенной ещё папкой, которую невесть где раскопала бабушка, а Юрка стоял на тротуаре, пристально, как удав, глядя на меня.
— Хе — хе! — сказал он. — Хе — хе, музыкантом заделался!
Я сжался весь, готовый к схватке, но Юрка пропустил меня мимо, не тронув пальцем.
— Ну, музыкант! — крикнул он вслед, то ли с удивлением, то ли с угрозой. — Ну, музыкант!
Трепеща, я пришёл к Зинаиде Ивановне. В её комнате гремела музыка, соревнуясь с отчаянным мужским голосом. Я остановился в нерешительности, взявшись за дверную ручку, не зная, входить или лучше не надо.
А рояль гремел так, что, казалось, у него вот — вот струны лопнут.
— Мой совет — до обручень-я,Не цалуй я-го! — орал мужской голос. —
Не цалуй я-го! Аха — ха — ха-ха! Ха — ха — ха-ха!Я даже вздрогнул от этого хохота, приоткрыл дверь и увидел Зинаиду Ивановну в том же стёганом халате, но не так, как обычно, глубоко запахнутом. У рояля, облокотившись, стоял мужчина с галстуком — бабочкой. Я сразу подумал, что ему бы больше подошло грузить на пристани мешки с картошкой или молотобойцем работать с такой ядрёной, пунцовой физиономией, но Зинаида Ивановна не дала мне разглядывать своего певца, прервала музыку, вышла в коридорчик и, улыбаясь, будто первый раз меня видела, спросила:
— Ну, как ключи?
Я достал из папки тетрадку. Странно всхлипнув, Зинаида Ивановна побежала в комнату, и я услышал, как она кричала там, за дверью, смеясь:
— Ты смотри, какие ключи!
Урока у нас не было, я ушёл переписывать ключи, потому что они были у меня — целая страница — животиками направо, совсем в другую сторону.
Возвращаясь домой, я снова увидел Юрку. Он стоял на том же месте, будто никуда и не уходил.— Эй, ты! — сказал он мне, когда я поравнялся.
— Эй ты, музыкант, сыграй что — нибудь!..
Домой я пришёл с синяком и с отвратительным настроением, потому что противопоставить синяку ничего не смог.
* * *
С этих пор начались мои настоящие муки.
Каждый раз, когда я шёл на музыку, меня встречал Юрка. Я пробовал изменить маршрут, ходить другой улицей, но Юрка ждал меня и там, будто у него было сто глаз.
Он пинал меня — не сильно, нет, легонечко зтак подпинывал, едва — едва, или просто шёл сзади, и это было ещё хуже. Содрогаясь всей душой, униженный, затоптав куда — то глубоко в себя собственное достоинство, я шёл, всей спиной ощущая Юрку, каждую минуту ожидая, что он ударит сзади. Но Юрка не ударял, он шёл за мной с полквартала, потом отставал, и этот момент, когда он останавливался наконец, я ощущал почти физически.
Вздохнув, не оглядываясь, я прибавлял шагу и до самых ворот Зинаиды Ивановны мне было тошно… Всё кипело во мне, кулаки сжимались сами собой — так ненавидел я Юрку и презирал себя. Героические картины сменялись одна другой в моём воображении: то мне казалось, что я знаменитый боксёр и вот мы, уже взрослые, встречаемся на улице, и я бью его, легонько так бью одной левой прямо в подбородок, а он катится кубарем; то мне виделась война и я остаюсь подпольщиком в нашем городе, а Юрка, ясное дело, становится предателем, и я мщу, не только за себя мщу, но, конечно, и за себя — хватаю его тёмной ночью на улице и веду на партизанский суд…
Но между видениями я снова оказывался на улице, шагая к Зинаиде Ивановне с этой проклятой музыкальной папкой, и прохожие толкали меня и возвращали к действительности, к Юрке, которого я встречу не когда — то там, а который сейчас стоит посреди дороги на пути домой.
Я стучался в дверь к Зинаиде Ивановне, и новые мучения наваливались на меня.
Музыкальные ключи кое — как нарисовать мне удалось, но занятие, пропущенное из — за этого "ха — ха — ха — ха", из — за этого сатаны с бабочкой — галстуком, немедленно сказалось: я снова забыл, куда каким пальцем жать в 24‑м упражнении.
Зинаида же Ивановна, решив, видно, что она достаточно помаялась со мной и уж что — что, а 24‑е упражнение я должен знать назубок, заупрямилась, требуя от меня упражнение, и не желала показывать, куда когда надо нажимать.
Это занятие было переломным в моей музыкальной биографии.
Я пыхтел, обливаясь потом, краснел от макушки до пяток, нажимал клавиши, лихорадочно пытаясь вспомнить, как это делается, но рояль издавал какие — то чужеродные звуки, вовсе не напоминавшие музыку.
В тяжёлые минуты всегда приходят какие — то странные, ненужные мысли. Отчаявшись, опустив руки, я вспомнил вдруг давнее своё видение. На сцене перед толпой народа стою я в чёрном фраке с галстучком, как у того "ха — ха — ха — ха", который приходил к Зинаиде Ивановне.
Я глянул вперёд, перед собой. В блестящей стенке рояля отражался жалкий шпингалет со встрёпанными волосами, в залатанной на локтях курточке и курносый вдобавок…
Мне стало горестно, так горестно, что захотелось не то что зареветь, — завыть волком, протяжно и глухо, от отчаяния, оттого, что я такая бездарь!
Я сидел перед очами суровой Зинаиды Ивановны, отражаясь жалким, всклокоченным существом в зеркальной стенке рояля, чувствуя всё своё ничтожество, готовый ударить кулаками по этим проклятым, не запоминающимся клавишам, как вдруг Зинаида Ивановна, моя дальняя родственница, сделала такое, чего я никогда, никогда в жизни не забуду.
Краснея лицом, светлея глазами, запахивая потуже халат, она встала и прошептала, отворачиваясь, искренне возмущаясь:
— Какая бесталанность!
Гнев душил Зинаиду Ивановну. Ещё бы! Потрачено столько сил, столько энергии, в конце концов, столько родственных чувств — и никакой отдачи. Полная пустота. Полная неспособность. Не сдержав себя в минуту гнева, она прошептала этот свой страшный приговор, и я услышал его, услышал!
Всё вскипело во мне. Сначала, отчаявшись, я опустил голову, готовый вскочить и убежать отсюда, уйти навсегда, чтобы не видеть этого белозубого оскала проклятых клавиш. Но уйти — означало сдаться.
Нас было трое в комнате. Зинаида Ивановна, я и рояль. Сумерки вползали в окна, было очень тихо, и вдруг — вдруг я почувствовал себя лёгким и свободным, будто я, как лягушка — царевна, сбросил свою лягушачью шкуру и стал другим, совсем другим человеком.
И как — то особенно, со всеми деталями я увидел всё, что было вокруг. И Зинаиду Ивановну, и каждое пятно на её туго запахнутом халате, и её красное лицо, и рояль, смеющийся во весь рот надо мной, и оконный переплёт — чёрный крест на фоне синеющего неба, и коричневый — именно коричневый! — горшок на подоконнике с причудливо изогнутым стволиком герани. Мне почудилось, что я даже слышу терпкий запах гераневых листьев.
Я выпрямился, посмотрев на себя в стенку рояля, посмотрев себе в глаза, и смело положил руки на клавиши. Они прошлись по белым зубам рояля быстро и непринуждённо! Это было упражнение номер 24!
Я сыграл ещё раз, глядя на клавиши, и ещё раз — уже не глядя на них.
Торопливые шаги прозвучали у меня за спиной и умолкли. Шаги говорили. Я понял, что они не удивлены, нет, они поражены.
А я играл и играл упражнение номер 24.
Молча, ничего не говоря, Зинаида Ивановна взяла меня за руки, отвела их в сторону и сыграла какую — то новую фразу. Я тотчас повторил её. Тогда она сыграла третью, и я опять поразил её. Я сыграл все три фразы подряд, сначала упражнение 24, а потом два новых.
Зинаида Ивановна вздохнула, погладила меня по голове и сказала:
— Вот видишь…
Будто я неслух, который долго упрямился, а вот теперь сдался, уступил. Будто всё, что случилось сегодня, давно уже быть могло. Ничего она не поняла, Зинаида Ивановна.
А я сидел, свесив руки, как знаменитый пианист после долгой игры, и мне казалось, что меня кто — то вытряхнул. Что внутри у меня пусто.
Я медленно оделся, взял в руки свою нотную папку и вышел на улицу. Зинаида Ивановна удивлённо глядела мне вслед.
Впереди, где — то по дороге домой, меня ждал Юрка. А двух побед подряд не бывает. Не осталось у меня на Юрку сил…
Он ткнул меня куда — то в грудь, и, хотя было совсем не больно, слёзы застлали улицу, ставшую расплывчатым, мутным пятном.
Но вот проходит черёд тяжких дней, сплошных неудач и неприятностей. Настаёт минута, когда вы вдруг улавливаете еле слышные шаги приближающихся перемен. Всё вокруг по — прежнему — одни неприятности, но вы ощущаете, вы наверняка знаете, что скоро, скоро, не сегодня, так завтра, не завтра, так на той неделе вдруг случится что — то невероятное. И вам уже легче. И неприятности, которые по — прежнему не дают житья, не такие уж неприятности. Вы воспринимаете их как временные осложнения, как грипп, например, от которого никуда не денешься, ноускоро — вы это знаете наверняка, — скоро он пройдёт…
Так было и со мной на другой день. После школы опять предстояла дорога к Зинаиде Ивановне, и Юрка посреди этой дороги, урок музыки, обратная дорога и вторая встреча с Юркой.
Но в школе, вспоминая время от времени о предстоящем, я не сжимал кулаки в лютой ненависти к Юрке, не вздрагивал, стыдясь сам себя. Что — то должно было случиться скоро. Это неизвестное что — то вселяло в меня столько уверенности и покоя, что, даже когда Нинка, ощутив мой взгляд, опять посмотрела в меня блестящими своими гла — зинами, я не отвернулся, как обычно, а выдержал этот взгляд. Мне стало тепло отчего — то там, внутри, и чувство ожидания выросло, окрепло. Нинка посмотрела на меня как — то особенно, и я понял это.
С того дня, когда мы вдвоём попались на глаза Юрке и он обозвал меня хахарем, Нинка как бы отодвинулась от меня. Нет, в общем — то, ничего не случилось, просто она вела себя так же, как до встречи в музыкальной школе, где она проявила к моей особе ошеломившее меня внимание.
Да, ничего не случилось, а всё — таки случилось.
Не зря же, забыв об уроке, я смотрел часто на Пинку, на её бант. Пинка чувствовала мой взгляд, но не вертелась, зная, что я обращаю на неё внимание, а лишь изредка оборачивалась и взглядывала на меня… нет, не на меня, а в меня своими чёрными смородиновыми глазами.
Я вздрагивал, отворачивался и ждал, тщетно ждал, когда Нинка, как тогда, перед музыкальным экзаменом, подойдёт ко мне.
Но она не подходила. И я понимал, что музыка, которой я усердно внимал на уроках Зинаиды Ивановны, — это единственная тропинка, по которой может подойти ко мне Нина…
А сегодня… сегодня она посмотрела на меня удивительно!
Правда, больше она не взглянула ни разу в мою сторону за весь день, но это было неважно! Зато все перемены Нинка смеялась и бегала с девчонками. Это было так непохоже на неё, неприступную классную королеву, которую и девчонки — то стеснялись. А на большой перемене случилось вообще невероятное.
У нас в классе стояло пианино, старенькое и обшарпанное. На уроках пения мы пели бодрые песни, а пианино, дребезжа, вторило нам под руками учителя. Иногда кто — нибудь из ребят на переменке откидывал с шумом крышку и стучал по клавишам или ездил по ним кулаком. Но это случалось редко, дежурные тотчас хватали "меломана" и выдворяли за дверь.
Когда в большую переменку Нина села к пианино и открыла крышку, по привычке кто — то из дежурных завопил, но она даже не повернула головы в его сторону, а девчонки, с которыми она бегала сегодня, польщённые её вниманием, окружили пианино плотным кольцом. Дежурные отступились, а Нинка заиграла.
Я помнил, бабушка говорила когда — то, дескать, Нинка играет, но я и подумать не мог, что она умеет так играть! Нет, не чижика — пыжика, не пресловутое упражнение номер 24 играла Нинка. Старенькое, обшарпанное пианино стонало всеми струнами, рождая удивительные звуки. Я не знал, что играет Нинка, но это походило на море. Волны то накатывались на меня, сверкая брызгами, то отступали, успокаиваясь, и всё это было в музыке!
Девчонки, окружившие Нину, стояли, открыв рот, замерли привередливые дежурные и даже самые шебутные мальчишки не лезли и не орали. Все слушали музыку, и всем, всем, ничего не понимавшим в ней, она нравилась.
Нинка играла, а волны всё катились, и вот море уже бушевало. Меня будто мороз по коже продрал — стало холодно и торжественно. Я видел только Нинкин венчик, сделанный из косички, её корону, и Нинка, конечно, не смотрела на меня, но я знал, я чувствовал, что эта удивительная и неожиданная музыка имеет отношение ко мне.
Волна благодарности к Нинке захлестнула меня, закружила голову.
Мне хотелось вот сейчас, сию минуту сделать что — нибудь удивительное, достойное, рыцарское, чтобы и Нинка поняла моё к ней отношение, и как только она встала, перестав играть, я, краснея, подошёл к пианино и одним духом выпалил всё, что знал: упражнение номер 24 и два других, неизвестных мне. Я сыграл их на одном дыхании, без остановки, и, ясное дело, вышла какая — то мешанина.
Кто — то из мальчишек хлопнул меня по плечу, крикнул в ухо модную в классе присказку:
— "И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало"!
Смешная поговорка, которой я не придавал раньше ровно никакого значения, вдруг приобрела для меня особый смысл.
Я вспыхнул.
Нинка играла хорошую музыку, а у меня вышло так, будто я её передразнил своей ерундой. После неё мои упражнения прозвучали резко и странно и совсем некстати.
Я готов был сгореть со стыда, но всё — таки набрался сил и взглянул на Нинку. Она стояла совсем рядом со мной, а смотрела в сторону. Туда и смотреть — то нечего было — пустой угол, а она смотрела. Просто отворачивалась.
Мне стало опять горько.
Протарахтел в коридоре звонок, начался урок, а я всё не мог прийти в себя. Было так хорошо, и вот…
Ах, как клял я себя, как проклинал, какими последними ругал словами! "И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало". Дурацкая эта прибаутка вертелась в голове, и я представлялся сам себе то брутто, то нетто, которое заворачивается в какую — то тару и падает с позором. Было нестерпимо тошно. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я сидел, уткнувшись в тетрадь. Наконец мне стало невмоготу, и я поднял голову, чтобы попроситься выйти, спрятаться в уборной, сунуть там голову под холодный кран. Я поднял голову, и глаза мои сами собой посмотрели на Нинку. Я думал, что увижу опять её бант, но нет, я встретился с её смородинами.
Она смотрела на меня и улыбалась, ничуть не сердясь.
Я повёл плечами: тяжкий груз свалился с меня. Я понял, что мне опять хорошо и что радостное предчувствие доброго возвращается снова.
Я засмеялся тихонько и вдруг с неожиданной остротой, с лёгкостью и удивлением, что так долго не мог додуматься до такого простого, подумал, что ведь я ни в чём, совсем ни в чём не виноват перед Нинкой. Просто она музыкант, а я нет и никогда им не стану.
Да, да, да! Сегодня было две музыки. Нинкина и моя. Какие там две — одна, Нинкина. То, что бренчал я, — никакая не музыка и музыкой никогда не станет. Дело всё в том, что музыка не для меня, и это ясней ясного.
Я припомнил свои муки у Зинаиды Ивановны, тот день преодоления, когда я сыграл проклятое упражнение номер 24 и ещё два. Казалось бы, мне не хватало логики. Решиться на это, когда телега уже сдвинулась с места.
Нет, я не буду учиться музыке. Я не нужен ей. Нинка доказала сегодня, что музыка — это то, что выбирает человека само. Не человек выбирает музыку.
Диким напряжением, оскорблённым достоинством я преодолел музыку у Зинаиды Ивановны. Я собрался, чтобы сыграть, и сыграл. Но я не сделал ничего, кроме того, что собрался и соединил всё, что я уже умел, уже должен был уметь делать.
Это был первый шаг. Важный, но первый.
Решает всё последний шаг.
Я сделал второй.
Я улыбался смородиновым Нинкиным глазам и точно знал, что это она, а не я, будет играть на сцене.
И будет шуметь море. То приливать бешеными волнами, то отступать, успокаиваясь…
Вместо музыки в тот день я хотел пойти в кино. В "Иллюзионе" крутили "Железную маску", и хотя я смотрел эту картину уже два раза, замирая от страха, ну что ж, придётся смотреть ещё раз. Всё решено!
Великое дело, если человек решил что — нибудь для себя! Решил — и ни в какую, хоть лопни, не переменит своего решения. А если переменит — грош ему цена.
Ио "Железную маску" посмотреть ещё раз мне не удалось. Бабушка сказала, что она идёт по каким — то своим делам, и как раз в мою сторону, так что мы пойдём вместе. Делать было нечего, я взял папку, и мы поплелись.
Стояла весна, сугробы походили на губку, из которой текли грязные ручейки. Солнце серебрило окна старинных деревянных домов, на печных трубах и коньках крыш сидели, мурлыча, разномастные кошки.
Мы шли рядом, и сколько бабушка ни пыталась взять меня за руку, я никак не давался.
Ах, бабушка! Она никак не хотела понять, что четвёртый класс — это не первый, что время идёт, и люди растут, все люди без исключения! А кроме того… Кроме того, это она, она, моя дорогая бабушка, была виновата в том, что в тот день, когда мы шли на экзамен в музыкальную школу, Юрка увидел меня на постыдном "прицепе" — бабушка вела меня за руку.
Не будь этого, думал я, может, и ничего, обошлось бы, и Юрка не лез бы ко мне… Одно на другое, и вон что накрутилось…
Мы шли в сторону, где жила Зинаида Ивановна, и по дороге нам, конечно, попался Юрка. Он не задел меня, не рискнул, потому что я шёл не один, только посмотрел на меня презрительно и скривился…
Бабушка зашла со мной к Зинаиде Ивановне, и та похвалила меня за успехи; они поболтали, бабушка ушла, а Зинаида Ивановна обернулась ко мне, запахивая халат и говоря:
— Ну-с… ну-с…
Я всё стоял, не раздеваясь, с папкой в руке. Сердце моё колотилось. Я должен был сказать всё Зинаиде Ивановне. Сесть к роялю и снова стучать эти упражнения было бы против совести, против моего решения, против второго шага. "Всё решает последний шаг, — думал я, — надо, надо сделать его".
Я набрался духу и сказал, глядя в глаза Зинаиде Ивановне:
— Вы знаете, вы знаете, я не буду ходить к вам больше… Ведь из меня же не выйдет музыканта…
— Что ты, что ты! — закричала Зинаида Ивановна.
— Ну не выйдет! — твёрдо сказал я. — Вы же сами знаете…
Зинаида Ивановна замахала руками, запричитала что — то, но вдруг успокоилась.
— Попей тогда чаю, — сказала она и пошла на кухню.
В пальто и с папкой в одной руке я попил чаю. Зинаида Ивановна грустно смотрела на меня и молчала, думая о чём — то своём. Когда я встал, она вдруг подошла ко мне, погладила по голове и сказала дрогнувшим голосом:
— Я не знала, что ты такой… А я, вот видишь, играю в кино…
Она засморкалась, я внимательно посмотрел на неё. Тогда, в кинотеатре, когда я увидел её в первый раз, Зинаида Ивановна походила на русалку в своём блестящем чешуйчатом платье. Это было тогда, в кино, и с тех пор я много раз смотрел на Зинаиду Ивановну. Никакая она была не русалка. И лицо у неё было нездоровое, дряблое. И на щеках у неё было много старых, больших веснушек…
Мне стало жалко её, я торопливо сказал, что буду заходить просто так… пить чай. Зинаида Ивановна качнула неопределённо головой, — мол, хорошо, но не верю.
Я торопливо выскочил на улицу и в гулкой весенней тишине снова услышал, как где — то совсем близко слышатся шаги перемен…
Я посмотрел вверх на небо и провалился взглядом в бесконечную синеву. У неба не было дна, как не было конца у жизни и у всего, что будет, что придёт скоро…
Сердце стучало, голова кружилась, грудь расширяло счастье. Я шёл нараспашку, красный галстук трепыхался на плече, как огонёк, я шагал, ни на секунду не вспомнив о Юрке, как вдруг кто — то взял меня за рукав.
Я обернулся. Я обернулся и засмеялся.
Это была Нинка. В руке она держала авоську с хлебом. И ещё она улыбалась.
— Ты с музыки? — спросила она, и я кивнул.
— А ты за хлебом ходила? — спросил я, не подумав, что как — то уж далеко она ушла за хлебом, и теперь кивнула Нинка.
Мы пошли рядом, не зная, что сказать.
Мокрый снег кашицей разъезжался под ногами, текли синие ручьи, на крышах сидели кошки.
Мы шли, и я ждал, когда что — нибудь скажет Нинка, но она молчала, а я не знал, что говорить. Но даже вот так, молча, было хорошо идти рядом с ней. Когда на экзамене в музыкальной школе она подошла ко мне в первый раз и говорила, говорила что — то, было ужасно неудобно. Казалось, весь коридор смотрит на нас, и я замечал эти взгляды. А сейчас мне было всё равно, кто на нас смотрит.
Мы шли, иногда касаясь нечаянно друг друга, и всё молчали. Нинка была в ботинках с новыми калошами, калоши, сверкая на солнце, пускали зайчики, и мне казалось, что от этих зайчиков вокруг светлее…
Я шёл улыбаясь, жмурясь от зайчиков, глядясь в лужи, и совсем — совсем забыл о Юрке. А он стоял, он ждал, он охотился за мной.
Я поднял голову и увидел, как смеются Юркины синие, с рыжими крапинками глаза. Он смотрел на меня и на Нинку и очень радовался. Раньше он унижал только меня и мы знали об этом вдвоём — он и я, — теперь он унизит меня втройне: перед собой, передо мной и перед Нинкой!
Юрка подходил ко мне не спеша, сунув руки в карманы пальто, нагло улыбаясь, а я не трепетал, как раньше, нет.
Мысли, одолевавшие меня, мучившие меня, терзавшие меня столько времени, вдруг соединились в последовательную цепь, взялись как бы за руки, обрели стройность и чёткость. В одно мгновение из мальчишки, который не знал, чего хочет, боялся Юрки, стеснялся Нинки, разучивал нелюбимые музыкальные упражнения и вообще жил беспорядочно и неопределённо, я стал человеком, который знал, что хочет, и знал, что ему делать.
Ещё вчера я был рабом музыки. Я мучился, я бился головой в дверь, не зная, что она никогда не откроется для меня. Сегодня, в школе, я понял, что есть вещи важнее музыки. Например, когда человек говорит сам себе правду. Пусть эта правда не такая лёгкая. Но это — важнее музыки. Это заставляет человека быть самим собой. И если человек сказал сам себе правду один раз, если он сумел сделать это, он скажет её себе снова.
И я сказал. Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе силу сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу её снова. Я был рабом музыки. Я перестал быть им. Я был рабом Юрки. Теперь я ничей не раб.
А Юрка всё шёл и шёл на меня и всё ухмылялся нагло, ожидая лёгкой как всегда, победы. Он достал из кармана свой кулак и отвёл его чуть назад.
Мне захотелось закрыть глаза и спрятаться куда — нибудь.
Но я не закрыл глаза и не спрятался.
Я был свободный человек. А рядом со мной была Нинка.
Ещё до того, как Юрка отвёл для размаха свой кулак, с ненавистью, ослепившей меня, я подскочил к нему и изо всех сил врубил ему куда — то по верхней губе, в самое чувствительное место.
Я думал, он упадёт, но Юрка не упал, только сильно качнулся и отступил.
— Ну — ну, — сказал он только, — ну — ну…
И непонятно было, с угрозой или удивлением сказал он это.
Я думал, Юрка будет ругаться матом и тогда я скажу Нинке, чтобы она бежала, а сам буду драться с Юркой, сражаться до последнего и за матерщину, которая оскорбит Нинку, и за все унижения, которые мне достались от него.
Но он сказал только: "Ну — ну, ну — ну…" — и уступил дорогу.
Меня трясло всего, колотило мелкой дрожью, и Нинка успокаивала меня. Дойдя до угла, мы обернулись. Юрка всё ещё стоял на том же месте, растерянно глядя нам вслед.
И тут только я спохватился. Во время драки я бросил нотную папку.
Она была ни к чему мне теперь, совсем ни к чему. Это упражнение номер 24 и тетрадка с этими ключами, животиками в другую сторону. Да, она была ни к чему мне, нотная папка, которую невесть где достала бабушка, но я вернулся.
Нинка хотела было остановить меня, но я посмотрел на неё внимательно и сказал дрожащими губами:
— Пусти!
Она отпустила меня, и я вернулся к Юрке. Я не спеша наклонился и не спеша взял папку. Потом я повернулся и не спеша пошёл к Нинке.
Юрка не двинулся, не сказал ни слова.
* * *
Когда дома я открыл папку, нотные знаки и ключи — и неправильные, брюшком в другую сторону, и правильные, с нормальным брюшком — расплылись и потекли.
Я подошёл к окну и посмотрел на улицу, в самый её конец, куда ушла Нинка с авоськой.
Бабушки ещё не было.
Бабушка ещё должна была прийти.
Деревянные кони
Васька поразил меня с первого взгляда.
Вот уже сколько лет, будто вода, утекло, а я до самых мелких подробностей помню, как его увидел.
Куда — то я уходил из дому. Купаться, может быть, с пацанами или в магазин за хлебом. Помню только, что шагал я себе, стегал прутиком по лопухам, ни о чём удивительном не думая, хлопнул калиткой и двинул к своим дверям.
Двор был у нас большой, поросший густой травой. Посреди него возвышались остатки древних крепостей — сосновые поленницы, за которые я прятался, когда мы в войну играли, — словом, двор был большой, и до дверей наших приходилось долго идти по скрипучим, гнущимся тротуарам.
Я шёл, опустив голову, прислушиваясь к скрипу досок, и незаметно для себя замедлил шаг.
Какое — то странное предчувствие неожиданно шевельнулось во мне: что — то во дворе было не так, как всегда.
Я сделал ещё несколько шагов, смутно беспокоясь, и тут только до меня дошло, в чём дело: я слушал, как скрипят доски, и ничто не мешало этому. Доски пели в тишине, как ненастроенные струны, и ни разу, пока я шёл от калитки, не тявкнул Тобик.
Всегда, чуть я хлопал калиткой, Тобик начинал лаять, поскуливать, становиться на задние лапы и натягивать цепочку, а тут он молчал, и я поднял голову, испугавшись, что Тобик порвал — таки свою цепочку и гуляет теперь на воле — как бы его собачники не поймали.
Я поднял голову и остановился как вкопанный. Тобик был жив и здоров, и цепочка его поблёскивала, но он не обращал на меня никакого внимания, хотя не слышать моих шагов не мог. Это даже по ушам было видно, как он их ко мне, назад, оттягивал.
Перед Тобиком, прислонясь к косяку, стоял незнакомый коренастый парень. Одной ногой он упирался в собачью будку, и мой пёс предательски шевелил кончиком хвоста, одобряя такую наглость, давая этому парню вести себя тут по — хозяйски.
Странные чувства смешались во мне: и обида на Тобика, и ревность к этому парню, и удивление — не удивляться новому парню было невозможно.
Прежде всего потому, что он был в сапогах. В сапогах с отогнутыми голенищами. Сапоги в городе, да ещё в такую жару носили только солдаты, а вот чтобы кто — нибудь так загибал голенища, я вообще не видел. Из сапог двумя широкими фонарями топорщились чёрные в полосочку штаны. Дальше шла рубаха — светло — зелёная, с короткими рукавами, а у ворота трепыхался красный пионерский галстук.
Как видите, кроме сапог, ничего особенного.
И только из — за них, пусть даже с отогнутыми голенищами, я бы останавливаться как вкопанный не стал.
Дело было не в этом.
Дело было в том, что этот широкоплечий пионер, поставив нагло один сапог на собачью будку, курил.
Вообще — то в том, что пионер может курить, ещё нет ничего удивительного. Даже сейчас. А тогда тем более. И я много раз видел, как пионеры, забравшись за поленницу в нашем дворе, курили папиросы. Старшие ребята курили и в школьной уборной, как — то по — хитрому пуская дым в собственные рукава на случай, если войдёт учитель.
А этот курил открыто! Вот в чём дело!
Галстук развевался у него на груди, ветер полоскал его светлые волосы, и голубой дым рвался из его ноздрей.
"Во даёт!" — подумал я.
Но тут дверь распахнулась, и на крыльцо вышла моя мама. Она приветливо посмотрела на широкоплечего пионера и улыбнулась ему.
Увидев маму, парень тоже улыбнулся и даже не зажал папироску в кулаке, а, наоборот, ещё глубже затянулся и пустил изо рта дымный шлейф. Дверь снова стукнула, на улицу вышла бабушка, а за ней тётя Сима, которой бабушка сдавала комнату, и ещё какая — то женщина, русая и круглолицая, с двумя корзинами в руке.
— Василей, — сказала строго незнакомая женщина, обращаясь к курящему пионеру, — я пошла. Смотри тут, не больно дымокурь — то. Тётю Симу слушай. И голос — то приглушай!
И тут я услышал голос странного парня.
— Аха! — сказал он хриплым мужицким басом.
Только это "аха" и произнёс. Всего — навсего одно слово.
Во мне будто что — то сломалось. Только что я глядел на курящего пионера, приоткрыв рот, и вовсю удивлялся. Теперь я уже не удивлялся. Я его уважал. Ведь раз он курил при взрослых, не снимая галстука, значит, он имел такое право!
Курящий пионер остался во дворе, а я вслед за мамой вошёл в дом. Сапоги с отогнутыми голенищами, папироска и галстук никак не выходили из головы, и я уже открыл рот, чтобы спросить маму, кто этот парень, но на пороге появилась тётя Сима, оживлённая и какая — то любезная.
Тут надо сказать, что любезностью тётя Сима не отличалась. Плохого я про бабушкину жиличку сказать не могу, но и вежливой её не назовёшь. Иногда с ней поздороваешься, а она мимо пройдёт, будто не заметит. Как сквозь зубы, процедит: "Здрасс…" — даже слово до конца не выговаривает, будто трудно ей. Неприятная очень, надо сказать, манера. Я, когда со мной так взрослые говорят, прямо теряюсь. Не остановишь ведь, не скажешь строго: "Вы что? С вами здороваются, а вы как?" Нисколько эти взрослые не думают, какое у нас о них мнение складывается. Вот и тётя Сима. Не уверен я, что она мне что — нибудь вдруг плохое не скажет. Или не толкнёт вдруг локтем, мимо проходя: ой, дескать, не заметила! Вот такая тётя Сима.
А тут вдруг вошла вежливая, улыбка на вытянутом лице и маме сказала, хотя это не мама, а бабушка ей свою комнату сдаёт:
— Лизочка, не найдётся ли у вас для моего племяша матрасика лишнего? — и снова улыбнулась, словно мама ей торт подарила из коммерческого магазина.
"Ага, — отметил я, не переставая удивляться тёти Симиной вежливости, — значит, он племянник".
Мама стаскивала с кровати матрас, тётя Сима излучала сияние, с интересом поглядывала на меня, словно и ко мне у неё дело есть. Неожиданно квартирантка шагнула ко мне — я даже сообразить не успел, чего это она? — и провела рукой по моей голове. Я опешил, отступил назад, а тётя Сима разглядывала меня своими белёсыми глазами и приговаривала:
— А ты, Коленька, подружись с моим племянником. Его Васей звать, учиться в город приехал, будет у меня жить.
Я машинально кивнул, думая, что очень уж долго копается мама с этим матрасом, отступил ещё на шаг и взглянул искоса на тётю Симу. Она смотрела уже не на меня, а на маму: въедливо так смотрела и говорила, говорила, нудно, в нос — почему — то она всегда простуженная была, — и слова эти относились по — прежнему ко мне, а не к маме:
— Всю зиму проучится, а там уедет обратно в колхоз, он парень хороший, пионер, как и ты, скоро в комсомол поступит, ты подружись с ним…
Наконец мама одолела матрас, свернула его в толстый куль, поднесла к тёте Симе, и та вдруг сразу замолчала, торопливо поволокла матрас за дверь, даже спасибо забыла сказать.
Мама вздохнула, посмотрела на меня, кивнула на стол. Я подвинул табуретку, мама подняла с полу большую кастрюлю и сняла крышку. Я ахнул. Никогда я ещё не видел сразу столько молока. Кастрюля была полнёхонька. До краёв.
— Откуда этo?
— Ешь, ешь!
Я навалился на молоко, уписывая его с хлебом.
Вошла бабушка, вздохнула у меня за спиной — я её по одному вздоху в темноте могу за много шагов узнать.
— Ну вот! — сказала бабушка и снова вздохнула.
Мама посмотрела на неё, будто осуждала за что — то. Опять, наверное, за комнату. Они часто про это говорили. Больше, правда, шёпотом, потому что стенка была дощатая, не капитальная, и всё было слышно, что там делается, у тёти Симы. И что у нас делается, ей тоже слышно было.
Мама всё бабушку ругала, зачем мы ту комнату сдаём. До войны никакой той комнаты не было. Была одна большая, и в ней мы все вчетвером жили — папа, мама, бабушка и я. А когда война началась и жить стало трудно, бабушка большую комнату надвое разгородила. Теперь война уже кончилась, но бабушка квартирантов всё пускала. Может, потому, что денег всё ещё не хватало, а может, по привычке.
Мама шептала бабушке, что вот скоро вернётся из армии отец, — что же нам тут так и тесниться? Бабушка кивала головой, соглашалась и говорила, будто тётю Симу она предупредила и, как только приедет отец, она сразу съедет, и стенку отец разберёт. "Прямо в первый же день!" — клялась бабушка, и мама уступала.
— Ну вот! — повторила, опять вздыхая, бабушка и, словно оправдываясь, произнесла: — Хоть теперь с молоком будем.
— Мама! — воскликнула мама шёпотом — это она к бабушке, сами понимаете, обращалась — и возмущённо на неё поглядела.
— А что — мама! — прошептала ей в ответ бабушка. — Ведь не на небе живём!
Бабушка помолчала, словно в нерешительности, и добавила:
— Ну, и потом помочь надо: видишь, какие обстоятельства — некуда пареньку деться!
— Значит, будет у нас жить? — спросил я, неприязнью оглядывая маму и бабушку. — А отец.
Мне почему — то показалось, раз этот парень будет жить у нас, отец ещё долго не приедет.
— Как папа приедет… — начала своё бабушка.
Но я её оборвал:
— …так они сразу и уедут!
Наступила неловкая пауза.
— Коля, — сказала мама, вздохнув, — вот этот мальчик… Вася… — Мама мялась, не решалась что — то такое сказать. — Так ты это… как бы тебе объяснить… Так ты с ним не очень — то… понимаешь… дружи.
Мама просто вся извелась, объясняя мне свою мысль. А мысль — то — в два слова. Не водись, мол, с ним, да и всё. Я прикинулся дурачком:
— А что? Почему?
— Ну, он… понимаешь, — принялась опять заикаться мама, — он старше тебя и потом… ну… это… курит.
"Ага! — подумал я, уминая хлеб с молоком. — А сама улыбалась, на него глядя. Как он дым из носу пускал, будто древний ихтиозавр".
— Ну, а ты скажи, чтоб не курил, — ответил я. — Пионер ведь! Или не пускайте его жить, а то отец так никогда и не приедет.
— Неудобно! — вздохнула мама. — Он уже совсем взрослый. Ему курить его собственная мать разрешает, а чего же мы? И не пустить нельзя, уже обещали.
* * *
— Он ведь учиться — то не в школу приехал, — сказала из — за спины бабушка, — а на счетовода. Деньги будет получать, самостоятельный человек.
— Он в колхозе работает, — подхватила мама. — Пашет, сеет, хлеб убирает.
Вот так новости рассказывали мама и бабушка! И пашет, и сеет, и хлеб убирает этот курящий пионер!
— А пионер! — воскликнул я и отодвинул стакан.
— А пионер! — закивала мама, и я понял затылком, что бабушка тоже кивает головой, одобряя этого Ваську. — Молодец какой, видишь!
Ну и взрослые! Их как корабль в бурю — то в одну сторону качнёт, то в другую. То не водись с ним, то — вот он какой хороший.
— Так чего же мне с ним не дружить? — спросил я.
Мама и бабушка молчали. Попали впросак. Думают, как мне объяснить, почему же не дружить — то.
— Но он же курит! — сказала наконец бабушка. — Ещё научит тебя!
Я поднял брови домиком, выражая удивление, и воскликнул:
— Ну! За кого вы меня принимаете? — и встал из — за стола. — Это мы ещё посмотрим, кто кого чему научит! — сказал я в запальчивости и шагнул к двери.
* * *
Пионер в сапожищах смолил, наверное, уже десятую папиросу. Тобик неотрывно следил за его движениями. "Уж не гипнотизёр ли он вдобавок?" — подумал я, начиная робеть. Это там, дома, перед мамой и бабушкой, я мог хорохориться. Тут же всё было по — другому. Юный колхозник строго поглядывал на меня такими же белёсыми, как у тёти Симы, глазами и словно замораживал. Я понимал, что бояться мне нечего, что ничего плохого он мне не сделает, раз будет жить у нас, и всё — таки не мог побороть себя: мне почему — то казалось, что это я, а не он пришёл на чужой двор.
Немного потоптавшись под пытливым взглядом тёти Симиного племянника, я решил удалиться. Прогуляться, например, по улице.
Я уже сделал независимый вид и сложил трубочкой губы, чтобы засвистеть популярную мелодию вроде "Крутится, вертится шар голубой" или ещё что — нибудь в этом духе, но курящий пионер неожиданно изменил свою позу. Он снял сапог с То — биковой будки, шагнул ко мне, и от него подуло табачным духом.
— Здорово! — сказал он своим удивительным хриплым басом и представился, протягивая руку: — Василий Иваныч!
— Чапаев? — спросил я с тонкой иронией.
Но Василий Иваныч иронию отверг, белозубо улыбнувшись и тряхнув светлыми волосами.
— Не-е! — ответил он. — Васильев.
Василий Иваныч добродушно улыбался, протягивая руку, и сердце у меня зашлось от волнения. Всё — таки колхозник, не шутка — и пахать, и сеять умеет. Я нерешительно протянул свою ладонь, сложенную лодочкой, и Василий Иванович пожал её всю, все пять пальцев.
Рука у него оказалась большой и шершавой, будто из сосновой толстой коры. Даже, кажется, он мою руку слегка поцарапал — она почему — то тихонечко ныла.
Торжественное рукопожатие состоялось.
— А я… этот, — сказал я, мучительно соображая, что бы такое придумать, что бы такое сказать убедительное и веское. Встать вровень с сапогами, у которых загнуты голенища, с папироской во рту и всей трудовой биографией тёти Симиного племянника было не так — то легко.
Он засмеялся:
— Чо, как зовут, позабыл?
— Колька, — сказал я, краснея, и выпалил вдруг первое, что на ум пришло: — А ты боксоваться умеешь?
— Не-е! — сказал племянник, удивляясь.
— А я боксом занимаюсь!
— Но! — удивился Василий Иванович.
Василий Иванович сразу клюнул на этот дурацкий крючок. Пахать — то он, конечно, пахал, и сеял, и курил тоже, а вот боксом уж определённо не занимался. Какой там в деревне бокс! Его и в городе — то нет. Боксёры с войны, наверное, ещё не пришли.
— Боксом? — удивлялся племянник тёти Симы, покачивая головой. — По мордам бьют? — И, бросив папироску, будто решившись на что — то, спросил: — Научишь?
Он развязал заскорузлыми пальцами галстук, сунул его в карман, прижал к груди кулаки и добавил:
— Нам пригодится!
Он сказал это так решительно, что мне показалось, будто тёти Симин племянник в город не на счетовода учиться приехал, а драться со всеми, кто ему попадётся.
— Н-нет, нет! — ответил я, слегка бледнея. — Не теперь! Завтра! Мне сейчас некогда.
— Лады! Завтра так завтра! — Он вынул из кармана большой кус сахара, хрустнул зубами и кинул кусочек Тобику.
Тобик подхватил сахар на лету, захрупал, чавкая, пуская тягучую слюнку, и преданно поглядел на племянника тёти Симы.
Только к вечеру дошло до меня, что я наделал!
— Ведь мы с этим Васькой, с этим курящим Василием Ивановичем теперь самые близкие соседи, и никуда мне от него не деться.
"Вот дурак! — ругал я себя. — Только познакомился с человеком и сразу наврал ему с три короба! Ничего он не скажет, конечно, когда узнает, что я его обманул, дразниться не станет, как ребята из нашего класса, а всё — таки…"
Мысль, что племянник тёти Симы, курящий и самостоятельный человек, мне ничего не скажет, только посмотрит презрительно, просто убивала меня.
Улёгшись на свой твёрдый диван, я долго скрипел пружинами. Сосед же, не подозревая о моих угрызениях совести, храпел на всю ивановскую.
Наутро я проснулся со счастливой мыслью и, еле дождавшись срока, пошёл в библиотеку. Должна же там быть книжка по боксу!
Библиотекарша подозрительно поглядела на меня, долго копалась в дальнем шкафу, потом вытащила тоненькую книжицу, всю серую от пыли: никто почему — то боксом не интересовался.
Я шёл обратно, то и дело спотыкаясь, потому что читал на ходу.
Дома я разделся до трусов, встал перед зеркалом и начал повторять упражнения, которые были нарисованы на картинках: как кулаками нос прикрывать, как прыгать, когда наступаешь. Половицы подо мной тряслись, зеркало дрожало, норовя кокнуться. Бабушка махала на меня полотенцем, пытаясь остановить.
— Ты чего! — шумела она. — Ишь распрыгался!
— Чш-ш! — шипел я на бабушку, боясь, что Васька поймёт, чем я тут занимаюсь.
Но, в общем, я был доволен собой. Надо только не спешить. Надо как следует подготовиться.
А сосед мой жил шумно.
У себя в деревне он, видно, не привык говорить нормальным человеческим голосом, да это ведь и понятно — как там в полях и на пашнях говорить спокойно, там кричать надо: "Эге — гей! Но-о! Пош — шла, ленивая! Растуды твой в кор — рень!"
Это выражение "растуды твой" Василий Иванович особенно как — то уважал и часто повторял за тонкой дощатой стенкой хриплым голосом. Мама и бабушка вжимали в плечи голову и молча переглядывались. Тётя Сима на Василия Ивановича за стенкой шикала, шептала ему, видно, чтобы он потише тут выражался, не на сеновале, но, даже приглушив голос, Василий Иванович хрипел громко и внятно.
Признаться, глядя, как мама и бабушка косятся на меня, в душе я посмеивался. Они всё берегли меня от разных дурных влияний. Будто я глухой и немой, будто ничего не вижу, не слышу, по улице не хожу, а живу под стеклянным колпаком, каким точные весы у нас в школе закрывают, в физическом кабинете, чтобы пыль к ним не приставала, а то неверный вес показывать станут.
Я посмеивался над мамой и бабушкой, глядя, как коробит их от Васькиных выражений, хотя ничего такого ругательного он не говорил. Просто новый квартирант жил своей обычной деревенской жизнью — ведь не становится же человек городским только оттого, что приехал в город. Так же и деревенским, приехав в деревню, городской человек не станет, ясное дело. Вот маме с бабушкой и надо было бы это понять, и всё. И успокоиться.
Книжка про бокс лежала передо мной на столе, я махал кулаками перед зеркалом, чуть не влетал в него в азарте атаки, и наконец в один прекрасный день, как говорится в художественной литературе, постучав в перегородку, предложил Василию Иванычу выйти во двор.
За это время, пока я его не видел, Васька заметно изменился. Пионерский галстук исчез, всё та же светло — зелёная рубаха была застёгнута на все пуговицы, на голове — картуз, и вообще он походил на деревенских мужиков, которых я встречал на базаре, когда ходил туда за молоком.
Теперь он уже не казался таким самоуверенным и нахальным.
Васька стоял передо мной, не улыбаясь, засунув руки в карманы, и ждал довольно сумрачно, что я ему скажу.
— Ты боксу научить просил, — сказал я, предчувствуя лёгкую победу над этим широкоплечим увальнем. — Не передумал?
— Аха! — сказал он, веселея. — Айда! — И пошёл вслед за мной в прохладу сиреневых кустов, которые росли за домом.
Стоял сентябрь, мы оба уже учились — я в школе, Васька на своих курсах счетоводов, — но на улице было тепло, настоящее бабье лето, и по унылости в Васькиных глазах я понял, что ему, совсем так же, как и мне, заниматься в такую погоду неохота.
Я снял рубаху, Васька разделся тоже. Полуголые, мы стояли друг против друга, и я, как заправский тренер, уговаривал соседа снять картуз.
Он мотал головой и лишь пониже натягивал его на лоб.
— В шапке лучше! — объяснял Васька. — А то волосы мешать будут, — словно он по — настоящему собирался драться.
Я встал боком, как требовала боксёрская книжка, спрятал подбородок под плечо, выставил кулаки.
— Вот так! — велел я Ваське, подпрыгнул и тихонько стукнул противника в грудь. — Подбородок кулаком прикрывай! — Я подобрался ещё раз и ударил снова.
Кулак стукнулся словно о каменную стенку, рука заныла, и в ту же минуту кусты сирени стали расти как — то боком, размахивая ветвями, хотя никакого ветра не было.
Охнув, я опустился на коленки.
— Ты чо! Ты чо! — слышался издалека, будто из — за ватной перегородки, Васькин голос, потом он исчез, и вдруг я вздрогнул — на лицо текло что — то холодное и приятное.
Я открыл глаза. Задрав на макушку козырёк, Васька испуганно улыбался мне и лил из эмалированной кружки воду.
— Я не нарочно, я не хотел, — говорил он смущённо. — Ha — ко вот, — и приложил к моему носу холодный лист подорожника.
Я поглядел на землю. Прямо передо мной, в песке, выбив неглубокие ямки, чернели капли крови.
"За что?" — думал я, наливаясь слезами. Ведь у меня и в голове не было, чтобы драться. И книжку о боксе я не для того доставал. Я собирался всего — навсего научить Ваську. Всего — навсего доказать, что и я не лыком шит, не один он в сапогах с загнутыми голенищами. А он… он…
Я старался разозлиться на Ваську — ни за что ведь ударил по носу, — но почему — то ничего у меня не выходило. Вся злость куда — то подевалась, даже наоборот, я чувствовал, кажется, себя легче, свободней, будто с меня свалилась тяжесть.
— Я ведь не хотел, — повторял Васька, боясь, что я зареву, — я ведь не нарошно.
"В самом деле, — подумал я. — Он бы мог меня одной левой. Сам виноват, трепло несчастное. Боксёр, называется!"
Я попробовал было подняться, но Васька меня остановил:
— Лежи! — сказал он. — И голову закинь, тогда быстро пройдёт.
Я послушался, а Васька виновато говорил:
— Это фигня всё — боксы разные. Руками только машут. Без толку. Хошь, драться по — мужицки научу?
Я лежал, кося глаза на зелёный подорожник, прикрывающий мой нос, — подорожник занимал полнеба и походил на зелёную землю, — слушал Васькино бормотание, и мне казалось, что мы с Васькой старые — старые приятели, с самого, может, первого класса знакомы или ещё даже раньше.
Я вспомнил, что дома, на столе, лежит раскрытая книжка по боксу, вспомнил, как соображал, чем бы Ваську удивить, и засмеялся.
Всё это теперь было смешным и ненужным…
* * *
Вот так странно мы с Васькой подружились и теперь, как только сходились — я из школы, Васька со своих курсов, — сразу же перекликались через стенку.
— Вась! — кричал я, хотя можно было говорить спокойно, он всё равно бы услышал. — Чего делаешь?
— Пишу! — отвечал он, не укрощая свой голос, так что даже стенка вроде бы прогибалась. — Фигово! — басил Васька, и я сквозь стенку слышал, как скрипит и царапает бумагу соседово перо.
Писание у него выходило плохо — его за это на курсах счетоводов ругали, но Васька убеждал меня, что это не главное.
— Главное, — говорил он, — считать! Счетоводу главное в арифметике не ошибиться. Сложить, вычесть, помножить, разделить.
Васька в арифметике никогда не ошибался. Он даже семилетки не кончил, а на курсы счетоводов только с семилеткой принимали. Но его взяли. Потому что Васька считает как сумасшедший. Без передыху. Спросишь его, он губами чуть пошевелит и сразу отвечает.
— Двести сорок девять помножить на четыреста двадцать шесть! — кричал я.
И не проходило полминуты, Васька басил:
— Сто шесть тысяч семьдесят четыре!
Сперва я Ваську проверял, считал на бумаге столбиком, но потом надоело — Васька не ошибался.
— Тысяча семьсот восемьдесят четыре умножить на девять тысяч шестьсот семьдесят пять! — орал я в неописуемом удовольствии.
— Семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести, — будто машина, отвечал Васька, и, пока он молчал, я даже сквозь стенку явственно ощущал, как шевелит он толстыми губами.
Мама и бабушка, когда мы занимались устным счётом, одобрительно поглядывали на меня, видя, верно, в этом занятии хорошую сторону Васькиного на меня влияния, и советовали Ваське, чтобы теперь он мне задал какую — нибудь задачку. Васька послушно спрашивал что — нибудь — сорок восемь, например, на восемьдесят шесть, — и у меня получалась чепуха, приходилось доставать бумагу и быстро писать карандашом. Нет, что ни говори, такие таланты даются не каждому, такому не выучишься, это от рождения или от бога, как говорила бабушка.
Вот бы тебе так! — упрекала она меня.
Бабушка хотела, чтобы я всё умел лучше всех. И на пианино играть, и вот теперь считать, как Васька.
Мама меня защищала.
— Ну зачем? — возражала она бабушке. — Одному считать вот так дано, другому на скрипке играть, а у него что — нибудь своё будет. Всё люди талантливы по — своему.
Бабушка поджимала губы, качала головой и спорила:
— У других, может, и так, а Коля может всё уметь, я это чувствую.
Мама улыбалась, больше не спорила, бабушка, не чувствуя сопротивления, отходила, и мы с Васькой продолжали арифметическую перекличку.
К Васькиной чести надо сказать, что он своим удивительным талантом совсем не гордился и даже, напротив, жаловался мне, что в деревне к нему все приставали — главный бухгалтер приходил с какими — то большими листами и вечера напролёт его мучил. А уж про ребят, если у кого не выходили задачи, и говорить нечего. Из — за этой его непонятной даже ему самому способности Ваську и отправил председатель в город на курсы, хотя стремление в жизни у него было совсем другое.
Васька мечтал стать конюхом.
Иногда мы с ним уходили погулять, шлялись по мокрым тротуарам под шелест мелкого дождя, и Васька, не понижая голоса и не стесняясь прохожих, толковал мне, какая лошадь бывает каурая: это я у него требовал объяснить, как понимать надо "Сивка — бурка, вещая каурка". Говорил про лошадиные хитрости. Оказывается, и лошадь хитрить умеет: брюхо надуть, когда ей седло надевают, а потом его на полном скаку сбросить. Говорил, что поить коня после долгого бега нельзя, что, когда лошадь куют и забивают ей в копыта железные гвозди, чтоб подковы держались, ей не больно, и всякое такое.
Васька говорил кратко, одними восклицательными предложениями, но как — то очень азартно. И после нескольких таких прогулок мне ничего на свете не хотелось больше, чем покататься верхом на лошади.
— Скачешь! — громыхал он на всю улицу. — Скачешь! А она! Крупом — брык! И летишь через голову! А сама! Отстанет в сторону и травку хрупает! И глазом на тебя — зырк, зырк! Вроде подмаргивает.
Васькино круглое лицо в такие минуты сияло, белки глаз блестели, и весь он был какой — то отчаянный. Будто дай ему коня — так по крышам поскачет, словно мало ему земли.
— А ты пахал на лошади — то? — спрашивал я.
— Но! — кричал он с удовольствием.
Только теперь я стал разбираться, что это "но" у Васьки вроде "ну". Да, мол. Знак согласия. Одобрения.
— И запрягать умеешь?
Васька гулко хохотал:
— Да я же у конюха помощником работал, дурелом ты экий! Всё делал, что надо. И корму задавал, и поил, и драил, и навоз убирал.
"Какое дело! — думал я. — И я бы навоз убрал, дали бы покататься!"
Мне представлялся конь с длинной гривой, как на картинке "Три богатыря", — вот на таком коне я сижу, и стоит тронуть поводья, он понесёт по зелёной траве, которую колышет ветер.
Однажды вечером мы шли с Васькой по тёмной улице, и вдруг по булыжнику навстречу нам зацокали копыта. Васька остановился, насторожившись. Это ехали золотари. Пять или шесть лошадей тащили бочки, и на каждой бочке, скукожившись, сидела серая тень. Копыта выбивали в булыжнике искры, черпаки длинными ручками волочились по мостовой, колёса дребезжали и грохали.
Я зажал нос — мы всегда так делали, когда встречали золотарей, — а Васька стоял не шевелясь.
Обоз проехал, понурые лошади скрылись в глубине квартала, а Васька всё не шевелился.
— Айда! — сказал я, трогая его за рукав и всё ещё зажав нос: аромат стойко держался в тихом воздухе.
Но Васька будто не слышал меня. Он глядел в темноту, туда, где исчезла грохочущая колонна.
— Но! — сказал он вдруг печально. — Вон она, городская лошадка! Уж и забыла, поди — ка, какая трава! Как поваляться — то можно… Провоняла вся… Охо — хо — хо! — вздохнул он по — стариковски. — Да неужто так можно?
Я удивился Васькиным словам. Всю жизнь у нас в городе эти бочки возили лошади. Может, и будут когда машины, а пока так.
— Ну, да у вас — то, в деревне, разве не так?
— Не так, не так, — печально ответил Васька. — В том году околела у нас одна кобыла, Машкой звали, прямо в меже околела, а не так.
— Отчего околела? — спросил я.
— От натуги да от старости, — сказал он. — По — таскай — ка плуг — то или борону.
— Ну видишь, — сказал я. — Здесь легче.
— "Легче"! — усмехнулся он криво. — Легче, да ведь лошадь — то животина, как и ты.
Я обиделся, услышав такое сравнение, и мы замолчали.
Я вспомнил, что Васька рассказывал, как он убирал навоз.
— И ты ведь навоз отгребал! — сказал я.
— Сравнил! — удивился Васька. — То навоз! От него хлебушко растёт.
Больше мы по вечерам не гуляли. Может, Васька узнал, что золотари днём не ездят. А может, потому, что появились у него трудности в арифметике.
В уме Васька считал отлично, но ведь он учился на счетовода. Слово такое: счетовод. Значит, на счётах надо считать учиться, так у них на курсах было положено.
Как — то раз Васька явился с занятий, неся под мышкой большие канцелярские счёты. За стенкой теперь вечно громыхали костяшки.
— Двадцать два миллиона триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей семнадцать копеек, — кричал я Ваське, — плюс семнадцать миллионов сто одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей девяносто копеек. — Почему — то у них на курсах любили задачи, где надо считать деньги.
Васька стучал костяшками, бормотал себе что — то под нос, а потом растерянно отвечал:
— Счётов не хватает! Да и откуда такие деньги?
А отец всё не ехал, и даже писем от него давно не было.
Где — то в глубине души я иногда думал, что всё получается так, как я подумал в первый день: приехал Васька, значит, отец теперь долго не приедет, но тут же эту глупую мысль прятал подальше. Конечно, глупую, какая же ещё она: ведь отец мой не знал совсем Ваську, и Васька не знал отца, между ними нет никакой связи; отец даже не предполагает, что у нас появился новый квартирант — ему об этом не писали.
Каждый день мы по многу раз открывали почтовый ящик, но ящик был пуст, и мама с бабушкой жили в тревоге, словно война ещё не кончилась.
Я пытался их успокоить, говорил, что ничего страшного случиться не может, надо только набраться терпения: ведь войны не кончаются сразу — отстрелялись и пошли по домам, — и раз отец не едет, значит, он нужен там, в этой Германии.
— Но написать — то, написать он должен! — говорила, волнуясь, мама, и мне нечего было сказать.
Я ждал от отца письма так же нетерпеливо, как мама и бабушка.
Часто по вечерам мы усаживались все втроём на диван, слушали тихую музыку, которую передавали по радио вместо тревожных сводок, и мечтали, как заживём, когда вернётся отец.
— Костюм сразу ему справим, — говорила мама и вздыхала, вспоминая, как нас обокрали.
— Купишь петуха, — говорил я маме, — и сваришь петушиный суп. — Почему — то мне казалось, что вкусней петушиного супа ничего не бывает.
— Комнату сразу разгородим, — говорила бабушка.
"Комнату разгородим"! Эти слова меня неприятно кололи, и я чувствовал вину.
Я вспоминал, как раз в неделю, по воскресеньям, приезжала из деревни Васькина мать, тётя Нюра. Она тут же приходила к нам и всякий раз опрастывала в кастрюлю большую бутыль молока.
Тётя Нюра кружила бутыль, чтобы молоко скорее вытекло, я глотал слюнки, глядя, как в опустошающейся бутыли медленно ползут по стенкам густые остатки молока, и корил себя за слабоволие. Ведь это молоко было платой за Васькино у нас житьё, значит, и за Васькину дружбу. Но Васька — то ко мне — всей душой, нас теперь водой не разольёшь, а я вот гляжу на это молоко и глотаю слюнки. Тётя Нюра уходила, я набрасывался на молоко, заедая его чёрным хлебом, и мысль о том, что это молоко — плата за Ваську, сама собой исчезала, будто растворялась в выпитом молоке.
— Комнату разгородим! — повторяла бабушка, и я думал, что всё получается очень нехорошо, некрасиво, не по — товарищески.
Я, конечно, хотел, чтобы отец приехал поскорее, но я не хотел, чтобы уезжал Васька. И я маялся, то думая о том, чтобы отец задержался, то мечтая, что вместо письма, которого мы так долго ждём, завтра на пороге появится сам отец, небритый, пахнущий табаком, с тощим зелёным мешком за спиной.
Но отца не было. Не было и письма, и мы уже совсем извелись.
Однажды я вернулся из школы поздно вечером — нас посылали в овощехранилище перебирать картошку и свёклу. В хранилище было не холодно, но руки у меня совсем окоченели и покрылись тонким, но прочным слоем земли.
Я ввалился домой, бросил в изнеможении сумку с учебниками и прислонился к косяку.
Мама и бабушка смотрели на меня с жалостью — они всегда жалели меня, если наш класс ходил копать картошку, перебирать овощи или ещё на какую — нибудь работу, словно я один уставал, — но в их глазах на этот раз было ещё что — то, кроме жалости. Какое — то лукавство, что ли.
— Мой руки, — сказала мама. — Там, на столе, тебе кое — что есть.
Я подумал, они оставили мне чего — нибудь вкусненького, но есть не хотелось, в горле пересохло, я ещё не мог отойти от долгой работы внаклонку, и вяло кивнул головой, откручивая кран.
Вода стекала с моих локтей грязными ручьями, хотелось спать, и я представлял себе, как рухну сейчас на свой скрипящий диван.
Лениво утёршись, я подошёл к столу и увидел яркую картинку: на еловой лапе вперемежку с цветными шарами раскачивались гномики. Я перевернул картинку и узнал знакомый почерк: открытка была от отца.
Я засмеялся, усталость исчезла, я подпрыгнул, как маленький. Ничего особенного отец не писал, он просто поздравлял нас с наступающим Новым годом и обещал, что уж в новом — то году он непременно приедет домой.
— Ну видите! — крикнул я, оборачиваясь к маме и бабушке. — Я же говорил! Всё в порядке!
Они улыбались, они радовались точно так же, как я.
В стенку деликатно постучали, и Васька проговорил басом:
— Коль! Чо ты?
— Васька! — заорал я. — Иди к нам, я открытку от отца получил!
Васька ничего не ответил, замолчал, будто обиделся, потом сказал кратко:
— Щас!
Мама с бабушкой засобирались в магазин, ушли, а Васьки всё не было. Я крикнул ему:
— Ну чего ты, иди!
Он помолчал опять, будто думал, идти или не идти, и сказал снова:
— Щас!
Васька вошёл какой — то понурый, тихий, грустный. Но я не заметил этого. Я вертел в руках лакированную открытку с гномиками и вслух читал отцовское письмо.
Васька криво улыбался, потом взял у меня открытку, посмотрел на гномиков и сказал неожиданно зло:
— У, фашисты!
— Кто? — не понял я.
— Вот эти, карлики!
— Ну, сказанул! — возмутился я.
Гномики в разноцветных колпачках мне очень нравились. Да что там, они были просто замечательные, ведь их же прислал мне отец.
— Ясное дело, фашисты, — сказал Васька, всматриваясь в меня. — Такие картиночки фашисты друг другу посылали!
Я ничего не понимал. Никогда я не видел Ваську таким злым и ожесточённым. Обозлился вдруг на какую — то открытку, на каких — то гномиков.
— Вась! — окликнул я его. — Ты что?
— Да ничего, — поморщился он, — просто я всё фашистское ненавижу. — Он помолчал и прибавил: — Они у меня отца убили.
Я сидел на диване и чувствовал, как краснею, как заливаюсь жаром. Мне было противно, стыдно, гадко.
Вот уже сколько дружу я с Васькой, сколько исходили мы улиц по нашему городу, а я ни разу — вот стыд — то! — ни разу не спросил Ваську про его отца.
— Васька! — сказал я, потрясённый этой новостью. — Васька, а где?
— Под Москвой, — ответил он и тяжело вздохнул.
Отец у Васьки погиб под Москвой — он воевал в лыжных войсках. Васька и тётя Нюра узнали об этом уже под конец войны, потому что вся та лыжная часть погибла, уцелело лишь несколько человек и среди них один дядька из райцентра. Он уходил воевать вместе с Васышным отцом, уцелел под Москвой, но чуть не погиб под Берлином и вернулся в сорок пятом полным инвалидом.
Мы с Васькой сидели одни в натопленной тихой комнате, такой тихой, что было слышно, как за стенкой у тёти Симы тикают ходики, и Васька рассказывал мне, как они с матерью узнали, что в райцентр вернулся тот инвалид, и сразу собрались, не взяли даже хлеба с собой, и пятнадцать вёрст до этого райцентра всё время почти бежали. Инвалид работал сапожником в артели "Верный путь". Васька и тётя Нюра вошли в маленькую каморку, где он стучал молотком, и тётя Нюра заплакала.
— Она не об отце заплакала, — сказал Васька, — а об этом инвалиде. У него жена, пока он воевал, померла.
Инвалид сидел на табурете, привязанный к нему широким брезентовым ремнём, чтобы не упасть. Ног у него не было. Только подшитые выше колен стёганые зелёные штаны.
Обратно они шли молча, по разным сторонам просёлка, не замечая голода, хотя маковой росинки с утра во рту у них не было. Инвалид сказал, что всех лыжников перемяли танки. У Васькиного отца, как и у других, была только винтовка со штыком и ни одной противотанковой гранаты. Гранаты им ещё не успели выдать — прямо с поезда бросили в атаку. И танков никто не ожидал. Они появились откуда — то со стороны.
— Кончу курсы, — сказал Васька глухо, — денег подзаколочу и поеду в Москву, отца искать.
— Как же ты его найдёшь? — удивился я.
— Найду! — ответил Васька. — Инвалид говорил, на сто первом километре всё было.
Я глядел на Ваську, на то, как сидит он раскорякой, сжав шершавые кулаки, и жалел его. "Как тут найдёшь, — думал я, — на сто первом километре?"
Васька встал, прошёлся по комнате в залатанных валенках с загнутыми голенищами, подросший и худой: пиджак болтался на нём, словно на палке. Он чиркнул спичкой и закурил.
Я вспомнил, как увидел его в первый раз. Курящим и с галстуком. Галстука Васька теперь не носил. И, глядя на него новым, повзрослевшим взглядом, я подумал, что удивлялся тогда, летом, потому, что не знал Ваську.
А теперь вот знаю. И считаю, что курить он имеет полное право.
Мне стало стыдно перед Васькой. Я был счастливее его. Вот и отец у меня живой. Всю войну прошёл, ранило его, а живой. А у Васьки отца нет. И никогда не будет.
Я потихоньку спрятал отцовскую открытку в карман.
С того вечера мы с Васькой часто про отцов говорили. Он про своего, я про своего.
Я показал Ваське значок БГТО на серебряной цепочке, рассказал, как отец его мне, совсем маленькому, уходя на войну, подарил. Как потом он в госпитале оказался и учил меня с высокой горы на — лыжах кататься. Как я кисеты шил, а потом своему же отцу подарил.
Васька фронту тоже помогал. Он пуховых кроликов, пока в школе учился, разводил, сам пух из них дёргал, а бабка его, отцова мать, вязала из этого пуха подшлемники и варежки с двумя пальцами — для снайперов.
— Знаешь, — сказал Васька, — кем бы я стал, если бы на войну меня взяли? Снайпером. Танкисты там или артиллеристы, конечно, тоже этих гадов здорово крошат, но снайпер прямо в лоб фашисту целится. Прямо в лицо!
Васька сжимал кулаки, кровь отливала от его лица, он бледнел, и мне казалось, что вот будь сейчас перед нами немец, Васька бы его руками от лютой ненависти задушил. Не побоялся бы на здоровенного фрица броситься.
Однажды я вытащил альбом с карточками, и мы уселись разглядывать их. Отец был на многих фотографиях — в санатории, под пальмой; в шляпе и с галстуком, облокотясь на какую — то вазу; с мамой и бабушкой и снова один, на улице. Васька внимательно вглядывался в моего отца, улыбался вместе со мной, смеялся над фотографией, где отец снят со мной — я сижу у него на плече, совсем маленький, сморщился, вот — вот зареву от страха, что отец посадил меня так высоко.
Мы досмотрели карточки, Васька задумался.
— Твой — то поездил, видать, много, — сказал он. — По санаториям, по чужим местам, а мой дальше райцентра не бывал. В санаторий посылали раз, так отказался. Говорит, мне и тут санаторий. Зато уж по лесу хаживать любил — по ягоды там, по грибы или просто так. Как время выпадет, так в лес…
Васька приглушил голос, сказал доверительно:
— У них, у отца — то с матерью, в лесу своя ёлка есть.
Я удивился: как это — своя ёлка?
— Когда молодые были, — объяснил Васька, — отец ножом вырезал: Иван плюс Нюра. И год поставил. — Он смущённо засмеялся, словно выдал тайну. — Написанное — то смолой заплыло, и ёлка уж вымахала здоровенная. — Он замолчал. — Мать, как мы от инвалида — то пришли, сразу в лес ушла, к той ёлке.
Васька достал папиросы, закурил, глубоко затянувшись, потом встрепенулся:
— Отец, когда из городу приезжал, гостинцы мне привозил. Пряники в серебряной бумажке, а раз, когда я маленький совсем был, сапоги привёз — настоящие, по заказу, какой — то мастер ему сделал за полпоросёнка.
Я засмеялся: полпоросёнка за сапоги! Васька улыбнулся тоже.
— И знаешь, что он мне нахваливал, как из городу вернётся? Театр! Красота, говорил, замечательная.
— А ты театра не видел? — спросил я, посмеиваясь.
— Не-а! — ответил Васька. — В жисть не бывал.
— Так давай сходим!
— Аха! — ответил Васька. — В получку!
Получкой он называл деньги, которые ему платили на счетоводных курсах в конце каждого месяца. Эту подробность я помню особенно хорошо, потому что именно из — за этого всё так и получилось.
Дело было под самый Новый год. Вернувшись с курсов, Васька прогромыхал мне через стенку, что он взял два билета в театр — на себя и на меня.
— Тётя Лиза! — сказал он сиплым своим голосом. — Можно? — Васька с мамой и бабушкой предпочитал из — за стены разговаривать.
Мама качнула головой, улыбнулась, может, вспомнила мои слова: мол, ещё поглядим, кто кого чему научит, и ответила*.
— Можно!
Представление шло днём, показывали пьесу "Финист Ясный сокол". Когда мы пришли в театр, из обширного — во всю стену — старинного зеркала с витыми финтифлюшками по бокам на нас уставились два испуганных пацана в валенках. У одного, правда, валяные голенища были отогнуты, да и ростом он был повыше.
Мы пошли по мраморной белой лестнице, по длинному мягкому ковру, и шаги наши, негромкие в валенках, совсем глохли. Вокруг суетилась малышня, шастали ребята вроде нас, но мы шагали спокойно и важно, в чёрных пиджаках с длинными рукавами, из которых едва торчали кончики пальцев.
Ваську театр поразил. Не артисты в нарядных костюмах, не Финист Ясный сокол, кудрявый, в серебряных, блестящих от фонарей доспехах, не декорации, а сам театр. Я видел, как во время спектакля Васька таращился по сторонам, оглядывая бесконечные ряды кресел, глазел вверх на огромную люстру, мерцающую в полумраке бронзовыми обручами и хрустальными висюльками. Но больше всего понравился Ваське занавес — огромный малиновый занавес из бархата. Когда наступил перерыв и все хлопали, вызывая артистов, и занавес тихо, но мощно расступался, собираясь в плотные, густые складки, Васька не хлопал и не смотрел на артистов, а глядел вверх, пытаясь понять, как это оттягивается такой огромный и, видно, тяжёлый кусок материи.
— Здорово! — сказал он с восхищением в перерыве. Люди выходили из зала, а Васька всё глядел на занавес. — Целое поле, почитай, мануфактуры! — И вдруг спросил: — Дорогая ведь, поди?
Мы поднялись вслед за толпой, медленно пошли к выходу, и Васька всё оборачивался назад — на круглый, как купол, потолок, на тяжёлую люстру, слепящую огнями, на бархатный малиновый занавес, на кресла, под горку сбегающие к сцене, и в глазах у него никак не исчезало удивление.
В фойе кругами колобродила очередь. Мы подошли поближе. Оказалось, продают мороженое. Распаренные, вспотевшие ребята выбирались из толпы у синей будочки, где шевелилась тётка в накрахмаленном чепчике, и, хмурясь от счастья, лизали тонкие кругляшки, окаймлённые клетчатыми вафлями.
— Чо это? — спросил Васька.
Я сказал:
— Червонец штука. Мороженое называется.
— А чо, сладкое? — спросил нерешительно Васька.
И вдруг Васькина робость исчезла. Он двинулся вперёд, шевеля локтями, и скоро я увидел его вихры у самой будки. Там зашумели, очередь подналегла, и немного погодя из толкучки выбрался взлохмаченный счетовод с двумя кругляшами мороженого в руках.
— На! — сказал он хрипло и откусил свою порцию, как кусают хлеб.
— Во даёт! — засмеялся я. — Лизать надо!
— Ништяк! — пробасил Васька, куснул ещё раз, ещё и засунул в рот остатки мороженого, хрупая вафлями. Облизавшись, он помолчал, задумчиво глядя на моё мороженое — как я тщательно обвожу его языком, хмыкнул и сказал: — А ничего! Вкусно!
Мы погуляли по мраморным лестницам и коврам, сходили в туалет, где Васька покурил, а я долизал мороженое, и пошли вслед за всеми в зал: зазвонил звонок.
Огни стали медленно гаснуть, и билетёрши у дверей с железным грохотом запахнули занавески, прикрывающие выход.
Вдруг Васька схватил меня за руку и потащил обратно, из зала.
Билетёрши обругали нас, но мы всё — таки выскочили в фойе, и я бараном уставился на Ваську.
— А ну его на фиг! — сказал Васька неожиданно спокойно, кивая на зал. — Ты чо, маленький, что ли?
Я было надулся — после третьего звонка в зал не пускали, но Васька мотнул головой в угол:
— Вон я чо придумал!
Возле будки мороженщицы никого теперь не было, и тётка в накрахмаленном чепчике, муслявя пальцы, считала горку разноцветных денег. Моё огорчение тотчас исчезло, Финист Ясный сокол с его мечом утратил все свои доблести, и мы с Васькой бегом побежали через паркетный блистающий зал к синей будке.
Я всё лизал мороженое и никак не поспевал за Васькой, а он подзуживал, говоря, чтобы я брал пример с него, а не валандался.
После каждой порции Васька ухарски вытаскивал из кармана деньги, клал их продавщице, хрупал вафлями, опять ждал меня — и я сдался. Я тоже начал кусать, а не лизать.
Дело шло быстро, мы молчали, только причмокивали, и я чувствовал, как леденело у меня горло — уже совсем ничего не чувствовало. Остановились мы как будто на десятой порции и то не потому, что объелись, а потому, что у Васьки кончились деньги.
— Всю зарплату? — спросил я деревянным голосом, ужасаясь Васькиной удали.
— Ещё на одну осталось! — прохрипел он, разглаживая мятые бумажки, и добавил великодушно: — Хошь?
— Нет! — ответил я совершенно искренне.
Но Васька уже протягивал рубли мороженщице. Она поглядывала на нас удивлённо, но ничего не говорила. Взяв последний кругляш, Васька примерился, прижмурив один глаз, и отхватил ровно половину. Вторую доел я.
Потом мы пошли в туалет, Васька снова покурил, предлагая мне папироску. Я мотал головой и не соглашался, хотя зубы у меня стучали сами собой.
— Ты зыбни, зыбни! — уговаривал меня Васька. — Сразу отойдёшь!
Но я так и не зыбнул.
И, наверное, зря.
Назавтра был последний перед каникулами день, а я не мог шевельнуться. Голова горела, как головешка, муторно и жарко, горло распухло, и я дышал с хрипом, тяжело потея. Мама заохала, вы звала врача и не пустила меня в школу. К обеду пришёл доктор, потрогал мой лоб и даже не стал градусник ставить.
— Где это ты так? — спрашивала меня бабушка. — Сознавайся, опять снегу поел?
Ей почему — то всегда казалось, что я зимой ем снег, а весной лижу сосульки. Никогда я снег не ел. Ну, может, раза два попробовал, так и то давно. Снег мне не понравился — он был какой — то сухой и бессолый, и я его больше в рот не брал, а вот бабушке всегда мерещилось, будто я снегоед какой — то.
"Дурак ты, дурак! — ругал я себя. — Надо было не слушать Ваську. Что он в мороженом понимает — первый раз увидел. Жадность одолела тебя, дурачину". Но бабушке в ответ мотал головой.
— Кхакхой снех, — хрипел я. — И так хонодхно!
Есть я не стал, не было никакого аппетита, и бабушка прямо извелась, уговаривала меня, протягивая ложку с супом. Да и о какой еде могла идти речь!
Солнце уходило за крыши, сугробы становились синими, и Новый год подступал тихими шагами, а я хрипел и кашлял и не мог пойти на базар за ёлкой.
Так мы вчера уговорились с Васькой. Я прихожу из школы и бегу за ёлкой, а он, вернувшись с занятий позже, помогает мне её украсить. Васька всё не возвращался и ничего ещё не знал, а бабушка, когда я сказал ей про ёлку, даже возмутилась:
— Не брошу же я тебя!
Васька пришёл уже под вечер. Он остановился у порога, разглядывая меня, а я только виновато развёл руками.
Васька шагнул в комнату, улыбнулся и сказал:
— Ништяк, и так проживём.
А я чуть не заплакал. Я‑то надеялся на него. Я‑то думал, может, Васька чего — нибудь придумает. Он увидел, как я скис, тряхнул головой и сказал:
— Ну да ладно. Не бойся. Я на базар сбегаю, — и исчез, оставив от валенок мокрые следы.
Как — то сразу стало полегче. И горло, кажется, отпустило, и будто бы даже жар спал. Я проглотил несколько ложек супа. Бабушка улыбалась. Я улыбался тоже: Васька не мог подвести, такой уж он человек.
— Ах, молочка бы сейчас Нюриного! — вздыхала бабушка. — Вскипятить его хорошенько, да с медком, и всё как рукой бы сняло.
Но молоко кончилось, и тётя Нюра давно что — то не появлялась.
Вернулась с работы мама. Вид у неё был расстроенный.
— Ходила на рынок, — сказала она. — Хоть шаром покати. Одна старуха мёрзлыми огурцами торгует.
"Бог с ними, — подумал я, — с огурцами. Была бы ёлка".
Но Васька пришёл без ёлки.
— Пусто на рынке, — сказал он виновато, подтвердив мамины слова, и сел на сундуке у входа.
"Ну, всё! Попраздновали называется!" — Я отвернулся к стене, закусив дрожащие губы.
— Сами виноваты! — укорила мама. — Не могли вчера позаботиться или ещё раньше?
— Вчера в театр ходили, — ответил я сдавленным голосом.
— Ну — ну! — сказала мама. — Постыдись Васи!
Но никого я стыдиться не собирался и начал уже хрюкать носом, как Васька вдруг сказал:
— Тётя Лиза, дайте топор.
— Зачем это? — всполошилась бабушка.
— В лес пойду.
Я приподнял голову. В лес! Во даёт Васька! Друг так друг, ничего не скажешь!
— Ни в коем случае! — заговорила, волнуясь, мама. — Сейчас стемнеет, а до лесу километров пять, заблудишься. Нет, нет!
— Но! Не пропаду, не бойтесь, я ведь деревенский! — Он улыбался и весь светился отвагой.
— Да не успеешь ты! — убеждала его мама, приложив руки к груди и изо всех сил стараясь, чтобы он не пошёл.
Я молча следил за ними и молил, чтобы Васька одержал победу. Он её одержал. Сходил в свою комнату, подпоясался толстой верёвкой и засунул топор за верёвку.
— Ну ладно! — сказал он, хлопая дверью. — Ожидайте!
— Нет, это безумие! — говорила мама, расхаживая по комнате. — Уже скоро восемь! Он просто не успеет. А если заблудится? — Она нервно шагала, поглядывала строго на меня и отворачивалась, будто Васька уже погиб в снежных сугробах.
Васька вернулся ровно через пять минут, весело хохоча. За ним в дверь входила тётя Нюра. В вытянутой руке Васька держал за комель аккуратную маленькую ёлочку, такую ровную, такую зелёную и пушистую, что от одного её вида хотелось смеяться.
— Где ты взял? — вскричал я и вскочил с дивана как был — в трусах и майке.
— Мамка принесла! — ответил Васька. — До ворот дошёл, гляжу — встречь она! Да и с ней! — Он кивнул на ёлку.
— Ага! — ответила тётя Нюра. — Еду на подводе и думаю: а ну как у них там ёлки — то нету? Возницу подговорила, залезла в сугроб и взяла вот эконьку.
Тётя Нюра размотала клетчатую шерстяную шаль, сняла из — под неё ещё одну, полегче, потом белую косынку, тряхнула светлыми волосами, совсем такими же, как у Васьки, и звонко, будто девчонка, рассмеялась. Потом тётя Нюра сняла овчинную шубу, подпоясанную солдатским широким ремнём, и достала из мешка белые, похожие на хлебцы кругляши. Это было мороженое молоко.
— Ой, Нюра, золотко! — запричитала бабушка и вдруг всплакнула. — Ты для нас как Дед — Мороз.
— Не Дед — Мороз, а Баба — Морозиха, — сказали, и все засмеялись.
— А у нас вот Коля приболел.
Бабушка суетилась, усаживала тётю Нюру поближе к печке, стучала в стенку, чтобы тётя Сима не больно — то расфуфыривалась, а шла прямо так, карнавала не будет, наливала Бабе — Морозихе горячего чаю, клала в кастрюльку кругляш мороженого молока и всё говорила, говорила, и я её понимал, потому что в самом деле всё получилось как будто в сказке.
— Ты извини нас, Нюра, — сказала вдруг бабушка, останавливаясь перед ней.
— За что это? — удивилась тётя Нюра и оторвалась от большой кружки с чаем.
— Да вот, — кивнула бабушка на плитку, — за молоко.
— Ну что ты, Васильевна! — тихо сказала тётя Нюра. — Ведь у вас Вася живёт, мы вам благодарные, а про молочко — то, так где оно ещё — то есть, как не в деревне?
В комнате повисла колкая тишина, только чуть звенели ещё довоенные ёлочные игрушки, которые развешивали мама и Васька. Тётя Нюра понурила голову и глядела в кружку, будто бабушка сказала что — то неловкое.
Васька прокашлялся на весь дом и решил прервать неприятное молчание.
— Мам, — спросил он из угла, от ёлки, — чо там, дома — то?
— Всё ладно, — ответила тётя Нюра негромко. — Председатель нос поморозил. За соломой ездили в район.
Васька захохотал, я тоже улыбнулся, представив себе толстого председателя с опухшим красным носом, улыбнулись и мама с бабушкой, но тётя Нюра не улыбалась — она всё смотрела в свою кружку с чаем, никак не могла оторваться.
— Ещё чо? — спросил Васька.
— Да так, — нехотя ответила тётя Нюра, — ничего. — И, помолчав, негромко добавила: — Вот Маньку заколола.
Васька шагнул от ёлки, так что игрушки заколыхались и забренчали. "Вот увалень!" — подумал я недовольно. Но Васька ничего не замечал. Он стоял посреди комнаты и смотрел на свою мать испуганными глазами. А тётя Нюра всё ниже опускала голову.
— Но-о! — выдохнул испуганно Васька, а я всё никак не мог понять, чего это он испугался.
— Что поделаешь, — сказала тётя Нюра, виновато улыбаясь, — ни соломинки во дворе…
Васька, будто подрубленный, сел на стул. Стул всхлипнул.
Мама отошла от ёлки, приблизилась к печке, где сидела тётя Нюра, и положила ей руку на плечо.
Тётя Нюра вскинула голову.
— Да нет, нет, — заговорила она быстро, поглядывая то на маму, то на бабушку, — вы не беспо койтесь, молочко — то я вам всё одно приносить стану. Займу или вот мясо продам, так деньгами, если хотите.
— Нюра, Нюра! — сказала мама, гладя её по плечу. — Что вы, Нюра, как вы можете! И не думайте! Вася пусть живёт, пусть учится, выбросьте это из головы!
Так вот что случилось! Тётя Нюра заколола корову. Корову звали Манька, и это её молоко пил я всегда с таким наслаждением.
Горло у меня сжалось. Я хотел что — нибудь крикнуть такое тёте Нюре. Да что она, с ума сошла, что ли? Что она, думает, мы не люди?
Да что такое молоко? Я свободно, например, могу обойтись без него. И бабушка наша совсем не жадная, это просто время такое, она и поддалась, да и то, я знаю, из — за меня. Пусть считается, что молоко это мы у тёти Нюры взаймы взяли. На время. Вот придёт из армии отец, станет работать, и мы отдадим. Обязательно отдадим.
— Тётя Нюра! — прохрипел я, приподнявшись на диване, и все — и мама, и бабушка, и тётя Нюра, и Васька — вдруг повернулись ко мне. Может, вспомнили, что я больной, а может, я сказал это каким — то странным голосом. — Тётя Нюра! — повторил я. — Вы не думайте! Мы не такие! Мы будто у вас в долг взяли, ладно?
Тётя Нюра прикрыла глаза, и две слезинки выкатились вдруг на её щёки.
— Ладно, ладно, — прошептала она.
Возле плитки, где была бабушка, раздался какой — то плеск. Я посмотрел туда. Бабушка перелила горячее молоко из кастрюли в миску и, обхватив её края, двинулась к двери.
— Ты куда, Васильевна? — неожиданно строго спросила тётя Нюра.
Бабушка вздрогнула, остановилась, едва не расплескав молоко, и ответила растерянным голосом:
— На мороз…
Тётя Нюра вскочила со стула и кинулась к бабушке.
— И не выдумывай! — крикнула она, грубо отнимая у бабушки миску. — И не выдумывай! Молока нет, зато мясо теперь есть, не пропадём, а весна будет, тёлку возьму!
Тётя Нюра налила горячее молоко в эмалированную кружку, принесла его мне.
— Эх, медку бы! — сказала она весёлым голосом и засмеялась, оглядываясь на маму и бабушку. — Ничего, бабоньки! И медок будет, и молочко, и хлебушко! Всё будет, дайте только срок! — Она посмотрела внимательно на меня. — Дайте только срок! — тихо повторила она.
* * *
Пришло лето.
Васька уехал, а отец всё не возвращался.
Я лежал в траве, обрывал созревшие одуванчики и нехотя обдувал пушистые шары. Белые парашютики улетали, подхваченные мягким ветром, поднимались в небо и исчезали из глаз.
"Куда — то они упадут? — думал я. — Вырастут ли из них новые одуванчики? — И без перехода горевал о Ваське. — Как он там? Успокоился дома — то? Или счетоводит и тоскует опять?"
Я проводил Ваську в мае. Мы шли вместе по жарким тихим улицам до перевоза и там долго ждали, когда маленький катер, тяжко пыхтящий чёрным дымом, пригонит с того берега паром.
Река разлилась, раздвинув свои берега, мутно бурлила за бортом дебаркадера, расходилась кругами — стремительными и страшными. Лес на той стороне забрёл в воду, словно нерешительный пловец, да так и остановился — идти дальше боязно.
Васька скинул с плеча тощий мешок — белую холстяную котомку, обвязанную у горловины грубой верёвкой, — положил его на оградку дебаркадера, облокотился, щурясь на всплескивающие серебряные волны.
— Ну вот! — сказал он, не оборачиваясь. Сам себе, видно, сказал. — Ну вот и половодье!
"Половодье"! — передразнил его я. — Нет чтоб сказать что — нибудь такое. Пиши, например, и так далее".
— Ох, работёнки щас! — сказал Васька с видимым удовольствием, косясь на меня. — Невпроворот! — И снова отвернулся, будто решив, что я его не пойму.
А я и не понимал. И злился вдобавок.
Сам не знаю, почему злился. Может, оттого, что чувствовал: мы с Васькой словно два путника на дороге. Ходко шагают оба, но один всё — таки быстрее идёт. Размашистей. А второй, как ни старается, настигнуть его не может. И тот, кто отстаёт, не виноват, и тот, кто уходит вперёд, тоже не виноват, хотя оба уговорились вместе идти. Вместе — то вместе, да не выходит. Вот я и злился, глядя, как Васька вперёд уходит.
Катер, пыхтя, как уставший старик, подвёл паром к дебаркадеру, перевозчицы метнули канаты, надсадно заскрипели деревянные борта, и с парома стали съезжать подводы, газогенераторки, сходить пассажиры, на место которых потянулись другие подводы, другие газогенераторки, чадящие синим дымом, и другие пассажиры.
— Ну, давай пять, — сказал Васька, улыбаясь мне, будто в его жизни настала самая радостная минута, и вскинул мешок за плечи.
— Держи, — стараясь не расхлюпаться, ответил я в тон ему и протянул руку.
Я думал, он что — нибудь скажет всё — таки в последнюю минуту, но он взял мою ладонь, внимательно посмотрел на меня своими прозрачными глазами, тряхнул руку три раза и натянул поглубже на лоб фуражку.
— Пока, — сказал Васька и больше ничего не прибавил, а повернулся и пошёл скорым шагом по хлипким мосткам.
Паромщицы перекинули канаты назад, катер гуднул прерывисто и устало, потянулся изо всех сил вперёд, вытащил из воды стальной трос, который, расправляясь, задрожал, как струна, если её дёрнуть, и паром отодвинулся от дебаркадера.
Я увидел, как Васька снял фуражку и помахал мне.
— Буду в городе — зайду! — крикнул он хрипловатым своим (баском и опять надел фуражку. И уже больше не махал, не кричал — просто смотрел на меня, и всё, пока река не разделила нас…
А вот теперь я лежал в траве, обдувал одуванчики, и как — то нехорошо было у меня на душе. Плохо мы простились с Васькой. И не объяснишь, почему плохо, а плохо. Мне всё казалось, будто я что — то забыл.
Где — то что — то забыл.
* * *
Тобик крутился в траве, клацкал зубами, гоняясь за своим хвостом, потом прижимал уши к затылку, замирал и срывался в кусты за бабочкой или толстой мухой, безмятежно тявкая и веселясь.
И когда он затявкал дольше и громче — так он обычно лаял на чужих, я даже не обратил внимания. Подумал, что, может, бабочка ему какая — нибудь особенная попалась. Или схватил стрекозу, шелестящую крыльями, а она изогнулась да и цапнула его своей страшной челюстью в мокрый нос.
Шаги я услышал неожиданно и, когда обернулся, рассмеялся: это была тётя Нюра.
— Тётя Нюра пришла! — закричал я, вскочив, и во двор выбежала бабушка.
— Ой, Нюра пришла! — причитала она. — Нюрушка — голубушка, кормилица наша!
— Полноте, Васильевна! — смеясь, сказала тётя Нюра, как всегда разматывая платок. Лицо её загорело до черноты. — Не вырвалась бы! Жатва! Да председатель погнал торговать. Целую машину, Васильевна, веришь ли, черпаком продала.
Бабушка заохала, запричитала, повела тётю Нюру домой, в холодок. Мама и тётя Сима были на работе. Бабушка поставила чайник, чтоб напоить гостью до поту.
— Знаешь чо, Васильевна? — сказала тётя Нюра. — Симы нет, так я у тебя.
— Как, как? — не поняла бабушка.
Но тётя Нюра рассмеялась и велела мне отвернуться.
Я послушно отошёл, услышал, как протопали босые тёти Нюрины ноги к дивану, что — то зашуршало, потом цокнуло о пол, и тётя Нюра засмеялась:
— Ой, пуговица оторвалась! Не выдержала выручки!
И бабушка засмеялась тоже, но как — то суховато, сдержанно.
— Поворачивайся, Колька! — весело проговорила тётя Нюра.
Я обернулся и увидел на диване и рядом, на полу, кучу скомканных, мятых денег.
— Нюра, Нюра, — испуганно сказала бабушка, — откуда ты столько?
Но тётя Нюра заливисто хохотала.
— Да говорю же, Васильевна, машину молока продала! Полна машина с бидонами была!
Бабушка замолчала, глядя на кучу денег, а мне тётя Нюра велела весело:
— Помогай, Кольча! Красненькие сюда, синенькие сюда, зелёные вот сюда.
Я принялся разглаживать мятые деньги, складывать их по стопкам, а тётя Нюра всё смеялась, всё говорила — радовалась, что много наторговала.
— Теперь, — шумела она, — молочка у нас хоть залейся. Хлебушко, слава богу, вырос, но пока не мололи, без него сидим, это верно, а молочка хоть отбавляй. Ну ничего, вот и картошка поспевает, а там и хлебушек по плану сдадим, глядишь — оправимся помаленьку.
Она тараторила, никогда я такой её не видел, а бабушка всё стояла, как застылая, подпёрла кулачком подбородок и никак от денег оторваться не могла.
— Ой, Нюра, Нюра! — проговорила она. — В жизнь столько денег не видывала, разве что в революцию, так тогда на миллионы торговали.
— Я и сама не видывала! — смеялась тётя Нюра. — Как налью, деньги — то за лифчик сую и всё думаю: ой, кабы не вывалились, казённые же!
— А считанное? — спросила бабушка, вглядываясь в тётю Нюру. — Считанное молоко — то?
Тётя Нюра пронзительно взглянула на бабушку, и та сразу пошла к своим кастрюлькам.
— Считанное не считанное, — ответила она хмуро, помолчав, — а денежки эти не наши, колхозные.
— Да я не об том, — заговорила бабушка, возвращаясь. — Я и не об том совсем, как ты могла подумать! Я спросить хотела, как отчитываться — то будешь. И сколько тебе за труды положено? Целый день, поди — ка, на жаре проторчала.
— Деньги все колхозные! А заработок — один трудодень. К жаре — то нам не привыкать. Вон люди на уборке костоломят, а я тут, как кассир, деньги муслякаю.
— Вот Ваське — то работы, а, тёть Нюр? — спросил я, заглядывая ей в глаза.
— Нет, это не ему, — ответила она. — Это главному бухгалтеру сдавать буду. Васька счетовод. Счёт ведёт, сколько чего сделано. Он до денег не допущен, потому как несовершеннолетний.
— Да и слава богу! — обрадовалась бабушка, будто боялась, что с деньгами Васька напутает.
— Конечно. Успеет ещё, и до денег дойдёт, всему срок. Ох, деньги, деньги! Вроде бумажка простая, а есть в ней всё же сила!
— Охо — хо! — вздохнула бабушка. — Какая ещё сила — то!
Но тётя Нюра будто и не услышала её вздоха.
— Вот эти вот денежки, — сказала она, кивнув на диван, — на трактор копим, Васильевна. Ноне всё на кобылах землю горбим. Было до войны три трактора, так рассохлися. — Она засмеялась. И добавила, снова становясь серьёзной: — А теперь новый купим.
Я поглядел внимательно на тётю Нюру и вспомнил базар — бывал я там и с бабушкой, и с мамой, и один, — вспомнил ряды молочниц в белых фартуках, в белых нарукавниках, бойко орудующих железными черпаками с длинными ручками. Глядя на этих торговок, я всегда завидовал им, завидовал, что любая из них может взять и вот так, запросто, целый черпак молока выпить. А если захочет, и ещё один: бидон — то у неё вон какой, два мужика еле с машины снимают. Торговки казались мне жмотинами и богачками — молоко стоило недёшево, и однажды я видел, как один старик покупал полчерпака. Молочница долго отливала из своего черпака деду в бутылку, отлила наконец, ругаясь, и дед ушёл, шаркая ногами. С тех пор я этих торговок особенно не любил.
И вот тётя Нюра. Она ведь тоже торговка. А торговала на трактор.
Я с интересом разглядывал её. Рядом лежали деньги, разложенные в аккуратные пухлые стопки.
— Есть на трактор? — спросил я, довольный, что и я к этому трактору имею отношение.
— На одну гусеницу! — ответила она, рассмеявшись. — Или на полмотора.
Я тоже засмеялся, представив, как по полю ползёт не целый трактор, а одна только гусеница. Но и то хорошо.
На гусеницу есть, будет, значит, и на весь трактор!
* * *
Оставив деньги на диване, тётя Нюра сбегала в магазин, принесла соли и спичек. Потом пришла мама, и мы уселись пить чай.
— Вы меня извиняйте, бабоньки, — сказала тётя Нюра, прихлёбывая чай, — что молочка — то Ни — колке я не привезла. На машине казённое было, а призанять у соседок не успела, погнал окаянный председатель прямо из конторы.
Мама и бабушка смутились, стали говорить:
"Что ты, Нюра, да зачем, не такое теперь голодное время, всё же лето", но она, не слушая их, посмотрела на меня и сказала:
— А может, Коле к нам поехать? — И обрадовалась: — Конечно! Живёт парень в городе, глотает пыль, а у нас чистота! Раздолье!
Я сначала даже опешил. А потом вскочил, словно ошпаренный.
— Мама! — крикнул я. — Бабушка! Отпустите!
Видно, глаза мои сверкали, как угли, и голос звенел — мама и бабушка нерешительно переглядывались.
— Он вам обузой будет, Нюра, — сказала наконец мама. — Вы на работе, Вася тоже. Не хватало ещё вам лишних хлопот.
— Ну и хлопот! — удивилась тётя Нюра. — Дитя малое, что ли? — Она кивнула на меня. — Парень что надо! Самостоятельный! А скучать ему некогда будет. На уборку со мной поедет. По грибы с Васькой сбегают, порыбалят малость. Эх, да разве у нас соскучишься!
Ну тётя Нюра! Она сегодня просто нравилась мне! Весёлая! На тракторную гусеницу молока продала. И маму с бабушкой в один миг уговорила.
Я стал отыскивать старый рюкзачок, суетиться, спешить, бегать по комнате, и мама, и бабушка, и тётя Нюра хором рассмеялись: ехать — то мы должны только завтра.
— Ну и что! — сказал я, смутившись. — Ведь рано, наверное, поедем?
— Верно, — ответила тётя Нюра. — Пораньше отправимся.
Всю ночь я просыпался — мне казалось, уже пора. Но было тихо, в темноте кто — то негромко всхрапывал, и я снова погружался в ненадёжный сон.
В последний раз я проснулся не сам, меня кто — то тряс за плечо, я отнекивался и прятал голову под одеяло, потом резко вскочил, крутя глазами. Тётя Нюра тихо смеялась.
— Ну, у нас там так не поспишь, — сказала она. — Там у нас на сеновале утром похолодает, так сам вскочишь.
Она сидела умытая, одетая, готовая в путь. Путаясь в рубашке, я торопливо оделся, попил чаю, повесил на спину лёгкий рюкзак.
За окном отчаянно кричали воробьи, и солнце едва продиралось сквозь крыши.
— Ну, с богом! — сказала тётя Нюра и шагнула к двери.
— С богом, с богом! — как эхо откликнулись бабушка и мама.
А мама, наклонившись, шепнула мне:
— Осторожней там, Коля! В речку не лезь! В лес один не ходи! И не кури, слышишь?
Я пожал плечами — было неудобно перед тётей Нюрой, что мама шепчет мне такие слова, будто маленькому. Но мама и бабушка всё не успокаивались. Проводили нас до калитки и долго стояли там, махали нам вслед. Я шёл, не оборачиваясь, а тётя Нюра, наоборот, поглядывала назад, кивала и улыбалась.
— Ты чо, Кольча? — спросила она. — Мама с бабушкой провожают тебя, а ты и не поглядишь.
— Не маленький ведь, — возразил я недовольным голосом, но всё — таки посигналил назад кепкой.
— Маленький не маленький, — сказала спокойно, но настойчиво тётя Нюра, — а мать у каждого одна.
Я промолчал.
— А то вы всё большими хотите казаться да больно самостоятельными.
Я промолчал ещё раз. Замолчала и тётя Нюра.
Река, бурлившая весной, теперь, в августе, опала, сузила берега, разметала песчаные косы.
Мы переправились паромом и пошли по тропке, которая вилась через поле.
— Ты, Николка, — сказала тётя Нюра, оборачиваясь, — снимай — ка ботинки. Легче будет. Мы с тобой напрямки двинем, машины до нашей деревни всё одно не дождёшься, в стороне мы от трак — та — то.
Я послушно снял ботинки и побрёл вслед за тётей Нюрой. Но она шла быстро, а я еле ковылял: ноги больно кололо, я сжимал подошвы и шёл колесом — никогда я босиком не ходил. Наконец я сдался.
Уселся на пригорок и, торопясь, путаясь в шнурках и неотрывно глядя в тёти Нюрину спину, надел ботинки. Она, слава богу, не оглянулась.
Мы зашагали быстрее, и мои ноги, обутые в ботинки, теперь не ныли. Я почувствовал вдруг, что воздух пахнет смолой и мёдом. Тропка наша то поднималась вверх, то ныряла в низину, заросшую высокими цветами с большими, яркими колокольцами.
— Это иван — чай, — говорила тётя Нюра.
— Почему Иван? — спрашивал я. — И почему чай?
— А зовут так! Спокон веку зовут. Был, может, Иван, который из этого цветка чай варил. — Тётя Нюра шагала размашисто, твёрдо переставляя сильные ноги, и я едва поспевал за ней.
Под ногами скрипели кузнечики, и, когда мы поднимались на холм, я всякий раз оборачивался: там, внизу, кузнечики при шорохе шагов умолка ли, скрипели только те, что подальше, отсюда же, с высоты, поле иван — чая покачивалось, будто неторопливые морские волны, и тысячи, нет, миллионы кузнечиков пели хором — сиреневое море покачивалось и пело, пело и покачивалось.
Я улыбался, догонял тётю Нюру. Она поглядывала на меня и спрашивала:
— Нравится?
Нравится! Ещё бы не нравиться! Я бывал, конечно, в лесу и в поле тоже бывал, когда ездил в пионерский лагерь от маминого госпиталя, но там мы ходили и в лес и в поле колонной — в затылок друг другу, и то, что я запомнил тогда, совсем не походило на это. Здесь было тихо, ветрено и никто не мешал мне смотреть и слушать. И я слушал, и смотрел, и дышал полной грудью.
* * *
— Вишь, оконце открытое, — сказала тётя Нюра. — Васька около него сидит. Поди напугай!
Она сидела на берегу ручья, держа в руках свои стоптанные туфли, а ногами, как девчонка, болтала в воде, так что брызги летели.
— Иди, иди! — подговаривала она меня.
И я, оставив свой рюкзак, крадучись, пошёл вдоль деревни.
Солнце стояло над головой, на улице никого не было, только из — за плетней изредка взбрёхивали собаки.
Деревушка растянулась на пологой горе, избы стояли всё больше простые, деревянные, только три или четыре были в два этажа, с кирпичным низом. В траве бродили ленивые куры, и за ними одним глазом наблюдал неподвижный петух. У дома, на который показала мне тётя Нюра, лежала рваная шина от грузовика.
Я шёл сторожко, косясь на открытое окно, надвинув поглубже кепку и вжав голову в плечи, чтобы Васька меня не узнал. Сердце моё громко ухало, и, чем ближе подходил я к окну, тем оно стучало сильнее и чаще.
У самой избы я согнулся и подобрался к окошку на четвереньках.
Приподнявшись, я заглянул в окно и увидел Ваську. Он сидел, упершись кулаками в щёки, за ухом у него торчал тонко очиненный карандаш, и смотрел Васька прямо на меня.
Он смотрел остановившимся, пустым взглядом и не видел меня. Будто я был в шапке — невидимке. Или стеклянный. Я даже испугался.
— Вась! — позвал я шёпотом.
Он был неподвижен. "Может, спит? — мелькнуло у меня. — Бывает же, люди спят с открытыми глазами".
— Вась! — окликнул я его снова, погромче, но он снова не услышал.
— Василей! — сказал кто — то громко из глубины комнаты. — Готово?
— Готово, — ответил Васька глухим голосом и, видно очнувшись, увидел меня.
Он вскочил, с грохотом откинув стул, отточенный карандаш выпал у него из — за уха и вылетел, как пробка, прямо в окно.
— Васька! — кричали из комнаты. — Васька! Обалдуй!
Но Васька ничего не слышал. Он изо всех сил жал мою руку.
— Ты чо? — басил Васька на всю улицу. Даже ленивые куры отбежали от нас подальше. — Ты чо, с луны свалился?
— С луны, с луны! — сказала подошедшая к нам тётя Нюра. — А ты как думал? — Она засмеялась и крикнула в окно: — Макарыч, примай выручку!
Из распахнутого окна высунулась лысая голова с курносым носом, похожим скорее не на нос, а на закорючку. На носу, на самом краешке, сидели очки.
— Явилася! — занудным голосом сказал Макарыч. — Не запылилася! Ох, Нюрка, Нюрка, как это допёрла — то ты: по городу с деньгами таскаться? А ежели обчистят? За жизнь не рассчитаисся!
Тётя Нюра махнула на него своими стоптанными туфлями:
— Ты, Макарыч, не скрипи — ка, а по такому случаю отпусти Ваську из конторы. Вон к нему друг из города приехал.
Макарыч пронзительно оглядел меня с ног до головы и спросил тётю Нюру недоверчиво:
— А сколь выручила? — будто от этого зависело, отпустит он Ваську или нет.
— "Сколь, сколь"! — засмеялась она опять. — Все твои, сколь ни на есть.
Макарыч нехотя согласился. Тётя Нюра осталась у конторы, а мы побежали к Васькиному дому.
— Это кто? — спросил я.
— Главбух! Ест меня поедом. То считай, это считай, будто я арифмометр. Арифмометру не доверяет, а мне доверяет, гад такой! Ни на шаг от себя не отпускает, будто я при нём адъютант какой.
— Сам виноват, — сказал я, смеясь, — считаль — щик ты этакий!
Васькин дом стоял на пригорке и выделялся среди других жёлтыми, ещё не почерневшими от ветра и старости брёвнами.
— Красивый домина! — сказал я, желая польстить Ваське.
Он заулыбался.
— Отец построил! Уже война шла, а изба ещё недостроенная стояла. Так веришь ли, отец даже ночью работал! Хорошо, что осенью его в армию взяли.
Он повернул круглое кольцо в воротах. Дверь со скрипом подалась, и мы очутились во дворе.
Чудным был этот двор. Он и на двор — то не походил, скорее, на продолжение дома: такие же бревенчатые стены, крыша. И удивительно — двое ворот: одни на улицу, другие, Васька сказал, в огород.
Во двор выходило высокое крылечко с крутыми ступеньками. Справа — ещё две двери.
— Там сарайки, — объяснял мне Васька, водя по двору, — вот тут дверка в погреб, это ход на сеновал. А теперь айда в избу, да только голову наклоняй.
Я не очень прислушался к Васькиному совету, вернее, просто не понял, зачем мне наклонять голову, и, переступая порожек, звонко стукнулся о притолоку: в ушах будто колокола грянули.
— Эх ты! — сказал Васька и притащил мне столовую ложку. — На, приставь!
Боль медленно утихала, и я озирался, всё удивляясь. Со стороны дом казался большим, просто огромным, а внутри было даже тесно. Почти пол — избы занимала большая печка с чёрным огромным ртом. От печки под самым потолком шёл деревянный настил.
— Это полати, — сказал Васька голосом экскурсовода. — Там бабка сейчас спит.
Я медленно оглядел избу — широкие лавки вдоль окон, жёлтые чистые половицы, икона в углу.
На одной стене висела стеклянная рамка, украшенная узорными цветами. За ней были фотокарточки. Я стал разглядывать их. Среди разных лиц мне запомнилось одно: в белой рубашке на гнутом венском стуле сидит человек и держит в руках гармошку. Мне показалось, где — то я его видел, и я обернулся, чтобы спросить Ваську, но осекся. Конечно, он просто походил на Ваську. Вернее, Васька походил на него.
— Он? — спросил я.
— Отец! — подтвердил Васька и задумчиво объяснил: — Перед войной снимался.
Я вглядывался в такое похожее на Васькино лицо человека в белой рубашке и представлял себе, как это было… Белое поле, сугробы и чёрные танки, ползущие на наших солдат. Медленно, словно нехотя, солдаты в тёмных шинелях, которые хорошо видны на белом снегу, поднимаются из сугробов и бегут назад, потому что им ничего не остаётся: против танков нужны гранаты. Но гранат нет, и солдаты отступают. Я не хочу поверить, что ещё немного, и их, живых людей, растопчут, словно глину, танки, и они умрут где — то там, на сто первом километре. Я подумал, что Васькин отец повернулся в последнюю минуту и побежал, вытянув винтовку со штыком, прямо на стальной танк, хотя, может, такого никогда и не было… Васькин отец втыкает яростно штык в непробиваемую броню, и штык от удара выбивает искру…
Я шагнул назад и перехватил Васькин взгляд. Он пристально разглядывал меня.
— Подожди, — сказал я Ваське, развязывая свой рюкзак, — подожди.
Волнуясь, я вытащил несколько консервных ба нок, которые дала мне в дорогу мама, свитер, чистые рубашки, а со дна достал пилотку. Я положил её вчера первым делом; пилотку мне подарил отец, когда зимой лежал в госпитале. Звёздочку он снял и прикрепил на ушанку, а пилотку подарил мне.
— Вот, — сказал я, протягивая пилотку Ваське, — держи: это тебе.
Васька взял пилотку, посмотрел, всё поняв, на меня, и, не улыбнувшись, не сказав ни слова, отошёл к зеркалу. Он надел пилотку и опустил кулаки, словно встал по стойке смирно. Я глядел в зеркало на Васькино лицо и видел, как он шевелит желваками.
— А тебе идёт, — сказал я, чтобы хоть что — нибудь сказать: я чувствовал — сейчас надо непременно говорить, лишь бы не молчать.
— Идёт, — пробубнил Васька.
— Ну, айда на улицу! А то я и деревни — то не видал!
— Айда, — откликнулся Васька, поворачиваясь ко мне. Теперь он был в норме, и желваки у него не шевелились. — Мамку там подождём. Покормит она тебя, тогда на речку сбегаем, порыбалим.
— Как живёшь? — спросил я Ваську, когда мы уселись на крыльце.
— Как! Как! Счетоводю… Разве это жизнь!
— А лошади? — спросил я.
— Лошади, — усмехнулся Васька, — на конюшне. Просился у председателя, да он и слушать не стал. А тут ещё этот главбух, гад ползучий!
Всё было ясно. Главбух, этот лысый с очками на носу, — гад ползучий, это действительно, это даже я с первого взгляда заметил. А председатель этого гада слушает и Ваську в конюхи не отпускает. "Но ведь он, наверное, прав, — подумал я про председателя. — Зря, что ли, Васька целую зиму учился?"
Звякнула щеколда, пришла тётя Нюра. В руке она держала корзинку, в которой стояла бутыль молока, лежали яички и помидоры.
— Ну — ка, ну — ка! — зашумела она. — Мойте руки да за стол.
Я мылся и хохотал. Вода лилась у меня с локтей, заливала штаны — и всё это, и плеск, и мой смех покрывал Васькин бас. Я никогда не видел такого рукомойника: на цепочке подвешена медная кастрюлька с носиком. Чтобы вода полилась, надо взять за носик и чуть наклонить. Но от моих прикосновений рукомойник качался на цепочке, плескал воду, а Васька доливал его, хохоча надо мной.
Ему казалось смешным, что я не умею умываться из такого простого рукомойника.
* * *
Наскоро поев, я вскочил из — за стола. Васька ждал меня на крылечке, смоля самокрутку. В руке он держал корзину.
— А где удочки? — спросил я.
— В нашей речке, — сказал Васька, втаптывая окурок в землю, — корзиной ловят.
Я удивился, но приставать с расспросами не стал.
Мы быстро шли лесной, пружинистой тропой.
Речка открылась неожиданно. Просека раздвинула стены, лес перешёл в высокие кусты, а за ними, среди зелёных берегов, извивалась узкая синяя полоса, шириной в три больших прыжка, не больше. В траве валялись какие — то малыши. Увидев нас, они загалдели, побежали навстречу, но вплотную не подошли, а остановились невдалеке.
Я разглядывал ребят, а они меня. Совсем маленькие были в рубашках, но без штанов, ковыряли в носу или с аппетитом жевали какую — то траву. Но среди маленьких были ребята и постарше, с меня. Эти глядели на меня пытливо, даже задиристо, и, судя по их взглядам, им мешал только Васька. Так мы стояли, глядя друг на друга, я и эти ребята, а Васька будто не замечал их. Сняв рубаху и штаны, он остался в белых кальсонах, развязал подвязки, закатал подштанники.
— Кольча! — удивился он. — А ты что?
Я медленно, смущаясь пристальных взглядов зрителей, среди которых были и девчонки, разделся до трусов и спустился в воду. Речка была прозрачная и светлая, она тихо журчала, будто большой ручей. Песчаное дно просвечивалось солнцем, и был виден каждый камушек. Васька стоял посреди речки, глядя на меня ожидающим взглядом. Я побрёл к нему, как вдруг девчоночий голос сказал сверху:
— Вась, а это кто?
Я поднял голову. Прямо над нами, на берегу, стояла маленькая девчонка, класса так из первого, но, верней всего, она в школу ещё и не ходила. Рыжие веснушки на её лице так и налезали друг на дружку, словно им не хватало места. Выцветшее платьишко топорщилось. Я скользнул по девчонке равнодушным взглядом и вдруг почувствовал, как заливаюсь яркой краской. Девчонка стояла на берегу, прямо над нами, и я отвернулся, похолодев: под платьем у неё ничего не было.
— Гость мой, — сказал Васька пигалице, поглядывая на неё и ничего не замечая.
— А как его звать?
— Николай! — терпеливо отвечал Васька.
— А он откель? Городской, что ли?
— Ага, — кивнул Васька.
— Городско — ой? — протянула девчонка, глядя на меня, как на вымершего мамонта, и не собираясь уходить.
А я всё краснел и краснел. Васька наконец взглянул на меня и, ничего не поняв, вопросительно сдвинул брови.
— Вась! — сказал я, покраснев, по — моему, — до пяток. — Ну — ка, прогони её.
Васька похлопал выцветшими ресницами, поглядел на девчонку, потом на меня, потом снова на девчонку и наконец понял.
Он схватился за живот и начал как — то по — дурацки хрюкать. Это хрюканье перешло в дикий хохот. Васька шатался в воде, будто пьяный, хохотал и кричал девчонке:
— Маруська! Ой! Маруська! Отойди! Отойди!
Маруська догадалась, быстро присела, накрыв коленки платьем, глаза её испуганно хлопали. Потом она вскочила и побежала. Голые Маруськины пятки так и мелькали в зелёной траве.
Мне стало жалко маленькую Маруську, а Васька орал ей вслед:
— Маруська! В другой раз знакомиться в штанах приходи! — и снова хохотал, просто закатывался.
Я думал, Васька прогонит эту Маруську потихоньку, чтоб не поняли другие, а он, как дурак, орал и издевался, и получилось, что это я виноват, что это из — за меня убежала бедная Маруська.
— Хватит тебе! — сказал я недовольно. — Сам — то хорош! — В закатанных кальсонах Васька и правда был не больно — то привлекателен. Тем более, что кальсоны были ему велики и сползали.
Улыбка сразу исчезла с его лица.
— Ну, ну, — проворчал он, покрываясь румянцем. — Ищь какой выискался, в трусах! У нас тут все так ходят. И бабы и мужики.
— Ври больше! — отмахнулся я.
И Васька почему — то смутился, спорить не стал. Он внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил. Мы принялись рыбачить.
В общем, это оказалось нехитрое дело. Мы с Васькой подходили к какой — нибудь зелёной кочке на дне речушки, осторожно ставили перед ней корзину, шуровали ногами в водорослях, а потом быстро выдёргивали корзину. На дне билось несколько маленьких рыбёшек с чёрными спинками.
Когда мы сделали первый заход, я взял одну рыбку в руки. Она разевала пасть, возле которой были два уса.
— Усач называется, — объяснил Васька, выкидывая рыбок на берег, ребятишки ловили их и насаживали под жабры на тонкую ивовую ветку. — Его прямо так, с потрохами, жарить можно. Да если ещё лишней залить — пальчики оближешь.
Солнце, отражаясь в воде, слепило глаза. Увлёкшись, мы бегали по речушке, пока не стало смеркаться.
— Ну, — забеспокоился Васька, — мамка нам даст! Замотал я тебя вконец! Да ведь когда к речке — то вырвешься! Всё этот проклятый упырь Макарыч. Раньше — то, — рассказывал Васька, когда мы шли через лес с молчаливым эскортом ребят. Они жались друг к другу, тихо переговаривались, будто после случая с Маруськой стеснялись меня. — Раньше — то, — говорил солидно Васька, — на покосе ли, на пахоте наробишься, коня распрягёшь — и к речке. Покупаешься, полежишь, животину напоишь, и айда обратно.
Я вслушивался в Васькины слова, вдыхал вкусный лесной воздух, и мне казалось, что это не я иду по лесной тропе, а кто — то другой, похожий на меня.
От купания, от рыбалки, от солнца, от тяжести рыбы, которую я нёс на ивовой гибкой ветке, мне было хорошо и ни о чём не думалось.
* * *
— У-у, — улыбнулась тётя Нюра, приподняв рыбу, — да тут на две жарёхи хватит!
В избе было тепло, под таганком, в печке, потрескивали сухие полешки, весело разбрызгивая искры, Тётя Нюра кинула половину рыбы на шипящую сковородку и стала торопливо причёсываться, поглядывая на себя в зеркало.
— Куда ты, мам? — спросил Васька.
— А ты забыл? — удивилась тётя Нюра. — А ещё в конторе служишь… На нынешний вечер собрание назначено.
— Вот еловая башка! — стукнул себя по лбу Васька. — Вылетело! Давай тогда скорее поесть.
Тётя Нюра залила рыбу яичницей, ловко выметнула сковородку на стол, положила ложки.
— По такому случаю, — сказала она Ваське, тронув меня за плечо, — можешь и не ходить.
— Но! — воскликнул Васька. — Не могу!
Как бы извиняясь, он добродушно оглядел меня и вдруг предложил:
— Айда с нами, Кольча!
Что за вопрос? Не догадайся Васька предложить, я бы сам напросился.
Наскоро доев рыбу, мы вышли на улицу. Небо густо посинело, солнце ушло за лес, и в летних сумерках было трудно разглядеть лица колхозников.
Народ сидел на лавках, расставленных поперёк улицы. На обочине вместо стола, покрытого кумачовой скатертью, как бывает на собраниях, стоял стул с графином, но без стакана. За стулом лежали брёвна — на них располагался президиум.
Мы с Васькой подошли к лавкам, поискали свободные места сзади — там было всё уже занято — и уселись в первый ряд. Нас заметили.
— Гляди — ко, — сказал чей — то женский голос, — мужиков — то прибыло, — и все засмеялись.
Я обернулся. На нас, на меня главным образом, глядели, улыбались. Я улыбнулся в ответ, а сам подумал: слава богу, что темно и не видно, как я краснею.
В президиуме на брёвнышках сидели три дядьки. Одного я узнал сразу. Это был Васькин главбух Макарыч, второй ничем не привлёк моего внимания, третий был без руки, в гимнастёрке, рукав которой торчал из — под ремня.
— Председатель! — кивнул на него Васька и добавил уважительно: — Терентий Иваныч.
"Вот он какой, оказывается! — с интересом разглядывал я председателя. — А я думал, толстый и с красным носом. Ведь он его зимой обморозил".
На гимнастёрке у председателя поблёскивали ордена. Он тихо переговаривался с соседями — Макарычем и вторым, — поглядывал на лавки, заполнившиеся народом. Я обернулся снова. На лавках сидели только женщины да ещё несколько стариков. Один дед сидел сразу за мной, и я его разглядел. Был он обут в валенки, держался за суковатую палку, и голова у него тряслась. На рубахе у деда висели две медали — я их узнал, такие же были у мамы: "За трудовое отличие" и "За победу над Германией". Рубашку дед по — старинному подпоясал тесёмкой. "Ишь, — подумал я, — как на парад собрался. Нарядный. И медали надел".
Мне стало жалко этого деда. Вот он уж и летом в валенках ходит, состарился совсем. Работать не может, но на собрание пришёл. И, наверное, стыдится, что сидит среди одних баб. Вот и надел медали, чтоб не так обидно было.
В полумраке с брёвен поднялся однорукий председатель и подошёл к стулу с графином.
— Товарищи женщины, — сказал он, задумался, словно что — то забыл, и добавил: — И старики! — Председатель заправил пустой рукав поглубже за ремень. — Вот какое наше дело! — Он вздохнул и оглянулся на брёвна. — А дело наше, скажу прямо, — решительно проговорил председатель, — хреновое. Как в обороне. Сидим, окопались, и сил не осталось. Наступать не с чем. Эмтээсовский комбайн опять сломался, и эти аньжанеры, которые только что с танка слезли, к стыду своему, справиться с ним не могут.
На лавках засмеялись, а Васька толкнул меня локтем.
— Руку — то, — шепнул он, кивая на председателя, — под Сталинградом похоронил.
Я вспомнил жёлтые, словно масленые, листочки с картинкой, где седая женщина показывала на слова "Родина — мать зовёт!". Эти листочки, исписанные химическим карандашом, присылал нам отец — сначала из — под Москвы, а потом, после госпиталя, из — под Сталинграда. "У этого председателя руку под Сталинградом оторвало, а под Москвой у Васьки отец погиб, — подумал я. — Мой же отец воевал и там, и там, а остался жив и невредим, только ранило его. А могло бы… могло…"
Я повернулся к Ваське, шепнул ему, что подумал.
— Счастливый ты! — ответил Васька и вздохнул.
— Видите, товарищи, — продолжал негромко Терентий Иванович, — война кончилась, а я вам пока ничего хорошего сказать не могу, кроме одного: опять на вас вся надежда. В будущем году или нынче осенью, — он обернулся на главбуха, — может, купим свой трактор, в эмтээс не передадим, спрячем от района — пусть штаны с меня снимают.
Дед за моей спиной крикнул с натугой: "Правильно!", и все засмеялись, потому что непонятно дед выразился, что правильно: или трактор прятать, или штаны с председателя снимать.
Терентий Иванович тряхнул головой, поднял руку.
— Но это ещё в будущем году, — сказал он. — До него дожить надо. Пока же вся сила в вас, в ваших руках и в ваших мозолях. Надеяться нам не на кого.
Терентий Иванович взял одной рукой графин, попил прямо из горлышка. В рядах вздохнули.
— Да, товарищи бабы, вернее — женщины! Война кончилась, но надеяться нам пока не на кого. И нельзя нам надеяться, поймите сами. Вот я в Сталинграде воевал, вы знаете. Что от города осталось? Одни развалины. Дай бог, один целый дом устоял, а так всё подчистую!.. Не знаю как, — нерешительно добавил председатель, — разгребать будут. Наверное, чтоб только землю выровнять для новых домов, ещё не год потребуется. Это один Сталинград, а ведь таких городов сколько порушено! Сколько деревень пожгли, гады, мостов, заводов! Так как же мы, товарищи бабы, можем с вами требовать помощи от государства? Наоборот, — он причесал пятернёй волосы, — наоборот, мы государству должны помочь!
Тишина стояла на улице, никто ни слова не сказал, не вздохнул. Даже деревья не шелестели, словно и они внимательно слушали речь председателя.
Председатель шагнул вперёд, подвинул стул. Графин, тихо звякнув, упал в траву, и стало слышно, как льётся из него вода. Но Терентий Иванович ничего не заметил. Он шагнул вперёд и сказал с таким жаром, что голос у него дрогнул:
— Поэтому я прошу, — он передохнул, — прошу вас, товарищи женщины, дорогие наши жёны, матери и сёстры, прошу вас, наши отцы и деды, завтра всех, кто только стоит на ногах, подсобить колхозу.
У меня по коже даже мурашки проползли, так он это сказал.
— Я не приказываю, — говорил председатель, — а прошу…
Он замолчал, а снова заговорил уже вполголоса. Но его слышали все:
— Опять звонили из района. Мы должны сдать хлеб не по плану, а вдвое больше, оставив только на семена и самую малость на трудодни. Трудодень, говорю заранее, будет бедный, и зимовать придётся тяжело. — Он умолк и вдруг проговорил со злобой: — Был бы последним подлецом, если бы сказал вам сейчас неправду. Если бы обнадёжил, а потом обманул. Обманывать мне некого.
Терентий Иванович повернулся, отошёл к брёвнам и закурил. Огонёк самокрутки дрожал в его руке.
— И ещё я хочу сказать, — произнёс председатель от брёвен, — чтобы вы, товарищи женщины, старики и ребята… — Он долго молчал, будто не знал, что сказать дальше. — Чтобы вы простили нас, мужиков. Простили нас за то, что мы обещали вам вернуться, а слова своего не сдержали или вернулись вот такие! — Он со злостью хлопнул себя по пустому рукаву. — Простите нас за это, — и вдруг низко, в пояс, поклонился собранию.
В горле у меня запершило.
— В каждую деревню, — сказал Терентий Иванович, — не вернулись солдаты, но у нашей Василь — евки особый счёт к фашистам. — Он сипло дышал, стараясь успокоиться. — Мы должны работать так, чтобы никто не почувствовал, что только шестеро мужчин вернулись в Васильевку с войны. Все должны знать: солдаты — и мёртвые и живые — вернулись! Вернулись с победой!
Председатель рубанул единственной своей рукой воздух, словно поставил точку, и сел на брёвна.
Никто не шевельнулся. Только комары звенели в синем воздухе. Деревня будто онемела.
Терентий Иванович сидел на брёвнах серой тенью, лицо его изредка освещалось огнём самокрутки, он понурился, будто никакого собрания тут нет, а сидит он один и думает о чём — то. Мне показалось, что председатель так и будет сидеть тут, так и не заметит, как разойдутся с собрания люди, и, может, просидит на брёвнах, задумавшись, до утра, но Терентий Иванович сказал медленно, как бы раздумывая, и сказал это не собранию, а кому — то одному, своему товарищу.
— Вот что, женщины, — сказал он, — свезти бы нам со всего света — из — под Сталинграда, из — под Курска, из — под Ленинграда, из — под Берлина — наших солдат да положить бы их в одной могиле на околице деревни, только это, пожалуй, невозможно. Но вот я думаю, зато возможно поставить памятник погибшим солдатам. Чтобы каждый, кто приходит и приезжает к нам, мог поклониться им. Когда — нибудь поставим мы нашим бойцам настоящий памятник, но ждать богатых времён, думаю, не дело. Давайте — ка срубим пока простой памятник, простую пирамиду из дерева и напишем на ней имена всех павших мужиков. Вот ты, Трифон Ильич, — кивнул председатель старику с медалями, — ты, Марья Ивановна, ты, Кузьма Трофимович, вы старые люди. Вы своё отработали, толку в поле от вас будет мало. Приходите завтра на околицу, и я с вами, однорукий, попробуем сколотить этот памятник. А вы, женщины, — сказал он, поворачивая медленно голову, как бы оглядывая каждую колхозницу, — а вы, работая в поле, думайте об этом памятнике. — Он помолчал и прибавил, гася самокрутку; — Так и будет. Собрание закрыто. Всё.
Я проснулся и ничего не понял.
Я всё на свете забыл, весь длинный вчерашний день, — и как шёл с тётей Нюрой в деревню, и как мы с Васькой встретились, а потом ловили усачей, и как сидели вечером на колхозном собрании, где говорил лишь один председатель… Я думал, что лежу дома, в собственной постели, но вокруг меня были какие — то холмы, а сверху падала стена.
Мгновение я лежал оцепенелый. Но, приглядевшись, облегчённо вздохнул: сверху ничего не падало — это была крыша. Солнечные лучи просачивались сквозь щели, струились вниз, словно лучи маленьких прожекторов, и оставляли на холмах сена жёлтые полосы и пятна. Я глубоко вздохнул и привстал. Сено весело зашуршало; оно пахло ветром и ромашкой.
Я потянулся. Тело было лёгким и сильным. Какое — то удивительное предчувствие, предчувствие счастья, шевельнулось во мне. Хотелось возиться, хохотать.
— Васька! — шепнул я.
Никто не откликался. "Вот дрыхнет, — подумал я, — богатырь Илья Муромец!" — и вскочил на ноги. Рядом лежало распластанное одеяло, но никого не было. Я стал, крадучись, спускаться по скрипучей лестнице вниз. Васька, наверное, ещё в ограде, как он выражается, и тут я на него налечу. Я переступал тихо, осторожно, и вдруг что — то мокрое и шершавое лизнуло меня в пятку. Тут же раздался хриплый рёв. Я обомлел и повернулся. На меня глядел чёрными выпуклыми глазами добродушный телёнок, взмахивал тонким, как верёвочка, хвостом и мычал.
Я сел на лестницу и засмеялся, а телёнок снова стал лизать мою пятку, и мне теперь было ужасно щекотно. Я заливался изо всех сил. Всё равно Васька, если он дома, уже меня услышал.
Но никто на лестницу не заглядывал, и я пошёл в дом.
Возле окошка сидела бабка и перебирала грибы.
— Здрасте! — сказал я, оглядываясь. Но Васьки и тут не было. — А где Василий?
— Должно, в конторе, — ответила бабка скрипучим голоском, — а могет, на конюшне. Любит там околачиваться.
— А тётя Нюра? — спросил я.
— На жатве, соколик! Накормить тебя велела. Ha — ко, садись…
Она поднялась, подошла к печке, загремела там чем — то и вытащила, согнувшись, на стол вчерашнюю сковородку с жареными усачами. "Сами не ели, мне оставили", — думал я, улыбаясь, о тёте Нюре, о Ваське, об этой коричневой, высохшей бабке.
— А грибы откуда? — спросил я бабку, с аппетитом жуя хрупких усачей.
— Из лесу, соколик, — ответила она, — из лесу, откель ещё? Вот утречком поднялась, набрала на губовницу.
Я не понял, на какую губовницу, но снова почувствовал себя виноватым: соня — засоня, вон даже бабка дряхлая и та тебя обставила, уже грибов принесла.
Ложкой я разделил сковородку на четыре части, четверть усачей съел, остальное оставил и расспросил у бабки, как найти конюшню. Она говорила долго, размахивая руками, и я понял только одно: надо идти на самый край деревни, мимо Васькиной конторы.
В конторе Васьки не было.
— Где твой остолоп? — спросил меня Макарыч и усмехнулся. Он достал из угла большой треугольник. — Иди — ка вот на конюшню! — велел он мне сердито. — Отдай ему эту штуку и скажи, чтоб обмерил жнивьё у Белой Гривы. Понял?
Я кивнул.
— Да скажи, чтоб мигом обернулся! — крикнул мне вслед Макарыч.
Я шагал по улице, разглядывал штуковину, которую дал мне главбух. Нет, это всё — таки не треугольник. Скорее на циркуль похоже. Две палки с перекладиной, а сверху одна палка длинней, вроде как ручка. Я взялся за неё и стал перекидывать с ноги на ногу.
Ни бабка, ни Макарыч не ошиблись: Васька возле конюшни запрягал лошадь.
— Здорово, засоня! — сказал он, увидев меня. Вид у Васьки был деловой: к губе прилипла самокрутка, и он жмурил от дыма глаза, сосредоточенно морщил лоб. — Помнишь, ты мне в городе говорил, умею ли я запрягать? Гляди! Учись! Вот это постромки, вот это гуж, вот узда, а вожжи вот сюда заходят.
Я глядел на это сплетенье ремешков и ремней, толком ничего не понимая, и любовался Васькой. Даже в самые вдохновенные минуты, когда на своих счетоводных курсах он в уме умножал тысячи и делил миллионы, я не видел на его лице такого удовольствия. Сейчас Васька причмокивал, хлопал коня по спине, трепал морду, что — то бормотал. Глаза его поблёскивали, и, хотя он старался не улыбаться, видно было, что сдерживается Васька через силу.
— Ну, а как же работа, — спросил я Ваську не без ехидства, — по счетоводной части?
Я передал ему руководящее указание главбуха.
— Ну вот, — горестно сказал он вдруг, — коня пахать запрягаю, а сам с этим дрыном ходи! — Он кивнул на циркуль.
Из — за конюшни вышли спиной к нам две тётки. Они тащили что — то тяжёлое. Васька подбежал к ним. Крякнув, они взвалили на телегу плуг, сверкнувший на солнце отточенным лезвием.
— Ну, всё, кажись, Матвеевна? — спросила одна.
Она была худая, с вытянутым, как у лошади, лицом и костлявыми руками. Юбка и кофта, серые, заношенные, висели на ней, будто занавески — складками.
— Всё, — ответила вторая, тоже пожилая, но покруглее и почернявее. — Спасибо тебе, Василей, подмог пахальницам, и на том ладно.
— Погодите, бабы, — сказал Васька, отнимая у меня циркуль и укладывая его на телегу. — Мы с вами! Макарыч велел ваш клин замерить.
Матвеевна рассердилась:
— Чтоб его черти взяли, твоего Макарыча. Всё ему вымерять надо, будто кто недопашет, будто кто недосеет!
Женщины уселись на телегу и тронули лошадь. Она не спеша развернулась и понуро побрела в гору.
Я беспокойно глядел, как телега обгоняет нас, но Васька не торопился.
— Отстанем ведь, — сказал я.
— Да нет, — ответил Васька, — они нас у дома подождут. Мне ещё корзину прихватить надо. Лошади в гору тяжело — ей пахать придётся. С неделю, поди — ка, без передыху.
Действительно, телега ждала у Васькиного дома. Он заскочил в ограду, вышел с корзиной, и мы отправились дальше. Только когда дорога шла под уклон, Васька вскакивал на телегу, помогая забраться и мне. Лошадь по такой дороге бежала прытко, но, когда начинался подъём, мы слезали.
В одном месте шёл длинный пологий спуск, и мы надолго подсели к тёткам. Плуг сухо постукивал о телегу.
Всю дорогу мы не проронили ни слова — ни женщины, ни мы с Васькой, словно ехали на похороны. Даже лошадь никто не понукал, не кричал на неё. Она шла сама — когда быстрей, когда тише, и я подумал, что не один Васька, значит, жалеет лошадей и не зря, выходит, жалеет.
— Вась, — сказала худая тётка, — говорят, матерь — то твоя молока в городе много наторговала?
— Наторговала, — ответил Васька сухо.
— А в район — то она всё ездит? — спросила худая.
— Ездит, — ответил Васька.
Они помолчали.
— Всё про отца спрашивает? — сказала Матвеевна.
— Ага, — ответил Васька, — про отца.
— Охо — хо! — вздохнула худая. — Нюре хоть спросить — то есть кого, а нам и этого нету.
Колёса постукивали по пыльной дороге.
— Вась, — сказала Матвеевна, — это тот инвалид — то, что в сапожной стучит?
— Он, — кивнул Васька.
— Без обеих ведь ног, без обеих! — вздохнула худая и как — то странно поглядела на Ваську.
— Где их возьмёшь теперь, — тоскливо сказала Матвеевна, — с руками — то чтоб да с ногами. Ох, дождёмся ли, когда мужики — то за плугом пойдут, а?
Они рассмеялись.
— Вась! — сказала худая, кивнув на Васькину пилотку. Он как надел её вчера перед зеркалом, так, кажется, и не снимал. Даже рыбачил в ней. — А откель обнова — то?
Васька долго не отвечал, словно задумался, потом сказал:
— Вон его отца.
— Живой? — спросила меня Матвеевна.
— Живой, — ответил я. — Скоро приедет.
— Охо — хо! — вздохнула худая. — Всё же есть хоть счастливые.
— И слава богу! — вскинулся вдруг Васька, словно защищая меня.
— Конешно, конешно, — ответила худая, оборачиваясь к Ваське. — А ты чо, соколик, думаешь, я позавидовала? — Тётка вздохнула. — А и то, позавидовала, — согласилась она. — Только дай бог, чтобы все отцы к вам вернулись.
Все надолго замолчали. Цокали копыта. Наконец Васька показал мне на белую каменную осыпь. Это и была Белая Грива.
Внизу, под осыпью, и справа и слева, растекалось сжатое поле. Васька торопливо распряг коня, вместе с женщинами зацепил плуг.
Худая ухватилась за ручки плуга, Матвеевна взяла лошадь под уздцы, и, напрягаясь, все втроём — и лошадь и женщины — отвалили жирный, блестящий на солнце пласт земли.
Васька хмуро глядел вслед тёткам, а они уходили всё дальше вдоль длинного поля.
Он вздохнул, снял с телеги деревянный циркуль, решительно шагнул вслед за тётками.
— Я обмерю, — крикнул он мне, — а ты клевера в корзину набери. Вишь цветочки?
— Кашку? — спросил я.
— Кашку, кашку, — ответил, не оборачиваясь, Васька.
Он шагал по сжатому полю, и ветер пузырём надувал его зелёную рубашку. Ту самую, в которой Васька приехал тогда в город.
Он шёл размашистым шагом и всеми ухватками — тем, как он двигался, как ловко поворачивал циркуль, как говорил перед этим — был похож на взрослого.
Жужжали полосатые шмели, трепетали крыльями стрекозы, то повисая на месте, то срываясь стремительно куда — то вбок. Я обрывал тонкие сиреневые цветочки от клеверной головки и сосал сладкий сок, развалясь в траве. Мне было хорошо, пока взгляд мой не находил в бесконечном чёрножёлтом поле напряжённую,^ понурую лошадь и двух женщин. Я вскакивал, стремительно рвал кашку.
Когда корзина наполнилась и я подошёл к телеге, Васька уже вернулся и вбивал топором в землю какие — то палки.
— На нож, — сказал он мне, — срезай ветки подлиннее. Надо шалаш сделать. Им тут дня четыре ишачить. С утра до темени.
Тётки проходили мимо нас. Теперь они поменялись местами. И уже совсем вымотались. А прошли всего рядов пять — шесть в бесконечном поле.
— Двенадцать га! — сказал зло Васька. — Трактору бы тут на один день! — Он плюнул и яростно заколотил топором.
Васькина злость передалась мне. Срезая ветки, я с силой, зло, нажимал ножом, будто дрался с противником. Пот полз мне в глаза, но я даже не вытирал его, а только сдувал.
* * *
Шалаш получился на славу! Васька напихал туда сена, кинул два одеяла с телеги.
Тётки за это время сделали ещё три хода вдоль поля.
Глядя на лошадь и женщин, медленно идущих перед нами, я вспомнил, как Васька рассказывал мне про кобылу, которая вот прямо так, на работе, сдохла. Тянула тоже плуг и вдруг упала. "Тут не только лошадь, — подумал я, — тут и человек упадёт".
Напротив нас тётки остановились.
— Васька! — крикнула Матвеевна. — Василий Иванович, водицы подтащи — ка!
Васька схватил ведро, исчез за кустами, а когда появился, через край ведра переплёскивалась вода. "Тут, значит, и ручей есть", — подумал я и подошёл вслед за Васькой к женщинам.
— Матвеевна, — сказал Васька, поднимая ведро, — вы отдохните, а мы с Кольчей попашем.
Я думал, Матвеевна скажет: "Ну куда вам!" — откажет просто — напросто, но она молча кивнула головой. Пот струился с неё ручьями, а худая посерела от натуги и большие глаза её, кажется, стали ещё больше.
Тётки попили и пошли к шалашу. Васька поил лошадь.
— Но, но, — ласково приговаривал он, то поднося ей ведро, то отнимая. — Не торопись, зайдёшься! Погоди, золотко! — Прямо как с человеком разговаривал.
Потом я вёл лошадь под уздцы, как показал мне Васька, а сам он держал плуг. Напившись и передохнув, лошадь шла веселее, бойко пофыркивала, и наш ряд получался ничем не хуже соседних. Мне не терпелось обернуться, поглядеть на Ваську, а ещё больше не терпелось попросить его дать попахать мне. Но лошадь шагала, и я должен был внимательно смотреть вперёд.
Наконец Васька пробасил: "Тпрр — ру!" — и лошадь послушно стала, натруженно дыша.
— Васька! — потребовал я. — Теперь моя очередь!
Он усмехнулся, недоверчиво поглядел на меня, но кивнул.
Я взялся за скользкие ручки плуга, Васька чмокнул, и лошадь двинулась.
Лошадь сама тащила плуг, а я должен был ровнять ряд, но это получалось легко.
— Налегай! — крикнул мне Васька. — Глубже паши!
Я послушно налёг, прошёл несколько метров и вдруг почувствовал, как налились тяжестью руки. Когда я вёл лошадь под уздцы, идти было легко по твёрдому полю, теперь же я шёл по паханой земле, ноги проваливались и деревенели. Пот застлал мне глаза, я уже не наваливался, чтобы борозда выходила глубже, я просто держался за плуг, а лошадь и Васька, и эта железная штуковина с острым ножом тащили меня за собой, как на прицепе.
— Ну вот, — сказал Васька, останавливая коня.
Я с трудом разжал онемевшие руки и отшатнулся от плуга. В голове гулко стучала кровь, пот капал с подбородка. Я утёрся рукавом, едва дыша.
Мне было стыдно за свою немощь. Я думал, Васька меня обругает, но он неожиданно похвалил:
— Молодец, Кольча!
Мы поменялись местами и пошли дальше. Вась — кина похвала меня успокоила, приободрила. "Да нет, — подумал я, — не так уж плохо для первого раза. Если бы я всё время в деревне жил, выходило бы не хуже Васькиного".
Лошадь стала, тяжело поводя боками, женщины подошли к нам.
— Ну, мужики, — сказала, посмеиваясь, худая, — уважили, спасибо! А теперь идите.
— Макарыч — то тебе задаст, — сказала Матвеевна, глядя на Ваську.
— Ну его! — пробубнил Васька, утирая пот.
Матвеевна чмокнула на лошадь, та нехотя двинулась вперёд, а мы с Васькой пошли в деревню.
Дорога вела в гору, и понурая лошадь да две фигурки возле неё долго были видны нам.
Мы молча оборачивались, молча вглядывались в них и молча шли дальше…
* * *
— Николка, — прервал молчание Васька, — батя — то не пишет, когда вернётся?
— Никак не отпускают, — ответил я.
— Отпустят! — вздохнул Васька. — Скоро всех солдат отпустят! — Он горько усмехнулся: — Наших вон всех отпустили.
— Как? — удивился я. — Уже всех?
Но как — то странно сказал это Васька.
— А у нас и возвращаться — то всего шестерым пришлось. Двое сразу в эмтээс подались. Один без ноги, милиционером работает. Дядю Терентия председателем выбрали. Да двое ещё бригадирят.
Я остановился.
— Шестеро? — спросил я испуганно. — А сколько же на войну уходило?
— Мужиков шестьдесят, — ответил Васька. — Это сразу, как войну объявили. Да потом ещё парней забирали, кто подрастал. Душ семьдесят.
Мы стояли на вершине холма и в последний раз обернулись на двух тёток и коня.
— Кабы хоть половина, — сказал задумчиво Васька. — Или мужиков двадцать вернулось…
Мы пошли торопливо, чуть не бегом.
— А вот ежели, — спросил, не глядя на меня, Васька, — отец бы твой не вернулся? Ну, погиб. А мать бы твоя нового отца привела?
— Как это — нового? — пожал я плечами. — Отец один, другого не бывает…
— Ну ладно, — перебил меня Васька, — снова бы замуж вышла! Не понимаешь, что ли? Чо бы ты делать стал? — Он говорил зло, раздражённо, и я удивился: что это с ним?
— Что делать, что делать? Не остался бы дома! Сбежал!
— Куда? — засмеялся Васька, будто это его касалось.
— В ремеслуху, например, — ответил я, — или в детдом. Соврал бы, что у меня никого нет.
— В детдом!
— Да ты чего ерунду — то мелешь? Ежели да кабы, то во рту росли грибы!
— Это я так, — сказал он, криво усмехаясь, — вообще…
Чтобы сократить путь, Васька свернул с дороги, и мы пошли тропой через густо заросшее поле. Васька наклонился на ходу, сорвал что — то, остановился. В руках у него был стручок. Он размял его и высыпал на ладонь жёлтые горошины.
— Переспел уже, — сказал Васька, — а убирать некому, — и отправил горошины в рот, аппетитно зачавкав.
— Горох, что ли? — спросил я и, обрадовавшись, начал рвать стручки.
— Ты это чо, ты чо?
— Горох рву! — ответил я удивлённо. — Не видишь?
— Нельзя же, дурень, — сказал Васька. — Горох колхозный, увидят — ещё засудить могут.
— Засудить! — усмехнулся я. — Как это — засудить?
— А так, — ответил Васька нерешительно, — за хищение колхозного имущества. — Что — то Васька сам в своих словах, по — моему, сомневался. — Ну да ладно, — сказал он, вздыхая, — только по одному карману наломаем, понял? По карману, не больше.
То ли давно мы не ели, то ли просто горох оказался вкусный, но за ушами у нас аж пищало.
— Стручки — то пустые подальше в сторону кидай, — сказал смущённо Васька, — а то увидят.
— Ну и увидят? — засмеялся я.
— Увидят — другие нарвут, — сказал Васька. — А если каждый по карману наломает, какой убыток, как думаешь?
Я пожал плечами, но пустые стручки стал бросать подальше от тропки.
— Меня до войны, — улыбаясь, сказал Васька, — знаешь, как отец ремнём выдрал! Вот так же надёргал я полную пазуху гороху, прибёг домой, на стол вывалил, — мол, глядите, добытчик, в дом гороху принёс. А отец снял ремень с гвоздя и так меня отходил! Пискун, говорит, ты голобрюхий, и откуда, говорит, в тебе кулак взялся! Я тогда — то не понял, что за кулак, уж потом, в школе, объяснили. Но как отец порол, помню. И как кулаком обозвал — тоже…
Васька улыбался, словно отцовская порка ему теперь удовольствием казалась. Потом сразу нахмурился. Мы стояли перед конторой.
— Айда! — позвал меня Васька к себе на работу. — Посидишь поглядишь.
Мы вошли в избу. Она была такой же, как Васькина. В одном углу сидел Макарыч, у окна стоял пустой стол, за него уселся Васька.
— Тебя за смертью посылать! — прогнусавил Макарыч. — Сводку обсчитать надо, в район передать, а тебя носит, лешак подери!
Васька промолчал, выразительно посмотрев на меня: мол, видишь.
— На столе бумаги, — велел Макарыч, — давай считай скорей, потом поговорим, при Терентии.
Васька тоскливо зашелестел бумагами, подвинул к себе счёты, начал громыхать костяшками. Макарыч скрипел ржавым, что ли, пером. Я оглядывал контору — ряд старых стульев, портрет и забавный телефон на стене, похожий на скворечник, только с ручкой.
Васька дал длинную очередь на счётах, потом задумался, поглядел на меня, перевёл взгляд за окошко и машинально вытащил из кармана несколько стручков. "Шляпа! — подумал я. — Сам наказывал пустые стручки подальше кидать, чтоб никто не заметил, а тут вдруг вытаскивает". Едва я подумал это, как Макарыч спросил Ваську безразличным голосом:
— От Белой — то Гривы пешком шли?
— Ага! — безмятежно ответил Васька.
— Через поле? — лениво говорил главбух.
— Ага!
— А горох оттуда? Колхозный?
Васька побледнел, прикрыл было ладонью несколько стручков, лежавших на столе, и резко повернулся к своему начальнику.
Глаза у Васьки сузились в щёлки, а Макарыч шёл к нему, медленно, не спеша шагал через комнату, сдвинув очёчки на кончик носа.
— Нукось, — сказал он неторопливо, — выворачивай карманы.
Васька послушно вывернул пустой карман. Видно, эти стручки были последними.
— Колхозный горох — то? — наступал Мака — рыч. — Аль со своего огороду? (Васька заливался краской.) Да нет, со своего не может быть, домой не заходили — вон и корзинку с клевером занесть не успели. (Васька краснел, но молчал.) — Тогда Макарыч указал на меня пальцем: — И гостя своего воровать учишь? (Ваську уже всего трясло.) Ну — ка, милочек, — пошёл ко мне главбух, — выверни — ка и ты карманы.
У Васьки оставалось три стручка, а у меня карман был почти полный: я просто не поспевал за Васькой, он как — то уж очень быстро доставал горошины из сухих оболочек.
Но вывернуть карманы, значит, доказать этому курносому главбуху, что всё, что он говорит, — правда.
С меня спрос невелик, а что про Ваську говорить станут? Я вспомнил, как он отговаривал меня рвать этот горох, как рассказывал про отца.
Нет! Вывернуть карманы, значит, предать Ваську. Никакой Васька не вор. Это я виноват, я.
Я шагнул навстречу главбуху. Сейчас я ему скажу, что Васька не виноват.
Что это я? Только спокойно. Спокойно? Неожиданная мысль кольнула меня. Ведь ясно же, что мы были вдвоём. Скажут: "Васька, а ты куда смотрел?" Скажут: "Раз ты там был, значит, тоже виноват, значит, вы вместе".
Я уже открыл рот, чтобы взять всю вину на себя, и в последнюю секунду — буквально в последнюю — сказал другое:
— А вы, товарищ главный бухгалтер, зря горячитесь. Да, у меня полкармана гороху. Но мы этот горох взяли из дому ещё с утра.
Макарыч отступил и поддёрнул очки к глазам. Никак он не ждал такого. Да и я‑то, честно сказать, не ждал.
Он ушёл к своей конторке, сел и сказал оттуда:
— А мы это проверим.
— Проверяйте! — сказал я безразлично.
Вот за это — то я мог поручиться: никто нас с Васькой в колхозном горохе не видел.
* * *
— Вообще — то ты молодец, — сказал, вздохнув, Васька, когда, пересчитав всё, что требовал Макарыч, мы вышли на улицу. — Только если ему вожжа под хвост попадёт, худо будет. Дома — то мы нынче гороху не сеяли. Вынюхает, под суд подведёт, паразит.
— Да неужто, — возмутился я, — за два кармана гороху?..
— Вот тебе и "неужто"! Закон такой есть: пригоршню возьмёшь — и то посадить могут. По законам военного времени.
— Так война — то кончилась!
— Война — то кончилась, а законы остались.
Мы сидели на завалинке. Васька, хмурясь, дымил цигаркой. Вдруг он напрягся, прислушался.
— Машина идёт, — объявил Васька и, помолчав, прибавил: — Не эмтээсовская.
— Как это ты узнал? — спросил я, прислушиваясь к далёкому тарахтению.
— По мотору, — ответил Васька. — К нам тут одна машина ходит, за молоком, а эта — другая.
Рокот мотора усилился, и через несколько минут, заслонив улицу пылью, прямо у конторы затормозила газогенераторка с фанерным фургоном вместо кузова.
Из кабинки выскочил щуплый старик шофёр, за ним степенно вышла большая, пухлая тётка.
— Принимай подмогу! — крикнул весело старик и распахнул у фургона заднюю дверцу.
— Подмога! — проворчал недовольно Васька. — Стрижём — бреем да гуталином торгуем.
Из чёрного нутра фургона, кряхтя, сползла короткая седая старуха, ростом меньше меня, затем втроём — старуха, старик шофёр и пухлая тётка — стали вытаскивать из фургона ещё что — то, тяжёлое и неудобное.
Когда они расступились, я опешил. На тележке с шарикоподшипниковыми колёсиками сидел безногий человек в офицерской фуражке. В одной руке он держал некрашеный фанерный чемоданчик.
Безногий оглядывался вокруг, говорил что — то старику шофёру, потом сильно оттолкнулся свободной рукой и поехал к нам.
— Здорово, хлопчики! — крикнул он издалека. — Не найдёте ли гвоздика подлиннее?
Человек, улыбаясь, подъехал к нам.
— Вот было две ноги, — сказал он, останавливаясь, — а стало четыре. Раньше двух было много, а теперь на трёх не уедешь. — Он пошатал одно колесо, норовившее отвалиться.
— Ага! — сказал Васька, поднимаясь и обходя инвалида. — Сейчас!
Мы быстро пошли к Васькиному дому, — почти побежали.
— Это он, — сказал Васька, — помнишь? Вместе с отцом воевал!
Я вспомнил, как дома, в городе, Васька рассказывал про отца и про инвалида, который один остался живой.
— Ты иди назад, — спохватился Васька, когда мы уже подошли к дому, — помоги ему устроиться, я сейчас…
Я вернулся к конторе.
Инвалид, отцепив коляску, уже сидел на лавочке у правления и разглядывал шарикоподшипник.
— Ну, где гвоздь? — спросил он, увидев меня.
— Сейчас, — ответил я. — Васька несёт.
— Ну, ну, — проговорил инвалид, откладывая коляску и открывая фанерный чемодан. Там лежал сапожницкий инструмент — молотки, мелкие гвоздики, дратва, железная лапа, на которой подбивают обувь. — А то, вишь, у меня мелочь. — Он ззял щепотку гвоздиков, высыпал их обратно, словно просеял.
Я внимательно разглядывал инвалида. У него было красивое, чуть скуластое лицо в редких крапинках веснушек, крепкие, мускулистые руки, покрытые густыми волосами, и вообще, если закрыть ноги, он ничем не походил на инвалида, на тяжелораненого.
И у мамы в госпитале, и в городе, на улицах, я видел других инвалидов. В госпитале, понятное дело, люди лежали после операций, и лица у них были больные, измождённые, усталые, и мне их было жалко. В городе мне часто попадались совсем другие инвалиды — пьяные. Они громко говорили между собой, пересыпая слова тяжёлой бранью, стучали костылями по земле, доказывая что — то друг другу. Этих инвалидов я боялся и обходил стороной, а моя бабушка говорила, что они нарочно куражатся, чтобы показать себя. Конечно, я встречал и других инвалидов — спокойных, стоящих в очередях, хотя инвалидам полагалось получать продукты без очереди. У меня щемило сердце, хотелось, чтобы люди, ни слова не говоря, расступились и пропустили инвалида к прилавку.
Этот же безногий не вызывал у меня даже жалости. Он вертел свою тачку на шарикоподшипниках, жмурился на солнышко, вытирал тыльной стороной ладони пот со лба и, казалось, совсем не чувствовал, что у него нет сразу обеих ног.
— А ты, видать, не здешний? — сказал он, приглядываясь ко мне и приветливо улыбаясь. — Поди — ка, из города?
Я кивнул.
— Это Васька — то нынче не у тебя зимовал?
Я кивнул снова, удивляясь, откуда он всё знает.
Инвалид пристально посмотрел на меня, перестал улыбаться и вдруг спросил:
— Хороший парень Васька?
Я хмыкнул: мол, само собой.
— Да, — вздохнул безногий и задумался. — Да, — повторил он после долгой паузы, — хороший он парень, Васька…
Я вдруг заметил, как инвалид покраснел и глаза его насторожились.
Я обернулся. За моей спиной стоял Васька и протягивал гвоздь. Рядом с ним была тётя Нюра.
— .Здравствуйте, Семён Андреевич, — сказала она, теребя кончик платка. — С приездом вас.
— Здравствуй, Нюра, — ответил инвалид, и щёки его опять порозовели.
"Может, — подумал я, — ему стыдно перед тётей Нюрой, что Васькин отец погиб, а он вот живой остался?"
* * *
Возле фургона стал собираться народ. Инвалиду приносили рваные ботинки, сапоги, калоши — запахло резиновым клеем, застучал молоток. Тётка, сидевшая в кабине вместе со стари ком шофёром, приставила к изгороди табурет, натянула белый халат и стала подстригать деда в валенках.
— Бороду — то не трожь, — шумел дед, — а голову давай начисто! Жди вас, когда ещё нагрянете!
Тётка жужжала машинкой, трещала ножницами, кружилась, как наседка, возле деда, который так и не снял с рубахи свои медали. Он сидел, будто монумент, боясь шевельнуться под острыми ножницами.
Но шумней всего было у фургона. Коротенькая старушка, не пригибаясь из — за своего малого роста, свободно ходила внутри сумрачного ящика. Она отрезала кому — то куски материи, тщательно прикладывая деревянный метр, а в оплату, у кого не было денег, принимала яйца.
— Мыла опять нет! — шумели внизу женщины. — Хоть бы жидкого привезли!
Старуха в автолавке суетилась, предлагала вместо мыла саржевые платки и книги, её ругали почём зря, но и платки, и книжки в обмен на яйца всё же брали.
Мы с Васькой поглядели на сапожника, повертелись возле парикмахерши и фургона и пошли к дому. Васька был мрачен, и я подумал, что у него, наверное, не выходит из головы этот горох.
— Брось ты, — сказал я ему, — если будет Ма — карыч приставать, говори, что это я горох рвал. А тебе просто дал немного. Меня небось не засудят.
— Ишь ты, — усмехнулся Васька, — рыцарь из городу приехал!
Он всё думал о чём — то своём и вдруг предложил:
— Давай к отцу сходим.
— Как это? — спросил я недоверчиво. — Как это — сходим?
— Пошли, — серьёзно кивнул Васька.
Из — под дверцы сарая Васька выскреб ключик, открыл замок. Мы вошли в большое полутёмное помещение с маленьким окошком, выходившим во двор. В темноте, на гвоздях, висела лошадиная сбруя — какие — то верёвки, ремни и цепи, а у окошка, за планками, возле маленького столика поблёскивал инструмент.
Васька уселся на чурбан перед столиком, стал вытаскивать из — под рейки стамески разных размеров, долота, плоскогубцы и кусачки, смахивая с них пыль концом рукава.
— Отцовское, — сказал он тоскливо. — Тут у него мастерская была. Глянь!
Васька выдвинул ящик стола. Ровными рядами, аккуратно уложенные, там лежали фуганки, рубанки 5— большие и малые, набор молотков. Сбоку к столику намертво прибиты были тисочки. Никогда нигде не видел я такого богатства.
— Целый завод! — сказал я.
Он улыбался, польщённый.
— А хошь, — сказал он, — ещё чего — то покажу, — и не дожидаясь моего согласия, наклонился под стол.
Васька вытащил что — то большое, замотанное в холстину, и стал аккуратно разворачивать. Оказалось, это кусок неоструганного дерева, и я сначала не понял, что ж он хочет мне показать. Но Васька повернул деревяшку другим боком, и я увидел голову коня, вырезанную грубо.
Конь мчался навстречу ветру, вскинув голову и раздув ноздри. Грива развевалась под напором ветра.
— Это отец коня вырезал, — сказал Васька, — хотел на коньке укрепить, да не поспел, на войну взяли. Так и осталась только одна половина. — Он вздохнул. — А я вот делаю, делаю, и ничего у меня не выходит.
Я пошёл вслед за Васькой в тёмный угол. Там на полу лежало штук шесть деревянных коней. Я брал их одного за другим, ощупывал, выносил на свет — все они напоминали первого, но были какими — то неуклюжими и походили скорее на собак.
Я повернулся к Ваське и увидел, как презрительно глядит он на своих коней.
— Уж сколько сделал, — сказал Васька, вздыхая, — а близко даже нет. — Он помолчал. — Но я добью! Вот уборка кончится, опять строгать начну. А как выйдет, ту голову, что отец начал, доделаю. Только надо, чтоб не хуже вышло.
Васька кинул небрежно своих коней в угол, отцовского же бережно завернул в холстину и спрятал под стол.
Мы сидели в полутёмном сарае, задумчиво глядели в маленькое оконце, и я думал: "Как не похож стал Васька на самого себя! На того, каким он был в городе".
* * *
Уже темнело, когда тётя Нюра, расставив на столе тарелки, позвала нас ужинать.
Мы с Васькой стояли у ворот.
Навесив замок на дверцы фургона, ушла куда — то коротенькая старуха, закрыла свою мастерскую парикмахерша, спрятав в контору табурет. Старик шофёр давно уже исчез, и один только Семён Андреевич тукал молотком, ремонтируя изношенные, изопревшие обутки.
— Идите вечерять! — ещё раз позвала тётя Нюра, и мы с Васькой пошли в дом, уселись на лавках.
В избе было непривычно тихо. Тётя Нюра молчала, опустив глаза в тарелку с картошкой, молчал угрюмо Васька, одна бабка что — то приговаривала, пришамкивая себе под нос. Иногда тётя Нюра вопросительно посматривала на Ваську, но он будто ничего не замечал. Похоже было, что они поссорились и виновата в этой ссоре тётя Нюра. Но когда они успели поссориться? Я от Васьки почти ни на шаг не отходил.
Васька вяло ковырял ложкой в тарелке, потом поднял голову. Инвалид всё тюкал молотком.
— Мам! — сказал Васька. — Позови Семёна — то Андреича. Голодный, чай.
Тётя Нюра вскочила, выбежала из избы, хлопнув дверью. Бабка и Васька переглянулись.
Стук на улице смолк, потом во дворе зажурчали подшипники инвалидкой коляски, и в избе, опираясь руками на деревяшки с кожаными ремешками для рук, появился Семён Андреевич.
Смотреть, как он поднимался на невысокий порожек, а потом спускался, было невмоготу, и, если бы инвалид молчал, было бы совсем тяжело. Но Семён Андреевич шутил, приговаривал, и от этого неловкое напряжение рассеялось.
— Здравствуйте! — весело восклицал он. — Спасибо вам! А то мы по району странствуем, дома уж который день не ночуем, а горяченьким, глядишь, да угостят! Как же тут пропадёшь, коли вокруг люди добрые!
Бабка засуетилась, стала стирать тряпкой'со стола, мельтешила и тётя Нюра, один Васька сидел, задумчиво глядя на инвалида.
Я и тётя Нюра помогли Семёну Андреевичу забраться на лавку, он помыл руки в тазике, который подала бабка, и, в шутку перекрестившись, принялся за картошку. Но тут же хлопнул себя по голове.
— Ох, голова садовая! В гости пришёл, а про гостинец забыл!
Он вытащил бутылку, тётя Нюра и бабка заахали, но стаканчики поставили.
Взрослые выпили. В избе снова стало тихо. Только жужжала где — то муха.
— А вы что ж, в бога верите? — после долгого молчания спросил Васька.
Инвалид положил ложку, сказал шутливо:
— Эх, Вася, спроси — ка ты у солдат, кто верует? Кто и верил если, так теперь одного чёрта жалует. — Он засмеялся. — Эта война, пропади она пропадом, поядрёней всякого чистилища будет.
Он снова разлил вино, стал серьёзным.
— Выпьем, — сказал он, — за упокой души Ивана Петровича и всех погибших солдат нашего района, хоть в упокой души я не верю. Давайте за память выпьем, чтоб она никогда не ушла.
Я подумал, сейчас Семён Андреевич будет походить на других инвалидов — станет пить и зубы начнут стучать о стекло, а потом заплачет или заругается, — но инвалид обвёл стол трезвыми глазами и закупорил бутылку.
— Будет, — сказал он. — Пьяная голова — что пустой шар: не ровён час и улететь может.
Он засмеялся своим словам, но его никто не поддержал. Все сидели напряжённые и невесёлые.
Налили чаю. Васька прихлёбывал пустой чай и посматривал на инвалида, будто хотел ещё что — то спросить.
— А страшно было тогда? — проговорил он хрипло и кивнул головой на стол, а вернее, под стол, туда, где должны бы у Семёна Андреевича быть ноги.
Семён Андреевич хлебнул чаю и надолго замолк, словно взвешивая про себя, страшно или не страшно было тогда, когда оторвало ему ноги. Наконец он поставил кружку на стол, отодвинул её и посмотрел Ваське в глаза.
— Тогда, — он мотнул вниз, на свои ноги, — я ничего, почитай, не помнил. В медсанбате очнулся уже без ног. Отошёл, гляжу — солнышко в щель пробивается, посмотрел на себя — вроде жив, здоров, руки на месте, голова, пощупал, на месте, ноги тоже, одеялом укрытые. — Он вздохнул. — Только чую, ноги мои ноют, лодыжки особенно… Потом узнал, что ноги — то хоть и ноют, а их уж нет…
Васька словно окаменел.
— Испугался я потом, позже, но это не страх, — подумав, проговорил Семён Андреевич. — Страх был тогда, под Москвой, когда твой батька погиб.
Он взялся за столешницу так, что пальцы побелели.
— И страх и злоба, — сказал он негромко. — Злоба, что гранат нету, и страх, что помрёшь, ни одного немца не укокошив… Как уж вывернулся я тогда, и сам не знаю. — Он снова пронзительно посмотрел на Ваську. — Только уж потом… Уж потом, Васька, будь спокоен, столько их накрошил…
Бабка, осторожно ступая по скрипучим половицам, принесла керосиновую лампу. Спичка скользнула о коробок, пламя осветило избу бронзовым светом.
Где — то на полатях затиликал, запел сверчок.
Семён Андреевич улыбнулся, повернул лицо к печке:
— Ишь поёт! Живность!
* * *
Тётя Нюра пошла постелить Семёну Андреевичу в сенцах, мы с Васькой выбрались из — за стола и устроились на лавочке под окнами. Васька был смурной, глубоко затягивался и часто кашлял хриплым — на всю улицу — голосом.
— Никогда не угадаешь, что с тобой будет, — проговорил он устало. — Хотел тебе одно мероприятие показать, а тут фургон этот.
— Какое мероприятие? — спросил я.
— Да… — нехотя ответил Васька. — На вечорку хотел тебя сводить, да уж мало времени остаётся, самый конец захватим. — Он зевнул. — А завтра вставать рано.
Я всполошился:
— Ва — ась! Давай сходим! Выспимся ещё, поспеем.
Васька усмехнулся, затоптал окурок.
— Смотри, — сказал он, — два километра по лесу.
Он поднялся с лавочки, крикнул в ограду:
— Мам, мы спать ушли! — и на цыпочках вернулся ко мне. — Айда! — велел шёпотом.
То быстрым шагом, то мелкой рысью мы двигались по лесной дороге. Ели обступали нас со всех сторон, воздух словно остекленел, и каждый вздох повисал в тишине. Мои ноги то проваливались в колдобину, то спотыкались о бугорки, и тогда я хватался за Ваську — за его рукав или плечо. Васька шагал уверенно и не оступался, словно только тем и занимался, что ходил по ночным дорогам.
В глухой тишине я неожиданно различил какое — то тоненькое треньканье и голоса.
Васька прибавил шагу.
Сквозь деревья виднелся трепещущий огонёк. Голоса и музыка стали внятнее: кто — то пел частушки, играла гармонь.
Лес наконец кончился, тишина и страхи оста лись за спиной. Из мрака выступили избы, а перед ними, под берёзкой, застлавшей чёрной шапкой полнеба, полыхал костёр и плясали пары.
Гармонист играл заунывно, повторяя одну и ту же короткую мелодию, ни шума, ни смеха не было у костра, только раздавался глухой, мерный топот пляшущих.
Когда мы подошли ближе, озорной голос парня, нарочно надрываясь, разухабисто выкрикнул:
По деревне идётё, Играётё и поётё, Моё сердце разрываётё И спать не даётё-ё!Снова стало тихо, слышался только топот. Через полминуты, не раньше, словно крепко подумав прежде, девчачий голос, такой же надрывный, пропел:
Через речку быструю Я мосточек выстрою, Ходи, милый, ходи мой, Ходи летом и зимой!Мы остановились под берёзой, недалеко от баяниста. Это был совсем пацан. Пожалуй, вроде меня. Он играл, уставившись в землю, ни на кого не глядя, словно выполнял работу, тяжёлую и неинтересную.
Нас заметили.
Тот же парнячий голос, что пел частушку, выкрикнул откуда — то из темноты:
— A-а, Васильевские ребята пришли! — И добавил обидно: — Два сапога пара, два пацанёнка — мужик!
Пляшущие недружно засмеялись, и я почувствовал локтем, как подобрался, напрягся Васька.
— Опять, гады! — прошептал он, а громко, набрав басу, чтоб перекричать гармошку, крикнул: — А што энто за мужики, каких из сапог не видно!
На этот раз засмеялись громче, — видно, Васька попал в точку.
Перед нами возник низкорослый парень в лихо заломленной фуражке. Я, не удержавшись, хихикнул. Парень был намного старше Васьки, а ростом с меня.
— Н-ну зар — раза! — прошипел он.
А в Ваську будто бес вселился.
Он неожиданно подпрыгнул и, отбивая сапогами чечётку, пропел парню прямо в лицо, издевательски улыбаясь:
Оп — па, триц — ца, ца — ца — ца — ца, Гоп — па, дриц — ца — ца — ца-ца!..Словно пень или колдобину, Васька обошёл низкорослого парня, вошёл в круг, хлопнул, глядя куда — то в сторону, по плечу девчонку с косой, уложенной вокруг головы, замолотил сапогами пыль и запел точно так же, как тот парень, — с надрывом и с натужным весельем:
Ягодиночка, малиночка, Вертучие глаза, На тебя, на ягодиночку, Надеяться нельзя-а!Ошеломлённый парень — недомерок опомнился, исчез в темноте, но скоро снова появился у костра, выжидая чего — то.
Васька, подмигивая мне, задиристо топал сапогами, но у девчонки, с которой он плясал, лицо было испуганное, вытянутое. Она переступала ногами, озираясь по сторонам, и вдруг — я даже заметить не успел, как это произошло, — исчезла.
Возле Васьки, всё ещё топочущего и улыбающегося, стоял низкорослый парень, а рядом с ним человек пять здоровенных парней.
— Уступи девку! — велел маленький парень.
— Не-е! — весело откликнулся Васька, хотя никакой девки уже не было.
— Да ну? — удивился низкорослый и махнул кулаком.
Васька увернулся и шарахнул парня прямо в нос. Тот пошатнулся, фуражка, которая была, наверное, ему велика, покатилась в пыль, а Васька, согнувшись, как когда — то учил меня, молниеносно ударил нападавшего сперва по одному уху, потом по другому. Парень зашатался, и тут Васька врезал ему в живот.
Всё было по Васькиным правилам — он и мне когда — то говорил, что так надо драться, но размышлять было некогда.
Низкорослый парень лежал в пыли, а Ваську тузили со всех сторон здоровенные парни.
Мгновение я стоял оцепенелый. Потом подхватил из — под ног какой — то дрын и молча, как зверь, кинулся, зажав его над головой, в толпу, избивавшую Ваську.
Помню, что первый удар был удачным. Палка, ударившись о чью — то спину, сломалась. Что — то ^яркое мелькнуло в глазах, мои кулаки сталкивались с чем — то твёрдым. Наконец всё стихло. Парни расступились, а мы с Васькой стояли посреди круга, молчаливого и хмурого.
Не говоря ни слова, Васька схватил меня за рукав, и мы побежали.
— Ходи, милый, ходи мой, ходи летом и зимой! — крикнул вслед побитый парень.
Кто — то по — разбойничьи свистнул, послышался девчачий смех. Гармошка, смолкнув ненадолго, запиликала вновь.
Мы бежали домой, тяжело, с присвистом дыша, не говоря ни слова. Васька свернул с дороги, и мы оказались у ручья. Он лёг на землю и окунул голову в воду. Я сделал так же. Лицо онемело от прохлады.
— Два зуба шатаются, — сказал Васька с тоской. — Губу разбили… А шишек не сосчитать… А ты как?
У меня саднила скула, болел подбородок, из носа текла, всё не останавливаясь жидкая и тёплая кровь.
— Ох, гады! — сказал Васька. — Ох, гады!..
Он помолчал минуту, решительно вскочил.
— Ну, я им сейчас!
Мы побежали снова, напрямик, продираясь сквозь кусты.
— Пошли тише! — сказал я Ваське, падая от усталости.
Но он не остановился.
— Не! — крикнул он. — Надо успеть!
Я не понимал, куда надо успеть.
Но Васька бежал, хрипя и отплёвываясь, увлекая за собой меня.
Серыми, тяжело дышащими тенями пробежали мы по деревне. Мало что соображая от побоев и долгого бега, я нёсся вслед за Васькой и не очень удивился, когда мы оказались не у дома, а возле конюшни.
Васька растворился в темноте. Громко звякнул засов, и тут же зачмокали копыта.
— Иди на сеновал! — крикнул Васька, придержав возле меня лошадь. — Я скоро!
Конь всхрапнул и метнулся вперёд.
— Васька! — крикнул я отчаянно. — Васька! Я с тобой!
Залилась, зашлась в хриплом лае собака за забором.
Васька остановился. В три прыжка я догнал его.
— Чо орёшь? — прохрипел он, но протянул руку.
Я вскарабкался на лошадиный круп.
— Держись крепче! — велел Васька, и мы помчались.
Казалось, будто мы летим по воздуху: земля, деревья вокруг — только угадывались; одно небо, ставшее зеленоватым от приближающегося рассвета, плыло где — то над головой.
То ли отдохнув после дневной работы, то ли с перепугу, лошадь шла ходкой рысцой, и Васька повторял мне:
— Нагни голову!
Я притаился за его спиной, чувствуя, как над нами проносятся ветви деревьев.
Обратная дорога оказалась странно короткой. За кустами замельтешил огонёк, и Васька пробормотал злорадно:
— Поспели.
На опушке, за деревьями, он остановился и велел мне слезть. Разминая затёкшие от неловкой езды ноги, я переступал перед конём и слушал Васькины наставления:
— Иди вон в тот куст! — приказывал он командирским голосом. — Как я поскачу обратно, не мешкай, выбегай сразу…
Я кивал, не понимая ничего толком, костёр и гармошка пугали меня. Ясно было, что Васька затеял что — то отчаянное.
Предстояли новые испытания, может, ещё одна драка, и я опять подобрал с земли дрын, на этот раз покрепче.
Васька подвёл коня к кусту, дал ему передохнуть, потом воскликнул глухо: "Ну!" — и ударил пятками в лошадиное брюхо.
Конь рванул с места крупным галопом, а я раздвинул куст, чтобы лучше видеть, что случится дальше.
Васька мчался к костру молча, прижавшись к лошадиной шее, и там не сразу заметили стремительно скакавшую чёрную лошадь. Её увидели слишком поздно. Гармошка умолкла, плясуны кинулись врассыпную, а Васька промчался прямо через костёр, разметав пылающие поленья.
Всё, что произошло дальше, походило на битву под Бородином. Смешались в кучу кони, люди… Конь был, правда, один, но он стремительно носился, громко ржал, становился на дыбы и снова скакал. Казалось, что коней много.
Под берёзкой в свете угасающего, размётанного костра глельтешили тени парней, девчата визжали, словно их режут, и над всем этим, над разбегающейся толпой, возвышалась мрачная Васькина фигура.
Иногда он замахивался и делал такое движение, словно рубил кого — то саблей. Издалека, из кустов, нельзя было разглядеть, что у него в руке, но я догадался — это был кнут. Он торчал из голенища его сапога, когда я взбирался на лошадь.
Сражение было недолгим. Парни, обгоняя девчат, разбежались, костёр утих, один только мальчишка — гармонист остался на месте, обхватив руками гармошку и вжавшись в берёзу.
Его Васька не тронул. Сделав последний, прощальный круг по полю боя, он остановил коня и, привстав в стременах, свистнул — долго, пронзительно и победно.
Потом хлопнул коня по шее и двинулся к моему кусту. Я вышел навстречу, взобрался на круп взмокшего коня, и мы, не спеша и не оборачиваясь, тронули домой.
Небо уже совсем поголубело, темнота развеялась.
Руки у меня дрожали, словно это я, а не Васька рубил сейчас противников. Я сидел, обхватив Ваську за жизот, и слышал, как гулко, молотом, стучит его сердце.
Поставив коня в конюшню, Васька закрыл засов. Темнота всё расступалась, и я увидел, как он засунул в петлю здоровый ржавый гвоздь.
— Гляди! — показал он мне, когда мы уходили от конюшни.
На лавке сидел пустой тулуп. Палка подпирала воротник, и в темноте тулуп походил на сторожа.
— Вот хитрая старуха! — покачал головой Васька. — Ночью спит, а под утро выходит.
Домой мы пробирались задами. Васька шмыгнул в ограду первым, за ним шагнул я.
— Кхм, кхм! — откашлялся кто — то в полумраке.
Мы вздрогнули. На крылечке сидели тётя Нюра и Семён Андреевич.
Васька затоптался, растерявшись, и вдруг сказал:
— Здрасте!
— Здрасте, здрасте! — ответила тётя Нюра, поднимаясь. — Вот я тебя вожжами — то! — Но, заметив наши синяки и разбитые губы, села снова. — Господи! — проговорила она испуганно. — Господи! Никак, на вечорку ходили?
— Ну мы им там дали! — весело отозвался Васька, приходя в себя.
Семён Андреевич засмеялся.
— Вот видишь, Нюра, — сказал он, — а ты горюешь! Раз парни на вечорках дерутся, значит, ничего! Значит, жить можно!..
* * *
Утром мы с тётей Нюрой уходили на жатву. Не успел я уснуть, как пришлось просыпаться. Я жевал хлеб, запивал его молоком и думал, что сейчас бы не на жатву идти, а выспаться как следует.
Тётя Нюра уже собралась, сложила в куль три круглых каравая, ещё горячих, как мой кусок.
— Нравится хлебушко — то? — спросила тётя Нюра, улыбаясь.
— Вкусный, — ответил я. — Горячий ещё.
— Твоя работа.
Я не понял.
— Ну, ты клевер — то вчера собирал? — спросила тётя Нюра. — Так хлебушек этот из муки с клевером, травяной.
Я взглянул на кусок. Хлеб как хлеб, только черней, чем в городе. Откусил ещё, разжевал. Жёсткий какой — то и горьковатый. Но тёте Нюре не сознался.
— Хороший, — подтвердил я.
Тётя Нюра засмеялась.
Под окном зафырчала машина.
— Ну, спасибо за хлеб — соль, — сказал Семён Андреевич, улыбаясь тёте Нюре. — Поехали странничать далее, На обратном пути заглянем ещё, обутки раздать заеду, которые приготовить не успел.
Тётя Нюра поклонилась ему. Он быстро подкатил к Ваське, подал снизу вверх руку. Васька, покраснев, пожал её.
— Бывайте все здоровые, — кивнул Семён Андреевич и покатился к порожку.
Машина гуднула, дёрнулась и, скрипя всеми частями, запылила по дороге.
Тётя Нюра постояла задумчиво у окошка, потом спохватилась, стала наказывать Ваське:
— Бабушка — то на памятник пойдёт, — говорила она, — так ты хозяйствуй, С Макарычем не ругайся. Мы, может, неделю не будем…
До полевого стана — нескольких шалашей, укрытых сеном, — возле которого чадил костерок, мы добирались больше часа, и, когда пришли, жатва была в разгаре.
Встав в ряд, женщины с серпами медленно передвигались по полю, наклонялись, обхватывали рукой пучок жёлтых колосьев, срезали их, снова обхватывали и снова срезали, потом вязали эти пучки в снопы и опять жали, и так без конца. Снопы с пушистыми головами стояли в поле, как пузатые люди, как неподвижные сторожа.
Тётя Нюра, повязав низко на лоб платок, сразу, не передохнув, встала в ряд.
Я присел у костра. Клонило в сон. Ночное приключение не выходило из головы, но теперь я думал о нём, улыбаясь.
Сзади зашуршала трава, Я обернулся. На меня испуганно глядела Маруська, та самая Маруська, которую я осрамил возле речки.
— Ты что тут делаешь? — спросил я удивлённо.
— Кашеварить помогаю, — ответила Маруська.
Из — за шалаша вышла дряхлая старуха. Она волокла по земле чёрный чан, до блеска начищенный изнутри.
— Давайте помогу! — сказал я, шагая бабке навстречу.
Но та отмахнулась.
— Вы лучше соберите ещё хворосту, а то не хватит, — сказала скороговоркой Маруська и проглотила слюну.
Маруська повела меня за собой, в полчаса мы натаскали огромный ворох сучьев. Я отряхнулся и пошёл в поле проведать тётю Нюру.
Я шагал, бодро насвистывая, и вдруг увидел, что какая — то старуха с серпом упала на колени. Я подбежал к ней, схватил за руку, но старуха повернула ко мне усохшее, плоское, как доска, лицо и сказала бойко:
— Да ты чо, касатик?
И вдруг я увидел, что бабкины ноги обмотаны мешковиной — грубой, толстой мешковиной — и обвязаны бечёвкой. "Неужто она так жнёт?" — подумал я.
— Ты чо, милок? — повторила бабка, и карие глаза её блеснули. — Да не-ет, — протянула она, понимая меня, — это я так работаю! Спина — то меня не держит, стара стала, вот и приладилась! — Она двинулась вперёд на обмотанных мешковиной коленках, ловко подсекла серпом колосья, словно ковшиком воду зачерпнула, и сложила пучок рядом.
— Так вам не надо помочь? — растерянно спросил я.
— Нет, паренёк, я настырная, я и так пожну, ещё бойчее выйдет, чище.
Я пошёл дальше. Бабкина голова скрылась в колосьях, а я всё оборачивался. Никак не мог поверить, что человек может так работать.
* * *
— Николка! — обрадовалась тётя Нюра, с трудом разгибая спину. — Поглядеть пришёл?
В одной руке она держала серп, блестевший на солнце.
— Нет, — сказал я, — не поглядеть. Подсобить. Дайте пожну.
Тётя Нюра рассмеялась, но протянула мне серп.
Я наклонился, взялся рукой за пук стеблей, подрезал их со звоном — серп оказался острым. Но мне было неудобно. Я встал на колено, хватанул ещё один пук.
— Пониже, пониже режь, — сказала тётя Ню — ра, — солома нынче пригодится — снова зимовать впроголодь будем.
Я срезал колосья, пыхтел, обливался потом. Сзади стояла тётя Нюра, и мне хотелось показать, что я умею работать не хуже других и, уж конечно, не хуже той высохшей старухи на коленках. Изредка я поднимался, глядел в ту сторону, где ничего не было видно — только шевелились колосья. Тётя Нюра выжала, конечно, дальше той старухи, но теперь бабка сокращала разрыв. Я снова наклонялся, резал колосья, складывал их в кучу, тётя Нюра вязала сноп, но всякий раз, как я поднимал голову, бабка на коленях выравнивалась с нашим прокосом всё ясней и чётче. Тётя Нюра не спешила, не отнимала у меня серп, словно чего — то ждала.
— Николка, — спросила она, и я едва расслы — шал её голос: в висках у меня гудела кровь. — Ни — колка, отец — то твой не вернулся?
— Нет! — ответил я, переводя дыхание. — Не отпускают пока.
— Отпустят! — сказала тётя Нюра и надолго замолчала.
Поднатужившись, я, кажется, всё — таки немного обогнал старуху.
— Ты аккуратней жни, — сказала мне мягко тётя Нюра, словно боясь обидеть. Я обернулся. Сзади меня, на выкошенном месте, торчали пучки несжатых колосьев. — Ладно, ладно, — сказала она. — Я подберу. — И вдруг спросила: — Слышь, Никол — ка, а если бы батя твой не вернулся, а мама снова замуж вышла?
Я распрямился и уставился на неё.
— Чего это вы, тётя Нюра, сговорились, что ли, с Васькой? Он меня тоже про это спрашивал.
— Спрашивал? — испугалась тётя Нюра и проговорила тихо: — Ну и что?
— "Что, что"! — ответил я, сгибаясь над колосьями. — Я бы лично сбежал. В ремеслуху, например, или в суворовское училище.
— Сбежал? — отозвалась тётя Нюра, словно эхо.
— Сбежал! — ответил я, любуясь, как вжикает мой остро отточенный серп: вж-ж, вж-ж!
— Ну, хватит, Кольча, хватит! — окликнула меня тётя Нюра, трогая за плечо. (Я вытер пот, но серп не отдавал.) — Ты поднять сноп сможешь? — спросила она невесело. (Что за странный вопрос задавала тётя Нюра? Конечно, смогу. Я кивнул.) — Тогда таскай их на гумно. — Она показала на ровную площадку в конце поля. — Туда молотилку подгонят. Таскай пока потихоньку.
Поглядев, как звонко завжикал серп у тёти Ню — ры, как сноровисто и быстро она работает, я потащил к гумну свои снопы. Конечно же, свои — первые. Они только на вид казались лёгкими — после десятого рейса руки у меня просто отнимались.
Прикатили молотилку, странную железную машину с колёсами, на которой никуда не уедешь, бригадир завёл мотор и стал совать в разинутую железную пасть усатые снопы. Зерно, золотое, крупитчатое, сыпалось прямо на выровненную, подметённую чистым берёзовым веником землю. В телегу запрягли лошадь, и бригадир, видевший, как я таскал снопы, крикнул:
— Управишься с кобылой?
Я не знал, что сказать, ведь ни разу в жизни я не правил лошадью — вчера первый раз с Васькой прокатился, да и то, что это было за катание!
— Ну ладно, — закричал он. — Маруська подсобит. — Маруська вертелась возле гумна. — Будешь править, — велел ей бригадир, — а он снопы подбирать.
Мы с Маруськой уселись на телегу и поехали по полю. Возле снопов Маруська, стараясь басить, кричала лошади: "Тпр-ру!" — но та и сама останавливалась, понимая свою работу. Я соскакивал с подводы, осторожно клал снопы на телегу, чтобы не осыпались зёрна, и мы ехали дальше. К обеду я уже управлял лошадью не хуже Маруськи и ездил один, отправив её на помощь бабке: женщины уже возвращались с поля. Маруськина бабка, слезясь от дыма и глядя из — под ладони вдаль, стучала железной палкой о рельсину, подвешенную на проволоке к дереву.
Но женщины не торопились к чану. Они шли к молотилке.
Бригадир выключил мотор, и женщины молча стояли вокруг горы зерна.
— Ну вот, — сказал бригадир, — с хлебушком вас, бабы!
Женщины вдруг заговорили торопливо, словно увидели что — то диковинное, стали брать в ладони зёрна и сыпать их обратно золотыми ручейками.
— Обедать, бабы, обедать! — пискнула повелительно прибежавшая от чана Маруська, и женщины дружно рассмеялись.
Обедали говорливо, подшучивали над Маруськой, над бабкой — кашеваркой, над бригадиром, который оказался героем дня — намолотил первое зерно с поля. Бригадир жмурился, подносил ко рту деревянную ложку, аккуратно поддерживал её над куском чёрного и жёсткого клеверного хлеба и кивал головой.
— Плохо слышит, — шепнула мне тётя Нюра. — Руки — ноги целые, а раненый. Контузия у него.
Я понял, почему кричал бригадир у молотилки: он, наверное, и шум мотора — то плохо слышал.
Я вглядывался в бригадира, в замкнутое его, бронзовое от загара лицо, отыскивал бабку с карими глазами, которая жала хлеб, ползая на коленках, смотрел на Маруську, оттопырившую щёку, на тётю Нюру в старом, заношенном платке, я глядел в эти лица, весёлые в такую минуту, — весёлые оттого, что вон там, возле умолкшей молотилки, лежит, переливаясь на солнце, спелое зерно, — и улыбался тоже.
* * *
Ночью я спал в шалаше, рано утром оплёскивал лицо в розовой от ранней зари воде, работал потом весь день, подвозя снопы к молотилке, и три дня промчались, будто один. Па четвёртый день, как раз в обед, на дороге зацокали копыта, и кто — то крикнул громко:
— Здорово, бабоньки!
Я обернулся. На лошади сидел усатый человек в синей милицейской форме. Фуражка еле держалась у него на затылке. Одна нога у милиционера была в сапоге и упиралась в стремя, как положено, вместо другой торчала деревянная култышка, и второе стремя болталось без надобности.
Милиционер, ловко спрыгнув с лошади на здоровую ногу, подхромал к чану, снял фуражку.
— Хлеб — соль вам, женщины! — сказал он. — Хорошо хлебушка — то, гляжу, намолотили.
— Хорошо, хорошо, — ответила тётя Нюра, — с этого поля хорошо, а в колхозе, может, и плохо.
— Да-а! — протянул милиционер, принимая от Маруськиной бабки дюралевую ложку. — Ещё жать да жать. И во второй бригаде, и в третьей… Терентий давеча в район звонил, ругался. Обещают комбайн пригнать от соседей. Да и этот танкисты хотят наладить.
— Ладно бы машину — то, — сказала тётя Нюра, вглядываясь в жёлтое море хлеба. — Сколько тут руками — то проваландаемся!
Женщины заговорили, спрашивали у милиционера про деревенские новости — всё же три дня в деревне не были.
— Какие новости? — неожиданно нахмурился милиционер. — Никаких новостей. Памятник вот сколачивают.
Женщины стали подниматься, старуха с карими глазами перекрестилась, отвернувшись куда — то в сторону, словно стесняясь.
Поднялся и милиционер.
— Нюр! — сказал он, натягивая фуражку. — Отойдём — ка, дело есть. И ты, паренёк, — позвал он меня.
Я нехотя подошёл к милиционеру.
— Вот что, Нюр, — сказал он, неловко переминаясь с ноги на культяшку. — Васька пропал.
— Как — пропал? — ахнула тётя Нюра.
— Да уж пропал. Три дня нету. Как ты ушла с этим мальцом, так и Васька на работу не вышел. Обыскались. Макарыч в розыск заявил. Говорит, горох воровал твой Васька вот с этим пацаном да ещё за три дня прогула — по трудовому законодательству, знаешь, что? — Милиционер скрестил пальцы в решётку. — Я думал, тут он.
— Ой! — охнула тётя Нюра. — Убёг, значит, убёг! — Она сняла с шеи платок, заплакала и опустилась на землю… Вскинув к милиционеру зарёванное лицо, она спросила: — А поймают, Игнат, посадить могут?
— Могут, — ответил Игнат, будто извиняясь, — по нонешним строгостям могут. Да ещё горох чёртов!
Тётя Нюра словно только что услышала про это.
— Какой ещё горох? — крикнула она и вскочила. — Какой горох?
Милиционер стоял, опустив голову, и ковырял култышкой мягкую землю.
— Николка! — крикнула тётя Нюра. — Какой горох?
К нам стали подходить женщины. Они останавливались поодаль и слушали.
Я вздохнул поглубже. Вот какой этот главбух проклятый, оказывается! Не поленился, значит, слазить в огород к Ваське, пока дома никого нет, посмотрел, растёт ли горох.
— Это я, — произнёс я дрогнувшим голосом.
Милиционер удивлённо оглядел меня по частям: сперва штаны, потом живот, потом голову с кепкой блинчиком.
— Васька тут ни при чём. Это я горох рвал, — повторил я.
— А много? — осторожно спросил милиционер, будто я опасный преступник и убил кучу людей. Мол, много ли трупов.
— Два кармана! — ответил я. — А Васька меня отговаривал!
Милиционер плюнул.
— Чёртов Макарыч! — сказал он. — Я думал, два мешка.
— И чего к пареньку пристали! — проговорила старуха с весёлыми глазами. Коленки она уже снова обмотала мешковиной и походила на пугало — руки бы ей только раскинуть да стать неподвижно. — Он ведь работает вон как! Снопы возит! Жал намедни! Так чо, ему гороху карман набрать нельзя?
Женщины, окружившие нас, загудели, закивали головами, но одна вздохнула:
— Охо — хо, с этим Макарычем лучше не связываться, под какой хошь закон нодведёт.
— Ребёнка — то? — удивилась Маруськина бабка. — Да что мы, безголосые, али как? — В руке она держала поварёшку и трясла ею, будто хотела стукнуть Макарыча по лбу.
Подошёл бригадир, сытый и весёлый. Ничего он не слышал, про что тут толковали.
— А ну, граждане бабы, поехали дальше, пока вёдро. Не дай бог, ещё дождь зарядит.
Женщины стали расходиться.
— Бабы! — крикнула весёлая старуха с обмотанными ногами. — А Нюрке — то идти надо. Надо её отпустить.
— Пускай идёт, раз такое дело, — добавил кто — то. — Но из — за гороху не мог Васька убечь. Не такой парень.
Тётя Нюра стояла, кусая кончик платка, и глядела себе под ноги.
— Нет, он не из — за гороху, бабы, — сказала она. — Он из — за другого.
Но и тут я ничего не понял.
Кто — то тронул меня за кепку. Я поднял голову. Милиционер уже сидел на лошади.
— Садись! — сказал он мне. Я просунул ногу в свободное стремя и обречённо сел сзади него. — Держись за меня! — велел одноногий усач, и я его обнял.
Женщины приветливо махали нам.
— Не бойся, паренёк! — крикнула старуха, обвязанная мешковиной.
Махнула рукой голоногая Маруська. Мелькнул чан, молотилка и спешащий к ней бригадир.
Сверху, с лошади, было далеко всё видно.
* * *
— Вот что, паренёк, как тя, — сказал милиционер.
— Колька, — ответил я, крепясь.
— Ежели пытать будут про горох, говори, что ничего не знаешь. Не брали, мол, никакого гороха. Вас ведь только один Макарыч видел?
Я кивнул.
Тётя Нюра шагала рядом с конём и глядела на меня заплаканными глазами.
"Кругом какая — то чушь! — думал я. — Горох этот проклятый, Васька куда — то сбежал…"
— Тёть Нюр! — сказал я. — Да вы не волнуйтесь. — Она взглянула на меня, как на спасителя. Как на святого, который тут на лошадиной спине трясётся. — Васька сбежать не мог, что вы! Он, наверное, на Белой Гриве пашет!
Я вспомнил двух измождённых тёток и старую лошадь, вспомнил, как глядел на них Васька, когда мы уходили и всё время оборачивались с горы.
— На Белой Гриве? — удивился милиционер. — А ты откуда знаешь? Говорил он тебе, что ли?
— Да нет! Просто мы с ним туда ездили, там две женщины пашут, а поле — ого — го!
Тётя Нюра всхлипнула: то ли на радостях, что Васька ещё, может, не сбежал, то ли от горя — пропал всё — таки.
— Не реви, не реви, — успокоил её Игнат, — сейчас доставлю вас и туда сгоняю.
— Будь что будет! — проговорила вдруг тётя Нюра, вытирая глаза. — Будь что будет, только бы не убёг! В жисть тогда перед Иваном не отвечу.
Я знал, что Иваном звали Васькиного отца, и удивился — он же погиб.
Милиционер взглянул на неё сверху, промолчал, цокнул на коня.
— А ты это всерьёз, Анна? — спросил, помолчав, он, и я опять удивился. Оказывается, настоящее — то имя у тёти Нюры — Анна. Как у королевы какой.
— Ох, Игнат, — ответила тётя Нюра, — что тебе и сказать, не знаю. Боюсь, не поймёшь ты меня, осудишь, ведь ты воевал, даже ногу на войне потерял, значит, понять не захочешь.
Я слушал этот разговор вполуха, не очень вдумываясь в него.
— Отчего? — ответил Игнат негромко. — Или думаешь, я там, на фронте, с ногой вместе и душу потерял?
— Значит, понимаешь? — Тётя Нюра взглянула на него удивлённо, обрадованно.
— Я‑то пойму, но, конечно, поймут не все, — ответил Игнат, — даже ваш брат бабы.
— Да уж я назад повернула, — ответила тётя Нюра, опуская голову. — У меня ведь Васька уже жених.
— Жених — то жених, да и ты — то ведь не старуха. Старух у нас и так полно, зачем тебе — то к ним приставать. Разве мало у нас и без того горюшка? Мёртвые не встанут, а живым надо жить, а не в могилу глядеть, не маяться, себя не гнести. — Милиционер вздохнул; мы проехали немного молча. — Будь бы я на Ивановом месте, Анюта, не вернись бы я с фронту, я бы тебя понял и, будь воля, так бы и сделать велел.
— Игнат, Игнат! — воскликнула тётя Нюра, разглядывая загорелое и обветренное лицо милиционера. — Вон ты какой! Я и не знала! — Она взялась за седло и шла близко к лошади, не отрывая взгляда от милиционера. — Ну, спасибо тебе, что не укорил! Да уж теперь всё решено, и главный прокурор тут не я, не ты, не бабы, а сын мой, Васька.
Что — то мудрёно они выражались. То Ваську ловят, то Васька — прокурор.
Мы въехали в деревню, и милиционер остановился возле Васькиной избы.
Я сидел и слезать не собирался, потому что понимал: моя дорога дальше. В колхозную контору или того хуже.
Тётя Нюра повернула кольцо в двери.
— Ну, а ты чего? — обернулся ко мне милиционер.
— А чего? — удивился я.
Он догадался, что я жду дальней дороги, и расхохотался.
— Слезай давай! — крикнул он весело. — Приехали! — и добавил, обращаясь к тёте Нюре: — Ну, так я на Белую Гриву.
— Обожди! — ответила тётя Нюра. — Жарко! Зайди, кваску попей!
Я сполз с лошадиной спины, спешился и милиционер, мы вошли гуськом в избу. Наклоняя голову, чтобы не удариться, как в первый раз, о притолоку, я ткнулся прямо в тёти Нюрину спину — она переступила порог и остановилась. Я высунулся из — за неё: за столом как ни в чём не бывало сидел Васька и жевал хлеб, запивая его молоком.
Тётя Нюра шагнула в избу, опустилась обессиленно на лавку у печи. Вслед за ней вошёл милиционер.
— Во! — сказал он, радуясь. — Хорошо, что зашёл! А то сгонял бы впустую.
— Где был? — устало выдохнула тётя Нюра. Она не отрываясь глядела на Ваську, будто уж не чаяла и увидеть.
— "Где, где"! — буркнул Васька. — На Белой Гриве пахал.
— Вот видите! — воскликнул я. — А где ж ему ещё быть?
— Где быть? — тихо переспросила тётя Нюра. — Где быть? — И поглядела на кнут, лежавший на лавке. Может, тот самый, которым Васька парней разгонял. Кнут был ремённый, и ремешок аккуратно закатан вокруг кнутовища. — Где быть? — опять повторила тётя Нюра и вдруг схватила кнут в руки, стала торопливо его разматывать. — А вот где быть! — крикнула она яростно. — Я сейчас укажу, где быть!
Она рванулась к Ваське, но милиционер, торопливо стукнув култышкой, подскочил к ней и схватил за локоть. Ремённый кнут звонко хлестнул по столу, возле самого Васькиного лица, опрокинул железную кружку. Молоко полилось белым ручьём, закапало на пол.
Стало тихо. Васька не вздрогнул, не вскочил. Он сидел так, как сидел, только положил на стол недоеденный кусок.
— Ведь под суд отдадут! — сказала тётя Нюра и заплакала.
Васька долго глядел на мать — пристально, не мигая, потом сказал:
— Я работал, ясно? Я пахал!
Дверь грохнула, и в избу лисьей походкой вошёл Макарыч.
— Ну, — проговорил он, — нашли беглого? Ох, работнички, разве с вами хозяйство построишь?
Желваки на Васькином лице заходили шарами. Он выложил на столешницу сжатые кулаки, но смолчал. Милиционер неожиданно круто повернулся и вышел, не глядя на Макарыча.
— Ты куда, Игнат? — крикнул тот. вдогонку, но милиционер не отозвался. — Протокол составлять надо!
Я сжался. "Протокол! — передразнил я Макарыча. — Выражаться сперва научись, потом составлять будешь!"
— И где же ты был? — спросил Макарыч, подсаживаясь к столу и с интересом вглядываясь в Ваську. — В райцентр бегал или в городе по кинам лазил?
"Издевается ещё, гад!" — подумал я и удивился Васькиному терпению.
— На Белой Гриве пахал, — хрипло ответил Васька.
— А кто тебя туда посылал? — любезно поинтересовался Макарыч, сдвигая очёчки на самый край своего носика.
Васька промолчал.
— Ох, Василей, Василей, — со вздохом, как бы жалеючи, произнёс Макарыч, — сколь я тебя пре дупреждал: смотри, достукаешься, смотри! По — хорошему говорил, по — отцовскому.
— Заткнись! — вдруг гаркнул Васька и вскочил. — "По — отцовскому"!
У Макарыча взмокла лысина.
— Ну, погоди, гадёныш, — прошипел он, — под суд отдам!
— Под суд? — прогромыхало вдруг от двери.
Я обернулся. В избу вошёл Терентий Иванович, председатель. За ним стучал деревяшкой Игнат.
— Под суд, говоришь? — спросил снова председатель. Он подошёл к столу и уселся на лавку рядом с Макарычем. Игнат остался у дверей. — А за что под суд?
— А за то, Терентий Иванович, — шустро повернулся к нему главбух, — что прогулявший три дня отдаётся под суд, вам понятно?
— С чего это ты взял, Макарыч, что он прогулял? Он на Белой Гриве двум бабам пахать помогал. И пахать там благодаря ему мы на день раньше кончили, понял? Парню спасибо надобно сказать. Малец ещё, а работать лезет. Потому что понимает, как трудно.
— Понима — ает! — протянул, издеваясь, главбух. — А горох колхозный воровать — тоже понимает?
"Ну гад, ну гад!" — прошептал я и кинулся в атаку.
— Это не он горох рвал, — шагнул я вперёд, — а я!
Терентий Иваныч обернулся ко мне, удивлённо разглядывая, что тут за личность такая ещё появилась.
— Он меня выручить хочет, — сказал Васька, бледнея и кивая на меня. — Он думает, его не посадят, раз он маленький, вот и выручает. Но вы его не слушайте, это я горох ломал. Два кармана набрал.
— А кто вам сказал, — медленно спросил Терентий Иванович, — что за два кармана гороха вас посадят? — Мы молчали. Председатель хмуро поглядел на Макарыча: — Опять ты, главный бухгалтер?
— Я! — ответил Макарыч, промокая лысину платком. — Я как сознательный колхозник не перестану стоять на защите социалистической собственности!
— Знаешь что, Макарыч, — задумчиво произнёс председатель, — катись — ка ты отсюдова!
Макарыч вскочил из — за стола, открыл рот, собираясь сказать что — то, но председатель перебил его.
— Знаю, знаю, — прикрикнул он, — чего ты сказать собираешься. Мол, жаловаться стану! Жалуйся! Мы пуганые. Между прочим, жаловаться будешь — не забудь сказать, что, когда даже мальчишки работали, ты в конторе сидел!
Дверь грохнула, Макарыч исчез. В избе стало тихо.
Васька сидел, опустив голову, на столе всё ещё белела лужица молока и лежала опрокинутая кружка.
— Ничего, Васька, — сказал председатель, подходя к нему и садясь рядом. — Вот купим осенью трактор, снова пошлю тебя учиться. Будешь главным пахарем у нас! Правильно ты порешши счётами стучать не для мужика занятие! А то вырастешь, облысеешь и станешь таким же Макарычем.
Я представил себе Ваську лысым, с очёчками на носу, как у главбуха, и расхохотался.
И тётя Нюра, и милиционер, и Терентий Иванович, и Васька вдруг тоже расхохотались.
День клонился к закату. Солнце запуталось в слоёных облаках над лесом, угасило свой жар, потонуло ярким малиновым шаром в синем мареве. Из углов, из лесных овражков выплыли на деревенскую улицу летние сумерки. Отстрекотали, угомонились кузнечики, зато надсадно звенели комары, выцеливая места помягче. Васька, перекинув топор через плечо, а я с лопатой наперевес шли к околице.
— Коли можете, приходите, — сказал, уходя, председатель, — там и бабка ваша копошится, смените её.
На взгорье за деревней мельтешил народ. Слышался сдержанный говор, редкие, приглушённые удары лопат о камень, стук двух или трёх топоров и гундосый голос пилы.
Чем ближе мы подходили, тем ясней различал я, что взгорье на околице как бы выросло, поднялось повыше. И точно.
Люди насыпали холм, невысокий, метра в два, и плотно укрыли его дёрном. Горка подросла, и на ней, на этой высотке, белела дощечками треугольная пирамидка, поставленная на манер деревянного речного бакена: три основы, врытые в землю и обитые досками.
Мы опоздали, памятник был почти готов. Терентий Иванович пилил с Васькиной бабкой последние доски, а дед, так и не снявший медали, гладко отёсывал эти досочки и аккуратно набивал их к основам. Голова у деда тряслась, но рубанок ходил в руках точно, снимая тонкую стружку.
— Дед Трифон, — крикнул председатель старику, увидев нас, — принимай подмогу, передохни.
— А ну, поступай в мою бригаду, — весело за — шумел дед, но стругать дощечки нам не дал, а велел их аккуратно прибивать к стоякам — по два гвоздя с каждой стороны, да отпиливать концы.
Васька заворчал, что приходится делать такую мелочь, её и одному — то на полминуты, и погнал меня к Терентию Ивановичу.
— Не видишь? — строго, но тихо спросил Васька. — Однорукий!
Я робко подошёл к Терентию Ивановичу и затоптался за спиной, не зная, как начать. Он обернулся.
— А-а, — протянул председатель, — это ты? Чего деду не помогаешь?
— Там Васька, — ответил я, переминаясь. — Давайте я вместо вас.
Терентий Иванович вставил внутрь пирамиды жердину, и она торчала над ней.
— Я буду держать, — сказал он, — а ты заколачивай обухом в землю.
Я стал легонько постукивать по жердине. Она хорошо шла в мягкую землю, но Васька обогнал меня — уже приколотил все доски.
— Ну — ка, мигом домой! — велел ему, не оборачиваясь, председатель. — Найдёшь фанерку, вычертишь по линейке звезду — и пулей сюда! Понял?
— Понял! — растворяясь в темноте, крикнул Васька.
— Стоп! — остановил его председатель. — На обратном пути заскочишь ко мне в избу. Возьмёшь на подоконнике банку с краской. И кисточку. Валяй.
Васька испарился, а председатель снова отдавал команды.
— Бабушка, — крикнул он Васькиной бабке, — и все, кто свободные! Несите сучья и запаляйте костёр!
Внизу, у подножия холма, затрещал костёр. Пламя его высоко вздымалось беспокойными, манящими языками. "Совсем как в лагере", — подумал я, вспоминая пионерские костры. Там мы сидели кругом, распевали песни, водили хоровод, смеялись, испуганно оборачивались в темноту, боясь отойти в сторону, а потом глядели, как вожатые тушат рассыпающиеся красные ветки, засыпают их землёй, как снова нас обступает тёмный лес, но уже не страшный, а обыкновенный, потому что сейчас зажгут фонарики впереди и позади колонны, и мы пошагаем, спотыкаясь и оступаясь, но в полной безопасности, потому что и спереди, и сзади нас стерегут вожатые.
Нет, тут было всё другое.
Костёр разгорался, и я видел, как со стороны деревни к нему тянулся народ. Огонь выхватывал усталые лица женщин, низко надвинутые на лоб платки. Тени делали даже тех, кто помоложе, старухами, и мне казалось, перед памятником собралась толпа дряхлых старух.
Я увидел в толпе Маруську и шагнул к ней.
— Ты как тут? — спросил я.
— Так мы все приехали, — сказала Маруська, — ведь дядя Игнат сказал, что, должно, сегодня закончат…
Она опять захлебнулась словами, робко, боязливо глядя на меня, а я увидел в толпе старух Маруськину бабку, и ту, с весёлыми карими глазами, которая жала хлеб на коленках, и контуженного бригадира. И тётю Нюру с Васькиной бабкой, и ещё тех, с Белой Гривы, — худую и Матвеевну, и ещё, ещё разных женщин, которых я видел впервые, хотя, может, тогда, на собрании, они были тоже — конечно, были, не могли не быть.
Дед Трифон притоптал дёрн у пирамиды, при дирчиво оглядел памятник. Через толпу пробился Васька. Он загнанно дышал и держал в руке фанерную светлую звёздочку.
Терентий Иванович взял её, покачал на ладони, будто взвешивая тяжесть.
— Ну, прибей, — сказал он Ваське, и тот, подхватив топор, точно, как снайпер, забил гвоздь в центр звёздочки.
Белым пятнышком мерцала она над пирамидой. Сзади, над ней, чернело ночное небо, и там тоже молчали, переливались звёзды, тысячи звёзд. Тысячи тысяч. Но эта, фанерная, была ближе к нам. Она как будто шевелилась в неровном свете костра.
— Ну вот, — сказал Терентий Иванович, — и поставили мы памятник нашим солдатам. — Он умолк и вдруг спросил, спохватившись: — Васька, краску принёс?
— Принёс, — пробасил Василий.
— Пиши, — сказал председатель. — На каждой планке, их тут ровно шестьдесят четыре.
Васька подошёл к пирамиде.
— Иван Тихонович Васильев, — негромко и совсем не торжественно сказал председатель. — Одна тысяча девятьсот первый — одна тысяча девятьсот сорок первый.
Стало тихо. Только трещал костёр, разбрызгивая огненные искры, словно это был артиллерийский салют. Из двадцати одного орудия. Двадцатью залпами.
— Семён Николаевич Васильев, — продиктовал председатель. — Одна тысяча девятьсот двадцать третий — одна тысяча девятьсот сорок второй.
Васька аккуратно выводил красной краской ровные, стройные буквы и такие же ровные цифры.
‘"Счетовод, счетовод, — подумал я, — какие расчёты — то тебе делать выпало!"
— Семён Семёнович Васильев, — сказал председатель. — Одна тысяча восемьсот девяносто второй — одна тысяча девятьсот сорок первый. Борис Иванович Васильев. Одна тысяча восемьсот девяносто девятый — одна тысяча девятьсот сорок четвёртый. Семён Борисович Васильев. Одна тысяча девятьсот двадцать пятый — одна тысяча девятьсот сорок второй.
"Все Васильевы! — поразился я. — Одна семья, что ли?" Хотел спросить кого — нибудь, но не решился.
— Иван Петрович Васильев, — сказал председатель сдавленным, напряжённым голосом. — Одна тысяча девятьсот шестой — одна тысяча девятьсот сорок первый.
Я посмотрел на Ваську. Он вдруг беспомощно обернулся. Никогда я не видел таким Ваську. Губы у него тряслись и банка с краской тоже.
— Терентий Иванович, — сказал он глухим голосом, — я… — Он мотнул головой, словно проглотил комок в горле. — Пусть Николка! У него хороший почерк!
Председатель посмотрел в толпу.
— Коля! — сказал он. — Иди сюда!
Я не понял, что это зовут меня, но толпа передо мной расступилась. Кто — то подтолкнул меня сзади, и я, как на трибуну, поднялся на горку.
— Пиши! — сказал мне Васька, и я взял у него банку с кисточкой.
— Иван Петрович Васильев, — повторил председатель. — Одна тысяча девятьсот шестой — одна тысяча девятьсот сорок первый.
Я нагнулся к пирамидке и аккуратно вывел буквы. Я волновался, и рука у меня задрожала.
Я обернулся. На меня молчаливо смотрели глаза женщин.
Глаза ждали. Глаза требовали, чтобы я писал.
Я повернулся к памятнику и поставил точку.
— Иван Дмитриевич Васильев…
Вдруг кто — то дико закричал. Я опять обернулся, оплеснув штанину краской. На земле, у подножия, лежала старуха с карими глазами, та, что жала на коленях. Она прижималась к дёрну, обнимала его и плакала, плакала так отчаянно, что мне стало страшно. Я отыскал взглядом Ваську. Он сидел на холме, возле пыльных сапог председателя.
Терентий Иванович помолчал, потом сказал громко, повелительно, перекрывая плач старухи:
— Илья Миронович Васильев. Одна тысяча девятьсот двадцатый — одна тысяча девятьсот сорок четвёртый. Мирон Семёнович Васильев…
Председатель говорил, и теперь всякий раз, как он называл имя, в толпе слышался крик. Я оборачивался. Какая — то женщина целовала землю на холме. Какая — то плакала, став на колени.
Я отыскал тётю Нюру.
Она не плакала. Она глядела сухими, воспалёнными глазами на пирамиду и, казалось, ничего не видела.
Костёр раскидывал в красной траве чёрные тени и громко хлопал прогоревшими сучьями.
В первый раз в жизни я видел такое горе.
Горе не одного человека, не двоих, не одной семьи, а горе целой деревни.
* * *
В ту ночь я долго не мог уснуть. Перед глазами плясал торопливый язык костра, бесконечно шуршало сено.
Проснулся я неожиданно. Меня будто толкнули в бок. На сердце было тревожно, словно кто — то позвал меня.
Я огляделся. Рядом похрапывал Васька.
— Кто тут? — испуганно прошептал я.
Никто не отозвался. Я вздохнул: значит, показалось.
Но легче мне не стало, наоборот.
Я вспомнил маму и бабушку. Почти неделю я прожил в Васькиной деревне и ни разу почти не подумал о доме. А теперь — вдруг, сразу — мне нестерпимо захотелось увидеть маму, бабушку… я вздрогнул: и отца.
Что — то горячее подкатило к горлу. Я вспомнил вчерашний вечер, костёр и памятник и подумал об отце снова. Радостное предчувствие окатило меня с головы до пят, и я подумал, что я вот лежу тут на сеновале, а дома вернулся отец…
Я толкнул Ваську…
Он молча вскочил, как часовой, уснувший на посту, потом уже спросил:
— Ты что?
— Васька, — сказал я, волнуясь, — знаешь, Васька, я сейчас домой пойду. Наверное, отец вернулся.
— С чего ты взял? — удивился он.
— Просто так, — ответил я, торопливо стряхивая с себя сено, — просто так. Он, наверное, вернулся, надо идти.
Мы спустились в ограду. Тётя Нюра наливала в чугунок воду.
— Проснулись, голубчики? — удивилась она. — Спали бы ещё.
— Нет, — ответил я, всё больше волнуясь. — Нет, тётя Нюра, я должен идти домой, отец приехал.
Она строго посмотрела на меня, помолчала, потом спросила:
— Чуешь, приехал?
— Чую, — ответил я, — чую, тётя Нюра.
Она засуетилась, пошла в дом, положила в рюкзачок каравай хлеба.
— Раз чуешь, — сказала она, — иди, Коля, иди! Сегодня как раз машина с молоком в город идёт, подвезут, я упрежу.
На дорогу я выпил молока, мы присели на минуту.
— Ну, мы пойдём, — сказал я. Мне не терпелось домой.
— С богом! — вздохнула тётя Нюра, а когда мы с Васькой вышли за ворота, снова повторила: — С богом!
Молча, в звенящей тишине, мы прошли деревню и остановились у околицы.
Грубый деревянный памятник высился на невысоком холме, и по нему яркие, как кровь, краснели буквы и цифры, которые мы с Васькой выводили вечером.
Только звёздочка была белая, фанерная.
— Покрашу сегодня, — сказал Васька и вздохнул.
Мы поднялись на горку, постояли минуту. Сверху было видно, как над полем белыми пластами стлался туман. Он стоял неподвижно над зелёной травой, над коричневой пашней. Снопы, словно пловцы в реке, поднимали над ним свои головы. В кустах бойко перекликались птицы.
— Васька, — спросил я, — а почему только Васильевы? Все родственники?
— Есть и родственники, — сказал он, — очень даже много. Но у нас в деревне все Васильевы, потому что деревня Васильевка.
Он оглядел пирамидку тяжёлым взглядом.
— Значит, уходишь? — спросил Васька негромко, словно всё ещё не мог поверить в моё решение. Я промолчал, думая о своём. — Тогда я тебе расскажу… — прибавил Васька. — Хотел потом рассказать, но раз уходишь…
Птицы распевали всё громче, всё отчаянней, будто пробовали, кто кого перекричит, перечири — кает, пересвистит.
— Понимаешь, — сказал Васька, — сегодня Семён Андреевич заехать должен. Обещал тогда.
— Ну? — спросил я, не понимая.
— Ну вот, — Васька опустил голову, — мамка ведь в район к нему ездила, всё про отца спрашивала. А потом мне вдруг говорит… — Васька вздохнул, подопнул шишку, лежавшую на дороге. — А потом говорит: как считаешь, Василий, если я его к нам привезу? Если я замуж выйду?
Я остановился. Я глядел во все глаза на Ваську. Нет, он не шутил, таким не шутят, — правду говорил Васька, по голосу даже понять можно: будто всё время он что — то глотает, будто что — то говорить ему мешает.
Мы пошли дальше. Дорога спустилась в овражек, и я узнал его, сиреневое море иван — чая. Только теперь кузнечики не стрекотали. Сыро и рано было для кузнечиков.
— Ну? — подтолкнул я замолчавшего Ваську.
— Ну, я спросил тебя, что бы ты делать стал, если бы отца у тебя убили, а мать… мать снова замуж пошла. — Васька пнул новую шишку. — Ты ответил, что сбёг бы, ну и я мамке так же сказал.
— Она тоже меня про это спрашивала, — сказал я и вдруг вспомнил всё подробно, до мелочей: я жну, стоя на одном колене, а тётя Нюра из — за спины спрашивает меня тихим, мягким голосом. "Дурак! — обругал я себя. — И Васька спрашивал, и тётя Нюра, а я и внимания не обратил…"
— И убежишь? — спросил я Ваську.
Васька помолчал, потом вздохнул.
— Отца всё одно не воротишь, а куда я побегу?.. — Он подумал и прибавил: — Вот и сказал я вчера мамке: Семён Андреевич — то приедет, так пусть остаётся.
Васька говорил теперь уверенней, спокойней и шагал быстрее, твёрже.
"Вот как всё обернулось, — думал я, — будет теперь у Васьки отчим".
Васька вдруг остановился, встал мне поперёк дороги.
— Только ты не думай, — сказал он, — что я всё позабыл. Нет! Сто первый километр под Москвой я всё равно найду! Понял? И коня на крышу поставлю!
Мы пошли дальше. Дорога вела вверх, и опять внизу, за спиной, расстилалось поле иван — чая — таинственное, молчаливое, укрытое покрывалом тумана.
На другой стороне овражка громко и неожиданно зарычал мотор, и появилась маленькая машина, дымящая трубами по обе стороны от кабины.
— Ну вот, — сказал Васька, — и газогенераторка с молоком.
Машина, подвывая, приближалась к нам по длинному подъёму.
— Рожу я тебе, мамка говорит, брательника, — улыбнулся неожиданно Васька. — Правильно! Пусть рожает! Вырастет, вместе пахать с ним станем, на лошади кататься я его научу. — Он взял мою руку, крепко сжал её.
Машина тормознула, скрипнув и содрогнувшись всем телом, и из кабины высунулась тётка.
— Садись со мной, паренёк! — крикнула она, и мне показалось, что вчера, у памятника, я слышал этот голос.
Я перекинул ногу через борт, машина загрохотала, двинулась, и Васька остался на пригорке, подняв над головой руку.
Я стоял в кузове, держась за тяжёлый холодный бидон, и глядел, как медленно уменьшается его фигурка.
Ветер трепал мои волосы.
Ветер дул мне в затылок.
А я смотрел на Ваську, смотрел, смотрел, смотрел…
Когда он скрылся, я прикрыл глаза и представил, как увижу отца, как брошусь к нему навстречу, как прижмусь к нему крепко и стисну зубы, чтобы не заплакать…


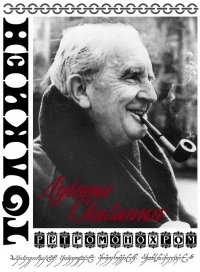
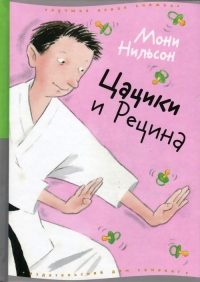


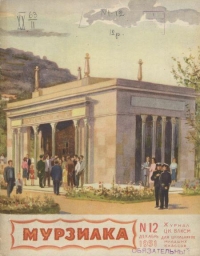





Комментарии к книге «Музыка», Альберт Анатольевич Лиханов
Всего 0 комментариев