Ансаровы огни
КУДЕСНИЦА СЛОВА
«Ансаровы огни» — последняя книга сказов Серафимы Константиновны Власовой. В сборник вошли кроме трех уже известных и полюбившихся читателю сказов новые, написанные в самые последние дни ее жизни.
Слово — великий дар художника. Оно — как граненный самоцвет в его руках. Сколько граней — столько лучистых сверканий, переливов красок. Найти их дано умельцу-гранильщику, чувствующему душу самоцвета, как живую. Таким умельцем-гранильщиком и была Серафима Константиновна.
Писательница знала волшебство слова, она училась ему у народа, внимательно вслушиваясь в разговорную, неторопливую речь уральцев.
Тот, кто читает книги Серафимы Власовой, прежде всего воспринимает красоту ее слова, мелодию фразы, а потом в кружевном словесном плетении видит чудесный рисунок.
Читаешь «Ансаровы огни» и будто входишь в мир кудесницы слова, дышишь ароматами лесов и пахучих трав уральских гор и степей, слышишь журчание родников, прибой озерной волны.
Кто предугадал животворные истоки таланта Серафимы Власовой, взявшейся за перо после долгих лет учительского труда и партийной работы, когда человек выходит уже на заслуженный отдых?
Это тоже врожденный талант — быть провидцем. И мне хочется поведать, как Серафима Константиновна стала писательницей, рассказать, кто и когда угадал в ней талант в трудную пору ее жизни, помог найти истинное призвание.
…Серафима Константиновна сидела на березовом пеньке у озера Смолино. Лица не было видно. Лишь мелко вздрагивающие плечи выдавали ее душевное состояние.
Фадеев проходил мимо. Он понял, как горько на душе у этой, одиноко сидящей и плачущей женщины.
— Может быть, я могу чем-нибудь помочь вам? — тихо проговорил он, останавливаясь сзади нее.
— Едва ли! — расслышал он, но все же присел на соседний пенек. Хотелось заглянуть в лицо, прочитать на нем то, что было на душе незнакомой женщины. Как лучше сделать, чтобы не оттолкнуть, а расположить ее к себе?
Они сидели молча, смотрели на дальний берег, едва различимый в синеватой мгле наступающего вечера. Вокруг было тихо. Пахло сыростью камышей, солоноватой водой и чуть уловимым дымком каменного угля, доносимого из-за озера темноватым облачком, нависшим над городом.
Изредка, нарушая тишину, всплескивала рыбешка, и разбегающиеся круги не сразу замирали на гладкой и отсвечивающей поверхности воды.
— Наверное, глубокое? — спросил Фадеев.
— Кто знает? — все еще отрешенно, голосом, полным горечи, ответила Серафима Константиновна.
И тогда Фадеев сказал:
— Когда я подъезжаю к Уралу, будто попадаю в мир легенд. Все тут овеяно преданиями. Бывал я на Кавказе. Там встречал память о Лермонтове, Толстом, Пушкине, а здесь все окутано легендами…
Он уловил, как встрепенулась женщина.
— Что правда — то правда, — отозвалась она, — сама уральская земля родит предания и легенды… Испокон веков тут жили талантливые люди — умельцы на всякие дела и на красное словцо…
Фадеев согласно кивнул. Он не сказал, а как бы порывистым взмахом руки дал понять женщине, что он слушает ее внимательно. И она, не глядя в лицо собеседника и не зная, кто сидит возле нее, не думая об этом, закурила и неторопливо продолжала:
— Иной раз кажется, что вот-вот вынырнет из озера оборотень в обличье то полоза, то чародея-волшебника и преобразит всю жизнь мою. Свершится чудо, аль причуда, и все изменится: исчезнет зло, и останется добро…
А помолчав, Серафима Константиновна начала тихо рассказывать легенду, связанную с Ильмен-озером, и, обрадованная, что ее слушают и слышат, заодно пересказала якобы быль о разрушенном замке близ Сатки. Лицо ее просветлело, стало вдохновенным.
Серафима Константиновна уже сидела с поднятой головой. Ее образная речь сверкала своим неповторимым уральским колоритом.
И Фадеев радовался, что сумел отодвинуть горе у человека. Он не перебивал ее и думал о ней уже как о кудеснице слова, в устах которой так поэтично звучали легенды.
А когда она замолчала, Фадеев, восхищенный ее рассказами, спросил:
— И много знаете этих легенд?
— Множество.
— Тогда перепишите их на бумагу, у вас получится.
Слова эти Фадеев сказал с такой убежденностью, что Серафима Константиновна поразилась. Почувствовав душевное расположение к незнакомцу, она обернулась в его сторону и впервые взглянула на него открытыми, доверчивыми глазами.
— Товарищ Фадеев! — тихо проговорила она упавшим и дрогнувшим голосом, поднимаясь со своего пенечка. — Простите меня, старую. Как же я сразу-то не посмотрела, кому все это я рассказываю.
Фадеев приветливо улыбнулся.
Совсем оробела и не знала Серафима Константиновна, о чем же дальше говорить ей. Растроганная, прослезилась, не стыдясь слез и не скрывая их от Фадеева.
— Неужели стоит писать? — воскликнула Серафима Константиновна.
— Непременно стоит! — подтвердил Фадеев. — И тогда все ваши беды-невзгоды уйдут…
Фадеев смотрел в сторону мигающих огней, протянувшихся полоской на противоположном берегу. Там в электрическом сиянии жили большие заводы Челябинска. От тихих дач их отделяла зеркальная гладь озера. Он заговорил о творческом ремесле, ответственности писателя перед народом.
— Пишите правду, не обманывайте и не обедняйте историю и современность. В этом величие и сила нашей литературы…
Кто-то, подходя по дорожке к берегу, позвал Фадеева. Он протянул руку Серафиме Константиновне и, поблагодарив ее за хороший вечер, неторопливо направился к своей даче. Фигура его скрылась в тени молчаливых берез.
…Всю ночь не спала Серафима Константиновна. Склонившись над столом, она писала свой первый сказ. Это был сказ об Афоне Кичигине, который она рассказывала Фадееву.
Позднее он был напечатан в альманахе «Уральские огоньки», и тысячи читателей узнали его автора — Серафиму Константиновну Власову. Только никто не знал, чье задушевное слово окрылило ее.
С памятной встречи с А. Фадеевым писательница, действительно, обрела крылья и успела оставить свой неповторимый след в литературе. С каждой новой книгой крепчал ее голос, и, как признавалась Серафима Константиновна, возле нее незримо всегда стоял Александр Фадеев, будто водил ее рукой.
Мне много раз приходилось ездить с писательницей по старинным уральским городам и селам, наблюдать, с каким пристальным вниманием слушала она творение народных сказителей, как дотошно изучала быт и нравы людей, характер того, с кем встречалась и говорила она. Ее умению видеть и открывать новое я всегда поражался, ведь это дано только настоящему художнику.
Я часто присутствовал при рождении ее сказов. И меня удивляло, как иногда одна-единственная деталь, приковавшая внимание писательницы, как бы помогала ей увидеть всю картину.
Так было в Канашах, когда мы посетили с ней мастерскую ковровщиц. Серафима Константиновна долго стояла перед ткацкими станками, восторгаясь разноцветьем нитей, легкими движениями рук ковровщиц, полетом челнока.
Власова с радостью сказала:
— Будет сказ!
И читатель знает этот сказ, названный «Золотая шерстинка».
Однажды в троицких степях, когда раскаленное полуденное солнце на сотни километров рассыпало нестерпимо жаркие лучи и белесое огромное небо казалось выгоревшим от зноя, мы остановились на стане строителей газопровода Бухара — Урал. На горизонте покачивались мачты высоковольтных линий, и далеко от стана, как в мираже, стоял единственный лесок, манящий своей прохладой.
Возле больших труб сверкали молнии электросварки. Мы подошли ближе. Женщина в комбинезоне сшивала трубы. Серафима Константиновна заговорила с ней.
…Спал зной. Небо стало палевым. Земля подернулась сиреневыми сумерками. Зажглись электрические огни над станом, у вагончиков слышались разговоры строителей после трудового дня. А Серафима Константиновна все еще беседовала со сварщицей, что-то записывала в перегнутую школьную тетрадь.
Уже в машине я услышал:
— Ну, как тут не напишешь сказ! Женщина-то — одно чудо! Несет огонь людям…
И эта «женщина-чудо» вошла главной героиней в один из ее сказов.
Довелось нам как-то вместе с Серафимой Константиновной быть в Златоусте, посетить швейную фабрику — одно из крупнейших предприятий легкой промышленности на Урале. За одну смену тут изготовляют столько одежды, что ею можно одеть всех жителей города.
И когда мы ночной электричкой возвращались в Челябинск и увидели отраженные в пруду сверкающие огни фабрики, Серафима Константиновна в задумчивости проговорила:
— Родился сказ. Назову его «Ожерелья в горах». Правда здорово? Ага? Наконец-то я нашла то, что надо. Я расскажу о фабрике по-своему…
Талант художника у одних появляется смолоду, у других — приходит в предзакатную пору жизни, но сверкает всеми красками молодости.
Так получилось у Серафимы Константиновны. Прожила она нелегкую трудовую жизнь. И все годы хранила в себе клад, как уральская гора-кладовуха, не раскрывала своих богатств людям, пока не благословил ее на литературный подвиг Александр Фадеев.
Серафиму Константиновну Власову критики называют талантливой продолжательницей славных традиций, заложенных П. П. Бажовым.
Приняв эстафету Бажова, она расширила рамки и возможности этого емкого жанра.
В ее сказах органично переплетаются сказовые элементы с реалистическим описанием действительности, с подлинными фактами, взятыми из жизни, звучащими современно и не утрачивающими глубокого реального смысла.
Сказы С. К. Власовой доподлинно народны. И народность их — в глубине и яркости изображения труда — мерила жизни народа, в ясном и светлом понимании своего назначения, как подлинном хозяине на земле, создающем все ее ценности и красоту.
Название книги «Ансаровы огни» как бы таит в себе еще особый смысл. Автор сказов, словно бы завещая свое творчество народу, говорит о высоком, святом назначении его: огню гореть, всегда нести тепло, любовь и свет людям.
Интересна и многообразна тематика сказов в этом ее сборнике сказов, широк временной и географический охват действительности — от легендарных времен происхождения Уральских гор до наших дней, от холодных вод Ледовитого океана до знойных песков Каракумов. Все сказы объединяет одна мысль — прекрасен человек труда, созидатель всех материальных и духовных ценностей на Земле.
«Сказ об Урале» в ярких символических образах показывает, как в труде зарождается прекрасное чувство коллективизма, способное победить все на своем пути, привести к единению и солидарности.
В «Песне Сабаная» рассказывается о чудодейственной силе искусства; только сила эта подвластна людям высоких моральных качеств, таким, как герой сказа — вольный и гордый певец, сумевший слить свое горе с горем народа и поднять его на борьбу.
С молодым восхищением Серафима Константиновна Власова смотрела на жизнь, была безгранично влюблена в трудовой Урал и его людей. Творчество ее всегда будет согревать новые и новые поколения читателей ее талантливых книг.
А. ШМАКОВ
СКАЗ ОБ УРАЛЕ
Как корни ковыля не умирают, так не умирают легенды, предания и были об Урале.
Вроде нет их, забыты все, а прислушаешься — то здесь, то там память народная прорастает ковылем таинственной молвы, веселым узорочьем старинной речи.
Услышала я недавно в старом уральском заводе, будто все пещеры, какие ни есть на Урале, сообщаются между собой. Будто таятся между ними лазы, то широкие, как Кунгурские ямы, эти провалы земные, то тонюсенькие, как золотые нити с того самого веретена, про который сказ впереди будет.
Говорят также, что когда-то, в стародавние времена, перейти из пещеры в пещеру труда не составляло — торная была дорога. Правда, кто ее торил, неведомо — то ли человеки, чудь незнаемая, то ли нечистые силы, дивы, шайтаны разные. Только и в наше время люди, проникая в те пещеры и те ходы, где пройти можно, много следов находят: где домница поставлена, где камень-аметист лежит, а где след ноги человеческой отпечатался…
Но потом что-то случилось, будто гора на гору шла, камни плавились, из недр земных солнце выливалось; кто-то из людей хотел все это остановить, да, видно, не смог, хоть не простой человек, а гигант, богатырь был…
Легенда — зародыш, сказ — человечинка. Слово к слову, как камень к камешку на богатом уборе, собрала я сказ об Урале.
* * *
Было это давно, когда не строились еще в наших местах ни города, ни заводы. А если поглядишь сегодня с Юрмы или Таганая на древние шиханы и хребты, хранящие неразгаданные тайны земли, то поймешь еще крепче, как давно это было.
Жил в ту давнюю пору богатырь, по имени Ураим. И, как говорится в старинной сказке, был он красоты несказанной. Словно месяц на небе да вечерняя заря его породили. И ежели поглядит на кого — в холоде согреет, в жаркий полдень — утренней прохладой обдаст.
Любил Ураим родные горы и степи, что скатеркой лежали за ними. И земля ему тем же отвечала — материнской заботой помогала. Вела туда, где для скота лучшие травы росли, где сладкие соки ее людей поили.
В дремучих лесах уральских, на высоких горах красавица Уралга жила. От женихов у нее отбоя не было. Но всем отказывала Уралга, сердце свое она давно Ураиму отдала.
И радовались люди за них. Да и как было не любоваться молодыми? Богатырь — будто кедр могучий, а она — как нежная сосенка в бору.
Но недолго длилась их счастливая пора.
Полюбилась Уралга страшному чудищу-шайтану Дэву. И не то, чтобы полюбилась, а покорить сердце ее захотелось ради гордыни своей. Не однажды шайтан перед Уралгой человеком являлся. Стукнется о землю да так, что задрожит все кругом, и к кошу Уралги всадником на своем черном коне прискачет. Поначалу не знал Ураим, что за незваный гость к ним зачастил. А когда разгадал, что это шайтан, то в бой с ним вступил.
Не раз бились они. И до тех пор звенели их клинки, пока гость не падал в изнеможении с коня и тут же пропадал бесследно.
Заслышав топот коня таинственного гостя, в страхе прятались люди кто куда да шепотом между собой говорили:
— Шайтан это. Вишь какой, сам черный и конь его черный. Огнем пышет каждая ноздря!
И не знал никто в кочевье, что всадник и, вправду, был шайтаном, у которого на уме только коварное да злое.
Не умея силой одолеть Ураима, решил он хитростью завладеть Уралгой.
В один из поздних вечеров, откуда ни возьмись, на кочевье налетел ураган. Засвистело все кругом, завыло, повалил снег стеной. Кинулись пастухи скот спасать. Ведь бараны, кони были для людей всем — пищей, одеждой, жильем. Сел на коня и Ураим.
И вдруг сквозь свист и вой ветра Уралга чудесное пение за кошем услыхала. Оно то приближалось, то где-то тонуло в вое метели… Поначалу Уралга подумала, что ей просто блазнит. Но пение становилось все сильней и явственней. Оно тревожило ее сердце и куда-то звало. И, не выдержав, Уралга накинула на плечи бешмет и, чуть приоткрыв дверь коша, выглянула из него. Ветер вмиг погасил огонь в каганце, и какое-то огромное чудище кинулось к ней. От страха обмерла Уралга и сил лишилась. Кругом же метель выла, кружилась, будто ликовала, радуясь за шайтана, за его победу над Уралгой…
Через какое-то время вернулся Ураим из степи домой. Зашел он в кош, и сердце его горем охватило. Любимая не кинулась, как всегда, ему навстречу. Как ни искал жену в сугробах, в лесу, — не нашел он Уралгу. След шайтана давным-давно метель уж замела…
Недолго мешкал Ураим. Сел на коня-птицу и, поклонившись до земли людям кочевья, помчался искать жену свою.
Только и взял с собою колчан со стрелами да охотничий нож, украшенный красным гранатовым камнем.
Долго-долго он мчался по горам и степи, лесами дремучими пробивался. И вот на пятый день пути, когда его конь от усталости изнемогал, да и сам Ураим устал, решил он отдохнуть, привал устроить. В лесной чащобе, меж двух гранитных скал, живо сгоношил шалаш. Развел костер, покормил коня, сам поел и на отогретую огнем землю лег, на седло голову положив. Лег, а спать не мог. Такая тоска его от дум взяла, — сил не было ее превозмочь. Посмотрел на стену леса, на звезды, что мигали над головой, прислушался к тишине, помня, что и она предать может, и из глаз его слеза покатилась. Это у богатыря-то! Не боявшегося встреч с медведем, ни с волчьей стаей, ни с рысью, ни с шайтаном.
Слеза Ураима прожгла землю своим горем, и тогда он услыхал непонятно откуда идущий голос:
— Когда горе такое у человека, не могу я спокойной быть… Не пугайся, батыр, не ищи меня своими соколиными очами. Я — Земля, я — все, что ты видишь, но не только это. Доверься мне, и, может, я тебе помогу.
Ураим, не зная куда смотреть, протянул руки к скале, осторожно дотронулся до сухого гранита и, сбиваясь от волнения, рассказал о своем горе. И хоть стужа и ветер обжигали лицо, руками он чувствовал чье-то теплое дыхание.
— Плохи твои дела, — сказала Земля, выслушав Ураима. — Узнаю проделки шайтана Дэва, двоюродного брата моего. Давно я борюсь с ним. Разворотил он в поисках богатства все мое чрево, прорыл ходы и выходы, да одного в толк не возьмет: главные дары земные — в сердце моем.
Почудилось Ураиму или на самом деле так случилось, но только по мерзлому граниту скалы будто улыбка пробежала, чьи-то глаза блеснули, и, словно в тумане, седая борода обозначилась.
«Неужто сам Горный Батюшка?» — встрепенулся джигит, а голос продолжал:
— Спасенье твое — в тебе самом. Храни верность любимой, и сердце к сердцу тебя приведет. А сейчас поезжай прямо на дальнюю звезду, что светит над головой там, где не тает снег и солнце редко светит, где студеное море близко и мгла ночи долго царствует над ним.
Обрадованный Ураим подбежал к коню, но голос остановил его:
— У тебя под седлом лежит золотое веретено, на нем золотая нить. Опусти один конец нити до копыт коня. Когда поедешь, нить потянется за тобой и от бед тебя выручит. Да помни: золотая нить тянется только к верному сердцу.
— Не забуду, — сказал Ураим.
Он прикрепил веретено к седлу, опять надел лук и колчан со стрелами, опустил конец золотой нити до копыт коня и помчался туда, куда Земля указала.
* * *
Очнулась Уралга в подземном дворце шайтана. Все вокруг сияло в нем от дорогих камней. Уралга сначала подумала, что лежит среди нескошенного луга, сплошь усеянного яркими цветами. Но почему нет неба? Почему нет солнца?
— Ха-ха-ха! — послышалось отдаленное подобие смеха, и безобразная тень шайтана поднялась из дальнего угла.
Дэв злорадно наслаждался впечатлением, которое произвел на пленницу его дворец.
— Подумай, — заговорил он, — есть что-нибудь прекраснее богатства? И есть ли кто богаче меня? Взгляни на эти камни, на друзы хрустальные, на стены яшмовые. И все для тебя…
— На что мне твои богатства, если не с кем их поделить? — воскликнула Уралга, сама удивляясь смелости своей и чувствуя, что говорит не о том. Ее сейчас больше волнует: где она? Что с Ураимом? И что со всеми людьми ее племени?
— Ха-ха! То же твердит двоюродная сестра моя — Земля, которой так хочется все богатства наши разделить меж людьми. Не пойму я ее. Ведь со своим златом-серебром она над людьми полная хозяйка, а раздаст — что от нее останется?
«Не буду спорить с ним: говорит по-людски, а мысли как есть шайтанские», — думала Уралга.
А шайтан продолжал:
— Куда хочешь, скажи только, вмиг доберемся: ты — светлой горлицей, я — серым кречетом; ты — медной ящеркой, я — звонким полозом. Стукнемся оземь — обернемся: ты — красной девицей, я — добрым молодцем. В любой дом пройдем, на любом пиру не будет гостей желаннее нас…
— Никогда не бывать этому! Есть у меня друг суженый, славный батыр Ураим, — сказала Уралга.
И тут из-за угла показалась голова чудища. Дэв хотел броситься на Уралгу, но передумал. Топнул ногой и со словами «Не будет Ураима!» провалился сквозь землю.
Вовсе осатанел Шайтан, когда узнал, что Ураима нет ни в коше и ни среди людей.
В старое время разное про нечистых плели, но все знали, что и с ними можно справиться.
Бросился Дэв по следам богатыря, да какая-то высшая сила путала его.
Ни птицей, ни зверем, ни духом, ни облаком не мог одолеть он заветного рубежа, обозначенного золотым веретенцем. Взвыл он тогда, прося у Земли свидания.
И велела Земля, чтобы ждал он гонца в подземном замке между Черным и Белым морями.
На огненном коне своем скакал Дэв из одной пещеры в другую. От цокота копыт стонало подземелье, гул катился широким валом, выхлестываясь через трещины земные. Оттого сосны на горах ходуном ходили, вода в озерах стеной вставала, землю и небо молнии шнуровали.
Вмиг доскакал Дэв до места. Черные своды из кварца смыкались высоко над головой, и оттуда глядел глаз равнодушного агата. Дэв поозирался по сторонам. И когда агат замерцал красноватыми искорками, из пустоты и мрака вышел Горный Батюшка, Земли посланец.
— Это ты дал человеку веретенце с золотой ниткой? — спросил Дэв.
— А это ты украл у человека его молодую жену? — не для того, чтоб спросить, а просто для того, чтоб не ответить Дэву, сказал Горный Батюшка.
— Я полюбил Уралгу, и она станет моей, не будь я шайтаном, — вскричало чудище. — Но зачем ты заступаешься за людей? Разве ты не видишь, ведь они только и думают о том, чтобы присвоить себе богатства Земли?
— Люди говорят: умные речи приятно слушать, а от глупых только уши вянут; то про тебя, глупый шайтан, сказано.
— А мой дед, Кущей Шайтанович, учил нас: не бойтесь прослыть глупыми, не бойтесь прослыть жадными, бойтесь стать бедными. Дурак тот, у кого из-под носа добро уносят. Уж не про вас ли это сказано, Горный Батюшка и Земля-матушка?
— Земля одаривает людей за труд их великий, да и раскрывает свои секреты не каждому, а тому, кто достоин.
— Нет достойных! Нет достойных! — кричал шайтан.
— Отчего же? — возразил Горный Батюшка… — Чем, к примеру, Ураим нехорош? На край света пошел за красавицей-женой.
— Не бывать этому! Прошу тебя, отбери проклятое веретено.
— Золотая нить веретена тянется к любящему сердцу, и нет силы, которая бы нарушила этот великий закон.
— Я докажу тебе, — взревел шайтан, — что нет достойных и любви у них никакой нет. Появлюсь перед Уралгой в образе Ураима, и она не догадается, что это я. А Ураиму подошлю одну из своих красавиц, враз забудет Уралгу.
Крепко Дэв с Горным Батюшкой поспорили и в конце концов договор заключили. Если Уралга или Ураим верность свою не сохранят, Горный Батюшка лишит батыра золотого веретенца. И пусть будет, как будет…
Только судьба распорядилась иначе, и беда пришла не с той стороны, как думали спорившие.
Напрасно шайтан, вернувшись к себе, пытался обмануть Уралгу.
Увидев Ураима, Уралга, восхищенная его верностью и бесстрашием, кинулась к нему. Но тут же отпрянула. Чужая улыбка была на лице у него. Присмотрелась Уралга, и глаза были без родных искорок.
— Уйди, шайтан! Уйди, шайтан! — закричала Уралга и бросилась бежать, минуя одну пещеру за другой.
Шайтан не остановил ее, а, зло усмехаясь, упал оземь зеленой змейкой и уполз в расщелину.
* * *
Долго-долго скакал Ураим. Вот уж дальняя звезда почти над головой встала. Но страшные ветры ходу не давали Ураиму. И темень кругом, будто глаз у батыра не стало. Слез тогда с коня Ураим — оглядеться, отдышаться, и тотчас с ног его сбило. Хотел он подняться, вспомнив про веретенце под седлом у коня, но тело словно камнями придавило. И в это время выскочила маленькая змейка из земли и укусила его в самое сердце.
Сразу дума одолела Ураима: «И конь мой сгинул. И ветер режет ровно ножами, а Уралги как не было, так и нет. Может, Земля меня обманула? Все кругом мертво, и я чуть живой».
Подумал так богатырь, и раскаяние его взяло.
А Змейка из норки все выглядывала: головка маленькая, а глаза здоровущие и огнем пышут — злые, ну точь-в-точь, как у того гостя незваного.
Да! Там, где не под силу великану, порой не только змейке, но и червяку по плечу.
Замертво пал конь Ураима, а сам он в бессилии заснул. А когда очнулся Ураим, то увидал, что лежит он на том же месте, где ему Земля веретенко подарила. Только была уже весна, и все кругом зеленело. Ни коня, ни лука, ни стрел не было возле него.
Напившись студеной воды из родника, голодный, сжимая золотое веретенце в руках, он побрел по лесу. И вновь Земля сжалилась над ним. Нежданно богатырь почувствовал приток сил, бодрость в сердце воротилась, и он смелей зашагал, но… сам не зная куда.
Немало сменилось дней и ночей, когда вдруг увидел Ураим на горе дворец из прозрачного розового камня.
Вошел в открытые двери дворца Ураим и остановился. Перед ним девушки в прекрасных одеяниях, как лебеди, медленно по кругу плыли. И отделилась от них одна. И была она в танце так нежна, что загляделся на красавицу богатырь, забыв про голод и несчастья свои. А когда девушка приблизилась к Ураиму, коснулась волосами его лица, у богатыря закружилась голова, и он протянул руки к танцовщице…
Тотчас прозвенело веретенце золотое и с жалобным писком исчезло неизвестно куда.
* * *
А Уралга по пещерам все шла и шла. Не раз шайтан пытался обмануть беглянку и злым коварством сердце ее купить. Но сердце Уралги было неподкупно.
Как-то, переходя из одной пещеры в другую, Уралга почуяла ароматный запах кипящего в казанке барана. На этот запах Уралга поспешила и, пройдя совсем немного, в большой белоснежной пещере очутилась. Посредине пещеры лежал длинный, как стол, белый камень, а на нем разные яства красовались.
Навстречу Уралге шел высокий красивый джигит. В белой одежде с широким поясом джигит был прекрасен.
Уралга взглянула на юношу, протягивающего к ней руки в знак приветствия, и взгляд свой отвела, на его редкостном клинке остановила, подумав про себя: «Вот бы такой клинок моему Ураиму!»
Враз исказилось злобой лицо джигита. Холодом глаз он обдал Уралгу и знакомым ей голосом воскликнул:
— Она еще не забыла Ураима!..
И не стало ни белой пещеры, ни яств. Мгла поглотила все кругом…
Может, и сгинула бы она в подземных кладовых шайтана, если бы вдруг в ее руках золотое веретенце не оказалось. Как во сне увидела она доброе лицо старца и услышала его горькие слова: «Ураим в беде, поспеши к нему. Веретенце тебе дорогу укажет».
Откуда только силы взялись у Уралги. Словно на крыльях летела она к милому.
И когда Уралга на гору взошла, где дворец, точно весенний цветок, сиял, и увидела перед дворцом на поляне суженого, радостно вскрикнула и побежала к нему. Ноги ее были в кровавых ссадинах, но она не замечала этого. Так раненая горлица летит к своему гнезду, вычерчивая в воздухе кровавые круги, все медленней и медленней махая крылами, но довольная, что добралась до цели.
— Ураим, родной мой, — прошептала она, падая к ногам его. Но Ураим смотрел на Уралгу холодно и будто недоумевая.
— Здравствуй, Уралга. Зачем ты пришла? Я здесь живу с новой женой.
Вздрогнула Уралга, встала, заглянула в лицо Ураиму. Неужто опять проделки шайтана? Но нет! Она узнала глаза Ураима и отшатнулась в отчаянии.
В эту минуту Уралга почувствовала под сердцем нежные и слабые толчки, и боль украденной любви пронзила ее всю.
Молча постояли они друг возле друга и разошлись в разные стороны.
* * *
С ликованием мчался шайтан по пещерам: ничто не угрожало теперь его богатствам.
И вознегодовала Земля. Точно судорогой передернуло горы и долы, страшный гул прокатился в земных недрах, из открытых пещер вырвались клубы огня и дыма, скрывая богатства, накопленные шайтаном. Сам он едва спасся, поднявшись из-под обвалов сизым и смрадным облаком.
Чудом в живых остались и Ураим с Уралгой, без вины своей вызвавшие гнев матушки Земли. Ураим, спасая дворец с обитавшей в нем красавицей-женой, бросался навстречу двигавшимся на него скалам, круша их. И отступил лишь тогда, когда дворец за его спиной с грохотом осел, оставив после себя груду камней.
И пошел тогда прочь Ураим, сам не зная куда, и на размягченных камнях гранита оставались четкие следы его огромных ног. Никто из людей его больше не встречал…
А Уралгу подхватил и понес ветер, легко минуя огненные вихри и обвалы земные. Видно, не оставил ее в этот трудный час Горный Батюшка. Потом уж, когда Уралга в себя пришла, заметила она на правой руке своей подвешенный кожаный мешочек. Раскрыла его, а там камни один лучше другого сияли.
Прошел год. Однажды, летней порой, пастухи вдруг увидали, как в горах из пещеры вышла молодая женщина красоты несказанной. В руках она младенца несла.
От гор начиналась степь, где стоял забытый всеми кош, покинутый когда-то Уралгой. Женщина направилась к нему, и кто-то крикнул:
— Да ведь это Уралга! Уралга!
Обрадовались люди. Кинулись к ней. И первые их слова были: «Где Ураим?»
А когда увидали в большущих глазах Уралги горе неутешное, то поняли все и замолчали. Радость легко разделить словами, а горю — разве поможешь?
Люди как могли успокоили ее, разожгли огонь в каганце, сыном любовались. По обычаям предков мальчика назвали именем родителей: Ураим-Алга. А короче — просто Урал.
Каждый думал: «Как ни тяжко горе, не век горевать. Нет печали, у которой бы конца не видали». И никто не догадывался, что горе Уралги без дна.
И хоть были это родные места Уралги и люди ее любили, потекли для нее дни холодные, как осенние дожди. Даже сына своего по-матерински она не ласкала. Люльку качает, песни грустные поет, а сама все смотрит вдаль и думу думает. Пало ей на ум, что не поняла она Ураима. И случилось это, когда она еще только-только вернулась к людям.
Было у нее обыкновение ночами возле коша гулять. И вот однажды, то ли ей почудилось, то ли наяву случилось, но будто бы увидела она на склоне дальней и самой высокой горы печальную стариковскую улыбку. И сразу же вспомнила: «Ураим в беде, поспеши к нему». Напало тогда на нее сомнение. «Ураим — в беде…» А я-то поверила, что он так, по своей воле разлюбил меня. Не шайтановы ли это проделки? Выходит, при встрече с ним я только о себе думала…»
От этих мыслей места себе не могла найти Уралга.
Духи всесильные, сама Земля-матушка и добрый Горный Батюшка не разгадали, что случилось с Ураимом, а Уралга сердцем своим любящим ухватилась за истину.
Давно бы устремилась снова Уралга на поиски мужа, да взглянет на сына — и застынет на месте.
Совсем не стало сладу с собой после того, как Уралга порылась и нашла в вещах забытое золотое веретенце. Когда-то оно вывело ее к любимому. Может, сослужит службу оно и во второй раз?
Откуда было знать бедной женщине, что чудесный подарок Горного Батюшки теперь ей ничем не поможет. В горе и ярости разорвала Земля его золотые нити; легли они под завалами разорванной цепью, когда-то невидимо соединявшей два любящих сердца. Теперь, чтобы встретиться Ураиму и Уралге, нужно было бы идти перемешанными пещерными ходами и выходами, горами и ущельями, собирая по крупицам и малым обрывкам золотую нить. Загадала Земля: если когда-либо люди трудом великим восстановят ее, вернет она им свое расположение. И тогда наверняка любящие сердца — пусть не Ураим и Уралга, а другие — встретятся и будут любить и доверять друг другу вечно. Ничего этого не знала Уралга, но собралась в дорогу.
Поклонилась она людям кочевья, бережно сына в руки пастухам, как родным братьям, отдала.
— Пойду искать Ураима, — сказала она и к пещере снова направилась.
Вновь кричали, но уже печально люди:
— Уралга! Уралга! — Конец ее имени тонул в гомоне людского шума.
А она, еще раз поклонившись людям по древнему обычаю своего народа, будто растаяла в пещере. С той поры гора, возле которой Уралга жила и в пещеры ушла, так и зовется Уралгой.
Дальше наш сказ про Урала будет.
Говорят, кто людям делает добро, тот всегда имеет рядом друга. Не обманулась Уралга в думах, отдавая пастухам свое дитя. Всем кочевьем люди Урала воспитали. Научили его подчиняться своим неписанным законам. Отважным быть. Добрым к людям. Старость уважать. Потому, если случалось горе с кем, первым на помощь приходил Урал, хоть еще сам малым был. Друга в беде ни на охоте, ни на пастбищах не оставлял. Жил Урал с названой матерью, потерявшей и мужа и сына. Ей пастухи отдали его, когда ушла Уралга. Она вскормила своим молоком Урала. Была его названая мать когда-то верной подругой Уралги.
Всего пятнадцать весен прошумело над головой Урала, а он уже, как смелый джигит, умел разогнать волчью стаю, один на один пойти на медведя, а рыси с ногами тигра — переломать хребет.
Была у Урала верная собака, как и конь. Один раз на охоте она на человеческий костяк его навела. Костяк лежал под камнями, промытый дождями и водой из родника. Мертвой рукой он сжимал охотничий нож в поржавевших ножнах. Вспомнил Урал рассказы стариков и подумал, не его ли отец перед ним лежит.
Выкопал яму Урал, похоронил его и домой воротился.
А когда названой матери Урал рассказал об этом, она повертела в руках нож, покачав головой, промолвила:
— Нет, это не твой отец. На рукояти того был редкий красный камень.
И, усадив Урала возле себя, она рассказала все, что знала об отце и матери и золотом веретенце, которое, как слышала от стариков, мать Земля дарит только тем, кто свою землю и народ крепко любит да верное сердце имеет.
— Вот такое сердце было и у матери твоей, — сказала напоследок названая мать и, вытащив из заветного сундучка простой кожаный мешочек, подала его Уралу. Поглядел Урал, что было в мешочке, и спрятал его в юрте под кошмой, где он хранил по одному зубу от каждого зверя, убитого на охоте, — для счета, как делали все охотники тогда.
Не раз доставал он кожаный мешочек, подолгу вглядывался в россыпь камней, как будто хотел увидеть в них отражение матери своей, но камешки нежным цветом горели, переливались и молчали…
* * *
Шайтан, узнав о молодом сыне Уралги, задумал и его погубить, а главное — завладеть кожаным мешочком. Не хотел, чтобы кто-то из людей владел такими богатствами.
И вот как-то раз в кочевье зашел странник — древний аксакал. Держал он путь из далеких стран. Что ни говори, аксакал был желанным гостем в ту пору. Стар и млад пришли послушать старика, его рассказы и песни. Он пел о далеких странах, о разбойниках удалых, владеющих несметными богатствами, о чудных красавицах, томящихся в неволе…
Слушал аксакала и Урал. И не выдержал. Нарушив обычай дедов и отцов, тут же сказал аксакалу, когда тот кончил петь:
— Хотя ты выдаешь себя за друга нашего, но поешь для нас чужие песни. Они нам не нужны. Твои слова покрыты льдом, хоть ты стараешься их покрыть ароматом сока сосен. Прости меня, аксакал, что юность учить тебя собралась, но нас ты от родной земли не оторвешь, в чужие страны не заманишь. И какие бы ты ни пел сладкие песни о красавицах далеких стран — у нас есть свои. Иди туда сам и наши сердца не тревожь!
Онемели все от таких слов Урала. Ведь аксакал — самый почетный гость. Он мог тут же самолично за дерзость речи ударить посохом юнца. И только было собрались старики, зашумев в испуге от слов Урала, остановить его, посмотрели на аксакала и увидели, что глаза у него злым огнем пышут, точь-в-точь, как у того незваного гостя, что к кошу Уралги на черном коне приезжал.
Вскочили старики и возмущенные хотели обрушить свой гнев на аксакала, а на его месте уж один курай на кошме лежал. Словно испарился старик, как вода из казанка.
Забылась вскоре в памяти людской встреча с аксакалом, но смелость Урала в памяти народа на долгие века улеглась.
С того времени еще больше распалилась шайтанова душонка. Понял он, что не просто будет сгубить Урала. Змея знает: души соколенка, пока он из гнезда не вылетел. Потом поздно будет.
Решил шайтан послать свою дочь к Уралу, чтоб убить его.
Возвращался Урал с охоты. Был поздний вечер. Весело под Уралом конь бежал. Тут же крутилась и собака.
На землю ложилась тишина и такая, что в ушах звенело от нее. И только слышно было, как неподалеку тихо шепталась волна с берегом небольшой горной речонки.
Но вдруг собака насторожилась и кинулась вперед. Урал — за ней.
На берегу он девчонку увидал. Она была в богатом уборе, по спине ее змеились две косы, а на шее самоцветное ожерелье сверкало.
Соскочил с коня Урал, подошел к девчонке, а у той слезы так и льются из глаз. На расспросы богатыря девчонка тут же сказку про себя сплела. Она-де дочь чужеземца-купца, отбилась от каравана. Хотя речь ее была плохо понятна Уралу, все же посадил он девчонку с собой на коня и к названой матери повез. Не мог же богатырь бросить ее одну.
Едет Урал с красавицей, а сам думает о том, чтобы просить названую мать взять найденку ей в дочки, а себе — в жены. Так понравилась она ему.
Гостью дома он накормил и лучшую кошму ей расстелил, названой матери дома не было, она в соседнее кочевье к сестре на свадьбу ушла.
В коше спать легла гостья, а Урал, как всегда летом, на кошме у коша лег.
Из-за гор выплывала луна и ударила светом в глаза Уралу.
Сбежал сон от Урала. А тут еще собака заворчала. «Что бы это могло значить?» — подумал про себя Урал. Он перешел в тень коша. Лег, а спать не мог. В глазах так и стояла гостья.
Вдруг за стеной коша шорох раздался. Будто кто-то тихонько ходил по кошме. Хотел было встать Урал, посмотреть, уж не случилось ли чего с гостьей, как она сама тихонько выбежала из коша, и в руке у нее нож блеснул.
Вскочил на ноги Урал, схватил гостью, а она, как змея, выскользнула и ветром к лесу понеслась…
И сколько ни бежал Урал, а догнать гостью не мог… только постукивали ее сапожки по земле.
Потом Уралу показалось, что не сапожки постукивают по земле, а копытца. И все же вот-вот он ее настигнет. Гостья стала уж спускаться с горы, и рука Урала протянулась к девичьей косе, как вдруг увидел он: не девчонка бежала перед ним, а самый настоящий бес постукивал копытцами. Тут бес кинулся между двух скал, словно нарочно выросших перед Уралом. Да успел его Урал за хвост схватить и нож вырвать. Завизжал бес и пропал за скалами, которые и по сей день Шайтановыми воротами называют.
Нож, на рукоятке которого поблескивал красный камень, Урал положил за пазуху, вытер пот с лица и домой подался.
А утром, когда названая мать воротилась, рассказал ей Урал про шайтанову гостью и нож показал. Вскрикнула названая мать. Ведь нож Ураима все люди кочевья знали…
* * *
Сколько-то времени спустя принялся Урал в дальний путь собираться. Задумал отыскать родную мать и отца. Не раз он и раньше подолгу стоял у входа в пещеру, куда ушла его мать.
После же случая с гостьей и вовсе богатырь покоя лишился.
А время шло. Двадцатая весна над головой Урала прошумела. Он стал совсем великаном. Красотой — в отца и мать. Только в его жилах текла горячее кровь, чем у отца, и в сердце джигита мужества было еще больше. Одним словом, такое сердце он имел, в какое шайтану никак не пробраться.
Охотился он раз в горах и увидел, как птица орлан попала в когти рыси. А к слову сказать, очень любил птиц Урал, и они ему тем же отвечали. Даже ночная птица филин и та, когда шел Урал по лесу, радостью приветствовала его.
Схватил рысь Урал и голову ей свернул. И благодарный орлан человечьим голосом проговорил:
— Меня зовут Орлан-Черное перо. Триста лет живу я на свете — все вижу, все слышу, много знаю. Только сил стало мало, и кабы не ты — остались бы от меня сейчас только перья. Отныне я твой верный слуга. Проси о чем хочешь — помогу и делом и советом.
Урал, с удивлением разглядывая мудрую птицу, спросил:
— Скажи мне, Орлан-Черное перо, если ты все видел, все слышал, много знаешь, неизвестно ли тебе, что стало с отцом моим Ураимом и матерью Уралгой?
Услышав эти имена, встрепенулась птица и с жалостью посмотрела на юного батыра.
— Как не знать, как не знать? Не раз проносили меня крылья над кошем Ураима и Уралги, и всегда я радовался, глядя на их дружную работу, веселое житье… Да-а… Знаю и про то, откуда беда пришла.
И рассказал Орлан-Черное перо про историю Ураима и Уралги, о которой мы уже знаем.
Чем больше узнавал Урал, тем мрачнее становилось его лицо. А когда кончил Орлан говорить, тотчас спросил Урал:
— Черное перо, скажи мне скорей, живы ли сейчас мои отец и мать? Может, все еще ищут друг друга?
Орлан как будто смутился, виновато посмотрел на Урала:
— Никто не знает, где они сейчас. Одно могу сказать: не встретились они, потому что встречи искала только Уралга, а отец твой, когда попутал его шайтан, сам не знал, куда шел и зачем шел… В том-то и беда. Если б сердце его прозрело, нашел бы он дорогу к родному очагу.
— Скажи мне скорей, Орлан-Черное перо, что нужно сделать, чтобы сердце моего отца стало таким, каким было когда-то?
— Всему виной шайтан. Он породил между людьми вражду и неверие. Он убил змеиным ядом сердце и твоего отца.
— Найду шайтана, из-под земли вытащу и убью. Даю в том слово джигита!
Улыбнулся Орлан-Черное перо, мудрая птица, но тут же грустно качнул головой.
— Хорошо говоришь. Но убьешь злого беса, что дальше? После великого смятения земного порвалась золотая нить, соединявшая сердца любящих людей и верных друзей. Убив шайтана, ты сделаешь только полдела. А все дело — собрать золотую нить. Когда-то легко она вела торною дорогой — ходами пещерными, а сейчас ни ее не видно, ни путей между пещерами.
— Я сделаю и это, — горячился Урал.
— Да-а, — устало прикрыв глаза, промолвила вещая птица, — молодость легка на подъем, как майское облако, и так же быстро тает в лучах жаркого солнца… Подумай, на сколько частей, маленьких песчинок рассыпалась золотая нить под ударами гнева Земли-матушки. Разве под силу одному человеку, даже такому джигиту, как ты, собрать ее воедино?
— Что же делать? — загрустил Урал.
— Малые птицы, спасаясь от сильного врага, собираются в стаю. Созови и ты людей, и все вместе убьете шайтаново семя в злых душах и проложите нить любви и дружбы от сердца к сердцу. Ведь Земля-матушка ждет именно этого, чтобы открыть людям все свои богатства.
Хоть и молод был Урал и горяч до безрассудства, но понял он своим живым умом: много должно пройти времени, чтобы вытравить из людей шайтаново семя. Видел он, как баи и шаманы из-за золота грызли глотки друг другу, знал также, что хоть и много добрых людей на земле, но каждый кош стоит сам по себе. И вправду, молодому джигиту одному не под силу сделать это. Он готов последовать совету мудрой птицы, но ведь сколько времени пройдет! Не дождутся того Ураим и Уралга — отец и мать его — сгинут в пропастях земных. Нет, он сегодня, сейчас же, немедленно пойдет навстречу главному врагу-шайтану — смертью его разбудит сердце Ураима, и вместе они найдут мать, заблудившуюся в слепых пещерах.
— Доброго тебе пути, смелый джигит, — сказал Орлан. — И вправду, пока ничего другого не придумать. Запомни хорошо: придет трудный час — только крикни: «Черное перо, ко мне!», и я помогу тебе со своей орлиной стаей.
— Спасибо, добрая птица, — проговорил Урал и поспешил в свое кочевье, чтобы начать поиски шайтана.
А тот, словно узнав про дерзкие мысли молодого джигита, был уже тут как тут. Боялся, видно, как бы не прибавил в силе молодой батыр.
Случилось это так. Был летний день. Жара — дышать нечем. Вдруг с гор пронесся ветер. Застонал дремучий лес, небо покрылось черной тучей. В горах начались обвалы, реки вышли из берегов. Раздался гул, и по ветру над жильем пронеслось огромное гнездо, с большую юрту. Упало это страшное гнездо на землю, и из него выползло чудище-змей Дэв. Было у него четыре головы, и каждая огнем дышала.
В страхе люди на чудище глядели. Богатырь Урал схватил свой клинок, бросился на змея, крикнув на все хребты:
— Черное перо! Ко мне!
Враз в небе туча орланов появилась. Кинулись птицы на змея. Да и люди, увидев, как храбро сражается Урал, ему на помощь поспешили.
Целый день люди и Урал рубились с чудищем-змеем, но могуч и хитер был Дэв. Не поддавался ударам, и как ни клевали глаза и тело змея орланы, все еще огнем дышал он.
От изнеможения падали люди. Мертвые птицы покрыли одеялом землю, а Урал все бился с чудищем. Наконец Дэв стал ослабевать. Орлан-Черное перо выклевал Дэву последний глаз. Могучим ударом Урал отсек последнюю голову змею…
Орлан-Черное перо, улетая, сообщил приятную весть. Видел он в горах гранитных следы огромных ног.
— Никто таких следов не мог оставить, кроме твоего отца. Счастливого пути, смелый джигит!
И засобирался Урал. Взял лук, стрелы, материнский кожаный мешочек. Простился с жителями кочевья, поклонился матери названой и ушел искать следы отца.
Накануне того дня, как уйти Уралу, не спалось ему. Родное гнездо не просто покинуть.
Шайтан был убит, но племя его бесовское подстерегало джигита на каждом шагу.
И все-таки при помощи Орлана набрел Урал на огромные следы. Вели они непонятно куда, петляли и кружили по горам, то на крутые утесы, то в темные пещеры увлекали опять. День, два, три — месяц бредет Урал по следам и чувствует, что ничего живого вокруг него уже нет. От голода пал верный конь. Собака пугливо жалась к ногам, все больше и больше теряя силы.
«Бедный отец, — думал Урал, — шел ты сам, не ведая куда». А вскоре и следов не стало. Понял Урал, что так просто, странствуя по свету, ничего он не найдет. Надо искать концы золотой нити. А потом от пещеры к пещере, от горы к горе — проложить путь от матери до отца.
— Черное перо, ко мне! — И когда добрая птица прилетела на его призыв, Урал попросил отнести его и собаку назад — к родному кочевью.
— Путь отца не привел ни к чему, войду в пещеру, куда ушла мать, — объяснил он верному другу свое желание.
— Смотри, батыр, в пещерах я тебе не помощник. Будь осторожен.
И снова люди прощались с Уралом, проводив его до той пещеры, в которую когда-то ушла смелая Уралга. И теперь уже простились с ним навсегда.
Сначала день ото дня ждали его возвращения, а потом в мыслях похоронили и стали вспоминать все реже.
Но не погиб Урал. И не зря он пошел материнской дорогой. Когда вошел он в заветную пещеру, то вскоре золотое веретенце подобрал. Лежало оно между камнями, возле которых обрывалась торная тропа. Осторожно поднял веретенце, сдул пылинки с него. Но где же мать? Почему веретенце бросила? Куда теперь идти?
Задумался Урал. Вспомнил рассказы Орлана, названой матери и вдруг понял все. Видно, помнила Уралга ту тропу, по которой золотое веретенце ее когда-то к Ураиму вывело. Направилась она к ней, но на месте тропы лишь огромные камни громоздились друг на друга. Поняла Уралга, что золотое веретенце уж не имеет прежней силы, и в отчаянии бросила его. А куда сама пошла, неведомо. Никаких следов ее Урал больше не нашел.
Но… золотая нить! Ее обрывки должны быть здесь, под камнями!
Взялся Урал за работу и вскоре увидел, как во тьме золотая искорка блеснула. Обрывок нити! Надо теперь отыскать ее продолжение, а чтобы сделать это, требовалось проникнуть в другую пещеру. И начал богатырь ворочать каменные глыбы, прокладывать ход за ходом. Пусть не дождутся того времени мать с отцом, но он проложит дорогу любви и доверия. Он вернет людям расположение Земли.
А время шло. Нет такой силы, которая могла бы остановить или изменить его течение. Время — верный страж законов жизни. Младенец не рождается стариком, зима не может оборотиться летом.
Не забыли Урала люди. Немало еще добра им богатырь сделал, и они про него еще много сказов сложили.
Рассказывали, будто бы один раз зимой вышел Урал из пещер в горах и увидел, как парнишка лет двенадцати в проруби белье полоскал. Полощет мальчонка, хлопает белье валиком, а сам слезами заливается. Подует на скрюченные от холода пальчишки и — опять за валик.
Урал стоял в сторонке и будто ребячьи слезы считал. Потом тихонько у проходившей бабки спросил про мальчонку. Бабка тут же все, что знала, про парнишку поведала Уралу.
— Сиротой он живет с мачехой, а та затыркала Егорку, — говорила бабка про мальчонку. — Выгоняет его к деду, а тот сам голодом живет. Отец недавно помер, вот и изгаляется мачеха над парнем.
Принес сирота Егорка бельишко с речки, повесил на веревку в огороде, поднял со дна корзинки валик, а под ним золотинки россыпью лежат! Собрал их в кулачок и айда к деду. Принес все Егорка, показал старику, а от увиденного золота у старого рудознатца аж слеза из глаз скатилась.
— Откуль такое у тебя? — спрашивал дед внука.
Клялся и божился парнишка, что и глазом не видел.
Так и не дознались ни дед, ни внук, как им Урал помог — доброе дело сделал.
Не воротился парнишка больше к мачехе. По горняцкому делу пошел; и никто больше его руд полезных не отыскал, да не о себе думал — обо всех честных людях.
Еще приходилось мне одну сказку слыхать про доброе сердце богатыря Урала.
Раз он шел по хребту. Люди уверяли, что своими глазами его видали. Вдруг подлетел к Уралу ветер и человечьим голосом сказал:
— Богатырь добрый! Помоги мне одно дело сделать.
Рассказал ветер Уралу, что сейчас на одной из гор страшное дело должно совершиться. У одного богатого бая есть четыре дочки. Одна из них полюбила простого пастуха. Отец кипит от гнева, и три сестры ее — за отца. Надумали эти сестры разлучить пастуха с любимой. Положили они связанную сестру в кованый сундук и хотят закопать его в горе. Вот и надо освободить девушку и к любимому проводить.
В ответ только спросил у ветра Урал, что он должен сделать.
— Делай так, богатырь, как тебе сердце велит, — сказал ветер и помчался от Урала по вершинам навстречу всадникам (а это были три сестры и их отец).
Впереди по дороге гремел сундук, положенный на большую телегу. Ее тащили три коня.
Враз поднялся такой ураган, что пылью всадникам глаза залепило. Завыл ветер кругом. От такого воя страх напал на сестер и их отца. Побежали они с дороги в лес переждать ураган, а тут как тут подскочил Урал к сундуку. Открыл он сундук, освободил несчастную от веревок и шепнул девчонке, куда ей надо бежать, где ждет на коне ее возлюбленный. Пока сестры подоспели, а за ними и их отец, ни девушки, ни богатыря Урала — как не бывало. Отец и три сестры от злобы окаменели… Так с той поры и стоят на одной из гор хребта четыре вершины: сундук, три сестры и тюбетейка (от отца).
Люди любят к сказкам от себя добавлять. Добавлю и я конец этой сказки. Как пушинка спустилась с гор та девчонка и в руки любимого попала. Жили они потом век в дружбе и радости. Главное — о добре не забывали, трудились для людей. От Ирбита до Бухары летела слава о шерстяных одеялах, изготовленных ими с великой любовью и мастерством.
А как же иначе? Ведь не одному Уралу сучить золотую нить добра…
Не одно поколение людей сменилось, пока ходил Урал в горах и подземных кладовых. Много-много он прошел пещер, переходя из одной в другую и поняв, что имеют они общий ход. А когда вышел из пещер Урал к людям, уж обживался наш горный край — царство хребтов, покрытых зелеными лесами; край рек, то говорливых и буйных, то с тишиной, не разгаданной и по сей день, с безмолвием, как в заколдованном царстве.
В тот день, когда вернулся Урал из пещер, с самого утра солнце на небе играло. Ярче зеленели леса, быстрей бежали реки и родники. Птицы так и заливались на разные голоса от радости, что пришла летняя пора.
В полдень на самой вершине дальнего Таганая златокудрого великана люди будто бы увидали. В лучах солнца каждое колечко на его кольчуге золотом отливало. В руках у великана был простой кожаный мешочек. Старики, помнившие сказки о богатыре Урале, тут же сказали:
— Ведь это богатырь Урал!
Богатырь же родным горам на все четыре стороны поклонился и заговорил. Голос его был так могуч, что эхо каждое его слово до самых дальних становищ доносило.
Без корысти всем людям рассказал он про сокровища земные, какие видел в пещерах; про дворцы из разного цветного камня под землей; про белый камень, который всякую хворь отводит; про камень-леденец, который силы возвращает, а больше всего — про родную мать и отца, которых так и не нашел.
Потом он открыл, будто заветный ларец, свой кожаный мешочек и достал золотое веретенко, начав разматывать с него нитку золотую, в которую были вплетены разные драгоценные камни. И чем больше разматывалась золотая нить, тем больше становились груды самоцветов вокруг Урала.
Камни с горы рекой потекли, сверкая то красными гранатами, то сиреневыми аметистами, то прозрачными топазами, нежными, как цветы…
В жизни все смертно, но не хотели люди, чтоб умер богатырь Урал, а потому говорили, будто ушел он опять в горы охранять земные клады. И по сей день он их стережет, и назвали люди те горы Уральскими.
Да! Время — большое сито. Немало отсеяло оно легенд, сказок и былей о богатыре Урале, а все же немало осталось их в народе.
Много ныне живет богатырей на Урале, от дел которых хорошеет наша земля. И с завистью взирают на нее две горы, два великана — Ураим и Уралга. Может, и вправду названы в честь двух разлученных суровой жизнью молодых людей.
Ветра шумят над сопками. И хоть никто еще не прошел пещерами из конца в конец, Урал живет кипеньем больших работ и радостью верной земной любви. И эта сказка-быль, словно золотая нить, не имеет конца. Как не умирают корни ковыля…
ПЕСНИ САБАНАЯ
Говорят, у любви три вершины есть. Первая — к земле родной, вторая — к отцу и матери, третья — к той, к которой больше всего душа прикипела.
И счастлив тот человек, у которого все три вершины в сердце хранятся. Не страшны ему буйные ветры, что б одночасье, как гроза, могут налететь и остудить самые горячие порывы.
Вот о таком человеке и сказ поведем.
Возле озера Увильды, что ныне жемчужиной Южного Урала зовется, есть три небольших грязевых озерка. Одно Акакулем называют, другое — Башкулем, а третье с давних пор люди Сабанаевым зовут и сказки о нем говорят.
Будто в старину все земли от Карабаша (Черной головы шайтана) до степных далей, что неоглядно легли за Уральским хребтом, принадлежали одному богатому баю-мурзе. Не сохранило нам время имя этого бая. Да и в том ли суть?
Не было счета богатствам бая. Табуны большие скакунов паслись до самого Миасса-реки, и людей работало на бая столько, сколько звезд высыпает на ночном небе. Горька полынь-трава, а еще горше была жизнь подневольных у бая. Не зря он лучников-воинов держал. Караулили они его богатства и охраняли дороги к жилищу, по которым шли караваны верблюдов с товарами из далеких стран. Менял бай меха и скакунов у купцов на прекрасные ткани и вина.
И хоть велики были богатства у бая, только не было в его сердце огня, пламенеющего на трех вершинах человеческой любви. От жадности был он одинок, как изгнанный из гнездовья ворон.
И чем больше каменело сердце бая, тем ненавистней становились ему радости людские. Особенно ненавидел он песни. И страшная кара ждала людей, если они хотели послушать старого аксакала, рассказывающего под звуки древнего курая легенды своего народа.
Но был такой пастух, которого не мог заставить замолчать бай. Сабанаем его звали. Будто из сказки пришел и наяву остался. И уж веселый был — на удивленье. Где Сабанай, там смех и потешки. Любили его все, и если кто-то из стариков поворчит иногда, мол, горя и нужды — пропасть, а ему все нипочем, то сразу же находились заступники: от горя, мол, слезой не спрячешься, от нищеты тоской не вывернешься.
А еще люди любили Сабаная за песни. Пел он их в ночи у костра, охраняя скот, пел, когда шел по лесу, пел там, где бывал народ. И всегда неизбывной радостью звучали они. Как сухая трава от искры, разгорались сердца у людей и пылали думы после песен Сабаная. И страшней зверел бай. Покоя лишился он, думая, как заставить замолчать Сабаная.
А советчики тут как тут. Давно известно: когда лев за добычей идет по следу, шакалы вперед забегают. Не успел бай лениво мысли свои раскинуть, как один из слуг подсказал:
— От радости поет Сабанай.
— Какие же у него радости? — удивился бай.
— Всякие. Мать и отец — живы, здоровы. Первая радость. Девушка любит — вторая радость. По родной земле ходит — третья, самая большая радость. А земля-то цветами изукрашена, лесными богатствами населена, в небе — солнышко, и птицы поют. И он-то на ней работник.
Задумался бай, пораженный сидит. Казалось ему, что все радости земные он себе забрал, людям ничего не оставил…
И приказал бай слугам своим верным: схватить отца и мать Сабаная, бросить их в озеро с мертвой водой. Посмотрим, дескать, как-то запоет их веселый сынок!
Налетели, как коршуны, байские джигиты в кочевье, схватили стариков.
Ничего не знал, не ведал про то Сабанай. В горах байские отары стерег, красотою земною любовался. И только вернувшись домой, узнал, какое великое горе случилось.
— Ну, как там поет Сабанай? — нетерпеливо спрашивал бай.
— Поет, — отвечали верные слуги.
И верно: пел Сабанай. А люди, слушая его, распрямляли сгорбленные спины, пастухи крепче сжимали рукоятки кнутов, кузнецы поднимали молоты.
Хуже прежнего рассердился бай… И когда притихло кочевье, когда острая боль Сабаная по смерти отца и матери в тихую грусть перешла, решил бай нанести новый удар.
Как-то вечером поджидал Сабанай свою невесту Аку и пел для нее заветную песню. Не знал он, что, слушая его, злорадно улыбался бай: напрасно, дескать, стараешься, сокол, горлинка твоя брошена, связанная, на дно Поганого озера.
Пел Сабанай, пел свою заветную песню, но так и не дождавшись любимой, к кошу ее направился.
— Скажи, пожалуйста, почтенный ага, где твоя дочь? — спросил он у отца Аки.
— Разве она не дошла до тебя, Сабанай? Мы все здесь слышали твою песню…
Люди кочевья бросились в горы искать Аку. К длинным шестам привязали конские хвосты и смочив их смолою подожгли: стало в лесу светло, как днем.
Но, отыскав следы девушки на косой тропе, ведущей в гору, еще больше расстроились друзья Сабаная. Следы на полпути обрывались: все поняли, что злые люди отняли у Сабаная возлюбленную…
Радовался бай — наконец-то избавился он от ненавистных песен!
Но Сабанай запел. И страшной была его песня. Всю свою боль он слил с горем подневольного народа, и голос его звучал, как набатный призыв.
Испугался тогда бай, сна совершенно лишился. Приказал привести к себе Сабаная.
— Чем раньше вырвешь жало у змеи, тем лучше, — шипел он наушникам своим.
Высоко был Сабанай в горах, но ветром принесся посланец бая и велел пастуху следовать за ним.
Был поздний летний вечер. Все живое ложилось на покой, когда Сабанай и посланец бая соскочили с коней у байской юрты.
Десять лучников-воинов с колчанами за плечами словно выросли из-под земли и застыли возле бая — седого властного старика, одетого в богатый халат и обутого в мягкие сапожки. Видать, не грела кровь бая, хотя стояла летняя пора. Только неукротимая сила, сверкающая в его глазах под лохматыми бровями, говорила о неугасимой воле к жизни.
И вот встали друг против друга две силы. Один — требующий повиновения, другой — непокорный, как Ай на перекатах.
Приказ бая краток: связать пастуха цепями и кинуть в омут — рядом с теми озерами, куда были брошены отец, мать и невеста батыра.
Набросились лучники тут же на Сабаная. Как ни отбивался пастух, одолели лучники его, связали цепями и повели в ночь.
В дремучем лесу спрятала земля это озеро-омут.
Черная грязь лежала в нем поверх воды, и страшным местом люди озеро называли.
В глухую полночь добрались лучники до него. И как был Сабанай опутан цепями, так и кинули его в озеро, поспешив скорей уйти от того жуткого места.
Но пастухи тоже не дремали. Те, которым Сабанаевы песни крепче запали в сердце, первыми бросились спасать его.
Пока они пробирались через чащобу, искали тропу, те уже сделали свое черное дело. И что тут поднялось! Целая битва разыгралась. Пастухи требовали показать им то место, куда был брошен Сабанай…
Подбежали люди к озеру и от удивления замерли. Сабанай, как был брошен, так и лежал поверх воды, только печально глядел в небо.
Весть о том, что Сабанай не утонул в страшном омуте, живым остался, разнеслась по всему краю.
Донеслись слухи об этом чуде и до бая. В бессильной злобе решился бай на страшное дело: приказал уничтожить всех птиц в лесах вокруг людского жилья, зная, что их пенье — большая человеческая радость.
Птицы до последней были перебиты в лесу. Даже дятлы, и те мертвыми упали на траву. Омертвел лес…
Прошло три дня, как не стало в лесу птиц. А на четвертый, к ночи, когда баю не спалось, вдруг раздался гул. Словно земля под юртой зашевелилась. В страхе бай выскочил из юрты и увидел в полумраке, как лес двинулся на него… Вскочил бай на коня и помчался. Но ни один лучник не последовал за ним. В страхе они на месте ровно застыли.
А бай мчался все вперед и вперед. И сколько бы раз он ни оглядывался — лес медленно, но грозно двигался на него. Потом бай уже несся без памяти, не разбирая троп и дорог. А гул все нарастал и креп. Лес уже гудел, ревом и шумом будил горы. Ветви деревьев качались, как руки опечаленных людей. Гнев леса был так велик, что, говорят, на Таганае камни не удержались на вершинах и потоком хлынули вниз…
И в это время раздался голос Сабаная. Он запел, и лес остановился! А перед баем озеро показалось. Чуть сбулькала в нем вода — наступил конец для бая…
С той поры озеро это Зюраткулем зовется — могилой.
Озеро же, в которое был брошен Сабанай, и по сей день Сабанаевым люди называют и исцеление находят в нем. Рядом с ним также лечебные озера находятся: Родительское (Башкуль) и Обновляющее (Акакуль).
Родники, забившие из земли тогда, когда плакали люди о погубленных птицах, и ныне бегут, словно не давая людям забыть сказку о пастухе Сабанае.
Вот и конец старинной сказке. К былям наших дней подошли.
Когда ночь ложится на Урал и засыпают лес и горы, — будь это летней порой или в зимнюю стужу — зажигаются огни во дворцах, санаториях вокруг озера Увильды. И прошлое Урала теперь для людей только сказками звучит…
ГЛЯДЕНЬ-ГОРА
В стародавние времена люди в сказках сказывали, будто в каждой горе, как у человека, сердце бьется. И ежели задумает какой человек в гору пойти, на вершину забраться, — добрый человек, как по избе пройдет, спокойно поднимется, а другой, у кого в сердце зло да корысть, как ни цепляется он за каждый камень, ни хватается за кусты, — не дойти ему до вершины. То ветер налетит и такой, что пушинкой сдует в пропасть. То гроза загремит, молнии засверкают — одна гибель человеку. От него и следа не найдешь.
Взять хотя бы гору Иремель. Каждой жилкой, каждым камешком она чувствует, кто к ней подошел: человек с любовью или со злом. Вот потому и говорят, ни один корыстный человек да злой себялюб ни разу не смог до вершины Иремеля добраться.
А на Таганае дальнем и по сей день на вершине будто железный крест стоит, а под ним жаднющий горщик лежит. Хватал он хватал самоцветы, да в щель между скал и провалился. Сердце горы наказало его.
И вот, говорят, много-много лет назад зимой жители крохотного башкирского становища-кочевья на Урале трех всадников на конях-птицах увидали. Были всадники — богатырь к богатырю, и кони под ними — под стать всадникам. Приехали посланцы торговых людей, новгородских купцов и самого князя в эти места, чтоб разведать правду о несметных богатствах Камня гор. Давно молва о разных рудах и самоцветах в людском море волной о стены Новгорода плескалась. Богатырям был дан наказ — найти эти сказочные горы, взять из них руды, камни-самоцветы. Нет ли там серебра, меди? А может быть, и золото найдется?
Значит, богатыри были — не просто землепроходцы, а в рудах, камнях толк понимали. Старший из них — Иванко, прозванный «Тяжелой Ступней», одним из лучших среди знатных гранильщиков считался. Умел он в любом камне красоту открыть, да и сам, словно редкий камешек, красотой сиял. Статный, высокий, с русой бородой, с головой в кудрях золотых и со светлой улыбкой на губах. Только походку он тяжелую имел. Как ступит, так глубокий след в земле оставит. Второго богатыря звали Фомой, а третьего — Терентием. Парни, как парни. Один здоровше другого. Поглядишь на каждого — гору своротить может.
Так вот. Спустились с горы богатыри, увидав в низине жилье, соскочили с коней и к первой же юрте подошли.
Загляделись люди кочевья на гостей, на их добрые улыбки, на одежду. Видать, приглянулись им гости; понравилась приветливость, почтение богатырей, — заулыбались. Нашелся и толмач — разговорились. Когда в глазах у людей добрый огонек играет, и вовсе легко понять друг друга.
Обжились помаленьку гости на новом месте. Помогли им люди срубить добрую избу из кондового леса. Кто кошму принес, кто — медвежьи шкуры. Одарили гостей луками и колчанами, полными стрел. Одним словом, по-братски встретили далеких гостей.
Не заметили гости, как и зима прошла. Ходили на охоту. Еды — хоть отбавляй. Когда же оттаяла земля, солнце припекать стало, принялись руды искать. С жителями кочевья и вовсе подружились. Как и чем могли — помогали хозяевам земли.
Больше всего дружба у богатырей завязалась с двумя сиротами-близнецами. Парня Иргизом звали, а сестру — Таньчулпан. Было им обоим по семнадцать лет. Сами кормились да еще больную бабку кормили. Подружились близнецы с богатырями и стали с ними по горам ходить, камни да руды искать.
На многие горы поднимались новгородцы, много руд пересмотрели, в речках камни искали. И чем больше богатств находили, тем грустнее становился Иванко-Тяжелая Ступня.
И недоумевали парни:
— Али печалишься, что все унести не можешь?
— Не о том я кручинюсь, други-товарищи, что всего злата-серебра, всех изумрудов-яхонтов не ухватить… Вспомните наш торг новгородский, лавки гостиные, что против Софии-матушки на Волхов-реке. Съезжаются туда купцы именитые из всех стран света — из полунощной Варягии, из полуденной Бухары. Товары, как горы, под Кутафьими башнями лежат; монеты со звоном из мешка в мешок переливаются… И еще вспомните, как из-за каждого пятиалтынного спорят-дерутся, из-за рубленого серебра готовы разорвать друг друга.
— Да-а, — задумался Фома.
— Страсть, — подтвердил Терентий.
— То-то и оно, — продолжал Иванко. — Узнают жадные купцы про богатства уральские… Что-о-о начнется!
— Да-а, — еще раз молвил Фома.
— Страсть, — подтвердил Терентий. — Может уйдем, а князю скажем: «Урал — пустая земля».
— И то негоже, — возразил Иванко. — На то и богатства земные, чтобы людям служить.
— Да, — согласился Фома.
— Конечно, — сказал Терентий.
И вот ходят они по горам, примечают, где жила золотая, где алмазные россыпи, а сами все думают, думают. А известно: коли мысль в одну сторону пошла — исход все равно будет. Решили братья все найденные богатства в одну самую большую гору собрать, да чтоб никто о том не знал и не ведал. Пусть полежат до времени, до той самой поры, когда люди людьми станут по-настоящему. И зарок поставили: если пойдет на ту гору худой человек, чтоб не давалась она ему. Жадный — в яму, злой — в пропасть, завистливый — под гору чтоб кубарем летел!
Задумано — сделано. Иргиз помог им заветное место отыскать.
Как-то раз на такую высь они поднялись, что во все стороны хребты увидали. Горы в зеленых шапках из лесов далеко-далеко к поднебесью уходили.
Дух захватило у парней от красоты такой. Долго любовались они увиденным, а потом Иванко как крикнет во всю силу своей богатырской груди:
— На высокой Глядень-горе мы стоим! Други-товарищи! Округ видать! Гляди — не наглядишься!
Иргиз богатырям рассказал про эту гору, что зовут ее у них Курер-тау. А новгородцы по-своему чудо-гору назвали: Глядень-гора. Но не только высотой гора примечательна. Внутри у нее большая пещера была — хоть город возводи.
И вот туда стали богатыри свои находки складывать. И чем дальше время шло и богатыри все больше в горах копались, тем сильнее дружба крепла у них с сиротами-близнецами.
Говорят, все может запомнить человек: когда что потерял и когда что нашел, когда диковинный камень отыскал, иль впервые хрустальную гору увидел, иль рыбу редкую в озере поймал, а вот когда при виде Таньчулпан-Утренней Зари у Иванка сердце пуще забилось, — он и сам не знал. А была Таньчулпан красоты — не опишешь. Волосы — шелк, глаза — теплая летняя ночь над горами…
У Фомы с Терентием тоже дел прибавилось — камни, руды искать, а по вечерней заре на Глядень-гору со своими подружками бежать да с нее на сказочные хребты любоваться; вечернюю зорю проводить, а потом утреннюю встречать.
Прошел год, когда впервые богатыри с коней в становище соскочили. Много за это время Иванко-Тяжелая Ступня успел с товарищами собрать редких самоцветов, а уезжать — не манило сердце богатырей. Так бы и остались все навек здесь. Прикипели их сердца к этим местам, а потому, когда какая-нибудь беда в кочевье приходила, новгородцы первыми приходили на помощь. Говорят, в то жаркое лето начался пожар страшный в лесах. Довелось всем немало попотеть, но пожар затушили. А один раз, уж под осень, такая непогодь настала — словно небо озверело. Дождь лил день и ночь. В одном месте гора в речку обвалилась, речку запрудило. Пришла беда. Все заливать начало. Скот и люди погибали. Немедля Иванко-Тяжелая Ступня со своими товарищами раскидали и очистили речку. Близнец Иргиз-то, хоть по годам молод был, а силы тоже — богатырской. Во всем он Иванку помогал. Не отходил от друга.
Но пришла пора домой отправляться. Не под силу человеку остановить времени бег.
В последний вечер каждый из богатырей пошел к любимой подруге попрощаться навсегда.
Иванко же, Иргиз и Таньчулпан поднялись на Глядень-гору. Долго молча стояли, не до разговоров было всем… И вдруг отдаленный рев, гул, крики ветром от жилья до них донесло…
Кинулись они с горы и страшную картину увидали: в жилье бой кипит. Напали на кочевье враги из степей. Слух об открытых сокровищах, видно, уже пошел по земле, и вот явились первые конники.
Выхватил Иванко свой кинжал из ножен и плечо к плечу с Иргизом в бой с врагами вступил. Терентий и Фома уже сражались в самой середине битвы.
Долго длился бой, оттого что враги, словно тучи — одна за другой, накатывались на кочевье.
Пал замертво Иргиз. За ним на груду тел свалился Терентий. Весь израненный еще сколько-то сражался Фома, но и он с земли не поднялся. Последним с рассеченной грудью рухнул Иванко-Тяжелая Ступня, а кругом отцы и сыны жителей маленького кочевья мертвыми лежали. Иванко чуть-чуть был живой. Кровь из груди его ручьем бежала…
Сколько он пролежал — не знал, а когда очнулся, над собой склонившегося старика увидал. Куренбеком его звали. Чудом спасся старик, а когда он выходил Иванку, то рассказал ему о том, как всех-всех живых баскаки-ордынцы в полон увели. Ни одной души не осталось. Все становище было разорено. Зарыл старик в землю погибших. На вопрос Иванка — «Не было ли среди мертвых Таньчулпан?» — старик ответил, что помнит, как она кричала, Иванку и брата звала на помощь, когда ее связывали с другими одной цепью и в степь повели… Враги плетями подгоняли полоненных…
— А были ли ордынцы на Глядень-горе? — спросил Иванко.
Усмехнулся старик и в глазах его русский богатырь задорные огоньки увидал.
— Как же… Пытались. Да не подпустила их Глядень-гора. Сосны падали прямо на врагов. А больше того сами они в ямы попадали. Сколько живу, а такого за горой раньше не примечал. Не знаешь ли ты, русский брат, что стало с Курер-тау?
И хоть знал Иванко, что с горой случилось, в ответ отрицательно покачал головой. А потом тихо, но внятно сказал:
— Никогда больше человеку с мечом не бывать на Глядень-горе!
Поправившись от ран, Иванко поднялся на Глядень-гору и долго смотрел с нее, словно хотел узнать, куда была уведена Таньчулпан, словно хотел спросить горы, не видали ли они любимую его. Но хмурились и молчали горы… До самой весны, — говорится в сказке, — носился Иванко по тропам в горах — искал дорогу, по которой увели его Таньчулпан. Но еще печальней возвращался. Без следа исчезла его Утренняя Заря.
Потом Иванко попрощался со стариком. Сходил туда, где товарищи его в земле лежали, да где конь любимый пал. Постоял, поднялся в последний раз на Глядень-гору. Проверил все собранные здесь сокровища, подбадривая себя думою: «Все это для людей. Рано или поздно Глядень-гора все людям откроет…» Заделал вход. Поглядел в последний раз на леса и ушел с Камня-гор навсегда.
Говорят, и по сей день следы Тяжелой Ступни на камнях видно. По-разному об этом в сказках говорится.
Но главная суть в том, что сколько потом ни пытались люди с злыми сердцами сокровища Иванки в Глядень-горе искать — все безуспешно. То ураган сметет тех, кто поднимался, то молния убьет.
И только много лет спустя, когда сам народ хозяином земли стал, Глядень-гора свои сокровища ему открыла.
Вот и сказка вся, да маленькая присказка будет. Про Иванку говорится, что не мог он смириться с думой о потере Таньчулпан. Много он земель обошел, не раз сражался с врагами… И будь жива его мать, она вправе была бы сказать: «Какое счастье для меня, что я тебя, сын, таким верным сердцем одарила…»
АНСАРОВЫ ОГНИ
«Без сказок скучно жить на свете», — говорил много лет назад бывалый шахтер из Пласта Валей Гильманшин.
Вот это был сказочник! Из слов будто кружева свяжет. Да так ловко скажет — не хочешь, а поверишь. И не только поверишь, а своими глазами увидишь, как на степь целый город опускается, с дворцами, садами, минаретами. Даже воду заприметишь. Чудо — и только.
Про шахты да про свое горняцкое житье-бытье, наособицу про золото, без счету сказки говорил.
К слову сказать, про него самого одну историю рассказывали.
Случилась она, когда новую шахту заложили, и занорыш чуть не с полфунта весом сразу Валею земля отдала. Без малого на поверхности золото лежало. Обрадовался Валей, принялся потеть дальше. Когда радостно на сердце, то и кайло в руках заиграет. И земля дальше вовсе рыхлая пошла.
Вдруг шахтеры, что рядом с Валеем шахты били, сильный крик услыхали. По голосу узнали — кричал Валей, а что кричал, не могли разобрать люди.
Кинулись все, кто тут близко был, смотрят, а Валей из шахты на четвереньках сам ползет.
— И вовсе не глубоко я пробился, аршина три будет, не больше, — рассказывал он. — Ударил по пустой породе, чую, за что-то твердое кайло зацепилось. Ого! — думаю я про себя, — надо добыть огонек, поглядеть, чего это там в земле спрятано. Добыл огонь, посветил, а земля сыплется на меня, будто глаза запорошить хочет. Откидал я землю, и дух во мне захватило: как на большом столе, пуда на полтора щетка аметистов лежит. Камень к камню — целое семейство. Окраска густая, фиолетовая. Не камни, а корольки. — Валей дух перевел и продолжал: — А потом и совсем чудо дивное я усмотрел: в каждом камне посередке золотая пластинка поблескивает. Я туда-сюда светец-то над камнями рукой вожу, как есть в каждом камне золото лежит!
Достали шахтеры друзу-щетку и увидели такую красоту, что от удивления аж память потеряли.
Ну, а потом хозяин прииска на Валееву находку, говорят, купил в Петербурге и в Париже дворцы… А Валей? Как был горщиком, так им и остался. До смерти землю рыл, золото добывал. И сказки говорил. Помню я одну из них. Вот она:
Было это много лет назад там, где ныне Коркинские угольные разрезы землю бороздят.
Вот в те далекие годы, когда леса еще тут стояли, через них, словно опояска земли, дорога проходила. Круглый год, день и ночь шли этой дорогой караваны. Везли купцы из дальних стран свои товары.
В один из годов на землю пала ранняя осень, а за ней зима. Торопились купцы до большого снега добраться к жилью. А жилье их ждало у гостеприимного народа — башкир. Но как ни торопились купцы, как ни подгоняли верблюдов погонщики — черные снеговые тучи одна за другой носились по небу. И хоть днем теплело, таял снег — по ночам кругом все замерзало.
А в одну из ночей, когда путники были почти у цели, поднялся страшный ураган. Испугались люди, потеряв дорогу.
Принялись они молить небо, чтобы сжалилось оно над ними, но небо было неумолимо. И когда на землю пала тьма и все слилось воедино, они вдруг огонь увидали — четыре столба искры сыпали кругом.
Поначалу не поверили путники глазам своим, но когда поспешили, то от удивления об усталости забыли: из четырех ям поднимался огонь, и как ни дул на него ветер-великан, огни в ямах пуще разгорались. Возле одной путники увидали высокого сильного джигита, одетого в бешмет из медвежьей шкуры да в шапку, отороченную двумя золотистыми лисами. Обрадовались путники встрече с человеком, а узнав, что жилье близко, совсем повеселели.
Когда караван достиг жилья, туда пришел по просьбе купцов хранитель чудо-огня, джигит, по имени Ансар. Он рассказал путникам все, что знал об огне.
Поведал им Ансар, как возвращался он с охоты и заблудился. Кружил, кружил по степи и лесу, а все на одно и то же место возвращался. Ночь застала его здесь, посреди степи. Дело было летом. Набрал Ансар сухой травы, вырыл яму, чтобы ветер костер не загасил, добыл огонь. Но долго ли будет гореть сухая трава, уже сожженная прошлогодним солнцем? Пошел он снова собирать сухую траву и нечаянно взглянул на костер. Взглянул и обмер: огонь в костре по-другому пламенел, не полыхал, а ровным низким пламенем мерцал. Подбежал джигит к костру и диво увидал: сухая трава уж сгорела, а сама земля, черная, как камень-шайтан, ярко пламенела.
Не мог уснуть в ту ночь Ансар, все глядел и глядел на чудо, а когда забрезжил над землей рассвет, принялся копать новые ямы. Выкопал еще три, бросил в них сухой травы, поджег. И снова загорелась земля.
Вот с той поры и не было конца огню в четырех ямах. Не гасли эти костры…
Немало народа приезжало посмотреть на Ансарово диво. Немало и караванов останавливалось отдохнуть у чудо-огней, но никто не знал, почему земля горит, почему не гаснут огни. А Ансар все охранял огонь, стерег, чтобы не потушил кто-нибудь его. Постепенно отбился он от людей, оброс длинной бородой, стал молчалив, и время ранними морщинами на его лице глубокие рисунки начертало.
Забыл джигит счет сменам зимы и лета. Только огонь в земле манил его своей тайной, которую ни Ансар и никто другой не мог разгадать. Земля крепко держала эту тайну, неподвластную даже аксакалам-мудрецам.
Вот и поползли слухи по далеким становищам и кочевьям об Ансаровых огнях.
Дошла молва об этих огнях до визирей и самого хана. Ну, и как всегда — шепотки на ухо приближенных мулл — служителей самого аллаха.
— Противно аллаху неразгаданное чудо о горящей земле — Ансаровых огнях. Дело это самого шайтана, не иначе. И Ансар душу свою шайтану продал, — шептали муллы.
А тут на Ансарову беду понадобился человек, на которого можно было б свалить все беды — неурожай, голод, неудачи в набегах на соседей. Вот потому в один из жарких летних дней, когда от зноя изнемогала степь, Ансар увидел большую толпу людей. Они двигались стеной, размахивая палками и железными шестами.
Впереди всех на черном, как сажа, коне, сияя богатым халатом, украшенным каменьями, ехал визирь, окруженный стражей.
Четыре конника подскакали к Ансару. Соскочили с коней и кинулись к нему.
Тут же он был связан и подведен к одной из четырех ям, из которой тихо и ровно земля пламенем дышала.
— Шайтан! Это шайтан! — кричал визирь и приказал без промедления бросить Ансара в яму с огнем.
Слово визиря — закон.
И видать, так пламенело его сердце, напоенное желанием вырвать у земли одну из ее тайн, что когда он факелом пылал — ни разу от боли не вскричал.
Но, говорят, — в том и сказки смысл, — как сгорел Ансар, сразу пламя в четырех ямах пропало, будто его и не бывало, только четыре глубоких, пустых ямы, как мертвые глаза земли, на небо глядели, наводя страх на людей, обходивших потом стороной это место.
Вот и конец сказке. Известно, что все проходит, как проходит день и даже век. Немало пронеслось годов с тех пор, как Ансар впервые прикоснулся к великой тайне, неразгаданной в ту пору, — тайне каменного угля.
Известно и другое. В жизни не раз старинные сказки и легенды помогали людям открыть то, что уж давно время покрыло своим темным одеянием. Разве не помнят люди, что многие заводы строились там, где когда-то Чудские копани сохранились?
И сказка об Ансаровых огнях из поколения в поколение передавалась, как передавались и другие сказки. Вот, может, и натакала она ученого инженера Редикорцева полтораста лет назад искать Ансаровы ямы с чудом — горящей землей? Кто его знает?
Известно, что открыл инженер Редикорцев тайну земли — залежи каменного угля. В тех местах стояла всего одна избушка беглого человека Коркина, Потом, когда стали в этих местах шахты закладывать, назвали их Коркинскими.
И снова годами время прошумело. Не узнать места, где Ансар впервые увидел огонь каменного угля.
Но когда ныне смотришь, как в печах горит каменный уголь, невольно вспоминаешь старинную легенду-сказку об Ансаровых огнях…
КЛИНОК УРЕНЬГИ
© Южно-Уральское книжное издательство, 1968 г.
© Южно-Уральское книжное издательство, 1974 г., с изменениями.
Говорят, время что метелица зимой. Все заметает. И верно. Многое замели эти метели о прошлом нашего Урала. Только легенды и сказки живут, да и те забываться стали.
Расскажу я одну о «Клинке Уреньги», чтобы и эта сказка не забылась.
Будто много лет назад на месте Златоуста кочевье степняков-ордынцев жило. В лесах спасались люди от буранов, а потом и совсем осело кочевье в горах — аул образовался. Люди охотой занимались, гнали смолу и деготь. Только пастухи, как и прежде, с весны до осени глубокой уводили в степи скот… Поначалу тоскливо было новоселам после жаркой степи, да еще в непогоду, когда хлестал дождь по горам, по верху кибиток и юрт. Наверное, не раз вспоминали ордынцы покинутые ими ковыльные моря и дальние зарницы над степями.
Хозяином кочевья и несметных табунов скота был мурза Дженибек, потомок какого-то хана. И говорили, что скорее согнешь сосну, нежели волю его сломишь. Был он подобен рыси, нападающей на беззащитную косулю. Сам он собирал ясак с народа. И горе было тому, кто не мог заплатить ясак. Что хотел Дженибек, то и делал с подневольным человеком. Вот откуда брались богатства у мурзы.
Когда же не подчинялись ему люди и уходили дальше в степь, то страшно было, если их доставали цепкие руки Дженибека. Только пепел оставался от людских жилищ да кости белели на дорогах. Недаром матери плачущим детям говорили: «Будешь плакать — отдам Дженибеку». Стоном стонали люди от него.
Говорится, что не сразу приходит на землю весенняя пора и не в одну ночь расцветают цветы. Так не в одночасье задумали пастухи проучить Дженибека, а больше того думали они — кому под силу такое. Известно, все пастухи и охотники бесстрашны. Каждый мог угодить в птицу на лету, заарканить дикого коня, проскакать много-много дней без пищи и воды. Но только Уреньга — «Живущая лицом к огню» — могла осуществить то, что задумали пастухи.
Девушка была храбра, как смелый воин в бою, ненавидела мурзу (ее мать погибла под плетями Дженибека), а главное — кидала клинок без промаха. Научил ее этому отец, перенявший такое умение в далекой стране, где снега не бывает. Попал он туда с табуном скота, проданный мурзой самому падишаху. И однажды на большой дороге ему удалось спасти от разбойников оружейника. Тот подарил отцу клинок. А перед смертью отец отдал его дочери.
Да, вот это был клинок! Пригнешь его конец к рукоятке, и клинок не ломается. Резал железо легко, словно хлеб; со звоном врезался в старую сосну; от времени не чернел.
Говорят, не часто загорались глаза у башкира при виде клинков и мечей. Какой джигит ездил в поход без клинка, лука и колчана за спиной? Но загорались глаза у многих джигитов, даже у стариков, при виде клинка Уреньги. Трудно было оторвать взгляд от такого дива. Насечка из серебра легкой дымкой мерцала на булате, который тысячами искр сверкал, когда его кидала Уреньга.
Знали пастухи, что Дженибек больше всего на свете боялся разжиреть, но от обжорства и безделья все-таки жирел, а потому часто ездил вершним на перевал.
Выйдет на гору, едва-едва отдышавшись, примется смотреть кругом — ведь все владения его! Два джигита неразлучно следовали за ним. Но верили пастухи — не подведет их Уреньга: сделает все так, как надо. Пролетит клинок мимо самого уха Дженибека и не заденет, а ему урок на всю жизнь. Пусть помнит старая рысь, что клинок может угодить и в сердце.
И когда Дженибек отправился на перевал, Уреньга держала уже клинок наготове.
Прошло какое-то время. Бикбулат у трех сосен за перевалом поджидал Уреньгу…
И вдруг окрест раздался вой — то ли человека, то ли зверя, из-за ветра трудно было разобрать.
…Клялась Уреньга пастуху, что хорошо видела — не промахнулась: клинок пролетел мимо уха Дженибека, и мурза в страхе поворотил коня обратно.
Видела Уреньга, и как джигиты за ним поворотили. Но кто ревел так смертельно, не ведала она. Убила кого-то, не иначе.
Выйдя на дорогу, Бикбулат и Уреньга пошли в лес за клинком и тут увидали: на поляне стоял на своих тоненьких ножках маленький лосенок. Он молча, беспомощно посмотрел на Уреньгу и направился к ней.
— Бежим, Уреньга! Бежим скорее. Дженибек пошлет погоню. Клинок найдем потом. — Так говорил пастух.
Но Уреньга словно застыла на месте, поняв, в кого она попала: мать лосенка унесла ее клинок…
Не зря торопился Бикбулат. Ветром принеслась погоня. Ни Уреньга, ни Бикбулат не успели скрыться. Обоих тут же заковали в цепи…
— Шайтан сидит в этой девке! — грозно кричал старик. — Она посмела поднять руку на своего владыку, но слава аллаху, что он отвел ее клинок… — И, повернувшись к Уреньге, мурза спросил: — А теперь скажи, дочь шайтана, может, ты жалеешь, что подняла руку на своего владыку, на меня?
Не сразу ответила Уреньга. Она печально поглядела вокруг себя — на горы и леса. Чуяло ее сердце: не видать ей больше этого никогда. Жесток был мурза. Врагов не прощал. А просить пощады она не станет. И, гордо тряхнув головой, Уреньга ясно и твердо проговорила:
— Жалею об одном, что не промахнулась, что в живых оставила. — И, может, Уреньга сказала бы еще чего-нибудь, но в это время загремел цепями Бикбулат. Он был весь избит, в разорванной рубахе. Пять конников, верных псов Дженибека, тут же прикончили его.
Наутро Уреньга была ослеплена и слугами Дженибека отправлена далеко в хребты. И, видать, так далеко ее увели, что потом люди, хоть им за это грозила смерть, как ни искали, — не нашли. Только много-много лет спустя один охотник в горах наткнулся на обглоданный зверями скелет, возле которого лежала девичья коса.
Позднее Салават Юлаев в своих песнях славил и Уреньгу, и Бикбулата, и всех-всех, о ком люди предания и сказы сложили…
* * *
Немало студеных зим с буранами и непогодой отшумело над Уралом с той поры, как ордынцы в последний раз в эти места Косотур-горы приходили. Земли мурзы Дженибека были разорены. Самого его взяли в плен и увели тургайцы. Обезлюдели хребты; только Громотуха — буйная по веснам речушка — шумела, как всегда, да пенился Ай, играя с камнями.
И снова зазвенели топоры, завизжали пилы, застонал в горах вековой бор. В лесах насторожились звери. Не стало покоя возле Косотур-горы. На месте древнего кочевья вырастал завод.
Нелегко было новоселам обживать горный край. И, глядя на вечные дожди, народ говорил: «Само небушко жалеет нас. Плачет с нами каждый день».
Говорили, а сами трудились. Засыпали плотину. Задымили домны.
Улочки домов нитками протянулись по сопкам и горам… И тогда всем казалось, что помолодели горы, повеселел бор. В один из таких дней, светлых и ясных, работные люди увидали на Косотур-горе красавца-сохатого. Он стоял на высоком шихане, будто высеченный из камня, и глядел вниз, где бегали полуголые ребятишки да, надрываясь, ругался надзиратель.
Говорят, время лечит раны. И не только раны, но и все живое на земле. На месте кочевья выросла деревня, а потом завод. Где были старинные копи, появились рудники. Вырос и лосенок-сирота. В великана-сохатого превратился. А сколько-то времени спустя пришел для него день, когда он стал вожаком всего стада лосей на перевале…
Так вот. Часто стал появляться сохатый на шихане Косотур-горы, а работные любовались им. Даже в непогоду — когда хлестал дождь или снег шел — сохатый стоял на шихане и гордо глядел на землю и леса. Тут когда-то лежала его мертвая мать, да на свету луны поблескивало то, что сделало его сиротой, — клинок Уреньги.
Не сговариваясь, каждому чужому охотнику, заблудившемуся да еще охочему до шкур сохатых, заводские говорили: «Этого сохатого, что стоит на Косотур-горе, не трожь! Это наша радость. За смерть его можешь поплатиться головой».
«А пойди разберись, который сохатый их радость? Лучше не связываться», — решали охотники между собой, зная силу кулаков и слов работных из Златоуста, а потому обходили Косотур стороной.
Не знал красавец-сохатый, что им любовался сын кузнеца Кириллы Уткина — Петьша. Тихо слезал маленький парнишка с печки и, прильнув к оконцу, смотрел на гору и ждал, когда опять придет сохатый. Было парнишке в ту пору десять годов — не больше.
«Вот вырасту большой, буду робить с тятей в кузне к откую клинок, а на нем вытравлю гору, как Косотур, и пруд кругом, а на горе сохатого, как есть такого же живого, с рогами, и чтобы каждая шерстинка на нем была видна», — думал Петьша про себя.
И ведь отковал! Лет двенадцать Петьше было, когда его отец в кузницу привел и начал приучать к ремеслу. А года через два сын подал отцу клинок, на котором целая картина красовалась. Все было на ней: и горы, и леса, и сохатый на шихане… А некоторое время спустя Петр Уткин стал отменным мастером на Урале.
Большой был в те годы спрос на клинки. Шла Отечественная война 1812 года. Уткинские же клинки только генералам шли в награды.
Одним словом, хоть и нескоро в ту пору вести доходили, а все же молва по всему свету начала гулять про златоустовских мастеров. И сегодня в Оружейной палате в самой матушке Москве лежат на бархатных подушках клинки Уткина и Бушуева… Да что говорить, большие мастера трудились в добром Златоустовском гнезде возле Косотур-горы. Недаром и поговорки про их умение рождались в народе, вроде такой: «На Косотуре отливали, а в Измаиле стены дрожали».
Пылали горновые печи в Златоусте, и над тайной булатной стали бились мастера, а с ними самый большой чародей — Аносов. Любили его работные люди и не раз говорили между собой: «Ране-то Павла Петровича, бывало, мимо господского дома пойдешь, аж руку ломило — шапку снять, а при Аносове — сама рука тянется к голове… Вот оно дело-то какое!»
В ту пору работали в Златоусте и немецкие мастера. Не верило горное начальство в умение наших мастеров. Выписывали немецких. На славе они были тогда, и наособицу золингеновские гремели. Большие деньги им платили. Только по справедливости говоря, наши мастера этих золингеновских опережали и по силе клинков и по красоте отделки. Оттого и боялись: поймет наше начальство это и прогонит их.
Пытались они вызнать у наших мастеров секрет чеканки, только и тут у них осечка получилась. Шуточками да прибауточками отговаривался тот же Уткин. Говорят, как-то раз оружейник из немецкой улочки шибко пристал к Уткину, он и ответил:
— Есть за Таганаем гора. В той горе пещера. В той пещере вход. Семь дней и семь ночей по этому входу на брюхе ползти надо до новой пещеры. Во второй пещере посередке стоит большой сундук, обитый железом. Не подходи к нему, в нем змеи спят. Еще семь дней ползи. Опять в пещеру угадаешь. Там новый сундук увидишь, только серебром обитый. В этом сундуке черепа лежат. Да так до седьмого сундука и доползешь, а в нем на семи замках закрыт мой секрет, как я клинки кую…
Когда же стал Петр первым мастером и первым помощником Аносова, то от немецких оружейников уже не присказульками отговаривался, а твердо говорил им:
— За тайну своего дела еще наши деды держались. Фабрика или кузница, где холодное оружие куется, — это тебе и наступление и оборона. К чему мы будем вам открываться или кому другому?
А тут еще новое дело приключилось. Стали немецкие мастера в русскую веру переходить. И все из-за заводских красавиц получалось. Принялись они к этим красавицам сватов подсылать, как заведено было в ту пору на Урале.
Да и между собой у них разговоры пошли, что все равно не перебольшить им аносовских мастеров. Видать, как прижились гости на Урале, так спесь-то свою потеряли. Забеспокоилось немецкое начальство от таких вестей с Урала. Принялись они из Германии одного за другим нарочитых посылать в Златоуст. Были среди них и умные и добрые. Мастера большие, но опять же добиться ничего не могли. Не под силу им было понять русскую душу работного человека.
Только самый последний из приезжих герр Роберт Готлиб Штамм увидел такое, чего не увидели другие, хоть и был крикун и злюка, каких бывает мало. Собой толстенький, на коротких ножках, однако, когда надо было, ловко танцевал. Умел веселиться. Одним словом, на все времена года характер имел. Ходил в мундирчике со светлыми пуговками, в башмачках на высоких каблуках — по тогдашней моде. Смешным он нашим богатырям казался.
Ну вот. Приехал в Златоуст, перво-наперво принялся за своих. Начались допросы оружейников. Как, мол, посмели признать себя ниже аносовских работных. Особенно допекал чеканщиков.
— Позор! Германия! Золингеновский оружейник! Позор! — кричал он, стуча о пол каблуками.
И только позднее, когда пообвык да пригляделся, увидел красу Златоуста, Косотур-горы, побывал на охоте на косуль да на глухарей, послушал шум дремучих лесов, начал понимать, — отчего рисунок у работных Златоуста на саблях жизнью дышит, не в пример бледным и неярким насечкам на немецких клинках.
Как-то раз герр Штамм дознался, что в последние дни перед новым годом не выходил Аносов из цехов. Плавки одна за другой проводились там. Озлился Штамм, узнав про такое. Не мог он придумать, как выведать тайну о булатной аносовской стали. Покоя лишился герр.
И вдруг в это самое время кто-то из оружейников донес Штамму, что в деревне живет старый охотник, у которого якобы хранится редкостный клинок, с рукояткой из одних самоцветов. Нашел клинок старик где-то на перевале, в чащобе.
Повеселел герр Роберт Штамм.
«Герр Аносов! Поглядим теперь, чья возьмет! — ехидничал Штамм про себя. — Булат ли получается у вас? Может быть, такая же поделка, как у нас? Надо скорей найти этого старика и отобрать у него клинок!»
Торопил он помощников своих, а потом, укутавшись покрепче в медвежью доху, сам поехал искать старика.
Говорят, корысть и зависть могут далеко человека завести. Вот и погнала корысть Штамма в дальнюю дорогу. Только снег летел из-под полозьев санок да мороз пощипывал герру нос.
Нашел Штамм башкирскую деревню, а в ней деда-охотника. С гордостью рассказывал гостю дед Нурлат, как он нашел клинок на перевале. Потом бережно достал из старого мешка дорогую для него находку, завернутую в пять волчьих шкур, и подал Штамму, говоря:
— Сказку слушать надо. Сказку про Уреньгу. Батыр была, а не девка. Ее клинок! Многие джигиты искали его в горах, но ни один не нашел, а мне старику достался.
Но не до сказок было герру Штамму. Много он сулил Нурлату за клинок, а дед только головой качал, хоть и жил бедно, давая понять гостю, что такое не продается.
И тогда Штамм чуть ли не силком с кучером своим одели старика и, посадив его в кошевку, — айда с ним в Златоуст.
Было это в самый канун Нового года. Ночь выдалась морозной. Старик Нурлат чуть не замерз, пока ехали до завода. Едва отошел у Штамма в доме. А того большая новость ждала. Последовало приглашение от Аносова пожаловать в цеховую контору — присутствовать при новой плавке стали с узором булата и взглянуть на клинок из такой стали. Немедля, как только отошел Нурлат от стужи, поехал с ним Штамм в контору.
Старик ни на минуту не расставался с клинком.
В конторе у Аносова в эту новогоднюю ночь было торжество. Много там собралось народа. Шутка ли сказать! Самая лучшая сталь в то время. Ну и радовались люди, а больше всего сам Аносов.
Серьезный был человек. Когда опыты ставил — только держись. Добрый, а брови над переносицей сдвинуты, как две грозных тучи. Не от злости, а от думы глубокой. Тут уж коли замешкался — берегись. И опять — не наругает, не накричит, как другие господа, будь они неладны, а скажет острое слово — как срежет.
Ну, а сегодня ходит довольнешенек, всем улыбается, над глазами — ни облачка. В такой момент он уж — не мог обойтись без шутки. Вот и говорит:
— Ну, потеснись теперь, чугун, и ты, матушка крична! Красавица из восточной сказки будет здесь хозяйкой.
Вот тогда и показал Штамм клинок Нурлата. Люди потом говорили, что поначалу Аносов даже от удивления крякнул, хотя у себя хранил немало редких клинков.
«Откуда у Штамма могла оказаться такая красота?» — подумал он про себя, но, увидав хозяина клинка, догадался. И, может быть, на какое-то время, забыв про свой только что рожденный клинок, радостно воскликнул:
— Чудо-то какое! Из Дамаска этот клинок! Это ясно! — повторил он несколько раз. — Заодно и проверить можно, чей клинок сильней, чья сталь крепче и надежней. Добрая находка у вас, почтеннейший герр Штамм.
Только и ждал этих слов Штамм. Живо засуетился, повеселел.
Пробовали оба клинка, как полагалось. Тончайший шарф резали на весу, кидали в сосну, что стояла во дворе. Резали железо, будто хлеб. Оба клинка были словно братья. И тогда герр Штамм, не выдержав, от волнения вскочил с кресла и, заикаясь, потребовал тут же скрестить клинки, как в бою. Скрестили. Зазвенели клинки в руках двух мастеров. Тишина стояла, как ночной порой в лесу. Все, кто был в ту ночь в конторе, говорили дома, что они просто не могли дохнуть, так захватила всех эта схватка. И когда последний раз прозвенел в руках мастера новорожденный клинок, то клинок Уреньги чуть согнулся и в изгибе зазубринка легла. Аносовский же клинок каким был, таким и продолжал мерцать, переливаться — ни единой самой крохотной царапинки не осталось на нем…
Нурлат не выдержал, подошел к верстаку, на котором лежали оба клинка, и, взяв их в руки, поцеловал. Поклонился всем низко и обратился к Аносову:
— Барин! Возьми мой клинок, хоть и старше он и много лет пролежал в земле. Пускай лежат оба рядом. Только бы шайтан не подшутил. Украсть может. Сказку про Уреньгу слушать надо. Ее клинок. На перевале в ручье лежал.
— Спасибо тебе за сказку! — Аносов крепко поцеловал башкира. Хорошо наградил его Аносов.
А Штамма будто подменили. Скинув с себя важность, посветлел лицом и, забыв про свой чин, а главное, — зачем был послан на Урал, подошел к Аносову и пожал ему руку. Понял человек, что произошло в ту ночь на заводе возле Косотур-горы. И просто, без корысти и зависти поздравил Аносова с рождением булата:
— Вы, герр Аносов, творил чудо! Но при чем тут сказка? Не понимайт.
— Достопочтеннейший герр Штамм, — в свою очередь сказал Аносов. — А может быть, сказка — это как раз то, чего не хватает вашим мастерам?
Штамм внимательно посмотрел в глаза Аносову, полные лукавых смешинок, но вполне серьезные, и ничего не понял.
— Не понимайт, — еще раз повторил он.
А вечером, на другой день, уже в гостях у Аносова, на балу, ведя спокойный разговор, Штамм поведал управителю златоустовских заводов о своих бедах и думах. Одним словом, перед Аносовым сидел в глубоком кресле не мундирчик со светлыми пуговками, в башмачках на высоких каблуках, а оружейник.
Потом через несколько дней, отбывая на родину и прощаясь с Аносовым, Штамм сказал, что посланцев из Германии не последует больше. И отбыл с Урала.
Когда сани тронулись, он оглянулся в последний раз на завод, заснеженный пруд и Косотур-гору, над которой разливалось восходящее солнце. И от неожиданности поднялся. На самой вершине горы четко обозначился силуэт красавца-лося. Будто явился он из сказки и встал над горами как символ уральской земли — в ореоле слепящего света, таинственный и прекрасный.
И каким-то особым чувством понял мастер, на что намекал Аносов, говоря о сказках. Великая земля рождает большие дела и больших людей.
Тройка горячих коней уносила Штамма на запад, а он все стоял и стоял в санях с непокрытой головой, любуясь величественным зрелищем, представившимся ему на вершине Косотур-горы.
И снова над Уралом метели бушевали — не один десяток лет. Снова по весне шумела Громотуха, а заводской летописец заносил в свою книгу вести о новых и новых делах златоустовских умельцев.
…1965 год. Двадцать лет прошло со дня Победы над фашистской Германией. И в честь этой даты златоустовские мастера создали новое чудо — меч Победы.
Давно в задумках, когда был еще подростком, хранил мечту Леонид Нурлич Валиев не только повторить дедовское мастерство в гравировке стали, но и превзойти его. Для этого он много и долго учился у старых мастеров. Подолгу глядел на старинные клинки, на их насечки и рисунки, читал о Бушуеве, Иванке-Крылатке, а больше того об Уткине Петре — мастере, воспевшем на стали любимую для златоустовцев Косотур-гору, и о самом Аносове — кудеснике булата.
Ну, а когда приступил к работе, то, как бывает в любой сказке, на помощь заводскому умельцу пришли волшебники нашего времени. Оттого этот богатырь-меч таким редким сапфиром отливает, светится и мерцает…
Клинок Уреньги — древняя сказка, а меч Победы — светлая быль нашего сегодня. Быль, созданная трудом и сердцем чудесных мастеров. Значит, недаром ныне златоустовских умельцев наследниками доброй славы аносовских времен называют.
УЛИН КАМЕНЬ
Уральские сказки, что камешки в горе. Один копнешь — на целый занорыш наткнешься — и такой, что цены не будет ему.
Вот, к примеру, сказки про Кусинский завод. Много их про него в народе живет, а до корней начнешь доходить и узнаешь, что в далекую, мохом обросшую старину, когда завода не было и в помине, назывались эти места Юлбасаром, вокруг них из века в век разбойники гнездились. И не просто разбойники были они с большой дороги. Нападали они на богатые караваны, добро у купцов да разных визирей и даже у ханов отбирали — и не себе, а тем, кто с голоду умирал, иль в сиротство впадал, иль беспомощным стариком стал, отдавали. И людей, проданных в неволю, эти разбойники освобождали.
Позднее, а когда и почему — не знают кусинцы точно, гора Юлбасар стала называться Аргусом а безымянная красавица-скала — Улиным камнем. Об Улином камне и речь поведем.
В давние годы все это началось, когда темно и тоскливо людям жилось на старых уральских заводах. Когда в пожарках пороли виновных и невиновных, к колодам приковывали на цепи тех, кто мешал хозяевам грабить.
На первый взгляд, Кусинский завод мало чем отличался от других заводов. Как и везде — плотина. Матушка-домна. Прокопченные цехи. Улицы по горам и пригоркам Шарф дыма из заводской трубы.
Но ежели приглядеться — большая отличка получалась Вокруг Кусинского завода — одна над другой горы, не то что в Кыштыме или в Каслях. Известно, Куса — без малого, самая хребтовина Урала. Леса — стена стеной И над всей этой красотой — сам батюшка Таганай, словно отец с сыновьями. В наше теперешнее время, рассказывали старожилы в Кусе, не каждый сможет напрямки до Кыштыма добраться, а в ту пору, о коей речь поведем, места вовсе глухими были.
Только речка Куса, рожденная родниками, впадала здесь в реку Ай, которая эту глухомань с большим миром связывала. Говорили старики, что речонку Кусой еще в совсем древние времена предки башкир называли, когда и в помине здесь завода не было. И означало это слово — холодная студеная вода.
Но все же по первопутку добрались поначалу рудознатцы, а за ними и купцы до этих мест, богатимых рудой да лесными угодьями.
Первым купил «Кусинское место» у башкир купец и заводчик Иван Мосолов. Грамотка-купчая от тех лет сбереглась, а в ней сказано: «…1754 года октября 22 дня… продали Ивану Перфильеву сыну меньшому Мосолову по реке Кусе, в 30 верстах от Косотурского завода у башкирцев Оренбургской губернии землю… с лесными угодьями, сенными покосами и с рудными местами»… за пятьдесят рублей ассигнациями. За башкирцами было оставлено право в эту землю… «въезд иметь, бортями владеть, звериную ловлю и хмелевое щипание иметь по-прежнему».
Потом эти земли перешли к заводчикам Лагутиным, построившим здесь завод, затем Андрею Кнауфу. А с 1811 года завод стал работать от казны.
Железо и чугун отправлялись из Кусы по рекам на баржах. Из Ая в Уфу. Из Уфы в Белую. Из Белой в Каму, а там в большие воды — в Волгу.
Известно, слабых и трусливых не ставили барки водить. Поди осиль тот же Ай на перекатах, или проведи барки мимо утесов-великанов. Это тебе не Миасс под Челябой с тихой водой и ровными берегами. Словно в бой отправлялись люди на барках, груженных чугуном и железом. Со слезами родные провожали сплавщиков. Шутка ли сказать, без малого чуть не на год расставались. Трудна была эта дорога. Надо было каждый камень знать, каждый утес, чтобы их обойти и не разбиться. Словом, что ни камень или реки петля, то и бой. Но не нами еще говорено: «Кто идет только вперед — не отстанет», «Кто сердцем смел, тот любой путь одолеет».
Ну вот и запевке конец. К сказу подошли. Запевка, что сказка — далеко может увести.
В одной грамоте тех лет говорилось:
«Объявителю сего, Оренбургской губернии, Троицкого округа, именитого гражданина и Златоустовских железоделательных заводов содержателя Андрея Андреева сына Кнауфа, Златоустовского завода крестьянин Семен Петров Костерин из главной Златоустовской конторы послан для препровождения с означенных заводов к Санкт-Петербургскому порту и в прочие российские города с железом каравана водоливом, сроком от нижеписанного числа впредь на десять месяцев, то есть до двадцать первого генваря будущего тысяча восемьсот четвертого года, того ради господ, команду имеющих, градоначальников и командиров, где кому о пропусках ведать положено, заводская контора покорно просит по надлежащему тракту как в передний, так и в обратный пути реченному Костерину чинить свободный пропуск, а приметами оной Костерин ростом двух аршин четырех вершков, волосы на голове черные, борода русая, лицом чист, на левой щеке ниже глазу маленький рубчик, глаза серые, от роду ему двадцать восемь лет, в верность чего за подписью и печатью упоминаемой сей при Златоустовском заводе и дан апреля двадцать первого дня тысяча восемьсот третьего года.
Правитель Николай Коперанов».Был Семен Костерин мужества и силы непомерных да и, как говорили в старину, умом его бог не обидел.
И жена ему под стать угодила. Высокая, статная, видная. Но еще краше у них дочка росла. Ульяной звали, а попросту Улей. Красотой — в мать, умом да удалью — в отца. Характер твердый. Родных и соседей почитала, как учил отец, говоря не раз дочке: «Своих будешь обходить — на чужих наткнешься».
Но хоть и уважительная девчонка к старшим была, а в ребячьих играх характер показывала. Все норовила атаманшей стать над ребятами, да и с гордецой малость росла.
В те годы шибко недолговекой у работных жизнь была. Не под силу работа, болезни всякие и разные беды рано ломали людей. Редко кто до полувека доживал.
Короткий век оказался и у матери Улиной. Не было девчонке и восьми годов, как мать люди похоронили.
Остался Семен вдовцом. Мачеху дочке не захотел брать, сватам отвечал: «Боюсь я жениться. С новой женой поплывем в одной лодке, а грести примемся в разные стороны».
Доверить дочку чужим побоялся — так он любил ее, а потому в первую же весну после смерти жены взял Улю с собой.
Радовалась девчонка. Все в пути было в диковинку ей и совсем не страшно. Отец был рядом. Чего бояться?
— Неладное дело ты, Семен, задумал, — говорили соседи мужику. — Не девичье это дело — плавать на барках с мужиками. Избалуется девчонка, да испуг может взять возле первого же утеса, когда на него барки налетят. В ушах звенит да дух захватывает и у другого мужика с непривычки, да еще в непогоду, когда ветер с ног валит людей и барки крутит в омутах. К тому же мужицкую ругань будет слушать, а неровен час и утонет.
Не знал народ или понять не хотел, что радостней сплавщикам стало с девчонкой в пути. Тягости дороги, тоска по дому родному с Улькой легче стали переноситься, особенно теми, у кого дома остались свои ребятишки. Будто каждый не один был, а с семьей в долгой дороге.
И часто, гладя девчонку по голове, сплавщики вспоминали своих — у кого они были. Баловали сплавщики Улю, как родное дитя. Кто ей сказки сказывал про дремучие леса, мимо которых плыли их барки, кто небылицы плел у костра на привале, кто баловал пряниками.
И к пятнадцати годам девчонка наперечет знала все места в пути, где и как можно барки провести. Зимней же порой, когда ворочались домой, девичьи заботы Улю одолевали. Мыла в избе, пряла, ткала. Только часто снились ей золотые маковки церквей в городах, мимо которых их барки плыли, каменные дворцы, шумные ярмарки. Но больше всего ей виделись родные горы, утесы, обрывы, леса-леса, без конца…
И чем дальше Уля росла, тем смелей и удалей становилась. Звонче ее песни звучали. Любила с малых лет Уля петь. Поначалу без слов, а потом пела песни, какие от матери слыхала, какие пел народ. Говорят, что за сердце хватало людей ее пение. А кто откажется послушать песню, когда ее хорошо поют?
Так Ульяна с песней и до девок поднялась. И долго не знала она, что больше других любил слушать ее песни кузнец Илья. И все потому, что Улины песни в самое сердце парню западали.
Откуда этот кузнец в Кусе объявился, никто не ведал. Кто говорил, что его управитель из Косотурского завода в Кусу прислал обучать парней кузнечному делу. Другие твердо уверяли: из беглых-де он был. Немало в те годы таких, как Илья, в горных гнездах Урала себе угол находили.
Вот это был богатырь! Подковы гнул, как восковые свечки. На полном скаку останавливал тройку самых сильных хозяйских лошадей, когда управитель ради забавы приказывал таким парням показать свою силу. Любил управитель похвастать своими заводскими богатырями.
Не враз Илья к людским сердцам тропку проторил, не враз и Уля его полюбила. Ведь на земле еще никто не открыл тайну такую — когда и почему вдруг этот человек, а не другой станет дороже всех людей. Вот потому и не знала Уля, с каких пор у Ильи при виде девушки стало на сердце теплеть.
А он, Илья, Не только отменные подковки ковал, но и сердце свое людям отдавал. Перед надзирателями и приказчиками не гнул спину. Самому управителю в глаза правду говорил, за что со спины рубцы не сходили.
Таким же, как и Илья, был у него подручный. Кадыром звали. По силе и росту он Илье не уступал. Богатырь из богатырей. Высокий да статный, с черными глазами, в которых всегда мужество горело. Казалось, в Кадыре все доброе и светлое его народа собралось. Недаром те, кто уже не видел Салавата Юлаева, глядя на Кадыра, говорили: «Наверное, наш Кадыр такой же, каким был Салават!»
А он хорошо помнил печальные сказы о Салавате и о всех, кто погиб в Пугачевскую войну. Жестока и мучительна была смерть его деда, погибшего за то, что он башкир, как и другие жители из его аула, восставшего против зла, насилия заводчиков, за Пугачевым пошел.
Никто в Кусе не знал, как Кадыр по другим заводам с подметными грамотами от Ильи ходил. Как он с Ильей клинки тайно для новой войны с заводчиками ковал. Как в Каслях и в Кыштыме с верными народу работными вел речи и тайно скрывал в горах тех, кого надо было скрыть от заводских надзирателей. Одним словом, много тайн хранил Кадыр о борьбе с заводчиками. Но была у него еще одна нераскрытая тайна сердца, неведомая даже Илье, — больше жизни любил он Улю. Бывает же такое! И ему, как и Илье, и многим другим парням, ее песни и глаза сердце жгли.
Как-то раз пришли в кузницу к Илье деды, притом одни горщики. Наперечет их всех в заводе знали. На большой славе они в округе были. По сей день помнят старики таких рудознатцев, как Алексей Дятлов, Степан Мурдасов, Дорофей Коротков и наособицу Фофан Михалев, открывший новый Магницкий рудник.
Любили деды к Илье ходить. Можно было у него в кузнице поговорить, не боясь наушников. Знали старики, что надзиратель, а наособицу наушник какой, стороной обходит кузницу Ильи. Такое резанет им, что век не забудешь.
Говорили, говорили старики про то, про се. Первое дело — про покосы да делянки, — главная забота была в те годы у народа. Попробуй-ка проживи без коровы, без дров, когда получали за работу копейки. Поговорили о приказе из Златоустовской главной конторы… «чтобы мастеровых Черных Павла да Кузнецова Ивана за самовольную отлучку с завода наказать палками по 25 лозанов каждому при собрании мастеровых и прочих жителей завода, а затем препроводить к священнику для покаяния»… Да мало ли о чем говорили деды, о чем заботились и болели их старые сердца.
Одни, как и в молодые годы, на юру жили, стараясь помочь людям, передать им свое уменье, показать все приметы рождения жилы самоцветов в горах, как это делал дед Кирилл Мурзин. По сей день в Кусе помнят, как он любил камни, называл их цветками земли и гор. Бывало, приложит дед Кирилл ухо к земле и скажет:
— Камень-то живой и все слышит. Ежели ты его по правде любишь, без обмана — откликнется он непременно.
Вот этот дед Кирилл кузнецу Илье и сказал:
— Ты, Илюха, хоть и кузнец на славе: все можешь отковать — от топора до окунька, но в одном ты не силен.
— А в чем, дедушка Кирилл? — спросил старика Илья.
— В том, парень, что не расковать тебе народ от неволи.
Ничего в ответ не сказал Илья, только молча отложил в сторону молот, вытер подолом рубахи пот с лица, позвал стариков на улку и, показав на дальний лес на Моховой горе, спросил деда Кирилла:
— Скажи, дед, ты видишь вон тот подлесок у сосен на Моховой?
— Вижу.
— Да ты пуще погляди, дедушка Кирилл, на лесной молодяжник.
— Ну, вижу. Чать не слепой, — повторил старик. — Большой крепкий вырастет лес из него. Кондовый. Радость барышникам!
— Так вот. Ежели, дедушка Кирилл, мы не добьемся воли, не хватит сил, то наши сыны и внуки своего добьются. Чуешь? Как у этого леса могуч подлесок, так и у нас крепок он. Выдюжит, какие бы ветры ни дули на него! Понял мое слово?
— Как не понять? — ответил старик и снова повторил: — Кузнец ты, Илья, отменный и по делам вроде как пугачевец…
Кто еще из стариков помнил атамана Грязнова и Пугачевскую войну, спрашивали Илью, не сродни ли был ему Грязнов. С тем и ушли от Ильи старики.
Не знал Илья, не ведало его сердце, что у самого порога его ждала большая беда. Не обошла она и Кадыра.
Случилось все это ранней весной. Уходила зима с Урала. Бежали ручьи. Молодели леса и горы.
Нежданно-негаданно на заводских мор пришел. Многие осиротели.
Приказчик же все жал и жал на сплавщиков — отправить караван торопился. Большой заказ был получен на чугун да железо из Петербурга. Рвал и метал управитель, узнав про то, что много сплавщиков заболело. Из-за хвори и мора всего человек десять осталось помощников у Семена, а потому, хоть и самому ему не можилось, приказано было Семену собираться в дорогу.
Не по-праздничному в тот год отправлялись барки в путь. Не звенели девичьи песни. Не красовались сплавщики в кафтанах и лаковых сапогах. Не палила пушка от управительского дома. Даже колокольный звон не доносило. А когда барки спустили в Ай, молебен не отслужили. Некому было. «Поп и дьякон умре», — доносил позднее управитель хозяину в Петербург. Словом, невесело отправили караван.
Не отпустила Уля отца одного. Живо собралась.
А дней через пять совсем расхворался Семен. Остановились барки у какой-то забытой деревеньки, вышли на берег запечалившиеся от беды сплавщики, поднялись на гору. Еще бы: добрый был караванный Семен. Ни разу его барки об утесы не разбивались.
— Как быть дальше? — спрашивали друг друга сплавщики. — Обратно вверх по течению не воротишься, Плыть дальше без караванного страшно. Не каждому дано провести караван, как Семен водил.
И сам он не враз стал караванным. Еще совсем молодым был — в водоливах ходил, а потом уж, когда за плечами лег десяток походов, целых десять дорог долгих, как зимняя ночь на заводе, трудных, как солдатский бой, смелых, как полеты беркутов над Юрмой, — вот тогда уж караванным и поставили его…
Тут-то и спасла дело Ульяна. Подошла к сплавщикам и твердо сказала:
— Заместо отца караван поведу я. Не пужайтесь делу такому, добрые люди! Выучили сами.
Никто не удивился такому, потому что кто из старших был, ее дочкой почитал. Молодые же, не обожженные страхом налететь на утесы и разбить барки, говорили между собой про Улю:
— Ей-ей не девка, а атаман! Откуда только силы у нее берутся поворачивать потесь?
Потому и слушали парни Улю, наособицу те, кто впервые шел на барках, хотя по годам они ровней Уле были. С почтением часто добавляли:
— Смелая девка! Отчаянная голова! За ней в огонь и в воду пойдешь.
Не раз выручала она своим уменьем барки провести, когда кое-кто из парней дух терял. В ту пору сплавщики свои барки будто живыми считали. Оттого и говорили: «Барки не плывут, а идут по реке». А про Улю добавляли: «У Ульяны барки, словно овечки, идут».
Когда же при входе в Каму из Белой схоронили Семена, стала дочь его Ульяна караванным…
По-разному об этом в заводе говорили, когда по санному пути воротились сплавщики домой. Кто девку хвалил: ведь ни единой барки в дороге не затеряли, а у других редко, чтобы две-три не пошли ко дну возле утесов. Недаром эти утесы «Разбойниками» звали на Урале.
Хвалили Улю те, кто был поумнее. Вспоминали ее отца и мать добрым словом, говоря: «Вот бы порадовались они такой дочке».
Старухи же не от ума брякали в заводе:
— Виданное ли дело — девка барки ведет?
Только их никто не слушал.
Два года подряд водила Ульяна караваны. Слава о ней прошла до самой Волги. Даже кое-кто из градоначальников, косясь на девку статную да русоволосую, бороденкой тряс.
А на третью весну, когда повела Уля караван, невестой Ильи она уже была. И решили они между собой через год свадьбу сыграть.
Приданое готовила себе Уля сама. Самой приходилось о себе заботиться. Известно — сирота. И хоть крепко отговаривал любимую Илья от такой заботы, говоря, что все это — дело наживное, — не хотела она нарушать обычай дедов и отцов…
Говорят, что одна сказка уму учит, другая душу веселит, а третья о прошедших веках говорит. В сказке об Уле и кузнеце Илье дальше говорится, что не суждено было им сыграть свадьбу. И все из-за того, что не воротились сплавщики.
Не воротилась и Уля.
Словно в воду канули и барки и люди. Не знали в заводе, — да и откуда им было знать, что, и вправду, в омутах лежали и те и другие. К тому же, разве можно было дознаться про такое? Ведь не из Кусы пришла беда. А то ли из Сысерти, то ли из чужой стороны, а может быть, из Невьянска; ведь хозяева тех и других заводов не шибко рады были кусинскому железу да чугуну на больших рынках: уж больно стали славиться они. Молчали горы, хотя только они ведали, как в одну из ночей напали разбойники на кусинский караван. Настоящая битва там была. Только не дознались в Кусе, кто их сплавщиков перебил, кто барки с чугуном и железом утопил. Кому понадобилось такое злодейство? Известно лишь одно: в тот год было слышно, что крепко подорожало сысертское железо, английское поднялось в цене, а больше всех — невьянское.
Только много лет спустя узнали в Кусе люди о гибели каравана. Рассказал прохожий странник, видавший, как напали из-за засады на Улин караван наемники демидовских заводчиков.
— Как сейчас помню, — говорил кусинцам странник. — Шишковали мы в ту пору на берегу Камы. Прошлогодние шишки собирали. Я и мой брат. Ночью лежим в шалаше, слышим: крики, ругань. Вскочили мы с братом и от страха онемели. Первый невьянский разбойник Филька с ватагой уже по кусинским баркам с топором бегал. Видать, врасплох были застигнуты сплавщики. Выскочила ваша караванная с передней барки, в самую середку сечи угадала, да как крикнет: «Опустите топоры! Аль ослепли? Пал идет! Не пройти баркам дальше: огонь перегородит путь!» Смолкли крики. Поглядели все туда, куда ваша караванная показывала, а там уж огонь по обоим берегам стволы лизал и дым туманом стелился по реке. В испуге кинулись те и другие к своим баркам. Ульяна встала к потесу на передней барке и повела караван навстречу огню, дыму и ветру.
Можно было еще через огонь пробиться, да не такая Уля была, чтобы других в беде бросить. Расставила она сплавщиков да людей из прибрежного села вдоль линии огня, пропашку хотела сделать. И хоть не до того было, не могли все, кто был на пожаре, не подивиться сноровке Ули. Где больше огня и страху, там и она. Кому слово скажет, кого ласково по спине похлопает: ничего, мол, огонь страшен, а человек сильнее.
И увидела Уля, что Филька откуда ни возьмись объявился, горящие поленья на барку кусинскую бросает. Уже поднялось бушующее пламя над ее родным плавучим домом.
Вот какие злые люди бывают! Но не о том, наверное, думала Уля, когда она одна бежала под гору с единственным желанием — спасти барку. Фильку при виде ее, как ветром сдуло. Она же, взбежав на барку, сбрасывала горящие поленья в воду, топтала огонь ногами, но было поздно. И сама она вспыхнула, как факел…
После гибели Ульяны вовсе ожесточилось сердце Ильи на господ. Понимал, что неспроста погибла его любимая. Не отступала боль за Улю и в сердце Кадыра. Только не знал об этой боли Илья. Ни разу Кадыр и вида не подал. Но примечал Илья, что стал он Кадыру еще дороже и родней. Ведь его любила Уля…
Беда получилась из-за хлеба… Хлебом платили хозяева мастеровым да медными грошами в придачу. Часто мука была гнилая, а в тот месяц выдали муку не просто залежалую и плохую, а с червями. Мыслимо ли есть такой хлеб, если хозяйки, просеивая ее через сито, горстями выбрасывали червей прочь? Не раз бунтовал народ и раньше; из-за покосов, из-за провианта ходили к дому управителя, требуя правды. В этот раз на бунт поднял народ Илья, говоря открыто о злодеяниях господ.
Управитель тут же отдал приказ: заковать Илью в цепи и отправить в Златоуст на расправу.
И вот повели Илью, окруженного десятью конными егерями, через Моховую гору. И когда они достигли того места, где лес стеной стоял, загородив собой узенький свороток, на конников с гиком и криком напал конный отряд башкирцев. Впереди был Кадыр. У всех у них в руках клинки блестели… Но не знали храбрые люди, что навстречу конникам шел из Златоуста отряд егерей.
Крепко дрались башкирцы, ведь у каждого в сердце жил Салават Юлаев.
Земля у своротка покрылась мертвыми телами, а самого Кадыра (приказ был таков) взяли живым. Одной цепью его с Ильей сковали и повернули обратно в Кусу, чтобы увести обоих в Екатеринбургский тюремный замок.
Весь заводской люд, от мала до велика, вышел на улицу, когда по ней вели Кадыра и Илью. Многие плакали. Мужики картузы держали в руках, глядя на Илью и Кадыра.
Вдруг на дороге показалась большая группа господ на конях. Тут был и сам управитель завода, и гости его. Они возвращались с охоты.
Господа в страхе поворотили коней обратно, услыхав гул толпы. А в гору, окруженные стражей, шли двое, гремя цепями. Оба были без шапок, в холщовых штанах и таких же рубахах без пояса. Цепи на босых ногах.
Два могучих богатыря. Разница была у них только в одном: у одного лицо, грудь, руки — белые, как парное молоко, а у другого — смуглые, как ствол молодой сосенки. Родится же такая красота!
Оба они шли гордо, не сгибаясь. Только бессилье мелькнуло в их глазах, когда проходили мимо нищих стариков — бывших кричных мастеров да калек, потерявших силы на огненной работе…
Время, что веник: все заметает. Но не под силу было ни времени, ни ветрам, ни житейским бурям замести следы жизни таких людей, какими были Пугачев и Салават Юлаев, атаманы Грязнов и Белобородов, Косолапов и Кадыр, Илья и Чуфаров. Много было еще битв за освобождение от неволи…
Ныне в Кусе на месте старых изб вырос белокаменный город. На самом видном месте огромный дворец множеством огней вечерами сияет. Когда-то мятежный, а ныне усмиренный и обмелевший Ай тихонько плещется у скал-великанов.
В одной из комнат дворца на столах стоят образцы кусинского литья, собранные за многие годы. Среди этих моделей есть и «Кузнец Большой», отлитый в память об Илье неизвестным умельцем. Может, отливал эту модель Иван Зубов или Дятлов? А может, и Василий Пастухов? Не сохранило нам время имя этого умельца, как и имя того, кто чеканил.
Все в «Кузнеце» дышит жизнью, мужеством, красотой. И когда глядишь на это творение, хочется повторить когда-то услышанные слова: «Если все люди на земле охнут — все тучи посохнут. Если каждый кузнец молотом стукнет — вся нечисть пожухнет».
Была, говорят, отлита модель и с Ули, хранилась у кого-то из стариков, а потом исчезла…
Утес, на котором Уля с любимым Ильей встречалась да родными горами в зимнем уборе любовались, и по сей день ее именем зовется: «Улин камень». И родничок, что бьет из-под утеса, превращаясь в речку, «Улиной речкой» люди называют.
Часто теперь приходит сюда народ напиться хрустальной студеной воды из Улиной реки и отдохнуть; добрым словом вспомнить дедов и отцов, — как они из чугуна кружево плели; как боролись за победу Октября; как в гражданскую войну тосковали руки рабочих по работе. Ведь известно, рабочий без работы, что птица без гнезда. А потом, как восстанавливали завод — родного кормильца — своими руками. Главное же — как в далекие двадцатые годы посылали подарок Владимиру Ильичу Ленину — модель «Большого Кузнеца» — лампу Ильича. Только об этом речь в другом сказе…
ТЫЛСЫМЛЫ-ТАУ
Говорят, сколько по весне цветет трав в зауральской степи, столько сказаний про волшебную гору Тылсымлы-Тау люди сложили. Но сказание об этой горе, будто ниточка из ковра, с легендой о Тамерлановой башне переплелась.
Стоит Тамерланова башня на одной дороге с волшебной горой, от которой далеко-далеко к самой Полярной звезде протянулся Каменный пояс земли, как в прошлые времена назывались Уральские горы.
Вот в одном сказании и говорилось, будто Тимур-Хромец построить приказал это диво-башню в степи для своей дочери-беглянки, растерзанной зверями, когда она бежала с любимым. Но трудно поверить, чтобы умный и хитрый, коварный и злой Тамерлан строил башню в далекой безлюдной степи, да еще на века, в память о сбежавшей дочери.
Другие цели были у Тамерлана, когда он отдавал приказание строить эту башню-гробницу, как люди говорят.
Будто много-много веков назад на волшебной горе Тылсымлы-Тау, или Магнитной, — как ныне ее называют — жили предки башкирского народа. Были это племена смелых, отважных, но мирных людей. Ни на кого они не нападали, спокойно в неоглядной степи их табуны лошадей паслись. В зимнюю стужу уводили они свой скот в горы, леса от метелей и вьюг.
В ту пору самым старшим в их народе был мудрец-старик по имени Кызырильяс, то есть добрый волшебник. Его слова были для всех законом.
Не понимали люди, да и сам он, наверное, забыл, сколько лет он жил и волшебную гору сторожил.
Были у старика две внучки, как два родничка. Одну звали Кэсэнэ, а другую — Салисэ. Обе были красоты несказанной, как две капельки росы. Только в характере разница была между ними: Кэсэнэ больше молчала, а Салисэ щебетала. Все было в диковинку ей, а потому спрашивала она то сестру, то деда про все, что видели ее глаза, да звонко и радостно пела, как может петь человек на рассвете жизни своей.
Радовался старик Кызырильяс, глядя на своих внучек; но не нами говорено: трудно заприметить, в какой день у человека шаг станет короче, а в волосах появится первый седой волосок. Еще труднее заприметить, когда у парня при встрече с любимой сердце дрогнет, а девушку робость одолеет.
Потерялось в веках имя джигита, при виде которого у Кэсэнэ в сердце радость заиграла. Только с горем эта радость перемешалась: не для Кэсэнэ у джигита сердце билось. Хозяйкой в нем стала Салисэ. И чем дальше время шло, тем больше Кэсэнэ замечала: не для нее вил джигит свое гнездо.
Когда же очередной замысел Тамерлана горе принес башкирам, не раздумывая, пошла Кэсэнэ, куда дед велел.
Было это так. Много Тимуровых лазутчиков, часто одетых в одежду купцов и странников, рыскало по свету. И не раз доносили эти лазутчики Тимуру о горах, полных сказочных сокровищ, о степях привольных, что лежат на пути в богатую страну руссов.
Но те же лазутчики доносили, что покорить людей, живущих там, невозможно, оттого что все они смелы, как соколы в поднебесье, умны, как мудрецы. И стережет богатства горы Тылсымлы-Тау волшебник Кызырильяс. Го ли он умеет скрыть людей в горах, когда к ним войска начнут приближаться, то ли напустить такое, что все стрелы из колчанов покинут гнезда, как птицы, и их — как не бывало, а то и кинжалы, если без ножен, улетят…
Не верил Тамерлан словам своих лазутчиков. То смеялся, как над сказкой, то в ярость впадал.
Раз за разом посылал он к Тылсымлы-Тау, горе Магнитной, свои полчища, но они ничего не могли добиться. Воины от страха бежали, видя, как стрелы, пущенные ими, дождем падали на землю, не достигая врага. Как будто невидимый щит вставал на их пути.
А тут уж к нему — царю всех царей, — как Тимура певцы величали — и осень жизни подошла. Ведь все на земле переживает свое: и рассвет весны, и жаркое лето, и печаль осенних ветров, и студеные метели. Правда, по-разному человек свою осень в жизни встречает. Один, как в молодых годах, на радость людям живет, не замечая, как в жилах остывает кровь. Другой, словно старый ворон, крылья опускает.
Все на свете, кажется, испытал Тамерлан, а вот, как осенние сумерки одолеть свои, он не знал. Радости побед не стали зажигать, как прежде, его кровь, и вступил в последний бой Тамерлан, в последний бой в его жизни — с самим собой. Не хотел сдаваться могучий Хромец перед природой.
Затихли в покоях его дворца песни и музыка. Поэты перестали читать свои стихи, сложенные в честь Тамерлана, а он все спрашивал у себя, как сохранить силу в человеческом сердце.
Дряхлело тело, молодость не возвращалась.
И вот однажды вспомнил Тамерлан рассказы лучников о мудреце Кызырильясе. «Может быть, он сумеет огонь в сердце зажечь?»
Три ночи и три дня не выходил он из своих покоев. В конце третьей ночи у него созрел план. И задумал он, как всегда, хитро и коварно. «Силой не прошел земли горы Магнитной — встану там лаской и любовью».
В одно раннее летнее утро, когда просыпалась степь, поднимались табуны скота и в озерах — рыба, жители горы Тылсымлы-Тау увидели, как пять всадников на чистокровных вороных по степи скакали. По их одежде сразу узнали они, что это знатные посланцы самого Тамерлана. За ними растянулся, сколько мог видеть глаз, караван верблюдов, нагруженных разными товарами. Всадники были не вооружены.
И стали хитросплетенные речи эти посланцы здешним жителям говорить, раскладывая перед ними ковры редкостной работы, кинжалы и из бесцветных камней ожерелья. Потом посланцы прочитали грамоту Тимура, в которой говорилось, что владыка мира ждет к себе в гости самого Кызырильяса.
Понимал мудрец, что отказываться от такого приглашения нельзя, а потому, не торопясь, собрался и вместе с гостями поехал в далекий Самарканд.
Долог был путь каравана, а еще дольше речи между Тамерланом и гостем из далекой страны Волшебных гор — Кызырильясом. Словно два разных родника забили рядом в тот далекий день под жарким небом Самарканда: корысть и бескорыстие, жестокость и мужество.
Хорошо видел Тамерлан, что перед ним хоть и древний старик сидел, но сильный и крепкий духом человек. А потому с завистью слушал Кызырильяса, говорившего прямо и открыто Тамерлану, что ему, царю всех царей, не хватает — доброты и милосердия.
Слушал Тамерлан мудреца, а сам про себя думал: «И не быть бы мне царем всех царей, и не лежали бы эти покоренные города и народы у моих ног, если бы был я милосерден».
Думал так Тамерлан, а сам свой новый план уже приводил в действие. «Сделаю добро, как советует мудрец. Может быть, это мне вернет силу, а заодним границы государства расширит».
Но говорят, кривая береза никогда не станет стройной. Не успел мудрец Кызырильяс отбыть из Самарканда, как прибыли к горе Тылсымлы-Тау посланцы Тамерлана. Снова были подарки и новые послания, в которых Тимур писал, что много у него красавиц-жен и сыновей и внуков, но дочери ни одной нет. Жалеет об этом владыка мира, а потому просит Кызырильяса исполнить его желанье: одну из внучек дать ему в дочки. Говорят, отвага и правдивость в речах скорее и крепче в людских сердцах отзовется, нежели коварство и ложь.
Поверили жители волшебной горы Тылсымлы-Тау Тамерлану, и на совете аксакалов было решено отправить Кэсэнэ в дочери Тимура. Кэсэнэ спокойно этот выбор приняла, зная, что любимому она не мила, а больше того: хотела послужить своему народу.
Два аксакала отправились с Кэсэнэ и посланцами Тамерлана в далекий Самарканд. Но не отъехал караван и ста верст, а на землю вторая ночь легла, как напали на него разбойники, одетые в какие-то диковинные одежды. Все, кто ехал, были перебиты. Погибла и Кэсэнэ, и аксакалы, и сами посланцы Тамерлана. Ни один человек не спасся.
Не ведали, что это было завершением замысла Тимура.
Прошло еще какое-то время, и Тамерланом была объявлена его воля: перехоронить Кэсэнэ — названую дочь «владыки мира» — достойно ее высокой чести.
Несколько отрядов воинов было послано Тимуром в степь с приказом строить башню-гробницу над могилой Кэсэнэ.
В сказании еще говорится, что по цепочке воины Тамерлана передавали кирпичи за сто пятьдесят верст от места, где их из лучших глин изготовляли…
Да… раздвинул как бы границы государства своего Тамерлан… Трудно было разрушить башню, под которой лежала названая дочь восточного владыки.
Время, как река, назад не бежит. И по сей день одиноко в степи стоит эта Тамерланова башня.
Гора же волшебная Тылсымлы-Тау, или иначе — Магнитная, и теперь продолжает людям свои богатства отдавать…
ЗОЛОТОЕ СЛОВО
© Южно-Уральское книжное издательство, 1968 г.
Слава про златоустовских мастеров по всему свету летит, как крылатая песня. Лучших мастеров — граверов по булату — во всем свете не сыскать! Одного Бушуева взять. Все страны мира облетела слава о нем — о его крылатом коне на стали. Недаром получил прозвище: Иванко-Крылатко.
Только вот про словесных дел мастеров сказы забываться стали. А жаль. Взять хотя бы Крапивина Тимофея: когда-то первым сказочником был.
Есть на земле камень — хрусталь. Самой чистой воды он бывает. Кристалл к кристаллу. В горах он рождается. Но вдруг попадает такая красота в подземные воды. Примется вода хрусталь крутить, бить о другие камни. И до того дотрет, что от кристалла один окатыш останется. Поглядишь на такой камешек — и глаз не остановишь. Пройдешь мимо такого камня, пнешь ногой, чтобы на дороге не мешался, и все… Но попробуй отбей от такого окатыша кусочек и увидишь, какой он внутри чистый, прозрачный — ну настоящий хрусталь, каким бывает он рожден в земле.
Вот таким окатышем и был в жизни Крапивин Тимофей. Беды и невзгоды били его, колотили. И все же остался Тимофей сердцем чист и ясен. Оттого и сказки любил он говорить, словно малое дитя. Работал он на томилках. Уголь жег, гнал смолу, деготь, одним словом, век свой в лесу прожил. Да еще в земле копался и про камень, будто про живых людей, рассказывал. Как по-писаному читал. К тому же все с умыслом и со значением. А то своим словом будто крапивой обжигал. Вот потому и получил прозвище такое — «Крапива».
Как-то раз к Крапиве сосед пришел. Славный, добрый был мужик. Хорошо знал его Крапива. На одной Кабацкой улочке родились. Работящий, молчаливый такой. Зато жена у него была — всем бабочкам баба. Языкастая да бойкущая. Ты ей — слово, а она тебе — десять… В мать и дочки угадали…
— Пособи, Тимофей Егорыч! Уважь по-соседски! Век не забуду! — сказал сосед.
— Это, поди, насчет твоих девок? — сразу же догадался Тимофей, зная про беду его.
— Про кого же больше? Одна у меня беда неизбывная. Отучи какой-нибудь страшной сказкой моих девок, заодним и жену, чтобы не бегали в господский дом. Один стыд от людей. Все люди норовят господский дом стороной обойти, а мои будто мухи туда липнут, ровно там ворота намазаны медом.
— А ты не пытался их подобру учить? — спросил соседа Крапива.
— Как не пытался? Не помогло. Всей улицей их недавно люди срамили, что отцовскую рабочую честь позабыли. Да только моим девкам хоть бы что. Особенно старшей — Катерине. Ей людское слово, что дождик по весне. Пока идет — мочит. Перестал — высохло все. Пока ругали — присмирела. Перестали ругать — за свое взялась. Палкой не выгонишь из господского дома. Ты ведь сам редко бываешь на заводе, вот и не ведаешь про наши дела.
— Может, у нее выгода какая — потрафлять господам?
— Какая там выгода! Только обноски господские домой приносит. Намедни юбку барыня Катерине дала. Тряпье, но сшито, известно, по-господски.
— А ты бы плеточкой девку стеганул.
— Нет, Тимофей Егорыч, не тот характер имею. Только больше дурь в голову ей забьешь. Надо, чтобы человек своим умом дошел, что чужая одежда чужим потом отдает…
Задумался Тимофей. Не сразу ответил он соседу. Ну, а когда надумал, то сказал:
— Трудненько отвадить твоих девок и жену от такого зла. Лакейством оно зовется.
И хоть не давал Крапива соседу слово, а пособил. Правда, не скоро, а когда пришел черед соседским девкам отводить посиделки. Такой неписаный закон был раньше на Урале по заводам и деревням. После работы ведь некуда было деваться девушкам и парням. На таких вечерках девушки пряли, вышивали и песни пели…
В тот год выдалась ранняя зима. Чуть не в сентябре наступили холода. Поневоле заберешься в избу на посиделки.
Пришел черед отводить их соседским девкам. Собралась девичья ватага у соседа в доме. Пожаловал и дорогой гостенек — Крапива. Молодежи в радость: еще бы, первый сказочник на заводе.
Когда же все угомонились, хозяин подал гостю чарочку доброго домашнего вина, и Тимофей начал свою сказку. Поначалу, как всегда, прибаутки говорил, вроде такой:
— Вчерась пошел в баню я. Мылся-мылся, да бес все мешал. То паром обдаст окаянный, то вехотку спрячет. Рассердился я на него и ошпарил нечистого кипятком до хвоста. Только, видать, я так размахнулся, что бес от страха убежал. Убегая, он в предбаннике леденцы оставил.
И Крапива, выгребая из карманов леденцы, принялся ими угощать девушек.
— Ну, а теперь и сказку скажем, — степенно выговаривал Крапива, усаживаясь возле печки.
— Жила-была в нашем заводе девица одна. У отца с матерью как цветок росла. Только господам уж больно старалась угождать. Углядела барыня такое со стороны Лукерьи — так девку звали. Живо ее в господский дом взяла, вроде как в услужение к барышням приставила ее. Тычки господские и их насмешки Лукерье нипочем. Знай верой и правдой служит господам. Только, чем далее у господ служила, тем злее становилась. Конечно, не на господ злилась она, а на люд простой. Ведь не нами говорено: с кем поведешься, от того и наберешься.
Кто из наших заводских жалел Лукерью за это самое ее лакейство — дескать, ума вовсе лишилась девка. Кто варначкой называл. Кто проклинал да ненавидел.
Господа же только Лукерьей всем глаза кололи. Дескать, не вам она чета — непокорным и непослушным. А Лукерье и не стыдно.
И вот как-то раз приехали к господам гости из какой-то чужой страны. Но по-нашему они лопотали. Приказал хозяин управителю наших заводских девок собрать на хозяйский двор. Песни петь, хороводы водить.
— Да чтобы пели они веселей и в лучшие наряды оделись! — наказывал управитель.
Пришли наши девки на круг — одна другой краше: знай, мол, наших. В тонкопряденные сарафаны нарядились, да все разной расцветки. В косах ленты, на ногах лапотцы. Ну, не девки, а цветки.
Ахнули гости от такой красоты. Глядят — не наглядятся. Тут же принялись скупать по заводу девичьи наряды. Сказывали потом старики, что у них там стали под наших девок рядиться…
Только одна Лукерья господские обноски на себя напялила. На смех людям вырядилась.
Когда же наши господа сами собрались за границу, то прислуги немало повезли с собой. Взяли, конечно, и Лукерью. Все девки ревели ревом, а Лукерье одна радость. Гусыней ходила перед народом…
Много ли мало, а целых три года пробыли господа в загранице. Воротились на Урал, видать, совсем без денег. Порастрясли их по чужим краям. Принялись пуще прежнего притеснять работных. Надо было ведь наверстать потерянное.
Воротилась и Лукерья. Вовсе бесстыжей стала. Наденет платье. Плечи оголит и примется ими крутить и ужиматься. Думает, что ей завидуют девки. А к народу вовсе озверела, потому что старшей над всеми стала. Так с плеткой и ходила. То и гляди — ни за что ни про что ударить норовила. Девкам да молодайкам-женам и вовсе от нее житья не стало. Сама толстая, разукрашенная. Разные помады на ней. Одним словом — заграничная особа.
Пробовали люди жаловаться на нее управителю завода. Да куда там!
Один раз по весне зашли на завод странники. Народ прохожий. Было их человек десять. Раньше-то простой народ по Уралу пешим ходом ходил. Да и не только по Уралу. Наскучит век свой на одном месте жить, вот и катанут пешочком, к примеру сказать, в Киев или до матушки Москвы. А все больше шли в Сибирь искать спасения от неволи. Одним словом, немало таких странников через Урал проходило. По дороге заходили они передохнуть под крышей. Заодним попариться в баньке. Как полагалось в старину, таких странников хорошо встречали люди. Заводское начальство, барыньки наособицу, тоже не обходили странников. Любили барыньки послушать разные слухи. Что делается у соседей на других заводах? Где был пожар? Где засуха? Старались не обидеть прохожих, а то, чего доброго, разнесут по свету худую молву о них. Побаивались хозяева заводов этих странников далеких…
Приказала хозяйка завода управителю, управитель — приказчику, а тот Лукерье распоряжение дал: как будет хозяйка выходить из дома, так и подвести странников для милостивого разговора с ней. Народ собрать в сторонке у леска — пусть глядят на барскую милость и доброту к странникам прохожим.
Собрались люди, только все больше старухи да малолетки пришли, хоть и воскресенье было. Не хотели мужики и бабы на господское представление глядеть. Зато Лукерье — раздолье. Для ее злого сердца. Словно клещ ей в язык впился. Принялась она кричать на старух, закипела, как на большом огне уха:
— Тут барыня станет… А отсюда странники подойдут… — и подалась к попу наказывать, чтобы по выходу господ ударить в колокола.
— Пущай знают странники, как их встречают в Златоусте.
Своим-то заводским такое не в диво было, а вот странникам на удивление. Стояли они в сторонке кучкой, боялись пошевелиться. Только один из них, старик, был будто не из пужливых. И по виду какой-то вовсе не такой, какие бывают странники. Статный да красивый, только бородой сед и кудри на голове сбела. Одежда на нем тоже в отличку была. Будто и рубаха из холста, и лапти, и портки — все, как у других стариков, а вот повернется — и сразу видно: не простой человек.
Даже ребятишки заприметили такое. Одной Лукерье старик не поглянулся, что не смирный вид был у него. Как стоял, так и не пошевелился, хотя другие странники давно в сторонку отошли, как требовала Лукерья. Увидала она такое, аж задрожала вся. Губы поджала — и хлесть старика по спине…
Ахнули все, кто тут стоял. Странники всегда были в почете, а тут — огреть плетью.
— Вовсе рехнулась Лушка, — кто-то вслух сказал.
Потемнело лицо у старика. Лохматые брови в одно крыло сошлись, от гнева в глазах искорки заиграли. А как Лукерья его огрела плетью, повернулся к ней, ровно ему и не больно вовсе, поглядел на нее и сказал:
— Брось плеть, неразумная!
И близко-близко к Лушке подошел. У той от злобы пена на губах появилась. Зашипела она на старика:
— Уходи, окаянный, туда, откуда ты пришел! Чего тебе надо? Здесь я в ответе перед господами.
И только хотела опять огреть старика плетью, как из дома показалась сама барыня и целый выводок приживалок. Увидев господ, Лукерья пуще прежнего остервенела. Решила, видать, еще большую верность показать. Вот, мол, глядите, как я стараюсь. Но в этот раз она перестаралась. Не успела поднять плеть Лукерья, чтобы снова стегануть старика, как вдруг старик громовым голосом сказал ей, да так, что горы загудели:
— Отца Урала тебе не столкнуть с места, какой бы плетью ни стегала!..
Загремели горы. Ветер поднялся. Молнии засверкали. Треснула вдруг земля. И Лукерья в трещину, словно в дудку, провалилась. В испуге замерли люди. Господа попятились назад. Задком, задком, да и в дом поторопились. Видать, сразу догадались, как бы с ними не случилось такое. Знали они свои грехи перед народом. Лукерья же в это время, ползая по дну дудки, кричала в страхе:
— Батюшка Урал, прости меня, не наказывай!
И принялась карабкаться из дудки. Только вылезла наверх, хотела подняться на ноги, опять ударил гром и «У-у-у» — загудели горы еще пуще. Лукерью будто придавило.
Тогда старик сказал:
— Не я тебя наказываю, а ты сама наказываешь себя. За то, что руку поднимаешь на тех, кто тебя вскормил и вспоил. Корыстью ты убила красоту свою. Погляди кругом. Видишь — никто тебя не жалеет. Угождая господам, ты не человеком стала, а вся скривилась. Твое сердце почернело. Вот и лежать тебе у дороги черным камнем.
Затем, поклонившись всему народу, он тихонько к лесу пошел. Глядели люди вслед и понять не могли: шел вовсе не старик, а могучий богатырь. И пока глядели на него люди, не приметили, что стало с Лукерьей. А когда повернулись, большой камень на земле лежал. И был он черный, грязный.
С той поры все — и люди, и звери, и птицы — обходят этот камень стороной.
Говорят, как рукой сняло лакейство с дочерей соседа Крапивина.
Вот и выходит: руки мастера булат куют, а слово золотое человека человеком делает. А еще добавляют, что золотое слово — самое простое, сердцем сказанное…






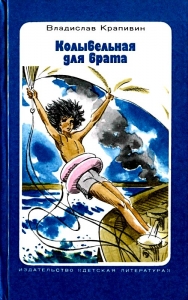





Комментарии к книге «Ансаровы огни», Серафима Константиновна Власова
Всего 0 комментариев