Новая повесть Владимира Кобликова «Топорок и его друзья», несомненно, привлечет внимание юных читателей. Она адресована подросткам, написана живо, образно и будет читаться с большим интересом. Это повесть о счастливом детстве, о добрых людях и хороших воспитателях, светлом детском мировосприятии.
Кобликов Владимир Васильевич
ТОПОРОК И ЕГО ДРУЗЬЯ
Повесть
РОКОВОЙ ГОЛ
Засыпал уставший за день город. Улицы обезлюдели. Только иногда тишину летней ночи резал ноющий гул автомобиля. И тогда казалось, что колеса бегут не по асфальту, а по тишине, и что тишине от этого больно. Дома чутко вздрагивали и сердито дребезжали оконными стеклами.
Уже давно заснули беспокойные городские птицы, заснули деревья, задремали стоя манекены в витринах магазинов, погасли рекламы, придремнули улицы, переулки, а Федя Топорков, которого все ребята в школе и во дворе звали просто Топорком, никак не мог уснуть. Бессонница Федю посетила впервые, хотя ему уже было тринадцать лет. Топорок слышал, что бессонница — вещь неприятная, даже где-то читал, что бессонница может служить пыткой, а теперь вот и сам столкнулся с непрошеной гостьей, которая обычно любит людей старых и больных.
Да, обычно сон у людей воруют болезни, какие-то неприятности, любовь, старость. Но к старикам Федю еще никак нельзя было причислить. И был он вполне здоров и принадлежал к тем счастливчикам, которые даже не знают, что такое зубная боль. Любовь? Нет, любовь никак не могла стать причиной Фединой первой бессонницы, потому что Топорков презирал девчонок, считал их скучными, глупыми и слабыми. Остается одно — неприятности. Именно неприятности и не давали в эту летнюю ночь Топорку покоя и сна... Федин отец решил отправить сына на все летние каникулы в деревню к старикам Храмовым. Такое решение Илья Тимофеевич Топорков принял после того, как Федя забил гол в окно квартиры Трофимовой — одинокой скандальной женщины. Трофимова разводила на окнах какие-то особенные, как она утверждала, цветы, и весь двор звал ее за это Лютиком хотя похожа она была скорее на кактус.
Итак, Топорок забил мяч в окно Лютика.
Удар был сильным. Стекло разлетелось вдребезги, горшочки с «особыми» цветами — вдребезги, какой-то уникальный бюст, якобы привезенный прабабушкой Лютика из Парижа, — вдребезги. Короче говоря, осколков от рокового гола было так много, что Лютик принесла родителям Топорка счет на сорок рублей новыми деньгами. И это, как утверждала пострадавшая, всего лишь треть цены, которая могла бы возместить истинный убыток.
А ведь гол тот был совершенной случайностью. Обе команды, болельщики самых разных возрастов подтверждали неопровержимость этого, но Лютик твердо стояла на своем. Она громко рыдала во дворе, а потом привела управдома Горохова, чтобы составить «Акт о хулиганском поступке гражданина Федора Топоркова...»
Лютик, конечно, не надеялась получить с Топорковых полной суммы. Она, пожалуй, сошлась бы и на пяти рублях, которых вполне хватило бы на покупку разбитых горшочков и одного листа оконного стекла. Но Топорков-старший не стал торговаться. Он молча прочел «Акт о хулиганском поступке гражданина Федора Топоркова» и, не говоря ни слова, вручил деньги Лютику. Это так ошеломило ее, что она смутилась:
— Могу и подождать: сразу такие деньги.
— Раньше или позже — какая в том разница? Все равно отдавать, — ответил Илья Тимофеевич. — Наследства не жду.
Управдом Горохов все время делал какие-то знаки Топоркову, но тот не замечал.
Когда же Лютик положила деньги в сумочку, управдом уже не смог скрыть своего отношения к данной истории. Горохов изменился в лице и сказал возмущенно:
— Это же грабеж!
При Лютике и управдоме Федя, как ни странно, чувствовал себя спокойнее. А вот когда они ушли, Федя вдруг понял, какой удар материальный он нанес родителям своим ударом по Лютикову окну. Топорок стоял, опустив руки по швам, и безнадежно глядел в пол.
Отец держался молодцом. Он только стал каким-то спокойным и до строгости сосредоточенным. Мама же переживала потерю таких денег открыто. Она вздыхала, охала и почти со слезами сказала отцу:
— Теперь, Илюша, мы не сможем купить тебе костюма.
— Не сможем, — согласился отец.
— Боже мой! Боже мой! — Мать от отчаяния даже закрыла глаза ладонью.
Топорок вдруг почувствовал, что сейчас заплачет. И как он ни крепился, все же слезы предательски потекли, потекли.
— Я же не нарочно... Не хотел же я.
— Еще не хватало, чтобы ты нарочно бил мячом по окнам! — возмутилась мама. — А сколько раз я тебе твердила, чтобы ты не играл во дворе в футбол?
— Нет, пора с этим покончить, — вмешался в разговор папа. — Еще несколько таких ударов по окнам, и мы станем нищими. Вот что я решил, Лена. Федора надо отправить в деревню к старикам Храмовым. Хватит этих матчей. К добру они не приводят. И отправим мы его не на недельку, а на все лето... Слышишь, Федор?
— Слышу, — еле вымолвил Федя.
— Вот и прекрасно. В субботу я отвезу тебя в Ореховку.
Топорок не спал почти всю ночь, но все равно проснулся необыкновенно рано. Он открыл глаза и сразу же стал думать о том, о чем думал, засыпая. И от этого ему показалось, что он вовсе и не спал. Топорок прислушался.
Утро только что родилось. В такое время Федя иногда отправлялся с отцом на рыбалку на Оку. Именно в такое: вот и дворники подметают тротуары, и небо над домами порозовело, и слышно, как поют птицы свои утренние песни, автобусы и троллейбусы еще не ходят по улицам.
Феде надоело лежать. Он встал, оделся, заправил кровать и на цыпочках вышел из квартиры. Зачем-то крадучись, спустился по лестнице и выглянул во двор. Там было тихо и прохладно. Федя испытал секундную радость, что раньше всех вышел на улицу, но вот он отыскал глазами окно Лютика и сразу помрачнел.
Топорков бесцельно побродил по двору, потом сел на лавочку возле песочницы и стал ждать солнышка... Ворковали голуби на подоконниках. Кошки возвращались после ночной охоты и драк по домам. Из пятого, углового, подъезда вышел чудаковатый старичок. Старичок вывел на поводке своего дурашливого боксера Арлика. У Арлика была свирепая морда, но на самом деле он был просто глуп и добр. Чтобы удержать откормленного и бестолкового Арлика, старичок вынужден был откинуться назад и идти, упираясь. Фактически не старичок гулял с Арликом, а Арлик водил на поводке старика.
Вдруг боксер заметил кошку, замер, обалдело открыл слюнявую пасть, повел курносым носом, восторженно чихнул и бросился за ней.
— Арлик, перестань, Арлик, перестань, — умолял старичок, но Арлик не обращал на хозяина никакого внимания.
Старичок споткнулся и выпустил из рук поводок. Но, даже получив нежданную свободу, боксер не смог догнать кошку.
Лучшее убежище от собак — деревья. Арлик чуть не стукнулся носом о ствол липы, по которому кошка метнулась вверх, словно белка. Боксер запрыгал от досады, залаял, а кошка с равнодушным любопытством глядела на глупого пса с недосягаемой высоты.
Трусцой подбежал к дереву старичок, но Арлик отбежал в сторонку, и стал дразнить хозяина, по-щенячьи тявкая и припадая на передние лапы.
— Арлик, безобразник, так поступать не честно... Иди, я тебе дам сладенького... Иди ко мне, мой мальчик, — уговаривал старичок.
Пес делал вид, что покорно ждет, но стоило хозяину подойти, как Арлик вскакивал и начинал бешено носиться по двору. Феде стало жаль старичка. «Надо же, такого дурака обмануть не может... Сейчас, Арлик, ты отбегаешься», — решил Топорок и поднялся со скамейки.
Арлик тут же заинтересовался новым человеком, даже перестал носиться, приостановился и стал глядеть на Федю, склонив голову. Но Федя делал вид, что не замечает Арлика. Засунув руки в карманы брюк и беспечно насвистывая, Топорок отправился со двора. Что может быть обиднее равнодушия? Арлик тут же забыл про хозяина и затрусил за Федей. Но Федя по-прежнему притворялся, что не замечает боксера. Арлик пробежал мимо Феди раз, другой, а Федя все шел и беспечно насвистывал. Арлик совсем был сбит с толку таким невниманием. Наконец, он не выдержал, преградил Феде дорогу и несколько раз обиженно тявкнул.
— Чего тебе? — с недовольным притворством спросил Топорок и сделал вид, что хочет обойти собаку.
Арлик опешил. Куда девались игривость, спесь. Заискивающе виляя куцым задом, он подошел к Топорку. Федя спокойно взял поводок и повел Арлика к хозяину.
— Возьмите, пожалуйста, вашу собаку.
— Спасибо, мальчик, спасибо. Ты ведь из нашего дома? — Старичок пригляделся к Феде. — Ну да, из нашего. Тебя, кажется, ребята Сверлышком зовут?
— Топорком, — поправил Федя. — Фамилия моя Топорков.
— Да-да, Топорком, Топорком... Это ведь ты? старичок кивнул в сторону окна Лютика.
— Я не нарочно.
— Конечно, конечно. Я гражданке Лютиковой то же самое доказывал.
— Так и назвали «гражданка Лютикова»?
— Да. А что?
— Фамилия ее Трофимова, а Лютиком ее дразнят.
— Вот оно что... Теперь понимаю, почему она так на меня рассердилась. Ну, еще раз спасибо тебе, Сверлышко.
— Топорок, — снова поправил беспамятливого старичка Федя и, погладив Арлика по голове, снова пошел к лавочке возле песочницы, где обычно играли малыши: сюда раньше всего заглядывало утреннее солнце.
Из своего подъезда вышел Ленька Рыжий. Ленька был капитаном футбольной команды, которая всегда играла против команды Топорка. Ленька — полная противоположность Топорка. Федя — сухопарый, смуглый, русоволосый, а Ленька — коренастый, короткорукий, огненно-рыжий. Рыжий не отличался красотой, но зато был самым смелым и сильным. Отец часто порол его за драки, но это никак не умеряло Ленькиного боевого духа. Справедливости ради надо сказать, что Рыжий не был задирой. Просто у него было повышенное чувство собственного достоинства. И горе тому, кто забывал об этом.
Ленька ни разу еще не дрался с Федей, потому что Топорок никогда не напоминал Леньке, что его отец — сапожник, и даже в спорах не давал обидных прозвищ на редкость некрасивому капитану-сопернику. И Рыжий ценил Топорка за такие качества. Помимо того, Федя не уступал Рыжему ни в силе, ни в ловкости. Капитаны стоили друг друга.
Ленька первый подошел к Феде и протянул руку. Раньше такого не случалось, чтобы Рыжий первым к кому-нибудь подходил и первым здоровался — ведь у Леньки было повышенное чувство собственного достоинства.
— Здорово, Топорок.
— Здорово.
— Отец лупил?
— Нет.
— Значит, наврали?
— Чего?
— Что твой отец заплатил Лютику сорок рублей.
— Заплатил.
— Ну?!. Чудно...
— Что чудно-то?
— Чудно, что не отлупил. Мой бы с меня за такие денежки три шкуры содрал.
— Лучше бы отлупили.
— Это ты верно говоришь. Когда отлупят, легче становится. Бабка моя всегда говорила: «Сеченый — значит прощеный».
— Мне отец наказание похуже порки придумал. На все каникулы в деревню отправляет.
— Иди ты! Да, вот это наказаньице! Значит, тебя, вроде Пушкина, в ссылку. В деревню. Говорят, ты тоже стишки сочиняешь?
— Кто говорит? — Топорок нахмурился и покраснел.
Ленька заметил смущение приятеля и поспешно спросил:
— А как же твоя команда без капитана играть будет?
— Другого выберут, — тихо ответил Топорок и стал зачем-то глядеть на небо.
Рыжий сплюнул сквозь зубы, сжал кулак и погрозил разбитому окошку.
— Погоди, мы тебе это припомним!.. Хочешь, пойдем мои подпуска проверять?
— Со двора уходить нельзя.
— Жалко... Если улов будет хороший, рыбы тебе притащу.
— Спасибо.
Ленька торопливо зашагал к воротам... Во двор заглянул первый и яркий луч утреннего солнца.
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫКУП
Топорковы ужинали, когда в дверь к ним позвонили. Федя пошел открывать.
— Кто?
— Открой, — раздался за дверью знакомый голос.
«Ленька, — узнал Федя. — Наверное, рыбу принес».
Топорок открыл дверь и отступил, изумленный. Вся лестничная площадка была забита ребятами с их двора.
— Вы чего? — удивился Топорок.
— Отец дома? — спросил Рыжий.
— Дома. А что?
— Зови на переговоры.
— На какие переговоры?
— Много будешь знать, скоро состаришься, — каким-то официальным голосом сказал Ленька, —Зови отца.
— Федор, кто там? — спросил из столовой Топорков-старший.
— К тебе, — Федя растерялся, — пришли к тебе.
— Ко мне? Сейчас, — отозвался отец и вышел в переднюю.
Увидев инженера Топоркова, ребята, как по команде, сняли кепки, береты, панамы и дружно поздоровались:
— Здравствуйте, Илья Тимофеевич!
— Здравствуйте, — растерянно ответил Топорков. — Вы ко мне?
— К вам, — ответил за всех Ленька.
— Тогда проходите в комнату.
— Здесь лучше, — выпалил Ленька и немигающе уставился на Фединого отца.
— Так зачем же я вам, друзья, понадобился?
— Мы пришли к вам на переговоры, — голос у Леньки даже дрогнул.
— На переговоры? — отец поглядел на Федю.
— Я ничего не знаю. — Федя искренне замотал головой.
— Мы сами, — подтвердил Ленька. — Ребята, скажите.
Ребята одобрительно загалдели.
— О чем же будем вести переговоры?
Ленька достал из-за пазухи свиток и, как заправский парламентер, стал читать:
— «Мы, нижеподписавшиеся футболисты двора, — Ленька зачитал имена и фамилии всех ребят, — клянемся, что Федя Топорков разбил окно гражданки Лютика нечаянно. Гражданка Лютик поступила нечестно, взяв за три паршивых горшочка и лист стекла сорок рублей. Это только суд мог установить, сколько надо было платить. Гражданка Лютик еще пожалеет, что так поступила, но совесть каждому хорошую не вставишь. В наших командах живет девиз: «Один за всех, все — за одного», поэтому деньги гражданке Лютику должны платить все мы. И мы обязуемся, что за лето соберем сорок рублей и вернем их Топоркову Илье Тимофеевичу. Товарищ Топорков И. Т., в свою очередь, должен пообещать нам, что не станет наказывать своего сына Федора Топоркова и не сошлет его на каникулы в деревню».
Ленька прервал чтение и сообщил:
— Мы все расписались. И принесли вам десять рублей. Сразу все сорок собрать трудно.
Илья Тимофеевич задумался. На лестничной площадке стало очень тихо. Парламентеры, затаив дыхание, смотрели на Топоркова-отца и ждали, что же он им скажет.
— Я очень рад, что у Феди такие друзья, — наконец заговорил Илья Тимофеевич, — но ваш ультиматум, дорогие, принять не могу.
— Почему? — изумился Ленька.
Его вопрос подействовал на приятелей, как сигнал к атаке. Мальчишки заговорили все разом. Илья Тимофеевич закрыл глаза и поднял руку, прося тишины.
— Тихо, братцы! Дипломатические переговоры так не ведутся.
Слова «дипломатические переговоры» отрезвляюще подействовали на Фединых защитников: они опять притихли.
— Федя, — неожиданно обратился Илья Тимофеевич к сыну, — ты обещал не играть в футбол во дворе?
— Обещал.
— А свое слово сдержал?
— Нет, — мрачно ответил Топорок.
— Теперь понимаете, почему я не могу выполнить вашей просьбы?
Парламентеры молчали.
— Простите его. Он больше не будет, — сказал робко вратарь из Ленькиной команды. — Нечаянно в окошко попал. Колька Щавелев неточный пасс ему дал, а то бы нам верный гол был: у Топоркова удар мертвый.
— Мертвый? Мы в этом убедились. Мертвый и дорогой. Но дело не только в деньгах. Кстати, не собирайте их больше, а те, что собрали, раздайте... Каждый человек — мал он или велик по возрасту — всегда должен быть верен своему слову, должен нести ответственность за свои поступки... Вопросы ко мне есть?
— Взрослые всегда правы, — недовольно буркнул Ленька. — До свидания, — Ребята попрощались и ушли.
— Хорошие у тебя друзья, — сказал Феде отец, когда они возвращались в столовую.
— Хорошие, — согласился Федя и вдруг убежал в ванную.
— Кто приходил? — спросила Елена Фоминична.
— Делегация ребят. Приносили выкуп за Федю.
— Что ты говоришь?! Какие славные ребятишки!
— Славные, но я отказался взять выкуп.
— Разумеется.
— Мальчишки просили, чтобы я оставил Федю в городе.
— А ты?
— Сказал, что вопрос этот уже решенный.
Елена Фоминична поспешно сказала:
— Между прочим, мы сможем купить тебе костюм. Я взяла шестьдесят рублей в кассе взаимопомощи.
— Я тоже взял деньги в кассе взаимопомощи.
— Так, следовательно, все хорошо и...
— Нет, Лена, никаких уступок.
Елена Фоминична хотела еще что-то сказать мужу, но в столовую вошел Федя. По мокрым волосам видно было, что он долго умывался.
ПЛАКАТ
На рассвете на дверь подъезда, в котором жила Лютик, Ленька Рыжий прибил большой яркий плакат. На нем была нарисована уродливая женщина-цветок. Она лихо отплясывала, размахивая бумажкой. На бумажке значилось: «Сорок рубл.». Крупными, ядовито-фиолетовыми буквами внизу плаката было написано «Стыд и позор СПИКУЛЯНТКЕ!!!»
Накануне вечером Ленька предупредил ребят из обеих команд, чтобы они собрались во дворе рано утром. Когда его стали спрашивать, зачем так рано, Ленька коротко ответил: «Узнаете».
Прибив плакат, Ленька спрятался за забором, разделявшим их двор с соседним, и стал поджидать приятелей.
Первым на улицу вышел Колька Щавелев, которого ребята звали Щавель-Щавелек. Он постоял возле своего подъезда, несколько раз зевнул и побрел к скамейке.
Следом за Колькой во двор «выкатился» шустрый Витя Жихарев. Его цепкие глаза сразу же заметили Щавелька. Витя хотел незаметно подкрасться к Коле и испугать его, но вдруг увидал плакат. Жихарев подбежал к нему, прочитал, всплеснул короткими ручками и засмеялся своим остреньким смехом.
Щавелек вяло спросил:
— Чего ты там?
— Видал?
— Что?
— Сбегай за очками, — посоветовал Щавельку Витя.
— Я те сейчас сбегаю, — лениво пригрозил Колька и поплелся к плакату. Разглядев его, Колька сначала открыл рот, а потом тоже засмеялся:
— Хы-хы-хы... Ты намалевал? — спросил он.
— Нет, — ответил Витя.
— А кто же?
— Не знаю. Кто у нас рисует-то хорошо?
— Плотвичка.
— Точно. Это Плотвичка нарисовал.
Полузащитник из команды Топорка Дима Плотвичка оказался легок на помине. Заметив Диму, Витя Жихарев помахал рукой.
— Привет, Плотвичка!
— Привет.
— Здорово ты ее, — сказал Щавелек подошедшему Диме.
Плотвичка замотал головой.
— Это не я.
— Не ты? — Щавелек недоверчиво уставился на Диму.
— Честно.
...Наконец собрались все, кроме капитанов. Почему не пришел Топорок, все знали: Федя находился «под домашним арестом». А вот почему до сих пор нет Леньки, было непонятно.
— Разыграл нас Рыжий, — флегматично заявил Щавель-Щавелек. — Нас взбаламутил, а сам-то, небось, дрыхнет.
— Не выдумывай, — возразил Дима. — Ленька не станет разыгрывать. Наверное, подпуска проверяет.
Раздался свист.
— Ленька! — обрадовался Плотвичка.
Все побежали к забору.
— Давайте сюда, — приказал Рыжий и отодвинул доску от потайного лаза.
— Видал? — спросил Леньку Щавель-Щавелек и кивнул в сторону плаката.
— Сам повесил.
— Может, скажешь, и рисовал сам?
— Сам, — буркнул Ленька. — Не Кукрыниксы же.
— Здорово, — похвалил Плотвичка.
Рыжий, думая, что Плотвичка смеется над ним, хотел уже огрызнуться, но все искренне стали расхваливать плакат, и Ленька смутился:
— Ничего там хорошего нет. Получше б нарисовал, да краски плохие и времени маловато было.
— Весь дом теперь от смеха прокиснет, — ядовито заметил полноликий и круглоглазый хитрец Тоник Воробьев.
— Смолкни, Воробей! — разозлился Ленька...
Ленька и его товарищи были уверены, что сразу же, как только взрослые увидят плакат, поднимется шум и сбегутся жильцы всего дома. Но «просмотр», к великому их огорчению, проходил гладко, мирно.
Ленька был зол, молчалив. Он считал, что затея с плакатом провалилась. Ребятам надоело наблюдать за тем, что происходит на их дворе, они лениво переговаривались. Некоторые уже собирались уйти домой.
— Гляньте-ка, — тревожно зашептал Витя Жихарев.
Все моментально «прилипли» к забору.
К плакату шел управдом.
— Торопится-то как, родимый.
— Тише ты...
— Остановился... Читает...
Управдом Антон Антонович Горохов внимательно изучил плакат. Оглядевшись, он засмеялся и, довольно потирая ладони, заторопился к своему подъезду.
— Теперь не снимут, — облегченно вздохнул Ленька.
— Думаешь, не снимут? — усомнился Тоник.
— Кто снимет-то? А? Ну, говори, пучеглазый Воробей! — Рыжий не любил Тоника и рад был любому случаю придраться к этому маменькиному сыночку.
— Кто! Кто! А совет пенсионеров? Вот постановят снять — и снимут.
— Пока они соберутся, пока позаседают, весь дом успеет поглядеть, — возразил Тонику Витя Жихарев.
— Совет пенсионеров — чепуха, — вступил в спор Щавелек (он всегда становился на сторону пессимистов). — Обождите, Лютик на улицу выйдет.
— Пусть выходит. А сорвать плакат не дадим, — твердо заявил Ленька.
— Не дадим? Как же не дадим-то? Не станешь же с нею драться: она ведь тетка.
— И без драки обойдемся.
— Арлик дедушку гулять вывел, — объявил Плотвичка, и все опять бросились к своим «наблюдательным пунктам».
Плакат увидал Арлик. Видимо, его привлекли незнакомые яркие краски. Арлик ринулся к Лютикову подъезду.
— Арлик, мальчик мой, куда ты? — плаксиво спросил старичок. — Не так быстро, Арлик!
И только когда Арлик остановился возле плаката, старичок понял, что привлекло внимание его любимца.
— Надо же, — удивленно произнес он и затрясся от беззвучного смеха.
Арлик же не собирался скрывать своих чувств. Боксер стал весело прыгать и истерично лаять.
Лучшего глупый Арлик не мог ничего придумать. На лай боксера выглянула в окно Лютик. Она, естественно, не видела плаката и поэтому подумала, что старичок из пятого подъезда просто дразнит ее своею собакой.
— Безобразие! — крикнула Лютик.
Старичок от неожиданности вздрогнул и как-то весь сжался.
Арлик залаял еще громче, задорнее.
— Перестаньте хулиганить! — забушевала Лютик. — Уберите вашу паршивую собаку! Уберите сейчас же!
Арлик разошелся и не хотел никуда уходить. Старичок изо всех сил тянул его за поводок и умолял:
— Арлик, перестань... Пошли, пошли, мой мальчик. Видишь, гражданка Лютикова сердится.
— Что?! — Лютик задохнулась от обиды и злости, — Обзывается?! Я покажу вам, какая я Лютик!
Старичок решил поправить положение. Галантно приподняв свою старенькую соломенную шляпу, он с поклоном сказал:
— Прошу прощения, прошу прощения, гражданка... гражданка Мячикова.
— Что? Что???
— Извините...
Хозяин Арлика понял, что одряхлевшая память окончательно подвела его. Закрыв глаза, он впервые в жизни прикрикнул на своего любимца:
— Домой, негодник!
Боксер опешил и покорно затрусил к пятому подъезду.
Старичок с собакой скрылись вовремя, потому что очень скоро во дворе появилась разгневанная Лютик. Не застав «обидчиков», она стала размышлять вслух:
— А, спрятался со своей бесхвостой образиной! Вздумал беззащитную женщину собакой травить... Я найду на вас управу...
Лютик решила возвратиться домой, сделала шаг к дверям и застыла на месте.
— Внимание! — прошептал Ленька.
Несколько секунд Лютик окаменело стояла на месте, а потом бросилась к плакату. Раздался оглушительный свист. Лютик даже подпрыгнула от неожиданности, а голуби и воробьи, находившиеся поблизости, взмыли вверх. Свист прекратился, но его тут же сменил ликующий крик:
— Стыд и позор! Стыд и позор! Стыд и позор!
Лютик юркнула в подъезд.
Во дворе опять появился управдом Горохов. Он нес в руках баночку и кисть.
Остановившись возле плаката, Антон Антонович макнул кисточку в баночку и стал что-то исправлять в тексте.
— Чевой-то он? — заикаясь от любопытства, спросил Витя Жихарев.
— Сейчас проверим, — озадаченно произнес Ленька. — Сейчас проверим. Плотвичка, дуй, посмотри.
Плотвичка бежал по двору, согнувшись, перебежками, будто под огнем противника. Обследовав плакат, он возвратился к товарищам.
— Что? — властно спросил рыжий капитан. И все уставились на Диму.
— Ошибку исправил, — ответил Плотвичка.
— Какую еще там ошибку? — поморщился Ленька.
— Надо писать «спЕкулянтка», а не «спИкулянтка».
— Подумаешь!
— А кто писал это слово? — прикинулся незнайкой Тоник.
— Ну, я! — сознался Ленька Рыжий и с прищурочкой поглядел на Тоника. — Ну, я написал, — повторил Ленька, у которого было повышенное чувство собственного достоинства. — Чего ты, Воробей, хочешь этим сказать?
— Ничего. — Тоник заерзал под немигающим Ленькиным взглядом. — Просто надо знать, как пишется это слово.
— А зачем мне его знать? А? Я не хочу знать этого слова. Оно отмирающее. Ясно?!
ЛЕТАЮЩИЙ КОТ
Пришел ласковый вечер. Двор обильно полили из шлангов. Запахло мокрым асфальтом, зеленью. Темнота разбудила ночные цветы.
Дом смотрел во двор множеством окон. Но вот одно из них погасло, потом еще, еще... Только два окна на пятом этаже дольше всех упрямились, но и они, наконец, сдались и потухли.
Весь вечер Лютика мучило какое-то странное предчувствие. Обычно она быстро засыпала, но сегодня долго ворочалась, вздыхала и даже пила успокоительные капли.
В полночь Лютик услышала за окном странные звуки. Она вскочила с постели, подбежала к окошку и застыла на месте. Перед окном летал орущий кот.
— Ааааааа! — закричала, обезумев от страха, Лютик и попятилась в глубину комнаты.
Кот на секунду, затих, а потом заорал с новой силой:
— Мияяяяяяя-вууу!
Наткнувшись на шкаф, Лютик больно ударилась. Боль немного отрезвила ее, и она бросилась к телефону вызывать милицию.
В это время кот залетел в окошко, и Лютик вновь душераздирающе закричала:
— Аааа!
В квартирах стал зажигаться свет. Полусонные люди высовывали головы из окон, желая узнать, что за крики раздаются. Дом ожил.
Лютик доползла до телефона и позвонила.
— Дежурный лейтенант Киреев слушает, — ответили ей в трубке.
— Мимими...
— Да, да, милиция. В чем дело?
— Ле-ле-ле-тающий кот за окном.
— Вы что, гражданка?
— Пппп-п-равда летает и... и кричит... Сппппасите!
— Ложитесь спать, гражданка, а то еще летающая тарелка привидится.
Но милиционерам все-таки пришлось выехать на вызов Лютика, потому что летающий кот напугал еще нескольких человек и телефон звонил беспрерывно.
Наряд возглавил сержант Дроздов.
Как только милицейская машина въехала во двор, кот, парящий под окном Лютика, вдруг завопил истошным голосом и взмыл вверх.
— Гляди-ка, правда, летает! — поразился сержант Дроздов и приказал: — Прожектор!
И тут же яркий упругий луч, скользнув по стене, поймал кота, висящего на веревке. Луч побежал вверх и обнаружил на краю крыши, у невысокого барьерчика, человека. Подняв кота на крышу, этот человек освободил его от веревки и отпустил на волю, а сам на четвереньках заторопился к чердачному окошку, но оно было заперто.
Во дворе к этому времени собралось уже немало жильцов. Один из них ехидно и громко заметил:
— Теперь попался, голубчик.
— Гражданин, спускайтесь, — приказал старший милицейского наряда сержант Дроздов. — Спускайтесь... Не валяйте дурака.
— Мяяяу, — жалобно отозвался с крыши кот.
Все засмеялись.
А человеку на крыше было не до смеху. Он все еще искал путь к спасению: метнулся туда, сюда, подбежал к вентиляционной трубе, заглянул в нее.
— Бесполезно, — сочувственно произнес Дроздов и еще раз пригласил: — Спускайтесь, гражданин, спускайтесь.
Ленька Рыжий (это был именно он) махнул сокрушенно рукой и пошел к пожарной лестнице. Прожектор услужливо освещал ему путь. Как только Ленька ступил ногой на асфальт, сержант Дроздов взял под козырек и привычно сказал:
— Сержант милиции Дроздов. Ваши документы, гражданин.
— Нет у меня еще документов, — мрачно ответил Ленька Рыжий и нахохлился.
«ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД»
Настал день отъезда. Автобус уходил очень рано, и Топорок никак не думал, что кто-нибудь из приятелей выйдет провожать его. Но во дворе Топорка поджидали обе команды. Ребята холодно поздоровались с Ильей Тимофеевичем и Еленой Фоминичной, а Федю окружили и в дружеском кольце повели по улицам к автовокзалу...
За несколько минут до отхода автобуса ребята выстроились в шеренгу, а Топорка поставили лицом к строю. Ленька Рыжий сообщил решение двух команд назначить Федора капитаном сборной двора. Закончил свою речь Рыжий словами, которые произнес срывающимся голосом:
— Капитану нашей сборной физкульт-привет!
Конфузясь, но дружно и торжественно ему ответили обе команды:
— Физкульт-привет! Привет! Привет!
Пассажиры, которые находились на территории автовокзала, заинтересовались и, наверное, подумали, что провожают известного чемпиона. А тут еще крутится Дима Плотвичка с огромной отцовской кинокамерой! Когда Топорку надо было садиться в автобус, его стали обнимать, давать напутствия. Рыжий попрощался с Федей последним. Смутившись, он протянул Топорку записку.
— Тут вот мой адрес. Дом-то ты, конечно, помнишь, а номер квартиры можешь забыть. Напиши обязательно. И еще я тебе одно стихотворение Пушкина переписал. Прочти.
Когда автобус тронулся, Топорок развернул лист тетрадной бумаги и прочел: «Ул. Кутузова, дом 147, квартира 121, Ковалкину Л. С. (Леньке Рыжему)». И дальше без абзацев: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа. И братья МЯЧ вам отдадут... Не унывай, Топорок».
Федя загрустил еще больше. Все обыденное, привычное в его жизни обрело новый смысл, новую окраску. Федя сейчас с удовольствием бегал бы в магазины, мыл несколько раз в день посуду, выносил мусор — только бы остаться в городе с приятелями, только бы играть в футбол...
Кончился пригород. Дорога запетляла среди полей, а потом выпрямилась и побежала березовой рощей. И в автобусе сразу запахло горьковатой свежестью, чистыми листьями, солнцем и прохладной земляничной росой.
Сначала Топорок почти не обращал внимания на дорогу, на красоту утреннего леса. Потом его внимание привлекло туманное дыхание низины, в котором запутались солнечные лучи. И Феде передалась нежная радость утра. Он стал испытывать необычное чувство. И это чувство было смутно-возвышенным, и в нем смешивались тревога, ожидание необыкновенного, желание сделать что-то очень важное, красивое.
Феде захотелось петь. И он тихо напевал. И будто специально для Фединого настроения все вокруг стало нежно-розовым, а солнце вырвалось из лесу и залило дорогу ярким горячим золотом.
«ТИФОЗНЫИ» БУНТ (Глава из прошлого)
Топорок никогда не был в Ореховке. И Храмовых, к которым его вез отец, никогда не видал. Илья Тимофеевич называл их родителями, хотя они были ему совсем чужими людьми. Илья Тимофеевич — воспитанник детского дома. И женился он на детдомовке, у которой тоже не было родителей.
Топорок очень страдал, что у него нет дедушек и бабушек. Он только по книгам и рассказам приятелей знал, как это хорошо быть внуком. Бабушки-дедушки и от наказания спасают, и подарки всякие делают. Только, говорят, и живут для внуков. Так что Федю Топоркова судьба крепко обошла, оставив без бабушек и дедушек.
Феде, разумеется, было не сладко уезжать из города в разгар футбольного сезона. Но где-то в самой глубине души ему хотелось в Ореховку, хотелось пожить в доме стариков, которых папа любил, ценил как настоящих родителей...
Семен Васильевич и Екатерина Степановна Храмовы в начале Великой Отечественной войны спасли жизнь молоденькому лейтенанту Илье Топоркову. Они нашли его осенью 1941 года в лесу, недалеко от своей деревни.
Обнаружила умирающего от ран лейтенанта Екатерина Степановна. Она возвращалась из соседней деревни, куда ходила навещать больную сестру. Шла Храмова лесом, торопилась засветло добраться до дому, потому что немцы в темноте и пристрелить могли. Дорога от дождей раскисла, и Екатерина Степановна старалась идти возле самых деревьев. Шла она, шла и наткнулась на человека, который лежал бездвижно, уткнувшись лицом в землю. «Мертвец!» — подумала Храмова и вскрикнула от испуга.
Обошла с опаской убитого и заторопилась, заторопилась подальше от места, где он лежал. А потом подумала: «А может, живой он? Вроде бы наш... Красноармеец».
Поборов страх, Екатерина Степановна медленно пошла обратно. Все казалось ей, что лежащий вот-вот вскочит на ноги и закричит: «Попалась!» Но мужчина по-прежнему лежал неподвижно, уткнувшись лицом в холодную грязь. Екатерина Степановна опасливо подошла, склонилась над ним, прислушалась. И вдруг страх у нее пропал. Осторожно приподняла Екатерина Степановна лежащего и перевернула его на спину. Он тихо застонал и опять затих. «Живой! Живой!.. Но что же мне делать с ним? Что же делать?»
Задумалась Екатерина Степановна, а когда очнулась, то заметила, что раненый глядит на нее в упор тихо и тревожно.
— Откуда ты, родненький? — ласково спросила Храмова.
Раненый застонал и закрыл глаза. Потом прошептал:
— Пистолет... Достань... из кармана...
Екатерина Степановна нащупала в кармане шинели пистолет и достала его. Держа оружие с опаской, спросила:
— Чего делать-то с этой штукой?
Раненый снова приоткрыл глаза, поглядел на Екатерину Степановну долгим взглядом и попросил:
— Пристрели... Пристрели, мать.
— Чего? Да ты рехнулся! Пристрели! Еще чего удумал.
Екатерина Степановна в сердцах швырнула пистолет в кусты, приподняла раненого и потащила в густой ельник.
Уложив его поудобнее, она сняла с себя поддевку и подсунула ему-под голову.
— Вот так, милый. Полежи здесь часок-другой. Мы с мужиком придем за тобой. «Пристрели!» Чего захотел! Кто ж я, по-твоему? А? Или я не русская? Лежи и жди.
Но ждать лейтенанту пришлось гораздо дольше, чем обещала Екатерина Степановна, хотя она бежала до самой Ореховки.
Дома она коротко рассказала мужу о раненом и стала торопить:
— Собирайся. Пошли за ним... Чего сидишь-то, увалень?
Однорукий Семен Васильевич, не обращая внимания на горячность жены, долго сворачивал самокрутку, потом закурил и задумался.
— Ну, и человек! — возмутилась Екатерина Степановна. — Кирпич у тебя вместо сердца, что ли? Вставай, тебе говорят!
— Не шуми, не шуми, лотоха. Поспешишь, людей насмешишь. По-твоему делать — и командира погубишь, и себя заодно с ним. Полной темноты надо дождаться.
— Помрет же он.
— Не должон, — уверенно возразил Семен Васильевич и добавил: — Дождичка бы! Ливневого.
— Совсем рехнулся! Дождик-то зачем?
— Чтобы следы смыл. На тележке его повезем. На трех руках-то не донести.
Дождь пошел! Пошел, словно по заказу Семена Васильевича. Удивительного в том ничего не было — осень. Но Екатерину Степановну это поразило.
— Ты, Семен, знать, колдун.
— Колдун, колдун, — согласился муж. — Достань-ка во что переодеть его. Все это в мешок, а мешок клеенкой прикроем. Лекарств вот у нас никаких нет... Водка вместо лекарства сгодится. Где она у тебя?
— Это зачем же ему водка-то? И так еле живой.
— Когда мне руку на финской оторвало, водкой меня сперва отхаживали. Смекаешь?
На дворе стояла непроглядная темь. Даже соседних домов не видно. Казалось, что их здесь никогда и не было. В такую тревожную ночь человеку трудно даже представить, что где-то светит жаркое солнце, что есть большие города, мирно спящие деревни. Думалось, что на всей земле сейчас липкая темь, дождь, ветер.
Каким-то чудом отыскали в этой кромешной мокрой темноте дорогу в лес и молча шли по чавкающей и хлюпающей грязи, шли и толкали тележку, на которой возили прежде только хворост да сено. И не было той дороге конца, а они, даже в душе, не роптали.
Только Семен Васильевич вслух усомнился:
— Найдешь ли, Катерина, его?
— Найду, найду, Сеня, — зашептала Екатерина Степановна, — теперь уж недалеко. От Лыскиного оврага с километр, не больше. Ельничек помнишь?
— Спрашивай!
— В том ельничке и лежит.
Он действительно лежал там, где его оставила Екатерина Степановна. И никаких признаков жизни уже не подавал.
— Помер!
— Замолчи ты! — прикрикнул на жену Семен Васильевич. — Бери под руки... Так... Поднимай... Кладем.
И снова они шли по раскисшей дороге. И снова им казалось, что вовсе не идут они, а просто месят ногами липкую грязь. И ночь была бесконечно долгой.
...До самого утра отхаживали Храмовы лейтенанта. Раны у него были не очень опасными, но, видно, он потерял много крови, долго голодал и сильно ослаб. Храмовы вымыли его, как могли, перевязали раны, надели на него чистое белье Семена Васильевича и уложили за печкой.
К утру у лейтенанта начался сильный жар. Раненый стал бредить, часто вскрикивал:
— Вперед!.. За Родину!... Бей фашистскую нечисть!
— Надо же, горит как, — пугалась Екатерина Степановна. — И кричит не по своей воле, родимый! Надо же! Не помирает ли он, Семен? А?
— Жив будет. Горит, значит, есть чему гореть. Крик родится —тоже хорошо... Только бы немцы не заглянули... Придут паразиты, а он их встретит словами: «Бей фашистскую нечисть!» Тут-то неувязочка и получится.
— Может, его на Калашников хутор, к дяде Егору? Тот спрячет, сам Гитлер не сыщет.
— Думал я о дяде Егоре, думал, да тревожить парня сейчас нельзя. У него сейчас, видать, самый... этот... Ну, как его называют-то? Во! Вспомнил. У него сейчас самый крызис.
— Чего, самый?
— Самый перелом: то ли жить ему, то ли помереть... Если сейчас к дяде Егору повезем — смерти поможем, тут лежать оставим — жизни поддержку дадим.
— Чего же тогда рассуждать-то?
— А и нечего рассуждать. Надо думать, как от немцев его уберечь. Они живо все вынюхают. И это самое: гешосс. Фирштеешь?
— Ладно язык-то поганить! Говори по-хорошему, по-нашему.
— И сразу расстреляют всех. Понимаешь?
— Конечно, расстреляют.
— А я все же придумал, как перехитрить паразитов.
— Как?
— Фрицы ужас как боятся тифа. Вот я и заболею тифом.
— Господь с тобою!
— Да не по-настоящему. Притворюсь.
— А доктор ихний придет? Что тогда?
— Буду лежать на печке: Жару там хватает. Для верности травки жарогонной выпью. А сыпь-то на животе репейником натру. Да и не придут они: тифа побоятся.
Утром Екатерина Степановна пошла к старосте Петру Селиванову. Петр Никитович Селиванов выслушал Храмову и решил навестить больного соседа. Екатерина Степановна обомлела.
Храмов услышал шаги на крыльце — и на печку. Лежит и живот репьем натирает.
Староста вошел в хату, снял шапку, перекрестился на пустой угол и сказал:
— Мир дому вашему. — Потом поглядел на хозяйку и строго спросил: — Почему иконы не висят? Немцы любят дома, где висят иконы.
— Нет у нас икон.
— Зайди ко мне, выдам на время. Где Семен-то?
— Там, — Храмова указала на печку.
И в это время раненый лейтенант произнес громко:
— Вперед! Смерть фашистским гадам! Вперед!
Екатерина Степановна задохнулась от испуга.
— Эк, как бредит, — староста покачал головою, —Видать, здорово прихватило мужика. Только пусть с печки слезает. При тифе и так человеку жарко, а ты его еще на печку. — Селиванов усмехнулся как-то странно и ушел.
Тяжелая тишина повисла в доме. Храмовы молча ждали, когда придут немцы.
И они пришли очень скоро. Но почему-то в дом к Храмовым солдаты не пошли, а, остановившись на почтительном расстоянии, вбили колы с какими-то дощечками. Вбили и поспешно ушли... Храмовы не верили своим глазам. Наконец, они опомнились. Семен Васильевич приказал:
— Иди-ка, Катерина, погляди, что за штуки они оставили.
Екатерина Степановна, накинув Платок на плечи, вышла на улицу и заторопилась к столбику с дощечкой. Там по-немецки и по-русски было написано: «Тиф».
Храмова облегченно вздохнула и перекрестилась.
Вскоре такие знаки были поставлены еще возле двух домов... А через неделю только три дома остались «нетронутыми сыпняком», и немцы решили на время уйти из деревни. Они покинули Ореховку на рассвете. Староста Селиванов провожал их. Подобострастно кланялся, крестился и причитал:
— На кого же вы нас, отцы-родители, покидаете? Что же с нами теперь будет?
— Не плаччь, Пьетр, — успокоил старосту майор Шмюккер, садясь в машину. — Кончался эпидемий, и мы возвратился в Орьеховка. Ауфвидерзейн, Пьетр.
— Видерзейн, видерзейн, господин майор. Видерзейн!
— Бьереги Орьеховка! — прокричал Селиванову майор на прощание из закрытой кабины.
— Это уж не извольте беспокоиться... не извольте беспокоиться.
Накануне шел мокрый снег, а к уходу немцев приморозило.
Машины с солдатами катили легко. Вот и последний грузовик скрылся в лесу.
Цыганское красивое лицо старосты посуровело. Селиванов распрямил плечи и, плюнув вслед машине, гневно сказал:
— Будьте прокляты!
Круто повернувшись, Петр Никитович направился размашистыми шагами к дому под зеленой крышей, взошел на крыльцо и громко постучал. На стук выглянула старуха. Она поклонилась Селиванову.
— Тиф у нас, батюшка, — захныкала старуха.
— Слыхал, — усмехнулся Селиванов. — Да хватит тебе, Прасковья, кланяться-то. Зови старика.
— Так оно того, Никитич, тифный.
— «Тифный!» Все равно зови. Да скажи, чтобы пузо репейником не натирал. Не буду сыпь проверять.
— Чево? — Прасковья открыла рот.
— Иди, Прасковья, иди. Зови Павла.
Вскоре на крыльцо вышел дед Павел, по прозвищу Казак.
Он ничего не смог понять из сбивчивого рассказа жены. Единственное, что уяснил он, это то, что надо срочно выходить на крыльцо к старосте Селиванову. И дед Казак вышел с таким видом, будто староста только что помешал ему отойти в иной мир. И сил-то у него, у тифозного, только и хватило, чтобы выйти ка крыльцо к господину старосте. Дед держался за живот, ноги у него тряслись от «слабости», щеки были втянуты, глаза выпучены.
Селиванов глянул, на деда и захохотал. Смеялся до слез и все приговаривал:
— Ну, Казак! Ну, артист!.. Ох! Сейчас помрет от тифа.
Но дед Казак не сдавался, продолжал быть «тифозным». Сиплым голосом умирающего он спросил:
— Зачем звал-то, господин староста?
Петр Никитович от этих слов сразу смолк и потемнел лицом.
— Хватит, Павел, болеть. Не трясись и глаза не выкатывай — вредно. Ты такой же тифозный, как я староста... Немцы ушли. «Тиф» сделал свое дело... — Селиванов пристально поглядел на своего давнишнего друга. И после этого взгляда дед Казак перестал трястись и выпучивать глаза.
— Ну, што? — холодно спросил он.
— Садись, покурим, — попросил Селиванов.
— Дык, я и постою.
— Не хочешь с предателем рядом сидеть?
— Лежал долго и постоять хочется, — ушел от прямого ответа Казак.
— Ну, постой, постой, — Селиванов закурил. — Никому не должен был говорить я того, что тебе сейчас скажу... Старостой быть мне приказал подпольный райком партии... Тяжело мне, Павел, тяжело. И пуще всего от людского презрения. Ведь и ты меня немецким прихвостнем считал? А?
— Врать не стану — считал.
Друзья посидели, не разговаривая. Пришло запоздалое утро поздней осени, но пришло оно с солнцем. И так давно не было солнца, что они глядели на него как на дорогой подарок природы.
— Посмотри-ка, — сказал дед Казак. — Немцы ушли, и солнышко засветило...
— Засветило. — Селиванов улыбнулся солнцу.
— Слушай, — спохватился Казак, — а кто же у нас первый тиф-то надумал?
— Да Храмов. Зашел как-то к ним, гляжу, а Семен «болеет на печке» тифом.
— Это какой же дурак при тифе на печку забираться ему присоветовал? — возмутился дед Казак.
— И я ему про то сказал. А тиф Семену понадобился для отвода глаз. Раненого он с Катериной выхаживает... Вот тогда я и доложил майору Шмюккеру о тифе в деревне. Он побелел даже и велел столбики с запретными объявлениями поставить.
— Конечно, Петр, ловко мы обошли немцев. А если бы аспиды прознали правду? А?
— Думал я об этом, думал... Передышка нам нужна. Вот так нужна! — Селиванов провел ладонью по шее, — Одиннадцать раненых бойцов один я прячу. Лечим их со старухой... И знаю, что еще многие выхаживают наших. Если по домам пойти, целую роту смело набрать можно.
— Можно, — согласился дед Казак. — Сам пятерых выхаживаю.
— Ну, вот видишь! Ореховка сейчас не просто деревня. Ореховка — подпольный госпиталь. Сегодня ночью к нам придут врачи и принесут медикаменты и осмотрят раненых. Ты будешь сопровождать докторов. Это просьба подпольного райкома партии. Понял? В деревне все по-прежнему должны думать, что я немецкий староста. — Селиванов вздохнул.
Ореховский подпольный госпиталь заработал. Раненых оказалось гораздо больше, чем предполагали Селиванов и дед Казак. К тому же, дед Казак «тайком» от старосты стал раздавать зерно и продукты колхозникам со складов, которые немцы не успели разграбить. Никто в Ореховке и не догадывался, что всей работой подпольного госпиталя руководит староста. Все считали его предателем, а деда Казака — настоящим героем.
Селиванов со дня на день ожидал возвращения немцев. Он знал, что они не забыли Ореховки. Он слышал, что и в здешние края уже стали прибывать каратели.
Однажды утром, когда врачи делали очередной обход, на околице показались мотоциклисты. Селиванов выскочил на улицу раздетый, без шапки и заспешил навстречу фашистам. Мотоциклисты остановились. Селиванов отвесил поясной поклон.
— Староста? — спросил по-русски ефрейтор, сидевший в коляске головной машины.
— Так точно, господин офицер.
— Тиф кончился в деревне?
— На убыль пошел, господин офицер.
— Что значит «на убыль»?
— Многие выздоравливать стали. — Селиванов вспомнил всех, кто умер за последние годы, и добавил: — А девять человек преставились.
— Что, что?
— Девять человек померли.
— Есть умирали?
— Так точно, господин офицер. Четыре старика, две старухи и три младенца отдали богу душу, — Селиванов посмотрел на небо и размашисто перекрестился.
Переводчик передал суть разговора со старостой солдатам. Они жарко о чем-то заспорили, потом затихли.
— Мы приехали делать дезинфекция, но солдаты устали. Ты сам делаешь эту работу. В домах обрызгать полы, стены вот этим... лекарство.
— Слушаюсь. Все сделаю, господин офицер... Может, заглянете ко мне позавтракать? — Селиванов подобострастно улыбнулся. — Жена моя уже поправилась.
— Спасибо, спасибо, — покровительственно поблагодарил старосту переводчик. — Мы должны вернулся в часть. Через семь дней в Ореховку придут солдаты фюрера. Чтобы встречал хлебом и соль.
— Слушаюсь, господин офицер.
Мотоциклисты поспешно укатили.
Петр Никитович стоял посреди улицы раздетый, с непокрытой головой и все отвешивал поклоны.
Не заходя домой, он прошел к деду Казаку и приказал ему собрать врачей на срочное и важное совещание. Вскоре врачи и дед Казак пришли в овраг за деревней, где их ждал Селиванов.
...Через четыре дня темной ноябрьской ночью сто пятьдесят семь красноармейцев во главе с лейтенантом Топорковым ушли из Ореховки. Раненые уходили в лес, где находился подпольный райком партии и небольшой отряд партизан. Русская природа точно в сговоре была с русскими людьми: к утру повалил снег.
Немцы, как и предполагал Селиванов, заявились раньше обещанного. Но в деревне все спокойно, столбики с дощечками, предупреждающими о тифе, были убраны, на деревенском погосте прибавилось девять свежих могил, вся Ореховка пропахла хлоркой. Даже на улице она заглушала запах молодого снега.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В «ССЫЛКЕ»
Федя задремал к концу пути, и Илье Тимофеевичу пришлось потрясти сына за плечо, чтобы разбудить его. Они вышли из автобуса, тут же к Илье Тимофеевичу подбежала полная старая женщина и стала его обнимать, целовать: Ее все оттеснял однорукий усатый старик. Наконец, старик отнял у нее Фединого папу. Тогда женщина стала обнимать и целовать Федю. Целовала и счастливо повторяла:
— Внучек дорогой к нам приехал. Ах, ты, мой сладкий. Ах, ты, мой красавчик. Вылитый папка.
Это уже она, конечно, придумала на ходу. Федя прекрасно знал, что он, как две капли воды, похож на маму. И вообще Топорку не очень понравилась такая бурная нежность. Он весь сжался, притих и подумал: «Ну, хватит, тетенька, целоваться-то. Целует, будто малыша какого-нибудь... И плачет зачем-то?»
Однорукий по-мужски обнял Топорка и сказал:
— Вот мы и свиделись с тобою, Федор Ильич.
Федя покраснел от удовольствия. Однорукий подвел Федю к мужчине, который стоял подле «Волги», и представил ему мальчика.
— Познакомься, Петр Петрович, с моим внуком. А это, Федя, председатель нашего колхоза Петр Петрович Селиванов.
Председатель, пожав Феде руку, спросил:
— Впервые в наших краях?
— Впервые, — ответил Федя. И голос у него сорвался, как у молодого петушка.
Председатель сделал вид, что этого не заметил, а по-прежнему, будто с ровней, разговаривал с Топорком. И зачем-то все на «вы». Очень неловко себя чувствовал Топорок.
— Слушай, — неожиданно перешел Селиванов на «ты», — а тебя, наверное, ребята Топорком зовут? Угадал?
— Да. А как вы догадались?
— Очень просто. Лучшей фамилии для прозвища и не придумаешь.
...Федя жалел, что так быстро доехали до Ореховки, но долго жалеть об этом не пришлось, потому что в Ореховке началось такое, о чем Топорку никогда и не снилось.
Федя заметил на краю деревни много нарядно одетых людей. Топорок ожидал, что Селиванов посигналит людям, запрудившим дорогу, но председатель вдруг остановил машину, заглушил мотор и сказал отцу:
— Дорогой Илья Тимофеевич, это вас колхозники встречают.
— Меня? — Топорков-старший смутился. — Но зачем же? Ничего не понимаю.
— Теперь вы почетный гражданин нашего колхоза. Мы разыскали семнадцать человек, которые в сорок первом лечились в Ореховском подпольном госпитале, и все они теперь наши почетные граждане... Идемте, вас ждут.
Растерявшийся Илья Тимофеевич пошел покорно за Селивановым, а Храмовы, будто боясь, что он неожиданно убежит, взяли его под руки.
А про Топорка почему-то забыли.
Навстречу отцу вышел седой старик.
— Дед Казак, помнишь? — шепнул Илье Тимофеевичу Храмов.
Казак поклонился отцу поясным поклоном и напевно произнес:
— Добро пожаловать, гость ты наш дорогой, в родную деревню.
Он еще раз поклонился и надел отцу красную атласную ленту на шею. На ленте что-то было написано золотыми буквами, но Федя не мог разобрать, что именно.
Дед Казак обнял Илью Тимофеевича и трижды поцеловал его. Из пестрой толпы вышли две девушки и преподнесли Илье Тимофеевичу целый каравай хлеба и деревянную солонку с солью. И тут же духовой оркестр надсадно и браво заиграл «Встречный марш». И все, кто был на огромной поляне, захлопали в ладоши и стали пожимать отцу руку, обнимать его, целовать.
Топорок не видел, как Петр Петрович подозвал к себе рыжую девочку и, указав глазами на него, что-то зашептал ей на ухо. Девочка закивала в ответ и направилась к Топорку. Она остановилась подле него и как старому знакомому сказала:
— Здравствуй.
— Здравствуй, — рассеянно буркнул Федя.
— Меня зовут Ларисой.
— А меня — Федором.
Федя думал, что рыжая, поздоровавшись с ним, пойдет себе своей дорогой, но она остановилась рядом и стала откровенно разглядывать его.
Топорок тоже стал ее разглядывать. Его удивили глаза девочки, черные, как угольки. Это очень было красиво: волосы рыжие-рыжие, а глаза — черные. И вообще Лариса понравилась Феде. Но разве он мог даже самому себе признаться в этом? Топорок ведь презирал девчонок и считал их скучными, глупыми и слабыми. Топорка разбирало любопытство, ему очень хотелось узнать, зачем к нему подошла Лариса. «Еще рыжее, чем Ленька, — подумал Федя. — Только красивая, и глаза какие- то чудные».
Топорок прикинулся скучающе-равнодушным и помалкивал.
Ларисе Топорок тоже в первый момент понравился, а потом он показался ей задавалой. Угольные глаза ее гордо вспыхнули.
— Вид у тебя такой, точно ты лесовок кислых объелся.
— Каких еще лесовок?
— Яблок-дикарок.
— Тебя что, по голове футболом стукнули?
Такой вопрос всегда обижал девчонок, а Лариса не обиделась. Она неожиданно рассмеялась и сказала:
— Скучно тебе у нас? Верно? Вот мой отец и послал меня к тебе. — И доверчиво улыбнулась.
Эта улыбка сбила Топорка с толку. Он собирался отомстить рыжей за «лесовки», а она вдруг улыбнулась. И Федя, вздохнув, честно сознался:
— Скучно. — Потом поинтересовался: — А кто твой отец?
— Председатель колхоза.
— Петр Петрович? — обрадовался Топорок.
— Да.
— Отец у тебя хороший, — солидно сказал Топорок.
Лариса ответила ему светлой улыбкой.
— Ты тоже понравился папке.
— Спасибо, — буркнул он.
Лариса, передразнивая «светскую» манеру Топорка, с кротким притворством поклонилась и ответила:
— Пожалуйста.
Топорок не заметил притворства в Ларисином ответе и искренне сказал:
— Здорово твой отец машину водит.
— Ничего.
— А чья это «Волга»?
— Наша. Мы ее выиграли.
— Ну?
— Правда. Хочешь покататься?
— Хочу, — сознался Топорок.
— Подожди минуточку.
Лариса подбежала к отцу и тронула его за рукав. Петр Петрович обернулся, наклонился и, выслушав дочь, закивал в ответ.
Лариса вернулась к Топорку.
— Все в порядке. Идем.
— Куда?
— Кататься, — и девочка зашагала к «Волге».
— Ты сама? — удивился Топорок.
— Сама, — без тени хвастовства, очень просто и искренне ответила Лариса. — Садись рядом.
Топорок сидел, как завороженный. Это же надо! Девчонка, его ровесница, и так водит машину. Федя был и восхищен и подавлен. Столько всяких неожиданностей за один только день: и проводы на автовокзале, и знакомство с папиными стариками, и встреча отца в Ореховке, и, наконец, знакомство с рыжей девчонкой, которая водит автомобиль, словно заправский шофер...
— О чем задумался? — спросила Лариса.
— Что?
— Чудной ты какой-то.
— И вовсе не чудной. Просто неинтересно здесь у вас в Ореховке, — соврал Федя.
— Неинтересно в Ореховке? — удивилась Лариса. — Кто же это тебе такое сказал?
— Сам вижу.
— Пять минут побыл и уже разочаровался! А в городе у вас интереснее?
— Еще бы!
— Да в вашем городе со скуки прокиснуть можно. А у нас и лес, и речка, и Дворец культуры, и кинотеатр, и цветов много.
— А стадион у вас есть?
— Стадиона нету.
— Ну вот, а я без спорта жить не могу... Скажи, ты не знаешь, долго они там еще отца моего держать будут?
— Долго, наверное. Только еще начало.
Топорок тяжело вздохнул. Лариса по-своему истолковала этот вздох и спросила:
— Надоело кататься?
— Да нет, не надоело. Просто я...
И рыжая девчонка догадалась, что Федя голоден. Она неожиданно развернула машину и быстро поехала к деревне. На околице снизила скорость и медленно проехала по центральной улице до первого поворота налево. Дома на этой улочке были не такими большими, как на центральной улице. Сразу было видно, что здесь начинается старая Ореховка, но зато тут было много зелени и ленивого покоя. Ларисе трудно было вести машину, потому что то и дело под колеса норовили попасть куры, индюшки. Лицо Ларисы стало строгим, сосредоточенным.
Они переехали мостик через неширокую быструю речку, поднялись в горку, с которой из-за могучих ракит с любопытством выглядывали домики, и, наконец, остановились возле дома со светелкой.
Лариса заглушила мотор и твердо сказала:
— Пошли.
Топорок нехотя вышел из машины и поплелся за Ларисой. Она ввела гостя в дом, где были светлые и по-городскому обставленные комнаты.
— Мой руки, — приказала Лариса и провела Федю к умывальнику. — Заодно и умойся, —посоветовала она. — Вот тебе полотенце.
«Разговаривает, будто с маленьким, —возмущался, умываясь, Топорок. — Попала бы к нам во двор, откомандовалась бы».
— Умылся?
— Умылся.
— А чего у тебя такой вид, словно лягушку проглотил?
— Знаешь, я не люблю, когда девчонки командуют. Понятно?
— Я это сразу заметила... Да, вот еще, — Лариса помялась. — Если тебе куда-нибудь надо, то это вот сюда, — она кивнула на дверь рядом с умывальником.
Топорок догадался, что находится за этой дверью, поэтому буркнул смущенно:
— Никуда мне не надо.
— Тогда пошли. — Лариса провела Федю на кухню. — Садись и ешь.
— Спасибо, — робко засопротивлялся Топорок. — Я не голо...
Лариса не дала досказать ему слова.
— Что ты ведешь себя, как дикий? Если хочешь есть, то надо есть, а не ломаться. Интеллигентные люди никогда не ломаются за столом, — Лариса сказала эту фразу, словно учительница ученику.
— Сам знаю, — мрачно ответил Топорок и решил показать этой задавале, что и он не лыком шит: вилку он взял в левую руку, а нож — в правую.
— Чай будешь пить или кислушку? — спросила Лариса, когда Федя съел огромный кусок баранины и тарелку жареного картофеля.
— А что такое кислушка?
— Простокваша.
Топорку вдруг захотелось хоть чем-нибудь поразить эту рыжую зазнайку и всеумейку, и он небрежно так сказал:
— Я с удовольствием выпил бы сейчас чашечку черного кофе.
— Ты пьешь черный кофе? — искренне удивилась Лариса.
Топорок вспомнил, как одна мамина знакомая (Федя ее терпеть не мог, потому что она была взрослой кривлякой и всегда говорила каким-то наигранным тоном) однажды заявила маме, томно закрыв глаза: «Я жить не могу без черного кофе», И Топорок сказал точно так же, как мамина знакомая.
— Я жить не могу без черного кофе.
Лариса странно как-то фыркнула, а потом закатила жеманно глазки и кокетливо ответила:
— Ах, пожалуйста, пожалуйста, сейчас я вам сварю чашечку черного кофе.
И она, действительно, сварила ему кофе, и такого густого, что Топорка чуть не перекосило от этой противной горькой массы. Можно было бы спасти положение сахаром, но хитрая Лариса спросила наивно:
— Ты, конечно, пьешь кофе без сахара?
— Да, конечно.
Топорок никогда еще в жизни не пил такого гадкого, на его взгляд, напитка. Но он его все же выпил и выпил с блаженной улыбкой. Потом он стал раздумывать, а что делать с гущей, оставшейся на дне кружки. Подумал, подумал и мужественно доел эту отвратительную гущу ложечкой. И опять с деланной улыбкой.
Лариса удивилась:
— Что ты делаешь?! Гущу ведь не едят.
— А я жить не могу без этой гущи, — бодро сказал Топорок и галантно поблагодарил рыжую хозяйку. — Спасибо. Очень вкусно.
— Чудак ты какой-то.
— Все гениальные люди * были чудаками, — ответил Топорок, вспомнив папину фразу.
— И ты гений, да?
— А разве незаметно?
— Не.
— Я, как Пушкин. Думаешь, зачем меня в вашу Ореховку привезли?
— Не знаю.
— В ссылку меня сюда отправили на все каникулы. А в ссылку кого раньше отправляли? Гениев. Соображать надо.
— И никакой ты не гений, а задавала и хвастун.
— Сама ты задаешься.
— Это чем же я задаюсь?
— Что машину водить умеешь.
— Дурачок ты!
— Дурачок, да?
— Дурачок, — упрямо повторила Лариса.
Оскорбленный Топорок встал и пошел из кухни.
— Постой, — позвала Лариса. — Я отвезу тебя к твоему отцу.
— Спасибо, — гордо поблагодарил Топорок. — Обойдусь и без вашей машины. — Федя вышел на улицу и направился к мостику.
Не успел он еще с горки спуститься, как его обогнала «Волга». Лариса на него даже не посмотрела.
«Ну и пусть!» — решил Топорок и зашагал быстрее к мостику.
ПЕТУХ-ГИМНАСТ
Федя проснулся от тишины. Темно. Чужая мягкая кровать. Запахи трав. Топорок сразу же вспомнил, что он в доме стариков Храмовых. Осмотрелся — в горнице никого не было. Федя сладко потянулся. И ему вдруг вспомнилась Лариса. Рыжая, в голубом сарафане, она сидела за рулем и смотрела на него своими огромными глазищами. А они у нее очень черные. У рыжих людей такие глаза редко бывают. У рыжих все больше зеленые, голубые, серые, а Ларисе глаза будто кто-то нарисовал. Топорок сначала улыбнулся, когда подумал об атом, но тут же вспомнил о ссоре с Ларисой и даже вслух сказал неожиданно:
— Рыжая задавала!
Но странное дело! Ему вдруг захотелось увидеть Ларису. Топорок никому на свете не признался бы в этом. Но от себя своих желаний не скроешь.
Вчера, когда кончился самодеятельный концерт и начались танцы, Екатерина Степановна сказала:
— Домой, мужички, пора.
— Пора и нам, — сказал Петр Петрович Селиванов.
Федя уже валился с ног от усталости. Он, наверное, заснул бы здесь же на улице, если б не Лариса. Надо же, навязалась рыжая на его голову! Делает вид, что совершенно не обращает на него внимания, а сама все, конечно, видит. А Топорок, как назло, с зевотой справиться не может.
— Спать хочешь, внучек? — спросила Екатерина Степановна.
— Нет, не хочу.
— А чего раззевался? — смеясь, спросил отец.
— Это от нашего сладкого деревенского воздуха, — заступился за Федю Семен Васильевич. — Городских в деревне первые дни всегда в сон клонит.
— Это точно, — поддержал Селиванов.
Федя удивился тому, что Селивановы пошли вместе с ними. «Провожают нас», — догадался он и старался казаться бодрым и совсем не уставшим. Увидав знакомый мостик, Федя подумал, что ошибся и что это они провожают Селивановых... Так оно и есть: перешли мостик, под которым журчала речка, подошли к дому председателя... Попрощались. И тут Федя почему-то решил, что они снова должны отправиться в центр деревни и первым пошел по дороге к мостику.
— Ты куда? — спросил отец.
— Домой, — сонно буркнул Федя.
— Мы уже дома.
Слова отца не сразу дошли до Фединого сознания, и он машинально прошагал несколько метров в сторону мостика.
И тут в ночной тишине раздался звонкий смех. Топорок вздрогнул и все сразу понял. Понял, что Храмовы и Селивановы — соседи, а Лариса стоит на своем крыльце и смеется над ним.
Федя решил не останавливаться и упрямо шел к мостику.
— Куда же ты? — спросил нетерпеливо Илья Тимофеевич.
— Купаться, — ответил громко Топорок.
Смех прекратился. Илья Тимофеевич понял состояние сына и поспешил ему на выручку.
— А может, не стоит сегодня? А? — спросил он тоном равного советчика и убежденно добавил: — Право, Федор, не стоит. Прошу тебя, очень прошу.
— Ну, ладно, не буду, — милостиво согласился Топорок.
...О даже покраснел, вспомнив, как зашагал ночью к мостику.
«Где ж папа? — подумал Федя. — Надо вставать. А, может, еще все спят?»
Федя встал с постели, оделся, осторожно подошел к занавеске, раздвинул ее и зажмурился от яркого света: вся горница за перегородкой была залита веселым солнцем. На столе он заметил записку и узнал почерк отца: «Федя, мы ушли в лес. Когда проснешься, завтракай. Если захочешь, то приходи к нам. Лариса тебя проводит. Зайди к Селивановым — она ждет тебя. Папа».
Сначала Топорок обрадовался, а потом обиделся. «Не могли разбудить», — проворчал он. Не хотелось Топорку идти на поклон к Ларисе, ох, как не хотелось. Он представил, как встретит его эта гордячка, и совсем огорчился. А пойти в лес ему очень хотелось.
Топорок вылез через окно во дворик и будто окунулся в ласковое тепло позднего утра. Неожиданное появление Феди испугало серого кота, дремавшего под окном на завалинке. Коту почудилось спросонья, что из окна выпрыгнул Полкан — самый лютый кошачий враг. Кот подскочил от неожиданности и мгновенно очутился на чердаке, а после выглядывал из укрытия и все недоумевал: куда же делся пес?
Выпрыгнувший из окна Топорок всполошил и кур. Они с кудахтаньем панически разлетелись по дворику. А петух подлетел вверх, но не побежал за курами. Приземлившись, петух гордо закукокал и приготовился защищать своих трусливых подруг. Это рассмешило Федю. Он хотел подразнить воинственного петуха, но раздумал.
Оглядевшись, Топорок увидел умывальник. Но перед тем как умыться, решил сделать зарядку. Ему нельзя было терять спортивной формы. Лучшего места для зарядки трудно и придумать.
Странные движения незнакомого мальчишки весьма заинтересовали петуха. Вид у него теперь был глуповато-любопытный. Петух вышагивал, выкидывая лапы, будто царский солдат на плану, и, тряся гребешком, наклонял голову то вправо, то влево. Иногда петух останавливался, топтался на месте, растопыривал крылья, будто старался повторить упражнения, которые делал Федя.
Федя стал подпрыгивать на месте. Петух, конечно, понятия не имел, что прыжки — это такое важное упражнение. Он глупо предположил, что Федя наскакивает на него, и тоже стал подпрыгивать и хлопать крыльями.
Неизвестно, чем бы закончились прыжки на месте, если бы не смех за забором. Федя сразу узнал этот знакомый смех. Топорок застыл на месте, а петух еще несколько раз подпрыгнул. Что ему, петуху, до какого-то смеха? Подумав, что его противник струсил, петух нахохлился, пригнул голову к земле, поквокал, поквокал и вдруг победно закукарекал. Но Топорок уже перестал замечать яркоперого воина. Смех за забором словно бы парализовал его. И он не знал, что ему теперь делать, как поступить. Федя окаменело стоял на месте и не мог оглянуться.
— Топорков! — окликнула Лариса.
И только тогда Федя оглянулся и увидел председательскую дочку. Глаза ее искрились от смеха.
— Ты что, никогда не видела, как люди зарядку делают, да?
— Что-что?
— «Что-что», — передразнил Топорок. — Чего смешного-то нашла?
— Так я не над тобой, а над петухом.
— Чего же над ним смеяться-то? — недоверчиво спросил Федя.
— А он с тобою зарядку делал. Смешно! Ну, ладно, Топорок, пойду я.
— Подожди. А дорогу в лес кто мне покажет?
— Теперь уже поздно. Ваши скоро домой вернутся. Соня ты. — И скрылась за забором.
— Кошка рыжая, — буркнул себе под нос Топорок и пошел к умывальнику.
НАХОДКА
Что отец уехал домой, в город, Топорок осознал, когда автобус тронулся, а отец замахал прощально ладонью. И захотелось Феде побежать вслед за автобусом и закричать, чтобы отец взял его с собою. Но не побежал Топорок за автобусом, не закричал. Он стоял на обочине дороги и провожал взглядом быстро удалявшийся автобус, а когда тот скрылся за поворотом, Топорок медленно пошел к «Волге», где его ждали Храмовы и Селиванов. Федя неестественно улыбался. И эта напряженная улыбка была последней, слабой защитой от слез. Стоило кому-нибудь произнести хотя бы одно сочувственное слово, Топорок наверняка бы разрыдался. Но взрослые делали вид, что ничего и не произошло, и разговаривали о дожде, который очень нужен сейчас для земли.
После отъезда Ильи Тимофеевича Топорок затосковал. Дни казались ему мучительно долгими, праздность, даже вынужденная, делает время ленивым и вялым.
Хорошо еще, что Федя захватил из города целую связку интересных книг. Чтение скрашивало одиночество и сокращало томительные промежутки между завтраками, обедами и ужинами. В саду у Храмовых, в самом его отдалении, стоял шалаш. В этом шалаше Топорок и пропадал целыми днями.
Шутливые слова Леньки Рыжего о ссылке стали для Топорка роковыми. Федя, действительно, вообразил, что он опальный поэт, и теперь не только запоем читал, но и много сочинял. Стихи его стали совсем не такими, какими были прежде. Топорков писал теперь об одиночестве, о желанной свободе. Отношение к себе, как к ссыльному, сделало его еще более замкнутым, неразговорчивым.
Екатерина Степановна по части опальных поэтов никакого опыта не имела, поэтому Федино состояние истолковывала по-своему.
— Плохо Феденьке у нас, — пожаловалась она как-то после завтрака мужу. — Личико у него такое тускмяное, глазыньки в печаль окунулись... И молчит, родимый. Не захворал бы.
— По городу, по отцу с матерью скучает, — успокоил жену Храмов. — Обвыкнется.
— Думаешь, обвыкнется?
— А то как же! Ко всему человек привыкает... Занять Федюху чем-то надо.
— Может, ему еда наша деревенская не по вкусу? Кто в город поедет, накажи тому колбаски подороже купить, еще какой еды городской.
— Ладно, накажу, да не в еде суть. Так надо сделать, чтобы Федюха деревню нашу полюбил.
Екатерина Степановна поглядела в оконце, которое выходило в сад, и зашептала:
— Опять в шалаш забрался. — Лицо ее вдруг сморщилось, и Храмова стала сморкаться в передник. — Это ж надо! Чисто волчонок в норочку от нас прячется.
— Не разводи сырость... «Чисто волчонок в норочку от нас прячется»! Скажет тоже! Если хочешь знать, он в шалаше сочинительствует.
— Господи! Это хорошо или плохо?
— А сама-то не можешь, что ли, сообразить?
— Да не могу я взять в толк, что такое сочинительство?
— Стихи Федя сочиняет в шалаше.
— Глянь-ка! Как же ты, старый, про стихи проведал?
Семен Васильевич усмехнулся смущенно и проворчал:
— Много будешь знать, совсем состаришься... Пойду-ка, схожу к Петровичу. Он у нас мужик головастый. Может, что присоветует.
От Петра Петровича Храмов вернулся только к обеду, вернулся довольный, улыбчивый.
Екатерине Степановне не терпелось узнать, что присоветовал мужу Селиванов, но спросить его об этом не могла: за столом сидел Федя. Сидел, как всегда, молча, насупившись.
К концу обеда, когда пили уже грушевый взвар, Семен Васильевич, будто ненароком, объявил:
— Сегодня поедем в лес.
— В лес? Зачем? — удивилась Екатерина Степановна.
Федя лениво потягивал кисловато-сладкий, остуженный в погребе взвар и оставался безучастным к сообщению Храмова.
— Видишь ли, — нарочито громко ответил жене Семен Васильевич, — правление решило памятную доску поставить на том месте, где нашла ты умирающего героя Илью Тимофеевича Топоркова.
Федя поперхнулся взваром. Храмов сделал вид, что не заметил этого, и продолжил:
— Для этого и надо в лес ехать. Мы должны точно-преточно место указать.
Екатерина Степановна, все еще не понимая, ради чего затеяна поездка в лес, искренне возмутилась:
— Чего ж его указывать-то? Там ведь давным-давно столбочек врыт.
Храмов осадил жену укоряющим взглядом.
— Сказано тебе, точно-преточно место надо указать. Непонятливая ты!
— Ладно, не ворчи. Когда ехать надо?
— Сразу после обеда Петр Петрович и заедет за нами.
— А мне с вами можно? — робко спросил Топорок.
— Чего тебе, внучек? — Семен Васильевич прикинулся, что не расслышал просьбы.
— Возьмите, пожалуйста, меня с собою. — Федя умоляюще посмотрел на Храмовых.
— Поедем, коли хочешь.
Топорок сразу же заметил в машине на заднем сиденье Ларису, но ему сейчас было совершенно все равно, с кем он будет сидеть. Главное, что он скоро увидит то место, куда приполз истекающий кровью папка. Топорок уже не раз старался представить это место. И всякий раз воображение рисовало лесной участок, изрытый снарядами. Кругом окопы, воронки, колючая проволока. Перед глазами вставали картины, которые Феде доводилось видеть в кино, на фотографиях, в книжках...
Проселочная дорога, по которой они ехали, была заглохшей и чуть угадывалась в густой траве. Над дорогой порхали бабочки. Они чутко отлетали от автомобиля, но мухи, жучки, слепни то и дело разбивались о лобовое стекло. Пахло теплыми цветами и медом. В эти запахи врывалась горьковатость листьев и густой аромат топленой смолы.
Глядя на дорогу, все притихли и ехали некоторое время, не разговаривая. Прервал молчание Храмов. Он вздохнул и задушевно так, но с грустью сказал:
— Благодать-то какая! — А потом обратился к Екатерине Степановне: — А помнишь, старая, какой эта дорожка была, когда Илью на своей колымаге везли?
— Как не помнить... Каждый шаг помню... О чем мечтала тогда, это лечь на дорогу и помереть. И легла, если бы не надо было спасать раненого. Откуда силы только брались?..
Обыкновенная тихая лесная дорога. Густой островок молодняка. Старая ель и полянка, залитая щедрым жарким солнцем, — вот что предстало перед глазами Топорка, когда он вышел из машины. Ни окопов, ни изрытой снарядами земли, ни колючей проволоки... Подле дороги, возле маленького бугорка, был врыт столбик. К нему-то и направились Храмовы и Селивановы. И Топорок пошел, осторожно ступая, будто боясь сделать больно земле.
— Вот здесь он и лежал, — сказала Екатерина Степановна. — Ногами к дороге, головой — к ельнику. Я сначала, значит, испугалась и пробежала мимо, а потом вернулась и подошла к нему с этой вот стороны. — Храмова отбежала от столбика и, словно старая актриса, припоминающая свою давнюю роль, стала показывать, как все когда-то было. Она быстро прошлась по дороге, затем остановилась и недоверчивыми пугливыми шагами стала возвращаться к столбику. И казалось всем, что не к столбику возвращалась она сейчас, а к человеку, который лежал возле дороги, уткнувшись лицом в землю.
Старая женщина опустилась на колени и сделала вид, что приподнимает раненого. И столько в это время было печали и ласки в ее взгляде, что Топорок словно увидел лежащего на земле отца с бескровно бледным лицом.
— После-то я Илюшеньку вот под эту елку перенесла и в деревню за стариком побежала.
Храмовы вновь со всеми подробностями пересказали историю спасения Ильи Тимофеевича.
Топорок представил себе, как Храмовы везут его отца на тележке в кромешной тьме, в ливень, сами изнуренные, полуживые, в рваной одежде и опорках. Сердце мальчика сжалось от жалости и благодарности. И Храмовы вдруг стали ему очень близкими, дорогими, родными. Захотелось обнять стариков и сказать им что-то ласковое, задушевно-доброе. Федя неожиданно для самого себя сказал:
— Спасибо вам.
— Спасибо? За что благодаришь, Феденька? — удивилась Екатерина Степановна. А все внимательно посмотрели на него.
— За то, что спасли моего папу, — еле слышно ответил Федя и низко опустил голову.
— Господь с тобою. Разве за это благодарят?
Петр Петрович предложил поехать посмотреть травы на Колышовском лугу. Надо было решать, не пора ли начинать косьбу. Лучших советчиков, чем Храмовы, председателю не найти.
— Можно мне здесь остаться? — попросил Топорок.
— Оставайся, — разрешил Селиванов. — Минут через двадцать мы вернемся и поедем домой, так что далеко никуда не уходи... Может, и ты, Лариса, здесь побудешь?
— Хорошо, — согласилась Лариса.
Топорка вовсе не обрадовала Ларисина солидарность. Хотелось побыть одному, чтобы обследовать каждый кустик, каждую травинку. Федя даже собирался полежать на том месте, где когда-то лежал его отец. И Лариса будто почувствовала настроение Топорка, пошла по тропке в овражек, где протекал ручей.
Топорок встал на четвереньки и начал ощупывать землю возле бугорка. Земля как земля. Никаких следов. Да и какие же могут быть следы, когда прошло столько лет! Федя грустно усмехнулся и пошел к елке, под которую перенесла Илью Тимофеевича Екатерина Степановна. Топорок лег под елью и смотрел на вислые ветви с поседевшей от времени корой. Глядя на косматые замшелые лапы над головою, Федя вдруг подумал: а куда же девался кустарник, о котором говорила Екатерина Степановна? Топорок встал и огляделся. Нет никакого кустарника. Может, Екатерина Степановна что-нибудь напутала? Федя задумался, а потом стукнул себя ладонью по лбу и сам себе сказал: «Глупый же ты, Топорок! Кустики-то давно уже выросли. Вот тот подлесок за елью и был когда-то кустарником».
Топорку захотелось зайти в непролазную чащу. Согнувшись в три погибели, он стал продираться сквозь перепутанную хвою. Сучья и ветви кололись, царапались, засохшие иголки сыпались за шиворот. Но Топорок упрямо пробирался вперед, к небольшой «плешинке», где почему-то не было деревьев. Заторопившись, споткнулся о корень и упал ничком. Но что это?!
Перед самым его носом из земли, усыпанной сухими сосновыми иголками, торчал кусочек ржавого металла. Топорок привстал на колени и осторожно разгреб землю возле торчащего металлического кусочка. Рукоятка пистолета! Он потянул, что есть сил, но почва была здесь песчаная, легкая. Топорок потерял равновесие и упал, но тут же вскочил на ноги, крепко держа пистолет обеими руками. Вот это находка! И пусть ржавчина и время заметно испортили вороненую красоту металла, но все равно это был целехонький боевой пистолет.
Топорок представил себе, как он появится у себя во дворе с пистолетом в кармане и как загорятся от зависти глаза у ребят, когда он небрежно эдак вытащит его и покажет...
Только, конечно, его надо отчистить до блеска. «А стрелять-то он будет?» — неожиданно подумал Топорок. И, опасливо оглядевшись, он вытянул руку, отвернулся, закрыл глаза и стал давить указательным пальцем на спусковой крючок. Топорок ждал оглушительного выстрела, но спусковой крючок и не думал поддаваться — дуло его было забито землею. Федя даже обрадовался, что пистолет не выстрелил: коли дуло забито землею, значит, пистолет разорвало бы. И ему, Феде, не поздоровилось бы...
Землю из дула Федя осторожно выковырнул прутиком и стал любовно тереть пистолет носовым платком с песочком. Тер и думал: показывать находку взрослым или не показывать? Не показывать — нельзя, а покажи — обязательно отберут. Что же делать? Может, только Семену Васильевичу показать? Он добрый. И больше никому-никому. Конечно, надо показать находку Храмову и... папе. Папе?
И тут Федю осенила догадка. Он даже вскрикнул от неожиданности и заговорил вслух:
— Ведь это же наверняка папин пистолет! Его сюда забросила Екатерина Степановна, когда папка попросил застрелить его, — Федя запрыгал, как папуас вокруг священного костра, радостно напевая: «Папкин пистолет! Я нашел пистолет! Папкин пистолет...»
Теперь уже не было сомнения, показывать или не показывать кому-нибудь пистолет. Его должны увидеть все...
Выбравшись из чащи, он закричал:
— Лариса-а-а!
— Чего тебе? — услышал Топорок спокойный голос позади себя.
Оглянулся и увидел, что Лариса сидит под елью и перебирает цветы.
— Ты уже вернулась?
— Как видишь.
— Смотри, что я нашел.
— Ну и что? — Лариса лишь мельком взглянула. — Тут автоматы, противотанковые ружья находили.
Равнодушие Ларисы к его находке совсем не обидело Топорка. Разве сможет девчонка понять, что значит найти пистолет, пролежавший столько лет в песке и так сохранившийся. Он спокойно и с достоинством сказал дочке председателя:
— Я этот пистолет не променяю на пушку. Он для меня даже дороже танка будет.
— А что он, особенный — твой пистолет?
— Да, особенный. Это пистолет моего отца.
— Пистолет твоего отца? Ты не ошибаешься? Это действительно личное оружие лейтенанта Топоркова?
— Не веришь — не надо.
Топорок отвернулся и стал насвистывать легкомысленный мотивчик. Лариса, заинтересовавшись, подошла к нему и вежливо попросила:
— Дай, пожалуйста, посмотреть.
Вежливость всегда обезоруживает противника. Федя протянул ей свою находку.
— Только не нажимай спусковой крючок: с оружием не шутят.
— «ТТ», определила марку пистолета Селиванова.
— Да, «ТТ», — подтвердил Топорок, хотя сам считал, что нашел «вальтер».
— Что ты с ним собираешься делать?
— Почищу, смажу.
— А потом?
— А потом увезу домой.
— Подари его лучше нам.
Топорок хотел театрально расхохотаться, но, встретив Ларисин серьезный взгляд, только смущенно пожал плечами. Федя не был жадным, но расстаться с такой вещью!
Лариса заговорила с жаром:
— Я прошу подарить пистолет нашему музею боевой славы. Ты еще в нем не был. Самая большая комната отведена для материалов о подпольном госпитале. Отдельный стенд посвящен твоему отцу. Там есть его фотографии, копии документов. Даже картина висит. Очень хорошая картина: Храмовы везут раненого лейтенанта Топоркова. Картину подарил нам художник Абрамов. Теперь ты понимаешь, почему я попросила у тебя «ТТ». Это будет ценный экспонат в нашем музее... И здорово, что пистолет лейтенанта Топоркова нашел его сын Федор Топорков. Мы опишем этот необыкновенный случай и даже сфотографируем тебя на месте, где ты нашел его... Ну?
— А ты экскурсоводом, что ли, работаешь в вашем музее: «Отдельный стенд», «ценный экспонат», «опишем этот необыкновенный случай»... Так у нас в краеведческом музее все экскурсоводки говорят. Только с улыбочками. И улыбочки у всех одинаковые.
— Никакой я не экскурсовод, хотя и приходится проводить экскурсии, — Лариса смутилась. — Я командир отряда красных следопытов. А наш отряд, штаб ветеранов войны и внештатные сотрудники музея работают заодно. У нас одна задача, — Лариса еще больше смутилась. — Так что я обращаюсь к тебе совершенно официально.
Федя уже знал, что пистолет он, конечно, подарит, но решил поважничать. Вот почему, наморщив лоб, он солидно произнес:
— Я подумаю.
— Что? — Лариса даже поперхнулась. — Ведь это же нужно для общего дела. Ты понимаешь?
В это время на дороге показалась селивановская «Волга».
Лариса первая сообщила отцу и Храмошым о находке.
— Вы только посмотрите, что нашел Федя! — радостно заговорила Лариса.
— Золотой клад? — шутливо спросил Селиванов.
— Вечно ты, пап, со своими шуточками. Федя, покажи им твой «золотой клад».
— О! Это посерьезнее золота будет, — не унимался Петр Петрович.
— А ты знаешь, что это за пистолет? — спросила с вызовом Лариса.
— Пистолет марки «ТТ». Хорошо сохранился. Пожалуй, из него еще можно стрелять. Правда, идеальной прицельной точности не будет.
— Эх, ты, Шерлок Холмс! Это пистолет лейтенанта Топоркова.
— Неужели? Где ты, Федя, его взял?
— В той чаще нашел, — Топорок указал рукой.
— Да-да, там он и должен был лежать-то, — подтвердила Екатерина Степановна. — Туда я его забросила. Покажи-ка, Петрович, эту штуку.
Екатерина Степановна долго осматривала пистолет, а потом уверенно произнесла:
— Тот самый.
До самого дома в машине только и говорили о Фединой находке. Екатерина Степановна даже всплакнула, вспомнив, как просил Илья Тимофеевич пристрелить его.
Лариса почти всю дорогу молчала и вдруг объявила:
— А знаете, Федя решил подарить пистолет нашему музею боевой славы.
— Молодец, — похвалил Топорка Петр Петрович. — Отличный подарок музею. Надо обо всем этом в газету написать.
Ох, и хитра Лариса! Теперь деваться некуда: хочешь не хочешь — дари. Он оглянулся. Председательская дочка сидела как ни в чем не бывало, только в угольных глазах ее горели жуликоватые искорки. Эти искорки дразнили и спрашивали: «Как я тебя провела-то?»
ИСПЫТАНИЕ НА ХРАБРОСТЬ
Топорок читал в шалаше. Книга была до того интересная, что наш «опальный гость» забыл про город, про «ссылку», даже про пистолет, который он вчера нашел и с которым ему так быстро пришлось расстаться. Топорок буквально глотал страницу за страницей. Только иногда он отрывался от текста и с тоской глядел на непрочитанную часть книги: к его ужасу она становилась все тоньше и тоньше.
Чтение было прервано на самом захватывающем месте. Топорок услышал призывный звук пионерского горна и барабанный бой. Федя высунул голову из шалаша и прислушался: горнили и барабанили возле храмовского палисадника. Очень хотелось Феде узнать, что там такое происходит. Но он подумал, что это какая-нибудь очередная Ларисина проделка, поэтому решил ни за что не покидать своего надежного укрытия. Нет, Рыжая, Топорков не из тех, кого можно поймать даже на такую приманку!
Звуки горна и барабана смолкли, и Топорок услышал голос Семена Васильевича:
— Федя! Иди сюда!
Он вышел из шалаша не сразу, а только после того, как Храмов позвал его еще раз.
— К тебе пришли, — сообщил Семен Васильевич.
— Ко мне? — Федя пожал плечами.
Топорок вышел за калитку неторопливой и небрежной походкой, а лицо он сделал глуповато-безразличным. Такое выражение лица не раз спасало Топорка и ребят из его класса от разных неприятностей. Ну, скажем, когда попадались они в руки дежурному по школе, или когда опаздывали на урок. Феде оно — это самое выражение — однажды помогло даже ввести в заблуждение постового милиционера, который задержал его, когда он перебегал улицу в неположенном месте. Глупеньким простачком прикинуться нетрудно. Для этого нужно как можно больше вытянуть шею, склонить голову набок, как делают маленькие щенки, когда они чем-то весьма заинтересованы, и широко раскрыть глаза. При этом желательно глядеть в одну точку, не мигая. Можно еще приоткрыть рот, но тогда лицо становится чересчур дурашливым.
Выйдя за калитку, Топорок увидел незнакомую троицу: курносую толстушку, плотного хмурого горниста и белобрысого с хитрым лицом барабанщика. Одеты они были в парадную пионерскую форму. Завидя Федю, барабанщик забарабанил, горнист затрубил, а курносая девочка застыла, салютуя.
Топорок растерялся, тоже хотел отдать салют, но вовремя спохватился: он же без галстука. Горнист и барабанщик смолкли, и тогда девочка обратилась к Топорку:
— Ты Федор Топорков?
— Допустим, — осторожничал Федя.
— Совет ветеранов войны и отряд красных следопытов просят тебя сию минуту явиться в музей боевой славы.
— Сейчас? — Топорок поглядел на свои босые ноги. — Ладно, только вот босоножки надену.
— А галстук и белая рубашка у тебя есть? — спросила девочка.
— Белая рубашка найдется, а галстук в городе остался.
— Вот, возьми, — толстушка протянула ему аккуратный сверток. — Только, пожалуйста, поскорее переодевайся, там уже ждут. Трех минут тебе хватит?
— Хватит.
За три минуты Топорок не только переоделся и завязал галстук, но даже успел умыться, намочить волосы и сделать парадную прическу. Заметив, с каким любопытством разглядывают его ребята, он солидно сказал:
— Я готов.
Музей боевой славы размещался в колхозном Дворце культуры, в двух комнатах на втором этаже.
Федина солидность сразу же улетучилась как только он переступил порог двери, на которой висела табличка: «Ореховский подпольный госпиталь». В большой светлой комнате полно народу: пионеры, пожилые мужчины и женщины с орденами и медалями. Были и знакомые. Федя сразу же заметил деда Казака, Петра Петровича, Ларису. И Храмовы здесь! Они же оставались дома, когда он уходил. Нет, это просто невероятно! Скороходы они, что ли? Топорок не знал, что за Екатериной Степановной и Семеном Васильевичем приезжал председательский «газик». И окончательно Федю сразили награды Храмовых: у обоих на груди было по ордену Отечественной войны первой степени и по две медали.
Топорок хотел встать куда-нибудь в сторонку, но не тут-то было. Лариса Селиванова вдруг громко скомандовала:
— Внимание! Становись! — И все сразу стихли, а пионеры быстро построились в две шеренги. — Смирно!
Стоявший рядом с Петром Петровичем седой пожилой мужчина, у которого вся грудь была в орденах и медалях, вдруг поглядел на Топорка и, улыбаясь, твердо сказал:
— Федор Топорков, прошу подойти ко мне.
Топорок оробело шагнул вперед и почувствовал, как предательски вспыхнули его щеки и уши.
...«Страх сцены» пришел к Топорку давно. Все из-за учительницы по пению. Дался ей Федин голос — каждый урок твердила, что у Топорка «замечательный слух и приятный тембр голоса». И как только он ни отнекивался, но Марина Абрамовна уговорила его спеть со сцены. На репетициях все шло неплохо, Феде даже самому нравилось, как поет он под аккомпанемент рояля и виолончели «Там вдали за рекой...» На рояле играла Марина Абрамовна, низенькая, большеглазая, чем-то похожая на мышку, а на виолончели — девятиклассник Сима. Сима был толстый рыхлый верзила с носом-пуговкой и пухлыми пунцовыми губами.
Да, на репетициях все шло гладко. Но вот пришло время петь перед публикой. Еще за кулисами Топорку стало страшно, и он завидовал Симочке, который апатично сидел на подоконнике и поедал неизвестно какую по счету конфету. Только их трио вышло на сцену, как в зале кто-то захихикал. Топорков ничего не видел, но смешок прекрасно слышал и, конечно, принял его на свой счет, хотя зрители смеялись над Симочкой, который забыл дожевать конфету за кулисами.
В наступившей тишине тихо запела виолончель в сопровождении рояля. Когда погасли последние звуки вступления, Федя набрал побольше воздуха и запел первую фразу: «Там вдали за...» — И вдруг с ужасом почувствовал, что поет совсем не так, как надо, что голос его сразу же забрался так высоко, как должен был забраться только в конце последнего куплета — «...рекой...» Голос оборвался. Дрожащее «оой» повисло где-то под потолком и смолкло.
Ошеломленная Марина Абрамовна перестала играть и уставилась на пунцового солиста. И только Симочка, томно прикрыв веки, вдохновенно продолжал свою партию...
Сейчас Федя шел к седому мужчине в таком же состоянии, в каком выходил на сцену перед своим первым и последним вокальным выступлением. Путь в несколько шагов показался ему мучительно долгим. Наконец, Топорок остановился и растерянно посмотрел на Селиванова. Петр Петрович подбадривающе улыбнулся ему: мол, держись, Федя.
— Дорогие друзья, — заговорил седой мужчина громко и патетично, — Мы собрались сегодня сюда, чтобы поблагодарить гостя из города, пионера Федора Топоркова, за дорогой для нашего музея подарок. Вы уже знаете, что Федор Топорков нашел и подарил музею личное оружие лейтенанта Топоркова Ильи Тимофеевича...
Седой дяденька — Иван Иванович Минаков — был председателем совета ветеранов войны. Минаков был одним из тех, кто лечился в Ореховском подпольном госпитале. Его укрыл у себя дед Казак. Войну Иван Иванович закончил полковником, а, уйдя в отставку, поселился в Харькове. Его разыскали красные следопыты, пригласили приехать погостить в Ореховку. Приехал Минаков на несколько деньков, да и остался навсегда жить в доме деда Казака.
Все это Федя потом уже узнал, а сейчас слушал речь Минакова и диву давался, откуда это он так хорошо знает его отца. Закончив речь, Минаков вручил Топорку грамоту совета ветеранов и красных следопытов, в которой ему, Федору Топоркову, объявлялась благодарность «за активное содействие в увековечении героического прошлого нашего народа». А курносая толстушка, которая приходила за Федей, приколола ему значок с надписью «Красный следопыт».
Когда закончилась торжественная часть сбора, Топоркову показали музей. Федя теперь понял, почему так равнодушно отнеслась сначала Лариса к его находке. Какого только оружия не было в Ореховском музее! И вообще, чего тут только не было! Карты, планы, приказы, фотографии, каски, мундиры, котелки, бинокли, макеты самолетов, танков, знамена — всего не перечислишь.
— Понравился тебе наш музей? — спросила Лариса, когда Топорок вместе с другими пионерами вышел на улицу.
— Понравился... А кто вам все это дал?
— Что все это?
— Ну, экспонаты.
— Сами собрали. Колхозники помогали. Областной краеведческий музей кое-что выделил. Участники войны многое подарили. Ты еще не все вйдел. Большую часть экспонатов выставлять негде. Правление обещает целый дом для музея построить. Вот тогда мы развернемся!
— Молодцы! — вырвалось у Топорка.
— Стараемся, — Лариса усмехнулась, а потом, переглянувшись со своими друзьями, невинно так спросила: — Топорков, а ты смелый?
— Не знаю.
Федя насторожился. «Может, драться полезут? — подумал он. — Их много. Изобьют. Вот бы ребят с нашего двора сюда. Хотя бы одного Леньку Рыжего. Мы бы с ним...»
Его мысли прервал барабанщик, которого все звали Огурцом. Огурец многозначительно так спросил:
— Хочешь, проверим, трус ты или смелый?
— Как же это вы проверите? — как можно небрежнее спросил Топорок, а сам тут же подумал: «Сейчас начнется. Вот ему в первую очередь и трахну по носу».
— Так и проверим. — Огурец посмотрел на Ларису и подмигнул ей. — Всех следопытов мы проверяем на храбрость.
— У вас приборчик, что ли, для этого есть?
— Мы и без приборов проверяем. Не забоишься один ночью к тому месту, где пистолет отцовский нашел, сходить?
— Не побоюсь.
— Посмотрим.
— Сегодня же и пойду.
— Значит, по рукам?
— По рукам.
— Ребята, пошли на речку, — попросила толстушка Зина. Пот градом катил по ее лицу.
— Пойдешь с нами? — спросила Лариса.
— Мне домой надо, — соврал Федя и свернул на дорогу, идущую к мостику через Петляйку. Он обиделся и на Ларису, и на всех ореховских следопытов. Сначала с барабанным боем встретили, грамоту вручили, а потом — на тебе! — подозревают в трусости. Да он еще совсем маленьким один дома оставался. Да он... Федя стал вспоминать поступки, подтверждающее его храбрость, но не мог припомнить ни одного. Но сегодня ночью он всем докажет... Только как из дома уйти? Храмовы его не отпустят. А если сказать, что он будет спать в шалаше? Вот это идея!
Страшно ему стало сразу же, как только он вышел за околицу и шагнул в тихую теплую темноту. Сбиться с пути было невозможно, потому что дорога «зажата» берегами из пшеницы. Но и при безветрии пшеница ночью почему-то таинственно вздыхает, шуршит, и Топорку казалось, что злые существа, звери прячутся вдоль дороги в хлебах. Иногда он явно слышал шаги за спиною. Федя тогда резко оборачивался, зажигал фонарь. Яркий луч мгновенно прожигал плотную темноту и начинал метаться по дороге, по «пшеничным берегам». Никого позади не было.
Да, Топорку было страшно (от себя самого ничего не скроешь), но он ни за что на свете не повернул бы назад. И вовсе не из-за упрямства. Федя шел в лес для самоутверждения. Он торопился поскорее «проскочить» поле, наивно полагая, что по лесу идти спокойнее.
В лесу было еще страшнее. Днем, когда они ехали по этой дороге, все вокруг дышало покоем и радостью, удивляло обилием добрых красок, которые ожили под лучами солнца. Ночь все это утопила в темноте. Темнота всегда тревожит, в темноте живут тайны и волнующая тишина.
Топорок шел торопливо, напряженно прислушивался к каждому шороху. Он мог бы освещать путь фонариком, но не хотел обнаружить себя. Хитрил. Ему по-прежнему казалось, что кто- то идет по его пятам, даже почудилось, будто позади чихнули. Топорок остановился, прислушался... Тихо.
Эх! Собаку бы ему сейчас! Большую, умную. И чего это он до сих пор не завел себе собаку?
Топорок споткнулся, уронил фонарик и не сразу нашел его в густой траве. Пришлось ползать на четвереньках, искать ощупью. Все бы ничего, да вот роса обильная. Когда он, наконец, нашел фонарик, то успел так вымокнуть, что из речки суше выходят. Федя нажал на кнопку. Горит! Топорок радостно вздохнул и зашагал дальше. Казалось, что он в пути уже несколько часов. Неужели он прозевал поворот? Нет, этого случиться никак не могло. Тогда бы он наткнулся на деревья. Только Федя подумал об этом, как дорога резко повернула вправо. «Наконец-то, — обрадовался Топорок. — Теперь не больше километра осталось». Но что это?.. Впереди на дороге он увидел пляшущий свет.
Федя замедлил шаг, пригляделся. Сомнений не было: именно там, куда он шел, горел костер... Кто развел его? На всякий случай, Топорок пошел краем леса. Здесь его трудней заметить и в любую секунду можно юркнуть в чащу. Он шел медленно, осторожно и все никак не мог решить, подходить к костру или не подходить. Кого он мог встретить у костра? Разбойников? Они давно перевелись. Шпионов? Шпионы — не дураки и не станут выдавать себя костром. Может, следопыты поджидают его? Скорее всего, так и есть.
Мысль о следопытах придала Топорку храбрости, и он почувствовал себя разведчиком. Да, он в разведке. Надо незаметно приблизиться к костру и узнать, кто там — друзья или недруги. Федя шагнул в лес. «Осторожно, медведь!» — обругал себя мысленно «разведчик» Топорков, когда под ногами затрещали сухие сучья.
Топорок подкрался к опушке и выбрал для наблюдательного пункта сукастую старую сосну. Забрался он на нее легко, как по лестнице, и удобно уселся. Заметить его было невозможно, а он видел все. Костер горел шагах в десяти от сосны, возле костра — никого. Странно... Топорок хорошо видел столбик, ель, молодняк, в котором он нашел пистолет. Но сейчас место это выглядело незнакомым, впервые увиденным.
Но кто же все-таки разжег здесь костер?
Прошло минут десять, но ничего не изменилось на полянке возле памятного столбика. По-прежнему горел, мирно потрескивая, костер, одиноко, как часовой на посту, стоял столбик, покойно дремала непуганая тишина.
Топорку наскучило бессмысленно сидеть на суку. Что это за разведка! Он уже хотел слезть с дерева, но в это время неподалеку закуковала кукушка:
— Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...
Федя чуть не ойкнул от неожиданности. На полянку выбежал барабанщик Огурец. Сложив ладони лодочкой, он приставил их к губам и ответил кукушке троекратным «ку-ку».
Топорку даже жарко стало. Вот-те на! Глядел, глядел и не заметил барабанщика. Чтобы не обнаружить себя, Федя даже дышать перестал.
— Ку-ку... Ку-ку... — опять прокуковала недалеко «кукушка». И на полянку вышли Лариса, Колька-горнист и еще два незнакомых Феде паренька.
— Топорков не приходил? — тревожно спросила Лариса.
— Не приходил, — ответил барабанщик.
— Куда же он делся? — Лариса растерянно пожала плечами.
— Куда делся? — Огурец презрительно усмехнулся. — Куда он может деться? Дрыхнет, небось, без задних ног у дедушки с бабушкой твой маменькин сынок.
«Вот я тебе покажу маменькиного сынка», — мысленно пригрозил Федя Огурцу.
— Ну, во-первых, Топорков никакой не маменькин сынок, — возразила Лариса. — А во-вторых, он шел сюда, и мы все время наступали ему на пятки, а за поворотом он вдруг куда-то исчез.
«Молодец, Рыжая», — похвалил Топорок.
— Вот оно что! — Огурец почесал затылок. — Небось, как заметил огонь, так и драпанул в лес... Где-нибудь в кустах, возле поворота, от страха дрожит.
«Ну, поищи, поищи в кустах возле поворота, малосольный», — торжествовал Федя.
— Зря мы тебя, Владик, послушали и стали проверять храбрость Топорка. Он не из трусливых. Без испытаний видно.
«Так вот кто придумал меня ночью по лесу гонять! Погоди же, Огурец-удалец!»
— И вовсе не зря. Надо спесь сбить с белоручки.
— Он не белоручка. — Лариса разозлилась. — С чего ты взял?
— Городские — все белоручки.
— Оставайся дежурить у костра, — приказала Лариса, — может, Федя выйдет на огонь, а мы пока поищем его в лесу у поворота.
— Маскироваться мне? — спросил обиженно Огурцов.
— Нет-нет! Стой возле костра открыто.
«Стой у костра открыто, — повторил мысленно Топорок и погрозил барабанщику пальцем. — И моргать не смей!» Топорок попробовал сочинять какие-нибудь обидные стишки про Владика, но почему-то придумались всего две строчки:
Барабанщик Огурец
Забежал случайно в лес...
Вдруг его осенило: «Надо попугать Огуречика!» Но каким образом? Спуститься с дерева, выбежать на полянку и заорать. Глупо... Кидаться шишками? Огурец сразу догадается, что кто-то сидит на сосне... Стоп! Ведь Топорок умеет бесподобно воспроизводить шакалий вой. Ух, как противно он воет! Его научил Дима Плотвичка, когда они вместе были в пионерлагере. Погоди же, Огуречик!
Топорков вздохнул, задрал голову и тихо, жалобно, протяжно завыл:
— Ayyyyy...
Владик беспокойно вскинулся и стал тревожно шарить глазами вокруг. Никогда в жизни он не слышал такого холодящего душу воя. Топорок сделал паузу и подождал, когда Огурцов немного успокоится. Владик подсел к самому огню и вооружился палкой, обгоревшей с одного конца. «Ага! Трусишь!» — ликующе подумал Федя и снова завыл, но уже громче. Барабанщик вскочил на ноги, взгляд его панически заметался. А вой нарастал, нарастал. Возле огня было жарко, но Владика лихорадило, зубы отстукивали нервную дробь.
Наконец Огурцов не выдержал и закричал истошным голосом:
— Караул!!! Ребяяя!.. Опа... спа... ситеее!.. — И он забегал вокруг костра, размахивая палкой. — Караул!
К костру прибежали Лариса и Колька-горнист. Огурцов кинулся им навстречу.
— Чего дурака валяешь? — накинулась на него Лариса.
— Вы... вы... выли.
— Выли? Кто? — Селиванова недоверчиво посмотрела на Владика.
— Волки... выли.
— А мы думали, что ты озоруешь, — недоверчиво произнес Колька.
— Не я! Честное слово, не я.
— Хватит нас морочить! — строго сказала Лариса.
— Ууаааааа...
Теперь уже и Лариса с Колькой вздрогнули, а Огурец застыл на месте. Топорок решил, что наступил самый подходящий момент спуститься на землю. Он осторожно слез с сосны и вышел на полянку, беспечно напевая: «Жил-был у бабушки серенький козлик...» Появись на поляне слон — и тот, наверное, не вызвал бы такого удивления.
Первой опомнилась Лариса.
— Топорок, это ты? — спросила она.
Федя демонстративно пощупал свое лицо, словно убеждаясь, он ли это.
— Я.
— А где ты был?
— В кустах возле поворота от страха дрожал. — Топорок уничтожающе посмотрел на Владика: — А потом шакалов ловил.
Лариса все поняла, но решила подыграть Топорку:
— Каких шакалов?
— Которые выли...
ЛОПУШОК
Семен Васильевич наконец-то нашел для Феди дело. Храмову вдруг срочно понадобилось заменить лавку на крыльце.
Он выбрал подходящую доску и приготовился строгать ее на верстаке под навесом, но тут неожиданно вспомнил, что надо сходить в правление колхоза. Семен Васильевич позвал Федю.
— Помощь твоя нужна, Федя, — сказал озабоченно Храмов. — Рубанок когда-нибудь в руках держал?
— Нет.
— Жаль. Хотел тебя попросить доску построгать. Жаль, — повторил старик.
— А я попробую. Можно?
— Попробовать, конечно, можно, — вроде бы нехотя согласился Семен Васильевич. — Давай, попробуй... Гляди, как надо... — Семен Васильевич, держа рубанок своей единственной рукой, легко прошелся по доске, и сразу же запахло свежей стружкой. — На, держи.
Федя зацарапал рубанком по доске.
— А ты, внучек, легче пускай его... Не напрягайся... Вот так... Молодец! Построгаешь к моему приходу. А потом мы лавку на крыльце заменим. Много не стесывай.
Когда Семен Васильевич ушел, к Феде вдруг пришло незнакомое и приятное чувство, какое обычно испытывают ученики, которым мастер впервые дал самостоятельную работу. И чувство это многосложно. В нем гордость перемешалась с робостью, растерянность — с желанием выполнить порученное дело как можно лучше.
И Топорок старался. Он забыл обо всем на свете. Отъезд отца, желание возвратиться домой, приступ тоскливого одиночества — все затмилось работой. Федя вспотел, раскраснелся и даже высунул язык.
Под навесом пахло теплым деревом, смолистой свежестью стружек и сухой землею. Теплый сквознячок забегал сюда и ласково обдувал разгоряченное лицо. С каждым новым движением Федя строгал все увереннее и чище, ровнее. Вот он уже отстрогал одну сторону доски и принялся за другую.
Топорок так увлекся, что не заметил, как во дворик вошел коренастый мальчишка. Мальчишка был круглолицый, курносый. Его русые волосы уже успели выгореть на солнце. Лицо, шея, руки у мальчишки были закраплены веснушками. Даже в зеленоватые глаза вкрались коричневые точки. Губы были пухлые, добрые.
Но самым приметным у мальчишки, который пришел во двор к Храмовым, были уши, большие, как лопухи. За такие необыкновенные уши Ваню Зеленова вся Ореховка и прозывала ласково Лопушком.
Лопушок подошел к Феде совсем неслышно. Постоял, поглядел, как Топорков самозабвенно трудится, а потом сипловатым баском сказал:
— Здорово, плотник.
Топорок вздрогнул от неожиданности и оглянулся.
— Здорово, — ответил он на приветствие непрошеного гостя.
Лопушок вдруг, улыбнулся. И Топорок не мог удержаться от ответной улыбки.
— Дядя Семен дома? — спросил Лопушок.
— Ушел по делам.
— А возвернется когда?
— Обещал скоро прийти.
— Ну, тогда я подожду его, — сказал Лопушок и по-хозяйски уселся на чурак.
Федя не знал, что ему делать: продолжать строгать доску или занимать гостя разговорами. От этого Топорок даже насупился. А Лопушок, словно разгадав мысли Федины, покровительственно посоветовал:
— Валяй, работай.
— Я только учусь строгать, — сознался Федя.
— Строгать — дело нехитрое, — словно взрослый, изрек Лопушок, — сноровка только нужна. Покажь, как умеешь-то?
— Да плохо у меня еще выходит, — смутился Топорок.
— Не, ничего выходит, — похвалил Лопушок, — Жмать только сильно не надо. Во, гляди, как надо.
Лопушок бесцеремонно отобрал у Феди рубанок.
— Чуешь, как надо? Так вот и гони дальше. — Лопушок возвратил Феде рубанок и снова уселся на чурак.
Федя застрогал увереннее, чище.
— Сноровистее дело-то пошло, — снова похвалил Лопушок. — Смекалистый ты, как погляжу. — И неожиданно добавил: — А я тебя знаю. Ты Ильи Тимофеевича Топоркова сын. Тебя Федькой Топорком зовут. Верно?
— Да.
— А я — Ванька Лопушок. Хочешь, водиться с тобою буду?
— Хочу... А Лопушок — твоя фамилия?
— Нет, — Ваня вдруг заразительно засмеялся, а когда поостыл от смеха, объявил: — Не подумай, что над тобой. Вспомнил, как ты Огурца напугал. И вообще я смешливый. Как начну смеяться, так остановиться не могу. Меня за это из кино и из класса часто выгоняют. У нас вся порода смешливая. Фамилия наша Зеленовы, а на деревне прозывают Хохотушкины. Матери даже один раз похвальную грамоту, как ударнице, дали, а там так и написали: «Матрене Митрофановне Хохотушкиной». Мать, как прочитала, давай прямо на собрании хохотать. Еле остановили. А начальник из района, который грамоты раздавал, подумал, что мамка моя чокнутая... А ты, Топорок, в какой класс ходишь?
— В седьмой перешел. А ты?
— В шестой. — Лопушок помрачнел и вздохнул. — В пятом два года просидел. Весной в речке закупался и проболел потом два месяца. Думали, помру. Очухаться-то очухался, а на второй год остался... Хочешь, сбегаем окупнуться?
— Доску мне надо дострогать. Семен Васильевич скоро придет и лавку на крыльце переделывать будем.
— Да мы эту доску ментом отполируем. Давай рубанок-то.
Лопушок, действительно, очень быстро отстрогал доску и отшлифовал ее фуганком.
— Теперь и на речку сбегать можно, — заявил Лопушок и, погладив доску, добавил: — Первый сорт.
Топорок сомневался, идти или не идти на речку. Искупаться-то ему очень хотелось, но он привык спрашивать у старших разрешение ходить на речку.
К счастью, возвратился Семен Васильевич. Он подошел к ребятам, поздоровался за руку с Ванюшкой и стал разглядывать доску.
— Молодец, Федюшка, — похвалил он Топорка. — Чистая работа.
— Это не я, а Лопушок.
— Он, он, дядя Семен, — запротестовал Лопушок. — Я только фуганочком подчистил. Мы с ним вот искупаться хотели.
— Идите. А ты, внучек, плавать-то умеешь? — спросил Топорка Храмов.
Федя плавал совсем плохо, но ему было стыдно признаваться в этом, и он соврал:
— Умею.
— Тогда идите, купайтесь, — разрешил Семен Васильевич. — Только поосторожней там будьте.
— Ладно, — заверил Лопушок.
Приятели отправились на речку.
РУСАЛКА
Речушка Петляйка, которая протекает по Ореховке, — извилистая и короткая. Ее путь можно проследить по зигзагообразной полосе кустарника, растущего на берегу. Петляйка уходит по лугу вправо, делает большую петлю, возвращается в сторону деревни и пропадает в лесу. Лес подходит к Ореховке огромным клином, острие которого не дошло до деревни километра полтора. А в лесу прячется река Сожа. В Сожу и впадает легкомысленная Петляйка.
Искупаться можно и в Петляйке. Возле самой Ореховки встречаются глубокие омутки, где даже нырять можно, но Лопушок считал, что Петляйка — речонка для мелюзги и старух. Каждый же уважающий себя человек должен купаться на Соже.
Сожа — лесная красавица. Ее называют голубоглазой, потому что вода в ней чистая до голубизны. Красавицы чаще всего капризны, у многих из них характеры неровные. И у Сожи нрав переменчивый. То она разольется ласковой, тихой плесой, то вдруг забурлит сердитым перекатом, то обманет неожиданным поворотом и ошеломит кипучими бурунами, а то возьмет и прикинется сиротливым ручейком.
Речка Сожа — вольная, красивая, неуемно-разная, потому в ней и рыба водится разнопородная — от шустрой серебристо-бойкой уклейки до огромных тайно-мудрых сомов.
Лопушок привел Федю на песчаный крутой берег. Сожа в этом месте была тихая, задумчивая, Течение почти незаметно. Казалось, что река приостановилась здесь, чтобы погреть свои воды на ярком солнце и отдохнуть перед бродом, где она перекатывает мелкие острые камни и шлифует вековые валуны.
— Красиво-то как! — сказал Топорок и улыбнулся.
— Любительские места. Краше не бывает, — сказал солидно Лопушок. — В книжках про нашу речку писали. Эта плеса называется «Бархатной».
— А тут глубоко?
— Не, только на середке да кой-где под берегами с ручками будет. Ты не бойся.
— Я не боюсь, — небрежно ответил Топорок.
Ребята разделись возле кустиков и пошли к воде. Песок был до того горячим, что Федя шел, подпрыгивая, а Лопушку хоть бы что. Лопушок, пожалуй, и по углям прошелся бы босым. Как только просыхала и обогревалась земля, Лопушок не признавал никакой обуви. И ступни у него, что подошва.
Лопушок разбежался и нырнул в яму под берегом. А Топорок вошел в воду осторожно, выбрав место помельче.
— Хочешь, рыбину поймаю? — вынырнув, спросил Лопушок.
— А удочки где возьмешь?
— Я так, руками. Хочешь?
— Руками? — недоверчиво переспросил Федя.
— Угу.
— Поймай.
Лопушок поплыл к противоположному обрывистому берегу. Там, где кусты свешивались до самой воды, остановился, ухватился за ветку, а потом сделал кувырок и исчез под водой. Феде показалось, что Ваня больше не выплывет. Но вот показалась Лопушкова голова. Лопушок стал фыркать, отплевываться. Выражение лица у него было растерянно-ошалелое, словно он только что вырвался из лап водяного. Проморгавшись, Лопушок расплылся в довольной улыбке, а потом заразительно звонко засмеялся и поднял над головою крупную рыбину.
— Упустишь! — крикнул Топорок.
— He! He упущу!
Лопушок выбрался на берег и сделал кукан из ветки.
— Сейчас еще поймаю, — пообещал Лопушок и опять ушел под воду.
Топорок с нетерпением ждал, когда Лопушок снова вынырнет. Но не только Федя наблюдал за Лопушком. На мысочке, скрытом кустами, стояла Лариса со своей подружкой Ольгушей Ведерниковой. А с ними еще была Ольгушина пятилетняя сестренка Таня.
Девочки загорали на своем пляжике и были очень недовольны, когда услыхали разговор мальчишек. Пугливая Ольгуша сразу предложила укрыться понадежнее, но Лариса отговорила ее.
Подруги не узнали, кто пришел купаться. Но когда Лопушок засмеялся, успокоились. Лариса решила посмотреть, над чем это так смеется Лопушок-Хохоток. И тут Лариса заметила Топорка и очень ей захотелось позвать Федю, но она, конечно, не сделала этого.
Лопушок поймал еще одну рыбину и опять звонко засмеялся от удовольствия.
— Чего ты стоишь там? — насмеявшись, крикнул Ваня Топорку. — Дуй сюда! Я буду ловить, а ты на кукан сажать. Спорей дело у нас пойдет.
Лопушок не знал, что Федя плохо плавает, а Феде все еще стыдно было в этом признаться. Он, повинуясь ложному самолюбию, пошел на зов Лопушка. Становилось все глубже и глубже. Наконец Феде пришлось идти по дну на цыпочках. Но и это скоро перестало помогать. Топорок оттолкнулся от песчаного дна и поплыл, лихорадочно загребая руками. Но это только с берега казалось, что течения здесь совсем почти нет.
Течение подхватило Топорка и понесло. Он быстро устал и держался теперь на воде как поплавок во время клева.
Лопушок увлекся ловлей и не видел, что творится с его приятелем, а Лариса сначала не поняла, что происходит с Федей. Ей подумалось, что он просто решил спуститься вниз по течению. Но, заметив как Федя часто погружается под воду, а потом лихорадочно выныривает, Лариса догадалась: Топорков тонет.
Она бросилась к нему. Пробежав мелководье, поплыла по-мальчишески.
Силы оставили Топорка. Он вынырнул скорее случайно, чем сознательно. И в то мгновение кто-то схватил его за волосы и потащил в сторону. Инстинктивно он хотел поймать рукой своего спасителя, но мешала боль... Наконец-то рука разжалась и отпустила его волосы. Федя почувствовал дно. Он поднялся на ноги. Его трясло. Кружилась голова. Тошнило. Шатаясь и ничего не соображая, Топорок медленно побрел к берегу. Лариса шла за ним следом, но он ее не замечал.
Лопушок вынырнул без рыбы: ушла. Он отфыркался и стал искать глазами Федю. Огляделся и заметил, что Топорков с какой-то девчонкой выходит на берег.
«Ишь ты! — усмехнулся про себя Лопушок. — Я ему рыбу лови, а он девчонку поймал. Востер Топорок».
— Федька! — закричал озорно Ванюшка. — Ловкий ты рыбачок-то! Гляди, какую рыбку словил!
Топорок даже не оглянулся на его крик.
— Федь! — озадаченно спросил Лопушок. — Ты чего? Или обиделся?
Но Топорок опять не отозвался. Это совсем обескуражило доброго по натуре Ваню, и он огорченно стал гадать, чем это не угодил Феде. «А, может, Топорок знаться со мною больше не хочет?»
— И пусть! — вслух обиделся Ванюшка и опять стал нырять под коряги, но рыба больше не попадалась: азарта у ловца не было.
Топорок вышел на берег и лег обессиленный на горячий песок. Перед глазами плыли зеленые круги, стучало в висках, ноги и руки налились свинцом. Он лежал неподвижно, бледный.
Это больше всего пугало Ларису. «А вдруг он умрет!» — испугалась она и только тогда решила позвать на помощь Лопушка. Но Ваня сам плыл к их берегу. Лариса заторопилась к нему.
— Лопушок, — позвала тревожно Лариса.
— Чего тебе? — недовольно буркнул Ваня.
— А вдруг он умрет...
— Чего? — Лопушок уставился на Ларису, как на бредившую.
— Чего, чего. Тонул он, а я его спасала.
— Кто тонул!
— Федя.
— А кто же с тобою из речки выходил?
— Федя.
— А говоришь, тонул! Лопушок заподозрил какой-то подвох и, жуликовато поглядев на Ларису, заявил: — На мякине меня, Лисичка, не проведешь. Где Федюха?
— Не веришь, да? — Лариса схватила Лопушка за руку и потащила к месту, где лежал Федя.
Поглядев на Топоркова, Лопушок даже кукан с рыбой выронил.
— И правда, — испугался Лопушок, но тут же стал озабоченно-деловым и строго спросил: — Зачем навзничь его положила?
— Он сам так лег.
— «Сам лег»! Его надо от воды опростать: небось, наглотался.
— А ты умеешь?
— А Никитку Трюхина кто откачал?
Лопушок подошел к Феде и стал его переворачивать. Топорок открыл глаза и удивленно уставился на Лопушка.
— Тошнит, — тихо произнес Федя.
— Известное дело, тошнит, — согласился Лопушок, — водицы-то, видать, порядком наглотался. Хорошо еще легкие не затопил. Пошли в тенек...
Топорку стало легче.
— Поспи, — посоветовал Лопушок. — И все, как рукой, сымет. Рыбы я наловил. Видал сколько?
— Нет.
— Сейчас принесу показать. Лежи и не дрыгайся.
Ваня пошел за рыбой. За кустами он увидел Ларису. Она поманила его.
— Ну, что?
— Очухался.
— Лопушок... — Лариса замялась.
— Ну?
— Не говори ему, что я его спасла. Ладно?
— А чего утаивать-то?
— Ну, Лопушок, прошу тебя... Пусть думает, что сам выплыл. А то, говорят, он и так по городу скучает, а тут еще узнает, что девчонка из речки вытащила... Тебе-то не понравилось бы?
— Еще чего не хватало! — искренне возмутился Лопушок. — А если спросит, кто его спас?
— Скажи — русалка.
— Ваня, — позвал Топорок, — куда же ты пропал?
— Иду, — отозвался Лопушок.
— Договорились? — прошептала Лариса. — Не проговоришься?
— Как колечко на дно омута бросила. Молчок.
Топорок будто подслушал их разговор. Как только Лопушок подошел к нему, он тут же спросил:
— Ваня, а кто меня спас?
Лопушок сначала растерянно уставился на Федю, а потом выпалил:
— Русалка.
— Какая русалка?
— Обыкновенная. С хвостом. С волосами распущенными. И... И...
— А русалки купальники носят? — спросил Топорок.
— Известно, носят. А что?
— Показалось, что меня кто-то в купальнике голубом вытаскивал.
— В голубом купальнике? — переспросил Лопушок и вдруг захохотал.
— Чего ты? — обиделся Топорок. — Ну, чего хохочешь-то?
Насмеявшись и вытирая слезы, Лопушок пояснил:
— Не над тобой я. Говорил уже, что порода наша такая хохотущая... А про русалку я пошутил... Никто тебя не спасал. Сам ты выплыл на мель, а тебе показалось, что тебя кто-то вытащил. Утопленникам завсегда кажется, что их кто-то вытаскивает из речки.
— Ну?
— Божусь... Дома про купанье-то молчок. А то больше на речку не-пустят. Шабаш тогда купанью и рыбалке.
— Только бы ты не сказал.
— Я? Да ты что! Что я, пыльным мешком ударенный? Меня пытай — не скажу... А плавать я тебя научу. Без этого человеку нельзя. Вдруг война? Прикажут тебе переплыть реку, а ты, Топорок, топором на дно.
— Ваня, ты в футбол играешь?
— Мячик гоняли, но не по правилам.
— Хочешь, я научу? — предложил в порыве благодарности Топорок. — Из тебя, знаешь, какой центральный нападающий выйдет!
— Да какой я нападающий, — засмущался Лопушок.
РУСАЛКА-ВРАТАРЬ
Теперь каждое утро Федя и Ваня ходили на Сожу. Топорок оказался способным учеником. Уже на пятый день он переплыл Бархатную плесу в самом ее широком месте. Лопушок так обрадовался победе друга, что стал его обнимать.
Не меньше Лопушка успехам Топорка радовалась и Русалка в голубом купальнике, которая каждый раз тайно наблюдала за тренировками начинающего пловца. Федя не подозревал, что у него сразу два тренера и что эти два тренера обсуждают его успехи, советуются.
Когда Топорок уже совсем уверенно чувствовал себя на воде, Ваня стал учить его плавать на спинке, нырять, держаться под водою, и очень скоро выносливый и сильный Топорок стал неплохим пловцом.
...Утро было тихое и ласковое. Солнце еще не успело нагреть песок на берегу. Оно подарило земле свет и краски, краски, которые нельзя увидеть ни днем, ни вечером, а только на утренней заре, когда все вокруг умыто хрустально-чистой росою. И не зря юность сравнивают с утром. И не зря утренние песни птиц самые звонкие и радостные.
Который раз подряд Федя приходил с Ванюшкой на Бархатную плесу рыбачить, а все не переставал испытывать какое-то трепетное чувство восторга от встречи с красотою проснувшейся земли. Истинная красота — неистощима. Она может поражать человека всю жизнь.
В это утро с Топорком творилось что-то необычное. Он сидел притихший, задумчивый, грустный. И была грусть чистой, светлой, как прохладное дыхание утра.
Он невнимательно следил сегодня за поплавками. Иногда в нем вспыхивал азарт рыболова, но вскоре опять затухал. Топорок сочинял стихи.
На кукане у Лопушка уже билось несколько крупных окуней, пяток плотвиц и даже один «щупарик», позарившийся на червяка, а на Федином кукане — всего четыре рыбки. Лопушок никак не мог понять, что происходит с его другом. Несколько раз Лопушок замечал, как соседские поплавки уходили под воду, и тогда он шепотом кричал:
— Топорок! Клюет у тебя... Эх ты, разиня! Опять упустил.
Солнце поднялось над лесом. Растаяла под жаркими лучами роса на лугу, запахло согретой землею, травами, над водою у тростников заиграло зыбкое марево теплого воздуха, верного предвестника полуденного зноя. И клев как отрезало.
— Шабаш! — громко и твердо заявил Лопушок и стал сматывать удочки.
Топорок покорно последовал его примеру.
— Федька, дуй за дровами.
— Костер, что ли, будем жечь?
— Ушицей рыбацкой решил тебя угостить. Котелок прихватил и приправки. Такую сейчас ушицу сварю — пальчики оближешь!.. Покажь улов-то... И все?
— Да... — виновато ответил Топорок, а потом покачал головой и, будто бы разочарованно, добавил: — Местечко плохое я выбрал.
Лопушок зашелся смехом.
— Чего смешного-то? Говорю тебе — место неудачное.
— Ох! Ох!.. Ох! — квохтал Лопушок. От смеха у него текли слезы. И слезы эти казались плывущими по щекам веснушками. Наконец Лопушок высмеялся и обессиленно произнес: — Ну и шкоден же ты, Топорок. Сам ворон считал, а грешишь на заводь. Вот завтра сяду на твое место и тогда увидишь, сколько тут рыбы... Ладно, иди дровец сухоньких принеси, а я пока рыбу почищу.
Лопушок вбил рогатульки, разжег костер и повесил на перекладине над огнем большой котелок с водою.
— Куда такой большой-то? — удивился Федя.
— Еще мало будет... Да в маленьком и варить неудобно. — Бросив в воду пару луковиц, Лопушок предложил: — Давай, пока вода закипит, поваляемся.
— Давай, — согласился Топорок.
Он лег рядом с Лопушком, который вдруг сразу же на полуслове заснул. Федя удивился. Лопушок был всегда такой выносливый, а тут раз — и заснул.
Лопушок же вовсе не был соней. Просто эту ночь ему не пришлось поспать: он со старшим братом Митькой и пастухом всю ночь проискал свою корову, которая отстала в лесу от стада. Но Топорок не знал об этом. Лопушок вообще мало рассказывал ему о своих делах. И в дом к себе никогда Топорка не приглашал.
Жили Зеленовы небогато. Матрена Митрофановна пять лет назад овдовела. На руках у нее осталось четверо детей. Старшему Мите пошел тогда одиннадцатый год, а младшей дочери исполнилось восемь месяцев. Лопушок и вторая его сестренка Клава были погодками. Нелегкая жизнь была у Матрены Митрофановны, хотя дети ее с малолетства были хорошими помощниками.
Лопушок никогда не стыдился своей бедности, но вот, чтобы об этом знал его городской друг, не хотел.
Лопушок спал крепко, беспомощно открыв рот и посапывая. Федя стал глядеть в небо, провожая глазами белые-белые облака. Он раньше и не подозревал, что так здорово лежать на спине и провожать глазами медленно-медленно плывущие по безбрежной синеве облака. И каждое облако кого-то или что-то напоминало. Вот плывет по небу косматый профиль горбоносого старика. Зловещая таинственность чудилась в его зыбком лике. И казалось, что облачному старцу хотелось что-то сказать людям громовым голосом, но какие-то силы мешают ему сделать это. Голова старика окуталась клубящимся дымом, горбоносый профиль расплылся и растаял. Потом Федя отыскал на небе льва. Вздыбленный лев! Но он прожил в бездонном синем океане гораздо меньше старика, вдруг превратившись в скалы. Потом Топорок провожал глазами гигантскую белую лягушку, потом — смеющуюся колдунью, затем — всадника, огромную черепаху, а потом...
...Топорок чувствовал, что по лицу ползает букашка. Он пытался смахнуть букашку ладонью, но это ему не удавалось. Наконец, Топорок открыл глаза и увидел Ларису с травинкой в руке. У просыпающихся всегда беззащитная искренность, и Топорок доверчиво и добро улыбнулся. Лариса ответила ему улыбкой и жестом попросила молчать.
Лопушок долго не поддавался травинке. Он отмахивался от нее, как от пчел, морщился, крутил головой, мычал, чмокал губами, но не просыпался. Лариса и Федя давились от смеха. Ни один комик мира, наверное, не смог бы так гримасничать, как гримасничал во сне Лопушок.
Лариса пощекотала Ваню травинкой в носу. Этого Лопушок уже не смог выдержать: чихнул и сам себя разбудил. Несколько секунд он лежал с широко открытыми глазами. И взгляд у Лопушка был глупый-глупый, потому что не мог сразу сообразить, где находится. Только что лежал он на жаркой русской печке, а тут тебе небо над головой, кусты, запах дыма. Запах дыма-то и напомнил Лопушку про ушицу, которой он хотел угостить Федю. Лопушок вскочил, как ужаленный, и закричал.
— Уху заспали!
Подбежал к котелку, висящему над заглохшим костром, снял крышку и застыл пораженный.
— Это как же так? — озадаченно спросил он и стал ловить носом душистый пар над кастрюлей. — Не помню, когда ее сварил?
— Ты ее не варил. — Лариса рассмеялась.
— Хы-хы-хы, — передразнил обиженно Ваня. —Сама, что ли, сварилась?
— Сама, по щучьему веленью.
— Ты, рыжая, варила?
— Я, — Лариса притворно испугалась. — Не вели казнить, вели помиловать.
— Небось, супец вышел, а не рыбацкая ушица?
— Попробуй.
Но даже по запаху Лопушок чувствовал, что ушица сварена на славу, а схлебнув юшки с деревянной ложки, понял, что такой ухи самому бы ему не удалось сварить. Но он все-таки сделал вид, что никак не разберет, хороша ли юшечка.
— Ладно, сойдет, — сказал Лопушок и заважничал.
Топорок попробовал ложку, другую и искренне похвалил:
— Вот вкусна-то! Никогда еще не ел такой.
— Правда? — обрадовалась Лариса, но тут же взяла себя в руки.
— Правда, правда.
— Чего сама не ешь? — сквозь набитый рот спросил Лопушок.
— Миски нет.
— А ты с Топорком из одной, а то прям из котелка. А ложка запасная у меня всегда имеется: на запах ушицы всегда гости наведываются, — повторил Ваня Лопушок фразу, услышанную от взрослых рыбаков, повторил солидно, будто сам ее только что и придумал, а потом достал из холщовой сумки облезлую от времени и усердной службы деревянную ложку и протянул ее Ларисе.
— На, держи.
Топорок пододвинул миску в сторону Ларисы.
— Ешь, пожалуйста.
— Спасибо, — Лариса осторожно отхлебнула, будто для пробы.
— Да что вы, как просватанные, с ней церемонитесь? Ешьте по-людски.
Солнце поднималось все выше и выше. От жары спасала близость реки. Отдохнув, решили искупаться, Лариса ушла за кустики.
Когда Топорок увидел ее в голубом купальнике, то сразу подумал: «Где ж это я ее видел?» Топорок снова почувствовал странный и неприятный привкус воды, которой захлебывался, когда тонул, увидел зеленые круги, мелькавшие тогда перед глазами, вспомнил боль и... голубовато-мутный силуэт.
Теперь Топорок знал, какая русалка вытащила его, тонущего, из реки. Только непонятно было, почему Лопушок скрыл от него то, что спасла Лариса. Странно...
— Ворона в рот залетит! — крикнул Лопушок Феде и стал брызгаться.
— Брызгаться? Да? — Федя погнался за Лопушком.
Мель быстро кончилась. Лопушок поплыл, Федя — за ним.
Однако Лопушка не так-то просто было поймать в воде. Федя вот-вот должен был дотронуться до него, но Лопушок сделал неожиданный кувырок и исчез под водой. Топорок обескураженно бегал взглядом по речной глади, а Лопушок все не выплывал. Наконец он вынырнул у противоположного берега. А Федя в этот момент ушел под воду.
— Что? Догнал? — крикнул азартно Лопушок и утерся ладонью. Глянул на реку, а Топорка нет. — Лариска! Где Топорок?
— Вместе с тобой нырнул.
— Ври!
— Нырнул.
— И еще не выплыл? Небось, за корягу зацепился. Утопнет?!
Лопушок опять скрылся под водой, а Федя вынырнул.
— Ныряй! Лопушок тебя ищет под водою. Бери правее.
Ваня выскочил на поверхность и, глотнув жадно воздуха, спросил:
— Выплыл?
— Нет! Ищи там! Левее!
Лопушок нырнул — Топорок вынырнул. Топорок нырнул — Лопушок вынырнул.
В конце концов, они, благодаря Ларисиным советам, столкнулись под водою. Лопушок стал спасать Топорка, а Топорок — Лопушка. Барахтаясь и отфыркиваясь, словно моржи, они показались над водою и уставились друг на друга. А голубая Русалка стояла на берегу и от души смеялась над ними.
— Гы-гы-гы! — разозлился Лопушок и пригрозил в рифму: — Рыжей лисице захотелось водицы.
— Ах так! — Лариса подбоченилась. — Федя, подержи его. Забыл, Лопушок, как русалки щекотаться умеют? Забыл?
Лариса медленно пошла к воде.
— Не надо! Не надо, — взмолился Лопушок, и уже от одной только мысли о щекотке неудержимо и панически захохотал...
...Они лежали веером на песке и играли в «подкоп». Каждый знает эту незатейливую игру. Нагребается горка песка, в вершинку ее втыкается спичка или палочка. Играющие разгребают по очереди горку, каждый со своей стороны, до тех пор, пока палочка не упадет. В чью сторону она упадет, тот и водит. Для проигравших придумываются различные наказания. У наших героев наказание было легкое, но обидное. Проигравший должен был зайти по пояс в воду, десять раз присесть, хлопая по воде руками и громко крича: «Я мокрая курица! Я мокрая курица!»
Не везло Топорку. Пять раз подряд он уже побывал «мокрой курицей». Й каждый раз Лопушок подкудахтывал ему с берега и хохотал до изнеможения.
Федя, конечно, делал вид, что водить ему даже нравится, но в душе он очень переживал свои проигрыши, и ему так хотелось сгонять в воду Лопушка, но тот играл осторожно и опытно.
Эх, Лопушок, Лопушок! Какой же он непонятливый... Но откуда же ему, Лопушку, знать, что творилось на душе у Феди. Знал бы, сто раз побывал «мокрой курицей».
Девочки — более чуткие, чем мальчишки. Лариса, когда Топорок седьмой раз возвратился на берег, сделала вид, что ей наскучила эта бессмысленная игра, и она решительно заявила:
— Я больше не хочу играть.
— А может, он отыграться хочет, — попытался возразить Ваня.
— Тогда играйте без меня. — Лариса гордо потупилась.
— Ну, ладно обижаться-то, — сказал примирительно Лопушок и виновато поглядел на Федю. — Федя, ты осерчал на меня, да?
— Чего, мне обижаться-то?
— А ты на руках ходить умеешь?
— Не умею.
— Хочешь, научу? Гляди. — Ванюшка уперся ладонями, ловко вскинул ноги и метра два прошелся на руках. Лицо у него стало натужно-красным. Встав на ноги, он предложил: — Попробуй.
— Не хочется... Давайте лучше в футбол поиграем.
— А где мячик возьмем? — спросил Лопушок.
— У меня в рюкзаке.
— Чего ж, глупень, утаивал? Мне скоро домой уходить. Мамка до обеда отпустила. — Ванюшка поглядел на солнце, определяя время. — С полчасика можно погонять. Пошли на полянку.
Лариса прикрыла лицо косынкой и делала вид, что с наслаждением нежится под палящим солнцем.
— А ты, Рыжик, чего лежишь? — удивился Лопушок.
— Я девчонка, — не снимая с лица косынки, заявила Лариса. — А девчонки, кажется, в футбол не играют.
— Тоже мне, девчонка нашлась! — возмутился Лопушок. — Кто Гуляю нос расквасил? Скажешь, не ты? Гуляя десятиклассники побаиваются... Ладно сироткой-то прикидываться. Вставай!
— Пошли, Лариса, — попросил Топорок.
Она откинула косынку, незаметно скользнула взглядом по лицу Феди и удивленно-нехотя согласилась:
— Ну, если уж вы так просите...
Футбольный мяч у Феди был «мастерский». Его подарил на день рождения мамин брат дядя Коля.
Лопушок влюбленно разглядывал белый мяч.
— Вот это да! Жалко такой по земле гонять. Дорогой, небось?
— Такие не продаются. — Топорок был счастлив, что Ваня ошеломлен мячом.
— Не продаются? А где же ты взял его?
— Мамин брат из Лондона привез.
— А матери братан кто?
— Капитан дальнего плавания.
— Ухты!
Как ни странно, но на Ларису сообщение о заграничном происхождении мяча не произвело впечатления. Напротив, когда Топорок со сдерживаемой гордостью сказал: «Такие не продаются», — она поморщилась и посмотрела на Топорка с неприязнью. Лариса даже хотела сказать ему что-нибудь колкое, но сдержалась.
Когда они пришли на полянку, Лариса не утерпела и спросила:
— А не испачкаем мы твоего лондонского красавчика?
Федя не сразу понял истинный смысл вопроса и простодушно ответил:
— Да и пусть! Он же великолепно моется.
— Ну, тогда ладно, — распевно сказала Лариса, ударила ногой по мячу и тут же запрыгала от боли в пальцах. — Что он у тебя, камнями, что ли, набит?
— Разве пальцами бьют? Вывихнуть можно, — предупредил Топорок.
Лопушок зашелся смехом.
— Тебе лечиться надо, — разозлилась Лариса. — А то когда-нибудь помрешь от смеха. — И вдруг повернулась резко к Феде и спросила: — Покажи, как бить надо.
Топорок помрачнел. Он понял, что Лариса за что-то издевается над ним, поэтому очень серьезно объяснил правила удара по мячу.
— Ну, а теперь покажи, как это делается, — все еще раздраженно попросила Лариса. Ей почему-то казалось, что Топорок просто-напросто хвастунишка. Топорок, наконец, все понял и, нагнув упрямо и гордо голову, будто собирался боднуть кого-то, пружинисто пошел к мячу.
Ловко поддев носком мяч, Топорок подкинул его невысоко вверх, потом, несколько секунд пробно поиграв белым красавцем, сильным и точным ударом послал его свечою высоко вверх. В момент падения Топорок ловко осадил мяч, и тот послушно успокоился подле ноги хозяина.
Лопушок восторженно глядел на Федю. И Лариса, как ни старалась, не могла скрыть затаенного восхищения. А Топорок уже забыл про обидчицу. Его уже захватил футбольный азарт.
— Держи! — крикнул Топорок и послал мяч Лопушку.
Ваня бросился к мячу, но тот проскочил мимо и застрял в кустах. Лопушок сбегал за мячом, положил его перед собою, и, подражая Феде, тоже крикнул:
— Держи!
Ударив по мячу, Лопушок, как и Лариса, запрыгал от боли в пальцах. Озираясь на Ларису и морщась уже от мнимой боли, Лопушок спросил Федю:
— Что он у тебя, заговоренный?
— Мячик этот волшебный, — ответил Федя, подскочив к мячу.
Мяч послушно побежал рядом с Фединой ногою.
— Нападайте, — предложил Топорок.
Лопушок и Лариса бросились к нему, желая отнять мяч, но тот, будто и впрямь волшебный, от неуловимого движения отпрянул в сторону.
Топорок очень скоро вконец измотал своих друзей. Лопушок не выдержал и попросил пощады:
— Давай передышку сделаем: в боку колет.
— Давай, — согласился Топорок. — Без тренировки вредно играть по стольку. После перерыва по воротам постукаем.
— Что значит «по воротам постукаем?» — полюбопытствовала Лариса.
— Сделаем ворота и по очереди будем вратарями.
— Ааа...
— Пошли, окупнемся, — позвал Лопушок, утираясь от пота.
— Сразу нельзя. Остыть немного надо.
...Первым на воротах стоял Лопушок. Федя бил по воротам несильно, и Ваня легко брал мячи.
После десяти ударов место вратаря заняла Лариса.
Федя ударил совсем тихо. Лариса рассердилась и потребовала, чтобы били по-настоящему. Федя ударил сильнее. Лариса взяла мяч. Топорок ударил в мнимую «девятку» и остановился изумленный. Лариса прыгнула к мячу, пружинисто и красиво, как пантера. Мяч не пошел в ворота.
Лопушок захлопал в ладоши.
И тогда Топорок ударил по воротам как следует, забыв про то, кто стоит вратарем. Мяч ударился, к счастью, в ладони и, погасив скорость, покатился вдоль ворот, а Лариса упала на спину. Не обращая внимания на боль в больших пальцах, она вскочила на ноги и потребовала:
— Бей! Бей еще!
А рядом бегал Лопушок и неистово кричал:
— Ура! Взяла смертельный! Ура! Ореховка побеждает!
— Бей! Бей еще! — требовала Лариса.
— Хватит, — сказал мрачно Топорок. — На первый раз хватит.
Лариса вдруг расплакалась. Мальчишки удивленно уставились на нее. А она улыбалась и плакала.
— Может, пальцы вывихнула? Покажи, — попросил Федя.
— Не покажу, — сказала Лариса, а сама послушно протянула ему ноющие пальцы.
— Конечно, вывихнула... Потерпи чуточку, — попросил Топорок...
ТЮТЯ
Предвечерье в деревнях — время хлопотливое. До ужина все торопятся завершить домашние дела, а главное — полить огороды. Дни стояли жаркие, дождей все не было. Несколько раз собиралась гроза, даже погромыхивало, но проходила стороною, что очень печалило жителей Ореховки.
Воду для поливки огородов брали в Петляйке. Носили ее ведрами, возили на тележках в бочках и флягах. Словно муравьи по своим тропам, мужчины, парни, девчата, женщины, ребятишки шли к Петляйке и обратно. И все были деловые, важные.
У Семена Васильевича была удобная и легкая тележка, на которой он возил воду. Чтобы полить огород, хватало пять ездок. Своей тележкой Семен Васильевич очень дорожил. Много-много лет служила она Храмовым. Именно на этой тележке они привезли из лесу раненого лейтенанта Топоркова. Правда, тележка несколько раз после этого чинилась и переделывалась, но все равно это была та самая тележка.
Храмовы — люди добрые, отзывчивые. Чем угодно готовы поделиться с соседями, но тележку никогда никому не доверяли.
Федя, когда увидал, что Лопушок таскает воду с Петляйки ведрами, решил помогать ему. Сначала тоже носил воду ведрами. Тяжело, долго. Тогда Топорок попросил у Семена Васильевича его тележку. Покряхтел, покряхтел старик Храмов, но тележку Феде разрешил взять: не мог ни в чем отказать своему названному внуку.
С тех пор Топорок стал настоящим водовозом.
Ваня очень был доволен, что друг освободил его от тяжелой работы. А вот Лариса наотрез отказалась от помощи Топорка. Она по-прежнему носила воду ведрами. Отказ Лариса объяснила пользой физической работы. После той игры в футбол Лариса вдруг перестала ходить на реку и вообще стала какой-то странной. Топорка она опять словно бы и не замечала. Федя несколько раз звал ее на рыбалку, но Лариса отказывалась...
Та часть деревни, где жили Храмовы, Селивановы и Зеленовы, называлась Заречной Ореховкой или коротко Заречьем.
Зареченские полюбили Федю Топоркова. Полюбили потому что он был сыном Ильи Тимофеевича Топоркова, и за то, что он «паренек культурный, обходительный, поклонный». Особенно авторитет Топорка вырос, когда он стал общественным водовозом. Федя не только помогал Лопушку, он снабжал водой зареченские семьи, где жили одни старики.
Подшефные Топорка-водовоза на всех перекрестках добро славили городского мальчика. Но неожиданно у Топорка в борьбе с «засухой» появился соперник.
На другом конце Заречья жил Витька Тютя. Так странно его прозвали в детстве. Витек Кирюшин лет до трех не мог ходить и говорить. Его родители боялись, что он так и останется немым. Но Витек все же заговорил. Как-то к Кирюшиным заглянула соседка. «Немой» Витек, увидав женщину, закивал в ее сторону, помычал, помычал и вдруг произнес первое слово в своей жизни: «Тю-тя». Мать ахнула и заплакала от счастья. «Скажи, скажи еще, родненький, хоть одно словечко», — стала она умолять сына. Он застеснялся, а потом, смеясь, еще несколько раз повторил: «Тютя, тютя, тютя!» — что, вероятно, означало «тетя».
С тех пор Витю Кирюшина стали звать Тютей.
К приезду Топорка в Ореховку Тюте исполнилось пятнадцать лет и он уже стал восьмиклассником. Таких длинных и худых ребят, каким был Тютя, трудно сыскать не только в Ореховке, а и в большом городе. В любую жару Тютя не снимал с головы козырькастую кепку. Очень смешно он ходил. Вытянув вперед длинную шею, Тютя будто бы что-то отыскивал на дороге. И ноги у него словно и не сгибались в коленях. Про Тютю говорили, что он «иноходец», потому что руки и ноги у него двигались во время ходьбы. А если ко всему прочему добавить очки (Тютя был близоруким) и большой нос «уточкой», то можно себе представить, сколько было уязвимого во внешности Тюти для насмешников.
Но, как ни странно, над Тютей никто никогда не смеялся.
Больше того, Тютя пользовался уважением не только у сверстников, но и у взрослых: у Тюти — золотые руки. Он обладал природным талантом механика-изобретателя, хотя в роду у Кирюшиных таковых никогда не бывало. Еще совсем маленьким он разбирал и снова собирал часы, моторчики, возился с какими-то железками, которые всюду находил и тащил в свой сарай.
В деревне сначала считали сына Дениса Кирюшина чудачком, считали до тех пор, пока он «не утер нос» шоферу Тихону Еремину. Заглох у Еремина «газик» посреди Заречья. И никак он его завести не мог. И тут-то подошел к машине Тютя и начал как бы обнюхивать ее.
— Дядя Тиша, можно починю?
Шофер рассмеялся даже.
— Чини, Тютя, — отмахнулся он от мальчика.
Тютя чуть ли не весь залез под капот, обследовал мотор.
Возле «газика» стали собираться зеваки. Стоят они и потешаются вместе с Ереминым над Тютей-чудачком. А он вдруг просит:
— Дядя Тиша, покрути заводилкой.
Еремин подмигнул собравшимся и покрутил заводную ручку.
— Будя, — остановил шофера Тютя и опять затих в моторе.
— Ну, как успехи, механик? — спрашивает Еремин.
— Скоро починю.
— Жду. — Еремин опять подмигнул зевакам.
Наконец Тютя закрыл капот и сказал тихонько:
— Заводи, дядя Тиша.
Еремин не сдается в игре-потехе. Забирается в кабину, включает зажигание, нажимает на стартер. И... мотор взревел. Тиша несколько минут от удивления сидел с открытым ртом и все давил на педаль акселератора. Потом спохватился и перестал «газовать вхолостую».
Зеваки сначала не меньше Тиши были ошеломлены, а потом опомнились и дружно захохотали над шофером.
— Чего ржете-то? — выкрикнул им Еремин и укатил куда надо было. Тютя уже давно незаметно ушел.
...Поливка огородов отнимала у колхозников много времени. Вот почему заботливый Петр Петрович Селиванов решил выделить грузовик с цистерной для подвозки воды к домам колхозников. Старшим по подвозке воды был назначен, по просьбе зареченских и на зависть всем мальчишкам, Федор Топорков. Теперь он стал самым популярным человеком в Заречье. Топорок возил воду с Ереминым.
Тихон Еремин сначала очень страдал, что ему дали такую работенку. Но вскоре он смирился с положением водовоза. И смирился, пожалуй, не потому, что каждый вечер выслушивал сотни похвал и благодарностей, и не потому, что за подвоз воды ему и Топорку «писали трудодни».
Все дело в том, что Тиша Еремин и Топорок после развоза воды укатывали на Сожу. Там они купались и играли в футбол.
Тиша полюбил Федю и ласково называл его капитаном. Каждый раз он уважительно подкатывал к дому Храмовых, солидно сигналил и предупредительно приоткрывал дверцу, завидев Топорка.
— Здорово, капитан, — говорил Тиша, пожимая Феде руку и обязательно спрашивал: — Как настроеньице? Как здоровьице?
— Все нормально, — солидно отвечал Топорок и смущался.
Они возили воду, а потом уезжали на часок на берег Сожи.
Тиша, когда служил в армии, играл в футбол и считался одним из лучших игроков. Но когда он увидел, что умеет делать с мячом Топорок, то не смог скрыть восторга и спросил:
— А меня так научишь, капитан?
— Пожалуйста, — согласился Топорок.
— Вот спасибо, — обрадовался Тиша, — а я тебя за это машину водить научу. Хочешь?
— Хочу.
— Значит, по рукам, капитан?
— По рукам... Только какой же я капитан?
— Самый настоящий. — И Тиша заразительно засмеялся.
— Вы не родственник Лопушку? — спросил Топорок.
Тиша будто проглотил свой смех.
— Родственник. А что?
— Смеетесь похоже.
— До Зеленовых мне далеко. Только знаешь, Топорик, не зови меня на «вы». Не люблю я этого слюнтяйства. Договорились?
Быстро сработались Тиша Еремин и Федя Топорков, быстро, но водовозами им пришлось быть недолго.
ТАЙНЫЙ СГОВОР
Томный полдень пришел в Ореховку. Так душно бывает только перед грозой. И, действительно, погромыхивало, но только в стороне, над сельцом Ветловкой. И зловещие сизые тучи там все густели и густели. А ореховская земля словно заколдованная. Над Ореховкой как будто навсегда нависло палящее солнце. В деревне царили зной, сонливая вялость... Ореховка будто вымерла.
Лариса вышла на улицу, поглядела с завистью в сторону Ветловки и пошла мимо притихших домов. Шла Лариса торопливо, часто оглядываясь. Остановилась она возле дома Кирюшиных, еще раз огляделась и вошла во двор.
Изнывающий от жары пес, лежавший возле конуры, брехнул тоскливо и сипато и отвернулся.
— Тузик, — позвала Лариса собаку.
Но Тузик остался равнодушным. Ему лень было даже узнавать вошедшую. Пришла и пришла себе, а ему, Тузику, сейчас не до собачьей службы. Ему бы прохлады.
Лариса постояла посреди двора, прислушалась, В сарае что-то гудело, напоминало шмелиный гул. Она пошла к сараю. Открыла дверь. И тут же ее обдала струя прохладного воздуха от мощного вентилятора.
Тютя не заметил вошедшую. Он склонился над какой-то сложной схемой и окружающий мир для него сейчас не существовал.
— Здравствуй, — сказала Лариса громко, но Тютя не услышал. Тогда Лариса подошла к нему вплотную и громко повторила: — Здравствуй!
Тютя вздрогнул и недоумевающе уставился на гостью.
— Не узнаешь, что ли?
— Чего? — переспросил Тютя и поправил очки.
— Спрашиваю, не узнаешь, что ли?
— Чего тебе?
— В гости пришла. Гляди, как у тебя тут прохладно.
— Нравится?
— Еще бы! Вышел бы на улицу. Мозги от жары плавятся.
— Знаю.
— Вить, я к тебе по делу.
— Опять машину чинить?
— Нет... Дело важное и секретное. Надо сделать машину, которая смогла бы качать воду из Петляйки на огороды. Сможешь?
Тютя задумался, притих. Он что-то подсчитывал, взвешивал, вычислял. Наконец заговорил:
— В мастерских валяется списанный движок. Если бы его нам отдали, тогда бы мы сделали целую насосную станцию.
— А что еще нужно?
— Что еще нужно? Трубы и шланги.
— Скажи, а что дешевле: возить воду или качать твоей насосной станцией?
Тютя закрыл глаза и, шевеля губами, стал в уме делать расчеты.
— Качать дешевле.
— Тогда все в порядке.
— Что в порядке?
— Уговорю отца.
— Ааа...
— Только, Вить, учти, что все это надо держать в тайне. Ясно?
— Не совсем...
— Ладно, потом объясню. Составь список, что тебе нужно для насосной станции, и принеси его сегодня вечером к нам...
Тиша и Топорок, ничего не подозревая, геройски боролись с засухой. А в это время в своем сарае Тютя уже заканчивал сборку насосной станции собственного изобретения. Когда сборка была закончена, станцию испытали в ремонтных мастерских. Насосная станция работала отлично.
На испытаниях присутствовали местные механики, члены правления колхоза. Все они дивились изобретательскому таланту Виктора Кирюшина, поздравляли его, говорили, что такой удобной, мощной и в то же время экономичной насосной станции они и не видели.
— Молодец, — похвалил Тютю, Петр Петрович. —Назовем твой насосный агрегат «ТЮК-1». Еще парочку таких сделать сможешь?
— Смогу, если надо.
— Надо, очень надо. И теперь ты получишь новые движки. Спасать овощи надо. Три-четыре таких станции и мы победим небо. Молодец, Тютя.
— Витя, — поправила отца Лариса, которая до сих пор стояла в сторонке и помалкивала.
СЛАВА — ГОСТЬЯ НЕПОСТОЯННАЯ
Топорок дописал письмо родителям и ожидал приезда Тиши Еремина. На улицу Федя не выходил: ему нравилось, как Тиша вызывает его нетерпеливыми гудками.
Уже давно бы надо приехать Еремину. Топорок весь превратился в слух, но за окном было тихо. Только несушка, привязанная за лапу, квохала во дворе.
Федя не выдержал и вышел на крыльцо. И тут же под горкой, на берегу Петляйки, раздался треск мотора. Сначала показалось Топорку, что Тиша едет... Нет. Совсем незнакомый звук мотора. Услыхав справа от себя голоса, Топорок оглянулся и удивился многолюдью на улице: «Праздник у них опять какой-нибудь, что ли?»
Топорок неторопливо пошел к толпе. Первой, кого он узнал, была Лариса. Она давала какие-то распоряжения взрослым.
Словно специально, мощная струя воды из шланга ударила именно в тот момент, когда он подошел к собравшимся на улице колхозникам. Шланг держала Лариса. В толпе одобрительно загудели, когда увидали искусственный дождь. Ребятишки с визгом и смехом бросались в поток водяных брызг.
Все понял Топорок, когда заметил выходящих из-под горы Тютю и Петра Петровича...
Мотор под горкой неожиданно смолк. Селиванов поднял руку и попросил тишины... До Феди слова председателя доходили не сразу, а словно бы через переводчика, который плохо знал язык, с которого переводил.
Петр Петрович кончил свою речь и пожал крепко руку изобретателю Тюте. Все дружно зааплодировали. Тютю кто-то из ребят выпихнул из толпы. Он растерялся, а ему подавали советы:
— Скажи что-нибудь, Тютя!
— Давай речь, изобретатель!
— Говори!
И Тютя сказал. И эти слова Федя понял сразу, без «переводчика».
— А чего говорить-то? — смущенно произнес Тютя, и превратился в вопросительный знак. Но вдруг его осенило. Он открыто улыбнулся и громко сказал: — Спасибо надо говорить не мне одному. Спасибо надо сказать Ларисе Селивановой. Это она надоумила меня сделать насосную станцию... Я в книжке одной прочел, как знаменитый изобретатель говорил, что самое главное в изобретении — это идея.
Опять все захлопали в ладоши и одобрительно загудели. Кто-то крикнул:
— Качать изобретателей!
Ларису и Виктора подхватили на руки и стали подбрасывать.
Этого уже Топорок не мог перенести. Он резко повернулся и зашагал к своему дому. Только несколько человек обратили внимание на Топорка. В их числе была и Лариса, которую все еще подбрасывали «к небу».
Федя уже был далеко от толпы, когда его догнал Лопушок и окликнул:
— Топорок! Ты куда?
Федя не оглянулся.
— Топорок! Постой!
Феде пришлось замедлить шаг.
— Чего уходишь-то? — удивился Лопушок.
— Голова болит. — Топорок наморщил лоб. —Напекло на солнце.
— Голова болит? Жалко, — искренне посетовал Ваня, но тут же забылся и стал горячо хвалить изобретение Тюти: — Знаешь, какой мировой насосик сделал Витек Кирюшин? Во!.. Теперь ты отдыхать можешь. Не надо теперь возить воду-то. Верно?
— Ага, — согласился Топорок. — Я пойду, Лопушок: голова раскалывается от боли.
Топорок снова зашагал к дому.
— Федь! — крикнул вдогонку Лопушок, но Топорков не откликнулся.
...Он забрался на чердак. Там было душно, пахло ветхими тряпками, старой бумагой, пылью, черепицей и сеном.
Федя лег на подстилку, которой было покрыто сено, и стал думать о том, какой он, Федя Топорков, несчастный человек. Ему так захотелось вдруг домой, в город. Привиделись родители. Маму Федя представил в легком нарядном сарафане, который ему всегда очень нравился, а папу — почему-то в парадном костюме. И папа, и мама улыбались. От этого на душе у Феди стало еще тяжелее. Мысли перенесли Топорка во двор, где собрались все ребята во главе с Ленькой Рыжим. Федя даже услышал голоса приятелей, топот ног, гулкие удары по мячу... А на берегу Петляйки снова затрещал движок. Его тарахтящий звук раздражал Федю.
К дому приближались голоса. Выглянув в слуховое окошко, Топорок увидел, что все, кто присутствовал при торжественном пуске насосной станции, идут к дому Храмовых. Федя решил, что его непременно увидят, и притаился подле окна, даже дыхание стал сдерживать. Он увидел стариков Храмовых, Лопушка, Петра Петровича, Тишу Еремина, который только что присоединился к ликующим, и Ларису...
Палисадник, усадьбу Храмовых тоже щедро полили водой из Петляйки. Было полное впечатление, что прошел дождь: пахло свежестью, мокрыми листьями, огуречной травою...
СОН В РУКУ
Стали таять голоса на улице. Перестал трещать движок на берегу Петляйки... С тишиною Топорок почувствовал себя еще более одиноким, никому не нужным, забытым... Федя лег ничком на подстилку, которой было прикрыто пахучее слежавшееся сено. К нему впервые в жизни пришло какое-то равнодушное оцепенение. И ни о ком не думал, и ничего ему не хотелось. Даже жалость к себе была какая-то тупая и словно бы чужая, посторонняя. Время взяло и остановилось. Сколько так лежал Топорок, он не знал да и знать не хотел...
Вдруг чердак исчез, и Топорок оказался на войне. Он одни шел в атаку. Вместо боевого оружия в руках у него была удочка. Противник встретил атакующего пулеметным огнем. Тысячи пулеметов задохнулись очередями. Но вместо пуль из стволов вылетали фонтаны воды. И звучали пулеметы точно так же, как движки от насосных станций.
Топорок бесстрашно бросился в атаку. Он бежал и размахивал удочкой, как размахивают богатыри волшебными мечами. Когда он добежал до огневых точек противника, пулеметы смолкли, а пулеметчики (они почему-то оказались лягушками) панически попрыгали в Петляйку и издевательски заквакали.
Только Федя закончил сражение с лягушками, как тут же увидел себя на космодроме. Тиша Еремин вез его (почему-то в цистерне) к стартовой площадке. Топорок был в скафандре. Рядом с Топорком сидели Ленька Рыжий, Плотвичка и Лопушок.
Когда Тиша подрулил к ракете, Федя увидел, что это вовсе не ракета, а огромный футбольный мяч. Федя заволновался, но очень важный незнакомый генерал сказал, чтобы он не беспокоился, что это новая секретная ракета, которая может приземляться, прилуняться, припланетиваться в любой части Вселенной и возвращаться снова на Землю.
— А где у ракеты двигатели?
Генерал рассмеялся:
— Что с вами, звездонавт? — удивился он. — Разве вы не знаете, что двигатели — это игрушка древности? Вы, видимо, сильно волнуетесь?
— Нет, — спохватился Топорок. — Просто мне хотелось узнать...
— Вы готовы?
— Да, готов.
— Прекрасно... Как долго собираетесь погостить на Марсе?
— До конца летних каникул. Так захотел папа. Я забил гол в окно Лютика.
— Припоминаю, припоминаю эту историю. Об этом писали в газетах. У вас ко мне никаких просьб нет?
— Можно со мною полетят мои друзья?
— Пожалуйста, — охотно согласился генерал. —Можете лететь, если желаете, — обратился генерал к Леньке, Плотвичке и Лопушку.
Тиша подвез друзей к самой лестнице, ведущей к межпланетному кораблю в форме футбольного мяча.
Кабина корабля была просторной, светлой. Федя поразился обилию рычагов и кнопок. Он растерянно посмотрел на ребят, а они — на него.
— Что же нам делать? — спросил Топорок.
— Что-нибудь придумаем, — ответил Ленька и сосредоточенно насупился.
В это время раздался спокойный и требовательный голос генерала. И всем показалось, что генерал находится здесь же в кабине.
— В чем, дело, друзья? Что вас волнует?
Члены экипажа переглянулись.
— Я, я... еще никогда не управлял таким кораблем, — виновато сознался Федя.
— Пустяки, — мягко заметил генерал. — Вам ничего не надо делать. Корабль управляется мыслями. Достаточно сосредоточиться и подумать: «Взлетаем», — как корабль тут же покинет Землю. Вы находитесь сейчас в кабине управления кораблем. И запомните, что в ней надо думать только об управлении, никаких посторонних мыслей. Дайте мысленно задание кораблю взлететь и совершить посадку на Марсе.
Остальное время вы будете проводить в каюте иллюзий. Для этого вам надо спуститься вниз по белой лестнице. Лететь вам долго, но вы не будете чувствовать полета. В каюте иллюзий рам все время будет казаться, что вы находитесь и живете на родной земле. И все, о чем вы будете мысленно мечтать, исполнится. Ну, к примеру, вам захочется искупаться. Достаточно вспомнить какое-нибудь знакомое земное место, где вы когда-то купались, и вы окажетесь на том самом месте. Или захотелось вам повидаться с каким-то человеком. Мысленно представьте его, и он станет вашим собеседником.
— Здорово! — восторженно произнес Лопушок. — Это значит, я всегда могу с мамкой, братом и сестренкой покалякать.
— Разумеется! — подтвердил генерал. — Вы всегда можете побеседовать, — генерал подчеркнуто произнес это слово, — побеседовать с вашими близкими.
— И в футбол в этой каюте играют? — недоверчиво спросил Ленька Рыжий.
— Ну, конечно. Все, все, что вам угодно: можете ездить на атомобилях, охотиться, играть, смотреть, строить, — словом, все, что вы могли бы делать и видеть на Земле, вы сможете делать, видеть, ощущать и в каюте иллюзий... Но никаких мрачных мыслей!.. Счастливого вам полета, как говорили в старину, во времена реактивных двигателей.
Топорок, действительно, совсем не ощущал полета. Он мог бы, конечно, устроить себе любую жизнь в каюте иллюзий, но почему-то желания его были скромны и будничны. И вместо необыкновенных приключений и путешествий он все время полета пребывал в Ореховке и ее окрестностях. Топорок рыбачил с Лопушком, возил воду с Тишей, полол с Екатериной Степановной огород, строгал доски. Несколько раз, правда, он совершил небольшие путешествия и то не на атомобиле, а на обыкновенном колхозном грузовике.
Федя общался с людьми, которых оставил на Земле. Встречался с родителями, приятелями, со стариками Храмовыми и многими другими близкими и знакомыми. Видел он и Ларису. Но она все убегала от него и не хотела с ним разговаривать.
Так он и не заметил, как оказался на Марсе. Планета эта очень разочаровала Топоркова. Он ожидал увидать на ней что-нибудь необыкновенное, а главное, ему хотелось поглядеть на живых марсиан, о которых ему столько приходилось читать последнее время в книжках. Оказывается, марсиане совсем не такие, какими их представляют писатели-фантасты. Все марсиане, как две капли воды, похожи на ореховского изобретателя-самоучку Тютю: длинноногие, сутулые, очкастые и в козырькастых кепках. И все они ходят «иноходцами» и будто бы чего-то ищут на дорогах.
Нет, Марс принес Топорку полное разочарование. Постоял Федя возле своего футбола-корабля и пошел бродить по неинтересной планете. Никаких тебе достопримечательностей. Кругом голые поля, пыльные дороги, жарко, душно. Попался на пути домик с вывеской. Подошел Топорок прочитать вывеску, а там совсем не по-марсиански написано: «Сельмаг»...
А потом на пути появились горы. И все шел Федя по горным тропкам, шел, а вместе с ним Лопушок, Ленька, Плотвичка и целый полк тютей-марсиан. Идут эти марсиане и подбрасывают Ларису. Обиделся на них Торорок и спрятался за скалою. И тут жарко, душно. Хочется пить, а воды нигде нет. Снял Федя скафандр. Все равно душно и жарко: «Сейчас бы молока из погреба!» — подумал Федя и вдруг услышал голоса:
— Федя-я-я!
— Топорок!
— Федя!
«Кто же это зовет меня?» — Федя прислушался и узнал голос Лопушка и... Ларисы.
«Ни за что не отзовусь! — упрямо решил Топорок. — Пусть бродят по Марсу, ищут меня...»
Но голоса приближались, и Федя стал искать, куда бы ему спрятаться. Он заметил пещеру и вошел в нее. В пещере, как ни странно, тоже стояла духота, пахло сухой глиной, черепицей и сеном.
Топорок притаился... Шаги! Слышны шаги! Неужели, его найдут? Нет, его не должны найти.
И вдруг он услышал совсем рядом голос Ларисы:
— Вот он! — сообщила она кому-то радостно.
«Сейчас сюда прибегут тюти-марсиане и начнут надо мной расправу!»
Федя собрался встать.
«Надо вернуться на корабль и улететь с Марса, —подумал лихорадочно Федя. — Но теперь мне не удрать от очкастых марсиан... Что же делать?!»
— Вот он! — снова радостно повторила Лариса и над самым его ухом уже произнесла: — Топорок, вставай!
Топорок хотел бежать в глубь пещеры.
— Федя, вставай, — ласково попросила Лариса.
Топорок открыл глаза. Над ним склонилась Лариса. Она трясла его за плечо... Никакой пещеры. Вместо нее — душный чердак, подстилка на сене. Возле Ларисы стоят Семен Васильевич, Екатерина Степановна, Тиша и Лопушок. Екатерина Степановна почему-то вытирает глаза кончиком платка, а сама улыбается.
Лопушок неожиданно зашелся смехом.
— Ты чего, Ваня? — укоризненно спросила его Лариса.
— Ох! Не могу... Надо же!..
— Ну чего тебя разбирает нелегкая? — рассердилась и Екатерина Степановна.
Лопушок сразу осекся.
— Ты, теть Кать, не серчай. Я без злобы... Вспомнил, как Федяй во сне кричал: «Марсиане! Марсиане! Тюти-марсиане!»...
И Лопушок опять зашелся смехом.
— Будет тебе, хохоталь неуемный, — опять сердито заругалась Храмова. И, глядя на Федю влюбленными глазами, ласково, сквозь слезы, заговорила: — Ну, внучек, и напугал же ты нас. С ног сбились — тебя все искали. И где мы только не были! Спасибо ты во сне голос подал. Ах ты, родной мой... — Ах ты, мой ненаглядный.
— Хватит тебе сырость разводить, — посоветовал жене Сергей Васильевич.
Топорку стало неловко, он смутился и зачем-то спросил:
— Уже позавтракали?
— Позавтракали? — Лопушок удивленно хихикнул. — Ну и шутник ты, Федь! Скоро обедать пора.
И тут только Топорок обратил внимание на яркий клубящийся сноп солнечных лучей, которые словно прожгли чердачное слуховое оконце.
ПИСЬМО
Жить на Земле удобнее, чем на Марсе. Это Топорок испытал сразу же, как только спустился с чердака. Екатерина Степановна тут же напоила своего дорогого внука холодным квасом и накормила яичницей, копченым окороком. И еще она угостила Федю и его друзей первыми свежими огурчиками, которых на Марсе не достанешь ни за какие деньги.
После завтрака Топорок, Лариса и Лопушок отправились на Сожу купаться. Все, конечно, было прекрасным на родной земле: и полевая тропинка, и бабочки, и щелкающие кузнечики, и застывший в небе ястреб, и залитые солнцем лесные полянки, запах земляники, и ласковая прохлада воды, и игра стрекоз, и глухие тревожные всплески на бродах, где охотились голавли и жерехи, — все, все.
Но больше всего, пожалуй, Топорку земля нравилась потому, что по ней с ним рядом шагала Лариса. И не было у нее в глазах злых смешинок. Сейчас с ним рядом шла совсем другая Лариса.
Лопушок, как всегда, стал ловить рыбу под корягами. Топорок и Лариса сидели в тени и разговаривали. Очень было приятно сидеть в тени и разговаривать с Ларисой, разговаривать о чем угодно, но особенно Топорку стало приятно, когда Лариса неожиданно сказала:
— Ты больше не пропадай.
— Ладно, — согласился Топорок. — А ты тоже думала, что я утонул?
— Нет. Мне почему-то казалось, что ты уехал домой. В город.
Лариса хотела еще сказать Топорку, как она испугалась, когда узнала, что он исчез, но ей помешал Лопушок.
— Ребя! — кричал Ваня. — Глядите, какую чушку поймал!
Ваня держал над головой большую рыбину.
Когда Топорок вернулся с речки, Екатерина Степановна встретила его лукавой улыбкой и потребовала вдруг:
— Пляши, Феденька. Пляши!
Топорок не сразу понял, что кроется за этой странной просьбой.
— Я не умею плясать.
— Придется научиться. — Екатерина Степановна достала из кармана фартука конверт и, спрятав его за спину, стала напевать на мотив «Барыни»: — Ну-ка, Федя, попляши... Ну-ка, Федя, от души. Ну-ка, Федя, попляши...
— Не умею я, — взмолился Топорок, — честное слово, не умею.
— Как умеешь, попляши, как умеешь, попляши, — требовала Екатерина Степановна, напевая все тот же плясовой мотив.
Топорок вздохнул и стал подпрыгивать по-козлиному.
— Вот так. Еще, еще.
— Ну, дайте письмо.
— Ладно, отдам, — смилостивилась Екатерина Степановна. — Но в следующий раз будешь плясать по-настоящему.
— Как дед Казак? — спросил Федя.
— Как дед Казак, — согласилась Храмова и, засмеявшись, вручила Топорку синий конверт.
Письмо пришло от Леньки Рыжего. Ленька писал: «Топорок, здравствуй! Как видишь, я тебя не забыл. Видел твоего отца и взял у него твой адрес. Мы все мстили за тебя. Раскокали еще раз Лютику окошко, но она даже не пожаловалась. Потом Щавелек был с отцом на даче и привез двух ужей. Мы с Плотвичкой сунули незаметно этих самых пресмыкающихся спекулянтке (на этот раз Рыжий написал это слово без ошибок) в сумку. У Лютика, оказывается, слабенькие нервы. После ужей она запросила перемирия, но мы ее пугнули привидениями. Завернулись в простыни, позвонили ей в дверь, а сами стали на колени. Лютик открыла, увидала нас и как заорет! Даже я испугался. Нас после этого крепко вздули родители. Батя меня так отполосовал, что я три дня в футбол играть не мог. После Лютику много еще всякого было. Мышей ей в форточку бросали, письма от Фантомаса присылали. Она теперь с собакой ходит. Собака — шик! Взяла у знакомых. Лютик три раза совала твоему отцу деньги. Он не брал. Тогда Лютик сама на себя подала в суд. Потеха! На суде она каялась и говорила, что слупила с твоего бати лишних тридцать рублей, и просила, чтобы твоего отца обязали взять деньги обратно. Еще, говорят, никогда не было таких судов. Шелковой стала. Будет Лютик помнить твой гол всю жизнь. Теперь нас с нею помирили. Приходили мирить милиционер, из гороно, управдом и совет пенсионеров. Сначала нас хотели ругать и стыдить, но мы говорили, что голы забиваем в окна не от хорошей жизни. На стадион нас не пускают, в лес ходить далеко. Никто нами не занимается. А нам нужна спортивная площадка. В других дворах все есть, а у нас — ничего. Дали слово Лютику. Она как накинулась на управдома Горохыча и на домовый совет пенсионеров. За нас стала заступаться. Я, говорит, стала жертвой бездушного отношения к детям. Они меня многому научили, говорит, и перевоспитали. И стала требовать, чтобы нам отдали пустырь, где раньше склад был, и чтобы там оборудовали спортивный городок. Во! Лютик-то! Пообещали сделать нам спортгородок с футбольным полем. Уже приезжал бульдозер. Всех жильцов на субботник собирали. Спортгородок будет во! Больше всех на субботнике старалась Лютик.
Топорок! Через десять дней у нас будет матч на первенство двора. Приезжай. Займи у кого-нибудь на дорогу и приезжай.
А тут мы тебе дадим командировочные. Деньги у нас есть. Мы собрали сороковку, чтобы отдать твоему отцу. Он их не взял. Тогда мы решили истратить их на общее дело. Напиши скорее. Никогда еще не писал таких длиннющих писем. Да я их раньше и вообще-то никому не писал. И мне никто не писал. Отвечай. Интересно получить письмо.
Салют тебе. Ленька по кличке Рыжий».
Топорок дважды перечитал Ленькино письмо.
— От кого письмо-то? — полюбопытствовала Екатерина Степановна.
— От товарища. В нашем доме живет.
— Видать, веселое, раз ты все смеялся?
— Веселое.
— Про что ж он пишет? Страсть люблю письма слушать, — созналась Храмова. — Есть мастаки сочинять.
— Чтобы письма хорошие сочинять — талант нужен, — согласился Топорок. — В литературе такой жанр называется эпистолярным, — щегольнул знаниями Федя.
— Ишь ты! Слово чудное, — Храмова влюбленно поглядела на Топорка. — Все ты у нас, Федюшка, знаешь. А нас, темных, ничему не учили. Как, говоришь, это называется?
— Эпистолярный жанр.
— Надо ж — Екатерина Степановна не выдержала и еще раз попросила: — Внучек, почитал бы, про что тебе пишет городской товарищ.
— Пожалуйста, — согласился охотно Топорок и стал вслух читать Ленькино послание.
Екатерина Степановна покорно сидела на лавке, положив старые некрасивые руки на колени и глядела на Федю, будто на волшебника. Могло показаться, что Екатерина Степановна не понимает смысла написанного, вернее, просто-напросто упивается мелодией голоса читающего и совсем не следит за содержанием письма. Но так только казалось. Храмова почти наизусть запомнила текст письма. И когда Топорок кончил читать его, она поблагодарила:
— Спасибо, родимый. Побаловал старую. Спасибо... Складно написано. А читаешь-то так речиво: каждая буковка до ума доходит. Умник, Федюшка.
И давай расспрашивать и про Леньку, и про Лютика, и про управдома, и про разбитые окна, и про деньги, которые Лютик «подсовывала» отцу. Словом, пришлось Топорку рассказывать всю печальную историю, связанную с голом.
И только когда Екатерина Степановна узнала все подробности, она отпустила Топорка.
— Ишь, какие умники! Бабу скаредную как проучили!.. Умники, умники, — уже сама с собою рассуждала, перейдя в чулан, старая женщина. — Ну и бонзайка (так ругала всех нехороших людей Екатерина Степановна), ну и хитрованка! Это надо ж! За одно стекольце оконное да за черепки глиняные сороковку новыми слупила! Ну, бонзаиха!
ОПЯТЬ СТРАНИЧКА ИЗ ПРОШЛОГО
Ларисы целый день не было дома, Топорок несколько раз заходил к Селивановым. Всякий раз его встречал холодным равнодушием старенький, тронутый ржавчиной замок. Федя с неприязнью глядел на железного сторожа. Замок конечно же знал, что его хозяева уехали в районный центр, но сторож не должен разглашать семейных тайн. И замок молчал, притворяясь, что дремлет.
Вани Лопушка тоже весь день не было дома. Он ушел с братом смотреть участок, который Зеленовым отвели для сенокоса. Этот участок находился на берегу Сожи километрах в шести от Ореховки.
День без друзей показался Топорку долгим. Даже работа не спасала его от скуки. Он ходил на ключ за водою, подвязывал с Екатериной Степановной помидоры, дважды бегал в магазин, окучивал картошку, а день и не думал кончаться.
Чуть стало смеркаться, Топорок заторопился на другой край Заречья к Лопушку.
— Они затемно придут, — сказала Феде сестренка Лопушка Клава, — Пока участок пометят, пока шалаш построят, а может, вечерком, по холодку, и покосят.
Возвращаясь от Зеленовых, он повстречал деда Казака.
— Здравствуйте, дедушка.
— Ты это кто? — Старик приложил ко лбу ладонь. Не узнавать сразу человека — старая его привычка.
— Федя Топорков. Топорок.
— A-а! Здравствуй, здравствуй, Топорочек. Далече торопишься?
— Никуда я, дедушка, не тороплюсь.
— А куда ходил-то?
— К Ване Зеленову. А его нет дома.
— По делам он тебе нужен?
— Просто так.
— Гусенята наши тебе не попадались?
— Нет.
— Обкликались со старухой. Куда их, шельмецов, нелегкая занесла?
— Наверное, где-нибудь на Петляйке.
— Во-во! И я ей, старухе-то, говорю — на Петляйке.
— Хотите, я сбегаю поищу?
— Сбегаешь? Поищешь? Ах, умник! Уважительный ты паренек. Весь в отца-родителя. Ну, пробежись, пробежись. Ноги у тебя молодые, резвые. Глядел я тут, как за мячиком летаешь. Натуральный гонялыщик, каких по телевизору показывают. Мы со старухой болеем. Я за «Спартак», она — за «Динаму». Ребятню нашу деревенскую все обучаешь мячик гонять?
— Тренирую.
— Толк из них будет по футбольной части?
— Ничего, хорошо играют.
— Ну-ну, пускай гоняют. Мы раньше, правда, все в лапту, в чижики играли. Значит, поищешь гусяток на Петляйке?
— Конечно, поищу.
— Вот спасибо тебе.
Топорок пригнал гусят деда Казака уже затемно.
Когда Федя пришел домой, Екатерина Степановна встретила его словами:
— Лариска тебя спрашивала.
— Спрашивала? Когда?
— Сейчас только. — Екатерина Степановна внимательно поглядела на Федю и добавила: — Наказывала тебе приходить.
Селивановы ужинали, когда Федя зашел к ним.
— Садись с нами, — пригласил Топорка Петр Петрович.
— Спасибо.
— Спасибо потом скажешь. Садись. Воблу любишь?
— Люблю, — сознался Топорок.
— Лариса, выдай ему рыбину, — попросил Петр Петрович и шутливо пожаловался гостю: — Прячет. Жадная...
— Как тебе, папочка, не стыдно. Просил, чтобы выдавала тебе по штучке, а теперь говоришь жадная. — Лариса притворно надулась.
— И пошутить нельзя. Видишь, брат, как мне тяжело живется? — И уже серьезно: — Как твои дела? Говорят, расстроился, что без работы остался?
Топорок промолчал.
— Что поделать, дорогой, — как-то извинительно сказал Селиванов, — Постепенно всюду ручной труд у нас будет заменен. Этому радоваться надо, а ты огорчаешься. Не надо.
— Я сегодня письмо из города получил.
— От родителей? — спросила Лариса.
— Нет. Ребята зовут на ответственный матч.
— Какие ребята? — поинтересовался Селиванов.
— Вся наша сборная дворовая команда. Я ведь капитан команды.
— Оо! Это интересно. Почитал бы письмо-то.
Топорок прочел Ленькино послание.
Селиванов, как и Екатерина Степановна, расспрашивал Федю про Лютика, про Леньку Рыжего. Петр Петрович слушал, улыбаясь, а потом неожиданно задумался. При этом он стал тереть ладонью подбородок, словно решал вопрос, стоит ли ему бриться или не стоит. Все еще находясь в состоянии отрешенной сосредоточенности, Селиванов позвал:
— Пошли на крылечко...
Когда вышли на крыльцо, Лариса хотела зажечь свет.
— Не надо, дочка, не зажигай, — попросил Петр Петрович.
Ореховка тихо засыпала, не обращая внимания на гармонь и песни. Звуки их потухали, потому что парни и девушки уносили песню по лугу вдоль берега Петляйки к «Дудушкину кургану».
Луговую тропу, по которой ходили на курган, прозвали «страдальной». Самые старые жители Ореховки когда-то, очень давно, тоже ходили по этой тропке и очень хорошо знали, почему она названа «страдальной». Но почему, кто и когда курган этот назвал «Дудушкиным», даже старики не знали, скорее всего, он так был назван в далекие-далекие времена, когда играли здесь на свирелях и дудках...
Каждый раз, когда выходил Петр Петрович летними вечерами на крыльцо, он непременно вспоминал июньскую ночь сорок второго года. В ту ночь за его отцом, старостой Селивановым, пришли четверо солдат и переводчик. Переводчик сказал, что старосту, срочно вызывает к себе господин майор. Ничего необычного в том, на первый взгляд, не было. Случалось, что Селиванова немцы вызывали и на рассвете. Но в этот раз Петр Никитович почувствовал вдруг, что это не просто очередной вызов к майору-самодуру.
— Сейчас иду, господин переводчик, — сказал Селиванов и заискивающе добавил: — Позвольте только махорочки взять.
— Быстрее только бери.
— Один момент, — заверил Петр Никитович.
Но не за махоркой пошел Селиванов: кисет с махоркой всегда был при нем. Он поспешно вошел в горницу, где спал сын.
Петр Никитович потряс Петю за плечо:
— Сынок, проснись!
— Чего?
— Тшшш! Немцы пришли за мною. Не пугайся. Слушай внимательно.
Петя схватил отца за руку.
— Не ходи, папка, не ходи, — зашептал он.
— Нельзя не ходить... Жди меня. Если долго не вернусь, беги к деду Казаку и скажи, что меня взяли. Пусть он сообщит об этом «Хозяину». Понял? Дед спит у себя на погребице... Все понял, сынок?
— Все.
— И еще скажи деду Казаку, чтобы он отвел тебя и мать к «Хозяину» в гости.
— Эй, староста, пошевеливайся! — нетерпеливо позвал переводчик.
— Пошел я. — Петр Никитович крепко обнял сына. — Это так. На всякий случай.
Пете хотелось кричать: не ходи! не ходи! Но он не крикнул. Он стиснул зубы, чтобы не разреветься...
Отцовские шаги были какими-то редкими и гулкими, словно шел он не по полу, а по доскам, которые прикрывали глубокую яму.
Петя уже давно сидел на крыльце. Ночь была теплая, но его знобило. Надо бы уже бежать к деду Казаку, но Петя все еще надеялся, и ждал, ждал...
Вдруг запел на деревне чудом уцелевший от солдат фюрера петух. От этого крика Петя вздрогнул, очнулся и побежал к деду Казаку. Бежал он огородами, чтобы не наткнуться на патруль.
Дверь погребицы была не заперта. Дед Казак не спал.
— Кто? — спросил он из темноты.
— Дедушка! — Петя зарыдал.
— Не реви, сынок! Слышь? Не реви! Что стряслось? Беда?
— Скажи «Хозяину», что мово папку немцы взяли.
— Взяли?!. Так... Ироды!.. Еще что велел сказать отец? Не реви. Будь мужиком.
— Велел, чтобы ты отвел нас с мамкой к «Хозяину» в гости.
— Понятно.
Петя вел деда своей дорогой — позади усадеб. Но войти им в дом Селивановых не пришлось. Там уже орудовали гестаповцы.
Петя бросился было к своему дому, но дед Казак схватил его за руку и глухо сказал:
— Туда теперь нельзя, сынок. Запозднились мы.
Старик вел мальчика по тропинке в кустах по берегу Петляйки. Эта тропинка шла к «Дудушкину кургану», а от кургана — через Черные овраги в дремучий старый лес. Петя шел машинально, в каком-то полусне, и все время тихо всхлипывал.
Быстро таяла в рассвете летняя ночь. Тревожно и осторожно пели напуганные войною птицы. Молчали деревья.
Совсем рассвело, когда старик и мальчик добрались до «Хозяина». Петю отвели в землянку, почти насильно напоили чаем.
— Ложись спать, паренек, — предложил ему бородатый партизан. — Не спал ведь?
— Не хочу спать.
— А ты не спи. Просто полежи.
Мальчик покорно лег и тут же заснул. Сон его был каким-то душным, мятежным... Он проснулся, когда уже миновал полдень, проснулся от собственного крика. А ему ничего не снилось...
Что его отца и мать казнили немцы, от Пети долго скрывали. Пока не освободили Ореховку, он жил в партизанском отряде. Потом сироту решили отправить в детский дом, но соседи Селивановых Храмовы не отдали мальчика. «Воспитаем его, как родного сына», — заявила Екатерина Степановна.
Петя жил у соседей. В их доме он ел, учил уроки, во всем помогал своим приемным родителям, но никогда не оставался спать у них. Ночи он проводил в родном доме. И всякий раз перед тем, как войти в него, подолгу сидел на крыльце. И всегда в такие, минуты к нему приходило обманное чувство, что вот- вот услышит он неторопливые отцовские шаги, вот-вот скрипнет калитка, впуская хозяина в палисадник...
Лариса осторожно погладила отца по плечу.
— Пап, ты забыл про нас?
— Простите. Задумался.
— Я знаю, о чем. — Лариса обняла отца и прижалась щекою к его щеке. — Колючий какой.
— Колючий? А ведь брился с утра... Зажги, пожалуйста, свет... Спасибо.
Свет растворил темноту на крыльце. На лампочку набросились ночные бабочки, мотыльки, мошки. Петр Петрович улыбнулся Ларисе и Топорку, но глаза его по-прежнему оставались грустными.
— Так ты в город собираешься? — неожиданно спросил он Топорка.
Топорок вздохнул и покачал головою.
— А как же твоя команда будет без капитана?
— Как-нибудь обойдутся. Родители мне не разрешат поехать.
— Это все из-за Лютика?
— Да.
— И гол же ты забил!.. А товарищам, видно, очень хочется, чтобы ты играл в этом ответственном матче?
Топорок кивнул.
— А твой приятель Ленька живет в вашем же доме?
— В нашем.
— Значит, вы — соседи?
— В разных подъездах только живем. Ленька в сто двадцать первой квартире, а мы — в семьдесят седьмой.
— Понятно. — Петр Петрович о чем-то подумал и улыбнулся.
— Ты чего, пап? — спросила Лариса.
— Да так, доченька, просто одна идея интересная родилась.
— Какая?
— Потом как-нибудь скажу. А сейчас я вот о чем хотел вас попросить. Помогите Ване Лопушку заготовить сено. Трудно им. А Ванюшка — ваш друг, надо ему помочь.
— Я согласен, — сказал Федя. — Только косить-то не умею.
— Мы сушить будем, — сказала Лариса. — Сушить, копнить. Скосить — это полдела.
— Значит, договорились? Отлично. Сейчас сходим к старикам Храмовым и отпросим тебя, Федя. Главное — уговорить Екатерину Степановну. Днем я заикнулся о покосе. Она меня и слушать не стала. «Не отпущу, — говорит, — внука от себя ни на часок». Так что придется нам с нею повоевать. Решающее слово будет за тобою, капитан Топорок.
ГРОЗА
— Сынок, вставай. — Семен Васильевич тихонько потряс Топорка за плечо. — Федя, вставай.
— Аа! — встрепенулся Федя, привстал и широко открыл глаза. Топорок ничего не понимал. Сон его был таким крепким, сладким, какой бывает только в тринадцать лет, да еще на рассвете, да еще когда спишь в горнице, в открытые окна которой залетает прохладный деревенский ветер.
Сидя в кровати, Топорок таращился на Семена Васильевича, пытаясь сообразить, чего от него хотят. Только что он ехал с родителями в поезде, а теперь перед ним стоит Храмов.
— Пора вставать, сынок, — ласково напомнил Семен Васильевич. — Вот-вот Петр Петрович с Лариской зайдут. Они уже давно встали.
Топорок зевнул.
— Я сейчас, — пообещал он и стал машинально одеваться.
Едва он успел умыться и позавтракать, как к дому подъехал «газик». Храмовы вышли проводить Федю. Екатерина Степановна прощалась с ним так, как будто провожала его в дальнюю дорогу, а Семен Васильевич по-мужски пожал руку и сказал:
— Счастливо вам, косари...
Въехали в лес. Топорок следил за лесной дорогой, а сам незаметно поглядывал на Ларису. Она была в белой кофте, на голове у нее голубая косынка, которая еще ярче подчеркивала цвет волос.
До покоса Зеленовых они доехали очень быстро. Возле высокой сухой ели Петр Петрович заглушил мотор и сказал:
— Приехали.
Выходить Топорку из машины не хотелось, но пришлось. Его сразу обдало прохладной сыростью росы... Пели радостно птицы. В нескольких шагах от дороги, под крутым берегом, дымилась туманом Сожа, а на том берегу многоярусной стеною стоял лес. Туман растекался до подножья первого яруса, поэтому создавалось впечатление, что лес рос из тумана.
Топорку еще никогда не приходилось видеть такой красоты, и он никак не мог оторвать взгляда от просыпающейся реки и ее берегов. Его ошеломили свежая тишина, мягкость и чистота красок, первозданная таинственность тумана. А больше всего он был покорен далями. Дали были грустными и куда-то зовущими. Федя не мог понять, что с ним происходит: он не знал еще, что дали обладают волшебством и рождают романтиков и путешественников.
Трудно сказать, сколько простоял бы Топорков, зачарованный далями, но в это время на дорогу вышло семейство Зеленовых. Они так были рады приезду гостей, точно встреча с ними произошла на необитаемом острове, где Зеленовы прожили в одиночестве несколько лет. Больше всех радовался Ваня. Он сделался каким-то необычным, странным. Лопушок выглядел старше, казался выше. В глазах его появилась виноватая покорность, растерянность. Лопушок думал, что друзья к нему приехали на минутку и, еще не успев насладиться встречей с ними, он уже с тоской думал о расставании. Лопушок стеснялся своего вида: он был в старых, латаных-перелатаных штанах, в выцветшей рубахе, опоясанной сыромятным ремнем, на котором висела кошелка с бруском, на ногах — резиновые сапоги с отрезанными голенищами. Лучшей одежды для косаря не придумать, но ведь это не станешь объяснять Феде.
— Милости прошу к нашему шалашу, — приветливо пригласила Матрена Митрофановна и указала рукой, куда идти.
— Что ж, — согласился Петр Петрович, — пяток минут посидеть можно. — И направился первым к шалашу.
«Сейчас уедут», — подумал Лопушок и ему даже захотелось, чтобы они поскорее уехали, но Ване стало стыдно за эти мысли, когда Петр Петрович сказал его матери:
— Вот, Матрена Митрофановна, помощников вам привез. Федя с Ларисой будут жить и работать с вами до конца покоса... Знаю, бегаешь взад-вперед: с покоса — домой, из дома — на покос. Хватит. Хозяйствуй дома, а ребята тут и без тебя справятся. Еды они захватили достаточно, так что ни о чем не беспокойся. Митя останется за старшего.
Матрена Митрофановна до того растрогалась, что даже всплакнула.
— Спасибо тебе, Петр Петрович, спасибо вам, ребятки, — благодарила Зеленова, вытирая слезы фартуком.
— А это уже зря, Митрофановна. Зачем же слезы-то?
— С радости.
Лопушка будто подменили. Он стал жуликовато-веселым, приветливым. Он забыл про свою одежду. Обнял Федю и затеял с ним возню.
— Ты что? — сердито спросила мать.
— Мы любя, — беспечно ответил Ваня..
— Собирайся, Матрена Митрофановна, — поторопил Селиванов. — Ехать надо. А вы, друзья, выгружайтесь — и за работу. Отдыхать будете потом. Хоть и называют у нас покосы «курортом», да купаются здесь не в море, а в поту. Но загар будет лучше южного.
Косили Митя и Лопушок. Топорок, Лариса и сестра Лопушка Клава вытаскивали траву из кустов и сушили ее на большой поляне возле дороги.
Отдохнуть пришлось только во время обеда, который приготовила Клава. Искупавшись, ребята уселись вокруг клеенки, которая заменяла стол, и стали обедать. Глядя на Лопушка, можно было подумать, что он вовсе не работал, а отдыхал все утро. Ваня много говорил, смеялся. Лариса, Митя и Клава тоже были свежими, бодрыми. Федя устал, но вида не подавал. После купанья стало легче, но все равно хотелось растянуться на траве и долго лежать, не шевелясь и не разговаривая. Одолевали слепни, оводы, лесные мухи-жигалки. Больше всех им почему-то нравился именно Топорок. Лопушка они почти совсем не трогали, а Феде не давали даже секундной передышки.
— Сядь поближе к костру, — посоветовал Митя. — Дыма они боятся. Когда прокоптишься, отстанут. А сейчас ты для них — самая сладость.
— Меня совсем не трогают, — похвастался Лопушок.
Лучше бы Ваня не говорил таких слов. Словно подслушав Лопушка, неожиданно прилетела откуда-то оса. Она запуталась в Лопушковых косматых волосах. Он никак не думал, что это оса, поэтому стал ее «вытряхивать» из волос. Оса чекнула Лопушка в голову. Ваня от неожиданности вскрикнул, вскочил на ноги и завертелся волчком.
— Будешь теперь знать, похвальбушка, — назидательно сказал Митя.
Лопушок сел на свое место и начал ворчать, потирая укушенное место.
— Больно? — спросил Топорок.
— Как тигра тяпнула.
К концу обеда лицо у Лопушка опухло, глаза заплыли. Без смеха на Ваню глядеть было невозможно.
— Ладно смеяться-то! — беззлобно возмущался Лопушок. — Укушенных, что ли, никогда не видали?
— Хочешь, дам зеркало? — спросила Лариса.
— Давай.
Митя стал отсоветовать брату глядеться:
— Красавчик! Не глядись — ослепнешь. — Митя зашелся смехом.
— Хы-хы-хы. — Ваня скорчил злую рожицу, отошел в сторонку и лег под кустиком в тени.
— Зачем ты его дразнишь? — упрекнула Клава. — Ведь больно ему.
— Пусть не хвастается. Очень ты у нас жалостливая. Завари-ка лучше чайку.
После чая решили отдохнуть полчасика. Топорок хотел спрятаться от слепней и мух в шалаше, но Клава сказала ему:
— Ложись, где ветерок продувает, а в шалаше заедят.
Усталость и сытость сразу сморили Топорка.
Его разбудила Лариса. Вставать не хотелось. Дышалось трудно. Голова от сна на жаре была тяжелая, словно ее залили теплым свинцом.
— Сбегай, окупнись, — посоветовала Лариса. — Только побыстрей. Копнить надо. Туча идет.
...Работали молча, быстро. А туча подходила все ближе, ближе. Вот она проглотила солнце, вокруг потемнело, и наступила зловещая тишина.
Они завершали последнюю копенку, когда вдруг из-под тучи вырвался бешеный ветер. Сверкнула молния, опалив небо и землю ослепительным серебром. И тут же раздался грохот. Ребята еле успели добежать до шалаша.
— Сейчас ливанет, — сказал Митя.
Это был настоящий ливень. Таких Топорку никогда не приходилось видеть. Дождь был неистовым. Бушующая вода понеслась через дорогу в речку. И она, казалось, все смоет: и стога, и кусты, и шалаш. Но шалаш, как ни странно, стоял и даже не протекал.
Усталые косари быстро заснули под шум дождя. Одна Лариса не спала. Она боялась грозы. Прижавшись к Клаве, Лариса лежала с широко открытыми глазами и с ужасом ждала нового всполоха молнии.
...Четыре года было Ларисе, когда ее мать, Наталью Селиванову, убило молнией.
Они шли из Висляева в Ореховку. В лесу их застала гроза. Наталья, растерявшись, решила укрыться от грозы и дождя под старой елью, росшей возле самой дороги. Ель была высокой и могучей. На минутку бы позже подбежать Наталье Мироновне к этой вековой ели, но Селиванова очень, очень торопилась. Она прислонилась к шершавому смолистому стволу в тот самый момент, когда вспыхнуло и будто бы разломилось с сухим треском небо над самым деревом.
Наталья даже не успела вскрикнуть, а только вздрогнула и еще крепче прижала к груди дочь. Упала на землю она как-то осторожно, упала на спину, не выпуская из рук Ларису.
Девочка стала тормошить мать, но она лежала теперь ко всему безразличная, застывшая. Лариса закричала...
Поздно вечером колхозный счетовод Бусоев ехал верхом по дороге, возле которой росла могучая одинокая ель. Завидев ель, конь под Бусоевым вдруг заволновался, заржал тревожно и заплясал на месте.
— Ты чего, Гранит? — удивился Бусоев. — Ну, иди, иди. Нечего дурака валять.
Но конь упрямо и тревожно топтался на месте. Счетовод, думая, что конь просто испугался дерева, пригрозил:
— Плетки захотел?
Но и это не подействовало на умного и чуткого коня. Он остановился, стал рыть землю копытом. Бусоев тоже затревожился, огляделся вокруг, прислушался. И тут ему показалось, что где-то совсем рядом кто-то стонет, всхлипывая.
Бусоев был не из робкого десятка. Чего только ни пришлось испытать ему на войне, где он был десантником, но сейчас Николай Петрович растерялся. Но это только в первую минуту, от неожиданности. А потом он мысленно обругал себя за трусость. «Стареть, браток, стал. Возьми-ка себя в руки... Слезай с лошади и ступай погляди, что там такое происходит», — приказал сам себе Бусоев. Он спешился и решительно зашагал к ели... Чиркнул спичкой. Робкий свет отнял у темноты небольшое пространство, где лежали Наталья Селиванова и Лариса.
Бусоев сначала ничего не понял. Ему показалось, что кто-то просто спит под елью. Он зажег сразу несколько спичек и увидел обезумевшие от страха детские глаза. Он с трудом узнал в девочке дочку председателя колхоза. Она глядела на Бусоева и еще больше жалась к женщине, которая лежала совсем неподвижно. Узнал он и Наталью.
А когда заметил, что ствол ели расщеплен сверху вниз, то догадался о происшедшем.
— Лариса, иди ко мне, — позвал Бусоев девочку, но она будто и не слышала, как ее звали. — Идем, я покатаю тебя на лошадке.
Лариса не понимала его слов.
...Несколько месяцев после того дня Лариса не произнесла ни единого слова, а когда заговорила, то стала сильно заикаться. Со временем это почти бесследно прошло.
Долгое полузабытье, в которое впала девочка после гибели матери, навсегда стерло в ее сознании тот трагический день, но с тех пор Лариса стала панически бояться грозы. Каждый раз гроза рождала у нее тревогу и как бы пыталась воскресить в ее памяти лесную дорогу, дождь, мокрые теплые руки матери и тот момент, когда вспыхнуло и будто бы разломилось с сухим треском небо над старой елью...
Гроза ушла к Ореховке. Туча сразу ослабла. И уже не было ливня, а просто шел спорый летний дождь. В шалаш залетела легкая, чистая прохлада, какая бывает только после сильной летней грозы.
Лариса успокоилась, но ей почему-то стало очень одиноко среди спящих друзей. Она понимала, что они не знают о ее страхе, который приходит к ней всякий раз в грозу, но все равно раздраженно подумала: «Спят, как сурки». Она повернула голову и встретилась взглядом с Федей. Он лежал неподвижно и смотрел на нее.
— Не спишь? — удивленно спросила Лариса. Спросила очень тихо, почти неслышно. Слова прозвучали, как ласковый и удивленный шелест ветки.
— Не сплю. Мне показалось, что тебе страшно. Ты боишься грозы?
— Да, — просто ответила она. — Я всегда боюсь грозы.
Растаяли в душе недавние чувства обиды и одиночества. А взамен грусти к ней пришло радостное спокойствие. Ей не страшна была теперь никакая гроза: рядом с нею был верный друг.
Лариса стала слушать дождь...
Заворочался Лопушок. Открыл глаза, непонимающе поглядел по сторонам, лег на спину, почмокал губами и опять заснул, разметавшись. Локоть Лопушок преспокойно положил брату на лицо.
Митя заерзал, пытаясь освободиться от непонятной тяжести. Но Лопушок и не собирался убирать локтя. Митя проснулся и сбросил руку брата.
— Развалился, барин, — заворчал Митя. — Поспать никогда не даст спокойно. Хоть веревками его связывай. Подвинься, Лопух конопатый.
Лопушок безмятежно посапывал. Митя сунул ему локтем в бок.
— Чего ты? — спохватился Лопушок.
— Чего, чего! Подвинься и локтищем своим по лицу не гуляй.
— А ты не дерись!
— Я не дерусь, а привожу тебя в чувство: слов-то не понимаешь.
— Хватит вам ворочаться, домовые, — заругалась на братьев Клава. Митя и Лопушок, подчиняясь ей, затихли.
Митя зевнул, потянулся и поглядел на часы.
— Время-то уж сколько! Надо ж! Все льет и льет.
— А что ж теперь делать? — спросил Топорок.
— Ничего, — спокойно ответил Митя, — Отсыпаться будем. В дождик самый сон.
— Вдруг он надолго? ?
— Не должен. Лето ведь, не осень.
— И откуда он только взялся?
Митя усмехнулся.
— А это уж обязательно так бывает. Стоит только начаться покосу, как дождичек тут как тут...
Перед вечером дождь прекратился, но тучи все равно гуляли низко над землею. Лопушок наловил рыбы. Разожгли костер, сварили ужин. После еды пили чай с сухарями, а потом сидели возле костра.
Митя, поглядев на тучи, тяжесть которых ощущалась даже в сумерках, сказал, что опять пойдет дождь.
— А грозы не будет? — поинтересовалась Лариса.
— Кто ее знает. Может, и будет: душно... Лих с нею, с грозою-то. Если гроза будет — еще лучше.
— Почему? — удивился Топорок.
— Скорее дождь кончится.
— А если дождь еще на день зарядит, что тогда делать будем? — озаботился Лопушок. — Косить или в шалаше загорать?
— Сам об этом думаю. Давай вместе мерекать.
И братья стали «мерекать». Рассуждали они вслух, как заправские мужики-косари. Лопушок стал опять таким, каким его впервые увидел Топорок: серьезным, деловым, рассудительным. Федя невольно вспомнил, как они познакомились, как Ванюша учил его строгать доску. Это время показалось далеким-далеким. Топорок прикинул, сколько времени они знакомы. Совсем немного. А у него такое впечатление, что они с Лопушком друзья всю жизнь... Топорок задумался, глядя на огонь, и не слышал, о чем говорили дальше братья Зеленовы. Топорок думал о том, что вот скоро кончатся каникулы и ему придется возвращаться в город, возвращаться одному, а Лопушок и Лариса останутся в Ореховке. Федя даже вспомнил, как герой одной книжки мечтал о том, чтобы все близкие, дорогие друг другу люди жили вместе. Но так ведь не бывает. Жизнь разбрасывает людей по разным городам и селам, по разным уголкам земли. А людям хочется быть вместе. Теперь-то Федя на каникулы всегда будет приезжать в Ореховку, а может, и Лариса с Лопушком приедут к нему в город. Редко они будут встречаться!.. Хорошо, что люди придумали письма.
В прибрежных кустах раздался хлопок, напоминающий выстрел над водой. Выстрел повторился... Залаяла собака.
Эти выстрелы и лай почему-то очень обрадовали Лопушка. Только что он был тихий, задумчивый, а тут вдруг оживился и стал выжидающе смотреть в сторону, откуда раздавались выстрелы.
— Кто это стреляет? — спросил Топорок.
— Да не стрельба это, — пояснила Лариса. — Пастух кнутом хлопает.
— Небось, висляевский пастух стадо домой гонит, — сказал Митя.
— Точно, — подтвердил Лопушок. — Дядя Вася со Злодеем гонят.
— Со Злодеем? — удивился Топорок.
— Собаку его так зовут. Собачка — во! — Ваня даже глаза закрыл от восхищения.
— Никогда не слыхал, чтобы собак называли так.
— Да он с холминкой, — заметил Митя с усмешкой и посмотрел на Лопушка.
— Сам ты с холминкой! — ощетинился весь Ваня. — Дядя Вася умней всякого умного. Знаешь, сколько он всяких книг прочитал? Он уже сто раз мог стать профессором.
— А чего ж не становится? — подзадорил Митя.
— Не хочет.
— Не хочет? Скажет тоже! Чтобы профессором стать, надо пять институтов кончить. А твой дядя Вася только академию кончил и пошел в пастухи.
— И пошел, и пошел! Он природу любит. А захотел бы и профессором без твоих институтов стал бы... Циолковский институтов не кончал, а повыше всяких профессоров будет.
— То Циолковский! Он, как говорится, — гениальный самородок.
— И дядя Вася — самородок... Знаешь, какие он рассказики пишет. Во!
— Самородок! Скажет тоже. Дядя Вася — пастух деревенский.
Лучше бы этого Митя не говорил. Всегда добрые Ванины глаза вдруг вспыхнули злостью, он сжал кулаки и пошел на брата. Митя отскочил в сторонку и засмеялся. Он был явно доволен, что разозлил брата. А чтобы еще сильнее распалить доверчивого Лопушка, он торопливо сказал:
— Нормальный человек не назовет собаку Злодеем.
— Ах, так! — Ваня бросился на Митю.
— Спасите! — притворно вскрикнул Митя и сгреб Лопушка в охапку.
— Пусти! Пусти! — требовал Лопушок. — Пусти!.. Я тебе сейчас покажу...
— Ой, боюсь! Ой, боюсь! — Митя изобразил на лице испуг, а сам крепко держал Ваню.
Клава давно уже стояла, насупившись, и покусывала губу. Она не любила, когда Митя разыгрывает Лопушка. А сейчас ей особенно было не по себе, потому что эту сцену наблюдали Лариса и Федя. Оба они растерялись и не знали, как вести себя.
Клава, наконец, не выдержала, подбежала к братьям.
— Хватит! — тихо и сердито сказала девочка. — Все расскажу матери, бессовестные... Будет тебе, Митяй, дома... Люди на вас, как на дураков, смотрят.
Странное дело! Эти слова подействовали, как вылитый на головы ушат ледяной воды. Братья тут же перестали бороться. Оба засовестились. Лопушок с виноватой улыбкой поглядел на Топорка с Ларисой, а Митя стал оправдываться перед Клавой.
— Пошутить нельзя. Че, мы деремся, что ли?.. Ну, ладно дуться-то. Дурачились же.
Митя хотел обнять сестренку, но она, передернув плечами, увернулась.
...На дорогу выбежала собака. Заметив ребят, она остановилась и насторожилась, приподняв голову.
— Злодей! — радостно позвал Лопушок. Он сразу же забыл про ссору с Митей, исчезла неловкость перед друзьями. Ваня весь просиял. — Злодеюшка! Дружочек мой!
Пес завилял хвостом, но остался стоять на месте. Он то смотрел на Лопушка, то оглядывался на подлесок, поджидая хозяина.
Наконец на дорогу вышел и пастух. На пастухе был надет блестящий черный дождевик. Топорка поразила его походка: усталая, неторопливая и гордая. Он остановился возле собаки и тоже стал смотреть в сторону зеленовского стана. На секунду мужчина и собака выжидающе застыли. И даже на расстоянии угадывалась их любовь, готовность постоять друг за друга.
— Василь Тихыныч! — радостно закричал Лопушок и побежал к пастуху.
Злодей напряг мышцы, пружинисто присел.
— Да это никак Лопушок? — вслух сказал Василий Тихонович. —Точно он. Злодейка, гляди, кто к нам бежит. Узнал? Лопушок это.
Злодей давно узнал мальчика, которого любил так же, как и хозяин. Злодей ждал хозяйского решения.
— Что же ты стоишь, хитрушка? Встречай дружка.
Злодей сорвался с места и стрелой понесся к Ване. Казалось, они сейчас столкнутся друг с другом, но какая-то невидимая сила остановила их. И вот уже Лопушок обнял собаку. Злодей несколько раз лизнул шею, плечи, подбородок Вани.
А потом они вместе побежали к пастуху. И с ним Лопушок обнялся. Злодей же в это время ревниво бросался то к одному, то к другому. Вдруг он заметил коров, которые вышли из перелеска и направились через дорогу к зеленовскому участку. Злодей требовательно залаял и побежал к коровам. Коровы панически кинулись за дорогу, к береговым кустам.
— Чего он на коров напустился? — спросил Топорок.
— За дорогу им сейчас заходить нельзя. После покосов здесь прогон будет.
— Да? А откуда же собака-то это знает?
— Xa! — довольно усмехнулся Митя. — Злодей все знает. Он только говорить не умеет.
— А ты правду сказал, что его хозяин... это самое?
— С холминкой-то?
— Да.
— Это я нарочно, чтоб подразнить Ванюшку. Василь Тихонович — мужик всем мужикам.
В разговор вступила Лариса. Перебив Митю, она сказала:
— Чудаком Василия Тихоновича считают потому, что он кончил Тимирязевскую академию, а остался колхозным пастухом. Должность-то у него в колхозе главного ветеринара, но каждое лето он пасет скот. И не просто пасет, а по своему, курановскому методу.
— Курановскому? — переспросил Топорок.
— Да. Куранов — это его фамилия. И ни в одном другом стаде коровы не дают по стольку молока.
К костру подошли Василий Тихонович, Лопушок и Злодей. Куранов поздоровался со всеми за руку. Подав руку Топорку, он сказал:
— Куранов Василий Тихонович.
— Федя Топорков, — отрекомендовался и Федя.
— Дачник? — спросил Куранов.
— Да это же Ильи Тимофеевича сын! — почему-то очень горячо запротестовал Лопушок.
— Вот оно что! — Тяжелый и острый взгляд Василия Тихоновича потеплел и стал ребячливо-доверчивым. — Значит, ты и есть тот самый Топорок, про которого добрая молва по колхозу ходит?
— Он самый, — подтвердил Ваня с гордостью.
— Рад познакомиться, рад познакомиться, — несколько раз повторил Куранов, а потом вдруг спохватился, подозвал к себе собаку и сказал: — Злодеюшка, познакомься с хорошим человеком. Это Топорок. Иди-ка, дай лапу нашему новому другу.
Злодей подошел к Феде, сел и, наклоня покорно голову, подал лапу.
Топорок растерялся и представился:
— Федор Топорков.
Все подумали, что Топорок сделал это ради шутки, и засмеялись.
— Василий Тихыныч, ушицы поешь? — спросил Митя. Он вдруг стал солидным и даже важным. — Ванятка наловил рыбки свежей.
— Спасибо, Митя.
— Поешь, дядя Вась. — Лопушок так посмотрел на Куранова, что тому ничего не оставалось делать, как согласиться.
— Ладно, наливайте, а Злодейка пока постережет.
Злодей, услышав свое имя, поглядел на хозяина.
— Может, и ему ушицы налить? — спросила Клава.
— Не станет. Сыт.
Федя не сводил с собаки глаз.
— Злодей, — позвал Василий Тихонович. Злодей стал строгим, сосредоточенным. Ребят он перестал замечать. Он смотрел на хозяина и ждал. — К стаду, — мягко приказал Куранов.
Злодей сорвался с места.
— Какой он у вас! — с восхищением сказал Топорок, — Как человек. Все понимает.
— Умница.
Василий Тихонович сел к костру и стал есть уху.
— Хороша, — похвалил он искренне. — Весьма хороша. А я еще отказывался. Из окуньков?
— Тройная, дядь Вась. И ершики были, — ответил Лопушок. — Заходи к нам почаще.
— Постараюсь, — усмехнулся Куранов. — Ради такой ушицы десять верст отшагать не жалко.
— Да ладно хвалить-то, — засовестился Лопушок.
— Дождь будет? — спросил Куранова Митя.
— Распогодится.
— Значит, можно косить?
— Косите смело. Ночью, может, еще погремит, а с утра солнце будет. Можете не сомневаться.
Василий Тихонович доел уху, поблагодарил ребят и собрался уходить.
Тут-то Топорок и задал ему вопрос, который давно не давал ему покоя:
— Василий Тихонович, а почему вашу собаку зовут Злодеем? Такая хорошая, умная, а имя какое-то странное.
Василий Тихонович поглядел на Топорка, помолчал и нехотя ответил:
— Так я его назвал в память об одной очень хорошей собаке.
— Расскажите, Василь Тихыныч!
И ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЧКА ИЗ ПРОШЛОГО, ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ, КОТОРУЮ НАПИСАЛ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
Осенние зори стары и ленивы. Они поздно и долго просыпаются, а то и вовсе пропускают свой черед. И тогда по утрам идут дожди, над землею гоняются холодные ветры и срывают последние листья с яблонь и дуба.
Вася же любил всякую осень. А дождливое, ненастное предзимье всегда напоминало ему детство, сытое предвоенное время, когда живы были его мать и отец.
Осень разгоняла деревенских ребятишек по домам. Первое время Вася подолгу сидел на лавке у окошка, смотрел на улицу. А за окном дождь, ветер, раскисшая дорога... Потом Вася привыкал домашничать, приноравливался к сонливому теплу, к ленивой тишине, к недолгому одиночеству. Вновь возвращалась к нему растерянная за лето привязанность к матери, отцу и маленькой сестренке Нюре.
Вася вставал рано, когда мать начинала топить печку, и бежал, шлепая босыми ногами, за перегородку в кухонное царство котлов, махоток, ведер, мисок, ухватов, садился в угол на крохотную самодельную скамейку и следил, как мать кухарит.
Васина мать думала, что сын приходит по утрам в чулан, чтобы получить зарумяненную пенку, первый блин или душистую шкварку. А он приходил не за этим. Он приходил любоваться матерью. Мать его была статная, рослая и очень напоминала ему красивых барынь на картинках в старинных книжках.
Особенно хороша мать бывала по утрам. Полуодетая, румяная от жаркого пламени, быстрая. Вася смотрел на ее ловкие руки и понимал, почему у красавиц в сказках белые рученьки становились лебедиными крыльями.
Мать часто наклонялась к Васе, гладила его, обнимала.
И тогда Вася слышал запах ее волос. Они пахли утром, жарким огнем, дымом.
Осенью отец возвращался домой рано. Вася, заслышав его тяжелые шаги на крыльце, прятался и выжидал, когда отец войдет в дом, разденется. Тут-то он выскакивал из укрытия и, издав воинственный клич, бросался отцу на шею.
И каждый раз отец говорил:
— Так ведь и до смерти напугать можно.
Летом и ранней осенью Вася редко виделся с отцом и матерью. Он пропадал с одногодками в лесу, в оврагах, убегал на речку, купался, катался на баранах. Домой забегал поесть или спрятаться от придурковатого пастуха Николая.
Каждое лето Николай нанимался в их деревню стеречь стадо. И хоть был ленивым, пастушье нехитрое дело знал хорошо, скотину держал сытой. В насмешку пастуха звали женихом. Коварные молодухи заигрывали с ним, а на свидание ходили к другим парням. Не просто так висляевские красотки улыбочки пастуху раздаривали: за эти-то улыбки он от самого края света мог пригнать стадо на полдник к «Горелому» болоту. Обмелевшее и засохшее, оно находилось рядом с деревней.
Никто не знал, где пастух Николай жил зиму. Он приходил в Висляево недели за две до выгона худой и полинялый. От прошлогоднего Николая оставались только водянистые замутненные глаза и хриплый голос. До самого выгона пастух «подряжался». Он ежедневно устраивал торг с хозяйками. Мужики называли эти торги «пастушьими сходками» и не принимали в них участия. Они знали, что бабы сами справятся с пастухом. А что торгуется он, так пускай себе торгуется. Каждый раз перед самым выгоном Николай сдавался и соглашался стеречь висляевскую скотину на прошлогодних условиях. Соглашался, но обязательно сообщал, что покровские хозяйки платили бы в два раза больше. И все, делали вид, будто верят Николаю.
Первый выгон в Висляеве начинался после обеда. Николай долго и много ел: в этот день пастух уже питался хозяйскими харчами. А пастухов и печников в деревнях кормят обильно и жирно. Для них в каждом доме готовят то, чего даже детям не дают. И все потому, что печник может всякую печку сложить, а печка для дома, что душа для человека. Попробуй плохо кормить печных дел мастера! Он тебе такую печь сложит. И снаружи вроде бы будет приглядистая, и внутри все как положено, и тяга, когда мастер пробный затоп сотворит, хорошая, и жаркость есть. А ушел печник и... началось: или дым в избу повалит, или тепло — на ветер. Нет, с печником дружбу из-за харчей портить нельзя.
Пастухов тоже надо кормить по-царски. Пастух из дома в дом ходит и может ославить. А дурная слава — хуже едкого смрада.
Пообедав, Николай выходил на улицу и брал в левую руку пастуший рожок: старый погнутый горн, с вмятинами на медных боках. Пастух облизывал губастый рот, смачивал языком мундштук, долго прилаживал его к левому краю пухлых губ, набирал воздух, как перед нырянием, пыжился и начинал «играть сбор». Правая щека у Николая надувалась, как футбольная камера, и становилась сизо-красной. Постепенно краснели лоб, нос, шея, уши, а глаза делались испуганными, выпученными. И, как глухарь во время весенней песни, Николай во время игры ничего не слышал.
Неистово трубя, пастух честно проходил по всей деревне, не обращая внимания на то, что все уже давно ждали его выхода. Женщины с трудом удерживали на привязи линялых коров. Застоявшись за зиму, коровы ошалело мотали головами, взбрыкивали, словно необъезженные лошади, ревели, терлись о ветлы плешивыми шеями. По улице пугливыми стаями носились блеющие овцы и ягнята. Во всех дворах брехали собаки.
Наконец, стадо выводили за околицу на большую поляну: «обротка снята, и воля дана...»
Несколько дней Николай приручал стадо: бегал, словно угорелый, хлопал кнутом и надсадно и грозно хрипел:
— Куда?! Куда?! Куда, отрава!
Но вот пастьба окончательно налаживалась. Стадо безропотно подчинялось своему предводителю. Николай теперь не бегал за коровами, а управлял ими ленивым окриком или звонким кнутом. Без подпаска управляться со стадом пастуху помогал его пес Злодей. Про Злодея висляевские остряки говорили: «Умел бы Колькин кобель на рожке дудеть — один, без хозяина, стерег бы».
Николай быстро добрел на пастушьих харчах и становился похожим на откормленного поросенка. Сытость, лень, сон — неразлучные друзья. А тут еще жара. Присядет Николай в тенечек под куст... А когда очнется, коровы уже на зеленях. Потрава. Колхозный сторож тут как тут. Шум на всю деревню. Мало шума, еще и оштрафует пастуха. Когда такое случалось, Николай жестоко избивал Злодея. Пес покорно, без жалоб, переносил удары и все старался вспомнить, где и когда совершил промашку, чем не угодил хозяину.
Взрослое висляевское население не обращало внимания на несправедливое отношение пастуха к Злодею, но ребятишки не прощали жестокости и мстили ему за это. Выкрадывали у спящего пастуха и прятали кнут и горн; насыпали в кисет с махоркой пороху: солили воду во фляжке.
Однажды проказники поставили над спящим пастухом добротный шалаш. А в шалаш бросили кулек с пчелами, осами и оводами. Очень скоро наблюдатели, спрятавшиеся в кустах, услышали истошный вопль:
— Караууууул!!!
Потом шалаш ожил и стал носиться по полю. Наконец, как в сказке, шалаш рассыпался, и на свет появился пастух Николай. Голося одно и то же спасительное «караул!», он бросился бежать к деревне. Бежал, кричал и, как безумный, крутил руками над головой.
Маленький Василий считал, что лето уходит вместе с пастухом Николаем. И проводы пастуха означали для него приход ненастья и стужи.
Перед уходом из Висляева Николай исчезал дня на три в город. Там он парился в бане, накупал себе обнов и непременно — кирзовые сапоги; отсиживал подряд несколько сеансов в кинотеатре; отыскивал на базаре висляевских с подводами и возвращался на денек-другой в Висляево, чтобы покрасоваться на миру. Новая одежда стесняла его, и он скрывал это чувство нарочитым важничаньем. Теперь пастух курил не махорку, а папиросы «Красная звездочка» и угощал девчат ландрином.
Каждый встречный обязательно спрашивал Николая;
— Николай Гаврилович, расскажи, чего накупил в городе?
— Да так кое-что, — отвечал пастух и небрежно сквозь зубы сплевывал на землю.
— Расскажи, Николай Гаврилович, ну, расскажи, — упрашивали Николая.
Он закуривал и будто нехотя начинал подробное перечисление покупок, тех, что были при нем, и тех, которые он якобы оставил «у одного знакомца в городе».
Николай покидал Висляево, когда выдавался погожий морозный день. Кто-нибудь из парней подвозил его на железнодорожную станцию.
До ближайшего лесочка пастух шел пешим в окружении ребятишек. Потом прощался с провожатыми и садился в телегу. У Злодея душа разрывалась в такие минуты. Злодея уводили от висляевской вольной, сытой жизни, от добрых друзей. Впереди у Злодея конура, цепь, клок слежалого сена под боком. До следующей весны ему будут сниться висляевские луга, коровы и, конечно, мальчишки, которые приносили ему за пазухой лакомства, а чаще других его добрый друг, белобрысый, худенький Василий, у которого большие и печальные глаза.
...Последний раз Николай стерег висляавскую скотину на семнадцатый день после начала войны.
Накануне в деревне провожали в солдаты последнюю партию мужчин. Их увозили в город на подводах. В голос плакали женщины. Надсадно голосили гармошки. Васина мать плакала тихо и все глядела на отца, словно хотела наглядеться на него на всю жизнь. Вася жался к отцу.
Военный, приехавший из города за мужчинами, велел всем прощаться... Телеги понеслись по дороге во ржи, поднимая легкую смолотую колесами пыль. Следом за телегами побежали ребятишки. И Вася с ними. Он бежал долго, стараясь не отставать от телеги, на которой сидел отец. Отец несколько раз говорил ему:
— Вертайся, сынок... Вертайся...
Вася мотал головой и все бежал, бежал. И плакал. Бежал и тогда, когда отстали все ребятишки, когда его обогнала последняя телега, обогнала и скрылась в перелеске...
Усталое и сытое стадо медленно брело к деревне. Стадо нагнали возвращавшиеся из города порожние телеги.
Николай вышел из кустов и остановил последнюю подводу. На ней ехал старик Дмитрий Лукичев, которого несколько дней назад колхозники выбрали своим председателем, вместо Васиного отца.
— Чего тебе? — спросил недовольно Лукичев, осаживая лошадь.
— Дай огоньку... Закуришь, дядь Митрий?
— Можно.
— Отвез?
— Отвез.
Пастух вздохнул и протянул кисет старику.
— Ты-то на войну не собираешься? — спросил бездумно Лукичев.
— Кабы взяли, пошел бы... Дядь Митрий, пастуха заместо меня подыскивай. Мать, небось, с сеструхой глаза проглядели. Письмишко им накалякал и прописал, что скоро домой возвернусь. Война-ить, дядь Митрий, баб напужала. Маманя у меня квелая... Ты замену мне сыщи непременно.
— Мне-то чего искать? Не колхозное стадо пасешь.
— Неправильные твои слова. А колхознички чьи будут? Скажешь, не твои? Твои, дядь Митрий. Ты теперь над ними поставлен. Бабам теперь пупы надрывать за себя и за мужиков. Кому же, как не тебе, бабий енерал, о пастухе кумекать?
— Гляди-ка, каким политиканом стал!
Про себя же старик Лукичев подумал: «Голомудрый, а что к чему, соображает».
Злодей начал будить хозяина, как всегда, на рассвете. Николай спал в сарайчике на сене. Просыпался он трудно и доставлял этим много лишних хлопот Злодею. Собаке приходилось несколько раз за ночь вставать и по звукам, по крику петухов, по запахам трав определять время.
Злодей выбежал на улицу по своим делам, затем снова вернулся в сарайчик и принялся будить пастуха. Для начала стащил со спящего ветхое одеяло. Николай свернулся калачом и спал по-прежнему безмятежно, как ребенок. Злодей тяжело вздохнул. Лай редко будил хозяина. Собаке пришлось взять в зубы штанину и что есть силы тянуть за нее. При этом надо было вовремя отскочить в сторону, так как пастух всегда вскакивал, как ошпаренный, и норовил ударить ногою.
— Холера лохматая!.. Отрава лупастая! — зло захрипел спросонья Николай и начал одеваться.
Злодей ушел на улицу, чтобы не слышать обидных слов. Он ждал хозяина, ловил влажным чутким носом предрассветные запахи и думал о лесе.
Пастух вышел из сарайчика, до ломоты в костях потянулся. Жестоко зевая и зябко ежась от предутренника, он долго не мог приладить мундштук к своим толстым обветренным губам. Потом ему наконец удалось это сделать, и над деревней, спугивая чуткую тишину, заголосила переливами пастушья труба.
Злодей догадался, что Николай решил сегодня стеречь на Сельскрм выгоне, и повеселел. Ему нравился этот старый выгон. Места красивые, а главное спокойно. Трава на выгоне густая и сочная. И коровы, как припадут к траве, так их с места не сдвинешь. На таких лугах пастухам делать нечего.
Когда пасли на Сельском выгоне, Злодей и в лес сбегает, около лисьей норы пороется. А то просто полежит на мягкой траве, подремлет. Дремать на солнышке хорошо. Когда дремлешь, ни о чем не думаешь. А когда просто так лежишь, то все почему-то прошлое вспоминается.
...В молодости Злодей и не думал, что когда-нибудь придется стать пастухом. В молодости и звали его не Злодеем, а Гектором. Жил тогда Гектор в большом городе, в просторной и светлой квартире у доброго хозяина Лукина. Хозяин им очень гордился и каждому новому человеку, пришедшему в дом, рассказывал о своем любимце, показывал родословную, две золотых медали, которые уже заслужил его «благородный Гектор».
Однажды хозяин ушел из дому и больше не вернулся. После этого Зина, жена Лукина, вечерами долго и тихо плакала. От этого на душе у Гектора становилось очень тоскливо, ему хотелось выть и скулить, но при хозяйке он сдерживался. Гектор подходил к Зине, осторожно клал голову на ее теплые колени и закрывал глаза, чтобы хозяйка не видела его слез.
И Зина гладила его по голове и приговаривала:
— Остались мы с тобою одни, Гека. Что же это такое?
Когда хозяйка уходила из дому, Гектор начинал жалобно скулить, а иногда тоска так сильно хватала его за сердце, что он не выдерживал и начинал протяжно выть. Как все собаки, он чувствовал то, чего не могли чувствовать люди. Гектор знал, что Лукин никогда не вернется.
Жилось им с Зиной день ото дня хуже.
Однажды в их дом пришел тучный, большелицый мужчина. Гектор сразу вспомнил, что видел этого человека на полевых испытаниях. Большелицый тогда тяжело и с завистью смотрел на него, и Гектору хотелось спрятаться куда-нибудь от этого взгляда, но рядом стоял сильный и добрый хозяин...
Зина провела гостя в столовую и прикрыла за собою дверь. Гектор почувствовал что-то недоброе и ушел в чулан, где хранились хозяйские охотничьи вещи, лег у болотных, пахнущих ссохшейся кожей сапог...
— Гектор, — позвала хозяйка. — Гектор!
Гектор не отзывался, а прижался к сапогам и часто задышал худыми боками.
Зина вошла в чулан, зажгла лампочку и, увидав Гектора возле сапог мужа, горько заплакала, закрыла лицо маленькими ладонями. Она долго качала в отчаянии головой и приговаривала:
— Прости меня, Гека... Прости... Прости. Я не должна была этого делать. Не должна... Но пойми меня, Гека, пойми! Тебе будет хорошо у новых хозяев. Ты будешь сыт. Идем.
Гектор медленно поднялся и побрел в столовую. Большелицый опять, как тогда на испытаниях, тяжело и с завистью поглядел на него, пристегнул к ошейнику поводок.
— Ну что вы так убиваетесь, Зинаида Сергеевна? — спросил он Зину.
— Я не должна была этого делать.
— Стоит ли расстраиваться из-за собаки?
Гектор подошел к хозяйке, ткнулся мордой в колени, а потом первым пошел к дверям.
...У большелицего Гектор прожил около года. Кормили его хорошо. Но он все никак не мог забыть Лукина и Зины и почти ничего не ел. Худел. «Работал» без интереса, вяло.
Новый хозяин кричал на него, уговаривал, а потом начал бить арапником: по спине, по бокам, по голове. Гектор молчал... И это еще больше разжигало жестокость большелицего. И бил он до тех пор, пока не приходила его жена и не отбирала арапника.
Шатаясь, Гектор плелся на свою подстилку. Ложился. Ронял голову на вытянутые передние лапы и лежал, глядя в темноту...
Большелицый перепродал Гектора деревенскому охотнику Захару. У Захара ему приходилось недаром хлеб есть, но он все равно был рад новой жизни.
Гектор привык к цепи и холодной конуре, честно служил Захару, но сердце его по-прежнему долгое время принадлежало Лукину и Зине. Сначала он их очень часто видел во сне, потом они стали сниться ему все реже и реже. И Гектор почти забыл про то, что когда-то жил в городе, в большой и светлой квартире.
Как-то зимою он лежал в конуре и дремал. Вдруг насторожился, вскинул голову. Где же он слышал этот голос? Он не видел женщины, которая разговаривала с Захаром, он не понимал, о чем они говорят, но он уже слышал когда-то этот голос.
— Скажите, это вы купили собаку в городе, у Поливанова? — спрашивала женщина.
— Может, и я, — осторожничал Захар. — А зачем тебе знать про собаку?
Неужели ему показалось? Где он слышал этот добрый голос?
Захар увел женщину в хату. Гектор выскочил из конуры и призывно залаял... А когда она появилась на пороге, Гектор забыл обо всем на свете. Он рванулся к Зине, но цепь, как пружина, отбросила его назад, сыромятный ошейник больно врезался в горло, а Гектор не обращал на это внимания, он рванулся еще раз, еще.
— Гека! Гека, милый! — Зина прижалась щекой к его морде.
— Чудно, — вслух удивился Захар и, посмеиваясь, отошел в сторонку.
— Зачем вы держите его на цепи? — спросила Зина.
— А на чем его держать, на веревке?
Она отстегнула цепь. Захар помрачнел, но ничего не сказал.
Лукина стала упрашивать Захара продать ей Гектора. Он не соглашался. А потом, чтобы отвязаться от чудной бабенки, Захар сказал, что может продать собаку не меньше, чем за полторы тысячи.
— Таких денег у меня сейчас нет, — растерялась Зина.
— Раз нет, так не о чем калякать, любезная.
Зина покраснела и виновато посмотрела на Гектора.
— К весне я соберу нужную сумму.
— Соберешь, приходи: я хозяин своему слову. Полторы тыщи — и собака твоя.
— Я приду за тобою, Гека, обязательно приду.
Захар пристегнул цепь к кольцу на ошейнике... У калитки Зина оглянулась и помахала Гектору ладошкой, как машут люди людям.
Он долго стоял и смотрел на калитку. Захар несколько раз выходил во двор, но Гектор не замечал этого, он все глядел на калитку.
— Пшел на место! — ревниво приказал Захар.
Гектор не услышал, что ему приказали.
Захар впервые и больно ударил собаку. Гектор вздрогнул от неожиданности. Он ведь не знал, что люди любовь и преданность к другим считают иногда предательством и изменой.
...Гектор так и не узнал, приходила ли Лукина весною к Захару.
В конце зимы во время охоты он забежал в незнакомый лес и угодил в петлю, приготовленную для зверя. Он слышал, как трубил в рог Захар, но никак не мог освободиться от проволочной петли.
Ему было страшно и холодно, потом пришел голод. Где-то неподалеку выли волки. Может быть, Захар нашел бы его по следам, но поднялась метель... Гектора замело снегом. Стало немного теплее и даже задремалось... Утром он поел чистого душистого снега и снова попытался освободиться из петли, но она еще глубже врезалась в лапы.
Ближе к полудню Гектор услышал мягкое шуршание полозьев и лошадиное отфыркивание. Гектор привстал, высунул голову из-под снега и громко залаял. Он видел, что розвальни, мелькающие за деревьями, остановились, и заскулил... Проваливаясь в сугробах, к нему шел старик в тулупе. В руке старик держал топор.
Старик остановился шагах в двух от собаки и, осмотревшись, спросил:
— Ну, чего скулишь? Иди сюда, — он похлопал рукавицей по колену. — Иди, пес, не бойся.
Гектор подался к старику, но взвизгнул от боли и осел на подтаявший снег животом.
— Так ты калекий? — И старик уже без опаски подошел к нему. Разгреб валенком снег, увидел петлю и присвистнул: — Вот оно что! Эх, человеки, человеки!
Гектор попытался сам идти. Но задние ноги не слушались его. Тогда старик поднял его и понес к саням.
Старик был лесным объездчиком и жил в сторожке.
— Смотри, старуха, кого я тебе привез, — сказал он жене.
— Чего смотреть-то? Собака, как собака. Опять, небось, деньги шальные запулил?
— Из петли вынул. Видать, благородных кровей... Пущай в хате поживет. А?
— Пущай, — старуха равнодушно согласилась, но старик видел, что собака ей понравилась.
Она осмотрела изодранные лапы Гектора. Достала из шкафчика пузатую бутылку с настойкой из трав, намочила холщовые тряпки и обмотала им раны. В глиняную плошку старуха налила густого теплого молока и покрошила в молоко ситного.
Гектор ел деликатно, опрятно. Часто открывался от плошки и благодарно смотрел на своих новых хозяев.
— Видать, и правда благородная, — сказала старуха.
— Знамо, — подтвердил старик.
— Как же кликать его будем?
— Давай Шариком.
— Можно и Шариком.
— Шарик, Шарик! — поманил старик собаку.
Гектор оторвался от еды и завилял хвостом.
— Понятливый.
— Говорят тебе, благородных кровей.
Жил Гектор у стариков в тепле и сытости. Лучше и жизни не придумаешь. А все же не спалось ему долгими ночами. Ворочался он на своей мягкой подстилке и все думал о Лукиной. И все стояла она у него перед глазами: белолицая, худая, в поношенном пальто.
И каждый день Гектор выходил на дорогу и подолгу глядел в ту сторону, где была Захарова деревня... В лесу уже пахло талостью и ручьями...
Разные люди заглядывали в сторожку к лесному объездчику. Кто по лесным делам, а кто просто так посидеть, покурить на просторном крыльце, напиться воды. Часто сюда наведывались лесорубы. И с ними Егор с лиловым шрамом через всю щеку.
Егор все молчал, и Гектор не знал голоса этого человека. Но однажды Егор заговорил с хозяином Гектора.
— Дед, — глухо сказал Егор.
— Чего тебе?
— Продай Шарика.
— Не продам.
— Заплачу хорошо.
— Не все продается, парень, не все покупается на свете. Запомни это.
— Может, и так. Тебе видней. А от хороших денег зря отказываешься. Не прогадай, старый.
После того раза Егор больше никогда не просил старика продать собаку. Он даже перестал вообще замечать Гектора.
Придет на крыльцо, покурит, молча с остальными лесорубами и отправится на делянку.
И вдруг Егор пришел в сторожку один. Старика не было дома. Жены его тоже. Гектор лежал на крыльце. Увидев Егора, он собрался встать и уйти, но не успел. Какое-то мгновение он раздумывал и за это мгновение на голову ему накинули мешок и будто тисками сжали челюсти. Боль парализовала. Потом Гектора везли на санях, везли, не снимая с головы мешка.
— Старый дурак, — говорил кому-то Егор про старика, — отказался от денег. Говорил мне, что не все, дескать, продается на свете...
Гектор по запаху дыма определил, что подъехали к деревне.
— Сколько же дашь за собаку? — спросил кого-то Егор.
— На бутылку, — ответил ему спутник.
— Шутить вздумал!
— Зачем шутить? За ворованную больше тебе никто не даст.
— На-ка! Выкуси!
Егор перехватил ножом веревку, которой к розвальням был привязан Гектор и, не сняв даже мешка с его головы, спихнул в снег, а сам погнал лошадь.
Гектор ничего не мог сообразить и все пытался снять лапами с головы мешок и никак не мог- освободиться от пыльной мешковины.
Его окружили ребятишки, поймали за веревку, сдернули мешок и повели с опаской по деревне.
Набегавшись, ребятишки заспорили, чьим должен стать Гектор.
— Мой Бобик, — сказал один.
— Мой, — потянул за веревку другой.
— Я первый заметил Бобика, — захныкал третий.
Неожиданно огромная немытая рука ухватилась за веревку и хриплый мужской голос приказал:
— Брысь отседова, ворюги!
Ребятишки разбежались, а потом снова собрались стайкой и смотрели, как губастый незнакомец уводил их Бобика.
— Эй, дядь! — крикнул вдогонку самый смелый из мальчишек. — А как кличут твою собаку?
— Злодеем! — прохрипел в ответ новый хозяин Гектора и дурковато засмеялся.
— Брешет он, — сказал приятелям самый смелый мальчишка. — Не его собака. Злодеями собак не называют.
...Злодей был прав: пастух пригнал стадо на Сельский выгон. Луг широкой неровной полосой тянулся вдоль леса и кончался там, где всегда рождалось утро. Злодей хорошо знал, что по всему лугу прогон разрешался после покосов, а в эту пору стаду можно дойти только до того дуба, который стоит на лугу.
Когда-то очень-очень давно этот дуб отбился от леса и остался одинокой вехой на Сельском выгоне. Люди не трогали его, когда он был молодым, сберегали от пилы и топора и теперь, когда дуб стал умирающим старцем.
Умирая, деревья засыхают. Только висляевские старики застали дуб зеленокудрым богатырем, но они забыли про то, и с давние пор стали в деревне говорить: «У сухого дуба». А дуб еще жил. Жил, несмотря на то, что давно уже его кора покрылась пепельным седым налетом, уродливыми трещинами, а когда-то твердую, как слоновая кость, сердцевину время, дожди и солнце превратили в трухлявое дупло.
Давно люди считают дуб засохшим. Но каждую весну несколько его ветвей покрывались зелеными листьями. И пусть они позже распускались, чем у молодых деревьев, пусть они раньше, чем у других, увядали и опадали, все-таки это была жизнь!
На Сельском выгоне пахло росою, травами, цветами. Злодей чутко прислушивался к запахам. Предрассветная сырость, туман перепутали их. Но Злодей уловил запах мяты и цветов зверобоя. Повернув голову к ветру, Злодей подался вперед, вытянул шею и стал внимательно ощупывать носом ветерок. Он дул откуда-то справа, где поля и безлесье, и донес до старого выгона запах цветущего льна. «Лен зацвел — лето под горку пошло». И Злодей знал это.
— Отрава мертвая! — хрипло заругался на корову пастух и пустил вперед себя длинный кнут. Черной молнией полетел распрямляться волосяной наконечник. Он летел, сбивая росу, срубая головы цветам. В то мгновение, когда конец кнута должен был распрямиться, Николай отпрянул назад и изо всех сил рванул короткое кнутовище в сторону: выстрел оглушил предрассвет. Вольное эхо полетело вдоль леса по лугу.
Там, где Сельский выгон сходил на нет, зажглось небо. Торопливо закуковала кукушка. Злодей не любил кукушек.
Николай от нечего делать спросил:
— Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить осталось?
— Ку-ку... ку-ку... ку-ку... — кукушка откуковала семь раз.
— У! Отрава горластая! — обозлился пастух и еще раз хлопнул кнутом.
У края земли вспыхнуло солнце. Родилось новое утро...
К дубу стадо должно подойти не скоро и можно было еще сбегать в лес и напиться в ручье с голубоватой водой, послушать птиц, подышать лесными травами, поискать свежие звериные следы. Но Злодей раздумал идти в лес.
Пастух уселся недалеко от дуба, на бугорке, достал из холщовой сумки кусок сваренного в щах мяса, огурец, ломоть хлеба и стал громко жевать.
Злодей отошел в сторонку, отвернулся, чтобы хозяин не подумал, что он ждет подачки. Пастух, хмурый по утрам, часто забывал поделиться с ним едою. Сегодня такого не случилось: Николай позвал собаку, дал ей порядочный ломоть хлеба, остатки мяса и даже кусок сахару.
После еды пастух закурил и стал ныныкать песню, а Злодей задремал: ночью в сарае ему не дали спать мыши. Грело солнце.
Кузнечики, обсохнув, затрещали, зазвенели, предвещая полуденный зной.
...Во сне Злодей услышал ноющий гул. Собаке показалось, что где-то летят огромные шмели. Злодей так и не успел ничего понять. Он проснулся от пронзительного воя. Вскочил на ноги, Пастух неистово хлопал кнутом, пытаясь загнать в лес мятущихся коров.
Злодей подумал, что на землю упало солнце. Он успел увидеть только ослепительный всполох огня. Страшная сила бросила его к старому дубу.
— Ааааааа! — закричал пастух.
Злодею же почудилось, что его старая хозяйка Зина Лукина наконец-то нашла его и позвала:
— Гекааааа!
...На Сельский луг сбежался народ. Молча смотрели висляевцы на мертвого пастуха, на убитую собаку, на вырванный из земли горящий дуб. Тело и лицо Николая были изуродованы. а на Злодее ни царапинки. Словно лег он и притворился спящим. В траве билась раненая корова. Запричитала ее хозяйка.
— Хватит, Домна, — успокаивали ее, — корова не человек.
— Ох, осталась же я без кормилицы... — голосила Домна.
— Не тревожь людям душу! — прикрикнул на нее старик Лукичев. — Цела останешься: твою корову прирежем сейчас и сдадим на заготовки, а тебе подберем другую. Из колхозного стада.
Домна сразу стихла.
— Вот она какая война, — сказал кто-то из женщин.
— Это только цветики, — ответил Лукичев. — Бабы, а кто знает, откуда родом пастух Николай?
Никто в Висляеве не знал этого...
Вдруг все вздрогнули от плача. Громко, навзрыд, заплакал друг Злодея Вася, худенький, белобрысый, с большими печальными глазами мальчишка.
ПОЭТ
Тиша увез остатки сена. Участок стал голым, колючим.
Митя и Клава уехали с Тишей. На покосе остались Лариса, Топорок и Ваня. Еще сегодня днем каждый из ребят мечтал о том часе, когда будет увезена последняя охапка сена; тогда не надо будет трясти, таскать, копнить, навивать, топтать. Десять дней они были подчинены ему, сену. Сено! Сено! Сено! С росы до росы все сено, сено, сено, душистое, ломкое, колкое. Оно и ночью не давало ребятам покоя, снилось.
Но стоило Тишиной машине, увозившей остатки сена, скрыться за деревьями, как всем троим стало грустно. К каждому пришло неуютное чувство, которое приходит к человеку, когда он расстается с каким-то важным и нужным делом, с делом, которое сближает тебя с другими людьми.
Машина уже скрылась, а они еще долго стояли и смотрели на дорогу, словно ожидая, что машина по каким-то причинам возвратится.
— Пошли купаться, — позвал Лопушок. Если бы кто-нибудь его увидел впервые, то ни за что не подумал бы, что Ваня — жизнерадостный и очень смешливый человек.
— Пошли, — согласилась Лариса.
А Топорок просто кивнул в ответ на предложение друга и первым зашагал к реке.
День был уже на исходе, но все равно было очень жарко. Даже возле реки не было свежести. Травы, цветы, кустарник на берегу — все было вялым и разморенным. И облака, казалось, плыли ленивее, чем всегда. И даже Сожа разомлела и несла свои воды, устало задевая поникшие тростники и теплые берега.
Они купались нехотя. Просто надо было смыть пыль и труху от сена. А потом они лежали на мягкой душистой траве на крохотной лужайке под березами, которые росли островком на берегу Сожи, лежали и глядели в небо. Думали о разном, но всем троим было грустно.
Высоко в небе парил ястреб. Он будто повис над землею.
— Уметь бы так летать, — сказал Лопушок.
— И что б ты тогда делал? — спросила серьезно Лариса.
— Что? Я залетел бы высоко, высоко и стал бы глядеть на землю.
— На землю ты можешь посмотреть и с самолета. Посмотреть с такой высоты, куда никакой ястреб не залетит, — заметил Федя.
— А ты когда-нибудь летал на самолете? — поинтересовалась Лариса.
— Летал. И на «ТУ-104» и на «ИЛ-18».
— А я никогда не летал даже на «кукурузнике», — со вздохом признался Лопушок.
— И я не летала.
— Страшно, Федь, летать-то? — спросил Лопушок.
— Нет.
— А дорого, Федь, билет на самолет стоит?
— Смотря куда лететь. Для школьников билеты дешевле. В Крым и обратно за меня рублей двадцать, кажется, заплатили.
— Двадцатку, да? — удивился Лопушок. И непонятно было, что означало это удивление: то ли дорогим показался билет на самолет Ване, то ли — дешевым. Он помолчал, что-то подсчитывая, а потом сказал: — Двадцатку за лето заработать можно. И мамка пятерочку даст. А в вашем городе, Федь, аэродром есть?
— Есть.
— А мне билет продадут, если я один полечу?
— Продадут.
— Буду копить деньги. А на то лето приеду к тебе в гости и слетаю в Крым и обратно.
— А мне не хочется лететь на самолете, — сказала Лариса.
— Почему? — удивился Лопушок.
— Мне кажется это совсем не интересно. Сиди себе в кресле, как деревяшка. Вот, если бы самой самолет повести! Тогда было б здорово.
— Самой? Ишь чего захотела! — Лопушок даже усмехнулся.
— А мне все хочется самой делать. Пассажиром быть скучно.
— Разве тетки летчиками сейчас бывают? — усомнился Ваня.
— Что значит — тетки? — вспыхнула Лариса.
— Ну, женщины.
— Конечно, бывают. Сама читала в журнале о женщине, которая капитан воздушного корабля.
— И чего? Ты, значит, хочешь стать летчицей?
Лариса не сразу ответила Лопушку. Она долго и задумчиво смотрела в небо. Ваня не вытерпел и сказал:
— Чего же не отвечаешь-то? Секрет?
— Я не хочу стать летчицей. Я еще не знаю точно, кем хочу стать. Мне хочется быть и путешественницей, и космонавтом, и воспитательницей в детском саду. Как Вспомню Марию Емельяновну из нашего колхозного детского сада, так сразу даю себе слово, что тоже стану воспитательницей. Она мне вместо матери была... И врачом мне хочется быть. Хорошо б, если бы человек мог за свою жизнь разным профессиям обучаться. А то выучится на инженера и всю жизнь одним и тем же занимается. Я разные-преразные работы перепробовала бы тогда. Интересно.
— При коммунизме так и будет, — авторитетно заявил Топорок. — Я лекцию про коммунизм слушал. И там об этом лектор говорил.
— При коммунизме, поди, и на самолетах без билетов летать будут? — заметил Лопушок.
— Конечно, — согласился Топорок.
...На реке раздался сильный всплеск.
— Ух, ты! — поразился Лопушок. — Вот это рыбина! Кило на пять.
— А ты откуда знаешь? — Лариса усмехнулась недоверчиво.
— Не меньше. По бухтению определяю. Это жерех балуется... Ужин-то варить будем?
— Конечно. — Лариса засмеялась. — Очередь-то, Лопушок, сегодня твоя.
— А я чего? Я не отказываюсь. Я бы еще двадцать дней подряд варил, жарил, только бы вместе нам быть. Не хочется, чтобы артель наша распалась. Привык я к вам, — признался Ваня. И вдруг тихо добавил: — Ребя, давайте всегда дружбу водить.
...Закат принес с собою прохладу и множество ярких, чистых красок. Ожили травы, луговые цветы, ожили кустарники, деревья, ожили дали и облака. Очнулась от знойного дурмана река. Закат окрасил реку и берега своими волшебными полутонами... Заиграли рыбы... Проснулись запахи... На землю спустилась мягкая тишина.
Лопушок и Лариса хлопотали возле костра. Топорок пошел к реке. Он сказал, что идет проверить донки, но не рыба его интересовала, нет. Федя спустился к реке, сел возле самой воды и стал сочинять стихи.
Топорок смотрел на реку, на берега, на дали и слышал почему-то музыку. И эта музыка была, как и краски окрест, — чистая, нежная, светлая... Музыка-то и рождала слова, слова необыкновенные, которые становились стихами.
Он писал о солнце, которое тонуло и остужалось в реке, о багровых гаснущих облаках, о тишине, о запахе дыма от костра, возле которого сидят его чудесные друзья — Лопушок и Лариса. И еще о том, что ему не хочется с ними расставаться.
Стихи рождались легко. Федя так увлекся, что не заметил, как к нему подошла Лариса. А она подошла, не таясь и ожидая, что Топорок оглянется, услышав ее шаги. Какой там! Федя строчил и строчил.
Сначала Лариса не поняла, чем это он так увлечен. Заглянув машинально в тетрадь, она все поняла. Девочка удивленно вскинула брови и тихонько отошла от юного поэта.
— Позвала Топорка? — спросил ее Ваня, когда она одна возвратилась к костру.
— Я его не нашла, — ответила Лариса и отвернулась.
— Не нашла? — поразился Лопушок. — Чудно! Куда же он мог деться? Сейчас я его покликаю... Федяяяя!
Когда Топорок отозвался, Лопушок подозрительно поглядел на Ларису и пожал плечами.
— Как же ты его не нашла-то? Он ведь почти рядышком.
— Значит, я его не там искала, — невозмутимо ответила Лариса.
Поужинали уже затемно. Обычно они тут же после ужина засыпали как убитые. А сегодня ни у кого сна не было.
— Давайте всю ночь сегодня просидим у костра, — предложила Лариса.
— Это можно, — бойко согласился Лопушок.
— Я согласен, — сказал и Федя...
Сейчас не верилось, что днем стояла жара. Темнота вокруг была сырая и холодная, но веселый костер спасал ребят от этой холодной и сырой темноты. Она отступила от огня на почтительное расстояние и ждала, когда огонь уснет, чтобы снова захватить пространство, отвоеванное у нее пламенем.
Лариса и Лопушок слушали Топорка, который рассказывал историю про дельфинов. Историю эту Федя узнал от маминого брата.
Ловили наши рыбаки тихоокеанскую сельдь. Только начали тралить, как перед судном стали выпрыгивать дельфины. Капитан приказывает: «Стоп машины!». Команда удивилась. Но еще больше все поразились, когда опытный капитан отдал приказ выбирать трал. И дело это не из легких, да и каждая минута во время лова дорога. Но приказ капитана — закон... Выбрали мрачные матросы трал. Глядят, а там вместе с рыбой — маленький дельфиненок. Вот, оказывается, почему выпрыгивали перед носом тральщика дельфины. Они просили освободить их детеныша.
Моряки освободили его и выпустили в океан. Дельфины поблагодарили людей несколькими прыжками и уплыли от судна.
На тральщике уже забыли про историю с дельфиненком, когда вдруг за бортом опять появились, дельфины. Это были те же самые дельфины. Моряки узнали их по детенышу, которого спасли.
Дельфины опять стали выпрыгивать из воды. Они словно бы звали людей плыть за ними.
Капитан приказал изменить курс. Увидав это, дельфины перестали выпрыгивать и повели тральщик за собою.
Команда не пожалела о том, что капитан послушался дельфинов. Они привели тральщик к месту, где находились огромные косяки рыбы. Еще никогда моряки тральщика не видали таких уловов, как в тот рейс.
Лопушок, слушая Топорка, долго и искренне ахал и охал.
Когда же Лариса тоже стала рассказывать о дельфинах, Лопушок сначала с интересом слушал ее, а потом вдруг уронил голову на руку и мгновенно заснул.
— А собирался просидеть всю ночь у костра, — с сожалением заметил Топорок.
— Он очень устал, — тихо сказала Лариса. — Он все время работал за двоих.
— Это правда...
Они долго молчали и глядели на огонь.
— Федя, — позвала Лариса.
— Что?
— Почитай, пожалуйста, стихи, которые ты писал сегодня на берегу.
— Стихи? Какие стихи?
Лариса с укором поглядела ему в глаза и отвернулась.
— Это я просто так, — Топорок чувствовал, что даже разгоряченные от костра щеки его все равно краснеют. Он извинительно попросил: — Не обижайся. Я не хотел тебя обманывать... Если хочешь, то я прочту тебе их... Только они плохие.
Никому еще Федя не читал своих стихов, поэтому голос его срывался, Федя захлебывался словами, спешил. А когда кончил читать, то вздохнул так, словно только что вагон камней разгрузил.
Он стал подбрасывать в костер сучья, поправлять головешки. Этим он хотел показать, что его совсем не интересует мнение Ларисы. На самом же деле он ждал Ларисиного приговора. А она все чего-то медлила, о чем-то думала. А чего думать? Надо просто сказать, нравятся стихи или не нравятся.
— Хорошие ты стихи написал, — сказала, наконец, она.
— Хорошие? — Топорок не верил своим ушам. — Хорошие?
— Мне они нравятся. А вот читаешь ты очень плохо.
— Торопился я.
— А зачем торопиться-то?
— Да так. А хочешь, я тебе еще почитаю?
— Хочу.
ИНОСТРАНЦЫ?..
Первым проснулся Топорок. Его разбудило солнце. Тепло солнечных лучей щекотало лицо. Пели птицы. Тлели угли от прогоревшего костра. Утренний ветерок сдувал пепел.
Топорок огляделся. Рядом спал Лопушок. Ларисы возле них не было. Топорку стало казаться, что ему все приснилось: и костер, и Лариса, и стихи, которые он читал. «Нет! Не приснилось!» — с радостью подумал Топорок, когда увидел на дороге Ларису. Она медленно шла к стану.
...Лопушок проснулся и стал хохотать.
— Чего ты, Вань? — спросила Лариса.
— Сон смешной приснился.
— Какой?
— Да на лягушке я по реке гонялся за дельфинами.
— На лягушке? — переспросил Топорок.
— Ага. Знаешь, какую скорость квакуша развила. У меня даже дух захватило... А чья сегодня очередь кашеварить?
— Кажется, моя, — без энтузиазма признался Топорок.
— Посмотрим, чем ты нас накормишь?
— Пшенной кашкой.
— Топорок, — взмолился Ваня. — Не надо пшенки. Топорочек, что-нибудь еще придумай. Топорочек...
Феде не пришлось угодить Лапушку. Он успел только разжечь костер.
Приехал Тиша на председательском «газике».
— Здорово, косари! — поздоровался Тиша бодро. — Приказано доставить вас срочно в Ореховку.
— Кто приказал? — удивился Лопушок. — Кому мы нужны- то?
— Хозяин приказал.
— Какой хозяин?
— Ты что? Спал, что ли, много? Не знаешь, кто у нас в колхозе главный?
— Правление, — невозмутимо сказала Лариса.
— Хватит мне голову дурить, — заявил обиженно Тиша. — Собирайтесь! Петр Петрович приказал срочным порядком явиться вам домой.
— Тиша, нам же надо барахлишко собрать.
— Долго его, что ли, собирать? Раз-два — и готово.
— Долго.
— Я тебе дам «долго». Свяжу сейчас вас и в машину побросаю. «Долго»! Никакой дисциплины.
— Слабо связать-то, — стал раздразнивать своего дальнего родственника Лопушок.
— Ванька, кончай подрывать мой авторитет. Уши надеру.
— Сразу — уши надеру...
— Быстрей собирайтесь. Если вовремя вас не доставлю, нагорит мне от председателя.
— А что случилось-то, Тихон Михайлович? — спросила ласковым голоском Лариса.
Тишу редко кто называл по имени и отчеству, хотя все знали, что он это очень любит. Когда к нему обращались по имени и отчеству, он не мог отказать в просьбе.
— Дело важное, Лариса Петровна. — Тиша вдруг понял уловку девочки и стал официальным. — Вот тебе записочка от отца. Записочка лично тебе. Читать надо без свидетелей.
Тиша отвел в сторону Ларису и вручил ей записку от Петра Петровича. Федя и Ваня стояли в сторонке и с любопытством глядели на Ларису. Она прочла записку и сказала:
— Собирайтесь, ребята. Правда, надо быстрее ехать.
— Чего там стряслось-то? — полюбопытствовал Лопушок.
— Не знаю, но отец велит скорее ехать в деревню.
Тиша гнал «с ветерком». Лопушок пробовал с ним заговорить, но Тиша отмалчивался: делал вид, что очень уж обижен.
Возле дома Храмовых шофер резко затормозил и сказал Топорку:
— Начальник, срочно приведи себя в порядок. Умойся, причешись. Надень парадный костюм. Десять минут тебе на сборы. Стариков твоих дома нет.
И укатил на другой край Заречья: повез Лопушка.
Топорок стоял, опешивший, и ничего не понимал.
— Иди переодевайся, — сказала Лариса. — Через десять минут выходи на улицу.
— Зачем переодеваться-то?
— Не знаю. Но папа пишет, чтобы слушали Тишу.
Лариса заторопилась домой.
Когда Топорок вышел из дому, Лариса уже ждала его. Она переоделась, причесалась. Федя невольно загляделся на нее. Лариса смутилась и спросила:
— Чего ты?
— Да так. — Топорок радостно улыбнулся.
Распугивая кур и нетерпеливо сигналя, к ним подъехал «газик». Тиша лихо развернулся и затормозил.
— Прошу, — шофер распахнул дверцу.
На заднем сиденьи сидел Лопушок. Он был в новой рубашке.
— На людей стали похожи, — сказал с усмешкой Тиша, оглядев оценивающе всех своих пассажиров. — Теперь помчались, а то опоздаем.
— Куда ты нас везешь-то? — спросил Лопушок.
— Везу, куда надо. Много будешь знать, скоро состаришься.
— Лучше скажи, а то не поеду. Выпрыгну на ходу. Ты меня знаешь.
— Чего ты ко мне пристал? Я сам не знаю, куда и зачем вас везу. Велено доставить вас на большак. Там Петр Петрович ждать будет. Может, в райцентр зачем-нибудь повезут вас. Цирк, говорят, туда приехал.
Тиша «выжимал» из «газика» самую предельную скорость. Теперь он не разговаривал с ребятами, а врос в баранку и весь превратился во внимание.
Вот уже позади луговая дорога, вот уже въехали в лес и помчались по большаку. Мелькали деревья, столбы... Состояние шофера передалось ребятам. Они тоже стали серьезными и сосредоточенными и также пристально следили за дорогой. Наконец, за деревьями стало проглядываться шоссе. В обе стороны по нему мчались автомобили. И сейчас казалось, что Тишин «газик» торопится к широкой асфальтовой дороге, чтобы побежать вместе со своими собратьями. Ему надоели будни на трудных проселках.
Но Тиша не пустил «газик» на шоссе, где пели автомобильные колеса. Шофер заставил автомобиль въехать на лесную придорожную опушку, сбавить скорость и послушно остановиться напротив автобусной остановки. На опушке уже стоял колхозный агитавтобус. «Газик» подъехал к нему, остановился, недовольно задрожал и обиженно затих.
— Приехали, господа, — сказал Тиша. — Можете выходить.
Первое, на что ребята обратили внимание, — это на яркий плакат на борту автомашины. На плакате написано: «Добро пожаловать, дорогие гости!»
Возле агитмашины стояли Селиванов, старики Храмовы, секретарь колхозной комсомольской организации Люся Богомолова.
— Смотрите, негры-лесовики пожаловали! — громко сказал Петр Петрович. — Молодцы, вовремя прибыли. Сейчас уже подойдет автобус.
Екатерина Степановна всплеснула руками и, закачав головою, напевно заговорила:
— Погляди, Семен, на нашего внучонка. А! Поджарился-то как на покосе. Это надо ж!
— В самый раз загорел.
— Еле довез, — пожаловался Тиша председателю. И, кивнув в сторону Вани, добавил: — Вот он особенно бунтовал.
— А зачем нас сюда привезли-то? Петр Петрович, зачем?
Селиванов улыбнулся и ответил:
— Делегацию встречать, Ваня.
— Делегацию? Какую-такую делегацию?
— Иностранцы к нам в гости едут.
— Иностранцы?! — Лицо у Лопушка вытянулось от удивления. — А как же мне быть-то?
— А что такое? — заинтересовался Селиванов.
— Да... а... Штаны у меня с латками.
Тиша закатился смехом. Петр Петрович еле удержался.
— Ваня, а где у тебя латки-то? — самым серьезным образом спросил он.
— Где-где? Известно где — на заду.
Теперь уже все засмеялись: и Храмовы, и Топорок, и Лариса, и Люся Богомолова, и сам Лопушок.
Все еще смеясь, старик Храмов посоветовал Лопушку:
— А ты, Вань... того... задом ты к иностранцам не становись.
Из-за поворота выехал рейсовый автобус. И сразу же встречающие забыли про Лопушкову беду. На лицах у всех появилось обостренное любопытство, наступила тишина ожидания. Никто не заметил, как Лопушок забежал за агитмашину и стал воровато выглядывать из-за нее.
Автобус подъехал к остановке. Вздохнули тормоза. Зашипели и открылись двери. Топорок открыл рот от удивления. Из автобуса вышел... их управдом Антон Антонович Горохов. И тут все вздрогнули, потому что из репродуктора агитмашины грянул марш.
Все дальнейшее, казалось Топорку, происходило как в сказочном кинофильме. На дорогу из автобуса стали выпрыгивать Ленька Рыжий, Плотвичка, Щавель-Щавелек, Витя Жихарев, Толя Скачков, Игорь Замятин... Ребята все выпрыгивали и выпрыгивали... А последними вышли родители Топорка и отец Леньки Рыжего. Они стали выгружать рюкзаки, а этим временем обе дворовые команды вдруг выстроились. И только теперь Топорок заметил, что на его друзьях новенькая футбольная форма: его команда в белых майках, на ребятах из Ленькиной команды — майки синие.
Автобус не отъезжал. Пассажирам интересно было посмотреть, что же произойдет дальше.
Ленька Рыжий подал команду:
— Смирно! — И срывающимся фальцетом прокричал: — Капитану нашей сборной Федору Топоркову физкульт-привет!
И обе команды ответили ему дружно, троекратно:
— Физкульт-привет! Привет! Привет!
Прокричав приветствие своему капитану, футболисты бросились к нему. Они стали его обнимать, хлопать по плечам, жать руку.
Автобус все еще стоял на остановке. Из репродуктора неслись бравые звуки маршевой музыки. Федя целовался с мамой и папой, жал руку управдому Горохову и Ленькиному отцу. Потом приехавшие стали знакомиться с Селивановым, Храмовыми, Ларисой, Тишей, Люсей Богомоловой. Было шумно, весело. И в этой праздничной суматохе все забыли про Лопушка. А он стоял, понуро опустив голову, за агитмашиной, еле сдерживал слезы обиды. Ему хотелось уйти отсюда, чтобы не слышать веселых голосов, не слышать счастливого беззаботного смеха, но он все чего-то ждал.
Топорок был счастлив. Он никогда не думал, что Петр Петрович приготовит ему такой неожиданный подарок. Но что-то мешало ему радоваться в полную меру, что-то тревожило его. И вдруг он понял, что именно мешает ему предаться радости без остатка. Рядом с ним нет Лопушка, нет рядом с ним его нового верного друга. Федя стал искать его глазами. Лопушка нигде не было. И тогда, забыв про всех, Топорок неожиданно и громко закричал:
— Ваня-я-я! Лопушо-о-о-к! Где ты?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

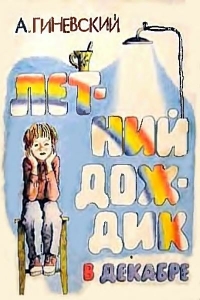







Комментарии к книге «Топорок и его друзья», Владимир Васильевич Кобликов
Всего 0 комментариев