Василий Ильенков СИЛА ЖИЗНИ Рассказы
ГОРЕ
В июльские душные сумерки к правлению колхоза «Пробуждение» подскакал на взмыленном коне человек в розовой пропотевшей рубахе, с красным от жары и скачки лицом, без картуза, босой. Он сидел без седла, обхватив живот лошади давно не мытыми ногами.
Не слезая с лошади, он постучал в окно рукой, и на крыльцо выбежал председатель колхоза Тарас Никитич, сразу узнавший в верховом райисполкомовского конюха Герасима.
— Ты что, Герася? — встревоженно спросил он.
Герасим всем своим видом говорил, что прискакал он по какому-то чрезвычайному делу.
— Всю скотину! Чтоб как есть до единой овцы! И телят! Всех!! — прокричал Герасим, еще больше краснея от напряжения.
— Чего всю скотину-то? Толком говори, — сердито сказал председатель, и хотя Герасим действительно впопыхах не сообщил самого главного, догадался, что нужно срочно угонять скот.
— Немец близко! — так же сердито прокричал Герасим и, увидев девочку, показавшуюся из-за плетня, ласково поманил ее пальцем: — Голубонька, ковшичек водицы холодной, да поскорей!
Девочка побежала, споткнулась о камень, поджала левую ногу, постояла и запрыгала, как воробей. Герасим достал из кармана пакет и, передавая его председателю, добавил:
— За Тулу гнать скот надо.
— За Тулу? — испуганно переспросил Тарас Никитич. — За Тулу, — повторил он, и само слово «Тула» прозвучало для него как олицетворение недосягаемой дали. — Прошка-а!! Прошка-а!! — вдруг закричал он, повернувшись к огороду.
Что-то белое, вихрастое, шумное перелетело через плетень — это был парнишка с курчавыми волосами, с ярко-красными губами.
— Опять вишни лопал? — строго спросил отец и, не ожидая ответа, коротко бросил: — Бей на собрание!
Парнишка метнулся вдоль улицы, поднимая пыль. Девочка, несшая ковшик с водой, загляделась на него, ковшик накренился, и вода полилась ей на ноги. Она протянула Герасиму остатки, и тот, опрокинув ковш, крякнул от удовольствия.
— Спасибо, родная… В пятый колхоз скакать надо. Но-о-о… милая! — Герасим ударил пятками по животу коня и, широко расставив ноги и выкинув их вперед, затрясся в такт неровной, сбивчивой рыси.
Над деревней пролетел первый жалобный удар в кусок рельса, за ним — второй, третий, и удары слились в сплошной вопль железа. Со всех сторон к площади бежали люди, а Тарас Никитич уже стоял на водовозке и мял пальцами кончик уха.
Он запинаясь прочитал приказ райисполкома и умолк. Молчали и люди, понимая, что говорить теперь не о чем. Лишь теперь война стала для них реальной, неотвратимой, — еще час назад казалось, что «пронесет», «как-нибудь обойдется»…
— Надо назначить людей для сопровождения стада, граждане. Называйте фамилии… Мне одному этого дела не поднять — проговорил Тарас Никитич.
— И доярок надо… Доить коров беспременно, а то попортить можно скот, — сказал старший пастух Мокеич, старик с пышными бурыми усами и багровым носом.
А людям казалось, что Мокеич говорит чепуху: как это доить в пути, зачем? И куда девать молоко? Значит, и бидоны надо брать?
— И бидоны беспременно, — подтвердил Мокеич. — Подводы надо нарядить…
— Нам мужчин давайте. Мы без мужчин пропадем! — крикнула чернобровая девица с обнаженными выше локтя толстыми руками.
— Ну, ты уж пропадешь, Нюрка, — с усмешкой заметил Мокеич, и все рассмеялись, радуясь, что есть повод посмеяться, потому что трудно было выдержать напряжение тревоги.
— Значит, поедет Нюрка, — быстро сказал Тарас Никитич, — потом, конечно, Марину Петровну просить будем… послужить для общества, — он повернулся к суровой жилистой женщине, возле которой стоял мальчик лет десяти.
И все посмотрели на эту женщину, ожидая, что она скажет. А Марина Петровна погладила мальчика по голове и тихо сказала:
— Я уж и Павлушку с собой возьму.
Мальчик радостно улыбнулся, и ребята с завистью посмотрели на счастливца, который поедет в Тулу.
Солнце позолотило стекла скотного двора, они загорелись, как бы плавясь в огне заката, и все смотрели на длинное строение под оранжевой черепичной крышей, с желтыми, еще не успевшими потемнеть бревнами. За скотным двором поднималась кирпичная башня водокачки, откуда вода текла по трубам в автопоилки. Над башней, как второе солнце, сиял металлический диск ветряка. Три круглых силосных башни стояли, как три великана, и стрелы флюгеров на круглых шапках их смотрели в одну сторону — на закат. И вот все это, чем гордились люди, что украшало их жизнь, вдруг потеряло свой смысл, и нелепыми казались толстые благодушные силосные башни со своими стрелами, и металлическое солнце ветряка, и грузовые машины, уставленные бидонами.
— Вот, граждане, какое, значит, дело-то, — дрогнувшим голосом проговорил Тарас Никитич. Губы его перекосило, и он, быстро спрыгнув с водовозки, пошел, прихрамывая и как-то клонясь набок. Всю короткую июльскую ночь на улицах раздавались голоса, скрипели ворота, лаяли собаки, сновали взад и вперед люди, а когда зарянка возвестила рассвет, люди уже стояли возле скотного двора. Тарас Никитич распахнул ворота, печально зазвенели цепи, которые снимали доярки с коров, и люди еще ближе придвинулись к воротам.
Первой вышла Ворожея — крупная черно-пегая корова с тяжело отвисшим выменем — вожак всего стада. Она посмотрела на толпу и вопросительно промычала, а кто-то истерически крикнул:
— Ворожеюшка!!
И от этого крика, как от удара, качнулась толпа, послышался женский плач, каким в деревне провожают покойника, — надрывный, с причитанием в полный голос. А из ворот выходили черно-пегие ярославки и привычно устремлялись в поле, думая, что их выгнали на росу, но на дороге в поле стоял Мокеич и, щелкая кнутом, заворачивал стадо на большак, идущий на восток. Мокеич был назначен ответственным за перегон стада и, гордясь своим положением, строго покрикивал на доярок, которые гонялись за молодняком, прорвавшимся к полю.
Он был красив в своем черном суконном армяке, подпоясанном красным кушаком, с длинным кнутом, перекинутым через плечо. Когда он щелкал им, то приподнимал левую ногу, может быть потому, что центр тяжести перемещался на правую, может быть для особого шика.
От овчарни вприпрыжку бежали овцы, бестолково шарахались в стороны, блеяли разноголосо, а мальчишки гнались за ними с криком: «Арр-ря-а-а!!!», от чего овцы метались, выпучив свои невыразительные глаза.
Но вот наконец, смешавшись в одно огромное пестрое стадо, коровы, телята, овцы устремились по большаку, усаженному старыми березами. Впереди ехали две подводы, и на передней, важно подергивая вожжи, сидел Павлушка, окруженный звенящими бидонами и подойниками. Второй подводой правил Прошка. Шагая рядом c телегой, подчеркивая этим, что он жалеет коня, Прошка говорил натужно низким голосом, теребя пальцами мочку уха:
— Ты, Павлушка, коня-то не гони… Пущай идет сам… своим ходом, — а Павлушка, обиженный таким несправедливым замечанием, молчал, надув губы.
Впереди, в редкой березовой роще, поднималось солнце. Слева над лугами колыхался туман, и туда рвались коровы. Доярки сбились с ног, удерживая стадо на дороге, гоняясь за нетелями по росе, — мокрое платье хлестало по красным босым ногам. Потом пошли поля, и стадо кинулось в овес, выдирая его зеленые метелки, вытаптывая почти созревшее зерно. Марина, мокрая до плеч, бегала по овсу, путаясь в его густых зарослях, стуча зубами от холода, а коровы убегали от нее все дальше, разбредались по кустам, — стадо таяло на глазах.
Начали отставать телята, утомленные непривычно дальней дорогой. Рыжий лопоухий телок стоял, опустив голову, и жалобно мычал, глядя вслед уходящему стаду. Черная овца лежала в канаве, жарко дыша открытым ртом.
— Взять надо на телегу… овцу, — сказал Павлушка, укоризненно взглянув на Прошку: мол, что же ты, не видишь?
— И то, — солидно промычал Прошка. И вот они вдвоем потащили овцу волоком к подводе, кое-как взвалили и, вытирая пот с лица, пошли рядом, рассуждая о том, что в такую жару нельзя гнать скот.
Коровы с трудом переставляли ноги, неся переполненное молоком вымя, как тяжкий груз. Мокеич приказал остановить стадо возле ручья. Началась дойка. Все бидоны были быстро налиты до краев.
— Чего же теперь делать? — спросила Марина.
— Выдаивайте прямо наземь, — мрачно ответил Мокеич.
Белые пенистые струйки потекли по земле, сливаясь в лужицы; из них пили телята. Но молока было много, и оно текло ручейком. Белый ручей этот вливался в речку, вода стала мутной, и Мокеич, глядя, как белеет речка, сам белел от приступа бессильной злобы и горечи.
Тут же, возле речки, и заночевали, пройдя всего пятнадцать километров. Доярки спали, повалившись на землю вокруг костра. Павлушка подкладывал в костер сучья, а Прошка зашивал разорванную рубаху. Мокеич курил трубку, глядя поверх костра на звезду, дрожавшую над темной полосой леса. Нюра мыла посуду, — она была все такая же бодрая, как и утром, как будто в этом трудном пути ей одной было легко.
— Оно, конечно, война, — проговорил Мокеич, все так же глядя поверх костра и как бы беседуя сам с собой: — ходила-ходила и к нам пришла. И нас вот настигла…
— На войне людей убивают, а это что! — тоном взрослого сказал Прошка и перекусил нитку.
— А ты видал, молоко по земле льется, словно вода? Да разве это молоко? Это кровь моя льется! Кровь! — вдруг гневно закричал пастух, и Прошка испуганно юркнул под полушубок.
Павлушка лежал на спине, глядя на небо, усеянное звездами, и ему казалось, что там, на небе, тоже война, а звезды — это несчетные стада, которые гонят куда-то за Тулу; крупные звезды — коровы, помельче — нетели, а самые маленькие — овцы с ягнятками, а вот та светлая полоса — как ручей, что побелел сегодня от молока… И в школе говорили, что на небе есть Млечный путь.
Где-то совсем рядом ударил перепел в веселый свой барабанчик. Вокруг шумно дышали животные. Пахло парным молоком, и от речки тянуло сыростью. Павлушка вспомнил свой дом, и ему стало страшно при мысли, что он едет куда-то за Тулу и, может быть, никогда не вернется в свою деревню. И ему жалко стало всего, что осталось там, дома: и пеструю куцую собачонку Крошку, и самострел свой, и деревянного «козла», на котором катался с горы зимой. Павлушка заплакал.
— Чего ты? Чего? — прогудел Мокеич, накрывая Павлушку полушубком. — Это ничего… Мы, брат, сызнова скот разведем… Всего будет вдоволь. Человек, брат, все может… С той войны, как землю расковыряли, снарядами раздолбали, обесплодили, человек все в порядок произвел, сызнова землю обсеменил. Человек, брат, он…
Но чем больше Мокеич успокаивал Павлушку, тем горше плакал он, тем жальче было ему и телят, и овец, брошенных по дороге, и себя, и мать, лежавшую на земле в сыром платье.
— Не плачь, из тебя хороший хозяин вырастет… овцу вот пожалел! Она, не гляди, что тварь бессловесная, а все понимает, брат, все! У скотины тоже свое понятие, она ласку, как и человек, любит. Вон у Нюрки коровы больше всех дают молока, а все оттого, что руки у нее ласковые…
Где-то в вышине послышался отдалённый рокот самолета, и Мокеич умолк, настороженно прислушиваясь. Все смотрели вверх, напрягая зрение, стараясь отыскать самолет, а он, невидимый, летел среди звезд, возбуждая у людей восхищение силой человека и страх перед этой силой. Кто летел — друг или враг? И люди, снова возвращенные к своим тревожным думам, инстинктивно попятились в темноту, стоявшую вокруг костра, под ее защиту.
На заре поток животных продолжал свой путь на восток, разрастаясь с каждым часом, потому что на перекрестках дорог в него вливались стада ближайших колхозов, — так ширится, становится полноводной река, принимая в русло свое сотни притоков. И вот эта живая река вышла из берегов — затопила все поля и луга: скот брел без дорог, сметая на своем пути все, вытаптывая, поедая и тут же падая. На розовом ковре клевера валялись со вспученными животами коровы и овцы. Стада таяли и в то же время росли. Скот смешался, никто уже не мог сказать, где коровы колхоза «Пробуждение», — двигалась на восток пестрая лавина, окутанная, пылью, ревущая, страшная в своем напоре.
Повозка, на которой ехал Павлушка, очутилась в самой гуще этой лавины, когда в вышине снова раздался рокот самолета.
Теперь Павлушка ясно видел и крылья и хвост темнозеленой машины. Она сделала круг над стадами и, почти камнем упав вниз, промчалась над самой головой Павлушки, и тотчас что-то треснуло так оглушительно, словно распарывался весь небосвод. Скот шарахнулся, и вся лавина вдруг пришла в смятение, видя, как падают на землю животное, сраженные какой-то неведомой силой.
Вот пробежала корова, волоча за собой что-то розовое, наступая на это розовое задними ногами, упала, и Павлушка увидел на земле трепещущие внутренности. Как безумная, металась черная овца и вдруг исчезла под копытами налетевших на нее коров. Павлушка видел рога, хвосты, копыта, пыль и в этой пыли солнце, похожее на яичный желток, тусклое, чужое солнце. Он слышал стоны, и рев, и блеянье, но все зги звуки подавлял непрекращавшийся треск вверху, там, где кружился самолет, сеявший смерть.
Запах крови дурманил животных. Чуя что-то недоброе, шалея от страха, скот бросался с кручи в овраги, заполняя их своими изломанными телами, налетая со всего разбегу на камни и деревья, сшибая с ног тех, кто был слабее, давя их с мычаньем и ревом.
Павлушка с криком отчаяния сек кнутом лошадь, стараясь ускакать от настигавшего его рогатого тысячеголового чудовища, но конь храпел, становился на дыбы и вдруг упал на колени, точно провалился передними ногами в яму. Что-то рвануло Павлушку за правое плечо, он вскрикнул и прижался к овце, которая лежала на телеге, цепляясь руками за ее длинную шерсть, крича:
— Мамочка! Мама!
И он увидел ее лицо в облаке рыжей пыли, и лицо это было темное, постаревшее. Рот ее был широко раскрыт, видимо, она что-то кричала, подняв голову кверху и потрясая кулаком, но Павлушка ничего не слышал, кроме собственного крика.
Мать сняла Павлушку с повозки, перевязала ему плечо своим платком и повела по полю среди трупов животных, среди раненых коров и овец, — они стонали, как люди, дрожа каждой шерстинкой. Возле копны сена лежал Мокеич. Казалось, он спал, вытянувшись во весь рост, лежа на спине со сложенными на груди руками. Но увидев, что нос у Мокеича синевато-белый, а усы не пушистые, а как бы наклеенные, плоские, Павлушка почувствовал, что произошло что-то непоправимое. Рот у Мокеича был раскрыт, словно он собирался сказать Павлушке: «Человек, брат, все может…».
Марина подвязала ему отвалившуюся челюсть и, скорбно поникнув, просидела рядом всю ночь.
На заре, когда перепел ударил в свой барабанчик, первым проснулся Павлушка и, стараясь подражать Мокеичу, деланно сердитым голосом сказал:
— Пора гнать-то…
Он взял кнут и, с трудом размахнувшись, звонко щелкнул им, приподняв левую ногу, как делал Мокеич.
ОГОНЬ
В тот день, когда запорхали первые снежинки, Лосевы перешли из кособокой избушки в новый дом. На желтоватых бревнах висели янтарные капли смолы, и по всему дому растекался крепкий веселый запах, какой бывает в сосновом бору в летний полдень.
За черными окнами посвистывал ветер, скрипела береза, а в доме Ефима Лосева жарко топилась печь, и дед Филипп, сидя с внуками у огня, говорил:
— Ишь ты, как разыгрался огонюшко! Словно зверюшка, с сучка на сучок прыгает… А хитрю-ущий! Гляди и гляди. Так и норовит из своей клетки выскочить. А уж как вырвется, то и пошел чесать, пасть свою разинет — всю деревню в миг проглотит…
Дети напряженно смотрели на огонь и видели косматые лапы, обхватившие полено, и красновато-дымчатый, как у белки, пушистый хвост, слышали, как с треском зверюшка-огонь разгрызал дрова, и пытались представить себе, как он будет глотать деревню.
— Он же подавится, — сказала самая маленькая, Ольгушка, вспомнив кошку, которая подавилась рыбьей костью.
— Он, брат, не подавится… Злющий зверь! — Дед швырнул полено в печь и строго сказал: — Больше не дам, не проси!
Ефим обстругивал доску у порога, жена его Антонина месила тесто, погружая по локоть руки в дежу. Пел сверчок, которого старшая внучка Надюшка перенесла из старой избушки. Было так, как хотелось людям: тепло, тихо, уютно.
Правда, где-то шла война, но она казалась такой далекой, что совсем не тревожила Лосевых. О войне говорили и в этот вечер, однако тотчас же возвращались к тому, что занимало всех.
— Не приведи бог в такую стужу да в окопе сидеть. Нам-то вот тепло, — сказал Ефим.
— Да уж что и говорить — не дом, а баня, — подхватил дед, больше всего ценивший тепло.
Он закрыл дверку подтопка, и сквозь решетку поддувала дети в последний раз увидели, как метался, повизгивая, рыжий зверек, запертый в клетку.
Вдруг за окнами раздалось какое-то урчание, и тотчас же дом встряхнуло так, что посыпался песок с потолка, висячая лампа качнулась, а ходики остановились.
Ефим выбежал в сени и, очутившись в темноте, увидел белый свет, бьющий в щели. Он распахнул дверь на крыльцо. Над деревней висела какая-то странная луна, излучая такой пронзительный свет, что был виден даже ветряк, стоявший в версте от деревни. Луна эта, медленно опускаясь, плавилась, от нее отрывались горящие большие капли и, не долетев до земли, гасли. И будто от этих огненных капель вдруг вспыхнула крыша соседнего дома.
— Пожар!! — закричал Ефим, вбегая в дом.
Раздался новый удар, и со звоном высыпались стекла. Ефима кинуло на пол. Лампа погасла, а окна налились красным светом пожара. Кричали дети. Ефим пополз на этот крик, схватил что-то теплое, мягкое и понес, приговаривая:
— Не бойся, Ольгушка… не бойся, доченька…
Вся улица была ярко освещена, и по ней, между рядами горящих домов, бежала женщина с распущенными волосами, с коромыслом в руках и дико кричала:
— Ню-ура-а!! Ню-уур-ра-а!!
«Чего же это она „ура“ кричит… и с коромыслом?» недоуменно подумал Ефим и только теперь заметил, что держит в руках овчинный тулуп. С криком: «Ольгушка, Ольгушка!» он бросился в дом, не видя, но чувствуя, что горит и новая соломенная крыша его дома.
Рассвет застал Лосевых на голой промерзшей земле. Антонина, сняв с себя последнюю кофту, укутывала Ольгушку. Руки у нее были по локоть в тесте. Ефим раскапывал палкой угли на пепелище, что-то разыскивая. Дед Филипп сидел в армяке, протянув над углями посиневши руки.
Всюду торчали одни задымленные трубы и печи, — все, что было несгораемого в домах. Печи эти — широкие, пестрые от пятен копоти, с длинными пегими шеями труб — казались какими-то допотопными чудовищами; целое стадо их лежало среди черных скрюченных деревьев, а к небу поднимался серый дым — смрадное дыхание этих чудовищ. И словно торопясь скрыть следы человеческого горя, повалил снег. Но снежинки таяли, прикасаясь к обугленным бревнам, и черное пепелище на фоне яркого первого снега еще сильнее кричало о несчастье людей.
— Жили по-человечыи, теперь будем жить по-овечьи, — с угрюмой улыбкой сказал дед Филипп и тронул за плечо стоявшего в оцепенении Ефима: — Землянку надо рыть. Оно хоть в земле, да в тепле.
Отыскав кусок обгоревшей железной лопаты, он принялся копать яму на том месте, где вчера стоял новый дом, — земля здесь прогрелась глубоко, была мягка, как летом. Яму обложили соломой, принесенной с поля, и спрятали в нее детей, и пока дед с Ефимом складывали в яме печурку из растрескавшихся кирпичей, Антонина затопила уцелевшую от огня печь, чтобы сварить обед. Из пегой трубы показался дым, и странно было видеть эту печь, бессмысленно обогревающую холодный необъятный мир.
Спустя несколько дней через деревню потянулись отходящие войска, и Ефим ушел с ними, чтобы мстить тем, кто сжег его новый дом. Семья же осталась жить в яме, потому что Антонина лежала в лихорадке.
— Пропадете вы, — с тоской сказал Ефим, прощаясь.
— Как-никак исхитриться надо, авось не пропадем, — ответил дед. — Сорока вон бедней нас, и то живет.
Ефим взглянул на сороку, весело трещавшую на обугленной березе, и заплакал, — она чем-то похожа была на его милую Ольгушку.
А через несколько дней пришли немцы. Они что-то кричали, а дед твердил одно:
— С нас взять нечего. Мы голые как есть… В земле живем, ваше благородие.
Немец в летней гимнастерке снял с деда армяк, оставив его в драном зипуне, и крикнул:
— Гау аб!! — что по-русски означало «катись».
С этими криками немцы вытащили из ямы Антонину и детей.
— Гау аб!! Гау аб!!! — орали они, указывая на темневший вдали лес.
Взяв за руки внуков, дед повел их к лесу, а за ними поплелась Антонина, останавливаясь через каждые десять шагов.
В лес пришли к вечеру. Филипп вынул из-под зипуна топор и весело подмигнул детям:
— Обманул немца! Вот тебе и гав-гав! — передразнил он немцев, и дети рассмеялись.
Дед отыскал старую медвежью берлогу под огромным еловым выворотнем, нарубил еловых ветвей, устлал ими дно, и дети с матерью полезли в берлогу, пахнущую мхом и псиной.
— Ну, ведмежатки, крепче жмитесь к матери! Теплей будет и вам и ей, — сказал дед, а сам отправился искать огонь.
Он нашел березовое сухое полено, заострил палочку и. стал этой палочкой сверлить полено, вращая ее между ладонями, как веретено.
Уже стемнело, а дед все сверлил, ни на минуту не прекращая работы. И вдруг во мраке под ладонями старика вспыхнула искра. Филипп осторожно раздувал огонь, подкармливая его, как кормят цыпленка-заморыша, сухой травой, листьями, согревая своим дыханием, приговаривая ласково:
— Ну, ешь, ешь, брат! Набирайся силушки…
Огонь окреп, повеселел, высунул свой озорной язычок, лизнул листья, схватил лапками рыжую хвойную веточку, вцепился в нее — и запахло вкусным можжевеловым дымком.
И на этот огонек пришли люди, изгнанные из землянок в лес. Еще минуту назад они думали, что жизнь окончилась и осталось только умереть. Но вот они увидели огонек, робко засветившийся в лесной чаще, и потянулись к нему — полураздетые, дрожащие от внутреннего озноба, сгорбленные и тоже какие-то обугленные.
Они сидели вокруг разгоравшегося костра и слушали, что рассказывал дед:
— Ну, задумал, стало быть, бог выгнать Адама из рая. И говорит ему: «Бери с собой чего хошь из моего райского богатства». А крутом навалено, стало быть, золота, серебра, брульянтов… мануфактуры всякой, обужи-одежи… Вот Ева и шепчет Адаму: «Бери, мол, поболе золота». А он, Адам, только и взял, что маленький горячий уголек. Бог и говорит ему: «Чудно мне с тебя, Адам! Ни золота не взял, ни брульянтов, только один горячий уголек». Адам и говорит ему: «Был бы огонюшко, а с ним я не пропаду. С этим угольком я себе опять рай устрою».
Дед засмеялся, и все улыбнулись. А костер разгорался, и тьма раздвинулась, уступая силе огня.
ФЕТИС ЗЯБЛИКОВ
Их было двенадцать, и сидели они в холодном колхозном амбаре под огромным висячим замком. Было слышно, как снег скрипел под тяжелыми башмаками часового.
— Видать, крепко забирает мороз, — сказал Фетис, нарушив молчание, тяготившее всех.
А молчали потому, что все думали об одном и том же. Утром их спросили:
— Кто из вас коммунисты?
Они промолчали.
— Ну что ж, подумайте, — сказал офицер, выразительно кладя руку на кобуру парабеллума.
Коммунистов в деревне было двое: председатель колхоза Заботкин и парторг Вавилыч. Заботкин был казнен немцами утром на площади, на глазах всех колхозников.
Заботкин был человеком могучего сложения, — лошадь поднимал: подлезет под нее, крякнет и поднимет на крутых своих плечах, а лошадь только ногами в воздухе перебирает. Накануне Заботкин вывихнул ногу, вытаскивая грузовик из грязи, и не мог уйти вместе со всеми в леса.
Его привязали за ноги к одному танку, а руки прикрутили к другому и погнали танки в разные стороны. Заботкин успел только крикнуть:
— Прощайте, братцы!
И люди запомнили на всю жизнь глаза его — большие, черные, бездонные и такие строгие, что Фетис подумал: «Этот человек спросит с тебя даже мертвый». И каждому казалось, что Заботкин смотрит на него, — вот так бывает, когда смотришь на портрет: глаза направлены прямо на тебя, пойдешь влево — и глаза за тобой идут неотступно влево. И Фетис решил, что Заботкин смотрит именно на него, смотрит строго, укоризненно, как бы говоря: «Эх, Фетис, Фетис! Если бы ты вовремя подал мне доску под колеса грузовика, а не чесал в затылке, то я ногу не вывихнул бы, в плен к немцам не попал бы и не терпел бы сейчас страшных мук…».
И, припомнив все это, Фетис сказал вслух:
— Доску-то… Доску надо бы…
Все одиннадцать посмотрели на Фетиса с недоумением. А парторг Вавилыч переложил свои костыли. Встретив угрюмый взгляд парторга, Фетис подумал: «И этот на меня злобится». Вавилыч и в самом деле смотрел на него неодобрительно, хмуря свои длинные черные брови, и Фетис потупился, думая: «И что за сила у этого калеки?! Посмотреть — в чем только душа держится, а как глянет на тебя — конец, сдавайся».
Вавилыч обезножил два года назад. Везли весной семена с элеватора, а дорога уже испортилась, в лощинах напирала вода. Лошади провалились под лед, а мешки с драгоценными семенами какой-то редкой пшеницы потонули. Вот тогда Вавилыч прыгнул в ледяную воду и давай вытаскивать мешки. За ним полезли и другие, только Фетис оставался на берегу.
С тех пор Вавилыч ходит на костылях, но в глазах его появилась вот эта непререкаемая сила, и Фетису боязно глядеть в эти глаза.
Вавилыч сидел сгорбившись и напряженно думал. Он не сомневался, что немцы казнят и его, и вот теперь было важно установить: что же хорошего сделал он на земле — член коммунистической партии. Какие слова на прощание скажут ему в душе своей вот эти одиннадцать человек? Найдется ли среди них такой, который укажет на него врагу? И он мысленно стал проверять всех, кто был с ним в амбаре. Он хорошо узнал их за пятнадцать лет и видел, что лежит на сердце у каждого, — вот так видны мелкие камешки на дне светлого озера в полуденный час.
Маленький, высохший дед Данила зябко потирал руками босые ноги, — немцы сняли с него валенки. Ноги у старика были тоненькие, волосатые, с узлами лиловых вен. Сын его, Тимоша, командовал на фронте батареей. Ни одного слова не выжмут немцы из человека, сын которого защищает родину.
Умрет, но стойко выдержит все муки и бригадир-полевод Максим Савельевич. Когда Вавилыч вербовал его в партию, он сказал:
— Недостоин. У коммуниста должна быть душа какая? Чтоб в нее все человечество влезло… Я уж лучше насчет урожая хлопотать буду…
Он очень обрадовался, когда услышал, что, есть такие — непартийные большевики.
— Вот это про меня сказано!
…Рядом с ним сидит Иван Турлычкин — существо безличное, полчеловека, но он кум Максима Савельевича и пойдет за ним в огонь и воду.
Вот так, одного за другим, перебрал Вавилыч десять человек и никого из них не мог заподозрить в подлости, на которую рассчитывал враг. Оставался последний — Фетис Зябликов.
Лохматый, угрюмый, этот человек был всегда недоволен всеми и всем. Какое бы дело ни затевалось в колхозе, он мрачно говорил:
— Опять карман выворачивай!
Когда Вавилыч приходил к нему в дом, с трудом волоча ноги, Фетис встречал его неприветливо:
— На аэропланты просить пришел? Или на негров?
Колхозный парторг в речах своих любил говорить: «Вот так живем мы. Теперь посмотрим на негров…». А Фетис бывало непременно крикнет: «Нам на них смотреть нечего!» — и пойдет к дверям. Тогда Вавилыч приходил к нему в дом, читал ему лекции о государстве, об обязанностях гражданина, и в конце концов Фетис подписывался на заем, причем тут же вынимал из кармана засаленный кожаный кошелек и долго пересчитывал бумажки, поплевывая на пальцы.
— Ты, Фетис, как свиль березовая, — сказал ему как то Вавилыч, выйдя из терпения.
Свиль — это нарост на березе; все слои в нем перекручены, перевиты между собой, как нити в запутанном клубке, и такой он крепкий, что ни пилой его не возьмешь, ни топором.
«Так и не обтесал его за пятнадцать лет», с горечью подумал Вавилыч, разглядывая Фетиса.
А Фетис подсаживался то к одному, то к другому и что-то нашептывал, низко надвинув на глаза баранью шапку. Вот он прильнул к уху Максима Савельевича, а тот мотает головой, отмахивается от него руками.
— Уйди, — сурово сказал он. — Ишь чего придумал…
Это слышали все. «Уговаривает выдать меня», подумал Вавилыч и, приготовившись к неизбежному, так сказал самому себе: «Ну что ж, Вавилыч, держи ответ за все, что сделал ты в этой деревне за пятнадцать лет».
А сделано было немало. Построили светлый скотный двор, сделали пристройку к школе под квартиры учителей, вырыли пруд и обсадили его ветлами. Правда, ветлы обломаньц — никак не приучишь женщин к культуре: идут встречать коров, и каждая сломает по прутику… Что еще? Горбатый мост через речку навели… А сколько нужно было усилий, чтобы уговорить всех строить этот мост!
Вавилыч еще раз оглядел сидящих в амбаре и вдруг припомнил, что все эти люди были до него совсем не такими. Пятнадцать лет назад Максим Савельевич побил деда Данилу за то, что тот поднял его яблоко, переброшенное ветром через забор на огород Данилы, а на другой год дед Данила убил курицу Максима Савельевича, перелетевшую к нему в огород. А потом эти же люди сообща возводили горбатый мост и упрекали того, кто не напоил вовремя колхозную лошадь. Теперь все они — члены богатой дружной семьи. И Вавилыч почувствовал радость, что все это — дело его рук, его сердца, что все это построено в душах людских ценой его собственного здоровья, что он с честью выполнил долг коммуниста.
Опершись на костыли, поскрипывая ими, он подошел к двери, чтобы в узкую щель в последний раз окинуть взором дорогой ему мир.
Фетис сидел возле двери и, увидев, что Вавилыч направляется в его сторону, съежился и отпрянул в угол. Здесь было темно. Отсюда он следил за парторгом, и на лице его было удивление, как тогда, когда Вавилыч первым прыгнул в ледяную воду, а он стоял на берегу, не понимая: как это можно лезть в воду и, стоя по грудь, среди льдин, вытаскивать мешки с зерном, которые принадлежат не тебе одному?
Вавилыч смотрел в щель, и лицо его было освещено каким-то внутренним светом, он улыбнулся, как улыбаются своему крохотному детенышу.
И когда Вавилыч отошел, Фетису страстно захотелось узнать, что такое видел парторг в узкую щель. Он припал к ней одним глазом и замер.
Над завеянной снегом крышей его дома поднималась верхушка березы. И крыша, и опушенная инеем береза, и конец высокого колодезного журавля были озарены золотисто-розовым светом. Это были лучи солнца, идущего на закат. Все это Фетис видел ежедневно, все было так же неизменно и неподвижно, и в то же время все было ново и неузнаваемо. Снег на крыше искрился и переливался цветными огоньками. Он то вспыхивал, и тогда крышу охватывало оранжевое пламя, то тускнел, и тогда становился лиловым, и вороньи следы-дорожки чернели, как вышивка на полотенце. Опущенные книзу длинные ветви березы висели, как золотые кисти, и вся она была точно красавица, накинувшая на плечи пуховую белую шаль… Вот так выходила на улицу Таня по праздникам, и все парни вились возле нее, вздыхая, гадая: кому-то достанется дочь Фетиса? Нет теперь Тани, нет ничего… Немцы увезли ее неизвестно куда.
И только теперь, глядя в щель, Фетис понял, что было у него все, что нужно для человеческого счастья. И он все смотрел и смотрел, не отрываясь от щели, тяжело дыша, словно поднимал большой груз.
Он почувствовал вдруг чей-то взгляд на себе, обернулся и встретился с глазами Вавилыча, и были они такие же огромные, черные, суровые, как у Заботкина в последний миг его жизни.
Визжал снег под башмаками немецкого часового, а Фетис все смотрел в щель и думал: «Мне бы в нее раньше глянуть… Вот недогадка!»
Потом он подошел к Вавилычу и, трогая его непривычными к ласке руками, проговорил:
— Озяб, небось… Ну, ничего… Это ничего… На вот, — он протянул ему свои рукавицы.
Загремел замок. Немец закричал, открывая дверь, и сделал знак, чтобы все вышли.
Их поставили в ряд против школы. Все они смотрели на новую пристройку к школе, и каждый узнавал бревно, которое он обтесывал своим топором.
По ступенькам крыльца спустился офицер. Это был пожилой человек с холодными серыми глазами, с презрительной складкой губ.
— Коммунисты, виходить! — сказал он, закуривая папиросу.
Двенадцать человек стояли неподвижно, молча, а Фетис, отыскав глазами березу, смотрел на буграстый черный нарост на ее стволе, похожий издали на грачиное гнездо.
«Свиль… Ну и что ж! Свиль березовый крепче дуба», торопливо думал он, шевеля губами. И в этот момент до слуха его вновь донесся нетерпеливый крик:
— Коммунисты, виходить!
Фетис шагнул вперед и, глядя в холодные серые глаза, громко ответил:
— Есть такие!
Офицер вынул из кармана записную книжку.
— Фамилий?
Фетис широко открыл рот, втянул в себя морозный воздух и с хрипотой крикнул:
— Фетис Зябликов! Я!
Его окружили солдаты и отвели к стене школы. Он стоял, вытянувшись, сделавшись выше, плечистей, красивей. Стоял и смотрел на березу, где чернел нарост, похожий на грачиное гнездо.
В радостном изумлении глядели на него одиннадцать человек. А Максим Савельевич тихо сказал:
— Достоин.
ВАРЕЖКИ
I
Кузьминична вязала шерстяные белые варежки, часто поглядывая на ходики. Было уже три часа ночи, а в шесть утра нужно было отправить Митю в далекий путь.
Маленькая керосиновая лампочка освещала сухие проворные руки Кузьминичны и блестящие мелькающие спицы, нанизывающие петлю за петлей. Клубок белой шерсти тихо шевелился на коленях.
Гладко причесанные волосы у висков были седые до белизны. Плотно сжаты тонкие, красиво очерченные губы. Когда Кузьминична поглядывала на часы, в ее глазах — больших и добрых — появлялась тревога: стрелки бежали сегодня необычайно быстро, так быстро, что Кузьминична подумала: ходики испортились. Но петух во дворе тоже прокричал третий раз за ночь, а петух не ошибется…
И проворные пальцы засуетились, забегали. Нельзя же Митю отправить без варежек. За окном посвистывал злой октябрьский ветер, раскачивал рябину, и она стучала по стеклу голой продрогшей веткой, а Кузьминичне казалось, что это стучит колхозный конюх Демид, чтобы сказать, что лошади для Мити готовы.
Из затемненного угла доносилось ровное, спокойное дыхание сына. И не было ничего дороже, как слушать это дыхание — звук жизни, ею рожденной, согретой, убереженной от множества болезней. И Кузьминична думала с тоской, что стрелка часов сделает всего три круга и наступит то, что неотвратимо надвигается на нее, — жестокое, неумолимое.
Все это совершилось неожиданно и потому воспринималось Кузьминичной как несчастье, как наказание, которого она не заслужила.
Еще вчера вечером она была счастлива. Митя приехал из Москвы веселый, возбужденный, какой-то особенно красивый, и Кузьминична вдруг увидела, что перед ней не мальчик, а взрослый человек, что в душе сына что-то произошло большое, праздничное.
«Полюбил, верно», подумала она, лаская сына, — ее рука легла на мягкие волнистые волосы каштанового цвета. А сын стоял высокий, по-отцовски сутулый, смотрел на нее и говорил грубоватым своим мужским голосом:
— Ну вот, мамуська… Хорошая ты…
Он стеснялся выражать вслух, обычными словами то, что переполняло его сердце, и умолк, прижавшись к материнской груди, а Кузьминична порывисто обняла сына, ощущая запах его волос и табака. И то, что он начал курить, не сердило ее, хоть она не выносила табачного дыма.
Да, это был мужчина, хотя Мите не исполнилось и восемнадцати лет. Он учился в Институте философии и литературы. Кузьминична не понимала толком, чему там обучают, но испытывала гордость, надписывая на конверте:
Студенту философского факультета.
Для нее, прожившей всю жизнь в деревне, вдали от большой дороги и городов, эти слова звучали таинственно и недоступно, но возвышенно, и, произнося их про себя, Кузьминична умилялась. И Митя, понимая, что матери трудно войти в его сложный мир, старался говорить с ней просто, как с ребенком.
— Мамуська, философия — это такая наука. Она открывает человеку, для чего он живет на земле…
— Каждый человек, Митенька, живет для своей радости. Я вот для тебя живу, мой ласковый…
— Это, мамуська, тоже философия, но… как тебе сказать… неправильная. Ведь если каждый для своей радости будет жить, то кто же будет добывать радость для всех? А жить нужно для всего народа, для родины, для всего человечества…
Отсюда для Кузьминичны начиналось непостижимое. Оказывается, и у нее, малограмотной старухи, есть своя философия, а она жила и в простоте своего сердца не знала об этом…
Кузьминична смотрела в окно, на свой привычный милый мир, в котором все было понятно и близко. Под окном красовалась рябина, увешанная желтыми тяжелыми кистями; на низенькой крыше погреба, поросшей зеленым плюшем мха, стоял белый петух, поджав ногу; покачивалось деревянное ведро над колодцем.
Здесь прошла жизнь Кузьминичны, вот под этим низеньким темным потолком. Вот на полке стоит фарфоровая белая чашка, из которой Митя ребенком пил молоко. Кузьминична взяла чашку, чтобы налить в нее молока для сына, и, подавляя горечь, подступившую к сердцу, сказала:
— Тебе видней, Митенька… Я ведь малограмотная. Мне до тебя не подняться…
Митя подошел к матери, обнял ее за плечи, — вот так он в детстве ласкался, когда нужно было загладить какую-нибудь вину.
— Мамуська, — сказал он, тяжело переводя дыхание, — мамуська… собери мне вещи. Я утром должен уехать…
— Уехать? Куда?
— Туда, мамуська, — отвернувшись, ответил Митя и махнул рукой в ту сторону, где догорала вечерняя заря.
Руки Кузьминичны ослабли, и чашка упала на пол, разлетелась на звонкие брызги. Но Кузьминична не слышала этого звука, который минуту назад поверг бы ее в отчаяние. Она непонимающе смотрела на сына, всем существом своим ощущая что-то холодное, ставшее между ними, — вот так бывает, когда льдом затянет реку и сквозь тонкое стекло его виден зеленый еще лист кувшинки и кажется, что там жизнь, но протянешь руку и натыкаешься на холодное препятствие — все застыло, все мертво.
— Митенька, родной… Разве твой год призвали?
— Нет… Я сам иду. Добровольно… Мамуська, я знаю, что тебе больно слышать это, но ты пойми меня… Я не могу… не имею права быть в стороне, когда над нами нависла такая беда…
— Да как же это… Да куда же ты… Митенька! — Мать шептала слова все быстрей, словно от этого зависело — уедет Митя или останется дома: — Сынуша мой… Да что же это такое… Ну, вот вырос ты, радость моя! Я же и не видала, как ты вырос… Ты же совсем мальчиком был вот-вот. Я тебе еще курточку в прошлом году перешивала… а руки твои из нее вылезли…
И когда она вспомнила эту полосатую детскую курточку, слезы полились из глаз неудержимо, — она вся затрепетала, уцепилась руками за сына.
— Не пущу… никуда не пущу… Что ты такое задумал… Для чего же мне жить? Митенька, родной… Пожалей меня, старую! Пожалей мать свою… Я все для тебя отдала… все свое здоровье… Последний кусок; хлеба тебе берегла… Митенька…
Она с мольбой смотрела в его глаза, она целовала его руки, а сын скорбно поник головой, глядя куда-то в пространство, и тонкие губы его дрожали.
— Не могу, мамусенька… Не могу. Я дал слово. Я записался в истребительный отряд… Но ты за меня не бойся, мамуська…
Он успокаивал мать, а рука его тяжело, неловко ласкала ее волосы.
И потому, что нужно было объяснить то великое, что было за пределами маленького материнского мирка, Митя стал говорить громко, горячо, размахивая руками и откидывая со лба каштановую прядь, как привык говорить на собраниях:
— История не простит нам, если мы не одержим победы… Мы должны пойти на великие жертвы во имя будущего нашей родины, будущего всего человечества…
Кузьминична рванулась к сыну, приникла к нему, как бы желая спрятать куда-то внутрь самой себя, под самое сердце, чтобы никому не отдать то, что составляло ее жизнь, ее счастье.
…Быстро мелькают блестящие спицы, нанизывая петлю за петлей. Осталось довязать большой палец… Потом нужно сделать на варежках какую-нибудь метку, а то ведь все варежки похожи, — не заменил бы кто-нибудь. А таких варежек потом не найти: теплые, связанные материнской рукой.
Метка должна быть яркая, крупная, чтобы сразу бросалась в глаза. Надо вышить красную елочку на тыльной стороне…
Все ближе и ближе стрелка часов подползает к неизбежному. В окно постучали. Это Демид. Лошади готовы.
Кузьминична посмотрела на красную елочку, вышитую на варежке, и припала к ней губами, шепча какие-то неслыханно ласковые слова, какие могут изобретать только матери на языке своей безмерной любви.
II
Давно уже легла зима, а рябина под окном все стояла с неубранными кистями, осыпанная снегом, — не для кого было срывать горькие ее плоды, которые так любил Митя.
Лишь сороки по утрам слетались на дерево и затевали шумную драку, роняя в снег рябинки, похожие на капельки крови.
Кузьминична подолгу сидела у окна и смотрела на запад, куда ушел сын. Там по вечерам пылала зимняя холодная и яркая заря. Небо озарялось тревожным светом, точно там разгорался пожар.
— Мальчик мой… Сынуша мой… Митенька, — с тоской шептала мать и снова бессчетно повторяла эти слова.
Так проводила она дни, равнодушная к тому, что совершалось вокруг нее. А между тем издалека стал доноситься глухой гром, люди торопливо укладывали свои пожитки в мешки и уходили, сгорбившись под тяжестью горя. Они звали с собой Кузьминичну, но она сказала, что никуда не пойдет.
То, что надвигалось, не страшило ее, потому что она и не представляла себе всей опасности. Она говорила себе:
«Вот Митенька ушел в самое страшное место, а я побегу спасать себя? Нет. Мне тоже бы уйти вместе с ним, вместе встретить беду. Я бы покормила его во-время, постирала белье… А прятаться мне незачем, зачем мне жизнь, если нет со мной Митеньки? Может, он придет домой, а меня не будет… Скажет: „Сбежала, старая“».
И ей становилось стыдно, что вот она не пошла вместе с сыном, не разделила с ним тяжести, которую он добровольно взвалил на свои сутулые плечи.
Когда немцы вошли в деревню, все население ее состояло из Кузьминичны и белого петуха. Ребятишки, которым было поручено изловить всех кур и спрятать в лесу, долго гонялись за петухом, но поймать его не смогли, потому что он взлетел на крышу.
Он стоял, поджав ногу, и звонко кричал свое «кукареку», как бы подчеркивая свою независимость от грозных событий, и Кузьминична, слушая его бодрый крик, вспоминала о сыне. Жизнью своей петух был обязан Мите.
Кузьминична хотела зажарить петуха на дорогу. Она взяла нож, чтобы отрезать голову, украшенную алым зубчатым гребнем. Петух покорно положил голову на порог, даже зажмурился. Но в тот момент, когда нож уже прикоснулся к его горлу, где-то на деревне закричал петух, и приговоренная к смерти птица вдруг встрепенулась, вырвалась из рук Кузьминичны и прокричала ответное «кукареку».
Нет, это был не крик, а песня, та извечная песня, под звуки которой рождались наши предки, песня, с которой все мы начинали познавать прелесть жизни, песня о горячем солнце, об огороде, пахнущем укропом и тмином, — песня нашего детства. С ней мы просыпались, с ней бежали в школу, выгоняли скот на росу.
И Митя, услышав эту песню, вдруг увидел себя маленьким, а мать свою молодой, черноволосой, и скошенный луг, залитый солнечным светом, и пестренького теленка…
— Мамусенька, пусть живет, — сказал он, и мать выпустила белого петуха во двор, щедрой рукой насыпала ему овса, и когда он застучал по дощечке крепким своим клювом, улыбнулась.
— Пусть живет, — как эхо отозвалась она.
Вот этот петух стоял сейчас на крыше и пел, а по улице ползли танки, и домик Кузьминичны содрогался от их гула, и звенели стекла, и стонала промороженная земля.
Кузьминична вышла на улицу, потому что в домике ей было страшно — предчувствие великой беды сдавливало ей сердце.
— Хальт! Хальт! — раздался резкий крик, неприятный, злой.
Перед Кузьминичной появился человек в обтрепанной шинельке, с завязанными каким-то тряпьем ушами; он потрясал ружьем и кричал свое неприятное «Хальт!», хотя Кузьминична стояла неподвижно и смотрела на огромных черепах, расползавшихся по деревне.
Немец продолжал кричать. Кузьминична не привыкла, чтобы на нее кричали, всегда с ней говорили спокойно и ласково.
— Не ори, — строго сказала она немцу и пошла по двору своей неторопливой походкой, и на лице ее было выражение презрения к этому оборванцу.
Немец вскинул ружье, прицелился в петуха, стоявшего на крыше, и пустил по нему очередь. С крыши скатился белый ком и, подпрыгивая, закружился на земле, а вокруг разлетались белые перья, как осколки от разбитой фарфоровой чашки. Тяжело топая подкованными башмаками, немец пытался поймать трепещущую птицу, а она, волоча перебитое крыло, бежала к Кузьминичне, словно искала у нее защиты. Кузьминична подняла петуха и успокоительно погладила его по голове.
— Хальт!! — заорал немец, протягивая к петуху руки.
Кузьминична вздрогнула и пошатнулась: на руках немца были шерстяные варежки с красными елочками на тыльной стороне.
Других таких варежек не могло быть во всем мире…
Немец вырвал петуха из рук Кузьминичны, перекрутил ему шею и, тыча варежкой в грудь, кричал:
— Жарить! Жарить! — А звучало это непонятно — Шарить! Шарить!
Кузьминична ничего не видела, кроме белых варежек с красными елочками на тыльной стороне.
— Мальчик мой… Сынуша мой… Деточка ты моя, — шептала она. Все вокруг плыло и кружилось, и земля колебалась, уходила из-под ног. Кузьминична погружалась в черный мрак, в котором прыгали и плясали красные елочки.
…Сознание вернулось ней вместе с болью в боку — немец бил ее тупоносым подкованным башмаком и кричал:
— Шарить! Шарить!
Шатаясь, она пошла в дом и затопила печь. Немец ощипывал петуха, сдирая с него перья горстями. Изо рта его текла слюна и висела на заросшем рыжем подбородке. Он сопел, и внутри его урчало.
Он не дождался, пока петух изжарится, вытащил его из печи и начал есть. Он рвал сырое мясо зубами, мотая головой, давясь и рыча. Он припадал губами к фляжке и, чмокая, тянул из нее какую-то жидкость. Потом с удвоенной яростью набрасывался на петуха и рвал его зубами. Трещали кости…
«Зверь, зверь», подумала Кузьминична. Она закрыла вьюшку, забыв в печи тлеющую головню.
Съев петуха, немец выгнал Кузьминичну из дома и, закрыв дверь на крючок, повалился на кровать. Через полчаса, заглянув в окно, Кузьминична увидела, что немец лежит на спине, широко открыв рот, и бессмысленно остановившимися глазами смотрит в потолок.
Кузьминична рванула на себя дверь. Едко пахло угаром. Варежки лежали на лавке.
…В глухих лесах моей родины, в норах, под корнями деревьев, как первобытные наши предки, живут сотни тысяч людей. Они ушли сюда из сожженных сел и деревень, из разрушенных городов, чтобы бороться с врагом до последнего дыхания.
И в эти леса пришла Кузьминична, спрятав на груди своей варежки с вышитыми на них красными елочками.
ЖИЗНЬ
I
По разбитой проселочной дороге идет шагом гривастый конь, запряженный в маленькую тележку, — она кажется почти игрушечной, потому что человеку, сидящему в ней, тесно. Человек этот великанского роста, в серебристой куртке из тюленьего меха, широкий в кости, с крупными резкими чертами лица — председатель Угодско-заводского районного исполкома Гурьянов.
Навстречу едет веснущатый паренек на рыжей кобылке и усердно нахлестывает ее кнутом. Кобылка тянется изо всех сил, бежит вся в мыле.
— Эй, постой-ка! — останавливает его Гурьянов. — Голос его звучит сердито, грубо. — Из какого колхоза?
— Из Ильинского, Михаил Алексеевич, — отвечает паренек, узнав председателя.
— Как зовут?
— Никита…
— Зачем коня гонишь? Видишь, какая скверная дорога?
— Вижу, Михаил Алексеевич, да председатель-то наказывал поскорее ехать за ветеринаром, свиньи у нас что-то болеют… Вот и погоняю.
— Погонять и дурак сможет. А ты видишь, что дорога плохая, сойди и пешочком иди, как твой батька ходил, когда на своем коне ездил. Так ведь ездить надо?
— Так, Михаил Алексеевич! Понятно! — торопливо отвечает Никита и весь мокрый от напряжения слезает с телеги.
Гурьянов скрывается за поворотом, слышен стук колес по корням деревьев, и паренек, облегченно вздохнув, вытирает рукавом потный лоб.
«Ну и велик же он!», восторженно думает он, припоминая огромную фигуру Гурьянова.
А Гурьянов едет и думает: «Ну, зачем накричал на парня? Поучать легко, а ты вот хорошую дорогу сделай… Не век же ездить шагом, как наши отцы ездили…».
Он въезжает в лес, такой густой, что кроны деревьев сплетаются вверху сплошным сводом, сквозь который струится зеленоватый свет. Воздух звенит от раскатистых трелей зяблика. Нежно, меланхолически посвистывает иволга, и Гурьянов вспоминает глиняную свистульку, ярмарку, свое далекое детство… Такую свистульку можно было купить за копейку. Гурьянов наполнял ее водой и, забравшись в заросли лопуха, часами извлекал грустные звуки, удивляясь, почему у глины такой печальный голос.
У дороги — магазин. Гурьянов привязывает лошадь. Войдя в магазин, он долго оглядывает полки, что-то отыскивая среди посуды, коробок с перцем, горчицей, зубным порошком.
— Чего прикажете? — спрашивает продавец, угодливо изгибаясь перед председателем исполкома.
— Свистульку.
— Шутить изволите, — хихикает продавец, подмигивая присутствующим:
— Без всяких шуток. Почему свистульками не торгуете? — сурово спрашивает Гурьянов. — Детишкам ведь нужна утеха. Сам-то в детстве высвистывал?
— Высвистывал! — Продавец мягко улыбнулся, и лицо его стало обыкновенным, человеческим.
— Да ведь теперь их делать перестали, — мрачно сказал человек со множеством карандашей в карманчике пиджака, исподлобья глядя на Гурьянова.
— Это почему же?
— Суровая жизнь у нас… не до свиста.
— Не согласен! — воскликнул старичок с розовым маленьким личиком. — Не в том секрет! А в том, чтобы мастеровых людей, которые игрушки делать могут, поддержать. Забыли их, забросили, Михаил Алексеич! Я вот знаю одного — на все голоса может! Под соловья может. Раскатись кадушки!
— A-а, «Раскатись»? Здравствуй, старик, — приветствовал его Гурьянов.
— Забыли стариков, Михаил Алексеич, прямо скажу! — строго сказал старик. — Взять хотя бы меня. Я ведь какой мастер! На сотню верст кругом обо мне слава раньше ходила — не было лучше бондаря. А теперь вот помру и рукомесло с собой унесу в могилу. А я бы обучить мог хорошего парня своему рукомеслу. Лесу у нас видимо-невидимо. Чего бы я наделал из этого лесу! Всякой всячины. Тут тебе и ведра, и ушаты, и шайки для бани, и веретена, и шпульки… И свистулек деревянных, свирелей, дудочек… Запело бы дерево!
— Ну, уж запоет! — презрительно сказал человек с карандашами.
— А что ты понимаешь? Скрипка из чего? Из дерева. Балалайка из чего? Из дерева. Пастушья труба из чего? Из бересты. Поет дерево, раскатись кадушки! — Старичок в возбуждении хлопал себя по бедрам, — видимо, он был задет за самое больное место.
Гурьянов с любопытством смотрел на него, и ему нравилось в этом человеке горение творческой души, тоскующей по любимому делу.
— Поедем к тебе, старик, — сказал он.
Дорогой старый бондарь, растроганный вниманием, взволнованно рассказывал, какое дерево нужно для бочек под масло, какое для ушатов и корыт, а Гурьянов упорно думал о человеке с мрачным лицом и карандашами в карманчике пиджака.
— Кто это? — спросил он бондаря.
— Меркулов. Неужто не знаешь? Он же у вас теперь в потребсоюзе бухгалтером служит. Смутный он человек…
— Какой?
— Темный душой. Он у нас председателем колхоза был… А потом душа-то на старое повернула. До колхоза-то у него хозяйство какое было? Две лошади, три коровы, молотилка, косилка… пасека, сад. Вот и незаладилось у него с колхозом, вразвал дело пошло. Ну, и он прямо говорил кругом: «Не выйдет ничего с колхозами…». Его на пять лет и отправили в дальние места за такие дела. А теперь вишь — «не до свисту»… «суровая жизнь»… Вот его прежний дом стоит, — показал бондарь на дом в саду. — Дом этот у него мы отобрали, в колхоз взяли. А он все кружится тут, возле своего дружка Трошкина, нашего председателя… Тоску-злобу свою вином заливает…
При въезде в деревню стоит разлохмаченная избушка, живет тут бабушка Репкина. Пока старый бондарь открывал ворота, Репкина успела заметить, что едет Гурьянов. Она вышла на дорогу и поклонилась.
— Лексеич, опять я к тебе с жалобой. Трошкин дров не дает. Неси, говорит, водки. А где я, старая, ее возьму? Уж ты защити меня, Лексеич…
— Давно я добираюсь до вашего Трошкина, — раздраженно сказал Гурьянов. — Передай, что я вечером заеду, пусть собирается народ. Потолкуем.
— Это хорошо, Лексеич. А еще бы ты схлопотал нам больницу. Далеко нам ездить в район. А без больницы нам нельзя.
— Скоро начнем строить в Овчинине больницу. Вот еду место выбирать…
— Все ты об нас думаешь, Лексеич! А кто про тебя думать будет? Вон и пуговица оторвалась, а пришить некому. Снимай-ка, я пришью, пока ты стаканчик молочка выпьешь.
— Молока выпью, бабушка.
Пока бабушка пришивает пуговицу, Гурьянов пьет молоко и, оглядывая прогнившие стены, покачивает головой.
— Мы тебя, бабушка, в доме Меркулова поселим.
— Ой, боюсь я этого человека, Лексеич! Трошкин не допустит…
— А мы Трошкина по шапке… Ну, спасибо тебе за угощенье…
Репкина долго стоит на крыльце, приложив ладонь к глазам, и шепчет ласковые напутственные слова человеку в куртке из меха невиданного зверя. Все удивительно в этом человеке!
За деревней по обеим сторонам дороги высокая рожь. Гурьянов привязывает лошадь к березке и идет по меже среди шелестящих колосьев.
Трещат кузнечики. Над темнозелеными волнами ржи низко летают ласточки. А Гурьянов все идет и идет, вдыхая сладковатый запах цветущей ржи. Он останавливается, захватывает в свои широкие ладони крупные колосья и, подержав их, бережно отпускает.
Он идет, и на лице его проступает легкая улыбка довольства всем, что его окружает: полями, чистым небом, полетом ласточек, запахом цветущей ржи и полевых цветов. Улыбается потому, что рожь не простая, а чистопородная. И только Гурьянов знает, сколько сил нужно было затратить, чтобы создать семеноводческий этот колхоз — рассадник высоких урожаев.
Он бродил, забыв о лошади. Она попрежнему стояла под березкой, отбиваясь от оводов. Вожжи свалились под ноги и были затоптаны в навоз. А рядом стоял Никита.
— Вижу, ваш жеребец — думаю, надо подождать, вместе поедем, — сказал он.
— А я любовался вашими посевами… Богатый урожай будет у вас, — проговорил Гурьянов, стараясь незаметно высвободить вожжи из-под копыт.
— Озолотимся! — важно ответил Никита, польщенный тем, что Гурьянов разговаривает с ним как с равным.
— А как ты думаешь, Никита? Если мы всем районом возьмемся делать дорогу на Тарутино? Выйдем с лопатами. Сделаем?
— Хорошее дело, Михаил Алексеевич! — сразу загорелся Никита. — Я сегодня же соберу комсомольцев, и мы провернем! Сигнал дадим всему району!
…Угрюмы необъятные Угодские леса! Глухой край! Но Гурьянову он милее всех, потому что здесь много дела. И нравится ему ездить без отдыха по лесным сумеречным дорогам и что-нибудь придумывать такое, чего не было до него, Гурьянова.
И вот застучали в лесах топоры, запели пилы. В мастерских промысловых артелей запаривали дуги, ободья, санные полозья, стругали дубовую клепку для бочек под масло. Розовый старичок «Раскатись» застучал обушком по ореховым обручам, нагоняя их на звонкие бока ушатов и бадей. Запело дерево. На базарах появились деревянные и глиняные дудочки, сопелки, свирели, запищали на все птичьи голоса. На полках магазинов заблестели поливой горшки, миски, крынки, горлачи, кувшины с нехитрым орнаментом мастеров гончарного дела. Зацвели яркими красками наличники окон, на карнизах домов плотники и столяры развесили ревную ажурную работу свою — то будто кружевное полотенце, то девичью вышитую рубаху. И повеселели избы, словно солнце вдруг озарило их серые стены, все заулыбалось вокруг Гурьянова. И встретившись как-то с Меркуловым, он сказал:
— Помнишь, ты сказал, что людям не до свиста? А вот свистят. Значит, хорошо жить на свете.
— Может быть, и я когда-нибудь засвищу… Жить и мне хочется, — ответил Меркулов, глядя в землю.
…Шел уже четвертый месяц войны, но немцы были далеко от Угодских лесов. Гурьянов попрежнему разъезжал по району в своей тесной тележке, только ездил он теперь быстро, и конь всегда был в мыле.
Начатое шоссе на Тарутино пришлось бросить: над Угодскими лесами пролетали немецкие самолеты, стремясь к Москве. Однажды Гурьянов увидел Меркулова на улице с оружием. Он маршировал вместе с бойцами истребительного отряда.
«Даже этого человека пробрало», подумал он, глядя в окно.
Был пасмурный осенний день. Тихие улицы поселка жили необычной напряженной жизнью, люди торопились куда-то, суматошно размахивая руками, возбужденные голоса их проникали сквозь окна, крест-накрест оклеенные полосками бумаги.
Уже несколько дней через поселок проходили войска, отодвигаясь на восток. Немцы вступали в Угодские леса.
Гурьянов отдавал последние распоряжения. Он не отходил от телефона. Голос его звучал, как команда — коротко, громко, уверенно. И по звуку этого голоса мгновенно замирала жизнь, которую он вчера еще согревал и двигал. Закрывались мастерские, умолкали топоры и пилы. В реку спускали мотор, чтобы немцы не смогли пустить предприятие. Зарывали имущество, увозили в леса.
Настал последний час. В кабинет Гурьянова вошел секретарь райкома Курбатов с винтовкой в руках.
— Ну что ж, Михаил Алексеевич, пора и нам в лес, — сказал он, протирая очки.
Курбатов был похож на учителя, и было странно видеть его с оружием. Гурьянов неподвижно стоял посредине кабинета, все еще не веря, что завтра в этой комнате будут немцы.
Он взглянул на стол свой, перевел глаза на окно, за которым тянулись провода, уходившие в села и колхозы района, и, схватив со стола телефонный аппарат, рванул его к себе.
Так и ушел Гурьянов, унося с собой телефонный аппарат, крупно шагая в хромовых сапогах по лестнице, скрипевшей под его тяжелым телом.
II
Когда Гурьянов пришел в лес, там уже рыли котлован для землянки. Он взял лопату. Сильный, он выбрасывал сразу больше пуда земли. Он работал яростно, стараясь заглушить душевную боль.
Рядом с ним работал Никита.
— Вот где нам опять довелось встретиться, Михаил Алексеевич, — сказал он улыбаясь.
И Гурьянов, взглянув на его широкое, усеянное веснушками лицо, вспомнил разбитую дорогу, и рыжую кобылку, и вожжи, затоптанные в навоз, и густую рожь, и ласточек, носившихся над ржаным темнозеленым морем. Никита стоял перед ним как воплощение прежней широкой, свободной жизни.
Холодный ветер срывал последние листья. Печально шумела хвоя. К ночи ударил мороз.
Гурьянов стоял с винтовкой на посту часового, вслушиваясь в шум леса. Где-то в вышине, над облаками, гудели вражеские самолеты— они летели на Москву. Издалека доносился шум танков и автомобилей, двигавшихся на восток по шоссе, проложенному недавно колхозниками. Было мучительно стоять во мраке и слышать этот железный гул.
Разведка доносила, что в Угодском заводе стоит штаб какой-то крупной немецкой части. В аптеке обосновались комендант и застенок гестапо. Туда часто заходит Меркулов. Он рыщет по улицам поселка, вытянув свою длинную шею, как лягавая собака…
Из-за куста вышел Никита.
— Михаил Алексеевич, я пришел вас сменить, — говорит он тихо.
— Прошел только час, как я стою. Рано еще, — отвечает Гурьянов.
— Командир отряда, товарищ Карасев, послал меня сменить вас. Вы же замерзнете в своих хромовых сапогах…
— Вот отстою два часа, тогда приходи.
Никита молчит. Они стоят рядом, и Никита слышит тяжелое дыхание Гурьянова, словно он никак не может набрать воздуху в большую свою грудь.
— Меркулов достал из реки мотор и пустил завод, — говорит Гурьянов.
Шуршат мерзлые листья, но кажется, что кто-то крадется во мраке к партизанскому лагерю.
Утром выпал первый снег. Каждый шаг разведчика виден врагу. Немцы идут по этим следам. Приходится переносить партизанский лагерь еще глубже в лесные трущобы. Партизаны уходят, и среди множества следов на снегу выделяется один великанский — гурьяновский.
— Беда мне с тобой, Гурьянов, — говорит, посмеиваясь, командир отряда красивый чернобровый Карасев. — Где я тебе возьму валенки на такие ноги?
— Район наш велик. Найдем по ноге.
— Надо скорее обуваться… Дело предстоит серьезное, придется тебе итти в свой исполком, немцев проведать да и угостить их по-хозяйски. Они давно ждут, что ты им устроишь «банкет».
И вот триста партизан с белыми повязками на шапках тронулись непроторенными лесными тропами в Угодский завод. Гурьянов шел позади колонны, и партизаны говорили:
— Замыкающий у нас отборный боец.
— Не боец, а целая часть!
Рядом с ним шагал Никита.
— Не страшно тебе? — спросил Гурьянов.
— Страшно…
— Ну что ты, Никита! Мы же сильней. Вот смотри, нас всего три сотни, а мы в самом центре немецкой армии и идем себе спокойно по своим лесам, как хозяева.
— На опасное дело идем, Михаил Алексеевич! Не все ведь вернемся…
— Да… Кто-нибудь не вернется. Ну что ж! Как можно говорить о своей жизни, когда смертельная опасность угрожает всей родине! И для чего мне жизнь, если родины не станет?
В полночь партизаны пробрались в парк, прилегающий к центру поселка. Угодский завод лежал в темноте. Кое-где появлялся лишь блуждающий свет автомобильных фар, раздавалось урчание мотора — и снова все заволакивала непроглядная тьма.
Командир отряда Карасев в последний раз инструктировал отряд:
— Наш пароль — «родина». Сигнал для общей атаки — взрыв в аптеке, где находится застенок гестапо. Вперед, товарищи!
Гурьянов повел свою группу к зданию исполкома, где помещался штаб немецкой части. Было весело шагать по темным улицам и чувствовать, что ты сильней, чем враг. Смутно белели повязки на шапках — отличительный признак отряда.
Вторая группа пошла к аптеке, третья — в свиносовхоз — там стояли огромные белые кони першероны, вывезенные из Бельгии, — четвертая к складу огнеприпасов.
Без пяти минут в два часа ночи Гурьянов с группой Карасева приблизился к цели — рядом чернел большой двухэтажный дом исполкома. Немцы снесли все заборы вокруг, и теперь дом стоял открытый со всех сторон.
Гурьянов держал наготове гранату. Всюду было тихо, лишь поскрипывал снег под ногами часовых, прохаживавшихся возле штаба. И вдруг грянул взрыв со стороны аптеки. Тотчас же затрещали пулеметы, раздались еще взрывы, и Гурьянов бросился к зданию исполкома. Немецкие часовые испуганно шарахнулись к стенам дома.
Гурьянов швырнул гранату в окно. Из окон прыгали немецкие офицеры — прямо со второго этажа на землю. Их расстреливали на лету. Тогда осажденные бросились к главному выходу по внутренней лестнице. Гурьянов побежал к подъезду.
Здание уже горело, и Гурьянов при свете пожара увидел, что подрывники закладывают под угол дома пачки взрывчатого вещества.
Знакомые двери! Гурьянов рванул за ручку— закрыто… Кто-то сунул топор, и дверь с треском распахнулась. Гурьянов ворвался в горящий подъезд и метнул гранату в бежавших по лестнице офицеров. Взрывом выбросило куски шинели, сапоги, волной опрокинуло Гурьянова на пол. Он вскочил; без шапки, огромный, страшный в своем гневе, он что-то кричал, сам не понимая своего крика. Это был какой-то оглушающий рев ярости, восторга, мстительной радости…
Немцы выбегали со второго этажа, натыкались на Гурьянова и падали от осколков гранат и выстрелов Карасева.
Но выстрелы раздавались уже на улице рядом. Гурьянов и Карасев выбежали из горящего здания.
На улице было светло, как днем. Пылало бензинохранилище. Гудело пламя, пожирая бельгийских першеронов, немецких солдат, французские грузовики, цистерны, грохотали взрывавшиеся на подожженном складе снаряды.
Из соседних деревень немцы вели по горящему поселку стрельбу из пулеметов, минометов. Пора было уходить…
Гурьянов прибежал в парк без шапки, лицо, его горело от возбуждения.
— Тебя ранили? — тревожно спросил он Карасева, которому медсестра забинтовывала правую руку.
— Немного задело. А ты?
— Шапку вот потерял, — с досадой сказал Гурьянов и, обернувшись, посмотрел на горящий поселок, как бы вспоминая, где же он мог потерять шапку.
…Партизаны уходили в леса. Гурьянов шагал быстро, крупно, шумно дыша. Он часто оглядывался назад. Над поселком стояло яркое зарево, доносились сильные взрывы — это рвались бочки с бензином.
Рассвет застал партизан далеко от Угодского завода.
Над лесом появился немецкий самолет. Он беспорядочно обстрелял чащу и улетел.
Были в пути уже пятые сутки. Продукты давно все вышли. Партизаны едва передвигали ноги. Гурьянов ел снег, чтобы хоть чем-нибудь потушить нестерпимый голод.
— Невмоготу больше, Курбатов! — устало сказал он. — Пойду поищу чего-нибудь в соседней деревне.
— Стоит ли, Михаил Алексеевич? Ведь осталось восемь километров.
— Люди утомились, надо о них позаботиться, покормить. Пойду, — настойчиво сказал Гурьянов и свернул по лесной дороге к деревне.
Было утро. Из труб валил дым и столбом поднимался к небу, предвещая мороз. Гурьянов подошел к крайней избе и постучал в окно, выходящее к лесу. За мутным стеклом мелькнуло испуганное лицо старого бондаря.
— Михаил Алексеевич?! Раскатись кадушки! Откуда?! — радостно и тревожно воскликнул старик, открывая дверь.
Гурьянов устало опустился на лавку. В избе приятно пахло сухой древесиной. Пол был усыпая стружками. На верстаке лежали гладко выструганные бруски.
— Вот работаю, а без сердца, — жаловался бондарь. — Немцы всю душу вынули. Рыщут, ищут партизанов, и нас заодно терзают… И Меркулов со своим дружком Трошкиным возле них увиваются… Обрубил ты им хвост, а уж известно: куцый кобель злей бывает. Уходи, брат! Неровен час, заявятся сюда.
Гурьянов сказал, что он надеялся достать для отряда продуктов.
— И не думай, Михаил Алексеевич, покуда тут немцы. Народ ведь со двора не выпускают…
Старик отрезал большой кусок хлеба и подал Гурьянову.
— На всех нас этого мало, — сказал Гурьянов и, положив хлеб на стол, вышел.
Старик проводил его тропинкой по огороду, и когда уже возвращался домой, услышал несколько выстрелов на опушке леса, где в эту минуту должен был проходить Гурьянов.
Через полчаса немцы приказали всем жителям деревни собраться на площади. Они стояли, тесно прижимаясь друг к другу: такая привычка выработалась у людей с тех пор, как пришли немцы.
По улице провели Гурьянова. Руки его были связаны. Он хромал на правую ногу, и на снегу оставался кровавый след. Его поставили перед толпой, и немецкий офицер крикнул;
— Кто знайт этот челофек?!
Люди молчали, с состраданием глядя на Гурьянова. А он стоял — огромный, спокойный, с выражением глубокого удовлетворения, какое бывает у человека, когда он сделает хорошее дело.
— Кто знайт этот челофек?! — громче повторил немец.
В стороне от толпы стояли Трошкин и Меркулов. Трошкин блудливо прятал глаза, поглядывая на крыши, на небо, на деревья. Меркулов смотрел на Гурьянова в упор тяжелым, злобным взглядом. Карандаши, как всегда, аккуратно торчали из карманчика.
— Я знаю… Это председатель районного исполкома Гурьянов, — сказал он, шагнув к офицеру, но его перебил звучный голос Гурьянова:
— Да! Я председатель здешней советской власти и горжусь этим! А ты чем можешь гордиться, Иуда?!
* * *
Отряд Карасева возвратился с крупной победой. По захваченным документам установили, что удалось разгромить штаб немецкого мотострелкового корпуса, было уничтожено около шестисот немцев. Но не было радости на душе партизан — все думали о Гурьянове.
Никита осунулся, потемнел от тоски. А когда в отряд пришел старый бондарь и рассказал о предательстве Трошкина, Никита вдруг исчез.
Его не было два дня. Он вернулся с запавшими глубоко глазами, постаревший. Он часто погружал свои руки в снег и тщательно тер ладонь о ладонь, словно смывал какую-то липкую грязь. Никто не расспрашивал Никиту — все догадывались о том, куда он ходил и что сделал.
— Теперь очередь за Меркуловым, — сказал Никита командиру отряда и стал проситься в разведку в Угодский завод.
Такая разведка была сопряжена сейчас с огромной опасностью — немцы, напуганные налетом партизан, усилили охрану поселка. Но Никита вошел в поселок.
Он медленно шагал по улице, опираясь на палку. Одна нога его волочилась, подвертывалась, и каждый шаг, казалось, причинял ему жестокую боль, — он стонал, и все лицо его передергивалось в мучительных судорогах. Немецкий солдат, стоявший посреди улицы, приподнял ружье, намереваясь ударить прикладом калеку, но раздумал и лишь лениво сплюнул ему вслед.
Никита поровнялся с домом райисполкома. У подъезда стоял автомобиль, и несколько человек что-то делали возле телефонного столба. Никита вздрогнул, увидев среди немецких солдат человека огромного роста, без шапки, голова его была забинтована чем-то белым. Гурьянов?! Да, это его куртка из светлого меха. Он стоял со связанными руками, но держался так свободно, будто по своей воле закинул их за спину. Одна нога его была в валенке, другая завернута в мешок.
«Били его… мучили», подумал Никита, еле сдерживая крик, готовый сорваться с губ. Он уже забыл о том, что должен изображать калеку. Никита прислонился к забору и так стоял, не спуская глаз с Гурьянова.
Один из солдат, взобравшись на телефонный столб, срывал провод. Другой забрасывал конец провода на концы рельсов, на которые опирался балкон райисполкома.
Солдаты пригнали на площадь нескольких жителей, чтобы устрашить их видением смерти. Они стояли, опустив глаза, и Гурьянов понял, что им мучительней, чем ему: видеть его в беде и не иметь сил помочь.
— Товарищи! — крикнул он своим могучим голосом, и голос его прозвучал чисто, твердо, как в дни праздников, когда Гурьянов говорил с народом на этой же площади. — Товарищи! Меня сейчас убьют враги… Но таких, как я, миллионы! Уничтожайте фашистов! Да здравствует родина! Да здравствует Сталин!
Наброшенная на него петля перехватила дыхание, оборвала голос… Тело Гурьянова качнулось над землей. Но провод не выдержал тяжести великана и лопнул. Гурьянов упал на землю. Немецкий офицер с криком набросился на солдат, не научившихся вешать, — это были пожилые люди, недавно прибывшие на фронт. Офицер быстро и ловко сделал новую петлю.
Никита закрыл глаза, но слезы неудержимо лились по щекам, усеянным веснушками.
К нему приблизились два немецких, солдата. Увидев слезы на лице Никиты, один из них насмешливо проговорил:
— Er grämt sich um seinen toten Vater ab[1].
А другой вскинул винтовку и грубо крикнул:
— Гау аб![2]
Никита открыл глаза и, стиснув зубы от безмерной душевной боли, пошел, волоча за собой ногу.
Тяжелое тело Гурьянова оттянуло провод, и ноги его коснулись земли. И казалось людям, что их председатель стоит под балконом исполкома и, о чем-то думая, смотрит в землю. Вот таким часто видели его жители Угодского завода — погруженным в думы о человеческом счастье.
Десять дней и ночей стоял вот так Гурьянов под балконом исполкома. Он и мертвый внушал своим врагам страх. Немецкие офицеры проходили мимо торопливо, втянув голову в плечи.
С востока надвигалась Красная армия. Все ближе и ближе слышалась артиллерийская канонада. В штабе упаковывали бумаги. По улицам метался бледный Меркулов, как крыса, попавшая в мышеловку.
В декабрьский морозный день красноармейцы ворвались в Угодский завод. С ними вошли партизаны. Тело Гурьянова искали два дня и наконец нашли его в подвале, среди множества трупов.
Под бинтом, которым была повязана голова, врач нашел уголек, волосы были опалены, на затылке — глубокая рана, нанесенная каким-то острым металлическим предметом. Сняли мешок с правой ноги, и здесь зияла огромная рана, нога вся опухла.
— Только Гурьянов мог вынести эти пытки, — сказал врач.
По улице провели Меркулова. Он шел, спотыкаясь, окруженный партизанами.
У гроба Гурьянова в почетный караул стал Никита. Он смотрел на лежавшего среди цветов богатыря, и на возмужавшем лице Никиты было то светлое раздумье, какое бывает у человека, который созерцает возвышенное.
А мимо проходили люди, благодарным взглядом окидывая знакомое, крупное, с резкими чертами лицо. Старуха Репкина остановилась и. сказала громко, как живому:
— Кто же меня теперь защитит, Лексеич? Вовсе разорили немцы…
Подошел старый бондарь, вздохнул и прошептал сокрушенно:
— Эх, раскатись кадушки!
Прошла женщина с синеглазым ребенком, зажавшим в ручонке глиняную свистульку. Ребенку наскучила тишина — он еще не понимал, что такое смерть. Он сунул свистульку в рот, и в скорбной тишине зазвучала песенка иволги— голос неистребимой жизни.
От редакции. М. А. Гурьянову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
ГЛАЗА
На высоте в пять тысяч метров под куполом парашюта раскачивался горящий человек. Дымился комбинезон, горели унты, шлем. Ветер раздувал пламя. Загорелся поясной ремень, начала чернеть парашютная лямка на левом плече.
Макаров сбивал руками пламя, приминал ладонями острые его языки, а вражеский истребитель кружился над ним, расстреливая из пулемета. Пули пересекли несколько строп.
Горевший летчик понял, что спасти его может только быстрое снижение. Он ухватился руками за боковые стропы парашюта, накренился и стремительно пошел книзу. Но земля ничего радостного не сулила Макарову — по дорогам двигались немецкие автомашины и танки.
В стороне тянулся ярко-желтый густой лес, и Макаров с радостью увидел, что ветер гонит его парашют на верхушки деревьев. Немецкий истребитель выпустил последнюю очередь и улетел. Макаров падал, как пылающий факел.
Осенний лес, казалось, был объят красновато-желтым огнем, пылал в лучах заходящего солнца. Макаров погрузился в это пламя осенней листвы и ощутил благостную прохладу. Парашют его зацепился за верхушку березы, стоявшей на опушке, пригнул ее, и Макаров рухнул на землю.
А издали бежали немецкие солдаты, стреляя на бегу в белое пятно парашюта. Макаров освободился от парашюта и побежал, зная, что теперь люди опаснее пламени. Он бросился в лес, дымясь, как головня.
Ветви хлестали его но лицу. Он раздвигал их обожженными руками, прыгал через пни в канавы, углубляясь в чащу. Теперь он был невидим. Он остановился, тяжело дыша. Сбросил с себя шлем, унты, дымящийся комбинезон и побежал дальше. Стало легче. Иногда он останавливался, прислушивался. Выстрелы раздавались далеко, глухо.
«Спасся», облегченно подумал Макаров и присел на землю, под ель. Тихий лесной шум успокоительно подействовал на него. Он дышал, широко открыв рот. Губы его стянула корка ожога, сомкнуть их он не мог без боли. Эта боль чувствовалась в руках, в правом глазу, в ноге, ушибленной при падении с дерева. Потом Макаров ощутил холод, охвативший его разгоряченное тело, — оно остывало быстро, болезненно.
Темнело. Мир сужался, Макаров видел лишь то, что было влево от него, направо уже была ночь. Он притронулся рукой к правому глазу и нащупал опухоль. Глаз закрылся совсем.
Что-то холодное прикоснулось к воспаленному глазу. Макаров протянул руку — на ладонь опустилась снежинка.
Первый снег! Как радовался ему Макаров в детстве! Он в нетерпеливом возбуждении вытаскивал с чердака санки, лыжи и катался по пушистому легкому покрову… И было хорошо в полушубке, еще пахнувшем нафталином. Ах, если бы сейчас на плечи накинуть этот полушубок!
Макаров дрожал все сильней. Он понял, что сидеть нельзя, нужно двигаться, чтобы не замерзнуть. Он встал. Но куда итти?
Он потерял ориентировку, кружа по лесу. Он не знал, в какой стороне могло быть селение. Его окружали деревья, с легким шорохом ронявшие свой летний убор. Между стволами деревьев пробивался лунный свет. Луна была где-то справа, и Макаров пошел ей навстречу, сам не зная, куда может привести его лунный свет.
Он шел, как привидение, в нижнем белье, босой, иззябший, а снег падал все гуще и гуще, и листья под ногами шумели жестко, громко, как металлические.
Он шел так долго, движение согрело его, но сильней чувствовалась боль в ноге. Потом он заметил, что лунный свет меркнет. Это было странно, потому что он видел яркий диск луны, стоявший над лесом. Он ускорил шаги, но вдруг упал, наткнувшись на пень. Поднявшись, он не увидел серебряной лунной дорожки между деревьями, по которой шел до этого. Опять взглянул вверх и не нашел луны, — небо было такое же черное, как стоящая рядом ель. Он опустил глаза вниз, — и снег под ногами был черный… Тогда он донял, что и второй его глаз закрылся.
Он стоял слепой, окруженный мраком. Тихо шумел лес, где-то поскрипывало дерево. Макаров долго вслушивался в этот шум, стараясь уловить какой-нибудь звук человеческой жизни, — нет, ничего, кроме ровного равнодушного шопота деревьев, он не услышал. И тогда он остро ощутил свою беспомощность.
«Самое страшное — потерять зрение», подумал он, протягивая вперед руки. Они погрузились в холодную черную пустоту. И он пошел вот так, наугад, вытянув руки. Он натыкался на деревья, ощупывал их и снова делал неуверенный шаг. Он двигался медленно, и лес казался бесконечным.
«Вот такова же, верно, вечность», подумал он и вспомнил юношеские споры в философском кружке. Тогда вечность казалась Макарову непостижимым понятием, потому что все то, с чем он соприкасался в жизни, было ограничено во времени, укладывалось в календарь. Макаров любил все осязаемое, видимое. Теперь от этого привычного мира остались лишь звуки леса и холодная кора деревьев, к которым прикасались его руки. И это прикосновение к гладким стволам берез, к шершавым елям, к чешуйчатой коре сосны поддерживало в нем жажду жизни и вело все вперед и вперед.
«Хорошо еще, что я могу итти, — подбадривал он себя, когда к нему подступало отчаяние. — Хуже зрячему, который не может итти».
Он понимал, что двигается, как всякий слепой, безотчетно, что в любую минуту он может очутиться перед врагами. Тогда смерть…
Он остановился, снова прислушался. Ветер накатывался лишь короткими, слабыми волнами, а потом и совсем утих. Вокруг была тишина, какой Макаров никогда не слышал. И когда он снова тронулся в слепой путь, листья снова загремели, как жесть.
«Итти, итти», внушал он себе, ощупывая деревья. Ноги его занемели от холода и потеряли чувствительность. Ощущалась попрежнему боль в бедре, в руках, когда они натыкались на колючую хвою или сучки, на лице, по которому хлестали упругие по-осеннему и твердые, как проволока, прутики.
Макаров рассчитывал, что лес кончится, а в поле должна быть деревня. Там — люди, свои, советские. Они помогут…
«Надо итти, итти», убеждал он себя. Так он медленно, но упорно продолжал шагать, прикасаясь руками к деревьям. И вдруг он не нащупал вокруг себя толстых деревьев — большой лес окончился. Он вошел в кусты и понял, что это опушка.
Макаров не мог определить, сколько времени прошло с того момента, как он ослеп, но ему казалось, что ночь на исходе. Вернее, ему хотелось, чтобы это так было.
Он присел на землю, поджал под себя ноги, чтобы согреть их. И то, что он вышел из лесу, как и рассчитывал, придало ему уверенность, что и дальше дело будет складываться в его пользу. В самом деле — он мог не успеть выброситься из горящего самолета, но выбросился, и парашют раскрылся; он мог погибнуть от пуль немецкого истребителя, но они не задели его; он мог сгореть в воздухе, но погасил пламя. За этот день он мог десять раз умереть, но он жив. И пока сильнее смерти.
Вот он сидит на мерзлой земле, раздетый, босой, обожженный, слепой, с руками, покрытыми водянистыми пузырями, губы его покрылись кровоточащей коркой, он не может итти, потому что; в бедре нестерпимая боль, но сила жизни велика в этом человеке, и он ползет…
Макаров полз, опираясь на руки, помогая им одной ногой, а другая волочилась, вызывая боль при каждом толчке вперед. Он быстро устал и, вытянувшись во весь рост, приник к земле. Казалось, была израсходована последняя капля энергии.
Никто не увидит его одинокой смерти. Он замерзнет в этих кустах, может быть, в ста шагах от жилья, как замерз его дядя Онуфрий, заблудившийся в степи; — Онуфрия нашли утром возле своего дома, на огороде. И Макаров вспомнил слова, какие говорили люди тогда; «И осталось-то ему всего две сажени до дому».
«А может быть, и мне остались последние сажени?» подумал Макаров и приподнялся. Отдохнув, он снова пополз, волоча ногу, — она распухла и казалась неимоверно тяжелой.
И вдруг Макаров услышал крик петуха. Он остановился и повернул голову в ту сторону, откуда донесся этот крик. Петух прокричал еще три раза. Голос у него был хриплый, простуженный, но более радостных звуков, чем этот утренний крик петуха, не было для Макарова. Он быстро пополз, но на пути стояла высокая деревянная изгородь. С большими усилиями Макаров перевалился через нее, — под ладонями была пашня.
Дальше он нащупал снопы конопли, а еще дальше стояла невыбранная конопля. Знакомый терпкий запах конопляника вошел в его тело, как живительный напиток. Макаров забрался в снопы. Он решил, что утром женщины придут выбирать коноплю и найдут его.
Он пролежал в снопах недолго. Холод пронизывал его, застыли руки и ноги. Он понял, что не выдержит до утра, и снова пополз.
Вот угол какой-то постройки. Из щелей пахло сеном. Знакомые запахи домашней тихой жизни обступили его и повели. Он нашел по этим запахам двор. Услышал мелкий стук овечьих копыт. Руки его прикоснулись к толстым бревнам избы. Он привстал, обшарил стену и нашел окно.
Волнение его было столь велико, что он не мог даже постучать в окно, и с минуту стоял, трудно дыша обожженным ртом. Он постучал в стекло тихонечко, как стучат юноши и девушки, возвращаясь на заре домой, чтобы легким стуком этим разбудить только чуткую мать.
Скрипнула дверь. Тихий голос спросил:
— Кто ты?
— Я летчик. Свой… Советский. Обгорел… Ничего не нижу…
Женщина взяла Макарова под руку и ввела в избу. Она усадила его на кровать, набросила на плечи полушубок, натянула на ноги валенки. Они были теплые внутри, и Макаров понял, что женщина сняла их со своих ног.
— Обгорел как, сердешный, — проговорила она, смазывая ожоги конопляным маслом.
Макаров схватил ее руку и прижал к обожженным губам.
— Как звать-то тебя? — спросил он.
— Аграфена Михайловна. А тебя как?
— Василий Макаров.
— У меня двое таких вот сынов в армии. Давно не слыхать ничего…
Женщина рассказывала о сыновьях, и Макаров видел их — рослых, чернобровых, красивых, веселых, видел и ее — мать, высокую ростом, сильную телом и духом.
— Если немцы найдут меня, то и тебе не сдобровать, Аграфена Михайловна.
— Это уж так. Убьют, окаянные, — ответила женщина, но в голосе ее не было ни страха, ни раскаяния за свой поступок.
Макаров лежал, погруженный в непроглядный мрак, а женщина рассказывала о своей жизни, о деревне, о конопле, которая осталась невыбранной, и Макаров все видел: и разбросанные по косогору домики, и длинные опустевшие скотные дворы, и школу с разбитыми окнами.
На двенадцатый день к Макарову вернулось зрение, и он впервые увидел Аграфену Михайловну: она оказалась маленькой сухонькой старушкой, с робкими серыми глазами.
А назавтра брат ее, бородатый угрюмый человек, повел Макарова лесными тропами к линии фронта.
Ровным пушистым слоем лежал снег, искрясь под солнцем. Деревья держали его на ветвях своих бережно, как драгоценную ношу. И Макаров нес в душе своей такое же чистое, искрящееся радостью чувство любви к женщине с серыми глазами, которые снова открыли ему родной мир.
Примечания
1
Он горюет о своем умершем отце.
(обратно)2
Убирайся!
(обратно)

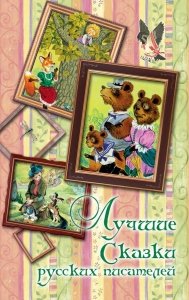







Комментарии к книге «Сила жизни (рассказы)», Василий Павлович Ильенков
Всего 0 комментариев