Анатолий Георгиевич Алексин А тем временем где-то…
У нас с отцом одинаковые имена: он Сергей и я Сергей.
Если бы не это, не произошло бы, наверно, все, о чем я хочу рассказать. И я не спешил бы сейчас на аэродром, чтобы сдать билет на рейсовый самолет. И не отказался бы от путешествия, о котором мечтал всю зиму…
Началось это три с половиной года назад, когда я еще был мальчишкой и учился в шестом классе.
1
«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности, – часто говорил мне учитель зоологии, наш классный руководитель. – Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей!» Кроме того, поступки учеников он ставил в прямую зависимость от семейных условий в которых мы жили и произрастали. Одни были из неблагополучных семей, другие – из благополучных. Но только я один был из семьи образцовой! Зоолог так и говорил:
«Ты – мальчик из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать на уроке?»
Может быть, это зоология приучила его все время помнить о том, кто к какому семейству принадлежит?
Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали его Антоном-Батоном за то, что он был полным, сдобным, розовощеким. Когда он смущался, розовела вся его крупная шарообразная голова и даже – казалось, что корни белесых волос подсвечивались откуда-то изнутри розовым цветом.
Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выходя отвечать, погибал от смущения. К тому же он заикался.
Ребята мечтали, чтобы Антона почаще вызывали к доске: на него уходило минимум пол-урока. Я ёрзал, шевелил губами, делал условные знаки, стараясь напомнить своему другу то, что он знал гораздо лучше меня. Это раздражало учителей, и они в конце концов усадили нас обоих на «аварийную» парту, которая была первой в среднем ряду – перед самым учительским столом.
На эту парту сажали только тех учеников, которые, по словам зоолога, «будоражили коллектив».
Наш классный руководитель не ломал себе голову над причиной Антоновых неудач. Тут все ему было ясно: Антон был выходцем из неблагополучной семьи – его родители развелись очень давно, и он ни разу в жизни не видел своего отца. Наш зоолог был твердо убежден в том, что, если бы родители Антона не развелись, мой школьный друг не смущался бы понапрасну, не маялся бы у доски и, может быть, даже не заикался.
Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы наследственности. Мои родители посещали все родительские собрания, а я писал с орфографическими ошибками. Они всегда вовремя расписывались в дневнике, а я сбегал с последних уроков.
Они вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал своему другу Антону.
Всех отцов и матерей у нас в школе почти никогда не называли по имени-отчеству, а говорили так: «родители Барабанова», «родители Сидоровой»… Мои же отец и мать оценивались как бы сами по себе, вне зависимости от моих поступков и дел, которые могли порою бросить тень на их репутацию общественников, старших товарищей и, как говорил наш зоолог, «истинных друзей школьного коллектива».
Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая семья!» говорили об отце и маме, не ставя им в вину то, что я накануне пытался струей из брандспойта попасть в окно третьего этажа. Хотя другим родителям этого бы не простили. «Образцовая семья!..» – со вздохом и неизменным укором в чей-то адрес говорили соседи, особенно часто женщины, видя, как мама и отец по утрам в любую погоду совершают пробежку вокруг двора, как они всегда вместе, под руку идут на работу и вместе возвращаются домой.
Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг на друга. Мои родители были похожи.
Это было особенно заметно на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба загорелые, белозубые, оба в васильковых тренировочных костюмах, пристально глядели вперед, вероятно на человека, который их фотографировал. Можно было подумать, что их снимал Чарли Чаплин – так безудержно они хохотали. Мне даже казалось иногда, что это звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса. Но Чарли Чаплин тут был ни при чем – просто мои родители были очень добросовестными людьми: если объявляли воскресник, они приходили во двор самыми первыми и уходили самыми последними; если на демонстрации в день праздника затевали песню, они не шевелили беззвучно губами, как это делают некоторые, а громко и внятно пели всю песню от первого до последнего куплета; ну, а если фотограф просил их улыбнуться, всего-навсего улыбнуться, они хохотали так, будто смотрели кинокомедию.
Да все в жизни они делали как бы с перевыполнением.
И это никого не раздражало, потому что все у них получалось естественно, словно бы иначе и быть не могло.
Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете!
Мне казалось, я имел право на проступки и ошибки, потому что отец и мама совершили столько правильного и добросовестного, сколько могло бы быть запланировано на пять или даже на целых десять семей. На душе у меня было легко и беспечно… И какие бы ни случались неприятности, я быстро успокаивался – любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным: у меня лучшие в мире родители! Или, по крайней мере, лучшие в нашем доме и в нашей школе!..
Они никогда не могут расстаться, как это случилось с родителями Антона… Недаром даже чужие люди не представляют их себе порознь, а только рядом, вместе и называют их общим именем – Емельяновы: «Емельяновы так считают! Емельяновы так говорят! Емельяновы уехали в командировку…»
В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города, в местах, называемых «почтовыми ящиками».
Я оставался с бабушкой.
2
Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на бабушку – на мамину маму. И не только внешне.
Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, она гордилась ее мужем, то есть моим отцом, но, как и я, то и дело опрокидывала законы наследственности.
Мама и отец старались закалить нас, навсегда избавить от простуд и инфекций (сами-то они даже гриппом никогда не болели), но мы с бабушкой сопротивлялись. Мы не желали обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям еще раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или отправляться в туристические походы.
Мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечеткости: мы нечетко дышали во время гимнастики, нечетко сообщали, кто звонил маме и отцу по телефону и что передавали в последних известиях, нечетко выполняли режим дня.
Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала хитрого, озорного мальчишку. А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня.
– Ну-с, сколько денег мы откладываем на кино? – спрашивала бабушка.
– Побольше! – говорил я.
И бабушка откладывала побольше, потому что любила ходить в кино так же сильно, как я. Сразу же мы принимали и другое важное решение: обедов и ужинов не готовить, а ходить в столовую, которая была в нашем доме, на первом этаже. Я очень любил обедать и ужинать в столовой. Там мы с бабушкой тоже вполне находили общий язык.
– Ну-с, первого и второго мы не берем? – иногда говорила бабушка.
В столовой мы часто обходились без супа и даже без второго, но зато неизменно брали селедку и по две порции желе в металлических формочках. Нам было вкусно, и мы экономили деньги на кино!..
С бабушкой я попадал даже на те фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались.
– Я очень слаба, – объясняла бабушка контролерам, угрожающе старея и дряхлея у меня на глазах, – он повсюду меня сопровождает… Обещаю вам, что он не будет смотреть на экран!
– Пардон, почему же ты все-таки смотришь? – лукаво спрашивала она в темноте кинозала.
«Я очень слаба!» – эта фраза, часто выручала бабушку.
– Я очень слаба! – говорила она, спасаясь от того, что мои родители считали совершенно необходимым для продления ее жизни: к примеру, от физических упражнений и длинных прогулок.
Мы с бабушкой были «неправильными» людьми. И это нас объединяло.
В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два.
В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю, – мы с бабушкой получали письма каждый день. Мои родители соблюдали строгую очередность: одно письмо – от отца, другое – от мамы, одно – от отца, другое – от мамы… Порядок ни разу не нарушался. В конце письма неизменно стояла дата и чуть пониже всегда было написано: «8 часов утра». Значит, отец и мама писали после своей утренней пробежки и перед работой.
– Фантастика! – сказала однажды бабушка. – Хоть бы раз перепутали очередь!..
Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чем-то их упрекает.
Это было отличительной бабушкиной чертой: по ее тону часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьез, хвалит или высмеивает.
В другой раз, прочитав знаменитое «8 часов утра» в конце маминого письма, бабушка, обращаясь ко мне, сказала:
– Ну-с, доложу вам: ваш отец образцовый тренер! Моя дочь уже просто ни на шаг не отстает от него.
И я опять ничего не понял: хвалила ли она моего отца?
Или была им недовольна?
Почта не отличалась такой безупречной аккуратностью, как мои родители: письма, отправлявшиеся ими словно по расписанию, попадали в наш облезлый почтовый ящик то утром, то вечером. Но чаще все-таки утром… Я сам вытаскивал их и прочитывал по дороге в школу. Это было удобно во всех отношениях: во-первых, я начинал день как бы беседою с отцом и мамой, по которым сильно скучал, а во-вторых, если я опаздывал на урок, то помахивал вскрытым конвертом и объяснял:
– Письмо от родителей! Очень важное. Издалека!..
И мне почему-то не делали замечаний, а мирно говорили:
– Ну ладно, садись.
О себе отец и мама писали мало: «Работаем, по вечерам изучаем английский язык…» Они изучали его самостоятельно и время от времени устраивали друг другу экзамены. Это меня поражало: никто их не заставлял, никто им не ставил отметок, а они готовились, волновались, писали диктанты.
Сами! По своей собственной воле!
Мы всегда особенно горячо восхищаемся поступками, на которые сами не способны, – я восхищался своими родителями.
Рассказав о себе в первых трех строчках, они потом на трех страницах давали нам с бабушкой всякие разумные советы. Мы редко следовали этим советам, но письма читали и перечитывали с большим удовольствием: о нас помнили, о нас заботились… А это всегда так приятно!
В ответ мы с бабушкой предпочитали посылать открытки, которые на почте называли «художественными».
Мы были убеждены, что рисунки и фотографии вполне искупают краткость наших посланий. «Подробности в следующем письме!..» – неизменно сообщали мы под конец. Но это «следующее письмо» так ни разу и не было послано.
Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика целых два письма. И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». Этого еще никогда не бывало. Получать каждый день по письму я давно привык, но два в день… Это уж было слишком!
Я вскрыл первый конверт.
Сергей! Ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день… Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу (и могу!) посоветоваться: ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать, меня: не от кого. Никто тут не виноват: все произошло так, как и должно было произойти.
Все нормально. Все справедливо! Но бывает ведь, знаешь: все справедливо, все правильно, а тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды… Это нормально, это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна. Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо.
Подписи не было. Внизу стояли лишь две буквы: «Н. Е.».
Обычно я читал письма на бегу, иногда спотыкаясь и толкая прохожих. Но тут я остановился.
Кто мог называть моего отца Сергеем? Сережей?.. И обращаться к нему на «ты»? На конверте внизу, под чернильной зеленой чертой, был, как всегда, обратный адрес. Но имени и фамилии не было, а стояли все те же буквы: «Н. Е.».
Кто эта женщина? И почему ближе моего отца у нее никого нет и не будет? Так могла написать только мама!
Я перечитал письмо. У меня неприятно дрожали руки.
Потом я начал непроизвольно, шепотом повторять последнюю строчку: «Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо».
Эта фраза немного успокаивала. «Какая-нибудь общая знакомая – и все, убеждал я себя. – Конечно… Раз она знает маму! И пишет: „Привет жене“».
Но постепенно голос мой сам собою стал звучать как-то насмешливо, и эти слова выглядели уже издевательски по отношению к маме. Я вспомнил, что отец употреблял слово «привет», когда хотел упрекнуть меня в чем-нибудь: «Опять принес тройку? Привет тебе!.. Опять подсказывал на уроке? Привет тебе!» Может быть, эта женщина научилась от отца употреблять слово «привет» в таком именно смысле?..
– Ты чего гудишь себе под нос? – откуда-то сверху, спускаясь по лестнице, спросил сосед.
Обычно, когда я врал, фразы у меня получались бодрыми, нарочито уверенными, чтобы никто не мог в них усомниться. На этот раз я ответил вяло:
– Учу роль…
– Тоскливую тебе какую-то роль поручили, – сказал сосед, находясь уже подо мной, этажом ниже.
Вдруг я вспомнил о втором письме. В тот день была очередь отца, и мне неожиданно захотелось, чтобы он написал какие-нибудь хорошие, ласковые слова о маме. Но отец ничего такого не писал, он выражал в своем письме много разных надежд: надеялся, что я не буду забывать о математике, а бабушка о своем возрасте… Надеялся, что мы не будем каждый день заказывать селедку, потому что у бабушки в организме происходит вредное отложение солей и забывать об этом неразумно.
Как истинный друг школьного коллектива, он надеялся, что спортивный кружок без него не развалится.
О маме не было ни единого слова…
Это показалось мне подозрительным. Подозрительным стало казаться мне даже то, что отец всегда уходил на работу вместе с мамой и возвращался вместе с ней. В этом была, чудилось мне в тот миг, какая-то нарочитость, как в моих фразах, когда я врал, но хотел убедить взрослых, что говорю чистую правду.
В школу я опоздал на целых пятнадцать минут. Но почему-то не стал помахивать в воздухе вскрытыми конвертами… Как назло, был урок зоологии.
– Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, – сказал наш классный руководитель. – Это, я вижу, не всегда верно: иногда падает очень далеко. Очень!..
3
До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем-нибудь сомневался. Если же сомнения все-таки настигали меня, я почти никогда не шел с ними к отцу и маме: советы их были такими четкими и разумными, что до них вполне можно было додуматься самому. Эти советы легко было произносить, но им трудно было следовать: они подходили лишь для таких образцовых людей, какими были мои родители. Я не был образцовым человеком и чаще всего советовался с бабушкой.
Но в тот день я не мог к ней обратиться: все-таки она была маминой мамой.
Иногда я советовался с Антоном. Он выслушивал меня очень внимательно. У него розовели корни волос, и это значило, что он старается глубоко вникнуть в суть моей просьбы или вопроса.
Потом он говорил:
– Я должен подумать. Это очень серьезно.
Так как в моих сомнениях, как правило, ничего серьезного не было, я вскоре забывал о них. А мой добросовестный друг через день или два отводил меня в сторону и говорил:
– Я все обдумал. Мне кажется…
– Что ты обдумал? – легкомысленно спрашивал я.
Антон отчаянно заикался от чувства ответственности за решение того вопроса, о котором я успел позабыть. Это вызывало во мне раскаяние, и я выслушивал своего друга с таким благодарным вниманием, что корни его белесых волос начинали прямо-таки пылать. Советы Антона тоже редко устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил.
Но я верил своему лучшему другу. И знал, что если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему.
И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал ее. Это была, наверно, та единственная беда, с которой я не, мог прийти к своему лучшему другу. И вообще ни к кому… Никому не мог я сознаться в том, что отец (мой отец!) был и будет для какой-то неведомой мне женщины самым близким человеком на свете. Он не был таким даже для мамы… Она часто повторяла, что «для истинной матери самый дорогой человек – это ее ребенок».
– Таков закон природы! – соглашался отец. Он всегда уважал законы.
Я не мог обратиться ни к бабушке, ни к Антону, и я решил сам защитить наш дом, а заодно и свое спокойствие, свою душевную беспечность, ценность которой сразу необычайно поднялась в моих глазах. Я, ничего еще не свершивший, решил сам защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образцовость нашей семьи.
Женщина писала, что приходит с работы часов около шести. В это время я и отправился по адресу, который был написан на конверте внизу, под зеленой чернильной чертой.
Я проехал две остановки на автобусе, прошел немного пешком и остановился возле двухэтажного желтого домика.
Над его окнами нависли витиеватые лепные украшения, на которых, как сосуды на лицах пожилых людей, выступили толстые трещины. На таких старых домах часто, будто заплатки из другого, нового материала, сверкают мрамором и золотом мемориальные доски: «Здесь жил… Здесь бывал… Здесь родился… Здесь умер…» На этом доме доски не было, хотя, конечно, немало разных людей в нем родилось, жило и умерло.
Я долго разглядывал желтое, выцветшее здание, потому что вдруг оробел. И что я скажу той женщине, мне было вовсе не ясно. Все вдруг мне стало интересно. Я разглядывал вату между оконными рамами, грязную, запыленную, с редкими кружочками конфетти: залетели, должно быть, сюда из комнаты в новогоднюю ночь. Я на все обращал внимание: на просаленные свертки, выставленные в форточки, на сосульки, которые нависли над окнами, тоже как украшение, только новенькое, хрустальное. Что я скажу? Как начну разговор?..
Я вспомнил почему-то цветную фотографию из журнала, которая долгие годы висела у нас на кухне, над столиком одинокой соседки: красавица в купальном костюме, опершись на весло, призывала всех жильцов нашей квартиры:
«Путешествуйте летом по рекам!» Одинокая соседка никогда по рекам не путешествовала, и непонятно было, зачем она вырезала и повесила ту фотографию.
Заходя на кухню, отец часто останавливался возле красавицы в купальном костюме и говорил: «Она совершенно права: нет ничего разумнее отдыха на воде!» Отец соглашался с женщиной на фотографии. Это меня раздражало. Я сравнивал ее с мамой и огорчался: женщина с веслом, тоже загорелая, тоже белозубая, тоже с веселыми глазами, была все же красивее мамы. И я всегда старался унизить красавицу: «Знаю таких! Купальный костюм наденут, а плавать не умеют. Весло возьмут, а грести не могут! Теннисной ракеткой помахивают, а в теннис ни разу в жизни и не играли…»
Прохаживаясь в нерешительности возле старого желтого дома, я мысленно представлял себе, как поднимусь по лестнице, как позвоню в квартиру номер семь (она, вероятно, на втором этаже), как услышу за дверью легкие, ничего не подозревающие шаги, как приму гордую позу, протяну письмо и спрошу: «Это вы писали?» – «Да», – ответят мне тихо. «Вам просили его вернуть!..» – и уйду.
Но потом я решил, что так быстро уходить не стоит. Может быть, мне предстоит борьба?
А если дверь мне откроет красавица, вроде той, что коптилась у нас на кухне? И она будет красивее мамы?.. Но, конечно, она не умеет так, как мама, ходить на лыжах и плавать. Не умеет проектировать заводы, имена которых даже нельзя произносить, и поэтому они скрываются под номерами. А мама знает все их тайны! И никто, конечно, не восхищается ею так, как мамой! И расскажу ей все о своей маме, чтоб она и не думала с ней тягаться.
Зарядившись решительностью и гневом, я взбежал на второй этаж. Письмо я держал перед собой… Так жильцы нашего дома, у которых мы нечаянно выбивали стекла футбольным мячом, прибегая к нашим родителям, всегда торжественно держали впереди себя этот самый футбольный мяч: он был главным свидетелем обвинения.
На двери квартиры номер семь висел список жильцов.
«Н. Емельяновой – 3 звонка», – прочитал я. Н. Емельяновой? Что за странное совпадение? Так, может быть, она просто папина родственница? Двоюродная сестра, например?
А я о ней ничего не знаю… Забыли мне рассказать о ней – что ж тут такого? Может быть, у нее нет ни родителей, ни мужа, ни ребенка и – поэтому мой отец – самый близкий для нее человек? Это вполне возможно. Конечно, это так и есть!
Злость моя сразу прошла. И как тот же футбольный мяч, из которого вдруг с шипением вышел весь воздух, я сразу сник, присмирел. Спрятал письмо в карман. Но потом вытащил обратно: я вспомнил, что у женщины этой случилась беда. Странно, но ни разу за весь день я не подумал о строчках, которые были в письме главными, ради которых и было написано все письмо: «Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день… Со мной случилась беда».
Что за мартовский день? Наверно, в тот день кто-то умер.
Или она тогда провалилась на экзаменах, а сейчас кто-нибудь умер… Ведь она пишет, что теперь ей еще труднее.
А зачем я тогда пришел? Просто скажу, что отца нет в Москве, и все. Чтоб не ждала.
Я вновь спрятал письмо и позвонил. За дверью послышались стремительные, нетерпеливые шаги, к двери почти бежали.
Эти три звонка были долгожданными. Но ждали, конечно, не меня.
Открыла женщина. В коридоре и на лестнице было полутемно.
– Ты к кому, мальчик? – не сразу, как будто сдерживая разочарование, спросила женщина. И странно было, что это она только что бежала по коридору: вид у нее был усталый.
– Мне к Емельяновой…
– Ты от Шурика?! – вскрикнула женщина. Но вскрикнула еле слышно, как бы про себя. И еще раз повторила уже совсем тихо, с надеждой, боящейся обмануться: – Ты от Шурика?
– Нет… я по другому вопросу…
4
Войдя в комнату, я вздрогнул и застыл на месте, потому что увидел отца…
Никогда еще я не видел его таким. Он смотрел на меня не своим обычным спокойным или уверенно-жизнерадостным взглядом, а глазами растерянными, словно ищущими чьей-то помощи. И волосы его не были аккуратно зачесаны назад (иногда по утрам он даже натягивал на голову сетку, чтобы ни один волосок не нарушал порядка), – нет, волосы его беспорядочно толпились, спадали на лоб и на уши, которые показались мне очень большими, потому, должно быть, что лицо было худым и узким. На щеках были даже неглубокие ямочки, которых я никогда раньше не замечал.
И одет он был совершенно неузнаваемо… Не было на нем василькового тренировочного свитера («Из чистой шерсти!» – объяснил мне однажды отец), не было белоснежной рубашки и безукоризненно завязанного галстука, не было добротного костюма с редкими, еле заметными белыми полосками на темном фоне, а была какая-то помятая косоворотка с незастегнутыми верхними пуговицами. Косоворотка морщинилась, потому что была велика для отцовской шеи, которая никогда прежде не казалась мне такой беззащитно-тонкой.
А на другой фотографии отец был в солдатской гимнастерке, которая тоже была ему велика. На бритой голове сидела пилотка со звездочкой. А взгляд был безрадостным, горьким.
– Это я получила в сорок первом году, с фронта. Тогда было очень плохо… – неожиданно произнесла женщина.
Голос у нее был мягкий, успокаивающий, как у врачей и медсестер, которые однажды лечили меня в больнице.
Слова «тяжело» и «плохо» они произносили так, будто знали, что очень скоро все будет легко и хорошо. Грустные слова эти звучали у них без малейшего намека на безнадежность.
Она не могла понять, почему я так долго и пристально разглядываю фотографии на стене. Но не спрашивала меня об этом.
И тогда я сказал сам:
– Это мой отец.
Она подошла ко мне совсем близко и стала молча, внимательно смотреть мне в лицо, как это делают люди, страдающие близорукостью. В их откровенном разглядывании не ощущаешь ничего бестактного или бесцеремонного.
Тут и я получше рассмотрел ее. Она и правда была близорука: очки с толстыми стеклами, казавшиеся мне мужскими, не вполне помогали ей – она прищуривала глаза. Трудно было определить, сколько ей лет: лицо было бледное, утомленное, но что-то, какая-то деталь внешности упрямо молодила ее. Потом уж я понял, что это была толстая темная коса, как бы венчавшая ее голову тугим кольцом.
Когда отец знакомил меня со своими приятелями или сослуживцами, те обязательно говорили:
– Папин сын! Похож. Очень похож!.. От такого не откажешься!
Или что-нибудь вроде этого. Хотя на самом дела я был похож на бабушку, на мамину маму.
Женщина долго рассматривала меня, но не сказала, что я похож на отца. А просто спросила:
– Это отец прислал тебя?
– Моих родителей нет. Они уехали в командировку.
Мне захотелось подчеркнуть, что отец и мама уехали вместе. Но слова «мама» я при ней произнести не смог и поэтому сказал: «родители».
– Надолго они уехали?
– Года на полтора, – неожиданно для самого себя соврал я. А потом еще добавил: – Или на два… Как там получится. – И, чтобы скрыть свое смущение, стал подробно объяснять: – А тут ваше письмо пришло. Я утром полез в ящик, думал – от отца, а это от вас… Я его прочитал – и сразу решил…
Тут только я подумал о том, что чужое письмо читать не полагалось, и споткнулся, замолк. Но лишь на полминуты.
А потом от нараставшего смущения стал объяснять еще подробнее:
– У нас с отцом одинаковые имена. А на лестнице по утрам темно, плохо видно. Я не разобрал сперва, кому написано… Вижу: Сергею Емельянову. Я и подумал, что мне. Потом вижу: не мне. Но поздно уже было…
Я протянул ей письмо, которое успел выучить наизусть.
От этого оно выглядело старым, помятым архивным документом.
– Ты, значит, тоже Сергей? – переспросила она. – В честь отца? Это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он много вынес… Особенно в юности. Видишь, какой худой. Заочно учился, работал. Потом добровольцем ушел на фронт. Я не хотела, просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила…
– Вы доктор? – спросил я.
– Да… У него была жестокая бессонница. Спасти его мог лишь спорт. Еще режим дня, дисциплина… Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит?
Отец часто с гордостью говорил, что спит, как богатырь, и даже снов никогда не видит. «Какие нынче показывают сны? – шутил он. – Цветные, широкоформатные?» Но я почему-то не решился сообщить ей об этом. И сказал:
– Спит так себе. Как когда…
Прощаясь, она не просила меня передавать отцу привет, не говорила, чтобы он, когда приедет, зашел к ней.
– Как вас зовут? – спросил я уже в дверях.
– Ниной Георгиевной, – ответила она. И улыбнулась: – Лучше поздно, чем никогда. Хотя это можно понять: мы оба с тобой смущались…
«Она была женой отца, – думал я, возвращаясь домой. – Она не сказала об этом, но я уверен. Здесь, в этом стареньком желтом доме, отец был худым и страдал бессонницей. Учился… Заочно, после работы. Наверно, она ему помогала… Отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила… Но почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему?! Даже бабушка, с которой мы так часто обменивались тайнами. А может, она сама ничего не знает?»
Я слышал, как однажды, в день годовщины свадьбы моих родителей, отец поднял тост за свою первую любовь. То есть за маму… Значит, эту женщину он не любил?
Дома я спросил у бабушки, которая перечитывала Стивенсона или Вальтера Скотта (это были ее любимые писатели):
– Бывает так, что первая любовь приходит потом?.. Человек уже женат, а первая любовь еще не пришла… Так бывает?
– Пардон, я об этом уже забыла. Вот приедет отец – у него и спроси.
– Почему у отца?
Бабушка как-то резко оторвалась от своих любимых приключений, от которых отвлечь ее было не так-то легко, и взглянула на меня серьезно, без своей обычной лукавой улыбки. Конечно, она все знала.
Я смотрел на отца, хохотавшего со стены. На лице у него не было ямочек, шея не была уже худой и беззащитной… Мне вдруг стало неприятно смотреть на эту фотографию.
Хотя ведь она сама сказала, что мой отец – замечательный человек. Сама сказала!..
5
На следующий день я полез в наш старый почтовый ящик не по дороге в школу, а как только проснулся, выскочив на лестницу в трусах и майке. Двух писем на имя Сергея Емельянова прийти уже не могло, это я понимал, а все же я долго не мог попасть тонким, маленьким ключиком в маленький, словно игрушечный, замочек, в который прежде попадал сразу. Я вынул письмо от мамы.
Читать это письмо на ходу я уже не мог. Уселся в ванной, зачем-то заперся и стал внимательно изучать строчку за строчкой, чего раньше ни разу не делал. Всему я теперь придавал преувеличенное значение. И прежде всего отметил, что мамино письмо заметно отличалось от писем отца. Должно быть, и раньше отец и мама писали по-разному, но я не обращал на это внимания. А сейчас вот заметил.
Отец никогда не писал, что скучает по дому, что хочет скорей вернуться, хотя, конечно, скучал. Он считал неразумным расстраивать понапрасну себя и нас с бабушкой, если уж командировка выписана на определенный срок и сократить этот срок невозможно.
Отец часто употреблял эти слова: «разумно» и «неразумно».
– Неразумно зря растравлять себя и других, – говорил он.
Мама себя растравляла. Она писала, что все время видит во сне, будто я заболел (в отличие от отца, она видела сны). Она волновалась, не болят ли у бабушки ноги, в которых происходило то самое вредное отложение солей. Мама клялась, что больше никогда не уедет в столь длительную командировку. Она и раньше обещала мне это.
Я слышал, как в последний раз, перед отъездом, отец уговаривал маму:
– Неразумно оставлять объект без присмотра. Это же наше детище!
– Он тоже наше детище, – возражала мама, указывая на меня. Она очень редко не соглашалась с отцом и делала это робко, сама удивляясь тому, что спорит.
Отец говорил об общественном долге, о том, что на нас с бабушкой можно положиться, что мы оба взрослые люди.
– Он, может быть, и взрослый, – кивнула в мою сторону бабушка, – но о себе я бы этого не сказала.
– Зато я скажу за вас обоих! Вы не можете нас подвести! – воскликнул отец.
В споре он часто переходил на громкие восклицания, которые как-то очень быстро решали спор в его пользу.
В этом письме мама вновь жаловалась, что очень тоскует. Она мечтала о том, что будет, когда они с отцом возвратятся домой.
Этой мечте было посвящено целых полторы или две страницы.
Мама мечтала, что они с отцом приучат меня вставать рано-рано, в половине седьмого, – и мы все втроем будем бегать до завтрака вокруг двора. Она мечтала, что по воскресеньям мы вчетвером, вместе с бабушкой, будем ходить в музеи и на выставки…
Мама уже не первый раз мечтала в письмах обо всем этом, и всегда ее мечты казались мне на расстоянии очень привлекательными. Я готов был вставать ни свет ни заря и бегать по двору (лишь бы мама с отцом скорее вернулись!).
Я готов был ходить на выставки и в музеи, хотя мы с бабушкой явно предпочитали кино (лишь бы мама с отцом скорее приехали!).
Но на этот раз мамины мечты и особенно ее слова: «Все снова будет прекрасно! Все будет так хорошо!» – не вызвали у меня той радости, какую вызывали прежде. Странное, незнакомое чувство мешало мне радоваться этим словам.
Мне словно бы было немного стыдно за то, что все опять бутдет «так хорошо».
«Глупости! – решительно сказал я сам себе, прогоняя неприятное, тревожное чувство. – Какие глупости!.. Разве без нее отец не кончил бы институт? Разве другие врачи не могли вылечить его после контузии?..»
В ванную комнату постучались соседи. И я побежал одеваться с той мыслью, которая пришла ко мне последней: отец и сам бы добился всего! Конечно, всего бы добился: ведь я видел, как он мог и сейчас ночами сидеть над чертежными досками, как мог сам (без всякого принуждения!) изучать английский язык, чтобы потом читать всякие научные книги…
В школу я пришел успокоенный, снова довольный всем на свете.
На последнем уроке Антон получил тройку по физике.
Он знал все прекрасно, но он смущался.
– Тебе бы лучше отвечать после уроков, один на один с учителем. Ты бы тогда не терялся! – утешал я своего друга. – И не надо выходить к доске, а прямо со своего места… Хочешь, я предложу? Так, мол, и так, в связи с заиканием… Ты ведь контрольные как здорово пишешь! А почему? Никто на тебя не глазеет!
Сочинения и контрольные Антон писал хорошо, гораздо лучше, чем отвечал у доски. Все считали, что он у меня сдувает. Это было ужасно несправедливо, потому что на самом деле я сдувал у него.
Антон в тот день очень расстроился. Это было написано у него на лице. Лицо было круглое, большое, и на нем легко было все прочитать. Я решил снова утешить Антона:
– Пошли в кино!
– Прости, Сергей… Но я не смогу. Сегодня у мамы нет ночного дежурства. Она будет дома.
Его мама работала телефонисткой.
– Чудак! Ты ничего не понял. Пойдем на вечерний сеанс, с бабушкой. Скажем, что она совсем ослабела и мы вдвоем ее сопровождаем. Понял?
– Прости, Сергей… Мне неудобно тебе отказывать, но когда мама дома…
– Ты сидишь возле нее? Развлекаешь?
Антон думал о чем-то своем и даже не ответил на мой вопрос. Он сказал:
– Не знаю прямо, как ей дневник показать…
– А ты не показывай. Скажи, забрали на проверку. В гороно!
– Не могу я ее обманывать. Хватит с нее!
– Чего «хватит»?
– Она говорит: «Если и из тебя ничего не выйдет, я утоплюсь».
– А из кого еще не вышло?
– Но это она так считает… что жизнь у нее не удалась. Я очень хочу сделать ей что-нибудь такое… приятное. А приношу домой одни неприятности. Так у меня получается.
Мы дружили с Антоном больше двух лет, но никогда я не был у него дома. Наверно, там было не очень уютно – и он не приглашал.
Маму его я никогда не видел. В тот день она представлялась мне похожей на Нину Георгиевну.
И мне тоже хотелось сделать Нине Георгиевне что-нибудь приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда…
Не решился. Или просто забыл: все расспрашивал об отце.
Хотя с ним никакой беды не случилось…
Я не хотел, чтобы отец защищал ее, и наврал, что он вернется через полтора года. Но сам я мог помочь ей! Вместо отца!..
У меня уже не было ее письма, но я знал его наизусть.
И как это бывает, в памяти сами собой всплывали то одни, то другие строчки. «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды…» Сперва я не обратил на эти строки внимания. А сейчас вспомнил их. Значит, она уже однажды писала отцу, звала его… Но он не пришел? Зачем она его звала?
Когда это было?.. И кто такой Шурик, от которого она с нетерпением ждет вестей?
Я готов был ее защищать! Но ведь она писала, что защищать ее не от кого. Может, ей просто нужно, чтоб кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться?..
Защищать, конечно, труднее, чем «просто выслушать».
Но на защиту не нужно иметь прав: чтобы защитить человека, не надо даже спрашивать его разрешения. А чтобы ты мог «просто выслушать», надо, чтоб тебе рассказали, доверили, чтоб с тобой поделились.
Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал.
6
Однако, подходя к желтому двухэтажному домику, я почему-то вновь забыл о ее беде. Я думал только, как бы мне потактичнее узнать, из-за чего они расстались с отцом. Как об этом спросить? Может быть, так: «Из-за чего вы перестали быть вместе?» Эта фраза заставила меня поежиться: трудно было представить себе, что отец был вместе с кем-нибудь, кроме мамы. Лучше спросить просто: «Из-за чего вы развелись?» Или: «Из-за чего разъехались?» Все эти фразы мне как-то трудно и непривычно было произносить…
– Вы поссорились с отцом, да? – спросил я.
Она улыбнулась:
– Не ссорились и не дрались… Просто так получилось. Я ведь гораздо старше Сергея… Все это можно понять.
Я с радостью вдруг подумал, что мама на целых семь лет моложе отца. Должно быть, лицо мое, помимо воли, на миг выразило эту радость. Нина Георгиевна с чуть заметным удивлением поправила очки. И тогда я, чтобы загладить свою вину, слишком уж громко, с грубо подчеркнутым сочувствием спросил:
– У вас какая-то беда случилась?
Ей не хотелось отвечать на такой вопрос. Она и не ответила. А просто подошла к фотографии, на которой был изображен мальчишка лет трех или четырех, в матроске с серебряным словом «Витязь» на ленте, и стала рассказывать как будто самой себе:
– Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне… Сейчас ему пятнадцать лет и семь месяцев.
Она, конечно, очень любила этого мальчишку, если называла его возраст так точно, по месяцам. Мама тоже так именно говорила о моем возрасте. А отец будто старался сделать меня чуть постарше: «Ему двенадцатый! Ему тринадцатый!»
Тогда я сердился на маму за ее точность – манера отца больше устраивала меня: я хотел в ту пору скорей повзрослеть.
В коридоре раздался звонок. Нина Георгиевна побежала открывать с той неожиданной для нее быстротой, которая уже удивила меня накануне. Я даже не успел сказать ей, что в дверь звонили всего один раз. Я сказал это, когда она вернулась.
– К вам ведь три звонка…
– Я знаю, – мягко перебила она меня. – Я только вижу плохо, а слышу пока хорошо. – И продолжала рассказывать как бы самой себе: – Недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться… Это нормально.
Она не могла больше рассказывать.
Чтоб прекратить молчание, я тихо спросил:
– Его Шуриком зовут?
– А ты откуда знаешь?
– Вы вчера подумали, что я от Шурика… Когда открыли дверь.
– Да… он уехал к своим родителям. Они остановились за городом, у родных. И все не приезжает… Я знаю адрес. Но ехать нельзя: может быть, родители хотят, чтоб он к ним привык. Это нормально. Это можно понять…
Снова раздался один звонок. И снова она побежала открывать.
А вернулась обратно совсем без сил: ей нелегко было ждать. Она опустилась на диван. И стала говорить, но уже не рассказывать, а как бы рассуждать сама с собой, будто меня и не было в комнате:
– Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже… Все-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что он не мой. Вторая потеря в жизни… Тогда я была еще молодой, были надежды. А теперь ничего уже нет. Приговор окончательный: одиночество.
– Хотите, я съезжу? Туда, за город… И привезу его! Хотите?
Она вздрогнула, будто удивившись, что я слышал ее слова.
– Никого привозить не надо. Кто хочет, сам приезжает… Ты согласен?
Я был согласен, но не сказал ей этого. А сказал совсем другое:
– Вы не будете одна, Нина Георгиевна! Хотите, я буду к вам приходить? Хоть каждый день… Честное слово! Хотите?
Хоть каждый день!
7
Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно.
«Как же я буду ездить к ней каждый день? – рассуждал я, вернувшись домой. – Сейчас еще ничего… А потом, когда вернутся мои родители?»
Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать самого себя в том, что делать это совершенно необязательно и даже вовсе не нужно. Так было и сейчас.
Я начал рассуждать: «Ведь я же не сказал ей твердо и уверенно, что буду приходить, а просто задал вопрос: „Хотите, я буду к вам приходить?“ И она мне ничего не ответила – ни „да“, ни „нет“. А ведь если б она хотела, то обязательно бы сказала: „Приходи! Приходи, пожалуйста! Я так буду тебя ждать!“ Она ничего этого не сказала. А я возьму и без всякого приглашения буду ходить? И потом, вообще…
Когда я сказал „хоть каждый день“, это же было, как говорит наша учительница литературы, „сознательное преувеличение, гиперболическое заострение“. Она это, конечно, поняла… А я вдруг залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе и не было!»
Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно.
Но на следующий день пошел…
Дверь мне открыл парень лет пятнадцати. Увидев его, я поправил свою шапку-ушанку, которая одним ухом всегда упрямо сползала мне на лицо, и, хоть был не на улице, застегнул пальто на все пуговицы. Парень был аккуратный, прибранный. И красивый.
У него были волнистые светлые волосы, зачесанные набок, голубые глаза и нежные, розовые щеки.
Вежливо и даже ласково спросил он, кого мне нужно.
Я терялся и благоговел перед мальчишками, которые были всего на два или на три года старше меня, гораздо больше, чем перед взрослыми людьми. Особенно я робел перед теми, которые были не похожи на меня, в которых я чувствовал превосходство. Я и тут оробел и чуть было не забыл имя-отчество Нины Георгиевны.
– Заходи, пожалуйста, – сказал парень.
Он пропустил меня вперед. Я прошел в конец коридора и постучал в последнюю дверь. Парень удивленно посмотрел на меня: откуда я знаю, куда стучать? Но ничего не спросил.
Он гостеприимно распахнул передо мной дверь – и я вновь увидел отца… И опять застыл на пороге. Но парень не торопил меня. Наконец он сказал, не поняв причины моего замешательства.
– Не стесняйся. Заходи, пожалуйста. Она скоро придет.
Мне казалось, он научился мягкости и вежливости у Нины Георгиевны.
Я вошел. Книжный и платяной шкафы были раскрыты, на полу стоял чемодан с откинутой крышкой. Проходя мимо, я заглянул в. него: там, на дне, лежал пестрый свитер и несколько книг.
– Раздевайся, пожалуйста. И садись на диван, – сказал парень. – Чтобы не было скучно ждать, почитай книгу.
Не глядя, он вынул из шкафа и бросил на диван толстый том. Это был сборник медицинских статей.
– Разденься, здесь очень жарко, – заботливо повторил он.
Я посмотрел на его отглаженный костюм, на клетчатую рубашку с отложным воротником без единой морщинки, вспомнил о том, что сегодня на большой перемене посадил два свежих чернильных пятна на свою помятую курточку, и не стал раздеваться.
– Не обращай на меня внимания. Я должен собраться, – сказал он. И стал заполнять чемодан.
Книги стояли на полках плотно, одна к другой, словно в строю. Он вытаскивал некоторые из них, и ряды редели, в них образовались просветы.
Иногда он задумывался:
– Не помню, моя или нет. Кажется, это мне подарили. Сделали б надпись, все было бы ясно.
Один раз он повернулся ко мне и сказал:
– С вещами легче: там уж не перепутаешь.
Он стал складывать в чемодан рубашки, трусы, майки.
Каждую вещь он предварительно разглядывал, словно был в магазине и собирался ее покупать, разглаживая рукой.
Отдышавшись немного, я подумал, что глупо сидеть на диване в застегнутом на все пуговицы пальто и молчать. И я спросил то, в чем был совершенно уверен:
– Ты Шурик?
Он снова повернулся ко мне:
– А тебе это откуда известно? На лбу у меня вроде ничего не написано. Он потрогал свой лоб. – А тут написано: «Витязь».
Он указал на фотографию мальчишки лет трех или четырех, в матроске и бескозырке.
– Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала… Она очень ждала тебя.
Лицо его стало строгим и даже печальным.
– Она меня очень любит, – уверенно сказал он. – И я ее тоже очень люблю. Хотя она странный человек. Не от мира сего, то есть не от того, в котором мы с тобой проживаем.
Добрая очень… И меня бы испортила своей добротой, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко. – Он вздохнул, словно бы жалея себя за то, что к нему были слишком добры. – У нас даже бывали конфликты. Сейчас, когда я узнал своего отца, я понял, что во мне от рожденья – отцовский стержень. Это меня и спасло.
Он продолжал укладывать вещи.
– Я должен был выбрать. У человека не может быть двух матерей. Тем более, что родители мои живут в другом городе. Значит, разлука с Ниной Георгиевной неизбежна. Они ведь тоже очень любят меня. Пятнадцать лет ждали, искали повсюду. Значит, я должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе. Так Нине Георгиевне будет гораздо легче. Если собаке хотят отрубить хвост, это надо делать в один прием. Так сказал мне отец. А есть, говорит он, добрые люди которые рубят хвост в десять приемов, по кусочкам. И думают, что так благороднее. Поэтому я и не приходил… Сейчас вот уйду, а потом напишу письмо. Прощаться с глазу на глаз – это невыносимо.
Я не понимал, почему он мне все это говорит.
А он продолжал:
– Мои родители очень благодарны Нине Георгиевне. Хотя и в детском доме мне было бы хорошо: у нас в стране сироты не погибают. Но в домашних условиях, разумеется, было гораздо лучше. Это даже сравнить нельзя. Мои родители хотели на работу ей написать, официально поблагодарить. Но она категорически отказалась. Не от мира сего!..
Я подумал, что его никак нельзя было бы обвинить в «нечеткости». Он, видно, любил поговорить, и все его фразы были обдуманными, какими-то чересчур завершенными. Он твердо знал, что Нина Георгиевна его очень любила. Он твердо знал, что она могла погубить его своей добротой, но что сироты у нас в стране не погибают. Он был уверен, что родители тоже его очень любили. И что внутри у него – отцовский стержень. Он не сомневался, что хвост надо рубить в один прием.
Нину Георгиевну он четко называл Ниной Георгиевной, хотя раньше (мне это неожиданно пришло в голову), конечно, называл ее мамой. Он ни разу не сбился, не назвал ее так, как раньше.
И все же иногда я улавливал в его голосе еле заметное желание что-то объяснить, оправдаться. Поэтому-то, наверно, он и рассказывал мне то, о чем я его вовсе не спрашивал.
– Думаешь, мне нужны эти рубашки и книги? Родители купят мне новые. Я просто не хочу, чтобы они напоминали Нине Георгиевне обо мне. Ей это будет так тяжело… Лучше уж сразу исчезнуть, лучше один раз пережить – и больше не вспоминать. Вот посмотри, на обратной стороне крышки написано: «Шурик Емельянов, второй отряд». Я с этим чемоданом ездил в пионерлагерь, когда был таким, как ты. Она же будет эти слова читать и перечитывать. А зачем? Лучше я заберу чемодан.
У нас с ним была одна фамилия. Это мне не понравилось.
И еще я заметил, что от висков у него, словно свалявшийся войлок, свисали белесые космы, которые он еще не брил. И от этого его красивое лицо сразу стало казаться мне неприятным.
Он подошел ко мне, взял за плечи и тоном заговорщика произнес:
– Тебя как зовут?
– Сергеем.
– Помоги мне, Сергей! Дождись Нину Георгиевну. Она скоро придет: у нее день родительских консультаций. Скажи, что я очень переживал, что я мысленно с ней прощался. Расскажи, как живой свидетель… Тебе все равно надо ее дождаться! Ты ведь на домашнюю консультацию?
– На какую?
– Как – на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?
– Нет, я из другой…
– Ничего не пойму! Я был абсолютно уверен, что ты на домашнюю консультацию…
– На какую консультацию? – снова спросил я.
– Она же в моей школе врачом работает. То есть в моей бывшей школе. И дополнительные консультации устраивает: родителям и ребятам. В школе и даже дома… Сознательность на грани фантастики! Иногда, бывало, просто отдохнуть невозможно: придет какой-нибудь охламон из «неполной средней» и раздевается тут до пояса, дышит, как паровоз, то носом, то ртом. В общем-то, это, конечно, заслуживает величайшего уважения. Только никто ей спасибо еще не сказал. Я, по крайней мере, не слышал. А ты-то зачем пришел?
– Я по другому вопросу.
– По вопросу? Не буду вдаваться в подробности: некогда. Жаль, что ты не из нашей школы: хотел оказать небольшую услугу. Ответную, так сказать!
– Какую? – полюбопытствовал я.
– Да зачем же тебе, раз не из нашей школы? Хотел вспомнить о шалостях раннего детства…
Он махнул рукой, словно бы стыдясь несолидных детских воспоминаний. Но все-таки стал вспоминать:
– Она ведь почти ничего не видит. И вежлива очень. Даже если не верит, не решается этого показать, чтоб не обидеть. «Не ранить!» – как она говорит. Ребята, конечно, этого не знали. Ну, а я подсказал им по-дружески: если, мол, хотите смываться с уроков, делайте это законно, по всем правилам. Подсказал им, что если сесть от нее хотя бы на расстоянии трех шагов, взять градусник и потихоньку настукивать температуру, она ничего не заметит. У нас, помню, целыми классами настукивали. Особенно перед контрольными. На школу, так сказать, обрушивалась эпидемия! А она ничего не замечала… И выписывала справки, освобождала от занятий. Смешно вспомнить! Заблуждения молодости… Я хотел на прощание сослужить тебе службу. Как говорится, услуга за услугу. К сожалению, ты не сможешь воспользоваться.
Он как-то торжественно и неторопливо согнул руку в локте, рукав пиджака сморщился, полез вверх, и я увидел у него на руке красивые плоские часы.
– Отец подарил, – между прочим сообщил он. И сразу заторопился: – Мне пора! Скоро Нина Георгиевна вернется. Очень хочется ее увидеть, но разговор принесет ей только расстройство. Лучше потом напишу письмо.
Он вернулся к своему чемодану. Стал закрывать крышку, но она не захлопывалась до конца: то вылезал кончик рубашки, то высовывались трусы.
Тогда он сел на крышку и так, сидя на ней, закрыл чемодан на ключ. Но синие трусы все же продолжали торчать…
На прощание Шурик еще раз повернулся ко мне:
– Очень хорошо, что ты здесь оказался. Я потом напишу Нине Георгиевне. А ты скажи, что я очень переживал. Это правда. Я ведь люблю ее. И многим обязан… Но если нашлись родители? Я ведь не виноват.
8
«И этот ее покинул», – мысленно сказал я себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь.
Но он тут же вернулся. Я подумал, что он все-таки хочет ее дождаться.
Шурик положил на стол два ключа и сказал:
– Передай ей, пожалуйста. Вот этот, английский, от парадной двери… Впрочем, она знает. Теперь мне не будет пути: вернулся.
«Пусть не будет…» – подумал я.
Боясь встретиться с ней по дороге, он удалился почти бегом, припадая на правую сторону: руку оттягивал чемодан.
Он удирал…
Я смотрел на мальчишку в матроске и бескозырке с серебряным словом «Витязь»…
«Витязь! – думал я. – Рыцарь! Исчезнуть… Так ей будет легче! И в детском доме было бы хорошо… У нас в стране сироты не погибают… Все правильно. Все абсолютно точно».
Я представлял себе, как много лет назад Нина Георгиевна купила ему этот нарядный матросский костюмчик, как долго причесывала его перед тем, как повести к фотографу: из-под бескозырки продуманно выбивались светлые волнистые волосы. Но часы она ему купить не успела.
Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. «Они ведь такие разные, – говорил я себе. – И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома».
Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Память, словно желая поспорить со мной, вновь и вновь злонамеренно возвращала меня к строчкам письма Нины Георгиевны, которые были мне непонятны: «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды…»
Стукнула парадная дверь. В коридоре раздались шаги – снова быстрые, неусталые: она спешила, она думала, что он ждет ее. Тем более, что, убегая, Шурик неплотно закрыл дверь и в коридор выбивалась полоска света.
Я схватил ключи, лежавшие на столе, и сунул в карман пальто. Я сделал это необдуманно и лишь потом понял зачем: эти оставленные на столе ключи говорили о чем-то окончательно непоправимом.
Не веря своим близоруким глазам, Нина Георгиевна обошла комнату. И, даже не поздоровавшись со мною, спросила:
– Спрятался?.. – Вполголоса, доверительно она сообщила мне: – Это привычка у него с детства. Закрылся в шкафу?
Она распахнула платяной шкаф. Должно быть, раньше вещи Шурика заполняли шкаф целиком: теперь он был почти совершенно пуст.
Нина Георгиевна присела на стул. Так мы сидели с ней друг против друга, в пальто, застегнутых на все пуговицы.
– Он был? – спросила она.
Я кивнул.
– А сейчас?
– Он ушел… Он сказал, что напишет письмо.
Она сгорбилась, пригнула голову. Мне показалось, что Шурик ударил ее тем самым отцовским стержнем, который был у него внутри.
Из-под шапки не было видно ее темной косы, и поэтому ничто не молодило ее лица: оно было бледным, измученным.
Чтоб успокоить ее, я сказал:
– Шурик будет писать вам… Вы будете с ним переписываться!
– Он должен был выбрать, – сказала она. – И выбрал мать и отца. Это нормально. Это можно понять.
И тут со мной произошло что-то странное. Я не мог усидеть на диване. Почему она всегда «может понять» тех, кто приносит ей горе? Почему считает «нормальным» все плохое и несправедливое, что случается с ней? Мне уже не хотелось больше успокаивать ее. И я не заговорил – я закричал:
– Ваш Шурик – предатель! Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас… Как предатель!
Теперь уже я ударил ее.
Она сняла очки, словно думала, что они обманывают ее, что это не я кричу на всю комнату. Я увидел ее глаза – прищуренные, близорукие, беззащитные. Но во мне не было жалости. Наоборот, мне хотелось взбудоражить ее, возмутить, сделать так, чтоб она закричала в один голос со мной. Хотя продолжал я уже не так громко, как начал. Но все-таки упрямо продолжал:
– Он рассказал своим дружкам, что вы плохо видите. И что вы добрая… Они обманывали вас. Настукивали температуру… Чтоб убегать с уроков. Это он подучил их! А вы им верили.
Она сгорбилась еще сильнее, еще ниже пригнула голову.
И взглянула на меня исподлобья – очень странно, будто осуждая за то, что услышала. Осуждая не Шурика, нет, не Шурика, а меня.
Не поняв этого взгляда и испугавшись, я стал утешать ее:
– Это было давно. Когда Шурик был еще маленьким… Он просто не понимал. Был еще несознательным! А сейчас ему стыдно. Он сам сказал мне… Честное слово! Не верите?
Я защищал Шурика, хотя она его ни в чем не упрекала.
Я как бы извинялся за то, что посмел обидеть его.
Она не слушала меня. Она разговаривала сама с собой:
– Это можно понять. Это нормально… Я ведь не детский врач, я невропатолог.
Стало быть, она осуждала не только меня, но и саму себя.
Всех, кроме Шурика. Это было непостижимо. Она продолжала:
– Значит, я не имею права лечить детей. Я их люблю! Ну что ж, тем более не имею права… Они обманывали меня? Значит, не уважают.
– Что вы! Что вы?! – Я замахал руками. – Это взрослые, когда уважают, то не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово!
Она не слушала, а я настаивал на своем:
– Так бывает. Честное слово! Вот мы, например, очень уважаем учительницу литературы. Мы даже любим ее! Недавно она спрашивает в начале урока: «Я вам задавала домашнее сочинение?» А мы все хором орем: «Не задавали!»
Она говорит: «Склероз начинается: все позабыла». А у нее никакого склероза нет. Просто мы ей наврали. Вот видите: уважаем, а все равно наврали! С нами это часто бывает. Не верите? Честное слово!
Казалось, я тоже разговаривал сам с собой: слова мои до нее не доходили. Она продолжала размышлять:
– Он так поступил ради друзей. Это можно понять. А я?.. Не должна я работать в школе. Я люблю ребят, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас, посреди учебного года, уйти нельзя. Но до лета надо будет обдумать… Это мне ясно.
Что было делать? Я не смел рассказывать ей об этих проклятых градусниках. Не имел права!..
Она подошла к стене, сняла фотографию Шурика. И прижала ее к груди. И погладила рамку. После всего, что я ей рассказал…
9
Из моей жизни ушла беспечность. Я был уже не таким счастливым, как раньше. Потом, став взрослее, я понял, что беспечное счастье вообще выглядит жестоким и наглым, потому что еще далеко не все люди на свете счастливы. Мне казалось, что у меня изменилась походка, что я стал двигаться медленнее, словно отяжелев. На самом деле ходил я все так же быстро («летал», как говорила мама), – немного отяжелела моя голова: я стал чаще задумываться. И даже стал упрекать самого себя, чего прежде никогда со мной не случалось.
Целый вечер в тот день я мучился. «Зачем было рассказывать об этих несчастных градусниках? Думал, что она сразу возненавидит Шурика? Не мог вытерпеть этих ее „можно понять“, „все нормально“? А если она бросит школу? Вполне на нее похоже!» Этого я не мог допустить! Казалось, отец, уйдя из того дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться.
То и дело я мысленно сравнивал отца с Шуриком, чтобы убедиться, что между ними нет ничего общего. «Шурик предал ее! А отец вовсе не предавал, – объяснял я себе. – Мало ли людей расходится на белом свете? Разве все они виноваты?»
Так или иначе, но теперь, кроме меня, у Нины Георгиевны никого не было. Да и меня у нее тоже не было, потому что мы с ней еще не стали друзьями.
Известно, что истина, даже старая, приходя к человеку впервые, кажется ему открытием. В тот день я окончательно убедился, что материнская любовь не слушает доводов и переубедить ее невозможно. Я и прежде не раз думал об этом.
Давным-давно я вычитал где-то, что родители любят неудачных детей еще сильнее, чем удачных. Теперь я спросил об этом у бабушки.
– Ты можешь судить по себе, – сказала она. – Кто еще получает письма от родителей так часто, как ты?
Бабушка, как обычно, шутила. В том, что отец и мама любили меня, не было, конечно, ничего странного. Я был уверен, что это ни у кого не могло вызвать удивления…
А Нина Георгиевна? Когда я рассказал ей о Шурике, в ее глазах была неприязнь ко мне. Захочет ли она теперь меня видеть? Но все равно я не мог оставить ее одну…
«А что это значит: оставить одну? – раздумывал я. – Возле человека, попавшего в беду, могут находиться десятки людей, а он все-таки будет один, если эти люди не нужны ему, если он не считает их своими друзьями. Нужен ли я Нине Георгиевне? Если даже не нужен, я все равно не могу не прийти к ней сейчас. Но как это сделать? Если б мы были друзьями, все было бы очень просто: чтобы явиться к другу, не нужен повод – можно зайти, когда захочется, просто так, без всякого приглашения. А как я явлюсь к ней после того разговора?»
Мне нужен был повод. И я начал его искать.
Обычно я без труда находил выход из трудного положения.
– Это потому, что у тебя диктаторские замашки, – говорила бабушка. – Ты убежден, что цель оправдывает любые средства. А так всегда легче действовать: руки не связаны.
Я и правда мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это мне было нужно. Действовать так было в самом деле и проще и веселее. Впрочем, мои обманы и розыгрыши были не очень серьезны, как и цели, ради которых я их совершал.
Теперь, быть может, впервые в жизни, я попал в сложную, необычную ситуацию, но мысль моя, не желая с этим считаться; устремилась в привычном для нее направлении.
Я должен был отыскать причину, которая бы позволила мне вновь подняться на второй этаж старого желтого домика. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может работать в школе. Два этих замысла вполне можно было объединить. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью! Пусть спасет какого-нибудь мальчишку от серьезного, очень опасного заболевания. «Хорошо бы, от смертельного!» – мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? «Лучше всего пусть спасет меня! – внезапно решил я. – Ну конечно: меня самого!»
Я быстро составил план действий. И ночью приступил к его выполнению. Да, именно ночью!
Мне очень хотелось спать, но я встал, разбудил бабушку и сказал:
– У меня жестокая бессонница…
– Пардон, какая?
– Ну, очень тяжелая… Наверное, это законы наследственности!
– Со сна не пойму: какие законы?
Тут я вспомнил, что бессонница была у отца там, в двухэтажном домике, но бабушка могла об этом не знать: в нашей квартире отец спал «богатырским сном». Я сказал:
– Может быть, дедушка или прадедушка этим страдали?
– Один из двух твоих дедушек был, помнится, моим мужем. Он спал превосходно. Другого дедушки я не знала, но если судить по отцу…
– Да… конечно… Он спит богатырским сном. Но я не сплю уже третью ночь.
– Не смыкаешь глаз?
– Смыкаю. Но ненадолго…
– Ну-с, все понятно. Только рано это у тебя началось.
– Я знаю… Обычно не спят старики?
– Осторожней насчет стариков! Я имею в виду другое: ты влюбился? Как же, припоминаю: на днях ты спрашивал что-то о первой любви.
– Чтобы я из-за этого?.. Никогда в жизни! Я чувствую, что немного болен… И хочу обратиться к врачу. Мне сказали, что есть один доктор. Кажется, женщина… Она лечит людей от бессонницы. Я схожу к ней.
– В последнее время ты вообще много ходишь, – сказала бабушка. – Я не стесняю твою свободу. Но свобода приносит людям прогресс, а тебе, кажется, одни только двойки.
– У меня нету двоек.
– Так будут, – пообещала бабушка.
– Из-за бессонницы я могу вообще остаться на второй год! А эта женщина замечательно лечит. У себя дома… И совершенно бесплатно! Ты только должна будешь написать ей письмо. Хоть несколько строк: «Благодарю за спасение внука!..» Или что-нибудь вроде этого. Ей будет очень приятно.
– Ты вовлекаешь меня в авантюру. Но я очень слаба… – сказала бабушка, вновь дряхлея у меня на глазах. – Я очень слаба и не в силах с тобой бороться. Можешь идти к врачу. К профессору! К гипнотизеру! Лечись! Выздоравливай!.. Только не мешай мне спать: я приняла две таблетки снотворного.
– Так, может быть, эта дурная наследственность от тебя?! – радостно воскликнул я.
– Пардон, ты мне надоел.
Бабушка, как всегда, готова была не мешать мне. И даже помочь. Но я еще долго вздыхал, ворочался, два раза вставал и громко пил воду, чтобы она все-таки слышала, как я страдаю.
На другой день после уроков я решил поехать к врачу.
По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на все возможные удивления, вопросы, недоумения.
Но на этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, бойкими, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно выступал и от имени своей собеседницы. Слова ее становились все резче, все злее. Она не была уже похожа на Нину Георгиевну. А разговор продолжался. Я слышал его как бы со стороны – и один из собеседников мне был неприятен: этим собеседником был я сам.
– Вы садитесь? – раздался сзади нервный, подталкивающий голос: подошла моя очередь садиться в автобус.
– Нет, я не еду… – ответил я.
И поплелся домой. Я был в растерянности. Не понимал: что же произошло? Почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным?
И только сейчас, когда прошли годы, я понял: от меня уходило детство. Уходя, оно предлагало мне помощь, которой я уже не мог воспользоваться…
10
Обмануть Нину Георгиевну я не смог.
Но я должен был доказать, что действительно верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей!..
«Должен любой ценой!» – сказал бы я раньше. Теперь любая цена не подходила: я был, как говорят, ограничен в средствах. Действовать в этих условиях было труднее.
Как достичь своей цели без розыгрыша и обмана? И вдруг я поразился самому себе: какой же я недогадливый идиот! Зачем было будить ночью бедную бабушку, если есть на, свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания! А ведь Нина Георгиевна по профессии как раз невропатолог. Она спасет моего лучшего друга! И потом мы всем классом напишем ей благодарность! И она сразу поверит в свои силы… Тут все будет честно и благородно!
После уроков я попросил Антона остаться в классе.
– Будет серьезный разговор, – сказал я.
– Что-нибудь случилось? – участливо спросил мой друг.
– Еще не случилось. Но скоро случится! Я придумал, как помочь твоей матери.
– Маме?..
Я знал, что Антон будет отказываться от моего плана, и решил призвать на помощь его маму.
Антон сидел на нашей «аварийной» парте, а я – за учительским столиком. С этого места, решил я, мои фразы будут звучать убедительнее. Антон волновался: корни его волос начали постепенно окрашиваться в розовый цвет. Я не стал мучить его и сразу приступил к делу:
– Есть одна женщина, которая будет лечить тебя. Прямо с завтрашнего дня. Она замечательный врач. Не-вро-пато-лог! Понял? Это как раз то, что тебе надо. Ты станешь смелым и гордым! И будешь приносить матери одни только пятерки.
– Я должен подумать. Это очень серьезно.
– Нечего думать. Я больше не могу слышать, как ты заикаешься! Не могу видеть, как ты смущаешься у доски!
– Спасибо, Сережа… – отчаянно заикаясь от неожиданного предложения, сказал Антон. – Но у меня просто такой характер. Врачи этого не лечат…
– Ты разве не помнишь, что сказал наш зоолог?! – воскликнул я. – Он сказал однажды, что твоя застенчивость принимает болезненные формы. А раз болезненные, значит, можно лечить. И она вылечит! А мы потом всем нашим классом выразим ей благодарность. В письменном виде.
– Весь класс будет знать, что я лечусь?..
– Пожалуйста, если не хочешь, буду знать только я. И твоя мама… И мы вдвоем выразим благодарность. В письменном виде!
– Обязательно в письменном?
– Обязательно! Чтоб осталось на память.
– Прости, Сережа… Но если ее лекарства не помогут?
– Я прошу тебя вылечиться… Ты можешь для меня это сделать?
– Сережа… ты так этого хочешь? Ты так переживаешь за меня? Я не знал…
Мне было немного не по себе. Выходило, что я все же не очень искренен со своим лучшим другом. И, как всегда, когда я хитрил, фразы у меня получались бойкими, нарочито уверенными. Кажется, я вновь поступал не совсем «четко».
«Но ведь Антон действительно может выздороветь! – подбадривал я себя. Значит, все честно и благородно! Важно только, чтобы Нина Георгиевна согласилась…»
– Я к вам по важному делу! – сказал я ей, словно извиняясь за свой приход.
На эту фразу она не обратила внимания: даже не поинтересовалась, по какому именно делу. А войдя в комнату, спросила:
– Ты прямо из школы?
– Я заходил домой.
– Но, может быть, хочешь обедать?
– Я пообедал… в кафе. – И зачем-то добавил: – Честное слово!
– В кафе? – удивилась она. – Ты что же, остался совсем один?
– Нет, с бабушкой.
– С маминой мамой?
Я кивнул… Ни до того, ни потом мы с ней ни разу не упоминали о маме. Словно это было запретной темой. Ни разу и никогда…
Помню, в тот миг мне неожиданно захотелось, чтобы и об отце мы с ней больше не разговаривали. Я решил напоследок выяснить то, что меня волновало: расшифровать те непонятные строчки в ее письме. И еще мне хотелось, быть может, немного оттянуть разговор о своем деле.
– Нина Георгиевна, – сказал я, – вы писали, что отец может не захотеть к вам прийти, «как это уже было однажды».
– Ты выучил письмо наизусть?
– Нет… я просто запомнил эти слова. Вы когда-нибудь раньше ему писали?
Она долго молчала, будто не решаясь ответить на мой вопрос. А потом стала вслух размышлять:
– Если Сергей пришел бы тогда? Может быть, с Шуриком все было бы иначе?.. Вряд ли, конечно. Но мне так казалось. Это было, когда Шурик учился в четвертом классе. Я помню тот день, двенадцатого февраля. Одноклассники устроили Шурику «темную». Я не стала допытываться за что. Ему было обидно. И он очень хотел отомстить! Мы ужинали вот за этим столом… Он выдал мне тайны своих приятелей. Смешные, конечно, тайны, мальчишечьи. Но он был уверен, что это «страшные тайны». И рассказывал о них шепотом. Оглядывался по сторонам… Он хотел, чтобы я донесла директору и его приятелей наказали. Я уже тогда работала в школе и дружила с директором. Сейчас его уже нет, он умер… Я отказалась, а Шурик кричал, требовал, разрыдался. Мне стало немного страшно… Я не смогла объяснить ему, не смогла убедить. И решила, что ему нужен сильный мужской разговор. Не с директором, не с учителем, а просто со старшим, но только с мужчиной. Я написала Сергею. Больше мне некому было писать. Я все ему объяснила. Но он не пришел… Думаю, он заботился обо мне: боялся, что я буду вновь, как он говорит, «растравлять» себя. Это можно понять.
Конечно, отец счел неразумным приходить в этот дом.
А может быть, и нечестным перед мамой, передо мною.
А честен ли я перед нашей семьей, приходя сюда?.. Я не мог ответить на этот вопрос.
Я видел отца и Шурика – на стене, очень близко перед собой. Они были рядом. Может быть, и в отце сидит тот самый стержень, о котором рассказывал Шурик? Эти мысли были мне неприятны. Я быстро прогнал их.
И подумал совсем о другом, о приятном: рассказать тайну о близком человеке можно только другому близкому человеку или, по крайней мере, тому, кому доверяешь. Может быть, Нина Георгиевна стала мне доверять?..
– Ты только об этом хотел узнать? – спросила она. – Это и есть твое важное дело?
– Нет! Что вы! Что вы! – заторопился я. – Совсем другое… Мой школьный товарищ Антон нуждается в срочном лечении. Как раз у невропатолога! Он очень застенчивый, скромный такой… Заикается даже. И все время хватает тройки. Хотя все знает! Знает, а у доски стоит и молчит.
Представляете? Не может ответить! А мать его говорит, что утопится, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень! Скромный такой… Если б вы могли его вылечить! Я об этом хотел сказать…
Рассказывая об Антоне, я вскочил со стула. Она тоже встала и подошла ко мне совсем близко. Но не для того, чтобы разглядеть меня пристально, как это делают близорукие люди. Мне казалось, она подошла так близко, чтобы я услышал ее, потому что она заговорила вдруг совсем тихо, почти шепотом:
– Чтобы уйти от человека… – Она кивнула не то на отца, не то на Шурика – на стене они были рядом. – Чтобы уйти от человека, надо иногда придумывать ложные причины. Потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтоб прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все…
– Что вы! Что вы! Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите? Честное слово!
– Это само собой, – тихо сказала она. – Мы постараемся вылечить…
Прошло три с половиной года.
Ни разу не сказал я дома, что знаю ее . А она ни разу и не спросила, говорю ли я о ней и что говорю… Она не вошла в наш дом даже воспоминанием: я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму. Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем. Я готов был сам сделать все, что нужно было Нине Георгиевне. За отца, вместо отца…
По велению долга? Так было вначале, но не потом… «Веление» – яркое слово, гораздо красивей, чем «принуждение», но смысл их почти одинаков. Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым зовом мужской взрослости. Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе.
И вот недавно, месяцев шесть назад, мы переехали в другой город: поближе к объектам, которые проектировали отец и мама. Прощаясь с Ниной Георгиевной, я обещал ей, что каждый год летом буду к ней приезжать. Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно… Уезжая, я не знал еще своего нового адреса, и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт, до востребования.
А зимой отец сказал, что свои летние каникулы я проведу вместе с ним и с мамой: мы отправимся на юг, на Кавказ, к Черному морю.
– Это твое последнее лето, – сказал отец. – В будущем году ты должен поступить в институт. Надо набраться сил, закалить организм!
«Последнее лето» – эти слова стали повторяться у нас дома так часто, что мне начало казаться, будто до следующего лета я просто не доживу.
«Путешествуйте летом по рекам!» – долгие годы убеждала меня красавица, вырезанная из журнала. И отец говорил, что она совершенно права, что нет ничего разумнее отдыха на реке. Сейчас он уверял меня, что нет ничего полезней горного воздуха, солнечных ванн и морских купаний.
– Мы полетим на самолете, – сказал отец. – Чтобы в свое последнее лето ты испытал все удовольствия.
Удовольствия я любил. К тому же я никогда не купался в море и не летал по воздуху. Последнее лето обещало быть очень счастливым, я ждал его с нетерпением.
Неделю назад отец купил три билета на самолет. А сегодня я получил письмо до востребования.
«Жду тебя. На все лето взяла отпуск. Не поехала со своими ребятами в пионерлагерь: жду тебя! Но если ты не приедешь, я не обижусь. У тебя могут быть другие дела и планы. Это можно понять».
«Поеду к ней в январе, – решил я. – Тоже будут каникулы…»
Я написал ей письмо. Я объяснил, что правильнее приехать именно в январе, потому что зимой я не смогу отдохнуть на море, а северный город, в котором я жил столько лет, зимой еще лучше, чем летом: можно кататься на лыжах. Я писал, что в пионерлагере она будет на воздухе и отдохнет, а в городе летом пыльно…
Я прочитал письмо – и не смог заклеить конверт. Это было чужое письмо, не мое: длинное, обстоятельное, без помарок.
Нет, я должен быть у нее в тот день, когда обещал, когда она ждет меня. Или вообще не приезжать никогда.
Я не могу стать ее третьей потерей… И сейчас еду сдавать свой билет.
Дома я сказал, что очень хочу повидать бабушку и Антона которые остались там, в городе моего детства. Я и правда по ним соскучился. Но еду я к Нине Георгиевне. Я не буду давать телеграмму: я приеду и открою двери ключами, которые до сих пор у меня. Теми самыми, которые бросил Шурик. Она об этом не знает. Пусть не одни только печальные сюрпризы являются в ее дом.
Мама не возражает: ей приятно, что я так стремлюсь к своей бабушке, к ее маме. Кажется, все опять выходит не очень «четко».
А с отцом я сегодня поссорился. Первый раз в жизни. Он сказал, что поездка моя неразумна, что бабушке и Антону надо просто послать письмо, что можно потом пригласить их в гости. Отец сказал, что я разрушаю планы семьи, что я вырос бескрылым, раз отказываюсь от гор, от высот, от полета…
И все-таки я еду сдавать билет.
Отец привел слова, кажется вычитанные в книге: «Жизнь человека – это маршрут от станции Рождение до станции Смерть со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика».
А я подумал о том, что ведь есть самолеты и поезда, которые совершают маршруты вне графика и вне расписания.
Это самолеты и поезда особого назначения (как раз самые важные!): они помогают, они спасают… Я не сказал об этом отцу. Но я еду сдавать билет.






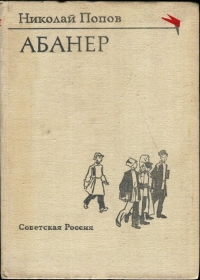

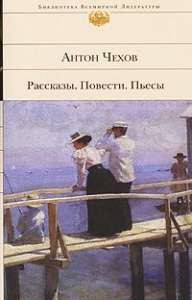

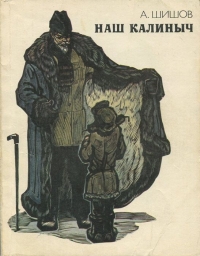

Комментарии к книге «А тем временем где-то…», Анатолий Георгиевич Алексин
Всего 0 комментариев