Погодин Радий Петрович Трень-брень
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой?..
А. С. ПушкинПРОЛОГ
Вышел шут с балалайкой. Улыбка у него такая, что глаз не видно.
– О благородные юные зрители, досточтимые пионеры, отважные защитники мелких животных и лесных насаждений, я приветствую вас!
Я расскажу историю, которая началась неизвестно когда и, наверное, не скоро закончится.
Трень-брень…
Только не торопитесь смеяться… Не торопитесь смеяться… Ха-ха-ха…
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Утро было раннее, солнце нежаркое. Ветер нес к самолетным стоянкам осенние листья.
Самолеты решительно набирали скорость. Они красовались силой и, как молодые, удачливые спортсмены, уходили в самое поднебесье.
Двое мальчишек глядели в небо.
Летит самолет. Гудит самолет. Его отважный ведет пилот. Тучи как скалы. Тучи как пена. В тучах засада. В тучах измена. Сердце поэта, взреви, как мотор…– Вскрыли и забейся… Забейся и взвейся. Нет… Песня поэта, взреви, как мотор. Нет…
– Зачем же песне реветь? Ну, ты даешь. И сердцу реветь незачем. Оно стучать должно.
– А я еще не могу сразу. Самое главное я всегда дома придумываю.
Мальчишку, который сочинял стихи, звали Бобой. Второго – Тимошей. Ростом они были одинаковые. Отличались они друг от друга весом. Боба был как будто пустотелый. Тимоша – как будто литой. И как ни крутись, но именно эти качества больше всего отражаются на характере.
Мимо мальчишек проходили прилетевшие пассажиры. Южные пассажиры шли с цветами. От них пахло солнцем и морем. Северные пассажиры распахивали шубы и полушубки. От них тянуло взопревшей кожей, усталостью и табаком.
Пассажиры проносили мимо мальчишек свой разговоры.
– Скажите, пожалуйста, где багаж выдают?
– Я все свое ношу с собой! Прилетел, слава богу. В самолете слова сказать не с кем. У всех рожи постные, как у архангелов. А на земле… Эй ты, индюк! Нахал! Петух в компоте!.. А на земле я любому слово скажу. Земля – матушка.
– Вам куда?
– Ему в крематорий.
Вышел шут с балалайкой. Одежда на нем пилотская – темно-синяя, с золотыми шевронами.
Трень-брень…
– Я пришел извиниться. Физики-атомщики, герои великих строек, суровые юноши и прекрасные девушки с геологическими наклонностями, а также морские волки, летчики-испытатели, десятиклассники, сомлевшие от сомнений, сегодня не прилетели. Сегодня их рейсы проходят мимо нашего с вами театра. Нынче театром владею я и, уж простите великодушно, созываю только таких людей, которые пригодятся мне для рассказа.
Еще раз прошу прощения.
Трень-брень…
– Простите, где багаж выдают? Мы подарим вам чайную розу.
– Не выношу чайные розы и уличные знакомства.
– Иван Селизарович, Иван Селизарович, вы меня неправильно поняли по телефону. Иван Селизарович, это была скромная шутка с моей стороны.
– Шути, голубчик, но шути осторожно. В основном шути с подчиненными. У них чувство юмора есть осознанная необходимость.
– Простите, где багаж выдают?
– Да отвяжитесь вы, я вам не Горсправка.
Пассажиры спешили к транспорту. Вежливые, терпеливые автобусы приседали от пятаков и двугривенных. Мордастые таксомоторы скликали попутчиков, чтобы в один конец да за двойные деньги.
Боба поднял с асфальта красный кленовый лист, поплевал на него и пришлепнул к столбу, крашенному в алюминий.
– Тимоша, скажи, что на свете самое красивое? Могу биться – не знаешь.
– Чего не знать! Что мне нравится, то и красивое.
– Ослам колючки нравятся.
– Не возникай. Насчет ослов в зуб дам.
– Дай в этот, он у меня молочный. – Боба оттянул пальцем нижнюю губу. – Юмор не понимаешь. – Он сплюнул и сообщил с таким видом, словно сделал подарок: – Самое красивое – ракеты, самолеты и автомобили. Скорость, помноженная на гармонию линий.
– Скорость, помноженная на что?
– На гармонию линий.
– На что?
Боба вздохнул грустно. Так грустно, чтобы всем стало совершенно понятно, как ему жалко товарища.
Самолеты громыхали, словно не слышали этого разговора. Словно им все равно было, хвалят их или ругают.
– Чего не понимаешь, тем не обладаешь, – сказал Боба.
Тимоша насупился.
– Ну, ты даешь! Ну, я пошел. А то черви сдохнут. – Он поднес к глазам стеклянную трехлитровую банку с веревочной ручкой.
– Не сдохнут. Они живучие. Вчера ушли, а здесь самолет чуть не обвалился. Смотри, рыжая прилетела.
– Тише ты, может, она иностранка.
Мимо мальчишек прошла девчонка. Солнце запалило на ее голове рыжий осенний огонь. На девчонке была шуба из нерпы, ярко-красные брюки, темно-красный пушистый свитер. В одной руке нерпичий портфель, и к нему привязана нерпичья шапка. Изогнувшись стручком, девчонка волокла тяжеленный рюкзак.
В небольшом отдалении от мальчишек девчонка остановилась, постояла секунду-другую, покрутила головой, высматривая кого-то в толпе, и угрюмо уселась на свой мешок.
«Пассажиров, отлетающих рейсом триста вторым, Ленинград – Сочи, просят пройти на посадку», – объявила по радио девушка-диспетчер. И вдруг запела нежным домашним голосом: – «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…»
– Разиня, микрофон не выключила, – сказал Тимоша.
– Тайга под крылом ни о чем не поет. И не похожа тайга на море, – сказала девчонка.
«Извините, Аркадий Степанович», – объявила по радио девушка-диспетчер, хихикнула и выключила микрофон.
Боба сделал вокруг девчонки несколько ленивых безразличных шагов, уселся на корточки почти нос к носу, спросил вежливо:
– Скажите, пожалуйста, на что похожа тайга?
– Тайга на тайгу похожа. Море – на море. И тайга не зеленая, – ответила ему девчонка. – Отодвинься, чего ты мне в нос дышишь!
Боба отодвинулся. Лицо у него было постным и предупредительным, словно он находился в учительской.
– Я вас понял: тайга белая.
– Ты что, глупый?
– Ага, глупый – дурак.
Девчонка улыбнулась, словно попросила прощения.
– Дурак, а вежливый. Тайга даже зимой не бывает белая. Тайга везде разная. В Архангельской области тайга некрасивая. Вам такая не понравится. Она ржавая, в плешинах, в желтых пятнах. От болотного железа. Даже смотреть неприятно. За Уралом тайга бурая, в сиреневую переходит у горизонта. И везде тайга разноцветная. Зеленую тайгу, наверно, поэты придумали.
Тимоше очень понравилось это ее заявление.
– Крой их, – сказал он, – поэтов. Присаживай. Гармония линий, помноженная на скорость.
Девчонка вскинула брови. Глаза у нее большими стали и робкими.
– Это про что?
– Это, понимаешь, формула красоты. Боба вывел.
– Чего не понимаешь, тем не обладаешь, – сказал Боба. – Нынче радость – утром рано повстречались два барана.
Тимоша улыбнулся ему задушевно.
– Боба, не возникай. Скорость есть скорость. Линии есть линии. Они друг на друга не умножаются. А насчет баранов – напоминаю. – Тимоша показал Бобе кулак и уселся рядом с девчонкой на край тротуара.
– Это же не буквально, – сказал Боба.
Шофер такси, молодой человек расторопного вида, подошел к ребятишкам.
– Привет, кавалеры. До центра по рублику, дальше по счетчику. Спешите ехать?
– Нам на автобусе в самый раз, – ответил ему Тимоша.
– Пардон…
Когда шофер удалился, поигрывая ключиком от зажигания, Тимоша придвинулся поближе к девчонке.
– Мы за аэродромом червей копаем. Сейчас на червей спрос. Народ увлекается рыбной ловлей. Дороже всех репейник ценится, белый такой. Его, гада, найти трудно. Выползки хорошо идут. Мы выползков по ночам в парке ловим с фонариком. Светишь в траву…
Рыба в озерке. Рыба в ведерке. Глупая рыба, холодная рыба,бесстрастно прочитал Боба.
Но сердце поэта не рыба. Песня эта сердце поэта!Девчонка быстро к нему повернулась:
– Вы поэт?
– Странный вопрос. – Боба пожал плечами.
– У нас в классе один мальчик тоже сочинял стихи. Я их не могу прочитать. Он их одной девочке посвятил. Хорошие стихи, про северное сияние.
– Тебе, наверное, посвятил? – спросил Тимоша.
Девчонка головой покачала.
– Мне еще никогда стихов не посвящали.
– Ну и чихать.
– Нет. Приятно все-таки.
Девчонка посмотрела на стеклянную банку с червями. Тимоша проследил ее взгляд, насупился.
– Ты не подумай чего. У нас цель. Нам мотор купить надо. Нам без мотора уже никак.
– А вы откуда такая? – вежливо спросил Боба.
– Какая?
– В мехах.
Тимоша объяснил шире:
– Как иностранка. Иностранцы на себя хоть черта напялят, хоть голышмя по городу бегать станут или в шубах в жару. Им никто слова не скажет. Даже завидно, до чего иностранцам у нас почтение.
Девчонка посмотрела на свою шубу.
– На мне ничего не напялено. Шубу мне отец сшил. Нерпу я сама настреляла.
У Тимоши глаза расширились и погасли медленно.
– Ну, ты даешь! Ну, я пошел. Боба, пойдем, а то черви сдохнут.
– Постоим, врать поучимся, – сказал Боба.
– Это почему я вру? Я никогда не вру. Это зачем: вы человека не знаете, а уже не хотите ему верить? Я из винтовки гуся бью влет. И оленя…
Тимоша угрюмо потянул Бобу за рукав:
– Пойдем, а то черви сдохнут.
Девчонка быстро повернулась к нему:
– А ты молчи со своими червями. – Она расстегнула рюкзак, вытащила из него тяжелый моржовый бивень. Протерла его рукавом, чтобы блестел. – Я этого моржа сама завалила.
– Один на один, – вежливо улыбнулся Боба.
Девчонка кивнула.
– Ну, я его из винтовки.
– Моржа?.. – Унылый Тимоша поколебался немного. Поставил банку с червями на тротуар. Взял бивень. Пальцем поколупал. Понюхал даже. – Годится…
– Это секач. Одинокий. Они очень злые, одинокие.
Боба улыбнулся еще вежливее. От него как бы медом пахнуло.
– Могу биться – не из винтовки. Вы его из левольверта, жеваным мякишем.
– Это зачем ты не веришь? – раздельно, даже с испугом, сказала девчонка. Она отняла бивень, запихнула в рюкзак. – Пожалуйста, не верьте. Как мне проехать к метро?
– На автобусе, – сказал Тимоша. – На тридцать девятом.
– Если вы моржей бьете, на самолетах летаете, возьмите такси до самого дома, – сказал Боба.
– Ну и возьму! – Девчонка ухватила рюкзак, поволокла его к стоянке такси, крича на ходу: – Такси, такси! Возьмите меня!
– Возьмите ее, – захохотал Боба. – Рыжая. Могу биться: как рыжий, так врун обязательно. А ты развесил свои ослиные уши. Рыжая моржа убила, удивись на всю жизнь.
Тимоша не спеша рукава засучил. Боба сошел с тротуара.
– Не возникай.
– Не надо, – попросил Боба. – Из-за какой-то рыжей поссорились. Да она не стоит… Пойдем, а то черви уснут.
– Они уже уснули. – Тимоша взял Бобу за воротник.
– Торчим здесь на солнце, – прохрипел Боба. – Дохлых никто не купит.
– Купит. Мы в банку анисовых капель покапаем, они все на голову встанут, ежом растопырятся. – Тимоша поднял кулак.
– Только не очень сильно, – сказал Боба и опустил голову.
– За двух ослов и за двух баранов.
– За одного барана.
– За двух. Девчонку ты тоже бараном назвал.
Боба вырвался, возмущенный.
– Меня за рыжую бить? Товарища из-за какой-то там рыжей?
Если товарища бить из-за рыжей, Значит, товарищ уже не товарищ, предатель! В душе моей сразу получится грыжа, Если меня из-за рыжей ударишь, предатель! Пусть сердце поэта сковано льдом!– Перестань.
– Не буду, – сказал Боба покорно. – Конечно, девчонку бараном назвать нельзя – это безграмотно.
Самолеты на взлетном поле нетерпеливо гудели, сотрясали воздух сотнями лошадиных сил, им были неинтересны мелкие ребячьи страсти.
Тимоша почесывал свой кулак, раздумывая, залепить Бобе леща или простить.
Автомобильный гудок загнал мальчишек на тротуар.
Девчонка сидела на заднем сиденье серой «Волги» и махала шапкой.
– Эй! – сказала она. – Садитесь, поедем. А то у вас в самом деле черви уснут.
Боба поправил куртку и как ни в чем не бывало первым полез в машину.
– Садись, Тимоша, – сказал он. – Мы не гордые.
Автомобильный мотор мягко фыркнул. Осенние яркие листья ринулись под колеса, взлетели, кружась, позади машины и снова легли на асфальт.
Шумная толпа пассажиров заполнила площадь.
«Совершил посадку самолет сорок два – пятьсот пять. Рейс триста сорок, из Свердловска. Девочку Ольгу Смирнову просят зайти в отдел перевозок. Там ее ожидает бабушка. Повторяю: совершил посадку самолет сорок два – пятьсот пять. Рейс триста сорок, из Свердловска. Девочку Ольгу Смирнову просят пройти в отдел перевозок. Там ее ожидает бабушка», объявил по радио мужской хриплый голос.
КАРТИНА ВТОРАЯ
В Ленинграде осень. Деревья украсили землю яркими листьями. Машины, которым велено убирать, жуют листья, дрожат от сытости, а листьев все больше. Листья все ярче.
Улица была тихая, и дома на ней разноцветные. Ольга тащила по улице свой мешок. Шуба у нее нараспашку. Волосы растрепались. Мимо Ольги шагали прохожие. Первые и вторые улыбались ей. Третьи и четвертые не смотрели на нее, они в себя смотрели, в свои дела и заботы. Зато пятые-десятые хмыкали, хихикали, указывали на нее перстом.
– Ишь вырядилась.
– Ужас!
– И что люди собой воображают. С малого возраста из себя что-то корчат.
– Это же безобразие – девочка в такой модной шубе.
– А брюки! А волосы!
– Цаца!
Ольга думала вслух:
– Вы зачем на меня так смотрите? Вы зачем надо мной смеетесь? Я вам не нравлюсь? – И бормотала прохожим в спины: – Вместо того чтобы на меня глаза таращить и смеяться попусту, поглядели бы вокруг себя. Вы видите осень? Собирайте охапки оранжевых листьев. Возьмите побольше. Разбросайте их по полу в тесных жилищах. Шагайте – пальто нараспашку. Ветер спрячет вам за пазуху последние запахи лета. Берите рыжие листья. Людям необходимы яркие краски. Зачем вы пинаете их ногами? Эй, эй! Это же солнечный цвет!
У парадной, как раз напротив Ольги, стояла другая девчонка. Может, постарше. Может, повыше. И конечно, красивее. У нее были длинные черные кудри.
Девчонка кривила губы.
– Ты что, чокнутая? – сказала она. – Ты что разоряешься?
– Это я про себя. Я давно здесь не была. Меня еще совсем маленькую увезли отсюда. У меня сейчас столько слов вдруг – откуда берутся? Я вообще заметила: когда говоришь сама с собой, получается очень складно. Ты не замечала?
– Вот рыжая! Вот ненормальная! Чтобы я сама с собой разговаривала? Я прысну…
– Зачем ты меня называешь рыжей?
– Тоже мне! А какая же ты? Может, светло-каштановая? Сейчас все рыжие называют себя светло-каштановыми. Тоже мне – модный цвет. Даже учителя в рыжий цвет перекрашиваются. По-моему, цвет поганый. Когда я смотрю на рыжих, у меня во рту кисло делается.
– Зачем ты? – сказала ей Ольга. – При чем тут мои волосы? Давай познакомимся сначала.
Девчонка дернула одним плечом, дернула другим плечом. Фыркнула, плюнула и растоптала.
– Тоже мне! Не смеши. Рыжая – так и помалкивай.
Ольга подошла к ней ближе.
– Зачем ты все время говоришь: «Тоже мне, тоже мне»? Разве ты лучше всех разбираешься? Ты в самом деле думаешь, что ты лучше всех разбираешься?
Девчонка взвизгнула вдруг, словно ее ущипнули или она увидела мышь. Закричала:
– Отвяжись, психованная! – и ушла в подворотню.
Ольга растерянно оглянулась.
По улице шагал гражданин с портфелем. Он был высокий и пестрый, в костюме из синтетической ткани. Еще на нем была шляпа и макинтош. Макинтош этот переливался, менял окраску из серо-зеленой в синеватую и фиолетовую, как спина жука-скарабея. Гражданин высоко держал голову, смотрел на всех окружающих пристально и снисходительно.
Поколебавшись немного, Ольга догнала его.
– Извините, пожалуйста.
– Ты меня, девочка? – спросил гражданин.
– Ага. Извините, пожалуйста, я всегда слышала, что в вашем городе очень вежливые люди. Я тоже родилась здесь, и всегда гордилась, и всегда старалась…
Гражданин опустил голову, он как будто нацелился в Ольгино рыжее темя.
– К сожалению, вежливых осталось мало. Вежливые в войну вымерли.
– Шутите, – сказала Ольга.
– Шучу, – сказал гражданин. – Я часто шучу. Шутка – признак здоровья.
Ольга подумала и потом спросила со вздохом:
– Скажите, пожалуйста, мои волосы в самом деле такие противные?
– Это тебе очень важно? – спросил гражданин.
– Очень.
Гражданин откинул голову. Потрогал Ольгины волосы пальцами сквозь перчатку.
– По-моему, в самый раз, – сказал он. – Элегантно. Может быть, несколько смело. Вот эта прядка над виском вроде бы что-то не так. Если ее пригладить, то в основном, я полагаю…
Ольга перебила его:
– Я про цвет.
Гражданин снова помедлил, помолчал, и покашлял, и еще дальше откинул голову.
– По-моему, довольно приятный серый цвет.
– Что вы, я рыжая, – прошептала Ольга.
– Рыжая? – Гражданин торопливо погладил ее по голове. – Все равно. Извини, я дальтоник. Я не различаю краски.
– И вы никогда не видели рыжего цвета?
– Никогда.
– И вот эти листья вам кажутся серыми?
– Да… Они серые…
– И вам не страшно?
Гражданин изумился, обиделся даже.
– Страшно? Напротив. Мне лично кажется нелепым и нездоровым все видеть в различном цвете. Это, знаешь ли, раздражает. Я лично думаю, что все нервные заболевания у нас происходят от пестроты жизни. Да, да…
– И все люди вам кажутся серыми?
– А что тут такого странного?
– Я еще не умею сказать, что именно… Но если подняться вверх и глянуть на людей сверху, то покажется вдруг, что это не люди, а булыжная мостовая.
– Ты говоришь по-детски, – сказал дальтоник. – Запомни: люди – наше богатство. – И он пошел, подняв голову, с достоинством и спокойствием человека, выполнившего свой долг.
Ольга постояла немного, раздумывая, потом догнала его.
– Скажите, где дом шестнадцать?
– Дом шестнадцать? – Гражданин оглядел весь порядок домов. – Видишь, вон тот, темно-серый. Там во дворе дом шестнадцать.
Ольга головой покрутила. Развела руками.
– Темно-серый? Но на этой улице нет темно-серых домов. Здесь все дома разноцветные. Я сразу заметила: это разноцветный город, только очень поблекший.
Дома от Ольгиных слов приосанились, повели плечами, гордо грудь выпятили.
Стояли дома очень тесно друг к другу, и, боясь, что полопается штукатурка, они проделали эти движения мысленно.
– Да, да, – повторила Ольга. – Это очень разноцветный город. Даже смешно, что кому-то он кажется серым.
Из подворотни снова вышла девчонка с черными волосами.
– Шубу напялила и дурочку корчит. Тоже мне… Вон красный дом, видишь? Заваливайся во двор, там дом шестнадцать. Недотепа рыжая. Периферия.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Ольга вошла во двор. Переступила границу солнца и будто вспыхнула.
Двор залит солнцем до самых крыш. Темная, почти черная подворотня в стене. Вечная тень осела на ее сводах сыростью. Двор вымощен камнем брусчаткой, – розовым и сиреневым. Камни хорошо прогреваются и тепло свое отдают с легкостью. Между ними свежая, как в июне, трава. Каменная скамейка и каменная треснувшая ваза. В вазе красные астры.
Во дворе было пусто, тихо было. Воробьи добывали свой незаметный корм. Ослабевшие лепестки астр лежали на камнях красными каплями.
И вот в этой теплой тиши раздался вопль:
– Руки вверх! – С дерева, роняя листья и деревянные пистолеты, свалился четвероклассник Аркашка. – Р-руки вверх, говорю!
Ольга положила на скамейку портфель, прислонила к вазе рюкзак, подняла руки.
– Долго держать?
Аркашка обошел вокруг, ткнул Ольгу деревянным своим пистолетом.
– Не дрожи в локтях, – приказал он. – От страха дрожишь?
– Зачем от страха? Смешное ведь не бывает страшным.
Аркашка посмотрела на нее косо. Сказал:
– Обожди пока, не уходи. – Отвернулся, вытащил зеркальце и, глядя в него, скорчил совершенно свирепую рожу. – Ну, а теперь?
– Еще смешнее. – Ольга засмеялась, села на скамейку. – Ты умеешь ушами двигать? У нас в школе мальчишка был, сильно двигал. Еще он умел животом говорить.
Аркашка наставил на Ольгу все свои пистолеты.
– Встань! И не трать слова понапрасну. Они у тебя последние. Ты меня рассказами не разжалобишь. Р-руки вверх.
Ольга встала, чем привела Аркашку в некоторое замешательство.
– Ты слишком серьезно кричишь, – сказала она. – Это уже не смешно. Убери, пожалуйста, свои дурацкие пистолеты. Не тычь в лицо.
– Не испугалась, скажешь? Так… – Аркашка заткнул свои пистолеты за пояс. Выхватил из-за пазухи рогатку. – Руки вверх! Застрелю, не моргну.
Ольга взяла портфель.
– Осторожнее. Ты меня можешь случайно поранить. Где квартира четыре?
Аркашка отступил на шаг, натянул рогатку на всю длину.
– Молчать! Мне уже надоел твой голос. Вопросы задавать буду я. Пол?
– Что?
– Пол, говорю. Мужчина ты или женщина?
– Слушай, я тебя за уши оттаскаю.
– Проклятье, ты опять говоришь?
– Слушай, нельзя ли повежливее?
– Вежливость – язык трусов и подхалимов. Для людей действия вежливость – напрасная трата времени. Впрочем, эти знания тебе уже не сгодятся.
– Дай пройти.
– Отвечай, ты рыжая или перекрашенная?
– Что?
– Сегодня на рыжих облава.
Ольга села на скамейку, опустила руки устало.
– Предупреждаю: если назовешь меня рыжей, за уши оттаскаю.
– Не люблю рыжих.
– Мне твоя любовь не нужна. До любви ты и не дорос еще. Ты сначала научись хотя бы уважать человека.
– Я уважаю людей за дело. А с тобой не моргну – рассчитаюсь.
Ольга вытянула руки вперед.
– Согласна. Со мной уже давно пора рассчитаться. На, вяжи. Арестовывай.
Аркашка подошел вязать, и тут Ольга схватила его за ухо. Сделала она это мгновенно, словно муху поймала.
Воробьи на дереве заскакали с ветки на ветку. Парадные заухали. Водосточные трубы забормотали.
– Не тяни меня за уши! – вопил Аркашка, хлестал Ольгу резинкой рогаточной, бил по ногам.
– Извинись за рыжую, – потребовала Ольга.
Воробьи взлетели на самые верхние ветки, оттуда им было виднее.
– Рыжая швабра! – орал Аркашка. – Рыжая ведьма! Отпусти, говорю!
Ольга отобрала у него рогатку, ухватила за второе ухо и потрясла. В этот момент из парадной вышел шут (дядя Шура). Снял со стены дворницкий фартук с бляхой, надел на себя.
– Зачем безобразить? – сказал он. – Не можете как люди? Вам быстрее безобразить нужно.
Ольга выпустила Аркашкины уши. Они были красными и горячими, каждое как отвислый собачий язык.
Шут поклонился Ольге.
– С приездом. Предвижу массу хлопот. – У Аркашки шут (дядя Шура) спросил: – Аркадий, у тебя ничего не болит?
– Ну так, рыжая… – уныло сказал Аркашка, пряча от шута то самое место, которым в детстве рассчитываются за глупость, лень и всяческие неудачи.
Шут взял Аркашку за ухо, отвел и посадил на камень в сторонке.
– Не дергайте за уши! – завопил Аркашка. – Мне еще играть сегодня. Он прижал уши ладонями, покачал головой из стороны в сторону. Заскулил: – Уши мои, уши.
Шут (дядя Шура) пошел к подворотне. Аркашка вскочил и тут же сел снова, потому что шут (дядя Шура) обернулся внезапно.
– А если мне неудобно, если я на чем-то колючем сижу?
– Терпи!
– «Терпи, терпи»! Если всякие рыжие станут меня за уши дергать…
Шут подмигнул Ольге, покопался в одном своем рукаве, но ничего не нашел там, кроме разноцветного серпантина. В другом рукаве шут обнаружил гирлянду бумажных салфеток. Из карманов повытряс кучу всего разноцветного, бумажного, для дела ненужного. Из-за пазухи вытащил белого голубя. И лишь откуда-то из ворота, вспотев от усилий, шут достал настоящий живой цветок. Белый. Он бросил Ольге этот цветок и пошел в подворотню.
– Дядя Шура, – сказал Аркашка, – а я знаю, куда вы идете.
– Ну так что?
– А фартук. В фартуке на свидания не ходят.
Дядя Шура сорвал с себя фартук, галстук поправил, пригладил волосы и исчез в подворотне.
Ольга нюхала цветок. Аркашка на нее смотрел недовольно. Воробьи на дереве совсем присмирели.
– Ненавижу цветы, – заявил Аркашка. – Они вянут.
Ольга сказала ему:
– Деревянных пистолетов настрогал. В голове-то не густо чего-нибудь серьезное смастерить.
– Я знаю, где у меня настоящие пистолеты лежат. Когда понадобится, я, не моргнув…
– Нет у тебя настоящего пистолета. Где квартира четыре?
– А там все равно никого. Бабушка тебя на аэродром встречать уехала.
– Откуда ты знаешь, что это я?
– Твоя бабушка все время хвастает: внучка прилетает, внучка прилетает. Ни разу не сказала, что внучка рыжая. Ты где на Севере жила? На Новой Земле?
– Не скажу я тебе ничего.
– Ну и не говори. Я тоже не рыжий, я тоже на Север подамся.
– Зачем ты такой злой, отвратительный тип? Зачем ты так ненавидишь рыжих?
– Ненавижу, и все. У меня свое мнение. Отдай рогатку.
Ольгин голос стал тихим и жалобным:
– У тебя глаза в разные стороны, я ведь тебя не дразню.
– Ну и что? Я практиковался глаза в разные стороны разводить, а мне книжкой по голове трахнули. Я временно косой, а ты навсегда рыжая.
Ольга вскочила, хотела схватить Аркашку за ухо, но он извернулся, подставил ей ножку – и она упала.
– Отгулялась, рыжая команда, – засмеялся Аркашка. – Я теперь наведу порядок. Я всех рыжих разоблачу.
Ольга поднялась с земли, отряхнулась. Аркашка на всякий случай отбежал к подворотне и угодил прямо в руки к пожилой, даже, можно сказать, старой дворничихе. Дворничиха крепко схватила Аркашку за ухо.
– Чтобы не дрался, не мешал людям жить.
Аркашка завопил:
– Пустите! Все хватают за уши. Не за что больше хватать, да?
– А вот я тебе метлой.
– Все равно не имеете права за уши дергать.
– А кто здесь набезобразил? Кто здесь мусору накидал? – Дворничиха шевельнула ногой разноцветные ленты.
– Я, что ли? – возмутился Аркашка. – Не видите – дяди Шурины принадлежности. Все на меня сваливаете. – Аркашка стал выворачивать свои карманы. Оттуда посыпались рогатки, увеличительные стекла, деревянные кинжалы, военные погоны, стреляные патроны и потускневшая медаль «За оборону Ленинграда» – по всей вероятности, бабкина.
Дворничиха поддала Аркашке рукой. Аркашка собрал свое боевое имущество и поплелся к парадной, зажав в кулаки красные, натасканные уши.
– Уши мои, уши, – стонал он. – Уши мои, несчастные уши.
Дворничиха взяла метлу от стены, смела разноцветный мусор в кучу.
– И сколько же люди носят при себе всякого лишнего! Если бы взять их да потрясти, да пылесосом почистить. Ох и большая работа…
Дворничиха чихнула, принялась искать носовой платок по карманам, вытащила оттуда штук тридцать ключей, несколько мотков шерсти, очки – одни для чтения, другие для дали, – тряпочки всевозможные, лекарства разные, в пакетиках и в бутылочках. Дворничиха даже похудела на вид, когда все это вынула. Наконец она высморкалась и упрятала свои богатства обратно.
– Вот так, – сказала она. – Нельзя людей-то трясти, люди не любят, когда их трясут. Они свое барахло любят.
Старая дворничиха села на скамейку, посадила Ольгу рядом с собой.
– Вот мазурик, как больно толкает. Не думает.
– Я сама упала.
Дворничиха засмеялась, а когда отсмеялась, сказала:
– Нельзя мне смеяться – одышка. Ты меня не смеши… – И опять засмеялась. А когда отдышалась, сказала: – Я маленькая была, тоже всегда падала. Меня набьют мальчишки или еще обидят чем, я домой пришлепаю и говорю: «Упала». Вот была глупая, ну совсем дурочка.
Воробьи с верхних веток опустились на нижние – им теперь не опасно было.
Аркашка высунулся из парадной. Крикнул:
– Рыжая, ты зачем к нам приехала? У нас своих рыжих хватает.
Ольга рванулась было, но старуха удержала ее:
– Наплюй. Маленькие собачонки почему злые? К ним, бедняжкам, никто всерьез не относится.
– Какой он маленький – дылда!
– Это он по росту большой, а по уму еще мелкий.
– Зачем он дразнит? Что я ему сделала?
– Наплюй. Он дразнит, а ты будто и не слышишь.
– Вам говорить просто – вас не дразнят. А меня все дразнят. Как увидят, так и пожалуйста: «На рыжих облава. Рыжая – бесстыжая». Даже когда я совсем крошечная была, и то не стеснялись. У меня уже никакого терпения нет. – Ольга шмыгнула носом сердито. – Я, наверно, кого-нибудь убью. Схвачу кирпичину и кокну по голове.
– Господи помилуй! – Дворничиха засмеялась. – Прыткая какая! Ты думаешь, они ждать станут, пока ты кирпичину схватишь? Они первые схватят да тебя и кокнут. Ты лучше словом. Он тебя: «Рыжая». А ты ему, к примеру: «Сам дурак». Поняла?
Ольга прочертила пальцем тропинку на щеке для слез. Но слез не было. Ольга плакала редко, хотя ей очень хотелось иной раз поплакать.
– Что вы, – сказала она. – Я не умею. У меня внутри все сжимается, и становится стыдно. Мальчишку дураком обозвать и то неудобно, а взрослого человека… Да что вы!
– А ты взрослого не обзывай. Ты поинтересуйся, умный он или нет. Он сам поймет, что ты имеешь в виду.
– Не могу… Какой-нибудь пьяный идет по улице, ругается, теряет свою совесть на каждом шагу – с ним нянчатся, пульс щупают. Жалеют. Тьфу… А меня увидят – сразу лицо как двустволка и палят: «Рыжая!» Шоферы на машине остановятся, скажут: «Рыжая» – и дальше поедут. Даже когда похвалить хотят или приласкать, так не говорят «молодец», или «хорошая», или «милая». Только: «Рыженькая, подосиновичек, рыжик, рябинка». Я надеялась, что здесь люди культурные. В таком городе разве можно?
Старуха пошевелила Ольгины волосы.
– А что, город как город, как другие города. Одышка у меня от больного сердца.
– Я понимаю, от ответа уходите.
– Да куда же я ухожу? Вот я. Тут.
Аркашка высунулся из лестничного окна, прицелился в Ольгу зеркальцем. Солнечный зайчик вспыхнул в Ольгиных волосах, сполз ей на покрасневшую щеку.
– Я иногда все думаю, думаю. Кошки обижают воробьев, собаки обижают кошек. Это понятно. У них борьба видов – выживает сильнейший. Звери, что с них взять! Дальше думаю. Мальчишки обижают собак, кошкам крутят хвосты, пинают ногами. Зачем? С воробьями мальчишки поступают совсем подло: бросают в них корки и норовят попасть в голову. И воробьи никак не могут разобраться, кормят их или убивают. Я спросила у нашей учительницы: откуда такое берется? Она мне говорит: «Думай о чем-нибудь другом. Разве тебе не о чем думать? Думай, например, о будущем. Зачем ты живешь? Кем ты хочешь быть?» Я ей сказала, что я и думаю о будущем. Были бы вы рыжая, тоже бы так думали.
Солнечный зайчик обжег Ольгин глаз. Ольга вскочила, подняла кулаки. Дворничиха посадила ее обратно.
– Наплюй.
Аркашкино зеркало снова залепило Ольгин глаз солнцем. Ольга прикрыла лицо руками.
– Может быть, этот Аркашка в тебя влюбился, – осторожно сказала старуха. – У нас ни единой девчонки во дворе нет.
Воробьи чирикнули все разом, словно сто смычков упали на струны.
– В меня не влюбятся. Я рыжая.
Солнечный зайчик резвился на Ольгиной голове.
– Ишь дурью мается, – вздохнула старая дворничиха. – Бабка его занянчила. Маша, моя подруга. Она ему даже игрушек не покупала обыкновенных. Погремушек, грызушек – ни в коем случае. Всё со значением, всё викторины.
Аркашка захукал по-обезьяньи, заикал по-ослиному. Выстрелил в Ольгу из тонкой резинки бумажной пулей.
Старая дворничиха взяла Ольгу за руку.
– Наплюй. Он как улизнет из дома, сразу начинает по-ослиному кричать, с пистолетами бегать. Я иногда пугаюсь, думаю: прости Господи, вот и свихнулся мальчик. Но он крепкий. Ему от бабки нервы крепкие перешли.
– Рыжая! – заорал Аркашка. – Рыжая!
Дворничиха сорвалась с места, побежала к парадной. Она держала метлу, как копье.
– Я же тебя, гений гнилой! Я тебе покажу рыжую!
Аркашка вывалил длинный язык:
– Рыжая кошка!
Ольга подняла из-под ног обломок вазы. Запустила им в Аркашку. Но он соскочил с подоконника. Звякнуло стекло. Осколки посыпались на брусчатку, вспыхнули на ней пронзительно.
Аркашка захохотал.
Дворничиха с укором посмотрела на Ольгу.
– Я ж тебе говорила – наплюй.
На чердаке паук муху поймал в тенета. Кот на крыше поскользнулся: хотел воробья схватить. В водосточную трубу провалился. Прочистил ее сверху донизу, вылез бурый от ржавчины, заорал благим матом.
Дворничиха попробовала поднять Ольгин рюкзак, да не смогла.
– Как же ты с такой тяжестью управляешься?
Ольга взяла портфель, ухватила мешок за лямку, и они поволокли его вместе с дворничихой к парадной.
– И наплюй, – сказала дворничиха. – Наплюй, и все тут.
Двор опустел…
Ухнула подворотня, эхо поднялось по водосточным трубам, запуталось на чердаке в паутине.
Во двор из окна лестничного спрыгнул Аркашка.
– Рыжая! – заорал он.
И когда его голос смешался с уличным шумом, стал незаметным звуком в общем грохоте улицы, на сцену вышел шут (дядя Шура). Он давно стоял где-то сбоку. Был он в обыкновенном костюме, какой все мужчины носят, в брюках и в пиджаке, и галстук на нем темно-красный.
Шут поиграл на своей балалайке. Что-то грустное поиграл, словно холодным ветром по осеннему лесу. Потом позвал:
– Аркадий, поди-ка сюда.
Аркашка приблизился к нему с опаской.
– Ну, чего?
– Ты отличник?
– Отличник.
– Изложи свое отношение к рыжим.
– Я же вам излагал, – пробурчал Аркашка, прикрыв уже упомянутое место ладонями.
– Изложи публике.
– Дядя Шура, бабушка считает, что в нашем доме спокойнее, когда вы на работе, особенно когда на гастролях.
– Передай ей привет. Излагай, публика ждет. Как ты относишься к рыжим?
– Дядя Шура, бабушка говорит – хорошо бы вам ожениться. Вы, наверно, питаетесь всухомятку.
– Передай ей спасибо. Что ж ты не излагаешь?
Аркашка засопел всеми дыхательными отверстиями, потупился, втянул голову в плечи.
– Дядя Шура, я знаю, куда вы ходите. Она крючками торгует.
– Что?!
– Я случайно узнал, дядя Шура.
– А ну, марш домой! Иди играй на рояле!
Трень-брень.
Шут струны подергал невесело, поиграл маленечко для себя. Потом голову поднял и заговорил:
– Я хочу извиниться. Может быть, некоторые особо высокочтимые зрители усомнятся в моем рассказе. Скажут, мол, рыжая девчонка – частный случай. И почему рыжая? Разве мало у нас блондинов, брюнетов, шатенов и прочих?.. Много. Они тверды и проворны… – Шут легонько провел по струнам. – Я извиняюсь. Нам придется продолжить о рыжей девочке, хотя, конечно, это есть частный случай.
Трень-брень.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Дворничиха отомкнула дверь бабушкиной квартиры. Ввела Ольгу в комнату.
– Тут твоей бабки дом. Сиди в уюте, дожидайся ее.
– Спасибо. – Ольга села на стул у дверей, рюкзак положила к ногам.
– Клаше скажешь, что это я тебя запустила, Даша. Для твоего возраста – тетя Даша. Ну, сиди. Экая закусочка возбудительная! – Дворничиха оглядела стол, уставленный едой, отщипнула виноградину и ушла.
Комната у бабушки мало сказать замечательная – чудесная комната. Солнце в ней – как в аквариуме. Воздух свежий, тополем пахнет. Слышно, как воробьи на дворе пищат, как на соседней улице трамвай ходит. Слышно, как этажом ниже шипят оладьи на сковородке.
Ольга встала осторожно, сняла шубу и положила ее рядом со стулом на пол. Стул в крахмальном халате. Он похож на больничную строгую няню.
Ольга прошлась по комнате – руки за спину, чтобы случайно не задеть чего, не нарушить порядка.
– Ой как, – сказала она. – Не то что у нас. Будто собрались важные господа и все друг на друга не смотрят. Наверное, каждый считает себя красивее другого. Господа, помиритесь. Вы все ужасно красивые. Господин стол, можно вас потрогать немножко? Спасибо. – Ольга провела по столешнице пальцем. Стол завизжал.
– У вас неприятный голос, господин стол, – сказала Ольга. – Вы недотрога. – Она отошла от стола к дивану.
– Доброе утро, господин диван. Как вы спали? Во сне вам, наверное, снятся окорока. Нет, нет, не свиные… Вы хотите, чтобы я попробовала, какой вы упругий? – Ольга тихонько села. Покачалась. Диван издал вздох. Не любите, – сказала Ольга и сделала стойку на голове.
– А бабушка плачет, – послышался голос от двери.
Ольга упала на пол от неожиданности. В дверях стояла бабушка и в самом деле плакала.
В голубом платье, в синей шерстяной кофте, она напоминала волну с седым гребнем. В руках бабушка держала сумку и пластмассовый обруч.
– А бабушка плачет, – повторила она сквозь слезы, вытерла глаза уголком косынки и присела на краешек стула. – Бабушка руки ломала. Даже по радио розыск объявляли.
– А я здесь, – сказала Ольга. – Можно я тебя поцелую?
Бабушка принялась обнимать Ольгу:
– Внученька, красное солнышко. Как ты там без бабушки жила? Ласочка моя. Девочка… – Потом бабушка сказала совсем другим голосом: – Наказывала я своей дочке, предупреждала: не выходи замуж за этого…
Бабушка потрогала Ольгины волосы, вздохнула.
– И волосики у тебя вроде потемнее были. Надо же, девчонку крохотную, сосунка невидящего утащить куда Макар телят не гонял, где не то что люди – дерево стоящее не приживается. Говорила я своей дочке, предупреждала… Я ж тебя, внученька, больше десяти лет не видела. – Бабушка снова пустилась обнимать Ольгу, целовать и разглядывать. – Выросла-то! А изменилась! Мимо бы прошла, не узнала. А твои родители без мозгов, мазурики. Девчонку одну в самолете направили. А кабы самолет-то разбился?
Ольга не удержалась, прыснула в кулак.
– Смеешься? Вся в своего батьку. Нахалка. Смейся, смейся над бабушкой!
Ольга посерьезнела, задумалась.
– За что ты так не любишь отца?
– А за то, что он… курам на смех. И что в нем моя дочка нашла? Ни кожи, ни рожи. Ведь с ним по улице пройти совестно. Тьфу, какой рыжий.
– Бабушка…
– Я ж ведь не про тебя говорю. Ты девочка, не виноватая. А он мужик. Тьфу. И надо же, уродился.
Ольга отщипнула виноградину. Бабушка спохватилась – принялась хлопотать вокруг внучки:
– Ты голодная, Оленька. Ты ешь, кушай. Попробуй-ка… Или этого. Ветчина свежая. С жиром-то не бери. С жиром пускай гости едят. Ты постненького, повкуснее.
– Я подожду, – сказала ей Ольга. – Я в Архангельске завтракала.
– Я тебе конфеток дам. Виноградцу поешь… На вот, я тебе подарок купила – хупалку. Сейчас все ее крутят. Как мартышки, виляют задом. Смотреть тошно.
Ольга взяла обруч. Сказала спасибо и медленно пустила его вокруг талии.
Бабушка разложила на столе конфеты, которые вытащила из сумки, печенье и села к столу, примеряясь, как будет беседовать с гостями.
– Убери вазу на телевизор.
– Зачем? Красиво же.
– Убери, она мне будет гостей заслонять.
Ольга взяла вазу, понесла ее к окну. Поставила на телевизор.
За окном кто-то заиграл на рояле, громко, с наскоком, словно рояль враг и чем яростнее по нему лупить, тем скорее он испустит дух. За этим последовала пауза, раздался Аркашкин истошный вопль: «А что ты меня за ухо?!» – и снова загудел рояль, но уже ровнее, хотя по-прежнему в звуках его слышались недовольство и жалоба.
– Аркадия усадили, – сказала бабушка. Быстро все поправила на столе: тарелки, вилки, рюмки. Смахнула несуществующую пыль с вещей. Довольно оглядела комнату. – Сейчас Маша придет. Ты с ней о чем-нибудь научном поговори.
В коридоре звякнул звонок и залился долгим рассыпчатым звоном. Бабушка бросилась открывать. Из коридора послышался ее голос:
– Заходи, подруга.
– Захожу, подруга, захожу. Расстроилась я, – ответил ей другой голос, напористый и горячий. – Каждый день приступ. У меня от расстройства печень распухла.
Ольга вертанула обруч вокруг талии. Опустила его, вертящийся, на колени и опять подняла на талию.
В комнату вошли бабушка и высокая седая старуха.
– Аркадий не по годам развивается. Я чуть в обморок не упала. Приходит и заявляет: «Бабушка, я чувствую, мне влюбиться пора».
Ольга перестала крутить обруч, поймала его рукой.
– Рано ему, – подтвердила бабушка. – А ты ему что?
– Я его за ухо – и за рояль. Я ему строго. Про любовь пусть спрашивает, когда делу выучится. – Старуха Маша, даже не глянув на Ольгу, прошла к окну, высунула голову и закричала: – Нюансы! Где нюансы? Нюансы давай!
За окном снова заиграли. Старуха вернулась к столу. Уставилась на Ольгу.
– Ребятишки сейчас в развитие пошли. До чего головастые, до чего рослые! – сказала Ольгина бабушка.
– Особенно мой Аркадий. – Старуха Маша подошла к Ольге, пошлепала ее по щеке: – Подосиновичек. Морковочка. Ну какая славная. Первый раз вижу, чтобы рыженькая – и такая славная. Даже веснушек нету.
Ольга сердито пустила обруч, подняла его, крутящийся, на грудь.
– В отца? – спросила старуха Маша.
Ольгина бабушка тяжело вздохнула:
– А то в кого же. Я дочке своей говорила, предупреждала…
– И вовсе я не в отца, – сказала Ольга. – У него цвет совсем другой. У него желтый оттенок, а у меня красный. Я сама в себя.
– В себя не бывает, – резонно заметила старуха Маша. – Все на кого-нибудь похожие. Значит, у вас в роду кто-то красный был. Цвет до седьмого колена передается.
– В моем роду красных не было, – заявила бабушка.
Старуха Маша принялась бесцеремонно разглядывать Ольгу.
– Перестань крутить хупалку, когда на тебя взрослые смотрят. Несерьезная вещь. Я своему Аркадию не разрешаю.
– Это почему же несерьезная? – спросила Ольгина бабушка уязвленно. – Я ее в магазине купила. От нее талия развивается. Она гибкость дает.
– Ни к чему с таких лет талию развивать. Она у тебя еще не влюбляется? Ну вот, разовьет талию и влюбится. Прямо хватай за рыжие космы и сажай дело делать, без разговоров. – Старуха Маша бросилась к окну и закричала на весь двор. – Пьяно! Там пьяно написано! Пьяно играй! – Послушала и добавила грозно: – Я из тебя дурацкие интересы повытрясу.
За окном заиграли тише.
– Ты, Маша, садись, – предложила Ольгина бабушка.
Маша села к столу, осмотрела закуски и, вдруг повернувшись к Ольге, сказала:
– В кого же она такая? Она мне кого-то напоминает.
Ольгина бабушка подвинула подруге тарелку с пирогами.
– Ты, Маша, успокойся. Пироги кушай.
Старуха взяла кусок пирога и положила его обратно.
– Перестань кружить свою хупалку… Слушай, Клаша, а почему она у тебя в волосатом свитере ходит?
– В свитере удобно, – ответила Ольга. – И красиво.
Старуху Машу этот ответ не устроил. Она проворчала:
– Красота хороша с хлебом, хлеб – с маслом, а девочка должна ходить в платье, как мы ходили. А то обтянутся, как неприкрытые обезьяны. Ну, насчет брюк я сейчас не возражаю. – Старуха Маша наклонилась к Ольгиной бабушке и что-то долго шептала ей на ухо. Обе согласно и скорбно кивали головами, вздыхали и бормотали: «Да, да. Боже мой. Это ужас…» Потом, когда они нашептались, Маша откинула голову и сказала задумчиво: – Так что, подруга, против брюк я не возражаю. А вот всякие свитера…
Ольга перестала крутить обруч; он упал на пол, очертил Ольгу ярким оранжевым кругом.
– Мой папа говорит, что всякий культурный человек должен прежде всего уважать чужие вкусы. А свитер мне мама вязала.
Маша снова взяла кусок пирога и опять положила его на блюдо.
– Смотри, как со взрослыми разговаривает. Ты потакай ее вкусам, она тебе еще не то скажет.
Бабушка мигнула Ольге и рукой махнула, чтобы Ольга не спорила.
– Маша, ты пирога попробуй.
– Отбери у них внучку. А то тебе жить не для чего, только пыль с сундуков стирать. Отбери, я тебе ее воспитывать помогу, чтобы никакой пошлости. – Маша что-то хотела добавить, но снова взорвалась: – Акценты! Где у тебя акценты? Ты о чем думаешь? Переиграй.
Пока Маша кричала на своего Аркашку, в коридоре снова раздался звонок. Бабушка открыла и вернулась в комнату с новой гостьей, дворничихой тетей Дашей.
– А ну-ка, скажи, что ты там думаешь? – требовала старуха Маша в окно.
– Он думает, когда же ты перестанешь кричать, – сказала ей дворничиха. – И все жильцы в доме об этом думают.
Маша обернулась.
– Брось. Бабушки не кричат – воспитывают, – проворчала она и снова высунулась в окно: – В этом месте легата! Ты что, не видишь легату? Ты мне перестань о постороннем мечтать!
Дворничиха улыбнулась Ольге, кивнула на распаленную Машу:
– Ее батька тележного скрипа боялся. Ей самой слон на ухо наступил. В молодости ей даже на демонстрациях петь запрещали. А теперь, смотри-ка, слова какие употребляет – легата, нюансы.
– Кто запрещал-то? – обернулась старуха Маша. – Я вас всех забивала в голосе. – Она запела на несусветный мотив: – «Наш паровоз летит вперед…» Вашего чириканья со мной рядом и не слышно было. Потому и запрещали. Из зависти. Кто лучше всех речи произносил? Как выйду, бывало, как грохну: «Товарищи! Мировая буржуазия хочет задушить нашу пролетарскую индивидуальность, навязать нам свою ханжескую, насквозь прогнившую мораль. Долой мещанские предрассудки!» Пальцы мягче! – закричала она в окно.
Ольгина бабушка смеялась, прикрыв рот ладонью. Дворничиха даже колыхалась от смеха. А когда отдышалась, сказала:
– Нюансы. Когда ее дочка в ожидании ходила, Маша всю квартиру портретами завесила в рамках. С одной стены Лев Толстой, с другой стены Пушкин, с третьей Чайковский, с четвертой Бетховен. Дочка-то, мол, на гениев наглядится и родит ей гения тоже. Разевай рот. Слышь, Маша, так бы все гениев нарожали.
Маша отошла от окна.
– Компрометируй меня, компрометируй. Они уже и так никого не уважают. Упарилась, сердце так и колотится. – Старуха Маша опустилась было на свой стул, но, глянув еще раз на Ольгу, вскочила. Шлепнула себя по бокам. – Клава, у нас в деревне рыжая Марфа была. Помнишь?
– Не помню, – сказала бабушка. – Садись, Маша, пироги кушай.
Маша уселась наконец, положила себе на тарелку винегрет, налила себе шампанского в стакан.
– Люблю шампанское и винегрет. Ты с нас пример не бери, – сказала она Ольге. – Мы старухи, мы и выпить можем.
Дворничиха подтолкнула Ольгу.
– А ну закрути. На поджилках умеешь?
Ольга подняла обруч. Пустила его вокруг шеи, просунула в него, крутящийся, руки. Крутит на груди, на талии, на коленках.
Маша выпила и навалилась на бабушку.
– Как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? Ее ведьмой считали по предрассудку. У нее дурной глаз был.
Бабушка печально потрясла головой.
– Не помню. Кушайте пироги.
– Дай-ка я покручу, – попросила Ольгу дворничиха. Встала, пустила обруч вокруг талии и захохотала: – Вот бес – щекотно.
– Ты не от инфаркта умрешь – от хохота, – недовольно проворчала старуха Маша. – Возраста своего не уважаешь.
– Чего мне его уважать?
Ольга подставила дворничихе стул.
– Вот кто мой возраст пускай уважает – дети. Я со своим возрастом только мирюсь. Приходится, ничего не поделаешь. А ну, закрути.
Ольга подняла обруч, запустила его так быстро, словно она сама шпулька и на нее нитка наматывается.
Старуха Маша поморщилась.
– Перестань крутить хупалку, у меня от нее в голове мелькает. Рыжая Марфа такая же упрямая была, поперечная. – Маша опять повернулась к бабушке. – Ну, вспомнила? Мар-фа ры-жа-ая.
– Ольга, садись. Ешь пироги, – приказала бабушка.
Ольга потрясла головой.
– Не хочу. Я в Архангельске ела.
– Сейчас дети закормленные, – словно извиняясь за внучку, сказала бабушка. – Даже вкусненького не хотят.
– Закормленные. Особенно мой Аркадий, – кивнула старуха Маша. – Как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? На высоких каблуках все еще фасонишь, а памяти нет, – рассердилась она. – Ну, Марфа… Неужели не помнишь? Она за поскотиной жила. На отрубе. У реки.
– Не помню Марфу! – Бабушка тоже начала сердиться. – А каблуки к этому не касаются. Чем выше каблук, тем выше у женщины настроение.
– Не воображай. Ты всегда воображала – старые песни на новый лад перекраивала. – Маша махнула на бабушку рукой, повернулась к старухе Даше. – Я говорю, у нас в деревне рыжая Марфа жила. Я соображаю: на кого девчонка похожа? На рыжую Марфу похожа. Такой же зловредный цвет. И угораздило же такой родиться! Бедняжка. – Старуха Маша погладила Ольгу по голове. Поцеловала.
Ольга съежилась.
– Рыжая Марфа несчастная. Она, знаешь, померла от мороза. Закоченела. У нее изба сгорела до угольков. Ей ночевать негде было, и никто ее к себе не пустил. Все за скотину боялись. Марфа своими бесстыжими глазами на скотину хворь наводила. Темный народ был. Так и замерзла. Нашли ее утром на паперти. Лежит снегом засыпанная, только рыжие волосы на снегу горят.
Ольга еще больше съежилась.
Маша сорвалась с места, побежала к окну.
– Ты что перестал? Играй вальс из Ляховицкой. Ляховицкая на шкафу! – закричала она.
Старуха Даша обняла Ольгу.
– Не обращай внимания. Маша старуха добрая. Чуткости у нее маловато, а доброта есть. Последним поделится.
– Неужели добротой можно оправдать глупость? – спросила Ольга.
Бабушка кинула на нее растерянный взгляд.
– Помолчи, не тебе судить Машу. Не доросла. Кушай вот вкусненькое.
– Я ее не сужу. Я ее просто боюсь.
– Нашел? – крикнула Маша в окно. – Медленно играй, не скачи по клавишам, как козел по грядкам.
Она вернулась к столу, села грузно и снова принялась терзать бабушку:
– Ну, как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? Такой цвет и в гробу вспомнить можно.
– Я твоему Аркашке за этот самый цвет уши нарвала, – сказала старая дворничиха.
– То-то он сегодня фальшивит. – Маша откусила пирога. – У тебя своих нет, потому и хохочешь.
– Ага. Я своих в войну похоронила.
– Легко тебе живется! – Старуха Маша сказала это по инерции, потом спохватилась и добавила: – Я бы на твоем месте икала от горя.
Дворничиха поперхнулась, пробормотала с натугой:
– Ну, беда.
Маша еще пирога откусила. Причмокнула.
– Вкусный пирог. Ты, Клаша, всегда была мастерица пироги печь… Марфину избу Аграфена-солдатка спалила из ревности. Ну, как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? Марфа же тебе родственницей приходилась. Ну, ну… Вспомнила? Ры-жа-я. Ею ребятишек в деревне пугали.
– Не было у меня рыжих родственников, – сказала бабушка.
– Как же не было, когда я знаю, что были. Рыжая Марфа твоя родственница.
За окном заиграли вальс, медленный и торжественный. И все вокруг подтянулось: кресла у стен словно щелкнули каблуками, кот в подвале перестал мышь ловить, принялся вылизывать грязь с боков.
– Не этот! – вскочила старуха Маша. – Я тебе велела не этот играть. Другой! – Она хрипло и фальшиво запела: – Ум-па-па, ум-па. Ля-ля-ля-ля, тру-ля-ля… Понял?
За окном заиграли другой вальс.
– Когда хочешь, тогда можешь, – сказала старуха Маша.
Ольгина бабушка упрекнула ее:
– И вообще, Маша, нечуткая ты. При рыжем нельзя о рыжем разговаривать. Нетактично. Своего Аркашку на рояле учишь, а у самой тактичности нет. Даже когда в трамвае один рыжий сидит и вошел второй, он никогда с ним рядом не сядет.
– Это ихнее дело, – заявила Маша. – Господь с ними, я их не осуждаю. А Ольга – она же своя. Она на меня не обидится. Морковочка. – Старуха поцеловала Ольгу и объяснила: – Я твою бабку о Марфе спрашиваю, чтобы она биографию вспомнила. – Маша повернулась к бабушке. – От родственников отказывается. Какая безродная. Может быть, тебя в капусте нашли? Мне мораль читаешь, а сама от своих открещиваешься. Я вот от родственников не откажусь. Будь он хоть вором. Я его заклеймлю, в лицо ему плюну, а отказаться – не откажусь.
– Не было у меня рыжих родственников, – с угрозой в голосе сказала бабушка.
Дворничиха прошептала Ольге:
– Не обращай внимания. Они, сколько я их помню, все время спорят.
– Если еще хоть слово про рыжую Марфу, я улечу обратно на Север, – прошептала Ольга.
– Что ты, милая.
За окном печально и ломко затренькала балалайка.
– Шурик страдает, – сказала Клаша.
– Любовь, – улыбнулась Даша.
– Непутевый – везде непутевый. Даже продавщица – тьфу! – и та на него не смотрит. – Старуха Маша пожевала пирог, возмущенно сверкнула на бабушку глазами. – А я говорю, рыжая Марфа твоя родственница. Она кривого Матвея дочка. А кривой Матвей и твой дед – братья двоюродные.
– А я говорю, не было у меня рыжих родственников. Матвей был каштановый.
– Нет, рыжий.
– А я говорю – каштановый. Не было у меня рыжих родственников и не будет.
Ольга вскочила из-за стола. Стул в накрахмаленном белом халате упал. Ольга спросила тихо:
– А я?
– Что ты? Ты сиди, ешь пирог.
– А я разве тебе не родственница? – крикнула Ольга, оттолкнула ногой упавший стул и выбежала из комнаты. Громко хлопнула лестничная дверь. Звонок над ней звякнул от неожиданности. Умолкла балалайка. Аркашкин вальс громыхнул нелепым аккордом и затих.
– Ишь ты, – сказала старуха Маша. – Вся в рыжую Марфу. У тебя, Клаша, еще деверь был рыжий, Варфоломей.
– Не было деверя! – тихо и угрожающе прошептала бабушка.
– Как же не было?
– Не было!..
– Был!
Старая дворничиха взяла в зубы нож. Зарычала. И Маша, и Клаша примолкли в испуге. И Маша, и Клаша спросили:
– Что с тобой, Даша? Ты, никак, спятила?
КАРТИНА ПЯТАЯ
На дворе опавшие листья. Их намело с улицы. Они колышутся и тоненько звенят. Ветер обшаривает углы и подвалы, торопит засыпающие деревья.
Воробьи снова завладели двором, скандалят и скачут.
Ольга выбежала из парадной. Воробьи разлетелись, как брызги. Со второго этажа во двор спрыгнул Аркашка, схватил Ольгу за руку и потащил ее за каменный цоколь вазы.
– Прячься, бабушки мчатся!
Ольга сжалась в комок. Аркашка развалился на скамейке, задрал ногу на ногу и принялся спокойно свистеть песни.
Старухи высыпали из парадной – Маша за Клашей, Даша за Машей.
– И не отказывайся. Твой деверь Варфоломей был форменный рыжий.
– Нет, каштановый… Ольга! – позвала бабушка. – Ольга!
– Форменный рыжий. Его так и дразнили: Красный Варфоломей. Его кулаки вилами закололи, когда он по продразверстке ходил.
– Каштановый!
– Рыжий!
Дворничиха схватила метлу. Крикнула:
– Хватит!
– А я говорю – рыжий.
– А я говорю – каштановый.
– А я говорю – хватит!
Аркашка соскочил со скамейки, встал между старухами.
– Оттаскайте меня за уши. Кто желает? Ну, оттаскайте меня за уши.
Старухи опешили.
– Ольгу не видел? – спросила бабушка.
– На улицу побежала.
– Она тебе ничего не говорила?
– Сейчас вспомню. Ага, сказала, что больше не вернется, больше к вам не придет, потому что утопится.
– Что?
– Утопится.
Ольгина бабушка закачалась.
– И ты ее не схватил, не остановил за руку?
– Я не успел. А потом, для чего? Одной рыжей меньше.
– Ох ты… Ох ты… – сказала Ольгина бабушка и, как слепая, стала шарить рукой, куда бы ей сесть. – Уши оторвать тебе мало. Гений сырой!
Аркашка подставил ей ухо.
– Рвите, отрывайте. Я их вазелином смазал. Теперь не ухватите.
Старухи посадили Ольгину бабушку на скамейку. Маша напустилась на внука:
– Я тебе что велела? Я тебе велела вальс играть.
– Оттаскай меня за уши.
Старуха попыталась это сделать, но скользкие Аркашкины уши тут же выскользнули из ее пальцев.
– Рвите! Отрывайте! – крикнул Аркашка. – Что, не можете?
Воробьи на дереве тихо сидели. Они не понимали, что происходит, потому что такого во дворе никогда не бывало. Еще никто не отказывался Аркашке уши нарвать.
– Оленька, – всхлипывала Ольгина бабушка.
Дворничиха ее утешала:
– Ну, не рыдай, Клаша. Ну, не рыдай. Не такая она дурочка, чтобы с жизнью попрощаться.
– Оленька и пирогов не покушала.
– В милицию заявить нужно, – сказала старуха Маша. – Непременно. Ее по цвету разыщут… Ты мой вазелин взял? – спросила она Аркашку. – Тебе кто велел?
Аркашка снова подставил ухо.
– Тьфу ты, бес. Ну ладно, я найду к тебе другой ключ. Басовый. Я тебе что велела?
– Я музыку с пеленок ненавижу, – вкрадчиво сказал Аркашка. – Рвите мне уши. Отрывайте. Я слух потеряю. – Он сам взял себя за ухо и сам от себя вырвался.
– Вот и свихнулся мальчик, – покачала головой дворничиха.
Воробьи на дереве забеспокоились, принялись обсуждать, что сулит им в дальнейшем такое Аркашкино поведение.
– Оленька… – Ольгина бабушка вдруг вскочила. – Я тебя отыщу. – Она ринулась в подворотню. – Я тебя из-под воды спасу.
Старуха Даша устремилась за ней.
– Куда ты, Клаша?! Ты же плавать не умеешь.
– Все из-за твоей Марфы, – сказал Аркашка.
– Господи, воля твоя. Что же я такого сказала? Если Марфа была рыжая, так ведь ее зеленой не назовешь. Уж какая есть. Господи, я ж говорила, что от рыжей Марфы одно несчастье. Недаром я сегодня корову во сне видела. Черную комолую корову… Оленька. Морковочка. Подосиновичек. Рыженькая ты наша… – Старуха побежала догонять подруг.
Когда она скрылась, Аркашка сказал:
– Вылазь.
Ольга вылезла из-за цоколя.
– Так нельзя. У тебя сердца нет.
– Целый час про какую-то Марфу говорить можно? – спросил Аркашка. Меня каждый день за уши дергать можно? Уши ведь не для того человеку, чтобы их дергали.
Ольга села на краешек скамьи.
– Но ведь они старенькие – бабушки. Их уважать нужно.
– Бабушки – бич педагогики. Это наш директор сказал на собрании. Наш директор сам старик, он точно знает. – Вдруг Аркашка шлепнул кепкой по скамейке. – Придумал. Давай мы тебя перекрасим.
– Это зачем?
– Тогда тебя никто не будет рыжей дразнить.
– Пусть лучше дразнят. Я останусь как есть. А зачем это ты обо мне заботишься? Ты ненавидишь рыжих.
Аркашка снова сел. Вздохнул тяжело-тяжело.
– Я переменил взгляды. Слышишь, давай мы тебя перекрасим. Ты ведь в душе будешь знать, что ты рыжая, а другие не будут.
– Зачем? Пусть знают… Мне эту Марфу жалко. Она, наверно, красивая была и несчастная.
– Ты тоже красивая, – сказал Аркашка. Он застеснялся своих слов и, наверно, поэтому рассердился. – Не хочешь перекрашиваться? Как хочешь. Пусть тебе говорят: «Рыжий бес, куда полез?» Пусть кричат: «На рыжих облава!» – Аркашка прокричал эту фразу, после чего добавил: – Рыжая ведьма.
Ольга вскочила.
– Опять? Это ты зачем же опять?
– Я же не дразню тебя. Я просто напоминаю и предупреждаю: «Рыжая карга. Рыжая нахалка. Черный рыжего спросил: „Где ты бороду красил?“ Рыжий мерин, куда бегал?»
– Замолчи! – Ольга двинулась на Аркашку с кулаками.
– Что ты? Что ты наскакиваешь? – Аркашка прикрылся. – Я же просто говорю, как тебя будут дразнить, если ты не перекрасишься. «Рыжий, да красный – человек опасный. С рыжим дружбу не води, с рыжим в лес не ходи». Рыжуха.
– Я тебя убью.
– «Рыжих и во святых нету».
– Я тебя в самом деле убью.
– «Рыжий вор украл топор».
Ольга бросилась на Аркашку. Но он упал на землю и спрятался под скамейку.
– Какая рыжесть, – сказал он оттуда.
Ольга полезла было за ним, но Аркашка отбежал на четвереньках к вазе.
– Иди сюда, я тебе покажу что-то, – позвал он.
Отвалил каменную плиту от цоколя. Открыл тайник. Аркашка вытащил оттуда толстую пачку растрепанных книжек.
– Вот. Детективы и другие ценные книги. Конан-Дойль. «Лига красноголовых». «Инесса, рыжий дьявол». А вот еще заграничный автор: «В когтях Барбароссы». Барбаросса – рыжебородый пират, гроза Средиземного моря. Мне эти книжки дома читать не разрешают. Дома я читаю по специальной программе. Только классику и биографии великих людей. Бабушка настаивает. Кстати, у классиков тоже рыжие навалом – и почти все как есть злодеи.
– Разорви эти книги.
– Скажешь! Книга – друг человека.
– Собака – друг человека.
– Книжки тоже. Всему хорошему в нас мы обязаны книгам. Видала, какие растрепанные? Их уже, наверно, миллион людей прочитали. Я их берегу, подклеиваю. Кстати, в «Трех мушкетерах» миледи – рыжая. – Аркашка хихикнул, запустил обе руки в свою надерганную челку. – Я иногда читаю и задумываюсь. Что мешает людям спокойно жить? Все говорят: подлецы мешают. И в книжках тоже. Какой-нибудь подлец всем кровь портит. Тысячи людей его ищут, не могут найти: он – как блоха в темноте. Я, значит, задумался: кто же эти подлецы все-таки? Как бы их сразу узнавать, ну, как лошадь или кошку, уже при рождении. Родился подлец – сразу на него карточку заводить спецучета и глаз с него не спускать. – Аркашка посмотрел на Ольгу с опаской.
– А ведь действительно, – сказала Ольга. – Подлецы, подлецы, кто же они по природе? Откуда берутся?
Аркашка вытащил из тайника еще пачку книжек, поновее.
– Про шпионов, «Волчье логово». Здесь рыжих штук двадцать. Все самые кровососы фашисты – рыжие. Русский изменник, в прошлом вор, – рыжий. Шпион-диверсант тоже рыжий. Хочешь, дам почитать? Не оторвешься.
– Не хочу.
– А вот эту хочешь? «Оливы, оливы». Про нашего разведчика в Италии, во время войны.
Ольгой овладело беспокойство, она напряглась вся.
– В ней тоже есть… эти?
– Полно, – грустно сказал Аркашка. – Фашистский фельдфебель, женщина-предательница и целый взвод карателей. Этот взвод так и назывался – «Рыжая банда».
– Значит, ты думаешь… Значит, вот ты как думаешь!
– Ну да, а как же мне было иначе думать? Если в книжках как подлец, так обязательно рыжий. Я даже рацпредложение написал: если все рыжие подлецы, то почему милиции не переловить их всех и не упрятать куда-нибудь подальше? Я это сочинение дяде Шуре отдал, который разнимал нас. Он всех знает, даже главного комиссара милиции.
– Ну и что?
Аркашка посмотрел на Ольгу, хмыкнул.
– Он тоже спросил: «Ну и что?» А я ему афоризм: «Я мыслю, – значит, живу». А он говорит: «Не тем местом мыслишь». Взял с меня слово, что буду молчать до гроба жизни, потом снял с себя ремень, а с меня снял штаны. – В этом месте повествования Аркашка хлюпнул носом и возмущенно бровями двинул. – Еще лупит, да еще и приговаривает: «Мелкие мысли назойливее насекомых. К тому же от них труднее избавиться. Избавляйся и меня за помощь благодари». А потом говорит: «Если живешь, научись мыслить шире». А еще родной дядя. Я два дня не мог за роялем сидеть. Мне еще и от бабушки попало за то, что плохо играл. Короче, мы друг друга не поняли. Короче, я решил действовать самостоятельно… Ты была первая.
– Но это же хамство, – сказала Ольга.
– Что хамство?
– Хамство так думать. И эти книжки хамские.
Они помолчали оба, в грусти и в недоумении. Аркашка еще посопел вдобавок, потер свои горемычные уши.
– Зачем ты уехала с Севера? Там тебя, наверное, меньше дразнили.
– Одинаково. Просто там меньше народу. А уехала потому, что в школу. Где мы раньше жили, там школа была, там большой поселок. Сейчас моих папу и маму перевели в океан. А мне либо на Диксон, в интернат, либо сюда, к бабушке. Мы решили – пусть я лучше сюда поеду.
Они опять помолчали.
Воробьи, видя такое дело, взялись за охоту. Ведь как ни говори, свой желудок гораздо требовательнее чужого горя. Пустились мух ловить. Роскошные осенние мухи гудели и нахально кусались.
Аркашка поймал одну муху с выпученными глазами, оторвал ей крылья.
– Мухи гады! Мухи гадят! Мухи мучают людей! – пропел он.
Ольга подняла опавший лист, разгладила его на колене.
– Почему опавшие листья никто не называет падалью?
– Они красивые.
– Но ведь они тоже рыжие.
Аркашка задумался.
– Ха, – сказал он. – Осенью все листья рыжие. Все, понимаешь? Если бы все люди были рыжими, никто бы на тебя и внимания не обратил. Стань как все и живи себе преспокойно. Слушай, давай мы все-таки тебя перекрасим.
– Чтобы перекраситься, в парикмахерскую идти нужно.
– В парикмахерской не перекрасят. Ты еще несовершеннолетняя. Тебе сколько?
– Двенадцать.
– Прогонят.
– А как же тогда?
Аркашка подумал. Когда он думал, то втягивал голову в плечи. И чем крепче думал, тем глубже втягивал голову, словно старался плечами заслонить свои горемычные уши.
– У нас в квартире одна тетка живет, Зоя Борисовна. У нее всяких красок навалом. Я у нее стяну что-нибудь подходящее. Тебе какой цвет?
– Лучше бы черный, – сказала Ольга.
Аркашка помчался домой.
Ольга взяла книжку из Аркашкиного тайника, развернула. Стала читать:
«Велик ваш грех перед Господом нашим. Мерзкие отродья дьявола бродят по нашей планете, оскверняя образ Божий, по которому он создал нас с вами. Я, ребята, имею в виду рыжих. Разве этот богомерзкий цвет волос был у наших прародителей, некогда изгнанных из рая? Нет, и тысячу раз нет! Рыжий цвет пошел от дьяволицы Лилит…»
Ольга застонала, рванула себя за волосы.
– За что? – сказала она. Сгребла книжки в охапку и запихала их обратно в тайник, словно в печку. И привалила камнем.
Прибежал Аркашка с красивой черно-белой коробкой в руках.
– Будешь как Кармен. Вот. «„Суппергаммалонель“ черный, – прочитал он надпись на коробке. – Подкраска для волос. Дает черный глубокий цвет с блеском. Нетоксична. Укрепляет корни волос. Придает волосам пышность. Одновременно является средством от облысения. Особо рекомендуется при раннем поседении. Подкраска легко смывается».
Ольга взяла коробку.
– «Нашей фирмой выпускается „Суппергаммалонель“ всех цветов и всех существующих в природе оттенков. Тем самым фирма пытается разрешить большую гуманистическую проблему – цвет и настроение, цвет и жизненный тонус, цвет и работоспособность…»
– Ты способ употребления читай, – подсказал ей Аркашка и сам принялся читать: – «Подкраска наносится на влажные, чисто промытые волосы нанизанным на расческу кусочком ваты. Волосы красятся по частям, прядь за прядью, до полного их потемнения». Айда в прачечную. Там вода есть нагретая. Там и свитер скинешь, чтобы не замарать.
– Подкраска легко смывается, – сказала Ольга.
– Ничего. Я с Зоей Борисовной поговорю, она тебя навсегда перекрасит.
Ольга села, стиснула каменную скамейку пальцами.
– Навсегда? И тогда мне всю жизнь придется лгать?
Аркашка потянул ее за рукав.
– Брось. Чего ты задумываешься?..
Ольга вяло пошла за ним.
Воробьи бросили мух ловить, уселись на нижние ветки и нахохлились.
Из кустов вышел шут с балалайкой.
Трень-брень.
– Я пришел извиниться. Может быть, сегодня в театре присутствуют химики, парфюмеры и парикмахеры. Может быть, они скажут, что нет такой замечательной черной подкраски для волос, что покамест ее не придумали. Я напомню: история эта началась неизвестно когда и, наверно, не скоро закончится. Представьте, что действие моего рассказа происходит в том, будущем году, когда черная краска «Суппергаммалонель» уже изобретена и уже продается во всех киосках, как нынче продаются спички. Хотя мне очень желательно, чтобы такой рассказ в том, будущем году был невозможен. Надеюсь, благородные юные зрители, досточтимые пионеры, простят мне такое вольное передвижение во времени.
Шут ударил по струнам своей балалайки.
Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: «Будьте добры, причешите мне уши». Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, Лицо вытянулось, как у груши. «СУМАСШЕДШИЙ! РЫЖИЙ!» Запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка. И до-о-о-олго Хихикала чья-то голова, Выдергиваясь из толпы, как старая редиска1.Двор зашумел контрабасовым голосом. Из подворотни появилась старуха Маша.
– Милиция знает дело. Милиция уже по всему городу рыщет. Найдут. Тем более что она такая заметная. – Старуха Маша увидела на скамейке Аркашкину кепку. Взяла ее в руки и принялась по сторонам озираться.
Пошарила за кустами, обошла вокруг вазы, в вазу заглянула. Встала на скамейку, посмотрела на дерево – может быть, ее внук в ветках спрятался.
– Он же не воробей, – сказал ей шут с балалайкой.
– Воробей не воробей, а он еще шустрее воробья. У меня от него каждый день седых волос прибавляется. – Старуха слезла со скамейки, недовольно глянула на шута. – Опять со своей трынкалкой?
Шут струны погладил. Они тихонько запели.
– Брось свою трынкалку, – строго сказала старуха Маша. – Культурный человек с балалайкой ходить постесняется.
Шут поиграл немного «Наш паровоз летит вперед…».
– Тьфу на тебя. Была бы жива твоя мать, она бы глаза со слезами выплакала. Я тебя вырастила с Дашей и Клашей. А ты кем стал? Шутом, прости Господи.
Шут ударил по струнам. Струны крикнули.
– Шурка, – прошипела старуха, – я у тебя сейчас эту балалайку схвачу да как тебе по башке-то трахну… Из-за ней, из-за балалайки, ты холостой. Какая приличная девица на тебя с балалайкой поглядит?
– Не отвлекайтесь, тетя Маша, – сказал ей шут (дядя Шура).
Из прачечной вышли Аркашка и Ольга. Ольга – черноволосая. Ольга пышноволосая. Аркашка вокруг нее вьется.
– Законно. Кармен – как две капли.
Ольга взяла у него зеркало, принялась волосы поправлять. Лицо у нее спокойное, как вода в тазу, и не понять, нравятся ей черные волосы или не нравятся.
Старуха выскочила на середину двора.
– Где ты был? – грозно спросила она у Аркашки.
– Там.
– Где это – там?
– Ну там, в прачечной.
– А это кто?
– Ну, девчонка из нашего класса. Пришла, чтобы я ей объяснил уроки.
– Ты ей уроки в прачечной объяснял? Что же это за уроки, скажите на милость?
– Обыкновенные. Из двух труб вытекает вода…
– За рояль!
Скользкие Аркашкины уши выскользнули из старухиных пальцев. Аркашка нырнул в парадную.
– За рояль! – Старуха Маша, как поршень, вошла вслед за ним.
Тень опустилась на двор. Все во дворе замерло, будто гром сейчас грянет – огнем опалит. Двор зашумел грустно и жалобно. Из подворотни повеяло холодом.
Ольга уходила, оглядываясь, словно прощалась. Но из подворотни навстречу ей появился Аркашка. Как он из парадной вылез, только ему известно. Недаром мальчишки знают дома лучше строителей и управхозов.
– Не робей, – сказал он. – Дело обыкновенное.
– Я улечу. Принеси мне, пожалуйста, мой портфель. Там у меня деньги и документы. Денег мне до Архангельска хватит. Дальше меня знакомые летчики довезут через Амдерму.
– Я, может, тоже с тобой улечу. Папа по морям плавает, мама в командировке. Пускай сама сидит со своим роялем. Жди меня в охотничьем магазине на соседней улице. Если магазин закрыт или мало ли что, жди меня в парке. Там парк рядом.
Парадная чмокнула, словно из бутылки пробку вытянули. Во двор выскочила Аркашкина бабушка.
– Беги, Ольга. Жди, где условились.
Аркашка попытался проскочить у бабушки под рукой. Она схватила его за ворот и торжествующе крикнула:
– За рояль!
Когда ее крик замолк, шут (дядя Шура) тронул струны своей балалайки.
– Кстати о музыке, – сказал он. – Нас было трое в этом дворе. Мой старший брат, Матвей, ныне Аркашкин отец. Мой средний брат, Николай, и я, ныне шут. Мы все трое играли на балалайках. Мы выходили во двор, садились на эту скамейку – и со всех сторон отворялись окна, соседи слушали нас, заказывали свои любимые песни.
Шут сыграл старинную песню. Двор, припомнив мелодию, начал вторить ему. Забубнили подвалы, затрубили водосточные трубы, чердаки загудели, словно фаготы.
– Тогда мы были мальчишками. – Шут улыбнулся и еще поиграл немножко. Теперь он играл что-то очень печальное. – Но тете Маше показалось, что мы разбазариваем свои таланты, растрачиваем их не на том инструменте. Балалайку тетя Маша считает сувениром – и только, горькой памятью нашего прошлого, чем-то вроде лаптей.
Она повела нас в Дом культуры работников просвещения. Старшего зачислила в класс органа, среднего определила учиться на арфе, меня записали в класс скрипки.
Больше не открывались окна квартир. Музыка ушла со двора.
Через месяц мы перестали ходить в Дом культуры работников просвещения.
С тех пор тетя Маша нас всех немножечко ненавидит. Тетя Маша человек открытый. «Мне эта песня не нравится – стало быть, песня плохая», говорит тетя Маша.
«Мне эта сказка не нравится – значит, в печку ее», – говорит тетя Маша.
«Мне эта рожа не нравится…» – и так далее.
– Да здравствует тетя Маша!
Тетя Маша – закон!
Тетя Маша – судья.
Тетя Маша – венец созданья. Посторонитесь вы, не похожие на нее!
Шут поклонился:
– Антракт.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Когда солдат сражен ядром, его
лохмотья приобретают величие царского
пурпура.
Г. Д. ТороКАРТИНА ШЕСТАЯ
В магазине «Охота» торгуют хитроумными патентованными приспособлениями, искусственными приманками и острым металлом. В рыболовной стороне товар пестрый, но мелкий. В охотничьей – товар солидный. Матовый блеск ружей внушает почтение.
Возле прилавка покупатели: шут с балалайкой, шофер такси, Боба, Тимоша и еще охотник.
Охотник был поистине шикарен, одетый в кожаные болотные сапоги, кожаную куртку, парусиновые штаны с молниями, с кинжалом и патронташем на поясе, с ружьем в чехле. На голове у него – старенькая поблекшая тюбетейка.
Шут (дядя Шура) разглядывал рыболовный товар. Из десяти его взглядов восемь приходилось на продавщицу. Она это чувствовала, то и дело поправляла рыжие, красиво прибранные волосы, а также яркий шарфик на шее. Глаза у продавщицы были голубого ясного цвета.
Боба и Тимоша самозабвенно врали:
– Лучшие в мире черви. Высший люкс. Экстра. Смотрите, как вьются. Смотрите, какие они жирные, как поросята.
– Купите червей. На таких кто хочешь заберет, хоть судак, хоть сом.
– Я уже взял на двугривенный, – сказал им таксист, – не мелькайте перед глазами. – Таксист уставился на продавщицу. – Какие у вас глаза. Хороший у вас магазин, самый прекрасный, по существу… у вас все есть для души.
– Даже черви, – ответила ему продавщица. – Правда, это уже частный сектор, но тем не менее. – Продавщица смотрела на покупателей, как на больных детей, которым обязательно и сию же минуту дай погладить живого слона.
Тимоша встряхнул банку с товаром.
– Дяденька, купите червей. Уже немного осталось.
– Я ловлю на блесну, – сказал шут с балалайкой.
– А вы на блесну червяка насадите – знаете, как клюнет!
– Я еще не выбрал блесну.
Таксист посмотрел на него исподлобья.
– Вы уже который день выбираете.
– Извините, – сказал шут. – Клянусь вам, я не хотел этого.
– Чего – этого? – насторожился таксист.
– Того, о чем вы сказали.
Шофер покрутил пальцами возле виска, снова повернулся к продавщице, показал рукой на полки с товарами.
– Прекрасно для глаз. Так бы и забрал все это домой. Имею в виду вместе с вами.
Продавщица ему улыбнулась.
– Дяденька, купите червей. Резвые, черти.
– На любую рыбу. Универсалы. Скоростники.
– Не занимаюсь, – сказал мальчишкам шикарный охотник. – Рыбная ловля не для меня. Рыбная ловля – занятие для глухонемых.
Шофер покрылся пятнами по лицу.
– Что вы сказали?
– Я сказал: рыбная ловля – занятие для глухонемых.
– Да вы имеете представление?!
– Граждане, поступила новинка… – Продавщица поспешно достала новинку в коробочке. – Полюбуйтесь…
Таксист набрал воздуху в широкие громкие ноздри.
– Кровопускатель. Лесной гангстер. Болотный пират!
– Вы только взгляните, – попросила его продавщица.
– Беру… – Таксист спрятал новинку в карман и, заведя глаза ввысь, произнес: – Если бы рыба клевала на яблоки, рыбаки бы всю землю яблонями засадили.
– А она не клюет, – ласково пробасил охотник.
Рыбак грозно скрипнул зубами, но выдержка в нем была, недаром он работал в такси.
– А бедные пташки плачут, – сказал он голосом мягким, как вазелин. – Бедные птенчики, несчастные сиротки. Кто ихнюю маму убил?
Продавщица нервно поправила шарфик.
– Граждане, обратите внимание. Блесна «Удача». Для мутной и полупрозрачной воды. – В ее руке блеснуло нечто золотое с красными перьями.
Рыбак схватил блесну вместе с ее рукой.
– Беру!
Продавщица спросила шута (дядю Шуру):
– А вы не хотите взглянуть?
– Я смотрю, – сказал шут. – Мне очень нравится.
– Тогда чего же вы ждете?
– Не торопить события, ждать – вот мой удел.
– И на эту не клюнет, – сказал рыбаку охотник.
Таксист мощно задвигал локтями.
– Я еще с вами договорю. Вы… вы медведь…
– Кстати о медведях… – Охотник придвинулся к шуту (дяде Шуре).
На улице нетерпеливо и нервно загудела машина.
– Кто там сигнал трогает? Руки переломаю! – крикнул таксист. И тут же улыбнулся продавщице, и тут же сказал с печальной надеждой: – Извините, работа.
– Рубль двадцать. За две блесны, – улыбнулась ему продавщица.
Таксист отсчитал деньги.
– Какие вечера у реки. Какие бывают ночи! Соловей мой, соловей…
На улице снова загудело.
– Ноги повыдергиваю! – заревел таксист и выскочил на улицу.
Когда дверь захлопнулась и в магазине установилась мирная тишина, охотник тронул дядю Шуру за локоть.
– Кстати о медведях, – сказал он загадочным басом.
Продавщица спрятала деньги в кассу.
– Трудно, – сказала она.
– Что трудно?
– Трудно быть продавщицей. – Она сунула карандаш за ухо, руки потерла и заговорила чужим, скрюченным голосом: – Продавщица – это артистка. Ее дело – продать залежалый товар. – И добавила уже своим голосом: – Артисткой быть тоже трудно. Когда я торгую, мне говорят: «Вы продавщица и не стройте из себя Дездемону». Когда я играю в самодеятельности, мне говорят: «Вы Дездемона – позабудьте, что вы продавщица». Видимо, артистам и продавцам многое следует забывать.
– Учись, Боба, – сказал Тимоша.
Шут вынул откуда-то из волос пушистую астру «страусовое перо». Протянул ее девушке-продавщице.
– Учись, Тимоша, – сказал Боба.
Девушка цветок понюхала. Улыбнулась задумчиво.
– Цветы, как много в вас смысла. – И вдруг, вероятно вспомнив свои обязанности, спросила шута очень строго: – Вы наконец выбрали что-нибудь, гражданин?
Охотник кашлянул деликатно.
– Кстати о медведях…
Дверь отворилась с мелодичным звоном. В магазин вошла Ольга. Она впустила с собой шум машин, говор прохожих, горький запах осенних садов. Она прошла мимо мальчишек.
– Купите червей, – сказал ей Тимоша. – Первый сорт черви.
– Высший люкс, – подхватил Боба. – Экстра… – Он хотел что-то еще добавить, да так и остался стоять с открытым ртом.
Ольга остановилась у прилавка с пестрым товаром. Боба глядел на ее затылок, на ее черные, как березовый уголь, волосы. Рот у него открывался все шире и шире и захлопывался судорожно.
– Кстати о медведях. Я, можно сказать, спал с медведем в обнимку. Жуткое дело…
Боба наконец справился с зевотой.
– Фантастика, – сказал он. – Не потерплю обмана.
Продавщица вскинула на него фиолетовые от негодования глаза.
– Мальчик, это еще что?
Боба ее не слышал. Он шептал что-то Тимоше на ухо, показывал на Ольгу.
Охотник смущенно откашлялся.
– Балбесы… Жуткое дело.
– Значит, спали в обнимку. – Продавщица поправила волосы.
– Рыжая! – вдруг сказал Боба.
Ольга пригнулась к прилавку, прилипла носом к стеклу. Продавщица уставилась на шута (дядю Шуру).
– Зачем вы сюда ходите? Зачем вы подарили мне астру?
– Рыжая! – еще громче сказал Боба.
– Почему вы молчите? – заплакала продавщица. – Молчите, даже когда меня оскорбляют.
Охотник уже держал Бобу за воротник. Тимоша отбежал к двери. Ольге удрать нельзя: у дверей Тимоша стоит.
В голубых глазах продавщицы блестели голубые слезы.
Боба понял свою ошибку.
– Я не вас, – заскулил он. – Я же знаю, что вы не рыжая.
– Какая вы рыжая, – подтвердил от двери Тимоша. – Вы в прошлый раз были белые, а еще позатот – розовые.
– Белая лучше, – сказал шут.
– Тогда я играла Офелию, – всхлипнула продавщица.
– И розовая хорошо, – сказал шут.
– Тогда я играла Джульетту, – всхлипнула продавщица.
– А я рыжий, – сказал шут. – Я работаю клоуном в цирке.
– Мы не вас, – сказал Боба.
Продавщица еще раз всхлипнула:
– А я обыкновенная. У нас молодежный экспериментальный театр. Мы ищем новые формы. Сейчас я играю мещанку – отрицательный персонаж.
Охотник Бобу встряхнул.
– Жуткое дело. Зачем ты кричал «рыжая»? Кого ты имел в виду?
– Да вот эту, – сказал Боба. – Она и есть рыжая.
Охотник посмотрел на Ольгу.
– Не надо. Не надо оскорблять. Ты же отчетливо видишь, что она черная.
– Прикинулась, – сказал Боба. – Могу биться – рыжая.
– Она действительно рыжая, – вмешался шут (дядя Шура).
– Балбесы. – Охотник выпустил Бобин ворот. – Даже если и рыжая. Нельзя указывать человеку на его природные недостатки.
Продавщица тоже посмотрела на Ольгу. Вспомнив свои обязанности, она спросила:
– Тебе чего, девочка?
– Ружье.
– Ружье?
Ружья стояли в стойке, как строгие черные клавиши.
– Ну, – сказала Ольга, – ружье, которое подешевле.
Продавщица ей улыбнулась:
– Ты, девочка, не в тот магазин пришла. Ружья – игра для взрослых. А взрослые игры не бывают дешевыми.
– Мне не играть. Я кого-нибудь укокошу. – Ольга кинула взгляд на Бобу и отвернулась.
– Что? – воскликнули охотник, продавщица, Тимоша и Боба в один голос.
Шут достал откуда-то балалайку.
– Укокошу, – повторила Ольга.
Тимоша подошел к ней, осмотрел ее со всех сторон.
– Зачем перекрасилась?
– Авантюристка! – сказал Боба. – Мы у нее спросим, зачем она перекрасилась. Сегодня она волосы красит – раз. Завтра маникюр наведет два. Послезавтра – губы намажет. Рыжая, от нее чего хочешь ждать можно.
Ольга схватила ружье. Вскинула его к плечу.
– Убью!
Боба упал на колени. Руки поднял.
– Убьешь – ответишь!
Тимоша снова спросил:
– Зачем же ты перекрасилась?
Охотник отобрал у Ольги ружье, поставил его на место.
Боба дрожал всем телом.
– Не дрожи, – сказала ему Ольга. – К сожалению, оно не заряжено.
– А я от смеха дрожу.
Охотник ткнул в ружье пальцем, затем этим же пальцем ткнул Ольге в лоб.
– Запомни, этим не шутят.
– Зато этим шутят. – Шут (дядя Шура) взлохматил Ольгины волосы. – Шутят сколько хотят, сколько угодно. Но если горбатому тысячу раз сказать, что он горбат, он кого-нибудь укокошит, и суд его оправдает.
– Она не горбатая. Она красивая, – смутившись, поправила его продавщица.
– Только рыжая, – подсказал Боба. – Страшное дело, если ружья вдруг попадут в руки к рыжим.
Ружья стояли в стойке; они-то знали, что оружие только в умных руках безопасно. Но их продавали, не спрашивая, умен или глуп покупатель. Ружья были товаром, а как известно, товар владельца не выбирает.
Шут (дядя Шура) тихонечко струны нащипывал.
– Рыжий – чудак. Рыжий – забава. Я выхожу на арену в своем парике, и люди сразу же начинают смеяться. Это моя работа. Я еще не успел произнести ни одной глупости, а они уже улюлюкают. Когда я спотыкаюсь и падаю, они стонут от хохота. Я делаю благородное дело. Смех – витамин для нервной системы. Особенно им нравится, когда я плачу… Но иногда мне кажется: разреши им – и они начнут швырять в меня зонтиками и растаявшим эскимо. Из-за одного только рыжего парика. Но ведь я могу его снять, мой рыжий парик. А вы не задумывались, почему у клоуна рыжий парик? Не зеленый, не синий, а рыжий?
Охотник посмотрел на шута с пониманием. Потом он снял свою тюбетейку. Голова у него оказалась лысая и блестящая, как плафон.
– Вот, – сказал охотник. – Жуткое дело. Со времен гражданской войны. Я болел тифом. Тиф – болезнь военная, голодная. Во время тифа волосы у меня выпали и больше уже не выросли. Двадцати лет мне еще не было. Я смолоду лысый. Так меня Лысым и звали. На войне я даже имя свое забыл. Лысый так Лысый – какая разница на войне? Зато в мирное время у всех имя-отчество, а я опять Лысый. В трамвае кондуктор кричит: «Эй ты, лысый, деньги платил?» У других не спросит – у меня обязательно. Жуткое дело. В кинематографе в спину толкают: «Эй ты, лысина, не отсвечивай, спрячь отражатель за пазуху». На танцах девчата со мной танцевать не идут стыдятся. Со всех сторон хихикают: «Эй ты, плешь. Эй ты, голова, как колено. Эй ты, кудрявый…» Сначала я объяснял: мол, потерял волос в сражениях войны за Советскую власть. Даже орден показывал. Да всем не накланяешься, и от рассказов кудри не нарастут. Я даже застрелиться хотел. Потом подумал, подумал и утих. Надел тюбетейку и так всю жизнь в тюбетейке прожил.
– Что же мне делать? – спросила Ольга.
Боба тут же сунулся с предложением:
– Побрейся. Лучше быть лысым, чем рыжим. Могу биться.
– А еще поэт, – сказала Ольга.
И он к устам моим приник И вырвал грешный мой язык, И празднословный, и лукавый…Разве ты когда-нибудь сможешь такие стихи написать!
Девушка-продавщица погладила Ольгу по голове:
– Ты хорошо читаешь. Не нужно бриться. Проще можно. Стань великим человеком – и все. Великим все разрешается. Великие могут быть рыжими, лысыми, бородатыми, даже лопоухими.
– А если я не смогу?
– Не надо, – сказал охотник. – Посмотри на меня. – Он приосанился, выставил ногу в болотном кожаном сапоге. – Видишь, как я одет? Я одет экстравагантно. А кто дал мне право так одеваться? Охотничий билет. Я охотник, и одеваюсь я, как охотник. Сними я ружьишко, патронташ, кинжал, всякий встречный-поперечный надо мной захохочет. А сейчас молчат – не смеются. Потому что у меня охотничий билет – разрешеньице. У меня, жуткое дело, все в соответствии с документом. – Охотник произнес как пророчество: – Удостоверение личности.
Боба захохотал.
– Она тоже охотница. Моржа один на один завалила.
– Ну, завалила. Я его из винтовки.
– Моржа? – Охотник поежился и засмеялся. – Кстати о медведях, сказал он. – Я вам еще не поведал?
– Она оленей била. – Боба от смеха скорчился. Он смеялся с подвизгом.
Охотник смеялся сипло, словно из него пар выходил.
Ольга бросилась к стойке с оружием. Они с продавщицей вместе схватили ружье и потянули его каждый к себе, позабыв, что в незаряженном ружье больше смешного, чем страшного.
Охотник и Боба заливались, словно два саксофона.
Тимоша молчал.
Шут (дядя Шура) тоже смеялся. Он сидел на полу и смеялся голосом скрипки. Из его глаз длинными острыми струйками били слезы.
Закатывался Боба:
– Во врет – уметь надо. Ну и рыжая! Соври еще!
Икал охотник:
– Жуткое дело. Куда мне со своим медведем…
Ольга выпустила ружье. Продавщица спиной ударилась в полку с товарами. Ольга тут же схватила другое. И… грохнул выстрел. Ольга испуганно посмотрела вокруг. Дыма не было, раненых тоже. Это выстрелил шут (дядя Шура) из дурацкого пистолета разноцветными кругленькими бумажками с очень вкусным названием – конфетти.
– Почему вы смеетесь? – спросила Ольга. – Почему вы смеетесь, не зная? Почему вы ему верите, почему вы не верите мне?
– Она нерпу сама себе настреляла на шубу, – взвизгнул Боба.
Ольга выбежала на улицу.
– Боба, имеешь, – тоскливо сказал Тимоша.
– Посмеяться нельзя? Смех – витамин для нервной системы. – Боба снова застрекотал: – Ха-ха-ха!
И никто не заметил, как в магазин тихонько вошел Аркашка с Ольгиным нерпичьим портфелем.
– Ольга, – позвал он. – Ольга!.. Дядя Шура, где Ольга?
– Убежала, – сказала ему шут (дядя Шура).
Аркашка подошел к Бобе.
– Здравствуй, старый бродяга, – сказал ему Боба. – Вижу, ты, брат, не изменился с той благословенной поры, когда ходили кожаные рубли и деревянные копейки, когда короны королей были доступны для нас, как теперь портсигары, когда принцессы были красивыми, а вино крепким, когда наши шпаги не знали ржавчины поражений…
– Здравствуй, старый бродяга. Над Ольгой смеешься?
– Угадал, гениальный ребенок.
Аркашка трахнул Бобу портфелем по голове.
– Еще хочешь?
– Ты что, одурел? – спросил Боба. – Ты, старый бродяга…
– Не за гениального ребенка – за Ольгу.
Боба бросился на Аркашку, он бы смял его, но тут между ними встал Тимоша.
– Отскочите, – сказал он. – Или оба в нокауте. Зачем ее портфель приволок?
– Она улетать хочет. Вот уедет она, если все здесь над нею смеются. А тебя, Боба, я из рогатки достану.
– Уехать? Ребенок! От себя куда уедешь? Нету таких колес.
Продавщица посмотрела в глаза дяде Шуре, в самую их сердцевину.
Тимоша бросился к двери. На улицу выскочил.
– Ольга!
– Ольга! – передразнил его Боба. – Еще один спятил.
Тимоша вернулся с улицы, к охотнику подошел:
– А вдруг она не врала?
– Маловероятно, – вздохнул охотник. – Хотя и другое – смеху не к спеху.
– А вдруг она не врала? – спросил Тимоша у продавщицы.
Продавщица кивнула:
– Не врала.
– А вдруг, – сказал шут, – а вдруг врала?
Боба хихикнул, но, поймав скучный Тимошин взгляд, наглухо прикрыл рот ладонью.
– А вдруг? – повторил шут. – Ай-яй-яй, и мы ей поверили.
– Ну и что? Ну и поверили! – сказал Тимоша с сердитым напором.
– Аркашка, где она может быть, твоя Ольга?
– Она не моя. С какой стати она моя? Она такая же моя, как и твоя…
– Короче, где она?
– В парке.
Тимоша выскочил, хлопнул дверью. За ним побежал Аркашка. И уже потом пошел Боба, почесывая затылок.
Продавщица сказала:
– Они встретятся в парке…
Шут сказал, глядя в пол и краснея:
– Там хорошее место для встречи…
Охотник на цыпочках, чтобы не скрипнуть, пошел из магазина. Он шел затаив дыхание, он не хотел мешать.
– В восемь вечера, – сказал шут.
– В восемь вечера, – сказала ему продавщица.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ
Осень пахнет забродившим яблочным соком. Листья на деревьях – будто крылья чудесных бабочек. Они, наверно, улетают с ветвей к желто-розовым зорям, к багряным закатам, мажутся в огненных красках и прилетают обратно, чтобы всех подразнить своим солнечным цветом.
Осенью – ясным днем, темной ночью, даже в дождь, даже в бурю – слышен печальный какой-то звук, будто поезд уходит. Будто поезд этот последний.
Шут (дядя Шура) бодро шел по аллее старинного, парка. Он говорил:
– Убежала девочка плакать. Как говорится, не прижилась. Но сантименты нам не к лицу! Мы тверды и проворны. Ха-ха-ха… Перемелется – мука будет. Подумаешь, рыжая девчонка – частный случай. – Шут голову опустил. Руки развел. – А самое синее небо над нами. И самые теплые крыши над нами. И самые добрые люди вокруг. И очень хочется тихой красивой личной жизни. Особенно когда мы влюблены… Тс-с… Осторожно… – Шут оглянулся. – Это не детская тема. Я извиняюсь.
* * *
Ольга шла вдоль гранитного парапета, за которым текла речка. Эта речка – протока – впадала в другую речку, а уж та, своим чередом, – в море. Ольга трясла головой, черные, как березовый уголь, волосы падали ей на лоб густой челкой.
Ольга не заметила, как к ней подбежал Боба.
– Эй, ты! – крикнул Боба.
Она не услышала.
Боба дернул ее за рукав. Она остановилась и тотчас приняла оборонительную позицию.
– Не надо, – сказал Боба. – Меня уже били. – Боба повис на скамейке, как тряпка, и звук у него выходил изо рта со свистом, словно Боба испортился. – Полный комфорт. Тимоша теперь за тебя заступается… Тимоша осел. – После этих слов Боба вскочил со скамейки и огляделся. – Я в переносном смысле…
– Имя у него хорошее, – сказала Ольга. – Тимоша.
– Да Юрик он, Юрик. У него фамилия Тимофеев. Ты на меня злишься?
– Боба, я тебе прощаю. Я все-все прощаю. Я ни на кого не сержусь. Зачем? Злой бывает только глупость.
Все птицы в парке громко и удивленно пискнули, словно им открылось нечто великое. Они все разом повернули головки и посмотрели на угрюмую серую ворону, которая сидела на самом высоком дереве. «Кар-р-р», – сказала ворона и, в свою очередь, посмотрела на ястреба, который дремал высоко в небе на распластанных крыльях.
Боба уселся в небрежной позе – нога на ногу.
– Угадай, я умный или глупый?
Ольга сказала:
– Наверно, ты не дурак.
– Правильно.
– Тогда зачем ты все время кривляешься?
– Для балды. То есть для смеха. Без смеха кто я такой? Обыкновенный серый человек.
– И тебе все равно, над чем смеяться?
– Конечно.
Ольга уселась рядом с Бобой.
– Боба, только не врать. Если ты увидишь, что человек тонет, ты бросишься к нему на помощь?
– В зависимости от желания утопающего, – сказал Боба. – Если утопающий, кричит: «Помогите, помогите!» – я брошусь его спасать. Я прилично плаваю, не хуже Тимоши. Если утопающий молча тонет, зачем мне мешать ему? Может, он от этого удовольствие получает.
– Ну так вот, прощай, Боба. Я пришла сюда утопиться.
Боба захохотал.
– Нашла время. Сейчас вода холодная.
– Утоплюсь, понятно тебе? Возьму и утоплюсь в самом деле.
Что-то в Ольгином голосе насторожило Бобу.
– Я тебе утоплюсь! – проворчал он. – Я, конечно, наговорил тебе гадостей, но я не со зла. Я просто поторопился.
– Не уговаривай. Я все обдумала. Я не могу, чтобы меня каждый день изводили и надо мной издевались. Я не великий человек – мне рыжей нельзя быть. И я не актриса – мне нельзя красить волосы. И я не клоун – мне нельзя снять парик после работы. Но жить всю жизнь в тюбетейке я не желаю. Не хочу! Я решила: будет лучше для меня и для всех, если я утоплюсь. А теперь иди. Люди топятся в одиночестве. Передай привет всем… Ну, иди, иди.
Боба стоял перед Ольгой, переминался с ноги на ногу.
– Ну, чего не идешь?
– Можно, я посмотрю? Я никогда не видел, как люди топятся.
– Нельзя. Ты ведь не выдержишь – спасать бросишься.
– Я же сказал – не брошусь. Во-вторых, я простуженный.
– Все равно иди.
– Прощай, – сказал Боба.
– Прощай.
Боба пошел, и Ольга пошла, каждый в свою сторону.
Боба обернулся, крикнул через плечо, в его голосе прозвучала надежда:
– Ольга, не топись, а? Ты хоть и рыжая, но хороший человек.
Ольга вдруг бросилась на Бобу с кулаками:
– Убирайся! Уходи! Что ты ко мне привязался? Ну, уходи, тебе сказано. Люди топятся в одиночестве.
Боба закрыл голову руками и удрал в кусты.
Ольга села на парапет. Посидела немного пригорюнясь и позвала тихим печальным голосом:
– Боба, а Боба!
Боба стоял за кустом.
– Боба, а Боба! – еще раз позвала Ольга.
Молчание.
Гранит, синеватый с розовым, еще сохранял тепло. Вода в реке густого синего цвета. На ней листья красные и оранжевые.
– Пора, – сказала Ольга, растерянно шмыгнув носом. Она встала на парапет, посмотрела в воду. – Вода, почему ты молчишь? А собственно, почему ты должна со мной разговаривать? С предателями не разговаривают… – Ольга руки раскинула – ей, наверно, казалось, что именно так, с раскинутыми руками, топятся люди.
Боба за кустом заплакал, как грудной ребенок. Он захлебывался от горя. И утешал себя старушечьим голосом:
– Не плачь, не рыдай. Ты мое дитятко. У маленького животик болит. А мы ему молочка дадим.
Ольга села поспешно, ноги свесила и, когда плач утих, почесала одной ногой другую.
– Не дают спокойно утопиться, ходят тут, будто другой дороги им нету… Туфли я, пожалуй, оставлю. Они еще совсем новые. – Ольга сняла туфли, обтерла с них пыль носовым платком, заодно нос вытерла и поставила туфли на парапет. Встала во весь рост…
Птицы над ее головой примолкли, оцепенели от жгучего любопытства. Кроме вороны…
– Прощайте, деревья. Птицы, прощайте. Вы меня никогда не презирали. Если разобраться, вы тоже рыжие. Вас тоже многие обижают. И ты, камень, прощай. – Ольга нагнулась, погладила теплый камень-гранит, отполированный многими прикосновениями. – Ну, а теперь пора. Еще раз прощайте. – Ольга руки раскинула…
Боба за кустом взвизгнул и засмеялся.
– Нетушки, нетушки, – затараторил он, как пятиклассница, у которой есть что сказать подружкам по большому секрету. – Нетушки, и не спорьте. Она сама мне сказала, что ей Танька сказала, а Танька слышала в щелку… Ха-ха-ха… Хи-хи-хи…
Ольга опять села.
– Бегают тут. Ходят всякие. Эй вы, уходите отсюда! – Она подождала, пока смех замолк. Повздыхала досадливо. – Свитер я тоже оставлю. Это хорошая вещь. Мне его мама вязала. Кому-нибудь пригодится. – Ольга стащила свитер, положила его рядом с туфлями. Встала, руки раскинула. – Прощайте, деревья. Листья, прощайте…
Боба за кустом в один миг скинул кеды и куртку. Напружинился весь.
– И вы, птицы, прощайте… Почему вы молчите? Вам противно со мной разговаривать? – Ольга почесала затылок, поежилась. – Холодно…
Ворона снялась с дерева, полетела в другую часть парка, где карусели.
– А почему я должна топиться? – сказала Ольга. – Если я утоплюсь, все будут ахать и охать, станут жалеть бабушку. Старуха Маша скажет, что я вся как есть в рыжую Марфу. Боба скажет: «Рыжая, от нее чего хочешь ждать можно». Зачем это я должна топиться из-за дураков? – Ольга сунула руки в карманы.
Птицы над ее головой запищали – принялись спорить, права Ольга или не права. Некоторые щеглы даже подрались между собой.
Боба за кустом досадливо крякнул.
– Такой был случай прославиться, – сказал Боба.
Раздался свисток, и на аллее появился милиционер, он же шут (дядя Шура).
– Что здесь происходит? Прекратить! Я вам сказал, прекратить стоять близко к воде! Нельзя вас оставить одних ни на минуту. Что это вы тут разделись?
– Что, и раздеться нельзя? Может, мне жарко.
– Не может быть жарко, потому что сегодня не жарко.
– Может, мне изнутри жарко.
– В таком случае вызывают врача, а не раздеваются возле самой реки.
– Не нужно врача. Никого мне не нужно. Может, я искупаться хотела.
– Сейчас же одеться!
Ольга хотела возразить, но милиционер, он же шут (дядя Шура), поднял руку.
– Р-разговорчики!.. Могу я, наконец, иметь личную жизнь?
Боба за кустом второй кед натянул, куртку надел и куда-то пошел, по дальнейшим своим делам. Птицы разлетелись по всему парку, ничего интересного для них уже не предвиделось. Остались только воробьи – и то потому, что им лень летать на далекие расстояния.
– А почему вы не извиняетесь перед публикой? Вы так любите это делать, – сказала Ольга довольно ехидным голосом.
– Р-разговорчики! – Шут (дядя Шура) усмехнулся, снял милицейскую фуражку, сел рядом с Ольгой. – Устал я за вами бегать. Иногда очень хочется мне, чтобы все было тихо, спокойно. Чтобы у всех была красивая личная жизнь.
– Тогда зачем вам эта милиционерская фуражка? Может, для страха?
– Для авторитета. Милиционер всегда прав – в этом смысл его должности. Ты заметила – старые милиционеры похожи на генералов. У них жизнь нелегкая. Нелегко человеку, который всегда прав. Конечно, если он это понял.
– Дядя Шура, у вас с собой нет чего-нибудь поесть, а? Я что-то есть захотела.
– Живешь, если есть просишь. Бутерброд с сыром.
– И вы, дядя Шура, поешьте. Я почему-то не умею есть в одиночестве.
Ольга разделила бутерброд пополам.
– Зачем, а? Зачем они мне не верят? – спросила она, набив рот. – Разве у меня на лбу написано, что я врунья?
– А разве написано, что ты правдивая?
– Шутите вы, – пробормотала Ольга. – Как же это можно не верить человеку, не зная его?
– А может быть, он мазурик.
– Да, но, может быть, он правдив, может быть, честен. Скажите, с чего мы должны начинать отношения?
– С доверия.
– Дядя Шура, а вы не писатель?
– Ты же знаешь, у меня другая работа.
– А может быть, вы пишете по ночам?.. Дядя Шура, если б вы были писателем…
Шут провел по своим волосам рукой, стали они у него серебристыми.
Он очки на нос надел и состарился.
– Ну?
– …и вам бы потребовалось вставить в книжку мерзавца, – уважительным голосом прошептала Ольга.
– Подлеца?
– Ага… – Ольгин голос задрожал. – Каким бы вы его сделали внешне?
– Я бы сделал его таким… пожалуй, немного усталым.
– Усталым?
– Ну да. У мерзавцев трудная жизнь.
– А внешне?
– Я бы сделал его остроумным. Если подлость не остроумна, она беспомощна. Я бы сделал его обходительным, энергичным и вежливым, кстати. Иначе его слишком легко было бы распознать.
– Я про внешность спрашивала.
– Это и есть внешность.
Они помолчали немного. Ольга дожевала бутерброд, стряхнула крошки с колен.
– Я бы не опоздала к началу занятий, – сказала она. – Но у нас на островах не было погоды. Пурга была. Самолеты не летали… Завтра я приду в школу. Учитель поставит меня у доски перед всеми ребятами. Расскажет им, кто я, откуда. А я буду смотреть в класс и буду видеть, как ребята перешептываются. Буду читать по губам слово «рыжая». Потом кто-нибудь самый смелый скажет громко: «Рыжая!» Класс засмеется. Учитель и я покраснеем, нам станет неловко за чужую глупость… Зачем, а? Почему так?
– Напрасно ты беспокоишься, – грустно сказал ей шут. – Ничего этого не случится. Ты ведь теперь не рыжая. Ты теперь черная.
Ольга провела рукой по волосам и бросилась к ступеням, которые уходили к реке.
– Куда ты? – крикнул шут, в этом крике его прозвучала тревога. Он быстро надел фуражку. – А ну, прекратить!
– Да я волосы вымою, – ответила Ольга снизу. – Пусть другие говорят, что они не рыжие. А я рыжая.
– На, возьми полотенце. – Шут достал из кармана полотенце, бросил его вниз и ушел.
Воробьи прилетели крошки клевать. Они разодрались, как водится. И, как водится, не успели попировать в свое удовольствие: к парапету подошли два бородатых парня с рюкзаками и подвесным мотором «Москва». Они сложили рюкзаки и мотор на траву возле кустов.
– Когда она обещала прийти? – спросил парень, у которого росла черная борода.
– В семь, – ответил другой, с бородкой разноцветной.
Парни уселись на парапет. Одежда у них потертая, будто прошагали они тысячу километров. Косынки на шее, как у туристов сейчас полагается, и шляпы на голове. Кроме всего прочего, была у парней гитара. Парни запели туристскую песню, подыгрывая себе на гитаре.
Спели.
Чернобородый увидел Ольгин свитер на камне.
– Кто-то свитер оставил. – Он взял свитер, помял его. – Шикарный свитер, где бы такой связать? Эй! – крикнул он. – Кто тут свитер оставил?
– Я, – ответила Ольга снизу. – Это мой свитер.
Парни перегнулись через гранит.
– Что ты там брязгаешься в нашей лодке? Не зачерпни воды.
Когда они обернулись, перед ними стоял гражданин в макинтоше. Макинтош переливался, менял окраску из зеленой в фиолетовую, как спинка жука-скарабея. И шарф и шляпа у гражданина были разноцветными и невпопад.
– Прекрасная осень, – сказал гражданин. – Люблю этот старинный парк. Поэзия… Извините, но я не понимаю: зачем вам, молодым людям, бороды? Зачем вам уродовать ваше лицо?
– Вы сегодня трехсотый, – сказал гражданину пестробородый парень.
– Не понимаю.
– Мало понять – важно почувствовать. Пока мы не отрастили бород, мы даже и не подозревали, как густо мир заселен парикмахерами. Вы как бреете, с мылом или без мыла?
– Да я сторонник прогресса.
Парни захохотали.
– Над чем смеетесь? – спросил гражданин протестующим голосом.
– Просто так.
– Для души.
– Просто так не смеются. Смеются всегда над чем-нибудь или над кем-нибудь. Над чем вы смеялись?
– Ну, просто так.
– Для души.
– Допустим. Но и просто так нельзя. Смех всегда подозрителен. – Гражданин оглядел себя, даже умудрился себе на спину поглядеть. – Ничего нет смешного.
– Конечно, – сказал ему парень с разноцветной растительностью. – Вы элегантны, как торшер.
Гражданин отпустил ему терпеливую вежливую улыбку.
– Я человек широких взглядов, но ведь существуют общие эстетические нормы. Зачем вам эта растительность на подбородке? Вы под кого? Под Сурикова или под Хемингуэя?
– Мы просто так.
– Для души.
– Своеобразие от недомыслия. Самобытность от неумения вести себя в обществе. А ведь еще Антон Павлович Чехов говорил на эту тему…
– Поцелуйте вашу милую кошечку Розу, – сказал ему чернобородый.
– Не забудьте полить ваш любимый кактус, – сказал ему пестробородый.
– Я от вас этого не ожидал. А еще образованные. – Элегантный гражданин отошел. Ему, наверное, очень хотелось уйти совсем, но что-то удерживало его, что-то невысказанное. – Бескультурье, – сказал он. Деревенщина в шляпах!
Парень с разноцветной бородой улыбнулся и, надеясь вернуть разговор в русло поэзии, протянул гражданину руку.
– Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает.
– Неандертальцы! – закричал гражданин петушиным криком. Поправил сбившийся галстук и ушел, презрительно и гневно выпрямив спину.
– Этот не умрет – культурен до упора. – Чернобородый сплюнул. – Павлин!
За его спиной послышался смех. Над парапетом торчала Ольга. Волосы ее горели осенним пламенем. Ольга смеялась, била кулаком по граниту.
– Да здравствует солнце, да скроется тьма! – сказал ей чернобородый.
– Чего смеешься? Смех всегда подозрителен, – сказал другой.
– И вас дразнят. – Ольга залезла на парапет. Уселась между парнями. – И меня дразнят.
– Нас не дразнят. Нам просто не доверяют.
Ольга провела по голове расческой. Волосы ее подсохли и теперь сияли под солнцем.
– Я думала, мне плохо. А вам еще хуже. Вы бородатые, я рыжая. Вот встретились… А этот мужчина дальтоник. Он не различает красок.
Парни захохотали.
– Павлин-дальтоник…
Ольга спрыгнула с парапета. Надела свитер. Поежилась.
– Хорошо, что я вас встретила. Теперь мне будет гораздо легче. Почему, а? Я знаю, что смеются не только надо мной одной, – и мне легче. А вы не великие люди?
– Нет пока. Но мы постараемся, – серьезно ответил ей парень с разноцветной растительностью.
– Постарайтесь, а то вам житья не дадут. Бороды разрешаются только великим. – Вдруг Ольга потускнела и сникла. – Хотя что вам, вы можете бороды сбрить.
– Что ты! Слово даем!
– Мы уже столько вытерпели. Мы теперь как булат.
– Я тоже не стану расстраиваться, – развеселилась Ольга. – Это зачем же я должна расстраиваться из-за дураков?
– Ты уже почти гениальная, – сказал ей чернобородый.
– Смейтесь, я не обижусь. Я рыжая, вы бородатые. Нам бы сюда еще лысого. Полный набор.
Прямо к ним по дорожке шагал подвыпивший старикан с продуктовой сумкой. Он остановился, хихикнул:
– Р-рыженькая… – Сделал из пальцев козу, пощекотал Ольгу и еще хихикнул: – Рыжик! – Потом он оглядел парней и насупился.
– Папаша, вы, конечно, культурный человек, – торопливо сказал ему парень с разноцветной бородой. – Мы вас очень уважаем, папаша. Не нужно нас разочаровывать. Не надо. Мы все знаем. Мы исправимся.
– Я ч-человек к-культурный. Я к к-культуре всю жизнь стремлюсь и приближаюсь. – Старикан сделал строгие глаза, скомандовал: – Обрить! Наголо!
Парень с разноцветной бородой отвел старика в сторону.
– Идите, папаша, отдыхайте. Дома вас старушка ждет, пирогов напекла с яблоками.
– Напекла? – спросил старикан недоверчиво. – Точно знаешь? Старуха меня уважает. И я ее уважаю. Сонюшка, я иду-у!.. – заорал он нараспев. Потом подмигнул и спросил хитро: – Ребятушки, а зачем вам эти бороды проклятые? Вы же русские люди, зачем вам волосья жевать? А может, вы не русские? Может, скрываетесь? А ну, покажь документы!
Парень с разноцветной бородой снова обхватил старика за плечи.
– А чего ты мне сказать не даешь? Отпусти меня, я сказать желаю. Требую разговора! Ребятушки, вы же советские люди. Зачем вам эта гадость на подбородке?
– Дураков считать, – угрюмо сказал чернобородый.
Старик хихикнул, кашлянул.
– Молодец, сынок. Люблю молодцов. Я молодой был проворный… Погоди, это ты кого дураком назвал? Ага, пьяного обидели. Я вам в папаши годен, а вы обижать. Советская молодежь… «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» – запел он строго и величественно, отчего задрожал весь. Потом плюнул себе на подбородок, утерся и сказал: – Тьфу на вас.
– Вы, папаша, не плюйтесь, вы прямо кулаком действуйте, – посоветовал ему чернобородый. – Прямо в зубы.
– Э-э, не обманешь. Нынче народ не тот. Ему в морду дашь, а он драться лезет. Сбрейте, а? – Старик повесил сумку на сучок, снял пиджак, сложил его аккуратно, оправил рубашку под ремнем, выпятил грудь и рукой взмахнул. – Я что сказал?! – закричал он. – Развелось всяких рыжих и бородатых. – И заплакал: – Сбрейте, а? Дайте мне сто лет прожить.
– Пожалуйста, – сказал парень с бородой разноцветной. – Мы подарим вам вечность. Нам, папаша, не жалко.
– Ау-у! О-ля-ля! Где вы? – На дорожку выбежала запыхавшаяся девушка в джинсах.
– Поехали! – Она увидела Ольгу, сказала: – Абрикосинка, подосиновик, настурция!
И не успела Ольга ответить, девушка уже командовала:
– Пошевеливайтесь, до нуля остались мгновения… Не мешкайте, бородатые. Обленились тут без меня.
Парни подхватили рюкзак и мотор.
– Куда ж вы, сынки? – обиженно спросил старик. – И не поговорили как следует…
Снизу, с воды, раздался хохот, загремели уключины. Звук весел пошел по воде, удаляясь.
– А может, всех бородатых в застенок? А может, всех бородатых на каторгу? И наголо! – бормотал старик в неуверенности.
Ольга от него отвернулась.
Старик пиджак свой поднял, почистил.
– «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» – запел он. – Слушай мою команду! Обрить! Наголо!
Когда Ольга обернулась, старик сказал ей:
– Умные? Им кажется, что они выше? А почему они выше? Хамье! – И запел нежно: – Сонюшка, я иду-у… – И пошел сквозь кусты.
– Я знаю, что я теперь буду делать, – сказала Ольга. – Я теперь буду смеяться.
Мимо нее по дорожке шла сиреневая женщина с заграничным портфельчиком. Вслед за женщиной, словно на поводке, торопилась девчонка с черными кудрями, та самая девчонка, которая, конечно, покрасивее Ольги.
– Вы только на меня посмотрите, – говорила эта девчонка. – Я для вас в самый раз.
– Я на тебя уже посмотрела.
– Я сниматься хочу.
– Все хотят.
– А я больше всех хочу. Я три года перед зеркалом упражнялась.
– Все упражняются. И не морочь ты мне голову.
– Я умею петь басом. – Девчонка запела на непонятном языке с восточным акцентом. И заплясала. И так увлеклась, что не заметила даже, как женщина скрылась.
– Тьфу! – сказала она, обнаружив побег. – Стоило глотку портить. Строит из себя режиссершу, а сама ассистентка. Что она понимает! Уж если я им не нравлюсь, тогда понятно, почему нет хороших картин.
Ольга вскочила на парапет.
– Ничего тебе не понятно. Черная ты ворона. Бутылка из-под чернил! Кривляка! Ну, что уставилась? – Ольга принялась петь, кстати, тоже на непонятном языке, и плясать. – Подумаешь, – сказал она, отдуваясь. – Так петь и плясать все могут, только стесняются. Еще перед зеркалом упражнялась три года. Не могла это время на дело потратить. Черная ночь ты. Копоть!
Девчонка попятилась. Ольга соскочила с парапета, взмахнула руками.
– Кар-ррр! Ты в зеркало не видела, какая ты уродина? Ты посмотри и умри от досады. Я сейчас прысну!
Девчонка вскрикнула и пустилась бежать.
– Наповал! – сказала Ольга. Посмотрела вокруг, в глазах ее сверкал боевой огонь. – Берегитесь, – сказала она. – Я буду смеяться над всеми!
КАРТИНА ВОСЬМАЯ
Вечер приблизился к городу, он развел темные краски на площадях и на улицах. На другом берегу реки дома тесно прижались друг к другу, как заговорщики. Ветер утих.
Из парка на набережную вышла Ольга. Увидела шута (дядю Шуру), обрадовалась. Шут стоял с букетом цветов, важный и бледный.
– Дядя Шура! – крикнула Ольга.
Шут вздрогнул, поморщился от досады.
– Опять ты? Могу я иметь личную жизнь?
Ольга засмеялась.
– Чего ты смеешься? Не смейся.
Ольга уселась рядом.
– Дядя Шура, у вас глупый вид. Ха-ха-ха. Ну до чего же у вас глупый вид!
– Перестань хохотать, – сказал ей шут (дядя Шура). – Это тебя не касается, какой у меня вид.
– Как же… Вы, наверно, влюбились. Потеха. Комедия… Дядя Шура, вы элегантны, как торшер.
Шут посмотрел на Ольгу печальными глазами.
– Иди-ка ты лучше домой.
– А что, и смеяться нельзя? – спросила Ольга.
– Смейся, – сказал ей шут.
– Ну и буду. Я теперь решила так жить. Я теперь над всеми буду смеяться. Я теперь всем покажу.
– Смейся, – сказал шут (дядя Шура). – Показывай.
– Сейчас. – Ольга огляделась.
По набережной гуляли нарядные люди – воскресенье было. Прямо к ним шел Тимоша. Он смотрел на Ольгу большими глазами.
– Ага! – Ольга заерзала от нетерпения. – Иди, иди. Ну, подходи поближе… – Голос ее стал мягким и сладким, как пастила.
Тимоша подошел, облокотился на парапет.
– Хорошо, что я тебя разыскал.
– Это просто отлично, даже прекрасно, – сказала Ольга. – Дорогой Тимоша. Юрик!
Тимоша помигал немного.
– Ты на нас не сердись…
Ольга перебила его:
– Что это у тебя с носом?
– А что? – Тимоша потрогал свой нос.
– Он же у тебя как огурец. Ты, когда чай пьешь, лимон носом давишь. А уши! Уши – как у слона. Ты, когда спишь, ушами глаза закрываешь.
Тимоша слегка отодвинулся.
– Ну, ты даешь, ну, я пошел.
– Иди, иди, – Ольга ему улыбнулась. – Иди червяков копай. Носатый крот. Неудачный потомок слона. Червячный спекулянт. Лопоухий щенок. Ушастый головастик. Боевая киса-мяу. Шестью шесть!
Тимоша сжал кулаки, пододвинулся к Ольге и, не зная, как ему поступить, спросил дядю Шуру:
– Что с ней?
Дядя Шура пожал плечами.
Тимоша снова уставился на Ольгу.
– Неужели? – прошептал он. – Ой-ей-ей… Может, ты пить хочешь? Я сейчас. Я тебе принесу лимонаду. – Он оглядывался на бегу и сокрушенно качал головой.
Ольга откашлялась.
– Вот балбес! Он что, не понимает, что я над ним смеюсь? Бывают такие, которые не понимают.
– Смейся, смейся, – сказал дядя Шура. – Показывай. Над товарищами смеяться легче всего. На крайний случай, их можно обвинить в отсутствии чувства юмора.
– Какой он товарищ! Все они только и думают, как бы меня побольнее боднуть.
Как раз в этот момент мимо них проходил гражданин в макинтоше. Он остановился напротив шута (дяди Шуры).
– Здравствуйте, – сказала Ольга. – Вы еще не поправились? Вы меня узнали?
– Здравствуйте, дитё, – ответил ей гражданин. – Во-первых, я никогда не болел. Во-вторых, я тебя, конечно, узнал. Мне это легко дается. Хоть я лично и не имею детей, но все дети мира – мои дети. Цветы жизни… Гражданин потянул носом. – Аромат. – Он наклонился к дяди Шуриному букету. – Разрешите насладиться? Прекрасные эфироносы. Дары природы.
Он посмотрел величественным взором вдаль.
– Да, ничего не скажешь, наша река одна из красивейших городских рек мира. Не правда ли, в этом понятии есть какая-то глубина.
– И ширина, – пискнула Ольга.
– И ширина, – согласился мужчина.
– И длина, – рискнула Ольга.
– И длина, – спокойно и терпеливо согласился мужчина. – А между прочим, вы ведь прохожих ногами мараете. Вы уже не дети, чтобы сидеть верхом на парапете.
– А где нужно сидеть? На тротуаре? – спросила Ольга.
Гражданин улыбнулся ей:
– Я терпелив. Дома сидеть нужно. Изучать классику высочайших умов.
На реке печально прокричал буксир, и, словно эхо, откликнулся ему другой голос:
– Сынки-и, где вы-ы? Уплыли! – На набережную вылез подвыпивший старикан с продуктовой сумкой. – Сынки-и, я вас простил. Мне с вами поговорить желательно. Я без разговора болею… – Старикан увидел Ольгу обрадовался. Сделал из пальцев козу. – Рыженькая. Забодаю, забодаю. Рыжичек, я их простил, а они уплыли. Я им в папаши годен, в деды. А может быть, наголо? – Старик махнул рукой, словно у него в руке была сабля. Всех – наголо!
– А вы не кричите, – сказал ему гражданин в макинтоше. – Люди любуются красотой нашего прекрасного города, а вы кричите.
Старикан приподнял свою сумку.
– Наклонись, милый. У меня в этой сумке два утюга лежат. Я тебе дам по кумполу, ты и расколешься, как арбуз.
– Что?! – Гражданин в макинтоше голос повысил: – Вы, простите, ихтиозавр.
– А ты-то? Верблюд нестриженый. Павлин!
– Старое чудовище!
– Чертополох мокрый. Горшок с букетом.
– Ха-ха-ха, – сказала Ольга. – Я прысну.
Шут (дядя Шура) вытащил милиционерский свисток. Свистнул, призывая к порядку. Гражданин в макинтоше и старикан разом повернулись.
– Мы ничего, – сказал старикан. – Мы вот встретились. – Старикан обнял макинтоша. – Здравствуй, друг Петя!
– То есть как это – ничего? Сначала обзывает, а потом ничего? Я вам не Петя!
Старикан посмотрел на него с презрением. Обнял шута (дядю Шуру).
– Действий не было. Нецензурщины – не дай Бог. Сынок, закон не нарушен!.. Георгинчик! – сказал он гражданину и пошел, потряхивая сумкой. – Сонюшка, я иду-у!..
Гражданин в макинтоше приподнял свою модную шляпу.
– Извините, закон действительно не нарушен. Не смею мешать. Я все понимаю. Вы на посту. – И он удалился на цыпочках, чтобы ни звука, ни шороха.
– Смейся, ты хотела смеяться, – сказал Ольге шут.
– Сейчас. – Ольга прокашлялась.
Прибежал Тимоша с бутылкой.
– На, попей лимонаду.
Ольга взяла у него лимонад, отпила глоток. Вдохнула свежего воздуха, который, как и подобает, немножко припахивал нефтью.
– У тебя что, никакого самолюбия нет? И ты не обиделся? Серый ты, как туман.
Тимоша крепился, хотя видно было по всему, что это дело дается ему с трудом.
– Что ж на тебя обижаться? Смешно на тебя обижаться. Мне тебя очень жаль.
– Это почему тебе меня жаль? – воскликнула Ольга. – Это зачем?
– Что я, не человек? Что, у меня сердца нет? Ты не волнуйся, тебе вредно волноваться. Хочешь, я тебе мороженое принесу?
Ольга повернулась к шуту (дяде Шуре).
– Чего он ко мне лезет с нежностями? Он что, с ума сошел?
– Ты не волнуйся, ты не волнуйся, – сказал Тимоша.
Ольга уставилась перед собой, окончательно сбитая с толку.
– Дядя Шура, что происходит? Может, он принимает меня за сумасшедшую? Асфальтовая голова. Зоопарк в одном лице.
– Смейся, – сказал ей шут.
Тимоша тронул его за локоть.
– Вы «скорую помощь» вызвали? – Он спросил это шепотом, но Ольга услышала.
– С чего это ты придумал? Зачем «скорую помощь»? Я не больная.
– А чего ты кричишь как сумасшедшая? – озлился Тимоша. – Чего ты говорила, что у меня уши глаза закрывают?
Ольга сложила руки на коленях, сгорбилась.
– Так, значит, над тобой смеяться нельзя?
– А чего надо мной смеяться? Уши у меня как уши, как у всех людей. Нос как нос. Голова как голова, как у всех головы.
– И у меня волосы как волосы! Как у всех волосы. Видели, дядя Шура, лучше быть сумасшедшей, чем рыжей. Сумасшедшей почтение, и ласковое обхождение, и лимонад. – Она бросила бутылку в реку и захохотала. Смеялась она сухим неестественным смехом, похожим на плач. Что-то ломалось в этом смехе, стонало и вот-вот должно было рухнуть. – Юрик, я сумасшедшая! Живо за лимонадом! Ха-ха-ха…
В шорохе, в треске нейлона возникла возле них сиреневая женщина с заграничным портфельчиком в клетку.
– Прелесть! Находка! Ты думаешь, это легко? Напрасно ты так думаешь, – сказала она полным восхищения и усталости голосом. – А глаза! Какие глаза. Крупным планом. Все будут в восторге.
Ольга отодвинулась от нее.
– Что с вами?
– Вы, наверно, побывали на юге и перегрелись, – сказал Тимоша.
Женщина не обратила внимания на эти слова. Она смотрела на Ольгу, как смотрят художники на еще не законченное полотно.
– Ты нам подходишь. Роль прямо для тебя написана. – Женщина спохватилась, объяснила: – Я с киностудии. Мы тебя будем пробовать. Ты рада?
– Ужасно рада, – сказала Ольга. – Я вся в восторге. Я умею петь басом. – Ольга запела: – Ля-лям-ля-лям, ля-ли-ля-лям…
Женщина остановила ее:
– Это детали… – И заговорила так, словно перед ней был еще некто и к этому некто она обращала свои слова: – Представьте себе: умная девочка, одаренная, смелая. В силу этих перечисленных качеств она всех презирает, даже мальчика, в которого влюблена. Трагично. Как ты находишь? – спросила она у Тимоши.
– Я в этом не понимаю, – сказал Тимоша.
– Я сяду. Я так устала. – Женщина уселась на парапет. – Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек – с ума сойти… Итак, в своем тщеславии наша героиня пытается встать над обществом. Ничего не прощая, взыскательная и надменная, поднимается наша героиня к своему неизбежному краху. Ее ненавидит весь класс, ненавидит вся школа. Но ничего не могут с ней поделать. Все хлопочут вокруг нее одной. А что поделать? Она хорошо учится. Выгонять из школы нельзя. А как быть? Поэтому крах у нее будет моральный.
– Ну, вы даете, – сказал Тимоша. – Таких не бывает. Такую бы в два счета приземлили.
– Ничего не понимает, – сказала Ольга и улыбнулась женщине. Потом она строго посмотрела на Тимошу. – Ну что ты можешь понимать, ты, серый, как туман?
– Да, да, конечно. Хорошая фраза. – Женщина посмотрела на Ольгу и слегка от нее отодвинулась. – Эту фразу мы впишем в сценарий. Ты ее сама придумала? Голова кругом. «И мальчики кровавые в глазах…»
Ольга кивнула:
– Сама.
Тимоша сжал кулаки.
– Шестью шесть, – сказала Ольга.
Тимоша сжал кулаки еще крепче.
– Зоопарк в одном лице, – сказала Ольга. – Ну, ударь, ударь. Я теперь актриса, я теперь на вас чихаю. – Ольга захохотала, а когда отсмеялась, спросила у женщины: – Хотите, я научу вас сводить бородавки?
– Но у меня нет бородавок, – сказала женщина.
Ольга оглядела ее с головы до ног.
– Как мне вас жаль. Ничего-то у вас нет: ни красоты, ни вкуса, ни такта, ни даже бородавок.
Женщина еще дальше отодвинулась от Ольги. Поежилась.
– М-да, – сказала она. – Находка, нечего сказать. – И кисло добавила: – Прелестно, этот текст мы впишем в сценарий. В жизни не соглашусь работать на детской картине. Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек – и все поют басом. Повальное бедствие.
– Не хочу я сниматься, – сказала Ольга тоскливым, затравленным голосом. – Оставьте меня в покое.
– Ай, не морочь ты мне голову. Ты нам подходишь. Я за тобой уже целый час наблюдаю.
– Вы считаете такой срок достаточным? – спросил шут (дядя Шура).
– А вы кто такой, чтобы интересоваться?
Шут достал из-за парапета милиционерскую фуражку. Надел ее на голову. Сиреневая женщина посмотрела на него долгим, сожалеющим взглядом.
– Умоляю. Я видела фильмы о милиционерах. Довольно плохие. Но фильма, сделанного милиционером, не видела, даже плохого.
Шут (дядя Шура) развел руками.
Ольга резко повернулась к женщине.
– Вы всерьез думаете, что я мерзавка? Я не такая!
– Какая разница, такая ты или не такая. Не такая – научим. Важны задатки. Чтоб я еще пошла работать на детскую картину!
– А кто вас заставляет? – спросил Тимоша.
– А ты молчи, боевая киса-мяу. Зоопарк в одном лице.
Тимоша снова сжал кулаки.
Женщина вытащила из сумки открытку.
– Возьми. Здесь написан наш адрес и мое имя. Покажешь на проходной. Я тебя жду. Я уверена, мы полюбим друг друга. – Женщина погладила Ольгу по щеке. Пошла сгорбившись.
Дядя Шура отобрал у Ольги открытку, разорвал ее и бросил клочки в воду.
– А я, может быть, славы хочу, – вяло возразила Ольга.
– Хватит! Прославилась.
– Не хватит! – крикнула Ольга.
– Не кричи. Я взываю к твоему рассудку. Короче – к уму.
– Это самое легкое! Когда нельзя воззвать к рассудку того, кто виноват, взывают к рассудку того, кто прав. Почему, когда один обидел другого, обиженному говорят: прости его, ты должен быть умнее? Почему обиженные всегда должны быть умнее обидчиков? Почему умному всегда говорят – уступи? Почему дуракам и хамам такая привилегия?
– Почему? – угрюмо спросил Тимоша.
Шут (дядя Шура) снял фуражку, лоб вытер носовым платком. Открыл рот, и изо рта у него стали вылезать шарики – розовенькие, голубенькие, зелененькие, лимонные, ясненькие, – короче говоря, разноцветные шарики.
– Не знаете, – грустно сказала Ольга.
– Эй! – раздался крик. – Эй, где вы?! – На набережную вылетели Аркашка с Ольгиным нерпичьим портфелем и Боба. – Вот вы где! Мы запарились. Мы весь парк обегали.
Ольга взяла у Аркашки портфель.
Аркашка старательно дышал, обогащая свою загнанную кровь кислородом.
Он отдышался наконец. Стащил Ольгу с парапета.
– Прячься быстрее. Сюда бабушки мчатся. Три квартала висели у меня на пятках. В парке я их сбросил со следа. Они сейчас здесь будут, зуб даю – у моей бабушки нюх чувствительный.
– Дядя Шура, спрячьте меня, – попросила Ольга.
Дядя Шура открыл дверь будки. В этой будке некогда стоял милиционер-регулировщик, но повесили над перекрестком светофор-автомат – и регулировщик оказался ненужным. Будку оставили на всякий случай: вдруг автомат испортится.
Первой на набережную выбежала старуха Маша, за нею – старуха Даша. Они подозрительно оглядели компанию.
– Кто ее видел?
– Куда она делась?
– Шурка, отвечай, ты ее схватил? – спросила старуха Маша и, не дав времени шуту на ответ, заголосила: – Вся в рыжую Марфу! Родная бабка лежит под уколом, валерьяновку стаканами пьет. А она гуляет. Она обиделась. У нее нервы. Где она?
– Я сказал – топиться пошла, – ответил за всех Аркашка.
– А я тебя за ухо.
Аркашка безучастно подставил голову.
– Отрывайте, все равно когда-нибудь оторвете.
Боба вступил в игру печально возвышенный, закатив глаза к небу:
– Она утопилась. Она действительно утопилась. Встала на парапет. Руки вот так. Сказала: «Я всех прощаю, всех, всех». Потом сказала: «Прощайте, природа и небо, одни только вы меня понимали». И бултых…
– Господи, твоя воля! – Старуха Маша перекрестилась. Спину выпрямила и заговорила грустным возвышенным голосом: – Что же мы Клаше-то скажем?.. Такая хорошенькая, славная такая. А уж вежливая, а уж воспитанная. Умница. А какие у нее волосики были чудесные. Я таких отродясь никогда не видела, как огонек…
– И ты не бросился ее спасать, такую девчонку? – тихо спросила Бобу старая дворничиха.
– Я не мог. Я простуженный. – Боба закашлялся хрипло и засипел: – У меня катар.
– А ты? Почему не прыгнул? – спросила дворничиха у Тимоши.
– Я? Вы меня спрашиваете?
– Бестолковый! Тебя, а то кого же?
– Я? Почему я не прыгнул? – Тимоша не сразу нашелся. – На меня столбняк напал. Я вроде окаменел. Вот так, – Тимоша выпрямился, нижняя челюсть у него на минуточку отвалилась.
Дворничиха засмеялась, на него глядя, но вдруг сморщилась вся и заплакала.
– Ты чего? – Старуха Маша бросилась к подруге, принялась тормошить ее, утешать. – Что ты, что ты, Даша? Ты, никак, плачешь? Если уж Даша заплакала, значит, в самом деле что-то серьезное произошло, – сказала она и снова принялась тормошить и утешать подругу. – Даша, не плачь. Ну, Даша. Такая девчонка была! Абрикосинка наша-а-а!..
Плакала Маша.
Плакала Даша.
– Такая девчонка была… За такую девчонку не только в воду – в огонь можно прыгнуть. А они, видишь, простуженные, в столбняке. Лоботрясы. Я бы на их-то месте в такую девчонку влюбилась по гроб жизни.
– Спокойно, тетя Даша, спокойно, – остановил ее шут. – Это другая тема. Сегодня мы ее не касаемся.
– Про любовь в твоем театре нельзя, – вздохнула дворничиха. – Говори, куда ты дел Ольгу? Ее бабка в постели лежит, в ожидании инфаркта, мы по городу бегаем на больных ногах. Куда ты ее дел?
– Куда ты ее дел? Говори, Шурка, – поддакнула старуха Маша.
– Никуда, – ответил шут. – Она домой поехала.
– Врешь ведь.
– Точно. Взяла такси и поехала. Все видели.
Старая дворничиха оглядела всех. Все смотрели на нее искренними, правдивыми глазами.
– У, мазурики!
– Аркадий, пойдем. Пойдем, внучек.
Аркашка увернулся от ласковой руки своей бабушки.
– Чего это ты от бабушки бегаешь? – изумилась старуха Маша и, увидев, что старая дворничиха уже направилась уходить, крикнула ей: – Даша, ну куда ты? Раз она живая, можно не торопиться. – И тут же ловко ухватила зазевавшегося Аркашку за ухо – даже вазелин не помог. – Домой, прошептала она сладострастно, – за рояль!
Аркашка вопил:
– Отпусти ухо! Я этого не потерплю.
– Потерпишь. Мы и не такое терпели, и ты потерпишь. Нас родители вожжами учили поперек спины – мы молчали. А вас за ухо тронешь – вы в крик. Щепетильные шибко.
Когда она уволокла Аркашку, Ольга вылезла из будки регулировщика.
– Я и не знала, что я такая хорошая, – сказала она. – Как странно. Это зачем, дядя Шура?
– Не задавай вопросов – тема исчерпана, – сказал ей шут.
– Но… – сунулся Боба.
Шут (дядя Шура) милиционерскую фуражку надел и в милиционерский свисток засвистел.
– Пр-рекратить!
По свистку остановилась проходившая мимо «Волга». Таксист подбежал к дядя Шуре.
– Нарушил, товарищ начальник. Я понимаю. Осознаю. Нарушил.
– По-моему, вы ехали как положено.
– Шутите. Ха-ха-ха! Милиция всегда права. Милиция не останавливает тех, кто правильно ездит. Клянусь, больше не повторится. Не везет мне. Кругом не везет.
Таксист сказал шуту на ухо:
– Фиаско. Пардон, я вас и в этой красивой фуражке узнал. И я вам скажу – фиаско. Я ей, простите, предложение сделал.
– Согласилась? – нервно поинтересовался дядя Шура.
Таксист посмотрел на него понимающе.
– Я же говорю: фиаско. Поясняю: наотрез отказала.
Дядя Шура вздохнул облегченно, лоб платком вытер, достал из-за парапета свой красивый букет.
– Отвезите домой эту девочку.
– Эту рыженькую? Какой рыжик, морковочка. А ну, молодые люди, в машину.
– Дядя Шура, оштрафуйте его, – попросила Ольга.
– Поедем, морковочка. Штрафы, рыженькая, не твое дело.
– Дядя Шура, оштрафуйте его хоть совсем ненамного. Хоть на десять копеек, – попросила Ольга.
Таксист взял ее и понес. И когда машина отъехала, шут снял с головы фуражку.
– Что я могу поделать, если нет такого закона, по которому бы штрафовали за слово «РЫЖИЙ».
Девушка-продавщица бежала по набережной. Она махала рукой дяде Шуре и улыбалась.
Шут (дядя Шура) быстро фуражку спрятал, с гранитного парапета букет цветов взял, девушке навстречу шагнул, сам себе нечаянно на ногу наступил и упал – растянулся. Рассыпались цветы. Шут сел, сам над собой заплакал. А вокруг смеются.
Все смеются, все, кто участвовал в этой истории. Бабки-старухи смеются, шикарный охотник смеется, гражданин в макинтоше смеется, бородатые парни и девушка в джинсах, старик с продуктовой сумкой смеется. Тимоша, Боба, Аркашка смеются. Ольга тоже.
Шут встал, отряхнулся. Послал девушке-продавщице воздушный поцелуй мол, не огорчайся.
Смеются вокруг. А девушка чуть не плачет.
– Не торопитесь смеяться, – грустно сказал шут.
Он вынул из-за пазухи розу, подал ее девушке-продавщице. Роза заполнила обе ее ладони, яркая, жгучая, необыкновенно прекрасная.
– О досточтимый зритель, – сказал шут, – не торопитесь смеяться…
Примечания
1
В. Маяковский. «Ничего не понимают».
(обратно)

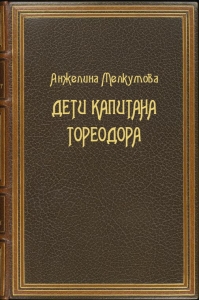






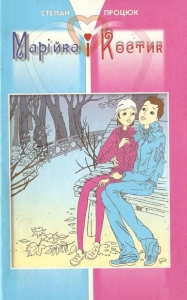
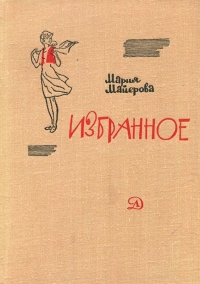

Комментарии к книге «Трень-брень», Радий Петрович Погодин
Всего 0 комментариев