Валерий Михайлович Воскобойников Утренние прогулки
Глава первая
Утром у меня началось Восьмое марта.
Я сразу вспомнил об этом, как проснулся.
Восьмого марта у нас два праздника: мамин день и папино рождение. Ему сегодня исполнилось тридцать пять лет.
У меня уже давно был металлический рубль — им на подарки. И вдруг позавчера этот рубль потерялся.
Поэтому я решил просто купить в киоске открытки и написать на них поздравления.
Теперь я, как оделся, сразу достал поздравления и посмотрел еще раз, где маме, где папе, чтоб не перепутать. Мама была на кухне. Она резала лук, и лицо у нее было в слезах.
Я ей подарил открытку, а потом стал резать лук, потому что меня слезы не пронимают, только иногда, в конце.
Потом я пошел в большую комнату. Папа уже разложил на столе свои чертежи.
Я всегда заранее приготавливаю торжественные слова, которые надо сказать. Например: «Дорогая мама, поздравляю тебя с Международным женским днем Восьмое марта». Или: «Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни».
Только ни разу эти слова у меня не выговаривались. Хоть я и учу их почти наизусть, но в последний момент молча протягиваю открытку и улыбаюсь.
Папа даже не заметил мою открытку. Он проговорил:
— Хорошо, хорошо, иду.
И не посмотрел в мою сторону. Наверно, подумал, что я его зову завтракать.
Тогда я положил открытку прямо на чертеж.
Он на нее взглянул удивленно, как будто я ему не открытку, а ботинки на чертеж положил, потом внимательно прочитал и только тогда повернулся ко мне.
— Как же, спасибо, Коля.
Он положил открытку на стол и вдруг спросил:
— Сейчас какой год?
Он написал этот самый год сбоку на открытке, потом от него отнял год своего рождения, получил в разности тридцать пять и удивился:
— Уже тридцать пять!
Как будто сам, без подсчета не знал, сколько ему лет.
После этого он положил открытку на подоконник и снова повернулся к чертежу.
— Ты иди погуляй пока, — посоветовал он мне.
— Мы еще не ели, — ответил я.
— Ну, поиграй, походи по комнате.
Я снова пошел на кухню к маме и стал помогать ей расставлять посуду для завтрака.
* * *
После завтрака мама спросила папу:
— Ты мне поможешь донести продукты с рынка?
— Никак не могу, — вздохнул папа. — Я до вечера должен сделать этот расчет. Иначе мне нечего будет показывать.
— Придется одной, — сказала мама и стала одеваться.
Я бы ей помог, хотя на базар ходить ненавижу, но она меня не попросила, а, наоборот, сказала:
— Ты дома не сиди, бери лыжи или санки и отправляйся гулять.
Я взял санки и пошел мимо домов в парк на гору, откуда катался в прошлое воскресенье.
Летом на этом месте пруд, настоящее озеро, там даже среди подводной травы плавают большие рыбины. А зимой — высокая гора, и с нее хорошо кататься, если песком ее не посыпают.
На той горе в прошлое воскресенье я видел девочку в синем вязаном берете. У нее тоже были санки. Она несколько раз поворачивалась ко мне лицом и улыбалась.
Сегодня ее не было, а было много ребят, некоторые даже из нашей школы.
Я съехал вместе с ними раз пять, но стало мне скучно, я собрался идти домой, чтобы санки оставить, а взять лыжи.
И вдруг пришла та самая девочка в синем беретике. И глаза у нее тоже были синие, а волосы — светлые.
Я сразу развеселился и поехал с горы так быстро, что протаранил двоих и вместе с ними въехал в канаву.
Девочка тоже скатилась раза два, а потом остановилась на верху горы и стала смотреть на меня, как я поднимаюсь и тяну за собой санки. Я сразу отвернулся, будто ее не замечаю вовсе, но все равно чувствовал ее взгляд на себе. Я даже поскользнулся, чуть веревку от санок не выронил и чуть не упал. А когда поднялся наверх, она вдруг у меня спросила:
— Мальчик, скажи, пожалуйста, сколько времени?
Она так неожиданно это спросила, что я сначала и не понял, о чем она говорит. Слова слышал, а не понимал их. Потом я еще минуту молчал, как дурак. А она удивленно на меня смотрела: может, подумала, что я глухонемой.
Потом я наконец открыл рот.
— Не знаю, — сказал я.
И голос у меня был не свой, а чужой, хриплый.
После этого я сразу пошел домой, даже побежал, и санки догоняли меня, стукали по пяткам.
* * *
Мама еще не вернулась, а папа продолжал сидеть над чертежами и считать на логарифмической линейке. Потом он писал мелко-мелко в свою большую расчетную тетрадь.
— Что, уже обед так быстро? — спросил он, когда я вошел в комнату.
— Нет, я погреться пришел, — сказал я, хотя было мне жарко.
— Ты разве не с мамой?
— Я один, на санках катался.
— На санках, на саночках, на салазках, — пробормотал папа и снова начал считать.
А я решил, что лучше пойду встречу маму. И встретил ее на улице, далеко от дома.
Она мне дала ручку от сетки с картошкой, и мы понесли эту сетку вместе.
— Хоть один у нас мужчина растет дома, — сказала мама.
* * *
Вечером к нам пришли гости. Дядя Дима и дядя Герасим. Это были папины друзья с его работы.
Дядя Дима пришел первый. Он подарил маме цветы, разделся и сразу бросился к папиным чертежам.
Папа ходил по комнате и терпеливо улыбался.
— Гениально! — сказал дядя Дима. — И почему мне это не пришло в голову? Почему такие вещи всегда приходят именно тебе?
Потом пришел дядя Герасим. Он тоже подарил маме цветы. И когда он еще снимал пальто, дядя Дима уже кричал:
— Гера! Гера! Ты посмотри, что этот именинник придумал! Ты взгляни!
Дядя Гера долго смотрел на чертеж, отворачивался к темному окну, шевелил губами, снова смотрел в чертеж, потом ткнул в него пальцем и сказал:
— А в этом ты уверен?
— Пожалуйста. — Папа сунул ему расчетную тетрадь с формулами.
— Да, эта штучка может не выдержать, — сказал дядя Дима и вздохнул, — а жаль.
Дядя Гера внимательно прочитал папины формулы и вдруг стал громко смеяться.
— Маша! Маша! — это он позвал мою маму. — Вы знаете, кто живет в одной квартире с вами? Вы живете с гением. Да-да, с подлинным, с настоящим гением!
— Этот гений превратился в считающую машину. Все выходные с утра до вечера корпит над своими расчетами, — отозвалась мама. — Лучше бы он стал нормальным.
Если бы меня назвали гением, я бы сразу заулыбался. Я всегда улыбаюсь, когда меня хвалят. Стараюсь удержаться от улыбки и не могу.
А папа был даже недоволен.
— Тут еще рано радоваться. Вот этот узел мне кажется неудачным, — сказал он. — Вижу, что можно сделать лучше, а как — не сообразить.
— Сообразишь! Конечно, сообразишь! — уверял дядя Дима.
Потом мама заставила их убрать чертежи и принесла разную вкусную еду.
Она готовила ее еще вчера и сегодня половину дня. Но эту еду, по-моему, никто, кроме меня, не замечал. Весь вечер только и говорили о папиных расчетах, о каких-то кривых да о папиной сотруднице Татьяне Филипповне, которая сегодня больна, а вообще-то умнющая женщина.
Дядя Дима так увлекся разговором, что пытался намазать маринованный гриб на кусок хлеба, будто это было масло.
* * *
По дороге в школу меня догнал Бабенков.
— А я тебя вчера видел, — сказал он.
— Где? — удивился я.
— В парке. Ты с одной девчонкой разговаривал, в синем берете.
— Ничего я не разговаривал!
— Скрываешь! — обрадовался он.
В раздевалке у меня испортилось настроение.
Я вспомнил про маленький прыщик, а может быть, бородавку, которая выросла у меня на правой руке около большого пальца. Сколько раз смотрел на руки в школе и дома — ничего не было. А вчера стал мыться перед сном и увидел.
Сейчас я снял рукавицы и опять посмотрел на руки.
Если бы не надо было показывать их Шустровой перед уроками, я бы и не переживал. Научился бы все делать левой рукой, а правую носил бы в кармане, пока не вылечил.
Я подумал, что, может, лучше опоздать на урок, а потом вбежать вслед за Анной Григорьевной.
Но Шустрова — такая. Она и в перемену может подойти со своим санитарным списком.
Мы с Бабенковым повесили пальто и пошли по лестнице на наш второй этаж.
Шустрова стояла уже у дверей класса.
— Показывайте-ка руки, — сказала она издалека.
Если на то пошло, руки надо в конце дня проверять, а не в начале. Потому что утром-то уж у всех руки чистые.
Я показывал, а они у меня даже дрожали. И я сам на Шустрову не смотрел.
Она поставила в списке плюс и ничего не сказала.
— Все, да? — спросил я.
— Что — все? — удивилась Шустрова.
Но я уже понял, что она ничего на моей руке не заметила, и сразу развеселился.
— А хочешь, ноги покажу?
— Дурак, — ответила она и покраснела.
Сколько раз над ней так шутят, а она все равно краснеет.
* * *
Когда меня взрослые спрашивают:
— Как ты учишься, Коля?
Мама всегда отвечает вместо меня:
— Он у нас отличник. Круглый отличник.
И люди удивляются:
— Молодец! Это ведь так трудно! Современные дети очень перегружены уроками.
Я сижу за партой вместе с Галей Кругляк. Вот она — перегружена. Ее дома заставляют почти все уроки переписывать по два раза, иногда по три. Поэтому она ничего, кроме уроков и музыки, дома не делает и почти не читает книг.
А у меня все получается само собой. Мне, конечно, тоже нравится получать пятерки, и я тоже стараюсь в тетрадях писать аккуратно, только с первого раза, а не со второго, как Галя Кругляк. Но вообще-то я отличник из-за того, что мне все интересно. Мы даже поспорили об этом с Галей. Она говорит, что ей интересно только рисовать, и если бы ее родители не заставляли, она бы по всем предметам получала одни тройки и была бы им рада. Зато целый день она рисовала бы цветы или кукол. И таких людей, говорила она, которым интересно делать любые уроки, не бывает. Это так она думает. Поэтому я, значит, большой притвора: тоже учусь, как и она, из-под палки и только притворяюсь, что мне самому все интересно.
Я ей пробовал доказывать, что не притворяюсь. Что мне интересно любое занятие, кроме музыки. Как сажусь что-нибудь делать, так и появляется удовольствие. Я даже два раза дома мыл пол — и то с удовольствием. Но Галя так и не поверила тогда. Она только повторяла:
— Ну и притвора! Ну и притвора!
* * *
Не успел начаться второй урок, а мне уже прислали записку:
«Уговор дороже денег. Г. А.».
Я оглянулся на Гришу Алексеенко и кивнул.
Но через пять минут он прислал новую записку:
«Промедление смерти подобно. Г. А.».
Это был урок математики. В перемену после урока я должен был выполнить ужасную вещь.
Когда я первый раз увидел учителя Игоря Павловича, я подумал:
«Во великан! Мне бы таким быть!»
Он широкоплечий, с большими руками, ходит огромными шагами по классу и диктует зычным басом свои математические правила.
Однажды мы втроем открывали дверь школы рано утром и не могли открыть, потому что она примерзла. А Игорь Павлович подошел к двери, спокойно взялся за ручку левой рукой, чуть-чуть дернул — и дверь отскочила с огромной скоростью.
Позавчера я поспорил с Гришей Алексеенко, что космический корабль может лететь с любой скоростью, с какой захочет, лишь бы изобрели специальное ракетное топливо. А Гриша говорил, что быстрей, чем летит свет, ничто в мире лететь не может. А я точно где-то читал, что космонавты развивали скорость больше скорости света. Только я читал, оказывается, научно-фантастический рассказ. Он хоть и научный, но еще больше фантастический. То есть в нем можно фантазировать как угодно.
А Гриша поднялся к своему брату-десятикласснику, взял у него учебник по физике и прочитал мне все о скорости света.
Так я проспорил, и теперь я должен подойти в перемену к Игорю Павловичу и громко сказать ему:
— Привет, малышка!
— И не симулируй, чтобы у тебя был голос не заикающийся и не хриплый! — еще позавчера предупредил меня Гриша.
Сейчас на уроке я еле слушал то, что объяснял Игорь Павлович своим зычным басом. Я представлял, как подойду, скажу ему это самое, а он схватит меня за ухо и потащит по всему коридору, потом по лестнице вниз к директору. Потом вызовут моих родителей.
Я-то, когда спорил, был уверен, что прав, потому и согласился на такое условие. Мне было смешно даже представлять, как это Гриша скажет Игорю Павловичу: «Привет, малышка!». Я тогда десять минут подряд хохотал.
Недаром говорят: нельзя много смеяться без причины, потом плакать будешь.
Урок кончился быстро, как никогда.
Игорь Павлович написал на доске домашнее задание и пошел в коридор. Мы тоже все встали, и Гриша сразу подошел ко мне.
— Испугался, да? — сказал он. — Так нечестно — сам проспорил, а теперь испугался.
— Ничего я не испугался! — разозлился я.
А я, если разозлюсь, то мне, и правда, ничего не страшно.
И я выбежал в коридор.
Игорь Павлович шел уже к лестнице, чтобы спуститься в учительскую.
Я побежал ему вдогонку. А Гриша побежал за мной. А за Гришей побежал почти весь наш класс, даже девчонки, потому что все видели, как мы спорили позавчера. Я обогнал Игоря Павловича на лестнице и остановился перед ним.
И он тоже передо мной остановился и удивленно на меня посмотрел.
— Ты что-нибудь забыл, Коля? — спросил он.
У меня вдруг кончился весь воздух от быстрого бега, и я только прошептал:
— Да, забыл.
И уже хотел придумать что-нибудь такое, будто я и в самом деле забыл.
Но тут на лестницу выбежал весь наш класс. Все остановились недалеко от нас и начали на меня смотреть.
Игорь Павлович удивленно оглянулся и сказал:
— В чем дело, ребята?
— Он вам что-то сказать хочет, — пропищал по-дурацки Бабенков.
— Ты мне хочешь сказать? — спросил меня Игорь Павлович и посмотрел на меня с огромной высоты.
И я стал совсем маленьким и слабым человечком и прошептал:
— Я? Нет, я не хочу.
— Хочет, хочет! Он позавчера проспорил! — снова прокричал Бабенков, теперь уже своим голосом.
И вдруг у меня вырвалось само собой:
— Привет, малышка!!
Я еще услышал, как Игорь Павлович изумленно кашлянул, а после этого я побежал по лестнице вниз, потом по коридору к боковой запертой двери, она всегда была заперта, потому что это запасной ход на случай пожара.
Там, у запертой двери было темно и пусто. Я уткнулся в нее лицом, ни о чем не думал и только повторял:
— Что я наделал! Что я наделал!
Зазвенел звонок на урок. Я слышал, как все протопали к своим классам. А я все стоял, уткнувшись в холодную дверь, и повторял:
— Ну что я наделал! Что я наделал!
Вдруг я услышал, что ко мне кто-то подходит.
Я еще больше уткнулся в дверь, замолчал и сжался.
Я, наверно, по шагам догадался, что это сам Игорь Павлович.
Он подошел ко мне и сказал:
— Привет, великанище. Хватит переживать, иди на урок.
Но я все стоял, уткнувшись в дверь.
Тогда он положил руку мне на плечо.
— Я тебя ни в чем не виню, понял? Беги на урок и больше не переживай.
Он повернулся и стал подниматься по запасной лестнице.
И когда затихли его шаги, я тоже побежал на урок.
* * *
По пустому коридору к нашему классу как раз шла Анна Григорьевна. Я ее успел обогнать.
Потом, когда она вошла, а мы поднялись около парт, она посмотрела на меня и сказала с удивлением:
— Что это ты стал так прытко бегать, Коля Кольцов?
А я промолчал.
— Я думала, тебя к директору вызвали, — прошептала Галя Кругляк, когда мы сели.
* * *
По пятницам и вторникам к нам домой приходит учительница музыки.
Она не простая учительница, а преподает музыку в педагогическом институте.
Когда-то папа учился вместе с ней в одном классе. А три года назад мама уговорила ее заниматься со мной.
Галя Кругляк тоже занимается музыкой дома, только с другой учительницей. Родители Гали осенью не могли найти польский сборник фортепианных пьес, а у нас он есть. И я иногда прихожу к ней домой за этим сборником, если она его забывает принести в школу.
Сегодня она как раз забыла и позвала меня к себе.
Мы вышли из школы и наткнулись на собаку.
Она бродила около деревьев, бежала за некоторыми людьми шагов двенадцать, а потом возвращалась назад к школе.
Я ей свистнул, и она сразу бросилась ко мне, даже завизжала от радости.
— У тебя нет конфеты? — спросил я Галю.
— Есть, только дома.
— Дома у меня тоже есть. Видишь, какая ласковая, надо ей дать что-нибудь, — сказал я про собаку.
Но Галя шагнула от собаки в сторону.
— Ты что, не знаешь, что уличных собак и кошек трогать нельзя?
— А может, она и не уличная.
— Уличная. Видишь, без номерка. А собаки без регистрационного номера подлежат уничтожению. Вон там объявление висит, на углу дома.
— Буду я еще твои объявления читать, — сказал я и погладил собаку.
И собака сразу запрыгала от радости.
— Вот заболеешь лишайниками, тогда узнаешь.
— Не лишайниками, а стригущим лишаем, я и то знаю, хоть и не читал твои объявления.
Мы так шли к Галиному дому, и вдруг я увидел ту девочку, которая каталась на горке. Она была на другой стороне улицы и несла батон в полиэтиленовом мешке.
— А я вчера песенку Бартока начала, — говорила в это время Галя.
Но я как будто ее не слышал, а все старался не смотреть на ту девочку, крутил головой по сторонам, но само собой получалось так, что я каждую минуту снова поворачивался к ней лицом.
И она вдруг тоже внимательно на меня посмотрела.
— И адажио я кончила, — продолжала говорить Галя.
А мне вдруг расхотелось идти с ней рядом, и я сказал:
— Ой, я в школе ручку забыл. Ты иди, я сбегаю.
Но она на меня удивленно взглянула:
— Ничего ты не забыл. Я сама видела, как ты ее клал в портфель.
Я сказал:
— Ну, я все равно сбегаю, собаке конфету куплю.
— Ты сначала возьми польский сборник, а потом беги.
И тут я только сообразил, что мы стоим около ее дома. А та девочка идет уже далеко и несет батон в прозрачном полиэтиленовом пакете.
— Ты чего все время оглядываешься? — спросила меня подозрительным голосом Галя.
— Ничего.
— Вон та девчонка прошла, видишь?
— Какая? — я притворился, будто не знаю, какая.
— Вон та, с батоном, не из нашей школы. Вот у них собака — огромная, как лев… Ну, пошли.
В это время на крыльцо Галиного дома выскочил Андрей из пятого класса. Он всю последнюю зиму ко мне приставал.
— Куда собрался? — сказал, он мне сейчас. — Посторонним вход запрещен.
— Пусти. Он ко мне за нотами, — сказала Галя. — А то я бабушку позову.
— А я — дедушку. — И он неожиданно толкнул меня вниз со ступенек.
Я даже чуть не упал в снег.
— Только появись еще у моего дома, — пригрозил он.
Он, конечно, разные борцовские приемы знает и при мне восьмиклассника поборол. Я молчал, только кулаки у меня сжимались сами собой.
— Не связывайся ты с ним, иди домой, — сказала Галя. — Я после обеда сама тебе принесу.
И я пошел.
— Идет, даже ноги трясутся! — смеялся он на крыльце.
А я шел к дому и представлял, как тоже однажды выучу приемы и тогда уж ему все скажу. Или был бы у меня старший брат, показали бы мы этому Андрею вдвоем…
* * *
Моя мама тоже преподает музыку. Она работает в детской музыкальной школе.
Папа иногда удивляется, почему мама не учит меня сама. А мама говорит, что детей всегда должны учить чужие люди, так получается лучше, потому что со стороны способности и недостатки виднее. Великого композитора Прокофьева, например, в детстве учил Глиэр, который сам был тогда студентом, хотя у Прокофьева мама тоже неплохо играла.
Папа каждый раз шутит:
— А Моцарта учил Сальери.
— Допустим, не Моцарта, а Шуберта, — поправляет мама.
Раньше я уроки музыки любил, но это было года три назад.
— Ты послушай великих пианистов! — говорит мама. — Послушай, как замечательно они играют!
А я и так слушаю их с удовольствием. Хоть по десять раз могу слушать. И в филармонии, и с пластинки.
Зато себя я слушать не могу. Я же чувствую, что все не так играю, как хочется. А лучше — не получается. Плохую игру мне противно слушать, я уши затыкаю, когда неправильно кто-нибудь играет.
— Искусство без ремесла невозможно, — говорит мама, — ты должен сначала овладеть техникой, чтобы руки у тебя сами работали, чтобы ты не думал о них.
Но мне стыдно себя слушать, когда я играю любимые произведения.
И скучно без конца повторять одно и то же. Ведь для того, чтобы разучить новую вещь, ее надо раз восемьдесят играть и потом повторять каждый день, а то забудется. Мама моя, хоть и работает в музыкальной школе, но сама тоже каждое утро играет по два часа.
Учительница теперь на меня часто жалуется маме.
— Опять ты играешь несобранно! — ругает учительница меня. — Остановись. Посиди минуту, соберись. Начинай сначала.
Я играю и думаю в это время о разном.
Сегодня я вспомнил про прыщик около большого пальца на правой руке. Учительница смотрит на мои руки, как я играю, и все видит. Тут уж у меня совсем ничего не стало получаться.
Учительница даже обиделась.
— Еще несколько таких занятий, и я откажусь с тобой заниматься, — сказала она, уходя.
И мама чуть не заплакала.
— Не стыдно, Коля? Мы для тебя лучшего педагога пригласили, а ты — шаляй-валяй. Неужели тебе неинтересно? Неужели тебе не хочется учиться музыке?
Если бы я сказал, что мне и правда не хочется, мама бы по-настоящему заплакала.
И я просто молчал.
* * *
Вечером папа принес паровоз.
Когда папа занят, с ним лучше не заговаривать, все равно не услышит. Зато, когда свободен, он сразу начинает со мной играть.
Мы с ним играем в железную дорогу.
Есть дороги с шириной между рельсами шестнадцать миллиметров, есть — двенадцать и есть маленькие — девять с половиной.
У нас дорога средняя — двенадцать. Иногда мы ездим в воскресенье по магазинам, в конце месяца, когда магазины не выходные, и ищем новые части. У нас много рельсов, стрелок, тупиков, а перекрестков — всего два. И подвижных составов у нас — два тепловоза и электровоз. А паровоза не было. Но теперь и паровоз есть.
Паровоз папе привез знакомый по работе человек. Эту дорогу делают в разных странах. Человек съездил в командировку за границу и привез паровоз.
Мы с папой сразу стали раскладывать на полу рельсы, расставлять станции. Станции мы с ним сами склеивали.
— Подожди, папа! — крикнул я. — Зачем ты сюда тупик ставишь? Я здесь хочу стрелку подсоединить.
Потом мы включили дорогу и попробовали наш паровозик. Он так красиво ездил, как настоящий. Сначала один. Потом я к нему подсоединил три цистерны, потом цистерны отсоединил — и он повез вагон-ресторан и два спальных. А два тепловоза у нас повезли платформы с автомобилями, а на запасном пути стояла еще электричка.
Поезда останавливались у станций, папа объявлял отправление, а потом проверял у меня билет и щелкал компостером.
Я решил подсоединить еще два моста, чтобы сделать пересечения на разных уровнях, отключил дорогу, и тут папа вдруг вскочил.
— Все ясно, — сказал он.
Я подумал, что это он мне сказал, и спросил его:
— Что ясно?
Но папа уже пошел к своему портфелю за расчетной тетрадью.
— Что ясно? — снова спросил я.
— Что? Ты что-то сказал? — отозвался он.
— Что ясно-то? — спросил я, хотя уже понял, что он отключился от меня к своему проекту.
— Ясно? — удивленно спросил он. — Ах, да, ясно. Да-да, конечно, все ясно. Все очень ясно, ясненько, ясновато, — забормотал он.
Я сидел на полу посреди комнаты, вокруг меня были всякие рельсы, маленькие раскрашенные домики, клееные деревья. И не хотелось мне больше играть.
В комнату вошла мама.
— Не сиди на холодном полу, — сказала она, — опять будет насморк.
Я молчал. И даже разбирать дорогу на части мне не хотелось. Даже прикасаться к ней.
А только что так хорошо мы играли.
— На ужин рыбу или творог? — спросила мама.
— Да-да, обязательно, — отозвался папа.
Он быстро записывал в расчетную тетрадь очередные свои формулы.
— Я спрашиваю, что ты хочешь — творог или рыбу? Ты меня совсем не слушаешь.
— Да-да, я слышу. Творог и рыбу. Рыбу или творог.
Мама махнула рукой, вздохнула и пошла на кухню.
* * *
Папа работал весь вечер. У него на столе лежали три толстенные книги — справочники. Иногда он искал в этих справочниках нужные числа, подставлял числа в огромные формулы к себе в тетрадь, считал на логарифмической линейке.
Я ночью проснулся, пошел на кухню попить гриба, а он все сидел со своими расчетами. На столе горела маленькая лампа, и он даже на меня не оглянулся.
* * *
Раньше мама любила ходить в туристские походы. Она даже с папой познакомилась в одном таком походе, когда они были студентами.
Сейчас иногда мама смотрит в окно, как солнце светит, и вздыхает:
— Съездить бы куда-нибудь подальше, вечером у костра посидеть.
В этом году еще осенью она сказала, что теперь я вырос и на лыжах-то уж она со мной походит. И мне купили лыжи с настоящими универсальными креплениями. На них даже слаломом можно было заняться, если бы захотелось.
Утром в воскресенье мы встали, мама посмотрела на солнце и сказала:
— Поехали, сын, за город?
— А папа? — удивился я.
— А папа пусть чертит.
— Да-да, вы поезжайте, а я тут один поработаю, мне надо как следует подумать.
Мама достала рюкзаки — мне и себе. В свой положила бутерброды и термос, а в мой — фонарик, яблоки и спички. Вдруг мы в лесу заблудимся, тогда костер разожжем.
В электричке было много людей, все с лыжами. Нам хорошо, у нас платформа близко от дома, называется Ланская. Зато иногда в вагон войдешь, а мест уже нет, потому что все сели в городе.
Я взял с собой книгу «История удивительных открытий» — о разных изобретателях в древности. Эту книгу читал брат Гриши Алексеенко, десятиклассник, потом Гриша, а теперь они дали мне.
В электричке я книгу открыл в том месте, где написано про Архимеда, какие он изобретал военные машины. Две тысячи триста лет назад, когда к Сиракузам на острове Сицилия подошел римский полководец Марцелл, то Архимеда все горожане стали просить о помощи. Раньше Архимед занимался только наукой, а изобретать машины стеснялся, говоря, что машины — просто игрушки геометрии, забава для тупоумных ученых, а у него есть гораздо более серьезные темы для размышлений. Но Архимеда умоляли и горожане, и сам царь Гиерон, его родственник. Архимед уступил и в несколько дней придумал невиданные машины для обороны города. Когда на Сиракузы пошли штурмом римские легионы, а со стороны моря приблизился флот, сиракузцы онемели, объятые ужасом, столько было у римлян воинов и кораблей. Но тут Архимед пустил в ход свои машины. Одни машины захватывали железными когтями вражеские корабли, поднимали их носом вверх и переворачивали. Другие — выбрасывали с огромной силой тяжелые камни, стреляли копьями, словно пулеметы.
Римские воины так перепугались, что сразу бросались бежать, как только видели конец веревки или бревно над стенами города.
— Еще одна машина Архимеда против нас! — кричали они в страхе.
Архимед же удивлялся, когда его благодарили горожане и царь.
Даже во время обороны он считал эти машины игрушками ума и серьезно к ним не относился. Он снова засел за свои геометрические рассуждения и чертил на полу мелом разные сложные фигуры.
А я подумал: «Вот если бы он всерьез стал придумывать для людей разные машины, мы бы, наверно, уже давно не только на Марс и Венеру слетали б, а и на другие звездные системы».
Я так увлекся книгой, что и не заметил, когда мы приехали в Зеленогорск.
— Очнись, — сказала мама.
И я сразу стал убирать книгу в рюкзак.
Мы с мамой надели лыжи прямо около станции и пошли по лыжне в сторону Серенады.
Вокруг были высокие сосны и ели. Нас иногда обгоняли люди и спрашивали:
— К Серенаде мы правильно идем?
— Правильно, — отвечала мама.
Ветра совсем не было, и солнце здорово грело щеку, особенно если замереть, зажмуриться и поднять лицо. И воздух между деревьями был теплый, сосновый.
Некоторые люди снимали с себя куртки и оставались только в лыжных брюках.
Я так и не понял, какая гора называется Серенадой. Там было много гор, высоких и низких, крутых и попроще.
Я съезжал следом за мамой на огромной скорости с одной горы, потом, совсем не отталкиваясь, по инерции, въезжал на другую, съезжал с нее, взлетал на третью. Надо было только внимательно смотреть, чтобы не налететь на сосну.
А одна гора была страшно крутая и внизу утыкана обломками лыж.
Мама сказала, что она называется Лоб.
Когда мы забрались на эту гору и я заглянул вниз, то даже попятился, чтобы нечаянно лыжи меня туда не повезли.
— Неужели съедете? — спросил человек, который был здесь вместе со своей дочкой.
— Когда-то съезжала, — засмеялась мама, — попробую.
— Что вы, это же самоубийство! — испугался человек. — Не надо, я пошутил.
— Сейчас посмотрим.
Мама сразу оттолкнулась и помчалась с жуткой скоростью вниз, а внизу круто свернула и поехала с новой горы, с пологой.
— А мы с тобой лучше вернемся назад, — сказал человек дочке. — Мне еще жизнь дорога. Она, наверно, чемпионка какая-нибудь.
А я закричал:
— Мама! Все нормально?
И мама ответила:
— Хорошо! Спускайся ко мне там, где полого!
И на меня многие люди с уважением посмотрели, потому что все следили, даже остановились, когда мама мчалась со Лба.
Потом мы ели холодные бутерброды и пили чай, такой горячий, что его надо было отпивать маленькими глотками.
Я пил из зеленой кружки, а мама — из крышки термоса. Из кружки поднимался пар, и этим паром было смешно дышать.
Мы еще покатались немного с гор. Я все-таки налетел на одну сосну, которая стояла прямо на пути, не успел свернуть. Я небольно стукнулся о нее плечом и упал. А один человек недалеко от нас так трахнулся лбом о дерево, что сидел потом полчаса, держась за голову, и друзья повели его к станции, даже лыжи его понесли.
Мы тоже поехали назад, и солнце сильно грело, с больших сугробов падали капли на лыжню.
В электричке напротив нас сел человек с птицами.
У человека был большой рюкзак и специальная клетка. Вместо железных прутьев на клетке была натянута белая материя. А с одной стороны — сделано стеклянное окошечко. Я посмотрел в это окошечко и увидел двух белых птичек с голубыми крылышками.
А человек осторожно поставил клетку, сел напротив нас и сразу стал нам улыбаться.
— Какие у вас красивые птицы, — сказала мама, — никогда таких не видела. Как их название?
— Это белая лазоревка, князек, — сказал человек гордо и снова заулыбался. — Сколько лет мечтал их поймать. Некоторым даже за всю жизнь не удается.
Он заглянул в окошечко.
— Волнуются. Ничего, посидят дня три в кутейке, привыкнут, можно их и в клетку выпустить.
— Вы птицелов? — удивилась мама.
— По выходным. А в другое время на заводе работаю. А вы — спортсменка? — спросил он.
— Нет! — И мама тоже засмеялась. — Я учительница музыки. Это мы с сыном покататься решили.
— А папа ваш куда же уехал? В командировке?
— Папа наш чертит. Он у нас без выходных работает.
— Хочешь, посмотри поближе моих птичек, не бойся, смотри прямо в окошко, — предложил человек мне.
И я стал смотреть, как они прыгают друг за другом, поворачивают голову, косятся на меня, клюют рябину.
— Очень редкие птички! А какие красивые! — сказал человек. — Я ведь тоже некоторых птиц петь учу, так что я как бы ваш коллега.
— Разве птиц учат петь? — удивился я.
— Еще как! На певца в консерватории столько времени не расходуют, сколько на хорошую птицу.
— И они, наверно, не отвлекаются на уроках, как ты, — сказала мне мама.
— Нет, они у меня старательные. Да и я знаю все их привычки. У меня жаворонок живет — я его прямо из гнезда взял, выкормыш. И два соловья. Иволгу — тоже выкормил, взял из гнезда. Такая боязливая птичка.
Я даже не поверил его словам, и мама, наверно, тоже.
— И все эти птицы живут у вас дома? — спросила мама.
— Конечно. Канареек или там волнистых попугайчиков я не держу. Хорошему птичнику их держать стыдно. Хочешь моих щеглов послушать? — спросил он меня.
— Еще бы он не хотел, — сказала за меня мама. — Слушать — это он любит. А вот сам стал заниматься музыкой хуже. Как будто у него какая-то пружинка сорвалась.
— С птицей такого не бывает. У нее если организм требует пения, так она запоет в любых условиях. Телефон у вас есть? Если хотите, могу как-нибудь позвонить. В выходные-то я сейчас все время буду за городом, а в будни — пожалуйста. Ко мне люди часто приходят. И с магнитофонами. У меня запишут, а дома у себя потом устраивают птичьи концерты. Вы скажите номер, я запомню. Если есть у мальчика интерес, пожалуйста.
Мама сказала ему наш телефон, а он сказал, что его зовут Федор Матвеевич.
Мы вышли на Ланской, а он поехал дальше, к вокзалу.
* * *
Утром по дороге в школу меня догнал Бабенков.
— Слышал, а? Шустрова переезжает!
— Куда?
— Ее родители поменяли квартиру с другим городом и переезжают. Она сегодня последний день.
Как-то так получается, что Бабенков всегда узнает секреты.
«Может, и руки не будут проверять», — обрадовался я и спросил Бабенкова:
— А кто санитаром будет вместо нее?
— Ты, конечно.
— Я?
— А кто же еще.
Тут уж я не обрадовался. Значит, я должен буду стоять у дверей, как она, и проверять руки. А у самого бородавка растет. Кто-нибудь увидит и скажет:
— Ты сначала свои руки приведи в порядок, а потом чужие проверяй.
Я так задумался, что даже не заметил, как мы подошли к школе.
* * *
Я уже давно слышал, что некоторые люди выводят бородавки кислотой.
На перемене я спросил у Гриши Алексеенко:
— Где кислоту продают, ты не знаешь?
— Наверно, в аптеке, — сказал он, — только на нее рецепт нужен.
Мы с Гришей пошли к его брату.
— Какая кислота? — спросил брат. — Серная, соляная, может, уксусная? Если уксусная, то дома у матери возьми уксусу, вот тебе и кислота, смотри эссенцию не бери, она жжется.
— Мне уксусную надо — сказал я, хоть и не знал, какую.
Я только сейчас услышал, что уксус — тоже кислота.
И Гриша Алексеенко, как всегда, вздохнул:
— Вырасти бы побыстрей, а то ничего не знаем.
* * *
После школы, когда мама пошла на вечерние уроки, я взял из стола уксус. Уксус я любил нюхать, он пахнет маринованными грибами.
Я капнул из бутылочки на руку. Но все сразу пролилось в раковину. Я снова капнул.
Уксус не помогал.
Когда пришел папа, я его сразу спросил:
— Какая кислота бывает самая страшная?
— Синильная, — сказал папа, — ее шпионы используют и разные убийцы.
И тогда я понял, что надо делать.
Я незаметно оделся и побежал к аптеке.
Там было много людей, а у прилавка стояла старушка в белом халате.
— У вас синильная кислота без рецептов есть? — спросил я старушку.
Старушка даже подавилась от удивления.
— Зачем тебе такая кислота, мальчик?
— Нужно, — сказал я тихо и опустил голову.
— Сейчас узнаю, подожди.
Старушка ушла куда-то, а через минуту вернулась.
— Зайди к заведующему, мальчик.
И она пустила меня прямо за прилавок в коридор, а оттуда в специальный кабинет.
В кабинете сидел старичок. Он и был заведующий.
— Это тебе нужна синильная кислота? — спросил старичок. — Тебе самому?
— Мне.
— Может, тебе другая нужна, а ты забыл, может, соляная — для желудка.
— Нет, синильная.
— Хорошо, синильная. А сколько тебе нужно?
Я подумал и сказал:
— Литр.
А старичок сразу засмеялся.
— Милый мальчик, — сказал старичок, — синильная кислота сама по себе в природе не присутствует, она сразу разлагается. И слава богу, потому что от литра ее могло бы умереть шесть тысяч человек. Теперь ты понял, что за страшную кислоту ты у нас спрашиваешь? Я знаю, ты ведь не хочешь, чтобы внезапно умерли шесть тысяч человек?
— Не хочу.
— Так зачем же ты пришел? Тебе нужно что-нибудь вылечить, или тебя кто-то послал?
— Вылечить, — сказал я.
Я больше ничего не говорил, потому что боялся заплакать, а только протянул старичку руку.
— Нормальная, хорошо развитая кисть, — сказал старичок, — даже помытая.
— Вот, — показал я на прыщик около большого пальца.
Старичок взял лупу и внимательно стал разглядывать.
— С этим мы сейчас справимся, — сказал он. — С этим мы справимся без кислот.
Он взял из белого шкафа бутылочку и капнул мне какую-то жидкость оттуда на руку.
— Я думаю, теперь все у тебя пройдет. Можешь зайти дня через три снова. Только не стремись больше приобрести вещь, о которой совсем ничего не знаешь.
Он вывел меня из своего кабинета во двор.
Через несколько дней я мылся в ванне, смотрю на руку — а она чистая и все в порядке.
* * *
Шустрова не пришла в школу. И утром у нас никто не проверял руки.
— Давай ты проверяй, — сказал Бабенков.
Но меня ведь никто не выбирал санитаром.
— Оля Шустрова улетела на Север и больше к нам не вернется. Нам нужен новый санитар, — сказала Анна Григорьевна на перемене. — Я вам советую выбрать Колю Кольцова.
Откуда только знал обо всем Бабенков? Никто в классе не догадывался, а он уже наперед мне говорил.
И Шустрова — тоже. Улетела, даже не попрощалась. Как будто не ее был класс.
Она улетела, а мы здесь учимся. И все происходит без нее так же, как и при ней, только я теперь санитар. А все остальное одинаково — будто она и не училась у нас, будто и на свете никогда не жила.
Анна Григорьевна дала мне тетрадь учета, и теперь в нее надо ставить плюсы и минусы всем ученикам по списку ежедневно.
— И сегодня тоже надо проверить, — сказала Анна Григорьевна, — проверишь на следующей перемене.
В следующую перемену все разошлись по своим группам — у нас был английский.
А я ходил по коридору из группы в группу и проверял чистоту рук.
Теперь мне некоторые говорили:
— А хочешь, ноги покажу.
И когда так сказали в десятый раз, я понял, почему Шустрова злилась. Я и сам уже разозлился, потому что надоедает подряд слушать одну и ту же глупую шутку.
Руки были у всех чистые. Я ставил в тетрадь одни плюсы.
Вдруг Бабенков вырвал у меня тетрадь и стал с нею бегать по коридору.
Я побежал за ним.
Он от меня отпрыгивал и махал перед носом тетрадью.
Потом ему надоела такая игра; он подбросил тетрадь под потолок, а сам побежал в класс.
Я прыгнул, чтобы схватить тетрадку, и наткнулся прямо на директора, на Екатерину Николаевну.
Я с директором ни разу еще не разговаривал за четыре года, только иногда видел, как строго она ругает учеников. Она строгая, но справедливая, — говорили все.
Я стоял перед ней с растрепанной тетрадкой, а она молча на меня смотрела.
— Отдышался? — спросила она меня потом.
Я не ответил.
— Что это за тетрадь?
— Санитарная.
— Так ты еще и санитар?
— Его сегодня выбрали, — сказали ребята из нашего класса.
— Хорош санитар. Тебе самому хоть «скорую помощь» вызывай да смирительный укол делай.
Я, конечно мог сказать про Бабенкова, что бегал из-за него, но молчал.
— Стыдно? — спросила директор.
— Стыдно, — тихо сказал я.
— Тогда иди умойся и отправляйся на урок. Только тетрадь не замочи.
И директор пошла дальше по коридору.
Глава вторая
У дверей нашей школы написано:
«Школа с преподаванием некоторых предметов на английском языке».
Пока нас всему учат по-русски. Но зато со второго класса у нас три раза в неделю — язык. Класс разделили на группы — по двенадцать человек — и мы учимся в специальных кабинетах. В каждом кабинете есть пианино. Весь первый год нам почти ничего не задавали на дом, а на уроках — учительница пела вместе с нами разные английские песни.
И все надписи в школе у нас по-английски. Даже над учительской и кабинетом директора. Некоторые родители долго ходят по коридорам и не могут найти нужный кабинет, пока мы им не прочитаем надпись и не переведем.
И еще к нам часто приходят разные делегации.
В этот раз делегация должна была прийти прямо в наш класс.
Анна Григорьевна сказала, что никакой показухи мы не будем делать, у нас и так в классе хорошо, и выставка самоделок — лучшая в школе. Но мы все должны принести в школу по красивой открытке с видом Ленинграда и по значку, чтобы подарить делегатам.
Мы с первого урока все ждали, когда же придет делегация.
И после большой перемены, уже после звонка, в наш класс открылась дверь и вошли человек десять ребят. А с ними — трое взрослых. Ребята боязливо на нас смотрели, будто мы их бить собираемся, и прижимались к стене, а один взрослый все время улыбался.
Этот взрослый оказался их учителем, а ребята — учениками школы города Ливерпуль.
— Сейчас для того, чтобы мы лучше познакомились друг с другом, мы проведем общий урок, — сказал учитель по-английски.
И мы все поняли. Нам даже переводить не надо было.
Свободных мест не было, поэтому английские школьники стали садиться между нами на наши парты.
Галя Кругляк болела, и рядом со мной уселся светловолосый зубастый школьник в коротких штанах — гольфах.
Я еще подумал: сразу ему дарить открытку и значок или потом?
Наша учительница английского села за пианино и заиграла народную шотландскую песенку, слова которой сочинил поэт Роберт Берне. Мы все ее хором запели, а англичане молчали — они этой песни не знали, наверно.
Их учитель только улыбался и кивал головой.
Потом он сел за пианино и заиграл нашу «Катюшу». Все англичане сразу запели ее по-английски, а мы сначала растерялись; мы могли «Катюшу» петь только по-русски. Учительница наша так и запела — по-русски, а уж потом мы.
Мой сосед пел, надувая в щеки воздух, и смешно выкрикивал слова в конце.
Мы допели до конца, немного посмеялись, как у нас получилось, а потом по очереди стали задавать классу английские загадки. И все их отгадывали.
Урок кончился быстро, но Анна Григорьевна сказала, что мы можем оставаться на перемене в классе и поговорить с нашими английскими гостями.
Я сразу достал открытку и значок и положил их перед англичанином.
— Бери, пожалуйста, — сказал я. — Это мой подарок.
«Только бы он в ответ не подарил жевательную резинку», — думал я.
Нам сколько раз в школе объясняли, что брать у иностранцев жевательную резинку стыдно. У нас скоро свою станут выпускать, и ее будет навалом на всех прилавках.
А он как раз полез в карман, долго рылся и вытащил пластик резинки.
«Ну что делать, что теперь делать? — подумал я. — Ведь гостей нельзя обижать».
И тут я вспомнил про ириски «Золотой ключик». Я их вчера купил двести граммов и забыл вынуть дома.
Я быстрей достал пакет и протянул англичанину.
— Это конфета «Золотой ключик», — сказал я.
Англичанин взял осторожно конфету, развернул и положил на язык.
— О, конфета! — обрадовался он. — Как называется?
— «Золотой ключик». Есть такая сказка.
— Знаю, — сказал англичанин, — я ее читал.
— А я «Питера Пэна» во втором классе читал.
— Я тоже, — ответил англичанин.
— А «Тома Сойера» ты читал?
— Читал. Перед отъездом в Советский Союз.
И мы стали перечислять друг другу разные книги, и оказалось, что многие из тех книг читали и он и я.
Тут к нам собрались все, брали ириски из пакета и рассказывали сначала про книги, а потом просто всякие истории.
— Как жалко, — сказал англичанин, — мы только с тобой хорошо познакомились, а уже надо уходить. Теперь мы поедем на экскурсию к рабочим, которые делают детские игрушки. Фабрика детских игрушек.
Прозвенел звонок, и английский учитель позвал своих ребят. Я даже адрес не успел записать, даже не узнал, как зовут моего англичанина.
* * *
Однажды у нас зазвонил телефон, папа снял трубку, удивился и сказал:
— Тебя, мужчина какой-то.
— Коля? — спросил мужской голос.
И я сразу понял, кто это, потому что голос был веселый.
— Это дядя Федя. Не забыл? Вместе в электричке ехали.
— Нет, не забыл, — сказал я.
— Так хочешь птиц моих послушать?
— Хочу.
— Я за тобой завтра заеду, хочешь? В четыре часа.
— Завтра у меня урок музыки в четыре часа.
— Ах ты, жалость-то какая. А перенести урок нельзя?
— Нет, учительница только в это время может.
— А я думал показать тебе соревнование. Друг из Москвы привез знаменитого щегла. Ну да ладно, в другой раз как-нибудь. В воскресенье-то я езжу, самое время. А хочешь, вместе половим, я тебя научу. В общем, ты меня не забывай, а я тебе позвоню на днях, идет?
— Идет, — сказал я.
— Ну, будь здоров. Маме привет передавай. Повезло тебе, красивая у тебя мама. Ты ее не обижай. Не обижаешь?
— Нет, — сказал я, — не обижаю.
— Молодец. Ну, будь здоров.
И он повесил трубку.
Мамы дома не было, а когда она пришла, я про звонок забыл и привет ей не передал.
* * *
После весенних каникул папа поехал в Москву, в командировку на выставку, на ВДНХ.
Папа и в прошлом году ездил туда на месяц и в позапрошлом.
И всегда он получал медали за разные свои изобретения. А предпоследний его проект прибора даже хотели представить к Государственной премии.
Папин поезд уходил поздно вечером, но мы все равно поехали его провожать.
Я люблю ездить на такси. Мчишься с огромной скоростью по темным улицам, как будто в космическом корабле по космосу. А потом громко затормозишь на перекрестке, и все прохожие проходят мимо и заглядывают внутрь такси. А ты смотришь на них из-за стекла.
Но если прохожий переходит улицу не на месте, я ужасно нервничаю, злюсь на него и чуть не кричу: «Ну куда идешь! Под машину же лезешь!»
Один раз я даже так и закричал, и водитель засмеялся:
— В шофера ты не годишься, очень вспыльчивый.
По вокзалу папа сам нес свой чемодан, мы шли рядом, а потом папа встретился с Татьяной Филипповной, с сотрудницей из его отдела.
Татьяна Филипповна два раза была у нас дома. И все равно, она сначала нас не узнала, по ее лицу было видно, как она нас с мамой разглядывает через толстые очки, и думает: «Кто же это такие?».
Когда она была у нас дома, она говорила, что с тех пор, как помнит себя, всегда ходит в очках.
Я видел иногда таких трехлетних ребят в очках. Они почему-то всегда сутулые и не очень здоровые с виду. И Татьяна Филипповна такая же. Когда она в первый раз к нам пришла, я даже подумал, что она старушка.
Мы пошли вдоль вагонов, на которых было написано: «Красная стрела. Москва — Ленинград». И папа взял чемодан у Татьяны Филипповны, хоть она и повторяла несколько раз:
— Не нужно, он легкий. Он совсем легкий.
Я так люблю сидеть в купе и смотреть в окно. Даже папа заметил и сказал:
— В этот раз я уж обязательно постараюсь, чтобы ты ко мне приехал.
— Суждены нам благие порывы, — сказала мама, отвернувшись к двери, и грустно улыбнулась.
Это она про мою поездку так сказала. Там еще дальше есть слова: «но свершить их, увы, не дано». Эти слова написал Пушкин сто пятьдесят лет назад.
— Ну почему же, — сказала Татьяна Филипповна, — я напомню Александру Петровичу. И буду помогать ему, когда приедет Коля.
А мама снова грустно улыбнулась.
Потом мы вышли, стали прощаться.
Татьяна Филипповна сразу замерзла и ушла в вагон.
— Не грустите, — сказал папа, — что ни случается, все к лучшему.
— Только я обязательно в Москву поеду, — напомнил я.
А мама вдруг отвернулась и заплакала.
Поезд как раз пошел.
Папа прыгнул в вагон и встал рядом с проводницей. Я немного пробежал рядом с ним, а потом он меня обогнал…
* * *
Мне снилось, что вся мебель в моей комнате — живая. И мой письменный стол, и диван, и стулья. Я сидел на шкафу, сгорбившись, чтоб не задеть головой потолка, а они все стояли вокруг, смотрели вверх и плакали. Но я стал петь веселые песни, чтобы их развеселить. Я так громко пел во сне, что даже проснулся.
Сначала я подумал, что сон еще продолжается, а потом понял, что это плачет мама в большой комнате.
Я долго не мог заснуть, а она все плакала.
А мне было страшно. Мне всегда делается страшно, когда она плачет, и я даже двинуться не могу, даже горло у меня становится деревянным — и ни звука я им не могу сказать.
Потом в большой комнате стало тихо, и я заснул.
Утром мама спросила:
— Ты что такой грустный?
Я не ответил. Не мог же я ей сказать: оттого, что она плакала ночью.
* * *
В эту неделю было такое теплое солнце, что весь снег растаял. Асфальт кругом был сухой, и земля во многих местах — тоже сухая. По городу еще ходили люди с лыжами, и одна тетка на улице про них сказала:
— И где они только снег находят?
А в парке на озере растаял лед. Он растаял не весь, а только сверху и теперь погрузился под воду.
С Серенады мы с мамой привезли кору, и я сделал из нее парусные корабли. Даже не простые, а двойные — катамараны. И мне давно хотелось их попускать в озере, потому что в ванне было для них мало места.
В четверг после уроков я дома поел и взял корабли на озеро. Мама в это время ушла на занятия в свою музыкальную школу.
Солнце так сильно стало греть, что я даже вспотел, пока шел к озеру. У воды я поправил паруса на кораблях и пустил их вдоль берега. Они сначала стояли, покачивались, а потом дунул ветер, и они помчались совершенно прямо, не зарываясь носом, потому что я им точно сделал руль.
«Смешно, месяц назад я здесь катался на санках с горки, а сейчас корабли пускаю», — подумал я.
И только я так подумал, как увидел ту самую девочку, с которой катался.
Я сразу отогнал корабли от берега, и они у меня снова поплыли прямо и стремительно.
А я нагнулся над водой и следил за ними пристальным взглядом.
«Ну и корабли мои, корабли! Самые лучшие корабли!» — думал я. И не оглядывался на девочку. Сейчас она сама подойдет и посмотрит, как ходят по озеру мои корабли. «Надо им флаги сделать. А еще — один будет пиратским и станет на них нападать».
Вдруг сзади меня кто-то затопал, запыхтел и несильно ткнул в спину.
Я схватился рукой за скользкую землю, другой рукой тоже схватился, а тот снова ткнул меня в спину, так же несильно, но я уже падал в воду.
В первый момент я не испугался, а только подумал, что как стыдно перед девочкой.
Я сразу замахал ногами и руками и встал на корточки, потому что у берега было неглубоко. Но тут холодная вода сжала мне горло, и лицо, и все тело, и я, как дикое животное, стал мычать:
— Аэ, аэ, аэ.
А девочка кричала:
— Фу, Барри! Барри! Фу! Он упал, папа!
И я увидел такую огромную собаку, каких в жизни никогда не видел.
И еще сообразил, как мне попадет от мамы за то, что я упал в воду. И ведь это никак не скроешь: вся моя одежда мокрая.
Вдруг ко мне подскочил человек, схватил за руку, больно дернул и выбросил меня на берег.
Девочка стояла рядом и плакала. Собака тоже была рядом и лакала воду из озера.
— Он, честное слово, нечаянно, — плакала девочка. — Он только понюхал, и все.
А я сел на мокрую землю, вдруг затрясся, застучал зубами и никак не мог остановиться.
— Не ушибся? — спросил человек и нагнулся ко мне. — Ты далеко живешь? Дома есть кто-нибудь?
— Папа, он близко, он близко живет! — заговорила девочка.
А я хотел сказать, что нет, не близко, а далеко, но зубы так у меня стучали, что я ничего не мог сказать, а только замотал головой, поднялся, поскользнулся и снова чуть не упал.
Человек стал снимать свое пальто, потом накинул вдруг его на меня, схватил меня на руки, как ребенка, и сказал:
— Ты веди Барри, я его понесу к нам, там разберемся.
— Там корабли! Мои корабли! — вспомнил я.
— Какие еще корабли? — Он посмотрел на воду. — Сейчас главное — спасать не флот, а самого адмирала.
Он бежал по парку, громко пыхтя, и нес меня.
Один раз он сказал:
— Ну и тяжелый ты вырос!
А я старался не смотреть ни на кого, потому что на нас-то уж все смотрели.
Он перебежал через улицу, вбежал в свой дом, и девочка бежала за нами, а еще рядом неслась огромная собака.
Он открыл квартиру, положил меня на пол в прихожую и сказал:
— Раздевайся быстро, а я включу горячую воду в ванне.
Я стал снимать его пальто. Вокруг меня сразу натекла большая лужа, и я не знал, куда мокрую свою одежду класть — ведь не в лужу.
— Все, все снимай — и ботинки, и носки! — крикнул отец девочки из ванны.
Тут в квартиру вошла и девочка с собакой.
Мы с девочкой друг на друга не смотрели.
А собака сразу начала меня нюхать, ткнулась носом мне в щеку.
— Готов? — спросил девочкин отец. — Сейчас заодно и помоешься. — И он засмеялся.
Я все еще стучал зубами, хоть и не так сильно, и уже давно стоял на полу.
— Пошли.
И он повел меня в ванну.
— Я домой лучше, — сказал я.
Но он не ответил.
Вода была такая горячая, что я отдернул ногу.
— Это только кажется, что она горячая, ты не бойся. Видишь, я спокойно держу свою руку, — стал уговаривать отец девочки. — Тебе сейчас обязательно надо распариться.
Наконец я залез в ванну весь, подрожал еще минутку, а потом стало жарко, я лежал просто так и не двигался.
— Полежи, отмокни, отогрейся немного, — сказал отец девочки. — Я пойду сушить твою одежду.
Я сидел в ванне полчаса или час, иногда добавляя горячую воду.
А потом отец девочки вошел и сказал смущенным голосом:
— Понимаешь, у нас мальчиковой одежды нет… Прямо не знаю, в чем тебя выпустить в комнату. Может быть, ты Светино фланелевое платье наденешь?
Я на такие слова даже ничего не ответил. Потому что в ванне мне сидеть уже надоело и не занимать же весь день ванну у людей. А с другой стороны, девчачьи колготки, сидеть в платье тоже стыдно.
— Я домой пойду, — сказал я.
— Пойдешь, — согласился Светин отец. — Высохнет одежда — и пойдешь. Ты вот что, — сказал он, — давай будем играть в маскарад. Я тебе сейчас принесу маскарадный костюм; Красной Шапочкой будешь? Света будет Бабушкой, а я — Волком.
Он сходил в комнату, принес мне фланелевое платье, тапки и настоящую красную шапочку.
— Вытирайся и выходи играть.
Но я еще долго сидел так, в полотенце, не надевая платья, потом надел и стоял за дверью, а потом уж Светин отец застучал и сказал:
— Красная Шапочка, мы забыли с тобой познакомиться. Меня зовут Степан Константинович, мою дочь — Света, собаку — Барри. А тебя как?
— Коля, — сказал я из-за двери.
— Красная Шапочка по имени Коля, вылезай быстрей, тебя Бабушка ждет и Серый Волк с другом Барри под кустом подкарауливают.
Я вышел из ванны, но игра у нас как-то не очень получилась.
Из-под платья у меня торчали ноги в колготках. Я топал тапочками в прихожей и боялся войти в комнату, где сидела Света.
А Света вдруг закричала:
— Папа, передача! Мы про передачу забыли!
И включила телевизор.
— Да ну ее, — сказал папа, — надоела мне эта передача.
И в то же время какой-то голос стал читать стихи для малышей, экран засветился, и я увидел на экране Светиного отца.
Я сначала не поверил — думал, похожий человек, потому что Светин отец стоял рядом со мной и тоже смотрел на экран. Но тут Света сказала:
— Голос сначала не твой, а потом — твой.
Светин отец на экране прочитал стихи и сел около столика. К нему повернулся диктор и сказал:
— А теперь расскажите нашим юным телезрителям, девочкам и мальчикам, как вы стали художником, почему вы начали иллюстрировать для них книжки.
Это в телевизоре.
А в комнате Светин отец сел на диван и сказал:
— Сейчас будет это неприятное место. Надо было как-то иначе тогда сказать. И рисунок получился слабый.
— Я был таким же, как все мальчишки. Любил подраться и поозорничать, у меня был самый громкий в классе голос, и его, наверно, не очень любили учителя, потому что подавал я его во время чужих ответов, — говорил Светин отец с экрана. — Но однажды, лет в двенадцать, я увидел девочку в окне уходящего поезда, и хоть я никогда ее больше не встретил, но повсюду я стал рисовать ее лицо… Рисунок выглядел примерно так… — И Светин отец провел три линии на бумаге.
Получилось лицо. Хороший рисунок, всего из трех линий, а уже красивое лицо. Мне бы так никогда не нарисовать.
— Садись на диван, — сказал мне Степан Константинович. — По телевизору не выступал?
— Нет.
— Будешь выступать, узнаешь. Вроде бы нормальный человек, а как наведут на тебя камеру, сразу и руки чужие, и голос не свой. Вон какой я там деревянный.
— Не деревянный, а нормальный, — сказала Света.
Степан Константинович сходил на кухню — проверить, как сохнут мои брюки. А Света проговорила:
— Мой папа не только книжки иллюстрирует, а еще и картины пишет. Зато я рисовать совсем не умею.
Я посмотрел на шкаф и увидел там за стеклом много книг.
— Это все папа иллюстрировал, — подтвердила Света.
Две из них я читал и хорошо помнил рисунки, потому что они мне понравились. Одна у меня даже дома была.
После выступления Степана Константиновича передавали кино. Мы посмотрели половину фильма и стали пить чай с вкусными сухарями и с медом.
А потом мои брюки высохли, и Степан Константинович сказал:
— Ну, дети, давно пора за уроки. Сейчас я тебя провожу, а то родители твои уже переволновались. Надо было им позвонить, да я с расстройства забыл. Мама поздно приходит?
— Она сейчас как раз придет. А так дома никого нет.
— А папа? — спросила Света.
— Ну мало ли где могут быть папы, — сказал Степан Константинович.
— Папа в Москве. Он изобретатель и сейчас павильон готовит на выставке. Ему, может быть, Государственную премию дадут.
— Ого, — сказал Степан Константинович, — с кем мы познакомились.
Я наконец переоделся в свою одежду. Она была теплой и жесткой.
— Пальто, конечно, не высохло, но ты пойдешь в моей куртке. Барри! — крикнул Степан Константинович.
И огромная собака сразу прибежала из боковой комнаты.
— Это какая порода? — спросил я.
— Это сенбернар, самая большая порода в мире, — сказала Света. — Папа его из Москвы привез.
Мы вышли на улицу. Было уже почти темно. Барри сразу залаял страшным басом.
— Тихо! — сказал ему Степан Константинович.
И Барри замолчал.
— А у тебя тоже есть собака? — спросила Света.
— Нет, — сказал я.
И стало мне грустно.
Мы подошли к дому, а с другой стороны появилась моя мама.
— Что случилось? — спросила она сразу.
— Ничего, ничего не пугайтесь, — стал успокаивать Степан Константинович, — одежда уже высохла. Просто ваш сын нечаянно искупался. Его столкнул вот этот наш гиппопотам. — И он показал на Барри. — Но мы его попарили в ванне, напоили чаем с медом, думаю, что не заболеет.
* * *
Я встретил Свету. Она сама подошла ко мне.
— Здравствуй, — сказал я, — а где ваша собака?
— Барри на даче, вместе с папой. Папа там пишет новую картину к выставке.
— А мама у тебя тоже есть?
— Конечно, есть, — Света даже удивилась. — Она в тот день была на даче, а папа — в городе.
Мы пошли по улице и все разговаривали.
— Почему вашу собаку так зовут — Барри?
— Ты разве не знаешь, я думала, все знают. В честь знаменитого Барри из Швейцарии. В Швейцарии, в горах, был монастырь святого Бернара, Сент-Бернар. Там выращивали собак, сенбернаров. А во время метели собаки выходили в горы и спасали людей. Барри — так он спас сто или даже двести человек. Эти собаки знаешь какие редкие?
Пока Света со мной разговаривала, сбоку от нас по другой стороне улицы шел Андрей. Сначала он просто так шел, только на нас поглядывал. Потом вдруг начал показывать мне кулак. Идет и грозится.
На него бы этого Барри вывести, сразу бы убежал.
— А я новые корабли делаю, — сказал я Свете, — те, старые, кто-то вытащил из озера.
— А я иду на почту отправить письмо немецкой девочке. Мы с ней уже два года переписываемся. Жаклин — так ее зовут. Она живет в Дрездене и пишет мне по-русски.
Мы как раз дошли до почты.
— До свидания, — сказала Света и пошла на почту.
Я как раз хотел сказать, что тоже марки хочу посмотреть.
Но теперь повернул назад. И Андрей пошел следом за мной, но не приближался.
* * *
Мы шли с Бабенковым из школы, и Андрей выскочил прямо на нас. Он хотел нас обойти, но я загородил ему дорогу.
— Ты чего это за мной следишь? — спросил я его громко.
— Когда? — спросил Андрей тоже громко, как будто и не ходил позавчера и не грозился.
— Позавчера — вот когда. Ходит еще, кулак показывает.
— И показываю.
— Допоказываешься.
Я думал, Бабенков мне поможет, если что. А он сказал:
— Здесь не надо, здесь люди ходят. Ну, я пошел, — сказал он мне и отвернулся.
Андрей сразу обрадовался, что я один, а не вместе с Бабенковым.
— Я приемы знаю, понял? — сказал он.
— Испугался я твоих приемов!
Но он неожиданно схватил мою правую руку и вывернул ее назад, так что я пригнулся к земле и чуть не закричал.
— Больно? — радовался Андрей.
— Пусти, говорят!
— А хочешь, совсем отверну?
Я испугался: вдруг он и в самом деле совсем отломает мне руку — и промолчал.
Он повел меня так по улице к моему дому. Я шел согнувшись, в одной руке у меня был портфель, а другая — вывернута за спину. И я не мог ничего сделать, мог только идти, куда он меня ведет, не мог ни дернуться, ни выпрямиться, потому что сразу становилось больно.
А Бабенков — хоть бы что. Двинулся спокойно в свою сторону.
Андрей довел меня так почти до моего дома.
— Еще со Светкой пойдешь, не то сделаю, — сказал он тихо и отпустил.
А я тряс рукой, потому что было все еще больно.
— Понял? — спросил он.
— Не понял, — сказал я.
Он снова бросился за мной, но я убежал в свой дом, а идти к нам на лестницу он побоялся.
* * *
Однажды вечером нам позвонил дядя Дима с папиной работы.
— Газеты читаете? — спросил он маму.
— Читаем.
— Ну и что вы там вычитали?
— Разное.
— А про то, что Сашу представили к Государственной премии, читали?
— Как, уже? — удивилась мама.
— Сегодняшняя «Правда» у вас дома есть?
— Конечно.
— Ну вот и читайте на третьей странице.
Я принес маме газету, и мама тут же по телефону прочитала дяде Диме все о папиных прошлых изобретениях.
— Вот так-то. Жаль, его в Ленинграде нет. Собрались бы сегодня, порадовались.
— Да, жаль, — вздохнула мама. — Поздравляю вас, — сказала она дяде Диме.
— А меня-то с чем?
— Ну, все-таки он ваш друг.
* * *
А через несколько дней папа прислал письмо.
Мама свой листочек сразу заперла в секретер, а мои протянула мне.
«Дорогой мой сын, — писал папа, — мне без тебя, как всегда, грустно. Может быть, и тебе без меня тоже. Я решил отложить все дела и пригласить тебя на субботу и воскресенье в Москву. Лишь бы мама тебя отпустила. Если она согласится, то пусть посадит тебя в дневной экспресс рядом с каким-нибудь взрослым человеком, а мы в Москве с Татьяной Филипповной тебя встретим».
Я так обрадовался, что подпрыгнул раза три в комнате.
Только мама была грустной. Я даже испугался, что она меня не пустит.
Но мама сказала:
— Конечно, я тебя отпускаю. Ты ведь давно мечтал. И с папой надо тебе увидеться. Расскажешь, как он там живет.
Мама сходила в нашу школу и договорилась с директором, чтобы меня отпустили на субботу.
* * *
Мы шли из школы вместе с Бабенковым, и он вдруг сказал:
— Ты чего врал, что к отцу в Москву едешь? Твой отец вас бросил, понял? Я слышал, как моя мать говорила.
Мне самому иногда такие мысли приходили в голову. Но я старался об этом не думать, даже глаза зажмуривал и головой мотал, чтобы выгнать мысли, так становилось страшно в те минуты. И сейчас тоже мне стало страшно, но я старался не выдавать себя и закричал:
— Ты что, на солнце перегрелся?
— Я-то не перегрелся, а ты вот — заврался. Отец его бросил, а он — в Москву, говорит, едет.
— Да еду же я! Отец там в командировке. Его сейчас к Государственной премии представили. Газеты читаешь?
— Читаю.
— Плохо читаешь.
— А когда писали про премию?
— Давно уже, неделю назад. В газете «Правда», понял? И в «Ленинградской» было.
— А в «Ленинских искрах» писали?
— Не знаю, — сказал я. — Она детская, а это же взрослые премии.
Я нащупал в кармане железнодорожный билет.
— Мой билет, во, видишь? Написано: «Ленинград — Москва. Детский. Пятьдесят процентов».
— А что же тогда мать моя говорила? Вот тоже — дает, — захихикал Бабенков. — Ну и путаница!
* * *
Я, конечно, Москву много раз видел по телевизору. И Красную площадь, и Останкинскую башню.
Когда мы подъезжали в нашем сидячем поезде к Москве, было уже темно. Останкинская башня красиво светилась в небе, и все пассажиры смотрели на нее в окна.
Потом поезд стал подходить к платформе.
— Ты не волнуйся, — сказал мне человек, который сидел рядом со мной, — если тебя не встретят, у меня переночуешь. У меня такой же сын и дочка еще есть.
Поезд остановился, все начали толкаться со своими чемоданами к двери, а я смотрел в окно и папу не видел. В окна стучали разные люди, кому-то там улыбались, махали руками, а папы на платформе не было.
— Ну что? Пойдем или будем ждать? — спросил человек, который ехал со мной рядом. Теперь он уже стоял. И мы были одни в пустом вагоне.
— Ждать, — ответил я.
— Выйдем на платформу, к вагону.
Мы пошли на платформу.
И только я спрыгнул на асфальт, как ко мне подбежала Татьяна Филипповна. Она даже не разглядывала меня, а узнала сразу.
— Да вот же он! — закричала она. — Саша! Саша! Александр Петрович, вот же он!
Она крепко схватила меня за руку и не отпускала.
— Вот тебя и встретили, — сказал мой бывший сосед.
Тут подбежал и папа.
— Ну наконец-то! — И он засмеялся. — Большое вам спасибо. — Это он сказал человеку. — А мы смотрели тебя в тринадцатом. Мама, видимо, сказала «двенадцать», а я услышал «тринадцать».
* * *
На другой день папа и Татьяна Филипповна провожали меня на вокзале.
Поезд был такой, в котором я ехал, может быть, даже тот самый, только вагон теперь второй — у самого локомотива. Первого вагона у поезда совсем не было.
— Ты, пожалуйста, люби и слушайся маму, — говорил на прощание мне папа, — я ее всю жизнь буду уважать. Мама у тебя — очень хороший человек.
Татьяна Филипповна вдруг заплакала. Она плакала негромко и одновременно улыбалась.
— Не обращайте внимания, — говорила она.
— Папа, а ты скоро вернешься? — спросил я.
Он долго не отвечал, будто снова думал о своих расчетах, а потом посмотрел в сторону и сказал:
— Не знаю.
Всю дорогу назад я смотрел в окно и думал про папу.
Несколько часов назад я чуть не потерялся.
Мы были на Выставке достижений народного хозяйства, на ВДНХ; я побежал в очередь за мороженым, а папа с Татьяной Филипповной остановились около знакомого человека. Потом они прошли мимо очереди и меня не заметили. Такая там была толпа народу. Я тоже их не заметил, хоть и оглядывался во все стороны.
— Придется к милиции обратиться, — говорил человек рядом со мной, пока я оглядывался кругом.
Потом он вдруг схватил меня за руку.
— Вон там — не твой отец?
— Мой! — обрадовался я и закричал: — Папа! Папа!
— Вы просто два совсем одинаковых человека, вам потеряться трудно. — И мой сосед засмеялся. — А вот на мать ты не похож.
— Это не мама, — сказал я, — это папина сотрудница.
Нам с папой и раньше говорили, что мы с ним похожи. Я люблю сравнивать его фотографии, какой он был в детстве, и свои. И правда — на них как будто один человек.
Еще на выставке, до того, как я чуть не потерялся, папа отвел меня в сторону, заглянул в глаза и спросил:
— Скажи, только честно, как мама?
И хотя несколько ночей подряд, когда я просыпался, то слышал, как мама плакала, и всякий раз страшно мне становилось, и всякий раз я лежал, не знал, что делать, я все-таки сказал сейчас:
— Мама — хорошо.
Папа снова заглянул мне в глаза и кивнул. Но я понял, что он мне не поверил.
И тогда я снова подумал, что они, наверно, поссорились.
Ведь даже самые лучшие друзья иногда ненадолго ссорятся.
Я чуть не сказал об этом папе, когда они меня провожали. Несколько раз я набирал воздух, чтобы сказать: «Папа, помирись, пожалуйста, с мамой».
Но всякий раз не мог эти слова выговорить. Это как с поздравлением — в уме произносишь легко и просто, а вслух не выговорить.
Потом поезд тронулся, и уже поздно было спрашивать.
А через шесть часов наш поезд был уже в Ленинграде.
Маму я увидел сразу, в окно.
— Ну, что папа? Как у него дела? — спрашивала мама, пока мы ехали домой.
Мы о его делах в Москве даже не разговаривали. Но я ответил:
— Хорошо.
— Твой папа очень хороший человек, — сказала мама. — Я его всю жизнь буду уважать. А ты тоже должен его любить, он твой отец.
И я подумал: «Наверно, они и не ссорились. Просто это мне показалось из-за глупостей Бабенкова. А мама плачет оттого, что ей тоскливо без папы».
* * *
Утром я сразу попал на изложение. О Москве.
Анна Григорьевна прочитала нам такой рассказ «Моя Москва», а мы все стали писать, что запомнили, как обычно.
Только свой рассказ автор, наверно, написал лет десять назад, потому что он о многом интересном не говорил.
А я написал про все, что видел. И о Царь-пушке в Кремле, и об Останкинской башне. Я оттуда наблюдал город. На сорок километров во все стороны видно, и лифт туда взлетает так быстро, как самолет. Я думал, мы еще на третьем этаже, а мы уже были на сто пятьдесят третьем. И о проспекте Калинина написал. Даже про робота на выставке вспомнил. Тот робот сначала кланяется и здоровается с посетителями, а потом поет, танцует и веселится.
Я сдал изложение уже после звонка и сразу начал переживать. А вдруг надо было написать только про то, что Анна Григорьевна прочитала. Она посмотрит мое изложение и объявит классу:
— У нас появился новый хвастун. Съездил в Москву на два дня и теперь хвастает.
Я и дома об этом думал, и на другое утро, когда шел в школу.
Анна Григорьевна наши изложения успела проверить и на первом уроке уже начала их раздавать.
А я все ждал: вот сейчас мое, сейчас до меня она дойдет и скажет.
Наконец я увидел свои странички, я их сразу узнал по почерку.
И Анна Григорьевна тут же заговорила.
— Очень интересная работа, — сказала она. — Ее написал Коля Кольцов. Пожалуй, это не изложение, а сочинение. Я с удовольствием его прочитала и сама узнала много интересного о Москве. Я даже директору, Екатерине Николаевне, ходила читать. И ей тоже оно понравилось.
Хотя Анна Григорьевна говорила одни хорошие слова, я все равно продолжал переживать.
* * *
В позапрошлое лето я чуть не утонул.
Мы тогда приехали на месяц в Молдавию, в деревню.
Наш дом стоял на берегу Днестра. В Днестре вода была всегда теплая, будто специально подогретая, но мутная. И течение было мощное. Если по горло зайдешь, то уже не устоять — сбивает с ног.
Но в одном месте была заводь со спокойной водой. У нашего берега течения почти не было, а у другого оно ускорялось, потом река делала поворот, а за поворотом неслась как бешеная, потому что там было узкое место и посередине — пороги.
В тот день я плавал по заводи на надувном матрасе. Папа под вишневым деревом что-то читал, а мама играла в бадминтон с соседкой.
И вдруг, когда я выплыл на середину и собирался поворачивать назад, кто-то с берега закричал диким голосом:
— Мальчик тонет!
Я даже оглянулся: может, помощь моя нужна?
Но вокруг в реке никто не тонул.
«Вот дураки — пугают зря!» — подумал я. И вдруг увидел, что мама бежит к воде и размахивает руками. И папа тоже отбросил книгу и бежит по берегу к повороту.
Только тут я понял; что кричали про меня.
Я греб уже изо всех сил к своему берегу, но матрас перестал слушаться: он стал разворачиваться — и его понесло течением туда, где были пороги.
— Держись! Держись за матрас крепче! — кричала мама из воды и плыла кролем вдогонку за мной.
— Маша, перестань! — закричал папа с берега. — Я возьму его на себя.
— Не прыгай, ты утонешь! — крикнула мама папе. — Я его догоню.
Но папа уже прыгнул с крутого берега в реку.
А я рулил изо всех сил, чтобы не напороться на главный порог, но мой матрас все равно несло на него.
По берегу бежали люди, двое прыгнули в лодку, все что-то кричали, но я уже их не слышал.
Тут с обеих сторон за матрас ухватились мама и папа.
— Разворачивай, разворачивай! — кричала мама папе.
А папа успокаивал меня:
— Держись, главное, держись крепче!
Мы понеслись с бешеной скоростью. Я уже не рулил, а только сжимал изо всех сил края матраса.
Потом в глаза и в нос мне ударила пена, и мы проскочили пороги.
Дальше снова было спокойное течение.
Вдруг на нас из порогов выскочила лодка. В ней сидели двое людей.
— Живы? — спросили они. — Помощь нужна?
— Маша, у тебя все в порядке? — спросил папа.
— Возьмите в лодку мужа, он ведь плавать едва умеет, — сказала мама.
— Что еще за выдумки, — обиделся папа, — уж до берега-то я доплыву.
А я лежал на матрасе и все еще не мог слова сказать, даже зубы у меня стучали, хоть и была жара.
— Ну что, испугался? — И мама засмеялась. — Не будешь соваться в следующий раз. И ты тоже, — стала ругать она папу. — Ну что ты доказал? Не умея плавать, бросается в реку. Не хватало мне еще вас обоих вытаскивать. О чем ты думал?
Мы уже выплыли на мель, и папе вода была по колено.
— Я тебя спрашиваю: ты-то о чем думал? — сказала в третий раз мама.
— Я не думал, — ответил папа. — Я в это время ни о чем не думал. Но ты видела — мой способ был все-таки проще, чем твой. Если рассчитать скорость, то с берега…
— Даже здесь у него математика! — перебила мама.
В следующие дни они водили меня за руку почти все время, а потом мама стала учить меня плавать по-настоящему, а не по-собачьи, как я умел раньше.
* * *
Когда папа много работал дома, мама играла только по утрам. Он уходил — она сразу садилась к пианино.
А теперь она стала играть иногда по полдня.
Несколько лет назад ее приглашали выступать с концертами, но она тогда отказалась. Потому что пришлось бы ездить по разным городам, а кто же о нас с папой стал бы заботиться?
Дома мама чаще всего играла Бетховена. А я всегда ждал, когда она начнет играть Моцарта или Шопена. Или Чайковского — я тоже любил слушать.
Сегодня она играла как раз Чайковского, а я все ждал, чтобы она скорей кончила.
Я никак не мог перестать думать о папе после разговора с Бабенковым. И глаза зажмуривал, и по лбу себя колотил кулаками — не помогало.
Наконец она кончила играть, и я встал со своего дивана, чтобы пойти к ней в комнату и спросить. Обо всем, что говорил Бабенков.
Я уже подошел к двери, и вдруг услышал, что она плачет.
Я хотел назад вернуться, но дверь скрипнула, и мама сразу дернулась, отвернулась от меня и спросила:
— Тебе что-нибудь надо?
— Ничего, — сказал я тихо и вернулся к себе.
Последние дни была жара.
В школу мы ходили без пальто, а в классах даже сидели с открытыми окнами.
Анна Григорьевна сказала, что мы всю программу прошли — и теперь последние дни можно заняться внеклассным чтением.
На ее уроках мы по очереди читали вслух книгу писателя Арро «Вот моя деревня».
А потом кончился последний урок и начались каникулы.
Этих каникул так ждешь, а как наступят, не знаешь, чем и заняться.
Был бы Гриша Алексеенко, мы бы с ним сделали моторный самолет — у него была книга, и в ней все подробно рассказывалось: как и из чего делать.
Но Гриша сразу уехал.
И я весь день гулял около дома один, потому что мама была на занятиях.
Однажды на нашей улице остановился грузовик. Из него вышли двое людей, вытащили из-под сиденья домкрат и стали менять колесо.
— Это надо же такому случиться! — повторял один.
— Ничего, поставим запаску и наверстаем, — утешал его второй, — время есть.
Я стоял около них и смотрел, как они работают.
И вдруг второй тоже начал меня рассматривать.
— Тебя не Коля ли зовут? — спросил он.
— Коля.
— Здравствуй. Я же Федор Матвеевич. Ну что, поедем смотреть птичек?
А я сразу его вспомнил, еще когда он не сказал про птиц. Это с ним мы ехали в электричке, и он потом звонил, приглашал к себе.
— Сейчас ты нам попить принесешь. Ты ведь живешь здесь?
— Рядом, — сказал я.
Я сбегал домой, налил полбидончика гриба из банки, как раз вкусный был гриб, взял чашку и все принес Федору Матвеевичу.
— Ты нас просто спас, — сказал Федор Матвеевич, — мы бы тут умерли от жажды, и машину бросать нельзя. А вкуснота какая, — сказал он, когда выпил гриб. — Научим его в награду водить машину?
— Пусть в кабину лезет, — ответил друг. — Только вы осторожно.
Я залез в кабину, сел за руль, а Федор Матвеевич — рядом. И он стал мне объяснять, как машиной управляют:
— Эта педаль — сцепление, а рядом — ножной тормоз. Ручной тоже есть — вот этот рычаг, он применяется на стоянках.
Он мне раза три объяснял, с чего начинается езда: поворачиваешь ключ зажигания, ставишь нужную передачу, снимаешь тормоз, чуть отпускаешь сцепление, подаешь машину вперед.
Я держался за широкий руль и представлял, как стремительно еду по шоссе.
Потом Федор Матвеевич снова помогал другу, потом они сходили к нам помыться.
— А главное — научиться мгновенно тормозить, — говорил Федор Матвеевич. — Борцу важно уметь правильно падать, а шоферу — мгновенно тормозить.
Они еще два раза прокатили меня по нашей улице. Я сидел между ними, и один раз даже сам нажал на стояночный тормоз.
Потом они поехали туда, где их ждали, а я пошел домой.
— Ты маме передай привет, не забудь, — попросил Федор Матвеевич.
* * *
В этом году все говорили, что наступила ранняя весна.
Даже диктор по радио каждое утро рассказывал, где уже посеяли хлеб, а где начали сеять на десять дней раньше, чем в прошлом году.
И в парке тоже земля высохла, на кустах проросли светлые листочки.
Я специально пошел в тот парк, думал — вдруг увижу Степана Константиновича с Барри и со Светой.
И правда — только я подошел к парку, как сразу увидел Барри.
С ним гуляла Света.
Барри меня сразу узнал. Сначала обнюхал, а потом лизнул руку.
Мы стали играть в прятки.
Света от него пряталась за скамейку или за дерево, и я говорил:
— Ищи Свету!
И Барри сразу бросался нюхать ее следы на тропинках, бегал по старым прошлогодним листьям между деревьями, а потом мчался прямо по следу к тому месту, где пряталась Света.
Потом я попробовал спрятаться, думал, что он меня еще не так хорошо знает, может быть, и не найдет.
Я спрятался в большой ящик, туда складывали метелки и совки. В этом ящике я сидел скрючившись, крышка была закрыта, но все было видно в щелку между досками.
Света говорила:
— Коля! Коля! Ищи Колю.
И Барри забегал по тропинке, нашел мой след, сразу побежал к ящику, встал на него ногами и залаял.
Он бегал, высунув язык, громко дышал, а изо рта у него шел пар.
Потом он увидел большую лужу и стал из нее пить.
А с языка у него падали тяжелые капли.
— Это любимая его лужа, он из нее всегда пьет, когда бегает по парку, — сказала Света.
А потом мы перевели его через дорогу и я пошел домой.
— Приходи завтра играть, — сказала Света.
Я шел домой и пел разные веселые песни.
* * *
Гриша Алексеенко уже вернулся от бабушки из деревни, а я все был в городе.
Мы решили сделать большой корабль и отправить его в плавание по Балтийскому морю.
Этот корабль мы уже давно собирались начать. Нашли хорошую доску около забора, кусок жести для киля.
А я взял у мамы рукав от старого плаща «болонья», из него можно было сделать непромокаемый парус.
Погода была такая теплая, что и в куртке стало жарко.
Гриша вынес из квартиры ножовку, топорики, два ножа; мы все разложили около его дома на скамейке и работали часа два.
Разные люди к нам подходили, интересовались, чем это мы занимаемся, давали полезные советы, а один принес даже медные гвозди, чтобы ими украсить палубу. Ведь железные — заржавеют после дня плавания, а медные долго будут красивыми.
* * *
Через несколько дней корабль мы построили. И мачты закрепили, чтобы они не шатались даже при штормовом ветре. И паруса пришили.
Потом мы испытали корабль в ванне. В ванне было ему тесно: он за две секунды проходил всю свободную воду, когда мы начинали дуть в паруса.
В корабле был один секрет. Мы сделали как бы трюм, а туда вложили записку:
«Всех, кто найдет этот корабль в Балтийском море или в Атлантическом океане, просим написать нам по адресу…»
И дальше были наши адреса и наши подписи: «Ученики 4-го «а» класса 105-й школы Алексеенко Григорий и Кольцов Николай».
Эту записку мы завернули в алюминиевую фольгу, фольгу — в полиэтилен, а полиэтилен — снова в фольгу. И закрепили в трюме.
На другой день мы вместе с Гришиным братом-десятиклассником поехали на Кировские острова.
Гриша взял с собой бинокль. Это был настоящий военный бинокль, его Гришин дедушка привез с фронта как трофей.
У бинокля и краска была обтерта, а на коричневом кожаном футляре даже дырка от пули. Та пуля пробила футляр насквозь, пробила шинель Гришиного деда, а самого деда только поцарапала.
На Кировских островах было пусто, не то что по воскресеньям. Только матери катали в колясках детей да женщины высаживали в клумбы цветы из низких ящиков с рассадой.
Мы втроем дошли до Стрелки, туда, где стоят львы с каменными шарами. Там мы сошли по ступенькам вниз и торжественно спустили наш корабль.
Он сразу заколыхался на волне, потом задул ветер — и корабль быстро понесся в сторону моря.
Мы долго наблюдали за ним в бинокль.
Простыми, невооруженными глазами его уже было не видно.
Рядом с нами на ступеньках около каменных львов собрались люди и тоже стали смотреть в ту сторону, куда глядели мы. Некоторые просили у нас бинокль и разглядывали корабль.
Потом корабль совсем скрылся за волнами.
* * *
А через несколько дней я поехал в лагерь.
Глава третья
Мы приехали на вокзал почти на час раньше и сначала сидели на скамейке, ели мороженое.
Потом пошли искать, где собирается наш лагерь.
— Ты, главное, не ходи без разрешения купаться, — советовала мне мама. — А если кто задираться начнет — дай сдачи. Я знаю, иногда в коллективе встречаются такие хулиганы, которые всех себе подчинить хотят, так ты им не подчиняйся.
У начала платформы стояли родители и дети. Человек в физкультурном костюме держал флажок.
— Это наш лагерь, — сказала мама и пошла отмечать меня в списке.
Вдруг в стороне я увидел огромную собаку. И сразу понял, что это — Барри.
А рядом с Барри стояли Света, и отец ее, и мама.
— Света! — закричал я. — А я в лагерь еду.
И я подбежал к ним.
— Света тоже едет в лагерь, — сказала ее мама.
— Здорово! Ты куда едешь? — спросил я.
— В Сосново.
— И я в Сосново!
— Честно? — удивилась она.
— Мы в один лагерь едем! — Я даже засмеялся от радости. — Может, мы в одном отряде будем?
— Обязательно в одном, — сказал Степан Петрович, — мы уже отметились.
Скоро нас стали строить, а родителей отодвинули в сторону.
Мы, и правда, оказались в одном отряде.
Ко мне подошла мамина знакомая. Она подвела маленького мальчика.
— Здравствуй, — сказала она мне. — Это Игорек, он тоже едет в лагерь. Ты за ним присмотришь, Коля?
— Ладно, — сказал я.
— А ты, Игорек, слушайся Колю, понял?
Игорек кивнул головой.
Тут мы все стали садиться в вагоны.
Игорек пошел не со своим малышовым отрядом, а с нами.
Мы так и сели: у окна Игорек, я — рядом, а напротив — Света.
Мы еще помахали родителям, Света даже Барри позвала, и ему все дали дорогу к окну.
Он встал у вагона на задние лапы, а мы со Светой его погладили.
Вдруг все родители отошли от вагона, двери захлопнулись автоматически, и поезд тронулся.
Я посмотрел на Игорька и увидел, что он хочет заплакать.
Мне тоже грустно стало, и Свете, наверно. Но я, чтоб Игорек не заплакал, достал из кармана ириски и протянул ему. И соседей угостил тоже, а они нас.
С краю сидела толстая девчонка. Она достала яйцо, очистила его и целиком засунула в рот. А потом сразу достала второе яйцо и тоже съела.
Света сказала:
— Я сразу догадалась, что мы вместе едем, когда тебя увидела.
* * *
Когда мы сошли с поезда и стали строиться по отрядам, Игорек взял меня за руку и встал рядом со мной.
Он так и стоял вместе со мной, уцепившись за мою руку.
Тут к нам подошел пионервожатый.
— Братец твой младший? — спросил он про Игорька.
— Нет, — ответил я. — Его мама велела за ним присмотреть.
— За ним и в его отряде неплохо присмотрят, — сказал пионервожатый, взял Игорька за плечи и отвел в малышовый отряд.
* * *
Нас распределили по палатам, и я занял кровать рядом с окном. У меня в палате были еще три соседа. У одного на чемоданчике была написана фамилия «Евдокимов», у другого — «Корнилов». У третьего на чемоданчике фамилии не было, и я не знал, как его зовут.
Я сел на свою кровать, и ко мне сразу подошел Евдокимов.
— Хочешь на второй этаж переселиться? — спросил он.
— Не хочу, — удивился я.
— Мы тут — футбольная команда, мы в прошлом году тоже в этой палате жили, а сейчас один наш наверху. Поменяйся с ним, а?
Я не знал, как это я стану вдруг меняться, раз меня сюда, в эту палату, воспитатель записал, и молчал.
— Ну чего он, не согласен? — спросил Корнилов.
— Не хочет.
— Ну и дурак. Ему же хуже будет, если ему вся палата бойкот объявит.
Я молчал.
— Понял, мы тебе объявляем бойкот, — сказал Корнилов. — Ты не хочешь по-человечески, и мы не будем по-человечески.
После обеда, когда мы пришли на тихий час, со мной в палате уже никто не разговаривал. Я даже так и не узнал фамилию третьего соседа. Если бы я им сказал что-нибудь, они бы все равно мне не ответили, и поэтому я тоже молчал. Друг с другом они все время говорили и смеялись, и анекдоты рассказывали.
А я лежал, отвернувшись к стене. Теперь, даже если бы я захотел меняться, они бы все равно, наверное, не согласились.
— Давай ночью мы этого водой обольем, вот смеху будет! — сказал Евдокимов, и я понял, что это он говорит про меня.
* * *
После полдника мы гуляли по лагерю, кто где хотел.
Игорек был со своими малышами, Света тоже куда-то исчезла. А я нечаянно подошел к столовой.
Когда я подходил, я даже не думал, что через пять минут там все так произойдет.
Наша столовая была на горе. Под гору между соснами спускалась дорога. А внизу на поляне играли малыши, Игорек тоже был там.
Как раз когда я подходил к столовой, снизу на гору въезжал грузовик. Он громко рычал двигателем и сигналил на полную мощь. Точно такой, как тот, которым я учился управлять. Грузовик остановился около столовой, из кабины вышел шофер с листками бумаги, оглянулся и сказал нам строго:
— В кабину, ребята, не лазайте. Уши пооборву, если кого поймаю.
Нас там было всего трое человек, и мы в кабину лазать не собирались.
Шофер побежал в столовую, а я уже хотел идти вниз, под гору, поискать Свету и вдруг заметил, что машина тихо-тихо едет.
Она двигалась совсем незаметно, это только по колесам было видно, я и взглянул на них нечаянно, а так бы не заметил.
А колеса поворачивались уже быстрей.
И я сразу понял, что только в эту минуту машина движется незаметно. А сейчас гора будет круче, машина начнет разгоняться, двигатель у нее выключен, а тормоз, наверное, ослаб. И она с огромной скоростью, но бесшумно, с выключенным мотором понесется по дороге вниз, а там внизу между сосен играют малыши. И она врежется прямо в них, в малышей. Дальше я уже ничего не думал, потому что колеса поворачивались еще быстрее. А дверь кабины была приоткрыта.
В это время от столовой закричал шофер.
— Ребята! — кричал он играющим под горой малышам. — Ребята! Уйдите! Уйдите!
Я вскочил на подножку, больно ударил колено, но на колено было мне наплевать.
Машина уже разгонялась по-настоящему. А под колесами хрустели песок и мелкие камни.
Шофер продолжал кричать что-то плачущим голосом и бежал за машиной.
Я пролез в кабину, схватился за рычаг ручного тормоза и точно так, как учил Федор Матвеевич, дернул его изо всех сил на себя.
Машина еще протащилась немного вниз и остановилась. Я слышал, как скрипели задние колеса. Машина стояла, но я все равно держался обеими руками за рычаг тормоза и не отпускал.
Сквозь стекло я смотрел вниз. Внизу играли малыши, они даже не замечали мою машину. И под сосной, спиной к нам, сидела их воспитательница. Она тоже не замечала. А я смотрел на них сквозь запылившееся стекло и держал, не отпускал тормоз.
Тут ко мне подбежал шофер и те двое, которые раньше были около столовой. Один из двоих был Евдокимов.
Я подумал, что сейчас шофер станет меня ругать за то, что я залез в машину без разрешения. Или еще решит, будто я сам снял тормоз и из-за меня она поехала.
Но шофер вдруг схватил себя за голову и сел на подножку.
— Милый, — сказал шофер. — Ой, я дурак. Ой, дурак. Знал же я, что тормоза ослабли, а не проверил. Ой, дурак.
Я все еще стоял у руля и держался за рычаг.
— Ну какое тебе спасибо сказать? Хочешь, я на колени встану? Или конфет кило куплю, хочешь?
Я не знал, что отвечать.
Потом он влез в кабину, а я сел у другой двери.
Он повернул ключ, включил зажигание и осторожно задним ходом снова подвел машину к столовой.
— Хорошо, что уклон небольшой, — сказал он мне, — пришлось бы съезжать, а потом разворачиваться, чтоб снова наверх.
Тут вышла из столовой повар, и шофер у нее спросил:
— Где директор помещается?
Повар показала где.
— Пойдем, милый, — сказал шофер, — пойдем. Я о тебе доложу директору. У тебя отец шоферит или брат? Кто тебя научил-то?
— Знакомые, — сказал я.
— Знакомые? — И шофер засмеялся. — Спасибо им, твоим знакомым. У меня руки — во, видишь — до сих пор трясутся, как я вышел из столовой, смотрю: а она под гору идет.
У директора в кабинете был старший пионервожатый, и они громко разговаривали о чем-то важном.
Когда шофер вошел, директор даже посмотрел на него недовольно и спросил:
— В чем дело? Вы извините, я занят.
Но шофер сразу ответил:
— Я тоже занят, товарищ директор. Мне еще надо в пищеторг съездить… Я вот привел парнишку…
Я в это время стоял за дверью.
— Иди, сюда, — позвал шофер, — не стесняйся.
И я вошел.
— Этого парнишку я должен до смерти благодарить, и вы тоже, товарищ директор, можете в ноги ему поклониться.
— В чем все-таки дело? — спросил директор удивленно.
И шофер стал ему рассказывать.
А я все еще боялся, что меня будут за что-нибудь ругать, и стоял, опустив голову.
— Мальчик-то молодец, а с вами мне как теперь быть, уважаемый? — строго сказал директор. — Неужели наказывать в первый же день?
— Я потому сам и пришел.
— Ладно, попробую вас простить. — И директор повернулся ко мне. — Ты из третьего отряда?
— Из третьего.
— Спасибо тебе, — сказал директор. — Я знал, что у меня в лагере подобрался очень хороший состав. Беги играй. И знаешь, что… — Тут он задумался. — Ладно, ничего. Еще раз тебе спасибо.
После ужина меня остановили взрослые ребята из первого отряда.
— Ты машину на тормоза поставил?
— Я, — сказал я.
— Смотри! — удивились они. — Мы думали, кто другой.
Потом меня спросила Света:
— Девочки говорят, что ты на полном ходу грузовик затормозил?
— Затормозил, — ответил я, — только не на полном, он как раз разгоняться начал.
— Здорово, — обрадовалась Света, — вот повезло.
* * *
— Ну, ты переселишься или как? — спросил меня Евдокимов после отбоя.
И я уже хотел сказать, что согласен, переселюсь.
— Ладно, пусть остается, — вдруг проговорил Корнилов. — Хочешь в нашей команде играть?
— Хочу, — обрадовался я.
— Завтра тренировка.
* * *
Первая тренировка у нас была после завтрака.
В футбол хотели играть многие, но Корнилов их не записал, а меня записал. Мы разделились на две команды. Я стал на защиту. А Корнилов — нападающим.
Он бегал по полю и громко командовал — кому наступать, кому перепасовывать, а кому защищать ворота. Я тоже бегал по полю изо всех сил, но по мячу ударял редко. Зато один раз поймал мяч у самых наших ворот. Вратарь был в другой стороне. А мяч летел по воздуху в ворота. И я схватил его руками. Я прижал его к себе, он был крепкий, кожа у него шершавая, слегка мокрая, с прилипшими песчинками.
— Молодец, Колька! Молодец! — кричал Корнилов.
За то, что я схватил руками мяч, нам пробили штрафной, но в ворота не попали.
Потом мы всем отрядом пошли на озеро купаться.
Купальня была недалеко за лесом. Этот лес тоже был лагерной территорией. Огромные сосны и ели, а между ними — черника с зелеными ягодами. Но у некоторых ягод были уже красные бока.
— Скоро созреет, поедим — все губы будут черные, — сказал Евдокимов, — правда, Корнилов?
— Поедим, — согласился Корнилов.
— А я записалась в художественную гимнастику, — сказала мне Света. — Ты умеешь плавать? — спросила она меня.
— Конечно. Мы с мамой один раз даже реку переплывали.
— Я тоже умею.
Через минуту Евдокимов уже залез по плечи, так что только голова торчала, и звал всех:
— Плывите сюда, здесь дно хорошее.
Но многие не умели плавать и плескались у берега. А мы со Светой поплыли к краю купальни.
— Неумеющим плавать выйти из воды и построиться, — скомандовал физрук. — Сейчас я вас буду учить.
Все неумеющие вышли. А Корнилов так и стоял в озере. Вода ему была по колено. Он не плескался, не брызгался, а стоял просто так.
Сначала, когда только входишь, вода всегда кажется холодной, даже ноги поджимаешь. И трудно дышать, пока не окунешься. А как окунешься и поплывешь, сразу холод проходит и становится приятно и весело.
Я и на спинке умел плавать, и стилем полукроль. Это так мама назвала мой стиль в прошлое лето, когда учила меня кролю, а у меня плохо получался выдох в воду.
Света тоже плыла быстро, и мы с ней плавали взад и вперед у самой границы купальни.
А Корнилов все стоял по колено в воде у берега.
— Корнилов, ты мне честно скажи, умеешь ты плавать или нет? — крикнул ему физрук.
Корнилов что-то ответил.
— Не понял — умеешь или не умеешь?
— Умею, но не очень, — сказал Корнилов.
— Тогда вылезай. Назначаю тебя старостой в группе обучающихся. Будешь моим заместителем.
Корнилов сразу вылез на берег и пошел.
А мы со Светой поплыли на другую сторону купальни.
* * *
В тихий час мы не спали, а просто лежали на кроватях и разговаривали.
— Ты где так плавать научился? — спросил Корнилов. — Тебя родители в бассейн записали?
— Нет. Я в позапрошлое лето на Днестре чуть не утонул — и мама стала меня учить.
— Я тоже раньше умел, а сейчас подзабыл, тело плавучесть потеряло.
— Хорошо, что мы Кольку у нас оставили, правда? — спросил Евдокимов.
* * *
На спортивной площадке повесили канат, и мы стали по нему лазать.
Все долезали до половины, даже Евдокимов с Корниловым, а потом спускались.
— Не был бы скользкий, я бы запросто до верха долез, — сказал Корнилов.
Когда дошла до меня очередь, я тоже думал, что доберусь до середины — и хорошо.
Я забрался уже на середину, внизу стояли ребята и смотрели на меня, а силы у меня еще были. И я полез дальше. И долез до самого верха.
Я даже дотронулся до деревянного бревна, к которому канат был прикреплен. И мне не хотелось слезать так сразу вниз.
В это время мимо шел начальник лагеря. Он тоже заметил меня.
— Это кто же так хорошо лазает по канату? — сказал он. — Это Кольцов из третьего отряда забрался? Молодцы, ребята. Только не расшибитесь.
И он пошел дальше.
* * *
Мы уже прожили в лагере три дня.
После полдника мы со Светой ходили по территории, собирали в ведро сосновые шишки, чтобы выложить ими дорожки, и вдруг по радио объявили:
— Кольцова Колю вызывает старший пионервожатый.
Сначала мы не расслышали, потому что разговаривали. Но радио, которое висело рядом на сосне, повторило снова:
— Коля Кольцов из третьего отряда, тебя вызывает старший пионервожатый.
Я побежал быстрей в главный корпус, оставил ведро с шишками Свете, а сам все думал на бегу, зачем меня вызывают.
У главного корпуса рядом со старшим пионервожатым я увидел маму.
И так удивился, что она приехала не в родительский день, что даже ничего не сказал, а подбежал и остановился рядом.
— Что же ты не здороваешься со своей мамой? — проговорил старший пионервожатый.
— С мамой здороваться не обязательно, — сказала мама и улыбнулась. — Ну, приехала с тобой прощаться.
— Почему? — тихо спросил я.
— Понимаешь, как бы тебе объяснить… Я решила съездить в горы, в альпинистский лагерь. Я раньше альпинизмом занималась, вот и решила…
— А я? — спросил я.
— А ты здесь поживешь.
— Мама в альпинистском лагере, сын — в пионерском, — пошутил старший пионервожатый, — папу еще куда-нибудь.
— Отец в командировке, в Москве, — сказала мама. — Я ему написала. Он, как вернется, сразу заедет к тебе.
Я молчал.
— Ну, что ты такой грустный? Если очень не хочешь, я не поеду, останусь в городе. Только что мне в городе одной делать. Экзамены через три дня кончатся…
Я не отвечал.
— Ну как, оставаться мне или ехать? Скажи.
— Ехать, — сказал я тихо.
— Ты не огорчайся, тебя обязательно будут навещать. Я позвоню кому-нибудь, кто в городе.
— У нас родительский день в следующее воскресенье, — сказал старший пионервожатый.
— Тебя навестят. И конфет привезут, апельсины.
— Хорошо, — сказал я.
— Ну вот видишь. Спасибо тебе, я так давно не была в горах.
Мама еще побыла полчаса, отдала мне кулек с конфетами, вафли и уехала.
А я остался один.
Я даже не успел показать ей, как лазаю по канату.
Весь отряд был где-то в лесу. Я понес кульки на дачу.
Вывалил конфеты на кровать. Но не хотелось их мне есть.
Где-то бегали ребята и громко кричали, смеялись. Я даже слышал голос Корнилова.
— Вперед! — командовал Корнилов. — Давай, давай!
А я сидел на крыльце около пустой дачи, и не хотелось мне никуда идти.
* * *
В родительский день перед завтраком играла музыка.
Мы еще завтракали, а некоторые родители уже приехали и заглядывали в окна столовой, — наверно, проверяли, чем кормят их детей.
— Ко мне тетя приедет, мамина сестра, — сказала Света.
— А ко мне никто, — сказал я, — я один буду ходить весь день.
— Любишь раковые шейки? Мне их обязательно привезут, это мои самые любимые конфеты. Я тебе сразу отнесу, чтобы ты не скучал.
Скоро родители бродили по всей территории. Некоторые сидели на скамейках, накрывали головы газетой и жевали всякую еду.
Отец Корнилова колол грецкие орехи двумя булыжниками. Рядом стояли родственники Корнилова, их было человек десять, может, двенадцать.
«Кончится торжественная линейка, — подумал я, — и убегу куда-нибудь, спрячусь».
Не хотелось мне смотреть на чужих родителей.
Мы все переоделись в парадную форму и выстроились на линейку.
Начальник лагеря стоял на трибуне. И вдруг он стал как-то странно на меня смотреть. Покосится в сторону, а потом снова на меня.
Я подумал, что у меня съехал галстук на плечо, или еще что-нибудь не в порядке. Но все было в порядке. А начальник лагеря не только сам смотрел на меня, он еще старшему пионервожатому указал на меня, и тот кивнул головой.
Я решил, что это мне только кажется. Бывает — удивляешься: почему вдруг незнакомый человек тебе кивает и улыбается? Со мной так происходило несколько раз. Я даже в ответ сам начинал улыбаться и тоже кивал. А потом оглядывался — вовсе и не со мной здороваются, а с другим, и вот они уже весело заговорили, а я иду и глупо себя чувствую. И сейчас все могло быть так же.
Но вдруг старший пионервожатый громко объявил:
— Право поднять флаг на торжественной линейке предоставляется пионерке первого отряда Азизовой и пионеру третьего отряда Кольцову.
И я сразу, как будто был всегда готов, как будто каждое утро поднимал флаг, пошел четким шагом мимо строя всего лагеря к высокой мачте. Потом, посередине пути, я нечаянно подумал, что у меня колено разбито и все на него смотрят. Зря я так подумал, потому что сразу споткнулся и чуть не упал, кто-то даже хихикнул.
Но вот мы подошли к мачте и взялись за шнур. Рядом с нами плескался красный флаг, это мы должны были поднять его высоко на мачту. Все стали смирно, затрубил горн, забил барабан. Мы потянули шнур, флаг пошел вверх и вдруг посередине мачты остановился. Мы стали дергать и тянуть шнур, но он только больше заматывался около флага со вторым шнуром, и ничего у нас не получалось.
А все по-прежнему стояли смирно, и трубил горн, и бил барабан.
— Сильнее! Сильнее дергайте! — сказал громким шепотом начальник лагеря с трибуны.
Мы дергали, но шнур не расправлялся.
Барабан замолчал, и горн тоже.
«Эх я, — думал я, — даже флаг поднять не сумел».
— Ну что теперь делать? — сказала Азизова, чуть не плача.
Все на нас смотрели, весь лагерь и родителей огромная толпа. А начальник лагеря расстроенно махнул рукой и сказал:
— Ладно. Только не ревите. Бросайте это дело и идите спокойно в строй.
И тут я полез на мачту.
Я об этом сразу подумал, когда увидел, что шнур заматывается около флага. Там не очень и высоко было — посередине. Если на канат забрался до самого верха, то и здесь можно, здесь почти такая же высота — посередине мачты, только она скользкая.
Я сбросил сандалии, подпрыгнул и полез.
— Ты что выдумал! Слезай! Немедленно слезай! — негромко, но сердито проговорил старший пионервожатый.
— Ладно уж, не мешайте, если и свалится, не разобьется, — тоже тихо сказал ему начальник лагеря с трибуны.
Дальше я уже никого не слышал, потому что силы у меня почти кончились, а надо было их еще чуть-чуть, чтобы подняться до места, где замотался шнур. И я прикусил губы, уперся ногами изо всех сил, еще приподнялся. Потом еще. Ну, чуть-чуть! Оставалось так мало. А сил уже не было. Я даже заплакал. Поднялся еще немного. Все. Теперь надо было держаться одной правой рукой и ногами, а левой — расправлять шнур. Мачта качалась и скрипела. Я обнял ее правой рукой изо всех сил, прижался животом и грудью, и ногами к гладкому дереву, а левой рукой поймал шнур и стал расправлять… Тут подул ветер, и шнур выскочил у меня из руки. Я его снова поймал, расправил наконец все. И тут у меня кончились последние силы.
— Руками перебирай, руками! — закричал начальник. — Иначе кожу порвешь.
Он сбежал с трибуны и встал под мачтой.
Меня уже тянуло вниз вовсю, и я съезжал, а потом отпустил руки и ноги и упал прямо рядом с начальником лагеря носом в песок. Он меня все-таки поддержал, а то я бы сильнее носом ударился и обязательно бы разбил.
Все кричали «ура». Вся линейка и родители. Бил барабан. Начальник лагеря стоял уже на трибуне, хохотал и хлопал в ладоши. Азизова из первого отряда поднимала флаг, а я стоял рядом с ней и все старался не заплакать. Старые слезы — те, которые вытекли у меня из глаз, когда я был на мачте, наверно, высохли, их заметно не было.
Потом начальник лагеря наклонился с трибуны ко мне и спросил:
— Ты-то живой?
— Живой, — сказал я.
Все еще продолжали кричать «ура» и радоваться. А флаг был уже на самой вершине мачты.
Тут начальник лагеря поднял руку, все стали успокаиваться.
— Я не зря выбрал для торжественного подъема флага Колю Кольцова. Он нам это только что доказал. Скажем Коле наше спасибо.
И весь лагерь хором сказал:
— Спа-си-бо!
Потом я пошел к своему отряду и встал в строй.
* * *
К Евдокимову родители приехали, к Корнилову приехали, даже к нашему пионервожатому приехали, а ко мне нет.
Вокруг Корнилова ходила толпа людей, все его родственники. Они фотографировались рядом с ним по очереди у беседки.
Света ходила с девушкой-студенткой. Это была ее тетя. Она привезла апельсины, ватрушку и конфеты «Раковая шейка».
— Ты что все оглядываешься? — удивлялась студентка-тетя, когда они сели на скамейку и тетя стала уговаривать Свету съесть апельсин с ватрушкой.
— Я Колю ищу, он в Ленинграде рядом с нами живет.
— Это такой розовощекий крепыш, у него всегда не хватает на пальто пуговиц?
— Он, — сказала Света.
Эту тетю я видел в Ленинграде всего только раз, и пуговицу я тогда сам оторвал, чтобы она не висела на одной нитке и не болталась. Я ее положил в карман, а мама вечером пришила.
— Почему же к нему никто не приехал? — спросила студентка-тетя.
Я слушал весь их разговор, потому что сидел на скамейке в кустах недалеко от них. И вставать теперь было нельзя, они бы сразу меня заметили и подумали бы, что я специально сидел, подслушивал:
— Говорят, у него мама с папой поссорились? — спросила тетя-студентка.
Света что-то ответила, я это не расслышал, потому что вздрогнул, когда тетя сказала про моих родителей. Мне даже хотелось выйти и объяснить, что ничего они не ссорились, а просто папа в Москве, в командировке, а мама — в альпинистском лагере. И нечего распускать всякие слухи.
Но тут Света сказала:
— Он сегодня на верх мачты залез, мы с девочками так переживали, я чуть не заплакала.
— Кто ему разрешил туда лазать? — удивилась тетя-студентка.
— Начальник лагеря. Там застрял флаг, и Коля полез. А я так волновалась, у меня даже сердце замирало.
Тут уж мне стало совсем невозможно подслушивать. Потому что такие разговоры подслушивать нельзя. И я полез между кустами, выполз на дорожку и побежал к нашей даче.
Всех пионеров стали отпускать под расписку с родителями до обеда.
Около дачи ко мне подошел Корнилов.
— Купаться иду с родственниками. Пошли с нами?
— Не пустят. Это ведь твои родственники.
— А мы под расписку. Держи конфету.
Конфету я взял, но с родственниками Корнилова не пошел. Я все-таки надеялся: вдруг ко мне папа из Москвы приедет. Приедет, а меня на территории нет. Он поищет-поищет, да и назад в Москву. Поэтому я решил сидеть около дачи и никуда не отходить.
Ко мне подошла Света. Она угостила ватрушкой и конфетами. Но с ее тетей я бы ни за что и не пошел.
Скоро в лагере стало пусто и тихо.
Я сидел у крыльца дачи, читал книжку. Эта книжка про школьника, который очень хотел поехать на зимние каникулы к другу в Сиверскую. И старался все делать так, как лучше, чтобы его наверняка пустили. Но ему постоянно не везло, потому что его поступки не понимали: и дома, и в школе. Он думал, что делает все, как лучше, а получалось, как хуже. Мне казалось, что эта книжка написана про меня, хоть героя зовут не так, и учится он в другой школе и на класс старше, а все равно мне казалось, что автор подсмотрел мою жизнь и изобразил.
Мне так уже несколько раз казалось, когда я читал разные книжки. И всегда хотелось такую книжку перечитать снова.
Книжка была грустная, и мне стало совсем грустно. Я уже не читал, а просто думал про свою жизнь и жалел самого себя.
Мама уехала в альпинистский лагерь. Папа в Москве. А я — один. И наверно, не очень-то я нужен им. Сам по себе.
По лесу ехал грузовик. Я смотрел на него, как он переваливается на неровной дороге, медленно движется к нашему лагерю. Вот он остановился у ворот. Из кабины вышел человек и прошел в калитку. А грузовик так и остался стоять там.
Я снова взялся читать книжку.
Потом я услышал сзади тихие шаги, но не подумал о них. Просто услышал — и все.
Вдруг кто-то закрыл мне глаза ладонями.
— Корнилов, пусти! — сказал я. — Видишь, книжку читаю.
Но человек не отпускал. Он громко дышал мне в затылок и крепко держал мою голову.
«Вдруг папа!» — подумал я и сразу обрадовался. Но тут же подумал, что папа такие шутки не делает.
— А вот и не Корнилов, — сказал человек. — Не Корнилов, а Федор Матвеевич.
И я сразу его узнал.
Он меня отпустил и спросил:
— Ну, что ты тут делаешь? Дежуришь по даче?
— Читаю.
— Читаешь? Грустно тебе одному.
— Да нет, — сказал я, — мама в альпинистский лагерь…
И тут я вдруг подумал о Федоре Матвеевиче: как он здесь оказался?
— А я приехал к тебе. Мы ездили с другом, вон его машина стоит. Дай, думаю, к тебе на пять минут загляну. Нельзя ведь, чтобы к человеку никто не приезжал. Вот тебе передача. Мама твоя сказала, что ты любишь «Золотой ключик», ириски. Верно?
— Люблю.
— Ну вот. Полкило хватит? С ребятами поделишься. Купаться почему не пошел?
— Не хочется, я тут читаю.
— Ребята не обижают?
— Нет. Я сегодня достал флаг с середины мачты.
— Правильно сделал. Не болел? Руки-ноги здоровы?
— Здоровы.
— Кормят хорошо?
— Хорошо.
— Я тебя специально расспрашиваю, потому что твоя мама завтра мне позвонит и будет так же расспрашивать меня.
Внизу, у входа в лагерь, засигналил грузовик.
— Нервничает, видишь, торопит. Ну, ты прости, что я на минутку, — сказал Федор Матвеевич. — Я побегу. Я еще сегодня работаю в вечер. — И он сунул мне записку. — Это адрес альпинистского лагеря. Напиши туда письмо, хоть три слова — жив, здоров и веселюсь. Деньги на марку есть?
— Есть, — сказал я, — мне мама два рубля дала.
Грузовик снова засигналил.
— Ну, я побежал. Ты тут не грусти.
И он побежал мимо сосен под гору, напрямик к выходу.
Я видел, как он подбежал к грузовику, посмотрел на наш лагерь — наверно, меня искал, — вскочил в кабину, и грузовик поехал.
* * *
Около дачи малышей кто-то оборвал все цветы.
Цветы только что распустились, а теперь клумбы снова стояли голые.
А воспитательница решила, что это Игорек оборвал. Она вышла из дачи и видит: Игорек несет два цветка.
Она схватила Игорька за руку и повела его к начальнику лагеря.
А я увидел, что Игорька куда-то ведут, и пошел следом. Игорек громко плакал.
— Это не я! Это не я! — кричал он.
Но воспитательница тащила его за руку к начальнику, будто не слышала.
Начальник стоял около главного здания.
— Вот, полюбуйтесь, — сказала воспитательница, — все цветы около дачи оборвал.
— Зачем же ты это сделал? — спросил удивленный начальник.
А Игорек даже хрипел от плача.
— Это не я! — продолжал кричать он.
— Кто же тогда, если не ты? У тебя ведь были цветки? — И воспитательница показала два мятых тюльпана.
— Я их на земле нашел, — плакал Игорек.
— Это правда не он, — сказал я, хоть и не знал — кто. — Цветы, наверно, украли — все клумбы оборваны, а на земле — несколько цветов.
— Заступник еще нашелся. Ты, пожалуйста, иди в свой отряд.
— Подождите, — сказал начальник лагеря, — этому мальчику можно верить. Ты точно знаешь, что не он оборвал цветы?
— Точно, — сказал я. — Зачем ему воровать?
Игорек посмотрел на меня и заплакал тише.
— Хорошо, — сказал начальник. — Ты, Игорь, не плачь и иди в свой отряд. Никто тебя зазря наказывать не будет… А кто оборвал, ты тоже знаешь? — спросил меня начальник.
— Не знаю, — ответил я.
— Они друг друга никогда не выдадут, — проговорила воспитательница малышей.
— Ну и молодцы, что не выдают. Если б он подсматривал в щелку, пока хулиганы рвали, а потом пошел бы ко мне докладывать, я бы его сам прогнал. А если б он собрал ребят и отогнал бы хулиганов, а потом доложил, — я б его очень похвалил. И сейчас тоже — хвалю, потому что заступился за справедливость, а не прошел равнодушно. Иди в свой отряд, — а мы с вами еще останемся, — сказал начальник лагеря воспитательнице.
И я побежал к своей даче.
* * *
Я никогда не знал, что могу быть таким знаменитым. Меня в лагере все теперь знали, особенно после подъема флага. И малыши тоже — после того, как я заступился за Игорька.
Все знали, как меня зовут, приглашали к себе играть. Даже из первого отряда со мной здоровались.
Я шел мимо первого отряда, а они играли в волейбол.
— Иди к нам в круг, — сказали они мне.
Они все были выше меня, наверно, в два раза, но я все-таки встал.
— Куда ему, еще голову оторвем мячом, — сказал тот, кто был рядом.
— Вставай, вставай, пусть учится. Это же Колька Кольцов.
— Колька Кольцов? — удивился тот, который был рядом. — Тогда пусть встает. Я не знал, я тогда был в изоляторе, когда он штурмовал мачту.
* * *
У нас в отряде была противная девчонка. Она всех передразнивала и целый день приставала к Свете. Ее звали Ленка.
Мы шли строем к соседнему лагерю играть в футбол и разговаривали со Светой про домашнюю жизнь. А сзади шла Ленка и влезала в наш разговор.
— А по Барри я как соскучилась! — сказала Света.
— Врешь ты все. И собаки у тебя нету этой… серебрена, — опять влезла Ленка.
— Не серебран, а сенбернар, — поправила Света.
— Все равно врешь, целый день с утра до вечера рассказываешь, рассказываешь.
— А я не тебе рассказываю.
— А ты не ври. Врунья ты, вот кто. Барри какого-то выдумала.
Я все хотел повернуться и сказать, что Барри есть и Света не выдумывает ничего, но молчал, потому что они спорили сзади меня и это был не мой разговор.
— Коля знает, он подтвердит, — вдруг проговорила сама Света. — Правда же, Коля?
— Правда, — сказал я. — Есть Барри. Вот такая огромная собака, сенбернар. Собаке из этой породы даже памятник во Франции поставили, в Париже.
— А ты-то откуда знаешь? — спросила Ленка. — Ты ей слуга, что ли, — все за ней повторять.
— Мы рядом живем, поняла? — ответила Света. — А Барри еще на вокзале был, провожал меня, вместе с папой.
— И не рядом. Если бы рядом — вы бы в одной школе учились, а так — в разных. Я все слышала, как вы про свои школы говорили.
— Не рядом, а близко, — поправил я. — Меня Барри даже из озера вытащил. Я чуть не утонул, а он — вытащил.
И хоть все было тогда по-другому — Барри, наоборот, меня толкнул в озеро, — но Ленка сразу поверила и перестала спорить.
* * *
В этот день наш первый отряд был в походе, и мы играли в футбол против старших ребят из чужого лагеря. Но мы держались крепко.
Я был в защите.
Они думали, что будут бегать быстрее нас и наколотят нам голов.
Но у нас на воротах стоял Евдокимов. Он ловил любой мяч, кувыркался, взлетал, падал, и счет оставался 0:0. Мы тоже гонялись изо всех сил, хорошо еще — солнце светило в глаза не нам, а команде чужого лагеря. Во втором тайме мы поменялись воротами, но солнце было уже сбоку.
Под конец мы здорово устали, и вражеская команда тоже устала.
Но тут Корнилов крикнул нам:
— Вперед! Идет последняя минута, вколотим дылдам гол!
И мы повели мяч. Мы бросились в атаку все, оставалась последняя минута. Мы были уже у вражеских ворот и уже ударили по воротам. Но мяч отлетел от штанги, и чужая команда перебросила его на нашу половину поля.
Я бросился изо всех сил к мячу. И так получилось, что мяч прикатился прямо ко мне. Я держал мяч, но меня окружали только враги, они плотно обступили меня. И я решил отдать мяч Евдокимову. Я ударил по мячу так, чтобы перебросить его через головы врагов. Но мяч полетел неожиданно совсем в другую сторону, не туда, где стоял Евдокимов в боевой готовности. Я еще надеялся, что мяч от штанги отскочит. Но он пролетел мимо Евдокимова и влетел в наши собственные ворота. И сразу судья просигналил о конце игры.
— Гол! Гол! — закричали наши враги.
Они хлопали в ладоши и обнимали друг друга.
— Не считается, — пробовал спорить наш капитан Корнилов. — Мяч полетел в ворота, когда игра уже кончилась!
Но его никто не слушал, даже наши болельщики.
Так получилось, что в последнюю секунду матча я забил гол своей родной команде.
Я шел опустив голову и ни с кем не хотел разговаривать.
— Ему бы только по столбам лазать, — сказали сзади меня. — Обезьяна. У него, наверно, хвост растет.
— Ты, обезьяна! — крикнули мне. — Ты что, ослеп, когда по своим воротам бил?
И тут вдруг за меня заступился Корнилов.
— А сам-то ты — всю игру ходил как инвалид, — сказал он. — Кольку будешь дразнить — во тебе будет.
А мне стыдно было даже идти вместе со всеми.
* * *
Три человека из нашего отряда играли в ножички.
Я к ним подошел, чтобы они меня тоже приняли.
Но один сказал:
— Ты иди, для чужой команды голы забивай.
— А чего он? — спросил другой.
— Он гол забил в наши ворота.
Но я уже не слушал их разговор, а пошел в лес.
В лесу я наткнулся на Евдокимова. Он тоже ходил один среди деревьев.
— Ты? — спросил он и как будто испугался.
— Я так, хожу просто, — сказал я.
Евдокимов вдруг плюнул, и слюна оказалась красной.
— Видал? — спросил он.
— Кровь?
— Кровь. Ничего, я ему тоже нос разбил. Из первого отряда, такой длинный, его в поход не взяли, он и ходит.
— Из первого отряда?
— Из первого. Я ему говорю: не считается твой гол, а он говорит — считается.
— Я нечаянно, — сказал я, — я хотел тебе отдать.
— Да я знаю. Я сам в прошлом году два гола в свои ворота забил, когда стоял в нападении. Я после игры знаешь что сделал? К штанге подошел — и как дал по ней головой. Во был синяк! Чтоб все видели, что я себя сам казню.
— Может, мне тоже дать головой, а? — посоветовался я.
— Не надо. Через три дня будем снова играть, ты и докажешь.
* * *
На спортивной площадке по буму ходила Ленка.
Я хотел у нее спросить, где Света, но она вдруг сама меня позвала:
— Что, свою Светочку ищешь?
— Она не моя, — сказал я.
Я подумал, что Ленка сейчас спустится с бума, тогда на это бревно заберусь я. Я давно хотел побегать по нему, потренироваться.
— Ты у нее слуга, что ли? — спросила Ленка.
— У кого?
— У Светочки. Что она скажет, то ты и подтверждаешь.
— Не слуга.
— Значит, раб, да? — И Ленка захихикала. — Ты с ней дружишь, что ли? Ну и подружку нашел. — Она захихикала еще противнее. — Ну и подружку.
— Ничего я с ней не дружу, — сказал я. — Очень она мне нужна. Мы живем близко, поняла?
Я так сказал — и в ту же минуту увидел, что от фанерных щитов к нам подходит Света.
И я уже по ее лицу понял, что она услышала наш разговор.
Она прошла мимо нас, как будто меня не заметила, будто я тут не стоял около бума.
Она уже уходила, и я вдруг крикнул:
— Света, подожди!
Но она даже не повернулась. Только пожала плечами и пошла дальше.
Мы строились на ужин. Я всегда стоял в строю рядом со Светой.
Но теперь она отвернулась от меня и отошла в сторону.
Я пошел вместе с Евдокимовым, а она — с Ленкой.
И весь следующий день Света ходила вместе с Ленкой.
Мы были на озере, я к ним подошел, но Ленка сразу повернулась ко мне и сказала:
— Ты чего около нас ходишь? Мы с тобой не разговариваем, ясно?
— Ясно, — ответил я и отошел.
А Ленка сразу начала рассказывать о чем-то Свете и громко хохотать. У нее был такой противный голос, что я не мог его слушать и заткнул уши.
* * *
На стене дачи кто-то написал мелом: «Светка дура». Может, про другую Свету, у нас в отряде было три Светы. Я как раз остановился около этого места — искал, чем бы стереть, чтобы Ленка не говорила, будто я написал.
И в это время, как будто специально она подстерегала, прошла Ленка. Она прочитала надпись и сказала:
— Все Свете расскажу.
— Ну и рассказывай, подумаешь, — сказал я.
— Ну и расскажу. И пионервожатому тоже скажу.
Я не стал ей ничего доказывать. Она бы все равно не поверила. Я уже давно заметил, что можешь сколько угодно доказывать, но если тебе не хотят верить, то даже не будут слушать твои доказательства.
* * *
Я получил сразу два письма.
Одно было из Москвы — от папы.
Папа написал, что новый свой проект он сдал, но это детский лепет по сравнению с той идеей, которая пришла сейчас ему в голову. Они сидят с Татьяной Филипповной дни и ночи и делают предварительные расчеты. На днях они возвращаются в Ленинград и приедут ко мне в лагерь.
И внизу была приписка — привет от Татьяны Филипповны. И еще лежали две переводные картинки: на одной — танки, на другой — корабль.
Я письмо спрятал в карман и несколько раз его вынимал, снова перечитывал. А картинки подарил Игорьку. Он им обрадовался и пошел сразу переводить.
Другое письмо было даже без конверта — это была открытка от мамы. На открытке — красивые горы с подвесной дорогой.
Мама писала, что она всю неделю тренировалась в своем альпинистском лагере и отправляется на восхождение, а когда спустится, то сразу полетит домой и возьмет меня. «Пожалуйста, не скучай, не очень дерись и больше ешь», — писала мама в конце.
* * *
В первой смене это было последнее воскресенье. И хотя не родительский день, но родители все равно приехали.
А я заметил, что если притворяться, думать, что никого не ждешь, не очень-то и надеяться, то тогда уж обязательно кто-нибудь приедет. И я специально с утра так думал: «А мне все равно: приедут — не приедут».
Папу я увидел сразу, неожиданно. Он шел далеко, и вместе с ним были Татьяна Филипповна и Федор Матвеевич. Они шли прямо к нашей даче.
Я побежал к ним навстречу, и папа уже издалека заулыбался. А Татьяна Филипповна озиралась по сторонам, потом поняла, что это я бегу, и тоже заулыбалась. И Федор Матвеевич — он шел немного сзади — улыбался.
Я подбежал к папе, и он приподнял меня, а потом поставил на дорожку.
— Ну и далеко же ты забрался в свой лагерь, — сказал он, — спасибо, вот товарищ сюда же шел, подсказал.
И тут я увидел, что Федор Матвеевич совсем не улыбается, а стоит удивленный.
— Вы, простите, Колин отец? — спросил он.
— Отец. А вы, видимо, работник лагеря?
— Как же я сразу не догадался! Ведь вы так на Колю похожи.
— То есть он на меня, — сказал папа. — А вы, простите?…
— Я на минуту к Коле. У меня в городе дела, так что я оторву одну минуту, не более того…
И Федор Матвеевич протянул мне два пакета.
— Держи, Коля. Здесь книга «Редкие животные нашей Родины», а тут — «Золотой ключик» и фрукты… А я побежал. Всего вам доброго… А то на поезд опоздаю, — объяснил он папе и Татьяне Филипповне.
— Мы ведь с вами знакомы, не правда ли? — спросила Татьяна Филипповна. Она изо всех сил вглядывалась в лицо Федора Матвеевича. — Мне кажется, я с вами училась в одном институте… Только не могу вспомнить вашу фамилию. Вас все звали Димочкой.
— Нет, вы меня простите, я в институте не учился. А зовут меня — Федор Матвеевич, вас же — Татьяна Филипповна, правильно?
— Правильно, — сказал удивленно папа.
— Еще раз прощайте, я побежал.
Он повернулся и быстро-быстро пошел к воротам.
— Странный какой человек, — сказал папа, — ехал такую даль, а задержался на минуту.
— Просто он деликатный, — объяснила Татьяна Филипповна, — увидел, что приехал отец, и решил не мешать.
— Он с маминой работы, по-видимому?
Я не стал объяснять, кто он, и молча кивнул: «С работы».
— Показывай-ка свой лагерь. — И мы пошли по аллее.
Я показал им нашу дачу, потом провел мимо трибуны и мимо мачты, на которую залезал. И рассказал им про торжественную линейку.
— Вот на эту мачту залез? — удивился папа. — Я бы не смог, я до сих пор боюсь высоты.
Потом мы пошли через лес на озеро.
— Надо же — черника растет! Самая настоящая черника! — удивилась Татьяна Филипповна, когда папа сорвал несколько ягодин и протянул ей. — Я уже лет пятнадцать, как в лесу не была.
— Ты что же — купаться надумал? — спросил папа, когда мы подошли к озеру. — Совсем самостоятельным стал мужчиной.
— Конечно, поплаваю, — сказал я.
Они сидели на песке под сосной, а я плавал разными стилями: и на спинке и полукролем.
Они волновались все время — особенно Татьяна Филипповна, — даже вскакивали несколько раз, когда я уплывал к краю купальни.
— Я сюда каждый день заплываю, — успокаивал я их, — нам со Светой разрешают.
Тут я вспомнил, что со Светой мы уже не разговариваем три дня, плавать мне расхотелось, и я пошел на берег.
— Ты, по-видимому, чемпион в своем лагере? — спросила Татьяна Филипповна.
— У нас первый отряд за купальню заплывает.
— И не вытираешься? — спросил папа.
— Конечно, нет. Я всегда так высыхаю, от солнца.
Мы пошли снова через лес. Тут папа от нас отстал немного, постоял, пошевелил губами, догнал нас и спросил Татьяну Филипповну:
— Не пора ли нам к дому?
— Не пора, — засмеялась она. — Я же сказала, что сама кончу вечером весь расчет.
Папа сразу снова повеселел и даже побежал со мной наперегонки до высохшего дуба. Про этот дуб нам говорили, что ему двести десять лет. Я бежал быстро и слегка обогнал папу.
— Стареет отец твой, стареет, — пропел папа.
Потом они все-таки собрались уезжать, и папа оставил мне книгу «Занимательные математические задачи трех последних тысячелетий».
— Ты тут не все поймешь, но это не страшно. Хотя я в твое время щелкал эти задачи во сне.
Я проводил их до ворот. Дальше бы не пустили дежурные.
Поэтому я влез на забор, перевесился и долго смотрел, как они уходили по дороге, как поворачивались ко мне, прощально махали мне и снова шли дальше.
* * *
А со Светой мы так и не разговаривали. Она ходила в обнимку с Ленкой, и Ленка постоянно смеялась своим противным голосом. Ленкин смех был похож на визг.
Однажды Ленка подошла ко мне.
— Ты чего все время на нас смотришь? — спросила она, хихикнула и состроила такую гримасу, что я даже отвернулся.
— На тебя только и смотреть, — ответил я, — что у меня, дел нет, что ли.
— А на Свету почему смотришь?
Я не стал тогда с ней разговаривать и пошел играть к ребятам.
* * *
Утром я увидел, что Света идет в столовую не с Ленкой, одна. И после завтрака Ленка что-то крикнула Свете, а Света даже не повернулась.
А через час Ленка стояла у стены дачи, и девочки из отряда подходили к ней по очереди и толкали ее. Одна девочка даже пнула ногой. Ленка закрывала лицо руками и тихо плакала.
— Будешь еще сплетничать! — приговаривали девчонки.
— Она такие сплетни разводила, просто ужас, — сказала мне та девчонка, которая пнула ее ногой. — Мы ей сначала верили, а сегодня все открылось. Ты тоже иди ей отомсти. Она про тебя знаешь, что говорила? Всем девочкам рассказывала. Я даже повторить не могу, вот что она говорила!
Девчонка все стояла около меня и не замолкала, а мне стало так стыдно, что посередине ее слов я повернулся и ушел в дачу.
Потом я вдруг услышал, что меня зовут.
— Колька! Колька! Тебе открытка. Вот интересно: вчера у него родители были, а сегодня уже ему письма шлют! — кричали мне.
Я вышел на крыльцо.
— Ты что, не слышишь? Тебе открытка.
«Откуда мне письмо, — подумал я. — Может быть, от мамы?»
Я взял открытку и сразу понял, что не от мамы.
Лучше бы я ее не брал! Лучше бы она потерялась где-нибудь на почте!
«Здравствуй, Николай!
Как ты живешь? Я живу хорошо.
И еще я узнал, что тогда моя мать правду сказала про твоих родителей. Твои родители уже разошлись, а от тебя скрывают. Это моя мать точно знает.
До свидания. Виктор Бабенков.
А твой адрес я узнал у твоей матери, когда она уезжала».
Я прочитал эту открытку во второй раз и в третий.
Тут ко мне подошел Игорек.
— Ты письмо получил, да? — И он привстал, чтобы разглядеть, что там написано.
А я спрятал открытку быстрей за спину и неожиданно закричал на него тонким противным голосом:
— Тебе-то какое дело! Сует нос не в свои дела!
— Я просто так, спросить. — Он даже растерялся, и губы у него задрожали.
Но я продолжал орать на него.
Потом я побежал куда-то по дороге. Потом я увидел в руке ту открытку, смял ее и сунул в карман.
В это время прямо на меня вышел из-за кустов Евдокимов.
— Куда бежишь? А я тебя ищу, — обрадовался он.
Но я закричал на него тем же противным визгливым голосом.
— Пусти с дороги! — кричал я ему.
— Ты чего? Я у тебя хотел взять адрес, ведь меньше недели осталось, — сказал он растерянно.
— Какой тебе адрес?! Вам всем лишь бы адрес узнать!
Евдокимов посмотрел на меня и отошел в сторону.
А я побежал дальше к соснам. Я задыхался, но все бежал, несколько раз споткнулся о корни, потом упал и не хотел вставать.
Я лежал так долго, уткнулся головой в землю, подо лбом у меня был твердый корень, я стукнул лбом об него, чтоб стало мне больно, и стукнул еще несколько раз, и еще.
Потом я услышал тихие шаги и сжался, чтобы меня не заметили.
Это была Света.
Она остановилась около меня, но я лежал, уткнувшись в сухую землю, и к ней не поворачивался.
— Коля, я больше не буду с тобой ссориться, — сказала она тихо. Но я ей не ответил. — Я пойду, Коля, — сказала она и пошла назад.
Когда я вернулся к даче, там было пусто. Все пошли в лес.
И хорошо, что меня не видели. Потому что некоторые, быть может, прочитали ту открытку, и что я бы стал им говорить?
* * *
Я больше не думал ни о маме, ни о папе, ни о себе. И ни о чем я не думал. Мне все время хотелось спать.
В тихий час у нас в палате всегда рассказывали смешные истории. Но сегодня я как лег, так сразу заснул и ничего не слышал. И вечером после линейки я тоже заснул сразу.
На другое утро ко мне подошел врач.
— Ты не болен? — спросил он. — Ваш воспитатель просил тебя посмотреть.
Врач отвел меня в медпункт, проверил мое горло, измерил температуру.
— Сам-то ты на что жалуешься? — спросил он.
А я вдруг подумал о папе с мамой и сжал зубы, чтобы не заплакать.
— Болит у тебя что-нибудь? — снова спрашивал врач.
— Нет, — сказал я и отвернулся к окну.
— Я тебя все-таки положу на день в изолятор, а там посмотрим. Вид у тебя очень странный.
Я лег в пустом изоляторе в углу, чтобы не мешало окно, и проспал весь день. И ночью я тоже спал. Утром врач отпустил меня в отряд.
Все наши как раз строились, чтобы идти на совхозное поле.
И я тоже пошел в строю.
— Я к тебе вчера хотела прийти, а меня врач не пустил, — сказала Света.
— И меня тоже, — сказал Евдокимов.
Мы шли по дороге строем мимо совхозных рабочих, и пионервожатый запел песню. И весь отряд тоже запел.
— Куда это они маршируют? — спросил один рабочий.
— Да нам помогать, на турнепс, — объяснил другой.
А мы шли мимо них, как солдаты, пели маршевую песню и четко ставили шаг.
— Вот перед нами поле турнепса, все в сорняках, — сказал пионервожатый, когда мы пришли. — Сорняки выполоть, турнепс оставить. Одна гряда на двоих.
Мы стояли в начале поля, а конец гряды был далеко.
— Это все сегодня надо сделать? — спросил Евдокимов удивленным голосом.
— Да, сегодня. Разбирайтесь по парам и выбирайте себе гряды.
— Давай эту возьмем, — сказала мне Света.
И мы выбрали себе гряду. А рядом с нами выбрали Евдокимов с Корниловым.
Солнце грело жарко, вокруг летали шмели, садились на плечи и больно кусали.
Все работали сначала медленно. И мы со Светой тоже еле продвигались.
А потом я представил, что как будто идет война. И турнепс — это наши войска, засевшие в крепостях. А к ним со всех сторон подступают враги. Наши обороняются, но врагов страшное множество. И только мы можем спасти наших.
— Ребята! Наши окружены в крепостях сорняками! — закричал я. — В атаку! Спасай наши войска! — И стал быстрей вырывать сорняки и отбрасывать их в сторону. — Ура! Первая крепость спасена! — кричал я.
И все тоже стали освобождать крепости от окружающих вражеских войск.
— Вперед! Догоняй отступающего врага! — кричал Евдокимов.
Мы пололи со Светой нашу гряду, с одной стороны — она, с другой — я. Иногда она отставала, и тогда я перебегал на ее сторону и помогал ей.
— Враг отступает, не дадим ему скрыться! — кричал Корнилов. — Бей его!
Я оглянулся на начало поля и увидел, что оно уже очень далеко: к нам идет красивая чистая земля, и на ней ровными линиями выстроились наши войска — турнепс. А до конца осталось чуть-чуть.
— Победа рядом! — закричал я и снова бросился на сорняки.
Мы со Светой и Евдокимов с Корниловым первые освободили турнепс от вражеских войск.
— Идем на помощь! — крикнул я, и мы бросились к другим грядам, где еще некоторые наши крепости были окружены.
Когда пионервожатый привел бригадира в черном пиджаке и черной кепке, мы уже победили всюду.
Бригадир не поверил сначала, что мы справились так быстро.
— Может, с вами вместе еще какая бригада работала? — спрашивал он.
А пионервожатый только смеялся в ответ.
Потом мы выстроились, и бригадир от лица дирекции совхоза объявил нам благодарность.
Мы шли назад, и Света вдруг сказала мне:
— Я смотрела весной фильм про гражданскую войну, там был молодой комиссар, он очень на тебя похож.
— Почему похож? — удивился я, хоть мне и было приятно слышать такие слова.
— Правда. Если бы ты жил в гражданскую войну, ты бы, наверно, тоже был таким.
Но в эту минуту я опять вспомнил про открытку Бабенкова и уже не хотел радоваться.
А после полдника я увидел маму.
Она шла вместе с начальником к нашей даче. Я даже не поверил сначала.
Но мама шла и смеялась, а начальник рассказывал ей о чем-то и тоже улыбался.
— Ты что же навстречу не бежишь? — сказал мне начальник. — Ты когда-нибудь видел таких загорелых людей? Или свою маму не узнаешь?
— А я за тобой, — сказала мама.
— Конечно, нехорошо это — забирать детей за день до конца смены, не положено. — И начальник вздохнул. — Но в порядке исключения…
— И не похудел! — удивлялась мама. — А я думала — отощаешь.
— У нас питание превосходное, за питанием я слежу пристально, — отвечал начальник. — Что поделаешь, собирай свои вещи, раз за тобой приехали, — сказал он мне и снова повернулся к маме. — Может, передумаете, оставите его нам?
— Нет, — сказала мама и засмеялась. — Он мой сын. И я очень по нему соскучилась.
Глава четвертая
Если долго не живешь дома, то, когда возвращаешься, все кажется другим, не похожим на то, как помнил.
Рядом с нашим домом я вдруг увидел дом, у которого кирпичами на стене был выложен василек. Всю жизнь ходил мимо и не замечал. Ведь василек конечно и раньше был, если этот дом стоит давным-давно. Не перекладывали же строители стену, пока я ездил в лагерь.
Даже наша квартира показалась мне сначала немного другой. И диван в моей комнате как будто был раньше длиннее.
Вечером мы с мамой пошли в магазин.
Мы шли молча, потому что я все хотел спросить о папе и не мог начать.
Потом я увидел мать Бабенкова. Она тоже увидела нас, замахала руками, чтоб мы подождали ее, и даже побежала — так захотелось ей нас догнать.
— Вернулись уже? — спросила она, хотя тут и спрашивать нечего: раз она видит нас в городе — значит, вернулись.
— Да, — сказала мама и свернула налево к дальнему магазину, хотя мы собирались в другой — в ближний.
— И мне с вами по пути, — проговорила Бабенкова и снова пошла рядом с нами. — А мой болван в деревне у сестры, — сказала она про Бабенкова, — они там хорошо живут, в деревне теперь лучше, чем в городе.
— Да-да, конечно лучше, — ответила мама. — Знаешь, я деньги забыла, — сказала она мне, — пошли-ка назад.
— Как же вы забыли? — спросила Бабенкова. — Вон в сетке у вас кошелек. Совсем от несчастья голову потеряли.
Она так сказала — и мне стало страшно и захотелось убежать куда-нибудь, спрятаться.
— Кошелек пустой, — сказала мама, и мы пошли назад, к дому.
Но Бабенкова тоже повернула вместе с нами и тоже пошла назад.
— Чудные, да вы хоть раскройте кошелек-то, проверьте — может, там деньги.
— Нет, я точно знаю, что оставила их в комнате.
— Дома на рояле забыли?
— Может быть, и на пианино.
— Я, пожалуй, вас провожу. Такая хорошая погода… Весь день на работе — и лета не видишь.
— Как хотите, — проговорила мама.
— А что ваш-то, совсем вас бросил или как? — спросила вдруг Бабенкова.
А я даже остановился, чтобы не идти больше рядом и не слушать их разговор.
Но все равно я слышал.
Мама не ответила и шла молча. А Бабенкова снова заговорила:
— Они все такие, подлецы. Сначала ласковыми притворяются, а потом — бежать.
И тогда мама остановилась и сказала железным голосом, каким она говорит, когда наказывает меня:
— Я не знаю, о ком вы, но к Александру Петровичу это не относится. Он очень порядочный человек, и я всегда буду его уважать.
Мама сказала это так громко, что Бабенкова даже испугалась. А потом мама добавила:
— И пожалуйста, оставьте нас в покое.
Бабенкова так и осталась стоять на месте. А мама быстро пошла к дому. И я, не глядя на Бабенкову, побежал за мамой.
В магазин мы больше не пошли. Пили чай с завалявшимися сушками и весь вечер молчали.
* * *
Утром, когда мы завтракали, мама вдруг сказала:
— Я знаю, ты хочешь спросить о папе. Ты ведь давно уже хочешь спросить?
И хотя я на самом деле собирался спросить, я сказал сейчас:
— Нет.
— Папа от нас уехал.
— Куда? — проговорил я и сразу почувствовал, что сказал глупость.
— Он теперь будет жить с Татьяной Филипповной.
— А мы?
— А мы — сами по себе. — Она помолчала. — Разные люди будут у тебя спрашивать или ругать папу и меня — ты на них, пожалуйста, не обижайся. Они ничего не знают и говорят просто так. А ты знай, что твой папа — хороший человек, мы с ним не ссорились, и он нас не бросил.
— Почему же тогда?… — спросил я.
— Это не так просто, как ты думаешь. Конечно, Татьяна Филипповна ему лучше помогает в работе, чем мы. Но главное не в этом. Главное в том, что мы с ним совсем разные люди: у него — одни увлечения, у меня — другие, и мы мешали друг другу. А теперь мешать не будем… Когда папа сможет, он будет приходить к тебе в гости и гулять с тобой по городу…
Мама ушла с кухни, и больше о папе мы не разговаривали.
* * *
Днем мама послушала, как я играю на пианино.
Я все перезабыл — и сонаты, и менуэты, и остальное — и играл так плохо, что было еще противнее слушать, чем обычно. И я с трудом доигрывал до конца.
Потом я сыграл те две песни про летчиков и космонавтов, которые мы исполняли со Светой в начале смены в четыре руки.
Мы их выучили за один раз: остались после полдника в клубе, а к ужину уже свободно играли.
— Вот видишь, — сказала мама, — ведь получается, когда ты захочешь.
А я вдруг вспомнил Галю Кругляк — как мы спорили, что не каждое дело человек может делать с удовольствием. Все-таки она была права.
* * *
Все следующие дни была жара. Мама уходила на работу, и я гулял один. Я обходил вокруг дома, шел по дорожкам между деревьями, возвращался назад. Однажды мне показалось, что идет сенбернар со Светой. Я побежал к ним, но когда пробежал полпути, понял, что это обыкновенная колли — шотландская овчарка — и не Света с ней, а старушка. Потом я сидел дома, и не хотелось мне играть, или читать, или слушать по радио передачу для малышей.
Я все дни думал про папу. Про что бы ни начинал думать, обязательно кончал мыслями о папе.
Однажды я решил сходить в парк к тому озеру, где в апреле пускал корабль, а потом свалился.
Теперь там кругом была трава и деревья, а от воды шел приятный сырой запах. На берегу стояли люди с удочками, и пока я к ним приближался, они несколько раз помахали мне руками, чтоб я не орал, не топал и не пугал им рыбу. Хотя близко ходили трамваи и грохотали в сто раз громче.
У тех людей в литровых банках плавали мальки — этих мальков они выловили из озера.
А один старик хлестал воду спиннингом и шепотом рассказывал, какая огромная здесь живет щука и старая — она всю рыбу съела, и ее надо обязательно поймать, а то и мальков переест. Я постоял у озера, потом поднялся назад, в парк, сел на скамейку и снова стал думать про папу.
Наверно, вид у меня был грустный и больной, потому что, когда мимо прошла старушка с плачущим ребенком, она сказала:
— Вон мальчик сидит совсем больной тяжелой болезнью и не плачет, а ты — ревешь.
И мне сразу так себя стало жалко, что я пошел домой и не выходил до вечера.
А на следующий день начались ливни и грозы.
Только выйдешь из дома — а тут по небу ползет, переваливается тяжелая черная туча и уже заранее громыхает.
Когда мы ехали в электричке вместе с мамой из лагеря, сзади сидел летчик с другом и рассказывал про грозу. Он однажды видел, как навстречу молнии с неба в ту же секунду вылетает огненный столб из земли, и они посередине встречаются — между небом и землей.
А друг сказал, что такое науке неизвестно.
Я уже тогда решил, что обязательно буду наблюдать за грозой. И теперь я стал следить за молниями из окна. Взял мамин бинокль и смотрел на тучи. Конечно, было страшно, как будто я — Рихман — друг Ломоносова, погибший при исследовании грозы. Но я все равно не отходил от окна и смотрел в бинокль на тучи, в которых мелькали молнии. Некоторые я даже успевал разглядывать, как они пролетали по небу зигзагами. Жаль, фотоаппарата у меня не было. Был бы аппарат, я бы их наснимал, сделал бы фотографии и все было бы тогда ясно. Потому что за некоторыми молниями я не успевал следить.
* * *
Утром мама сказала:
— Поехали, по рекам попутешествуем. Я давно хотела показать тебе город.
Она собрала еду, мы поехали к реке Фонтанке, взяли лодку на лодочной станции и поплыли по городу.
В нашем городе много красивых мест, и река Фонтанка течет как раз по этим местам.
Мы с мамой гребли вместе: правым веслом — она, левым — я.
Жаль, что у нас не было рулевого: приходилось часто оглядываться. Один раз мы слегка протаранили мост.
— Ты весло глубоко не заводи, слушай мою команду. — И мама начала командовать: — Раз — два. Раз — два.
Поблизости тоже плыла лодка, и там сидели четверо людей. Они увидели нас и решили-с нами соревноваться.
— А ну-ка, налегли! — сказала мама. — Не давай им обходить. — Она стала считать громче: — Раз — два. Раз — два!
В той лодке тоже гребли двое взрослых — правда, она сидела глубже, чем наша.
Я уже устал, а лодка не отставала.
— Вперед, еще чуть быстрей! — говорила мама. — Сейчас они выдохнутся.
Я уже греб из последних сил, а мама все командовала:
— Вперед! Ты должен воспитывать в себе спортивную злость!
Гребцы на той лодке вдруг положили весла. Они, наверно, устали больше нас.
А у меня уже появились новые силы, и я тоже стал командовать:
— Раз — два! Раз — два!
— Молодец, — сказала мама. — Всегда надо преодолевать свою слабость… Хотя папу твоего я так и не научила грести.
Мимо нас промчались две моторные лодки, от них шли высокие волны, и мы покачались на этих волнах. Мы гребли уже спокойно, потому что те четверо совсем отстали.
— Поплыли вон к тем ступенькам, — сказала мама.
В том месте к воде можно было спуститься по каменной лестнице.
Мама остановила лодку.
— На этой ступеньке я первый раз ждала твоего папу, после того как мы вернулись из туристского похода. А вон в том доме я жила. — Мама показала на старинный дом с высокими каменными статуями. Эти статуи поддерживали балконы. — Твой папа каждый день приходил под балкон и стучал по водосточной трубе три раза. Я сразу узнавала, что это — он.
Пока мама рассказывала, по каменным ступеням спустился пожилой человек.
— Девушка, — попросил он, — перевезите меня на другой берег.
Мы с мамой удивились — ведь недалеко был мост. А еще — я не люблю, когда маму называют девушкой. Хоть она и молодо выглядит, и к ней так часто обращаются, но каждый раз мне становится неприятно. Неужели они не видят, что у нее уже большой сын?
— У меня ноги болят, и до моста мне идти трудно. А в доме напротив живет мой старинный приятель. Меня всегда лодочники перевозят.
Мама помогла старику сойти в лодку, и мы перевезли его к старинному приятелю.
Мы еще долго плавали по реке Фонтанке, даже обедали в лодке. Ели те бутерброды, которые приготовила дома мама.
* * *
На другое утро мама варила кашу, я пошел за хлебом и маслом.
Вдруг ко мне подошли двое из чужой школы. По виду они учились классе в пятом или в шестом.
— Дай пятьдесят копеек, — сказал один.
— Нету у меня, — ответил я, хоть в кармане и лежал рубль.
Я пошел быстрее, чтобы с ними не разговаривать.
Но они тоже пошли быстрее.
— А куда ты идешь? В магазин ведь?
— Куда надо, туда и иду.
На улице было полно людей, а они приставали ко мне среди бела дня и не боялись. Я мог бы крикнуть на всю улицу: «Помогите!» Но конечно не кричал, а говорил так же тихо, как и они.
— Видишь бритву? — сказал один. — Порежем тебе щеки — на всю жизнь будешь уродом.
— Нет у меня денег.
— Хуже ведь будет, если порежем. Ты что, слов не понимаешь? — стал уговаривать меня второй. — Скажи матери, что потерял, она тебе еще даст.
Я молчал.
— Думаешь, нам охота тебя резать? А придется, если не дашь пятьдесят копеек, — снова сказал второй.
Я уже слышал про таких людей. В нашем классе у нескольких ребят отняли деньги на улице. Даже у Коли Алексеенко — он собирал взносы в Красный Крест, и эти деньги у него отняли. Никому ведь не хочется ходить с разрезанной щекой. Я слышал, что у этих людей отнимать деньги называется «бомбить».
Магазин был уже близко, но тут первый схватил меня за руку и сказал совсем тихо:
— Пошли за угол, чего с ним разговаривать. А пискнет — так прямо тут ему порежем, обе щеки.
И вдруг я увидел, что с другой стороны улицы к нам бежит Андрей.
«Теперь уж точно отнимут», — подумал я и уже полез в карман, чтобы отдать им рубль, лишь бы они поскорей отвязались.
Но Андрей вдруг с разбегу оттолкнул того, первого, который держал бритву и тащил меня за угол.
— Ты чего, мы пошутили, — сразу сказал второй.
Андрей пихнул его в плечо, и он свалился на кучу мусора.
— Мы и милицию позвать можем, — пропищал второй оттуда, с кучи.
Но Андрей не стал его слушать.
— Увижу, кто его трогает, — и он показал на меня, — фарш с макаронами сделаю.
— Шуток, что ли, не понимаешь. Мы шутим, а ты — толкаешься, — снова сказал второй. Он уже поднялся и отряхивал брюки.
Тут рядом с нами остановился автобус, и они оба оглянулись, а потом сразу в него запрыгнули. Автобус закрыл дверцы и поехал.
— Ты не бойся, — сказал мне Андрей, — я тебе всегда помогу, только крикни. — И он пошел рядом со мной. — У нас тоже отец ушел. Я еще был в детском саду, когда он ушел. Всех детей увели домой, а я один сижу в группе и реву. Меня отец первым всегда забирал, а тут — нет. Потом мать пришла и говорит: «А нас папа бросил». Понял? Во как. Она говорит: ты его уважай. А я — ненавижу. Я знаешь, что хочу? Я хочу узнать, где он живет, и стекло ему выбить. Я силу специально качаю, чтоб его не бояться. Он раза два к нам приезжал, так я в комнате заперся и не выходил. Он у дверей канючит, умоляет, чтоб я вышел, а я ему так и кричу: «Я тебя ненавижу, и иди отсюда, если ты нас бросил!»
Он так все мне рассказывал про своего отца, а я до самого магазина молчал и только слушал.
— Ты своего тоже ненавидишь? — спросил он. — Мы им все отомстим, они еще пожалеют.
Он конечно хотел от меня услышать, что я тоже буду теперь своему папе мстить. И хоть он меня только что спас, и за это надо было ему сказать что-нибудь приятное, я все-таки не сказал ничего про папу.
У магазина он остановился.
— Если что, ты меня только крикни — и я сразу тут.
В пятницу мне позвонил Федор Матвеевич. Я его сразу узнал по голосу.
— Что дома сидишь? — спросил он.
— Да так.
— А мама — тоже дома?
— Мама работает — экзамены принимает.
— Собирайся в лес за грибами. Хочешь?
— Хочу.
— Ну вот. Спроси у мамы и собирайся. Сапоги готовь, корзину. А я за тобой вечером заеду. Я с работы звоню.
Пришла мама и стала меня готовить.
Я померил ее резиновые сапоги, они были мне почти как раз, если с шерстяным носком.
Мама отдала мне свой складной нож в специальных кожаных ножнах. В ноже были вилка, ложка, лезвия, штопор и открывалка консервов. Корзина тоже у нас была.
И мы стали ждать Федора Матвеевича.
— Отпускаете, Маша? — спросил он. — А то поехали вместе.
— Я бы с удовольствием, — сказала мама, — только экзамены.
Мы попили чаю на дорогу и вышли из дома. Мама нас проводила до электрички.
У Федора Матвеевича за спиной была огромная корзина.
* * *
Пока мы ехали в электричке, солнце стало уже закатываться. Оно освещало сосны, и сосны стояли неподвижные и прозрачные.
От станции мы пошли по улице к дому, где жил знакомый Федора Матвеевича.
Знакомый сидел на скамейке у заборчика.
— В гости пустите? — спросил Федор Матвеевич.
— А я давно уж вас ожидаю, — обрадовался знакомый. — Грибы завтра будут. Вчера дочка набрала два кузова за большой поляной. А это кто с тобой — племянник?
— Это Коля, сын одного товарища, — ответил Федор Матвеевич.
А я удивился, потому что с папой они были почти не знакомы. Один раз дошли до лагеря, так и не узнав друг друга. Может быть, он маму назвал товарищем?
Знакомый повел нас в сад. Там росли яблони с огромными краснобокими яблоками. Каждая ветка опиралась на подпорку.
— Выбирайте, — сказал он нам.
А потом сам сорвал нам по три самых больших яблока и самых красных.
После этого мы попили молока с хлебом. Такую пищу я очень любил.
— На сеновале спал когда-нибудь? — спросил меня Федор Матвеевич.
— Нет.
— Сейчас будем.
Мы полезли вместе со знакомым на второй этаж по узкой лестнице. И там оказался сеновал.
С боков была крыша, в одной стене — маленькое окно, а почти весь пол застлан сеном. Сена было мне по колено и выше. Знакомый расстелил на сене палатку и принес еще разные одеяла, чтобы укрываться.
— Завтра мы уйдем с рассветом, будить вас не будем, — сказал Федор Матвеевич.
— А проспите, так моя хозяйка вас разбудит, она встает к корове в пять утра.
* * *
Ночью я проснулся и стал думать о папе.
Я вдруг представил, что папа мой тоже тут близко спит на сене. А завтра мы втроем пойдем в лес. И как будет весело.
— Ты об отце думаешь? — спросил вдруг Федор Матвеевич откуда-то из темноты.
А я даже не удивился, что он тоже не спит и догадался, о чем я думал.
— Ты о нем плохо не думай.
— А я не думаю, — сказал я.
— Я так гляжу на тебя, а про себя мечтаю: мне бы такого сына, как ты, вот я бы стал счастливым! Я, знаешь, с молодости, еще когда жил в рабочем общежитии, мечтал о сыне. Да все как-то не получалось у меня с семьей. Всем везло, а мне — нет.
Надо мной летал комар. Он то улетал, то снова был где-то рядом и громко пикировал на меня. Я подстерег, когда он сел мне на лоб, и прихлопнул его.
— Коля, если тебе холодно, бери еще одеяло, — сказал из темноты Федор Матвеевич.
— Не холодно. Это я комара убил.
— Тогда спи дальше.
И я стал спать дальше…
Мы вышли совсем рано — я так, наверно, и не вставал никогда.
В воздухе висел туман, и солнце было прохладное, оно едва выглядывало из-за края земли. А вся трава — в росе.
Мы прошли немного по улице, и сразу начался лес.
Около леса нас обогнали пять человек с корзинами.
— Наши грибы нас дождутся, — успокоил Федор Матвеевич.
Я еще со вчерашнего вечера переживал, потому что не умел собирать грибы. Знал, что они растут на земле в лесу, на картинках конечно видел. А какие — хорошие, какие — поганки, забыл. Только мухоморы помнил.
У первой же густой низкой елки Федор Матвеевич нагнулся, отодвинул ветки и достал нож.
— Я всегда под этой елкой срезаю подосиновички. Смотри, какой хороший.
Я быстрей посмотрел, как он выглядит — подосиновик.
Мы вошли в лес и пошагали по широкой тропе.
Потом мы сошли с тропы и пошли между соснами.
— Тебе не обязательно рядом со мной идти, — сказал Федор Матвеевич, — если хочешь, то можешь идти в сторонке, только чтобы мы все время друг друга видели и слышали.
И я сразу же нашел много грибов. Желтые, невысокие — они росли вокруг меня большими кучами.
— Я грибы нашел! — крикнул я.
— Какие?
— Желтые!
— Это интересно, — сказал Федор Матвеевич и подошел. — Лисички. Очень вкусные грибы, особенно для жаренья. Срезай их в корзину. Повезло тебе.
Я срезал их и радовался, что вот, мы еще не успели войти в лес, а я набрал уже столько грибов.
Потом Федор Матвеевич показал мне подберезовик, сыроежку и белый.
Я тоже нашел скоро один белый.
Потом мы сидели на поваленной от ветра березе и завтракали вчерашними бутербродами вместе с яблоками, которые сорвал нам знакомый в своем саду. У моего яблока даже листья не завяли. И я их положил в корзину под грибы.
Мы еще долго ходили по лесу, и внезапно начало темнеть. Приползли темные тяжелые тучи и закрыли небо. Где-то в стороне загрохотал гром.
— Попались мы с тобой, — сказал Федор Матвеевич, — не промокнуть бы нам.
И только он это сказал, как я увидел, что к нам приближается дождь.
Из-за тучи пробилось солнце, осветило сосны и воздух, а в этом солнце блестел и мчался в нашу сторону дождь. Вот он уже рядом — бьет по соседнему дереву. Вот уже по корням нашей ели. И вот ударил по нам тяжелыми, крупными каплями.
Сначала нас не очень мочило, но потом капли стали проникать и к нам.
Тут солнце опять скрылось, стало совсем темно, налетел ветер, все деревья зашумели, заволновались, и вдруг ярко блеснула молния, и в ту же секунду гром грохнул так, что я вздрогнул.
— Это уже плохо, — сказал Федор Матвеевич. — Дерево у нас не самое высокое, молния в нас не ударит, но все равно под деревом в грозу стоять не стоит. А выйдем — так и вовсе промокнем.
Лес кругом был темный и страшный, только молнии его освещали насквозь, и гром взрывался рядом с нами.
— Ты не бойся, Коля, — успокаивал Федор Матвеевич, — это даже интересно: посмотреть грозу в лесу.
А меня все время мучила глупая мысль: вдруг Федор Матвеевич сейчас исчезнет, и я останусь один. Я даже оглядываться стал на него и думал одно и тоже: «Лишь бы он не исчез, лишь бы со мной остался».
Небо было по-прежнему черным от туч, а мы промокли уже насквозь.
— Пошли-ка из леса, нечего нам тут больше делать, — сказал Федор Матвеевич.
И мы пошли к тропе прямо под дождем. А в сапогах моих хлюпала вода — натекла с одежды и волос.
Но я не замерз, а наоборот — развеселился. Я теперь не боялся ни молнии, ни грома. И ничего я уже не боялся. И я даже запел. А Федор Матвеевич стал мне подпевать.
Мы шагали прямо по лесу, потом нашли нашу тропу, и тут гроза кончилась. Тучи сразу ушли, и снова жарко засветило солнце.
Федор Матвеевич снял с меня свитер, брюки и все выжал. Из сапог вылилось по кастрюле воды.
Мы понесли сапоги в руках, а сами пошли босиком. Лужи были теплые, и по ним было приятно идти. А от нашей мокрой одежды поднимался пар. Вокруг Федора Матвеевича была туча пара, и вокруг меня тоже.
* * *
Пока мы дошли до первых домов, успели почти совсем высохнуть.
— Знаешь что, — предложил Федор Матвеевич, — сейчас как раз пойдет электричка, пошли сразу на станцию. А знакомого я увижу в понедельник на работе.
В электричке я заснул и проспал всю дорогу.
— Давай-ка твою корзину, — сказал Федор Матвеевич, когда мы вышли из поезда, — а около дома ты возьмешь ее снова.
— Прибыли грибники! — обрадовалась мама, когда мы вошли в квартиру.
— Мы в грозу попали, — сказал я.
— В какую грозу? — удивилась мама. — У нас грозы не было, у нас весь день стояла жара.
— Забирайте своего сына с богатой добычей, а я поехал к птичкам, — сказал Федор Матвеевич.
— А чаю? Я пирожных напекла.
— Чай я с удовольствием, в следующий раз, а сегодня мне надо кормить птиц.
Мама завернула ему пирожные с собой, и он поехал.
Я понес корзину на кухню и вдруг увидел, что она полная. Поэтому она и показалась такой тяжелой, когда я вынес ее из электрички. А я сам набрал грибов меньше половины корзины. Значит, Федор Матвеевич переложил мне свои.
Я оставил корзину и пошел в комнату переодеваться. И тут у себя на столе я увидел конверт. А в конверте — записка от папы.
Я сразу понял, что это от папы, даже не читая. И у меня руки задрожали.
«Дорогой мой сын. Приезжали к вам с Татьяной Филипповной. Хотели погулять с тобою по городу. Так жаль, что не застали. Целую тебя. До встречи. Твой папа».
Я прочитал записку два раза. И даже переодеваться мне не захотелось.
— Давай разбирать твою добычу, — позвала мама с кухни. — Поешь супу — и начнем.
Я сидел на стуле, рядом лежал свитер. Я сидел босиком, потому что сапоги оставил в прихожей.
И вдруг я увидел, что плачу. Сижу тихо, и слезы льются из глаз.
А потом я снова подумал, как думал все эти дни: «Как же я буду без папы, как? Разве можно мне жить без папы?»
* * *
Потом наступило первое сентября.
Когда-то, когда я шел в первый класс, я так волновался, что у меня руки дрожали и коленки. Я держал букет, и цветы тоже тряслись.
А сейчас я шел один и все оглядывался, нет ли где ребят из нашего класса — тех, кого я не видел на медосмотре.
У школы все стояли кучками, и наш класс — тоже. Девчонки и ребята вместе.
Я пошел быстрей к ним, а они глядели на меня и радовались:
— Колька идет, смотрите!
Потом мы увидели Гришу Алексеенко, и я уже радовался вместе со всеми:
— Гришка идет, какой загорелый! Ты в Африке побывал, что ли?
И Бабенкову радовались.
— Бабенков-то! Ну и топает, ну и топает. Даже земля трясется.
Гриша Алексеенко достал камни.
— Красивые камни? Во какие камни! Это мы с отцом привезли с Тянь-Шаня. Я был с отцом в геологической партии, в палатке жили.
— Подумаешь, я со своим отцом был в тайге, к нашей палатке медведь приходил. Две банки консервов съел и ушел.
— А мы на Черном море, мы под водой плавали.
Я стоял молча и все боялся — вдруг меня тоже начнут спрашивать, где я был со своим отцом.
Я даже хотел что-нибудь придумать интересное. Но ничего не придумывалось. И я отвернулся, как будто не слышал всего разговора и в нем не участвовал.
Всех построили, и нас — тоже.
По радио заиграла торжественная музыка.
Вокруг первоклассников бегали родители и бабушки. Одна родительница громко рыдала и приговаривала:
— Вот и Наташка школьница, вот и Наташка учится.
Потом все было, как всегда. Выступил наш директор. Десятиклассники повели первоклассников в школу, и остальные тоже пошли следом.
И я вдруг услышал:
— Кольцов Коля! Коля Кольцов!
Оглянулся — оказывается, и не меня это зовут совсем, а маленького первоклассника. Он шел с красивым букетом и то ли улыбался, то ли плакал, а мать снимала его на кино.
Меня тоже снимала мама, когда я шел в первый класс, тогда они снимали вместе с папой, и даже пленка эта у нас дома есть.
* * *
На второй урок пришла завуч. Она раздала листочки бумаги и сказала, чтобы мы написали на них всех членов семьи и свои адреса.
Это мы и в прошлом году делали и в позапрошлом, потому что к кому бабушка приехала, у кого брат родился или сестра — надо же знать, как меняются семьи.
— А собаку тоже вписывать? — спросил Семенов своим дурацким голосом.
Все засмеялись и тоже стали спрашивать:
— А кошку?
— А говорящего попугая? Он по-испански разговаривает.
Я веселился вместе со всеми, но потом, когда начал писать на этом листке, тут же и испугался. Как мне написать про папу?
Я написал свое имя и фамилию, маму вписал, а потом отложил ручку.
— Ты чего? — спросила Галя Кругляк. — Ручка не пишет?
Но я ей не ответил.
Хоть бы урок кончился, думал я. Я бы листок незаметно сдал — и все. А вдруг завтра завуч прочитает наши листки, придет в класс и спросит: «Что же ты про своего отца не написал? Он с вами живет или не живет?».
И я так сидел, сложив руки, потом снова взял ручку и стал изображать, будто сломалось у нее перо.
— Бери мою, — сказала Галя Кругляк, — я уже написала.
— Не надо, — ответил я.
Тут на меня посмотрела Анна Григорьевна.
— Что ты крутишься, Коля? — спросила она. — Уж не в туалет ли хочешь?
— В туалет, — сказал я и сразу вскочил.
— Ну, иди.
И я пошел из класса, опустив голову и стараясь ни на кого не смотреть. Коридор был пустой. Я старался топать потише, но все равно получалось громко. И я боялся — вдруг из учительской выйдет завуч, схватит за руку и станет меня расспрашивать, в чем дело. Я вбежал в туалет, подошел к окну и стал стоять там, повернувшись к коридору спиной.
А звонка все не было.
Из крана противно капала вода. Я попробовал его завернуть, но вода закапала еще сильнее.
Потом где-то хлопнула дверь, и кто-то затопал по коридору, шаркая одной йогой.
Я спрятался за дверь, но тот человек вошел все-таки в туалет. Это был семиклассник с длинным лицом. Я его узнавал по лицу все годы, пока учился, а как фамилия — не знал.
— Ты чего? — спросил семиклассник, заглянув за дверь.
— А ты чего?
— Я ничего. Я палец, видишь, ножичком порезал. Меня к медсестре послали. Только идти неохота. Я карандаш точил и порезал.
И тут я сразу сообразил. В эту же секунду сообразил, что мне надо сделать.
Я вытащил из кармана свой ножик и отогнул лезвие.
— Ты чего? — снова удивился семиклассник. Он мочил свой палец в воде.
— Палец себе сейчас порежу.
Семиклассник сначала отодвинулся испуганно, а потом обрадовался:
— Контрольную не хочешь писать? Понятно. Во выдумали: первого сентября — и контрольную. У нас такого не было.
Я провел ножом по пальцу и ничего не порезал.
— Ты закрой глаза и жми.
Я закрыл глаза и снова провел. Потом еще раз.
— Испугался? — спросил семиклассник.
Я снова поставил нож на палец.
Тут вдруг раздался звонок, и резать было теперь необязательно.
Я пошел в класс.
У двери стояла Галя Кругляк.
— А у нас сейчас будет киноурок.
Тут из класса вышла завуч с нашими листками. У нее было недовольное лицо.
«Неужели из-за меня!» — подумал я.
Но Галя меня успокоила:
— Я за тебя дописала твоего отца. Смотрю, а ты его не вписал.
* * *
Я всегда, когда приближаюсь к нашей квартире, заранее ищу ключ. И сейчас тоже искал в карманах, потом в портфеле — на всякий случай, вдруг там, — потом снова в карманах.
Мама утром сказала, чтоб я обедал сам и ее не ждал.
А у нас сегодня родительское собрание.
Я положил портфель на подоконник и сел сам на него. У нас широкие подоконники на лестнице. Когда шли мимо жильцы, я отворачивался, чтоб они меня не расспрашивали.
Потом мне захотелось есть. Я оставил портфель на лестнице и решил походить вокруг дома. Однажды рядом с домом я нашел десять копеек.
«Найду еще и куплю себе слойку», — думал я.
Но деньги нигде не валялись.
Я снова вернулся к нашей двери и подергал ее. Она была заперта крепко.
Тут вышла соседка.
— Что, Коля, дома нет никого?
— Никого, — сказал я.
— Пошли к нам. Поедим, телевизор посмотрим.
— Я тут подожду, — сказал я, хоть есть мне захотелось изо всех сил.
Я побежал вниз, а соседка еще смотрела на меня, стоя у своей двери.
На улице я увидел Свету со Степаном Константиновичем и Барри.
Они тоже меня увидели. Степан Константинович даже рукой замахал.
— Мы идем Барри тренировать, — сказала Света, — пошли с нами.
И я конечно пошел.
— У нас Барри через барьер прыгает, по лестнице ходит, а бум — не любит. Мы идем на площадку, где бум, — говорила Света по дороге.
— Как отдохнул, Коля? — спросил Степан Константинович.
— Так мы же вместе были в лагере, ты что — забыл? — сказала Света. — Коля там знамя спас, во время торжественной линейки.
— А что к нам не заходишь? Приходи. Придешь?
— Приду, — сказал я.
На площадке, как только Барри увидел бум, так сел — и его невозможно было сдвинуть с места. Степан Константинович долго его уговаривал.
Потом Степан Константинович сам поднялся на бум и стал бегать по бревну, даже подпрыгнул на одной ноге и чуть не свалился. А мы со Светой тянули к нему Барри.
Барри наконец пошел, тоже поднялся на бревно, присел и заскулил совсем как щенок.
— Не стыдно? Такая огромная собака — и пищит, — уговаривал его Степан Константинович.
Второй раз Барри прошел по бревну смелее.
Мы отдыхали, потому что устали больше, чем он. Ведь его надо было и поддерживать, и подталкивать, и уговаривать.
Потом мы снова повели его по бревну, уже без поддержки. Степан Константинович шел внизу и держал поводок. И Барри прошагал весь бум.
— Ты почему с портфелем гуляешь? Я только сейчас заметил, — сказал Степан Константинович.
— Ключ забыл.
— Так ты и не обедал?
— Нет, — сказал я.
Я даже забыл о том, что мне недавно хотелось есть.
— Пошли-ка быстрей домой. Сказал бы хоть по дороге, мы бы тебе пирожков купили.
— Я лучше домой.
— Домой потом, а сейчас к нам — пообедаешь. Мама у нас щи варит — лучшие в мире.
И мы пошли все вместе к ним домой.
— Хочешь Барри вести? — спросил Степан Константинович и дал мне поводок.
На нас оглядывались прохожие. Они всегда оглядывались, когда видели Барри. А Барри важно шагал, медленно переставляя лапы, — огромная собака с гривой, как у льва. И я вел его за поводок.
Когда я съел суп, второе и компот, Степан Константинович предложил:
— Оставайся уроки делать.
— Нам не задали.
— И нам тоже, — сказала Света.
Я уходил, и они снова меня приглашали в гости.
* * *
И только я вышел из их дома, как увидел маму.
— Вот ты где! А я тебя уже обыскалась. Сегодня ведь у вас собрание? — спросила она. — Ты почему не обедал?
— Я у Светы обедал.
— А ключ твой почему дома висит? Забыл? Держи мой, а я пошла на ваше собрание.
Дома я решил поиграть в железную дорогу. Давно я ее не собирал.
Я составил уже все пути, стал расставлять станции, дома и деревья — и вдруг стало мне так грустно и одиноко!
Станцию с башней мы склеивали вместе с папой, я тогда учился в первом классе. А паровоз он мне привез в прошлую зиму. И я вспомнил, как мы весело с ним играли. Я был контролером и проверял на всех станциях билеты. И как наши поезда ходили по разным путям, только стрелки успевай переключать.
Я даже голос папы услышал, как будто он меня позвал из прихожей.
И я подумал: а вдруг все это неправда — про папу. Просто они решили так подшутить надо мной или меня испытать. А завтра утром или даже сегодня вечером папа войдет, засмеется — и все сразу наладится.
Я не стал разбирать дорогу, а прошелся по квартире. В квартире было пусто и страшно.
Потом я долго сидел на своем диване и представлял, как папа к нам возвращается. Например, я смертельно заболею, и мама пошлет ему телеграмму, и он прилетит из Москвы. Или бы с ним что-нибудь такое произошло. Он сломает обе ноги, и его внесут к нам на носилках. А мы будем за ним ухаживать.
Когда вошла в прихожую мама, я все еще сидел на диване в своей комнате.
— Дверь у тебя не заперта, — сказала мама.
Но я ей не ответил.
— Я шла назад с Анной Григорьевной и обо всем ей рассказала. О том, что мы разошлись с папой, тоже рассказала.
Потом, когда мы попили чаю, я снова сидел в своей комнате.
Мы с папой разошлись… Шли, шли — и разошлись. Я сегодня утром тоже разошелся. Утром шел в школу, а рядом со мной — старичок незнакомый. Потом он пошел направо — за газетой к киоску, а я — дальше, в свою школу. И мы с ним разошлись. Только мы с ним и были не знакомы. А папа — он же родной. Разве можно разойтись с родным сыном? Раньше я думал, что только плохие люди, негодяи, расходятся с детьми. А теперь вот и папа разошелся. Но он же хороший. И мама тоже хорошая. А мне-то жить как же?
— Папа просит, чтобы ты пожил у них, — сказала мама из своей комнаты. — Он сегодня звонил. Все такой же наивный человек. Ведь ему надо часто уезжать, а у тебя школа и музыка…
* * *
На первом уроке Анна Григорьевна сказала:
— Наш класс будет шефствовать над первоклассниками. Это наша пионерская работа. Кто хочет быть октябрятским вожатым?
Я об этом вообще не думал — хочу или не хочу. Но Анна Григорьевна посмотрела вдруг на меня, и я тоже поднял руку.
Нас было одиннадцать человек. А требовалось только семь.
— Можно быть и по двое, кто хочет, — сказала Анна Григорьевна.
— Давай будем с тобой по двое, — предложила Галя Кругляк.
— Ваша первая звездочка, — сказала нам Анна Григорьевна.
Мы шли к первоклассникам, и я не очень-то знал, о чем мне надо там говорить.
— Хочешь, я буду девочками командовать, а ты — мальчиками, — предложила Галя Кругляк.
В первом классе учительница нам обрадовалась.
— Хорошо, что пришли. Вот ваша звездочка. — И она показала на три парты слева. — Пять лучей — пять человек.
В нашей звездочке было два первоклассника и три первоклассницы. Тот, что был у стены на третьей парте, принадлежал уже к другой звездочке.
Ученики смотрели на нас и молчали.
— Это ваши вожатые, — сказала учительница им, — Коля и Галя. Выбирайте в звездочке главного, — прошептала она нам.
— Сначала выберем главного, — сказал я громко.
И сразу рослый первоклассник поднял руку.
— Кого ты предлагаешь главным?
— Я сам хочу главным.
— Так нельзя, это ведь выборы. — Я даже растерялся.
— А я хочу сам.
Тут поднял руку другой первоклассник.
— Его спроси, — подсказала Галя Кругляк.
— А ты кого предлагаешь? — обрадовался я.
— Я тоже хочу главным.
Первый первоклассник как услышал это, так схватил букварь и стукнул второго по голове.
А второй громко заплакал.
К нам подошла учительница.
— В чем дело?
— Они оба хотят быть главными, — пожаловалась Галя Кругляк.
— Главными надо выбирать девочек, — сказала учительница, — они спокойные и старательные. Вот Наташа сидит. Она будет у вас главная. Все согласны? — Учительница показала нам на девочку с краю. У нее и в самом, деле был умный вид.
* * *
Мы шли с Галей Кругляк после октябрятского сбора, и вдруг я увидел Свету.
Света стояла на углу и ждала, пока проедут машины, чтобы перейти улицу.
— Вон та самая девчонка стоит. — И Галя Кругляк показала на Свету. — Опять будешь на нее смотреть?
А я не знал, что сейчас делать: побежать к Свете или спокойно идти и разговаривать с Галей Кругляк.
Света тоже увидела нас.
Я хотел крикнуть: «Света!».
Но она сразу повернулась к нам спиной и пошла в обратную сторону.
— Я пойду, — сказал я Гале Кругляк.
— За ней побежал? Я тогда с тобой не буду в одной звездочке вожатой.
— Ну и не будь, — ответил я и побежал догонять Свету.
Мне еще машины мешали, потом трамвай ехал, и было никак не перейти улицу. А Света все уходила.
И я побежал быстро, как мог, чтобы ее догнать.
— Света! — кричал я. — Света!
Она услышала, но вместо того, чтобы остановиться, пошла еще быстрее.
Наконец я ее догнал. И она остановилась.
— Ты куда идешь? — спросил я.
— Никуда, — ответила она.
— А я хотел к тебе. Можно? С Барри поиграем.
— Нельзя. Я весь день буду делать уроки, а ты гуляй со своей подругой, — сказала она и быстрыми шагами пошла к своему дому.
— А завтра? — спросил я.
Но она даже не ответила.
* * *
Утром я шел в школу, и вдруг ко мне подбежали две первоклассницы.
Я сначала и не узнал их.
— Коля, за нами Арьев гонится! — крикнули они.
— Какой Арьев?
— Вон, за дерево спрятался.
Из-за дерева выглядывал тот рослый первоклассник, который хотел быть главным.
Малышки так и дошли рядом со мной до школы.
У крыльца нас догнал Арьев и сказал:
— Я все равно главным буду!
* * *
Я думал, что Галя Кругляк не будет со мной разговаривать из-за вчерашнего.
Я сел за парту рядом с ней и молчал.
Но она сразу попросила:
— Дай линейку, я свою дома оставила.
Я дал ей линейку, и дальше мы разговаривали, как обычно.
После уроков я поехал в магазин покупать звездочки для своих октябрят. Деньги мне дала на последней перемене их учительница.
До магазина надо было ехать две остановки на трамвае.
А рядом с магазином был кинотеатр.
И только я вышел из трамвая, как увидел маму.
Она стояла у кинотеатра и смотрела по сторонам.
Я в первую минуту подумал, что это она меня ждет, оставила дома записку, чтоб я в кино бежал. А я дома не был, потому что сразу из школы в магазин, и о записке не знаю.
Только выражение лица было у нее странное, я такого никогда не видел.
Вдруг мама заулыбалась и замахала рукой. И смотрела она не в мою сторону.
Тут я увидел Федора Матвеевича. Он тоже улыбался и шел очень быстро маме навстречу.
Они остановились, что-то сказали друг другу, мама достала билеты, и они вошли в кинотеатр.
А я так и остался стоять и все продолжал смотреть на дверь. И совершенно забыл, зачем я приехал. Потом я подошел ближе к кинотеатру и посмотрел афишу фильма. На ней было написано, что фильм только для взрослых.
Я повернулся и пошел домой.
Я прошел так больше остановки и все думал про папу, про маму и про себя.
Я шагал, ни на кого не глядя, и вдруг кто-то встал прямо передо мной.
Это была Галя Кругляк.
— Ты уже купил звездочки? — спросила она. И тут я вспомнил про магазин. — Покажи, какие купил. Красивые?
— Я еще не купил, — сказал я.
— Пойдем вместе, купим.
И мы пошли с ней назад к магазину.
Я еще боялся, что вдруг кино кончилось и мы наткнемся на маму и на Федора Матвеевича. Я поэтому все время всматривался в людей, которые шли навстречу, чтобы вовремя убежать.
Но потом я подумал, что кино ведь длится два часа и мы успеем даже домой вернуться до конца фильма.
В магазине Галя Кругляк выбрала самые красивые звездочки.
Я заплатил деньги, которые нам дала учительница первоклассников.
Потом мы шли назад, и Галя рассказывала, как она была недавно в гостях и участвовала там в пьесе, изображала принцессу.
— Я просто необыкновенная была принцесса! — повторяла она.
* * *
Когда я в субботу пришел из школы, дверь открыл Федор Матвеевич.
— Коля пришел, — сказал он весело. — А мы с твоей мамой работаем.
В комнате пела птица, красивым голосом. Она замолчала, как будто задумалась, потом снова запела.
Я заглянул за дверь — оказывается, это была не птица, а магнитофонная лента.
Федор Матвеевич как раз выключил магнитофон, и пение смолкло.
За столом сидела мама и записывала в нотную тетрадь это птичье пение — нотами.
Федор Матвеевич еще раньше говорил, что ему с друзьями музыкальное издательство поручило составить сборник лучших птичьих песен.
— Только я нотной грамоты не знаю, — жаловался он.
И теперь мама ему помогала.
Потом мы пообедали все втроем, и Федор Матвеевич рассказывал смешные истории о своей работе.
У них в цехе есть рабочий — Никифоров. Он раньше ежедневно опаздывал, и ему цеховой комитет к каждому празднику дарил будильник. У него собралось восемь будильников. Теперь он не опаздывает, потому что кончил вечернюю школу и спит нормально. Теперь будильники ему не нужны. Он их принес назад, поставил на полку в цехе и каждый день заводит. И они все хором звонят, когда начинается смена.
А на рыбалке тот же Никифоров так махнул своим спиннингом, что леска обмоталась вокруг начальника цеха. Начальник цеха полчаса ходил вдоль берега весь связанный леской, его многие пытались распутать, и пришлось леску резать.
После обеда я читал книгу «По ту сторону кванта» — об истории современной физики. А мама с Федором Матвеевичем снова работали. И я тоже слушал пение их птиц.
Одна и та же птица пела свою песню в разные дни, то утром, то вечером. И песня была не одинаковой. Раньше я думал, что у птицы песня всегда одна, а сейчас, когда я прослушал ее раз девятнадцать подряд, я понял, что птица тоже поет песню с разным настроением. То с веселым, то с грустным. Как любое слово и имя можно сказать весело, а можно грустно. И от этого у слова получается разный смысл.
Вечером я остался один, а мама пошла в кино с Федором Матвеевичем.
* * *
Мы поехали в Театр Юных Зрителей. Раньше, в первых классах, мы ездили всем классом вместе с родительским комитетом. А теперь — первый раз поехали сами, кто как хочет.
Я приехал рано. В гардеробе было еще пусто, и в фойе — никого. Сначала я походил около растений, посидел у огромных окон, а потом вошел в зрительный зал. В зале было темно и тоже пусто. Лишь несколько лампочек светились над дверями.
Потом на сцену выбежал человек, посмотрел на меня и закричал:
— Никифор! Никифор!
Я подумал, что сейчас он скажет Никифору про меня, почему посторонние в зале, станет ругаться.
Никифор отозвался сверху, из темноты:
— Здесь я.
— Ну-ка, дай луну еще раз, — скомандовал человек на сцене!
Никифор звякнул у себя наверху какими-то железными штуками, и весь зал пересек луч света, а на сцене стало светлее.
Человек стал бегать вдоль сцены и ругаться:
— Ну что это за луна? Что это за луна, я тебя спрашиваю?! О чем мы с тобой вчера договаривались? Мы с тобой о такой луне договаривались? Опять халтуришь?
Никифор наверху завозился, сказал что-то, выключил свой прожектор, а потом включил снова. И сцена сразу засветилась по-другому.
Все предметы на сцене, которые раньше и не видны были совсем, теперь появились, только их было видно нерезко. Даже лодка, перевернутая вверх дном, и скамейка — они тоже как будто таяли, растворялись в серебристом воздухе.
— Вот это луна, — сказал довольно человек. — Умеешь ведь, а вечно ругаться надо. — Тут он снова взглянул на меня и вдруг проговорил: — Посторонних прошу покинуть зал.
И я быстрей пошел между рядами к двери.
Теперь в фойе уже было много людей. Наш класс тоже почти весь собрался. А в очереди за лимонадом я встретил Евдокимова из лагеря. Мы вместе выпили по целому стакану лимонада.
— Ты где сидишь? — спросил я.
— На десятом ряду.
— И я на десятом!
Только места у нас были не рядом. Но Евдокимов сунул свой билет девчонке, которая уселась на соседнее место, и девчонка молча ушла. Так мы с Евдокимовым просидели весь спектакль вместе.
Когда было смешно, мы оба хохотали и поворачивались друг к другу. А когда нашего разведчика взяли в плен, он поверил предателю и чуть не стал выдавать наши тайны, мы оба вскочили. И все, кто были рядом, тоже вскочили и стали кричать:
— Не выдавай! Не выдавай!
Наш разведчик как будто услышал, что мы ему кричали, кивнул головой и вовремя замолчал.
В антракте я записал адрес Евдокимова, а он — мой, и мы договорились писать и ездить друг к другу в гости.
А когда кончился спектакль, все побежали к своим очередям в гардероб, и я его потерял. Я получал пальто и все оглядывался, где же он. Потом оделся и ждал у выхода, но его нигде не было. Все уже вышли, в гардеробе погасили свет, а я надеялся и ждал.
Но так его и не увидел.
* * *
В субботу вечером к нам пришел Федор Матвеевич.
— Приглашаю вас в летнее путешествие на катере, — сказал он.
— В летнее? — засмеялась мама. — Ведь сейчас октябрь. А катер откуда появился?
— Катер мне подарили. Приятель мой переезжает насовсем на Север, а катер оставляет. Только нужно каюту отремонтировать и покрасить.
Мама достала с полки географические карты, расстелила их на столе, и мы стали смотреть, в какое можно отправиться путешествие по рекам.
— Можно выплыть в Балтийское море, — сказал я, — в Петродворец.
— Это нашему катеру на час работы.
— Можно проплыть всю Неву и выйти на Ладогу, — предложила мама.
— Это интереснее, но тоже — на день, — сказал Федор Матвеевич. — А что за путешествие на один день.
Мы долго рассматривали карты и составили такой маршрут.
Один день можно плыть по Неве до Ладожского озера. Там можно поселиться на необитаемом острове, прожить несколько суток и питаться рыбой. Потом можно плыть дальше по реке Свирь в Онежское озеро. Там тоже есть острова. Потом по каналам, которые еще проложил царь Петр Первый, переплыть в Волгу. А по Волге — через знаменитые города и шлюзы электростанций — можно доплыть до Астрахани и даже до Каспийского моря. Назад — мы сами — в поезде, а катер — в багажном вагоне или на специальной платформе.
— Вот это путешествие так путешествие — на целый месяц, через всю страну. Я с детства мечтал о таком, — сказал Федор Матвеевич.
— И я тоже мечтала, — ответила мама.
В воскресенье мы поехали смотреть катер.
Это был настоящий корабль. Он стоял на берегу на специальной подставке. Только краска на бортах у него была старая, и каюту надо было подремонтировать.
— Весной придется поработать, — сказал Федор Матвеевич.
* * *
А в следующее воскресенье утром за мной приехал папа.
Мамы уже дома не было, когда папа приехал. Она надела новое платье и пошла с Федором Матвеевичем смотреть какой-то фильм на утренний сеанс.
А я уже ждал с вечера папу и волновался.
Когда он вошел, я даже не поздоровался, а только стоял и смотрел на него. И он тоже молчал, а потом проговорил:
— Хочешь, поедем в аэропорт. Посмотрим, как самолеты взлетают.
Он положил на стол букет цветов, я надел пальто, и мы сразу пошли на трамвай.
Мы сидели в трамвае рядом.
— Расскажи, как дела у тебя в школе? — попросил он.
Я не знал, о чем рассказывать, и сказал:
— Хорошо.
— У меня тоже — хорошо, — сказал папа. — Я придумал такую систему — просто удивительно, как люди раньше до нее не додумались. Татьяна Филипповна сейчас дома ее вычерчивает. Она тебе привет передает.
— Спасибо, — сказал я.
До аэропорта надо было ехать через весь город.
С трамвая мы пересели на метро, потом ехали на автобусе.
А когда приехали в аэропорт, то оказалось, что сегодня низкая облачность, нелетная погода и самолетам нельзя ни взлетать, ни садиться. Все они стояли на своих местах, и даже людей около них не было.
— А я столько думал о сегодняшнем дне, — грустно сказал папа.
Мы пошли в буфет, и папа взял мороженое.
Пока мы сидели за столиком и даже тогда, когда в трамвае еще ехали, я хотел спросить его об одном и том же: неужели он никогда не вернется?
Если бы он захотел, я бы уговорил маму.
Но я не знал, как начать этот разговор, хотя несколько раз уже открывал рот, чтобы сказать первые слова.
Я даже не заметил, как съел все мороженое, даже вкуса его не почувствовал, так думал об этом.
А папа прикоснулся к своему только раз, и оно у него оседало и таяло.
— Мне очень трудно говорить с тобой, Коля, — сказал вдруг папа. — Я вот подготовил разные умные слова, а сейчас все они забылись… Я знаю, ты, может быть, нас презираешь?
— Нет, — сказал я и опустил голову.
— Я бы сам презирал своих родителей, если бы со мной случилось то, что с тобой. И все-таки, я прошу тебя, ты о нас плохо не думай. А маму твою я очень уважаю. Мама у тебя просто очень хороший человек — ты это знай.
— Хороший, — вдруг сказал я. — А тебя сегодня не стала ждать. Знаешь, где она сейчас? Она кино смотрит с Федором Матвеевичем и новое платье надела.
Папа даже вздрогнул после этих слов и отошел на несколько шагов от нашего столика. А все посетители стали на него оглядываться, когда он возвращался назад.
— Не говори так! — сказал папа. — Никогда больше не говори о своей маме так, таким тоном. Иначе… Иначе я сам начну презирать тебя.
После этого мы долго сидели молча.
Потом папа проговорил:
— Федор Матвеевич, думаю, тоже достойный, уважаемый, хороший человек. И я не удивлюсь, если он станет жить с вами вместе.
— Я хочу жить один, — сказал я.
— Так не бывает.
Мы ехали назад той же длинной дорогой.
— И почему я решил обязательно свозить тебя в аэропорт? Нелепо! — расстраивался папа.
Когда мы подъехали к нашей улице, уже стемнело. Шел мелкий дождь.
— Знаешь, — сказал папа, — я не пойду дальше, а буду стоять тут, у дерева. Ты иди один и, когда дойдешь до дома, помаши мне рукой.
Я пошел один и тихо заплакал. Я шел один, и каждый раз, когда оглядывался, папа мне махал, а я отвечал тоже.
А потом мы долго стояли — я у своего дома, а он — у дерева — и смотрели друг на друга издалека.
Потом из нашего дома вышли люди, я последний раз помахал папе так, чтобы они не заметили, и пошел к крыльцу.
* * *
Однажды вечером, когда мы попили чаю, мама вдруг сказала:
— Я хочу очень серьезно с тобой поговорить.
У меня даже сердце сжалось, потому что я сразу догадался, о чем мама будет со мной разговаривать.
— Понимаешь, нам ведь с тобой одним не очень-то хорошо. А папа к нам уже никогда не вернется. Я сама ему еще весной предложила разойтись… — Мама замолчала, и я тоже молчал, даже головы не поднимал. — Федор Матвеевич сделал мне предложение выйти за него замуж. Он говорит, что нас очень любит. И ты это сам чувствуешь. Ведь чувствуешь?
Я так и не выговорил «да», а только кивнул головой.
— А я пока ответила ему вот что: «Как Коля решит, так и будет». — Мама снова помолчала. — Ты не торопись отвечать, подумай. Если ты согласен, чтоб он жил с нами, — значит, он скоро к нам переедет. Если нет — значит, я буду жить только для тебя, и значит, такая у меня судьба… Сейчас ты иди к себе и ложись. И подумай…
Я долго не засыпал.
Конечно, я мог бы сразу зареветь, закричать: «Не хочу никакого Федора Матвеевича, хочу, чтоб мы только вдвоем, чтобы ты ради меня жила!»
Но это был бы эгоизм, и только. Так пятилетние дети себя ведут, потому что думают лишь о себе.
Маме бы от такого крика точно было бы хуже…
«А папу я всю жизнь буду любить», — подумал я, когда совсем засыпал.
Утром мама спросила меня:
— Ты уже решил?
И я тихо ответил:
— Я согласен.
А мама тоже сказала почти шепотом:
— Спасибо, Коля.
* * *
Когда я пришел из школы в последний день перед праздниками, мама готовила торт.
— Сегодня Федор Матвеевич придет к нам насовсем. Птиц он временно передаст другу, своему ученику. А у нас будет сегодня праздничный ужин, — сказала она.
Весь вечер я сидел за столом и молчал.
Федор Матвеевич тоже почти все время молчал.
* * *
Раньше, когда папа жил еще с нами, мы всегда Седьмого ноября выходили на улицу все втроем.
И в этот раз, когда я проснулся, мама сказала мне:
— Одевайся быстрее, пойдем смотреть демонстрацию.
А я не хотел идти с ними.
— Быстрей, а то опоздаем. Что ты там копаешься? — спросила мама минут через десять.
Я оделся и вышел.
Федор Матвеевич стоял у зеркала и завязывал галстук.
— Подожди, я тебе помогу, — сказала ему мама.
Я пошел в ванную, открыл кран и стал смотреть на воду, как она льется.
— Ну что ты копаешься? — спросила мама меня снова.
А я не отвечал.
— Коля, только честно: может быть, ты не хочешь идти? — спросил Федор Матвеевич из-за двери.
— Не хочу, — сказал я. — У меня нога болит.
— Что ты еще выдумал! — рассердилась мама. — Быстро пей чай и надевай пальто.
— Подожди, а если он и правда нездоров, — сказал Федор Матвеевич.
Я молчал.
— У тебя на самом деле болит нога? — спросила мама.
— Да.
— А что у тебя болит в ноге?
Я не знал, как ответить, подумал и сказал:
— Вся нога.
— Пусть он останется, Маша, если хочет быть дома. Зачем ему навязывать наши желания. Мы пошли, Коля! — сказал он через пять минут. — А захочешь погулять, возвращайся к обеду, к двум часам. Правильно, Маша?
— Правильно, — сказала мама.
И они ушли.
* * *
По радио передавали праздничную музыку, а у меня было грустное настроение, как всю эту осень. И читать не хотелось, хоть мне и дали наконец в библиотеке «Таинственный остров».
Я посидел на диване, потом оделся и вышел на улицу.
На улице по радио тоже исполнялись веселые песни. И люди все смеялись, радовались, а некоторые даже плясали.
Я шел между ними, они меня иногда толкали, я шел один и все думал о том, как теперь буду жить вот так в одиночестве. И никто мне не нужен. Папа будет жить в Москве, мама — с Федором Матвеевичем, а я — один.
И в классе тоже буду молчаливым и мрачным. А про себя, внутри, я буду придумывать какое-нибудь великое открытие. И однажды в газетах про это открытие напечатают.
«А мы-то бросили его в одиночестве, — скажут все, — он из-за нас был таким несчастным. И на него никто не обращал внимания. А он, оказывается, сделал великое открытие».
* * *
В обед я тоже молчал, даже «да» и «нет» не говорил, только кивал головой. А сразу после обеда ушел в свою комнату и лег на диван.
Тут ко мне постучал Федор Матвеевич.
— Можно к тебе, Коля?
Я молчал, но он все равно вошел.
— Ты мне разрешишь посидеть тут на стуле? А ты сам лежи, не вставай.
Он так полчаса, наверно, сидел около меня, а потом сказал:
— Ты, Коля, правильно переживаешь, и я тебя понимаю. Я только хочу тебе сказать, как человек человеку… Ты меня слушаешь?… — Я кивнул. — Отца я тебе конечно не заменю. Это невозможно — отца заменять — и ни к чему. Ты правильно сделал, что повесил фотографию отца над столом. Ты им гордись и люби его. А я тебе постараюсь быть другом, если ты согласен.
Он посидел еще в моей комнате, а потом вышел.
Вечером за чаем он спросил:
— Ты сможешь поехать со мной завтра к нашему катеру? Надо его укрыть на зиму. Тут нужна твоя помощь.
— Смогу, — ответил я.
* * *
Утром Федор Матвеевич взял ящичек гвоздей, моток проволоки, брезент.
Я тоже нес в рюкзаке кусок брезента.
Мама дала нам термос и бутерброды, и мы поехали к катеру.
Сначала мы расстелили брезент и посмотрели, как лучше накрыть им катер.
Дул ветер, и мы со всех сторон нагружали брезент кирпичами, чтобы он не улетел.
Потом Федор Матвеевич стал загибать его вниз и прибивать к борту катера, а я держал обеими руками и натягивал изо всех сил, так что даже руки быстро уставали.
Мы долго работали и несколько раз отдыхали. Иногда брезент вырывался у меня из рук, но я успевал придавить его ногой.
Потом мы пили горячий чай из термоса.
Потом снова работали.
И как раз когда все кончили, приехала мама.
Наш катер стоял уже весь укутанный. И мог не бояться ни дождей, ни морозов.
— А весной мы его снова распеленаем, — сказал Федор Матвеевич, — покрасим голубой краской, проведем красную ватерлинию, утеплим каюту, приладим двигатель и отправимся в плавание.
* * *
Моих первоклассников приняли в октябрята.
И теперь они носят звездочки. Те самые, которые мы с Галей Кругляк купили.
— Смотри, у них самые красивые звездочки в классе, — говорила мне Галя несколько раз.
А сегодня, когда я шел в школу, я увидел, что мои октябрята тащат огромную картонную коробку. Они еле-еле несли ее и громко пыхтели. Это были те самые, которые хотели стать главными и даже слегка подрались.
Всю неделю в нашей школе собирали макулатуру, и у моих октябрят коробка была полна газет и каких-то драных книг.
— Давайте я вам донесу, — сказал я и взял их коробку.
Они сразу обрадовались и побежали вприпрыжку рядом.
Мы обогнали других первоклассников, и мои октябрята хвастали:
— Видели, какой у нас вожатый? Он одной рукой тяжести таскает!
— Коля, а ты десять килограмм поднимешь? — спросил тощий октябренок.
— Да он сорок может поднять, — сказал рослый, у которого фамилия была Арьев.
И хотя я знал, что сорок и не поднять мне, но молчал и гордо шел с их макулатурой.
Глава пятая
Я уже четыре дня ходил до школы вместе с Федором Матвеевичем.
— На утреннюю прогулку — шагом марш! — командовал он самому себе, брал у мамы бидон для молока, сетку, и мы вместе выходили из дома.
Он меня провожал, а потом отправлялся в магазин за продуктами. Всю неделю он работал во вторую смену.
— А в следующую неделю я вас буду провожать до автобуса, — сказал я ему.
— Если не проспишь, — ответил он и засмеялся. — Ух, как я любил в твоем возрасте поспать, только редко удавалось.
Мы с ним специально пораньше вышли, чтоб не торопиться и поразговаривать, и вдруг он остановился около высоких деревьев, задрал голову.
— Ты посмотри, Коля, чижики! На нашу улицу чижи прилетели!
Я раньше в городе никогда не обращал внимания на птиц. А если и смотрел, то думал, что все они или воробьи, или синицы, или вороны.
— Послушай, как они веселятся! — радовался Федор Матвеевич. — Самые дружные птички — это чижики. На старой моей улице я их никогда не видел, а к вам — прилетают.
Я посмотрел на птиц. Они прыгали по веткам и громко пели. И правда, песни у них были совсем не воробьиные.
— Чижика мы могли бы держать и дома, за ним просто ухаживать, — сказал Федор Матвеевич, когда мы пошли дальше.
— А давайте купим, — предложил я.
— Что ты, Коля, покупать я не буду. Это только канареек покупают, потому что они не водятся у нас в диком виде. А певчую птицу надо самому выбрать в лесу по песне, по характеру или по красоте. Хочешь, поедем в лес?
— Конечно, хочу! — сказал я.
— Давай съездим на воскресенье, если не будет мороза. Я знаю еловый лес, там в теплые зимы всегда живут чижики. А то я тебе сколько уж рассказывал, а так ни разу и не показал.
— И он у меня будет жить?
— Обязательно будет. А как он поет! Какой он веселый! Сам увидишь, — сказал Федор Матвеевич. — Только бы мама тебя отпустила.
* * *
Когда с человеком дружишь, встречаешь его каждый день. А уж раз-то в неделю — обязательно.
Сейчас мы со Светой поссорились, и я за месяц видел ее только два раза.
Мы шли по улице в разные стороны. Если бы она поздоровалась или бы сама ко мне подошла, я бы с ней сразу заговорил. Но она проходила, глядя в сторону, и я тоже на нее старался не смотреть.
И вдруг она к нам прибежала домой. Когда я открыл дверь и увидел ее, то удивился, даже не отошел от двери.
У нее было такое лицо, как будто она меня не видит и пришла совсем не ко мне.
— Федор Матвеевич дома? — спросила она.
Я опять удивился и ответил:
— Дома.
— Я к Федору Матвеевичу.
Федор Матвеевич в это время заряжал фотопленку в ванной.
— Света? — крикнул он оттуда. — Раздевайся, Светочка, давно я тебя не видел.
— Федор Матвеевич, у нас Барри заболел, — сказала Света.
Она пальто не снимала, только подошла к двери в ванную.
— Сейчас я выйду, — отозвался Федор Матвеевич.
— А чем заболел? — спросил я.
— Не знаю. Папа в Тюмени, а мама поехала на дачу, меня одну оставила.
— Нос у него горячий? — спросил Федор Матвеевич все еще из ванной.
— Очень горячий. И он не ест, лежит на подстилке и на улицу не хочет.
— Понимаешь, в птичьих болезнях я кое-что знаю, а собачьи — не очень. Сейчас я позвоню другу.
Федор Матвеевич вышел из ванной и сразу встал у телефона.
— Знаю, что они чумой болеют, а какие признаки у этой чумы — дело для меня темное. А может, он просто поел что-нибудь на улице.
— Он на улице никогда не ест, ему Светин отец запрещает. Это называется «отказ от корма», — сказал я.
— Ну конечно, он ведь — служебная собака, — поправился Федор Матвеевич.
— Может, «скорую помощь» вызвать, для животных? Папа оставлял телефон, только я не знаю, куда он делся.
— Сейчас все сделаем. Сначала позвоним другу — если он свободен, то можно не переживать. Он у меня тоже птичник, а сам работает ветеринарным доктором. Только бы застать его дома.
Федор Матвеевич набрал номер и сразу обрадовался:
— Застал!.. Игорь, — начал говорить он другу, — Игорек, у тебя мотоцикл на ходу?… Ну, слава богу. Игорек, подъедь ко мне. Пожалуйста, у нас тут у друзей заболела собака… Да нет, не у меня, откуда у меня собака, у друзей, я говорю. — Он послушал, что ему говорил товарищ. — Редкой породы, сенбернарыч… И девочка дома одна, плачет.
Я посмотрел на Свету — она и в самом деле собиралась плакать.
— Ну, спасибо. Сейчас мы тебя встретим… Едет, — сказал Федор Матвеевич и положил трубку, — минут через двадцать пять встретим.
Мы оделись, оставили маме записку, где мы, и вышли на улицу.
Мимо проезжали разные машины, но мотоцикл не показывался.
— Он с коляской, — сказал Федор Матвеевич, — его сразу узнаешь.
Потом из-за поворота вывернул мотоцикл, с огромной скоростью понесся к нам и около нас громко затормозил.
— Ну ты и носишься, смотреть страшно, — сказал Федор Матвеевич пожилому человеку в мотоциклетном шлеме.
— Сам просил торопиться, — ответил человек.
Он снял шлем, вынул из коляски чемоданчик и спросил, как настоящий врач:
— Где больной?
Мы пошли к Светкиному дому.
Света открывала дверь, а Барри молчал, хотя раньше всегда встречал своим зычным басом.
Доктор снял куртку, вытер лицо и руки большим носовым платком, прошел в комнату к Барри, нагнулся над ним, а тот лежал и равнодушно смотрел куда-то в сторону.
— Баричек, Барри, — заговорила Света.
Доктор осторожно протянул руку, погладил. Потом провел рукой против шерсти. Потом сказал Свете:
— Девочка, поднимите собаку, пусть он пройдется.
Света сказала:
— Стоять!
Барри приподнялся, а потом снова лег.
— Позовите его из кухни, а я посмотрю, как он ходит.
Света ушла в кухню и позвала Барри оттуда.
Барри медленно пошел к ней, не обращая на нас внимания.
Там он попил воды и вернулся назад.
— Чумка, — сказал доктор, — кожная форма. Сегодня ты его не чесала?
— Нет, — ответила Света.
— Если бы чесала, уже утром заметила бы. Видишь, какое воспаление на коже. — Он снова провел рукой против шерсти. — Главное, чтобы не перешла в нервную форму. Большие собаки плохо ее переносят, чаще приходится усыплять. — Он посмотрел на Барри из коридора. — А жаль будет, хороший пес. Играл с какой-нибудь собакой на днях?
— Играл в воскресенье, с уличной какой-то.
— Вот и заразился. Ни в коем случае с уличными собаками не играйте.
Доктор вынул из чемодана маленькую пластмассовую коробочку.
— Я выпишу рецепт. Будете делать уколы четыре раза в день, лекарства купите в обычной аптеке. Сейчас я сделаю первый укол, а вы учитесь. Где у вас можно прокипятить шприц?
Света достала большую миску, туда положили настоящий шприц, две иглы, и мы стали ждать, когда закипит вода.
Потом доктор вымыл руки, собрал шприц, достал ампулу с жидкостью, сломал у нее горлышко, набрал жидкость в шприц, иглой шприца проткнул дырку в металлической пробке маленькой бутылочки, где был на дне порошок, и перелил туда жидкость. Порошок растворился, доктор набрал все назад в шприц, сменил иглу и стал делать укол Барри так же, как делают людям. Протер ваткой, смоченной в спирте, место на коже у задней ноги, воткнул иглу.
Барри даже не зарычал.
— Уж больно ты волосатый, — говорил ему доктор, выдавливая всю жидкость из шприца под кожу Барри. — Ничего, у меня рука легкая… Я вам все это оборудование оставлю, только не разбейте. Дня три придется поколоть. В шесть утра, в двенадцать дня, в шесть вечера и в двенадцать ночи.
— В двенадцать дня как же мы сможем? — сказал Федор Матвеевич. — Сейчас конец месяца, меня с работы не отпустят. В другие часы — я могу.
— Завтра среда? — спросил доктор. — Ладно, у меня следующие три дня вечерний прием, уколю вашего пса сам. Жалко, уж очень славный пес.
Света нашла лишний ключ от квартиры и дала его доктору, потому что мама у нее днем завтра тоже работала и дома никого бы не было.
— Постарайтесь его кормить тем, что он любит. И поливитамины давайте, обязательно поливитамины! — сказал доктор, когда уходил.
— Спасибо тебе, Игорь. Видишь, без тебя бы загубили собаку.
— Рано еще говорить спасибо. Лишь бы не перешло в нервную форму. У таких собак она почти всегда кончается параличом. Ну, будем надеяться и лечить. И на улицу выводите на одну лишь минутку, не больше.
Доктор вышел из дома, и я видел в окно, как он пошел в своей куртке по улице в сторону мотоцикла.
— Теперь, Света, сходим за лекарством, а в шесть утра и вечером буду ходить к вам в гости. Уколы делать я умею, — сказал Федор Матвеевич.
И мы все пошли в аптеку.
* * *
Я проснулся рано утром и посмотрел на будильник.
«Неужели про укол забыли!» — испугался я и выскочил из своей комнаты.
В прихожей пальто Федора Матвеевича не было.
А на кухне висела записка:
«Коля, не волнуйся, я пошел сделать укол, а потом сразу съезжу, покормлю птичек. Ф. М.»
И я снова пошел досыпать.
* * *
А днем я встретил Андрея.
— Ну чего, опять со Светкой помирились? — сказал он.
— Мы и не ссорились.
— Как же не ссорились, я-то знаю. А вчера вместе с отчимом побежали к ней — я видел.
— С каким отчимом?
— Ну с этим, с Федором Матвеевичем.
— Он мне и не отчим.
— А кто же еще, конечно отчим.
Я хотел сказать, что он мне друг, но подумал, что после такого Андрей меня совсем засмеет. Скажет, что взрослых друзей не бывает.
* * *
А через два дня ровно в пять часов зазвонил телефон.
— Коля, ты? Это дядя Федя говорит, Федор Матвеевич. Слушай, милый, я сегодня приду поздно, конец месяца на работе, конвейер гоним, все задерживаются.
«А Барри как же?» — подумал я.
— Придется вам колоть или Светиной маме, ты меня извини, что так плохо получается.
Он еще спросил, сумею ли я. Я хотел сказать, что боюсь, но вдруг в телефоне послышался треск, потом короткие гудки, и ничего не стало слышно.
Я так разволновался, что выбежал на улицу без пальто. Потом все-таки вернулся, потому что солнце уже скрылось и дул ветер.
Света была дома одна. Барри лежал в комнате.
А я, когда волнуюсь, я почему-то улыбаюсь. Совсем не хочу улыбаться, наоборот, надо сказать о грустном, а у меня вдруг рот расширяется.
Света увидела, что я улыбаюсь, и тоже развеселилась.
Но тут я сказал:
— Федор Матвеевич сегодня не придет. Он сказал, чтобы мы делали без него.
— Без него? — удивилась Света. — Я боюсь.
— Так ведь укол-то надо делать!
— А вдруг шприц сломается, и иголка останется в Барри.
— Не останется, мы осторожно.
— Колоть, наоборот, надо быстро, — сказала Света. — Осторожно, но быстро — это мне Федор Матвеевич сказал… Подождем маму лучше?
Мы стали ждать ее маму. Было уже десять минут седьмого, а мама все не приходила.
— Что же делать! — повторяла Света. — Я боюсь сама.
— Давай я ему сделаю, — сказал я, хоть тоже боялся.
Мы разобрали шприц и стали его кипятить так, как показывал доктор.
Света сказала, что Барри стало лучше, у него уже аппетит появился.
У него и правда шерсть была сегодня не клочьями, не как тогда, и смотрел он здоровее.
— Зато ему теперь больно от уколов, потому что мы колем в одни и те же места.
Она достала из холодильника мясной фарш, насыпала туда витаминного порошка, а я собрал шприц, приготовил смесь для укола, и она была у меня уже в шприце. Я даже брызнул ею капельку, чтобы воздуха не было.
— Руки у тебя не дрожат? — спросила Света.
— Дрожат немного.
— У меня тоже трясутся. А надо, чтобы не дрожали. Может, маму подождем?
— А половина седьмого? Мы и так на полчаса опоздали.
— Ты постарайся, ладно? — сказала Света.
— Конечно постараюсь.
Она позвала Барри на кухню. Он стал есть из миски фарш с витаминами, а я в это время начал делать ему укол.
Он дернулся слегка, когда я воткнул ему иглу, но я, наверно, делал все не очень больно, потому что он терпел.
Только я вытащил иглу и смазал ему кожу, как вошла Светина мама.
— Уже одни успели? — удивилась она. — А я всю дорогу бежала. Мне как Федор Матвеевич позвонил, я так и заволновалась.
— Коля колол, а я — Барри отвлекала, — сказала Света. — Теперь еще в двенадцать ночи, и больше, наверно, не надо.
— Молодцы, какие вы у меня молодцы, — радовалась Светина мама, — я бы и не сумела, побоялась, а вы — сами справились.
* * *
Ссора получилась из-за меня.
Несколько дней мама уходила на работу утром и возвращалась домой поздно, потому что заменяла сразу двух учительниц. Одна учительница поехала на десять дней к своему сыну в другой город, а другая — заболела. И мама работала за них за двоих да еще за себя, то есть за троих.
А я занимался музыкой со своей учительницей, и она опять ругала меня за лень.
— Ведь ты не занимался вчера? — спросила она.
— Занимался, — сказал я, потому что и в самом деле занимался.
— Что ты меня обманываешь. Ведь ты помнишь, что говорил Рубинштейн: когда я не играю один день, я замечаю, что играю уже хуже. Если я не играл два дня — это замечают уже мои музыкальные критики. А если я не занимаюсь три дня, то вся публика говорит, что я стал играть плохо. Ты понимаешь, только ежедневные занятия.
— Я вчера занимался, — отвечал я.
— У меня взрослые занятые люди, студенты, стараются больше, чем ты. Ты совсем утерял выразительность! — снова ругала она.
А я не ленюсь. Хоть мне и не интересно, я все равно делаю все упражнения, разучиваю, что она задает. Только куда-то удовольствие от игры пропало. Я же не виноват, что делаю без удовольствия.
— Механический человек, робот, сыграл бы лучше, чем ты сейчас, — обижалась она. — Я учу тебя сколько времени. Меня многие упрашивают, приглашают, а мне некогда. И ведь были у тебя способности, были!
Она ругала меня, а я молча сидел около пианино, водил пальцем по клавишам и ждал, когда она кончит.
А потом она написала маме записку, вложила ее в конверт и заклеила.
— Отдашь маме.
Когда она уходила, пришел Федор Матвеевич.
Он посмотрел на ее лицо и спросил:
— Что-нибудь плохо?
— Мальчик расскажет вам сам, до свидания.
Мама вечером вернулась с работы усталая.
Федор Матвеевич уже два раза грел еду к ее приходу, но она сказала:
— И есть мне не хочется. В середине дня очень хотела, а сейчас — не тянет. Я просто так посижу на диване.
Она села, и тут ей попалось на глаза письмо учительницы.
— Это мне письмо? — удивилась она.
— Да, тебе, — сказал я.
Мама начала его читать, а потом отбросила:
— Ну что она пишет, что пишет! «Ленивая, бездушная игра, не могу расходовать время на такие занятия».
— Может быть, у Коли просто кончились способности? — сказал тихо Федор Матвеевич. — Я слышал, как он играет, будто над ним висит палка.
— Как это — кончились способности. Не бывает такого. Если они были, — значит, есть. Бывает, когда получается хуже, бывает — когда лучше, но чтобы весь год подряд одни жалобы! Неужели тебе действительно надоела музыка?! — спросила мама.
Я молчал.
— Отвечай, я тебя спрашиваю. Тебе надоели уроки? Или что-нибудь не так?
— Надоели, — сказал я.
— Может, ему стоит прекратить… хотя бы на время?
— Что значит — прекратить? Бросить сейчас учиться — это значит пустить по ветру три с половиной года. Будь у тебя свой сын… — сказала мама и замолчала.
— Если ты будешь так со мной говорить, я обижусь, — проговорил Федор Матвеевич.
А мне захотелось сразу куда-нибудь убежать, спрятаться, заткнуть уши. Потому что я не могу слышать, как ссорятся взрослые.
— Я ничего обидного не сказала. Будь у тебя свой сын, ты бы не предлагал ему бросить занятия, если он отучился три года.
— Если бы ему было неинтересно, я бы не стал его заставлять. У Коли к музыке сейчас душа не лежит, я же вижу. Он увлекается другими вещами, а к музыке — не лежит.
— Что ты видишь? Ну что ты можешь увидеть, если ты ничего в этом не смыслишь! — сказала громко мама.
И Федор Матвеевич даже вздрогнул, а потом тихо проговорил:
— Так я с тобой разговаривать не буду.
— Что, разве я сказала неправду? Что же ты обижаешься?
— Я лучше пойду пройдусь, — сказал Федор Матвеевич, — а ты за это время отдохнешь и успокоишься.
Он взял в прихожей пальто, не стал его надевать, а прямо с ним в руках вышел из квартиры.
— Иди к себе, — вдруг сказала мне мама, — нечего тебе слушать наши разговоры.
А я испугался. Я подумал, что Федор Матвеевич только сказал, что пойдет прогуляться, а на самом деле он на нас обиделся и поехал в свою комнату. И может быть, снова станет там жить. Заберет своих птиц у друга и будет, как раньше, жить в своей комнате с птицами.
Я вспомнил, как плохо мне было сразу после лагеря и осенью, как я ходил один по улицам и домой не хотелось мне приходить.
Раньше, если бы с мамой моей кто-нибудь ссорился, я бы всегда думал, что она права. А сейчас я очень испугался за Федора Матвеевича — ведь она его несправедливо обидела. И все из-за меня, из-за того, что он меня защищал. Получилось, что это я виноват в их ссоре. И я еще больше стал переживать. Наверно, надо было сказать что-нибудь такое, чтобы они сразу замолчали. Например, вскочить на диван и закричать: «Если вы так хотите, буду я учиться. Хотите — на пианино, хотите — на барабане. На чем скажете, на том и буду, только замолчите!»
Я посмотрел на будильник. Федора Матвеевича не было уже час.
Неужели он уехал и больше к нам не вернется?
На улице шел то ли снег, то ли дождь и было темно.
Может быть, он уже сидит в своей комнате, радуется, что снова вернулся и не будет больше никогда с нами разговаривать.
Мама тоже, наверно, испугалась, потому что вдруг сказала:
— Пойдем поищем Федора Матвеевича.
Я сразу стал одеваться, и мы вышли на улицу.
Прохожих было мало, и они быстро куда-то исчезали, даже их лица я не успевал разглядеть.
Мама сначала огляделась по сторонам, а потом предложила:
— Ты ищи в этой половине, а я в той. Не боишься?
И я пошел за дома, в сторону большого пруда, который еще называют Зеркальным.
Мне навстречу шли разные люди. К некоторым я подходил поближе, чтобы их рассмотреть в темноте. Один даже остановился и спросил:
— Ты не потерялся, мальчик?
А я ответил:
— Нет, я гуляю.
Я отошел от него немного, и вдруг он мне закричал:
— Мальчик, ну-ка иди сюда!
Я подходить не стал.
— Родители у тебя дома? — спросил он издалека.
— Дома.
— А почему ты гуляешь в такую погоду? Кто тебя выпустил?
— Я домой иду, — сказал я и быстрей спрятался за кусты.
И вдруг на мокрой скамейке у голого сырого дерева я увидел Федора Матвеевича.
Я сразу понял, что это он, хоть он и сидел ко мне спиной, сгорбившись на той скамейке.
Я к нему подошел и сел рядом.
Он молчал, и я молчал тоже.
Потом он спросил:
— Замерз?
— Нет, — сказал я, хотя и замерз.
А он вздохнул.
— Ты не обижайся на маму. Видишь, она устает сейчас на работе, поэтому и раздражается. Это она все от усталости наговорила. Ведь верно?
— Верно, — сказал я.
— Ну, пойдем домой, успокоим ее.
— Она вас тоже ищет, только в другой половине, — сказал я.
Он положил руку мне на плечо, и мы так и шли вдвоем в темноте среди голых кустов и деревьев.
У дома стояла мама.
— Наконец! — сказала она. — А я так переволновалась!
Мы поднялись все вместе на крыльцо.
— Ты, Коля, иди домой, — сказал вдруг Федор Матвеевич, — погрейся. А мы еще немного походим. Я такую слякоть люблю, если ноги сухие.
— Я тоже люблю, — сказала мама.
Дома я почитал немного разные истории из «Морской энциклопедии». Мне ее дал Гриша Алексеенко, а ему — подарил брат на день рождения. Там были рассказы и про рыб и про людей и разные смешные морские случаи. И даже флаги всех флотов мира там были нарисованы.
Как раз когда я стал расстилать себе на диване постель, пришли Федор Матвеевич и мама. Они тихо прошли на кухню и стали там пить чай.
* * *
Седьмого марта папа заехал за мной вечером с букетом больших белых цветов.
Он открыл дверь своим ключом, вошел в прихожую и вдруг растерялся, потому что получилось, будто он вошел без разрешения в чужую квартиру.
Федор Матвеевич заулыбался, пожал ему руку и стал предлагать:
— Раздевайтесь, проходите, пожалуйста, посмотрите наших птиц. У меня их тут только две, да у Коли — чижик, но все-таки интересно.
Папа стоял в пальто у стены и смущенно оглядывался.
— Спасибо, — отвечал он, — я постою здесь. Пусть только Коля быстрей одевается.
— Все-таки попейте с нами чаю, у нас сегодня вкусные конфеты, — звал Федор Матвеевич.
Но папа так и не разделся.
А я быстрее надевал костюм и галстук.
— Как идут дела с вашим новым проектом? — спросил Федор Матвеевич.
— Спасибо, — отвечал папа, — как всегда, то быстро, то тянутся. Татьяна Филипповна очень мне помогает, без нее я бы давно запутался. Тот проект, который представили к премии, я взял назад, хочу кое-что освежить, переделать.
Я уже оделся и выбежал в прихожую.
— Платок возьми, — прошептал мне Федор Матвеевич.
Хорошо, что он напомнил, потому что у меня опять начался насморк.
Платок я сунул в пиджак, надел пальто и шапку.
— Вырос он как за год, — сказал Федор Матвеевич. — Я в прошлом году увидел его в электричке — совсем был ребенком. А теперь уже — отрок, подросток.
— Да, вырос он сильно, — подтвердил папа. — Жаль, не застал Машу, — сказал он, — передайте ей мои поздравления с завтрашним праздником.
Он повернулся к двери, увидел в своей руке букет цветов и вдруг сказал удивленно:
— А цветы? Чуть не забыл о цветах. Этот букет — для нее, а я чуть не увез обратно!
— Спасибо. — И Федор Матвеевич улыбнулся. — Маша любит именно каллы.
— Да? — Папа снова удивился. — Ну, естественно, у нее должны быть какие-то любимые цветы, как же я об этом не подумал раньше. Вы говорите, я угадал?
— Попали в точку, — подтвердил Федор Матвеевич.
— Ну что же, всего вам доброго. — И папа снова пожал руку Федору Матвеевичу.
— А вам — хорошего дня рождения.
Эпилог
Утром я открыл глаза и вдруг увидел, что надо мной висит электрический фонарик. Тот самый фонарик, о котором я давно мечтал, только боялся просить. Он был привязан за нитку к стене и висел прямо над моей головой.
Я сразу понял, что это подарок от Федора Матвеевича, только удивился, потому что сегодня был обыкновенный день — не рождение и не праздник, даже не воскресенье.
Я отвязал фонарик, быстро оделся и вышел в прихожую.
Федор Матвеевич в это время ставил цветы в вазу на столе. Он оглянулся на меня и поднес к губам палец, чтобы я молчал. На столе рядом с вазой стоял еще красивый торт. А вчера вечером я не видел ни торта, ни цветов, и где их Федор Матвеевич прятал, — я даже не знаю.
Я еще вспоминал, какой же сегодня такой необыкновенный день, когда из кухни вышла мама.
— Цветы! — удивилась она. — Разве у нас сегодня праздник? И торт откуда-то появился.
— Чудаки, конечно праздник, — сказал Федор Матвеевич, улыбаясь. — Ровно год назад я вас встретил в электричке.
И он пошел из комнаты нам навстречу с букетом цветов.


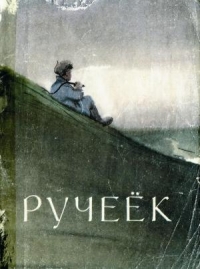



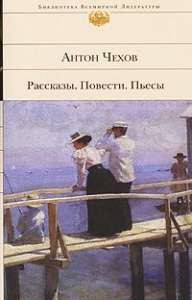




Комментарии к книге «Утренние прогулки», Валерий Михайлович Воскобойников
Всего 0 комментариев