Николай Владимирович Богданов Осиное гнездо
I
Но, но, да но, чорт! — орал коренастый, вихрастый парнишка на худого мерина, стараясь достать его кнутовищем из-за сохи.
Мерин напруживался, дергал. Соха скрипела и, выворачивая комья земли, прыгала так, что шибала парнишку из стороны в сторону. Ему страшных усилий стоило не дать ей выскочить. Пот тек по пыльному лицу и разводил грязь. Мерин протаскивал соху десяток шагов и, тяжело сопя, становился.
— Встал… Но, да но…
Повторялась та же история. Руки ныли. Жар обухом била, разламывала голову. Звенели досадливо жаворонки, и звенело в ушах от натуги. По всему полю раскиданы скорчившиеся фигуры пахарей. Как грачи, они разевали черные от пыли рты и сухой от жары глоткой орали:
— Но, борозду, возле!
Парнишка, стискивая зубы, вцеплялся в соху и тоже орал, надрываясь и хрипя. Один раз, когда соха, вымотав все силы, вырвалась и швырнула его в пыльный крушник, он не выдержал и заревел.
— Ты што, Дикой, что ревешь-то, — подошел сосед со своей борозды, — давай-ка покурим.
Дикой успокоился и стал крутить цыгарку. Сладко затянуться дурманящим дымом, чтобы не чувствовать, как разламывает спину.
— Говоришь — туго, не берет, то-то и оно, без навоза.
— Да вон мерин — чорт паршивай…
— А што мерин-то, от бескормицы, не от лени.
Дикой посмотрел на мерина. Тот сухими губами захватывал и выгрызал, злобно стукая зубом, сухие былки.
— И то, одна шкура — не лошадь.
— А где отец-то?
— В волости третий день сидит за недоимку а пар пропустишь, поди-ка, подыми после.
Соседи покурили, и опять принялся Дикой за проклятую пахоту. Обедать приехал сам не свой, рука ложку не могла держать, вот как ухлестался.
Из волости вернулся отец. Увидя его, Дикой пробурчал:
— Посля обеда тибе… а я лошадь в полдни накормлю.
— Где накормишь-то? Луга чище тока.
— Я придумал, накормлю до отказа. Во!
— Травить не вздумай, шкуру спущу.
— Не-ет, зачем травить?
— Ну-ну, валяй.
Дикой пообедал, вытер губы и, поглаживая живот, в котором зверем ворочался и журчал квас, — пошел к мерину. Взял зипун и долго прилаживал на его жестких костях. Потом взобрался, заколотил ногами по сухим ребрам, и мерин тронулся. Бегать юн едва ли умел; так сухи были его кости, так скупо обтягивала их кожа, что было страшно: того и гляди, заскрипят эти костяшки, лопнет кожа и разъедется весь мерин на части. Васькина выдумка была проста, сметливый был Дикой, а икой прозвали его не зря. Заехал к ним раз барин лошадь напоить, стал уезжать и протянул ему конфету, а он хруп — за палец. Барин ойкнул, щелкнул его по носу и сказал: «у, дикарь».
С тех пор прозвали «Дикой».
Выдумка Васьки-Дикого была нехитрая. В барском поле были широкие нетронутые межи. Никому они не нужны, а лошадь накормить можно. Али у барина убудет, чай-ко не загонят, как потравщика. Пока костылял мерин по селу, Васька заметил что к заколоченным раньше избам прибавилась еще одна.
— Швырковы уехали, и до жнитва не дотянули.
Много вразор идет мужиков, в город тянут; и там, говорят, не сладко. Вот, ведь, незадача, — ворочает мозгами Васька, — отчего так — все у мужиков недород, а у барина вон рожь-то сама прет.
Не иначе от того, что церковь построил, и поп ему втрое молит. Скорее всего от этого.
II
— Посмотрите, Лина, какой прекрасный вид, неправда ли, — выпячивая куриную грудку и запрокидывая голову, говорил выхоленный барчук стоящей с ним рядом девочке.
— Да, у вас все красиво очень… не так, как в городе.
— А вид на усадьбы с поля еще прелестней. Хотите поехать верхом?
Барчук опять выпятил грудь, и походил на петуха, хотя — хотел походить на брата Володю. Володя-юнкер, он влюблен в него, у Володи такая выправка. У Володи шпоры, Володя имеет деньги, кутит, ах, скорее бы вырасти! Во всем старается Слава быть похожим на брата, нарочно подглядывает за ним, даже — как он обращается с подругой сестры — Лелей Небратской.
Вот теперь он, точь в точь как Володя, предложил поехать верхом. Лина не протестовала.
— Иван, велите оседлать Игрушку и Мышонка.
Садовник, к которому это относилось, пробурчал:
— Некогда мне с вами, видите — клумбы…
— Иван, я приказываю, — вы слышите?
Садовник встал, оправил фартук и, скрипнув резной калиткой, вышел.
— Лошадей к балкону! — крикнул вдогонку молодой барин.
— Сыграйте что-нибудь, — подходя к роялю и пробуя клавиши (точь в точь как Володя), предложил он девочке. Лина села за рояль.
Мелодичные звуки убегали из-под ее тонких пальцев за увитые плющем белые колонны, скользили по зеленому бархату пруда и таяли в конце парка.
В парке была тишина. Густая зелень тянулась и обнимала веранду. Решетчатая ограда отгораживала от всего мира прекрасный безмятежный уголок. Маленький рай, с выхоленными цветами, с нежной музыкой, — и в этом раю — чистенькие, пухленькие, не знающие горя, дети проводят дни.
— Лошади поданы, барин.
Похлопывая стэком по лаковым сапожкам, Слава сбежал с крыльца. Поддержал стремя, сажая Лину на Игрушку, и ловко вскочил на крапчатого Мышонка.
Красивые холеные кони затанцовали, игриво нагнули головы и, распустив хвосты, боком вышли на плотину пруда.
— Ха-ха-ха, Леля, Шура, смотрите, — выбежал на веранду Володя, — каким молодцом держится Славка!
— Папа, папа, полюбуйся своим сыном, — звенела Шура.
Из недр дома вылез толстый человек в белом кителе и расползся в довольном смехе:
— Ха-ха-ха, в меня сын!
III
В полдень марит. Ветра нет, а ходит волнами, колышется рожь. Не стрекочут кузнечики, не звенят жаворонки, лишь тоненько пищит тишина: и-и-и-и-и. …
Как провода на столбах — южит.
Играя, шли лошади, то обгоняя друг друга, то идя рядом и касаясь боками.
Доехали до неугомонной серебряной речонки. Переезжали вброд. Взлетали хрустальные и холодные брызги, играя самоцветами на солнце. Вскрикивала и звенела смехом Лина. Смех бежал по речонке и прятался в тальнике. Ехали широкими межами. Высокая душистая рожь тянулась и приятно щекотала руки, дыша в лицо.
У опушки рощи остановились. Любовались морем ржи и тонувшей в ней усадьбой. Далеко, покуда глаз хватал, расхлестнулась рожь. Лишь синяя каемка леса удерживала, не давала ей растекаться за горизонт. Надо всем золотым простором царило поместье, важно развалившись на крутогоре.
Совсем ненужная в этой картине, отодвинутая, спихнутая под бугор, ребрами издохшей лошади торчала деревушка.
Долго стояли молодые баре, любуясь на свои владения. Тронули обратно лошадей.
— Богат отец, — после молчания сказал Слава, — ведь, все, во-он, все наше! Только вот, за рекой, мужичье…
Лина посмотрела за реку. Ее поразила тощая, обшарканная, какая-то нищая рожь.
— Как у них мало и плохо… а, ведь, их больше, чем вас…
— Больше, так нам и нужно больше, ведь, у нас общество, а у них нет. А плохо у них от лени, папа мне говорил.
— Они ленивые?
— Очень. Они даже ходят неумытые, п руки у них корявые.
— Совсем-совсем неумытые!
— Ну, конечно, совсем.
— Да, ведь, это даже просто неприлично!
— Ах, Лина, да, ведь, это почти скоты-какие у них приличия. — Слава хотел добавить еще что-то, но глаз его заметил во ржи узкую ободраную спину лошади.
— Видите, вы видите, Лина, эти хамы так ленивы, что не могут накормить лошадь в конюшне овсом, а пускают прямо в нашу рожь.
— Я проучу их!
Слава тронул Мышонка и прямо по ржи поскакал. За ним поскакала Лина. Волосы ее трепались и путались — золотые, как рожь.
IV
Васькина выдумка оказалась хорошей. Прошел он одну межу, прошел другую и с радостью стал замечать, как впалые бока мерина пополнели, раздулись и выпирали из худых маклаков, как хлеб из квашни.
— Ого, мерин, здорово, гложи, гложи, — подбадривал его Васька, — пахоту бы нам только сдюжить, вон у барина хлеб-ат, нас с тобой не видать, а у нас реденький, редющий, как твоя грива…
Мерин посапывал, пофыркивал и обидчиво косил глаза на Ваську, — чего уж, дескать, гриву-то мою задеваешь, жеребенком был, все издевались- одно брюхо было да голова, а ноги, как спички.
А кто виноват-у барских-то жеребят морковка пойло сытное да сенцо свежее, а у него за все солома отвечала.
— Эй, ты, ты что это выдумал, травить?!
Рожь раздвинулась грудью лошади, две задорные морды уставились на испуганного Ваську, поглядывая па него и мерина со снисходительным превосходством. Дикой проморгался и тут увидел барина и барышню.
— Ну, что рот разинул, хочешь попробовать? — Слава погрозил стэком. По телу Васьки закипела кровь и метнулась в голову от обиды.
— Ты, барин, тише, я не потравщик, межу травлю, а не хлеб, разуй, барин, глаза!
— Мерзавец, ты меня надуть еще захотел, вы всегда соврать умеете, бери лошадь п веди в усадьбу.
У Васьки сердце заныло. Отец-то что скажет, — ведь, полтиной не отделаешься в самую пахоту! Ой, незадача, в нога валиться этому порсуку — спина не гнется. Скрипнул зубами.
— Барин, да что вы, сделай милость…
— Ты слышишь, ну, я приказываю. — Слава тронул Мышонка и резко ударил мерина стэком.
Мерин дрогнул от обиды-ведь, чужой бьет.
— Не тронь лошадь, взревел Васька, — не тронь. И двинулся с угрозой.
Лина ойкнула.
— Ты что, грубить? — напруживая грудку и надуваясь, пискнул барченок.
— Вот тебе, хам!
Стэк сухо и больно ожег щеку. К лицу кинулась кровь, и, не помня себя, зверем прыгнул Дикой, поймал повод коня, прискакнул и ударил с размаха барченка по беленькой пухлой скуле. Как рыхлый студень, онахляпнула под кулаком, барченок взмахнул руками и повалился на круп коня.
Мышонок взвился, лягнул и потащил на стремени Славу по путанной ржи.
Лина запищала, закрыла лицо руками и поскакала, как сумасшедшая, в усадьбу.
Чуя что-то страшное, прыгал и никак не мог вспрыгнуть на мерина Васька, чтобы скорей уехать с господских владений.
Орава дюжих работников нагнала Дикого у деревни. Кучер Назарка свистнул длинным кнутом, кнут обвил голову, тоненько жикнул, прорезая лоб, и смахнул Ваську на землю.
Юнкер-Володя, дыбя кровную кобылу, сек нагайкой метавшийся кусок тела и выдирал с кровью куски рубахи.
Работники колами били мерина по животу, по мослам, но сухим ногам. Мерин прыгал, лягался, но, охромев на трн перебитых ноги, свалился на бок и заревел дико, как никогда не ревут лошади.
Переставший дрыгаться под нагайкой и закрывать руками лицо, Дикой только хрипел.
— Лошадь, за што лошадь…
V
От села, гудя и волнуясь, валил народ. Среди разношерстных платков баб развевались встре-панные космы мужиков. За ними, едва поспевая на коротких ногах, переваливался с утиным носом стражник, придерживая шашку).
Работники бросили бить мерина, Володя- Ваську.
— Чей это? — спросил он Назарку, указывая на полумертвого Дикого.
— Федота Грача сын.
— Ага, взять отца в имение!
Дюжие работники переглянулись, а Назарка усмехнулся, — Федот славился по селу своей силой.
— Эй, мужички! — выезжая навстречу толпе, прямо по мужичьей ржи, гаркнул Володя по-офицерски.
Толпа нерешительно остановилась, подавляя в себе гуд.
— Мужички, опять баловаться. Травить опять, разбойничать, в который раз предупреждать…
— Чего травил-то, кто?..
— Сам-то зачем рожь топчешь?
— Молчать, кто здесь Федот Грач?!
— А вон, бежит.
От села, натягивая на рукава зипунный кафтан, бежал Грач. Недоброе почуяло сердце, уж не парня ли бьют барские? Так и есть. Увидел мерина на боку и работников с колами. Оборвалось сердце.
— Православные, народ, что-ж это, лошадь убили. Хлеба наши топчут, ратуйте, докой терпеть?!
— Ну, ну, я тебе поратую, — напер конем Володя.
— Што давишь, отсветлил пуговицы, — смотри!
Взгляд Грача упал на окровавленного Ваську.
— Парня, парня, изувечили, разбои… — кинулся, поднял на руки.
— Видите, православные, как щенка, видите?
— Ой, родимые!
— Батюшки!
— Всего окровянили!
— Креста на вас нет!
Жалостливые бабенки утащили в толпу Ваську. Мужики горящими глазами, воспаленными ветром, смотрели на все и готовы были загореться звериной злобой.
Володя струсил, но, не показав виду, приказал звонко:
— Взять Грача!
— Барин, барин, обожди, протокол сейчас, по порядку, — засуетился стражник и вытащил кусок бумаги и карандаш.
— Взять, ну?!.
Назарка ловко спрыгнул с коня и подскочил к сутулившемуся мужику и потянулся рукой.
— Не тронь! — страшно откололся крик.
— Народ, не дозволить потешаться, — выступил черный и бритый Кузьма Морской.
— Не дозволить, не дать! — загремела толпа и наперла на работников.
— Бунт! — взвизгнул Володя и вытащил заигравший зайчиками светлый револьвер. Мужики попятились. Стражник побагровел, выкатил глаза и, растопыря руки, заорал, как будто его резали:
— Ра-зой-дись!
Мужики пятились.
Четверо работников кинулись снова к Грачу вслед за неутомимым Назаркой.
— Не тронь! — еще звонче и страшнее окрысился мужик.
— Вот я тебе не трону… — Назарка навалился. Мужик отпрянул, тряхнул космами, с подступившей ко рту пеной разорвал руками грудь рубахи и, корябая себе ногтями волосатую грудь, разрезал воздух холодящим криком:
— Бей!
Звериной хваткой вскинул он Назарку и ударил оземь. Печонки у Назарки екнули и горлом пошла кровь. Ражий и дюжий конюх, озверев, хряснул Грача поперек пояса колом.
Кол перелетел, как спичка, а мужик, зарычав, ударил конюха обломком в лицо. Конюх упал. Мужики не вытерпели и повалили на работников. Кузьма, размахивая кулаками, лез передом.
Работники, пятясь, стали утекать.
— Стреляю! — завизжал Володя и, зажмуря глаза, дернул гашетку.
— Крэк, крэк, — сухо стукнули выстрелы. Кузьма боком осел и заскреб ногами землю.
— Стрелять, кровососы. Бей его, бей!
Обломок кола просвистел мимо Володиного носа.
Делая последнее усилие, чтобы не броситься бегом, Володя в упор стал палить в толпу.
Грач качнулся, хватая воздух, давясь не прошедшим из глотки криком, рухнул под ноги лошади.
Мужики отхлынули и побежали. Из-под межи вылез дрожащий от страха стражник и заплетающимся языком лопотал:-Без протокола… без протокола…
VI
Обида селу не первая; обиду к обиде веками складывали, — ужо попомним! Отец умирал, сыну завещал: «Храни обиду». Залежалась обида, слежалась, в одну большую выросла. Не видит ее никто, только по ночам осенним зубами скрипит, хоронится под хатенками разваленными.
Вставала она, вытаптывала осиные гнезда, языком слизывала. Со Степаном Тимофеевичем шла, с Пугачевым потоком разливалась, совсем недавно, в 1905 г., волчьими глазами пожаров на супостатов глянула.
Старики про нее, про обиду, знают, молодым сказывают; есть книга такая, в которой все прописано: когда выйти обиде и супостатов смести. Только книгу ту помещики под спудом держат замками замкнули, чтобы страница эта не повернулась, а повернется, будет для них большая гибель.
К обиде селу не привыкать. Кузьму доктор резал, потом схоронить велел. Федота вылечили, в тюрьму угнали, мерина татары дорезали, корову за подать взяли, Ваську к дедушке отдали, а мать в побирушки, в кусковницы, ушла.
Изба на месте осталась, только гляделки ей досками забили.
VII
Зарево полышет над усадьбой. Огнями сияет барский дом. Гремит музыка, разбегается с бугра и затихает, путаясь в густой ржи.
Чистым льдом в первый заморозок блестит паркет, и играют, отражаясь в нем, светлые сапоги и маленькие туфельки танцующих.
У господ бал. Но деревьям и заборам виснет дворня и, дух затая, смотрит завистливыми глазами на господское веселье. Красивые барышни, с голосами, как серебряные бубенчики, порхали рядом с упитанными, красивыми мужчинами. Оправившийся после падения Слава лихо танцевал с Линой.
— Ангелочки, чисто ангелочки, — восхищалась шопотом старушка-птичница.
Напудренные, в кружевах, разносили горничные фрукты и вина, а музыка гремела взрывами, заливами тоненькими выводила и будоражила, задевала за живое.
Притиснул Дикой к забору исполосованную синими шрамами рожу и, как заколдованный, глядел.
И под музыку растревоженная ворочалась душа, тяжело, с кровью.
Когда гремела музыка бурными взрывами, видел сияющий барский дом и радость, а когда тоненько-тоненько проскальзывала ее жалоба, — чудилось, чахлая деревня, под бугор спихнутая, сутулится. Мерин, околевая, стонет, и мать тихо тихо, чтобы он не видел, роняет над ним слезы и жует, прячет, стыдясь, чужой, поданный кусок.
Месть не отмщенная тосковала, заворачивалось сердце, п бунтарь злой и неуемный поднимался в нем.
Долго мучился у холодной решетки, глядя на радость, украденную у него и у всех таких… потом, вдруг, выпрямился и, хватая рукой липкую рубаху на груди, твердо шагнул в густую барскую рожь.
Шумела, шелестела, шепталась сухая рожь под мягким ветерком. Щекотали лицо спелые и душистые колосья, путались в ногах, а он шел по ней, шел…
У реки, в ложбине, вспыхнул и воробейчиком затрещал огонек. Резво побежал по ржинкам, и мягко валились они. Огонь зарадовался, хватал все шире и шире и вдруг тряхнул рыжими космами, запел тоненько, завизжал и ринулся стеной к усадьбе.
Полыхнула сухая рожь, порхнули вспугнутые перепелки, и кровью отлился огонь в реке…
Поздно заметили в усадьбе.
На неоседланных конях мчалась дворня, плача и надрываясь криком, натыкалась на огонь, металась, скакала в село и звала на помощь.
Зверем ревел матерый помещик, выблевав на круп коня дорогие вина и протрезвев со страха. Смолкла музыка, сжались бескрылые бабочки-барышни и слушали страшный, хрустко-шелестящий шум ржаного пожара. Черное-черное было небо, и кровавым ножом шел огонь от деревни к белому горлу усадьбы, остервенело полыща попадающиеся на пути кустарники.
До зари стоял и смотрел Дикой, как сожрал пущенный им огонь двадцати-верстную скатерть хлеба. Под утро потух огонь, замирая в гатях и болотах у самого края леса. Зализал огонь на время тоску обиды Дикого. Белым черепом на погосте торчала на черном пожарище усадьба.
VIII
У барина в амбарах ржи напасено на пять годов. Засеял он снова поле, а мужики волками взвыли, когда не дал, осерчав за поджог, обещанных взаймы семян. Голодная шла зима и чудилось-стучала гробами.
Но без гробов в тот год хоронили людей.
На всю Россию кнутом хлыстнуло страшное слово-война. Сушили бабы сухари. Плакали навзрыд гармоники. День и ночь скрипели, надрывались телеги. Увозили народ на войну. Барин часто стоял на перекрестке около усадьбы, смотрел на проезжающие гурты телег и, снимая шапку, кричал:
— Езжайте, братцы, на славное дело, постойте за родину, за веру православную. Стар я ехать- сыновей посылаю!
Не знали солдаты, какая родина, но заражались каким-то болезненным задором и кричали, забывая обиду:
— Побьем супостата, не дадим Расею!
Отчего и зачем война-не знал никто.
— …Ерманский царь велел нашему ото тысячей баб ему в полон отдать, потому у ерманцев баб нет, а наш говорит: «драться буду, до последнего солдата, а иад Расеей шутить не позволю»-вот и война… — рассказывал черненький солдатик, конвоируя новобранцев.
— Н-да, ежели от етова, то штука сурьезная.
Чесали лапотники затылки, прощаясь с родными хатами. А где-то далеко, в саксонских и баварских деревушках, тоже плакали жены и матери, и увозили поезда Фрицев и Гансов, тоже мужиков, на войну за господ.
IX
Ушла Васькина мать за кусками и вернулась нескоро. Мало кто видел, — опустело, село, — как из-за бугра пришел согнутый и нетвердый человек в серой шинели.
Подошел он к забитой хате, сел к гнилому углу и, вдыхая родной запах, плакал без слез, сухими глазами, как плачут мужики.
Вечером шла кусковница, и тоска затянула ее к родному месту. Сесть на своем крыльце и хоть чужой кусок-да съесть около дома. Серый-серый спускался вечер, серее крыш, серее солдатской шинели, и тихо вздыхал, клоня голову курчавую к оврагам. Как два сыча, сидели старики у хаты.
Поздняя и ненужная пришла радость. На завтра уходить вчера выпущенному из острога Федоту на войну.
Опять стоять и гнить хате, совсем высохнет Мать побирушкой-кусковницей.
Плакала она всю ночь напролет, и не было слез у нее, а только рвалась на части сухая грудь.
Утром переобул Федот новые лапти и ушел, не повидав сына. Васька с дедом пас коров на лесном отгуле, и итти до него далеко.
Долго глядела кусковница, как прятали, закатывали увалы гнутую фигуру мужика.
— Воин, тоже воин, за што застаивать, за што ратовать, за жисть таку?
Какой лиходей принесет хуже этой!
X
По лесу курится туман, идет от низин, виснет меж деревьев, путается в кустах. Солнце еще не встало, но заря красной медью горит и вязнет, просвечивая на зубах леса. Тенькают в лесу птицы, скрипит на поляне дергач, а в озере хлопают крыльями и плещутся дикие утки. Вдруг где-то раздался звон. Мутный, глухой, еще, еще…
Звонили тихо и не в лад, и что-то шумно двигалось, неся этот звон по курчавым кустарникам лесной вырубки. Звон ближе и гнусавей, такой чужой, жуткий-в лесу.
— Ай, лобан, ты-шшь-куда? Свистнул кнут, и парнишка в свитке выскочил и, сверкая подковыренными лаптями, заскакал по пням опере-живать забзыкавшего бычка. Летела и орала неистово впереди хозяина собака. Из кустов поднялись сытые коровьи морды и озорно поглядывали, не скрывая желания, тоже побзыкать по утреннему холодку.
— Но-но, вот я вам, я вам, — угадывал их желание старик и хлопал в воздухе звонко кнутом.
Коровы опускали головы и опять хрупали траву, поматывая головами. Гнусаво донкали у них на шеях медные балаболы. Бычок, побзыкав, вертался в стадо, а пастушенок, высунув язык, уже несся за другой скотиной, чуть не ревя с досады и спотыкаясь о пеньки. Правда, собака Тузик старалась изо всех сил, исходя лаем, но от этого Дикому было не легче. Когда они с дедом пригоняли стадо на ночь в отгороженный тыном загон, он хлестался, как убитый, у шалаша и ныл:
— Ой, ноженьки, ой, ноженьки разломило! Не погоню я их больше, што хошь, не погоню!
— Ничево, ничево, — утешал дед, — терпи, Дикой, до осени, а там нам зиму в потолок плевать. Мать на куски не пошлем.
Васька вспоминал мать, как он видел ее, проходя селом, — стоит и тянет:-«христа ради» Кто дает, а кто гонит, как собаку. А ведь на эти куски ему и рубаху купила. — Эх, жистя! — Стискивал зубы и переставал ныть. Туганил дед кашицу-ужинали. Совсем вечером на большущих фурах приезжали с имения коровницы доить коров.
Всегда они были веселые и красные, и пахло от них парным молоком. Недолюбливал их Дикой- вспоминал, как такие же ражие работники мерина колотили.
— Барские, не нашинские, — и косился.
Один раз вместе с коровницами приехала мать. Сидела рядом, совала синие мятные пряники и гладила по голове.
Ваське было стыдно: чего она, чай-ко, не маленький он.
— На войну угнали тятьку, Васинька, — уронила мать, — прямо из острога, и выпустили для того.
Бросив весточку, уехала опать с коровницами.
На прощанье ласкался и утешал: «Ты, мамка, потерпи, осень отвалит, нам барин денег-во! Кучу. Куплю тебе само пряху, будешь прясть, а про куски забудь.
XI
Ночь была глазастая и свежая.
Наелись о дедом той же кашицы и в сотый раз высчитывали, сколько им барин денег отвалит.
Жевали жвачку коровы, а Тузик смотрел на них из-под лохматых бровей, повиливая лисьим хвостом.
— Мм-да… это значит, шестьдесят рублев… деньга, а! Двадцать рублев жеребенок…
— За пятнадцать купишь, — перебивает Васька.
— Хлеба нужно подкупить, тоже пятнадцать, остается тридцать рублев, деньга, а?..
— Вырр-ав!
— Взы-взы-кто там?!
В чаще зашуршало.
Васька схватил дубовый колдай и выскочил.
— Ну-ну, выходи, кто есть, я вот же огрею, — стращал он невидимого врага.
Опять зашуршало.
— Дедка, ведьмедь!
Старик вылез и, щелкая курком, поднял к плечу тяжеленную, перевязанную веревкой, шомполку.
— Если добрый человек, выходи, убью, слышишь?
Кусты раздвинулись, и нерешительно вышел на поляну человек. Он был серый и сливался с землей, как оборотень.
Старик и Дикой насторожились.
— Не тать я, не трожьте, — проговорил серый, и слыша болезненный голос, старик опустил ружье.
— Чево же прятался, убить мог.
Человек перелез с трудом через забор и, сняв с головы тяжелую солдатскую шапку, поклонился пастухам.
Седая плешивая голова поразила и деда и Ваську.
— Кто же ты будешь, в такую пору, в лесу?
— Беглый я с войны… проголодамши очень.
— Эк ты, исхудал, сердяга.
Васька и дед пристальней глянули на лицо беглого и увидели острые скулы, обтянутые грязно-белой кожей, и острый покойничий нос Глаз совсем не увидели. Не глаза, а какие-то ямки о водой серели на месте глаз.
Дед дал солдату остатки кашицы и луку с хлебом.
Солдат ел по-чудному, насильно проталкивая куски в горло.
— Плохой ты, не сладко бегать-то?
— Газом я травленный, душа харчи не принимает, помереть мне, в леса ушел, на воле-то легче.
— Это как же газом-то тебя?
— Немец пущает газ. Скажем, вот, как туман пустит по ветру, едучий он, мышь застигнет, и ту травит, лист сохнет, а человеку двыхнуть невозможно. Слеза из глаз идет, и нутро горит.
Большие тыщи он у нас потравил-как снопы валил. Кто и отживел, се равно-не человек.
Поглядел Васька на солдата, — и впрямь не человек.
— Значит, ево берет нас?
— Какое берет, ничья не берет, он нас, мы его, светопреставление. Всю землю пушками разворотили. Что ни яма-человечьей тухлятиной забита… за што, про што, неизвестно. Ихние пленные упирают: наш царь и наши енералы всему виной. Наши на ихнего царя говорят…
— А еще говорят, — понизил голос солдат, — кабы не было ихнего и нашего царя, и драться незачем…
— Да мало ли говорят, а бьют народ почем зря.
Долго рассказывал солдат, горели проваленные глаза и хрипела, свистела грудь.
— Больной ты, и чего, горюн, бегаешь, так теперь не возьмут на войну-то.
— Не возьмут, ты говоришь, не возьмут, — страстно заговорил беглый, а знаешь, взяли, на фронт взяли, с вагона сбег. — Он захрипел и скорчился.
— Как же зимой-то… — упавшим голосом спросил дед.
— До зимы помру…
Васька посмотрел на серые, Молью съеденные скулы, на синие виски, и решил-помрет.
Утром солдат ушел и больше его пастухи не видали.
ХII
Много раз выгонял и загонял стадо Васька, и по выгонам вел счет дням. Дни холодели, густели, и резкий крик птицы в озерах и краснеющий лист звали осень.
В один из дней случилась в стаде беда: пропала бурая племенная корова. Искал Дикой с Тузиком, искал дед, как поднялась, вихорная!
Работники потом нашли место, где кто-то резал корову.
— «Рога да нога», — сказал толстый мордвин-скотник.
И тем дело и кончилось, только деду дали большущий светлый револьвер от воров.
Дрогнуться стало в шалаше, ярче загорались звезды, будто и на небе кто-то зяб и раздувал угольки… Звонче стало в лесу. Когда повалит наземь лист, угонят отгулявшее стадо по шумным рекам его домой.
Два дня старина и Дикой отлеживались, отсыпались, на третий выпарились в бане и, обув новые лапти, одев синие посконные штаны и белые рубахи, поверх накинули рваные зипуны и пошли в контору за расчетом.
Шел Васька, и не верилось, что отвалят ему с дедом такую кучу денег, о какой они мечтали все лето.
В накуренной конторе дожидались череда и нетерпеливо мяли шапки в корузлых руках.
Наконец, конторщик, наморщив нос, спросил:
— Звать, фамилия, за какую работу…
— Пастух, пастух я, батек… — заторопился дед.
— Хм… пастух, на лесном отгуле, Семен Петров Мосолов, так-так, значит, наем за шестьдесят рубликов, вычет за корову пятьдесят и на руки вам десять… Распишитесь.
Дед ошалело растопырил руки. У Дикого упало сердце.
Две синеньких зашелестели в руках конторщика.
— Не возьму, брось, — рявкнул дед и, тяжело задышав, размахивая руками, повалил из конторы, — обман, до земского дойду! — Конторщик удивленно посмотрел поверх очков и спокойно сунул деньги обратно в ящик.
— Куда прешь-то, орясина старая, — загородил дорогу садовник.
— Барина мне, самого, обман, крест снимают!
— Не выходит он, расстроимшись, — прописано в газете-сына ранили.
— Ранили, тут крест медный снимают.
Барина дед добился; выслушал спокойно, потом указал на дверь и сказал:
— Ступай, старик, ступай о богом, получай десять, в уговоре не сказано, чтобы коров резали…
— С богом, язык у тебя отсохни, пойду, управу, думаешь, на тебя не найду!
— Вон, вон, вон, — затопал ногами барин.
— Вот так заработали, это вот заработали, — разводил дед руками всю дорогу, идя домой.
На утро, чуть свет, он собрался, поставил свечу Николаю — угоднику и покатил к земскому искать управы на барина.
В тревоге ждал его возвращения Васька; места себе не находил, ночи не спал.
— А што, не отдадут? Пропадай тогда и жеребенок, и самопряха матери-все на свете пропадай!
Дед пришел чернее тучи, лег на печь и охал.
— Ну? — уставился Васька, ловя ответ.
Дед задрал рубаху и показал рубцованную спину.
— Вот как на барина управы искать…
От обиды Дикой ревел всю ночь. Волком выл
Деду стало жутко.
— Замолчишь, бес тебя!
Дикой притихал, потом еще горше подступала обида, и опять скулил, переходя в вой.
Днем лежал на лавке и только плечами дергал.
— Пожри хоть, — толкнул дед.
В ночь разыгралось ненастье. По небу стаями лохматых волчиц выли и бесились облака, а за ними кружились другие, заливаясь свистом, как охотники со сворами гончих.
Дед лежал пластом и, от того ли, что плакать не умел, и обида давила, или уж осерчал больно крепко, только взял и совсем нечаянно помер.
Дикой с вечера стащил со стены шомполку п подался в непогоду, а потому не знал, что дед крепче его затужил и помер.
XIII
Не шуршит прибитая дождем жнива под ногой, не путается перекати-поле. Ветер подшвыривает, озоруя, прямо к барскому дому и рвет, треплет дырявый зипун.
Дикому незябко, — только шомполку бережет, в зипун кутает. От пруда до самой липы, что насупротив барского балкона, на брюхе полз; карабкался долго, руки закоченели. Все-таки до дупла долез, не оборвался.
Дупло не только одного, двоих спрячет, давно давно заприметил, когда еще мусор весной в саду убирал. Как раз против балкона любой дробовик хватит… Угнездился и, грея руки, стал смотреть. С непривычки мережило в глазах, потом огляделся.
— В гостинной голубой свет, в углу в кресле кто-то сидит.
— Сын старшой, — в газете писали-шибко раненый, разглядел. Да, он. Сидит, а рядом на ковре в белой пелериночке барышня, на рукаве у нее перевязочка и крестик. Сидит и руку его гладит.
«Штошь это такое: либо што рука и ранита, а так весь ничего и ногами шевелит».
Тут еще подумал Васька: «Хорошо бы отца так ранили-сидеть в кресле и руку тебе гладят. Не то, что солдат тот, газом травленный. Брр, — как шкелет, и в газетине не пропечатали».
Васька ждал, но в зал никто больше не входил. Тогда Дикой поднимал шомполку и примеривался к молодому, но вздрагивал и опускал.
— Постой, не тебя мне надо.
Наконец, дождался: вышел откуда-то сам матерый, разбух в креоле и развернул крылья газеты.
Долго прилаживал шомполку, крестился.
— Господи помоги. Микола, милостивый…
Мушка заползла на бритый седой висок…
— Господи, помоги.
— Ах-ах-ха.
Звон в ушах, руки заныли.
Звон и гром в гостинной, упала, забилась в истерике барышня в пелериночке, грузно съехал барин под кресло, и на четвереньках уползал за гардины офицер.
Вернулся с двумя револьверами — в больной и здоровой-и плевался до изнеможения пулями- сразу из двух-в сад, в черную ночь. Пули шлепались, вязли в деревьях; одна с шипом втюхнулась в гнилую липу, пониже дупла.
«Вот так раненый, с обоих рук кроет», — улезая в дупло с головой, подумал Дикой.
Глаз у Дикого меткий, и шомполка била крепко, но заряжена была медной зипунной пуговицей: выдрала, озоруя, у барина клок плешивых волос, зажужжала волчком по паркету и трахнула дорогое зеркало, осерчав под конец.
По усадьбе и парку бегала дворня с фонарями. Голос Назарки грозился разорвать кого-то.
Раненый бегал так, скакал на коне, и никто бы не мог сказать, да в каком же месте у него рана?
Васька «прозимовал» в дупле ночь, день и только на другую ночь, дрыгая отекшими ногами, ударился мимо пруда по оврагам домой.
XIV
В имение приехала полиция. Пристав долго рассматривал медную пуговицу, тер себе лоб и, наконец, заявил:
— Из деревни прилетела. У них привычка пуговицами стрелять из шомполок. Я, ваше превосходительство, свидетелем был, как мужичонко, лесник, такой вот пуговицей медведицу свалил…
Генерал сидел, обвязанный примочками, и охал. Услышав историю о медведе, он заскрипел еще сильнее и зашипел:
— Вы меня бесите, полковник, не дожидайтесь же, пока я превращусь в того медведя, — действуйте, подавите, накажите!.
Полковник смутился, засуетился и в допросах перебулгатил всю дворню. Все подозрения были на пастуха.
Десять ражих стражников нагрянули к стариковой хате. Уезжая, увозили шомполку и зипун без Пуговиц. В кармане пристава был протокол: «Преступление налицо, но преступник неожиданно скончался и похоронен односельчанами», — гласило в конце протокола.
Дикой в избе не жил — одному было страшно, п пошел он ночевать к тетке.
На чужих полатях не шел сон. Всю ночь ворочался и тосковал; горела грудь, к утру стал бредить.
— Плохо с парнем-то. Уж не горячка ли. Всех перезаразит, — металась тетка.
Деть Ваську было некуда. Тогда тетка стащила его с полатей, настелила в углу у порога, где телят зимой держат, соломы, положила на нее, накрыла дерюгой и успокоилась, решив, что с пола хворь не так шибко перекинется.
Дикой метался, бормотал несвязное: — горят… горят… ржи, — орал он и вдруг вскакивал на колени. Потом брякался обратно и ворчал что-то о самопряхе. Снова орал и бился.
— От, бешеный-то, пра, дикой, и в кого уродился, — причитала тетка.
Приходила мать, кланялась в ноги и упрашивала родных не выкидывать сына, пока оправится. На куски, на копеечки пряничков синих слюнявых приносила и натаскивала тряпья прикрыть сына.
Был Дикой живуч-у порога, на телячьем месте, выхворал и оправился. Правда, одна шкура осталась да зубы, а все же оживать стал.
На рождество окреп совсем и не отстал от ребят в колядках.
Мать насбирала пирогов, блинов, кто мясца дал, — Дикой накалядовал и решили разговляться дома, в дедовой хате. Оттопили избу старой соломой, зажгли лампадку и уселись за березовый стол. Мать на тарелке разогрела куски пирога и вынула из печки,
В сенях вдруг звхрюкало, заскрипело. Дверь рванулась. Васька так и остолбенел, разинув рот.
В дверях стоймя стояла свинья и поводила, хрюкая, зеленым рылом.
— Ой! — взвизгнула мать, — свят, свят, свят… аминь, аминь… — Свинья вдруг цапнула себя за пятачок, стянула рыло и, эахохотав голосом отца, проревела:
— Спужались!
— Тятька, — захлебнулся Васька и повалился на холодную шинель лицом.
Через полчаса отец сидел за столом и объяснял Паське, жене и соседям: — Это, значит, маска есть от газов, как немец пущает, напяливаешь, — во!
Он надевал маску и хрюкал. Девки и бабы писка-ли и пятились.
— А хрючишь зачем? — спрашивал дураковатый Авдоха.
— Зачем, зачем, — передразнивал Федот, — видал, бабы пуясаются, а газ и пововсе вблизь не подходит.
Все святки носился Дикой с маской, пока не надоел всем, даже Тузику.
С войны отец привез чаю и сахару, потом сходил в волость и принес трешницу.
— Это тебе, как солдатке, полагается, — объяснил он матери.
Мать побираться больше не ходила и первый раз за долгие годы проклятые истопила печку и испекла горячие, свои, хлебы.
Отец все время был веселый, только хмурился, когда рассказывали про умершего от обиды деда.
Терпел Дикой, крепился и вдруг признался отцу, кто стрелял в барина.
Отец долго и пристально смотрел.
— Эт ты, как же?
— Пуговицей, тятька, от дедкинова зипуна!
Задумался отец, а потом сердито сказал:
— Ты, Васька, брось, пользы от этого нет, — убьешь старого, молодой кобель будет; рассчитываться, так со всеми сразу. — В глазах отца полых-лун и потух огонь.
Скоро опять отец ушел на войну, а мать — по кускам.
XV
Жить Дикому стало туго. Зипун продувает, и в брюхе урчит.
Ванька Щегол то свининки принесет, то пирога кусок, то целый блин; друзья победней — просто краюшку, — тем и сыт.
Днем за делами, и живот не слыхать.
Делов-то днем немало. Перво-наперво утром. Мужики еще в сараи за кормом не успели уйти — нужно их опередить. Взял колдашку и — передом. Обязательно в огумьях лежат зайцы.
Самое большое удовольствие — это косого выпугнуть. Вскочит, стук лапами, а тут в него колдаем, как пырснет, сто тузиков не догонит, и-и-и!
К обеду — на гору. Там дел по завязке. Каждый себе смастерил скамейку, дно льдом наморозил и с горы ходом.
Надо поспеть на чужих накататься. Хозяйства у Дикого нет, и ему прощают такие штуки.
К вечеру на пруду — там еще хлеще. Вырубят прямо изо льда ледянки, разгонят по льду, пузом бац и — ширр!
Совсем к вечеру — на посиделки; которых ребят и не пустят, а Дикого пустят, — плясун.
Девки сидят, как угоднички, в десять шалей закулемались и нитки сучат. А ребята без делов — тары-бары. А вот как гармонист придет — тут дело начинается.
Эх! Ходи изба, ходи печь!
Хозяину надо бечь!
Тут отвечают Дикого лапотки.
Хоть совсем к утру, но и с посиделок выгоняли. Тут уж податься было некуда. В такой крайности шел на гумна, в солому; закопается в середку омета и кончено — у зайцев научился.
Плохо только, когда брюхо урчит. С сытым брюхом и в соломе за мое почтение.
XVI
Так, день за днем на одной ножке прыгали! Проскакали холодные, пришли нюни, с капелями. Сыростью потянуло, а с нею потянуло в село разные вести. Мутные, шопотные.
— … Царя сместили… войне конец… землю дадут… — шелестело с языков. Стало больше солдат итти, с ними и вести ползли и слова новые разбегались:
«Митинги, оратели, капиталисты, буржуи и большаки».
Однако, весной что-то замолкло. Солдат шло совсем мало, землю не давали. Только как-то незаметно вместо стражника милиционер стал, а в имение десять солдат-кавалеристов пригнали. Охранять.
Шло лето, и вдруг опять забушевало. Поперли солдаты тучами. Все с ружьями, револьверами, а иной придет бомбами увешается.
— Ишь ты, Гаврюха, чисто арсенал!
— А ты чихаус уволок, — трунили друг над другом солдаты. Про «большаков» разговоры все чаще.
«Какие же они есть, — задумывался Дикой, — мотри, ростом вышли, вроде дяди Егора Бузанова С версту телеграфную». Ждал Васька отца со дня на день:-вот уж у пего распрошу, — говорил друзьям — он у меня с понятиями, бесприменно знает!
Но вот как-то поймал Дикого на улице солдат, — Матвей Коблов, и говорит:
— Слушай, паря, только не реви, скажи матери, штоб отца не ждала, долго жить приказал…
— Это как же, — задохнулся Дикой.
— Тах-то, расстреляли, болынавиком был, значит.
Ваську закачало, пошел и сел на бревнах. Сам не свой: большаки-вот какие большаки… — гудело в голове.
Тут же Матвей рассказывал: «… настоящий большевик… офицеры, значит, наступать до победы, — а он, гыт, вы, гыт, контра, вас, гыт, к ногтю надо, а солдатам брать ружье домой — с барином кончать… Ну, они его и тово… Чин-чином, яму вырыли, глаза завязали. Офицер дает «раз», а он, как гаркнет: «Подлетай и соединяйся».
— Как трахнули, так и нет…
— Самой то говорили?
— Нет ее, побираться ушла.
— Мальчонку-то жалко, а?
— Чево жалковать, бери вилы, да и тово… — указывает руками на поместье.
— Знамо, пора волю забирать.
— Будя, попили кровушки!
— Пожили довольно!
Деревня бухла, будоражилась и клокотала, несдерживаемая ничем. Большаки сказали просто и понятно: бери землю, гони помещика. Сигнальными кострами полыхнули первые погромы.
XVII
Володя приехал без погон, Слава — без светлых кадетских пуговиц. Старик-генерал сидел в кресле, опустив, как убойный бык, голову, а сын бегал и выкрикивал, тявкал комнатной собачкой:
— Погибло, все погибло, фронт обнажен! Армия распалась! Срывают погоны! Озверевшая солдатня! Жгут имения! Топчут культуру, нет у них родины, гибнет Россия, родина. О!..
Генеральша сморкалась и хлюпала. Дочь и Леля Небратская, скуля, терли глаза.
— Папа, Володя, уедемте, они сожгут, они расстерзают нас…
— Барин, поторопитесь, беды бы не было! Вошел бледный и растрепанный Назарка, не
снимая шапки, грязными сапогами по коврам.
В окнах мережили далекие зарева.
XVIII
Васька у всех ребят попробовал колдаи и решил- его тверже всех, не сдаст.
Как угорелый, метался он по кучкам народа жадно ловя слова, обрывки:
— … в Назаровке натло!
— … в Ждановке по кирпичу -
— … а мы што?!..
— … охрана, кавалеристы, — опасались некоторые. /
Вылечил от нерешительности Тимошка Киргиз. Он вышел из хаты, вытянул две бомбы и, размахнувши ими, как бутылками, гаркнул:
— Видали, всех порву! Жмем, пока не утекли Забунтовали и двинулись всем селом, стадно как предки, с вилами и топорами. Вдали маячили стогами зарева. Черный был овраг, и не видно было что люди шли, будто овраг потек черным соком
Как пчелы, вытряхнутые из рукава роевни, загудели, расползаясь от оврага и напирая на городьбу усадьбы. Тускло щурился барский дом, а флигель охраны светился ярко.
Десяток солдат перемахнули забор и, то припадая, то вскакивая, бросились к флигелю. Дикой кинулся следом. Народ замер, притиснувшись к ограде.
Тимошка Киргиз влепился в окно и вдруг осклабился.
— Пьют, ох, пьют, скоты!
— Ну, охрана!
Твердо нажали дверь и вошли, шевеля серыми бомбами в руках.
За клеенчатым столом, за лавками, сидели и валялись кавалеристы. Рядом кучи бутылок — полных пустых, битых и небитых — стояли и валялись тоже.
Увидев солдат с бомбами, кавалеристы не смутились ничуть, будто перед ними половые с новыми бутылками вина. Один — высокий бледный, очевидно, единственный, имевший еще дар слова, встал и, указывая на дом пальцем, прохрипел:
— Там всем хватит…
Тут же он, хлебнув раз, свалился и тоже онемел. Тимошка вышел с крыльца и свистнул. Народ, как вода, прорвавшая плотину, с ревом напер, снес городьбу и нахлынул на поместье.
Дикой, визжа, выпрыгнул вперед, стараясь добраться первым до господ. На ступеньках он поскользнулся, но вскочил сразу и колдаем наотмашь вышиб половину двери на веранду.
Метнулся прямо, вбок, за гардины — пусто.
— Народ, упустили, удрали они, убегли! — за ревел он в неистовой обиде.
Хрустел и стонал дом, звенели зеркала, и вдруг лизнул где-то огонь, ярче, больше и поднял горя чо к небу длинные и кровавые руки, давая знать округе, что мужики расправились со. своими барами.
На барских лошадях догоняли озорные парни господ, но вернулись с пустыми руками.
Бесился Дикой с досады, плакал, визжал, что не смог выместить ни за отца, ни за деда, ни за свои обиды на ясивом человеке.
Рыская по усадьбе, наткнулись на лошадь. Бросилась в глаза, угадал — та самая, на которой барышня сидела. Подошел, бушует в груди хлеще огня, что жрет барский дом, — размахнулся — хвать Игрушку по холеной морде.
Ужас расширил глаза лошади, она осела на задние ноги и задрожала дробно и часто.
Испугался себя Дикой: за што же тварь-то… нельзя…
— Тпру, стой, коняш, не бойсь, не бойсь, — погладил по ударенной сурне.
Поняла Игрушка Ваську и прильнула к плечу, все еще дрожа.
Васька обротал ее, вскинулся на мягкий круп и зашептал, пригибаясь к уху:
— Поедем, коняш, моя будешь!
Лошадь шла, покорно вздыхая, как человек, и поводя тонкими ушами, когда ветер бросал к ногам шум пожара. Ночь была черная. В селе горланили петухи, думая на пожар, что наступает утро.
Васька приехал к хате, привязал коня и долго не мог оторвать глаз, зачарованный пожаром.
Потом, вдруг, очнулся, кинулся к хате и с сердцем, обрывая, ссаживая руки, стал срывать и отшвыривать доски, залепившие глаза избе.
А пожар полыхал, взметывал к нему клубы и кровянил ночь. К утру догорели дом и строения. Прошедший дождь омыл пожарище.
На весну обществом запахали гарь и засеяли рожью.
Первые года не родилась, была тощая и редкая, а теперь взметывается озорно и кучеряво, и не отгадаешь, где было поместье, а где простое место.


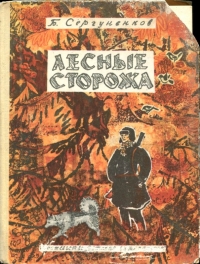

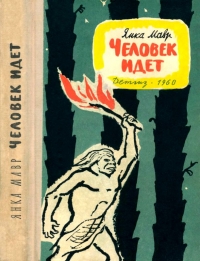


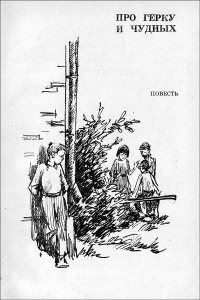


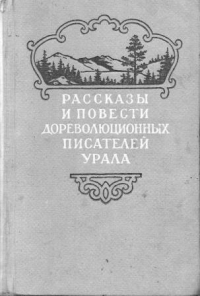
Комментарии к книге «Осиное гнездо», Николай Владимирович Богданов
Всего 0 комментариев