Юрий КОЗЛОВ КАЧЕЛИ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ
СКРИПКА
Все пошло шиворот-навыворот с тех пор, как Китайская Кошка начала играть на скрипке. Если раньше мы дружили — я, Рерих и она, — то теперь она нас знать не хотела. Я из-за этого не переживал, а Рерих похудел и как будто меньше ростом стал.
Наш двор — прямоугольник. Три стороны — дом в виде буквы «П», одна сторона — парк. Через пять арок двор наполняется ветром. Арки свистят, как сопла у ракет, и деревья засыпают все вокруг желтыми листьями.
Рерих пошел учиться в художественную школу и окончательно свихнулся. Дни и ночи готов стоять под окнами Китайской Кошки и слушать, как она издевается над бедной скрипкой. Она к этому времени выучила две песни: «Некуда заиньке спрятаться» и про сороку, которую слопала рыжая лиса. Обе песни грустные. Китайская Кошка вытягивает из скрипки тягучие, жалостливые звуки, наматывает их на смычок и сама тихонько подпевает.
Теперь ее просто так во дворе не встретишь. Только вечером, когда она гуляет с сенбернаром Маклаухом. Ростом он с теленка, два желтых фонаря-глаза и клыки торчат. Он всех собак в нашем дворе сильнее. Только боксер Эйт из второго подъезда его не боится.
Китайскую Кошку прозвали так за картину, которая висит у них в прихожей. Китаец в синих штанах гладит толстую серую кошку. Кошка похожа на воздушный шар — такая она гладкая и круглая. Кажется, вот-вот взлетит! А рядом еще один китаец сидит. Борода у него, как спутанный шпагат, и глаза закрыты.
А на самом деле Китайскую Кошку зовут Оля Шаргородская.
Рерих ходит по двору и смотрит на ее окна, как маленький мальчик на фотоаппарат, откуда должна птичка вылететь. Я до самой школы эту несуществующую птичку подстерегал. Но она так и не вылетела. Наверное, нравится ей в фотоаппарате сидеть. Из окон Китайской Кошки слышится классическая музыка. Наш двор теперь как консерватория. А Китайская Кошка — будущий гений. Бах, Моцарт, Гендель — вот с кем она теперь дружит…
Через несколько дней мы увидели, как она тащила домой пюпитр. А гордости было, словно не пюпитр, а магнитофон «Грюндиг».
— Где стулья бархатные? — закричал Петька Лукин. — Где красные бархатные стулья для музыковедов и театралов?
Когда она начинала пиликать, весь двор сходился под окнами и помирал со смеху. Петька Лукин забирался на дерево и вел оттуда репортаж, как комментатор с футбольного матча.
— Внимание! — орал он. — Величайшее событие в музыкальной жизни планеты! Китайская Кошка готовит скрипку и ноты! Мир застывает в восхищенном ожидании… Да… Богат репертуар юного дарования. Что она выберет? Песню про зайца или про сороку, которую так неосторожно слопала рыжая лиса? Итак, тише… Тише вы! Она подносит к подбородку скрипку… Взмах смычка — и польются божественные звуки… Но кто? — Тут Петька в гневе вскидывал руки и чуть не падал с дерева. — Кто смущает гения? Кто смеет? А… Она закрывает окно… Эй! Олька! Открой! Все равно слышно. Жалко, что ли?
Петька слез с дерева. Мы шатались от смеха, обнимали скамейки, и только Рерих стоял в сторонке с видом человека, потерявшего кошелек.
Но один раз Китайская Кошка приблизилась к нам. Мы с Рерихом сидели на скамейке и вырезали свои инициалы. Хотелось, чтобы осталась о нас память. Желтые листья кружились вокруг нас, случайный луч солнца упал на скамейку и тут же словно провалился под землю. Это сизая туча с огромным носом проглотила солнце, как таблетку. То ли будет дождь, то ли нет? И Китайская Кошка появилась неожиданно. Белые волосы вокруг головы шевелятся, папка со скрипичным ключом, белые гольфы, плащ белый, и только футляр, где скрипка лежит, черный.
— Посиди с нами, — сказал Рерих. На лице у него появилась глупая улыбка. Он теперь будет все время так улыбаться. А когда Кошка уйдет, снова станет нормальным человеком.
Китайская Кошка состроила гримасу, не удостоила его ответом. Она стояла и покачивалась на своих тонких ногах, как пластмассовая кукла. Странная у Китайской Кошки привычка — покачиваться.
— Идешь домой? — спросила она.
— Иду, — обрадовался Рерих, забыв про все.
— Я не у тебя спрашиваю…
— Мне и здесь хорошо, — ответил я.
Китайская Кошка поддала ногой скрипку и наклонила голову.
— Хо-ро-шо? — по слогам переспросила она. — Ну тогда сиди…
Рерих догнал ее, замахал руками. А я остался сидеть на скамейке. В это время проходила мимо девочка с третьего этажа — Инга. Но она и не думала спрашивать, пойду я домой или нет. Ей все равно…
Рерих у нас тоже человек искусства. Если Китайская Кошка все время думает о своей скрипке, то Рериха ждет не дождется дома гипсовая голова Гомера. Отец Рериха — скульптор, и в мастерской у него много гипсовых голов — мужских и женских. Венера, безрукая и безногая, в углу стоит. А еще в мастерской полно тараканов. Они по головам, по Венере, по картинам ползают. Год назад у нас с Рерихом любимая игра была — «охота на тараканов».
Жаль, что мы с Ингой в разных школах учимся. Я в двух метрах от дома, а она в центр на автобусе ездит. Мы с ней иногда здороваемся, а чаще нет. Как получится. Вернее, когда она меня замечает. Инга высокая. Волосы темные, коротко подстриженные. Это Китайская Кошка любит вокруг себя волосы распускать. Фея. Когда ветер дует, лица не видно. А у Инги волосы до плеч не достают. Китайская Кошка медленно идет-плывет, а Инга быстро — не догонишь. Один раз я из окна интересную картину наблюдал: дождь льет, Инга идет с зонтом, и Рерих по лужам из овощного магазина скачет. Но сетка с картошкой его книзу тянет. Инга остановилась, подождала его и взяла под зонт. До парадного под одним зонтом дотопали и еще на крыльце о чем-то разговаривали. Я Рериха спросил о чем, а он говорил: «Не помню…»
Выносил я в мусоропровод ведро и встретил на лестнице Китайскую Кошку. Она была в халате, разрисованном драконами, и в туфлях с загнутыми носами. Китайская Кошка на йогах, гейшах и далай-ламах помешалась. А из всех восточных стран больше всего Японию любит. У них даже календарь с иероглифами.
— Привет! — поздоровалась она.
— Привет! — ответил я. У меня из ведра сыпались арбузные корки, пустые консервные банки, а Китайская Кошка стояла и на это смотрела. Она-то наверняка вышла выбросить коробку из-под торта или бутылку из-под кока-колы. Они ее у себя дома как воду пьют…
— Я завтра не хочу к учительнице идти. Я хочу прогулять… Пойдем в кино или в парк?
— Ты что? — говорю. — А на скрипке кто будет играть?
— Мы ее под лестницей спрячем, — сказала Китайская Кошка. — Там Лешкина коляска стоит. Я раньше туда портфель прятала…
Я ничего не сказал. До меня вдруг дошло, что нечего Китайской Кошке на моем этаже делать. У них на втором свой мусоропровод имеется. Только, может, он засорился? Мусоропровод, он всегда снизу засоряется…
— Завтра видно будет, — сказал я Китайской Кошке.
Но на следующий день Инга пригласила Рериха и меня к себе на дачу. Рерих не хотел ехать, но я его уговорил. На ковре висели ножи и ружья. Дедушка у Инги оказался страстным охотником. Он рассказывал, как охотился в Туркмении на горных свиней. Какие эти свиньи хитрые и коварные! Как трудно застать их врасплох! Одна обезумевшая свинья загнала дедушку на дерево и караулила целую ночь. А утром дедушка увидел, что вся земля вокруг дерева, как трактором, перепахана.
Потом Рерих разложил свой этюдник и начал рисовать. Красивая картинка получилась. Яблони, голубое небо, Ингина дача.
Рерих спустился к ручью руки помыть, мы с Ингой остались одни.
— Знаешь, — говорю, — Орехов (это фамилия Рериха) не хотел к тебе на дачу ехать…
— Почему?
— Потому что ты Китайскую Кошку не пригласила…
— А с какой стати я должна ее приглашать?
— Как же, Рерих дня без нее прожить не может.
— А она?
Я пожал плечами.
— Не спрашивал…
Инга покраснела и отвернулась.
Рерих возвратился, и мы пошли к кусту, где рос гигантский волосатый крыжовник. Инга сказала, что это редкий мичуринский сорт. А дедушка заснул в кресле-качалке на веранде…
… Пиликанье на скрипке между тем продолжалось. Но нам уже надоело смеяться над Китайской Кошкой. Она теперь после школы куда-то уходила со своей скрипкой. Скрипка лежала в черном футляре, а где обшивка лопалась, Китайская Кошка наклеивала кусочки синей ленты.
Я несколько раз звонил Инге и слушал ее голос. Она говорила: «Але… Але…» Я молчал и представлял себе, как она стоит у телефона и вздыхает. Иногда она дула в трубку. Это мне казалось странным. Какой смысл туда дуть? Если трубка молчит, — значит, две копейки в автомат не бросили или разговаривать не хотят…
Инга все время просила Рериха, чтобы он ее нарисовал, но Рерих отказывался.
— Зря просишь, — сказал я Инге. — Он Китайскую Кошку в средневековых одеждах рисует… А она и не думает просить…
— Ты видел?
— Видел. На лошади, в лесу, в зале, где тысяча свечей горит и все танцуют. А себя он в рыцарских доспехах изображает… Пойдем с тобой в парк сегодня? Колесо обозрения последний день работает…
Она головой только покачала и ушла.
А на следующий день я зашел к ней домой.
— Ты один? — спросила она. — А Рериха не видел?
— Рерих с Китайской Кошкой на колесе обозрения катаются. Кошка скрипичные занятия прогуливает, а скрипку в коляске под лестницей прячет… У тебя нет случайно чистой тетрадки в клеточку?
Она принесла тетрадь, и я ушел. А чего еще делать, когда говорить не о чем?
На лестнице я вытащил из кармана кусочек угля (когда-то давным-давно у Рериха взял) и написал на стене большими печатными буквами: ИНГА+РЕРИХ=ЛЮБОВЬ.
А когда домой пришел, ее номер набрал. Набрал и, как всегда, молчу. Она на этот раз почему-то заплакала.
— Это ты? Это ты? — все время спрашивает. — Ну скажи, ты это?
Я повесил трубку.
Рерих же по-прежнему стоял под окнами Китайской Кошки, а когда ее дома не было, рисовал гипсовые головы. Он теперь на женские перешел. Чем-то они все Кошкину голову напоминали. Какие у нас во дворе талантливые люди! Китайская Кошка на скрипке играет, Рерих рисует, Инга… Инга… Говорят, она из лука здорово стреляет. Вот бы посмотреть!
Я как-то в магазин бегу, смотрю, она на лестнице тряпкой мою надпись стирает.
— Не видел, кто написал? — спрашивает.
— А чего было написано? — на стене к этому времени один слог «овь» остался.
— Будто не знаешь, — усмехнулась она.
— Это кто-то углем написал.
— Кто же?
— Только не Рерих. Он сейчас за Китайской Кошкой, как носильщик, скрипку таскает…
Она закусила губу и убежала. А я хотел ее в кино позвать. Интересно, пошла бы?
В этот день Рерих передал мне записку для Китайской Кошки. Он и раньше ей записочки писал, только Кошка их рвала на мелкие кусочки и не читала.
Я с этой запиской к Инге зашел.
— От кого? — спросила она.
— Нет ли у тебя чистой тетради в линеечку?
— Я спрашиваю: от кого записка?
— От Рериха. Только не тебе, а Китайской Кошке. А тетрадь я завтра верну. Когда тебе принести?
Она:
— Дай записку прочитать!
Я:
— Ты что? Разве чужие записки читают?
Она:
— Дай… Дай, пожалуйста, а? Ну дай, ладно? Я прочитаю и отдам…
Я:
— Ладно. Дам. Только пойдем потом со мной гулять? Куда ты хочешь?
Она хвать записку — и на кухню. Я стою жду. Лук в прихожей висит. Из чьих-то рогов сделанный. Из него, значит, она стреляет. Я тетиву потрогал, как басовая струна у гитары, она зазвучала. Интересно…
Возвращается.
Я:
— Ну что? Пойдем?
Она вздыхает:
— Пойдем…
Мы оделись и вышли. Небо серое, все в плащах, держат зонты наизготовку: а вдруг дождь начнется? И Китайская Кошка в прозрачном плаще навстречу со скрипкой, а на голове гигантский розовый бант.
— Тебе записка, — говорю.
— От кого?
— Прочтешь — узнаешь.
Китайская Кошка развернула записку.
Мы пошли вперед, а Китайская Кошка записку на мелкие кусочки стала рвать. Эти клочки мимо нас, как белые листья, пронеслись.
Инга закусила губы.
— Зачем Кошка такой дурацкий бант нацепила? — спрашиваю.
Инга молчит.
С Ингой прогулка не получилась. Она молчала, а одному говорить скучно. Только когда разговор заходил про Рериха, она оживлялась. Но все время говорить про Рериха неинтересно. Я рассказал, как он за натурщицами подсматривал, а Инга только улыбнулась.
Не получилась у нас прогулка.
В этот день много чего произошло. Вернулся я домой, мама говорит:
— Новость. Оля Шаргородская не поступила в музыкальное училище. Столько денег репетиторам платили — и все на ветер…
Я зашел к Китайской Кошке. Она сидит на табуретке — глаза сухие. Китаец на стене приуныл, и круглая кошка никуда не собирается лететь.
— Не приняли? — спрашиваю.
— Не приняли. Ну а как вы погуляли?
— Плохо.
— Чего же так?
— Не знаю.
— Ясно. А про меня говорили, что я в группе самая талантливая…
— Не расстраивайся. Если говорят, что самая талантливая, на будущий год поступишь, — утешаю, все-таки с детства друг друга знаем.
— Хватит, — устало сказала она. — Дай скрипку…
Я принес. Она взяла, погладила ее.
— Этот дурак под окном стоит?
— Рерих? — Я подошел к окну. — Стоит.
Тут она вдруг сорвала с головы бант, швырнула его на пол, схватила скрипку и выбросила ее в окно.
Я своим глазам не поверил. За скрипкой — пюпитр. Зазвенел на асфальте, как брошенная шпага.
Скрипка выпрыгнула из футляра и поскакала по лужам. Тренькнули печально струны.
А под окном Рерих стоял.
— Ура! — закричал он, увидев, как скрипка из окна упала. Дурак, не понял даже, что она могла ему на голову свалиться. — Ура! — закричал он. — Теперь все по-старому будет!
Китайская Кошка высунулась из окна.
— Подбери! Подбери мою скрипку! — кричит. Рерих не обращает внимания. Орут каждый свое.
Я выхожу в прихожую, набираю Ингин номер.
— Это я, — говорю. — Посмотри в окно, что делается. Пойдем в кино, а? На семь двадцать в «Дружбу» успеем…
Она бросает трубку.
Я снова набираю.
— Ты мне противен, — говорит Инга.
Китайская Кошка спускается во двор и скрипку поднимает.
— Скрипочка моя раненая… — Прижимает ее к себе, плачет так, что люди из окон высовываются. Рерих рядом стоит и футляр держит. В луже папка с рисунками валяется. Ветер рисунки из папки вытаскивает, раскладывает на асфальте, приглашает на выставку. Только рисунки быстро намокают, и не разобрать, что там нарисовано.
Инга из окна на это смотрит: на Кошку со скрипкой, на Рериха с футляром, на рисунки — и тоже, по-видимому, плачет. Впрочем, я этого не вижу и поэтому со стопроцентной уверенностью сказать не могу.
Да… Все пошло шиворот-навыворот с тех пор, как Китайская Кошка начала играть на скрипке…
АФАЛИНА
Ровно в половине восьмого выходит она из дому, стучит каблуками по лестнице, пинает мусорные бачки, насвистывает что-то модное и смотрит, не появилось ли на стенах новых надписей.
Занятия в школе начинаются в половине девятого, идти до школы десять минут, а она вот уже целую неделю выходит на час раньше. «Чтобы голова была ясная», — говорит она бабушке. Ее родители в это время спят, и только дверь в спальню тихо ходит туда-сюда из-за сквозняка. Круглый год ее мама и папа не закрывают в спальне форточку.
Она идет по двору и знает, что если оглянется на свое окно, то увидит бабушку, которая робко помашет ей рукой. Седьмой год бабушка провожает и встречает ее, и ей трудно представить себе внучку за партой. Гораздо легче на маленьком троне с крохотной, игрушечной короной на голове.
Она проходит под аркой — и оказывается на Ленинском проспекте.
Раннее сентябрьское утро — время, когда стекла витрин магазинов чисты и прозрачны, а улыбки у девушек с рекламных фотографий радостны и безмятежны. Девушки рекламируют сумки и бижутерию. Вечером же, когда она возвращается домой после теннисной секции, витрины запыленные, а улыбки у девушек усталые, словно это они, а не продавщицы, весь день стояли у прилавков.
Ее зовут Света, фамилия Фалина, она учится в седьмом классе и носит дурацкую кличку Афалина. Так называется черноморский дельфин.
Эту кличку дал ей Петя Лукин еще в третьем классе.
Петя Лукин — отличник по всем предметам, гордость и надежда школы, учиться для него все равно, что для Афалины ходить по двору, где она делает, что хочет.
Много лет Петя сидел с ней за одной партой, дергал за косы и бил по локтю, если она случайно нарушала границу, которую он прочертил ручкой поперек парты.
Но с тех пор все изменилось.
Афалина догнала Петю по росту, теперь он сидел через три парты от нее и каждый день писал ей записки, на которые Афалина и не думала отвечать.
В школе она вообще пишет, только когда диктуют, а говорит — когда вызовут. Получает она сплошь четверки. Балл ей снижают за «отсутствие собственных мыслей».
Правда, иногда снижают балл и Пете Лукину, но за то, что собственные мысли забивают у него то, что необходимо знать совершенно конкретно.
«Устами Афалины глаголет учебник», — это афоризм Пети Лукина.
Твердая пятерка у Афалины по физкультуре и примерное поведение. Она выше всех девочек прыгает в высоту, быстрее всех бегает все дистанции и шутя справляется с упражнениями на брусьях и на бревне. И на всех уроках сидит спокойно, не отвлекаясь. За первую неделю учебного года Афалина получила одно-единственное замечание от классной руководительницы.
За короткую юбку.
— Таких коротких юбок не носит ни одна девочка в школе! — сказала классная руководительница.
— Это не юбка короткая, а просто ноги у меня самые длинные в школе, — спокойно возразила Афалина. — Любая юбка короткой покажется…
Девочки-одноклассницы Афалину не любят. Во-первых, она с ними почти не разговаривает, во-вторых, все мальчики класса тайно или явно влюблены в Афалину.
Со своей единственной подругой Афалина разругалась еще в шестом классе. И та по секрету сказала девочкам, что Афалина может целый день пролежать в ванне, что в школьной сумке носит набор польской косметики и что самая заветная ее мечта — купить мотоцикл «Ява», надеть кожаную куртку и гонять по городу. Впрочем, кожаная куртка уже сейчас постоянная одежда Афалины. А еще она любит высокие сапоги.
Афалина выламывает прутик и ходит по двору, похлестывая себя по сапогам этим прутиком.
— Эй ты! Амазонка рыбья! — высовывался, бывало, из окна Петя Лукин. — Где твоя механическая лошадь?
Когда Петя учился в пятом классе, его показали по телевизору. Петя на математической олимпиаде для младших школьников ухитрился решить конкурсные задачи для поступающих в вуз. «Математика — наука творческая, — сказал Петя с голубого экрана. — Надо только ее любить и много думать… И можно решить любую задачу, даже не из области математики…»
Афалина — худая, по росту — вторая в классе среди девочек, по внешности — далеко не самая красивая. У Афалины узкое лицо и быстрые, зеленые глаза. Неизвестно почему, Петя Лукин назвал их «уксусными». Они редко бывали мечтательными. И напрасно Петя искал в них что-то похожее на сочувствие. Этого в «уксусных» глазах Афалины не было.
Итак, в половине восьмого Афалина выходит из дому. На ней синяя юбка, кожаная куртка, сумка на ремне. В сумке кроме тетрадок и учебников лежит книга «Легенды и мифы Древней Греции». Еще в сумке прыгалка и журнал «Катера и яхты». Время от времени Афалина строптиво встряхивает головой, и светлые волосы разбегаются по кожаной куртке. Но потом ветер, точно занавеску, заворачивает их набок, открывая длинную шею Афалины.
Кругом листья. Облака, как воздушные шары, поднялись высоко-высоко, и Афалина не может рассмотреть облачного человечка, который, как ей в детстве утверждала бабушка, живет в каждом облаке.
Но зато она прекрасно сумела рассмотреть Петю Лукина, бывшего своего насмешника, который как таракан выскочил из стеклянного коробка троллейбусной остановки.
Афалине смешно смотреть на Петю, как он, рискуя угодить под машину, перебегает через дорогу. Из-за Афалины Петя тоже выходит из дому на час раньше.
Петя догоняет и останавливается перед ней, тяжело дыша и вытирая ладонью пот со лба.
У Пети узкие плечи, стриженая голова и длинный нос, на котором очки прыгают, как лягушки.
— Ну что, одинокий бегун? — усмехается Афалина. — Где твоя механическая лошадь?
Петя молчит и смотрит на Афалину.
— Хочешь, я сконструирую для тебя самый легкий и самый мощный мотоцикл в мире? — спрашивает он. — Я уже над этим думал… У меня получится…
— Вот еще! — дергает плечом Афалина. — Я — дельфин, я люблю море и солнце… Кстати, я не обижаюсь на тебя за эту кличку… Один человек сказал, что она удивительно мне подходит… Лучше сконструируй яхту…
— Яхту? — растерянно смотрит на нее Петя. — Но я совсем не знаю судостроения…
— Ну так узнай, — говорит Афалина. — Это для тебя раз плюнуть…
— А что это за человек, которому понравилась твоя кличка?
— Я познакомилась с ним на теннисном корте… — отвечает Афалина. — Он мастер спорта… А ты, Петя, даже на перекладине подтянуться не можешь… И вообще, чего тебе от меня надо?
— Чтобы ты хоть раз нормально поговорила со мной, — почему-то шепотом говорит Петя.
— А как бил меня, как обзывал, как дергал за косы? Думаешь, я забыла?
Петя хочет что-то сказать.
Афалина рукой останавливает его.
— Зачем ты начал писать стихи? Я читала вчера твое стихотворение в газете… Зачем ты… — Афалина усмехается, — технический гений, а теперь еще и поэт, пишешь про такое ничтожество, как я? Думаешь, никто не понял, что это про меня?
— Разве ты ничтожество? — ужасается Петя.
— Моими устами глаголет учебник, — говорит Афалина. — Ты можешь конструировать что угодно, писать что угодно, но ты мне никогда не понравишься, потому что… Решай задачи, Петя!
Афалина смерила его с ног до головы презрительным взглядом и вскочила в троллейбус, который уже закрывал двери.
Петя остался на остановке.
В этот день он в школу не пошел. Целый день Петя околачивался на Ленинских горах, добиваясь, чтобы его записали в секцию тенниса.
Попутно он придумал одну интересную штуку с фотоэлементом, которую можно было вполне поместить в рукоятку теннисной ракетки. Она должна безошибочно реагировать на мячик и отбивать его в точку поля, максимально удаленную от ракетки противника.
А Афалина сидела на уроках и вспоминала, как она мечтала, чтобы Петя дернул ее за косу или ударил, и как она была счастлива, когда он придумал ей дурацкую дельфинью кличку, и как она потом плакала, когда Петю год назад пересадили от нее на другую парту…
КАЧЕЛИ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ
… Бронзовые тела коней и атлетов, древнегреческие боги с мрачными лицами, радуга сквозь водяную пыль на подступах к фонтану.
— Как мне здесь надоело! — вздохнула она.
— А чья идея ехать в Петродворец? — спросил я.
— Твоей мамы, — ответила она.
Я пожал плечами. Пить хотелось страшно. Кругом валялись смятые картонные стаканчики.
В кармане у меня пять рублей. На эти деньги я должен ее развлекать. Если к пяти рублям прибавить семьдесят копеек, получится приличный футбольный мяч.
— Куда мы сейчас пойдем? — спросила она.
— Куда хочешь.
— Хочу подальше от фонтанов.
Она — дочка папиного друга. Этот друг — инженер-строитель. Сейчас он работает в Индии. Руководит постройкой нефтеперерабатывающего гиганта. А его дочка вместе с бабушкой раньше жили в Москве. Но вот недавно бабушка умерла, и теперь дочка улетает к отцу в Бомбей. Там есть русская школа.
Рано утром мама ездила в аэропорт встречать ее. От нашего дома до аэропорта пятнадцать минут езды на тринадцатом или тридцать девятом автобусе. Из окна видно, как садятся и взлетают самолеты. Я их в воздухе неплохо различать научился. Ил-62, почти как ракета, вертикально взлетает, а вот Ан-24, наверное, целый час высоту набирает. Высоко в небе Ил-62 похож на гуся с длинной шеей, а Ан-24 напоминает ботинок.
Они вошли в квартиру, когда я смывал в ванной вчерашнюю футбольную грязь. Я, конечно, забыл, что утром приедет какая-то девочка: отправился в ванную в трусах и теперь стеснялся выйти.
— Сегодня будет великолепный день, — донесся до меня незнакомый голос. — Я летела на самолете и не видела ни одного облачка. Небо голубое, а по нему идут розовые полосы. Как на картине Рериха…
Ее звали Люся. За завтраком она рассказывала про покойную бабушку, которая под конец жизни стала очень плохо видеть. Бабушка целыми днями сидела у окна и спицами шевелила. Делала вид, что вяжет.
— Люсенька, тебе, наверное, хочется город посмотреть? — спросила мама.
— Лучше уж тогда Петродворец, — сказала Люся.
— Прекрасно, — обрадовалась мама. — Сережа, ты как?
«Никак», — хотел ответить я. До отъезда в пионерский лагерь три дня, надо сделать кучу дел, а в Петродворец мы всем классом ездили месяц назад.
— Слушай, — спросил я у Люси, когда мы вышли во двор, — зачем ты в Ленинград прилетела? Неужели из Москвы нельзя в Индию лететь?
— Видишь ли, — объяснила она, — мне надо в Бомбей, а из Москвы самолеты только на Дели и на Калькутту. А через Ленинград проходит рейс Монреаль — Париж — Ленинград — Дакка — Бомбей. Самолеты канадской авиакомпании летают. «Боинги»… Иногда даже в салоне кино показывают…
— В самолете кино?
Она посмотрела на меня, как на неандертальца. Некоторое время я молчал.
Знаю я эти «боинги». Похожи на наши Ил-62, только побольше и с красной полосой посередине. Вот только не помню: турбины у них или винты?
Все время было прохладно, а когда мы приехали в Петродворец, стало вдруг невыносимо жарко. Казалось, что сверкающие фигуры в фонтанах плавятся под тонкими струями воды. Но Люся недолго любовалась фонтанами. Пожалуй, только мощный Самсон заинтересовал ее. А мимо львов, стройных девушек с амфорами она проходила не останавливаясь. А я все время думал о пяти рублях. Туда ехали без билета и обратно так же надо… Этот мяч не давал мне покоя.
— Тебе скучно со мной? — вдруг спросила Люся.
— С чего ты взяла?
— О чем ты все время думаешь?
— Ни о чем.
— А почему молчишь, когда я к тебе обращаюсь?
— Так…
— А я слышала, что тебе мама говорила… Ты должен мне мороженое покупать. Я, если захочу, могу десять порций съесть. Давай на спор?
— Не хочу на спор, — сказал я.
— Тебе мама велела за мной ухаживать?
— За болонками ухаживают. И за аквариумными рыбками тоже. Только их не мороженым, а червяками угощают. Понятно тебе?
— Тебе мама велела меня развлекать.
— Что прикажете? На голове стоять или фокусы показывать?
Она пошла вперед.
— Обиделась? — догнал я ее.
— Уйди, — сказала она. — Я же вижу, тебе со мной скучно. Лучше уйди…
— С чего ты взяла?
— Я вижу. Я тебе надоела. Я всегда всем надоедаю. У меня, если хочешь знать, ни одной подруги нет…
— Так не бывает.
— Бывает! Но они мне и не нужны…
— А кто тебе нужен?
— Мне? Куклы.
— Куклы?.. — засмеялся я. — Сколько тебе лет?
— А раньше был нужен телефон…
— Ты всем звонила, да?
— Нет, — засмеялась она. — Детский телефон за шестьдесят копеек. Я разговаривала…
— С мальчиками, которые в тебя влюблены?
С собой…
Я свистнул и покрутил пальцем у виска. Но она не обиделась.
— Я очень хотела стать знаменитой, — сказала она. — Сначала артисткой, потом художницей, потом балериной. Этого все хотят, только скрывают… А та, с кем я разговаривала по телефону, уже стала знаменитой, понимаешь? Это была я сама, но только в будущем.
Я молчал. Мне самому хотелось стать прославленным футболистом или велогонщиком, но я никуда не звонил по игрушечному телефону за шестьдесят копеек. Гораздо проще было пойти и записаться в секцию. Только я почему-то до сих пор никуда не записался…
— Знаешь, — словно прочитала она мои мысли. — Я уважаю только тех, кто говорит, что думает…
— Даже тогда, когда тебе не нравится, что они думают?
Люся помолчала.
— Даже тогда…
— Пожалуйста… Я думаю, как бы купить футбольный мяч за пять семьдесят…
— Мяч?
— У меня не хватает семидесяти копеек.
— Я отдам тебе все деньги, когда буду улетать…
— Спасибо, только, может, и так хватит.
— Знаешь, — сказала она. — А мне бы сейчас хотелось покачаться на качелях. У нас во дворе качели висят. Осенью на них здорово качаться. Особенно когда листья падают. Кажется, что ты тоже лист и тоже падаешь…
Я промолчал.
Если мне что нравится, так это прицепиться к машине на велосипеде и мчаться, чтобы ветер в ушах свистел.
— Или, — продолжала она, — я бы сейчас с удовольствием по лесу прошлась. Ты был когда-нибудь в Пушкинских Горах?
— Не был.
— А я была. Знаешь, какой там лес? Поляны, а на них огромные сосны растут. По вечерам у них в ветвях солнце задерживается. А пруд! Вода чистая-чистая, видно, как рыбы плавниками шевелят…
Тем временем мы порядком удалились от фонтанов и теперь шли по узенькой асфальтовой дорожке вдоль залива. По бокам росли сосны, но солнце почему-то не задерживалось у них в ветвях. В Пушкинских Горах, наверное, сосны далеко друг от друга стоят, а здесь ветками толкаются. Мимо проносились велосипедисты и проходили люди. Вдруг она остановилась и сошла с дорожки. Сняла туфли и пошла к воде. Она шла по песку, и маленькие следы тянулись за ней… Зря я, наверное, про мяч сказал…
— Давай искупаемся, — предложила она, глядя куда-то вверх, словно не мне, а облаку говорила.
— А ты когда-нибудь в Финском заливе купалась?
— Нет, а что, в нем нельзя купаться?
— Можно, только километр пройдешь, пока хотя бы по пояс будет.
— Ну вот и отлично, я же все равно плавать не умею… Ты идешь со мной или нет?
— Не хочется, — ответил я и сел на горячий песок. Солнце светило в глаза. Сделав из ладони козырек, я смотрел ей вслед.
Лопатки торчали у нее из спины как маленькие крылья…
— Эй! Подожди! — крикнул я и, сбросив штаны и рубашку, побежал догонять. Только сейчас я вспомнил, что на мне не плавки, а длинные черные трусы, которые я ношу каждый день.
Мы все шли и шли, как будто и не собирались возвращаться на берег.
— Я сейчас видела рыбку, она выскочила из-под камня и сразу пропала…
Вода поднялась до пояса. Большое сизое облако закрыло солнце, и стало прохладно.
— Может, вернемся? — предложил я.
— Смотри, — сказала она. — Видишь, впереди светит солнце? Видишь, блестят камни? Это не камни — это маленькие окаменевшие динозавры с зелеными спинами. Они видели пришельцев из космоса…
Когда вода дошла мне до груди, я поплыл. Она зашла в воду по шею, и ее волосы рассыпались по воде. Они лежали на поверхности и не тонули.
— Эй! — крикнула она, словно я был где-то очень далеко. — А тебе разве не хочется стать знаменитым?
— Мне нравится собирать приемники и ездить на велосипеде.
Она вытащила из воды руку и, подхватив волосы, отжала их, как мокрую тряпку.
— Смотри, чайки, — сказала она. — Куда они полетели?
— В Кронштадт или в Финляндию…
— В Кронштадт, — вздохнула она. — А это очень интересно — собирать приемники?
Я пожал плечами.
— Раньше я ходила в балетную студию, — сказала она. — Мне там нравилось. А потом пришел новый преподаватель, стал нас бить линейкой по ногам и кричать: «В струнку! В струнку!».
Она наткнулась ногой на камень и начала хромать.
— Меня укусила акула… — Лицо у нее посинело от холода, а мокрые волосы висели вдоль плеч, как веревки. Я слышал, как у нее постукивали зубы.
Мы вышли на берег. Песок был теплый, и снова светило солнце. Я лежал лицом к небу, а она лежала рядом, и ее волосы касались моей руки. Рядом валялась наша одежда. Ветер все время приподнимал рукав платья, и казалось, что это человек-невидимка машет оттуда рукой.
— Тебе все равно, уеду я или нет? — тихо спросила она и, приподнявшись на песке, посмотрела мне в глаза. Глаза у нее голубые, и смотрела она как-то чересчур напряженно.
— Не знаю, — честно ответил я.
Снова подул ветер, и сосны зашумели.
— А мне жаль, что мы расстаемся, — сказала она и улыбнулась.
Я покраснел.
— Хочешь, пойдем в кафе? — спросил я. — Мне мама пять рублей дала. Можем все истратить…
Она покачала головой.
— Я хочу, чтобы ты купил футбольный мяч.
Я посмотрел в небо. Чайки величественно шевелили крыльями, и в их движениях не было суеты, как, например, у голубей или галок.
— Благородные птицы, — сказал я.
— Все животные белого цвета благородные, — сказала Люся. — Чайки, альбатросы, белые медведи…
Она подняла с песка палку и стала чертить на отмели фигурки.
— Недавно я прочитала книгу «Психология подростка». Там написано, что в возрасте тринадцати-четырнадцати лет мальчики и девочки скрывают свои симпатии. Я назло этой книге взяла и написала одному парню записку. Ну, что он мне нравится, и все такое. И назначила ему свидание…
— Он пришел?
— Да… Он пришел вместе с другом и собакой. Сказал, что его послали купить масло и он заодно решил встретиться со мной. Он вел себя точь-в-точь по той книге…
— Я тоже веду себя по той книге?
Она подошла ко мне совсем близко.
— Ты когда-нибудь целовался с девочками?
Во рту у меня пересохло, а руки почему-то задрожали.
— Ты никогда не целовался с девочками?..
Я молчал.
— Когда приедем домой, покажи мне фотографию твоего класса, ладно?
— Зачем?
— Я скажу, какая девочка тебе нравится…
— Ты не отгадаешь…
— Увидим.
— А может, пойдем истратим пять рублей?
— Нет. Обязательно купи себе мяч…
Был вечер, но было светло. Белые ночи только начинались.
— Знаешь что, — сказала Люся. — Когда я вернусь из Индии, поедем в Пушкинские Горы?
— А там выдают напрокат велосипеды? — спросил я.
Люся пожала плечами. Она смотрела на небо, на сосны, на прибрежные камни, а потом вдруг спросила:
— Хочешь, я напишу тебе из Бомбея?
— Напиши, — сказал я.
Она действительно написала, но я не ответил. Я просто не знал, что ей ответить…
ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЗООПАРКЕ
Я люблю ходить в зоопарк. Хожу по нему и забываю, что зверям до самой смерти в клетках сидеть. Да и глупо, наверное, об этом все время помнить. Особенно когда устанешь так, что ноги как колокола гудят. Думаешь только о том, где бы сесть и отдохнуть. А скамейки все заняты: рядом с зоопарком кинотеатр «Баррикады». «Ну, погоди!» показывают, и в ожидании сеанса люди сидят на скамейках, смотрят на часы и скучают.
Чаще сюда приходят дети с родителями. Родители стараются побыстрее все клетки обойти и домой уехать, а для детей зоопарк — праздник, поэтому они у каждой клетки задерживаются, смотрят на зверя, вспоминают, может, видели его где-нибудь или читали про него. Родителям такая неспешность, естественно, не нравится, и они на всякие хитрости пускаются, чтобы побыстрее из зоопарка уйти. Одна мама обещала дочке купить куклу-блондинку с открывающимися и закрывающимися глазами, только бы подальше уйти от клетки с «броненосцем», похожим на огромную хвостатую черепаху с длинными ногами.
Из птиц больше всего дети любят павлинов. Около них всегда толпа стоит. Павлин по печенью, которое ему бросают, как по паркету ходит. Крылья распустит, хвостом потрескивает, и все восхищаются и пальцем на него показывают. Это павлин так за своей курицей ухаживает. Серая курица, неприметная, а вот не было бы ее, и чудеса павлиньи кончились.
Я заметил: чем животное красивее и необычнее, тем больше в его клетке разных вкусных вещей валяется. Вплоть до шоколадных конфет. А если зверь попроще, нет к нему уважения. На лося никто не смотрит, и на лису тоже, и хвост у нее такой, будто из него уже успели воротник сшить.
Вот, например, самка овцебыка. Мимо нее проходят, не останавливаются, а она почти что ручная. Грязная, неухоженная, а мордочка добрая и ласковая. Мне ее вдруг так жалко стало, помню. Вот, думаю, павлин, так тот за свою красоту в зоопарк попал, а эта-то за что? Отпустили бы лучше на волю или в колхоз какой-нибудь передали. Она бы там вместе с коровами жила.
В другой раз я булку с собой принес и стал потихоньку бросать ей кусочки. Она совсем близко подошла. Доверчиво посмотрела сквозь решетку и взяла с ладони кусок булки. Осторожно взяла, ласково. Губы у нее мягкие, язык розовый, шершавый. Стою я и чуть не плачу. А она челкой встряхнула и в свой угол отошла, от овцебыка подальше. Он как раз проснулся и замычал.
Я сел на скамейку. Сижу и думаю. Хуже алгебры для меня ничего нет: как начну размышлять над скоростью велосипедиста, выехавшего из пункта «А» в пункт «Б», тут же в голову совершенно посторонние мысли лезут. Не могу я почему-то про велосипедистов думать.
Единственный предмет, который мне нравится, — это история. Когда нам выдают учебники, я прочитываю «Историю», как приключенческий роман. Вижу толпы вооруженных людей, обороняющиеся крепости, вижу золотые кареты императоров и нарядные мундиры гвардейцев, алхимиков-волшебников в подвалах, пропахших серой, и инквизиторов в черных балахонах с янтарными четками в руках. И еще много-много чего.
Я в себе не могу разобраться. Раньше в мои четырнадцать лет люди подвиги совершали, а я до сих пор в игрушки играю. Сижу, например, на алгебре и начинаю воображать, что вокруг космическое пространство, а ручка, которой я пишу, — руль межпланетного корабля и будто лечу я куда-то. Так иногда увлекусь, что не замечу, как урок пролетит. Если не вызывают, конечно. Помню, однажды математичка на меня набросилась.
— Почему, — говорит, — ты ручку целый урок горизонтально держишь? Писать надо!
А как ей объяснить, что это не ручка, а космический корабль, что мы к звезде Альтаир приближаемся? Мне почему-то название этой звезды очень нравится. А из созвездий — Волосы Вероники, хотя я и не знаю, кто такая эта Вероника…
Я часто думаю: как же так получилось, что я остался один? У меня нет друзей в школе, и во дворе я никого не знаю. Я целыми днями сижу дома и занимаюсь ерундой. Хорошо, если книжка интересная попадется, а если книжки нет, совсем тоска.
Когда мы въехали в новый дом, все подружились друг с другом, а я никак не мог отвыкнуть от своего старого двора. Я ходил туда каждый день и поздно вечером возвращался домой на автобусе. Наш старый дом заняли под научно-исследовательский институт и постепенно всех переселили в новые квартиры. Теперь во дворе дома стоят черные «Волги» и ходят озабоченные люди с портфелями.
А ребят из своего нового дома я не знаю… Я смотрю на них из окна. Вижу, как они ходят по двору, играют в футбол, подтягиваются на турнике. Смотрю на них и думаю, что кто-нибудь другой на моем месте давно с ними познакомился бы. А я не могу, потому что трус. И когда мама говорит: «Иди гулять», — я иду, но не во двор, а в универмаг, который на первом этаже нашего дома. Иногда я поднимаюсь на девятый этаж — там пожарная лестница — и пытаюсь подтянуться. Но у меня ничего не получается.
Неприятно сознавать, что ты трус. Но сознавать надо. Если на это закрывать глаза и внушать себе, что все в порядке, на всю жизнь можно остаться трусом. Таким замаскированным трусом…
Я поднялся со скамейки и пошел дальше по зоопарку. Смешной зверь бобр! Говорят, он любит чистую проточную воду, а тут у него вода грязная, и опилки в ней плавают. Каждый раз, когда бобр подходит к краю, мне кажется, он закрывает глаза от страха. А другой бобр стоит и держит в лапках кусок капусты. Подносит его ко рту и меленько-меленько кусает. Кажется, он ест его уже целый час, а лист по-прежнему целехонек.
Зря я сегодня удрал с практики. Все-таки последний день, больше никого до первого сентября не увижу. Мы должны сегодня сажать деревья. Каждый год седьмые классы сажают деревья, только что-то они плохо растут. Наверное, на школьном дворе условия неблагоприятные.
Когда я переходил с одной территории зоопарка на другую, со мной случилась неприятная вещь. Я ухитрился потерять билет. Он был уже надорванный, но его надо хранить до того, как перейдешь на новую территорию.
Остановился я посередине улицы, шарю в карманах, хотя знаю, что билета не найду. Машины мимо едут, а я стою на мостовой. Думаю, увидит сейчас контролерша, скажет: «Эй, парень. Иди без билета. Подумаешь, чепуха какая!» А я ей тогда полпачки печенья отдам. Я эту пачку на последние деньги купил. Половину гусям в пруду побросал, а половина осталась. Но знаю: ни за что контролерша так не скажет.
— Антонов! — вдруг слышу сквозь шум машин свою фамилию. — Ты почему не пришел деревья сажать?
Поворачиваюсь, а это девочка из нашего класса, Таня Григорьева. Когда-то давно я с ней за одной партой сидел. Она мне задачи по арифметике решала, а я ей журналы мод приносил.
— Ты чего на дороге стоишь? Тебя машина задавит, — смеется она.
И мне тоже смешно стало.
— Я билет потерял, — говорю.
— Какой билет?
— В зоопарк.
Дождь в это время стал накрапывать. Сначала еле-еле, а потом сильный пошел. Люди побежали. Мы стояли около киоска «Союзпечать», и девушка с обложки журнала улыбалась нам сквозь стекло.
Я не знал, о чем с Таней говорить, а говорить хотелось.
— Тебе за практику четверку с минусом поставили, — сообщила она. — А Гусева по химии на осень оставили…
Я бы, наверное, сказал, что Гусева жалко, о нем ничего нового не скажешь. Но контролерша вдруг нагнулась в своей будке. Видно, у нее шнурок развязался. Я схватил Таню за руку, и через пять секунд мы были на новой территории. Остановились под деревом, мокрые и запыхавшиеся.
— Зачем? — спросила Таня. — Могли бы купить билеты…
В это время большой лебедь с красным клювом по воде крыльями забил и, как торпеда, помчался, только пена сзади забурлила.
— Смотри! — кричу я. — Смотри! Сейчас взлетит!
Но лебедь не взлетел. Замедлил ход и спрятал голову под крыло.
— Никогда он не взлетит, — сказала Таня. — У него крылья подрезаны.
— Я сам не знаю, почему сюда забрел и тебя зачем притащил, — сказал я. — У меня печенье есть, хочешь?
Она была в джинсах и в блестящей голубой рубашке с карманами. На рубашке нарисовано красное солнце, лучи расходятся в разные стороны. И светлые волосы у нее сегодня не заплетены в две косы, как в школе, а распущены, и глаза у нее красивые и серые; а я в мятых штанах и в сандалиях на босу ногу. Я веду себя как глупый мальчишка. Что-то кричу про лебедей, размахиваю руками, но это ей совсем неинтересно. На нее посматривают парни гораздо старше меня, и она не отводит взгляда, а чуть заметно улыбается этим парням, по-видимому стыдясь, что рядом с ней такой кретин. Тут мне вдруг ужасно захотелось ее за волосы дернуть, а потом рожу скорчить и убежать. Но вместо этого я поплелся под дождь и стоял, пока не промок окончательно. Дождь был теплый и ласковый.
— С ума сошел, — сказала она, когда я вернулся под дерево. Протянула носовой платок, хотя тут и полотенцем было бы не обойтись. Чистый платок, без единого пятнышка. Повертел я его и обратно отдал.
— А ты совсем сухая, — сказал.
Она пожала плечами и посмотрела на небо.
Скоро дождь кончится. Таня тогда выйдет из-под дерева и уйдет. А я пойду смотреть на дикую собаку Динго.
— Ты куда летом поедешь? — спросил я.
— Весь июнь буду в городе. Ко мне мальчик из Польши по приглашению приедет.
— А потом ты к нему?
— Конечно.
— Ясно, — сказал я. — Мальчик из Польши…
Почему-то противно стало. И еще я своего соседа Вольдемара Эммуса вспомнил. Этого Эммуса я знаю, потому что на одной лестничной клетке с ним живу. Ему тринадцать лет, а он уже мастер спорта по шахматам. Будущий Ботвинник, говорят. Дни и ночи за доской просиживает. Этот Эммус любит ко мне приходить в шахматы играть. (Как будто больше не с кем!) Без ладьи, без ферзя, без двух коней выигрывает, отрабатывая на мне какие-то тактические варианты. Эммуса совершенно не волнует, что он никого во дворе не знает. Ему на все, кроме шахмат, наплевать. Один раз, когда он не видел, я коня на две клетки передвинул. Эммус смотрел-смотрел, а потом как стукнет кулаком по доске. Все фигуры разлетелись. «Дальше играть нет смысла, — сказал. — Такой позиции быть не может!» Так вот, я бы сейчас десять партий с Эммусом сыграл вместо того, чтобы с Таней по зоопарку ходить… Мальчик из Польши…
Я вытащил из кармана намокшую пачку печенья и бросил ее в озеро. Она пошла на дно. Я и раньше видел, как лебеди в зоопарке пытались взлететь и не могли, но тогда меня это так не огорчало. Мне тогда почему-то казалось, что это вода виновата: она лебедей, как магнит, держит и в воздух не пускает. Я, помню, тайные замыслы вынашивал: достать акваланг и со дна всех лебедей подталкивать. Я маленький тогда был и не понимал ничего.
И тут: «Привет, Танюха!» Этот веселый, красивый парень с сигаретой на меня даже не посмотрел. Он был на голову выше и в плечах шире. Связываться с ним — чистейшее безумие. Это глупые лебеди пытаются взлететь, хотя это невозможно. А человеку зачем? Таня смотрела на него как на бога, а он на нее снисходительно и равнодушно.
— Эй, ты! — вдруг услышал я собственный голос. — Пошел отсюда…
Опешил он. В первый раз внимательно посмотрел на меня.
— Полегче, полегче, — говорит. — А то так и в лоб заработать можно, верно?
— Это мы еще посмотрим, — сказал я.
— А ногти на ногах надо стричь, — говорит. — Разве можно ходить с такими ногтями?
Посмотрел я на свои ногти, а он в этот момент меня снизу вверх ударил.
Я сидел на асфальте, и в голове гудело, а он, оглядываясь на прохожих, шел к выходу. Наплевать ему было на зоопарк. И Татьяна спешила за ним, а он улыбался и что-то говорил ей.
— Вернись! Дурбан! — заорал я. Такое странное слово сочинил — что-то среднее между «дурак» и «болван».
— Сам ты дурбан! — обернулась Татьяна. — Это мой двоюродный брат!
Она почти бежала за ним.
И тут я вдруг увидел чудо: большой лебедь бесшумно заскользил по воде, потом сильно взмахнул крыльями и плавно поднялся в воздух. Он летел, вытянув длинную шею и прижав к животу оранжевые лапы. Он поднимался все выше и выше и скоро оказался высоко над домами, где-то на уровне последнего этажа высотного дома на площади Восстания, а я смотрел ему вслед, забыв про Татьяну, про ее двоюродного брата-дурбана и про собственный разбитый нос. Все-таки этот гад задел меня по носу.
А когда лебедь скрылся, я пошел домой.
Вошел в свой двор, там ребята в теннис играли. Двое играли, а остальные сидели ка длинной скамейке у стола. Когда я мимо них проходил, все, как один, на меня посмотрели. А я некоторых уже по именам знаю. Вон тот, длинный, как и я, Лешка, тот толстый с флюсом — Володя, его почему-то Мурашихой зовут, а кудрявый — Коля Яковлев, он на гитаре здорово играет. Завидно мне стало: сейчас не вечер, на улице светло, а я приду домой и читать начну или играть во что-нибудь один. И будет мне грустно-грустно, потому что я все время буду думать об этих ребятах, о том, как им весело здесь играть и как интересно.
А может, все дело в том, что я не учусь с ними? Я ведь в старой школе остался.
Теннисный шарик в это время соскочил со стола и зацокал по асфальту. Я его поднял, а они на меня смотрят. В теннис я как раз неплохо играю. Это единственное, что у меня получается.
И тут я третью удивительную вещь за день сделал.
— На спор, — говорю. — Сейчас у всех выиграю…
Лица у них, как у Таниного брата-дурбана, сделались.
— А если нет? — кто-то спросил.
— Тогда ракетку французскую отдаю…
Эта ракетка у отца в письменном столе лежит. Лежит и не знает, какому я ее риску подвергаю.
Я у всех по два раза выиграл. Они со счетом 11:2, 11:4 вылетали, а главному теннисисту я сухую сделал — 6:0!
А после, когда мы на крышу полезли, я все смотрел-смотрел: не покажется ли где-нибудь лебедь, мой старый знакомый…
ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА?
«Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» — так начинается «Илиада» в переводе Гнедича.
Я почему-то часто думаю о Троянской войне, о том, как троянцы увидели в море греческие корабли и, размахивая руками, побежали по песку, чтобы спрятаться за крепостными стенами. На берегу, наверное, осталось множество сандалий — мужских и женских, словно разбили витрину обувного магазина. Греческие герои, блестя на солнце хвостатыми шлемами и медными выпуклыми щитами, сошли с кораблей и ринулись разорять окрестности, в то время как простые воины разбивали лагерь. А потом полилась овечья и бычья кровь, задымились жертвенные костры.
Троянцы обвешивались оружием и проклинали Елену Прекрасную…
С гнева все началось и у нас. Точнее, с обиды. Сначала обида, потом гнев.
И воспевать в этой истории надо нас — пятерых героев, три дня осаждавших неприступный дом шесть на Полтавской улице и одержавших победу. Мы — это Костя Благовещенский, Андрюха Рыжов, Чича, Ленька Белов и я. Мы живем в одном доме, учимся в шестом «б» классе. Еще в нем учатся девять мальчиков и двадцать девочек, но к войне имела отношение только Ленка Славина. Она тоже живет в нашем дворе.
Сейчас Ленка ходит по двору одна. Белые ночи начались, долго можно гулять. Ленка в красной тельняшке сидит на скамейке и делает вид, что читает. Несколько раз Костя Благовещенский порывался к ней подойти, но мы так на него смотрели, что он тут же останавливался.
На вид Костя тихий. Высокий, бледненький, волосы русые, глаза голубые. Все женщины в нашем дворе любят Костю и говорят, что он похож на ангела. «Не зря у вас имя такое», — говорят они Костиной матери — Ангелине Ивановне. «Ох, вам бы такого ангела…» — вздыхает она.
На спор Костя прыгал со второго этажа, держал ладонь над свечой, спускался с крыши по водосточной трубе.
На спор он может сделать что угодно, а вот дружить не умеет. Мне никогда не бывает с ним так спокойно, как с Ленькой Беловым. Мне кажется, Костя не слушает, что я ему говорю. А еще кажется, что он сейчас возьмет и уйдет куда-нибудь, на меня даже не обернется.
Костя умеет быть рядом и отсутствовать одновременно. Ко мне, Чиче Андрюхе и Леньке Костя относится одинаково. А я не такой. У меня обязательно должен быть друг. И я хочу, чтобы им был Костя.
Теперь грозный Капитульский — вождь дома шесть — снимет шляпу, если Чича — самый маленький и слабый из нас зайдет в их двор полюбопытствовать, не прибавилось ли чего новенького в железных ящиках, куда радиотелемастерская сбрасывает отходы.
О радиотелемастерской, вернее, о ящиках, особо. Два раза в день открывается окованная жестью дверь, и люди в серых халатах выносят в ящики коробки, полные различных интересных деталей. Радиоделом увлекается у нас один Ленька Белов. Он длинный и рыжий. Мне почему-то кажется, что, став взрослым, Ленька первым делом отрастит себе бороду лопатой. Как-то Ленька признался, что хочет всю жизнь ездить радистом в геологические партии. С помощью выброшенных деталей он собрал великолепный приемник, который орет у него из окна на весь двор. Из ящиков мы уносим похожие на космические корабли радио- и телелампы, катушки с тончайшей медной проволокой, красные и зеленые сопротивления, спутанные проводки, блоки, а иногда даже кинескопы с темными пятнами на экранах.
Все это вскоре бьется, крушится, разламывается и выбрасывается, но рыться в ящиках стало для нас привычкой, как играть в футбол летом, в хоккей зимой, сидеть на лестнице осенью, когда дождь.
Да, мы победили! Но победа обернулась горечью. Не говорю об отметках — за время войны каждый из нас получил по двойке, а Андрюха Рыжов даже три! Не говорю о ранах — на пятерых пришлось три синяка, два растяжения, один разбитый нос, вывихнутый палец у Чичи и расцарапанная щека у Кости Благовещенского. Не говорю о двух порванных рубашках и штанине, которую Андрюха Рыжов располосовал о гвоздь в парадной, убегая от толстого Фимы — второго по силе врага после Капитульского.
Ленка сплела из будто бы случайных своих взглядов невидимые веревки, опутала ими Костю, и Костя ходит по двору, а веревки постепенно подтягивают его к скамейке, на которой сидит Ленка. Заживающая царапина на щеке у Кости больше не напоминает ему про Ленкино предательство. Я бы такое ей не простил… Впрочем, мы бы все не простили…
Три дня, как война кончилась, а мы так и не сходили посмотреть, что там нового в ящиках. Теперь — весь ящик уноси, слова никто не скажет.
Мы до сих пор не забываем час победы. Когда ребятки из дома шесть разбредались по двору, а появившаяся неожиданно в голубом платье Ленка Славина расцарапала щеку Косте Благовещенскому. «Мы дрались один на один… — сказал Капитульский Ленке. — Зря ты это…» А Костя, который несколько минут назад выкупал Капитульского в луже, не притронулся к щеке и ничего не сказал Ленке. Царапина из белой превратилась в розовую, потом в красную, и капля крови потекла по щеке, как слеза.
Костя смотрел сквозь Ленку на стену гаража, где мелом было выведено: «Пом! Жди! Скоро выйду!».
Это написал Капитульский одному из братьев Помозовых. Только он мог писать такие послания. Кого-нибудь другого братья за это бы избили.
— Из-за чего вы дрались? — спросила Ленка. Вопрос ее, как шар-зонд, повис в воздухе.
Капитульский медленно пошел к своему подъезду, и спина у него была такой, будто на ней лежал мешок с камнями. Ветер подул, словно нам пора было отплывать, как грекам после взятия Трои.
— Пошли… — сказал Костя. Наши расстегнутые рубашки стали похожими на подушки, а Ленкино голубое платье захлопало у нее вокруг ног. Мы шли и не оглядывались на Ленку, которая неизвестно зачем влипла в эту войну. Так нам тогда казалось. Война выиграна, ящики наши, а Капитульский больше не скажет Ленке ни слова, потому что она видела, как он, побежденный, валялся в луже. Ленка стояла одна посреди чужого двора, Капитульский смотрел на нее из окна на пятом этаже, а мы уходили все дальше и дальше.
Да! Три дня, как выиграна война…
Костя Благовещенский заболел ангиной. В мае это надо суметь. Он сидит дома и разучивает на пианино концерт Рахманинова. Пианино стонет, как загнанный конь. По вечерам Косте звонит Ленка и рассказывает, что нового в школе. Мы советуем Косте бросать трубку, когда она звонит, а он вместо этого разговаривает с ней и не смотрит в зеркало на расцарапанную щеку.
Андрюха Рыжов наказан. Он получил три двойки подряд и теперь учит все предметы. А потом пересказывает отцу вслух параграфы. До начала летних каникул две недели, а Андрюха уже выучил все учебники до конца.
У Чичи распух палец. Он ходит а поликлинику на УВЧ, а в школе все время вспоминает подробности войны. Причем, как-то так получается, что во всех эпизодах Чича оказывается главным героем. Без него мы бы пропали!
Ленька Белов потерял недавно свой любимый перочинный нож. В этом ноже и отвертка, и шило, и все что угодно. Его нашла девчонка из дома шесть. Не помню, как ее звать, помню только, что рот у нее вечно открыт.
Ленька каждый день после школы бежит к ним во двор и просит девчонку отдать нож. Та обещает, а сама только корчит рожи из окна или несет какую-то чушь. Но мы заметили, что и сам Ленька не очень-то хочет, чтобы она вернула нож. Леньке нравится разговаривать с этой дурочкой.
И только я относительно благополучно выпутался из войны. Синяк заживает, рубашка давно зашита, а двойку по географии я исправлю. Теперь, когда я могу показать на карте, где находится Троя! И рассказать о нашей войне, как когда-то Гомер рассказал о Троянской!
День первый. Гнев
Все началось в понедельник. И первый бой был в понедельник. Но сначала немного о событиях, предшествовавших войне.
На уроке ботаники Ленка Славина — большая любительница кроликов и лягушек (когда показывали фильмы о том, как бьется сердце у разрезанного кролика или дергается нога у распятой лягушки, она громко всхлипывала и закрывала лицо руками) — получила записку от Кости Благовещенского. Костя сидел с самой красивой девочкой в классе — Олей Дмитриевой, и то, что он написал записку Ленке Славиной — худой, длинной, с волосами цвета размазанного яичного желтка, — нас удивило.
Ленка на записку не ответила, но на перемене что-то сказала Косте, а Костя согласно кивнул головой.
В тот день я смотался с последнего урока. Когда мне надо уйти из школы, я смело иду в медицинский кабинет. Смело иду, потому что во внутреннем кармане пиджака у меня лежит точно такой же градусник, как и те, что стоят на стеклянном столе в стакане, покрытом марлей. Единственное отличие моего градусника — это то, что на нем набита температура тридцать семь и восемь. Волшебная температура. И так как я не был на последнем уроке истории, то придется рассказать о том, что тогда произошло, со слов Чичи — нашего круглого отличника, самого маленького и слабого человека в классе. Чича поэтому и учится так замечательно. Что-то не встречал я красивых и сильных отличников.
Костя стоял на исписанном цветными мелками асфальте и ждал Ленку Славину. Та вышла, и они медленно пошли через проходной двор на нашу родную Полтавскую улицу. И вот когда они вышли из двора и остановились на перекрестке, появился Капитульский. Калитульский чуть-чуть выше Кости. Волосы у него темные, вьющиеся. Он учится в седьмом классе и не в нашей школе. Костя и Ленка прошли мимо, а Капитульский остановился и принялся рассматривать афишу. Чича сказал, что тоже изучил афишу. Там было сказано, что песни народов мира исполняет Валерий Самолетов. Чиче фамилия понравилась. Ему нравятся фамилии, из которых получаются хорошие клички.
За неделю до этих событий Костя Благовещенский начал часто причесываться и смотреться в зеркало. Теперь он стал вылитым ангелом. Так, казалось, воздух вокруг глаз и светится…
Ленка и Костя стояли на перекрестке и, может быть, вовсе не заметили Капитульского, если бы он, якобы увлеченный изучением афиши, громко не свистнул себе под нос.
— Эй! Созерцатель афиш! — крикнула ему Ленка. — Забыл, куда ты меня сегодня звал?
— Куда? — Капитульский смотрел на афишу, словно учил текст наизусть.
— К соседу-гипнотизеру… — Ленка уже стояла спиной к Косте.
— Врет он, — сказал Чича, который все про всех знал. — У него сосед полковник, а не гипнотизер…
— Полковник-гипнотизер, — уточнил Капитульский.
— Это он тебя загипнотизировал, что он гипнотизер, а на самом деле он полковник, — упорствовал Чича.
— Не важно, кто он. Мне все равно интересно! — заявила Ленка. — Ау, Костик! — повернулась она. — Играй в теннис с Чичей! Я пойду к гипнотизеру в гости… Правда, что он сможет превратить меня в гибкую доску? — спросила она у Капитульского.
— Ты и так доска, — зачем-то сказал Чича, — только не гибкая, а горбыль… — но попав под перекрестные взгляды Кости и Капитульского, на всякий случай отошел подальше.
Вечером, как обычно, мы сидели на чердаке и смотрели, как голуби ходят по крыше. Ленька Белов притащил свой знаменитый приемник, и мы слушали французскую певицу. Наш дом высокий и старый. Из чердачного окна многочисленные крыши напоминают ступеньки. Великану бы какому-нибудь по ним ходить. А далеко-далеко впереди торчит шпиль Адмиралтейства. В тот вечер шпиль блестел, словно его надраили наждаком, и казался таким хрупким, что не верилось: как на его конце помещается шестиметровый корабль-парусник?
— Куда это Ленка пошла? — полюбопытствовал, глядя в окно, Чича. Он, единственный из нас, уже выучил все уроки и никуда не спешил. Уроки Чича делал мгновенно. Я еще только тапочки дома надеваю, а он уже упражнение в тетрадь строчит.
— А вырядилась как! — сказал Андрюха Рыжов и намотал на палец собственный локон. Андрюха летом собирался ехать в международный лагерь, а сейчас отращивал волосы, чтобы понравиться там девочкам-иностранкам.
Ленка была в голубых брюках и в розовой кофте с вышивкой. Она напоминала цветок. Волосы только все портили. Никак они у Ленки пышными быть не желали.
Ленька Белов поймал позывные какой-то станции. Били часы, и играла музыка. Казалось, что Ленка внизу слышит и идет в такт этим позывным.
— Пошли в дом шесть? — неожиданно предложил Костя.
— Смотреть, как гипнотизер будет превращать ее в доску? — засмеялся Чича.
— Кого в доску? Зачем в дом шесть? — Мы ничего не понимали.
— Мне Фима говорил, вчера в отходы целый телевизор выбросили, — равнодушно сказал Костя.
Ленька так и подпрыгнул. Его мечта — сделать такой телевизор, чтобы он, как приемник, ловил разные станции и все показывал на своем экране. Ленька один раз даже показывал мне (по крайней мере он так утверждал!) схему телевизора будущего. Я ничего не понял. Мама с папой говорят, что я посредственность, что мне надо не в школе учиться, а заборы красить. Стол мой завален книгами, которые я не читаю, и журналами, которые я даже не просматриваю. Мне нравится собирать значки и петь песни, где: «Дочь капитана Джанель, вся извиваясь, как змей, танцует танго-фокстрот, где в Кейптаунском порту с какао на борту «Жанетта» исправляет такелаж, матрос Гарри всаживает нож в горло атаману, а в один французский порт врывается теплоход в сиянии своих прожекторов». Значков у меня уже двести пятьдесят штук, а песни раньше мы пели на чердаке хором.
Когда мы зашли в дом шесть, то увидели около ящиков толстого Фиму. У Фимы здоровое, словно надутое воздухом, лицо и кулаки, похожие на недозревшие тыквы.
Поговорив с Фимой о футболе, мы стали рыться в ящиках. Никаких телевизоров там не было.
А потом увидели Капитульского и Ленку.
— Ну как прошел сеанс? — спросил Костя.
— А как теннис? — спросила Ленка. — Ты, конечно, обыграл несравненного Чичу?
Ленка и Капитульский прошли мимо нас и уселись на скамейку. О чем они там говорили, неизвестно.
Ленка чертила туфлей на земле крестики и нолики и посматривала то на Капитульского, то на Костю.
— Ты так и не сказала, тебя превратили в доску? — не успокаивался Костя. Никогда еще мы не видели, чтобы он так волновался и задавал так много вопросов.
— Какое твое дело? — огрызнулась Ленка.
Во дворе появились братья Помозовы. Они с интересом слушали разговор и кулаки шевелились у них в карманах.
— А я думал, что увижу, как плотники выносят из подъезда длинную дубовую доску…
— Эй! — сказал Капитульский. — Фима! Почему люди из чужого двора грабят наши ящики?
— А? — не понял Фима. Зато братья подошли совсем близко и, насупившись, уставились на нас. Гвардия Капитульского. Откуда-то еще появился Вовка Смирнов — тоже парень из их двора. Все это врема он колотил палкой по мусорному баку на помойке. Зачем пришел? Колотил бы себе…
— Сейчас мы вас бить не будем, — потянулся Капитульский. — Сейчас мы только сделаем вам первое и последнее предупреждение…
Мы дышали, как паровозы. Костя не выдержал. Он бросился на Капитульского, но тот успел спрыгнуть со скамейки и встретил Костю ударом в челюсть. Толстый Фима схватил в охапку Чичу, точно Фима был кенгуру и на животе у него была сумка, куда он хотел запихнуть нашего Чичу. Чича завертелся, как сверло в электродрели. Братья сопели и дубасили Леньку и Андрюху Рыжова. А Вовка Смирнов все время замахивался на меня палкой и сам козлом отскакивал в сторону. Хороший мне попался противник…
Да, мы бежали! Как мы бежали…
Мы пришли в себя только в родном дворе. Нам было стыдно. А стыд рождает гнев.
Андрюха горестно смотрел на разорванные джинсы, Ленька и Чича вытирали разбитые губы, а скула у Кости распухала и синела.
Белая ночь, светлая улица, уроки не выучены…
День второй. Описание дома шесть. Наши враги
Полтавская улица… Милая наша улица, черточка, соединяющая палки в букве «Н». Одна сторона — Невский, вторая — улица Гончарная. На Полтавской улице кинотеатр «Радуга», магазин «Дары природы» и школа, в которой мы учимся. На Полтавской улице — коварный дом шесть. Лестницы в нем каменные, крепкие, стены черные, асфальт во дворе потрескавшийся. Весь первый этаж — окна зарешеченные. Вход во двор с улицы — арка низкая, но зато широкая изнутри. Второй вход через парадное, мимо квартиры Фимы — это кратчайший путь к ящикам. Ящики в тупике, рядом с тупиком парадное, где живет Капитульский, а перед ящиками дом образует выступ, похожий на нос корабля.
В доме шесть ребята живут сильные и решительные. С нами воевало пять человек.
Капитульский. Когда он и Костя сходились под аркой, остальные прекращали драться. Капитульский и Костя не валили, не лапали друг друга, они кружились, шипели, как змеи, отпрыгивали, снова сходились, били сильно, точно. Капитульский — вождь дома шесть. По понедельникам он ходит с отцом в баню. Приходят они из бани красные как раки, а волосы у Витьки (так зовут Капитульского) стоят вокруг головы черным облаком.
Фима — фигура номер два. Фима толстый, он не любит драться на кулаках. Его любимый прием — навалиться так, чтобы противник вздохнуть не мог, а придавить своей тушей Фима кого угодно может.
Братья Помозовы. Они смотрят в рот Капитульскому, слушаются его во всем. Но дерутся братья надежно. При случае один из них и двоих подержать может, в то время как другой кому-нибудь помогает.
Вовка Смирнов. Это балласт, такой же как у нас Чича. Первым бежит, и последним начинает драться. В основном они с Чичей и сражались.
— Витька вчера отделал вас пятерых, — сказала нам утром в школе Ленка. — Мне стыдно, что я живу во дворе, где мальчишки не умеют драться…
Костя смотрел на гипсовый бюст Лобачевского и молчал. Кто-то положил на голову великому математику цветок из гербария. Из форточки дуло, и сухой цветок весело покачивался.
— Нам плевать, что тебе стыдно, — сказал Ленька Белов. — Нам нужны ящики с деталями. Из них мы соберем приемник, который будет принимать все станции мира… А на тебя нам плевать… Правильно, Костя?
Костя стоял рядом и прятал в воротник распухшую скулу. А Чича хлопал ресницами. У всех маленьких и слабеньких обязательно на глазах гигантские ресницы. У нашего Чичи, как всегда, торчало из-под пиджака три рукава: нижней рубашки, верхней и свитера.
— Зачем вы разговариваете с дубовой доской? — спросил Чича.
— С доской? — глаза у Ленки сузились, а длинная рука хищно протянулась к большому Чичиному уху.
— Ну ты! — отпрыгнул Чича. — Поосторожней, доска!
Потом мы смотрели из окна на дом шесть. Он казался нам черным вороном, распростершим крылья над всей улицей. Наш желтенький домик, одной стороной выходящий на Невский, был по сравнению с ним цыпленком.
— Сегодня я буду драться с Капитульским один на один, — сказал Костя.
Но в тот день никто ни с кем не дрался. В тот день мастерская была выходная, и, когда мы пришли в дом шесть, ящики светились крашеными днищами, а во дворе никого не было. Мы потоптались и ушли. Только Чича, наш храбрый Чича неожиданно схватил камень и швырнул его в окно на втором этаже (дальше Чиче было не докинуть). «Вот тебе полковник! Вот тебе гипнотизер!» — в восторге закричал он. К счастью, камень угодил в водосточную трубу. Вернувшись в свой двор, мы встретили Ленку и сказали ей, что ее любимчик Капитульский трус, раз он прячется, когда мы приходим в дом шесть.
День третий. Описание Ленки Славиной. Победа
Ленка Славина живет в нашем дворе. Ленка дружит с самой красивой девочкой в классе — Олей Дмитриевой. Если Оля похожа на белокурую куклу, то Ленка похожа на эту же куклу, только после того, как с ней поиграют лет пять. Волосы у Ленки соломенного цвета, глаза серые, а лицо худое. До четвертого класса мы дружили с Ленкой, даже не замечали, что она девчонка. Однажды Чича размахался палкой с гвоздем на конце и проткнул Ленке ладонь. Мы думали, она тут же заорет и пойдет жаловаться, но Ленка даже не заплакала.
В пятом классе Ленка пошла с нами купаться в открытый бассейн. Мы сидели в мокрых трусах на камнях и смотрели, как прыгают с вышки взрослые парни. Особенно восхищались мы одним — с голубым орлом на груди.
— Надоело вас слушать, — вдруг заявила Ленка и полезла на вышку.
Она прыгнула, потом вынырнула и снова села рядом с нами. Тут же полез на вышку Костя. Он тоже прыгнул, но живот после этого у него стал красный, словно Костя целый день пролежал на солнце.
Ленка учится с тройки на четверку, а ее подруга Оля Дмитриева отличница. Когда кто-нибудь из нас просит Олю дать списать, Ленка сразу встревает и говорит, чтобы мы списывали у Чичи. Дескать, девочки списывают у Оли, а мальчики у Чичи. Такой неписаный закон она придумала.
В третий день войны мы вступили решительными как никогда. Головы легкие, кулаки тяжелые — идеальное состояние для бойца. Мы действовали, как фаланга Александра Македонского в лучшие годы. Сомкнутым строем прошли сквозь арку, сокрушив по пути возвращавшихся из школы братьев Помозовых.
Первым делом выбили из их ртов мороженое, а потом надавали глупым братьям оплеух и затрещин. Треск стоял, словно орехи кололи. Оплеухи и затрещины — самое унизительное в драке. Братья завыли, как волки.
Со стороны помойки раздавались удары палки по мусорному бачку.
— Андрюха! Сокруши Смирнова! — сказал Костя.
Андрюха улыбнулся и побежал на стук. Удары палки прекратились. Немного погодя появился Андрюха. Он дул на палец.
— Укусил… Дурак! — сказал он. Из-за угла, подсвечивая фингалом, выглянул Смирнов.
— Капитульский ходит всегда через парадную… — сказал он. — А через арку он не ходит…
— Заткнись, предатель! — ответил Костя. Смирнов пожал плечами и ушел на помойку. «Тук! Тук! Тук» — донеслось до нас.
— Эй! — крикнул Костя. — А ну в ящики! Быстро!
Погода в третий день войны стояла отвратительная. Ветер и дождь. Мы сидели в железном ящике, а капли били по крыше, как по головам. Когда кто-нибудь из нас шевелился, под ногами хрустели лампы.
И тут мы услышали голоса Ленки и Капитульского. Костя вцепился руками в железную скобу. Мы замерли.
С одной стороны, подслушивать чужие разговоры плохо, а с другой — очень даже интересно — много нового узнаешь. Ленка говорила Капитульскому про Олю Дмитриеву.
Нам было слышно, как шлепают по лужам их ботинки, а портфели стукаются друг о друга и бренчат замками. Мы сидели и боялись, как бы не услышать чего-нибудь такого, после чего вообще из ящика нельзя вылезти будет.
— Дождь… — сказал Капитульский. — У тебя ноги промокли, а щеки посинели. Вообще-то, это я должен провожать тебя до дома и нести твой портфель…
— Не надо нести никуда мой портфель… — сказала Ленка. — Не надо говорить, кто что должен делать… Если захочу, Благовещенский, как бобик, будет мой портфель таскать…
— А ты этого не хочешь?
Какая-то непонятная пауза у них возникла.
— Я пойду, — сказала Ленка.
Костя неожиданно толкнул плечом крышку и выскочил из ящика.
Капитульский засвистел. Из парадного вывалились побитые братья Помозовы и Смирнов. Толстый Фима размахивал портфелем и что-то кричал.
Но отступать им было некуда. Я выбил ногой из рук Фимы портфель и, не давая ему повалить себя на землю, держал на расстоянии прямыми ударами. Фима лез, как бык на тореодора, плакал от боли, губы у него были разбиты.
Никогда еще мы так мастерски не дрались!
И только Костя никак не мог выяснить отношения с Капитульским. На этот раз они сражались некрасиво. Они сцепились, повалились на асфальт, покатились, как две сопящие бочки. При этом они рвали друг у друга воротники. А потом поднялись, но Костя успел ударить Капитульского в подбородок, и тот снова упал, причем подвернул ногу, а Костя прижал его руки к асфальту, и мы хором сосчитали до десяти.
— Ну так что? Чьи ящики? — спросил Костя. Капитульский смотрел в серое небо и ловил ртом капли дождя. Он делал вид, что Костя не победил его, а просто он лег отдохнуть на асфальт рядом с лужей, чтобы собраться с мыслями, а заодно посмотреть в небо.
— Чьи ящики? — снова спросил Костя.
— Ваши… — облизал губы Капитульский.
И тут появилась Ленка в голубом платье…
На этом война кончилась.
Мы вернулись в свой двор, пошли на лестницу и стали говорить о том, что через две недели каникулы — три месяца ничегонеделания и веселья. Болели раны, зияли разорванные рубашки, царапина на щеке у Кости и не думала засыхать.
— Скажу, кошка оцарапала… — трогал он царапину.
— Йодом помазать надо… — советовал Чича, осторожно щупая вывихнутый палец.
А через три дня случилось такое, что мы себе и представить не могли.
Был вечер. И Костя, вышедший из парадного, прошел мимо нас прямо к Ленке. Он сел на скамейку рядом с ней, а Ленка захлопнула книгу и что-то стала быстро ему говорить. Потом Костя встал и подошел к нам.
— Ребята! — сказал он.
— Стой! — прервал его Ленька Белов. — Смотри, у Чичи вывихнут палец… У Андрюхи разбита губа… Ему будут накладывать швы… А у меня до сих пор не зажил фингал… Андрюха третий день не выходит гулять, учит уроки… Что ты хочешь нам сказать?
— Я хочу сходить домой, взять гитару, а потом мы пойдем на чердак…
— И все? — спросил Ленька.
— Возьмем с собой Ленку…
— Ленку?
— Да, она больше на нас не обижается…
— Не обижается?!!
Мы встали со скамейки и пошли мимо Кости, мимо Ленки, мимо скамеек, на которых сидели старухи. По Полтавской улице мы пошли вдоль черной стены дома шесть, мимо арки, ведущей во двор, где стояли ящики, полные сгоревших ламп и кинескопов с черными бельмами на экранах. И я подумал, что зря все-таки такие замечательные герои, как греки и троянцы, сколько-то тысяч лет назад затеяли Троянскую войну.
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД Повесть
Октябрьский день этот — поутру холодный и голубой, с льдинками в лужах, вкривь и вкось исчерканный разноцветными листьями, потом устало-солнечный, прощально взмахивающий вслед уходящему светилу пустыми ветками, под вечер ангельски ясный с выпуклой луной на закатном небе — вошел в память к Маше, как единое воспоминание, точнее, впечатление, выделить из которого какой-либо эпизод она не могла и не хотела, настолько сокровенным, имеющим отношение исключительно к ней одной было все случившееся. И когда Юлия-Бикулина, ближайшая Машина подруга, подозрительно сощурившись, потребовала: «Ну расскажи, расскажи! Не таись! Где весь день шастала?» — Маша пожала плечами и ничего не ответила. Смешными показались ей слова Юлии-Бикулины. Нет, этим ключом не откроешь волшебную дверь!
— Ну что ты… — Маша хотела сказать: «уставилась на меня», но неожиданно сказала по-другому: — Что ты впилась в меня своими кактусами, Бикулина? Где была, там и была!
Юлия-Бикулина на секунду онемела от Машиного нежелания разговаривать, от «кактусов». Оскорбленно вскинула стриженую голову и пошла по коридору. Но через несколько шагов обернулась и закричала, совершенно не беспокоясь, что услышат любопытные одноклассники:
— Ну и стой себе у окна, дура! А к нам с Рыбой больше не подходи!
Рыба — вторая Машина задушевная подруга — вздрогнула и спустилась на этаж ниже, чтобы там переждать гнев Юлии-Бикулины.
Зазвенел звонок. Надо было идти в класс на урок географии, изучать висящую на доске карту двух полушарий Земли или смотреть в окно, за которым струились косые осенние костры, листья выделывали пируэты.
«Маша! Почему тебя вчера не было?» — представила Маша строгий вопрос классной руководительницы и впервые за все время, исключая разве позорное утреннее списывание алгебры в продуваемой беседке, смутилась.
Да и было от чего смутиться! Ни разу за все школьные восемь лет Маша не прогуливала, и вот на девятый это случилось… Хотя, если хорошенько припомнить, тройку-четверку прогулов можно насчитать, но что это за прогулы? Мамочка, любимая мамочка смотрела ранним утром на Машу, гремящую пеналом или скорбно шелестящую учебником, и спрашивала: «Что, Машуня, неохота в школу?» — «Ой, мама! Ой, как неохота!» — вздыхала Маша, ликуя от маминой догадливости. «Ну ладно, пропусти денек», — разрешала мама, и Маша целовала ее. Утро, день, вечер — целая вечность впереди — дождливая, солнечная, ветреная, снежная, смотря на какое время года приходился согласованный с мамой прогул.
В этот раз все было по-другому. Мама не интересовалась, охота ли Маше идти в школу. Последнее время мама, вообще, меньше интересовалась Машей и не замечала в ее глазах странной тоски, не замечала чередования румянца и бледности на Машином лице, а также частой смены настроений — от горьких слез по неведомым утратам к веселью по самым незначительным причинам.
Итак, был обыкновенный осенний вечер… Маша и мама пили чай на кухне, слушая, как ветер скулит в незаклеенных рамах.
Сквознячок бегал по кухне. За ноги хватал, за спину. Маша поежилась.
— Когда папа будет окна заклеивать?
— Не знаю, — ответила мама, — скоро…
Позванивали ложечками, размешивая сахар. Маша быстро размешала, а мама словно забыла, что это дело имеет свой естественный предел. Маша разозлилась.
— Ну что ты… Положи ложку!
— А? Что? — не поняла мама. — Какую ложку?
— Я пошутила! — Маша ушла к себе в комнату.
Из кухни снова послышался мелодичный звон.
Маша погасила в комнате свет и раздвинула на окне занавески.
Она увидела темный двор, наполненный ветром. Свет в многочисленных окнах корпуса напротив, казалось, пульсировал. Сколько Маша себя помнила, она любила вот так вечером или ночью смотреть из темной комнаты в темный двор, потому что рано или поздно обязательно наступал момент, когда Машина душа (именно в этот момент Маша и чувствовала ее — крылатую, трепетную) как бы выскальзывала из темной комнаты и секунду-другую жила своей особенной жизнью. Темный двор душу не прельщал, и она устремлялась ввысь, к звездам, куда, наверное, и положено устремляться душам девочек-девятиклассниц. А Маша оставалась внизу одна, пустая, беззащитная. Всякий раз после воссоединения с душой Маша чувствовала, что стала капельку мудрее. «Что случилось с мамой? — подумала Маша — И где отец? Почему целую неделю он приходит домой поздно ночью?»
Маша медленно отправилась на кухню и не застала там изменений. Горела на столе лампочка под плетеным абажуром, и свет полосками лежал на потолке и стенах. Чай стоял перед мамой нетронутый. Некоторое время Маша и мама смотрели молча на чай. Полоска света изгибалась вокруг чашек подковкой, и чай золотился, переливался, мерцал. Потом вдруг чистая капелька упала в чашку, взволновав безмятежную чайную гладь, за ней вторая… Маша в недоумении посмотрела на потолок, однако потолок был чист, бел и сух. Тогда Маша посмотрела на маму и увидела на щеках у нее мокрые дорожки.
— Мама! Вы что, разводитесь? — спросила Маша.
— Бог с тобой! Какую ты чушь мелешь! — мама отвернулась, нашарила на столе сигареты.
— Правильно… Кури, укрепляй здоровье.
— Маша, оставь меня в покое. Ничего не случилось. Просто…
— Просто папа чего-то повадился приходить в три ночи.
— Он заканчивает проект. Работает со Ставровым у него дома.
— А чего же ты плачешь, раз все так прекрасно? Раз он работает дома у Ставрова?
— Я не плачу. Я так…
— Значит, все-таки разводитесь?
— Почему? Откуда…
— Раз ты говоришь, что не плачешь, а сама плачешь, почему же я должна верить, что вы не разводитесь?
— Да как ты можешь… Как ты можешь так спокойно об этом говорить? Этого нет… Но… Если бы… Как ты можешь так спокойно?
— Я не спокойно! Совсем не спокойно! — быстро-быстро заговорила Маша. — Мне страшно-страшно, мамочка… Когда ты вот так сидишь на кухне, звенишь целый час ложечкой в стакане, плачешь… Ты такая чужая, мамочка… А я… Я не люблю тебя чужую! Ты моя, моя, моя! Ну почему, почему ты плачешь?
— Боишься, да? — вытерла слезы мама. — Раз мама плачет, значит, мир ломается, да?
— Раньше, — ответила Маша, — а теперь… Теперь не знаю… Жалко теперь, вот!
— Все в порядке, — попробовала улыбнуться мама, — просто осень… Дождик идет. Представляешь, шла из магазина, а на газоне три бездомные собачки сидят… Прижались друг к дружке, несчастные… Холодно, страшно… А мимо люди идут… Вспомню, плакать хочется. Так бывает… Какое мне дело до собак? А все равно плачу…
— Мама! Слез не хватит!
— Хватит. Я тоже, молодая была, думала, не хватит… А сейчас… Сейчас, думаю, на все на свете слез хватит и даже… — мама всхлипнула, — для себя немножечко останется…
— Ну что ты говоришь! Что ты говоришь! — не выдержала Маша.
— Так. Ничего. Сидим, болтаем…
Маша вздохнула и ушла из кухни.
Наступил тягостный час, когда ложиться спать рано, а браться за какое-нибудь серьезное дело поздно. Телевизор в доме не работал уже несколько дней, с тех пор как Машин отец хватил по нему кулаком. И этот мертвый сероэкранный телевизор тоже способствовал беспокойству и тревоге. Нечто схожее испытывала Маша перед грозой, в то минутное затишье, когда тучи собрались, но гром еще не грянул. Всякий раз когда становилось грустно, Маша смотрела на висящую на стене застекленную репродукцию гравюры Дюрера «Меланхолия». Репродукция осталась на стене после «великого переселения народов» — так Машин отец называл собственное переселение из этой комнаты в большую, а Машино из большой в маленькую. Теперь Маша была хозяйкой отцовского кабинета и «Меланхолии».
Маша вспомнила, как они три года назад переезжали в эту квартиру. Грузчики внесли мебель, расставили по углам, и отец позвал их на кухню пить водку. Потом грузчики ушли, а отец ходил в расстегнутой рубашке по комнатам, стучал согнутым пальцем по стенам, определяя, где капитальная стена, а где сухая штукатурка. Именно тогда, в самый первый день, он прибил к стене «Меланхолию».
— Гляди-ка! — воскликнул он. — Гвоздь вошел в бетон! Евгения! — позвал маму. — Ты видела когда-нибудь, чтобы гвоздь входил в бетон, как в масло? Неужели «Меланхолия» размягчает стены? Что там какая-нибудь радость, счастье, любовь? Меланхолия — вот самое сильное чувство! Разве радость загонит в бетон гвоздь?
— Зачем ты повесил эту гравюру?
— Не нравится? — усмехнулся отец.
— Не в этом дело. Почему она должна висеть именно здесь? Вдруг…
— Она будет висеть здесь вечно! — оборвал отец. — Машенька! — позвал Машу. — Посмотри, хорошая?
Маша пожала плечами.
— Ты не находишь, — спросил отец, — что эта средневековая дама похожа на нашу мамочку? У них одинаковое выражение лица! «Меланхолия», то есть грусть, печаль… Видишь ли, Маша, — продолжал он почему-то шепотом, — жизнь так устроена, что всегда есть причины для грусти. Правда? Но грусть бывает естественной, то есть приходит и уходит, а бывает и неизбывной. Есть люди, сделавшие себе из этого профессию. Такова, например, наша мама. Ее меланхолия всеобъемлюща! Все печали мира свили гнездо в сердце нашей мамы, более того… — отец нагнулся и прошептал, — они, как кукушата, выкинули оттуда все прочие чувства! Остались одни оперившиеся меланхолята! — подмигнул, погладил репродукцию. — Без меланхолии мамы нет! А разве можно любить то, чего нет? Значит, надо любить меланхолию! Вот почему картинка будет здесь висеть вечно!
Так незаметно прошел еще час, и настало время телефонных переговоров с подругами. Юлия-Бикулина, должно быть, уже лежала в ванной, заткнув дырку пяткой — так она регулировала уровень воды, а на полу стоял телефон. Каждый вечер, беседуя с Бикулиной, Маша слышала всплески, биение водяных струй, какие-то странные шлепки. Голос Юрии-Бикулины звучал, как из подводного царства.
— Скажи, Бикулина, — спросила однажды Маша, — ты из ванной только со мной разговариваешь или…
— Что «или»? — нахально уточнила Бикулина.
— Или с мальчишками тоже? — Тишина на секунду установилась в трубке, потом легкое волнение прошло по воде — рукой или ногой пошевелила Бикулина.
— Странные вопросы задаешь…
— И все-таки?
— Ну… они же меня не видят, — засмеялась Юлия.
— А ты сама? Что ты сама чувствуешь?
— Почему ты думаешь, что я должна что-то чувствовать?
Маша растерялась. Этого она объяснить не могла.
— Если такая любопытная, — назидательно продолжала между тем Бикулина, — разденься, залезь в ванную, возьми с собой телефон и позвони, скажем… Семеркину… Да! Непременно Семеркину!
На миг у Маши перехватило дыхание.
— Почему же именно Семеркину? — спросила она деревянным голосом.
Бикулина ехидно молчала.
— Спасибо за совет, — как можно спокойнее сказала Маша, — только знаешь, Бикулина, у нашего телефона шнур короткий. Не дотянется до ванной.
Маша вспомнила этот недавний разговор и ей расхотелось звонить Юлии-Бикулине. Можно было позвонить Рыбе, но телефон стоял у Рыбы в прихожей, где вечно суетились младшие Рыбины братья, мешали разговаривать. В прихожую доносились телевизионные выстрелы и крики, и мама Рыбы громко спрашивала из кухни: где сахар, почему никто не сходил за картошкой, проверила ли Рыба, как сделали уроки младшие братья. Все это затрудняло телефонный разговор. Каждую фразу надо было повторять трижды, и все равно Рыба ничего не слышала.
Маша все-таки позвонила Рыбе, но у нее было занято. А мама тем временем ушла с кухни и сидела за столом в большой комнате, раскладывая пасьянс. Мама раскладывала пасьянс со страстью, и каждый раз, когда выпадала не та карта, лицо у мамы омрачалось.
— На что гадаешь, мама? На папочку? — спросила Маша.
— Иди спать, Маша, поздно уже, — мама даже не обернулась.
Маша прекрасно сознавала, что причиняет маме боль, и сама была не рада своей жестокости. Но странное равнодушие и жуткий интерес овладевали ею. Примерно такую же — так казалось Маше — боль схожими по вредности вопросами ежедневно причиняла ей Юлия-Бикулина, и Маше было хорошо знакомо чувство растерянности и тоскливого стыда, испытываемое в результате подобного грубого вторжения в мир сокровенных чувств, где все было, пусть болезненно, но гармонично, а любое вторжение убивало гармонию и усиливало боль. «Как легко, — думала Маша, — бить по больным точкам, когда человек на глазах, когда знаешь о нем все! Но кто… Кто дает право?» Всякий раз после очередного вопроса о Семеркине Маша смотрела в мучении на Юлию-Бикулину. «Ну что? Что я ей сделала? — думала Маша. — Обидела? Оскорбила?» И незаметно приходила мысль, что самые утонченные, жестокие мучения доставляют именно те, кому никогда ничего плохого не делаешь. Один мучает, другой терпит, местами им не поменяться! И неизвестно, кто установил такой порядок… Обычно Маша старалась прогнать эту мысль, а сейчас она вдруг предстала перед ней в очевидной последовательности: Юлия-Бикулина обижает Машу, Маша обижает маму. «А мама? — подумала Маша, — ей кого обижать? Ей… некого обижать! Потому что она не умеет и не может…» С непривычной ясностью Маша поняла, что, наблюдая нынешние мамины страдания, сама она как бы готовится к своим завтрашним страданиям. Закаляется перед ними. «Так и надо… Неужели так и надо?» — подумала в изумлении Маша, и ей захотелось немедленно разрушить, разбить эту очевиднейшую последовательность зла. И вот уже слезы задрожали в глазах. «Мама! Мамочка, единственная моя!» — всхлипнула Маша, но мама по-прежнему раскладывала пасьянс, переживая, когда что-то там не получалось.
О, как хорошо были знакомы Маше эти старинные карты! Желтые, как воск, крепкие, как кость, они остались еще от бабушки. Капельками крови сверкали черви и бубны, капельками смолы трефы и пики. Сколько сладких часов провела Маша за ними в детстве! Ей было неведомо назначение каждой отдельной карты, и валеты — юные дерзкие рыцари — скакали по пыльным средневековым дорогам. Короли — надменные бородачи и властелины — сидели в замках, прятали в комнатах с витражными окнами красавиц дам. Тузы поначалу были Маше непонятны, она ставила под сомнение их главенство. Тузы некоторое время не участвовали в игре. Дерзкие валеты, бородачи-короли и красавицы дамы обходились без них. Но вскоре Маша прозрела. Ей открылась простая истина: тузы — это чувства! Червовый туз означал любовь, пиковый — ненависть, бубновый — дружбу, трефовый — зависть. И отношения королей, дам и валетов усложнились до чрезвычайности. Любовь звала их на подвиг, ненависть на подлость, дружба на благородный поступок, зависть на коварные проделки.
Маша вдруг вспомнила, как они играли с мамой в карты… Мама терпеливо выслушивала Машины глупости, безоговорочно принимала Машины правила! Валет скакал верхом на десятке! Одинокая дама жила в голубой вазе! Туз-любовь прятался в люстре!
А мама уже обнимала Машу и сама всхлипывала и спрашивала:
— Ну что с тобой? Что с тобой, девочка?
— Ничего, — ответила Маша, — просто сегодня я поняла, что очень, очень, очень тебя люблю! — и счастливо засмеялась. — Мамочка, рассказывай мне теперь все-все, ладно? — потребовала Маша. — И я все-все тебе буду рассказывать!
— Хорошо. А сейчас ложись спать, — мама поцеловала Машу и ушла.
— Пасьянс получился? — крикнула Маша.
Молчание.
— Получился?
— Получился, получился. Ложись спать, — повторила мама.
Настала ночь. Луна сквозь незашторенные окна вычерпывала серебристым ковшиком из комнаты темноту. Маша не знала, спит она или нет. Если спит, то откуда звездное мерцание, откуда мысли, подобные качающемуся маятнику, что завтра будет приятный, приятный, приятный день…
Но будет он только завтра, завтра, завтра, и чтобы он побыстрее настал, надо заснуть, заснуть, заснуть… А почему, собственно, приятным будет день, спрашивала бодрствующая Маша у Маши мечтающей. А потому, отвечала искренняя мечтающая Маша, что есть Семеркин, Семеркин, Семеркин… И Маша бодрствующая тихо и счастливо улыбалась…
Среди ночи Маша проснулась. В прихожей горел свет.
— Где ты был? — услышала Маша мамин голос.
— У Ставрова, — ответил отец.
Никогда Маша не слышала, чтобы отец разговаривал таким тусклым, равнодушным голосом. «Ему неинтересно, — подумала Маша, — ему совершенно здесь неинтересно! Ему все равно!»
— Ты… пьяный?
— Сложный вопрос, — усмехнулся отец, — это смотря для чего…
— Зачем? Столько дней подряд… Ты же не работаешь! Этот Ставров…
— Не поверишь, — сказал отец, — Ставров на моих глазах проглотил живого рака. Как думаешь, не схватит он его клешней за желудок? Хотя… Бедный рак…
И все. И тишина. Ушли в большую комнату. Потом осторожные мамины шаги в прихожей. Погас свет.
Маша снова заснула.
… Октябрьское утро, с которого, собственно, и пошел отсчет новой Машиной жизни, началось как самое обыкновенное. В половине восьмого яростно зазвонил будильник. Маша птицей спорхнула с постели, пресекла звон. Снова улеглась. Без пятнадцати восемь Маша осторожно раздвинула занавески, выглянула в окно. По асфальту ходили голуби. Небо голубело. Ветер срывал листья с деревьев, а потом, словно в насмешку, возносил их вверх, и листья отчаянно цеплялись за родные ветки, но снова падали.
Маша вдруг вспомнила, как совсем недавно она, Рыба и Юлия-Бикулина шли по улице. Дело было вечером, солнце садилось, и три их длинные тени как бы летели в солнечном ореоле.
— Красиво идем! — Юлия-Бикулина кивнула на тени.
Шли действительно красиво. Короткая стрижка Бикулины чеканилась на асфальте, как на старинной монете. Длинные пряди Рыбы волновались вокруг головы как змейки.
— Ай-яй-яй, Рыба! — как всегда ни с того ни с сего заявила Бикулина. — И не стыдно тебе с такими кривыми ногами ходить?
— Чего-чего? — изумилась Рыба.
— Ноги у тебя кривые, вот чего, — сказала Бикулина. — Гляди, мы все трое в штанах. У кого ноги самые кривые? У кого больше всего солнца между ног! У тебя, Рыба, больше всех. Не веришь? Я давно смотрю…
— Давайте-ка остановимся, — предложила Рыба.
— Зачем? — насторожилась Бикулина.
Остановились.
— Сдвинули-ка все ноги! — скомандовала Рыба. — Ну, у кого между ног больше всего солнца, а?
У Рыбы две ноги превратились в одну темную линию. У Маши тоже. И только длинные ноги Бикулины остались разделенными солнечной полосой.
— Это у меня просто джинсы в обтяжку! — нагло заявила Бикулина. — Клянусь своим вторым именем! А ты, Рыба, халтуришь! Шьешь себе штаны на вырост!
— Я? — Рыба, казалось, потеряла дар речи. — Я… халтурю? Как это, халтурю? Каким образом?
— Халтуришь, халтуришь… — не стала объяснять Бикулина. По-прежнему весела она была, словно это не у нее оказались самые сомнительные ноги. Бедная же Рыба со своими идеальными ногами опечалилась, потому что не было у нее ни второго имени, ни дивных джинсов, как у Бикулины. Да и вообще, в присутствии Бикулины система ценностей почему-то менялась. Высшую, безусловную ценность представляло только то, что было у Бикулины. Остальное не в счет. Поэтому в любом случае Бикулина оказывалась на пьедестале, а Маша с Рыбой сражались за серебряные и бронзовые медали. Иногда Бикулина лишь снисходительно наблюдала за борьбой, а иногда желала быть судьей. Почему так происходило, почему они принимали на веру ценности Бикулины, Маша и Рыба не знали… Итак, Рыба опечалилась. Не могло у нее быть второго имени, потому что Юлия стала Юлией-Бикулиной семь лет назад, во втором классе в один день, когда приписала на всех тетрадках к Юлии — через черточку — Бикулину. Целый год новоявленная Юлия-Бикулина терпеливо сносила насмешки. А потом все привыкли к странному второму имени, словно Юлия с ним и родилась. Даже разгневанные учителя теперь произносили: «Выйди вон из класса, Бикулина!» Так что повторять Юлию-Бикулину, заводить себе второе имя было нелепо и поздно. Джинсы Бикулине привозил из-за границы отец — тренер сборной молодежной футбольной команды. Значит, и здесь Рыбе, у которой отец работал инженером в типографии, надеяться было не на что.
— Папаша скоро полетит в Копенгаген, — продолжала между тем Юлия-Бикулина, совершенно забыв про солнечный конфуз, — а в команду насовали новичков. Ему сейчас необходимо разобраться, кто есть кто… — Бикулина загадочно умолкла, как и всегда, когда хотела, чтобы ее поощрили к продолжению рассказа.
— Что значит, кто есть кто? — не выдержала Маша.
— Кто защитник, кто полузащитник, кто нападающий…
— Что же, они только вчера начали играть в футбол? — усомнилась Рыба. — И сразу в сборную?
— В том-то и дело, что нет! Они играли в разных командах. Но как сам игрок может определить, кто он: защитник, полузащитник или нападающий?
Маша и Рыба молчали. Они не знали.
— У отца на этот счет есть теория, — значительно произнесла Бикулина, — она распространяется не только на игровые качества, но и вообще… на всю жизнь человека… Отец задает каждому новичку вопрос: «Вы проснулись в чужом городе, в зашторенной комнате. Что вы сначала делаете?».
Маша и Рыба слушали очередной бред Бикулины, заинтригованные.
— Если человек отвечает: «Распахиваю шторы!», значит, он нападающий. Таланты его по-настоящему раскроются только в нападении, даже если раньше он играл вратарем! Если человек одновременно открывает шторы и выглядывает в окно, значит, он полузащитник. А если уж сначала, как крыса, выглядывает, а потом открывает — он защитник… И в жизни так!
— А вратарь? — поинтересовалась Рыба. — Он что, вообще не открывает шторы?
— Ничего подобного! В том-то и дело, что истинный вратарь спит с незашторенными окнами! Понятно?
Рыба и Маша на всякий случай кивнули.
— Вот ты, Маша, — строго указала пальцем на Машу Бикулина, — ты как просыпаешься?
— Я… — Маша совершенно отчетливо вспомнила, — что всегда выглядывает из окошка, а уже потом открывает шторы. — Я… сначала выглядываю…
— Ну и дура! — быстро ответила Бикулина. — А ты, Рыба?
— Я… тоже выглядываю… — прошептала Рыба.
— И с тобой все ясно. А я раздвигаю шторы! Я нападающая! — закричала Бикулина. — Всегда, всегда, всегда!
Вот что вспомнила Маша октябрьским утром.
… Но время шло. Яркий осенний лист ворвался через форточку в кухню, накрыл чашку с кофе. Подивившись, Маша допила кофе и вышла на улицу, воткнув этот самый лист в волосы. Именно на улице, а точнее, во дворе и начались загадочные превращения, буквально за один день изменившие робкий Машин характер.
Осенний лист в волосах, серый замшевый плащик, портфель в руке — такой она вышла из дому. Но удивителен был каждый шаг. Словно на воздушном шаре, взлетели куда-то мысли, и Маша видела все вокруг своими и чужими, — какими именно, она понять не могла, — глазами. Видела почему-то себя, но… не нынешнюю! А ту, трехлетней давности, никому не знакомую, только-только переехавшую на эту улицу, в этот двор. А может, совсем и не Маша это с ее тогдашней тоской по старой школе, подругам, а вообще девочка, переехавшая в новый дом? Вот она идет, пугливая, пристально вглядывается в лица встречных: где вы, где вы, будущие подруги?
… Маша увидела себя в новом классе, лицом к лицу стоящую перед тридцатью незнакомцами. Тридцать пар незнакомых глаз изучали ее, а заинтересованнее всех зеленые, как листья фикуса, глаза Юлии-Бикулины. А может, совсем не Маша это стоит перед тридцатью незнакомцами, а вообще девочка, пришедшая в новую школу? Вот она, пугливая, садится на отведенное место, украдкой изучая лица вокруг.
Так незаметно Маша миновала двор, перешла улицу и шагала теперь в сторону Филевского парка, краснеющего и желтеющего вдали. Однако же странное вообще, когда собственные дела кажутся ничего не значащими, когда собственная жизнь легче одуванчикового пуха, продолжаться вечно не могло, и Маша ойкнула, когда увидела, что ей уже пятнадцать минут как пора сидеть на уроке географии. Но Филевский парк… Но листья… Но небо… Маша решила на некоторое время забыть про школу. Она по-прежнему не понимала, что с ней происходит. Не шла — летела, не чуя ног, обращая лик то к небу, то к листьям, то к земле. Листья шептали что-то сухими губами. На утренней луне, как на матовом блюдце, проступили синие узоры. Маша догадывалась, что это лунные моря и материки…
В первую же свою прогулку в новом дворе Маша стала свидетельницей и участницей событий удивительных. Едва только гвоздь успел войти в бетонную стену, как в масло, едва только дюреровская «Меланхолия» воцарилась в новой квартире, Маша отправилась в незнакомый, а поэтому страшноватый двор, откуда доносились чужие звонкие голоса, где мяч устало бухал, отскакивая от стен. Однако чувствовалось, что и пронзительный крик стекла мячу привычен. Маша вышла во двор и показалась сама себе мышкой, забравшейся в гигантский амбар. Так величествен был дом, так могуче опоясывал он двор. Голубой столб воздуха стоял между двумя несоприкасающимися корпусами. Был май. Молодые женщины несли букеты сирени. Редкие для города вишня и яблоня безнадежно и яростно цвели в сквере, словно предчувствовали, что ни одна вишенка не успеет покраснеть, ни одно яблочко не засветит сквозь листья спелым боком. А в самом центре сквера царственно шелестел ветками огромный дуб неведомого возраста. Под дубом стояла белобрысая девочка с голубыми застенчивыми глазами и что-то рисовала. Маша тихонько заглянула ей за спину и увидела, что девочка рисует яблоню и вишню. Маша сделала еще один круг, чтобы попасться на глаза рисовальщице и таким образом познакомиться, но та Машу не заметила. Или сделала вид. Маша обратила внимание, что застенчивым и мягким взгляд у девочки был только когда она смотрела на яблоню с вишней. Когда же она переводила взгляд на рисунок, взгляд суровел, появлялась в нем некоторая даже строгость, и казалось, девочка недовольна тем, что рисует. Маша еще раз взглянула на рисунок и увидела, что рисует девочка не два случайных дерева, какими являлись яблоня и вишня, а какой-то сплошной цветущий лес, где все перепуталось — белые лепестки, небо, солнце.
— Не мешай! — попросила девочка, бросив нежный взгляд на деревья.
— Я только посмотрю… — сказала Маша.
— Не мешай, а то не успею, — девочка резко посмотрела на рисунок и решительно взялась за белый карандаш, усугубляя всеобщее цветенье.
— Что ты рисуешь? — удивилась Маша. — Здесь всего два дерева!
— Бикулине на память, — ответила девочка. — Бикулина любит, когда всего много.
— Кому на память?
— Ты откуда взялась? — девочка внимательно оглядела Машу. — А… Новенькая? Только переехала?
Маша кивнула.
— Ну не мешай! — девочка еще энергичнее заработала карандашами, потеряв, по-видимому, к Маше всякий интерес.
Вечернее солнце тем временем обрядило низкие белые облака в розовые юбки. Во двор въехал белый автобус с розовой крышей. «Надо же, — удивилась Маша, — на облако похож…» Молодые атлеты в иностранных тренировочных костюмах вышли из автобуса, исчезли в подъезде, а потом угрюмо принялись заносить в автобус чемоданы и кое-какие пожитки. Вещей, однако, было немного, видать, переезжали не насовсем. В завершение хмурый атлет осторожно вынес бронзовый футбольный мяч на длинной, похожей на шпагу подставке. Мяч тускло заблестел, ловя уходящее солнце. Дотом из подъезда пружинисто вышел седовласый мужчина, за ним маленькая стройная женщина, а следом девочка в зеленом, как трава, платье.
— Бикулина! Бикулина! — закричала рисовальщица. — На, возьми на память! — протянула рисунок. — Ты пиши мне! Каждый день пиши мне!
Девочка в зеленом платье взяла рисунок, пристально в него всмотрелась. Зеленые глаза ее вдруг полыхнули, как у кошки в темноте.
— Бездари! — закричала она атлетам, топчущимся около автобуса. — Сапожники! О, какие же вы бездари! Так глупо проиграть! Из-за вас теперь мы уезжаем в Одессу! — И не в силах сдержать слезы, разрыдалась.
— Юля! Прекрати! С ума сошла! — Седовласый мужчина огляделся. Никого, к счастью, не считая Маши и рисовальщицы, поблизости не было. — Успокойся, мы же не насовсем уезжаем…
— А вдруг тебя никогда не переведут в Москву? — истерически закричала Юля.
— Переведут… Я тебе обещаю, — с трудом улыбнулся мужчина.
— А я… — Юля тянула это «я», как ведро из колодца. Рожденное из шепота «я» набирало страшную силу и уже гремело эхом, колотило по окнам, неистовствовало в пространстве, опоясанном домом. — Я не хочу! Я не хочу! Я… не хочу!
Столько страсти, энергии, воли было в этом «я», что даже у бывалых атлетов-пораженцев лица изменились. А Юля, вторично полыхнув глазами, порывисто обняла рисовальщицу.
— До свидания, Рыбочка! До свидания, подружка! Ты меня не забудешь?
— Я тебя не забуду! — всхлипнула рисовальщица. — Я тебя буду ждать. Возвращайся быстрей!
— Только если проклятые одесситы возьмут кубок! — горько сказала Юля. — Медалей им сезона три не видать… — она снова посмотрела на рисунок, чуть приоткрыла рот (Маша испугалась, что она снова закричит, но этого не случилось).
— Юля! — позвал отец. Шофер коротко просигналил. — Самолет через полтора часа! Надо ехать.
Глаза у Юли сузились и еще пуще зазеленели.
— Стой на месте, Рыба! — прошептала она. — А ты… бледноногая, иди-ка сюда!
— Я? Сама ты бледноногая… — Маша на всякий случай шагнула назад.
— Иди-иди, не бойся! — приказала Юля. — Косу я тебе выдрать всегда успею…
— Чего? — Маша отступила еще на шаг.
— Иди сюда!
Словно загипнотизированная, Маша приблизилась.
— Видишь коричневую сумку, бледноногая? — спросила Юля. — С застежками? Сейчас ты как будто пойдешь мимо и схватишь ее с подножки, поняла? Схватишь — и, как ветер, прилетишь сюда! Поняла?
— Юля! — мужчина, казалось, потерял терпение. Вышел из автобуса.
— Сейчас, папочка! — сладко ответила Юля. Но как не соответствовал сладкий, покорный голос сжатым в ниточку губам, злому решительному накалу зеленых глаз.
— Ну пошла! — не прошептала, прошипела Юля.
— 3-зачем?
— Ну пошла, дура!
Маша медленно пошла в сторону автобуса, неуверенно улыбаясь и неотрывно глядя на сумку.
— На сумку-то не смотри, как удав, дура! — услышала голос Юли.
Мужчина в это время поднялся в автобус. За ним потянулись атлеты. Это облегчило Машину задачу. Схватив сумку, Маша попятилась, упала, поднялась и, сделав непонятный зигзаг, вернулась в сквер, где Юля топала ногами и кричала: «Быстрей! Быстрей!».
Дальше произошло нечто совершенно неожиданное. Вырвав у Маши из рук сумку, Юля, как обезьянка, стала карабкаться на дуб, только белые ноги мелькали да сумка рывками взлетала все выше и выше. Вскоре Юля оказалась на такой высоте, откуда двор ей предстал в ином измерении, потому что она прокричала:
— Рыба! Ты сверху похожа на курицу! А ты, новенькая, на крысу!
Из автобуса вышли все. Обступили дуб.
— Юля! Что за шутки? — устало спросил отец.
— Юля! Я лезу к тебе! — заявила мать.
Угрюмые атлеты быстро притащили откуда-то брезент, растянули под дубом. Они, судя по всему, были всегда готовы к любым неожиданностям. Удивить их было трудно.
— Эй! Прыгай! — крикнул самый находчивый.
Из зеленых шелестящих веток послышался спокойный голос:
— Это исключено.
— Что исключено?
— Я не прыгну…
Один из атлетов скинул куртку и пару раз, разминаясь, присел.
— А если этот… полезет на дерево, я прыгну! Но не на брезент!
— Юлечка! — выдохнула мать.
— Ты же взрослая девочка! — закурил отец, посмотрел на часы. — Мы без тебя никуда не уедем! — сигарета в руке заметно дрожала.
— Я не слезу!
— Почему?
— Потому что я никуда не хочу уезжать! Потому что мой дом здесь!
Брезент под дубом то натягивался, то опадал. Атлеты настороженно следили за Юлиными перемещениями по веткам. Любопытные прохожие начали заполнять сквер. Сначала они вертели головами, потом, рассмотрев в вышине Юлю, ойкали, а некоторые старушки даже крестились.
— Хорошо, — сказал отец Юли, тревожно оглядываясь. — Что ты, собственно, предлагаешь?
— О! — засмеялась с ветки Юля. — У меня имеется прекрасный план…
— В таком случае давай обсудим?
— Давай.
— Но, согласись, мне придется тоже залезть на дерево… — вкрадчиво начал отец.
— Только на третью ветку! — отрезала Юля.
— Почему именно на третью?
— Потому что я же знаю, ты хочешь меня стащить вниз и увезти в Одессу…
Отец вздохнул.
— Хорошо, на третью… — быстро забрался на указанную ветку. Постояв немного, подумал, полез выше. Вскоре их с Юлей разделял какой-нибудь метр. Юля сделала шаг в сторону, покачнулась. Отец побледнел. Юля вскарабкалась еще выше. Она теперь стояла на тоненькой, покачивающей ветке, чуть держась за сучок, едва торчащий из ствола.
— План простой, — сказала Юля, — вы уезжаете в Одессу, а я остаюсь дома с бабушкой!
— Юля, но ты же знаешь, что бабушка… — шелест листьев заглушил подробности разговора, только отдельные слова долетали до Маши. — Больница… в любой момент… семьдесят лет… малость не в себе…
— Я никуда не уеду! — Юля отпустила сучок и секунду-другую балансировала на ветке.
— Хорошо! Мы принимаем твои условия! Сейчас мама позвонит бабушке. Слезай!
— Только когда приедет бабушка!
— Но мы же должны увидеть, что ты благополучно спустилась!
— Увидите из автобуса!
Отец еще раз посмотрел на часы, стал спускаться.
… Через двадцать минут лихое такси вкатило во двор. Из такси вышла бабушка. Автобус отъехал к арке. Только два атлета держали брезент, пока Юля спускалась. На предпоследней ветке она задержалась.
— Все! — сказала. — Теперь-то уж я не упаду. Можете идти, мазилы!
Пристыженные атлеты отошли.
Автобус скрылся.
— Я победила! Победила! Победила! — троекратно прокричала Юля, слезая с дерева. Потом она подняла с земли рисунок и вдруг, отвернувшись к дубу, горько заплакала.
Рыба, Маша, бабушка утешали ее…
Маша вспомнила все это не случайно, потому что именно в тот весенний день, когда цвели в сквере обреченные вишня и яблоня, и началась ее дружба с Юлией-Бикулиной, приносящая столько тревог и печалей. Именно тогда громогласное «я» Юлии-Бикулины, родившееся над сквером, над шелестящим дубом, над цветущими яблоней и вишней, полетело, дробясь и звеня, по окнам и заполнило все воздушное пространство двора. Маша тогда испугалась. Никогда не видела она еще такого смелого «я». Летящее как демон, смелое «я» коснулось Маши, и Машино маленькое, робкое «я», уютно чувствующее себя среди слез и вздохов, немедленно подчинилось. Это произошло мгновенно, еще до того как Юлия-Бикулина узнала, кто такая Маша и как ее зовут.
Сейчас, идя осенней дорожкой Филевского парка, внимая порхающим листьям, Маша размышляла: да как же так получилось, да она ли это, Маша, или какая другая девочка за эти годы безупречно подчинялась Бикулине? Машины ли желания и поступки регламентировались Бикулининым «я» — по-кошачьи зеленоглазым и короткостриженым? Полон недоумения был Машин взор, обращенный в прошлое. Со стыдом вспоминала она, какую холуйскую гибкость проявляло ее старое «я» в общении с Юлией-Бикулиной. Допустим, Маша говорила: «Идем в кино!» — «Нет, — возражала Бикулина, — к свиньям кино, идем дальше по улице!» И Маша, для вида поспорив, соглашалась, и они шли по улице. Неудовольствие, казалось, должна была испытывать Маша. Но нет! Она испытывала странное чувство освобожденности, словно избавившись от безобидного желания посетить кино, она избавилась и от ответственности за саму себя. Легкость лепестка испытывала Маша. Избавившись от ответственности, чувствовала себя… свободной! И уже шла по улице с наслаждением. Мир наполнялся красками, доселе не замечаемыми. А Юлия-Бикулина вдруг заявляла: «Черт с тобой, Петрова, идем в кино!» Но Маше уже совершенно не хотелось в кино! Впрочем, только секунду не хотелось… В кино так в кино, не все ли равно?
Юлия-Бикулина решала все. Юлия-Бикулина привычно несла бремя чужих неосуществленных желаний. Маша вдруг подумала, что это тоже не так уж легко. Иначе, почему так редко улыбалась Бикулина? Зато злая усмешка часто появлялась у нее на лице. Откуда ранняя морщина на челе Бикулины, в которую она по совету матери еженощно втирала голубой австрийский крем? И Маша пожалела Юлию-Бикулину, потому что слезы ее тоже коснулись Маши в далекий весенний день, когда цвели яблоня и вишня.
Все дальше и дальше углублялась Маша в осенний парк, не понимая: откуда в ней эти мысли? С каждым осенним часом слабели нити, связывающие ее с Юлией-Бикулиной, любимой ненавистной подругой, и Маша чувствовала, что это невозвратимо, невозвратимо… «А что, собственно, возвратимо?» — вдруг подумала Маша и сама испугалась. Но этот вопрос, казалось, заключался в самом осеннем мире: струился в чистом воздухе, стая птиц, пролетающая над Филевским парком, несла его на крыльях, пустынная парковая дорожка устремляла вопрос к синему горизонту. «Возвратимы времена года, все остальное нет… Все остальное, как стрела, летит и падает… «Семеркин! — подумала Маша, и воздух стал светлее, листья ярче, самой Маше стало тепло, даже жарко. — Чувства, чувства возвратимы! — мудро подумала маленькая Маша. — Только в них нет порядка. Две подряд весны может быть, а может и подряд сто зим…» Но стоило только Маше подумать о Семеркине, как тут же возникала в мыслях Юлия-Бикулина и начинала воевать с Семеркиным, словно вдвоем им сосуществовать было невозможно. Ценой великих усилий Маше удалось прогнать Бикулину. «Как хорошо, — думала Маша, — что есть на свете такой человек Коля Семеркин…» И тут начиналось новое раздвоение! С одной стороны, Маше очень приятно было думать о Семеркине, смотреть на него в школе, смотреть на него дома, из окна, когда Семеркин выходил гулять со спаниелем Зючом. Зюч носился по двору, а Семеркин ходил следом, но, право же, в немудреном этом гулянии чудесный смысл виделся Маше, и она то краснела, то бледнела у окна за кружевной занавесочкой. И возможно, подними в этот момент Семеркин глаза, увидь он взволнованную Машу, все стало бы ему ясно, но… не смотрел Семеркин на Машино окошко. Такое вот волнение, сладкое обмирание и было с недавних пор тайной стороной Машиного существования, о которой только один человек догадывался — Юлия-Бикулина… С другой же стороны Машу насторожила растущая зависимость от этих семеркинских выходов с Зючом во двор, от семеркинских взглядов, которые Маша ловила в классе и которые были устремлены куда угодно, только не на нее. Короче говоря, Семеркин был вольной птицей, жил как хотел; Маша же с недавних пор вольной птицей себя не чувствовала. И чем вольготнее бродил по школьным коридорам Семеркин, заглядываясь на других девочек, тем беспокойнее чувствовала себя Маша. Одного факта существования Семеркина было уже явно недостаточно. В Семеркине должны были забушевать ответные чувства. Это он, Семеркин, должен подкарауливать идущую по двору Машу, он должен смотреть на нее из окна и комкать в руке занавеску! Что-то надо было предпринимать. И Маша читала Тургенева, читала в изумлении «Красное и черное», читала современных писателей… Иногда она так глубоко задумывалась о Семеркине, что теряла нить реальности, и то, что Семеркин не знает, ничего даже не подозревает об этих ее мыслях, казалось диким и несправедливым. Словно цунами накатывалось на любовно выстроенные Машей городки и скверики. И, справившись с цунами, Маша сидела мрачная и опустошенная, и слезы сами катились из глаз.
Так маятником качались Машины мысли, а ноги потеряли счет шагам. Давно уже Маша миновала Филевский парк и шла теперь вдоль шоссе. Автомобили обгоняли ее, шпиль университета сверкал вдали на солнце, а под ногами желтела умирающая осенняя трава.
Каким образом Юлия-Бикулина догадалась о ее чувствах к Семеркину, Маша не знала. Но особенно и не удивилась. Она давно привыкла, что Юлия-Бикулина разгадывает тайны и читает мысли.
Маша вспомнила далекий весенний день, когда белые лепестки подрагивали на яблоне и вишне, а дуб гудел на ветру, как огромная труба, устремленная в небо.
… Два глаза у весны — ласковый, теплый и — строгий, холодный. В тот вечер весна смотрела во двор холодным синим глазом, и у Маши зябли коленки, и Рыба дрожала в своем платьице. Только Юлия-Бикулина не чувствовала холода. Фарфоровым казалось в сгущающемся воздухе ее лицо, глаза — двумя зелеными листками.
— Ты, новенькая, меня не жалей, не жалей! — приговаривала Бикулина, дергая зачем-то Машу за пуговицу на платье. — Я на дереве сидела, плакала, а думала совсем о другом. Да, плакала я! А хочешь, скажу, отчего плакала?
— Скажи, Би… Биби… — Маша осторожно высвобождала пуговицу.
— Бикулина! — холодно поправляла ее новая знакомая, и словно две металлические болванки стукались, такой рождался звук. — Би-ку-ли-на! — повторила новая знакомая по слогам. — Так вот, я плакала потому, что вдруг поняла, какие они маленькие, слабые…
— Кто? — не понимала Маша и думала: неужели атлеты?
— Родители мои, — продолжала Бикулина. — Смотрела я на них с дуба и так мне их жалко было! Как же так? — Бикулина переходила на шепот. — Из-за того, что балбесы футболисты безобразно играли в прошлом сезоне и отвратительно начали этот, отец должен переходить в одесскую команду, которая тоже неизвестно как будет играть? Я все время у него спрашивала: «Ну а ты сам? Хочешь в Одессу?» А он: «Какое это имеет значение? Надо ехать!» Я: «Тебе надо?» Он: «Всем нам надо! Всем надо ехать в Одессу, и я должен вывести их команду по крайней мере в призеры, чтобы вернуться в Москву. А в федерации я не хочу работать, потому что я тренер, тренер!» И тогда, — продолжала Юлия-Бикулина, — я поняла, что мой отец — слабый человек, и мне стало его жалко…
— Почему же слабый? — стучали зубами от холода Маша и Рыба.
— И тогда я подумала, — не слушала их Юлия-Бикулина, — он слабый человек, потому что не довел до конца дело! Вложил в команду столько сил и не сумел остаться в команде! Едет в Одессу, а ему туда совсем не хочется, значит… Значит, в нем нет гордости! Но должен же быть предел, подумала я. За которым кончается его покорность и начнется он сам… И я поняла, что этот предел далеко-далеко… И тогда… — Юлия-Бикулина многозначительно посмотрела на Рыбу и Машу, — я поняла также, что могу остаться дома! И он с этим тоже смирится! Раз покатился, уже не остановишь… Я все рассчитала. Так что ты, новенькая, меня не жалей, не жалей… — Бикулина снова схватила Машу за пуговицу. — Жалеть-то как раз тебя надо! Переехала в новый дом, в новую школу пойдешь, никого и ничего не знаешь… Как тебя примут? Но ты, новенькая, не бойся, за нас держись с Рыбой, и все будет нормально!
— Наташа! Наташа! Домой, поздно уже! — разнесся в это время по двору женский голос.
— Это меня зовут, — быстро поднялась со скамейки Рыба. — Пока, Бикулина! Пока, новенькая? Тебя хоть как звать?
— Маша…
— Маша… — хмыкнула Бикулина. — У нас уже есть одна Маша…
— Ну и что? — пожала плечами Маша.
— Так у Рыбы кошку зовут! — засмеялась Бикулина, и Маша впервые испытала странное чувство, ставшее, впрочем, потом привычным. Когда не знала она, совершенно не представляла, как реагировать на слова Юлии-Бикулины. Обижаться ли, смеяться? Маша и обижалась и смеялась, но стратегическая инициатива все равно была за Юлией-Бикулиной, которая расставляла акценты второй своей фразой. Если Маша обижалась, Бикулина переводила все в добрую шутку. Если Маша смеялась, Бикулина немедленно обижала ее.
В тот, первый раз Маша неуверенно улыбнулась.
Бикулина тоже улыбнулась, но уже с чувством превосходства.
— Пошли, новенькая! Я тебе кое-что покажу! — Бикулина поднялась со скамейки. Маша тоже поднялась, подумав, однако, что уже поздно, что мама с папой уже успели удивиться ее долгому отсутствию, а скоро начнут волноваться. Новый двор! Первый вечер!
Небо тем временем потемнело и покраснело. И пока поднимались по замызганной черной лестнице на последний этаж, из каждого окна высвечивал Машу этот закат — первый в новом дворе. Юлия-Бикулина перевела дух, толкнула чердачную дверь. Дверь подалась.
— Отлично! — сказала Бикулина. — Вперед!
Маша осторожно ступала следом. Неприятно как-то было на чердаке. «Зачем? Зачем? Зачем я здесь?» — не понимала Маша, а Бикулина наконец достигла цели — огромного круглого окна. Со двора окно казалось безобидным маленьким кругляком, а здесь неземная панорама из него открывалась. Звезды, как свечи, пока только теплились на отвоеванной у заката чистой небесной территории. Дуб в сквере, в ветках которого отстаивала свою свободу Юлия-Бикулина, казался отсюда жалким кустиком, а цветущие вишня и яблоня едва белели. Теперь Маше было понятно, зачем привела ее на чердак новая подруга. Закат! Откуда увидишь еще такой закат?
— Спасибо… — прошептала Маша, однако Юлия-Бикулина не расслышала.
Она зачем-то открыла полукруглую створку окна, и холодный ветер ворвался на чердак. Платье вокруг ног Юлии-Бикулины затрепетало. Юлия-Бикулина высунулась из окна больше чем наполовину.
— Ты что? — испугалась Маша. По решительным движениям новой подруги она поняла, что отнюдь не просто так забрались они на чердак.
— Сначала я, потом ты! — Юлия-Бикулина ступила на подоконник. — На крышу идем. Тут из окна очень удобно, широкая дорожка. Сначала за кирпич держишься, потом за решетку… — и вот уже зеленое платье Бикулины оказалось снаружи.
Маша в ужасе следила, как Бикулина утиными шажками, лицом к стене передвигалась по узенькому выступу, держась одной рукой за выпирающие кирпичи, другой за гладкую стену. Был момент, когда Бикулина отпустила кирпич, а другая ее рука еще не дотянулась до решетки, ограждающей крышу, и Бикулина сделала два шага ни за что не держась. Если бы в этот момент Маша увидела такое зрелище снизу, она бы скорее всего закричала. Здесь же только укусила кулак.
— Ну все, я на крыше, — раздался веселый голос Бикулины. — Давай сюда, новенькая, не бойся, я покажу тебе наш тайник!
— Я? Да… ты что? Я? Туда? — Маша неожиданно начала смеяться. — Я? Туда! Да ты что? — смех неестественный и сухой першил в горле.
— А… Понятно… — Бикулина вернулась обратно, словно перелетела по воздуху. — Тогда в другой раз.
Обратно шли молча. А когда спускались вниз по черной лестнице, Маша вдруг поняла, что неспроста затеяла этот поход ее новая подруга. Маша догадывалась, что именно хотела доказать ей Бикулина, и уже заранее махнула на все рукой. Бороться с Бикулиной было бесполезно, Бикулину можно было только слушаться.
На следующее утро Маша проснулась рано, едва только лучи солнца влетели в незашторенные окна и осветили хаос переезда. Вещи, некогда знающие себе цену и место, толпились в углах, как переселенцы на вокзале, всем своим видом выражая муку и желание поскорее обрести покой. Чужая пыль пританцовывала в воздухе. «Меланхолия» равнодушно смотрела солнцу в лицо и не щурилась. Должно быть, «Меланхолия» видела в данный момент не только солнце, но и луну, западающую за крышу. Бледные лунные контуры размывались мощным напором утренней небесной синевы. Маша не знала который час, но, судя по воробьиным игрищам, по вольному шуму деревьев, по отсутствию за окном человеческих голосов, было очень рано. Маша сунула ноги в тапочки и удивилась, какие они холодные. Платье тоже прошлось по ней холодным утюжком, и только горячая вода в ванной немножко обрадовала Машу. Все, все пока в этой квартире было чужим! Даже собственные родные вещи! Только вода ко всему равнодушна — горячая, теплая, холодная, какая угодно. Нельзя, нельзя верить воде. И равнодушным людям нельзя верить. О ненависть можно разбиться, о злобу споткнуться, а в равнодушии утонуть… Не помнила Маша, где слышала это или читала… «Юлия-Бикулина! — сурово подумала Маша. — Сегодня я тебя испытаю. Ты — закат, я — рассвет. Рано-рано прогрохочу я сандалиями по крыше, пока ты нежишься в постели!» Веселая, отчаянная решимость дрожала в Маше как струна, и прям был ее утренний путь в замызганный подъезд, по черной лестнице наверх. Солнце ободряюще гладило Машу лучами сквозь пыльные окна. Но чердак был хмур. Чердак был вотчиной Юлии-Бикулины и не желал приветствовать Машу. Сухо впечатывались в пыль ее сандалии, серенькая кайма образовалась на красных дырчатых носках. А окно было и того мрачнее. Холодный полумрак стоял в окне, как в аквариуме. И Маша поняла: западная сторона, только вечером приходит сюда умирающее солнце. Не голубь-весельчак, но ворона сидела на карнизе. Противно изогнув шею, вздыбив на затылке черный пух, каркнула ворона и спрыгнула тяжело с карниза и полетела, разрывая крыльями воздух. Маша выглянула в окно, пробежала взглядом узенький кирпичный путь до крыши. Вниз посмотрела, обмерла. Вверх посмотрела, чуть не заплакала, так изумительно цвело небо, так невесомо гуляли в нем хрустальные, прозрачные струи… «Юлия-Бикулина! — печально подумала Маша. — Ты победила… Никогда, никогда, никогда не ступлю я на узенький кирпичный путь…» И тих, и смирен был обратный Машин путь в чужую пока квартиру, где мучались в хаосе родные вещи, где «Меланхолия» не радовалась утреннему солнцу…
Но Юлия-Бикулина была великодушна. Ничем не выказала она Маше своего презрения. Веселый свист заслышала Маша, едва только вышла с портфелем из подъезда и направилась в новую школу, в незнакомый класс. Юлия-Бикулина свистела из беседки, частично скрытой гигантом дубом и цветущими вишней и яблоней. Списывала что-то быстро Юлия-Бикулина, а рядом топталась голубоглазая нерешительная Рыба.
— Здравствуй, Маша! — поздоровалась дружелюбно Бикулина. — Как спалось, какие сны снились?
— Ничего мне не снилось, — зевнула Маша, — я на новом месте плохо сплю…
— А вот Рыбе, — не прекращая стремительного списывания, сказала Бикулина, — приснилось, будто у нее выросли стеклянные ноги… Да, Рыба?
Рыба молчала.
— И куда ты пошла на своих стеклянных ногах? — ухмыльнулась Бикулина.
— Давай списывай быстрей, а то опоздаем! — сказала недовольно Рыба, но Бикулина как бы ее не услышала.
— Представляешь, Маша, — Бикулина взглянула Маше в глаза искренне и радостно, — Рыба пошла на своих стеклянных ногах на футбол… Смешно, правда?
— Мало ли кому чего снится… — ответила Маша.
— Ха! Это же не весь сон! — Бикулина закончила списывать, протянула тетрадь Рыбе. — Что было дальше, Рыба?
Маша удивилась, как душевно, располагающе звучит голос Бикулины, когда она обращается к ней, Маше, и каким холодным и презрительным становится он, когда она говорит с Рыбой.
— Ничего, отстань! — Рыба застегнула портфель и вышла из беседки.
— А дальше было вот что, — взяла Бикулина Машу под руку. — На стадионе, где наша болельщица Рыба наслаждалась игрой мастеров кожаного мяча, она вдруг почувствовала, что стала стеклянной вся! С головы до пят! Она провела рукой по телу и не обнаружила одежды! Вот ведь смех! Рыба сидела на стадионе голая и стеклянная! — Такая едкая насмешка звучала в голосе Бикулины, что Маше начало казаться, что все это происходило на самом деле. Маша даже представила себе голую стеклянную Рыбу на деревянной скамейке на стадионе. И… неуверенно засмеялась. Бикулина схватила ее за рукав.
— Она же идиотка, правда? Она законченная идиотка, если ей снятся такие сны… Эй, Рыба! Маша говорит, что ты идиотка!
— Неправда! — крикнула Маша.
— Ну хорошо-хорошо, я пошутила… — не стала спорить Бикулина. — Рыба! Маша берет свои слова обратно!
Рыба шла не оглядываясь.
— Кстати, — озабоченно спросила Бикулина у Маши. — Из твоих окон видать нашу беседку?
— Какую беседку?
— Господи! Ну ту, которая в сквере!
— Не знаю, а что?
— Если видать, то мы с Рыбой принимаем тебя в наше общество списывальщиков.
— Чего-чего?
— Ну, если ты не сделала, скажем, алгебру или географию, или чего другого, ты бежишь с утра пораньше в беседку и шаришь там под потолочком… Находишь розовый флажок и несколько минут им машешь. Те, кто сделал уроки, я или Рыба, видим это из окна, выходим и даем тебе списать. Понятно?
— Понятно…
Они перешли по подземному переходу проспект, миновали магазин «Рыболов-спортсмен» («Берегись, Рыба! Схватит тебя за хвост спортсмен!» — закричала Бикулина, а Маша неизвестно зачем подхихикнула) и оказались около здания школы, куда Бикулина и Рыба ходили шестой год, а Маша пришла впервые…
Все это вспомнилось сейчас, осенним октябрьским днем, словно фильм показывали, где Маша была в главной роли. И словно в каком-то полусне Маша видела улицу, по которой в данный момент шагала, видела косые столбы света, обрушившиеся на деревья, видела собак, обнюхивающих кучи осенних листьев. Университетский шпиль теперь сверкал прямо над головой. Маша сама не заметила, как пришла на Ленинские горы, и скоро серо-голубое кольцо Москвы-реки открылось ей, Большая спортивная арена и купола церквей, по цвету напоминающие осенние листья. Постояв у гранитного парапета, полюбовавшись на подъезжающие машины, откуда выпархивали, как чайки, невесты в белом и женихи в черном, как грачи, Маша спустилась по асфальтовой дорожке вниз и пошла по набережной. Пусто было на набережной. А потом вдали возник странный человек в белом пальто, на манер докторского халата накинутом на плечи, и в феске.
Однако снова вспомнились далекие весенние дни, и Маша забыла про человека в феске. Никогда еще Маша не предавалась воспоминаниям с такой жадностью, никогда еще не стремилась столь яростно дойти до сути, которую она не могла сформулировать словами, но могла ощутить сердцем. В ней, как казалось Маше, и заключалось нынешнее ее постыдное подчинение Юлии-Бикулине, а также смиренное лицезрение Семеркина, прогуливающегося с Зючом по двору. Однако суть за здорово живешь не давалась. Подобно луковице, сбросила сотню одежек, и, когда настала наконец пора холодного разглядывания, Маша ничего не смогла разглядеть. Слезы, слезы мешали… Слезы оказались сто первой одежкой сути!
Как нежна, как ласкова была Бикулина в первые дни дружбы! Как откровенна!
— Я никого не люблю! — говорила Бикулина, когда они сидели вечером на чердаке. — Когда поняла это, сразу легко стало жить… — Бикулина задумчиво молчала.
И Маша молчала. Настолько не укладывалось в голове то, что говорила Бикулина.
— Даже… свою маму? — спрашивала шепотом Маша.
— Мама и папа познакомились на стадионе, — смеялась Бикулина. — Представляешь, что это было за знакомство? Папа с кожаным мячом, мама в белой юбочке с ракеткой… Хотя она у меня стрелок из лука. Спортивный Купидон сразил их стрелами любви… — смеялась Бикулина. — Мама предсказала папе, что он станет великим футболистом, и так оно и вышло. Когда отыграл свое, предсказала, что он станет великим тренером… Но… Есть еще бабушка, папина мама. Она считает, что папа был бы еще более великим тренером, если бы не мама… У них и споры все о масштабе папиного величия… Мама ради этого величия готова жертвовать собой, вот, без звука в Одессу поехала, а бабушка не только собой, но и всем на свете… Смешно, правда?
— Значит, ты… не любишь маму?
— Для нее папа и муж, и ребенок… А я так… — холодны, сухи были речи Бикулины.
И Машу пронизывал странный холод. Неприютным, недобрым казался мир. Предложи в этот момент Бикулина поход на крышу, Маша бы согласилась…
— Ты не права… — шептала Маша. — Мама не может быть такой…
— Раз я с велосипеда упала, — говорила Бикулина, — пришла домой, вся нога в крови… А мама смотрит по телевизору, как папашина команда играет. Я говорю, вот упала… А она: «Возьми йод, смажь коленку». От телевизора не отрываясь…
— И Рыбу тоже не любишь? — задавала Маша хитрый предварительный вопрос.
— Рыбу? — грустно переспрашивала Бикулина. — Рыбу… люблю. Ты видела, как она рисует?
— Нет.
— Увидишь еще. Рыба говорит: «Не знаю, как бы жила, если бы не рисовала». Рыба смешная… Не такая, как все… Она… Ей… ну… не так уж важно, люблю я ее или нет… Хотя она этого сама не понимает…
— А меня? — тихо спрашивала Маша. — Меня, значит, ты не любишь? Потому что я такая, как все, да?
— Ты? — удивлялась Бикулина. — Откуда я знаю, какая ты?
— Почему тогда со мной дружишь?
Бикулина посмотрела на Машу, словно впервые увидела, и недоумение, словно птица, пролетело между ними.
— Хватит чердачничать, — зевнула Бикулина. — По домам пора.
— Скажи, — задала Маша еще один мучавший ее вопрос, — а зачем у тебя второе имя?
— Сон приснился, что меня зовут Бикулина. Я утром проснулась, подумала: а чем плохое имя? Звучное, гордое… Но как все меня за него дразнили! — качала головой Бикулина. — Будто я не второе имя придумала, а подстриглась наголо…
— А зачем, зачем второе имя?
— А так… Захотелось… Вот представь, — говорила Бикулина, — на небе тучи, а тебе хочется, чтобы звезды горели. Ты ведь их не зажжешь, правда? А придумать второе имя, это же в твоих силах. Почему не придумать, если очень хочется? А что кому-то не понравится… Так плевать на это!
Маша смотрела на Бикулину в восхищении. С недавних пор ее собственный мир напоминал хаос переезда, когда все вещи не на своих местах, отовсюду торчат острые углы и не знаешь, где пыль, а где чисто, на что можно сесть, на что нельзя. Хаос этот повлиял и на Машину манеру говорить. Она поминутно сбивалась, забывала с чего начала, мямлила, путалась, смущалась. Речь же Бикулины была ясной. Бикулина могла объяснить все. И Маша внимала Бикулине, как зачарованная. Общаясь с Бикулиной, она как бы видела незримые каркасы, на которых крепится жизнь. Хаос уступал место ясности. Но какой бесчувственной была ясность! Айсберг, излучая холодное сияние, вплывал Маше в душу. По Бикулине выходило, что всерьез воспринимать родителей — смешно, верить подругам — глупо, прилежно учиться, переживать из-за отметок — это уже окончательный кретинизм.
— А книги читать? — спрашивала Маша.
— Дело хорошее, — соглашалась Бикулина, — только на десять одна приличная попадется… А вообще, — цитировала кого-то неведомого Бикулина, — гора родит мышь!
— Да как же ты живешь? — не выдерживала Маша.
— А твое какое дело? — сурово спрашивала Бикулина. — Этот вопрос маме своей задавай, а не мне!
Еще одну вещь заметила Маша. Зажигалась и вдохновлялась Бикулина только когда предмет разговора ее интересовал. Если же сама Маша начинала что-нибудь рассказывать, в зеленых глазах Бикулины скука стояла, как в омуте. Похоже, она вообще не слышала, что говорит Маша. А Маша смотрела в зеленые глаза Бикулины, и ей казалось, что она погружается в омут, где ни дна, ни поверхности, одна жестокая ясность. Но это притягивало! С именем Бикулины Маша засыпала, с именем Бикулины просыпалась. «Бикулина», — выводили облака по синему небу белую строчку, «Бикулина», — выкладывали ночью созвездия. За зеленый взгляд, за хрипловатый голос, за странные Бикулинины шутки готова была терпеть Маша стыд и позор.
Но май катился солнечным колесом, и Маша стала замечать странности в поведении подруги. Во-первых, чем сердечнее становились отношения Маши и Бикулины, тем ожесточеннее Бикулина преследовала вторую свою подругу Рыбу. Каждый день Бикулина обнаруживала в Рыбе новые и новые пороки.
— Ну зачем ты так с ней? — робко заступалась за Рыбу Маша.
— А чего она ходит с кислой рожей, будто раз я с ней не дружу, значит, конец света настал, — зло щурилась Бикулина, и Маше становилось не по себе.
— Но ведь ты ее любишь, ты сама говорила на чердаке!
— Я-я-я-я? — «я» Бикулины шипело как змея. — Я люблю Рыбу? — И рука Бикулины не то тянулась к Машиным волосам, не то просто делала в воздухе пируэт. — Да, я люблю рыбу… жареную! — хохотала Бикулина, и Маша неизвестно зачем улыбалась.
Во-вторых, все чаще скучала Бикулина на закатных посиделках, все чаще ловила Маша на себе ее недовольный взгляд. Однажды пришла охота Бикулине позабавиться: на подоконник она уселась, свесив ноги вниз, руками ни за что не держась. Этаким Долоховым сидела Бикулина на подоконнике, разведя руки в стороны, гордо выгнув стан. Маша вскрикнула, вцепилась Бикулине в свитер, втащила обратно. Тут же черный круг возник перед глазами, желтые звездочки запрыгали, вздохнуть стало невозможно, слезы выступили — Маша поняла, в солнечное сплетение ударила ее Бикулина.
— Зачем? — ласково спросила Бикулина. — Зачем ты мне мешаешь? Я не люблю, когда мне мешают…
В другой раз Бикулина принесла на чердак полиэтиленовый мешок с водой, и когда показалась внизу какая-то женщина, вылила на нее воду.
— Ты что? — испугалась Маша.
— Ничего, — косо посмотрела на нее Бикулина, — а ты, значит, честненькая у нас, правдивенькая, на такие гадости неспособная…
— А вдруг ты бы оказалась внизу на ее месте?
— Маша-Маша… — простонала Бикулина. — До чего ты мне надоела!
Переживая заново давние обиды, Маша заметила, что сильно приблизилась к человеку в накинутом на плечи белом пальто и в феске. Человек благодушно посматривал по сторонам и время от времени подносил ко рту кривую дымящуюся трубочку. Уже за несколько десятков метров Маша почуяла нездешний аромат табака, увидела синие клубочки, выпархивающие из трубки, и вспомнила фразу из песни, которую часто напевал отец: «Бананы ел, пил кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки…». Маше нравилась песня, и когда она была маленькой, то просила, чтобы отец спел до конца, хотелось узнать, что стало с человеком, который курил в Стамбуле злые та баки, но отец в ответ печально пожимал плечами. Он не знал остальных слов. Маша жалела отца, вспоминала его изречение «синий дым мечты». Так говорил отец о неосуществимом. Стамбул, Мартиника как раз и были синим дымом мечты. В то время отец работал над проектом молодежного общежития для ивановских ткачих. «Жалость и обида — две сестры, — подумала неожиданно Маша, глядя на выпархивающие из трубки синие клубочки, — горьким своим ароматом заглушают прочие чувства…»
К тому времени как Юлия-Бикулина начала охладевать к ней, Маша успела неоднократно побывать у нее дома. Была она в гостях и у Рыбы — Бикулининой подруги-изгнанницы. Сейчас, вспоминая эти посещения, Маша испытывала чувство, что невидимка суть ходит где-то поблизости, как в игре «горячо-холодно». «Горячо» пока, правда, не было, но было «теплее»…
Начать следует с того, что бабушка Юлии-Бикулины ежечасно протирала от пыли застекленные фотографии, где на траве сидели, стояли, полулежали команды-чемпионы, в которых когда-то играл ее сын, отец Бикулины.
— Юлечка, — говорила бабушка, — вот на этой торпедовской фотографии… Где папа?
— Шестой слева в верхнем ряду, — отвечала не оборачиваясь Бикулина.
— А на первой спартаковской?
— Полулежит. Второй справа, внизу! — стиснув зубы, говорила Бикулина. — На динамовской фотографии он стоит рядом с вратарем! На армейской третий с краю в широченных трусах, а на второй спартаковской…
— Все, все! Умолкаю! — радовалась бабушка и в очередной раз протирала фотографии. Одну, правда, она не трогала и фотография была покрыта толстым слоем пыли: Юлина мама, молоденькая и гуттаперчевая, стреляла из лука. Мимо этой фотографии бабушка ходила, поджав губы.
Бикулина жила на шестом этаже. Из кухни у нее открывался вид на двор с беседкой в центре, а из комнат — на Москву-реку, лениво утекающую под Киевский мост. Первый раз Маша пришла к Бикулине в сумерках, когда закат уже пролился красным дождем за горизонт и таинственные синие ножницы стригли воздух. Бабушка открыла дверь, и минуту, наверное, Маша смотрела ей в глаза, чуть более светлые, чем у Бикулины. Маленькие черные точки прыгали в бабушкиных глазах.
— Это безумие шевелится в бабушкиных глазах, — прошептала Бикулина.
— Безумие? — Маше стало страшно.
— Не бойся. И не удивляйся! — Бикулина подтолкнула Машу вперед.
— Это моя новая подружка, бабушка, ее зовут Маша.
— Я так волнуюсь, Юлечка, так волнуюсь! — ответила бабушка. — Сегодня они играют с «Араратом». Я боюсь, боюсь включать телевизор! Во «Времени» будут передавать результаты седьмого тура. Я так волнуюсь…
— Не волнуйся, бабушка, они выиграют, — сказала Бикулина.
— Но этот «Арарат», он такой техничный…
— Сыграют вничью, тоже ничего страшного…
— Что ты говоришь, Юля! Вничью! Тогда одесситы откатятся на предпоследнее место! Ни в коем случае! Все! — решилась бабушка, — Иду включать телевизор… Пора!
Юлия-Бикулина и Маша остались в прихожей одни. Мрачна была прихожая. Высокие черные шкафы уходили под потолок, где туманились лепные узоры. Не веселее было и в комнате, где жила Бикулина. Там темные шторы ниспадали с карнизов до самого пола, а всю стену занимал сине-белый ковер со страшными оскалившимися рожами.
— Буддийские маски, — равнодушно сказала Бикулина.
И кубки, кубки! Высокие, граненые, как рюмки, матовые, как плафоны в метро, чеканные и мельхиоровые, бронзовые, латунные, малахитовые…
Бикулина задернула шторы, включила свет. Лампочка на железной ноге скупо осветила письменный стол и кусок ковра.
— И весь свет? — спросила Маша.
— Я не люблю верхний, — ответила Бикулина, — а другого света в этой комнате нет. Видишь ли, родители в разъездах, все не успевают вызвать электрика…
Тоской повеяло на Машу. Резные шкафы, высокие стулья, пейзажи в черных деревянных рамах, ковер со страшными рожами — все здесь испускало холод. Даже желтый круг света казался холодным. Словно ледяное облако плавало вокруг Бикулины. Маша вспомнила свой дом, свои вещи, уже почти расставленные. Они были теплыми! Маша поклясться готова была, что вещи у них дома были теплыми! А здесь… Маша вдруг заметила, какая маленькая Юлия-Бикулина, как одиноко сутулится она среди холодных вещей, как зябко ей в желтом круге света. Маша присела на кровать, тут же встала.
— Почему так жестко? Ты… спишь на ней?
— Да, сплю. Позвоночник никогда не искривится, — Бикулина смотрела на Машу исподлобья, глаза ее в скупом освещении недобро мерцали. — Не нравится тебе у меня, да? — усмехнулась Бикулина.
— Нет, ничего… Просто…
— Что просто?
В этот момент бабушка вбежала в комнату.
— Юля! Юлечка! — закричала она. — Они выиграли! Выиграли! У «Арарата»! Два — один! Они выиграли, Юля!
— Я же говорила, выиграют… — улыбнулась Бикулина, дернула Машу за руку.
— Пьем чай, девочки! — сама как девочка затараторила бабушка. — Совсем забыла, я же купила днем торт! Немедленно пьем чай. А потом идем в кино! Хотите в кино, девочки? Юлечка, что там сегодня в нашем кинематографе?
— Я позвоню узнаю…
— Позвони, немедленно позвони, — продолжала бабушка, — как жаль, девочки, что вы такие маленькие. Иначе бы мы по случаю победы одесситов выпили коньяка… Хотя почему, собственно, вы должны обязательно пить? Я могу выпить одна, правда? Юлечка, я иду на кухню, накрываю стол. Через пять минут жду вас!
Несколько минут назад в прихожей Маша побоялась как следует рассмотреть Бикулинину бабушку, остановленная прыганием безумия в ее глазах. Теперь же спокойны были бабушкины зрачки, и Маша украдкой ее оглядела. Бабушка Юлии-Бикулины одновременно была и не была старухой. Прежде всего, темперамент. Не встречала Маша старух, столь бурно переживающих перипетии футбольных баталий, пусть даже одну из команд тренирует сын. Маниакальная чистота царила в доме. Нигде ни пылинки, за исключением портрета гуттаперчевой Бикулининой мамы, стреляющей из лука. Порядок. Судя по всему, стремление к порядку было наследственной семейной чертой. Маша заметила, как поморщилась Бикулина, когда она взяла со стеллажа дивную статуэтку девушки, а потом поставила ее на стол. Бикулина немедленно переставила статуэтку на место. Но все же не Бикулина была стражем порядка. Бабушка. А разве стала бы дряхлая старуха, для которой истончилась, не шире голубиного шажка стала грань между жизнью и смертью, поддерживать такую чистоту в доме? Зачем? Какая-то неведомая идея влекла по жизни бабушку Юлии-Бикулины и не давала ей стариться. Не по-старушечьи и одета была бабушка Юлии-Бикулины. Светло-серые модные брюки и тонкий черный свитер под горло. Где это ходят такие старухи? Гимнастика, видимо, была ей привычна, частые прогулки на свежем воздухе. Не шаркала бабушка шлепанцами по квартире — как балерина летела!
Но было и старушечье в ее облике. Морщины иссекли лицо, кожа была, как печеное яблоко. Зелень в глазах напоминала жидкую болотную ряску, а не густую юную хвою, как у Бикулины. Руки были сухие и бледные, в коричневых пигментных пятнах. Каждая косточка, казалось, на руке просвечивает. Маша отворачивалась, не смотрела на бабушкины руки. И голос бабушки, хриплый, вибрирующий, — это уже был типично старушечий голос.
Пришла пора пить чай, и вместо ожидаемых многочисленных розеточек, тарелочек, конфетниц, крохотных кусочков торта, чайных ситечек на накрахмаленной скатерти — всего того, чем нынче люди подчеркивают наследственную свою интеллигентность, Маша увидела простую красную клетчатую клеенку на столе, на ней три огромные чашки, железный чайник и торт, грубо нарезанный прямо в коробке. А перед бабушкой стояла стройная рюмка с коньяком. Бабушка приглашающе повела рукой, чаепитие началось. Что удивило Машу, так это то, что Бикулина и бабушка ели торт прямо из коробки, никаких розеточек не было и в помине, и пили красноватый, щедро заваренный чай, прихлебывая, совершенно не стесняясь порицаемых звуков. С интересом поглядывали на Машу. Маша робела. Так пить чай она не привыкла.
— Итак, дорогая моя девочка, — сказала вдруг бабушка и Маша чуть не подавилась тортом, — что вы собираетесь нам поведать?
— Я?
— Да, вы!
Маша умоляюще взглянула на Бикулину.
— Что тебя интересует бабушка? — вздохнула Бикулина. — Спрашивай, Маша не обидится…
— Вы недавно переехали в наш дом? — спросила бабушка, и снова Маше почудилось прыганье в ее глазах.
— Уже две недели…
— А чем, простите, занимаются ваши родители? — бабушка отвела взгляд. Наверное, ей самой было стыдно, но не задать этот вопрос она не смогла.
— Папа архитектор, — ответила Маша, — а мама тоже архитектор, но сейчас она занимается интерьером.
— Так-так… — бабушка задумчиво смотрела на Машу. Бикулина молчала. И молчание языкастой, неугомонной Бикулины настораживало Машу. Ей казалось, что войдя в дом, Бикулина тотчас погасла, как лампочка, подчиняясь некоему заведенному порядку вещей. Нравится ли этот порядок Бикулине, не нравится — можно было только догадываться. Почему так равнодушна, дремотно спокойна Бикулина — великая мастерица ломать заведенные порядки? Не признающая никаких порядков, кроме тех, которые устанавливает сама! Здесь был какой-то секрет, и, возможно, брезжила та самая суть, которую настойчиво искала нынешняя осенняя Маша. Но тогдашняя, трехлетней давности весенняя Маша ничего не знала. И словно чертик дернул ее за язык:
— А вы сами, простите, — громко спросила Маша у бабушки, — чем занимаетесь? На пенсии?
Бабушкин взгляд сделался совершенно неподвижен, и Маше показалось, что она смотрит в глаза сове.
— Видишь ли, — медленно произнесла бабушка, — мне приходилось заниматься в жизни многими вещами, и вряд ли тебе будет интересно слушать перечень моих профессий… Поэтому я скажу только одно: я мать своего сына! И бабушка Юлии! Этого достаточно?
— Извините, пожалуйста… — Маша уткнулась в блюдце.
Бикулина хмуро молчала. Маша украдкой на нее взглянула, надеясь встретить в глазах Бикулины понимание и одобрение, но… пустыми были глаза Бикулины! «Ей все равно? — подумала Маша. — Или же она считает, что безумная бабушка права? Что она в своем уме, утверждая, что она мать своего сына?»
— Я сейчас вернусь… — Маша окончательно растерялась. — Пойду причешусь… — и выбежала в прихожую.
Овальное зеркало в мраморной оправе мрачно отражало стоящий напротив высокий черный шкаф. Маша заглянула в зеркало и удивилась, какое бледное у нее лицо, словно изморозь какая-то на нем появилась. Так удивительно преломлялся свет в прихожей. Сюда доносился вибрирующий бабушкин голос: «… только сейчас поняла, Юля, ты осталась в Москве, чтобы не мешать… много работать, чтобы вытащить эту одесскую команду по крайней мере в призеры… можно было сделать иначе… зачем драматизировать события… позорить отца… на дерево… не обезьяна, не разбойница из шайки Робин Гуда…»
— Маша! — закричала из кухни Бикулина.
— Иду! — Маша вернулась в кухню.
— Я думаю, тебе надо написать отцу письмо и объяснить свое поведение… — продолжала бабушка.
— Хорошо, я так и сделаю… — кивнула Бикулина.
— Кстати, милая моя девочка, — обратилась бабушка к Маше, — твой отец случайно не проектирует спортивные сооружения?
— Нет. Он занимается жилищным строительством.
— То есть строит эти ужасные бетонные коробки?
— Ему самому неприятно…
— Когда твой отец тренировал свою первую команду в Хацепетовке, — повернулась бабушка к Юле, — они каждый раз проигрывали, когда их вратарь защищал западные ворота. Потом выяснилось, что идиот-архитектор так спроектировал стадион, что солнце с семи до половины восьмого светило вратарю прямо в глаза и он пропускал голы… Правда, потом, — хитро сощурилась бабушка, — твой отец это разгадал и всегда старался, чтобы западные ворота в первом тайме достались противнику… У них даже были специальные монеты — с двух сторон — два орла или две решки. Какие бы ворота противник ни загадал, ему выходили западные! Кстати, девочки, — перестала смеяться бабушка, — пойдемте в комнату, я вам кое-что покажу… — голос ее сделался таинственным.
Прошли в комнату, где стену украшал макет футбольного поля, на нем крепились магнитные фигурки игроков.
— Я хочу сказать одну очень важную вещь, Юля, — прошептала бабушка и странно посмотрела на Машу, словно та могла оказаться предательницей. — Я долго думала и поняла, как нужно твоему отцу строить игру в одесской команде… — в глазах у бабушки вовсю прыгали черные мячики. Маше стало не по себе. — Длинный пас! Необходим длинный пас! — страстно продолжала бабушка. — Зачем эти бесполезные комбинации в центре поля, нужен длинный пас! Защитник перебрасывает мяч через центр поля сразу к нападающим, ты понимаешь, Юля! Ты напишешь об этом отцу?
— Хорошо, хорошо, напишу…
— Юля, это необходимо! Поклянись, что напишешь! Если я напишу, твоя дорогая мамочка разорвет письмо в клочки и отец ничего не узнает… Напишешь?
— Напишу-напишу… — Бикулина, как заколдованная, передвигала магнитные фигурки по полю.
Маша тихонько вышла в прихожую, щелкнула замком и оказалась на лестнице. Совсем стемнело, и две звезды дрожали в окне, как зрачки-мячики в глазах Бикулининой бабушки.
Спускаясь вниз, Маша думала: отчего Бикулина так строга к своим родителям и подругам? И почему ни разу во время диковинных бабушкиных речей усмешка не тронула уст Бикулины? Маша вспомнила, с каким трепетным уважением произнесла Бикулина слово «безумие»…
И впоследствии Маша замечала, стоило ей выразить радость по поводу хорошей погоды, полученной пятерки, похвалиться, что смотрела интересный фильм, — мрачнела, как туча, Бикулина, злые молнии сыпались из глаз. Почему-то нормальные человеческие радости были неприятны Бикулине. Но вот Маша рассказала про страшный сон, когда ей показалось среди ночи, что потоки темной крови хлещут с белого потолка и маленькая белая девочка с синими глазами раскачивается на люстре среди кровавых потоков — и… веселела Бикулина, брала нежно Машу под руку, уводила в укромный уголок и страстно выпытывала подробности безобразного сновидения. А Маше горько и больно было вспоминать гадкие детали.
— Бикулина хорошая, только странная, — сказала однажды Маше Рыба. — Она любит все такое… неестественное…
— Выходит, она… сумасшедшая? — шепотом спросила Маша.
— Что ты! — возразила Рыба. — Просто она странная.
— Почему же ты с ней дружишь?
— А ты? — спросила Рыба.
— Не знаю… — Маша поочередно представила в роли ближайших подруг всех девочек класса и поморщилась: такой пресной, неинтересной, скучной показалась дружба с ними.
— И я не знаю, — вздохнула Рыба, — дружу и все…
Разговор этот произошел много позже, когда все утряслось и отношения Бикулины, Маши и Рыбы стали напоминать треугольник с вечно меняющимися сторонами. Бикулина всегда была гипотенузой, Маша и Рыба изменчивыми катетами, поочередно приближающимися к строгой гипотенузе.
Пока же неотвратимо надвигалось что-то недоброе. Маша почувствовала это сразу после посещения Юлии-Бикулины и беседы с ее безумной бабушкой.
— Скажи, Бикулина, — тронула Маша подругу за руку, когда они шли вместе в школу и бойкий утренний ветерок неприятно холодил ноги под платьями. — Тебе… не страшно дома с бабушкой?
— А почему мне должно быть страшно? — подозрительно посмотрела на Машу Бикулина.
— И… не жалко родителей? Я бы вся изревелась, если бы мои родители уехали…
— Это даже хорошо, что я осталась в Москве, — засмеялась Бикулина, — папаша будет в Одессе команду лучше тренировать, чтобы побыстрее в Москву перебраться.
— А команда? — спросила Маша.
— Команда? Какая команда?
— Ну, которую он там тренирует…
— Что команда?
— Она же к нему привыкнет. Значит, к ним потом придет новый тренер?
Бикулина вдруг остановилась. Обошла вокруг Маши, внимательно ее разглядывая, словно редкостным чучелом была Маша.
— Никак не пойму, — засмеялась Бикулина, — дура ты или…
Маша почувствовала, что слезы наворачиваются на глаза.
— А ты сама, кто ты? — не выдержала она. — Почему нельзя с тобой нормально разговаривать? Кто ты такая?
— Сейчас узнаешь, кто я такая… — прошептала Бикулина, и не успела Маша моргнуть, как сильная Бикулинина рука уже терзала ее косу. Маша знала, что в таких случаях полагается давать сдачи. Об этом неоднократно говорил ей и отец, частенько наблюдавший из окна, как подружки шпыняли Машу, а та лишь беззвучно глотала слезы. «Нет, — вздыхал отец, когда обиженная Маша возвращалась домой, — не в меня ты пошла, в мамочку! Всегда надо давать сдачи, иначе затопчут!» — и уходил, и забывал про Машу. И она так и не научилась давать сдачи…
Когда злая Бикулинина рука терзала косу, Маша молчала. Только слезы дрожали в глазах, мешали видеть. Машина покорность еще пуще взбеленила Бикулину, и она вдобавок поддала ей под зад острой своей коленкой.
— Надоела, надоела, надоела ты мне! — приговаривала, орудуя коленкой, Бикулина. — Пошла, пошла, пошла вон!
Некоторое время Маша шла, ничего не видя и не слыша. Ветер согнал с лица слезы, и теперь слезы горячими каплями катились по щекам.
Маша пришла в класс, села за парту. Первым уроком была литература. Печальный бородатый Некрасов с портрета утешал Машу.
К концу урока Маша успокоилась, и когда прозвенел звонок, даже улыбнулась какой-то девочке, но та пробежала мимо. Маша вышла в коридор и оказалась одна, совершенно одна среди стремящихся куда-то мальчиков и девочек. Такого горького, непереносимого одиночества ей еще не приходилось испытывать. Неожиданно она поняла: «Был мир. В мире были Маша и ее подруга Бикулина. Теперь Бикулины нет. Мир разрушился». Пустота, пустота вокруг… Всем подряд улыбаясь, Маша шла по коридору, мучительно ища, к кому бы подойти, с кем заговорить. Маше казалось, что ее внезапное одиночество всем заметно, все смеются над ней! «Кто-нибудь, кто-нибудь…» — шептала Маша, но никому не было до нее дела. «Рыба! — вдруг словно лампочка вспыхнула в голове. — Рыба!» Маша почти плакала, обегая коридор, ища Рыбу. И она нашла ее… Рыба стояла у подоконника и весело смеялась… А рядом была… Юлия-Бикулина! С необычной ясностью, словно это было пять минут назад, Маша вспомнила, как они шли с Бикулиной по улице и Бикулина кричала Рыбе вслед разные обидные слова. Опустив голову, уходила от них Рыба, а Маша… Маша тайно радовалась этому! Потому что хотела дружить с Бикулиной одна, одна!
Зазвенел звонок. Перемена закончилась. Следующим уроком была физкультура. В вакууме, под стеклянным колпаком, куда не доходят ни слова, ни звуки, спустилась Маша на первый этаж в раздевалку. Там уже хихикали девочки, переодевались.
— Быстрей, быстрей давайте! — заглянула в раздевалку преподавательница.
Рыба и Юлия-Бикулина стояли у зарешеченного окна, о чем-то разговаривали. Весела была Бикулина, Рыба смотрела на нее с обожанием. «Как я когда-то…» — подумала грустно Маша. Ей вдруг страшно захотелось узнать, о чем говорят Бикулина и Рыба, и Маша было сделала к ним шаг-другой, но тут Бикулина резко обернулась. Маша остановилась. Взгляд Бикулины прошелся по ней, словно холодный душ. Но недолго смотрела Бикулина в глаза Маше. Ниже опустился ее взгляд…
— Глядите-ка, девочки! — крикнула Бикулина, и все обернулись. Тишина воцарилась в раздевалке. Бикулина медленно указала пальцем на Машу. Все перевели взгляд на Машу. В тонком гимнастическом костюмчике, озябшая, стояла Маша под этим всеобщим взором, и ужас прохладной рукой гладил ей сердце. Еще не знала Маша, что именно скажет Бикулина, но чувствовала — что-то ужасное. На фоне голубого зарешеченного окна стояла Бикулина. Белый голубь вольно кувыркался в небе, лохматый, как снежок на скорую руку. Странная мысль возникла: навсегда запомнится этот голубь, навсегда запомнится Бикулине на фоне голубого, зарешеченного — чтобы не разбили дворовые футболисты — окна. «Но неужели не отомщу?» — в тоске подумала Маша. И спроси злой какой-нибудь волшебник: «Хочешь, чтобы тотчас упала Бикулина замертво?» — «Хочу!» — не колебалась бы Маша. А пауза тем временем достигла высшей своей точки, и доли секунды оставались до того момента, когда все в недоумении переведут взгляд на Бикулину: что сказать хотела? Поэтому засмеялась Бикулина громко и ниже опустила указующую руку. — На ноги ее смотрите! Синяки! Новенькую-то нашу, оказывается, ремнем стегают!
Всеобщий хохот заплескался по раздевалке.
— Стегают, стегают! — кричали все кому не лень. — Ах ты, наша шалунишка, за что же тебя стегать, а?
— Неправда! — закричала Маша. — Это она! Это сегодня утром я с ней дралась!
Но не слушал никто. А одна девочка, вытащив из оставленного уборщицей в углу веника соломинку, уже бегала вокруг Маши, имитируя процесс порки. Маша схватила девочку за руку.
— Пусти, дура! — сказала та, но Маша уже успела заметить в ее глазах испуг и не отпустила. Первый раз в жизни Маша почувствовала себя злой и сильной, первый раз увидела, что кто-то ее боится. Едва успев осознать это, Маша забылась, растерялась, горячая волна зашумела в голове. Маша не знала, она это или не она хлещет девочку по щекам и всматривается, всматривается в испуганные, безумные глаза. Их растащили.
— Сумасшедшая!
— Дура!
— Кретинка ненормальная, шуток не понимаешь?
Слова эти вернули Машу к жизни. Белый лохматый голубь уже не кувыркался в голубом небе.
Снова тишина установилась в раздевалке. То на Машу, то на Бикулину смотрели девочки. Побитая тихо скулила в углу…
— Девочки! — вдруг сказала Юлия-Бикулина. — Это я виновата! Я наврала… Никто ее, конечно, не стегает… Действительно мы с ней утром немножко того… Да, Петрова?
И снова Маша почувствовала, что слезы закипают в глазах. Снова в третий раз за сегодняшний день приготовился поплыть окружающий мир.
— Бикулина ты… Ты… Бикулина…
Происходило невероятное! Маша в изумлении смотрела на ненавистную еще секунду назад Бикулину и чувствовала, что… готова простить ее! И это было необъяснимо! И это было легко, словно тяжелый слезный камень таял в душе и на чистых теплых склонах появлялась зелененькая травка. Маша чувствовала, как щекочет, как ласкает душу эта нежная травка прощения. А слезный камень тает, тает…
— Мир, Петрова? — спросила Бикулина.
Маша всхлипнула и выбежала из раздевалки.
И вот сейчас, спустя несколько лет, осенняя, умудренная, влюбленная в Семеркина Маша-девятиклассница смахнула слезы с глаз, вспомнив этот давний случай. «Позор! Позор… — стыдилась Маша саму себя. — Как же это получилось? Как же это получилось?» Она поравнялась с человеком в накинутом на плечи белом пальто — при ближайшем рассмотрении пальто оказалось накидкой — и в оранжевой феске. «Это турок!» — решила Маша. Табачный аромат мешался с кофейным. У турка были веселые, круглые, как у попугая, глаза и густые черные усы. Он что-то напевал вполголоса, но слова цеплялись за усы, и мотив нельзя было разобрать. Еще больше удивилась Маша, увидев у турка на животе золотую цепочку, опускающуюся в карман. Блеснула цепочка. Листья летали в воздухе парами, тройками и четверками. «Словно живые, — подумала Маша, — словно парочками и семьями гуляют…» Ей вдруг сделалось необыкновенно хорошо и весело. Бикулина, их долгие отношения показались точно такими же осенними листьями — пролетели, и нет их! Захотелось утвердить, упрочить эту независимость. И турок, пришелец из неведомого восточного мира дымящихся кальянов, благоухающих снадобий, строгих фесок и белых верблюжьих накидок, оказался как нельзя кстати.
— Извините! — сказала Маша.
— Да-а-а? — турок дружелюбно смотрел на Машу и словно два невидимых рукава реяли из белой накидки. Табачный и кофейный.
— У вас не найдется закурить?
— За-ку-рить? — удивленный турок вытащил изо рта трубку.
— Меня зовут Маша-ханум, — улыбнулась кокетливо Маша. — И мне бы очень хотелось сигарету, — засмеялась Маша, заметив в круглых глазах турка растерянность. Маша была хозяйкой разговора. Привольно чувствовала она себя в отличие от растерянного, смущенного турка. И это было приятно!
«Вот так-то, дорогая Бикулина! Не одна ты!» — Маша осеклась. Подражать Бикулине она совершенно не хотела.
— Меня там… — Маша неопределенно указала на далекие деревья, — парень ждет… Ему сигарету…
Турок ничего не понял, но закивал, заулыбался. Тоже заинтересованно посмотрел на далекие деревья, теряющие листья.
— Бери! — протянул Маше красивую пачку.
— Одну штучку! Незачем ему много курить! — Маша сделала книксен, которому ее научила Бикулина. (Опять Бикулина!) — Мерси!
Турок поклонился, пошел дальше.
Маше хотелось прыгать от радости. Все, все получалось, как она желала! «Семеркин, Семеркин! — подумала Маша. — Был бы ты рядом! Посмотрел бы!..» Сунула сигарету в карман плащика, пошла дальше.
Впервые простив Бикулину в раздевалке физкультурного зала, Маша не знала, что подобное чередование периодов нежной дружбы, охлаждений, обид и прощений станет основой ее и Бикулины отношений. Бикулина решала, когда переходить из одного состояния в другое. Однако, несмотря на предопределенность, была в каждом переходе и внезапность, когда каждой клеточкой души все заново переживала Маша, не чувствуя, что это когда-то уже было. Каждый раз Маша была абсолютно искренней в своих слезах, обидах и прощениях. Бикулина же была абсолютно искренней в своих оскорблениях и презрении. Но почему все из года в год повторялось? Что это за слепая лошадь ходила по заведенному кругу? «А может… Бикулина безумна?» — пугалась иногда Маша.
Но была еще Рыба. Красавица и художница Наташа Рыбина. Голубоглазая блондиночка, чей взгляд застенчиво скользил по всему окружающему и обретал ясность, только когда Рыба смотрела на белый лист бумаги. Рыба жила с родителями и двумя младшими братьями в пятиэтажном доме, в двухкомнатной квартире, где вечно царил гвалт, что-то постоянно грохалось на пол, где было тесно, но весело. У Бикулины дома можно было рассказывать страшные небылицы в скупом желтом круге лампы на железной ноге. У Бикулины дома можно было со страхом прислушиваться к легким, рассыпчатым шагам бабушки. «Это привидение, привидение…» — шептала Бикулина, выключала свет, и жуть охватывала. У Бикулины дома нельзя было говорить о нормальных житейских вещах! У Рыбы — наоборот. У Рыбы Маша чувствовала себя даже лучше, чем у себя дома. У Рыбы Маша забывала, что надо следить за каждым своим словом, каждую фразу сверять с зелеными глазами Бикулины, и если нет на этом зеленом индикаторе выражения удовлетворения, надо из кожи вон лезть, чтобы исправиться. Рассказать немедленно о женщине, которая якобы выбросилась из соседнего дома. Выбросилась, да неудачно: зацепилась платьем за балкон и повисла, и кричала дико и страшно… Короче говоря, у Бикулины Маше приходилось быть не такой, какая она есть, а хуже… У Рыбы же Маша была сама собой, может быть, даже лучше. Никогда не хватала Маша дома авоську, не летела в овощной за картошкой — у Рыбы пожалуйста! Не бросалась дома Маша мыть посуду после ужина — у Рыбы пожалуйста! А как любила Маша рассматривать рисунки Рыбы, которыми были завалены в квартире все подоконники? Все, как есть, было там изображено, но словно очищенное от ненужного. Маша перебирала рисунки, хор небесный звучал в душе. Такое же примерно чувство испытывала она, глядя из темной комнаты в звездное небо. Но «ночь — сестра души», как утверждала Юлия-Бикулина, а рисунки Рыбы Маша разглядывала при свете дня. Все, многократно виденное Машей, было на рисунках: дом, сквер, дуб, яблоня с вишней, старая скамейка на черной земле, но плакать хотелось, так они были прекрасны. «Вот так! — словно говорили дом, сквер, дуб, яблоня с вишней, старая скамейка на черной земле. — Мы прекрасны, потому что мы и есть жизнь! Мы — живые кирпичики, из которых складываются ваши души! Вот так!» А иногда вдруг ангел летучий возникал на рисунках — утренний, солнечный, сумеречный. И странным образом утренний ангел, несущийся сквозь облака в косых синих струях, напоминал Машу; солнечный, нежащийся на золотистых чешуйках — саму Рыбу, сумеречный — самый мрачный, короткостриженый и угловатый — Бикулину, в моменты просветления, когда закатом любовалась Бикулина из чердачного аквариумного окна или гуляла одиноко вечером в скверике.
— Как же так? — теребила Маша Рыбу. — Как же у тебя получаются такие рисунки?
— Не знаю, — смущалась Рыба, — сяду рисовать словно волна голубая куда-то несет…
Рисунки как бы возносили Рыбу над Машей и Бикулиной. Истинным солнечным ангелом, спустившимся с небесных сфер, казалась иногда Рыба. Закончив яростный спор или потасовку, Маша, готовая заплакать, и Бикулина, готовая растерзать Машу, переводили взгляд на Рыбу и… замирали, такое неземное спокойствие было в ее взгляде, такая мягкая углубленность сквозила в нем. Молчали Маша и Бикулина, дивясь Рыбе.
— О чем задумалась, дивчина? — дергала ее за руку Бикулина.
— Я вот не верю, что динозавры были уродами! — отвечала Рыба. — Не может этого быть!
— Плыви, плыви, Рыба, дальше… — вздыхала Бикулина.
Иногда, пообщавшись поочередно с Бикулиной и с Рыбой, Маша думала, что душа Бикулины — жестокий мир, где холодное синее самолетное небо. На недоступном горизонте белеют айсберги, над ними реет, раскинув крылья, какой-нибудь снежный альбатрос с маленькими глазами и с длинным острым клювом. Холодно, бесприютно в этом мире. Лишь изредка неведомая игра природы изменит его: заблестит все, засверкает, засияет — и кажется, будто теплее, вольнее стало, но… обман это! Все остается по-старому! У Рыбы же в душе пели птицы, цвели цветы. Добрые звери там бродили, взявшись за мохнатые лапы. Вечное солнце светило, но… не грело… Чуть теплое было, чтобы только-только отогреться. Нет, не нравился Маше и этот добрый мир! И добрый Рыбин дом, и сама добрая участливая Рыба были нужны Маше только после ослепительного холодного солнца Бикулины. Намаявшись, почернев в его ледяном, обжигающем ультрафиолете, находила Маша недолгий покой в теплом, добром мире Рыбы. Да, теплом, добром, но… равнодушном! Только вот рисунки Рыбы… Только они надолго запоминались Маше, а сама Рыба растворялась, таяла в слабом солнечном свете, и не будь Бикулины, не нужна была бы Маше Рыба…
Вот к каким умозаключениям пришла осенняя, гуляющая по Ленинским горам Маша.
Некоторые рисунки так нравились Маше, что она выпрашивала их у Рыбы на несколько дней и дома постоянно держала перед глазами. Однажды Машин отец обнаружил рисунки и тоже долго на них смотрел.
— Кто? — спросил. — Нарисовал?
— Рыба, — ответила Маша.
— Сколько ей лет?
— Сколько и мне.
— Она в художественной школе?
— Нет, в нашей.
Отец покачал головой, ушел куда-то. Потом вернулся, снова смотрел на рисунки.
— А ее родители, они что… Не понимают, что она, ну… — он зашевелил пальцами, подыскивая нужное слово, — очень способная? Что с ней уже все ясно? Что ей боженька уже дал работу — рисовать!
— Они ей не мешают… — пожала плечами Маша.
Итак, дружить с Рыбой было куда спокойнее, чем с Бикулиной. И иногда, намаявшись, Маша мечтала, что вот Бикулина куда-нибудь уедет, скажем, к отцу, который уже тренировал тбилисскую команду, и они останутся с Рыбой одни… О, как мечтала об этом Маша! Но странное дело, стоило действительно Бикулине уехать куда-нибудь на несколько дней или просто заболеть, как словно невидимая пружина лопалась — тоскливо, скучно становилось Маше и Рыбе. Оставшись одни, они бродили по улицам, смотрели какой-нибудь фильм, вздыхали, томились. К вечеру устремлялись на набережную, где Москва-река катила мутные волны, а небо над рекой катило красные волны. Маше и Рыбе не о чем было говорить! Они смотрели друг на друга удивленно, словно только что познакомились. Тоска… Время обретало иное измерение, минуты превращались в часы. Тоска поражала не только волю, но и мысли. Они ползали в голове, как сонные мухи. И Бикулина — злая, несправедливая, мстительница и оскорбительница — становилась неожиданно желанной!
— Эх! — обычно первой вздыхала Рыба. — Была бы Бикулина, она бы чего-нибудь придумала…
И действительно, стоило появиться Бикулине, жизнь обретала ускорение и непредсказуемость. В отсутствие Бикулины Маша могла с точностью до минут расписать свой день, свои дела. В присутствии Бикулины она не знала, что случится в следующую секунду. Куда повернет река событий? Куда ошалевшими конями кинутся мысли?
Гонять и укрощать этих коней Бикулина была большая мастерица. Бикулина настигала Машу и Рыбу в моменты тягучей тоски и ничегонеделания — подкрадывалась сзади, стукала их головами или же резко задирала Рыбе юбку и весело хохотала, как будто нет на свете ничего смешнее мелькнувших голубых Рыбиных трусиков и испуганного Рыбиного вскрика. Но Маша и Рыба все равно были рады Бикулине, заранее прощали ей неминуемые безобразия. Появилась Бикулина, значит, смерть тоске и унынию!
Маша шла теперь вдоль высоких каменных оград, над которыми шумели осенние деревья. Желтые листья устилали асфальтовую дорогу. Над деревьями в синем небе птицы собирались в стаи, и словно гигантское веретено вертелось в небе. Но как медленно летели стаи! Одинокие птицы — куда быстрее… Станция метро Ленинские горы должна была скоро показаться. «Интересно, где турок?» — подумала Маша, вспомнила про сигарету в кармане плащика. Курила до сего момента Маша один раз в жизни. Дома у Бикулины. Отец Бикулины увез вторую сборную страны на матч в Сенегал, мать Бикулины отсутствовала, а сигареты Бикулина вытащила из отцовского письменного стола.
Маша и Рыба набирали дым в рот и выпускали, Бикулина затягивалась и смотрела на подружек с некоторым презрением. Первого сентября курили, сразу после уроков. Накануне вечером Бикулина вернулась с дачи. Еще не успели толком поговорить.
Всем своим видом Бикулина показывала, что прожила на даче полную странностей и приключений жизнь. Затягивалась как курильщик с многолетним стажем и сначала выпускала немного дыма из ноздрей, а потом уже могучей струей выдыхала. С солнечным лучом сталкивалась табачная струя, дробилась, ломалась, превращалась в безвольное облако. В кресле сидела Бикулина, тонкими пальцами постукивала по подлокотнику. Кольцо с загадочным зеленым камнем было у Бикулины на пальце. Маша и Рыба неотрывно смотрели на кольцо.
— Подарок… — значительно молвила Бикулина. — Говорят, этот камень очень-очень гармонирует с моими глазами.
— Кто говорит? — спросила Рыба. Но Бикулина лишь повела бровью, показывая неуместность и несвоевременность этого вопроса.
Действительно, камень в кольце и глаза Бикулины находились в полной цветовой гармонии. Бикулина по-прежнему курила и молчала. И Маша с Рыбой молчали, глядя на Бикулину. И вот уже почти священный трепет испытывали они. Не Бикулина сидела перед ними, а мудрая зеленоглазая красавица, чуть утомленная, чуть разочарованная, с некоторой даже скукой глядящая в будущее. Ибо есть, есть ей что вспомнить! Есть от чего заломить по-цыгански руки за голову и повести томно плечами. Есть от чего улыбнуться небрежно, взглянув на несмышленышей-одноклассников. Есть, есть! Такой образ лепила Бикулина, а Маша с Рыбой принимали на веру все образы Бикулины.
Бикулина тем временем сняла с пальца кольцо, посмотрела сквозь камень на свет, протянула Маше. Маша тоже посмотрела сквозь камень на свет и изумилась… Пропало все, только многокрасочная зелень — ломаная-переломаная, глубокая-преглубокая потекла в глаза. И вот уже сама Маша светлым солнечным пятнышком скользнула внутрь зелени, где ни конца ни края — упругие волны, пульсирующая бахрома…
— Вот это да! — выдохнула Маша, протянула кольцо Рыбе.
— С ума сойти! — выдохнула Рыба, вернула кольцо Бикулине.
— Какое лето было, — потянулась по-кошачьи Бикулина, — ах, какое было лето…
Маша и Рыба облизали сухие губы, ожидая услышать дальнейшее. Но Бикулина пока не была склонна предаваться воспоминаниям.
— А ты, Рыба, — спросила она, — у тебя, Рыба, есть что вспомнить? — Бикулина особенно выделила «есть» и «что».
Рыба опустила глаза, зарумянилась. Необычайно похорошела Рыба за лето. Не ресницы, казалось, у нее — одуванчиковый пух. Глаза не просто голубели — цвели. Светлые волосы лежали на плечах латунными кольцами. Ноги стали длиннее. Плечи округлились. Много, много изменений обнаружили подруги в Рыбе. Бикулина изредка бросала взгляд в зеркало, словно сравнивая себя с Рыбой, и было неясно, довольна ли Бикулина сравнением…
— Я много рисовала… сказала Рыба, погасив недокуренную сигарету. — И еще я… целовалась с одним мальчиком!
— Сколько раз? — подалась вперед Бикулина.
— Один раз…
— Где?
— Мы вместе рисовали на веранде…
— Как это случилось?
— Он тоже перешел в девятый… Мы рисовали на веранде… Он подошел сзади, смотрел, смотрел, а потом… положил руки на плечи. Я обернулась, а он… поцеловал…
— И что дальше?
— Он убежал. Сказал, что сейчас придет, и не пришел…
— А потом ты его видела?
— Видела.
— И что он?
— Ничего, — пожала плечами Рыба, — он скоро уехал…
— Ты, конечно, ходила его провожать? — усмехнулась Бикулина.
— Нет!
— Врешь, врешь! — захлопала в ладоши Бикулина. — Врунишка ты, врунишка! Хочешь расскажу, как было дальше?
— Как ты можешь рассказать, тебя же там не было!
— Он уехал… На чем он уехал: на автобусе, на электричке?
— На автобусе. Но какое тебе…
— На автобусе! — перебила Бикулина. — На автобусе! А ты всю ночь не спала, ходила, наверное, по садику, ждала, что он придет, да? А он не пришел… Ты совсем с ума сошла, побежала к его дому, а там все окна погашены, дрыхнут все… Ты походила, походила, может, даже камешек ему бросила в окошко, да, Рыба? Но он не вышел… Ты пошла домой, проплакала до утра, а утречком рано-рано вдоль забора тихо-тихо на остановку, да? И спряталась где-нибудь под кустом, чтобы он тебя не видел… Он пришел на остановку, автобус подъехал… Он в автобус садится, а ты дрожишь, не дышишь… Оглядывался он хоть, искал тебя глазами, Рыба? Или… нет?
Рыба кусала губы.
— Слезок-то много, а, Рыба, пролила? — хохотала Бикулина. Странный приступ веселья на нее напал.
Рыба встала.
— Рыбка моя, я же шучу! Откуда я знаю, как было? А ты уж обиделась… — нежно прижалась к Рыбе Бикулина, в глаза заглянула, спросила участливо, как мать: — Отгадала я, да?
Рыба кивнула. Слезы уже блестели у нее в глазах, но пушистые ресницы не позволяли им скатиться. Совсем как маленькая девочка кивнула Рыба, когда мамочка отгадывает причину обиды.
— Ну, не плачь, не плачь, Рыбка, — обняла подругу Бикулина, — не стоит тот дурачок твоих слез… Невелика птица… Ты всемирной художницей станешь, этот дурачок всем хвалиться будет, что когда-то тебя целовал… А ты плачешь?..
«Боже мой! — подумала Маша. — Неужели она утешает ее искренне? Неужели не последует никакого обмана? Боже мой, как изменилась Бикулина!»
Осторожно, чтобы не насторожить, не спугнуть, взглянула Маша Бикулине в глаза и отпрянула! Злой смех плескался в глазах! Всей душой, всей кожей Маша почувствовала: то, что было, — цветочки, грядут ягодки! Затаилась… «Что будет? Что будет?» — словно лихорадка била Машу. А Рыба тем временем вытерла слезы и обняла доверчиво Бикулину, положив красивую свою голову на ее острое плечо.
«Не верь! Не верь!» — хотелось крикнуть Маше, но она промолчала.
Мгновенно отгадав Машино настроение, Бикулина поднялась с кресла, подошла к ней. Словно диковинный камень в кольце переливался Бикулинин взгляд. И были-таки в нем и искренность, и смущение, и даже искорки доброты мерцали, но все это постепенно заволокла муть, куда, как в болотную тину, смотри не смотри — ничего не увидишь. И такой обволакивающей была тинистая муть, что привычное шоковое смятение ощутила Маша, после которого наступал обычно паралич воли и Бикулина праздновала очередную (сотую, тысячную?) победу.
На этот раз страшным усилием Маша не отвела взгляд, не склонила голову, не дала разлиться в себе вязкому безволию. Бикулина почувствовала сопротивление, и не злость, но задумчивость появилась у нее в глазах. На потускневший мельхиоровый кубок уставилась Бикулина, где были выгравированы торжественные слова, а на крышке размахнул ногу в лихом ударе стриженный под полубокс футболист в длинных, словно надутых воздухом трусах. И Маша повела свой непобежденный взгляд по стенам и полочкам, и остановила его на фарфоровой статуэтке, которая ей очень нравилась. Молоденькая девушка в пышной юбке, склонившись, завязывала башмачок. Всякий раз, приходя к Бикулине, Маша ласкала рукой девушку, дивясь ее гладкости, тончайшим складочкам на красной юбке, миниатюрному голубому башмачку — на нем при желании можно было разглядеть золотистые пряжечки. Из Голландии или из Дании привез статуэтку Бикулинин отец, и, беря ее в руки, Маша огорчалась, что непочтительно относится к статуэтке Бикулина, что вечно задвинута она куда-нибудь в неподобающее ее красоте место — за черную вьетнамскую вазу или прямо под копье угрюмого деревянного Дон-Кихота, которому все равно было кого разить — вазу или девушку. Вот и сейчас Маша нежно сняла с полки старую знакомую, смахнула пальцами пыль и ощутила, как сразу потеплела девушка, как ярче заиграли на ней краски, блеснула на голубом башмачке золотистая пряжечка…
— Когда у тебя день рождения, Петрова? — услышала Маша голос Бикулины. — Я что-то забыла.
— В августе…
— В августе, — повторила Бикулина, — когда с неба падают звезды, а с яблонь яблоки… Помнишь Рыбину картинку?
Маша помнила. Черное небо в звездной пыли, а около яблони смутная фигура в светлом плаще. Земля под яблоней в белых точках упавших яблок.
— Что-то упавшие яблоки у тебя на кнопочки баянные похожи, — сказала, впервые увидев картинку, Бикулина.
— Ну и правильно, — ответила Рыба, — на небе звезды — кнопочки, на земле — все, что угодно… Да хоть яблоки! А кто играет на баяне — неизвестно!
— Как же так, неизвестно? — удивилась Бикулина.
— Было бы известно, люди бы другими были, — ответила Рыба.
— Что-то я тебя не понимаю…
Рыба пожала плечами.
— Поймешь. Придет время, поймешь! — ответила дерзко.
Бикулина, однако, не обиделась. Она любила философские споры.
— А вот эта особа? — кивнула Бикулина на фигуру в светлом плаще. — Она разве не играет?
— Эта особа не играет, — засмеялась Рыба. — Эта особа сама есть мелодия…
— То есть, ее играют? Кто-то неведомый, значит, знает ноты и шпарит по ним нашу единственную жизнь? Небо, звезды, яблони — весь мир в этой мелодии, а мы в ней — ниточки-крохотулечки… Пискнули — и нет нас, так, Рыба?
— В общем, так… Но… не совсем так… От человека все зависит… Какой он есть… Небо, звезды, яблони — они не слышат, у них немая душа! А человек может слышать, а может и не слышать! Значит, он не просто нотка!
— Кто же он? — усмехнулась Рыба. — Композитор?
— А ты не думай об этом, Бикулина… — сказала тихо Рыба. — Не думай, легче будет…
— Хорошо, Рыбочка… — зловеще протянула Бикулина.
Так ничем и закончился их спор. Рыба осталась при своей правде, Бикулина при своем сомнении.
— Значит, в августе день рождения… — повторила Бикулина. — Я тебе дарю эту статуэтку! Возьмешь, Петрова?
— Что-что?
— Бери, говорю, статуэтку!
— Нет! — испугалась Маша. Быстро поставила девушку на место.
— Если не возьмешь, разобью! — Бикулина схватила статуэтку, занесла руку.
Скажи Маша «нет», тут же битый фарфор покатился бы по полу — в этом можно было не сомневаться.
— Спасибо, спасибо, Бикулиночка! — Маша поцеловала подругу. — Но я боюсь…
— Чего боишься? — нахмурилась Бикулина.
— Она же ценная! Чего ты родителям скажешь?
— Скажу, пыль вытирала, разбила! В конце концов это мое дело!
Снова несколько секунд смотрели они друг другу в глаза. Чуть не расплакалась Маша. Такими глупыми, лишенными всяких оснований показались ей недавние мысли. Что, что смела думать она о ближайшей своей подруге? О бескорыстной, благородной Бикулине? Маше было горько и стыдно. Хотелось немедленно признаться, чтобы избавиться, очиститься от недавних нечестивых мыслей.
Бикулина мечтательно сидела в кресле, не смотрела на Машу. Рассеянно крутила вокруг пальца кольцо.
— Бикулина! — сказала Маша.
Бикулина и Рыба посмотрели на Машу.
— Я хочу рассказать… — с невероятной отчетливостью Маша представила, что именно она хочет рассказать, и… замолчала. Внезапно почувствовала: нет, нет на свете для этого слов! Нет! Рыба, о да! Ты могла без всяких слов нарисовать падающие звезды и падающие яблоки, и саму себя в светлом плаще под яблоней — мыслящую нотку в непрерывно звучащей, сотрясающей небо, землю и душу симфонии. Маша этого не могла. Она знала, что чувства богаче слов, а ей было страшно, что все пережитое в недавний августовский шестнадцатый день рождения так и останется навсегда в ней, только в ней, в ней одной! Все останется! Но… никто не узнает!
… Солнечное утро, когда она проснулась рано-рано на веранде и увидела, что гладиолусы смотрят на нее белыми глазами.
И радость, и ликование, и легкая горечь… Последние слезы детства — чистые и незамутненные рано-рано утром — в последний раз! В последний раз! Сегодня ей исполняется шестнадцать лет… Последние слезы детства… Белые глаза гладиолусов…
И ранний завтрак, когда о дне рождения не говорили, но Маша чувствовала, чувствовала особенное к себе внимание — и в том, как мама подкладывала ей в тарелку салат, а отец с дедом многозначительно и весело переглядывались и шептались о чем-то. Маша прекрасно знала — они шепчутся о подарке. После завтрака она ушла в лес, и деревья шумели, и облака опустились ниже, и солнце то появлялось, то пропадало. Казалось, обычная была прогулка, но она не была обычной! Никогда, никогда еще не видела Маша все вокруг с такой безжалостной ясностью: каждый листок открывал ей душу, каждая пролетающая бабочка — свою родословную, от личинки до белых крылышек. И мох, на который она наступала, был не просто мох, а мох, выросший на опавших листьях, старших братьях тех, что сейчас так весело шумят на ветру, так бесстрашно смотрят в сумрачные глаза природы. А потом были подарки, и стол в саду, и тосты говорили веселые и чуть-чуть грустные. Шампанское, играя пузырьками, открыло Маше свою первую истину… Фужер шампанского, и не давит душу безжалостная ясность. Печаль — пепельная птица уносит взгляд, как серебряную ложечку, за горизонт, а за горизонтом весь мир — родной дом пепельной птицы. Серебряные ложечки там, как опавшие листья… Но не долго удалось посидеть за столом в саду. Дождь хлынул, холодный дождь — пограничник между летом и осенью. Чистая вода, как слезы, побежала по веткам, белые гладиолусы рыдали, яблони роняли яблоки на мокрую траву. Перебрались на веранду. Шампанское открыло Маше вторую истину. Сделав круг, погостив за горизонтом, возвращается пепельная птица, садится на плечо и шепчет, шепчет… И мать, и дед, и отец на секунду стали не самыми близкими и родными людьми, а людьми вообще, и, словно чужая, увидела Маша, что каждый из них по-своему печален, и поняла Маша: есть у них для этого причины! Но нельзя давать пепельной птице засиживаться у себя на плече! Такой была третья истина. Надо птицу прогнать и задуматься: а почему, собственно, они печальны? Но… не задумалась Маша…
А потом настал самый удивительный момент: все разошлись, Маша осталась на веранде одна. Одна, а перед ней сплошная стена дождя и мокрый сад, ворчащий, как пес. И своего дачного соседа увидела неожиданно Маша — высокого, светленького ровесника. Бросив велосипед, стоял он за забором, не обращая внимания на дождь, и капли стекали по его лицу. Их взгляды неожиданно встретились — и неведомая энергия, вобравшая в себя и дом, и сад, и веранду, и дождь, и шампанское, и мокнущие гладиолусы — все на свете в себя вобравшая, включая Машу и соседа-ровесника, молнией метнулась между ними, и словно обугленной почувствовала себя Маша. Отвернулась в страхе. Сосед медленно поднял с земли велосипед и пошел, пошел по траве, не оглядываясь… Дождь то стихал, то припускал с новой силой. Не соображая, что делает, спустилась Маша с крыльца, обошла дом и остановилась около куста смородины. Черные ягоды дрожали на кусте. Прозрачные ягоды-капли дрожали на кусте. У Маши закружилась голова. Она закрыла глаза, и… уже не куст смородины был перед ней! Но что? Что? Или… кто? Мокрый смородиновый листик прикоснулся к Машиным губам… О какой это был сладостный поцелуй! В нем не было страха! Маша открыла глаза. Куст дрожал перед лицом. Как много листиков на кусте! Но какой, какой поцеловал ее? Как много их… А дождь не прекращался. Маша совершенно промокла. Смородиновый куст тоже промок. Странно было Маше смотреть на этот куст, неотличимый от других. Но Маша отныне собиралась его отличать! А через секунду уже хотела забыть про него! А через секунду опять смотрела на него с изумлением. «Маша! Где ты?» — раздался с веранды голос мамы. «Я здесь!» Маша вернулась в дом.
Вот об этом-то обо всем и собралась Маша рассказать Бикулине и Рыбе. Уже произнесла роковое: «Я хочу рассказать…» — и замерла под любопытными взорами подруг. «Я сумасшедшая! — подумала Маша. — Хочу рассказать, как целовалась со смородиновым кустом! Я сумасшедшая!» Что-то гладкое и теплое ласкало руку. Маша увидела статуэтку — девушку-голландку или датчанку, склонившуюся над башмачком.
— Ах ты, предательница! — пробормотала Маша. — Из-за тебя, из-за тебя… Я чуть не…
— Что ты хочешь рассказать? — услышала Маша голос Бикулины.
— Ничего! Ничего! — ответила быстро.
— А нам кажется, — сказала Бикулина. — ты что-то хочешь рассказать, но боишься… Правда, Рыба?
Рыба промолчала.
— Тебе страшно за себя или за нас? — спросила Бикулина.
— Как это? — не поняла Маша.
— Тебе страшно от того, что с тобой было или что мы вдруг кому-нибудь про это расскажем?
— Отстань, Бикулина, — устало сказала Маша. — Ничего не было… Я ни с кем не целовалась…
— Не мучай статуэтку! — сказала снисходительно Бикулина.
Маша испуганно поставила статуэтку на стол. Проклятая тина безволия все-тики сковала душу! Снова все на свете смешалось. Снова властвовали магические зеленые глаза Бикулины. Но… не до конца властвовали! В пол, под ноги себе смотрела Маша. «Все нормально! Все нормально… — успокаивала себя. — Я не отдала ей смородиновый куст! Не отдала! И никогда не отдам, потому что это мое! Это первое «мое»! И я не отдам его Бикулине! Даже в обмен на чудесную статуэтку!»
А Бикулине, казалось, уже не было дела до Маши, до ее невыясненных секретов. Опять повертела Бикулина вокруг пальца волшебное кольцо, опять мечтательной откинулась в кресло…
— Это было вчера ночью… — тихо сказала Бикулина, и Маша с Рыбой подались навстречу, забыв про все. Столько сдерживаемой страсти и отваги прозвучало в первой фразе Бикулины. И куст, смородиновый куст с дрожащими каплями дождя на веточках показался Маше смехотворным. — Итак, это было вчера ночью… — повторила Бикулина. — Мы уезжали со спортивной базы. Было около девяти, а машина все не приходила. Отец ушел на площадь встречать. Вдруг прислали нового шофера, а он не знает, как проехать к базе. Ушел и пропал… Нет и нет его… Я ходила-ходила, ждала-ждала. Даже на лодке чуть-чуть покаталась. Уже звезды появились на небе, а отца с машиной все нет! Я вышла из лодки, решила, что тоже пойду на площадь. А если разминемся, то пока иду по лесу, услышу, машина едет — дорога-то рядом! — и сама вернусь. В общем, пошла… Я по этому лесу ночью тысячу раз ходила и ничего, а тут прошла десять шагов и испугалась. Стою, и ну ни шагу не могу сделать! А тут еще сова противно закричала. Как будто горло ей перерезали. И темнота кругом… Как на Рыбиной картинке, где звезды и яблоки падают. Но в лесу-то деревья высокие, пока звезды разглядишь… А луна только-только поднимается. В общем, жутко. Все равно иду… Иду, сердце колотится, ноги как ватные. А идти надо метров пятьсот. Днем-то за три минуты пробегала, а сейчас… На середине дорожка чуть сворачивает. Дошла. И вдруг слышу — сзади шаги такие торопливые! Легко так кто-то сзади бежит… «Неужели, — думаю, — футболист какой-нибудь ночью разминается?» А шаги все ближе, ближе… Я оглянулась. Что-то белое за деревьями мелькает. А что, не разобрать! Побежала. Метров десять пробежала, упала… Больно так. Встала чуть живая. Не могу бежать. Нога болит. А шаги все ближе… Вдруг голос слышу. Симпатичный довольно мужской голос:
— Вы ушиблись?
— Да, — отвечаю, — и из-за вас, между прочим, ушиблась…
— Почему же, — смеется, — из-за меня? Я ведь вас не толкал, на ноги вам не наступал. Я еще вас даже толком не рассмотрел…
Совсем близко подошел. Лет тридцать ему. Худощавый такой, стройный, в белом полотняном костюме. Волосы темные, волнистые. На иностранного артиста похож. Ну точно, не нашего вида человек. И глаза в темноте блестят, как у кошки. Только вот руки у него какие-то странные. Пальцы все время, как червяки, шевелятся. Странный мужчина. И улыбка странная. Губы улыбаются, а глаза блестят, и все! Не поймешь: искренне улыбается или нет?
— Ага, — говорит, — вижу, вы хромаете? Не соблаговолите ли опереться на мою руку? — и подставляет локоть.
Что ж делать, соблаговоляю. Медленно идем. Страшно мне.
— Почему же вы меня так испугались? — вдруг спрашивает. — Неужели я такой урод?
— Я вас не видела, — отвечаю, — поэтому и испугалась. Откуда я знаю, кто сзади бежит? Вдруг какой-нибудь бандит и убийца?
Он смеется.
— Ну а сейчас, — говорит, — уже не боитесь?
— Не боюсь… Вы… хороший человек… — А самой еще страшнее. Шаги считаю. Но как назло, медленно идем! Метров триста еще до площадки.
— Это верно, — говорит он как-то странно, — я хороший человек… Знаете ли, жена от меня без ума!
Я молчу. Какое мне до его жены дело?
— Почему вы на меня так странно смотрите? — вдруг спрашивает.
— Я не на вас, а под ноги смотрю. У вас бы так нога болела, — отвечаю, — не знаю, куда бы вы смотрели.
— Сколько вам лет? — вдруг спрашивает и улыбается.
— Шестнадцать. А что?
— Шестнадцать… — мечтательно повторяет. — Знаете, шестнадцать лет — прекрасный возраст. Потом — сплошное разочарование. Как бы я хотел, чтобы мне всегда было шестнадцать!
— Увы, — говорю, — это невозможно…
— Почему, — спрашивает, — невозможно? Просто мне надо было умереть в шестнадцать лет, вот и все!
Свет наконец вдали показался. Площадь, станция. И стук колес. Электричка идет. Я смотрю: где отец? Не вижу. Вздохнула…
— Почему вздыхаете? — спрашивает.
— Я вас боюсь! — говорю и прямо ему в глаза смотрю. И он смотрит.
— Поразительно, — говорит, — у нас с вами одинаковые глаза. У вас зеленые, и у меня тоже… Что это значит?
— Не знаю…
— Люди с зелеными глазами не должны друг друга бояться! — смеется, достает из кармана кольцо. — Вот, возьмите на память…
Я беру. Даже если бы дохлую мышь подарил, все равно бы взяла. Вышли на площадь, на станцию. У меня от сердца отлегло. Электричка подходит.
— Жаль, — говорит он, — что я спешу. Надо ехать. Я бы еще с удовольствием с вами поговорил…
Электричка уже под мостом. «Господи, — думаю, — хоть бы уехал этот человек!» А он говорит:
— Я подарил вам кольцо… Согласитесь, значит, и я вправе от вас кое-что потребовать?
— Да, — говорю.
— В таком случае, — совсем близко подходит, руки кладет мне на шею. Гладит. — Какая гладкая у вас кожа… И синяя жилка пульсирует, я бы сказал, трепетно…
Молчу в ужасе.
— Я вас поцелую! — говорит. Наклоняется и целует… Я думала умру, так крепко поцеловал. Отпустил. — Теперь вы меня поцелуйте на прощание… Ну!
Я закрыла глаза, чмокнула его в щеку.
— Что ж, — говорит, — и на этом спасибо… — и побежал по мосту. Вскочил в электричку. Рукой мне помахал. Я быстрей на площадь. Бегаю, отца ищу. Нашла наконец. И машина сразу подъехала. Вернулись на базу. Только вышли, мать ко мне бросается. Обнимает, целует, плачет, словно год не виделись. И люди какие-то незнакомые по базе снуют. Ко мне подходит один.
— Вам не встречался случайно в лесу молодой человек в светлом костюме?
— Встречался, — отвечаю, — а что?
— Где вы его видели?
— Я с ним вместе по лесу шла, — говорю, — а потом он уехал на электричке.
— Когда?
— Минут пять назад. А что такое? Объясните мне!
Не объясняют, в машину бросаются. Потом тот, который со мной говорил, пальцем манит. Подошла…
— Девочка, маленькая моя, — говорит, — ты в рубашке родилась… Человек, которого ты встретила, опасный маньяк, убийца. Два дня назад он сбежал из клиники, а час назад задушил свою бывшую жену — она жила здесь неподалеку — и скрылся… Но ты не волнуйся, девочка, мы его поймаем… — руку протянул. Я думала, попрощаться хочет, а он вдруг за ухо меня как схватит! — Не ходи, не ходи ночью одна по лесу! — крутит ухо. И уехали…
Молчание воцарилось в комнате. Бикулина вертела на пальце кольцо. Маша и Рыба в изумлении на нее смотрели.
— Чай будем пить? — спросила Бикулина.
— Чай… — растерялись Маша и Рыба.
— Чего вы волнуетесь, дурочки, — засмеялась Бикулина, — его же поймали!
— Откуда ты знаешь? — спросила Рыба.
— Сегодня утром по радио объявляли!
Пошли пить чай.
— И… ты будешь носить это кольцо? — Рыба неизвестно почему начала заикаться.
— Не знаю… — Бикулина сняла кольцо, положила на ладонь.
— Дай! — попросила Рыба.
Бикулина протянула кольцо.
Рыба долго рассматривала его на свет. Сосредоточенной и очень строгой казалась Рыба.
Маша пила в оцепенении чай. А на улице уже смеркалось. На улице — веселые голоса и стук перекатываемой по асфальту жестянки. Собачий лай и музыка из какого-то окна. Маша допила чай, походила по кухне. Выглянула в Бикулинино окно. Семеркин! Семеркин ходил по скверику, а Зюч мелким черным бесом сновал в кустах, все обнюхивая, всему придавая значение. И Маше захотелось немедленно уйти из этого дома, где бабушка легко порхает, протирая без конца фотографии команд-чемпионов, в которых играл когда-то ее сын, а фотографию жены сына, изящной лучницы, не протирает, где скупой желтый круг лампы на железной ноге высвечивает семейное безумие, где мебель черна и сурова, где страшные рожи скалятся с ковра, где Бикулина сидит на кухне, пьет чай, а над зеленым кольцом витает незримая тень убийцы в белом костюме…
К спасительному окну приникла Маша. «Семеркин! — с неизъяснимой нежностью подумала она. — Семеркин, сейчас я уйду отсюда! Семеркин, подожди меня!»
Маша пошла в прихожую.
— И мне пора, — встала из-за стола Рыба.
Молчание грозно повисло в прихожей. Маша и Рыба мялись около двери. Бикулина недобро на них смотрела.
Маша щелкнула замком, распахнула дверь…
— Бикулина! — сказала Рыба. — А ведь ты все наврала! Я вспомнила! Был такой французский фильм! И книга! Ты все наврала!
Однако не смутилась, не застыдилась Бикулина.
— А вы, дурочки, поверили! — захохотала. — Конечно, наврала! А вы перепугались! Что мне, уже и пошутить нельзя? — взгляд Бикулины остановился на Маше. — Беги, беги, Петрова! А то опоздаешь…
— Куда опоздаю? — деревянным голосом уточнила Маша, всей душой сознавая, что уточнять не следует.
— Уйдет Семеркин!
Маша отступила в сумрак прихожей. Теперь и Рыба смотрела на нее с любопытством.
— Семеркин? — спросила Рыба. — Откуда взялся Семеркин?
— Это ты спроси у Петровой! — захохотала Бикулина и захлопнула дверь.
Маша и Рыба молча спускались с лестницы. Вышли из подъезда. Семеркин их увидел, приветливо помахал рукой. Стиснув зубы, Маша прошла мимо…
С этого момента началось новое, причиняющее Маше не меньшую боль раздвоение. Второе «свое» появилось у Маши — Семеркин. Но если первое «свое» — смородиновый куст — было неведомо Бикулине, то про второе она догадывалась и мучила Машу как хотела. Каждый раз в светлую реку Машиных мыслей о Семеркине вливалась черная струйка горечи. Семеркин был солнцем. Бикулина злой тенью. И Маша ненавидела Бикулину…
Сейчас, сидя на уроке географии, глядя на карту полушарий Земли, Маша припомнила, что вчера именно среди осенних аллей Воробьевского шоссе, когда она сидела на скамейке, вертела в руке ароматную турецкую сигарету, к ней впервые пришло удивительное чувство освобожденности, словно вдруг что-то сдвинулось в мире вокруг и в самой Маше. Это можно было сравнить с маленьким землетрясением или с началом таяния ледника, когда рушится ледяная твердь и солнечный луч впервые ласкает освобожденную землю. Маше даже показалось, что лед сдавил ей грудь, стало трудно дышать. Но это был последний холод! «Бикулина! Бикулина!» — произнесла Маша и… не почувствовала прежнего трепета! Ледник таял! Освобожденная земля не признавала Бикулину! «Семеркин! Семеркин!» — прошептала Маша, чувствуя, что нет более в светлой реке черной струйки горечи. «Что же произошло?» — в изумлении смотрела Маша по сторонам. Осеннее Воробьевское шоссе простиралось перед ней, но сама Маша стала иной! Бикулина больше не сковывала ледником душу, Бикулина больше не сидела ледяной занозой в каждой мысли! Маша без жалости сломала турецкую сигарету, выбросила. «Зачем я курила первого сентября у Бикулины дома? — подумала Маша. — Ведь это так неприятно…» Раздвоение кончилось.
Маша представила себе, что вот Семеркин ходит по двору с Зючом, а она подходит к нему, заговаривает… И Бикулина это видит! Взрыва боли, отчаянья в душе ждала Маша, но… осталась совершенно спокойной. Бикулина была более над ней не властна. Словно сухая ветка отвалилась, а дерево спокойно продолжало расти дальше. И Маша спокойно шла по Воробьевскому шоссе, и ясен был ее взгляд. «Хочется ли мне немедленно встретить Бикулину, чтобы она поняла, почувствовала, какой я стала?» — подумала Маша. И совершенно спокойно ответила себе, что ей все равно, когда она встретит Бикулину: немедленно, завтра или через неделю. Потому что происшедшее — необратимо! «Я свободна! Свободна! Теперь я сама решаю все» — Маша шла по Воробьевскому шоссе, забыв про усталость и про время.
Маша вернулась домой под вечер. Шумел великан-дуб, роняя листья, просеивая сквозь растопыренные ветки звезды. Яблоня и вишня поджимали ветки, словно обиженные собачки хвостики. Раньше почему-то Маша всегда обращала внимание на робких вишню и яблоню, теперь же дуб-великан стал ей мил, и долго Маша стояла под дубом, слушая, как гудит в стволе ветер, глядя, как прыгают в ветках смертного дуба бессмертные звезды. «И человек, — подумала Маша, — должен вот так… Как смертное дерево носить в себе бессмертные звезды…» И дальше пошла, узнавая и не узнавая все вокруг. Двор стал меньше, дом ниже, синие вечерние просветы между корпусами совсем узенькими. А вот и круглое окно-аквариум, пленявшее когда-то давно Машу закатными картинами. Из этого окна ступала Бикулина на дорожку, шириной в кирпич, ведущую на крышу, а у Маши сердце обмирало, и бесстрашной Афиной-Палладой казалась ей зеленоглазая Бикулина. Давненько, давненько не была Маша на чердаке… Маша остановилась в задумчивости перед входом на черную лестницу. Минута — и Маша была бы на чердаке! Еще минута — и Маша шла бы кирпичной дорожкой на крышу, а потом обратно. И ветер бы трепал серый плащик… «Зачем? — подумала Маша. — Зачем почитать чужое безрассудство за собственную слабость? Зачем?» — и оглянулась на дуб, ища поддержки. Дуб согласно кивнул ветвями.
Дома никого не было. На столе Маша обнаружила записку: «Ушли в кино!» Внизу отец нарисовал себя и маму, нежно обнимающихся на последнем ряду. Маша вспомнила, что ничего с утра не ела, и пошла на кухню. Но в этот момент зазвонил телефон, пришлось вернуться.
— Здравствуй, Петрова! — услышала Маша голос Бикулины. — Прогуливаем, да?
— Прогуливаем, — зевнула Маша.
— А с кем?
— В одиночестве…
— В одиночестве… — протянула Бикулина. — Но в мыслях? Кто в мыслях?
— Семеркин, — спокойно ответила Маша, — но главным образом ты!
— Семеркин? Я? — Бикулина растерялась. Как охотник, который долгие дни и ночи караулил зверя, а зверь вдруг неожиданно подходит сзади, кладет на плечи лапы.
— Кстати, Бикулина, — сказала Маша. — Ты алгебру сделала?
— Сделала.
— Вынеси-ка завтра списать в беседку, ладно?
— В восемь ноль-ноль… — новые, незнакомые нотки звучали в голосе Бикулины, но Маше лень было размышлять, что это: презрение, уважение или удивление.
Пауза.
— Ладно, Бикулина… Спасибо, что позвонила. А сейчас я устала. До завтра… — Маша повесила трубку. И легла спать, хотя звезды сияли вовсю, вызывали Машу на беседу.
Утром в восемь ноль-ноль Маша списывала в продуваемой ветром беседке алгебру. Ей было не по себе, потому что раньше Маша всегда сама делала домашние задания. Бикулина придерживала странички тетради, чтобы ветер раньше времени не перелистывал.
— Петрова, — сказала Бикулина, когда Маша все списала. — Что случилось? Почему ты такая молчаливая и сосредоточенная?
— Опаздываем! — посмотрела на часы Маша. — На перемене расскажу.
Но на перемене Бикулина совершила ошибку.
— Где шастала? — грубо спросила Бикулина.
А Маша только улыбнулась. Нет! Этим ключом не откроешь волшебную дверь! А когда Бикулина, потеряв терпение, закричала: «Ну и стой себе у окна, дура! А к нам с Рыбой больше не подходи!» — Маше стало совсем смешно.
На географии Маша вдруг пожалела Бикулину. Она увидела, какие худенькие у нее плечики, как нервно листает Бикулина учебник, как порывисто сует и вытаскивает из портфеля тетрадь… Маша вдруг увидела Бикулину без ореола ледникового сияния, и… ей стало вдвойне жалко Бикулину!
Маша вырвала листок, написала: «Бикулина, не мучайся! Ледниковый период закончился. Я свободна! Теперь ты — это ты. Я — это я. Ледник растаял. Вчера. Бикулина, я свободна!» — сложила листок, надписала: «Бикулине». Передала. Записка устремилась к Бикулине. Маша внимательно оглядела одноклассников. Никто, никто не подозревал о леднике, три года давившем Машу. Никто не подозревал, что он растаял. «Семеркин! — подумала Маша. — Вот кто об этом узнает!» Вырвала второй листок. «Семеркин! — написала Маша. — Я хочу с тобой поговорить. Приходи в пять часов в беседку, ладно?» Передала записку…
Бикулина и Семеркин получили записки одновременно. Одновременно прочли. Одновременно оглянулись.
Маша спокойно кивнула Бикулине и улыбнулась Семеркину.
НЕСОСЧИТАННЫЕ ЛИСТЬЯ
Проходили Маяковского. Учительница литературы Алла Георгиевна нежным голосом заканчивала читать поэму «Облако в штанах».
«У нее получилось «Облако в юбке», — написал записку Андрей Садофьев и передал ее своей соседке по парте.
Нина — так звали соседку — прочитала записку и улыбнулась. Она совсем не слушала Аллу Георгиевну и не заметила, как облако переоделось в юбку. В классе было тихо. Нина посмотрела а окно и увидела, как дворничиха тетя Наташа метет вдоль чугунной ограды желтые ломкие листья. Листья напоминали сухую картошку, которую продают в пакетиках по десять копеек. Метла недовольно шуршала, когда листья перепрыгивали через нее и, подгоняемые ветром, летели на мостовую.
«А в неба свисшиеся губы воткнули каменные соски…» — читала другое раннее произведение великого поэта Алла Георгиевна. Нина посмотрела на небо и подумала, что скоро на самом деле пойдет дождь. И тогда листьям ничего не поможет. Они будут мокнуть в лужах. Нина никак не могла придумать, что бы такое написать Андрею Садофьеву, но на ее счастье зазвенел звонок, и всякая переписка сделалась невозможной.
Андрей Садофьев пришел в их 10 «б» класс две недели назад, первого сентября, и поэтому все в нем пока вызывало интерес.
На перемене Нина специально встала у окна, где никого не было, но Андрей почему-то не подошел к ней. Тогда Нина стала смотреть на дерево. Оно росло на школьном дворе и теряло последние листья. Три листа в секунду, а когда порыв ветра — пять, значит, в среднем, четыре. В минуту двести сорок листьев, в час тысячу четыреста сорок, в сутки… «Стоп! — сказала себе Нина. — Математика — наука творческая, а умножать трехзначные на трехзначные любой дурак может…» Сама Нина умножала в уме трехзначные на трехзначные еще в шестом классе, но потом сделала вид, что разучилась.
Своей страстью к математике Нина с детства вызывала удивление у родителей. Вечерами, когда ее подруги уходили в кино с молодыми людьми, а некоторые даже целовались с ними в подъездах, Нина что-то высчитывала на логарифмической линейке или с увлечением читала «Теорию временных и пространственных изменений». Однажды мама обнаружила в ее письменном столе толстую тетрадь с интригующим названием «Заветная». Тетрадь больше чем наполовину была исписана формулами, уравнениями и какими-то иными соображениями по высшей математике и физике, в которых мама, по специальности художник-оформитель, ничего не поняла. Всю Нинину комнату можно было заклеить дипломами и грамотами за победы в многочисленных олимпиадах, конкурсах и викторинах. Иногда Нининой маме мерещилась худая старая дева в очках и длинной черной юбке. Дева сидела в пустой белой комнате, похожей на кабинет врача, а вокруг порхали обнаглевшие косинусы и тангенсы. Нинина мама ясно представляла, как выглядят эти мерзавцы. Нечто среднее между цифрой и птицей, но обязательно со злыми, сверлящими глазками и острым длинным носом. «Сколько интересных книг ты не прочитаешь! Сколько пропустишь хороших спектаклей! Сколько… ты всего потеряешь из-за своих игреков!» — говорила она дочери и вздыхала. Нина поджимала губы, вставала и уходила. Но через час возвращалась, принося с собой несколько книг, названия которых заставляли Нинину маму браться за голову руками и уходить на кухню.
— Выйдешь, Нинка, замуж, все эти гадкие книги возьмешь с собой! — говорила она, вытирая пыль со стеллажей.
Нина была своим человеком в Доме научно-технической книги, а с продавщицей из отдела математики, двадцатилетней Надей, даже ходила пить кофе в «клуб любителей книги», который находился в этом же доме. «Эх, Нинка, мне б твою голову, — вздыхала Надя, заворачивая дефицитные книги, — давно б уже профессором стала, а он бы за мной на веревочке бегал…»
Когда Нина выходила к доске и крепкой рукой писала формулы, всем становилось скучно. Класс механически переносил написанное в тетради, а учительница Людмила Ивановна казалась маленькой и совсем ненужной. Нине верили, как часам.
Нина была круглой отличницей. Пятерки по литературе она получала благодаря хорошему знанию учебника и безукоризненной грамотности. Она искренне считала лишних людей лишними, а Печорин, столь взволновавший ее одноклассниц в восьмом классе, казался ей потенциальным Лобачевским, начни он вовремя заниматься геометрией. А то, что он делал в «Герое нашего времени», казалось Нине пустой тратой времени.
В сочинении на вольную тему «Каким я вижу современного человека?» Нина совсем запуталась. Она написала, что видит его чем-то средним между Онегиным и Павкой Корчагиным, а потом, вспомнив Пьера Безухова, поспешно добавила, что в современном человеке должны быть и некоторые его черты. Пьер Безухов увлек за собой в сочинение совсем уж неуместного в данном случае древнегреческого бога Аполлона, который, как известно, покровительствовал искусствам и сам прекрасно играл на кифаре. Вконец растерявшаяся, покрасневшая и смущенная Нина положила сочинение на стол учительницы и убежала в коридор.
За сочинение Нина получила пять с минусом. А потом на доске появилась странная формула:
Это написал Миша Кузнечиков, кандидат в мастера спорта по водному поло. Формулу никто не стер, и учительница литературы Алла Георгиевна, недавно окончившая университет и преподававшая в школе всего второй год, долго смеялась: «Нинуля, если в математике и физике ты мыслишь так же оригинально, как в литературе, ты на километр переплюнешь Эйнштейна…»
Вторым уроком была геометрия. Андрей Садофьев нарисовал в учебнике жирного уродца с ушами, клювом и длинными журавлиными ногами. Уродец, важно выпятив брюхо, вышагивал по катету равностороннего треугольника. Нина засмотрелась на уродца и не заметила, как на парту приземлилась опытной рукой пущенная из противоположного конца класса записка. «Нинка, ты чего это с ним переписываешься, а?» — спрашивала Света Фалина. Света была очень худенькой, а длинные черные волосы делали ее похожей на цыганку, какими их раньше изображали в дореволюционном журнале «Нива». Казалось, что Свете на роду написано носить длиннющее разноцветное платье, поигрывать плечами и ходить между ресторанными столиками с гитарой или с бубном. В классе Света считалась первой красавицей.
«Не твое дело», — строго ответила Нина. Она не любила, когда ее отвлекали. А Андрей словно забыл про переписку. Он нарисовал еще одного уродца, а потом начал что-то писать и зачеркивать в толстой тетради, вроде той, которая у Нины называлась «Заветная». Нина порылась в портфеле, посмотрела, что там пишут на доске, а потом от нечего делать умножала в уме два четырехзначных числа.
Начиная со второго класса на уроке физкультуры всех девочек и мальчиков строят по росту. По мере движения учебного процесса высокие девочки испытывают все меньше и меньше радости от того, что возглавляют строй. Некоторые даже стремятся раздобыть освобождение от физкультуры. Нина, к счастью, занимала место в центре.
Другое дело мальчики. Они внимательно следят за своим ростом и сильно переживают, если он по каким-либо причинам замедляется. Впрочем, самый высокий из них не пользуется уважением и носит кличку Длинный. Зато те несколько человек, что стоят сразу за Длинным, и есть классная «аристократия», наиболее уважаемые в классе люди.
Миша Кузнечиков — кандидат в мастера спорта по водному поло стоял на физкультуре вторым. Начиная с первого класса Миша передрался со всеми, кто не хотел признавать его первенства. Странным образом это запоминалось, и те, кого Миша победил в третьем и четвертом классе, не перечили ему в девятом и десятом. А самый лучший Мишин друг Саша Коротков бывал неоднократно бит им еще в детском саду.
Андрей Садофьев, пришедший в их класс этой осенью, не понравился Мише по многим причинам. На физкультуре он встал сразу после Длинного, то есть занял место, которое принадлежало Мише уже много лет, а потом баскетбольная команда, в которой играл новенький, победила команду, в которой играл Миша. Миша до сих пор недовольно вспоминал, как Андрей оттолкнул его в воздухе, схватил мяч и ловко забросил ого в корзину. А потом попадал еще несколько раз из самых разных положений. Мишина команда проиграла, чего никогда не случалось.
Андрей не ходил а туалет курить. А на переменах мальчики-десятиклассннки общаются мало. Первым делом новенькому следует идти в туалет и угостить курящих одноклассников сигаретами, желательно американскими. А Андрей Садофьев на переменах торчал у окна и смотрел, как тетя Наташа сметает в кучи желтые листья, а потом поджигает их. Нина тоже смотрела на это из другого окна, но видели они все по-разному.
Синий дым, например, наводил на Андрея грустные раздумья. Ему становилось жаль чего-то такого, чего с ним никогда и не было. Хотелось увидеть золотоволосую девушку, идущую по полю и машущую ему рукой. А вечером, когда за окном лил дождь и качались деревья, ему хотелось сидеть в деревянном доме и помешивать кочергой в печке малиновые угли. И пусть в это время золотоволосая девушка готовит на ужин жаркое из оленя, застреленного днем.
Андрей в конце лета переехал на новую квартиру и теперь жил в огромном красном доме напротив музыкальной школы. Школа была окружена парком. Парк обнесен фигурной решеткой. Часами Андрей сидел на скамейке в парке и слушал, как ученики разных классов и разных способностей играют на роялях, скрипках, арфах, виолончелях. Один раз неожиданно хлынул дождь, и Андрей чуть не заплакал, слушая полонез Огиньского. Маленькая черноглазая девочка с завернутой в полиэтилен скрипкой стояла рядом и смеялась. Андрей узнал ее — это была его соседка. Когда Андрей вечерами сидел дома, он сквозь стену слышал, как ее уговаривали поиграть на скрипке.
— А ты так сможешь? — спросил Андрей.
— Это в дождь красиво, — ответила девочка и отряхнула с полиэтилена капли, — а когда солнце, слышно, как струны скрипят…
— Ясно, — ответил Андрей и пошел по лужам домой. Ботинки промокли, но зато дома он сел за стол и написал стихотворение. Начиналось оно строчкой «Мир оживает под дождем…».
Курить Андрей бросил после того, как прочитал в журнале «Техника — молодежи» про одного заядлого курильщика, погибшего при загадочных обстоятельствах. Труп вскрыли, и из легких черной струйкой потек никотин. Андрея чуть не вырвало. Не было у него и друзей в новом доме. Новая школа тоже не нравилась. Хотя кому может понравиться новая школа? Самый верный способ выбить человека из колеи — перевести его в другую школу, особенно когда учиться осталось год.
И в один прекрасный день, точно рапиры, скрестились на затылке Андрея взгляды Миши Кузнечикова и его лучшего друга Саши Короткова. И мысль, пришедшая в голову Мише, эхом откликнулась в голове Саши. Эхо работало почему-то только в этом направлении, хотя никто бы не сказал, что голова у Саши пустая.
Быть хотя бы один раз битым — частая участь новенького и классе. А поводом может послужить все что угодно. Недовольство Миши Кузнечикова, вызванное разными причинами, как раз и было поводом…
Осеннее солнце затопило класс. К дому напротив школы подъехала машина с полным кузовом капусты. Издали капуста казалась зеленой и чистой — кочан к кочану. Из подвала выскочили люди в грязных белых халатах и замахали на шофера руками. Шофер достал из кармана желтую бумагу, исписанную через фиолетовую копирку, и стал тыкать в нее пальцем, точно хотел проткнуть. Из подвала, ступая тяжело и нетрезво, выбрался еще один человек. Был он в телогрейке и с более красным лицом, нежели люди в грязных халатах. Человек внимательно ознакомился с бумагой, а потом так энергично рубанул себя рукой по шее, что казалось, голова возьмет да отвалится и покатится по улице, как красный кочан капусты. Шофер выплюнул папиросу и выругался. Алла Георгиевна невольно кашлянула. «Осень. Молодая, но уже все познавшая женщина пирует за богато накрытым столом», — подумал Андрей. Он так и не понял, проза это или же стихотворные строчки.
— И тогда… Садофьев, — сделав упор на фамилии, строго сказала Алла Георгиевна, — Блок забывает Прекрасную Даму и обращается к Незнакомке… — Она стояла около его парты, держа в руках синий томик Блока.
— Я знаю, — ответил Андрей.
— Что вы знаете?
— Что он забывает Прекрасную Даму и обращается к Незнакомке…
— Нет, — вдруг сказала Алла Георгиевна, — это Прекрасная Дама забывает Блока и превращается в Незнакомку… Ясно? — Синий томик повис над головой Андрея.
— Мне тоже так кажется, — защитил голову рукой Андрей.
Всю жизнь ждала. Устала ждать.
И улыбнулась. И склонилась.
Волос распущенная прядь
На плечи темные спустилась… —
начала читать учительница.
Андрей вырвал из тетрадки листок, где было его вчерашнее стихотворение. Начиналось оно словами:
А в жизни по-прежнему нету веселья,
Чего не хватает — коня или шпаги?
«Всего, всего хватает», — радостно подумал Андрей и разорвал стихотворение в клочки.
— Чего это вы рвете, Садофьев? — спросила Алла Георгиевна, остановившись на середине строчки.
— Читайте, читайте, пожалуйста, — сказал Андрей, но в это время зазвенел звонок и учительница замолчала.
Андрей вышел в коридор и высоко подбросил портфель. Портфель коснулся белого плафона, и плафон закачался.
— На пару слов, — вежливо сказал Саша Коротков и взял Андрея под руку.
— А знаешь ли ты: если не писал, то разбоем занимался Франсуа Вийон? — спросил Андрей. — Был такой поэт-разбойник…
— Тебя ждут, — Саша приглашающе повел рукой в сторону туалета.
— А ты сам-то дерешься или только зовешь и стоишь у двери?
— Ты, наверное, дурак… — сказал Саша.
— Знаю, — ответил Андрей, — но учтите, сколько бы там вас ни было, я дерусь, как Франсуа Вийон…
— Тебе очень весело? — спросил Саша.
— Да. Я на самом деле влюбился в Нинку.
— При чем здесь Нинка? — удивился Саша.
— Здрасьте! А из-за чего, собственно, все тогда затевается?
Саша смутился. Эта мысль как-то не приходила ему в голову. Зато он живо представлял себе, как Кузнечиков ударит новенького в зубы, а сам Саша с ходу врежет в ухо или в глаз. Этот прием у них хорошо отработан. Под глазом у новенького появится фингал, и он не будет так весело улыбаться…
Нина прошла мимо них по коридору. Зашла в кабинет английского и закрыла дверь. А Саша с Андреем стояли у окна и смотрели на дверь. Почему-то Саше вдруг сделалось грустно. Когда-то давно он ходил на каток в чужой, далекий двор и все время высматривал там Нинину белую куртку с капюшоном. Нина хорошо каталась. Длинные светлые волосы вылезали из-под шапки, кончики их покрывались инеем, и Нина становилась похожей на мультфильмовскую снегурочку. А Саша бродил вдоль катка и мерз. Он никогда не катался на коньках без клюшки и шайбы.
— Ты будешь драться с Кузнецом один на один, — неожиданно сказал Саша новенькому.
— Спасибо, — ответил Андрей и вспомнил, что Байрон называл свою жену «Принцессой параллелограммов».
Миша грыз ногти, глядя на белую кафельную стенку и мирно журчащие унитазы. Желание драться испарялось, как сухой лед, выброшенный из мороженицы на асфальт. А ведь сегодня у Миши счастливый день. Утром позвонила знакомая девушка из спорткомитета и сказала, что ему присвоили звание мастера спорта. Миша зажмурился. Зеленая, отдающая лекарством вода в бассейне. Тела причудливо преломляются, а к ногам словно гири привязаны. Но в воде крепко не ударишь, другое дело, если схватят за шею. Красные шапочки соперников, оранжевый мяч летает над бассейном и шлепается в воду. И невообразимо далеко шевелится сетка ворот и держится за штангу вратарь, которому надо забить. В последнем матче на первенство города Миша забил три мяча. Его взяли запасным в юношескую сборную страны. Через неделю они улетят в Югославию на отборочный матч чемпионата Европы. Узнав об этом, Миша позвонил Нине и спросил, что ей привезти из Сараево. Нина попросила привезти флакон соли под каким-то дурацким названием «Гарлик».
Это было несерьезно…
Не драться с новеньким Миша уже не мог, и поэтому ему было грустно. Не страшно (драться Миша умел), а именно грустно. Миша старался думать о приятном… Через две недели юношеская сборная страны, Югославия, новый тренер, новые ребята…
А новенький? Он выше и стройней Миши. Одевается лучше, хотя Миша каждый год по нескольку раз ездит за границу. Но Миша не думал о том, что на себя надеть, и редко смотрелся в зеркало. И драка, собственно, никому не нужна. Миша думал, что если он не понравился Нине сразу, то уже не понравится ей никогда. Она будет улыбаться ему, будет с ним вежливой, но дальше этого ни шагу. А записка? Записка, которую ей написал новенький? Она взяла ее и улыбнулась, а потом целый час думала, как бы поумней написать ответ. А как она на него смотрит? Новенькому наплевать на класс, он делает что хочет. Почему-то ему можно. А если бы он, Миша, стал писать Нинке записки? Все бы со смеху померли. Рвал когда-то косы, а потом влюбился. Все-таки лучше влюбляться в тех, кому не рвал косы… Те по крайней мере не помнят, как ты бегал по двору с деревянной саблей в руках и кричал, что ты Чапаев. Но если Нинка нравится ему с шестого класса, а он даже сказать ей об этом не может?
Он войдет в туалет и с холодной усмешкой оглядит врагов. Потом достанет из кармана кольт и спросит: «Мальчикам захотелось поиграть? Ну, подходите! Кто первый?» Он выстрелит в потолок, а они наложат в штаны со страха. Только… у него нет никакого кольта… А драться он будет один на один… Андрей как-то забыл об этом.
— Звал? — спросил Андрей, закрыв за собой дверь и бросив портфель в угол.
— Звал, — ответил Миша и не раздумывая ударил его в лицо. Но тут же получил ответный удар в живот и согнулся. Тогда новенький ударил снизу вверх, и Миша почувствовал, как во рту появилась соленая кровь. Поганое дело, когда бьют в солнечное сплетение. Не разогнуться. Ударов не замечаешь. Убить можно человека, когда он стоит согнувшись.
Но Миша все-таки разогнулся и изо всей силы пнул новенького носком в голень. Тот отскочил к стене и плюхнулся на портфель.
— Идиот, — сказал он, потирая ногу.
Миша подошел к умывальнику и опустил голову под струю воды.
— Два-два, футбольный счет, — сказал он. Когда вода тоненькими струйками побежала за воротник, Миша сообразил, что полотенца нет и вытираться нечем. «Если поставят на игру, обязательно забью югославам», — подумал Миша. Ему сейчас хотелось оказаться в теплом бассейне с зеленой водой, где плавает оранжевый мяч, а впереди ворота, куда его надо забить.
Андрей посмотрел на себя в зеркало. Синяк под глазом пока только намечался.
— Как же я… пропустил… не увернулся? — пробормотал Андрей и посмотрел на Мишу.
— Чепуха, — хмуро ответил тот, — возьмешь дома бодягу, приложишь, и все пройдет…
Зазвенел звонок.
На английском Андрей сел рядом с Ниной. Новость уже порхала по классу бескрылой птицей.
— Ты дрался? — шепотом спросила Нина у Андрея.
— Да. Из-за тебя, — ответил он.
— И кто победил?
— Два-два, футбольный счет, — усмехнулся Андрей.
Нина оглянулась на Кузнечикова. Несчастный, он сидел на последней парте и смотрел себе под ноги.
— Чего ты сегодня делаешь? — спросил Андрей.
Нина задумалась. В это время пришла записка. «Нин, — писал Кузнечиков, — ты мне нравишься с шестого класса, я хочу, чтоб ты знала… А вообще, не обращай внимания…»
— Сегодня я занята, — шепнула Нина Андрею, а Мише написала: «Позвони мне в три часа» — и передала записку через Свету Фалину.
А дерево, под которым тетя Наташа жгла костер, шумело во дворе несосчитанными листьями. Только мало, мало их оставалось. Каждую секунду на три листа меньше, а когда порыв ветра — на пять…
КТО ХОДИТ ПО БРЕВНУ
Собачий лай я недолюбливал всю жизнь, а теперь слушаю его три раза в неделю с четырех до семи. Итого получается каждый день в среднем по часу и пятнадцать минут, а каждую неделю… Впрочем, стоп. Неделя — ладно, а вот месяца на площадке я еще не проработал. Не хватает четырех дней. Я это знаю, потому что через четыре дня у меня будет первая в жизни зарплата. Получу — смешно даже сказать — сорок девять рублей. Прошлым летом на практике я написал портрет одного завмага и заработал вдвое больше. «Грабь, последнюю шкуру дери!» — хохотал завмаг, отсчитывая червонцы. Насчет «последней шкуры» он, конечно, шутил. Мои друзья-одноклассники Петька Быланский и Валька Ермаков встретили меня скучными улыбками. «Ну как халтура?» — спросили они. Я хотел сказать, что писал портрет по-настоящему, но почему-то не сказал. «Халтура как халтура», — ответил я. С деньгами мы расправились в три дня: каждый день обедали и ужинали в ресторане. А портрет завмага, мне кажется, получился хорошим, хотя сама личность завмага симпатий у меня не вызвала. Впрочем, ладно. Все это было давно. Сейчас-то чего вспоминать? СХШ, то есть средняя художественная школа, позади, в Академию художеств я не поступил, впереди две дороги — работать на площадке помощником инструктора или устроиться куда-нибудь оформлять витрины. Я выбрал первое.
В нашей собачьей школе первой ступени дисциплина отсутствует. Вместо четкого выполнения команд — лай и визг, словно здесь живодерня. Восьмимесячные псы грызут поводки и тянут хозяев к выходу. Над площадкой висит облако пыли, как будто выколачивают гигантский ковер.
Когда начинаются занятия, солнце находится над краем площадки, а когда они заканчиваются, солнце сползает в сторону леса. Лес метрах в ста от площадки, а за ним торчат бетонные трубы химического завода. Иногда трубы победно ревут и деревья испуганно дрожат — чувствуют, что стали лишними. Мне хочется сходить в лес, вылить из ушей накопившийся за три часа лай и полежать на траве. Но каждый раз когда кончаются занятия, я спешу домой, потому что хочу есть. Деревья машут мне вслед ветками: предатель!
Осень в этом году солнечная и сухая — продолжение лета, только с желтыми листьями на деревьях. А лето получилось у меня короче, чем хвост у эрдельтерьера. Экзамены по искусству, экзамены по предметам, полупроходной балл, ожидание: поступил или нет? А когда все выяснилось, оказалось, что уже осень и пора грустить и писать этюды.
И вот я пишу этюды и работаю на собачьей площадке помощником инструктора.
Хоть бы дождь внезапный спрыснул проклятую пыль! Два эрдэльтерьера — Бонни и Тюшка, четыре овчарки — Эльда, Юнона, Чанга и Максим, дог — Карат, доберман-пинчер — Дэзи и ньюфаундленд — Гирей, поджав хвосты, уселись около хозяев, и Иван Дмитриевич — инструктор — пытается объяснить хозяевам и собакам, что такое команда «Охраняй!».
Жарко. У ньюфаундленда Гирея язык торчит изо рта, и с него капает слюна. А у хозяина Гирея прилипла к спине рубашка. Сквозь нее рельефно проступает зеленая майка с прачечной меткой. Если приглядеться, можно номер рассмотреть. Майка почему-то надета наизнанку. Эта пара больше всех страдает от жары. У ньюфаундленда самая длинная шерсть, чтобы не замерзал в канадских льдах, а хозяин — самый полный из всех, кто приводит собак на площадку. На него больно смотреть, когда он бежит с Гиреем по кругу. Наверное, после каждого занятия теряет килограмма два веса. Может, за этим сюда и ходит? Овчаркам тоже не сладко, но у них шерсть все-таки покороче, чем у ньюфаундленда. Зато эрдельтерьеры молодцы! Не зря пишут, что с ними охотятся в Африке на львов! Эрдельтерьеры к жаре привычные. В выполнении команд они особенно не усердствуют, но и до уровня главного тупицы — дога Карата — не опускаются. Этот дог спит прямо на ходу и ничему не хочет учиться. Морда всегда опущена, и взгляд, как у наркомана. А доберман-пинчер Дэзи стоит около калитки и скулит. Дэзи — собака гриновская, артистичная.
Мне хочется нарисовать нашего инструктора Ивана Дмитриевича. Лицо у него запоминающееся: глубокие морщины, спутанная седая челка на лбу, а глаза светлые и прозрачные. Они чужие на этом лице. Будь глаза мутные или покрасневшие — перед нами классический портрет старого пьяницы. Но глаза — мысль, которую надо высказать в портрете. В них грусть, боль и обида. Каждый вечер после работы Иван Дмитриевич выпивает «с устатку» бутылку портвейна. Иногда он предлагает и мне, но я отказываюсь. Не хватает еще пить начать! Иван Дмитриевич — пунктуальный пьяница, послеработная бутылка портвейна стала для него тем же, чем мытье рук для врача или снятие клеммы для шофера. Но он, наверное, в отличие от этих предполагаемых трезвенников, пьет еще и утром, и вечером, и по выходным…
На вид Ивану Дмитриевичу далеко за пятьдесят. Со мной он почти не разговаривает, считает, видно, что я человек бесполезный. Собственно, мне это безразлично. Круг моих обязанностей невелик, и на площадке я почти что зритель. Зритель, которому выплачивают скромную зарплату. Только когда без меня совсем нельзя обойтись, Иван Дмитриевич подзывает к себе. Я — живой объект для травли. Надеваю толстенную рубчатую телогрейку и начинаю длинными рукавами хлестать собак по мордам. Я обливаюсь потом, собаки рычат и злятся, а хозяева им в уши орут: «Фас!». Но собаки почему-то эту команду медленнее всего усваивают.
Я смотрю на собак, еле превозмогающих трусость, и не понимаю, зачем им нужно знать команду «Фас!». Ничего плохого от людей они не видели. Домашние собаки не защищают хозяев, а сами ищут у них защиты. И наша школа первой ступени не научит собак самостоятельности. Она научит их выполнять некоторые команды, и все. А в школу второй ступени собак не поведут. Да и какой смысл? Ведь для того чтобы получать на выставках медали за экстерьер, достаточно и первой ступени.
Когда я на будущий год опять стану поступать в Академию художеств, то сделаю композицию об этой собачьей площадке. Она будет называться «Инструктор». Молодой парень стоит в центре площадки, а вокруг собаки ходят по бревну, прыгают через барьер, рвут на ком-нибудь телогрейку. Я не могу серьезно относиться к тому, что здесь происходит, поэтому собаки и хозяева будут нелепыми и смешными. Но главное в композиции — лицо парня. Я хочу, чтобы сразу стало ясно, что никакой он не инструктор, пусть где-нибудь в углу валяется старый, обшарпанный этюдник. Над этюдником будет стоять, подняв ногу, ньюфаундленд Гирей. Вот какую композицию я задумал написать на следующий год. Уже наметил кое-что в альбоме.
А в этом году мне поставили за композицию тройку с минусом. Что-то не получились у меня аквалангисты, хотя весной, на юге, я впервые в своей жизни плавал с аквалангом и запомнил, как выглядит дно, водоросли, как светятся камни и вверх поднимаются серебристые пузырьки воздуха, как солнечные лучи пробиваются сквозь воду и образуют светлые дорожки, косо спускающиеся на дно. Я изобразил двух аквалангистов, плывущих вдоль солнечной дорожки. Парня и девушку. У девушки были длинные волосы, и сквозь маску было видно ее смеющееся лицо. Солнечный луч падал на маску, и лицо девушки и ее светлые волосы были самой яркой частью моей композиции.
Но мне поставили тройку с минусом. Сказали, что слишком много экспрессии и мало логики. Восприятие подводного мира у членов приемной комиссии оказалось иным, нежели у меня. Пока я поступал в Академию, у меня даже появилась кличка Человек-амфибия. Кто-то пустил слух, что я изобразил Ихтиандра.
Из нашей троицы не поступил я один. Петька Быланский прошел вторым номером, а Валька Ермаков — предпоследним. Петька рисовал лесозаготовки, а Валька — рыболовецкие сейнеры, возвращающиеся с богатым уловом в родной порт.
Надо было и мне писать что-нибудь подобное, но проклятое плавание с аквалангом так въелось в голову, что я просто не мог писать другое. А жаль!..
Когда мне становится совсем не по себе, я читаю биографии великих художников. Они были всегда уверены в себе и в своем таланте. И к неудачам относились с философским спокойствием. А вот мне страшно. Не оттого, что я не поступил, а оттого, что поступили те, кто рисует хуже меня. Я чувствую себя, как матрос, которого незаслуженно списали на берег. Хожу себе по песку, смотрю на море…
Когда я учился в СХШ, рисовал мало. Теперь работаю каждый день и за два месяца сделал больше, чем раньше делал за год. Теперь у меня много свободного времени, и с друзьями я стал видеться реже. Наверное, потому, что я им все-таки завидую. Какое это отвратительное чувство! Оно состоит из жалости к собственной персоне и из недовольства успехами других. У кого больше недовольства — те злобные завистники. А у меня больше жалости к себе. И поэтому я все время работаю. Начал даже осваивать гравюру. Царапаю потихоньку иголкой. Когда работаешь — легче.
Моя неудача — свершившийся факт, никуда от этого не денешься, и мне вдвойне тяжело, потому что раньше у меня всегда все получалось. Как в пословице: из грязи в князи, только наоборот.
— Сергей! Приготовься! — крикнул Иван Дмитриевич, и я пошел надевать ватник с длинными рукавами. Сейчас начну хлестать собак по мордам. В ватнике жарко, как в бане. Уже одним своим видом я вызываю у собак злобное недовольство. И зря. Будут потом бросаться на всех, кто носит ватники.
Первая Дэзи. Я приближаюсь к ней и пустым рукавом ударяю по морде. Дэзи испуганно отпрыгивает в сторону и прижимается к хозяйке. В коричневых глазах доберман-пинчера непонимание и страх. Дэзи не знает, за что ее бьют, ведь она ни в чем не провинилась.
— Фас! Дэзи, фас! — надрывается Иван Дмитриевич, но Дэзи не трогается с места. Она тоскливо смотрит на хозяйку и прижимается к ее ногам — просит защитить от агрессивного субъекта в нелепой одежде.
— Ну что ты стоишь, как истукан? Дай ей, чтобы разозлилась! — набрасывается на меня Иван Дмитриевич. Дела на площадке идут из рук вон плохо, и он злится. Я размахиваюсь и бью еще раз. Дэзи визжит и убегает.
— Вы что? С ума сошли? Собаку хотите убить? — кричит хозяйка.
Иван Дмитриевич вытирает с лица пот.
— Приведите собаку, — устало говорит он хозяйке.
На площадке неожиданная тишина. Все смотрят на нас.
Проклятый ватник пропах псиной, точно за пазухой у меня сидят десять щенков. В этой нервной обстановке трудно сохранить спокойствие. Как дурак я стою посреди площадки и чего-то жду. Страсти вокруг того, как надо стукнуть собаку по морде, меня совсем не забавляют.
Я снова ударяю Дэзи по носу. На этот раз, кажется, она действительно разозлилась. Фыркнула и показала зубы.
— Отлично! — сказал Иван Дмитриевич. — Теперь сделай вид, что ты ее испугался! Отходи! Да говорят же тебе, отходи!
Я неуклюже пячусь назад. Осмелевшая Дэзи делает шаг в мою сторону, но хозяйка крепко держит ее за поводок.
— Фас, Дэзи! Фас! — кричит Иван Дмитриевич. — Отпустите ее, слышите, отпустите!
Он вырывает из рук хозяйки поводок, но Дэзи, чувствуя, что никто ее не держит, снова начинает трусить.
— Почему вы ее не отпустили сразу? — тяжело дыша, спрашивает Иван Дмитриевич.
Хозяйке, наверное, лет восемнадцать или около того. Она смотрит на инструктора широко открытыми глазами и молчит.
— Но ведь Дэзи могла его укусить… — жалобно произносит она.
— Кого укусить? — шепотом спрашивает Иван Дмитриевич.
— Его… — девчонка показывает на меня.
— А зачем он напялил этот балахон? — орет Иван Дмитриевич.
Девчонка вздыхает и молчит. Присмиревшая Дэзи взглядом утешает хозяйку. Иван Дмитриевич достает папиросы, закуривает и машет рукой: «Следующий!».
Все начинается сначала…
Быстрее всех понял, что надо делать, эрдельтерьер Бонни. Он сразу вцепился в рукав телогрейки, и хозяину с трудом удалось оттащить его в сторону. Бонни так хорошо усвоил этот урок, что, когда Иван Дмитриевич решил погладить его за сообразительность, Бонни лязгнул зубами, и только профессиональная сноровка помогла Ивану Дмитриевичу избежать собачьих зубов.
— Бестолочь! — в сердцах сказал наш инструктор и отошел. Зато хозяин был в восторге от свирепости своего пса.
Собаки смотрели на меня и рычали. Я же забыл снять ненавистную им телогрейку! Когда я снова появился на площадке, они встретили меня довольно миролюбиво. Бонни даже позволил себя безнаказанно погладить.
Настоящим камнем преткновения оказалось бревно. Собаки или вообще не хотели на него забираться, или же, стоило мне только отвернуться, моментально спрыгивали и куда-то убегали. Только Бонни храбро пробежал по бревну, стуча когтями. Хозяин потрясал поводком и воинственно смотрел по сторонам. Я отправил эту энергичную пару осваивать барьер, а сам принялся за Дэзи.
— Будем искоренять трусость! — заявил я, решительно хватаясь за ошейник.
— Вы с ней поосторожнее, ладно? — попросила хозяйка.
Дэзи смотрела на меня с мольбой и ужасом. Я втащил ее на бревно, и Дэзи, повизгивая, обреченно обхватила бревно лапами, всем своим видом показывая, что скорее умрет, но с места не сдвинется. Хозяйка смотрела на меня, как на палача. Я стоял, пахнущий псиной, потный, со слипшимися волосами, и мне было стыдно. Мне хотелось крикнуть: «Я не помощник инструктора! Я здесь просто так! Хочешь, я тебя нарисую?» Но я молчал.
Хозяйка Дэзи была симпатичной девушкой, но красавицей я бы ее не назвал. Лица красавиц мне кажутся скучными. Все пропорционально, все аккуратно, и характера не видно. Лица красавиц для иллюстрированных журналов, но не для живописи. А хозяйку Дэзи я бы с удовольствием написал. У нее большие серые глаза и пухлые губы. По лицу видно, о чем она думает. Сейчас она переживает за свою любимую Дэзи.
Жаль, что приходится знакомиться при таких обстоятельствах…
— Вы первый раз сегодня? — поинтересовался я.
— Да, раньше мама приводила Дэзи, — ответила она.
— А имя Дэзи вы придумали?
— А что, плохо придумала?
— Замечательно, — ответил я. — Грин — каталог собачьих имен.
— Наверное, надо было Пальмой назвать?
— Жучкой…
— Грин — ваш любимый писатель, да?
— Мой любимый писатель Боборыкин, — ответил я.
— Боборыкин? — растерялась она.
— Он описывал старый быт. Писал про щи, которые хранили в бутылках из-под шампанского… Представляете, выходит к столу глава семьи, стреляет пробкой в потолок и разливает щи по тарелкам…
— Вы на меня обиделись? — вдруг спросила она.
— Не обиделся, — ответил я. — Мне действительно все равно, как вы назвали свою собаку…
— Бедная Дэзи, — сказала она. — Зачем ей ходить по бревну?
— А! Так вот почему вы ко мне подлизываетесь?
— Я? Подлизываюсь! Ну знаете… — Неожиданно она рассмеялась. — Дело в том, что Дэзи совсем не хочет ходить по этому бревну…
— Ничего, захочет! — Я снова схватил Дэзи за ошейник. — Это ей не по волнам бегать…
— По волнам бегала, если я не ошибаюсь, Фрези Грант, — сказала девчонка. — А Дэзи была дочкой старого Проктора…
— Все равно, — ответил я.
— Дэзи не бегающая, а падающая с бревна, — сказала она.
Я погладил Дэзи. Та лизнула мою руку. Породистая собака, а ведет себя, как дворняжка. Пятнадцать минут назад я ее этой рукой бил, а она ее лижет. Не знаю, почему, но мне вдруг до слез стало жалко Дэзи.
С одной стороны шел я, с другой — хозяйка, а по бревну ползла на брюхе Дэзи. Занятная картинка, если взглянуть со стороны…
Полтора месяца назад я гулял по городу и случайно забрел на эту площадку. Выл конец августа, я никуда не поступил, и беспрерывная ходьба отвлекала меня от тяжелых мыслей. Я никогда не думал, что улица, начинающаяся сразу за моим домом, окажется такой длинной. Я шел, шел и наконец увидел двенадцатиэтажный дом, который стоял, как восклицательный знак в конце предложения. Улица кончилась. Сразу за домом тянулись поля и холмы, а еще дальше виднелся лес. Но я не дошел до леса. Я увидел обнесенную железной сеткой собачью площадку, услышал голоса, выкрикивающие команды, увидел людей и собак. Это сейчас трава на площадке высохла и пожухла, а тогда она была зеленая. Рыжая колли бегала по траве и лаяла, и хозяин никак не мог поймать ее. Мне расхотелось идти в лес. Мне вдруг захотелось рисовать. Я не знаю, почему это случилось. Я подумал: «Вот трава, вот площадка, а за площадкой лес. И солнце садится… И рыжая колли бегает по площадке… Ничего не может быть прекраснее!»
Я забыл, что куда-то там не поступил, единственное, о чем я тогда жалел, что не взял с собой этюдник.
Так все просто. Утром я пришел на площадку и написал этюд.
Я снова почувствовал себя художником.
А когда прочитал объявление, что на площадку требуются помощники инструкторов, то немедленно отправился в районный клуб ДОСААФ и записался на двухнедельные курсы собаководства. Теперь, можно сказать, имею профессию…
Над площадкой плывут облака, но этого никто не замечает. Все заняты собаками, а собаки на небо не смотрят. К площадке подошел мальчик. На вид ему лет двенадцать. Он положил руки на сетку и замер. Я успел выкурить сигарету, а он все смотрел на площадку. Словно пришел в театр на интереснейший спектакль. У мальчика голубые глаза и светлые волосы.
— Ты чего здесь делаешь? — строго спросил я. Небольшая серая дворняга около него радостно завиляла хвостом. Заметив ее, я подумал, что, пожалуй, зря подошел к мальчику.
— Мы хотим заниматься… То есть я хочу записать Джима в вашу секцию… — запинаясь, проговорил мальчик.
— Ты опоздал. Прием окончен, — официально ответил я.
— Я живу на Обводном канале, — сказал мальчик. — Мы приехали на трамвае, потому что в метро с собаками не пускают…
— Ты меня не понял. Прием окончен месяц назад, — объяснил я.
— Видите ли… — Мальчик опустил глаза. — Мама говорит, что от Джима в доме нет никакой пользы. Она говорит, что он только ест и еще грызет стулья… Она хочет его отослать к бабушке в деревню, говорит, что он там будет дом охранять…
— Ну и пусть охраняет, — ответил я.
— У бабушки раньше была собака, — с тоской посмотрел на меня мальчик. — Но сосед застрелил ее… Он сказал, что она укусила его дочь, а на самом деле он был пьяный.
— Та собака тоже была… — начал я, но потом замолчал.
— Если Джим закончит вашу школу, его можно будет устроить охранять магазин или склад. Он будет получать зарплату и…
Джим вилял хвостом, норовя лизнуть мне руку.
— Ясно, — сказал я.
— Джим все умеет делать, — заверил мальчик. — А по бревну он бегал еще щенком. Хотите, мы вам покажем?
Я улыбнулся, представив себе, что Джим будет охранять магазин или склад. В первую же ночь все вынесут. Джим встретит грабителей, как лучших друзей. Почему мальчик этого не понимает?
— Я здесь ничего не решаю, — сказал я. — Но если это действительно так важно, я спрошу у инструктора…
— Я подожду здесь! — крикнул мальчик. Он был, в отличие от меня, уверен, что все кончится хорошо.
— Иван Дмитриевич! Там парень с уроков сбежал, хочет, чтобы вы его собаку посмотрели, говорит, она все умеет… — сказал я.
— Где? Какой парень? — не понял Иван Дмитриевич.
— Вон, видите, стоит… — показал я в угол площадки.
— Он сошел с ума, — сказал Иван Дмитриевич. — Это дворняга!
— Это Джим.
— Скажи ему, чтобы не мешал работать.
— Нельзя, Иван Дмитриевич!
— Не морочь мне голову! Гони его вместе с этим Джимом! Тоже мне Дон-Кихот нашелся!
— Он специально с другого конца города приехал, понимаете?
— Ну и что?
— Все равно сейчас перерыв! — сказал я и махнул мальчику рукой. Тот быстро побежал вдоль сетки, открыл калитку и оказался на площадке.
— Я тебя выгоню! — сказал мне Иван Дмитриевич.
— Надо устроить Джима охранять какой-нибудь склад… Иначе его отправят в деревню, а там сволочь-сосед его пристрелит. Вы случайно не знаете, где…
— Завтра выгоню! — вздохнул Иван Дмитриевич.
— Эй! Что это такое? — воскликнул хозяин Бонни, первый заметивший Джима.
— А вдруг у него чумка? — испугалась хозяйка овчарки Эльды.
Занятия приостановились. Собак взяли на поводки, но им словно передалось настроение хозяев. Злобный лай повис над площадкой. У Джима как-то смялись уши и опустился хвост.
— Джим знает все команды и умеет ходить по бревну и через барьер прыгать тоже! Я с ним три месяца занимался по книге, — сказал мальчик Ивану Дмитриевичу. — Я сейчас покажу вам, как он работает. Я не вру, честное слово… Он все умеет… Джим, вперед! — Они побежали к барьеру. Джим бежал неохотно, как будто за ним волочились гири. Внезапно он уперся лапами в землю, присел, закрутил головой. Голова проскочила сквозь ошейник, а мальчик споткнулся и упал. Раздался смех.
— В цирк не надо ходить! — похлопывал себя по животу хозяин Бонни.
Мальчик растерянно смотрел на Джима.
— Вы не думайте, это он просто испугался… Здесь столько людей и собак… Он умеет прыгать через барьер! Джим, маленький, ты же умеешь? Ты прыгал в парке, помнишь?
Они снова подбежали к барьеру, и Джим снова остановился. Хохотала вся площадка. Собаки рычали и скалили зубы, и казалось, они тоже хохочут. Мальчик стоял, опустив голову. Медленно, словно на казнь, он повел Джима к бревну.
— Вперед! — закричал он и замахнулся. Джим вздрогнул и поджал хвост. Осторожно, еле передвигая лапы, он дополз на брюхе до середины бревна, а потом с визгом свалился вниз. Мальчик плакал. — Джим! Что с тобой случилось, Джим? — все время спрашивал он.
— Уведи его отсюда! Ты мешаешь нам работать! — загремел Иван Дмитриевич.
Мальчик втянул голову в плечи и пошел к калитке. Он не смотрел на Джима, который бежал рядом и заглядывал ему в глаза.
В это время Бонни сорвался с поводка и налетел на Джима. Джим завизжал и бросился бежать. К погоне присоединилась огромная черная овчарка Юнона — «собака Баскервилей», как я ее про себя называл. Как-то, когда я работал в ватнике, Юнона чуть не прокусила мне руку. Она серьезная собака. Скоро вся площадка преследовала несчастную дворняжку. Мальчик сидел на траве и плакал.
— Открой калитку! — крикнул я, но он не расслышал.
Собаки загоняли Джима в угол.
— Они же разорвут его! — крикнул я, но никто почему-то не обратил на это внимания. Все с интересом следили за происходящим. Мохнатый, рычащий шар катался по площадке. В центре находился Джим. Схватив плетку, я принялся лупить озверевших собак по спинам.
— На место! Все на место! — орал я.
Внезапно кто-то вырвал плетку.
— Размахался… — недовольно сказал хозяин Бонни и открыл калитку. Взъерошенный, скулящий Джим вылетел, как из катапульты. Убедившись, что его никто не преследует, он трусливо и обиженно залаял. Собаки бросались на сетку и рычали.
Следом за Джимом вышел мальчик.
— Видишь, как все получилось… — сказал я, облизывая пересохшие губы.
— Спасибо… Вы защищали Джима… — тихо ответил мальчик и пошел в сторону леса. Джим побежал следом за ним.
— Эй! Поводок-то забыл! — крикнул кто-то и швырнул через сетку поводок Джима. Мальчик подобрал его и пошел дальше. Потом сел на траву и стал смотреть на небо. Ветер шевелил его светлые волосы. Мальчик уже не плакал. А верный Джим, словно ничего не произошло, бегал вокруг и лаял. Он не понимал, как можно грустить, когда все так хорошо кончилось.
Площадка не успокаивалась. Собравшись в кружок, хозяева обсуждали происшедшее.
— Дворняжка не собака! — презрительно говорил хозяин Бонни. — Во дворе мой Бонни дрался с двухлетним боксером и прокусил ему шею. Бонни отлично дерется, он сразу хватает врага за шею…
— Ваш Бонни просто гангстер! — сказала хозяйка Дэзи.
— Ха-ха, гангстер… Вот вы не знаете… Однажды слышу на лестнице шум, выхожу, а там…
— Эрдельтерьеры — самые приспособленные к городской жизни собаки, — заявила хозяйка эрдельтерьера Тюшки, высокая молодая женщина с недобрым лицом.
— Точно! Она сказала, что кошка останется теперь инвалидом, стала говорить, что сиамская кошка стоит…
— У эрделей наиболее здоровая психика. Вот, например, ваш доберман, — она повернулась к хозяйке Дэзи, — стоял и чего-то скулил, а Тюшка погналась за этой дворнягой.
— А при чем, извините, здесь психика? — удивился хозяин дога Карата.
— Травля есть травля, и если собака к ней равнодушна, значит…
— Значит, шагом марш к психиатру! — сказала хозяйка Дэзи.
— А вы не смейтесь! Знаете, как городские ритмы влияют на собак? На Западе существуют специальные психиатрические клиники…
— Как интересно! — воскликнул хозяин Карата. Во время свары он держал своего дога на поводке. — Как же там лечат? Психоанализом? Может, методом аутогенной тренировки?
— Чего вы ко мне пристали? Я про это в газете читала! — разозлилась хозяйка Тюшки.
— Чего бы там ни болтали, а собака прежде всего должна уметь постоять за себя! — поставил точку хозяин Бонни.
Собак развели по площадке.
— А мне жалко мальчишку… — сказала хозяйка Дэзи. — Дэзи не побежала за дворнягой. Наверное, у нее больная психика.
— Если уж быть точным, Дэзи сначала побежала, но потом ее укусили, и она вернулась, — сказал я. — Так что в Дэзи заложено здоровое начало. Только оно задавлено трусостью…
— Профессиональная наблюдательность! — съехидничала девчонка.
— Просто рядом стоял, — ответил я и стал отряхивать штаны. Они были в пыли и в собачьей слюне. Еще заболею чумой какой-нибудь.
— Иван Дмитриевич, что мне делать? — спросил я, подойдя к инструктору.
— Иди к черту! — буркнул он, уставившись куда-то в сторону.
— Слушаюсь! — почтительно сказал я и по-военному развернулся.
— Меня зовут Лена… — сказала хозяйка Дэзи. Мы стояли в углу на зеленом клочке травы. Занятия продолжались.
— Очень приятно. Сергей, — представился я и поклонился. Так состоялось наше знакомство.
— Вы не похожи на инструктора, — сказала Лена и положила руку на бревно.
— Почему не похож? — спросил я, глядя на ее руку.
— Каждый день приносите папку и что-то рисуете.
— А что, нельзя?
— Рисуйте себе на здоровье. Только не так… трагично… Вся площадка смеется.
— Вот как? — удивился я.
— А ты думал — самый умный здесь? — неожиданно назвала она меня на «ты» и убрала руку с бревна.
— Ничего я не думал, — ответил я. — Все правильно. Я не инструктор… Я шпион! А рисую я химический завод! Знаешь, что он производит?
Она вздохнула.
— В институт, наверное, не поступил, вот и придуриваешься…
— Ну знаешь! — разозлился я.
— Куда хоть поступал?
— В Академию, на факультет живописи. — Мне вдруг расхотелось ей грубить.
— Провалился?
— Не прошел по конкурсу.
— Жаль, что мы не были раньше знакомы… — улыбнулась она.
— Почему жаль?
— У меня отец тоже художник. Ты должен его знать! — Она назвала фамилию.
Это была фамилия одного из членов приемной комиссии.
… Я пришел к нему после экзаменов. Пять человек набрали столько же баллов, как и я. На эти пять человек было три места. Меня не взяли, и тогда я просто пришел посмотреть на композиции тех троих, которых приняли.
Я случайно встретил его в коридоре и уговорил открыть мастерскую.
— В левом углу, крайние от окна, — сказал он. Я прошел в мастерскую. А он смотрел в окно и курил сигарету. Усталый немолодой человек с равнодушным лицом.
Первая композиция называлась «Расстрел героя». Белогвардейцы расстреливали кого-то в белой рубашке на фоне скал. Вторая композиция изображала сталелитейный процесс.
— Разве можно стоять так близко к формам? — удивился я.
— Чего? — удивился он.
— Нельзя, говорю, так близко стоять… — повторил я.
— Работал в горячем цехе? — усмехнулся он. — Старый металлург?
— Все равно нельзя так близко находиться, — настаивал я, потому что помнил, как нас водили на завод, и какой жар стоял, когда выпускали расплавленный металл, и как к формам можно было приблизиться только в специальном костюме.
— Поэтому ты и писал аквалангистов? — спросил он.
— Я ведь не старый металлург, — ответил я. — И на самом деле не работал в горячем цехе…
Он пожал плечами. Дым от сигареты плавал в воздухе. Форточки были закрыты.
Я кивнул и вышел в коридор.
— Подожди! — сказал он.
Я остановился.
— Тебя не приняли не потому, что ты писал аквалангистов, а потому, что ты их плохо написал… Ты словно забыл, чему тебя учили в школе. Моне… Аквалангисты в солнечный день на дне морском… — Он усмехнулся и выбросил окурок в урну. — И не думай, что жизнь кончилась…
— До свидания, — сказал я.
— Да, — ответил я Лене, — жаль, что мы не были знакомы раньше.
Она с удивлением посмотрела на меня, удивилась, должно быть, что я так долго думал, а сказал такую глупость. Я криво улыбнулся, еле удержался от глупого: «Передавай папе привет…» Но тут, к счастью, меня позвал Иван Дмитриевич, и я поспешил к нему.
— Ты сюда пришел работать или с девчонками лясы точить? — строго спросил он.
— Я думал, уже уволен…
— Надевай ватник! — махнул рукой Иван Дмитриевич.
… Когда хозяева уводят собак с площадки и наступает тишина, я сажусь на скамейку около калитки и закуриваю. Сижу и ни о чем не думаю.
В семь часов еще светит солнце. Неяркое и красное, оно висит над лесом. Люди уходят с площадки и идут по полю, постепенно они становятся все меньше и меньше, а скоро исчезают совсем, потому что поле холмистое и если спуститься с холма, то с площадки тебя уже не видно. Иван Дмитриевич ушел, не попрощавшись со мной. Наверное, обиделся из-за этой истории с Джимом. И Лена с Дэзи ушли. Они тоже обиделись. Все на меня обиделись…
Около магазина «Эстафета», где продаются восточные сладости, я встретил своего друга Петьку Быланского. Его послали купить чего-нибудь к чаю. На улице Типанова с грохотом заворачивали трамваи, и искры сыпались в разные стороны. Петька поставил меня в очередь, а сам отправился выбивать чек. Оказывается, ему надо было купить торт. Сегодня у них гости.
Потом мы шли к дому, я узнал массу новостей, половина из которых наверняка вранье. Я заметил, что Петька разговаривает со мной как-то осторожно.
— Еще какие новости? — спросил я.
Петька пожал плечами.
— Все, вроде… — неуверенно сказал он.
— Не хочешь говорить, не надо, — я пошел к своему подъезду. Я живу в первом подъезде, а Петька в пятом.
— Тебя должны вольным слушателем зачислить! — крикнул Петька. — Просись в нашу мастерскую!
Я обернулся и махнул рукой. Как же, разбежался… Петька стоял на том же месте и почему-то смотрел на меня. Что же это за новость, про которую он ничего не сказал?
— Тебе Светка звонила, — сообщила мать, как только я вошел.
— Ну и что сказала? — спросил я, надевая тапочки.
— Просила, чтобы ты позвонил, — мать ушла на кухню.
Оказывается, новость, как шило в мешке, не утаишь. Сама тебя найдет и уколет!
— Мам! — крикнул я. — А больше она ничего не говорила?
Из кухни плыл запах борща. Ненавижу борщ! Потом уныло звякнула тарелка.
— Сережа, — сказала мать, — помойся в ванне, ладно?
— Я спрашиваю, Светка больше ничего не говорила?
— Ничего.
— А ванна при чем?
— От тебя… собаками пахнет…
— Ах, собаками… — пробормотал я и забрал телефон в свою комнату.
— Борщ остынет! — крикнула мать.
— Оставь кости поглодать! Сейчас от меня только пахнет собаками, а к вечеру я сам в собаку превращусь…
— Юмор у тебя, конечно…
Телефон уставился на меня десятью пронумерованными глазками. Я никак не мог заставить себя набрать Светкин номер. Я боялся, хотя бояться было совершенно нечего. Светка училась на архитектурном факультете, я работал на собачьей площадке, и не виделись мы черт знает сколько. Только почему я тогда схватил телефон и собрался ей звонить? К чему такая спешность?
Я вдруг вспомнил, как мы со Светкой лежали на пляже около ее дачи и я вроде бы в шутку предложил ей выйти за меня замуж. Я сыпал ей на плечи песок и ждал, что она ответит. Светка сняла темные очки и зажмурилась.
— Очень мило с твоей стороны, — сказала она. — Надо запомнить день и час. Это первое предложение в моей жизни.
— Но по-видимому, не последнее… Так ты думаешь?
Светка лежала на песке, и вся спина у нее была красная. Еще минуту назад я хотел посоветовать ей перевернуться, но теперь не стад этого делать. Сейчас меня почему-то мало трогало, что завтра спина у нее будет болеть.
— Сколько времени ты даешь мне на размышления? — засмеялась Светка.
— Ни секунды, — ответил я.
— Это не предложение, — потянулась она, — это какой-то ультиматум…
— Я жду.
— Смотри, какое красивое облако, — сказала Светка, — солнце надело его на голову, как шапку…
О чем мы говорили дальше, я не помню. Помню только, что в тот день я уехал со Светкиной дачи. В электричке я думал над этим разговором, но так и не сделал правильных выводов. Я, наверное, тогда читал «Ромео и Джульетту», и мне хотелось любви до гроба. Но прошло некоторое время, и оказалось, что нас со Светкой ничего не связывает. Она старательно мне это объяснила, а я из непонятного какого-то упрямства сделал вид, что да, конечно, так, мол, и есть. А потом… После того случая на даче мы виделись еще несколько раз, и Светка дала понять, что отныне мы просто друзья-одноклассники. Теперь уже мне с ней было поздно спорить. Такой безобидный был разговор, и такой вот результат…
И еще я вспомнил день, когда увидел рыжую колли. В тот день я понял, что единственное, от чего получаю настоящую радость, — это от того, что рисую. В тот день я забыл про все на свете. Этюд висит у меня в комнате, и даже Петька Быланский, который никогда ничего не хвалит, изрек: «Хм…» Это высшая похвала в его устах.
Из нашего окна виден аэропорт. Днем я не обращаю внимания на самолеты, а ночью они похожи на глубоководных фосфоресцирующих рыб, переселившихся на небо.
Я набрал Светкин номер.
— Это я, — сказал я. Светка молчала. В трубке что-то мирно шуршало и потрескивало. — Я звоню, потому что ты просила.
Светка засмеялась.
— Отгадай, зачем я просила?
— Соскучилась по старому другу?
— И… это тоже.
— Наверное, замуж выходишь. Шила в мешке не утаишь…
— Я и не таю, — сказала Светка.
Теперь тупо замолчал я.
— Я думала, ты знаешь…
— Хочешь пригласить меня на свадьбу? — Я постепенно приходил в себя.
— Ты не придешь, — сказала Светка.
— А вдруг я захочу быть этим… Почетным… С полотенцем через плечо?
— Шафером? — снова засмеялась Светка.
— Я пошутил. Конечно, я не приду…
— Ты даже не спросил, за кого я выхожу?
— Действительно. Как же это я оплошал?
— Но ты его все равно не знаешь.
— А он меня знает?
— Знает, что мы друзья…
— Конечно, друзья. А кто мы еще?
— Я рада, что мы одинаково думаем. Свадьба через две недели, в субботу, в шесть часов у меня дома. Если хочешь, приходи…
— Я подумаю.
— Счастливо! — Светка повесила трубку.
Я решил позвонить Петьке. Подошла его мать.
— Это ты, Сережа? — спросила она.
— Это Коля, — ответил я грубым голосом.
— Коля? — удивилась Петькина мать, и я представил себе, как она стоит в прихожей напротив зеркала и пожимает плечами. — Петя! Тебя какой-то Коля спрашивает! — услышал я ее голос. — Что это за Коля? Откуда он?
— Але! — заорал в трубку Петька.
— Не ори, — попросил я.
— Это ты? — удивился он.
— Ты, конечно, в числе приглашенных? — спросил я.
— Я не пойду.
— Ценю твою жертву. Но она ни к чему…
— Слушай, ты!
— Не продолжай. Кто он такой?
— Какой-то, говорят, третьекурсник…
— А когда они… Ну… все началось… давно?
— Не знаю.
Я вздохнул.
— Ну а что слышно? Сплетни-то какие?
— Сплетни, что давно…
Мы замолчали. «А борщ давно остыл, и мать убрала его в холодильник…» — ни к селу ни к городу подумал я.
— Я тебя, может, навещу вечерком, — сказал я и повесил трубку.
Потом пошел на кухню, где долго не мог вытащить из холодильника огромную кастрюлю с борщом. Она все время задевала банку с огурцами.
Всю эту ночь я просидел в кресле. Я не плакал, потому что разучился плакать. Слезы сами выкатывались из глаз, текли по щекам, потом высыхали, и щеки становились какими-то резиновыми…
Снова площадка, и снова мои друзья Бонни, Тюшка, Эльда, Юнона, Чанга, Гирей, Максим, Дэзи рвут несчастный ватник, а я, весь потный и пахнущий псиной, как самоедский шаман, танцую перед ними, доводя их ненависть до самого высшего накала.
Даже суровый Иван Дмитриевич не удержался и сделал комплимент.
— У тебя природный дар злить собак, — сказал он. — У меня еще не было таких помощников…
— Человек не знает, где ему суждено найти себя…
— А в детстве тебя случаем собака не кусала?
— Нет. Собаки — это для меня сейчас воплощение жизни. Жизнь бросается на меня, а я не даюсь, увертываюсь. Наношу удары!
— Ну, давай-давай, наноси… Только хлестать старайся не по голове, а по морде, и не тыкай, как дубиной, а с налета, с налета, чтобы не больно было, а обидно… По зубам, по зубам!
— Ясно, — ответил я и ушел переодеваться. Пьяница несчастный! Учит! Если собрать все бутылки портвейна, им выпитые, можно опоясать площадку тройным кольцом.
Что-то давненько Лена не показывалась. Дэзи опять приводит какая-то женщина.
После сражений с собаками мысли в голове путаются. Мой отдых кончился. Теперь я работаю за семерых. И Иван Дмитриевич заметно повеселел. Если раньше площадка была похожа черт знает на что, то теперь она работает как налаженный механизм. Бывают, конечно, перебои. То вдруг закапризничает Дэзи, или наотрез откажется прыгать через барьер дог Карат. Отличник номер один — это Бонни. Боевой эрдельтерьер, хозяин на него не нарадуется. Правда, вышел как-то у них небольшой конфликт с Тюшкой, Бонни явно симпатизировал Тюшке, и хозяин сказал, что неплохо бы… потом, когда подойдет время… Одним словом, сказал он, Бонни и Тюшка могут стать неплохой парой…
— Тюша — дочь Ай-Эрли и Принц-Джой-Рика, — ответила хозяйка Тюшки, красивая тонкая женщина с накрашенными глазами и узкими бровями. — А дедушка с материнской стороны у нее Ампир-Фейри Второй, тот самый, который получил в Западной Германии на чемпионате Европы большую серебряную медаль и диплом…
— Ну и что? — возразил уязвленный хозяин Бонни. — Бонни тоже из благородных. Сын Юнит-Бьюти и Арса-Гогена, а в роду с отцовской стороны у него был Али-Паша фон Лангенгрюнд из питомника госпожи фон Хейлингенхаллен. Он был абсолютный чемпион мира!
— Ничего подобного! — отрезала хозяйка Тюшки.
— Как ничего подобного? Вру я, что ли?
— Врете!
— Ну знаете… — потрясенный хозяин Бонни развел руками.
— Я знаю всех чемпионов мира с пятьдесят третьего года.
— А может, он был в пятьдесят втором?
— Сомневаюсь. Но если вам так хочется, пожалуйста, считайте его чемпионом…
— Да был он чемпионом, был! — не сдавался хозяин Бонни. — Какие, кстати, у вас планы на будущее?
— Думаю случить Тюшку с Драконом-Нико, — просто сказала хозяйка Тюшки.
— С рекордсменом? — присвистнул хозяин Бонни.
— Да, это лучший эрдель в Союзе, — скромно ответила хозяйка Тюшки. Она внимательно разглядывала Бонни. Сначала ее лицо было нахмурилось, а потом прояснилось. — Я бы посоветовала отвести Бонни к Пери-Регине, — сказала она. — Вы как раз подходите ей по масти. Хотите, дам телефон хозяев?
— Вообще-то я уже договорился… Сами понимаете, Бонни идет нарасхват…
— С кем?
— Да есть у нас во дворе одна сучка… Нелька…
— Нелька? — засмеялась хозяйка Тюшки. — Вы уверены, что она эрдель?
— Ее не выводят на выставки. Ее хозяин — больной человек, ну и…
— Вы хотите получить щенков от суки, которую не выводят на выставки? Их же никто не купит!
— Что вы! — испугался хозяин Бонни и вытащил из кармана записную книжку. — Дайте мне, пожалуйста, телефон Пери-Регины.
— Пери-Регина вряд ли сама сможет с вами поговорить, — усмехнулась хозяйка Тюшки. — Спросите Риту Францевну, скажете ей, что звоните от Магды. Магда — это я. Скажете, что я считаю вашего Бонни идеальной парой для Пери…
А Бонни и не подозревал, что он идеальная пара для Пери-Регины. Бонни лез к Тюшке, загребая лапами землю, как экскаватор, и Тюшка поглядывала на него с симпатией. Их мягкие черные носы, как пылесосы, втягивали в себя воздух и сопели, уши были вскинуты, а лапы дрожали, но хозяева крепко держали в руках поводки.
— У вашего Бонни мягкая шерсть. Ему не поставят на выставке отлично, — заявила вдруг Магда.
— Как… не поставят? — изумился хозяин Бонни.
— Очень просто. С такой шерстью нечего думать о медали. Но я могу вам дать телефон одного парикмахера, — сказала Магда. — За десятку он превратит вашего Бонни в картинку… Если только возьмется за него… — прибавила она задумчиво.
Мне показалось, что хозяин Бонни сейчас упадет на траву.
— Понимаете, вы прозевали момент, когда Бонни нужно было щипать… — продолжала Магда. — Я боюсь, что сейчас поздно… А впрочем… — Она подошла к Бонни и профессионально его погладила. — В общем, вот вам телефон, спросите Эрика. Скажете: от Магды. Только не тяните. Кстати, у него прелестная сучка Глори-Флёр…
— А как же Пери-Регина? — растерялся хозяин Бонни.
— Но Бонни — кобель, — засмеялась Магда. Хозяин Бонни тоже улыбнулся собственной дурости. Теперь он не смел вступать в споры с Магдой. Особенно после того, как она обмолвилась, что все судьи на выставке ее друзья…
… Собачьи габсбурги и гогенцоллерны одобрительно взирали с небес на своих потомков…
Сегодня я захватил на площадку этюдник. Решил пораньше отпроситься у Ивана Дмитриевича и уйти в лес. Деревья там уже окончательно пожелтели и покраснели, и мне хочется оказаться в лесу, пока светит солнце и пока светло.
Собаки с удовольствием прыгают через барьер, охраняют и ищут, рвут мой ватник, но упорно не желают ходить по бревну, словно оно заколдованное. Я все время думаю: неужели это так необходимо, чтобы собаки ходили по бревну? С нашей, человеческой точки зрения, это необходимо, потому что мы сами это бревно придумали, а собакам оно совсем не нужно. Собаки боятся высоты и за километр обходят все высокие бревна. Собаки выполняют команды только из любви к хозяину. Чтобы он не сердился и чтобы все было хорошо. Если я когда-нибудь заведу собаку, то на площадку с ней не пойду. Я сам научу ее делать все, что нужно. Раньше мне больше всех нравился Бонни, а теперь нравится Дэзи. Сейчас Бонни выщипан по последней моде и вовсю готовится к выставке. Парикмахер Эрик не подвел! А хозяин Бонни (он, оказывается, работает диспетчером в аэропорту) подарил Магде букет роз. Она все время твердит, что розы и эрдели — ее слабости. В конце концов Бонни, может быть, и будет позволено поиграть в любовь с Тюшкой, то есть с Торикой-Рен-Рильди, вот как, оказывается, ее полное имя. Разумеется, только в том случае, если не получится с рекордсменом.
Скоро занятия на площадке заканчиваются, и я уйду отсюда. Иван Дмитриевич будет работать с другими собаками, а у меня вся любовь, отпущенная на собак, израсходована.
Сегодня на площадку придут Петька Быланский и Валька Ермаков. Мы пойдем в лес писать этюды. Один раз они уже приходили. Им понравились холмы, поля и даже куриные лапы высоковольтных передач, которые, на мой взгляд, только все здесь портят. «Индустриально-лирический пейзаж», — сказали мои друзья.
Этюдник валяется на траве около калитки. Бонни подошел и обнюхал его. Потом с презрением поднял ногу. Все как в моей будущей композиции. Только сейчас я отличаюсь от героя. Я стал настоящим инструктором, даже Иван Дмитриевич со мной советуется.
Он подошел после занятий, которые закончились на полчаса раньше.
— Получил зарплату, художник? — спросил он.
— Хотите портрет заказать?
— Куда мне… Физиономия у меня того… не подходящая…
— Иван Дмитриевич, как можно!
— Я и забыл, когда последний раз в зеркало-то смотрелся.
Я промолчал. Не решился убеждать Ивана Дмитриевича, что он красавец.
— Уходишь скоро? — помедлив, спросил он.
— Ухожу.
— А то смотри… Можно попробовать на полную ставку перевести.
— Надоело с собаками возиться. Псиной, говорят, пропах…
— Аргумент… — Иван Дмитриевич ковырнул желтым прокуренным ногтем скамейку. — Девчонка, что ли, это говорит?
— Какая?
— Какая с Дэзи ходит…
— Вот еще! — возмутился я. — Я ее собаку учу!
Мы помолчали.
— Хорошая она девчонка, — сказал Иван Дмитриевич и неожиданно смутился. — Хочу сказать, понимает все, а ты с ней как-то…
— Понимает все… Вы, как о собаке, о ней, Иван Дмитриевич!
Он вздохнул. Мне стало его жалко.
— Иван Дмитриевич, — вдруг спросил я. — Скажите, добьюсь я чего-нибудь в жизни или нет?
Он с удивлением посмотрел на меня. Папироса чуть изо рта не выпала.
— Да откуда я-то знаю?
— Ну… старый, опытный человек. Глаз — алмаз…
— Алмаз… — усмехнулся Иван Дмитриевич. — Был бы алмаз, поверь, не собак бы здесь учил…
— Я буду приходить сюда рисовать, не возражаете? — спросил я.
— Рисуй… — сказал Иван Дмитриевич. Он смотрел в сторону леса. Первый раз я видел его таким. Я встал со скамейки, а он даже не обратил внимания.
— Все будет хорошо, — сказал я и посмотрел на него. Он не ответил. — До свидания, — сказал я. Он не ответил. Он сидел на скамейке, и дым от папиросы ветер относил обратно на площадку. Там дым рассеивался.
Что-то не видать моих друзей. Я пошел в лес один. Трава еще не пожухла, и кое-где она выглядывала из-под опавших листьев яркими зелеными пятнами. Я разложил этюдник и увидел Дэзи, а потом Лену.
— Ты пришел писать этюд? — спросила Лена.
— Вроде бы…
— Я не помешаю?
— Конечно, нет… Можешь даже помочь.
— Каким образом?
— Если встанешь вон под то дерево…
— А если я буду стоять у тебя за спиной и смотреть, что ты пишешь?
— Тогда ты будешь безусловно мешать…
— Ты знаешь, мне кажется, что Дэзи больше нечего делать на этой площадке, — сказала Лена.
— Почему?
— Я не буду водить Дэзи на выставки, она не научилась ходить по бревну…
— Ты когда-нибудь улыбаешься? — спросил я.
Этюд выходил излишне ярким, правда, осень не боится красок. Лена стояла под деревом в длинном черном пальто. На голову ей упал жёлтый лист, но она не заметила.
— Ну и что? — спросил я. Когда я пишу, то не улавливаю смысла слов, которые мне говорят. Доходят какие-то словесные оболочки, на которые удобно отвечать вопросами. Но иногда все равно невпопад получается.
— Я тоже, — сказала Лена, — не умею ходить по бревну…
— Проклятое бревно, — пробормотал я, выдавливая из тюбика желтую краску.
Лена стояла около дерева и плакала. Дэзи лизала ей руку.
— Что-то случилось? — опешил я.
Лена отвернулась, вытерла слезы.
— Мне кажется, — сказала она, — чем позже человек свалится с бревна, тем больнее…
Только сейчас я обратил внимание, какие у нее длинные ресницы! А еще художник!
— У тебя что-нибудь случилось? — запоздало спросил я.
— Сейчас это уже не имеет значения, — ответила Лена.
— Действительно, — сказал я. — С какой стати ты должна мне об этом рассказывать?
— Не должна… — повторила она.
— Где ты живешь? — спросил я. — Хочешь пойдем домой вместе?
— Наконец-то догадался, зачем я торчу в этом дурацком лесу!
— Только не плачь больше, — сказал я. — Потому что если я начну вспоминать свои несчастья…
— О закаленный в бурях житейских! — она молитвенно сложила руки. — О научившийся падать с бревна!
— Это просто, — ответил я. — Надо делать свое дело…
— А если нет своего дела?
— Тогда не знаю… Надо, наверное, его найти…
— Я больше не буду водить Дэзи на площадку, — Лена наконец сняла с головы желтый лист и теперь с недоумением его рассматривала.
— Мы уйдем вместе, — сказал я. — Ты, я и Дэзи… — Я смотрел на Лену, на Дэзи, которая подбежала к нам и залаяла, на лес и думал, что моя работа на площадке действительно закончилась.

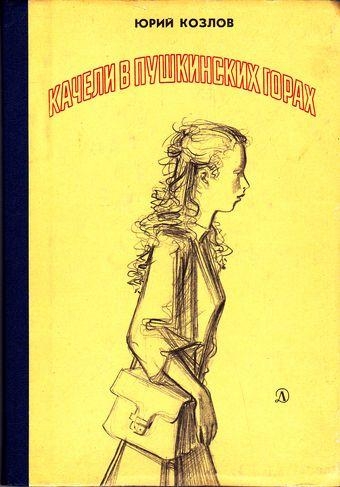
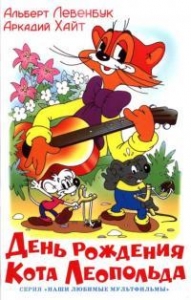









Комментарии к книге «Качели в Пушкинских Горах», Юрий Вильямович Козлов
Всего 0 комментариев