ПОСВЯЩАЮ МОЕЙ МАТЕРИ ШАРЛОТТЕ БАСТИАН
Глава первая ДРУГА ТОРСТЕН
Вечно его место за партой пустовало. И как только учитель, выкликая в начале урока имена учеников, называл Другу Торстена, ребята хором кричали: «Болен!..» При этом им бывало очень весело, и тот, кто первым произносил это слово, победоносно оглядывал класс.
Друге было тринадцать лет. И, когда здоровье позволяло ему являться в школу, он сидел за партой один. Товарищи сторонились его: он был очень бледный. В деревне говорили, что он скоро умрет, и боялись, как бы дети не заразились от него какой-нибудь болезнью. Все ведь очень любили своих детей, а Друга был чужак, приехал из города, ничего не слыхал о молотьбе, о том, как сажать картошку, да и говорил совсем не по-деревенски.
Когда учитель вызывал болезненного мальчика и тот чуть слышно произносил: «Я здесь», это звучало как «Простите меня, пожалуйста». Учитель недолюбливал Другу — слишком уж хорошие сочинения он писал, куда лучше, чем его собственный сын, да и мать Други Торстена никогда не приносила ему сала на квартиру.
Сыну она как-то сказала: «Бьюсь об заклад — у этого учителя рыльце в пушку». Почему она в этом была так уверена, она и сама не знала. Но говорили так в деревне многие.
Всю зиму мать ходила с топором в лес — валила деревья. А летом она батрачила у богатых хозяев. Их в деревне еще хватало, и учитель водил с ними дружбу. Но не только потому, что так уж повелось исстари, на то были другие причины.
На переменах Друга тоже оставался один. Он стоял посреди галдящего школьного двора, который скорей напоминал заброшенную дорогу. На противоположных концах его лежало по два булыжника — футбольные ворота, а между ними ребята гоняли мяч, похожий на бесформенную дыню, но дорожили им больше, чем всеми школьными уроками, вместе взятыми. На переменах учитель не обращал внимания на своих учеников, а когда нелегкая заносила его во двор, запретный мяч успевали спрятать куда-нибудь подальше.
Только один Друга боялся этого мяча, а ему так хотелось в него поиграть! Но он не умел и чаще всего просто не попадал ногой по мячу или отбивал его противнику. Ребята тут же налетали на него, и ему здорово доставалось. Друга почти не защищался и никогда не ябедничал. Но страдал он при этом, как страдают только в тринадцать лет. Под конец Другу никто уже не хотел брать в свою команду, и на переменах он торчал один посреди длинного двора под старым дубом, стараясь не мешать другим, а то как бы дело опять до драки не дошло.
Так он и стоял, бледный-бледный и какой-то ужасно взрослый. Сколько раз он плакал от гнева и презрения к самому себе! Жалкий трус он, и больше никто! Друга мечтал о том, чтобы у него были друзья. Не раз он пытался купить чью-нибудь дружбу, обещая одноклассникам всякие распрекрасные вещи, которых у него и в помине не было. И опять все кончалось побоями, и опять он оставался один.
И вот однажды Другу вынесли из школы на руках.
С утра накрапывал дождь. Дороги и тропинки раскисли. Даже дом против школы, с окнами без занавесок, казался грустным, словно и ему было зябко в этот ненастный ноябрьский день. Класс уже натопили, недавно выскобленный пол был затоптан грязными ногами. Ученики сладко потягивались за партами.
Но Другу бил озноб, болело сердце. Он сидел, закусив нижнюю губу, и никак не мог сосредоточиться.
Учитель за кафедрой с важным видом просматривал классный журнал. Это был высокий тощий человек, и на руках у него росли длинные черные волосы. Все ученики боялись его, за исключением детей богатых хозяев. Когда свет, падавший из окна, преломлялся в стеклах его очков, взгляд его становился злым и колючим. Под американским пиджаком в крупную клетку он носил жилет, и ногти его всегда были тщательно отполированы, будто у какой-нибудь шикарной дамы.
На дом было задано выучить стихотворение Иоганнеса Р. Бехера. Обычно в таких случаях Другу Торстена не спрашивали. Учитель знал — стихотворение Друга всегда выучит и прочтет хорошо. Однако сегодня, заметив отсутствующий взгляд Торстена, он тут же вызвал его к доске.
Друга стоял перед учителем и молчал. Он забыл начало стихотворения и даже как оно называется: у него болело сердце! Друга переступал с ноги на ногу, не зная, куда девать руки.
Учитель сидел, подперев голову ладонью, и сбоку поглядывал на ученика. Ему явно доставляла удовольствие его растерянность. Подчеркнуто вежливо он спросил:
— Может быть, ты возьмешь в руки какую-нибудь книгу? — И, немного помолчав, добавил: — Великие артисты всегда держат что-нибудь в руках, иначе они не могут довести до слушателей свой изумительный монолог.
Ребята засмеялись, а учитель напустил на себя еще большую важность.
Друге было не до смеха. Он весь дрожал. Дрожал оттого, что болело сердце и он никак не мог вспомнить первую строку, и еще оттого, что он ненавидел учителя.
Кто-то из ребят подсказывал шепотом:
— Мы учиться хо-тим…
Тихо, очень неуверенно Друга повторил:
— Мы учиться хотим…
Голос его прервался. В груди кололо, будто ее пронзали молнии. Он повернулся к учителю и хотел попросить разрешения сесть. Но что-то сдавило ему горло — он не в силах был вымолвить ни слова.
Опять учитель что-то сказал, и в классе, должно быть, раздался смех. Друга заметил это по лицам — он ничего не слышал. Ему вдруг стало все безразлично, он только подумал: у учителя голова совсем как у лошади; да, да, он похож на старую клячу и, наверное, за обедом повязывает салфетку. Наверняка повязывает салфетку — клетчатую или белую, да, пожалуй, белую!..
И Друга потерял сознание. Он упал на выскобленный пол.
Когда он снова пришел в себя, была темная ночь. Домик их стоял у самой околицы. И Друга каждый раз долго прислушивался к шуму машины, удалявшейся от деревни. Вот, сухо потрескивая, промчался мотоцикл, потом пробубыхал колесный трактор марки «Ланц». Ветер громыхал ставнями. А теперь донесся голос какого-то пьяницы, вновь и вновь затягивавший: «И все мы, все мы будем в раю…»
На изъеденном древоточцем столе чадила восковая свеча, к потолку поднималась черная нить копоти. Ток выключили. Дедушка спал. Ему было уже за восемьдесят, но каждый день, сунув в карман моток бумажных веревок и кусачки, он отправлялся в лес. Собирал там хворост, стаскивая сухие, обломившиеся ветки в кучу, потом кусачками откусывал торчавшие в разные стороны сучки. Ветку он уважал, только если она была прямая и гладкая, а то ведь и одежду можно порвать! Потом дедушка связывал хворост в три удобные вязанки и вечером с гордостью нес их домой, в деревню. Сперва он брал только одну вязанку, переносил ее на несколько десятков шагов и возвращался за второй, а затем и за третьей. Дед всегда сердился, когда Друга хотел ему помочь. Нет, он сам собрал дрова, сам и отнесет их, будто победитель какой. И вообще дедушка любил побыть один, но больше всего он радовался, когда Друга приносил из школы хорошие отметки. Тут сразу все чудачество с него соскакивало, он делался ласковым и рассказывал Друге разные приключения из жизни в Северной Америке.
Ровное дыхание деда порой переходило в тихий храп, но это как бы усиливало тишину, царившую в маленькой комнате. На краю кровати, не отрывая взгляда от мерцавшей свечи, сидела мама. Друга быстро закрыл глаза, но мать, должно быть, успела заметить, что он проснулся. Погладив его по влажному лбу, она ласково сказала:
— А ты долго спал.
Друга посмотрел на нее. Сейчас она улыбалась, но он видел, что недавно она плакала.
— Мне теперь совсем хорошо, — тихо произнес он.
Мать промолчала. Улыбнувшись, она погладила его по щеке. Рука у нее была загрубевшая, с потрескавшейся кожей. Он притянул ее к губам и прижался к ней.
— Хочешь, я тебе почитаю? — спросила мама.
Пламя свечи заплясало, и по озабоченному лицу матери запрыгали пятнышки света. Теперь Друга увидел, какая у нее усталая улыбка.
— Нет, правда, — повторил он. — Мне теперь совсем хорошо.
Она погладила его руку и взяла книжку со стула, на спинке которого висели его поношенные штаны. Мама замечательно читала вслух. Она умела подражать и голосам диких зверей в джунглях, и песне цикад в поле, где колышется спелая рожь. Она повышала голос, когда надо было осудить злодея, и говорила тихо, таинственно, когда читала о мальчике-пастушке, которому снилось, что он пошел в школу. Она смеялась и плакала, а порой и то и другое вместе. Мама была очень маленькая, но Друга и представить себе не мог, чтобы кто-нибудь мог лучше подражать грозному голосу сказочного великана. Друга только диву давался и забывал о своих болях, уносясь мыслями в красочный волшебный мир, который она создавала для него.
Мама читала ему всю ночь. Порой она роняла голову на грудь и тут же засыпала. Вздрогнув, она растерянно оглядывалась, нащупывала книгу на коленях и вновь принималась читать. Под утро, когда ей показалось, что сын уснул, она поднялась, принесла со двора воды и затопила печь.
Мама всегда ходила сгорбившись, но ни разу Друга не слышал от нее жалоб, хотя каждое утро она с тяжелым топором за плечами отправлялась в лес на работу. Но усталость никогда не покидала ее, и походка у нее была тяжелая. Ничего не видя и не слыша, она думала только об одном: скорее бы конец рабочего дня! А ведь дома ее снова ждала работа! И сегодня — Друга знал — она только тогда захлопнет книгу, когда он заснет. Ему стало стыдно. Он подумал о том, что мама совсем недавно еще плакала. Это и заставило его сказать сонным голосом:
— Правда, мама, я очень устал. Спать хочется. Пожалуйста, не надо больше!
Мать повернулась к нему: бледное лицо на белой подушке, глаза прикрыты.
— Доктор говорил, тебе надо операцию делать. Тогда ты совсем выздоровеешь.
— Да, мама, — ответил он, уже не думая об этом. Ему теперь было все равно. Доктору он не верил. Если тот мог помочь, почему он не помог до сих пор?
Немного погодя дыхание Други стало глубоким и ровным. Пожалуй, чересчур глубоким и ровным. Наконец-то мама поднялась и подошла к старому дивану — только на минутку прилечь! Но она так устала, что тут же уснула.
Теперь Друга снова лежал с открытыми глазами. Он смотрел на противное бурое пятно над кроватью и думал о том, как оно сюда попало. Во всяком случае, когда его сюда принесли после бомбежки, это пятно уже было здесь. С тех пор прошло почти пять лет — ведь это было еще в самый разгар войны. Друга часто подолгу смотрел на пятно, и ему казалось, что это вовсе не пятно, а чье-то злое-презлое лицо, чья-то рожа. Но сразу это не бросалось в глаза, надо было как следует присмотреться. Да здесь из всех углов выглядывали чьи-то рожи, злые-презлые и такие страшные, что даже не посмеешься над ними. Грустно становилось, глядя на них: торчат тут на обоях и слова сказать не могут, будто немые. А странным, должно быть, им кажется все, что происходит в этой комнатке — и в минуты радости и в минуты горя…
Обгоревший фитиль изогнулся, пламя свечи стало маленьким, синеватым и вдруг совсем погасло. Сразу запахло прогорклым маслом. Мать кашлянула, и снова стало тихо-тихо. Она спала.
А Друге казалось, что она все еще сидит рядом и читает или рассказывает. Одна за другой всплывали истории, услышанные от нее. Чаще всего в них говорилось о счастливых людях или о таких, которые в конце концов делались счастливыми. Но сколько бы раз он, Друга, ни слышал слово «счастливый», он не мог себе представить, что это такое. Да, что же это такое — счастье? И за что оно достается? И когда? Сколько он себя помнил, счастливым он никогда не бывал. И если мама рассказывала о счастливых днях своей жизни, она всегда говорила при этом «раньше». А это «раньше» означало «до войны». Значит, во время войны нельзя быть счастливым. Слово «счастье» и «война» не подходили друг к другу. Он задумался.
Ветер за окном утих, только пьяница все еще хотел попасть в рай, хотя вел себя так, что вполне заслуживал ада.
В маленькой комнатушке стояла кромешная тьма. Все спали. И больной мальчик, так глубоко задумавшийся, тоже наконец уснул.
Когда Друга снова открыл глаза, утро давно уже заглядывало в запотевшее окно. Чувствовал он себя намного лучше, чем ночью, и ему захотелось встать. В комнате никого не было, и он сразу подумал: где же мама, ведь у нее сегодня выходной. Может быть, она снова пошла к той женщине, у которой всегда оставляет все деньги? Теткой Люцией ее звали. С тех пор как три месяца назад один вернувшийся из плена солдат сказал матери, что отец погиб на войне, она часто бегала к этой тетке. Мать не верила, что отца убили, а тетка Люция гадала на картах. Всем отчаявшимся она обещала самое распрекрасное будущее и за это брала деньги. Много денег! Но в жизни все получалось совсем не так, как предсказывала тетка Люция, а деньги она почему-то не возвращала. Для нее это была мелочь. Она часто ездила в Западный Берлин и спекулировала там на черном рынке.
Раньше мать только улыбалась, когда слышала, что тот, мол, и тот ходил к тетке Люции и она ему гадала на картах. Но теперь, после того как пришло известие об отце, ее словно подменили. Только побывав у тетки Люции, она приходила домой не такая грустная. Будто она покупала у нее немного надежды. Иногда надежды хватало на целую неделю. И все же в конце концов надежда иссякала. Теперь мать уже с трудом справлялась с тяжелой мужской работой в лесу.
Да и дома ей было нелегко — старик дед да он, Друга, больной.
До того как они попали в эту деревню, мать работала гладильщицей на фабрике-прачечной. Там ей тоже было тяжело, и она часто говорила об этом. Но тогда ведь был еще папа! Он всегда умел ее приободрить. А теперь вот сказали, что он больше не вернется…
Солнце ласково заглядывало в окошко. Не выдержав, Друга встал, торопливо оделся и вышел во двор.
Небо в это утро было огромное, а платье на нем самое простенькое. Никто бы не мог даже сказать, голубое или светло-серое. Солнце удобно, как царица, расположилось на кронах сосен. Это было очень красиво. Замшелые черепичные крыши крестьянских домов покрыты белым искрящимся пухом и поэтому кажутся богато разукрашенными. Все они такие чистенькие, аккуратные, будто их кто-то слепил в песочнице, чтобы дети могли ими играть. А прочерченная железными ободами телег деревенская улица вся усыпана кристаллами, сверкающими мириадами звезд. И только из узкой колеи, оставленной небольшой тележкой, которая, должно быть, проехала здесь очень рано, вздулась бурая земля. Воздух не колыхнется, на посеребренной ветке сидит маленькая птичка и поет высоким голосом. И сама она так мала, и песнь ее так прекрасна, что все это походит на чудо. Сразу за домами видны поля, а за ними — лес. Поля тоже укрылись этим сверкающим покрывалом, оно слепит глаза. Кажется, весь мир нарядился, как на свадьбу.
Друга так и застыл у крыльца. Он стоит, чуть приоткрыв рот, глаза большие, полные удивления. И смеется, даже не сознавая этого. Что-то странное происходит с ним. У него такое чувство, будто он вот-вот взлетит. Он готов обнять этот огромный мир. У Други так вольно на душе, так чудесно. Жизнь прекрасна! Пошатываясь, он делает несколько шагов вперед, поворачивается, запевает какую-то песню, страшно фальшивя при этом, потом смеется и снова поет.
Друга был счастлив, и это буйное чувство радости захлестнуло его столь внезапно, что он даже ничего не понял. Им владело только одно желание — удержать его. Он чувствовал, что он живет и что жизнь — это радость! Он не в силах был больше таить в себе это чувство. Оно было слишком велико и не умещалось в его груди. Друга бросился бежать, подпрыгнул на ходу и бежал до тех пор, пока вновь не очутился в своей маленькой комнатушке.
Должно быть, мама и не ходила к тетке Люции. Она вошла со двора и в ужасе остановилась, заметив, что Друга никак не может отдышаться. Ведь доктор предписал строжайший постельный режим! Как не совестно!
А он стоял посреди комнаты и ждал, когда мать наконец замолчит. Ему хотелось рассказать ей обо всем сразу, но, захлебываясь от слов, он не мог произнести ни одного. И вдруг он понял: нет, он не сможет ей ничего рассказать, слишком мало он знает слов, чтобы передать то, что он пережил минуту назад. И все эти такие необычные, ни с чем не сравнимые чувства вылились в одно восклицание, которое вырвалось у него, хотя он и не очень-то понимал его смысл:
— Вырасту — буду поэтом!
Мать долго озабоченно смотрела на Другу.
Глава вторая АЛЬБЕРТ ВСТУПАЕТ В БОЙ
Вот уже три недели, как зима надела свой белый наряд, и деревня прекрасна, как бывает прекрасна только сказка. Даже длинные ночи ничего не могут с ней поделать: с веток и крыш, с заборов и дорог — отовсюду, пронизывая темноту, льется свет. Снег мокрый, липкий, никак не отстает от деревянных подошв. И Друге кажется, что он ковыляет на ходулях. То и дело приходится останавливаться; наконец он сильно ударяет башмаком о стену дома и сбивает снег. Глухие удары дерева о камень, разнёсшиеся далеко вокруг, пожалуй, единственный признак того, что деревня уже не спит. Скоро первый урок, а ночь все не сдается.
Надо поторапливаться. Другие ученики из его класса вон уже как далеко ушли! Ветер, словно подгоняя его, доносит обрывки их разговора. Но Друга только останавливается в страхе и ждет.
В первый раз после болезни он идет в школу. Как хорошо было в больнице! Не плохо бы вернуться туда. Ему там сделали операцию. Никто его не обижал, все обращались с ним, как со взрослым, были такие добрые, доктор часто подсаживался к нему, разговаривал. А когда мать пришла за ним, он сказал: «Не хотелось бы мне отпускать вашего мальчика, фрау Торстен. Нет, нет, не думайте — речь не о физическом его состоянии, в этом смысле я теперь в нем уверен — он поправится. Но у вашего сына есть и другая болезнь — хирургическое вмешательство тут не поможет. Недуг его коренится в душе. Слишком часто ему давали почувствовать: ты болен! А Друга уже не ребенок, давно уже не ребенок, и он страдает от этого. Помогите ему вновь обрести себя. Будьте ласковы с мим».
Друга сидел рядом в кабинете и слышал всё от слова до слова. И теперь по дороге в школу он думал о словах, сказанных тогда доктором. Он не все понял, но хорошо чувствовал: этот человек желает ему добра.
Со стороны школы донесся удар гонга — занятия начались! Друга вздохнул облегченно. Правда, теперь он придет с опозданием, но ведь именно этого он и хотел. Ничто его так не мучило, как необходимость сидеть среди других ребят и ждать, когда же наконец начнется урок. Другим-то что! Они кричат, возятся, строят рожи, перебрасываются шутками, смеются. Только он вечно один — ребята не принимают его в свой круг. Нередко он даже бывал мишенью их острот.
Друга прикрыл глаза — ветер гнал мелкую колючую поземку. Но почему так получается? Разве он не имеет права жить так, как все? Ладно, надо спешить!
Друга вошел в класс. Тридцать лиц повернулись к нему. Все они казались ему, как одно, — белые овальные пятна. Лишь постепенно они обретали определенные черты. Что это все уставились на него? Кто с издевкой, кто со злорадством, кто с любопытством… А может быть, это они его жалеют? Долго стоял он, застыв у дверей, словно желая вобрать в себя все эти лица. Казалось, вот-вот он повернется и убежит.
Учитель кашлянул. И Друга испуганно взглянул на него. Господин Грабо подался чуть вперед, как бы намекая на глубокий поклон, и с изысканной вежливостью проговорил:
— А-а-а! Это вы, господин Торстен, оказали нам честь? Тысячи извинений, что посмел начать занятия без вас. К сожалению, меня не уведомили о том, что вы соблаговолите явиться уже сегодня. В противном случае мы непременно подождали бы вас. — И он улыбнулся Друге фальшивой улыбкой.
В классе захихикали. Многим ученикам казалось, что учитель большой шутник. Но один явно не разделял этого мнения. Он зло передразнил хихикающих своим низким и грубоватым голосом. Господин Грабо тут же метнул на него гневный взгляд, да и Друга повернулся на этот голос. Парень сидел на его месте. И Друга посмотрел на него с благодарностью.
— Может быть, ты хотя бы извинишься, Торстен? — изменив тон, резко спросил господин Грабо.
— Да, я прошу извинения, — тихо произнес Друга.
— А теперь ступай на место. Альберт Берг пусть пересядет. И запомни на будущее: болезнью не спекулируют! Особенно, если ты давно уже выздоровел. Пропустил ты более чем достаточно.
— Я в больнице тоже учился. — Другой овладела робость.
— Это тебе придется еще доказать. А теперь поторопись и не отвлекай других от занятий.
Ученик, сидевший на месте Други, подвинулся влево, однако остался за той же партой. Кто-то шепнул ему сзади:
— Альберт, иди сюда! Что это ты с ним сел?
— Заткнись! — буркнул Альберт в ответ. Прозвучало это весьма значительно.
— Сколько раз я тебе говорил, Берг, не мешай вести урок! — Голос учителя звучал резко. — Свои хулиганские выражения оставь, пожалуйста, при себе или употребляй их среди себе подобных.
— А я и так среди себе подобных, — последовал ответ.
Должно быть, Альберт обладал невозмутимым спокойствием. Он был небольшого роста, коренаст, необычайно широк в плечах. И нетрудно было представить его себе таскающим тяжеленные мешки — его короткие ноги ступали твердо и уверенно по земле. Тот, кто его не знал, мог дать ему восемнадцать лет, однако на самом деле ему недавно исполнилось четырнадцать. Весь он был какой-то ладный, а черты лица выражали решительность — казалось, их вырезал скульптор. Смуглая кожа, крупные белые зубы, мягкое выражение глаз позволяли предположить, что Альберт вырастет красавцем. А густые, немного взъерошенные черные волосы как бы свидетельствовали о постоянной непокорности. Они и придавали ему несколько дикий, цыганский вид.
Господин Грабо зло поглядывал на Альберта сквозь стекла очков. Голос его дрожал.
— Встань и извинись!
— С какой стати? Я же среди себе подобных, — ответил Альберт, не думая подниматься.
— Не хами!
— Я только правду говорю.
— Заткни наконец свою глотку!
— Так не принято говорить. Это тоже хулиганское выражение.
Лицо господина Грабо приобрело цвет переспелого помидора. В великом гневе он закричал:
— Ты… ты!.. — но так и не смог найти нужного слова.
— Что я? — спросил Альберт в своей спокойной, невозмутимой манере.
Господин Грабо задыхался. Вытянув левую руку в сторону двери, он зарычал:
— Вон!
Другой рукой он швырнул мелок в Альберта, который небрежным, но точным движением поймал его и принялся рассматривать, словно редкую диковинку. Потом заметил с наигранной грустью:
— Видали мы и лучшие образцы… — и изящным броском переправил мелок в маленький ящик, прикрепленный к доске. Затем отвесил полный издевки поклон своим товарищам-ученикам и сел. Теперь уже никто не смеялся.
Рука учителя Грабо все еще указывала на дверь. Он молчал, но лицо его уже приобрело цвет сливы.
— Мне сразу домой идти? — спросил Альберт. Не получив ответа, он молча взял свою школьную сумку и вышел. При этом пышная копна его волос покачивалась из стороны в сторону.
Прошло некоторое время, прежде чем учитель Грабо обрел дар речи, но голос его все еще дрожал, когда он наконец продолжил урок.
Друга с удивлением следил за своим соседом по парте, пока тот не покинул класс. Ну и смелый парень! До самого обеда Друга ни о чем другом думать не мог, как о поступке Альберта. А потом — ведь Альберт остался сидеть с ним! Правда, он ни разу даже не взглянул на него, но и не пересел! Может, когда-нибудь и пересядет — ведь Альберт новенький в этой школе. При одной мысли об этом «когда-нибудь» Друге стало страшно.
Господин Грабо весь день чувствовал себя не в своей тарелке и один раз зашипел даже на собственного сына. Друга отметил это с удовлетворением — уж очень этот Гейнц Грабо задавался.
Всю дорогу домой Друга с благодарностью думал об Альберте. Он даже не спрашивал себя, прав тот или нет, и только уже поздно вечером стал рассуждать спокойно.
Он ведь совсем не знал своего соседа по парте. Альберт жил на выселках и до недавнего времени ходил в школу в Штрезове — соседней деревне. Несколько недель назад Бецовские выселки присоединили к деревне Бецов, и ребята, жившие там, стали ходить в здешнюю школу. Вместе с Альбертом в класс пришло еще пять новеньких. Друга стал припоминать, что он еще слышал об этом Альберте Берге. Хорошего мало. В деревне ходили разговоры, будто Альберт отпетый преступник. Только доказать это не удавалось. Говорили, что он подбивает своих дружков на воровство, требует, чтобы они по ночам грабили мирных жителей. Как бы то ни было, а Драчун он отчаянный. Это он уж не раз доказывал. Многие крестьянские парни постарше знают, что рассказать о его кулаках. А о матери Альберта говорили, будто она ведьма-колдунья. Встретившись с ней, дети обходили ее и три раза сплевывали. Взрослые не пускали ее на порог. В колдовство фрау Берг Друга, конечно, не верил, хотя тоже побаивался этой женщины. Уж очень у нее был страшный вид: лохматая, платье грязное, рваное.
Друга поймал себя на том, что от этих мыслей ему сделалось грустно. Ведь ему так хотелось стать другом Альберта, и пусть про Альберта говорят что угодно… Но он тут же оставил это и сердито покачал головой: нужна Альберту его дружба!
Хорошо, что было холодно и до лета еще далеко! А то разнеслась бы такая вонь! Живодер из окружного центра опять загулял. Трезвым его давно уже не видели. Сколько его ни вызывали, не приезжает, и всё! А коровы дохнут одна за другой. И это уже дней пять.
У въезда в деревню висело объявление: «Запретная зона — эпидемия ящура». А тот, кто все равно хотел проехать, должен был слезать с грузовика или велосипеда и вытирать ноги в опилках. Опилки были пропитаны каким-то сильным дезинфицирующим веществом. Так распорядился ветеринар.
Скотина все дохла и дохла. И крестьяне уже начали ворчать — они ругали правительство и русских. Зато в воскресенье в церкви они подлизывались к господу богу, просили его о помощи. В конце концов господь бог и помог им, правда воспользовавшись для того помощью правительства, которое получило лекарство от русских. Вот как обстояло дело. После этого ветеринар приступил к прививкам, чтобы коровы больше не дохли. Это и впрямь помогло.
Но прежде чем скотина перестала дохнуть, крестьяне почесали языки. Вся деревня знала: слухи идут от кулака Лолиеса, однако доказать никто ничего не мог. Сам-то он редко когда говорил: так, обронит какое-нибудь словцо или состроит многозначительную мину, когда речь зайдет о весьма определенных вещах. Батраки на его дворе хорошо знали, что с Лолиесом можно ладить, надо только хорошенько разукрасить всякий слушок собственной выдумкой. В таких случаях тароватый хозяин не скупился.
На сей раз люди говорили, будто коров заколдовали. Кто-то клялся, что видели, как мать Альберта Берга крадучись пробиралась по главной улице села: глаза горят адским огнем, сама часто-часто дышит и бормочет заклинания из Пятой книги Моисея, если ее читать с конца. Книгу эту, правда, никто до сих пор у Бергов не видел, но она наверняка есть у этой ведьмы. А когда напал ящур, все только об этом и говорили. Однако под величайшим секретом. Стоит Альберту услышать подобное — ноги-руки переломает. А кому охота нарываться, хватит и эпидемии ящура. Не такие мы дураки, кое-чего соображаем! Правда, непонятно было, почему у самой ведьмы коровы тоже дохли. Вот ведь и свою скотину не пожалела, только бы подозрения от себя отвести! Кто с чертом заодно — тому хитрости не занимать!
В деревне только один человек всю эту колдовскую историю ни в грош не ставил — Шульце. А ему-то было над чем призадуматься. Во всяком случае, работники Лолиеса так считали. Падеж скота начался как раз у Шульце, и больше всего коров у него околело. Но он вечно себя умнее всех мнит. Гитлеровцы недаром его за решетку упрятали. Этот Шульце, как только у него первая корова пала, побежал к бургомистру. А спросит его кто — он в ответ: знаю, мол, отчего скотина дохнет, только пока молчу, время еще не приспело говорить. Вот чудак-то, тайна у него, видите ли! И всякие новомодные идеи: ими у него башка полна. Все хочет хозяйские дворы объединить и крупномашинное производство наладить. Будто ему тут Россия! Там-то в моде колхозы всякие. К чему это приводит, Лолиес сам на войне повидал. Лежат поля бескрайние необработанные или хлеба на корню гниют. А русские по ним на танках разъезжают — хозяйственность называется! Но разве Шульце что-нибудь втолкуешь? Ухмыльнется и скажет: «Если бы русские вас взашей из своей страны не гнали, им бы на танках по полям ездить не пришлось». Вот какой он, этот Шульце! И в партии красных состоял еще задолго до войны, а теперь член этой Единой партии, где они всех перемешали: и коммунистов, и социал-демократов. СЕПГ называется. «Скоро ей погибель — Германии», — язвил Лолиес. Правда, какой Германии погибель, он громко никому не сообщал. Деревенские партийцы теперь говорили, что надо идти по новому пути. И будто для этого надо землю государству запродать. Само собой разумеется, Шульце называл это по-иному. «Не продавать, а объединять землю, чтобы польза большая выходила и для других тоже».
А ведь еще совсем недавно они только и твердили, что о разделе земли, о земельной реформе. Согнали, значит, господ с их имений, а пришельцы всякие, голытьба нищая, получили столько земли, что хоть подавись ею. Здесь, в Бецове, и поблизости людям еще повезло. Помещиков здесь не было, а у хозяев — земли в обрез чуть ниже верхней мерки, какую разрешали. В самом Бецове земли лишился только один — ему дали делянку где-то в другом месте. У него, стало быть, оказалось на несколько гектаров больше положенного. Что ж, насчет земельной реформы Лолиес придираться не станет. В конце концов при разделе и ему несколько моргенов перепало. Только злился он очень, что этому батраку Рункелю сразу целое хозяйство досталось. Новым крестьянином стал себя называть, образина этакая! Во всей деревне ни один человек не мог сказать, что у этого Рункеля в голове творится. Никогда от него путного слова не услышишь, только одни ругательства. Однако имелись все основания предполагать, что он с красными заодно. Недавно в трактире все и выяснилось; стоило одному хозяину проехаться насчет колхозов в России, как он сразу от Рункеля по морде получил, отлетел до самой стойки. Но к чему сейчас себе этим голову забивать? Мало ли что этот Шульце и Рункель болтают — может, это их частное мнение? Только вот сегодня оно, может быть, и частное, а назавтра вдруг бумажка придет самая что ни на есть официальная — тут гляди в оба…
Вон этот Шульце опять в бургомистерскую побежал. А там перед крыльцом стоит серая городская машина. Какие-то начальники из округа прикатили.
Бургомистр, фрау Граф, знакомит:
— Это товарищи Вильке и Рюген из уголовной полиции. А это — наш товарищ Шульце.
Они вышли в соседнюю комнату, чтобы поговорить без помех.
Товарищ Рюген, тощий, болезненного вида мужчина, достал из портфеля папку. Небрежно перелистывая «Дело», он спросил:
— Вы член партии?
— Да.
— Хорошо, товарищ Шульце, тогда поговорим откровенно. Есть ли здесь в деревне или поблизости люди, которые ненавидят вас? Скажу иначе: которые могли бы быть вашими смертельными врагами?
Шульце рассмеялся:
— Что ж тут говорить. Любить они меня, конечно, не любят, большинство во всяком случае. Но чтобы ненавидеть смертельной ненавистью — это вы лишку хватили. Красным они меня называют, но такой «похвалы» заслужили и другие в деревне. — И он покачал головой.
— Однако вы подали заявление, что подозреваете неизвестное лицо в злом умысле. Чем-то вы ведь руководствовались при этом…
— Я же сперва подумал, что мне мою скотину кто-то отравил. Вечером еще я был в хлеву, сам доил, жена мне помогала коровам корм задавать, а наутро две коровы сдохли. На другой день еще три. Сами понимаете, тут заподозришь кого угодно.
Товарищ Рюген встал и прошелся несколько раз по комнате. При этом он тихо насвистывал. Нет, ответ крестьянина Шульце его не устраивал.
Тем временем другой приезжий вместе с бургомистром фрау Граф просматривал списки жителей деревни.
Немного погодя товарищ Рюген спросил Шульце:
— Ну и как же вы теперь считаете: коров ваших отравили или они сами околели?
— Нет, конечно. Теперь все знают — эпидемия.
Представитель уголовной полиции пристально посмотрел на него.
— Вы сами должны понимать, — сказал он, — эпидемия с неба не свалилась. Она вполне может быть делом рук человеческих.
Шульце не понял.
— О чем это вы? — спросил он.
— А я вот о чем. Может быть, кто-нибудь занес сюда эпидемию. Такого рода импортный товар завозят обычно из Западного Берлина. Или вы этого не знали? Небольшая посылочка, какая-нибудь плитка шоколада, парочка апельсинов и ампула с возбудителем заразной болезни. Сами знаете, как хорошо к нам относятся господа на Западе.
Шульце задумался.
— Ерунда какая-то! — произнес он вдруг. — Эпидемия! Апельсины! Я, конечно, не против вашей бдительности, товарищ Рюген, но тут вы того, хватили через край.
— Вы так думаете? А что вы скажете на это? — И товарищ Рюген протянул Шульце «Дело». — Чем вы объясните тот факт, что эпидемия вспыхнула в двадцати четырех деревнях нашего округа в один и тот же день? Читайте, читайте! Там только факты.
Долго крестьянин Шульце читал «Дело». Казалось, он изучает в нем каждую букву.
Неожиданно он вскочил, весь красный от возбуждения, и принялся бегать по комнате.
— Гады проклятые! — выкрикивал он. — Тут же черным по белому все написано!
— Причиненный вред неисчислим! — сказал товарищ Рюген. — В результате эпидемии следует ожидать недостачи мяса и стране, что, в свою очередь, вызовет недовольство населения. Запад будет, разумеется, лить крокодиловы слезы: какая бесхозяйственность! — В голосе его звучало ожесточение.
Шульце был подавлен. Значит, коровы у него пали неспроста. Эпидемия тут ни при чем. А он-то уж было успокоился. Какая подлость!
— Подозреваете кого-нибудь? — спросил он сдавленным голосом.
— Может быть, и подозреваем. Но вот доказательств у меня никаких нет. И будет трудно, очень трудно найти теперь какие-нибудь доказательства. Надо быть еще более бдительным, чем до сих пор. Вот и всё. И еще одна просьба: не говорите ни с кем о том, что вы сегодня здесь узнали.
Зима загнала зайцев на огороды. Мерзлый снег обдирал им лапы, но они все равно рылись в нем по ночам — надо же было вырвать у белой скряги хоть что-нибудь погрызть! Зверьки страдали от голода, а этим пользовались браконьеры — они ставили силки, и животные гибли мучительной смертью. Самыми свободолюбивыми оказались лисы — они перегрызали собственную лапу, лишь бы выбраться из западни.
Альберт Берг ненавидел браконьеров, к тому же он хорошо знал их всех и без устали выискивал и уничтожал силки и капканы. В школу он теперь ходил прямо через поля. Сегодня он опять наткнулся на западню. В нее попалась косуля. Ее прекрасная шкура была изодрана, на снегу алели пятна крови. Несчастное животное сражалось со смертью до последнего. Большие карие глаза уже утратили свой блеск, в них застыла печаль. Неожиданно по щеке Альберта скатилась слеза. Он быстро слизнул соленую влагу. Попадись ему сейчас этот браконьер — целым бы не ушел! Да, Альберт хорошо знал подлеца, вернее, обоих подлецов. Они учились с ним в одном классе: Гейнц Грабо, сын учителя, и его дружок Клаус, старший сын кулака Бетхера. Западню они, конечно, смастерили сами. Вообще-то Альберту было наплевать и на того и на другого, чем бы они ни занимались. Но это было уж слишком. Осторожно высвободил он косулю из смертельных пут и засыпал снегом. И тут же с яростью набросился на западню. Он крушил и рвал ее до тех пор, пока от рамы остались одни обломки. В школу он вошел вместе с ударом гонга. Ладно, с браконьерами он рассчитается на большой перемене, хотя неплохо было бы разогнать кровь славной дракой. В классе что-то прохладно…
Шел урок грамматики. У доски стоял Друга. И учитель задавал ему один вопрос за другим. А ведь Друга лежал в больнице, когда они проходили это! И все-таки он отвечал правильно. Альберт подумал: толковый парень, тряпка, а толковый! Две недели, как они сидят за одной партой, но так и не сказали друг другу ни слова. Альберт презирал Другу, в его глазах он был трусом и размазней. А Друга, должно быть, из гордости не предпринимал попыток к сближению. Да и вряд ли они привели бы к успеху. У Альберта Друга вызывал скуку, хотя он чувствовал, что чаще думает о своем соседе, чем ему хотелось бы. Тайно он даже восхищался им, завидовал его знаниям, способностям. Нет, все равно этот Друга — тряпка! Вот недавно ему опять всыпали. Чаще всего его задирал Грабо, а Друга даже не защищался. За это Альберт его больше всего и презирал. Альберт всегда заступался за слабых, но при этом он строго отличал слабых от трусливых. Косуля, например, на которую он сегодня утром наткнулся по дороге в школу, была очень слабой. И все же она боролась за жизнь до последнего. Всю шкуру себе ободрала проклятой петлей, стараясь вырваться. А этот Друга позволяет себя бить. Вот что противно! Поэтому Альберт и не заступался за него…
Кончился урок, и ребята поплелись во двор. Было дьявольски холодно, снег не лепился — в снежки не поиграешь. Но их все равно выгоняли на улицу. Так уж распорядился учитель Грабо. Он называл это закалкой.
Альберт сразу же взял курс на Клауса Бетхера и Грабо. Сплюнув, он выдвинул подбородок вперед и стал пристально разглядывать обоих.
— Ваш силок и раму я раздолбал на куски! — сказал он. — Теперь за вас примусь.
— Да иди ты! Охота была с тобой связываться! — ответил Бетхер, разыгрывая равнодушного, но ему стало явно не по себе.
— Чего звонишь, жирный! Вам неохота, зато мне охота разделаться с вами. — И Альберт подступил к ним вплотную. — Животных истребляете, гады! — Голос его был исполнен отвращения, и он с удовольствием вложил бы в него взрывчатую силу ручной гранаты.
Бетхер отступил, но Грабо остался на месте, ответив:
— Кое-кто еще не таких животных истребляет!
Альберт молниеносно схватил Грабо за воротник.
— Что ты сказал?
Теперь и Бетхер, правда с безопасного расстояния, рискнул вставить словечко:
— А эпидемия? Тебе-то лучше всех известно, откуда она взялась…
Тигриный прыжок, удар — и толстый Бетхер полетел кувырком. Жаль, он не запасся слюнявкой: кровь из носу ему всю рубашку залила.
Альберт замахнулся, чтобы нанести второй удар, но кто-то сзади схватил его за руку. Учитель Грабо!
— Берг! — стараясь говорить спокойно, произнес он. — Предупреждаю тебя в последний раз. Если это не прекратится, я позабочусь о том, чтобы тебя отправили в исправительную колонию.
— А что он издевается! — ответил Альберт, готовый принять неравный бой.
— Замолчи! — Учитель уже кричал. — Чтобы духу твоего здесь не было! Оставь порядочных ребят в покое! Сам видишь — они не хотят с тобой связываться.
На Альберта крик не произвел никакого впечатления. Но он решил не лезть на рожон. В конце концов ему все равно придется уйти, и он опять пропустит уроки. А этого он не хотел. Хватит — два раза его оставляли на второй год. Вот почему он промолчал. Только поэтому.
Тем временем Друга так замерз, что, несмотря на запрет, зашел в класс. Он стоял и грелся у старой кафельной печи. Скоро начнется следующий урок. Кто-то открыл дверь. Друга затаил дыхание, ему не хотелось, чтобы его обнаружили здесь, за печью, — от двери его не было видно. Должно быть, вошедший стал рыться в портфеле. По характерному шуршанию Друга догадался об этом. Значит, кто-то из учеников. Друге нечего было больше таиться — ведь тому тоже нельзя на перемене заходить в класс… Гейнц Грабо! И почему-то роется в портфеле Альберта. Вытащил тетрадь и все время с опаской поглядывает на дверь. Что это он? Друга ничего не понимал. Заметив его, Грабо вздрогнул. Минуту казалось, что он бросится снова во двор. Однако, должно быть, он решил иначе. Медленно, вызывающе ухмыляясь, подошел он к Друге. Тот молчал с каким-то особенно серьезным видом и не сводил глаз с Грабо. Несколько мгновений оба они, ни слова не говоря, глядели друг на друга.
— Ты ничего не видел, понятно?! — прошипел Грабо.
Друга молчал.
— Слышишь, это я тебе говорю! — процедил Грабо, прищурив глаза и прижав кулак к подбородку Други. — На, понюхай — могилой пахнет! Проболтаешься — костей не соберешь! — Говоря это, Гейнц Грабо, должно быть, казался себе очень умным и сильным.
Как ни странно, Друга с трудом сдержал презрительную усмешку. Он все еще молчал.
Всякая уверенность соскочила с Грабо, любой ответ в этом случае был бы лучше, чем никакой. Неожиданно он с неуклюжей лаской хлопнул Другу по плечу и заговорил «по-свойски»:
— Мы ж друг друга понимаем, старина! — ухмыльнувшись Друге, как старинному приятелю, он вышел из класса.
Друга с грустью посмотрел ему вслед: до чего же глуп этот Гейнц Грабо!
Начался урок литературы. На дом было задано сочинение. Учитель велел описать какое-нибудь событие, пережитое минувшим летом.
У всех тетради уже лежали на партах, только Альберт никак не мог найти свою. Он рылся в портфеле. Заметив это, учитель тут же вызвал его, приказав прочитать домашнее сочинение.
Альберт все еще искал запропастившуюся тетрадь. Друга, обернувшись, увидел ухмыляющуюся физиономию Гейнца Грабо. И тут его осенило: Грабо стащил тетрадь Альберта. Какой подлец! Нет, Друга не мог больше смотреть на его гнусную физиономию, ему было тошно. Впервые он ощутил превосходство над одним из своих одноклассников. Правда, он, Друга, был трусоват. Но этот подлый, трусливый поступок Гейнца Грабо вызывал омерзение. Лютая ненависть вспыхнула в груди Други. Он не хотел, чтобы такой подлец торжествовал. И как только учитель на мгновение отвернулся к окну, Друга под партой сунул Альберту свою тетрадь с сочинением, а сам для маскировки выложил на парту тетрадь по географии.
Но примет ли Альберт тетрадь? Друга пережил несколько напряженных секунд, однако страха при мысли, что обман может обнаружиться, он не испытывал. Важно было одно: сорвать план Гейнца Грабо.
Альберт принял тетрадь.
— Ты бы поменьше дрался и побольше следил за порядком в своей сумке, — сказал учитель, уже теряя терпение. — Может быть, начнешь наконец читать? Ты и так задержал нас. Мы были бы тебе весьма признательны…
С невозмутимым спокойствием Альберт начал читать. Сочинение было хорошее. «Чересчур уж хорошее для этого Берга», — не без раздражения подумал учитель.
В нем рассказывалось о ласточке. Однажды над деревней показался ястреб, схватил ее своими когтями и взмыл над крышами домов. Но другая птичка из большой и славной семьи ласточек увидела ястреба. С быстротой ветра пронеслась она над деревней, громко призывая на помощь. Казалось, здесь жили все ласточки мира — так много взлетело их над домами. Словно стрелы, неслись они вперед. Их становилось все больше и больше, покуда все небо не закрыл огромный черный ковер. Ласточки устремились за ястребом и скоро нагнали его. И хотя они были очень малы по сравнению со страшным разбойником, они все же оказались сильнее — ведь это была одна дружная семья! Ласточки окружили ястреба и стали нападать на него: кто клювом клюнет, кто грудью налетит. Напрасно разбойник пытался уйти от своих преследователей, то ныряя вниз, то бросаясь в сторону. Ласточки не отставали от него. Они зорко следили за ним — не хотели отдавать ему одну из своих. Вот это была схватка! Сердце радовалось — так храбро сражались ласточки. А каким жалким выглядел негодный разбойник! Очень скоро ему пришлось выпустить свою жертву. И та камнем стала падать вниз, но вдруг распростерла крылья и тоже ринулась на врага.
Так-то маленькие птахи проучили ястреба, отбив у него всякую охоту нападать на трудолюбивых ласточек. Жалобно пища, ястреб улетал к дальнему лесу. Только здесь ласточки отстали от него и снова возвратились в свои скромные жилища под коньками крестьянских домов.
Дочитав до конца, Альберт немало подивился такому сочинению, которое он теперь должен был выдавать за свое. Да и всеми в классе, и ребятами и девочками, овладело какое-то неведомое им до сих пор чувство. Выжидательно смотрели они на учителя, на Альберта же с недоверием. Гейнц Грабо и Клаус Бетхер переглянулись, ничего не понимая.
Учитель откашлялся и, нахмурив лоб, сказал:
— Да это уже на что-то похоже, Берг. Честно говоря, я считал тебя неспособным написать такое сочинение. Может быть, ты у кого-нибудь списывал? Нет, нет, ты можешь не возражать, я ведь знаю, с кем имею дело.
— Докажите, что я списал! — тут же потребовал Альберт. Он злился. Будь сочинение написано даже им самим, учитель все равно обвинил бы его в том же. Голос его звучал уверенно.
И это заставило учителя пойти на попятный.
— Ну хорошо, Альберт, не будем спорить. Важно, чтобы ты сам сделал надлежащие выводы из этого сочинения. — Господину Грабо стоило немалых трудов говорить спокойно. Он прекрасно сознавал, что вряд ли кто-нибудь из учеников смог бы написать лучше. Во всяком случае, не его сын Гейнц. Разве что Друга Торстен? — Я вас не предупреждал, что не буду выставлять отметки за это сочинение? Нет? Так, так, — проговорил он с беззаботным выражением лица. — Стало быть, запамятовал. Отметки же я не намерен выставлять потому, что сочинение это, так сказать, сверх программы. Это своего рода предварительное упражнение. И тем не менее, Альберт, я должен сказать, работа твоя отличная. Я возьму себе это на заметку. — И он фальшиво улыбнулся.
«Вот свинья!» — подумал Альберт. Правда, нехорошо так думать об учителе, но, возможно, Альберт и был прав. Во всяком случае, Друга подумал так же.
Теперь господин Грабо, любопытства ради, потребовал, чтобы Друга Торстен тоже прочитал сочинение. Друга не на шутку испугался. Он лихорадочно перелистывал свою тетрадь по географии от начала до конца, потом от конца к началу. Все это время учитель в недоумении поглядывал на него.
— Может быть, мне помочь? — спросил он и встал, намереваясь подойти к Друге.
— Нет, нет, спасибо… Я уже нашел! — пролепетал Друга.
В отчаянии он оглянулся, поднес тетрадь к самому носу и начал. Читал он медленно, запинаясь, хотя обычно этого с ним никогда не бывало. Время от времени он с опаской поглядывал на учителя. Вот что он «прочитал»:
— Господь бог. Когда я был еще совсем маленьким, я молился господу богу. Так мне велела мама. Она говорила: господь бог тебе всегда поможет, если ты попадешь в беду. Господь — он всюду, он и сквозь стены видит. А когда люди совершают дурные поступки, господь их наказывает. Господь справедлив, и от него ничего не надо утаивать. Поэтому я верил в господа бога и каждый вечер молился. Так было до прошлого лета. Все это время я тяжело болел. Но я никогда не думал, что это меня покарал господь. Изредка я предавался мечтам: а вдруг бог мне поможет? Но вот прошлым летом, в августе это было, один наш школьник попал под трактор и через день умер в больнице. Родители его горько плакали. Я не был другом этого ученика, но знал, что он неплохой парень и учится хорошо. Должно быть, он доставлял своим родителям немало радости. Он был не лучше и не хуже любого из нас. Вот я и подумал: за что же его господь наказал? Ведь, наверное, этому мальчику очень хотелось жить. Но ответа на свой вопрос я не знал.
Когда я пришел на похороны нашего товарища, то увидел на венке надпись: «Ты был гордостью отца, радостью матери. Но господь возлюбил тебя больше, чем их обоих». Я никак не мог понять этих слов. Не укладывались они у меня в голове. Если бы мальчик при жизни сделал что-нибудь дурное, то тогда его смерть была бы ему наказанием. А получалось: господь бог дал ему умереть, потому что любил его. Нет, не понимал я этого и долго ломал себе голову над этим вопросом. Как-то раз я спросил себя: наказал его господь или возлюбил? И кто это в конце концов решает? И сам же себе ответил: решают это люди. Ну, а раз это решают люди, то, быть может, они сами и господа бога выдумали? Мне это было очень важно узнать, и я спросил маму, что же я плохого сделал, за что меня господь бог такой страшной болезнью наказал? Мама долго думала, прежде чем ответить. «Господь и не хотел тебя наказывать», — сказала она. Давно когда-то ей один священник говорил: кого бог любит, тому он посылает страдания. Значит, и меня господь бог любит? Как странно! Во время войны в наш дом в Берлине попала бомба. Меня засыпало, и с тех пор я болею. Но не попади бомба в наш дом, я бы никогда и не узнал, что господь бог меня любит. Это было уже совсем странно. Значит, бог и за войну в ответе? А вдруг это он ее на нас послал, чтобы доказать, как он нас любит? Но ведь если ты хочешь доставить человеку радость, ты не станешь бить его? Или это просто люди ищут, чем оправдать убийство на войне, и потому говорят, что все это господня воля? Наверное, так оно и есть. Наверное, они боятся добрых людей и, чтобы те ничего не заподозрили, сваливают все на бога. С тех пор я никогда не молился, да и не верю я больше в господа бога. Это произошло со мной летом. Может быть, наш священник и сердится на меня. Но я все равно не буду больше молиться.
Друга кончил неожиданно. И всем показалось, что он будет читать еще. Но он торопливо захлопнул тетрадь, должно быть сам удивившись, что уже кончил.
В классе воцарилась торжественная тишина. Рассказ Други взволновал ребят. В самом начале кто-то хихикнул по поводу заглавия «Господь бог», но постепенно необычный образ мыслей Други Торстена захватил слушателей.
Поджав губы, учитель Грабо сидел, уставившись в пол. Злоба душила его. Он терпеть не мог, когда ученики задумывались над подобными вопросами. А этот Друга вообще слишком много думает. С ним хлопот не оберешься. Еще начнет на уроках истории поправлять. Вырастет и будет красным, будет говорить что думает, даже наперекор всем. Господин Грабо прекрасно знал, что такие люди самые опасные. Они-то и устроили революцию в России.
Но надо же было что-то сказать! Ученики смотрели на него в ожидании. Он, конечно, обойдет вопрос, поставленный в сочинении Торстена. Но вот что: уж очень этот мальчишка запинался. Наверное, нацарапал в тетради такое, что и сам прочитать не в состоянии. «Проверим!» — решил он.
— Подойди ко мне, Торстен, и возьми с собой тетрадь. Надо посмотреть, как ты пишешь, — сказал он вкрадчиво, однако язвительность этих слов больно задела Другу.
Он сидел неподвижно — лицо белое как бумага. Наконец он поднялся и молча вручил учителю свою тетрадь. Тот перелистал ее, покачал головой, взглянул на обложку, снова перелистал и неожиданно швырнул тетрадь на стол.
— Ты обманул нас, Торстен! Ты прочитал все прямо из головы, гениальной своей головы!
Друга не произнес ни слова. Он стоял белый как полотно и… улыбался. И почему, собственно, у него раньше никогда не хватало смелости дать отпор этому господину Грабо? Нет, он никого не выдаст! Должно быть, учитель хочет произвести на него впечатление, запугать — вот он и орет. Господин Грабо действительно кричал уже несколько минут, а Друга стоял и… улыбался. Это окончательно сбило учителя с толку, и он тоже умолк. Сколько же чертей вселилось в этого парня! Ничем его не проймешь. Но он, Грабо, уже знает, как его допечь. И потому с ледяным спокойствием, словно объясняя арифметическую задачу, он сказал:
— Видишь ли, Торстен, в Германии было много поэтов, тысячи и тысячи. Я распределил бы их следующим образом: сначала Гёте, затем, немного отступя, Шиллер и, наконец, Лессинг. Потом долгое время никого, а затем уже такие величины, как Гейне, Гердер, Бюхнер и — опять нетронутая целина. Затем следуют люди, создавшие что-нибудь более или менее значительное. Этим и исчерпывается список поэтов. За ними следуют длинной вереницей фуры навоза, потом опять ничего…
Сладенько улыбаясь Друге, Грабо помолчал немного. Улыбка все еще не сошла с его лица, когда он продолжил:
— Но и после этого до тебя еще долго очередь не дойдет…
Всем стало неловко. Ученики сидели за партами, опустив глаза. Может быть, им было стыдно за своего учителя? Только один-единственный разразился громким отвратительным смехом — Гейнц Грабо. Но его не поддержали даже его дружки.
В груди Други бушевала буря. Губы дрожали. По щекам медленно катились слезы.
— Я написал сочинение, но я забыл тетрадь дома.
— С глаз долой! — снова закричал на него учитель. — И запомни: кто соврал хотя бы один раз, тому не верят, даже когда он говорит правду.
Пошатываясь, Друга Торстен пошел к своему месту.
Альберт встал. Ему пришлось выйти из-за парты — она была тесна для него. Он смерил учителя взглядом сверху донизу. И глаза его, обычно такие мягкие, загорелись диким огнем. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем, передернувшись от отвращения, он сказал:
— Хотите, я вам скажу, кто вы такой… А… — махнув рукой, он умолк. Грудь его бурно вздымалась. Он не мог оторвать глаз от господина Грабо. — Был бы от этого толк, я бы сказал вам, — выдавил он наконец. — Да не будет толка! — Альберт посмотрел вокруг и, словно испытывая, заглянул каждому ученику в лицо; затем он взял тетрадь Други и медленно произнес: — Вот тетрадь Торстена. Моя тетрадь пропала, он дал мне свою. И я прочитал его сочинение. Пока еще мне неизвестно, какая свинья сперла мою тетрадь, по если он мне попадется — своих не узнает!
Господин Грабо дрожал от злобы и бессилия.
— Мы еще с тобой поговорим, Берг! Не сейчас, на большой перемене, с глазу на глаз. А теперь — довольно! Не желаю больше ничего слушать!..
Пожав плечами, Альберт сел на свое место.
Последующие уроки прошли без особых происшествий. Однако ученики все еще были возбуждены.
На большой перемене Альберт остался в классе «для разговора с глазу на глаз».
Друге не хотелось одному выходить во двор, но больше ему некуда было деваться, и он вышел. Гейнц Грабо делал вид, что не замечает его. Неужели он так и спустит ему? Трудно поверить. Наверняка они с Бетхером уже придумали какую-нибудь подлость.
Так прошла половина перемены. Друга медленно шагал по двору. Он боялся Гейнца и Бетхера, но точно знал: сегодня он будет сопротивляться. Почему, собственно? Ответить на это он не мог. Возможно, Друга почувствовал, что теперь он уже не один. Оба приятеля прошли мимо него совсем близко. Бетхер подставил Друге ножку. Тот споткнулся, тут же выпрямился и хотел было идти дальше, но Гейнц схватил его за воротник и рывком повернул к себе.
— А ну, проси прощения у Клауса! — приказал он.
Друга молча посмотрел ему прямо в глаза.
Тогда Грабо ударил его ладонью по лицу и повторил свой приказ.
Друга молча смотрел ему прямо в глаза. Только крепко сжал губы. Грабо ударил еще раз. Но, прежде чем он успел что-то сказать, Друга совершенно неожиданно плюнул ему в лицо — в левый глаз.
Минуту Гейнц Грабо стоял, как побитая собака. Потом достал платок из кармана, аккуратно вытер лицо и спрятал платок. Он ухмылялся. Град ударов неожиданно обрушился на Другу. Прошло несколько секунд, прежде чем он робко поднял руку для защиты. Но разве так выигрывают бой? Кулак ведь пускают в ход, чтобы сразить противника, а не отпихнуть. Почувствовав слабость в коленях, Друга упал. И все же он не сдавался. Они катались по снегу. Грабо изо всех сил молотил его кулаками. Друга защищался как мог. Кусал, царапал его, будто девчонка. Собрались зеваки. Больше всего среди них оказалось приятелей Гейнца Грабо и Клауса Бетхера, который, кстати сказать, не принимал участия в драке, считая, что его дружок и один справится с таким противником. К тому же в таких случаях он предпочитал роль зрителя. Подзуживать сражавшихся, тоном знатока оценивать меткость и силу ударов — что может быть приятней! Между прочим, в этом он ничем не отличался от других ребят. Но оказались здесь и такие, что молча смотрели на дерущихся. Это были те ученики, которые, как и Альберт, жили в Бецовских выселках. И среди них приемный брат Клауса Бетхера — Руди. Всякий раз, когда Клаус особенно горячился, Руди смотрел на него с ненавистью. Жили они совсем не как братья и не упускали случая задеть друг друга. Но это уже другая история.
Грабо удалось подмять под себя Друга. И он, не щадя кулаков, избивал беззащитного. У Други нос был разбит в кровь, Гейнц все продолжал его избивать.
Зрители верещали от восторга, Гейнц чувствовал себя героем, который выдает публике номер на бис. И он, опьяненный своим подвигом, не заметил, как все вокруг притихли. Удар кулака в висок сбил его с ног. Гейнц Грабо скорчился. Это Альберт вступил в бой. Он наводил порядок, да такой, что это всем надолго запомнилось. Наконец-то его гнев, его злость, его отчаяние нашли выход! Вот тебе, Грабо, за ведьму! А это — за эпидемию! За многое Альберту надо было рассчитаться. Нельзя без конца терпеть издевательства, нельзя мириться с несправедливостью!
Давно уже Грабо валялся в снегу, а рядом с ним и Клаус Бетхер, но сражение все еще продолжалось.
Девчонки, сбившись в кучку у забора, громко визжали. Только одной не было среди них — сестры Альберта, Родики. Она с самого начала участвовала в схватке, размахивала руками, царапала, кусала…
Как и почему, никто не мог сказать, но вскоре началась общая свалка. Все помнили только одно, как Руди Бетхер наделил своего братца несколькими звонкими пощечинами. Остальное произошло само собой. Ребята из Бецовских выселков вместе с Альбертом и Родикой, хотя и были в меньшинстве, довольно быстро одолели противника.
Сам полководец, Альберт Берг, расхаживал перед побежденными и время от времени сплевывал в снег. Остановившись, он провозгласил:
— Кому мало, пусть поднимет руку, аккуратненько, как в классе!
Однако все уже были сыты по горло.
Альберт отвернулся и зашагал прочь, так и не сказав Друге ни единого слова.
Последние два урока были рисование и пение. Друга сидел за партой с воспаленными глазами и чувствовал себя ужасно. Кровь в висках стучала. Должно быть, все тело было в синяках. Сердце, словно жеребенок, время от времени взбрыкивало, потом удары его делались все реже и реже, будто оно хотело совсем остановиться, отдохнуть несколько минут. При этом грудь что-то сдавливало, и Друга со страхом прислушивался к скачкам своего сердца. Прошло несколько минут. Понемногу сердце успокоилось, стало биться ровнее, без перебоев.
Друга поднял голову. Рядом сидел Альберт и что-то рисовал в своем альбоме, представляя себе при этом самые распрекрасные вещи, но, кроме него, никто ничего хорошего представить себе не мог, глядя на его рисунки. Перехватив взгляд соседа, Альберт подмигнул ему и чуть-чуть улыбнулся. Друга тоже улыбнулся.
— Сам теперь видел, что можно и без рева! — шепнул Альберт.
Друге стало стыдно. И он принялся рассматривать свой альбом. Он не провел еще ни одной черты. Мысли его были заняты другим. Только теперь он осознал, что, собственно, произошло. Впервые в жизни он нашел поддержку у сверстников.
Почему-то на душе у него стало очень хорошо. Показалось, что на улице прекрасная погода и ребята все какие-то хорошие. От радости ему захотелось вскочить и обнять всех, кто пришел ему на помощь. Он даже сжал покрепче в руках карандаш, чтобы и впрямь не разреветься от счастья.
Друга быстро нарисовал несколько веселых чертиков. Увидев это, Альберт тоже стал рисовать чертиков. Потом они передали друг другу альбомы — так сказать, обменялись плодами своего творчества, посмотрели друг на друга и рассмеялись. На уроках рисования вообще-то никогда не было особенно тихо, но под конец они уж чересчур разошлись. Учительница тут же обнаружила причину их буйного веселья, и оба получили дополнительные задания. А они только рассмеялись. Вот поди тут и разберись! Разве кто-нибудь смеется, когда его наказывают?
На уроке пения Друга пел изо всех сил. Правда, ужасно фальшиво. Но ни один человек в мире не мог сейчас петь с большим энтузиазмом, чем он. Однако учительница не оценила его стараний и отправила Друга на самую последнюю парту.
Наконец-то раздался удар гонга. Ребята высыпали на улицу, Альберт шагал рядом со своей сестрой Родикой в группе учеников из Бецовских выселок. Друга ушел довольно далеко вперед. Неожиданно Альберт нагнал его. Друга мельком оглянулся, узнал его и молча продолжал свой путь. Альберт тоже ничего не сказал. Так они шагали некоторое время рядом. Учительница обогнала их на велосипеде, и, словно по команде, оба снова рассмеялись. Неожиданно Альберт остановился. Лицо его стало серьезным, он внимательно смотрел на Другу.
Друга Торстен был немного худ, но роста не маленького. Бледное лицо делало его похожим на девчонку, длинные волосы падали на глаза. И он резким движением откидывал их назад. Иногда он пытался избавиться от них, выпячивая нижнюю губу, и изо всех сил дул себе в нос. Руки у него были длинные, пальцы узкие. Глаза большие, темно-синие и, когда он не смотрел грустно, светились, как морская вода, в которой купается солнце. Иногда он, будто кролик, очень смешно морщил свой короткий нос и делался при этом очень некрасивым. Нет, веселым это лицо никак не назовешь!
Окончив осмотр, Альберт спросил с любопытством:
— Скажи, Друга, с чего это ты мне свою тетрадь дал? Может, подлизываться вздумал, а?
В ответ Друга тихо засопел. Это, должно быть, означало: к чему тебе об этом говорить, ты все равно ничего не поймешь.
— Ты вправду так думаешь? — тихо спросил он Альберта.
— Точно!
— Мне кажется, ты обо всех плохо думаешь, — проговорил Друга, грустно улыбнувшись. — А люди бывают и хорошие!
— Вот чудило! «Люди бывают и хорошие»! Сказал тоже! Когда спят — все хорошие, а вообще — нет. К примеру, лежат двое в одной кровати и то во сне один у другого одеяло норовит стащить. Так-то. «Люди бывают и хорошие»! Мура!
— Мама у меня хорошая, — тихо произнес Друга.
Альберт с презрением взглянул на него.
— Тоже мне маменькин сынок нашелся!
Друга промолчал.
— Ты, может, воображаешь, что я тебе на большой перемене помочь хотел? — спросил Альберт.
— Может быть, — неопределенно ответил Друга.
— Как это понимать «может быть»?
— У тебя, наверное, были и другие мысли.
— Какие?
— Некоторые люди не любят принимать подарков, думают: как бы не пришлось отдариваться. Я тебе дал свою тетрадь, а ты вступился за меня, чтобы мы с тобой квиты были.
Альберт задумался. Потом сказал:
Может, оно и так… — Помолчав немного, он добавил: — А ты хитер, парень!
Они медленно шли по деревенской улице, каждый думал о своем. Альберт никак не мог успокоиться. Немного погодя он спросил:
— А ты почему дал мне свою тетрадь? Я ж тебе до этого ничего не дарил?
— Я Грабо терпеть не могу. Потому.
Быстро взглянув на него, Альберт что-то пробормотал себе под нос. Неожиданно он прямо посмотрел на Другу и спросил:
— Куришь?
Друга опешил.
— Курю? Зачем мне курить?
— Ну ладно. Все равно. — Они молча шагали дальше.
Снова Альберт остановился первым, — Мне пора к ребятам. Хочешь — приходи к нам. Знаешь, где я живу?
— Знаю.
— Пока. Сегодня в четыре. У меня на дворе. Еще кое-кто придет. — Он зашагал было прочь, но еще раз остановился и спросил: — А ты ведьм не боишься?
— К чему это ты? — Друга прямо посмотрел Альберту в глаза.
— Так просто! — сердито буркнул Альберт. — Нет, правда, так просто.
Глава третья КРОВНЫЕ БРАТЬЯ
Детская головка покоится на мозолистой, огрубевшей руке. Лицо грустное-грустное, с красивыми глазами: одним — карим, другим — голубым. Губы пухлые, рот большой с крупными белыми зубами. К уголкам глаз сбегаются три крохотные морщинки, и от этого лицо кажется плутоватым. Ганс Винтер и был маленьким плутишкой, хотя ему уже шел пятнадцатый год. Когда его лицо бывало грустным, как сейчас, это производило странное впечатление. Такому лицу идет заливистый, беззаботный смех, а грусть и печаль на нем неуместны. И все же прошло уже много времени с тех пор, как Ганс в последний раз смеялся от души. Теперь смех его бывал горек, полон иронии.
Ганс сидел неподвижно и не отрываясь смотрел на замызганные обои этого старого деревенского дома. Перед ним на выскобленном столе стояла пустая тарелка.
По другую сторону сидел грузный человек с опухшим лицом и набрякшими мешками под глазами. Сжав губы, он зло уставился на сына. Седые волосы прилипли ко лбу. Он отводил свой взгляд только тогда, когда опоражнивал стакан и вновь наливал себе спирта, чуть разведя его водой из глиняного кувшина. Порой он глубоко вздыхал, словно намереваясь подняться. Но тут же ронял голову. Человек был пьян.
— Расскажи чего-нибудь, Ганс! — вдруг послышался его хриплый голос.
— Хорошо, отец.
— «Так точно!» положено отвечать. Олух!
— Хорошо, отец. Так точно! — ответил Ганс, не шелохнувшись.
Так они и сидели. Ганс, не сводя глаз с замызганных обоев, а человек, который был его отцом, — с грустного мальчишеского лица. Больше они не проронили ни слова.
Ганс думал о матери. По деревне ходили разговоры, будто этот человек, который был его отцом, убил ее. Но это было не так. Мама сама взяла веревку и ушла в ригу. Два года назад это было. Нашли ее на следующее утро. Веревку она привязала к лестнице, которая вела на сеновал. Рубцы на лице мамы посинели. Человек, который был его отцом, всегда избивал ее. Последнее время она часто плакала, а иной раз и Ганс с ней. Но когда человек, который был его отцом, уходил из дому, оба смеялись. Чаще всего он уходил в трактир и возвращался пьяный. Этого мама больше всего боялась. Но пока его не было, она спешила насмеяться вволю. Ганс догадывался, что это она ради него старается, и как-то сказал ей об этом. Она ласково поворошила его волосы, но вид у нее при этом был усталый. А после того как тот, кто был его отцом, снова избил ее и Ганс перестал с ним разговаривать, она шепнула: «Будь с ним поласковей. Он ведь не всегда был таким. Это война довела его. Он никогда и пьяным не напивался. Раньше он и тебя баловал, да».
И люди в деревне говорили то же самое. Будто он был хорошим каретником. Во всей округе лучше не найти. И девушки бегали за ним, когда он еще холостым ходил. Он выбрал мать — смех ее приворожил его. Об остальных он и знать не хотел. Сам Ганс не помнил, каким раньше был тот, кого называли его отцом. Помнил только, что он разрешал ему сидеть у него на коленях, даже когда брюки были только что выутюжены и к ним никому не позволяли притрагиваться.
Потом началась война. И человек, который был его отцом, ушел в солдаты. Два раза он ненадолго приезжал домой. Но уже тогда он стал другим. Доброго слова никогда не скажет и глядит зло-презло. Будто привидение, бродил он по дому, люди сторонились его. Тогда-то он и начал пить, и они с матерью только и вздыхали свободно, когда он уходил из дому.
Но вот война кончилась. И человек, который был его отцом, в залатанном мундире вернулся в деревню совсем седой. В день приезда он в первый раз побил мать и напился. А после того как мать покончила с собой, с ним уже никакого сладу не стало. Он бросил работу, все распродал, кастрюли и те ушли на водку. И все побои, предназначавшиеся матери, доставались теперь Гансу.
Человек, сидевший напротив, не сводил глаз с грустного мальчишеского лица. Вдруг он резко пододвинул стакан с водкой так, что даже немного выплеснулось.
— Пей! — прохрипел он. Глаза его налились кровью.
Ганс молча отодвинул стакан. И даже не повернулся — он все еще смотрел на стену. Человек, который был его отцом, разозлившись, махнул рукой. Тарелка слетела на пол и разбилась.
— Пей, говорю! — заорал он.
— Отец! — взмолился мальчик.
— Сказано, пей! — Он закрыл глаза, вцепился огромными ручищами в край столешницы и снова разжал пальцы.
Ганс поднялся и подошел. Он обнял его за плечи и снова попросил:
— Отец!
Опершись кулаками о стол, пьяный человек с трудом встал и закрыл глаза. Открыв их, он несколько секунд не отрываясь смотрел на сына.
— Вон! — прохрипел он. И прежде чем Ганс успел увернуться, швырнул его на пол. И сам рухнул.
Ганс поднялся. Нет, он не плакал. Просто ему было очень грустно. Привычным движением он подсунул отцу подушку под голову и прикрыл его старым пальто. Осколки тарелки сдвинул ногой к стенке. Взглянул на часы. Без нескольких минут четыре. Пора. В четыре сбор у шефа.
Друга сделал еще несколько шагов и в неуверенности остановился. Радость сменилась робостью: стало уже совсем темно, и это лишило его остатков мужества. Долго он стоял перед серым домом. На улице ни души. Он глубоко дышал, губы шевелились, будто он сам себе задавал какие-то вопросы и сам на них отвечал. Ветер налетал на ворота и, как бы испугавшись ласкового скрипа петель, снова убирался восвояси. Ворота казались Друге каким-то важным рубежом. Здесь еще можно повернуть, по что ждало его за ними? Что ожидало его там? Встретят ли его честно и прямо или надо быть готовым к хитростным уловкам и предательству, к новым унижениям? И если честно, то какая она, эта честность? А какой он будет сам? Не оробеет ли, не испортит ли всего своей застенчивостью? Друга колебался. В нем боролись любопытство и страх, мечта о товарищах и недоверие к ним.
Ветер донес издали тихое позвякивание сбруи. Друга заставил себя толкнуть калитку. Громко лая, навстречу выскочила пятнистая дворняга — какая-то помесь сеттера, дога и длинношерстой таксы. Короткие кривые лапы никак не подходили к мускулистому телу и округлой сплюснутой голове. Позади Други громко хлопнула калитка. Страх парализовал его. Еще секунда, и собака собьет его с ног. Но тут раздался свист, и пес, вытянув передние лапы, прокатился по снегу и застыл, скаля клыки. Еще свист — и он длинными прыжками помчался обратно.
Перед воротами риги стоял, улыбаясь, Альберт. Собака, виляя хвостом, пристроилась у его ног. Альберт жестом подозвал Другу.
— Струхнул? — спросил он вместо приветствия.
Друга смущенно улыбнулся.
— Остальные уже ждут, — сказал Альберт. — Только Ганса еще нет. Ты его знаешь. Толстогубый такой.
Альберт шагнул к длинному низкому сараю. Друга последовал за ним. Внутри было совсем темно. Ориентируясь только на слух, Друга ощупью брел за Альбертом. Впереди послышался приглушенный разговор. Они остановились, и Альберт ударил обо что-то деревянное два раза ногой и один раз ладонью. Друга понял, что это был условный знак. Разговор сразу смолк, стукнул деревянный засов, и дверь со вздохом отворилась. Они вошли.
— Вот он, — сказал Альберт. — Нечего на него глаза пялить!.. Длинный, дай закурить!
Друга совсем оробел. Первые минуты все казалось ему каким-то призрачным. Густой табачный дым, висевший в воздухе, ел глаза. Было очень жарко. В углу пылала раскаленная печка, озаряя каморку каким-то предзакатным светом. Мало-помалу Друга рассмотрел и присутствовавших. Большинство из них только недавно стали ходить в Бецовскую школу. Была тут и девчонка, участвовавшая в драке на школьном дворе. Кажется, ее звали Родикой. Все они сидели на деревянных ящиках и с любопытством разглядывали его.
Пытаясь выдавить улыбку, Друга кивнул.
— Здравствуйте! — Собственный голос показался ему до смешного пискливым, и Друга сразу покраснел. Однако при таком освещении этого, должно быть, никто не заметил.
Кое-кто кивнул в ответ, остальные сидели, делая вид, что ничего не видели и не слышали. Друге показалось, что лица их выражают отпор, недовольство, и в нем сразу же проснулось какое-то враждебное чувство. Изредка поглядывая на него, ребята перешептывались. Девчонка стояла в стороне, она подбрасывала дрова в печь.
Пустив Друге облако дыма в лицо, Альберт дружелюбно сказал:
— Ты плюй! Когда они сюда первый раз пришли, они еще не такими идиотами выглядели. Садись-ка! — И он указал Друге на ящик, на котором лежали какие-то тряпки.
Друга довольно неловко снял тряпье, сложил его на полу и сел. Вид у него был такой, как будто он сидел за партой, — он даже сложил руки на коленях. Его сосед вытащил из кармана жестяную коробочку и предложил ему сигарету.
— Самокрутка! — отрекомендовал он.
Хотя ему и исполнилось уже четырнадцать лет, он был на целую голову ниже Други. Лоб у него был шишковатый, и кожа на нем так натянута, что казалось — вот-вот вырастут рожки. Вся одежда издавала запах плесени и прокисшего картофельного супа.
— Нет, спасибо, — застыдившись, ответил Друга.
— Бери, бери, у меня еще есть. — И он сунул жестяную коробочку Друге в руку.
В полном отчаянии тот оглянулся. Он же не умел курить. Да и запрещено это… Но тут он заметил, что все притихли и не сводят с него глаз.
Альберт, прислонившись спиной к стене, спросил:
— Боишься? — В уголках его рта появилось что-то пренебрежительное.
Друга взглянул на Родику. Она явно давала ему понять, что он непременно должен закурить сигарету. В ее лице он прочел нечто похожее и на страх. Наконец он взял сигарету. Рука его дрожала. И вовсе не потому, что он делал что-то запретное, нет, он боялся опозориться. Ведь он никогда еще не курил! Альберт зажег спичку. И Друга, словно принимая горькое лекарство, затянулся. Стоило это ему героических усилий, и после первого приступа кашля он действительно побледнел, словно герой, истекающий кровью на поле брани. Ребята рассмеялись. Они смеялись очень громко. Однако злорадства в этом смехе Друга не услышал. Этот смех как бы снял напряжение, в нем звучало даже некоторое радушие. Друга тоже засмеялся, хотя в глазах у него стояли слезы.
Снова в дверь постучали точно так же, как стучал Альберт. Вошел Ганс Винтер. Вид у него был усталый. И он сразу сказал:
Извини, шеф. Никак не мог. Этот… мой отец… опять. Понимаешь?..
Ладно. — Альберт махнул рукой. — Видишь, вон сидит Друга. Вы ведь по школе знакомы. Мы, может быть, примем его. Поживем — увидим.
Повернувшись, Ганс приветствовал Другу и сказал, намекая на его сочинение:
— Во что-нибудь надо ведь верить. Не в бога, так хоть в черта!
На что это Ганс намекал, говоря о черте? И почему в его смехе было столько иронии? Друга не мог догадаться. Он и вообще толком не понимал, что тут происходит. Во всяком случае, что-то запретное. И ребята и Родика казались ему совсем другими, чем в школе и на улице. Во всех чувствовалась решимость, и вели они себя совсем как взрослые. Говорили по-деловому, не болтали попусту.
Некоторое время Ганс перешептывался с Альбертом. Должно быть, сообщал ему что-то важное. Друга понял это по выражению их лиц.
— Слушайте все! — обратился Альберт к собравшимся. — Лолиес поехал на мельницу на санях. Должно быть, за отрубями. Ну как, дадим ему прикурить? — Посмотрев на Другу, он внезапно умолк. Затем медленно подошел к нему и сказал: — Так вот, запомни: я не люблю доносчиков. Еще не известно, примем мы тебя или нет, но если ты проболтаешься — костей не соберешь, это уж точно известно. — И уже тише он добавил с таким же ледяным выражением лица: — А было бы жаль, ты мне нравишься!
Страх сдавил горло Други. Он судорожно глотнул. Ребята молчали, и только потрескивание дров в печурке напоминало о реальности происходящего. Друга не смел даже повернуть головы, но он и так знал, что все смотрят на него.
— Я ничего не скажу. Обещаю! — услышал он свой голос.
— Зря-то не старайся, — сказал Альберт, отвернувшись. Уже стоя в дверях, он пояснил: — Пустые слова! Наобещать можно что угодно.
Друга покраснел. Ему казалось, что он совсем один, что все его покинули, и он проклинал свой приход сюда. И все же ему было любопытно — что же будет дальше? Должно быть, ребята задумали что-то плохое. Но Друга не осуждал их за это. Разговор ведь шел о Лолиесе. Сколько мать Други из-за этого кулака слез пролила, когда он ее обманул при расчете за летние полевые работы! Договаривались они и о зерне, и о мясе, и о картошке. Но Лолиес взял да заплатил за все деньгами. А бумажками разве наешься? В магазине-то ничего нельзя было купить. А сам Лолиес продал обещанное на черном рынке. Ночью к нему приехали на грузовике и всё увезли.
— Ну как? — потребовал Альберт ответа.
Друга вздрогнул.
— Дело ясное! — сказал Длинный — тот, у которого Альберт просил табаку. — Мне этот Лолиес давно уже поперек горла стал.
— А вы? — спросил Альберт.
— Чего мы? Ясно, что пойдем. И спрашивать нечего, — ответил, потирая свой шишковатый лоб, малыш, у которого вся одежда пропахла кислятиной.
— А теперь живо, не то Длинный и впрямь подавится, раз ему этот Лолиес поперек горла стал.
Ганс скривил свои толстые губы, а Длинный сделал обиженное лицо. Он бесподобно умел изображать малейшие изменения своего настроения. Потому-то он и взял себе за правило — каждую минуту строить другую рожу. Хуже всего ему приходилось, когда он не знал — изобразить ли ему гнев или обиду. Тогда на его лице появлялось выражение искреннего отчаяния и растерянности. Кроме этого своего пристрастия, Длинный страшно любил иностранные слова, которые он, ничуть не стесняясь, коверкал или употреблял вовсе не к месту. Но парень он был хороший, честный и прямой, за что ему не раз доставалось.
— Шеф, а как мы отлупим Лолиеса?
— Лупить вообще не будем, — ответил Альберт. — Подкинем ему в сани заряд замедленного действия.
— Карбид, значит?
— Точно. Возьмем бутылку из-под пива с хорошей пробкой. И взорваться она должна, когда сани подальше отъедут от мельницы. — Говоря это, Альберт внимательно изучал лица ребят. — Ну, кто возьмется подложить ему бомбочку? — спросил он.
— Я!
— Хвалю за смелость, Калле. Но сегодня она ни к чему. Ты ведь бутылку швырнешь не в сани, а прямо ему в башку. Чересчур горяч для такого дела.
— Чего это ты? Я все сделаю, как вы скажете. — Калле обиделся.
И Альберту пришлось его утешать:
— Честное слово, в следующий раз — твоя очередь!
Одиннадцатилетний Калле был младшим из мстителей.
Поправить это он пытался, напуская на себя стариковскую солидность. На самом же деле он был полон энтузиазма, черные глаза его метали молнии, а когда он смеялся, рожица его вся так и сияла. Вечно он спешил все сделать шиворот-навыворот.
— Вольфганг, берешь на себя это дельце? — обратился Альберт теперь к маленькому пареньку в вонючей одежде.
— Как хотите, — протянул тот. — А чего делать-то?
— Отправимся к мельнице все вместе. Там спрячемся. Если у тебя сорвется, мы поможем. Теперь слушай. Подождешь, пока Лолиес выедет с мельничного двора. Тогда опустишь карбид в бутылку. Только он отъедет — ты прыгай на сани. Но чтобы он ничего не заметил. Метров сто проедешь, закупоришь бутылку и сунешь ее под мешки, осторожно конечно. Потом сразу соскакивай в кювет. — Альберт с сомнением смотрел на Вольфганга. Понял?
— Понять-то понял. А если он меня заметит?
— Это уж твое дело, чтобы не заметил. Дошло?
— Дошло.
Все это время Друга неподвижно сидел на своем ящике. Ничего не понимая, он следил за разговором ребят. Неужели он попал в шайку преступников? И что же заставляет их так поступать? Но тут же он восхищался смелостью ребят, их спокойствием, с каким они шли на преступление. Или это вовсе и не было преступлением? Нет, было, и тут незачем выискивать оправдания! И все же Друга испытывал чувство симпатии к этим ребятам. Может быть, он все-таки их оправдывал? Или оправдывал самого себя? Да, пожалуй, это верней — он оправдывал самого себя…
Коротко обсудив еще раз предстоящее нападение, ребята приготовились к выходу. С тех пор как появился Ганс Винтер, прошло всего несколько минут.
— Ты остаешься здесь с Родикой, — приказал Альберт Друге. — Мы скоро вернемся.
Вся ватага бесшумно покинула сарай.
Еще долго после того, как ребята вышли, Друга не мог отделаться от чувства страха.
Подошла Родика, села рядом на ящик и, прищурив глаз, как настоящая бандитка, подмигнула ему.
— Чудной ты какой-то, Друга! Совсем не похож на других ребят.
Друга повернулся и взглянул на нее.
— Только не воображай, пожалуйста! — рассмеявшись, добавила Родика. — Я же не сказала, что ты лучше. — Слова ее звучали искренне, лицо было открытое, словно лесная полянка, залитая солнцем.
Друга конфузливо рассматривал свои руки.
— Не очень-то ты разговорчивый, — снова заговорила она. — Или ты умеешь отвечать, только когда тебя спрашивают?
Друга неопределенно пожал плечами.
Значит, и тогда молчишь? — отметила она и, встав, со злостью подбросила дров в печку.
Друга исподтишка наблюдал за ней. А Родика даже не хорошенькая, она настоящая красавица! Глаза переливаются, как ракушки, и разрез такой же. На брата очень похожа, только нет в ней ничего мрачного. От уголков рта к ямочкам на розовых щеках тянутся маленькие морщинки. Это и придает ей такой добрый и вместе задорный вид. И все движения такие милые. Голову она всегда закидывает назад, и всегда такая гордая, независимая. Все делает так естественно, просто, и вообще в ней много мальчишеского. Вечно дерется с кем-нибудь, всегда за справедливость; целыми днями гоняет в футбол — и нападающим, и в полузащите, и вратарем. И так здорово у нее получается! А то начнет рассказывать, как она кому-то дала по кумполу…
Но вот мысли Други вновь вернулись к ребятам, к их затее.
— Зачем они это делают? — неожиданно спросил он.
— Чего, чего? О ком ты?
— Ну, о тех, что ушли… И о тебе тоже…
Она все еще не понимала.
— Ну, с Лолиесом, — тихо пояснил он.
— А, вон ты про что! — Родика снова подсела к Друге. — Ты, может, в лягавые захотел?
— А ты правда так думаешь?
— Нет.
На этом разговор оборвался. Оба молчали. Печка отбрасывала красный отсвет на их лица, и они были сейчас похожи на заговорщиков. Паутина, которой были затянуты все углы, дрожала при малейшем движении воздуха.
— Иногда я тоже думаю, что мы преступники. — Слова Родики прозвучали как признание.
— А ты считаешь, что вы не преступники?
— Нет, не преступники! — сказала она, принимаясь грызть ногти.
На этот раз молчание затянулось. Прошло несколько тягостных минут. Наконец она снова заговорила, опустив глаза, как будто слова ее были предназначены ей самой, а не Друге.
— Люди говорят, что наша мама ведьма. Она и похожа. И все равно она не ведьма. Все это хорошо знают. И все-таки говорят, что ведьма. Пойми их! Если бы я поняла, может быть, легче стало бы. — В ее голосе звучало разочарование, не злость. — Этот Лолиес самый страшный гад из всех. И в то, что мама ведьма, он наверняка не верит. Но, когда он проезжает мимо нашего дома и на улице кто-нибудь есть, он обязательно сплюнет через плечо и погонит лошадей. И подло так ухмыльнется. Для него мы не люди. Да и что мы можем-то? Мы же бедные! И все равно, мы к нему клянчить не пойдем. Может, он от этого и злится. Мы с Альбертом еще маленькие были, когда он всю нашу семью ославил. С нами и дети никогда не играли, говорили, будто у нас клопы. Вот мы и бегали всегда одни — Альберт и я. Бывало и ревели. Одни раз Альберт до того разозлился, что взял да и отлупил ребят, пятерых сразу. А я их таскала за волосы. С тех пор мы всегда так делали. И тех, кто постарше, тоже лупили почем зря. Тихонькие они все стали, и даже подлизывались к нам.
Мы-то, конечно, на эту удочку не попались, только кулаками с ними и разговаривали. Лучше от этого не стало, но хоть больше не кричат нам вслед, не дразнят. Только между собой говорят. А подойдешь — сразу на другое перескакивают и переглядываются. Мы-то знаем, о чем они говорили, но ничего не поделаешь — при нас молчат. А это еще хуже… — Вздохнув, она закончила: — Не знаю, правильно мы теперь решили с Лолиесом или нет, но он это заслужил.
Они избегали встречаться взглядами. Друга встал, чтобы размять ноги. Слова Родики подействовали на него. Ему хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но ничего подходящего не приходило в голову.
— А тепло здесь, — проговорил он наконец, чтобы хоть что-нибудь сказать.
Должно быть, Родика восприняла это как поощрение и снова подбросила несколько поленьев в печь. Теперь, когда она стояла к нему спиной, Друге было легче говорить.
— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — признался он. — А остальные, почему они участвуют?
Обернувшись, Родика внимательно посмотрела на него.
— Ты у нас ведь тоже вроде беженец, да? — спросила она вдруг.
— Да, — ответил он, — но вы-то не все беженцы.
— Нет, не все. Но когда ты бедный — это уже все равно. — Она грустно улыбнулась.
— А почему вы считаетесь бедняками, Родика? У вас же свое хозяйство? — спросил Друга и тут же пожалел об этом.
Она как-то горько рассмеялась. И в этом смехе прозвучал упрек, обращенный не к кому-нибудь определенному, а ко всем.
— А ты спроси у кого угодно, возьмет ли он наше хозяйство? Задаром, конечно. На тебя как на идиота посмотрят. Такое хозяйство никому не нужно. Песок один, и рядом лес — ничего там не растет. Поэтому у нас и мать такая стала. Уж она-то работала-работала, жилы из себя тянула, а расти все равно ничего не росло. Вот она взяла да и бросила. Теперь все в запустение пришло. Отец ругается с ней, а ей хоть бы что. Ей, видишь ли, веселее, когда у нас ничего нет. И что ее люди ведьмой ругают, ей тоже по душе. Даже еще нарочно из себя ведьму разыгрывает. Может, это она им мстит? Отцу одному с хозяйством не управиться, даже если мы с Альбертом ему помогаем. Слабый он у нас очень, а мы в школу должны ходить каждый день. После-то я ведь в город уеду, когда школу кончу. И Альберт уедет.
Друге казалось, что они с Родикой старые друзья. И потому последние слова причинили ему боль. Неужели им придется так скоро расстаться?
— Я бы никуда не уехал, — сказал он не без задней мысли.
— Нет, мы уедем в город! — упорствовала она.
— А вам разве в деревне не нравится? — спросил он грустно.
— Конечно, нравится. Особенно Альберту. Но какие же это крестьяне, у которых нет хорошей земли! И чего стараться, когда все равно нет никакого прока. Лучше сразу в город уйти.
— А вдруг вам хорошую землю дадут, когда вы с Альбертом школу кончите? — спросил Друга с надеждой, вспомнив о том, что он слышал от Шульце.
Тот ведь хотел объединить все земли, как в России, чтобы вся хорошая и вся плохая земля принадлежала всем крестьянам. Пусть этот Шульце старается, чтобы поскорей так было! Может, тогда Альберт и Родика не уедут из Бецова?
Словно угадав его мысли, Родика спросила:
— Ты это про Шульце подумал?
Друга кивнул.
— А ты считаешь это правильно, то, что он хочет?
— Не знаю я… Может быть…
Родика нахмурилась.
— Послушай, Друга, ты же только что говорил: «Вдруг вам хорошую землю дадут». Значит, хотел, чтобы так было, как говорит Шульце. А теперь не знаешь, правильно или неправильно.
— Видишь ли… Дело в том… Мне просто не хотелось, чтобы вы уезжали отсюда. — Друга страшно смутился: а что если Родика опять рассмеется?
Но она только долго и пристально посмотрела на него. Потом подошла совсем близко и сказала:
— А ты парень ничего! — Она улыбнулась, а он покраснел до ушей и не знал, куда глаза девать. — Это тебе куда больше идет, чем когда ты бледный, — отметила она трезво и без всякой видимой связи добавила: — Должно быть, ты ешь слишком мало, вот в чем дело.
Теперь уже рассмеялся Друга, а за ним и Родика. Уж очень у нее смешно насчет еды получилось. Мать ему это тоже всегда говорит. Наверное, все женщины одинаковы — вечно тебя опекают. И молодые и старые.
— А ты что, за кухарку у них? — спросил Друга немного погодя.
— Обалдел, что ли? — Родика не на шутку обиделась.
— Ну, ребята… Понимаешь… Они ж тебя не взяли с собой, — пробормотал он.
Это потому, что моя очередь топить, а не потому, что я у них «за кухарку». Тоже придумал!
— Тогда прости, пожалуйста! — попросил он довольно неловко.
— Так и быть, прощаю, — серьезно ответила Родика. Она подошла к двери, отодвинула засов и выглянула в темноту. — Пора бы им уже вернуться, — заметила она озабоченно и закрыла дверь. — Только бы этот Вольфганг опять чего-нибудь не напутал.
Друга взглянул на нее вопросительно.
— Понимаешь, несамостоятельный он какой-то. Хоть и надежный, а несамостоятельный. Ему всегда надо объяснять все в точности, а то потом горя не оберешься, если что-нибудь забудешь.
— А какой это Вольфганг? С шишками на лбу?
— Он самый. Да его и по запаху узнаешь. У него все барахло пахнет какой-то кислятиной, плесенью! — Она сморщила нос.
— А вид у него неглупый, — сказал Друга.
— Он и неглупый совсем, что ты, наоборот. Он только очень переживает, что такой маленький, и все боится, как бы остальные не высмеяли и не обругали его. Потому он вечно все и путает, если не разжевать ему как следует. — С озабоченным выражением лица она следила за прыгающими пятнышками красного отсвета на стене.
Снова стало очень тихо. Друга чувствовал, как в нем нарастала ненависть к Лолиесу. И это, должно быть, потому, что разговор зашел о Вольфганге. По правде говоря, между тем и другим никакой связи не существовало, но Вольфганг был беден, а Лолиес богат, возможно, благодаря этому и возникло такое ощущение.
— Интересно, так всегда будет, как сейчас? — задумчиво произнес Друга несколько минут спустя. — На одной стороне такие, как Лолиес, на другой — такие, как мы.
Родика покачала головой.
— Не так это все просто, как ты говоришь. Бедняки ведь не все такие, как мы, есть и такие, что кланяются богатым, давно смирились. Да и богатые хозяева не все такие, как Лолиес, попадаются и порядочные, не обманывают, не понукают без конца… Не знаю, может, ты и не поймешь меня… Между ними и нами вроде как стена стоит, и никак ее не сдвинешь. И если даже встретится не злой богач, все равно: он богатый, а мы бедные.
Кто-то забарабанил в дверь. От неожиданности оба вздрогнули. Родика жестом велела Друге молчать. Снова раздался сильный стук в дверь. Напряженно прислушиваясь, они стояли не шелохнувшись. Некоторое время было тихо и внутри и снаружи. Затем в дверь постучали два раза ногой и один раз ладонью.
— Вот идиот этот Ганс! — возмутилась Родика и пояснила Друге: — Только он способен на такое. — Она отодвинула засов и впустила всю ватагу. На лицах ребят сияли улыбки.
— Струхнули? — Ганс подмигнул.
— Мэ-мэ-мэ! — передразнила его Родика, высунув язык. — Ну что там? — спросила она брата.
— Серединка наполовинку.
— Это почему же?
— Маленький осколок ему в рожу попал, — ответил Альберт. — Налепит дома пластырь, и ничего заметно не будет.
— Я не виноват! — тут же заявил готовый к отпору Вольфганг.
— А я разве тебе говорю что-нибудь? Бутылка разорвалась не с того конца. Лолиеса всего забрызгало, на маляра стал похож. Даже уши ему залепило карбидной пеной.
— Как же вы это увидели? Вы же на мельнице были, — спросил Друга, внимательно слушавший весь разговор.
— А нам сам Лолиес рассказал! — отрезал Альберт, недовольно взглянув на него.
Друга сразу пожалел о своем вопросе, и это было как бы написано на его лице.
— Чего это ты сразу взъелся! Откуда Друге знать? — осадила брата Родика.
Альберт оторопело поглядывал то на Родику, то на Другу.
— Вон оно что! — ухмыльнувшись, протянул он. — Так, значит, обстоят дела!
— Осел!
— Шеф.
— Ты осел, шеф.
— Ладно, черт с вами! — И Альберт засмеялся Друге в лицо. — Что, здорово мне попало, а? Ну так вот, слушай. Сам понимаешь, ничего нам Лолиес не рассказывал. Но мы заняли наблюдательные посты вдоль всей дороги. Да так, чтобы он нас не засек. Дошло?
— Дошло.
Повернувшись к остальным ребятам, Альберт сказал:
— Можете садиться. Надо нам подумать, как теперь с Другой быть.
Ребята разместились на ящиках. Друга почувствовал, что ему стало жарко.
Альберт стоял, привалившись плечом к двери, удобно скрестив ноги. Время от времени он ворошил свою львиную гриву. Шеф думал.
— Вот что, ребята! — начал он наконец. — Я хочу, чтобы Другу приняли в наш Союз мстителей. Кто против — пусть говорит.
Он осмотрелся, и по грозному выражению его лица ясно было, что возражений он не потерпит.
Собственно, никто из ребят и не собирался возражать. У шефа должно быть, были свои причины, раз он рискнул привести новенького. Правда, пользы от этого новичка они не ожидали никакой. Да и какая могла быть польза от Други? С первого взгляда видно, что тряпка. А эта история с сочинением тоже ведь не ахти что такое! Одна Родика не колеблясь заявила:
— Мы его примем. Я, во всяком случае, «за».
Но кое у кого возникли все-таки сомнения.
— Почему бы и не принять? — сказал Ганс. — Пускай стенную газету нам выпускает. «Как я стал бандитом» — неплохой заголовок для первого номера. Хорошо звучит, а?
Раздалось несколько невеселых смешков.
— Нам такие нужны, — заметил Калле, почесав свою кудрявую итальянскую головку.
— Можно и попробовать. Мало ли что бывает, — сказал Манфред Шаде, любивший разыгрывать из себя мудреца, хотя у него и не было для этого никаких оснований. Блондин, с большими оттопыренными ушами, он говорил очень высоким, пискливым голосом.
На сей раз его слова вызвали одобрительные кивки.
Предложение Альберта было принято.
Не кивнул только один паренек. С мрачным видом он сидел на ящике, погруженный в изучение траура под своими ногтями.
— Ты чего это, Сынок? — спросил его Альберт. — Против, что ли?
— Я? Почему? Не-е…
— Значит, «за»?
— Почему? Откуда я знаю, сам-то Друга хочет или нет, — сказал он это очень спокойно и вообще производил впечатление выдержанного парня.
— А ты прав, — согласился Альберт и тут же спросил Другу — Ну как, охота тебе или ты смоешься?
— Я же не знаю, о чем вы, собственно… То есть, ну что вы делаете? — Боясь сказать что-нибудь невпопад, Друга говорил очень тихо. — Поэтому я пока ничего не скажу.
Альберт был ошеломлен. Он впился глазами в Другу, словно желая прочитать его мысли.
— Ничего не понимаю, — произнес он. — Ты что, правда до сих пор ничего не понял?
— Нет, по-настоящему нет. — Ответ Други был искренен.
Его мучил вопрос: какая же польза от того, что делают ребята? И главное, они всегда делали то, что сегодня с Лолиесом? Друга подозревал, что это было именно так, но он старался отогнать от себя подобную мысль. Нет, сейчас он не хотел над этим задумываться. Быть может, просто из благодарности за то, что здесь с ним вообще разговаривали.
— Стало быть, ты хочешь знать, почему мы такие, какие мы есть и что мы вообще делаем? — спросил его Альберт.
Друга прямо посмотрел ему в глаза.
— Идет. Я объясню тебе. — Альберт все еще стоял, прислонившись к двери. — Сегодня в школе ты мне говорил: «Иногда люди бывают и хорошие», а я в ответ рассмеялся. И знаешь, если б они были хорошие, все это здесь было бы тоже ни к чему. Или ты думаешь, нас от этого не воротит? Ты вот пойди к этим «хорошим» людям и скажи им: «Мне негде ночевать, помогите». Может, они и пустят тебя на ночь к крысам в кормовую кухню, и то не задаром. Еще заставят отрабатывать десять дней в поле или выгребать навоз в хлеву. Вот оно как! И всегда будут правы, потому что ты голодранец и обязан им в ножки кланяться. Они же пустили тебя в кормовую кухню! Подумать только, что ты мог там натворить! А вдруг ты поджег бы кухню? Чего потом с голодранца спрашивать — все, мол, они такие. Как клопы или чума! — Альберт умолк, презрительно плюнув на пол. — А вот если у тебя старики богатые, если у вас припрятано кое-что в кубышке, тогда люди сразу делаются хорошими. Поглядел бы ты, как они распинаются, увидев тебя, как рады! И на ночь оставят, и ничего не спросят, и будут еще похваляться, какая, мол, честь! А если ты стыришь у них что-нибудь и дело раскроется, ты только скажи им: я это по ошибке прихватил, — все будет шито-крыто. Вот оно как! Я тебе еще много чего мог бы порассказать. Я давно об этом думаю, хоть башка моя и плоховато на уроках варит. Ты небось один из тех святых, что верят в правду, а? И я верю в нее, только денег у нас нет купить эту правду. Она дорогая, знаешь ли. За нее всегда приходится дороже платить, чем заплатил тот, кому ты ее хочешь доказать. Потому-то мы и врем здесь все напропалую. У нас, видишь ли, монет не хватает заплатить за правду. — Он снова сплюнул на пол и наконец отошел от дверей. — Поэтому мы и сколотили наш Союз. Называем себя мстителями и крадем себе правду, добиваемся справедливости. Не виноваты же мы в конце концов, что все мы голодранцы. И знаешь, бывает ведь и сладко: наберет кто-нибудь кучу денег, а ты ему всю радость испортишь или просто морду набьешь! Приятно так делается. Вроде как каждый день котлеты ешь или шоколад. Котлет-то нам не достается, зато кулаки у нас крепкие, ударят — не обрадуешься, и ничего за это не спросим. Потому у нас и наш Союз, и потому мы так живем. Может, мы тебе надоели уже, а если нет, то можно и продолжить. — Он остановился перед Другой и посмотрел ему прямо в глаза.
Долго Альберту пришлось ждать ответа. Друга понимал, что ребята дурно делали, добиваясь таким образом правды и справедливости. Он чувствовал опасность пути, на который собирался вступить. Но силы, чтобы опровергнуть Альберта, переубедить его в том, что не так надо бороться за правду и справедливость, у него не было.
— Ну как?
— Да… может быть, вы и правы…
— Хорошо. Тогда все ясно. А теперь заруби себе на носу: ты сегодня здесь кое-что услышал, а если тебя примут в наш Союз — услышишь еще больше. Пора тебе знать: каждого, кто болтает о том, что у нас здесь происходит, мы так обрабатываем, что у него живого места не остается. Может, я тебе это уже говорил. Ну, а полиции мы не боимся. От нее нам все равно нет помощи. Зато мы сами себе помогаем — один за всех, все за одного, иначе — крышка! А теперь хорошенько подумай, прежде чем отвечать. — Он снова прислонился к двери. Отсюда ему удобнее было обозревать все вокруг. По правде говоря, Альберт доверял своим ребятам, только когда видел их лица. Повсюду ему чудилась опасность, и он всегда был готов к отражению ее.
— Если возьмете, что ж, я готов… — услышал Друга свой голос, одновременно удивившись и испугавшись.
Он же знал, что это был неверный и дурной путь. На мгновение перед ним возникло озабоченное лицо матери. Но в следующий миг он увидел себя в классе: он сидит один, никто с мим не водится, все презирают его… А здесь ребята предлагают ему свою дружбу. Или, может, это не дружба вовсе? Хотя он и колебался, но отклонить предложение Альберта не мог. Друзья, настоящие друзья! Как часто он мечтал о них! Он готов заплатить за эту дружбу, готов красть деньги, чтобы заплатить за нее. Но ведь дружба не продается и не покупается. Да и сейчас никто от него ничего подобного не требовал, ребята просто предлагали — иди к нам, если хочешь. А то, что они избрали для себя неверный, дурной путь, отступило на задний план, почему-то сделалось совсем не важным.
— Да, я согласен, — еще раз подтвердил Друга. — И никому ничего не скажу.
— «Никому» — очень легко говорить, особенно, когда неизвестно, кому же это «никому», — вставил Ганс, ехидно улыбнувшись.
Улыбнулись и другие ребята, только Сынок оставался все так же невозмутим и спокоен.
— Тогда, значит, мы и определим сейчас, кому это «никому», — сказал Альберт. Ему нравился Друга, и он невольно защищал его. — Никому — это значит и матери не скажешь. Запомни! Все, что делается у нас здесь, в Союзе, касается только нас. — Альберт говорил очень мягко, будто желая придать Друге смелости. — А потом, знаешь, мало только обещать, что ты будешь держать язык за зубами. К примеру, попадешься ты на каком-нибудь дельце, всыплют тебе по первое число — тут уж трудно не проболтаться. Поэтому каждый, кого мы принимаем в Союз, должен перво-наперво доказать, что он способен выдержать и не раскиснуть.
Друга побелел. Не потому, что он дал свое согласие, а потому, что боялся не выдержать испытания.
— А что мне делать? — спросил он.
— Встань! — приказал Альберт, подойдя. — Теперь слушай. Сейчас я тебя стукну. Стисни зубы — это всегда хорошо, когда дерешься.
Друга механически выполнил приказание. В эти секунды он ничего не чувствовал: напряженное ожидание и страх оттеснили все остальное. Как в тумане увидел он, что и ребята и Родика поднялись со своих ящиков и не отрываясь смотрят на него.
Вдруг он ощутил страшный удар по подбородку, и все куда-то провалилось. «Ничего страшного!» — успел он подумать, погружаясь в черноту.
Сознание медленно возвращалось к нему. Первым он увидел Альберта: тот стоял в стороне и разговаривал с кем-то из ребят. Это поразило Другу. Разве они с Альбертом не друзья? Неужели Альберту совсем безразлично, что он лежит тут без чувств? С трудом Друга поднялся.
— Больно было? — спросил Альберт, увидев, что Друга встал. — Мы же знали, что ты скоро очухаешься.
Друга попытался улыбнуться, но у него что-то плохо получалось.
— Приняли меня теперь?
— Нет, — сказал Альберт, — это только начало.
— А что еще?
— Выбирай: хочешь — пятки прижжем раскаленным угольком. Не бойсь, пластырь у нас наготове. Хочешь — отхлестаем кнутом. — При этом Альберт пожал плечами, как бы говоря: сожалею, конечно, но так уж у. нас заведено.
— Тогда лучше кнут, — ответил Друга.
Голос его звучал глухо. На самом деле ему хотелось крикнуть во все горло: нет, нет, отпустите меня, я боюсь! Но это было уже невозможно. Он и не знал, что больней: когда тебя хлещут кнутом или когда прижигают пятки. Кнут он выбрал потому, что тогда мать ничего не заметит, а с прожженными пятками он стал бы хромать, и мама спросила бы почему? А ей он не хотел врать.
— Как знаешь, — сказал Альберт. — Пошли сюда по соседству, там просторней.
Словно приговоренный к смерти, Друга перешагнул порог, остальные ребята последовали за ним. При этом у всех была заметна какая-то нерешительность. Должно быть, путь этот был не из приятных, и они только выполняли обязанность, казавшуюся им неизбежной.
Родика и Сынок остались на своих местах.
А ты разве не пойдешь с нами, Сынок? — удивленно спросил Альберт.
— Неохота, — ответил тот, даже не подняв головы.
— А ты, Родика?
— Я дежурная по печке. Но мне тоже неохота.
На лбу Альберта появилась вертикальная складка. Он вышел. Больше всего ему хотелось сейчас переругаться со всеми, даже с самим собой. Что это еще за рожи? Неужели Родика и Сынок думают, что ему это доставляет удовольствие? Нет, никакого удовольствия он не испытывал — он вообще не любил драк, избиений, хотя не проходило и дня, чтобы он не сражался со своими врагами. Альберт вдруг почувствовал себя страшно одиноким. Никто ведь не думал о том, как у него сейчас тяжело на душе! А какое отчаяние охватывало его, когда ребята в школе издевались над Другой только потому, что он часто болел и мать его была батрачкой! Или когда Лолиес, проходя мимо их домика, со злобной ухмылкой сплевывал в песок!
В такие минуты ненависть захлестывала Альберта, и он сжимал кулаки. Нет, он не стыдился бедности своих родителей, и вовсе не зависть толкала его против богатых. Несправедливость вызывала в нем ощущение острой физической боли. Ведь чем богаче человек, тем больше все его хвалят, и пусть даже он ругает и обманывает других, ему все дозволено! Да и то сказать, у него ведь и молотилка, и тягловый скот, все бедняки зависят от него! И что самое плохое — Лолиес натравливает бедняков друг на друга. Будь у одного хоть на морген земли больше, чем у соседа, его тут же чем-нибудь отличали, и он бог весть что о себе воображал. Никто ведь не хотел быть самым бедным! А кто был им и впрямь, тому доставалось все презрение, вся недоброжелательность остальных.
Это и заставляло Альберта так ненавидеть, он хотел покончить с подобной несправедливостью, и это было его право. Но он знал только одно средство достигнуть своей цели — кулаки, их-то он и пускал в ход при любой возможности. Ведь сколько он себя помнил, он всегда страдал от несправедливости и с каждым днем ненависть его раскалялась все жарче. И потому испытание, назначенное Друге, он рассматривал как необходимое испытание.
Альберт был убежден, что мстители могут победить в этой схватке, только проявив твердость и прежде всего твердость по отношению к самим себе.
…Оставшись одни, Сынок и Родика присели около печурки и с грустью смотрели в огонь. Прошло немного времени, и за стеной послышался свист кнута.
Родика сказала:
— Это наверняка Калле.
— Да, — согласился Сынок.
Слова его прозвучали так, как будто все это происходило не за стенкой, а где-то очень далеко, и хотя он сидел рядом, он как бы не принимал ни в чем участия. Не по душе ему были подобные «боевые крещения». Они казались ему лишними. А ведь он был не менее храбрым, чем Альберт, хотя силой он и не мог с ним помериться. Но — и это отличало Сынка от всех ребят — он никогда не хвастался. Все, что он делал, казалось ему само собой разумеющимся. Трудно было по его лицу угадать, какое у него настроение. Он всегда был ровен и замкнут.
Сынку недавно исполнилось четырнадцать лет. Он был не очень высокого роста, но атлетического сложения. Короткие светлые волосы он всегда гладко причесывал, никто никогда не видел его растрепанным. Единственно подвижными на его лице были глаза, смотревшие очень мрачно.
Время от времени сюда доносились стоны Други, однако ни плача, ни жалоб слышно не было.
— Мне жалко его! — проговорила Родика.
Сынок молчал.
— А тебе нет?
— Не… — Сынку явно не хотелось продолжать разговор.
— Чего ж ты тогда не пошел со всеми?
— Глупость одна…
— Что «глупость»?
— Да то, что они там делают.
— По-моему, это подлость!
— Нет, глупость. Если кто не умеет держать язык за зубами, он все равно проболтается.
— Не знаю, — раздумывая вслух, сказала Родика, склонив голову набок.
— Ладно, — огрызнулся Сынок. — Оставь меня в покое.
— Если тебе дома влетело, так это еще не значит, что ты можешь на мне тут отыгрываться.
«Девчонка и есть девчонка!» — подумал Сынок и зло усмехнулся.
За стеной раздались шаги. Дверь открылась. Первыми переступили порог Альберт и Друга.
— Ты сядь посиди, небось ноги подкашиваются, — сказал Альберт Друге. — Я знаю, как это бывает.
Друга весь дрожал. На лбу выступили капельки пота. Все это время он думал об одном: «Только бы не закричать! Не закричать!» Это-то и помогло ему выдержать испытание, хотя под конец ему уже казалось, что от этой мысли у него вот-вот лопнет голова. Теперь-то всё уже было позади. Неужели всё? Да, все. Он увидел это по лицам ребят. Они приветливо улыбались, должно быть считая его уже своим.
Друга вздохнул со счастливым чувством.
Вольфганг Флидер снова достал из кармана жестяную коробочку, предложил ему закурить.
— Я так рад!.. — неожиданно произнес Друга, положив ему руку на плечо.
Вольфганг немного смутился: чего это новенький обрадовался, неужели из-за цигарки?
— Бери больше, — сказал он, — если они тебе нравятся. Я могу себе еще накрутить.
— Да я не потому, — извинился Друга.
— А! — обидевшись, Вольфганг захлопнул коробочку и спрятал ее в карман. Потом принялся старательно соскребать какое-то пятнышко со штанов.
Чтобы поправить дело, Друга поспешил его заверить:
— Я правда рад!
— Да я ничего и не говорю, — примирительно заметил Вольфганг. — Кнут-то здорово кусается? — тут же спросил он с любопытством.
Друга кивнул.
— А ты молодцом держался. Погоди, из тебя еще выйдет толк!
Вольфганг вообще считал, что надо ладить со всеми, и потому всем говорил что-нибудь приятное.
Слова его и на Другу произвели соответствующее действие — он даже немного загордился. При этом он нашел, что Вольфганг славный паренек, хотя одежда его и пропахла плесенью.
В это время из соседней кормовой вернулись Альберт и Длинный. Что они там делали, Друга не знал. Длинный остановился перед Другой. Вольфганг шепнул:
— Встань!
Друга поднялся.
— Друга Торстен! Братья-мстители готовы принять тебя в свой круг. Они призывают тебя кровью подписать, что ты всегда будешь стоять на страже интересов Союза, что все его тайны ты унесешь с собой в могилу. Каждому из нас, если он попадет в беду, ты немедленно придешь на помощь, как и наш долг прийти тебе на помощь, если тебя кто-нибудь будет агрессировать.
Длинный, не очень уверенный, правильно ли он употребил слово «агрессировать» вместо «нападать», выдержал долгую актерскую паузу: кто-то ведь хихикнул за его спиной? А разве можно было ему оконфузиться в такой почетной роли? Ганс и без того уже пустил слух, будто Длинному доверили ее исполнять только потому, что он как по заказу умел придавать своему лицу самое торжественное выражение.
— Да, наш долг прийти на помощь, если на тебя кто-нибудь нападет, — произнес он наконец, решившись употребить знакомое слово. — Далее, мы требуем от тебя, чтобы ты кровью подписал, что Альберт Берг твой шеф и верховный главнокомандующий. Он один отдает приказы, и ты должен всегда называть его шефом. Теперь давай руку!
Друга протянул правую руку.
— Не ту! — сказал Длинный. — Сердце-то у тебя на левой стороне или где? — В руках он держал ржавое бритвенное лезвие, намереваясь надрезать палец Други. Тот отдернул руку, и Длинный недовольно буркнул: — Тихо, а то я тебя глубоко порежу! Не бойся, больно не будет.
Он сделал небольшой надрез, из пальца сразу же побежала алая кровь.
— Вот, а теперь подписывай! — Длинный развернул рулон оберточной бумаги, на котором виднелся столбик имен, намалеванных кровью. Каракули на каракулях. Указав свободную строчку, Длинный пояснил: — А это для тебя приготовлено. Сейчас я натяну бумагу, тебе легче будет писать.
Все столпились вокруг Други и Длинного. Лица серьезны, глаза устремлены на серую бумагу.
Довольно неловко Друга намалевал свое имя. Да и неудобно ему было писать левой рукой. Длинный с торжеством показал всем новую подпись. Но большинство выискивало глазами только собственные каракули, давно уже высохшие и пожелтевшие.
Кто-то сунул Друге пластырь, а Длинный вновь свернул святыню Тайного Союза мстителей.
— Поздравляю тебя, — проговорил Альберт, тряся руку Други, — от всех нас! Теперь ты наш кровный брат!
Некоторое время они еще посидели все вместе, чтобы получше познакомиться с новичком, затем собрались уходить.
На дворе было уже темно. В небе ни звездочки. Друга думал о своей матери. Наверное, она уже беспокоится, а ему теперь нельзя даже говорить, где он был. Впервые придется ей врать. Это мучило его. Мать была единственным человеком, перед которым он чувствовал себя сейчас виноватым. Она вовсе не заслуживала, чтобы он ее обманывал. Но ведь он дал клятву и подписал это своей кровью. Пути назад уже не было, да он и не хотел этого!..
Рядом с ним шагал Альберт.
Когда они выходили, он сказал, что хочет подышать свежим воздухом…
— Ну, как чувствуешь себя? — спросил он. — Доволен?
— Да… не знаю.
— Не знаешь? Хорошо хоть признался. Но я и так уже понял. Ты ведь думаешь, что люди хорошие.
— Может, и так, — проговорил Друга и остановился. — Видишь ли, я не верю…
— Что люди плохие?
— Да.
— И я бы не хотел верить, — произнес Альберт. — Но так оно и есть. Дело известное.
Снова они шагали рядом, глядя прямо перед собой. Изредка из Бедова доносился лай, и они прислушивались.
— А деревня сейчас черная-черная, — сказал наконец Альберт.
— Правда. Будто притаилась и чего-то боится.
Молча они пошли дальше.
— Может, опять война будет, — проговорил задумчиво Альберт.
— Нет уж, пусть лучше не будет, — отозвался Друга, пытаясь разглядеть в темноте лицо Альберта. — Тебе что, нравится, когда война?
— Может быть. Я бы тогда всех укокошил, кто хоть раз мне поперек дороги встал.
— Да они тебя первым бы и пристрелили, — сказал Друга. — В войну больше всех хорошим людям достается, а другие увиливают да еще наживаются на ней.
— Говорят, бывают и войны против тех, кто наживается.
— Бывают. Но все равно хорошим достается. Надо без войны постараться.
— Сказать по правде, наш Союз тоже вроде как бы войну ведет, — продолжал Альберт. — Интересно, мы преступники или нет?
— По-хорошему иногда и не получается, — заметил Друга. — Но все равно надо стараться.
Альберт поднял лицо к небу. Тихо падал снег. Снежинок даже не видно было, они только чуть щекотали кожу.
— Если б это можно было! Да они же нас всерьез не принимают. Вот в чем штука-то!
— Это верно, — согласился Друга.
— Скажи, а ты что обо мне подумал? — спросил Альберт. — Ну, тогда, когда я тебе в морду дал?
— В ту минуту я ни о чем не думал, — ответил Друга. — Все было так ново, необычно для меня. — Но если подумать… может, это ты на ребят хотел впечатление произвести? Может, ты просто боишься, что они не так думают, как ты?
Оба снова помолчали. Затем Альберт хриплым голосом проговорил:
— Скажи, а как ты ко мне относишься? Подлец я, да?
— Не знаю. Думаю, что ты хороший.
В темноте выросли первые дома Бецова. Альберт и Друга остановились.
— Тебе разве скотину не надо кормить? — спросил Друга.
— Нет, — сказал Альберт. — Коровы у нас сдохли. Только Лотта жива осталась. А со всем остальным старики сами управятся. Да и все равно уже поздно.
— А сколько у вас было коров?
— Три. И теленочек… десять дней ему только было.
Друга вытянул руку, поймал несколько снежинок и дал им растаять на ладони.
— Знаешь, что моя мать иногда говорит? — произнес он тихо, скорее для самого себя.
Альберт повернулся к нему.
— Она говорит: снежинки — это как счастье. Беленькие такие, сверкают красиво, и очень хочется их поймать. А когда поймаешь — они согреваются и тают. Вот так и счастье — хочется его поймать, такое оно беленькое, красивое, манит оно тебя. Ну, а потом если ты беден, счастья как не бывало, нет его! Бедность для счастья, что тепло для снежинок.
Альберт провел ногой по снегу.
— Да, — сказал он, — не может у нас быть никакого счастья. Мы бедные. А тут еще русские.
— Не понимаю, о чем ты? — спросил Друга.
— О чем? Об излишках. Кулаки наживаются на них, а мы еле-еле норму сдаем.
— Не думаю, чтобы это русские так определили, — сказал Друга, — но это, конечно, неправильно.
— Разве не все равно, кто определяет? — решил Альберт и потер себе уши. Стало холодно.
Навстречу из темноты выехал велосипедист. Они подождали, пока он не отъехал подальше.
— Пойдем пройдемся еще немного, — предложил Альберт. Он думал о том, что из Други надо сделать другого человека. Такой, каким был он сейчас, — смирный, тихоня, — он никакой пользы не принесет.
Альберт взглянул на своего спутника со стороны и усмехнулся.
— Знаешь, мне что-то охота напасть на тебя. — Он проговорил это очень тихо. — Скажи, на тебя нападал кто-нибудь?
— Ты что, очумел? — только и успел сказать Друга и уже в следующий миг почувствовал, как ему сдавили горло. Он вздрогнул от обуявшего его страха.
— Очумел, говоришь! Нет, не очумел. — Альберт говорил, растягивая слова, все сильнее сжимая горло Други. — Внимание, сейчас начнется!
Друга попытался рассмеяться. Мысли его путались. Неужели Альберт… Он рухнул наземь.
Это Альберт подставил ему ножку. Теперь он стоял, нагнувшись над ним. Друга хотел закричать, но не мог произнести ни звука.
Альберт выпрямился, стряхнул снег с колен.
— Вставай! Меня тебе нечего бояться. — Он снова говорил спокойно, почти ласково.
Другу била дрожь. «Надо бежать!» — подумал он. Но ведь Альберт его все равно догонит.
— Зачем ты это сделал? — с трудом проговорил он.
Альберт повернулся к нему.
— На, бей, если я тебе сделал больно! Не шелохнусь. Честное слово!
— Нет, мне не больно, — ответил Друга. — Но зачем ты это сделал?
— Думал, ты защищаться будешь. Ты бы мне еще больше понравился. Не станешь защищаться — они тебя без конца лупить будут. Вот оно как! — Альберт говорил очень убежденно.
— Не умею я драться, — заметил Друга. — Мне всегда достается.
— Научить?
— Чему?
— Драться.
— Разве этому можно научиться?
— Еще как!..
…Фрау Грубер сидела у печи и штопала. Пальцы ее двигались быстро и проворно, как будто она всю жизнь ничем другим не занималась, но вдруг движения ее замедлились и наконец совсем затихли. Руки фрау Грубер теперь покоились на черной юбке. Она была хрупкой женщиной; во всей ее повадке чувствовалось что-то отрешенное от этого мира. Но, быть может, это была самая обыкновенная робость. Фрау Грубер выглядела гораздо старше своих лет, волосы ее уже побелели, на добром лице запечатлелось все пережитое — и радость и горе. Только вот следы радости были далеко не столь глубоки, как следы горя. Да, радость уже давно не навещала дом фрау Грубер.
Долго она сидела задумавшись, затем, покачав головой, снова принялась за штопку. Но прошло немного времени, и воспоминания снова отвлекли ее от работы.
«Знаешь, Мартель, я встретил одну девушку. Замечательную девушку. И сердце у нее чудесное, и руки золотые. Я совсем голову потерял. Не знаю, что мне делать, чтобы она пошла за меня». Давным-давно когда-то, чуть ли не пятнадцать лет назад, эти слова сказал ей один парень. За него она потом и вышла замуж. Тогда-то она разревелась, думала, что Франц нашел себе другую. Но нет, это он о ней так говорил, и все было так хорошо!
На Бецовских выселках у него было свое небольшое хозяйство, и она переехала к нему. Теперь можно было и не батрачить — свой ведь двор у них! Много-то он не давал, но жить можно было, и они сразу начали строить большие плацы. Они будут прилежно трудиться, копить, а потом купят большой участок в самом Бецове, где живут все настоящие хозяева и где земля тучная. И построят себе каменный дом, посадят сад, а потом и батраков наймут, из тех, что ютятся на Бецовских выселках…
Родился мальчик, и тогда весь их нелегкий труд приобрел настоящий смысл. Тут уж они себя совсем перестали жалеть.
Пусть малыш никогда горя не знает. В его свидетельстве о рождении было записано — Эрвин Грубер, но они звали его просто Сынок. И правильно, ведь сынком могли звать только того, у кого были счастливые родители. Но вдруг настал день, когда рухнули все их мечты и планы. Грянула война!
Ее муж, ее Франц, отец Сынка, ушел на фронт, и она осталась одна с малышом. Извелась вся, состарилась на проклятой крестьянской работе. Только и была у нее одна надежда — вернется Франц, и они начнут все сначала…
И Франц вернулся. Но он и не думал начинать сначала. Его как подменили. Хвастун, и только. Ничего от ее старого Франца не осталось. Даже для Сынка не находил доброго слова. Скоро, очень скоро он увидел, что в деревне есть женщины и помоложе и покрасивей, чем она. И стал пропадать из дому. Люди шушукались. И Сынок, подрастая, тяжело переживал дурную молву. А она все берегла его, лаской хотела утешить. От этого Сынок еще больше злился и, вместо того чтобы поговорить по-хорошему, кричал на нее.
Фрау Грубер все еще сидит у печи, в руках заштопанный чулок, глаза открыты, но ничего не видят вокруг.
На кухне звякнула посуда. Фрау Грубер вздрогнула. Сынок, значит, вернулся. В горшки заглянул.
— Здорово, мать, — сказал он, когда фрау Грубер вошла в кухню. — Чего-нибудь вкусненького бы!
— Погоди минутку, — ласково кивнув, ответила она. — Я тебе яичницу приготовлю. Мигом. А то поздно ведь уже.
Ничего не поздно! — оборвал он ее грубо. Ласковая манера матери раздражала его. Лучше бы выругала: где, мол, он шатался так долго. А она «уже поздно», и вид такой, будто сама в чем-то виновата. Злой-презлой, Сынок садится за стол и, как барин, ждет, когда ему подадут.
Очень скоро на столе появляется сковородка с шипящей яичницей. Она аппетитно пахнет поджаренным салом.
— Сама-то ела уже?
— Ну что ты, Сынок, я подожду.
— А отец?
— Ушел, как скотину накормили.
— Куда?
— В трактир, должно быть.
Сынок вскочил. Хлопнула дверь. Нет его.
Фрау Грубер застыла на месте, словно жизнь вдруг покинула ее. Она смотрит на дверь и не верит. Ей кажется, будто сердце ее кто-то сжал огромным кулачищем. Она опускается на стул и роняет голову. Проходят часы, и она наконец засыпает.
Выскочив на двор, Сынок подбежал к риге и прижался лбом к воротам. Губы его дрожали. Стыд и обида сжимали горло. Ночная прохлада немного успокоила его. Но стыд гнал неведомо куда. Он вышел на улицу и зашагал по дороге на Штрезов — только бы подальше от дома.
Часто, не зная покоя, бродил он бесцельно по дорогам. Дома он теперь никогда долго не выдерживал. «Дома» — это было равнозначно наказанию. Высокомерие отца и тихое, безмолвное горе матери гнали его прочь, он искал одиночества. И никогда ни с кем не делился ни своими мыслями, ни своими чувствами. Да никто и не интересовался ими. Он чувствовал себя лишним, изгнанным, и, быть может, это и было то общее, что связывало его с ребятами из Тайного Союза. Ну, а вдруг это и есть самая сильная и крепкая связь?
Сынок зашагал быстрее, потом остановился. Справа виднелась крыша электрической мельницы, где они после обеда подкарауливали Лолиеса.
Сынок вспомнил исказившееся от ужаса лицо кулака, когда позади него вдруг разорвалась бутылка с карбидом, и рассмеялся.
Что-то похожее на гордость шевельнулось у Сынка в груди. Нет, не такие уж они жалкие, могут и постоять за себя — на свой манер, конечно.
— Ну, погодите, еще узнаете нас! — проговорил он. — Когда-нибудь все по морде получите! — Сынок и сам не отдавал себе отчета, кому именно адресованы эти угрозы, но говорил он вполне серьезно.
Он снова зашагал вперед, еще быстрее и уже несколько минут спустя очутился в самом Штрезове. Он прошел один, другой переулок и в конце концов остановился перед домом, стоявшим поодаль от других.
Дом этот очень похож на скворечник. В одном из двух окон горит свет. Оно полуоткрыто, и из комнаты тянет табачным дымком, порой слышится грубый мужской голос и женский смех. Сынок стоит под окном и не сводит с него глаз. Он только что слышал голос своего отца. Сынок не замечает, что идет снег, что одежда его промокла, он не чувствует стужи, он видит только это одно окно. Там играет радио, и там смеется человек, виновный в несчастье его матери.
Сынок не мог бы сказать, как долго простоял так, но вдруг, решившись, отошел немного. Нагнулся и поднял камень. Отойдя подальше, он размахнулся, и — дзинь! — зазвенело разбитое стекло. Сынок не стал ждать, а повернулся и зашагал прочь. «Хоть холодно теперь там будет», — подумал он со злостью.
— Все вранье! — изрек Альберт, захлопнув учебник истории. — Вот поэтому у меня и в башке ничего не остается.
— Просто ты ленивый очень, — заметил Друга. — Тогда и неинтересно учить.
Они сидели в чистой комнате Бергов, правда больше походившей на какую-нибудь кладовку, забитую всякой рухлядью. Мебель была изъедена древоточцем, от сырых стен обои отстали, а сквозь белила на потолке проглядывали железные балки, покрытые черно-зеленой плесенью.
Вот уже несколько недель, как Друга и Альберт вместе готовили домашние уроки. Вначале и Родика занималась с ними, однако, убедившись, что она одна гораздо быстрее подвигается вперед, оставила ребят одних.
Новый способ подготовки домашних заданий предложил Друга, и Альберту он понравился. Но он был очень ленив, и Друга часто выходил из себя.
Взглянув на товарища, Альберт прищурился и сказал:
— Будешь ворчать — сожру учебник и воды запить не попрошу!
Хотя Друга и злился, он все же не сумел сдержать улыбки.
— Идиот! — сказал он.
— А может, мне и правда ничего не лезет в башку, — возразил Альберт, — потому, что там вранье одно.
Теперь и Друга захлопнул учебник и сунул его в портфель.
— Был бы честен, сказал бы, что неохота, и все!
— А я правда честный. Ты сам подумай: ведь все, кто тогда жил и знал, как оно было на самом деле, — все они давно померли.
— Ну и пускай! — с чувством превосходства ответил Друга. — Это же ничего не меняет. Всегда находилось достаточно людей, которые записывали историю.
— Да уж записывали! — смеясь, воскликнул Альберт. — И им хорошо платили за это. В конце концов все хотят жить. А вот ты скажи лучше, что они делали, когда тем, которые им платили, не нравились некоторые события? — Альберт смотрел на Другу, не закрывая рта. Так и не дождавшись ответа, он продолжал: — А я скажу тебе, что они делали. Очень даже просто — они вырезали все такие события из истории и вместо них вписывали какое-нибудь вранье. Надо было только подобрать такое вранье, которое понравилось бы людям, платившим деньги за эту писанину, — и полный порядок. Вот так оно и получается, Друга. А что потом через сотни лет остается от всамделишной истории, ты и сам можешь себе представить. Одному не нравится то, другому — это, и каждый заказывает себе новое вранье. Вся история сплошное вранье!
Друга слушал внимательно, и Альберту приятно было выступать в роли учителя.
— Знаешь, — заговорил наконец Друга, — есть ведь книги по истории, которые люди писали не за деньги. Они писали их в подвалах и других местах, где прятались от полиции. Это были настоящие герои. Из бедняков, между прочим. Им незачем было врать, раз они за свой труд ничего не получали. — Он погладил свой учебник истории, лежавший рядом на столе, словно сам прислушивался к тому, что говорил. Должно быть, и его эти слова в чем-то убедили.
— Наверное, так оно и было, — согласился Альберт. Подумав, он добавил: — Всегда бедняки правду говорят. Вот оно что. И прятаться им из-за этого приходится, как и нам.
— Да, — протянул Друга, — как и нам.
Несколько минут оба молчали. Каждый думал о том, о чем они только что говорили. Вдруг Альберт вскочил и крикнул:
— Тренировка! Пошли.
Он вышел во двор, а затем направился в сад. Друга нерешительно шагал следом. Он не любил этих тренировок, во время которых вся задача заключалась в том, чтобы каким-нибудь подлым приемом вывести противника из строя. Но Альберт был неумолим. Он во что бы то ни стало хотел сделать из Други драчуна, и следует признать, что Друга в последнее время сильно изменился. Движения его уже не были такими неуклюжими и угловатыми, да и говорить он теперь стал с большей уверенностью.
— Ну, чего спишь? — прикрикнул на него Альберт, так как Друга явно не собирался усваивать новый прием. — Теперь мы схватимся, а ты старайся высвободить руку. Будешь давить мне на лицо как можно сильнее. Это больно, голова невольно подастся назад, я потеряю равновесие и упаду. Дошло?
— Дошло.
— Начали! — Альберт бросился на Другу.
Тот делал все, как ему только что объяснили, но надавить на лицо не мог — боялся сделать Альберту больно. Альберт этого не понимал. Он рванулся вперед, и Друга полетел наземь.
— Тебе бы в кукольном театре выступать! — с издевкой заметил Альберт, когда Друга, пошатываясь, встал. — Надавить надо, а не гладить меня. Я тебе не собачка.
Друга смиренно выслушал Альберта, как ученик слушает учителя.
— Давай еще раз! — приказал Альберт.
Снова они ринулись друг на друга. Но все кончилось опять тем же.
— Нет, так не пойдет! — сказал он. — Так ты никогда не научишься!
— Где же мне научиться, когда ты сразу орать начинаешь? — защищался Друга, состроив кислую физиономию.
— Мэ-мэ-мэ-мэ! — передразнил его Альберт. — Ты бы пасть поменьше разевал, мы здесь с тобой не историю учим. Там ты можешь трепаться сколько влезет, а здесь помалкивай и слушай меня. А потом я вообще не орал.
Альберт сел рядом прямо на снег, а Друга предусмотрительно не встал.
— Дрянь дело! — философски заметил Альберт, приняв позу мыслителя.
— Да, дрянь! — повторил за ним Друга, и это прозвучало очень искренне.
— Что ж нам теперь делать?
На этот вопрос Друга ответа не знал.
— Ура, нашел! — воскликнул Альберт, вскочив.
Но Друга не последовал его примеру.
— Чего это ты нашел? — спросил он, не ожидая ничего хорошего.
— Сейчас покажу, — ответил Альберт нетерпеливо. — Пошли со мной! — И он тут же направился в сторону риги.
Друге не оставалось ничего другого, как пойти за ним.
По приставной лестнице они поднялись на сеновал. Вместо пола здесь на очищенные от коры слеги были набросаны доски разной длины и ширины. Они шатались, скрипели, малейшая неосторожность — и ты летишь вниз. А высота — восемь метров! Альберт все время молчал. И Друге сделалось не по себе. Ловко, уверенно, словно он шагал по асфальтированной дороге, Альберт перебрался в дальний конец сеновала и стал поджидать его там, где кончались доски. Дальше зияла дыра. Внизу виднелась охапка сена, вряд ли представлявшая собой достаточно мягкую подстилку при падении с такой высоты.
— Ну вот, — сказал Альберт. — Теперь мы здесь наверху проделаем с тобой все с самого начала.
Друга не на шутку перепугался.
— Ты с ума сошел! — воскликнул он, посмотрев вниз. — Тут же руки-ноги переломать можно.
— А ты не падай! — ответил Альберт с ухмылкой. — Дерись всерьез, не то полетишь вниз.
— Нет, не буду! — решительно заявил Друга, нервно подув вверх — волосы опять упали на глаза.
— Баба! — отрезал Альберт. Боязливость Други выводила его из себя. — Ты что думаешь, я тут шутки с тобой шутить пришел?
— Я боюсь! — признался Друга, всем своим видом моля о снисхождении.
— Черт с тобой! Сейчас покажу тебе, как отсюда падать. Но с уговором: если я не сломаю шею, ты перестанешь хныкать, мы начнем драться по-настоящему.
Не ожидая согласия Други, он сделал несколько шагов назад и опрокинулся прямо в дыру. Какой-то миг руки его казались Друге крыльями. Вдруг Альберт перевернулся в воздухе и ничком упал на сено. Тут же вскочив, он крикнул наверх:
— Давай и ты за мной! Лучше, чем с парашютом!
Друга в ужасе смотрел вниз. Набравшись храбрости, он даже присел для прыжка, но снова отошел от края.
— Нет, лучше я подожду. Вниз-то я все равно успею упасть.
— Тоже верно, — подтвердил Альберт, поднимаясь наверх. Взобравшись, он тут же подал команду: — На старт! Внимание! Марш!..
Теперь они и впрямь походили на боевых петухов, хотя Альберт, добросовестно играя роль тренера, боролся только в полсилы. Об ожесточенности схватки свидетельствовала наступившая тишина. Слышалось только кряхтение противников да изредка скрип досок. Оказавшись на краю пропасти, Друга со всей силой — а страх перед падением удвоил ее — надавил на лицо Альберта и заставил его откинуть голову назад. У Альберта глаза вылезали из орбит, вот-вот он рухнет, — слишком много фору он дал Друге. Невероятным усилием ему все же удалось вывернуться, на это Друга не рассчитывал. Он упал, и Альберт — на него. Друга снова тут же попытался нажать рукой на лицо противника — теперь Альберт стал на самом деле его противником.
Помимо их воли, схватка принимала все более ожесточенный характер. Друга даже вспомнил прием, которому его Альберт научил за несколько дней до этого. Теперь уже слышались и неподдельные стоны, и оба катались по сеновалу, забыв обо всем. Неожиданно Друга ощутил под собой пустоту, и оба они, крепко сцепившись, рухнули вниз. Несколько секунд они так и лежали на сене, не понимая, где это они вдруг очутились. Наконец Друга поднялся.
— Тоже мне придумал: «лучше, чем с парашютом»! Все кости болят! — ворчал он.
— У меня тоже, — признался Альберт, удивленный исходом сегодняшней тренировки. Он сидел на сене и ощупывал левый глаз. — Ты мне поставил фонарь! — деловито констатировал он.
— Не повредит! — съязвил Друга.
— Ишь ты! На себя лучше посмотри — вон какая ссадина! — несколько приглушил его пыл Альберт.
— Где это?
— На лице, где!
Друга достал носовой платок и вытер лицо. Платок оказался в крови.
— Не повезло, значит.
— Бывает, — сказал Альберт. — Давай посидим вот тут.
Они взобрались на поперечную балку и уселись, свесив ноги над воротами.
Только теперь Друга осознал, что сегодня он впервые дрался по-настоящему, и при этом не так уж плохо. Ему страшно захотелось выбежать на улицу и подраться с первым встречным — просто так, чтобы попробовать свои силы. Он почувствовал себя как бы богаче, хотя и не мог бы сказать, в чем. И правда, пусть теперь кто-нибудь только попробует сунуться! Он не испугается.
Альберту тоже не верилось — неужели с ним только что дрался тот самый трусливый и такой слабый Друга? Да, фонарь под глазом довольно красноречиво свидетельствовал об этом. Альберт взглянул сбоку на Другу.
— А ты здорово меня стукнул!
Друга неуверенно пожал плечами.
— Без лишней скромности, пожалуйста! — сказал Альберт.
Друга опять над чем-то задумался.
— Слушай, вот научусь я драться, а зачем, собственно? Гораздо лучше ведь научиться чему-нибудь другому, чему-нибудь интересному, хорошему…
Альберт спрыгнул вниз, облокотился на балку, положил голову на руки и посмотрел на Другу. Долго он смотрел так, словно пытался прочитать, что творится в голове у Други. Потом сказал:
— Послушаешь тебя — в попы бы тебе податься. У них как раз место освободилось. — Альберт намекал на умершего две недели назад в Ридале приходского священника, который и в Бецове читал проповеди, и готовил ребят к конфирмации.
— С тобой о таких вещах не поговоришь, — отмахнулся Друга. — Тебе бы только посмеяться.
— Ничего я не смеюсь, — возразил Альберт — Не понимаю я этого — и все. Так вроде ты умней меня, а насчет драки никак понять не можешь.
— Ничего подобного. Очень даже хорошо понимаю.
— Тогда о чем же мы с тобой спорим?
— Все это не так…
— Что?
— Да насчет драки.
— Не дошло. Объясни-ка!
Друга взглянул на него.
— Что надо защищаться — в этом ты прав. А в остальном… Мы же не только защищаемся, чаще мы нападаем…
Альберт сплюнул. Почесав в затылке, он сказал, с любопытством поглядывая на Другу:
— Ясно, что нападаем. Не нападай мы — другие бы напали на нас. Или ты знаешь лучший выход?
— В том-то и дело, что я тоже не знаю, — очень серьезно ответил Друга. Он сидел на балке и совсем не был похож на драчуна.
— Видишь, ты этого не знаешь, я этого не знаю — никто этого не знает! Нет такого пути, который был бы лучше!
— Должен быть такой путь! — размышляя вслух, возразил Друга, мечтательно посмотрев куда-то вдаль. — А ты этого разве не чувствуешь?
Альберт не знал, как ему ответить. Над этим он никогда не задумывался. Но он почувствовал какую-то тревогу, пришедшую вместе с этими мыслями.
— Это трудно объяснить, — снова заговорил Друга. — Но, может быть, вот как: ты, например, хочешь, чтобы у тебя были хорошие отметки, и ты их заслужил, старался. Но учитель тебя терпеть не может и все время занижает тебе балл. Сколько бы ты ни старался, ничего не помогает. Учитель даже использует других ребят против тебя, как бы тыл себе обеспечивает. Но тебе во что бы то ни стало надо добиться справедливости. И что же ты делаешь? Ты ночью пробираешься в школу и сам выставляешь себе отметки в классном журнале. Заслужить-то ты их заслужил, но то, что ты сделал, все равно обман. Учитель вскрывает это дело, и теперь у него есть повод — ему ничего не стоит выгнать тебя из школы. А ты… ты выбрал неверный путь — стал обманщиком!
Подумав, Альберт сказал:
— Может быть. Но как ни верти, другого-то пути не было.
— Был! Надо учителя выгнать из школы.
— Вот было бы здорово! — сплюнув, согласился Альберт. — Да его не выгонишь! Ему ж скорей поверят, чем тебе. В конце концов тебя же выставят склочником. Хорошего, мол, учителя хотел сжить со свету. Вот оно как!
— Да, — признался Друга, — у него власть, и потому мы всегда будем в проигрыше.
— Точно, — подтвердил Альберт, обрадовавшись, что разговор принял такой оборот. — С учителем ты уживешься, если будешь подлизываться. Вот и получается — лучше уж неверный путь.
— Да, тогда уж лучше неверный, — сказал Друга, подумав при этом, что на таком неверном пути он впервые встретил настоящих друзей.
— Скоро четыре, — ответил Альберт.
Друга спрыгнул вниз. В четыре у них был назначен сбор в сарае у Альберта. Опустив в задумчивости голову, они вышли во двор.
Мартовское солнышко припекало, снега становилось все меньше. С крыш капало, и капли, на мгновение сверкнув, словно жемчуг в лучах солнца, падали в лужи. Воздух, хотя и терпкий, манил вдаль, воробьи скандалили особенно громко, ветер доносил с полей запахи земли, освободившейся от своего белого бремени. Весь мир был полон веселого смеха, и в душе рождалось необыкновенное чувство легкости.
Сморщив нос и прищурив глаза, Альберт посмотрел на огненный шар, висевший над горизонтом, и, вдруг чихнув, стукнул своего приятеля под ребро и крикнул:
— Эх, Друга, старая ты клякса! Как-нибудь мы с тобой уж сварганим дельце, а?
Друге все казалось теперь гораздо проще, чем несколько минут до этого. Во всяком случае, он поспешил согласиться с Альбертом:
— Еще как!
На дворе показался Манфред Шаде. Не обращая никакого внимания на Альберта и Другу, он, как всегда, сразу же стал совать свой нос во все углы, до которых ему, по правде говоря, не было никакого дела. Бывают же дурные привычки у людей! Манфред даже у собачьей конуры остановился и просунул в нее свою голову с оттопыренными ушами. Вот-вот сам туда залезет, но нет, вон снова показалась его совиная физиономия. Подойдя к Альберту, Манфред сказал пискливым голосом:
— На бойню пора скотину. Долго не протянет. У меня глаз верный.
— Сам ты скотина! — огрызнулся Альберт и подошел к конуре.
Он уже несколько дней не видел Белло и сейчас ужаснулся. Собака лежала, вытянув ноги в сторону, глаза затянуты серой пленкой, под шкурой можно было сосчитать все ребра. Из пасти текла слюна.
Альберт вытащил Белло на свежий воздух. Но животное уже не в силах было держаться на ногах и тут же рухнуло наземь.
— Бедный Белло! — ласково сказал Альберт, поглаживая собаку.
— Может, он есть хочет? — спросил Друга, пытаясь как-то выразить свое сочувствие.
Альберт с грустью посмотрел на него.
— Нет, он не жрет ничего. Придется убить… — Он говорил это, все еще гладя пса.
— А вдруг он выздоровеет? — сказал Друга, которому больше всего хотелось схватить Белло и убежать с ним — только бы Альберт не убивал собаку.
— Нет, он уже не выздоровеет. Да и кто его знает, чем он болен. Надо убить, а то зря мучается, — повторил Альберт, очевидно уже приняв твердое решение.
Друга удивился. Альберт ведь так любил своего Белло. Но это-то и было характерно для него — Альберт не считался со своими чувствами, всегда делая то, что ему казалось правильным. Как-то Друга решил расспросить его об этом. Альберт сказал тогда: «Если дать волю чувствам, дело плохо может кончиться. Иногда ведь готов всех передушить. Вот оно как!»
Прибежала Родика и сразу набросилась на них:
— Ну конечно! Все уже собрались, сидят и ждут вас. Всегда вас! — крикнула она, гневно глядя на обоих. — А стоит кому-нибудь опоздать, вы первые громче всех орете…
— Давай закругляйся! — прервал Альберт. — Тоже еще агитировать вздумала.
Показав им язык, Родика повернулась на месте и с высоко поднятой головой зашагала прочь.
Альберт и Друга переглянулись и, пожав плечами, отправились за ней следом.
Как только они вошли, в сарае мгновенно наступила тишина. В ожидании Альберт остановился у порога. К нему подошел Калле и стал по стойке «смирно».
— Докладываю, шеф. Братья Тайного Союза мстителей все в сборе. Нет, один отсутствует — Эрвин Грубер. Полиция арестовала. Других происшествий не было! — отрапортовал он, сделав весьма таинственный вид.
— Благодарю. Можешь быть свободным.
Едва Альберт сказал это, как царившая в сарае тишина нарушилась и все загалдели разом. Рапорт, пожалуй, превратился в некоторый торжественный обряд, которым мстители желали подчеркнуть серьезность своих собраний. Кроме того, он лишний раз демонстрировал, кто тут главный.
Все еще стоя у дверей, Альберт приказал:
— Слушай мою команду!
Ребята умолкли, уставившись на него.
— Сегодня у меня для вас два предложения. Выкладывайте, что вы о них думаете. Первое: с сегодняшнего дня мы наш сарай больше не называем сараем. Это наша «Цитадель». Во-вторых, нам нужно придумать приветствие, которое знали бы только мы. Предлагаю вот какое. — Он согнул правую руку в локте и приложил ее к груди. — Сейчас Друга объяснит, что это значит. — Альберт сел на один из пустовавших ящиков.
— Об этом я читал в одной книжке, — начал Друга. — Но, может быть, и вам понравится. Цитадель — это вроде крепость такая. Оборонять ее хорошо, а вот штурмовать — трудно. Ну, замок вроде. Лет двести — триста назад рыцари в таких крепостях жили. А теперь насчет приветствия. Это индейцы так здоровались друг с другом. Согнутая рука на груди означает «Свобода над сердцем». Хотите — можете только руку прикладывать, а хотите — и слова говорите.
Темпераментный Калле первым вскочил и воскликнул:
— «Свобода над сердцем»! Это нам подходит.
— Если делать так, как ты делаешь, — она у тебя над пузом, — съязвила Родика. — Надо руку выше поднимать.
— Выше так выше. Главное, что свобода над сердцем, — повторил Калле.
— А кто больше всех орет, у того она только на языке! — вставил Ганс. — Но я все равно «за».
Теперь уже не понадобилось никакого голосования. Десять рук сразу же были приложены к груди. И кто выкрикивал, а кто и тихо говорил:
— «Свобода над сердцем»!..
Быть может, не все сразу осознали глубокий смысл этих слов, но инстинктивно ребята почувствовали его. Никто из них и не представлял себе, что такое свобода, где она начинается и где кончается. Свобода — великое слово. Она может возвысить человека. Однако завоевать ее способен только тот, кто знает, в чем она заключается.
Ребята из Тайного Союза мстителей не знали этого. Свобода для них была тем, чего им в эту минуту больше всего хотелось. Всем тем, о чем они мечтали.
— Ну как, принимаете приветствие? — спросил Альберт все еще бормотавших ребят.
— Ясно, принимаем! Я ж сказал, — объявил Калле, как всегда полагавший, что он один значит столько же, сколько все остальные, вместе взятые.
Ну, а насчет «Цитадели»? — снова спросил Альберт.
— Вроде ничего звучит, — пискнул Манфред Шаде. — Можно согласиться.
— Хорошо, — сказал Альберт. — Теперь поговорим о Сынке. Откуда вы знаете, что его сцапали? И вообще, что он натворил? — Альберт произнес эти слова с таким спокойствием, как будто известие об аресте одного из членов Союза никого из них не испугало. Напротив, он говорил как бы с гордостью: глядите-ка, полиция против нас! Ведь по силе и могуществу противника мы часто измеряем и собственное значение…
— Вальтер слышал. В конторе у бургомистра, — отвечал Вольфганг. — Он за продовольственными карточками ходил, а там как раз говорили о Сынке.
— Выкладывай, Вальтер! — обратился Альберт к высокому парню с глазами навыкате.
— Я пошел за карточками, — начал Вальтер, — за основными и дополнительными для матери — она у меня чахоточная. Тут всегда надо ухо востро держать, а то сразу забудут эту дополнительную карточку. Это они умеют. Ну вот, вхожу я в контору, уж не помню в котором часу, но народу много было: и Вильке, и Байер, и этот Шульце-старший, и еще много других…
— Чего мелешь-то? Давай в темпе! — прервал его Ганс.
Вальтер и впрямь был ужасный болтун, никогда он не мог рассказать что-нибудь коротко и ясно, все-то ему хотелось передать до мельчайших подробностей. Стоило его спросить, какой дорогой он пришел, как он обязательно начинал перечислять все выбоины и колдобины, повстречавшиеся ему на пути, аккуратно распределяя их по величине и глубине, не забывая поведать и о том, на каком именно треснувшем камне проросла трава. К тому же он без конца повторял эти подробности. Говорил он, никому не глядя в глаза, — взгляд его перебегал от одного к другому. Время от времени он робко заглядывал в лицо своему собеседнику и сразу же пугливо отворачивался. Ребята его не очень любили, и виноваты в этом были не только его глаза…
Смысл его длинного повествования заключался в следующем: прошлой ночью кто-то из взрослых задержал Сынка, когда тот пытался удрать, и отвел в полицию. Говорилось, что Сынок будто бы выбил в Штрезове у кого-то окно. И это, мол, не первый раз. Стоило стекольщику вставить стекло, как следующей же ночью его непременно разбивали. Три недели подряд кто-то так безобразничал, и теперь в полиции обрадовались — наконец-то схватили хулигана! Правда, никто не видел, как Сынок разбивал окно, но подозрение пало на него. Далее Вальтер сообщил, что в полиции Сынок не отвечал ни на какие вопросы.
— Понятно, — сказал Альберт. — У его отца там краля.
Немного помолчав, он недовольно добавил: — Сынок и разбил. Это на него похоже.
— Ну и что? Правильно сделал! — взорвался Калле. Карие его глаза при этом так и сверкали, он готов был немедленно ринуться в бой.
— Балда ты, ничего не правильно! — отрезал Руди, который сегодня дежурил у печи и никак не мог ее растопить. Разумеется, у него оставалось мало времени для участия в дискуссии. Однако упустить случай сцепиться с Калле он не мог. Для этого он всегда находил время. — Если бы это было правильно, мы бы все об этом знали и все вместе обстряпали бы такое дельце.
— Точно, — подтвердил Альберт, поднявшись. — Вот что я вам скажу… — На мгновение он закрыл глаза, но сразу же вновь открыл их. — Мы же не для того с вами вступили в наш Тайный Союз, чтобы тут каждый по-своему сходил с ума. Если Сынку, например, взбредет что-нибудь в голову, пусть лучше сразу здесь все выкладывает. А если я сам дознаюсь, голову оторву! Понятно?
— Это мы еще посмотрим, — заметил Ганс, — все ли поняли. Кто не понял, пусть лапу поднимет, а ты, Альберт, подсчитай, сколько таких. Сразу и будешь знать, поняли мы или нет.
Он ухмыльнулся. Альберт гневно посмотрел на него. Однако на Ганса это не произвело должного действия. Когда Альберт впадал в чересчур приказной тон, Ганс считал себя обязанным оборвать его. Он охотно подчинялся, но не терпел оскорбительного тона.
— Глупыми разговорами тут не поможешь, — заявил Манфред с видом старого бухгалтера. — Необходимо прийти к соглашению относительно фактического состояния дела…
Ганс поперхнулся. Родика громко рассмеялась, и только Вольфганг благоговейно повторил:
— Так точно… состояния фактических… дел.
— Ну и что же теперь будет? — спросил Руди.
— Ничего, — ответил Альберт. — Сынок сам натворил, Сынок и расхлебывай. — Альберт равнодушно сплюнул.
Тем временем Друга лихорадочно обдумывал создавшееся положение. Он хорошо знал, что делается дома у Сынка, и горячо сочувствовал ему. С решением Альберта он был абсолютно не согласен.
— Нет, я не могу так, — сказал он наконец. — Вы бы сперва подумали, почему Сынок нам ничего сам не рассказал. — Повернувшись к Гансу, он спросил: — Если бы твоя мать была жива, а твой отец бегал бы к другой, что бы ты сделал?
Подумав немного, Ганс ответил:
— Во всяком случае, не трезвонил бы об этом на всех перекрестках.
— Вот видишь! — подхватил Друга. — И Сынок так поступает. Это же такое дело, от которого тебе стыдно перед самим собой, а еще больше перед другими. Тут уж не побежишь просить помощи. — Друга говорил это совсем не наставительно, а как человек, который сам хочет в чем-то разобраться. И, быть может, поэтому ребята охотно слушали его, даже порой ожидали, что он скажет.
Взглянув на Другу, Родика улыбнулась. Ей нравилось, как он говорил, и она тут же согласилась с ним:
— Правильно Друга сказал! А уж вы тоже герои! Ничего не можете чувствовать.
— Очень даже можем! — сухо заметил Ганс, причем его разноцветные глаза так и сияли. — Скоро мозоли тут насидим — ящики вон какие жесткие! — Ганс не любил долгих обсуждений.
— Если ты такой дурак, что ничего понять не можешь, — проваливай! — сказал Альберт.
— А кто сказал, что я ничего не понимаю? — примирительно проговорил Ганс.
Но Альберт и не рассердился на него. Напротив, благодаря Гансу он смог изменить свое мнение, да так, что это никому не бросилось в глаза. Слова Други вполне убедили его, но сразу признаться в этом он боялся: как бы это не повредило его авторитету!
Еще некоторое время ребята обсуждали историю с Сынком и в конце концов пришли к заключению, что Сынок ни в чем не виноват и заслуживает полного оправдания.
— Узнать бы, в каком отделении он сидит, — сказал Длинный с озабоченным выражением лица. — Может, удалось бы его оттуда вытащить? — Длинный говорил вполне серьезно, и хотя слова его прозвучали заносчиво — никто не засмеялся.
Все хорошо знали Длинного и знали также, что он готов освободить Сынка, даже если это невозможно. Ведь Длинный не только внешне был похож на трагического героя — Дон-Кихота, которого знаменитый испанский писатель называл «рыцарем печального образа», у Длинного было такое же храброе сердце.
Разумеется, Длинный не носился за столь великими замыслами, но на доброе дело он всегда был готов. К сожалению, он за все брался не с того конца и этим часто вызывал смех товарищей. Он никогда не спрашивал, на что способен сам и на что способны его друзья, — он высказывал всегда то, что было у него на душе. К тому же Длинный желал добра не всем людям, как Дон-Кихот, а только тем, кто был добр к нему самому.
— Нет, Длинный, вытащить оттуда Сынка нам не удастся, — заметил Друга. — Но у меня есть план. Мы могли бы помочь Сынку; сделать так, чтобы его не могли ни в чем обвинить.
Ребята внимательно смотрели на Другу.
Темнота сгущалась, близилась ночь, по небу неслись низкие облака. Налетая с полей, ветер гневно тормошил забор, которым был обнесен одиноко стоявший дом, и мчался дальше к деревне. По дороге он прихватывал талую воду, скопившуюся в лужах. Он нес с собой запахи бесконечных просторов нашей земли, ее тревог и предчувствий близящейся весны. Казалось, весь мир погружен в ожидание, все живое притаилось…
Где-то хрустнула веточка. И… неужели это был шепот? Опять что-то хрустнуло. Громче, чем в первый раз. И снова этот странный звук. Мяукнула кошка — один раз… два… три… Громко завыл ветер и заглушил все остальное. Но вот снова мяукнула кошка, и там, где за забором начинался сад, послышался звук пилы, режущей дерево.
Да, в Штрезове, около дома, похожего на скворечник, губили сад. Как и тогда, в этом доме светилось окошко, но теперь другое; то, которое светилось в первый раз, было заколочено горбылем. Снаружи притаился теперь не Сынок, а Друга и Альберт. Оба они не спускали глаз с окна, за которым, как они это знали, сейчас находился отец их кровного брата.
Когда к домику приближался пешеход или велосипедист, сразу мяукала кошка, и в саду все стихало. Миновала опасность— снова мяукала кошка, и в саду опять начинали работать.
Альберт всегда гордился тем, как он умел подражать голосам животных и птиц.
— И все-таки сад можно было бы не трогать, — заметил Друга шепотом. — Хватило бы и разбитого окна. Они бы сразу решили — нет, это не Сынок.
Альберт не отвечал.
Друга взял его за руку.
— Послушай, шеф…
Альберт отдернул руку:
— Нет, пускай боятся нас. А этому, что там за окном сидит, я бы сам морду набил, да так, что он бы две недели жрать ничего не мог. — Альберт плюнул прямо на стенку. — Вот подлец! Сынок в тюрьме сидит, а он по чужим домам бегает.
Какой-то миг Друга чуть не поддался Альберту — он тоже хотел плюнуть на стенку. И все же он не сделал этого, а только раскачал камень, который держал в руке. Может быть, это не так уж плохо, что они тут сад загубили…
Альберт снова мяукнул, но только один раз. Из сада ответило другое мяуканье — по высокому тону Друга понял, что это Родика.
Несколько минут спустя восемь теней прошмыгнуло мимо узкой стены дома и остановилось неподалеку. Калле подбежал к Альберту и стал «смирно».
— Докладываю, шеф, — шепотом произнес он. — Приказ выполнен. Здесь рос когда-то сад с деревьями цветущими… — Калле несколько громко хихикнул.
— Молчи! — цыкнул на него Альберт. — Забирайте свои деревянные туфли и… чтоб духу вашего тут не было! Только тихо!
Калле по-военному повернулся и сразу исчез в темноте. Деревянные туфли на нем, должно быть, принадлежали его дедушке. Да и остальные ребята, верно, позаимствовали их на этот вечер у старших. Теперь мстителей нельзя было найти по следам. Собственные башмаки они спрятали в придорожном кювете.
Друга дрожал с головы до ног.
— Боишься? — спросил Альберт.
— Ах…
— Надо дать ребятам уйти подальше, — проговорил Альберт. — Хочешь, я останусь один?
— Нет, нет! — шепнул Друга.
Снова оба молчали. В комнате все еще горел свет. Время тянулось страшно медленно.
— Холодно что-то! — пожаловался Друга.
— Да, — согласился Альберт. — Сейчас будем бросать. Ты бери себе левую створку, а я кину так, чтобы сразу лампочку разбить… Кидай…
Альберт кинул камень, раздался звон стекла, свет в окне погас. Альберт тут же бросился бежать. Друга стоял, словно прикованный. У него не было сил поднять руку с камнем — он стоял и смотрел не отрываясь на окно. Но надо же бросать…
Дверь дома рывком отворили. Хозяин дома выбежал во двор.
Неожиданно Друга почувствовал прилив сил. Он размахнулся и швырнул камень, но не в окно, а в хозяина дома. Тот застонал и рухнул наземь.
Сначала медленно, потом все быстрее Друга зашагал прочь и вдруг побежал и, бежал так, как никогда в жизни. Он бежал долго, дыхания уже не хватало; ему казалось, что кто-то гонится за ним, — может быть, даже сам хозяин дома. А вдруг он убил его, и за ним бежит кто-то другой? Гонится за убийцей? Какая длинная эта улица!.. Вот преследователь уже нагоняет его, хватает за плечо…
Друга вскрикнул. Чья-то рука зажала ему рот.
— Ты что, спятил? — Это был голос Альберта. — Куда ты несешься как угорелый?
Друга никак не мог отдышаться.
— Я убил его! — проговорил он наконец.
— Кого?
— Отца Эрвина, Сынка.
— Откуда ты взял? Он же сразу встал и в дом пошел. Может, пьяный.
— Ты правда видел? — недоверчиво спросил Друга. — Ты же сразу убежал?
— Что я, чокнутый, что ли? — В голосе Альберта звучала гордость. — Я тебя ждал, чуть подальше только.
Друга облегченно вздохнул. Но дрожь все не проходила. Альберт обнял его за плечи.
— Надо бежать отсюда. Возьми себя в руки! Это у тебя нервишки шалят. Айда!
Медленно они стали удаляться от дома с разбитым окном.
— Надо ж, угодил парень вместо окна в мужика! — сказал Альберт и громко рассмеялся.
Они были уже далеко от Штрезова. В конце концов Друге тоже стало смешно. Страх его развеялся, и, шагая по дороге, он подумал: «Такого друга, как Альберт, на всем свете не сыскать!»
Глава четвертая МСТИТЕЛИ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ
Руди носил ботинки сорок второго размера. Но ему позволяли их надевать, только когда он ходил в церковь. А у деревянных башмаков размер другой. Ноги у Руди были длинные, и он превосходно умел ездить верхом, без седла и уздечки, конечно. Да по-другому и нельзя было — он же мог это делать только тайком, когда один пас лошадей. Но по размеру ног о росте судить нельзя. Руди и правда был не очень высокого роста, только голова была продолговатой формы, и от этого он казался выше. Глаза Руди сверкали, брови были светлые, а над ними — черный чуб. Нос прямой и длинный, рот тоже прямой и широкий, подбородок выдвинут вперед. Суровое было лицо у Руди, упрямое и воинственное.
Ох как тяжело крутить соломорезку! Руди устал. Как, должно быть, устала и лампочка у него над головой, мигавшая, словно свеча. Кормовой сарай находился рядом с коровником, дверь была чуть прикрыта. Стоило Руди остановиться, чтобы перевести дух, как оттуда слышались тяжелые вздохи и чавканье коров — они пережевывали последнюю порцию дневного корма.
Время было уже позднее. На кухне, должно быть, уже убрали со стола. Но это не имело значения — ведь Руди ужинал один, у себя на чердаке. Так распорядился его приемный отец — хозяин Бетхер. И то ужин полагался Руди только в том случае, если он к вечеру успевал нарезать всю солому на следующий день. Вот он и крутил соломорезку, может быть, тысячу раз уже. И еще!.. И еще… И еще… Готово!
Руди не испытал никакой радости. И чувство голода уже прошло. Только кости ныли и во рту пересохло. Больше всего хотелось повалиться тут же на солому и уснуть. Да…
Он вышел во двор и, словно старик, еле волоча ноги, побрел к жилому дому. На теплых каменных плитах спали дикие голуби. Когда он приблизился, они, громко хлопая крыльями, взлетели и скрылись в подворотне. Заливисто лая, огромный дворовый пес бросился на него. Весь день на цепи — вот и злится. Руди остановился, поднял камень и бросил в собаку. Завизжав, она убралась в конуру. Так ей и надо! Руди тоже не сладко живется, а он не брешет из-за всякого пустяка.
На кухне еще горел свет. Клаус отбирал яйца и жевал при этом шоколад. Руди хорошо знал, кому предназначались яйца. Их сплавляли в Западный Берлин по спекулятивной цене. Оттуда и шоколад.
Со времени последней драки в школе они с Клаусом не разговаривали. Да и зачем? Дурак он — против этого лекарства еще не выдумали. Руди принялся насвистывать. Уж этому жирному братцу он никогда не покажет, что смертельно устал.
В жилой комнате разговаривали. Руди остановился. Говорил как раз Грабо — самый противный учитель на всем свете. Затем послышался голос лесничего, а теперь заговорил Лолиес. И, уж конечно, не обошлось и без приемного отца Руди — Бетхера. Опять ведь о политике, идиоты! «Перекинуться в картишки» — называли они это. А ну их к дьяволу!
Лестница, ведущая на чердак, скрипнула. Внизу сразу открылась дверь. Это хозяин Бетхер вышел посмотреть. Ничего он не увидит, кроме Рудиных штанов. Так ему и надо.
На чердаке в каморке Руди холодно; ужин на столе тоже остыл. Черт с ним! Пускай свиньи жрут. Спать, только спать! Но не тут-то было. Руди так переутомился, что не может заснуть. Да и согреться не удается. Руди лежит и смотрит в потолок, затянутый паутиной. Похоже на географическую карту. Каждая паутинка — какая-нибудь дорога. И куда ведут эти дороги? А русская зона довольно большая! Нет, не будет он всю жизнь на этого Бетхера батрачить. Не стоит надрываться. Вот возьмет завтра узелок — и айда! Но к чему это? Все равно его поймают и отправят в колонию. За бродяжничество — так это, кажется, теперь называется. Там тоже не лучше. Вот в сорок пятом все по-другому было. Не скажешь, что лучше, а легче как-то. Хоть и пожрать ничего не достанешь, да не было тогда этой рожи Бетхера. Вот отец бы ему показал! Отец у Руди был хороший. Погоди, погоди, а какой же он был, отец-то? Не помнит, ничего он, Руди, не помнит! Но все равно, отец у него был что надо! Убит. Пал смертью героя за фюрера, народ и отечество на поле брани. Так и было написано в газете. Мать долго хранила вырезку в кошелечке. Там еще такой странный черный крест был. А про фюрера мать что-то насчет «с ума сошел» тогда сказала. Очень скоро после похоронного извещения была эта ночь бомбежки, страшней, чем все ночи до этого. Тоже апрель тогда был, как сейчас. Завыли сирены, и мать едва успела поднять их с кровати — его и двух сестер — и спуститься с ними в подвал. Сразу началась свистопляска. Не видел ничего такого Бетхер, а то враз перестал бы хвастать! Люфтшуцварт[1], в коричневой рубахе он еще ходил, тоже всегда орал больше всех. А в ту ночь он прибежал и говорит: «Над Потсдамом бенгальские огни зажгли». Кто-то другой возьми да добавь: «С рождеством Христовым, значит!» — и глупо так засмеялся, будто уже спятил. Руди потому и запомнил. Потом-то только и слышен был свист, визг, что-то шипело… Бомбы так и сыпались одна за другой. Кругом грохот стоит, весь дом ходуном ходит. Кажется, земля сейчас расколется. Руди сидел на скамейке и, сложив руки, причитал: «Боженька, сохрани моего дорогого папочку! Дорогой боженька, сохрани моего дорогого папочку!» Все это Руди очень хорошо помнит и помнит, что тогда уже знал: отца его давно убили. Но он не хотел, чтобы его самого тоже убили, а другие какие-нибудь слова ему на ум не шли, так страшно было от рвущихся кругом бомб. Одна бомба разорвалась совсем рядом — попала в соседний дом. Руди сразу бросился к выходу. Никто не успел его задержать. Он бежал по лестнице, падал, снова бежал… Потом все потонуло в каком-то чудовищном грохоте. С потолка упал камень. Руди хотел увернуться, но камни падали всюду. Всюду, всюду…
Когда он снова пришел в себя, небо полыхало. Оно было такое кроваво-красное, как будто ему разорвали вены.
Руди лежал, заваленный камнями до груди, кругом валил дым, то и дело вспыхивали языки пламени. От жары пересохло во рту. Руди не понимал, где он. Небо над ним горело, Руди снова охватил ужас смерти. Он кричал, отшвыривая от себя камни. Боли он никакой не чувствовал, и, даже уже стоя на улице, он все еще кричал. Да, он кричал, потому что не было никакого боженьки — горел Потсдам, а его мать и обе сестры были погребены под грудой камней. Словно сумасшедший, разгребал он камни — хотя такую гору и за целый год нельзя было разгрести. Руди заплакал. Он плакал тихо и долго. Он плакал и на следующий день, и на второй, пока наконец не прибыла спасательная команда. Его прогнали, но он вернулся и увидел мать и сестер. Их погрузили на машину. Всех убитых грузили на машину.
Только тогда он ушел, и ни одна слеза не скатилась по его щекам. Не осталось у него больше слез.
Днем он бродил по улицам, ночью спал где-нибудь в развалинах. Как-то ночью его растолкали — свет фонарика бил прямо в лицо. Перед ним стояли солдаты в касках, с ружьями. Он поднялся и увидел, что это были вовсе не солдаты, а такие же мальчишки, как он. На касках у них виднелись маленькие круглые дырочки. От пуль. Ни у кого из них не было ни отца, ни матери — вот они и бродили по дымящимся руинам: то тут что-нибудь утащат, то здесь что-нибудь найдут — так и жили.
Когда кончилась война, им пришлось уйти из города. Попадись они — их бы отправили в сиротский приют. А этого они не хотели. Небольшими группами ходили они по деревням — нищенствовали, а то и просто воровали. Двое товарищей Руди попались, и их отправили в детский дом. Его самого поймали русские, расквартированные в Бецове. Офицер привел его к Бетхеру, что-то долго ему выговаривал. Переводчик переводил. Потом офицер сказал Руди, чтобы он сразу сообщил в комендатуру, если Бетхер будет с ним плохо обращаться. Но Руди в то время не на что было жаловаться, сколько бы офицер ни приходил проверять. Бетхер тогда боялся русских. И русские, заходившие во двор, сразу это замечали. Бетхер ничего за собой не признавал. Находились и крестьяне, которые говорили о нем хорошее. Но по глазам русских видно было, что они ему не верили. При нацистах Бетхер был бургомистром Бецова. Русские у него даже обыск устраивали.
Бетхер тогда мелким бесом перед Руди рассыпался. Как родного сына кормил, а то и лучше. Русским это нравилось, а позднее Бетхер усыновил его, сказав, что он осознал свою вину, хотя он никакой вины и знать за собой не желает. Вина есть вина, и за нее приходится расплачиваться. Русские тогда подумали, что он все это честно говорит. А на самом деле он обманул их, гад такой!
Да разве такие бывают честными! Стоило русским уйти из Бецова, как Бетхер сразу свои клыки показал. Его, Руди, в батрака превратил и стал обращаться с ним хуже, чем с собакой. Руди мог бы убежать, конечно. Но один? Нет, это уж самое последнее дело!
А в Союзе мстителей он не был один. Здесь был шеф, ребята — целая команда! Его команда. И Клаус уже не в счет, как пылинка, — проглотишь со слюной и не заметишь. Пора бы ему как следует голову намылить. Чтоб не ухмылялся больше! Ишь ты, сидит яйца для Западного Берлина отбирает…
Да что ж это его каморка никак не нагреется! И жратву жалко свиньям выбрасывать, холодная она там или горячая — все одно…
Весна пришла в Бецов вместе с солнцем и дождем, а с ней на фуре с молочными бидонами прибыл новый учитель. Он сидел на них, будто царь на троне. Не прошло и двух дней, как о нем заговорила вся деревня.
Привезли копченую селедку. И в кооперативной лавке дым стоял коромыслом — народу набилось пропасть!
Бетхер, приемный отец Руди, поплевывал себе на ладони, а потом вытирал их о брюки — надо же с чистыми руками такой товар покупать! С лицом пророка, убежденного в близком конце света, он говорил своему соседу Лолиесу:
— Молодо-зелено! Прежде у нас такого не водилось. И чему он может детей научить? У него же у самого еще молоко на губах не обсохло. Ты бы только на его руки поглядел — сразу бы увидел, что это за тип.
Бетхер говорил достаточно громко, чтобы его могли слышать все покупатели. Кое-кто и правда прислушивался к его словам.
Лолиес, поджав губы, важно покачал головой. Он понимал, что ему следует сейчас изречь что-нибудь мудрое, и поспешил это сделать.
— Вот-вот, золотые слова! И постричься ему не мешало бы. Ходит, будто артист какой. Нет, этот ребят порядку не научит, голову даю на отсечение. Что там ни говори, а наш брат не в почете у новых господ, да и розга тоже. Ну и времена настали — сдохнуть можно! В наше-то время мы в другую школу ходили. Только розги, бывало, свистели. Порядок был полный!
В очереди послышались возгласы, и не только одобрительные. Фрау Торстен, мать Други, повернувшись к Лолиесу и Бетхеру, сказала:
— Вы сами никогда не пробовали розог, иначе бы такое не говорили. А я вот знаю, что это такое, и могу вам сказать: я ненавидела своих учителей. Школы боялась хуже огня. А научилась я там только горб гнуть.
Пока фрау Торстен их отчитывала, Бетхер смотрел на нее прищурившись, и постепенно губы его сложились в язвительную улыбку. Но, прежде чем он успел сказать что-нибудь, мимо прилавка к фрау Торстен протиснулся рыжий крестьянин и, положив ей на плечо свою ручищу, сказал:
— Хоть и баба, а права!
Затем, расталкивая покупателей и как бы нечаянно задев Лолиеса, он пробрался к выходу и вышел. Звали его Рункель — это был тот самый новосел из Бецовских выселок, которого Лолиес называл бродягой и о котором он так и не знал: повторяет он то, что говорит Шульце-старший, или нет.
В очереди кое-кто со злорадством поглядывал на обоих злопыхателей, но вот Бетхер вновь завладел всеобщим вниманием:
— Что я слышу, фрау Торстен! Вам бы в ораторы. Не знал, не знал, — проговорил он, гнусно ухмыляясь. — Вы уже не сердитесь на меня, если я вам скажу: а вам ведь без розог со своим Другой не справиться! Чего только не наслушаешься о парне!
Фрау Торстен растерялась.
— Да от вас ничего хорошего не дождешься, — сказала она наконец. — Друга мой выправится, будьте покойны! Да и вообще, может, теперь все обернется по-другому: новый учитель приехал…
— Еще бы! — цинично вставил Лолиес. — У него и партийный значок на лацкане имеется. — По тону, каким были сказаны эти слова, можно было догадаться, что в этом-то и была причина недовольства Лолиеса. Про себя он добавил: «Как бы его вместе с лацканом не оторвали!» Но этого, разумеется, никто уже не слышал.
— Ну, а тебе он нравится? — спросил Альберт Другу Торстена, кладя топор на одну из двух ручных тележек.
— Кто? — спросил Друга.
— Линднер, кто же еще? — И, обратившись к остальным членам Союза, Альберт сказал: — Проваливай, ребята! Только тихо. Тележки спрячьте в песчаном карьере. И сразу — назад. Мы тут пока огонек разведем.
Послышался скрип колес, и темнота быстро поглотила и тележки и ребят.
Под руководством своего шефа ребята свалили здесь три молодых дерева и тут же распилили — в «Цитадели» кончились дрова, а было еще довольно холодно для этого времени года. Лес, потревоженный звоном топора и песней пилы, снова уснул. Тесно прижавшись друг к другу, застыли деревья. Только в одном месте они расступались, освободив кусочек неба, на котором одиноко мерцала прекрасная звезда.
— Честно говоря, я боялся, как бы нас не застукали, — произнес Друга. — За порубку по головке не погладят. — И он вытер со лба пот, выступивший, должно быть, не только от напряженной работы, но и от страха.
В это время в лесу никого не бывает. — Альберт усмехнулся. — В лесу — разбойники. Потому люди и боятся ночью в лес ходить.
Однако Друга не разделял его беззаботности.
— Когда рубишь, звон топора далеко слышно, — заметил он.
— Да брось ты! — успокаивал его Альберт. — Не так уж далеко.
Он поднял небольшую вязанку хвороста и стал разводить костер. Когда огонь разгорелся, Альберт положил на него несколько зеленых веток. Густой дым повалил столбом — теперь костер издали не увидят. Подложив на землю немного лапника, они сели и некоторое время сидели так, слушая, как потрескивает огонь.
— Ну, как он тебе вообще-то нравится? — возобновил Альберт прерванный разговор.
— Как это «вообще»?
— Ну как учитель.
— Не знаю я, — ответил Друга, грея руки над костром. — Лучше, чем Грабо, во всяком случае. Но сейчас еще трудно что-нибудь сказать — мы его только один день знаем.
— Мне кажется, повозиться с ним придется, — заметил Альберт, сплюнув в огонь. — А жалко, на вид он дядька ничего.
— Если б только по виду можно было судить…
— В том-то и дело, что нельзя. И насчет пионеров у нас это не пройдет. Что-то он торопится с этим — в первый же день сразу нам выложил. — Альберт поворошил палкой костер. На мгновение из темноты выступили могучие стволы деревьев, похожие на великанов без головы.
— Пионеры… — размышляя вслух, произнес Друга. — Интересно, что за этим кроется?
— Раз вступил в пионеры, значит, должен стать коммунистом, — сказал Альберт. — А я не коммунист.
— Я тоже. — Друга задумался. — Те, кто вступит, наверняка всякие поблажки будут получать. У Линднера они будут ходить в любимчиках и сразу же начнут командовать нами. — Друга кашлянул и, тут же спохватившись, прислушался. Нет, должно быть, никто его не услышал.
— Склеить нас всех вместе, — продолжал Альберт, — с Грабо и остальными кретинами. Вот чего он хочет! И если мы потом подеремся, он нам сразу политическое дело пришьет. А говорить, что думаешь, все равно не дадут. И Союз наш прихлопнут! — Последние слова он произнес с грустью. Но голос его дрожал от злости.
— Да уж обязательно прихлопнут, — согласился Друга.
Вытащив из вязанки ветки потолще, они подбросили их в костер, а разгоревшееся было пламя снова приглушили свежими ветками. Сразу же запахло, как в церкви, ладаном, в носу защекотало.
Альберт повернулся к Друге, посмотрел ему прямо в глаза и спросил:
— Ну, что ты предлагаешь?
— Войну, — ответил Друга. — Добиться чего-нибудь мы можем только войной. — И он быстро опустил глаза. Такие громкие слова как-то не соответствовали его настроению — он чувствовал себя слабым. Слабым несмотря ни на что.
Альберт вскочил. Подавшись вперед, он стоял, широко расставив ноги, словно желая покрепче упереться в землю. На лице плясали отблески огня. С неожиданной торжественностью он произнес:
— Война! Мстители объявляют войну!
Поблизости хрустнула ветка. И Альберт мгновенно обернулся. Но лес уже снова молчал.
— Должно быть, сук обломился, — заметил он, все еще настороженно прислушиваясь.
— Хорошо, если так, — сказал Друга, который давно уже вскочил, готовый бежать.
— Садись! — посоветовал Альберт и тут же подал ему пример. — Никого нет.
Но Друга так и остался стоять. Немного погодя и Альберт снова вскочил. Неожиданно позади раздался окрик:
— Руки вверх!
Друга бросился бежать. Со страху он даже не разобрал, что это был голос Родики. Однако далеко ему убежать не удалось. Кто-то схватил его за рукав. Друга споткнулся, упал. А когда поднялся, увидел рядом с собой Вальтера.
— Нашел там что-нибудь? — спросил тот.
И Друга почувствовал, что над ним смеются.
— Чего рожу кривишь! — огрызнулся он, возвращаясь к костру.
Здесь уже собрались все. Каждому хотелось занять местечко получше, и дело не обошлось без перебранки.
Альберт со злобой поглядывал на ребят. Вся эта возня нарушала его воинственное настроение, к тому же он злился, что ребята разыграли его. Словно бык, перед тем как ринуться в бой, он опустил голову, схватил Калле и одним рывком посадил его на землю.
— Хватит дурака валять! Садиться всем! — приказал он.
Приметив такое настроение шефа, мстители быстро разобрались по местам. Костер потрескивал. Глаза ребят горели от возбуждения, но они пытались подавить его.
Окинув мрачным взглядом ребят, Альберт провозгласил:
— Теперь дело всерьез пойдет. Начинается война. А вы тут комедию разыгрываете. — Он достал пачку сигарет, вытащил одну и передал пачку Длинному. — Последняя мирная, — сказал он. — Мы объявляем войну.
Никто не спросил даже, кому объявлена война. И так все было ясно. Состояние тревоги не покидало ребят с первого дня, как в деревню приехал новый учитель. Сразу же распространился слух, что он хочет создать в Бецове пионерскую дружину. И если мстители до сих пор не предпринимали ничего, то только потому, что хотели увериться окончательно. Теперь они обрели эту уверенность. Глубокая тишина воцарилась в лесу. Пуская струйки дыма в огонь, мстители чувствовали себя героями, заранее уверенными в том, что выиграют сражение.
Только на лицах Альберта и Други не было заметно радости. Оба они, смутно предчувствуя что-то, сомневались в собственных силах. В глубине души их мучил вопрос: а оправдана ли эта война? Пионеры? Кто они такие? Новые враги? Да! И Альберт невольно кивнул.
До сих пор для него в деревне существовало только два лагеря: ребята — члены Союза, которых без конца все ругали и которые защищались как могли, и дети богачей да и сами богатеи. Существовали, разумеется, и другие, но их он не принимал в расчет. Они шли своими путями, безразличные ко всему, потерявшие надежду. Так им было удобнее.
А теперь должен был появиться третий лагерь — пионеры! С самого начала у них были все права, да и сами-то они были какие-то государственные. А шеф не верил в государство, которое хотело бы справедливости и для него. Он казался себе слишком незначительным для этого, несчастным, обделенным. И никому не доверял. Однако то, что он чувствовал сам, никого другого не касалось, никто и не должен был это замечать. «Если ты считаешь меня жалким оборвышем, получай по морде!» Нет, он, Альберт, шеф, не хотел быть несчастным и жалким.
— Государственные… — произнес он тихо и даже засопел от злости.
Активисты в деревне много кричали о справедливости, но, может быть, именно потому он не верил им. Все ведь было не так, как писали в газетах. Чуть не каждый день там говорилось о великих революционных переменах на селе, расписывались такие красоты, что и вообразить трудно. И недоверие усиливалось. Сейчас он подумал: может быть, где-нибудь в другом месте все и было по-другому. Но вот взять хотя бы эту земельную реформу, как она прошла здесь в Бецове. Ну, пришел этот Рункель, ладно уж, бог с ним. У него теперь свое хозяйство, двор, даже свой забор. Иной раз он и дрался. Но разве это назовешь революцией? Еще этому Шульце благодаря земельной реформе кое-что перепало. Здесь в Бецове мало что можно было разделить. Лолиес еще себе кусок прирезал. Альберт был убежден в этом, хотя Лолиесу по реформе ничего и не полагалось.
Но дальше-то как? Что этот Шульце — революционер? Может быть, и революционер. Он при нацистах в тюрьме сидел. Но ведь к нему, к Альберту, Шульце не пришел и не сказал: «Ясное дело, Альберт, ты прав. Мы с тобой вместе это дело поправим». Нет, Шульце без конца куда-то бегал, говорил, говорил, и всё слова, которые в газетах печатают. Люди или смеялись над ним, или наговаривали на него. А что толку-то?.. Толку Альберт никакого не видел. Потом ведь эта земельная реформа была давным-давно. Теперь опять есть хозяева и батраки. Да, да, батраки, хоть об этом в газетах не пишут. И еще: никогда кулаки и средние крестьяне не жили так хорошо, как сейчас. Где ж тут справедливость? Или взять хотя бы беженцев — на каждого старожила приходится чуть ли не по три. Для примера можно и ребят из Союза назвать. Разве это справедливо? Одни живут у себя в родном доме, а у других нет ничего. Нет, он, Альберт, не доверял этому государству! Он хотел драться! Драться за справедливость, как он ее понимал. А тут еще эти пионеры под ногами путаются.
Альберт выпрямился и заговорил:
— Если кто сдрейфил, пусть сразу скажет. И если кто против нашего решения — тоже.
Все выдержали его взгляд, в том числе и Родика.
— Значит, ясно, — отметил Альберт. — Всем, кто запишется в пионеры, мы намылим шею! Всякие там членские билеты или что у них будет — отберем! А Линднеру будем все поперек делать, где только сможем. Вот все, что я хотел сказать. Теперь о другом. Раз у нас война — мне нужен заместитель. С сегодняшнего дня. Кого я хочу — я знаю. Но вы сперва сами предлагайте.
Ребята, вытаращив глаза, следили за своим шефом. Может быть, каждый и думал про себя: а вдруг кто-нибудь меня предложит, но начинать никому не хотелось.
— Ты кого предлагаешь? — спросил Альберт Сынка.
Тот оглядел всех подряд. Наконец его темные глаза остановились на Друге, и он сказал:
— Все тут хороши, но я предлагаю Другу.
— Я тоже не против, но ты докажи почему. — Манфред пропищал это несколько поспешно.
И Сынок сразу догадался, что он разочарован — как это не его предложили! Он даже улыбнулся.
— Ты быстро говоришь, Манфред, а Друга быстро думает! Поэтому…
Все рассмеялись, а Манфред, сделав вид, будто это вовсе не на его счет проехались, тоже рассмеялся. Выглядел он при этом довольно глупо.
Вальтер откашлялся. Он всегда так делал, перед тем как пуститься в длинные рассуждения.
Но Альберт тут же отмахнулся, сказав:
— Нечего нам разводить канитель! Кто «за» — пусть руку поднимет.
Первыми проголосовали Родика, Сынок и он сам. Друга готов был сквозь землю провалиться, до того неловко он себя чувствовал. Остальные медлили.
Наконец Руди тоже поднял руку и сказал:
— Чего там, он парень неплохой, наш сочинитель.
Руди сам придумал эту кличку для Други. И тот страшно обижался, когда его так называли. Ему было стыдно, хотя стыдиться тут, собственно, было нечего. Правда, сейчас он пропустил это мимо ушей, как бы поблагодарив Руди, который ведь отдал ему свой голос.
Тем временем подняли руки и все остальные, за исключением Вальтера. Тот старательно протирал свои жабьи глаза.
— Что с тобой? — спросил Альберт.
— Ничего.
— Я тебя не спрашиваю, болит ли у тебя брюхо или нет, а я тебя спрашиваю, согласен ты, чтоб Друга был моим заместителем или нет, говори!
— Согласен.
— Тогда поднимай лапу! — Это уже прозвучало как приказ, и Вальтер поспешил его выполнить.
— Ладно, — подытожил Альберт. — Теперь, значит, Друга мой заместитель. Он так же может отдавать приказы, как и я…
Альберт был явно доволен согласием всех мстителей.
— А теперь ты нам речь скажи, Друга, — пропел Калле.
Друга поднялся. Страшно конфузясь, он проговорил:
— Ребята, я постараюсь! Надо оправдать доверие… — Но тут же замолчал.
И Альберт поспешил ему на выручку.
— Давайте все встанем, — сказал он и встал рядом с Другой.
Остальные последовали его примеру.
Разгоревшийся костер отбрасывал на лица кровавый отблеск. Позади грозно высился темный лес, а на небе все еще светила одинокая звезда.
Альберт согнул руку в локте, приложил ее к груди и застыл. Низким, чуть дрожащим голосом он произнес:
— «Свобода над сердцем»! Это наше приветствие, и пусть это будет и наш боевой клич. За свободу! Я объявляю войну!
Несколько мгновений они стояли не шелохнувшись. Кое у кого дрожь пробежала по телу.
Руди выкрикнул:
— Долой пионеров!
И все подхватили:
— Долой пионеров! Долой!
Ребята кричали громко, очень громко, но эхо возвращало крик, словно не желая разносить подобной клятвы, словно оно не было согласно с этой войной.
Ночью кто-то тайно пробрался в школу. И когда ученики утром пришли в класс, они увидели, что на доске крупными печатными буквами написано: «Кто вступит в пионеры — тому шею намылим!»
Горячо споря, ребята толпились перед доской. Однако, прежде чем кто-нибудь решился стереть эту угрозу, бросив тем самым вызов написавшему, в класс вошли Линднер и Грабо. Ученики бросились по местам. Оба учителя о чем-то разговаривали. Грабо стоял лицом к доске. Он лишь на мгновение задержал свой взгляд на ней и тут же занялся своими полированными ногтями. Грабо притворился, будто ничего не заметил. И только на какой-то миг Друге показалось, что на лице его промелькнуло злорадное выражение.
Новому учителю приходилось смотреть на Грабо снизу вверх, да и вообще он сам был похож на подростка. Правда, с мальчишеской фигурой никак не вязалось серьезное лицо, бледное и усталое. На горбатом носу сидели большие очки в роговой оправе, в стеклах которых виднелось много-много все уменьшающихся кругов. Линднер говорил, чуть наклонив голову, как бы прислушиваясь к своим собственным словам, и тогда его слишком большие уши напоминали звукоулавливатели. Порой он улыбался, и его лицо сразу делалось красивым. Разговаривая, он как бы подчеркивал свои слова очень приятным, ласковым и занятным движением руки, должно быть означавшим: «Ясно ведь!» или «Да разве это так уж сложно и трудно?», «Мы с вами справимся, непременно справимся». Волосы у него были пышные, как у Альберта, только, в отличие от последнего, он всегда их аккуратно причесывал. Возраст учителя Линднера трудно было определить. Друга давал ему около двадцати четырех лет.
Наконец Грабо вышел из класса. Первые два урока он занимался с младшими учениками.
— Доброе утро! — приветствовал учеников учитель Линднер. Буква «р» у него так и рокотала. Должно быть, у него было хорошее настроение.
Ребята не сводили глаз с надписи на доске. Раздались первые смешки. Только теперь учитель обнаружил причину веселья. По его лицу скользнула тень, но он тут же согнал ее улыбкой. На такой прием ребята не рассчитывали. Они думали, что учитель вот-вот взорвется, но все обернулось по-другому.
Линднер подошел к доске и… не сразу стер угрозы. Он что-то написал под ней, и, когда отступил в сторону, все прочли:
— «Почему?»
— Да, да, почему? — спросил учитель в своей занятной манере, как будто он спрашивал о чем-то очень интересном, с удовольствием ожидая ответа на свой вопрос.
Но мысли его при этом были далеко не такие бодрые. Почему Грабо не сказал ему о надписи? Он же прочитал ее до него, он стоял лицом к доске. Что это — случайность? Или он умышленно промолчал? А вдруг предположение Шульце не лишено… Что ж, придется поговорить с этим Грабо.
Ребята почувствовали, что мысли учителя витают где-то далеко. И кто-то довольно громко произнес:
— Почему, почему, потому что кончается на «у».
Весь класс сразу засмеялся, и в этом смехе уже слышались нотки издевки.
— Над кем смеетесь — над собой смеетесь! — проговорил учитель и тут же понял, что восстановил учеников против себя.
А это вовсе не входило в его намерения. И он с преувеличенным спокойствием вновь обратился к классу.
— Это дурно — то, что написано на доске. Но я все равно не желаю знать, кто это написал. Скорей всего мне это и не удалось бы выяснить. Но вы сами подумайте, за что же избивать пионеров? Пионер — это такой же ученик, как и вы. Я же вчера с вами об этом говорил. Видите ли…
— Я пойду, куда царь пешком ходил, — прервал его Длинный, встал, направился к двери и в следующий же миг исчез за ней, сопровождаемый громким смехом учеников.
Первое сражение учитель Линднер безусловно проиграл. Он с болью отметил про себя, что у этих учеников он никакого авторитета не имеет. Однако, набравшись мужества и решив, что этот долговязый ученик, должно быть, был чем-то вроде классного шута — такие ведь бывают, он сказал:
— Да, оригинал этот Гюнтер. Он что у вас, всегда такой?
— Ясно, всегда, — ответил Альберт. В голосе его слышалась нескрываемая вражда.
Учитель Линднер почувствовал это, но не желал сейчас над этим задумываться. Возможно, он и ошибался.
— Что ж, пошутить тоже нужно. Однако вернемся к нашей теме. Вот, например, кто-нибудь хорошо учится. Разве за это его надо бить?
Ребята не слушали его. В то время как он говорил о добрых делах и целях пионеров, они шушукались. То тут, то там раздавались смешки. Линднер делал вид, что не замечает этого, и продолжал говорить. И все же ему не удавалось придать убедительности своим словам. Неуверенность охватила его, шум в классе становился все громче.
Ганс развалился на парте, как в кресле, и сунул ногу в ящик для ранца. При этом он строил рожи и вообще был похож на американца с дурными манерами. Весь класс смотрел теперь только на него. Учитель мог бы даже объявить, что урок окончен, что можно расходиться по домам, — все остались бы на своих местах, никто бы его не услышал. В конце концов он замолчал. Пока он говорил, он все еще надеялся, что его упорство восторжествует и ребята постепенно втянутся в занятия, но у него не было соответствующего опыта, и ему пришлось дорого заплатить за свою ошибку.
— Может быть, ты опустишь ногу на пол? — сказал он теперь Гансу. И все поняли, что он сказал это всерьез. — Не разыгрывай из себя шута. У нас здесь не цирк.
На мгновение воцарилась тишина. И не потому, что ребята вдруг прониклись уважением к учителю, а потому, что все с нетерпением ожидали, что же произойдет дальше.
Ганс и не думал повиноваться. Скривив рот, он сделал вид, что ничего не слышит.
— Можешь ты в конце концов сделать то, о чем я тебя прошу? — сказал учитель Линднер, направляясь к парте, за которой сидел Ганс.
— Могу, — лениво ответил Ганс. — Я-то могу, но тело мое нуждается в таком положении. — И он указал на свою ногу.
Класс отблагодарил его хохотом, гораздо более громким, чем до этого. А когда снова стало тихо, Ганс добавил:
— А я и мое тело — единое целое.
Снова раздался хохот, но тут же оборвался.
Учитель Линднер схватил ногу Ганса и решительно поставил ее на пол. Затем приказал:
— Дневник! И побыстрей!
Для Ганса это было настолько неожиданно, что он тут же послушно протянул учителю дневник. Тот что-то написал в нем, проговорив:
— Пусть отец подпишет. А теперь уходи. Если ты до завтра научишься вести себя как следует, можешь прийти на занятия.
Направляясь к двери, Ганс сделал вид, что корчится от смеха, и сразу же вновь завоевал весь класс на свою сторону. Затем он выбежал вон.
— Если кто-нибудь еще хочет выйти, пусть скажет об этом! — Потеряв самообладание, учитель слишком поздно понял свой промах.
Альберт и Друга поднялись сразу же, за ними Родика и остальные члены Союза мстителей. Потом встали и другие ученики. На местах осталось меньше половины класса.
Учитель Линднер растерялся. Отчаяние готово было охватить его. «Только бы не сдать сейчас, — думал он, — только бы теперь не ошибиться!» Неожиданно его осенило: а что, если класс или часть ребят сговорились против него?
Все это было похоже на какой-то дурной сои. И учитель Линднер на миг прикрыл глаза. Но вот он снова открыл их — и картина перед ним была все той же и вполне реальной! Радость, с какой он готовился к своей профессии, показалась ему теперь безумной. Он не понимал, как он мог так поступить. Он же провалился, с самого начала провалился! «Но только бы не дать ничего заметить ученикам! — думал он. — Надо собраться с мыслями». С великим трудом ему удалось, подавив дрожь в голосе, сказать:
— Итак, вы тоже хотите уйти? — Учитель посмотрел на Альберта. — А почему собственно?
— Потому что по расписанию у нас урок истории, а вы все про пионеров рассказываете. Для этого у нас времени нет. Весенний сев — понимаете? — Альберт прикинулся озабоченным, явно издеваясь над учителем. Уверенность в поддержке класса придавала ему смелости.
— Брось ты дурака валять! — крикнул рослый ученик, внешне вылитый Шульце. Это действительно был сын крестьянина Шульце.
— Слушаюсь, господин учитель! — отпарировал Альберт.
И ребята снова завизжали от удовольствия.
Шульце-младший покраснел, но ничего не сказал.
Больше всего учителю Линднеру хотелось выставить Альберта из класса. Но он опасался, что это только ухудшит дело. Теперь ему ничего не оставалось, как пойти навстречу ребятам. Это сражение он все равно уже проиграл. Надо было спасать для будущего что еще можно было спасти.
— Ладно, — сказал Линднер. — Может быть, и правда, лучше мы поговорим о пионерах и о том, что написано на доске, в другой раз. А теперь садитесь и достаньте учебники. — Он произнес эти слова очень спокойно.
И ребята один за другим последовали его указанию.
Альберт тоже сел. Он злился, — злился, что позволил учителю взять над собой верх. И чего это Линднер уставился на него?
«Уж не Альберт ли Берг здесь верховодит?» — думал Линднер. Он чувствовал, что от Альберта исходило что-то похожее на ненависть. Да и весь вид этого ученика говорил в пользу такой догадки — у ребят часто верховодит физически более сильный.
Учитель тут же решил удостовериться.
— Альберт Берг, — обратился он к нему, — прежде чем мы начнем занятия, сотри, пожалуйста, с доски.
Альберт испугался. Это требование на какой-то миг сбило его с толку. Но вот издевательская ухмылка снова появилась на его лице. Он встал, сделал два-три шага и вдруг, вскрикнув, нагнулся, схватившись за ногу. Лицо его исказилось от боли. Глядя на учителя, он простонал:
— Судорога схватила! Ой как больно! — и на одной ноге доскакал до своей парты.
Однако вся эта комедия была уже ни к чему. Учитель сам поспешил стереть с доски. Теперь он убедился: Альберт — вожак бунтовщиков. Теперь-то он знал, с кого начинать! И учитель Линднер тут же решил сразу после обеда навестить Альберта дома. Там он поговорит с ним с глазу на глаз, а потом и с родителями.
Во время последнего урока Линднер уже не упоминал о пионерах. Ученики сидели тихо, только время от времени давая ему понять, что сегодня он проиграл сражение.
После уроков учитель Линднер, наскоро пообедав, отправился к Бецовским выселкам. Альберт как раз выгребал навоз из коровника. Увидев Линднера, он поставил вилы к стенке, прислонился к дверям и, засунув руки в карманы и опустив голову, стал ждать.
— Ну как, Альберт, трудимся? — приветствовал его Линднер. — Я тут случайно проходил мимо и подумал — не вредно было бы к Бергам в гости заглянуть. — Он сделал свой занятный жест и в ожидании ответа наклонил голову.
— Бывают же такие случаи! — ответил Альберт не без иронии и, прищурившись, смерил учителя глазами. — А я решил, вы подсобить мне пришли. — Мотнув головой в сторону хлева, он добавил: — Но такая работа не про вас. Руки марать не захотите.
— А то давай попробую! — рассмеявшись, предложил учитель, обнажив два ряда красивых зубов.
— Нет, уж лучше не надо! — ответил Альберт, поскорее схватив вилы, и даже запнулся от неожиданности. — Вся одежда у вас провоняет. Я же буду во всем виноват.
— Не так уж это страшно, должно быть! — весело возразил учитель, подумав при этом: «Вот ведь упрямая крестьянская башка!»
Он достал сигарету марки «Турф» и хлопнул себя по карманам, как бы ища спички. Альберт, некоторое время наблюдавший за ним, достал зажигалку и дал учителю прикурить.
— Спасибо! — сказал тот. — Хорошенькая у тебя зажигалка… — Неожиданно он оборвал свою речь — Альберт тоже прикуривал сигарету. — Погаси сейчас же!
— Почему это? — Альберт был невозмутим. — Потому что американские? — Он вновь достал пачку из кармана и предложил учителю. — Закуривайте. Тетка прислала.
— Сейчас же погаси сигарету!
— Это уж мое дело, гасить или не гасить, — возразил Альберт.
— Твое здоровье — да. А дело это не только твое, но и мое. Давай гаси!
Альберт снова с враждебностью взглянул на него.
— А я думал, вы в гости пришли.
Мгновение учитель Линднер не знал, что ответить. Не мог же он взять да отнять сигарету у этого не по годам крепкого ученика. Он чувствовал, что Альберту такая драка была бы на руку. Нет, так просто он ему не поддастся.
— Ладно, — смягчился учитель, — давай заключим компромисс: я погашу свою сигарету, а ты — свою, — сказав это, он немедленно потушил сигарету.
Альберт последовал его примеру. Частичный успех его тоже устраивал. Он тут же принялся выискивать повод, чтобы снова сцепиться с учителем.
— И вообще, чего вам здесь надо? Должна же у вас быть какая-то цель?
Не поддавшись на провокацию, Линднер ответил:
— Ты же сам знаешь, Альберт… Сегодня утром в школе это ведь все ты затеял. Верно я говорю?
— О чем это вы?
— О надписи на доске, — сказал, улыбаясь, Линднер.
— Вон оно что! Откуда мне знать кто.
— Я тебя и не спрашиваю и не прошу говорить мне это. Я просто хотел дать тебе понять, что для нас обоих было бы лучше, если бы мы с тобой стали друзьями.
— Да что вы говорите! — удивился Альберт. — Разве мы можем быть друзьями? Гм… Ну, а как насчет пионеров?
— И пионеры — наши друзья, — просто ответил учитель.
— Вот вы как, значит. Дуриком хотите. Что ж, ваше дело. Дружите на здоровье с пионерами. У меня времени нет, мне работать надо. — Он взял вилы и в следующую же секунду навоз шлепнулся в тачку.
Учителю пришлось отскочить, а то и его забрызгало бы. Альберт сделал вид, что не замечает его.
— Где твой отец? — спросил издали учитель, ничуть не обидевшись.
— Кто его знает. В поле, должно быть. Он ведь работает, не то что некоторые… — И снова навоз шлепнулся в тачку.
Пропустив намек мимо ушей, учитель спросил:
— А мать?
— Не знаю. Сами ищите. Где-нибудь тут… — И снова навоз шлепнулся в тачку.
— Ну ладно, до свидания тогда, Альберт, — попрощался учитель.
Вместо ответа послышалось какое-то ворчание. «А парень у них заодно и дворового пса заменяет», — подумал он, заметив пустую собачью конуру.
Пока учитель осматривался во дворе, Альберт не без любопытства следил за ним. На какое-то мгновение он даже растерялся: «Что это за человек? Зачем он сюда пришел?» Недовольный самим собой, Альберт вновь принялся за работу.
Тщетно обыскав весь двор, заглянув и в ригу, учитель Линднер направился наконец к дому. Постучал. Так и не дождавшись ответа, вошел. Оказавшись сразу в «чистой» комнате, он огляделся. Ничто не ускользнуло от его внимательного взгляда: ни поломанная мебель, ни отсыревшие обои, ни плесень на потолке. И здесь жили люди! Жили его ученики! Гнева его против Альберта как не бывало. Хотя он, разумеется, не мог оправдать его. «Чистая» комната Бергов произвела на Линднера самое мрачное впечатление. И он поторопился покинуть ее, перейдя в кухню. Здесь он и застал хозяйку дома — фрау Берг. Она не сразу заметила его. И у Линднера было время понаблюдать за ней.
Фрау Берг была в грязной кофте, волосы спутаны, кое-где в них торчали соломинки, на вспухшем лице — злобная ухмылка. Линднеру сразу захотелось уйти, но он поборол себя и громко произнес:
— Добрый день, фрау Берг!
Не отрываясь от кастрюль и сковородок, фрау Берг что-то проворчала в ответ, причем ворчание это было очень похоже на ворчание Альберта.
— Я новый учитель, — представился Линднер.
— Да, да, бывает, бывает! — И фрау Берг снова загремела кастрюлями, не обращая никакого внимания на гостя.
Немного переждав, Линднер снова попытался напомнить о себе.
— Я так зашел… поздороваться только…
— Да, да, бывает, бывает! Нет, нет, я ничего не говорю… — снова пробормотала она.
Линднер совсем потерялся и стоял у дверей, не зная, что делать. Вид у него, должно быть, и впрямь был глупый. Фрау Берг уже снова хлопотала у плиты — бессмысленно передвигая кастрюли и горшки.
— Ну, тогда до свидания, — сказал наконец учитель Линднер.
И в ответ вновь услышал знакомое ворчание. Грустно у него стало на душе, захотелось подойти к Альберту и сказать что-нибудь доброе, ласковое. Но нет, это невозможно! Альберт бы только высмеял его. И тогда у учителя Линднера созрело решение: он должен бороться за Альберта и его друзей. Многое, очень многое он увидел теперь совсем в ином свете…
…Сердца их были исполнены благоговения, глаза блестели. Наклонившись вперед, боясь пропустить хотя бы слово, они слушали своего учителя. Спускались сумерки, а ребята давно уже забыли, что они все еще сидят в школе. На каждом был синий пионерский галстук. И если еще час назад, когда им впервые повязали галстуки, они конфузились и краснели, то теперь они видели в нем высокое отличие, что-то похожее на орден. Их было всего пять только что принятых в пионеры учеников бецовской школы, и тем не менее им казалось, что они отряд огромной и могучей армии.
И все это из-за одной истории, которую рассказывал учитель Линднер — горестной и все же чудесной истории…
— Было это сразу после войны, — так начал Линднер свой рассказ, — в первые же недели. Я уже несколько дней как ходил в школу, которая позднее стала называться Институтом подготовки учителей. Но тогда, в первые дни, здание было похоже на обыкновенную развалину. В моем классе числилось более сорока курсантов. Были среди них и молодые и пожилые, съехавшиеся из самых разных городов и сел нашей страны. Всех нас объединяло одно желание: мы хотели, чтобы жизнь вновь обрела смысл, и ради этого приехали учиться. За партой рядом со мной сидел человек с седыми висками, ему уже перевалило за сорок. Вообще-то мы ничего не знали друг о друге, да и наша программа не оставляла нам времени для частных разговоров. Но человек, сидевший рядом со мной, казался каким-то особенно замкнутым и серьезным. Страдания наложили печать на его лицо, и порой, когда я смотрел на него, мне делалось страшно, но вместе с тем я восхищался им. Учился он с удивительной энергией и упорством, и нам, молодым, бывало трудно поспевать за ним.
Вскоре я почувствовал нечто похожее на чувство дружбы к нему, не знаю даже по какой причине — ведь он относился ко мне, как ко всем, ничем не отличая. Просто мы всё чаще и чаще стали проводить вместе краткие, свободные от занятий часы. Мы гуляли по улицам большого города, вернее, по тому, что когда-то называлось улицами. Каменные остовы домов четко вырисовывались на фоне вечернего неба, и в каждом из них я видел зловещий памятник. Карабкаясь по горам битого кирпича, мы изредка перекидывались словом. Мой спутник часто останавливался, долго разминая пальцами кусочек штукатурки или взвешивая кирпич на руке, и задумчиво оглядывался по сторонам.
Я мог себе представить его мысли. Каждый день, отложив учебник в сторону, он искал ответа на один и тот же вопрос: имеют ли наши занятия вообще какой-то смысл? Ведь пока сидишь за партой, многое кажется возможным, но здесь, среди развалин, наши мечты, наши желания выглядели смешными.
Вернемся, однако, к тому вечеру, о котором я хочу вам рассказать. Закатные лучи уже позолотили острые края руин, когда неподалеку от нас неожиданно раздались голоса. Мы прислушались. Должно быть, говорил кто-то за пробитой снарядом стеной. Осторожно подобравшись поближе и заглянув в пробоину, мы увидели грустную и вместе трогательную картину: в углу, под защитой полуразвалившихся стен, было свито нечто похожее на человеческое гнездо. Прямо на земле валялось всевозможное тряпье, куски матрасов, а стены кто-то увешал старыми рваными одеялами, уже успевшими заплесневеть. Тут же громоздилась кухонная утварь — помятые кастрюли и тому подобное. Посреди всего этого хлама с серьезными, озабоченными, как у взрослых, лицами сидели мальчик и девочка. Ему можно было дать лет восемь, девочка была немного младше, но не менее одичавшая, чем он. Оба они старательно обгладывали какую-то корку.
Невольно я взглянул на своего молчаливого спутника и отступил — его лицо неузнаваемо преобразилось. В мгновение ока черты обрели мягкость, на ресницах блестели слезы.
Велев мне знаком подождать, он отошел от меня на несколько шагов, все еще соблюдая величайшую осторожность, вдруг громко кашлянул и, производя как можно больше шуму, снова приблизился.
Услыхав его шаги, оба жителя развалин одновременно вздрогнули. Мой спутник уже стоял у входа в убежище. Глазами, полными ужаса, смотрели дети на него.
«Здравствуйте, — сказал мой друг. — Я услышал ваши голоса, и так как я тоже один, то и решил, что втроем нам будет веселей». — Он заговорил с малышами, как со взрослыми. Открытая улыбка озаряла его лицо. Но девочка зарыдала, да и мальчик, видимо, крепился изо всех сил, только бы не заплакать.
Должно быть, мой спутник хорошо понимал, что происходило с малышами. Слишком много они видели зла, слишком многое им пришлось пережить, вот они и перестали доверять людям. Он сел там, где стоял, издали посматривая на детей.
Я боялся громко вздохнуть. Через пробоину в стене, уже не слепя малолетних жителей развалин, падали последние лучи заходящего солнца.
Вскоре девочка немного успокоилась. Она, правда, все еще не отпускала руки мальчика, но страх в ее глазах постепенно сменился любопытством. Оба малыша внимательно с головы до ног осмотрели чужого дядю, словно подвергая его строгому испытанию, и вдруг — я не знаю, много ли прошло времени — но лицу мальчика скользнула первая робкая улыбка.
Мой друг, обрадовавшись, хотел было заговорить, но девочка тут же снова скривила губы, готовая разрыдаться. Мой друг умолк, и снова спрашивали и отвечали только глаза.
Это была трагическая картина, и все же она настроила меня на чудесный, радостный лад. Обо всех троих я знал не более того, что война вырвала их, словно зерна у матери земли, закружила и где-то бросила. Но в эти минуты в них как бы воплотилось для меня и прошлое и настоящее: да, их бросили, но они живы, и сердца их ищут дружбы, робко, ощупью, застенчиво, но ищут…
На руины тихо спускался вечер. Мальчик, вспомнив о корке, которую держал в руках, принялся ее грызть. Неожиданно челюсти его замедлили свою работу, как у человека, над чем-то задумавшегося, и он медленно, шаг за шагом, стал приближаться к моему другу. Остановившись, он издали протянул ему корку.
Мой друг принял корку, проговорив:
«Спасибо. Большое спасибо!»
Мальчик тут же отскочил в угол, но, увидев, как чужой дядя откусил от корки, он вновь улыбнулся. Девочка тоже мало-помалу поборола свое недоверие.
Мне стало стыдно: что это я стою и подсматриваю? Ведь то, что происходило перед моими глазами, не было спектаклем, это была сама жизнь, наша жизнь, и тут зритель ни к чему! Подойти к детям я не посмел — я бы их только спугнул. Я осторожно попятился назад и затем поспешил в общежитие, предчувствуя, что скоро увижу их вновь.
Я намеревался почитать у себя в комнате, но мысли мои снова и снова возвращались к только что пережитому. Я словно ожидал каких-то событий, не зная, что именно должно произойти и почему.
Наступила ночь. На столе коптила самодельная свеча.
Я сидел на кровати. Дверь открылась. Передо мной стоял мой друг с малышами. Он держал их обоих за руки. А они, прижавшись к нему и широко открыв глаза, смотрели на меня.
«Дядя ничего вам не сделает, — сказал он. — Это мой друг».
Некоторое время они присматривались ко мне и наконец все же подошли ближе. Правда, как-то бочком-бочком. Все их внимание было уделено защитнику, которого они обрели в лице моего друга. До сегодняшнего дня я не в силах понять, каким образом он так скоро завоевал столь безграничное доверие детей.
Но в ту минуту я об этом не думал. Меня занимал другой вопрос: зачем он привел детишек в общежитие — ведь у нас не было для них ни места, ни времени. Короче, его действия показались мне и необдуманными, и чересчур поспешными. Однако я промолчал и не стал задавать никаких вопросов.
Весь тот вечер был заполнен непривычными для нас хлопотами и волнениями, но в конце концов мы все же погасили свет. Мальчик и девочка спали на кровати моего друга, а сам он, раздобыв где-то матрас, устроился на полу.
«Они спят, — сказал он тихо и вздохнул. — Сразу уснули».
Я промолчал. Догадывался ли он, что я тоже не сплю, или просто разговаривал сам с собой?
«О чем ты думаешь?» — спросил он меня вдруг. По звуку голоса я понял, что он лежит на спине.
«О тебе. О тебе и о детях».
Некоторое время он ничего не говорил. С улицы доносились шаги комендантского патруля.
«Ты обратил внимание, какие светлые волосы у девочки? — спросил он наконец. — А на носу веснушки, будто их кто-то нарочно там рассыпал. Она напоминает мне Грит. Похожа на нее. — Он вновь прислушался к дыханию детей. — Правда же, бывает так, что дети похожи друг на друга? — продолжал он. — Или я ошибаюсь?»
«Кто это Грит?»
«Ты спрашиваешь: «Кто это Грит?» Никто. Грит когда-то была. — Он присел на матрасе. — Мою дочь звали Грит, Вернер. И это был ребенок, какого не каждый день встретишь. Для меня в нем был заключен целый мир. Да, целый мир!.. — Он снова лег. Голос его звучал удивительно слабо. — Разве я знал, что такое жизнь до того, как появилась Грит? А с ней сразу все изменилось. Дома у меня не было ни одной свободной минуты, даже когда она спала в своей корзиночке. Только заснешь, она уже будит тебя своим криком. Ты ворчишь, раздосадован, вместо того, чтобы радоваться, какой у нее сильный голос, какие здоровые легкие! Но постепенно она завоевывает твое сердце — и ты не в силах противиться этому! Ты бесконечно рад, когда ее глаза начинают следить за светом, а затем различать цвета. «Какая умница, — думаешь ты, — будет умней своего отца!» И ты уже гордишься. Эх ты, задавала! Проходит время, и моя Грит начинает задавать вопросы. Порой мне кажется, что, если бы мы всю жизнь умели задавать такие умные вопросы, какие задает ребенок, мы куда больше знали бы о небе и о земле, чем сейчас.
«Пап, — спрашивает она, — какое это дерево?»
«Яблоня», — отвечаешь ты.
«Почему «яблоня»?»
«Потому что на ней растут яблоки, которые ты потом будешь есть».
«А откуда яблоня берет яблоки?»
«Из земли, доченька, — отвечаешь ты. — В земле всякие питательные вещества, и дерево кушает их и делает из них яблоки».
Грит сразу же начинает копать землю под яблоней.
«А тут нет яблочек, — говорит она. — Ты неправду сказал».
«Но я же не говорил, что яблоки в земле, в земле питательные вещества, а дерево делает из них яблоки».
«А где они, эти «питательные вещества»? Какие они?»
Опять ты в западне. Ты ведь и сам не знаешь — зевал на уроках биологии.
«Они никакие, — отвечаешь ты, — их и увидеть нельзя. Но дерево умеет их находить. — И вдруг тебе приходит в голову мысль — гениальная мысль! — Вот послушай, Грит, ты же ешь масло. И ты растешь, делаешься сильнее, крепче. Так и с деревом».
Грит удовлетворена, и ты вздыхаешь облегченно. Но рано, слишком рано, дорогой мой! После обеда ты заходишь в сад и — глазам своим не веришь. Твоя дочь стоит под яблоней и намазывает штамб маслом, кстати последним в доме, а остаток она даже зарывает в землю.
Ты кричишь на нее и даже чересчур скор на руку, но она-то не знает, за что ее наказывают…»
Мой друг замолчал. В комнате было совсем темно. Но мне казалось, что я все равно вижу его лицо — доброе и грустное, посветлевшее от воспоминаний о радостном, но давно минувшем.
«Не думай, — продолжал он немного погодя, — что я всегда был такой, как сейчас, такой старый ворчун. Кто-кто, а я любил посмеяться от души. Но потом… О, это проклятое, волчье племя!.. Убили они нас, всё убили, смех наш убили, счастье наше и нас самих!»
Он снова прислушался к дыханию детей. Они дышали спокойно и глубоко. Где-то заворковал дикий голубь и захлопал крыльями. Потянуло свежим ветерком.
«Рассказывай дальше! — попросил я. — Все, все расскажи. Иногда становится легче, если выговоришься».
«Да, — ответил он, — лежишь вот так, таращишь глаза в темноту… одну ночь, другую, а справиться с собой не можешь. Рассказать кому-нибудь, так язык как будто присох. Но сегодня я могу. Дети спят в постели, не на камнях… Потом ведь даже не знаешь, где и когда началась твоя беда. Может быть, в Познани, где ты родился, а может быть, и не там вовсе… Грит исполнилось пять лет, и никакого сладу с ней не было. Девчонок она вообще не признавала, все время с мальчишками. А им на нее наплевать. Не признают они «баб» — вот и все, да еще кулаками подтверждают это. Что ни день — прибегает домой, мордочка грязная от размазанных слез. Нет, никогда в жизни она больше не будет играть с мальчишками! Но на следующий день все начинается сначала. И ничем этого не поправишь: ни запретами, ни наказаниями, ничем.
Так вот, прибегает она однажды домой и — сразу в уголок. Одним словом — тихоня. Вдруг звонок в дверь. Сосед из дома напротив пришел, поляк. Шапочное у нас с ним знакомство, не более. На этой улице вообще жили одни поляки, кроме нашей семьи. Но разве это имеет какое-нибудь значение? Никакого. Поляки немного говорят по-немецки, а ты — по-польски. Встречаясь, вы здороваетесь, перекидываетесь одним-другим словом, о погоде там, а то и просто проходите мимо.
«Спыхальский, — представляется поляк. — Я прйдешь потому, что обязан ходатайствовать вас».
Он очень сердито смотрит на тебя, и ты начинаешь подумывать, уж не потоптал ли ты у него цветы в палисаднике. Однако дело куда хуже. У него, видите ли, есть сын, на год старше Грит. И этот сын лежит теперь дома и кричит благим матом.
«Она кусать его живот! — говорит господин Спыхальский. — Но как можно! Человек не должен кусать живот! Только дикий зверь кусать».
Твоя дочь — и дикий зверь? Нет, это не укладывается у тебя в голове.
«Разумеется, это весьма неприятный случай, господин Спыхальский, — говоришь ты. — Я готов возместить понесенный вами урон. А как это вообще могло произойти: ваш сын играл ведь в рубашке?»
«Но она кусать его живот!» — снова говорит он и только и знает, что повторяет эти слова.
Тебе не остается ничего другого как начать поиски этого дикого зверя. Но тут ты слышишь, как хлопает входная дверь, — нет твоей Грит!
Долго она не возвращается, ты уже начинаешь беспокоиться, не случилось ли чего. И вот наконец является. И представь себе, не одна, а с гостем, и гостем мужского пола.
«Это мой друг! — поясняет она. — Спыхальского — Станек».
Мальчик отвешивает тебе вежливый поклон и указывает на свой живот.
«Она не больно кусать меня, — говорит он, — только чуть-чуть».
«А ты зачем меня дразнил? — вставляет Грит. — И другие ребята дразнили».
Станек кивает.
«Да, но теперь не надо дразнить».
«Не надо, — соглашается она. — Теперь пойдем играть».
Ты смотришь им вслед и улыбаешься. Вся эта история кажется тебе похожей на лукавинку в глазах. Ты и не подозреваешь, как эта детская дружба позднее определит всю твою жизнь! В этом-то твоя ошибка — ты не думаешь о завтрашнем дне, не замечаешь, что творится за порогом твоего дома, и живешь только данной минутой.
А в Германии Гитлер пришел к власти, маршируют отряды штурмовиков, там преследуют евреев, смешивают с грязью другие народы. Но какое тебе дело до всего этого! Мало ли что люди говорят! Чего ты сам не видал, того и нет. У тебя есть заработок, ты доволен, к чему все эти волнения?
Ты приходишь с работы и заранее радуешься встрече с детьми. Да, да, теперь у тебя их двое: Станек и Грит. Об одной Грит ты уже не можешь думать. Как подумаешь о дочке, сразу же и мальчик стоит рядом.
А этот Станек совершеннейший бесенок, однако личность, уважаемая сверстниками. Сначала ребята дразнят его — весь день он с девчонкой! Однако он довольно скоро наводит порядок — кулаками, разумеется.
В школе Грит первая — ей легко дается учение. И только иногда она грустит — ведь Станек бегает в другую школу, для поляков. «Он же умеет говорить по-немецки, — думает она, — пусть ходит в мою школу, или она будет ходить туда, где он учится». В ее маленькой голове не умещается, что у каждого народа должна быть своя школа. Но есть и что-то прекрасное в том, что она этого не понимает: для нее не существует разницы между немцами и поляками, для нее все — люди.
Ты и не замечаешь, как бежит время. Ребята растут. Теперь они держатся особняком. Ты озадачен. Но однажды ты ловишь себя на мысли: как славно было бы, если бы они навсегда остались вместе! Ты ведь уже привык разделять с ними их счастье и не хочешь этого лишаться.
И вдруг тебя словно обухом ударило. Гитлер нападает на Польшу, он оккупирует ее, немецкие войска вступают в наш город. Немцы, такие же, как ты, немцы, стоят вдоль тротуара, приветствуют германскую армию.
Твои соседи-немцы ликуют и тогда, когда оккупационные власти начинают хватать поляков и тысячами расстреливать их. Тебе делается стыдно, что ты немец. Ты отворачиваешься, не хочешь видеть, что творится вокруг.
Однако теперь это уже не помогает тебе. Неожиданно для тебя комендатура объявляет: немцы не имеют права общаться с поляками. Ты возмущен, но только у себя дома, а на улице ты опускаешь глаза, когда встречаешься с поляками. Ты — трус, ведь тебе будет плохо, если ты поздороваешься с поляком.
А вот Грит этого не понимает. Станек поляк, и он ее друг, хороший, любимый друг. Она не может бросить его. И вообще, какое преступление он совершил? Почему это он не может быть ее другом?
Первое время ты боишься за нее, не выпускаешь на улицу. А она плачет, сидит дома и плачет.
Ты подсаживаешься к ней и говоришь:
«Видишь ли, Грит, папа хочет тебе только добра. А если ты будешь играть со Станеком и полиция узнает об этом, вас посадят в тюрьму».
«Но почему? Почему?» — спрашивает она, рыдая.
«Потому, что это запрещено. За это наказывают. Надо подчиняться».
Грит бросается тебе на шею, заглядывает в глаза, вся вопрос, вся мольба, вся горе! И ты не выдерживаешь, ты отводишь глаза.
«Но почему, почему?» — спрашивает она тебя. Тысячу раз — почему?
В конце концов ты признаешься: ты не знаешь почему. Право, не знаешь.
«Может быть, Грит, ты сама это поймешь, когда вырастешь А может быть, к тому времени все изменится».
Она оставляет тебя в покое, понимая, что ты неискренен с ней, о чем-то умалчиваешь. Ты вновь пытаешься заговорить, она отталкивает твою руку и — плачет. Тебе так стыдно перед ней, как никогда еще не было стыдно ни перед одним человеком, и больно тебе от этого, очень больно!
В последующие дни Грит избегает тебя, между вами возникает что-то похожее на отчуждение. Порой, когда ты спрашиваешь, где она была после обеда, тебе начинает казаться, что она тебя обманывает. Ты удивлен — неужели у нее есть что скрывать от тебя? Со временем возникают и подозрения: слишком часто за окном раздается крик вороны — сразу же после этого Грит исчезает из дому. Да и на улице ее нет. А вернувшись, она тебе наговорит с три короба. Начнешь настаивать — заплачет. Нет, ничего у тебя не получается! Да и выглядит она ужасно от этих бесконечных слез.
Как-то жена посылает тебя в подвал — снеси, мол, пустые банки из-под компота. А внизу там сыро, темно. И вдруг ты видишь: в углу кто-то сидит. Ты даже вздрагиваешь. У тебя захватывает дыхание. На куче тряпья сидят Грит и Станек. Здесь, стало быть, еще нашлось местечко для их дружбы, здесь они припрятали свое детское счастье! «И это называется — государственная измена!» — думаешь ты. И представляешься себе таким несчастным, что готов выть от боли.
«Ах, это вы тут! — восклицаешь ты и страшно удивлен, что вообще оказался способным произнести хоть слово. — Да, теперь вам и место только что в подвале».
Но вот ты снова поднялся наверх, а жена не может надивиться — оказывается, банки-то ты принес обратно.
О том, что ты видел в подвале, ты ни с кем не говоришь, даже с Грит. Одобрить ты этого не можешь — боишься вмешательства властей, запретить — тоже. И все же ты проклинаешь эту дружбу. Лучше б ее никогда не было! И ты тянешь, дрожишь за них, все надеешься — как-нибудь обойдется.
Но вот настает день, когда, открыв почтовый ящик, ты обнаруживаешь повестку. Вместе с Грит тебе приказано явиться в Югендамт[2].
У них существует там что-то вроде политического отделения для молодежи. «Попечитель» в мундире СД[3]. На вид вполне симпатичный, улыбается, и ты уже волнуешься, как бы Грит не проболталась.
«Ну как, барышня? — обращается он к Грит. — Как поживаете?.. Хорошо, да? Превосходно. И твой дружок тоже хорошо? Или, может быть, нет?»
«Нет у меня друга», — отвечает Грит и даже краснеет при этом.
«Попечитель» смеется, знаешь, весело так смеется.
«Скажите пожалуйста! Барышне, должно быть, стыдно, что у нее есть друг. А ведь уже такая большая, взрослая почти!»
«Нет у меня никакого друга!» — тихо повторяет Грит, и вот уже слезы катятся по ее щекам.
«Попечитель» утешает ее, гладит по голове.
«Ну, ну, успокойся, я же не хотел тебя обидеть».
Итак, на сей раз нас отпускают. Однако он выходит в коридор и, значительно так поглядывая, говорит:
«Надеюсь, что нас неверно информировали. И это было бы лучше и для вас».
Вы с дочкой идёте домой, и ты думаешь о чем-то своем, а на самом деле ни ты, ни она не отваживаетесь сказать друг другу хотя бы слово. Дома ты привлекаешь ее к себе — тебе хочется почувствовать, что Грит здесь, что она жива, и она рыдает на твоем плече. Ты даешь ей выплакаться.
«Маленькая моя, дорогая моя Грит», — вот и все, что ты можешь сказать ей.
Позднее, когда она уже немного успокоилась, к тебе снова возвращается твоя трусость. Ты просишь Грит:
«Дорогая моя девочка, не играй больше со Станеком, не играй, прошу тебя! Времена сейчас не те!»
Она поднимает головку. Смотрит в глаза. И молча, одними глазами, умоляет дать ей ответ, ответ, который ты не можешь ей дать. Она видит тебя насквозь, заглядывает тебе в самую душу, и от этого ты кажешься себе еще более жалким.
Входит жена. Один взгляд — и она понимает, что произошло. Но ничего не говорит, все еще предпочитает держаться в стороне. Но ты чувствуешь: и она ускользает от тебя. Она думает так же, как думает Грит или, во всяком случае, лучше понимает дочь, чем ты. Глаза выдают ее. Ты чувствуешь себя загнанным в угол.
Следующие несколько недель тебе немного легче. Ворона за окном каркает и каркает, а Грит сидит дома. Ты и не подозреваешь, что они договорились: встречаться не сразу после сигнала, а определенное время спустя. Ты уже чуть-чуть успокоился и вдруг — снова повестка.
На этот раз тебя просят подождать в приемной. Грит входит к нему одна. Через стенку ты слышишь, о чем они говорят. «Попечитель» еще любезнее, чем при первой встрече, он болтает о том о сем, смеется, говорит Грит комплименты, как будто она уже взрослая. Немного журит ее. Ты прямо видишь перед собой его гладкую физиономию!
«Такая красивая девушка, настоящая немка, — говорит он, — и с кем связалась! Нехорошо это с твоей стороны, Грит. В этом ты меня разочаровала».
Но Грит твердит свое: нет у нее никакого друга, никакого друга у нее нет.
«Ну хорошо, — говорит «попечитель», — я тебя и не прошу выдавать мне секретов. Но тем не менее кое-что я должен тебе сказать. — Он делает паузу, и ты в каждом кончике пальца ощущаешь: сейчас произойдет то, чего ты все время так боялся. Ты готов ворваться к нему и перегрызть ему горло. Но ты вдруг отяжелел, не в состоянии двинуться с места.
«Ты — хорошая девушка, — говорит он, — хорошая немецкая девушка. А Станек — грязный поляк, у него — вши, он — вор. Не подходит он тебе совсем».
Некоторое время ты слышишь только стук крови у себя в висках.
Грит вскакивает.
«Неправда! — Слезы слышны в ее голосе. Потом еще раз: — Неправда!»
«А ты неразумная девушка, Грит! Я ведь не лгу, — слышится его голос. — Вчера вечером Станек опять попался в воровстве».
«Неправда! — кричит моя дочь. — Станек не вор. Я знаю. Он был у меня вчера вечером».
Ты вскакиваешь и подбегаешь к двери кабинета. По правде говоря, ты давно знаешь о том, в чем сейчас призналась Грит. Ты просто прятал голову в песок. Грит сильнее тебя, честнее.
Держа ее за руку, ты выходишь на улицу. «Попечитель» что-то говорит тебе, но ты ничего не понимаешь. Да это и все равно, говорит он или молчит. В городе жаркий летний день, и ты дивишься, как это может быть!
Грит гладит твою руку и молчит. Только гладит твою руку…
На следующий день, когда ты возвращаешься с работы, она выбегает тебе навстречу.
«Пап, ничего не случилось?»
Ты качаешь головой. Говоришь:
«Нет, ничего не случилось, может быть, и обойдется».
Мы шагаем по нашей улице, и ты спрашиваешь:
«А что нам мама на обед приготовила?»
«Не знаю», — отвечает Грит.
«Как же ты не знаешь? Разве ты ей не помогала?»
«Помогала».
Вдруг ты останавливаешься и сжимаешь ее руку. Она смотрит на тебя и спрашивает:
«Тебе плохо, пап? Что с тобой?»
«Ничего, — отвечаешь ты. — Ничего, ничего!»
Она следит за твоим взглядом, и вдруг ты чувствуешь по ее руке, как она вздрагивает. Перед домом Спыхальских стоит грузовик, возле него эсэсовцы. В эту минуту открывается дверь, из нее выталкивают мужчину и женщину, за ними — подростка. Станек! Они толкают его в спину — он падает, ударяется о мостовую.
Грит кричит:
«Станек! Станек!..» — пытается вырваться из твоих рук, бежать к нему, защитить его! А что делаешь ты? Ты тащишь ее через улицу домой. Но она кричит и кричит, зовет своего Станека, кричит до тех пор, пока ты не зажимаешь ей рот. Ты не можешь слышать ее крика. Да, да, ты герой! И награда тебе обеспечена! Годами тебя будет преследовать этот крик, перед глазами вечно будет улица в послеполуденный час, ты никогда не простишь себе своей трусости.
Грит больна. Нервная лихорадка или что-то в этом роде. Она бредит Станеком, иногда смеется, счастливым таким смехом, как во время веселой игры.
Наконец кризис миновал. Но когда Грит позволяют встать, она уже не ребенок. Тихая она какая-то, и порой ты спрашиваешь себя — уж не тень ли бродит по квартире. Грит не плачет больше, но она и не улыбается никогда. Хотя бы слово сказала. Нет, только все смотрит и смотрит…
Как-то вы остаетесь одни. Грит что-то вяжет. Вдруг она поднимает голову и говорит:
«Пап, пожалуйста, я не хочу больше ходить в школу».
Ты берешь ее руки в свои.
«Грит, — говоришь ты, — нельзя же так. Все должны учиться».
Она качает головой, и ты понимаешь, что она давно уже думает над тем, что сейчас сказала.
«Нет, — возражает она. — Не хочу больше. Буду учиться, когда Станек вернется. Когда мы будем рядом ходить по улицам, тогда — да. А он вернется, пап? Правда, вернется? Не может ведь всегда быть, как сейчас, не может?»
И откуда это у нее? Откуда у нее такая вера? И ты не в состоянии выдавить ни слова в ответ. Где тебе до ее честности!
«Я буду теперь учить только польский, — говорит она. — Пойду в польскую школу. И ты, пожалуйста, говори со мной только по-польски, ладно? Все мы будем говорить только по-польски, пожалуйста!»
И так эти слова берут тебя за душу, что ты плачешь. Впервые за двадцать лет ты плачешь над собой, над всем своим народом.
Грит все еще сидит рядом, но это уже не ребенок. Ускользнула она, когда-то ускользнула — и ты поймешь это гораздо поздней. Но она твоя дочь, и ты обязан для нее что-то сделать, обязан проложить ей дорогу в жизнь. Если ты только закроешь, загородишь ее собой, она увянет, — она же должна идти вперед, такова природа человеческая, такова жизнь.
Слишком поздно ты понял, что ты оплошал. Того, чем была когда-то Грит, больше нет, это сломалось. Она уже взрослая, слишком рано она стала взрослой. И нет для тебя больше радости в этой жизни.
На заводе тебя теперь никто не трогает. Ты удивлен: неужели ты так уж незаменим для военной промышленности? И поэтому тебя оставляют в покое? Нет, нет, не обнадеживай себя!
И вот однажды в обед тебе велят явиться к директору. У него сидит еще кто-то незнакомый. И такое лицо у этого типа, что слаще и добрее не придумаешь! «Гестапо!» — соображаешь ты. Такие типы служат в гестапо, это чтобы тебя легче было на удочку поймать.
Он спрашивает, почему ты не член нацистской партии. По-хорошему, по-дружески спрашивает.
«Вы же прекрасный работник, — добавляет он, — и доказываете это ежедневно и ежечасно на заводе». Нет, он не может этого понять!
Ты стараешься вывернуться, болтаешь о чересчур высоких членских взносах, о том, что «еще не созрел» для великих целей нацистской партии.
Но тут он показывает свое настоящее лицо.
«Так, так, — говорит он, — а для работы против партии вы чувствуете себя достаточно зрелым? Так это или не так?» — Он все еще улыбается, а у тебя почему-то горько во рту сделалось.
«Нет, — говоришь ты, — и для этого я не созрел. Я ни для чего не созрел. Глубоко сожалею…»
«Интересно! — восклицает он. — А как же вы допустили, чтобы ваша дочь завязала столь сомнительную связь с этим польским оборвышем?»
«Ничего я не допускал!» — возражаешь ты. Но тут же думаешь о Грит, и тебе становится стыдно. Гнев охватывает тебя, гнев на самого себя, на то, что ты оплошал, гнев на этот нацистский сброд. И ты кричишь ему это прямо в лицо, кричишь о горе своем, о боли за детей своих, кричишь о всех тех преступлениях, которые для тебя слились в одно, — о преступлениях против человечества! Нервы не выдержали. И ты говоришь то, что думаешь.
А он сидит, ухмыляется, радуется даже.
«Ну как, всё? — спрашивает он. — Любопытно, весьма любопытно».
Два часа спустя ты уже в тюрьме для подследственных. Но теперь ты чувствуешь себя сильным, ты высоко держишь голову. Ты готов все вынести. Даже больше. Вся их подлость тебе нипочем. В тебе проснулась ненависть к ним, она горит в твоей душе, горит как никогда не заживающая рана.
Но постепенно делается тяжко: время идет, о семье ты ничего не знаешь, суда нет, только допросы и избиения. Темно вокруг тебя днем и ночью. Днем и ночью темно. Ты уже не в ладах с самим собой: убил бы первого, кто тебе попался из этого сброда, голыми руками бы задушил! Тогда бы ты знал: не напрасно прожита жизнь. А так? Чего ты добился? Без всякой пользы влачил существование, жалкое, ничего не стоящее существование. Были бы у тебя там, за этими стенами, друзья, товарищи по партии, которые продолжали бы делать то, что делал ты, — это придало бы тебе мужества в твоем теперешнем одиночестве. А так ты зазря пропадешь, и пропадешь по собственной вине.
Тебя переводят в другую тюрьму, потом еще в одну, и так без конца. Ты уже не понимаешь, где ты, собственно, находишься. Мысли твои с Грит, с женой. И ты все время разговариваешь с ними — иначе ведь можно с ума сойти. «Что теперь с ними? — думаешь ты. — Живы ли? Ждут тебя или уже не ждут». Жизнь свою ты готов отдать, только бы хоть раз взглянуть на них. Но ведь жизнь твоя и гроша ломаного не стоит.
Тебя переводят в лагерь, в концлагерь. Суд так и не состоялся — они же не могут тебе ничего доказать. Ты подозрительный элемент, запираешься.
Много ужасного пережил ты за это время, научился переносить невыносимое, и только диву даешься, чего только человек не способен вынести. Но ведь не в тебе, в конце концов, дело, ты же взрослый мужчина. Дело в Грит!..
Они все еще переводят тебя с места на место, из одного лагеря в другой, чтобы нигде ты не притерпелся, нигде не завел себе друзей.
Так проходят полтора года. Тебя опять, в который раз, перевели в новый лагерь, и ты как раз вышел из карантина. Стоишь у окошка в бараке. Ночь. Прожектора на сторожевых вышках вращаются. И вдруг — крик вороны из темноты. Сердце твое замирает: ты догадываешься, кто это. Ты ждешь следующего сигнала. Но все тихо. Позади скрипят нары. Ты оборачиваешься: все, кто есть в бараке, поднялись со своих мест, смотрят в окошко. Что-то притягивает тебя к ним. И ты понимаешь что — их лица! Никогда еще ты не видел такого выражения лица у людей! Оно прекрасно, как, должно быть, прекрасен мир на земле…
Кто-то произносит:
«Они! — И еще раз: — Они!»
Ты приглядываешься к сказавшему это. Он плачет. Тебе кажется, что сейчас сердце выскочит из груди. Ты спрашиваешь: «Кто это «они»? Кто? Кто, скажите мне?»
Но все молчат. Ты подходишь к тому, кто сказал «они», и трясешь его за плечи.
«Кто? Не слышишь разве? Кто, скажи мне!»
Они набрасываются на тебя, валят на нары, держат твои руки и ноги. Думают — ты ума лишился.
Долго ты лежишь так. Глаза жжет. Ты ведь знаешь, кто это кричал. И ты знаешь: Грит жива! Она рядом. Она жива! И не так уж важно, что она в лагере смерти. Она жива, понимаешь, она жива!..
Ты лежишь и думаешь о Грит, о сне не может быть и речи, но долго так выдержать ты не можешь. И ты будишь товарища, который не ответил на твой вопрос.
«Слушай, — говоришь ты. — Это ведь ребята, да? Мальчишка и девчонка, да? Она немка, а он поляк?..»
Долго он смотрит на тебя, пристально смотрит, потом говорит:
«Вон оно что!»
«Они? Правда?»
Но он опять молчит. Надо же ему опомниться, ты чувствуешь — он ошеломлен.
«Рассказывают, — говорит он наконец, — что это совсем еще дети. Ходит слух, что она немка, а он поляк. Но видеть их никто не видел. Они рядом, в женском лагере. Но все мы их знаем, представляем себе, какие они. И когда кто-нибудь из нас уже не может больше, сам уже смерти просит, мы рассказываем ему об этих детях. Просто так расскажешь — и помогает».
Затем тебе говорят, что и здесь, в лагере, они встречаются, только тайно, твоя Грит и Станек. Однако встречаются, раз в неделю, да встречаются, и эсэсовцы не могут поймать их.
«По-разному рассказывают, как они попали сюда, — продолжает товарищ по заключению. — Каждый по-своему, и клянется, что так оно и было. Одни говорят, будто они мост взорвали, другие — что эсэсовского генерала укокошили, а еще — что они листовки рисовали, на которых было написано: «Убейте Гитлера!» Может, все это и так, а может, мы все это выдумали. Скорей всего — выдумали. Но мы верим: наши дети — герои! Не знаю даже, как это тебе растолковать, силы они нам придают. Будто армия они наша. И этой армии боятся все пулеметчики на вышках. Она нужна нам, эта армия. Одно то, что эсэсовцы ничего не могут поделать с ними, не могут разбить этой дружбы — одно это заставляет нас радоваться наперекор всему!»
Ты невольно начинаешь гордиться своей Грит. Но вскоре тебя снова охватывает страх. Твоей Грит угрожает опасность, большая опасность, чем когда-либо. Мало того, что она попала в этот лагерь, она еще встречается со Станеком! Нет, этого ты не одобряешь, твое отцовское сердце сжимается при одной мысли о том, что их могут застать вместе. Ты был и остался эгоистом.
Заключенный, лежащий рядом на нарах, прерывает твои размышления.
«Расскажи нам о детях, если ты правда знаешь их. А мы послушаем. Хочется узнать, какие они на самом деле».
«Когда их сюда привезли?» — спрашиваешь ты.
Он наклоняется к тебе, опять так пристально смотрит. А вдруг ты — доносчик?
«Если ты знаешь их, тебе это должно быть лучше известно, чем нам», — говорит он.
«Нет, неизвестно. Девушка была еще на свободе, когда меня арестовали», — отвечаешь ты.
«Может, и похоже на правду, — говорит он. — Но если ты врешь — тысячи встанут в лагере, чтобы прихлопнуть тебя, как муху. Детей не тронь! Понял? И если кто их тронет… сам понимаешь!»
Ты благодарен ему за эти слова, они успокаивают. «Теперь-то тебе поверили, — думаешь ты. — И не надо больше просить его — он сам рассказывает дальше…»
«С полгода как прибыл сюда очередной транспорт. Все немцы — женщины, дети. От платформы до лагеря надо порядочный кусок пешком пройти. Примерно посредине пути — угольный карьер. Там наши работают — поляки, немцы, чехи, также и дети, если они, конечно, еще на ногах держатся. Карьер от дороги отгорожен колючей проволокой. Ну так вот, когда колонна новеньких проходила мимо карьера, там как раз смена была. Вдруг одна из новеньких остановилась, подбежала к проволоке и смотрит. Девчонка еще, совсем ребенок. И кричит, вернее, зовет. А в карьере мальчишка, поляк, как увидел ее — так к ней. И не говорят ничего друг дружке, а только всё смотрят и смотрят… Так нам люди рассказывали. Эсэсовцы прямо бесятся, а дети словно не слышат ничего, только все смотрят и смотрят друг на друга. И разошлись, только когда охранники их прикладами… прикладами… В тот же вечер нам это тут в бараке всё рассказали. И с тех пор мы по ночам прислушиваемся — скоро ли ворона закричит… Еще рассказывают, будто мать девочки — может, ты и ее знаешь — вскоре, как дети сюда прибыли, померла. А девчушка держится — храбрая!..»
Он говорит еще долго, многое в его рассказе похоже на правду, многое они, должно быть, уже сами присочинили, но ты давно уже не можешь слушать, ты отвернулся, грызешь солому на нарах. Хочешь изгрызть свою боль… Жены, значит, нет уже в живых, и никогда ты ее больше не увидишь.
На следующее утро тебя зачисляют в команду — работать в карьере. Пот льет с тебя градом, все твои силы уходят на то, чтобы удержаться на ногах.
Но ты выдерживаешь все, что на тебя обрушивается в эти дни: ведь Грит рядом! Может быть, тебе удастся повидать ее? Этой надеждой ты и живешь.
Скоро всему бараку становится известно — ты знаешь детей!
Бывает, ночью подойдет к тебе кто-нибудь и попросит: расскажи про детей.
И ты в который раз рассказываешь одну и ту же историю — в бараке нет ни одного человека, который не знал бы ее наизусть. И тем не менее все слушают затаив дыхание, никто не спит. «Чудеса, — думаешь ты. — Каждый день эти люди смерти в глаза смотрят, но стоит заговорить о детях, как они начинают мечтать…»
Да, люди эти мечтают и надеются. А тем временем там, за оградой, что-то происходит. Известия, просачивающиеся к нам в лагерь, укрепляют наши надежды: Советская Армия наступает. Гитлера бьют! В груди нарастает чувство счастья. И дети, мысль о них умножают его. Крик вороны сокращает время вашего заключения. А для тебя — он как привет от Грит, от Грит — тебе.
И вот настает ночь, и ты снова слышишь этот крик. Сердце твое бешено колотится, ты ждешь и ждешь: только бы все обошлось. Но вот ты задремал немного, нет, не заснул, а только чуть дремлешь: сон и реальность перемежаются.
Где-то стреляют: автоматная очередь, еще очередь! Это у нас бывает, когда кто-нибудь пытается бежать. Бедняга, думаешь ты в полусне, не повезло ему…
Наутро ты уже забыл об этом.
Перекличка. Снег слепит глаза. И вдруг шарфюрер начинает орать. Ты не понимаешь, что случилось. Тянешь голову. Шепоток приближается по шеренге, но, не дойдя до тебя, стихает. Ты видишь, как твои товарищи стаскивают с себя шапки. Товарищ, стоящий рядом, смотрит, хочет что-то сказать и не может, его душат слезы… вот ты и понял наконец: твои дети! Нет больше Грит!..
Но ты не умираешь. Ты выдерживаешь и это, как будто они могут мучить тебя целую вечность. Ты видишь, как шарфюрер орет, но он кажется тебе дурным наваждением. Весь мир кружится перед глазами, как будто кто-то с неба солнце сорвал…
Как ты дотягиваешь до вечера — ты и сам не знаешь. И ночью ты, оказывается, все еще жив. Товарищи уважают твое молчание, не тревожат тебя. Может, они и догадываются, что ты отец девочки, а не только сосед, видевший ее иногда на улице… Но все это тебе сейчас безразлично, не интересует тебя, ты решил покончить с собой и только ожидаешь удобного случая. Да и что может удержать тебя в этом мире! У тебя же нет больше ничего, осталась только боль. Но одно дело ты должен еще сделать, ты должен узнать, кто убил их. Ты раздавишь его, как жабу.
Проходит две недели. Ночью сосед по нарам будит тебя:
«Слышь! Ну не спи! Слышь!»
«Что тебе?»
«Говорят, часового кто-то прикончил. Вчера ночью».
Ты заставляешь себя говорить спокойно:
«Да что ты! А какого часового?»
«Того, что детей наших застрелил. Говорят, того самого».
«А зачем ты мне об этом говоришь?»
«Да так, просто…»
Но ты не веришь ему и слово за слово начинаешь выспрашивать:
«Ну и как, поймали они его?»
«Кого?»
«Того, который часового прикончил».
«Говорят, нет. Даже не ищут… Такой слух ходит. Охранники объявили, будто несчастный случай произошел…»
«А может, так оно и было».
«Какой там! Прикончили его. Дело ясное».
«А как же тогда?..»
«Боятся эсэсовцы. Знают, что весь лагерь поднимется. А восстание им сейчас ни к чему».
Этот миг ты никогда не забудешь!
«А помнишь? — доносится голос твоего товарища по нарам, как я тебе говорил, что дети для нас будто целая армия. А они и есть целая армия! И эсэсовцы дрожат перед ними!»
Больше вы не говорите в эту ночь, но спать ты тоже не спишь. Все думаешь о Станеке и Грит. Жалеешь, что они так и не узнают: ведь это ты прикончил часового-эсэсовца. Может, они стали бы о тебе лучше думать? Сами-то они так же поступали. Поздновато ты это понял, теперь ты это сознаешь, но разве такое бывает когда-нибудь слишком поздно? Для Грит — да.
Но скольких ребят и девчат воспитывают в духе ненависти к Станекам? Если бы ты мог это изменить!
С той ночи эта мысль постоянно преследует тебя. Как бы ты мог загладить свою вину перед дочерью? Ведь если когда-нибудь все люди будут такими, как Станек и она, то этот ужас уже не сможет повториться. Они были одиноки, поэтому они погибли… Через два года тебя освобождают. Из лагеря ты выходишь совсем другим, чем был когда-то. Теперь ты твердо знаешь, в чем твой долг. Скорей, скорей за парту, ты будешь учителем… И учениками твоими будут Станек и Грит».
Мой друг умолк. Я тоже молчал. В такие минуты не находишь слов. В щели между досками, которыми было забито окно, чуть просвечивает новый день.
Друг мой поднялся и подошел к ребятишкам, спавшим на его кровати. Он смотрел на них и улыбался. А потом проворчал:
«Нет, погляди-ка на этого разбойника! Думает, он один тут спит. Стащил одеяло с девчонки!»
Но он оставил мальчику одеяло, а девочку укрыл своим, подняв его с полу.
Где-то далеко-далеко прокуковала кукушка, должно быть в пригородных садах…
Учитель Линднер давно уже окончил свой рассказ, а пионеры все еще сидели, подавшись вперед, как будто чей-то голос повторял еще раз все, что они только что услышали.
— Поздно уже, ребята! Дома, наверное, беспокоятся, — тихо проговорил учитель.
Пионеры встали из-за парт. Учитель поднял руку над головой.
— Будь готов!
— Всегда готов!..
Хотя пионеры ответили тихо, но для каждого эти слова прозвучали как клятва.
Когда они вышли, ночь уже опустилась над домами и проулками. Все чувствовали себя теперь старыми друзьями, и мальчишкам даже в голову не пришло отделиться от девочек. Они шагали молча, однако можно было с уверенностью сказать, что Грит и Станек шагали с ними рядом.
Справа от дороги церковь и колокольню окаймляли старые дубы и липы. Число и возраст деревьев часто порождали у жителей Бецова споры: называть ли все это садом или парком. Местные патриоты утверждали, что это парк. Стена из красного кирпича ограждала парк или сад от улицы, дабы никто не мог усомниться, где кончаются церковные владения.
Пионеры прошли мимо церковной ограды, не уделив ей никакого внимания. Да и к чему? Никто не повторял угрозы — той, что содержалась в надписи на доске. Ребята и забыли о ней.
Неожиданно из темноты вынырнули какие-то фигуры. Пионеры испугались, но бежать было уже поздно — их окружили со всех сторон. Узнав нападавших, они даже немного успокоились — это ж их школьные товарищи: Друга, Альберт, Родика и их друзья. Шутят, наверное. Однако выражение лиц говорило об обратном. Что же им надо?
Альберт вышел вперед. Окинув взглядом своих пленников, он презрительно сплюнул в песок и процедил:
— Ну конечно, без Шульце-младшего и тут не обошлось. Яблоко от яблони недалеко падает. — Повернувшись к двум пионеркам, он покачал головой: — Чего вам-то надо, длинноволосые? Тоже лезете в бургомистерши, как ваша старуха!
— Пропустите нас! — решительно заявил Шульце-младший и хотел было оттолкнуть Другу.
Тот хлопнул его по руке.
— Тихо! — приказал он.
Тут же Шульце почувствовал, как чьи-то руки схватили его сзади и толкнули в центр круга. Поняв, что сейчас сопротивляться бесполезно, он решил выждать, что будет дальше.
— Не пищать, понял? — добавил Альберт. Затем с улыбкой превосходства, смерив взглядом одиннадцатилетнего мальчонку, у которого были ноги колесом, и девчушку с рыжими косами и множеством веснушек, он проговорил: — И вы в герои записались? Русские вам за это норму поставок скостят, хорошо подлизываетесь!
— Чего вам от нас надо? — спросил Шульце-младший, с трудом подавляя злость.
— А чтоб вы поскорей сняли свои синие удавки и сдали нам — по очереди, конечно. И ваши удостоверения или книжки пионерские — что вы там держите в лапах! — все сдавайте.
— Ты с ума сошел?
— Ну, раз ты так говоришь, может быть, и сошел, — согласился Альберт, вплотную проходя мимо каждого из пионеров. Те даже слышали его дыхание. Девочки дрожали от страха. — Считаю до трех! — заявил Альберт. — Сдавайте свое барахло. Тогда две-три оплеухи, и можете быть свободными. Но если не сдадите добровольно… — Он сделал выразительную паузу. — Советую подумать. Раз… два… три! — Он кивнул мстителям. — Начнем!
Но пока они еще никого не били. Два мстителя держали одного пионера, а Родика аккуратно отвязывала галстук и забирала у него пионерскую книжку.
— Отпустить! — скомандовал Альберт.
Шульце-младший немедленно бросился отнимать свой галстук. Подскочив, Друга ударил его кулаком в лицо. Шульце защищался отчаянно, однако с двумя такими противниками, как Друга и Руди, он справиться не мог. Он упал, но, услышав плач девочек рядом с собой, снова поднялся. Шульце-младший замахнулся на Калле, но Альберт подставил ему ножку и одновременно ударил снизу по подбородку. Шульце упал, покатился по земле и так и остался лежать, раскинув руки.
Остальные пионеры тоже были сбиты с ног и уже не могли защищаться. Девочки громко плакали, а Родика все не отставала от них.
Неожиданно вспыхнул сноп света. Из-за поворота вынырнул велосипедист.
Альберт крикнул:
— Внимание!
Мстители бросились врассыпную. Прошло всего несколько секунд, как их и след простыл.
После того как пионеры разошлись, учитель Линднер отправился к себе. Его комната, как и квартира учителя Грабо, находилась в самой школе. Надо было просмотреть тетради по истории. Но прежде учитель Линднер решил выпить стакан чаю и вышел во двор за водой. И тут столкнулся с учителем Грабо. Тот как раз выходил из дому и приветливо поздоровался с ним.
— Добрый вечер, коллега! — ответил Линднер. — Не найдется ли у вас двух минут для меня?
— Разумеется, найдется, друг мой. В чем у вас там дело? — ответил Грабо с видом старшего и более опытного преподавателя, желающего прийти на помощь младшему.
«Должно быть, фальши тоже учатся, сразу она не всем удается», — подумал учитель Линднер и сказал:
— Я относительно пионеров хотел с вами поговорить.
— Ага, понимаю. Понимаю. Тут уж трудно будет вам помочь. — Грабо сделал озабоченное лицо. — Видите ли, народ деревенский упрям. О политике он и знать ничего не хочет. Мы, разумеется, сожалеем об этом, однако в какой-то мере оно и понятно. Все они сыты по горло! Да и не напрасно говорят о крестьянах, что они твердолобые. Политика для них всегда остается политикой, и тут уж не имеет значения, хорошая она или плохая. Они хотят, чтобы их оставили в покое. И если вы в деревне намерены чего-нибудь добиться, то вам придется потратить немало усилий, а главное — не спешите. — Ирония на лице юного коллеги несколько смутила Грабо, и он умолк. Однако тут же, фальшиво улыбнувшись, положил свою волосатую руку на плечо Линднера и произнес с наигранным участием: — Итак, необходимо трудиться, коллега, много и упорно трудиться. А вы за две недели хотите перестроить мир. Нет, так нельзя. Честь и хвала вашим намерениям, но нужно время. Уж поверьте мне — дерево необходимо сначала посадить, а потом уж прививать.
— Я думал, коллега, что вы уже посадили дерево, — заметил Линднер. — Вы ведь здесь уже три года работаете.
— Да, это верно, я уже три года, как здесь, — ответил Грабо, жестом пытаясь пояснить, какие огромные разочарования постигли его. — Но что это было за время! К тому же голод, беженцы…
— Ладно, коллега Грабо! — прервал его Линднер. — Я, собственно, хотел с вами о другом поговорить. Ваш Гейнц не хочет быть пионером. Вы не знаете почему? Как на сыне учителя, на нем лежит обязанность быть примером для других.
Грабо вновь изобразил на своем лице сладкую улыбку — он уже две недели назад приготовил ответ на этот вопрос.
— К сожалению, тут я бессилен. Если бы Гейнц сам решился на подобный шаг, я, разумеется, приветствовал бы его. Но заставить его я не могу. Прошу вас, поймите меня правильно: принимая подобное решение, мальчик должен чувствовать всю ответственность этого шага. В данную минуту он еще не готов к этому. Вы сами прекрасно знаете, что ребятам в таком возрасте необходимо, так сказать, перебеситься. Они носятся со всевозможными идеями, порой даже сумасбродными.
Учитель Линднер уже не верил ни единому его слову. В конце концов он проговорил:
— Хорошо, коллега Грабо, я все понял. Более того, я думаю, что я вас очень хорошо понял!
Густые сумерки все же позволили разглядеть ироническую улыбку на лице Линднера. Взглянув на часы, Грабо сказал:
— Вот я уже и опаздываю. — Он подал Линднеру руку, и на лице его появилось какое-то умоляющее выражение. — Видите ли, я страстный игрок в скат, и меня уже давно ждут друзья.
— Да что вы! — удивился Линднер, которому тут же пришла в голову удачная мысль. — А нельзя ли мне присутствовать на вашей встрече, хотя бы как зрителю?
Грабо не сразу нашелся что ответить. И Линднер поспешил добавить:
— Да нет, вы, наверное, играете не с открытыми картами.
Грабо стало страшно.
— Как вы сказали? Я не понял, что вы имеете в виду?
— Да что тут понимать, — ответил Линднер. — Я не игрок. Меня просто интересовало — вы выкладываете карты открытыми на стол или держите их так, чтобы партнеры не могли в них заглядывать.
— Это зависит от игры, — ответил Грабо с некоторым облегчением. — Раскрываешь карты, когда уверен в победе и хочешь это доказать партнерам. Или если карта никуда не годная и приходится сдаваться.
— Жаль, что это только при игре в карты. Хорошо бы и в жизни люди выкладывали свои карты на стол. Особенно, если они никуда не годные, — сказал учитель Линднер, прямо посмотрев Грабо в глаза.
Тот вздрогнул, но тут же овладел собой.
— Вы высказали давно лелеемое мною желание. Однако мне пора, прошу прощения. Быть может, в ближайшее время нам с друзьями представится случай приветствовать вас у себя. Было бы весьма приятно… — Грабо повернулся и зашагал со двора. Движения его казались несколько скованными.
Задумавшись, Линднер долго смотрел ему вслед, затем вернулся к себе и поставил кипятить воду. Уже сидя за столом и просматривая тетради, он все еще никак не мог сосредоточиться.
Кто-то постучал в окно. Нехотя Линднер поднялся и отпер дверь. Перед ним стоял крестьянин Шульце с красным от ярости лицом.
— Нет, Вернер, так у нас дело не пойдет! — Он отстранил учителя и вошел в комнату.
Заперев дверь, Линднер последовал за ним.
— Что случилось? — спросил он, жестом предлагая Шульце сесть.
— Ты еще спрашиваешь! Ну, знаешь ли, тебе бы только шутки шутить! Безобразие! Вот что случилось! Черт знает что такое! И только что эта история с ящуром! — Говоря это, Шульце зло поглядывал на учителя. — Пионеров они избили, до полусмерти избили. Негодяи! Но так и знай, поймаю их — убью, ей-богу, убью!
Глубокое отчаяние охватило учителя Линднера.
— Значит, все-таки… — сказал он и, пристально глядя на Шульце, спросил: — Кто? Кто избил?
— А ты не знаешь, что ли? Берг и его дружки. Убью! Хватит с меня, не могу я больше терпеть! — От волнения Шульце стал бегать по комнате. — Ведь без памяти лежал.
— Кто?
— Мой Гарри, кто еще. Мало им, что они старика допекают, преступники, они и за сына принялись. Не будь я Шульце, если не прихлопну всю эту банду. — И он хлопнул ладонью по столу.
— Да успокойся ты, Отто! — Учитель Линднер пододвинул ему стул. — Нельзя же все валить в одну кучу. Ты же сам не веришь, что ребята замешаны в эту историю с ящуром. А из-за пионеров они еще не преступники.
— Вот как? Не преступники, значит? — Шульце снова вскипел. — Ты взглянул бы на моего Гарри. Шея у него распухла, еле глотает парень. И они, по-твоему, не преступники после этого? — Шульце даже протянул руку, будто требовал от учителя письменного подтверждения.
Линднер поставил перед ним чашку чая и сел напротив. Бледное лицо его было печально.
— Поверь мне, Отто, все это потрясло меня не менее, чем тебя. Может быть, даже более. Но для меня не безразличны и Альберт Берг, и его друзья. Мы не имеем права терять голову. Нет, нет, не имеем права.
Шульце раскурил трубку и, выпуская струйки дыма, говорил:
— Голову терять?.. Чепуха! Я сам наведу порядок. Для этого я и пришел.
Долго учитель смотрел на Шульце. Глаза его как бы говорили: теперь я остался один, один против всей деревни. Даже товарищ Шульце не понимает меня.
— Порядок, значит, хочешь навести, — повторил он. — А каким образом?
— Вздуть их надо, да так, чтоб на всю жизнь запомнили.
— А если и это не поможет? — Учитель Линднер грустно улыбнулся.
— Ха, не поможет! Тогда гнать их из деревни, чтобы духу их тут не было! На это-то у нас сил хватит.
— Никого мы не выгоним, — тихо произнес учитель. — Этого я не допущу!
Вытаращив глаза, Шульце уставился на него. И тоже тихо повторил:
— Не допустишь? Тогда я «допущу»! Понял, Вернер, я! Не для того я при нацистах в тюрьме сидел, чтобы теперь, видишь ли, не имел права навести тут порядок. Нет, не для того! Понял?
— Не для того, значит? — Учитель терял самообладание. Привстав, он оттолкнул стул, на котором сидел, и сказал, покачивая головой: — А для чего я, по-твоему, сидел? Чтобы жить в этой дыре? — И он жестом указал на свою жалкую, прокопченную комнатушку; сорвал тряпку, которой был накрыт диван. Стали видны торчащие во все стороны пружины и стружки. — Ты правда думаешь, что ты один пострадал? Что это какая-то заслуга, что нацисты посадили тебя? А чего ты ожидал? Что тебе предложат трон, когда ты вернешься из тюрьмы? И ты сразу сядешь за накрытый стол? Да откуда посуду взять, когда ты ее сам готов перебить? Ничего-то ты не понял, Отто, если ты так рассуждаешь, можешь мне поверить! — Опершись о стол, Линднер смотрел на Шульце. Немного успокоившись, он снова заговорил, хотя голос его дрожал: — И зачем ты спрашиваешь, за что тебя нацисты в тюрьму сажали? Ты же это не хуже меня знаешь. Это-то ведь и дает нам право помогать таким ребятам, как Берг, это-то и дает нам право воспитывать их. На собственном примере воспитывать. Да, это наш долг! Ибо наше теперь время настало. За него ты боролся, боролся за право помогать людям, а это величайшее из прав!
Грузное тело Шульце обмякло. Он вертел трубку в руках, рассыпая пепел. Волосы свисали на лоб, лицо побледнело. Только рубец у правого глаза оставался красным. Это следователь-нацист его ножницами ткнул, когда он так и не выдал своих товарищей и тем спас им жизнь. Изредка дрожь пробегала по лицу Шульце; он сидел неподвижно. Но вот он снова выпрямился. Было заметно, как трудно ему сейчас.
— Так со мной еще никогда не говорили. Но, может быть, ты и ошибаешься. Может быть. Я этого не знаю. Если я за то, чтобы этих бандитов выгнать из деревни, это же не значит, что я махнул на них рукой. В трудовых приютах, или как они там называются, их ведь тоже воспитывают. И когда они там, нам спокойно.
— А ты сам бы побывал в таком приюте, — возразил учитель. — Тогда бы по-другому заговорил. Ты ведь и представить себе не можешь, сколько сирот, бродяг, бандитов оставила нам война, и все — молодежь. Да столько приютов невозможно и открыть! А справиться нам надо со всеми. Они же наши, они же часть нашего народа! И от этого ты так легко не отделаешься.
— Я и не собираюсь отделываться, — вставил Шульце. — Нет, не собираюсь. Но здесь в деревне их оставлять нельзя. Во всяком случае, Альберта Берга и Другу Торстена. Я вообще понять не могу, что стало с парнем в последние месяцы. Только и знает, что драться и дерзить. Нет, нет, вон их из деревни! А то тут дела куда хуже начнутся. — На лице Шульце снова появилось выражение решимости.
— Жаль, Отто, очень жаль! — проговорил учитель. — Но тогда тебе придется выгнать сначала меня.
— Знаешь, Вернер, ты что-то совсем зарапортовался! — И он взял учителя за руку, желая предотвратить назревавшую ссору. — Я же знаю этих бандитов лучше, чем ты. Я ведь не первый год здесь.
Учитель покачал головой:
— А разобрался в том, что здесь происходит, не лучше меня. Хоть бы раз ты посмотрел, в какой среде они сформировались, как дома живут.
Учитель говорил теперь очень громко.
— Не поинтересовался ведь, а уже определил — «бандиты». Ярлыки ты вешать горазд, а вот подумать о том, почему это так, — не можешь.
— Хватит с меня! — запротестовал Шульце. — А то ты еще меня во всем обвинять начнешь. От тебя чего угодно можно ожидать! Я тебе не ученик, чтобы ты меня тут отчитывал!
— Вот именно, — ответил Линднер. — Конечно, ты тоже виноват в том, что Берг и его друзья стали такими. Ты разрешал, например, своему Гарри играть с ними?.. И все вы так. Из страха, из трусости. Боже упаси! Как бы ваши дети не научились у них чему-нибудь дурному. Да и кем был все это время для вас Альберт Берг? Подонок, не больше! А вам, чистоплюям, и в голову не приходило, что вы сами его таким сделали. Почему вы его изолировали, вместо того чтобы помочь? Или это дело с Другой Торстеном. Дали вы ему возможность стать другим? Мораль читать — это вы умеете!
— Говори, говори! — пробормотал Шульце, но прозвучало это очень серьезно, как будто он уже принял окончательное решение. — Говори, говори!
— Я кончил, — сказал учитель.
Некоторое время оба сидели, опустив голову, не отрывая глаз от пола.
— Ты, стало быть, готов допустить, чтобы пионеров и впредь избивали до полусмерти? — спросил наконец Шульце.
— Знаешь что, Отто, — неожиданно спокойно заговорил учитель Линднер, — звание пионера обязывает. Пионер обязан защищать пионерскую честь. Потому-то…
— Он должен драться с бандитами? — прервал его Шульце. — Это ты хочешь сказать?
— В общем, да.
— Так я и думал. — На лице Шульце появилось что-то похожее на презрение. — Ребят друг на друга натравливать — вот что ты хочешь! У тебя, должно быть, тут вот не все дома.
— Зачем же натравливать? — возразил учитель. — Воспитывать. Можешь быть уверен, я крепко возьмусь за Берга и Торстена. Это не одного дня дело. И если вообще чего-то можно будет добиться, то только так: эти ребята должны научиться уважать тех, кого они считают своими противниками. А силой, властью взрослых тут ничего не добьешься.
Шульце встал и направился к двери. Он уже наслушался вдоволь. Но на пороге он еще раз обернулся и спросил:
— Стало быть, тебе эти бандиты дороже пионеров?
— Нет, не дороже, — ответил учитель. — Не дороже и не важнее. Они все для меня равны. И ни одному из них я не отдаю предпочтения.
— Вон оно как! Тогда и правда нам с тобой больше не о чем говорить. Только еще вот что я тебе скажу: когда ты провалишься со всем этим делом, ко мне не приходи просить помощи! — Выйдя, Шульце громко хлопнул дверью.
Какой-то миг учитель был готов броситься за ним. Но затем он отвернулся от двери и оглядел свою комнату. Он внезапно почувствовал страшную усталость и подумал, что, скорее всего, он не справится со своей задачей. Он усомнился в самом себе. Не надо обманывать себя. Ведь и фрау Граф, бургомистр, да и кое-кто еще, с кем он до сего дня был в хороших товарищеских отношениях, отвернутся, как только что отвернулся Шульце. Да, он остался один…
Поздно вечером учитель Линднер вышел прогуляться. Деревня спала. Лишь изредка где-нибудь тявкала собака. Линднер шагал и шагал, будто хотел убежать от своих забот. За околицей ему стало немного спокойнее. И вдруг на ум пришла мысль, которая заставила его вздохнуть с облегчением: он должен завоевать на свою сторону каждого из ребят Альберта в отдельности! Может быть, так удастся пробить первую брешь! Перебирая, с кого бы начать, он подумал о Руди Бетхере. С некоторых пор Руди стал ходить в школу через два дня на третий, а домашние задания и вовсе не готовил. О причинах он ничего не говорил, однако учитель Линднер все же разузнал, что приемный отец Руди — крестьянин Бетхер — заставляет сына чрезмерно много работать. «Завтра же, — решил учитель, — следует навестить отца Руди. Нельзя допускать, чтобы парня эксплуатировали».
Молочные бидоны прикрыты марлей. Руди выходит с ведром из коровника и выливает молоко в бидон. Чья-то тень ложится рядом. Руди поднимает голову.
— Добрый вечер, Руди! — приветствует его Линднер.
— Здрасте! — буркает Руди в ответ, как бы говоря: вас еще тут недоставало!
— Работаем? — спрашивает учитель.
— Сами видите. — Руди берет ведро, собираясь уйти.
Учитель останавливает его.
— Твой приемный отец дома?
— Бетхер-то?
— Да.
— А чего вам от него надо? — спрашивает Руди и враждебно смотрит на учителя. Губы его так плотно сжаты, что образуют одну тонкую линию.
— Не бойся! — ласково говорит учитель. — Я не собираюсь на тебя жаловаться.
— Ладно, сейчас отведу. Только давайте скорей! — Но Руди все же не доверяет учителю. Перед ригой он внезапно останавливается и требует: — Нет, лучше идите домой!
Учитель кладет руку на плечо Руди и говорит:
— Пойдем. Как-нибудь мы с ним уж справимся.
Но Руди заступает ему дорогу.
— Если вы надумали вмешиваться… — Он делает многозначительную паузу. — Вы все только еще хуже сделаете…
От неожиданности учитель делает шаг назад. Да и что он может сказать? Так-то ученики, значит, думают о нем… Из риги выходит крестьянин Бетхер. Учителю надо собраться с мыслями.
— Знаю, знаю, вы новый учитель! — приветствует его Бетхер и тщательно вытирает руки о куртку.
Это крупный светловолосый мужчина с голубыми водянистыми глазами — ни дать ни взять, истинный ариец. Губы тонкие, выражение лица свидетельствует одновременно о грубой силе и склонности к пресмыкательству. Лет ему около сорока.
— Добрый вечер, — отвечает Линднер. — Должно быть, я некстати?
— Друзья всегда кстати! — Бетхер пытается улыбнуться.
Но учителю эта улыбка почему-то напоминает гнусную улыбку трактирщика, запрашивающего с опьяневшего клиента двойную плату.
Вместе они направляются к дому. Руди за ними…
— Ты не обижайся на меня, Руди, — говорит учитель, — но хорошо бы ты на некоторое время оставил нас одних.
Руди останавливается в нерешительности. Бетхер сразу же набрасывается на него:
— Ты что, не слышишь, когда учитель с тобой говорит?
Прежде чем уйти, Руди бросает на учителя такой взгляд, от которого тому делается страшно.
— Нелегко с ним, — замечает Бетхер. А так как учитель, по-видимому, придерживается другого мнения, спешит добавить: — Но что поделаешь? В этом возрасте все парни артачатся. Слава богу, хоть не лентяй, тут уж ничего не скажешь.
— Что верно — то верно, — вставляет учитель, однако звучит это осуждающе.
— Гм, да… — хмыкает Бетхер. — А хорошее село Бецов! Как вы считаете? По чистой совести говорю: я доволен, что вы приехали. Сразу видно — человек с образованием. Знает, что положено… — При этих словах он выпускает струю дыма прямо в лицо гостю, так что Линднер долго отмахивается от дыма.
— К сожалению, приход мой не только визит вежливости, — говорит учитель Линднер. — Мне необходимо поговорить о Руди.
— Догадываюсь, — отвечает Бетхер, и на лбу его появляется складка, долженствующая изображать озабоченность. — С таким парнем хлопот не оберешься.
— Господин Бетхер, — обращается к нему учитель, — прошу вас проследить за тем, чтобы Руди регулярно посещал школу.
— А разве он пропускает? — возмущается Бетхер. — Вот негодяй! Я-то думаю, он штаны просиживает за учебниками, а он где-то шляется!
— Нет, он нигде не шляется! — возражает учитель. — Он работает, и работает у вас на дворе или в поле.
Бетхер озадачен. Подобной откровенности он никак не ожидал. Но тут же на его лице появляется грязная ухмылка.
— Ах, вон вы о чем! — восклицает он, но звучит это так: «Стоит ли об этом говорить?» — Я-то думал что-нибудь серьезное.
— Это очень серьезно, — настаивает учитель.
— Да, да… — Бетхер явно тянет. — Понимаю, вам как учителю, может быть, и виднее. Да не так уж он, должно быть, плохо учится. Поспевает ведь.
— Пока — да. Но я самым настоятельным образом прошу вас, господин Бетхер, впредь регулярно посылать Руди в школу.
Бетхер встает и подходит к окну. Поглядывая на улицу, он, не оборачиваясь, спрашивает:
— Что ж, он сам вам жаловался или как?
— Нет, нет, я пришел по собственной инициативе!
— Так, так… — Бетхер явно не верит учителю. Снова вернувшись к столу, он говорит: — Раз уж вы такую важность этому придаете, я вас как-нибудь поддержу. Но вы сами подумайте — в хозяйстве ведь все руки нужны. Иной раз иначе и нельзя… Да, так вот. Это я и хотел вам сказать.
— Если бы вы в своем хозяйстве могли обходиться без Руди так же часто, как без вашего Клауса, все было бы в порядке. — Учитель встает.
— С Клаусом дело совсем другое, — спешит его заверить Бетхер. — Он на грудь слаб, беречь приходится. Сами знаете — не убережешь смолоду…
Учителю Линднеру хочется поскорее уйти из этого дома, где все ему кажется фальшивым!
— Хорошо, господин Бетхер, — говорит он, выходя во двор, — ловлю вас на слове относительно Руди. Прошу вас также проследить за тем, чтобы и для домашних занятий у него осталось время.
— Сделаем, сделаем! — отвечает Бетхер, когда учитель уже поворачивается к нему спиной. Ухмылка мгновенно исчезает, остается только выражение злобы.
Покидая двор, учитель Линднер еще раз оборачивается, ища глазами Руди, но так и не находит его. Неприязненное чувство все нарастает. «Нельзя доверять этому Бетхеру», — думает учитель.
Тем временем Руди работал на соломорезке. Вышел приемный отец. Несколько минут он, шумно дыша, глядел на Руди злобно прищуренными глазами, затем схватил его за ворот и подтянул поближе к лампочке. Он приблизил свое лицо вплотную к лицу Руди, сжимая в правой руке бычью плеть. Желваки под кожей заходили ходуном.
— Приемного отца оговорил! — прорычал он. — Ну, погоди, я тебе покажу!..
— Никого я не оговорил! — обозлившись, крикнул Руди.
— Перечить? — заорал Бетхер и ударил Руди плетью по лицу.
Руди, пытаясь увернуться от ударов, пригибался, но в конце концов не выдержал и упал, ударившись головой о пол.
Но Бетхер продолжал его избивать.
Потом, ударив еще несколько раз деревянным башмаком, крикнул:
— Щенок приблудный!.. Дрянь!.. Собачье отродье!.. Голодранец!..
В промежутках между этими выкриками слышались стоны Руди. Даже коровы в соседнем коровнике загремели цепями. Но вот стоны прекратились, слышался уже только хрип. Теряя сознание, Руди думал: «Во всем этот Линднер виноват! Проклятый Линднер!..»
— Хорошо бы, сейчас Руди дома сидел, — сказал Альберт и спрыгнул. — А то этот Бетхер потом скажет, будто Руди тоже участвовал.
— Дома он! — шепнул ему Друга Торстен. — Тихо! Кто-то едет.
— Натягивать?
— Не надо. Другой кто-то…
Мимо Альберта и Други проскользнул сноп света.
— Это старик Флюгер, — тихо сказал Альберт. — Ни у кого такого карбидного фонаря нет.
— Тише! Что разболтался? — шикнул на него Друга.
— А тебе что? Все равно никто не услышит, — ответил Альберт. Он держал в руках конец веревки, перекинутой через ветку. Отсюда она тянулась на другую сторону дороги, где была привязана примерно на высоте одного метра к дереву.
Даже когда дорогу освещали, веревки не было видно — мстители присыпали ее песком. Только когда Альберт натянет веревку и она поднимется, ее можно будет увидеть.
У Други в руке был конец бечевки, которая тянулась по кювету метров на триста в сторону Штрезова — своего рода сигнальная линия. Вдоль нее на некотором расстоянии друг от друга залегли Родика, Калле и Манфред. Как только кто-нибудь приближался, они дергали за веревку. Когда они дернут три раза подряд, Альберт и Друга будут знать: едет избранная ими жертва — кулак Бетхер.
Рядом с Другой лежали еще Длинный и Вальтер, остальные члены Союза мстителей притаились на противоположной стороне дороги.
— Боишься? — спросил Альберт, прищурив один глаз.
— Ничуть, — ответил Друга.
— Да что ты?
— Руди жалко. Жуть как его этот дьявол избил!
— Точно, — согласился Альберт. — Месть — она сладкая! Теперь-то мы покажем Руди, что могут настоящие друзья. Линднер на такое неспособен. Никакого представления не имеет. Вот оно как! — Он выглянул из кювета.
— Не пойму я его что-то… — задумчиво произнес Друга. — Знаешь, после того как мы пионеров избили и Линднер с нами разговаривал, стыдно мне было, здорово стыдно!
— Во-во! — подхватил Длинный. — Хоть бы отчитал нас, что ли! А так… Спрашивает меня перед всем классом: «Скажи-ка, Гюнтер, что бы ты сделал, если бы десять волков напали на пять овец?» Я ему и ответил: перестрелял бы волков. Чего тут спрашивать-то? Десять волков — пять овец. А он на это: «Вот как! Значит, тебе повезло: никого поблизости не было, кто так же думал, как ты, когда вы на пионеров напали, а то и тебя бы пристрелили…» Что ему тут скажешь?.. Ничего не скажешь.
— Прав он был, — заметил Альберт после долгого молчания. — Получается, вроде некрасиво мы поступили. Все разом на этих пескарей навалились. По одному надо, чтобы каждый себе выбрал.
— Во, здорово! — обрадовался Длинный.
Но Альберту не понравилась чересчур уж искренняя радость Длинного. Он нахмурился. Однако времени, чтобы «пропесочить» его, как он это называл, уже не было.
— Едет! — шепнул Друга, внезапно взволновавшись. — Тихо! Теперь тихо! — Бечевка в его руке дернулась три раза подряд.
Ребята еще ниже пригнулись. Только Альберт время от времени выглядывал из кювета. На дороге, быстро приближаясь, плясало пятнышко света. Ребята приготовились к прыжку — враг подходил. Крестьянин Бетхер даже не подозревал, что еще с полудня, когда он уезжал из Бецова, за ним уже внимательно следили. Но даже если бы он и знал это — его ничто бы не спасло. Месть Альберта и его друзей была неминуема: не сегодня, так завтра она настигла бы его. Он же избил, зверски избил Руди, кровного брата мстителей!
Они уже слышали шуршание покрышек по песку, но Альберт все еще не натягивал веревки. Надо было подпустить Бетхера как можно ближе, чтобы он не успел затормозить Альберт потянул веревку на себя и чуть не упал, так сильно его рвануло в сторону. Что-то тяжелое рухнуло на дорогу. Звякнуло железо. С обеих сторон из канав выскочили мстители.
Было темно. Они не очень-то разбирали, кого и куда бьют, и один довольно крепкий удар, предназначенный кулаку Бетхеру, достался Вальтеру. Тот вскрикнул:
— Ой, черт! Да кто же это? Ты, Альберт?
— Заткнись! — рявкнул на него шеф и тут же приказал: — Всем назад!
Ребята бросились в разные стороны прямо через поля. Друга и Альберт, перед тем как отступить, удостоверились, что Бетхер лежит на том же месте, где он упал. Только после этого и они побежали, но нагнать других мстителей им так и не удалось. Не добежав до Бецовских выселок, Друга и Альберт решили передохнуть.
— Вот кретин этот Вальтер! — выпалил Альберт. — Теперь они меня упекут.
— Ничего не упекут! — возразил Друга. — Надо только сказать, что это мы все вместе. Тогда они никого не тронут! — Голос его дрожал.
— Брось! — возмутился Альберт. — Хватит с нас, что один попался. Я-то не проболтаюсь.
— Нет, я так не согласен! — заупрямился Друга. — Пойду и скажу: я тоже участвовал. А потом они и без того знают, кто с тобой всегда вместе.
Долго Друге пришлось ждать ответа. Наконец Альберт щелкнул зажигалкой и осветил его лицо.
— Покажись, покажись! — сказал он и, ткнув Другу в бок, воскликнул: — Черт, Друга! Лучше тебя у меня никого нет! — и сразу замолчал, должно быть, у него щекотало в носу.
В ответ послышалось сопение Други.
— А как же твоя мать? Она же все выведает! — неожиданно спросил Альберт.
Друга ничего не ответил. Альберту даже показалось, что он всхлипнул. Неужели заревел? Альберт напряженно прислушивался, но ничего не разобрал: слышен был только топот их ног и порывистое дыхание.
— Раз уж так все вышло, надо хоть вместе держаться! — сказал на прощание Друга и зашагал прочь.
Альберт еще долго смотрел в темноту. Ему было стыдно.
В самом большом классе Бецовской школы не осталось уже ни одного свободного места. Яблоку некуда было упасть. Сюда снесли стулья и скамейки со всех комнат. Взрослые сидели за ученическими партами и вспоминали свое детство. Над головами висел табачный дым, в классе стоял гул, как над пчелиными ульями. Каждый подсаживался к друзьям и приятелям, желая заручиться поддержкой, как когда-то, когда еще ходил в школу и надеялся: товарищи выручат, подскажут, если что забудешь, отвечая у доски.
В этот вечер все присутствовавшие разделялись на две основные группы: на потребителей и так называемых самоснабженцев. Самоснабженцами назывались крестьяне, которые могли прокормить себя и свою семью продуктами собственного производства — мясом и овощами. Карточки они получали только на сахар. Самоснабженцы не скрывали, что считают себя хозяевами Бецова, и даже дети их хвастались перед теми, кто победнее: «А у нас сегодня пироги пекли, а у вас нет, э-э-э-э!», «А мы колбасу ели, а вы нет, э-э-э-э!»
Разумеется, не все вели себя так. В Бецове было и много малоземельных крестьян, и совсем бедняков, которые жили не лучше переселенцев.
Это и были так называемые потребители. Все, что необходимо для жизни, они покупали в кооперативе. А там полки, как правило, пустовали, и имел ты карточки или нет — уже не играло никакой роли.
Самоснабженцы разместились в классе в зависимости от своего достатка. Само приличие требовало, чтобы малоземельный крестьянин, бравший машины взаймы у своего соседа, соответственно и почитал последнего. Правда, не все крупные хозяева осмеливались вести себя так нагло, как Лолиес. Многие сидели скромно в сторонке и помалкивали: мы, мол, крестьяне, а не крикуны какие-нибудь. И все же и к ним относились слова, как-то сказанные Родикой Друге: «Между ними и нами стена, и ее не срыть. И как бы кулак ни был ласков и вежлив, он богач, а мы бедняки».
Особняком сидели переселенцы. Они составляли низший класс в Бецове, и даже крестьянин, имевший меньше всех земли, поглядывал на них свысока. Особенно болезненно переживали это переселенцы, которым приходилось батрачить у кулаков. Те же, которые устроились на работу в городе, лесничестве, чувствовали себя более уверенно — они были независимы и посмеивались над высокомерием крестьян-хозяев.
Не подчинялся этому распорядку один Шульце. И сейчас он сидел с переселенцами и прекрасно себя при этом чувствовал. Тут же сидел и еще один человек, место которого было, пожалуй, в другом ряду, — крестьянин Рункель. Он забился в самый дальний угол, не разговаривал, а только мрачно глядел вперед.
За учительской кафедрой устроился кто-то из городских. Говорили, что это представитель окружного отдела народного образования. Учитель Грабо тоже был здесь. Не хватало только Линднера. По классу пробежал слушок, будто он струсил и вообще не придет. Беспокойство постепенно нарастало — собрание все не начиналось.
Немного в стороне от других тихо переговаривался с лесничим и Лолиесом учитель Грабо. Речь шла о револьвере, который, как они утверждали, исчез недавно из тайного склада оружия.
— А ты уверен, Норберт, — спрашивал Грабо у лесничего, — что его украл Берг?
— Вроде бы он. Его и Торстена я уже сколько раз замечал — все около лесничества вертятся.
Разговаривали они очень тихо, время от времени поглядывая по сторонам — не подслушивает ли кто.
— А больше ничего не пропало? — спросил Лолиес.
— Нет, ничего. В том-то и дело! — проворчал лесничий, человек крупного телосложения, с орлиным носом и густыми черными бровями.
Лолиес тут же притих, словно готовый в струнку вытянуться перед начальством.
— Непонятно, почему они только один револьвер взяли? — удивлялся учитель Грабо, наморщив лоб.
Лесничий пожал плечами.
— Кто их знает, о чем они при этом думали. Может быть, боялись — как-никак воровство. — На лице его появилось злобное выражение.
— Но что бы там ни было, — подытожил учитель Грабо, — а обоих надо выдворить из Бецова.
— И поскорей! — согласился Лолиес. — Пока они не стали нам опасны.
Грабо не без иронии посмотрел на него.
— Интересно, а ты хоть палец о палец ударишь для этого?
Лесничий засмеялся так громко, что многие посмотрели на него.
Вдруг в классе стало тихо. Вошел учитель Линднер. Он улыбнулся никому и всем сразу и сел за стол, стоявший перед доской. Тока и на этот раз не было. На партах, чадя, горели свечи. При их зыбком свете лицо учителя Линднера казалось мертвенным.
Грабо поднялся, чтобы открыть собрание и приветствовать всех присутствовавших.
— Трагические события, — начал он, — заставили нас собраться здесь. Все вы, должно быть, уже знаете, о чем пойдет речь. Дети, ученики нашей школы, ваши дети, встали на путь преступления. Нам больно в этом признаться, чувства родителей нам близки и понятны. Однако, — и он поднял указательный палец, — это не может заставить нас отказаться от самых решительных действий против столь пагубного влияния бандитов-подростков. Это могло бы привести нас к катастрофе. — Как бы случайно, он повернулся к учителю Линднеру и продолжал: — Поэтому сегодня наша первая обязанность — решить вопрос: имеют ли право эти малолетние гангстеры оставаться и далее в нашей среде. Место их в трудовом приюте, а не здесь, где они угрожают порядочным ученикам.
— Правильно! — крикнул кто-то из группы Лолиеса.
Сразу же там раздались хлопки. Из переселенцев тоже кто-то зааплодировал, однако довольно робко. Пламя свечей заколебалось.
Оратор, снова бросив взгляд на Линднера, сказал:
— Принимаю ваши аплодисменты за одобрение моего предложения.
Снова захлопали. Грабо терпеливо выжидал, покуда не наступит тишина.
— Мой коллега Линднер придерживается иного мнения, — продолжал он. — И я не ошибусь, заявив, что на то у него имеются свои причины.
Он сделал паузу, с явным удовольствием прислушиваясь к возгласам протеста. Он недаром придал своим последним словам двойной смысл — ему необходимо было уверить простаков в том, что слухи, будто бы молодой учитель сам натравил ребят на кулака Бетхера, не лишены оснований. Раздались презрительные выкрики. В конце концов Грабо призвал к тишине и вновь обратился к собранию:
— Прошу вас, дорогие родители, не делать неправильных выводов из моих последних слов. Я, пожалуй, говорил вовсе не о том, о чем сейчас многие из вас подумали…
Не желая вдаваться в подробности, Грабо решил было продолжать свою обвинительную речь против мстителей. Приехавший из округа представитель прервал его.
— Уважаемые жители Бецова, уважаемые родители! — начал он. — Считаю необходимым выступить здесь с некоторыми разъяснениями. Всем вам известно, что господин Бетхер подал на учителя Линднера заявление властям. Заявление это основано лишь на предположении, несостоятельность которого давно уже доказана. Поэтому нам всем следует решительно осуждать слухи такого рода.
— Это верно! — вырвалось у Шульце, который тут же захлопал в ладоши, подав пример другим.
Учитель Линднер поднял голову. Представитель округа, тощий человек с военной выправкой, подался вперед, продолжая свою речь.
— Разрешите мне сказать несколько слов по поводу событий, произошедших здесь по вине некоторых школьников. События эти свидетельствуют о том, что процесс падения некоторых учеников зашел очень далеко и будет чрезвычайно трудно здесь, в деревне, воспитать из них полноценных людей.
В классе послышались возгласы одобрения.
— Однако, с другой стороны, следует учесть, что трудовые колонии для подростков переполнены, — продолжал он. — Поэтому я считаю необходимым предпринять попытку хотя бы часть подростков воспитать здесь, в вашем сельском коллективе. Подобная попытка будет иметь успех, если мы передадим двух-трех зачинщиков в заведение для трудновоспитуемых детей.
На одной из последних парт кто-то всхлипнул — это была мать Други Торстена. Неподалеку от нее сидел отец Альберта. Этот очень маленький, сморщенный человечек, похожий на карлика, еще ниже опустил голову.
Представитель округа сел. Его удивило, что Линднер как-то странно, будто с сожалением посмотрел на него. «Может быть, я что-то неверно сказал? — подумал он. — Вряд ли! Какой же учитель захочет оставить у себя в классе таких ребят, как Альберт Берг и Друга Торстен. Но все-таки надо было бы выкроить время для предварительной беседы с Линднером. А я приехал в Бецов перед самым началом собрания. Колесишь на велосипеде изо дня в день по приютам и школам из одной деревни в другую и в дождь, и в жару… Но к чему эти рассуждения? Кому сейчас легко в эти трудные времена? Ведь речь идет о будущем детей! Нет, уж я подыщу им местечко в каком-нибудь приюте!»
Слова попросил Лолиес.
— Господин педагогический советник, — начал он, — высказал здесь то, что у нас у всех на душе… — быстро оглядев весь класс, он поспешил поправиться, — или у большинства из нас. Но я попросил бы господина ученого советника высказать свое мнение еще кое о чем. Я хочу предупредить, что ни против кого в деревне ничего не имею. Я только вот о чем думаю: если мы оставим здесь этих хулиганов-уголовников, справится ли молодой учитель с ними, сумеет ли он их воспитать? Он, к примеру, вон ведь какую штуку выкинул: потому как хулиганы-уголовники напали на юнгфольковцев[4]…э-э-э… я хотел сказать — пионеров, он велел пионерам драться с уголовниками, ежели на них опять нападут. Но кто натравливает детей друг на друга, тот воспитывает преступников. И мы, родители, должны решительно протестовать против такого воспитания.
Лолиес несколько неожиданно окончил свою речь, казалось, у него внезапно иссяк запас слов. В страхе он посмотрел на лесничего, подумав, уж не сморозил ли он чего лишнего. Однако, кроме обычного презрения к себе, он ничего не прочел на лице лесничего.
После Лолиеса выступило еще несколько человек. Они тоже осудили Линднера. Учителю Линднеру казалось, что он сидит в зале суда и слушает обвинительные речи.
Теперь все повернулись к человеку лет тридцати пяти, только что поднявшемуся со своего места. Выражение его лица было такое лукавое, что никто не заподозрил бы в нем пастора. Но большинство родителей уже знало его по воскресной проповеди. Пастор представился. Его звали Меллер.
— Я пришел на это собрание, — начал он, — как гость. Возможно, это и мой долг, — ведь те юноши, о которых здесь говорили, ходят ко мне на уроки закона божьего. — Он сделал небольшую паузу. — В святом писании мы читаем: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». При этом мы не должны делать никаких различий. Подумаем же все вместе. А вдруг наш учитель Линднер видит свою задачу, долг учительский свой, в этом? Я убежден, что он знал: решение его ударит по нему же. Как выяснилось, он рисковал своим служебным положением. Но кто думает только о себе, тот не способен так поступать. Спросим же, каковы причины, побудившие его? А вдруг он призвал своих пионеров оказать отпор потому, что верил в доброе начало юношей, ступивших на дурной путь? Если пионеры позволят себя избивать, то этим они сослужат дурную службу своему делу. Над ними будут только смеяться, их будут презирать. Конечно же, нехорошо, когда дети дерутся. Однако ничто не дается нам даром, за все надо бороться, и прежде всего за нас самих. И тут уж себя самого не приходится жалеть. Учитель Линднер понял это. Он подал нам великолепный пример. — Пастор глубоко поклонился молодому учителю и сел.
Все молчали, растерявшись. Кое-кто, глядя на пастора, покачивал головой. Учитель Линднер тоже был удивлен: как же так — в его защиту выступил священник…
Представитель округа только диву давался. Наклонившись к Линднеру, он с ободряющей улыбкой сказал:
— Быть может, теперь коллега Линднер сообщит нам свое мнение об этих инцидентах?
Словно желая привести свои мысли в порядок, учитель Линднер провел рукой по лбу и встал. Он снял очки и, беспомощно моргая, протер стекла рукавом. В дешевом мятом костюме из искусственной шерсти, с еще более усталым лицом, чем обычно, он походил сейчас на грустного подростка. На лицах, белевших перед ним, он видел выражение жалости или иронии. Выпрямившись, он снова надел очки и, опираясь одной рукой о стол, заговорил. В голосе его звучала одновременно и страстность, и торжественность, а это невольно заставляло прислушиваться.
— Все мы появляемся на свет в чем мать родила. И никто не может сказать, какую мы будем играть в жизни роль, хорошую или плохую. Это определит среда, окружение, в котором мы растем и которое нас воспитывает. Только доброта, хороший пример, любовь способны воспитать из нас хороших людей. Ну, а как быть, если с малолетства мы живем в нужде, если с малых лет мы страдаем от несправедливости и презрения? Тогда мы не можем вырасти добрыми и хорошими, мы должны сперва узнать, что такое хорошо.
В уголках его губ появилась какая-то горестная складка, порой он чуть улыбался, как бы желая примирить с собой слушателей.
— И мы судим людей, — продолжал он, — которые всю жизнь лишены самого необходимого, лишены из-за нас. Мы ломаем себе головы над тем, как нам защититься от этих, — понизив голос, он произнес: — бандитов. Нет, нет, я вовсе не оправдываю этих ребят! Однако нам следовало бы задаться вопросом, почему они встали на путь преступления? — Теперь его голос обвинял, и многие присутствовавшие отводили глаза. — Кто из нас хоть бы палец о палец ударил, чтобы уменьшить нужду, в которой росли эти дети? Кто помог им хоть раз? И мы, мы хотим судить их? А не следовало ли нам подумать над тем, что эти молодые люди и по нашей вине стали такими, какие они сейчас. Из-за нашей лени, из-за наших ошибок — больших ошибок!
Если хотите, я могу вам доказать, каким образом война стала первопричиной несчастья и нужды этих ребят. Та самая война, в которой все мы виновны! — Учитель Линднер подался вперед, напряженно ожидая возражений, однако никто ему не возражал. — Но собственную вину мы не любим признавать, а ребят виним. Это, видите ли, освобождает нас от обязанности самим спешить на помощь. Разумеется, куда легче ругать других, чем презирать самого себя! И не от этих детей мы должны защищаться, а от нас самих, от нашей лени, от наших привычек. Здесь были произнесены страшные слова: «преступление», «бандиты». Но какие же это преступники? Они напали на взрослого человека, избили, да так, что его пришлось отправить в больницу. Ну, а почему они это сделали? Скажу вам со всей откровенностью: да потому, что этот человек превратил жизнь одного из этих юношей в сплошной ад, потому что он избивал его кулаками и ногами, где и когда только мог. И это мы называем его правом! А когда дети встали на защиту, мы кричим: «Преступники!» Чего же ребята добивались? Боль, страдания приемного отца должны были утешить их измученного побоями товарища. Надежды на то, что жизнь его станет легче, не было никакой. Ради того чтобы утешить товарища, они совершили преступление. Я готов плакать при одной мысли об этом! И все же я утверждаю, что у этих ребят есть доброе начало. Быть может, даже именно оно и заставило их совершить этот поступок…
Послышался неодобрительный гул. Учитель Линднер, должно быть, попал в точку. Теперь ничто не могло его сбить.
— Поступок этих ребят свидетельствует об их остром чувстве справедливости. В нем сказалось желание проявить свою самостоятельность в той среде, в которой, как они полагают, у них нет никаких прав. Сами взрослые показали им, что сила выше права. Вот они такие и выросли. Откуда же этим ребятам знать, что такое высокая нравственность, этика, в чем смысл жизни, честь, справедливость, если мы сами иногда, даже в нынешнее время, попираем эти понятия? Мы любим возмущаться дурными нравами нынешней молодежи и охотно говорим о том, что сами-то мы были совсем другими — какое это неудачное сопоставление! Игрушками этих детей, если вообще выпадало на их долю играть, были ржавые винтовки и пробитые пулями стальные каски. До сегодняшнего дня у них был только один путеводитель, и имя ему — нужда! Мы-то могли вырасти другими. Нас в этом возрасте никто не бросал в самую гущу жизни. И поэтому они вовсе не хуже нас. Они же мечтают, мечтают — порой не сознавая этого — стать такими же, как все! Я верю в этих ребят и убежден, что с нашей помощью им удастся вновь выйти на правильный путь…
Кое-кто из кулаков нарочито шумно зевал, должно быть не придумав ничего более умного, а Грабо даже порывался прервать выступление своего коллеги. Однако представитель округа всякий раз мягко осаживал его. Зато многие переселенцы очень внимательно слушали Линднера. Сначала их поразила смелость и глубина мысли молодого учителя, а затем у них возникло и чувство симпатии к нему. Должно быть, его вызвала та страстность, с которой боролся Линднер, почти не имея поддержки.
Теперь учитель Линднер заговорил о том, почему он потребовал от пионеров, чтобы они защищались, пуская в случае необходимости в ход и кулаки.
— Пионер, — сказал он, — это мостостроитель. И речь теперь идет о строительстве моста в новые, лучшие времена. Пионеру не к лицу отступать перед трудностями. Даже если поначалу и покажется, что они непреодолимы. Только в борьбе с трудностями пионер сам сможет обрести силу. Пионерский галстук и членская книжка — это еще далеко не все. Мы все и каждый пионер, — продолжал он, — должны помнить о тысячах и тысячах детей, погибших в газовых камерах, умерших от голода, заваленных во время бомбежек. Ведь и эти дети никогда не теряли надежды на счастливый, радостный смех. И да исполнится ныне эта надежда для всех детей! Никто не имеет права отказывать им в этом. А если все же кто-нибудь попытается — пусть пеняет на себя, когда они по-своему дадут ему отпор.
Затем он обратился к пастору Меллеру. Да, он, Линднер, действительно хотел, чтобы пионеры добились уважения к себе. Разумеется, было бы гораздо проще отправить Альберта Берга в трудовую колонию. Но ведь речь не о том, чтобы иметь в селе как можно больше пионеров, а о том, чтобы помочь как можно большему числу детей. И тут он должен признать, что Альберт Берг и Друга Торстен ему так же дороги, как любой из пионеров.
В эту минуту зажегся свет. И учитель Линднер увидел, что только несколько крупных хозяев смотрели на него с открытой враждебностью: лесничий демонстративно чистил ногти, давая понять, как ему скучно; на остальных лицах он заметил интерес и доброжелательность. В том числе и на лице Шульце — неужели он не ошибся! — даже Шульце радостно кивал ему! А фрау Граф, бургомистр, улыбалась. Это придало ему мужества, и он сказал:
— Мы же хотим воспитать революционеров, людей, которые всегда будут говорить то, что думают, ни перед кем не склонят своей головы, помыслы и действия которых чисты и благородны. Дело идет о достоинстве человека, и мы не имеем права попирать это достоинство ногами. Иначе мы воспитаем рабов. Все это вместе и заставляет меня сказать: я не допущу, чтобы Друга Торстен и Альберт Берг попали в колонию. Во всяком случае, пока я здесь учитель, они останутся в Бецове.
Все почувствовали: это был вызов. И господина Грабо уже никакая сила не могла удержать на месте.
— Тем самым вы отрицаете прогрессивный характер наших трудовых колоний для юношества! — набросился он на Линднера. — Не понимаю, почему там воспитывают рабов!
Учитель Линднер улыбнулся.
— Нет, коллега Грабо! — сказал он. — Нет, там не воспитывают рабов. И тем не менее я против колонии в данном случае. Ведь подобные заведения и организации должны служить нашему общему делу, а не нашей лени. Характер наших тюрем тоже иной, чем прежде, и все же мы далеко не всякого, кто совершил какой-нибудь проступок, заключаем в тюрьму.
Мы прибегаем и к денежным штрафам, назначаем испытательный срок, налагаем и другие наказания. Бывают ведь случаи, когда и судья высказывается против тюремного заключения подсудимого.
Многие родители ехидно улыбались, а Грабо посинел от злости. Чтобы выступить снова, у него уже не хватило духу.
— Разумеется, я не сравниваю трудовую колонию с тюрьмой, — продолжал учитель Линднер. — И все же отправка в колонию не отличие! Это интернат для трудновоспитуемых детей, для беспризорных правонарушителей. И если мы отправим наших учеников туда, они воспримут это как вопиющую несправедливость. Они же не видят в своих поступках ничего преступного, для них это борьба за справедливость, вполне оправданная форма самоутверждения. Более того, я думаю, что эти ребята убеждены в своей правоте и в несправедливости окружающего их мира. И как мне это ни горько, я не в силах доказать им обратное.
Грабо взорвался:
— Надеюсь, вы сознаете, что своими словами наносите оскорбление всем присутствующим.
Он весь пылал от гнева. Ему стоило огромного труда сдерживать себя и не высказывать свои истинные мысли. Его реплика была попыткой настроить родителей против молодого учителя — последней попыткой. Роль его была чересчур уж жалка, и ему ничего не удалось добиться, кроме демонстративных выкриков нескольких крупных хозяев. При этом они пониже опускали голову, чтобы собравшиеся не видели, кто это кричит и ругает молодого учителя.
— А мне кажется, ваше возмущение неуместно, — послышался женский голос. Это была фрау Граф. — Если вы хотите, господин Грабо, я как бургомистр охотно познакомлю вас с тем, как живут эти ребята, каково их окружение, и прямо здесь, на собрании. — Заметив, что лицо Грабо еще больше исказилось от гнева, она, улыбаясь, добавила: — Но, может быть, и не стоит напоминать об этом. Всем нам известно, как обстоят дела у нас, в Бецове.
Родители закивали одобрительно, кое-кто поддержал учителя репликами и прежде всего пастор, хотя на самом деле он еще плохо представлял себе положение дел в Бецове.
И вдруг случилось нечто неожиданное. С последней парты встал человек и вышел вперед. Это был вечно со всеми ссорившийся новосел Рункель, от которого редко когда можно было слово услышать, а если он и произносил что-нибудь, то обычно ругательства. Сейчас он своей огромной лапищей схватил руку учителя и сжал ее.
— Спасибо тебе! — хрипло пробасил он, мотнув головой. Повернувшись к родителям, Рункель мрачно посмотрел на них.
Ярко-рыжие волосы, казалось, окрашивали и лицо, словно покрытое ржавчиной. Да и голос его казался каким-то ржавым, когда он, подняв кулак, скорее прорычал, чем сказал: — Назавтра же пошлю своих ребят в революцию!.. К пионерам!..
Он замолчал и, рывками поворачивая голову, оглядел присутствовавших, будто готов был кулаками сокрушить всех несогласных.
— Но ежели они позволят, чтобы у них галстуки отнимали, голову оторву! — Лицо его пылало и вздрагивало, как будто на нем полыхали зарницы. — Когда я еще у себя на родине молодым пареньком пошел на конфирмацию, то до церкви босиком бежал, только на пороге ботинки надел — такая это была для меня роскошь. Гадом всякого обзову, кто теперь против пионеров и против таких людей, как наш учитель, пойдет! — Он показал на учителя Линднера. — Сердцем молодеешь, когда слышишь, как он говорит! — Еще раз погрозив кому-то кулаком, он вернулся на свое место.
Представитель округа вновь попросил слова, и всем показалось, что он стал моложе на несколько лет: такая в нем была теперь уверенность, и вообще он был похож на человека, который только что одержал важную победу.
— Не нахожу слов, чтобы выразить свою радость! — начал он. — Здесь на вашем собрании я обрел новые силы. Как бы ужасно ни было пережитое нами в прошлом, здесь у вас я увидел людей, которые шагают вперед и увлекают за собой других. Тот, кто так верит в людей, как наш товарищ Линднер, — тот должен победить! Признаюсь, когда он говорил, я казался себе похожим на человека, который сунулся в воду, не зная броду. По правде говоря, мне стало стыдно. Нет, я отнюдь не считаю необходимым удалять кого-нибудь из детей. Там, где работают и живут такие замечательные люди, как здесь у вас, — там сумеют помочь этим ребятам. Дорогие родители и коллеги, у нас в округе и выше я готов заявить: головой отвечаю за этот эксперимент!..
Учитель Линднер глубоко вздохнул. Да, здесь он обрел мужество, а вместе с ним и новые силы для борьбы.
Итак, было решено: Альберт и Друга остаются в Бецове. Тут уж наскоки Грабо ничего не могли изменить. Собрание кончилось. Все разошлись. По дороге домой лесничий и несколько крупных хозяев вели недобрые речи. Однако родители многих учеников шагали по ночным деревенским улицам, глубоко задумавшись…
«Что-то случилось с моим заместителем», — решил Альберт.
И правда, в последние дни Друга все время молчал, редко когда от него слово услышишь, а лицо такое, как будто уже неделю не переставая лил дождь.
— Что это с тобой? Заболел? — спросил Альберт на перемене.
— Не вынесу я этого!
— Чего?
— Как мать на меня смотрит. И не говорит ничего. Словно боится. И я знаю почему… А когда я ухожу из дому, она вот такие глаза делает! Да и люди на улицах — пройти нельзя, пальцем в тебя тычут.
— Вон оно что! — пробормотал Альберт. Признание Други нанесло ему страшный удар. Альберт решил, что Друга раскаивается в их дружбе, хочет порвать с ним. — Что ж, — произнес он наконец, — сам знаешь, что тебе надо! — Он насильно заставлял себя говорить зло. — Но помни, я тоже цацкаться не стану. Пока наш Союз не распался, мы с каждым предателем расправимся, как обещано. С тобой тоже!
— Ты что, спятил? — Друга грустно улыбнулся. — Кто это тебе сказал, что я против нашего Союза?
На лбу Альберта появилась вертикальная складка, а черные кустики справа и слева от нее, казалось, сгустились.
— О чем же ты тогда говоришь?
— О чем? Уйти бы отсюда куда-нибудь! Почему они нас в колонию не отправили? Все теперь только и смотрят на тебя, будто ты чума какая! Этому добренькому, хорошему учителю Линднеру мы, видите ли, палки в колеса ставим. Проклятый Линднер! Убил бы!
— Нет, это нельзя! — очень серьезно проговорил Альберт. — Да разве ты мог бы?
— Я не убийца!
— Ну и я нет.
— Да я так, просто сказал.
Оба замолчали.
— А ты прав, — согласился в конце концов Альберт. — Я тоже сыт по горло этим Бецовом. Но до того, как они нас отправят в колонию, надо бы этому Линднеру какую-нибудь штуку подстроить, чтобы покрепче запомнил. Теперь меня никто не убедит, будто он на собрании так просто, без задней мысли говорил: наверняка надеется премию заработать, если мы, дураки, тут останемся и ему на удочку попадемся. — Альберт с презрением посмотрел на гонявших в салки учеников. Он испытывал чувство огромного превосходства над ними — он же был героем, который с высоко поднятой головой шел на казнь.
— А я стихотворение написал! — тихо признался Друга и покраснел.
— Да что ты? — Альберт иронически взглянул на него. — Недаром, значит, ты у нас давно в сочинителях ходишь. Какое же?
— Про Линднера.
— Покажи! — сразу заинтересовался Альберт, метнув на Другу быстрый взгляд.
Друга достал из кармана скомканный листок и подал Альберту. Скривив лицо, тот вернул листок Друге.
— Да тут сам черт не разберет. Читай сам.
Устроившись у забора подальше от остальных ребят, Друга хотя и тихо, но все же с пафосом прочитал:
ДОЛОЙ ЛИНДНЕРА!
Как-то в месяце мае, вечерней порою, Стал Вернер Линднер корчить героя: Он (эта ворона в павлиньих перьях!) Втирался к родителям нашим в доверье; Притворялся, уж будто он вот как хорош! Только нас на мякине не проведешь. Мы прямо скажем Линднеру: «Брысь! Катись, мы характерами не сошлись!» Он здесь вроде временного постояльца И намерен нас обвести вокруг пальца, Чтобы чохом нас в «синие» записали, А потом мы локти себе кусали. Ему главное дело — взять нас на пушку. Кто поверит ему — угодит в ловушку.— Погоди-ка. А в кого это ты метишь, с синими-то? — прервал Альберт Другу. На лице его при этом было написано глубокое удовлетворение.
— В пионеров, конечно. У них же синие галстуки, — пояснил Друга, несколько недовольный тем, что его прервали.
— Здорово у тебя получается, — произнес Альберт. — Шпарь дальше!
…Кто поверит ему — угодит в ловушку. Но хоть у героя ума палата, Слабо ему нас одолеть, ребята! Жаль, в Бецове скоро от скуки взвоем; Уж лучше в колонию под конвоем! Коллега Линднер нас сжил со свету, С тех пор как он здесь — нам жизни нету. Прогнать бы в шею педагога, Адью — и скатертью дорога![5]Оба они еще некоторое время прислушивались к отзвучавшим словам. Наконец Альберт воскликнул:
— А лихо мы это с тобой состряпали!
— Почему это «мы»? — Друга явно был не согласен с таким толкованием своих авторских прав.
— А потому, что на стол учителю его положу я, — объяснил Альберт. — И переписать надо. Твою лапу он не разберет. Эх ты, сочинитель!
— Не надо меня так называть!
— Как?
— Ну… сочинителем.
— Да я все забываю, сочинитель, — сказал Альберт. — А переписать мне все равно придется.
— Ты что, правда хочешь?.. — Друга испытывал некоторую неловкость.
— А ты как думал? Искусство — оружие! Это я где-то читал.
— А вдруг узнают, кто написал?
Альберт равнодушно пожал плечами.
— Ну и что?
— Тоже правильно, — согласился Друга.
Раздался звонок. Придя в класс, Альберт сразу же принялся переписывать стихотворение. Порой, когда он не мог разобрать каракули Други, он совал ему листок под нос, прося объяснить.
На следующей же перемене Альберт положил листок учителю на кафедру.
Линднер вошел, сел, сказал что-то ученикам, но вдруг запнулся и взял листок со стихотворением. Прочитав, должно быть, только первые несколько строк, он снял очки, протер их о рукав, как всегда делал, когда не знал, что сказать, или принимал какое-нибудь решение. Затем он улыбнулся всему классу. Однако Друга заметил горькую складку в углу рта и на миг пожалел, что они подложили учителю стихотворение. Но тут же ему пришло на ум, что он ненавидит учителя, и он заставил себя злорадно ухмыльнуться.
— Возьмите учебники, — сказал учитель, — и прочтите последний абзац на двести шестнадцатой странице. Мы потом поговорим о том, что там написано.
«Время хочет выиграть, — догадался Друга, — чтобы стихотворение до конца прочитать». Альберт посмотрел на него понимающе, и оба ухмыльнулись. Неожиданно подняв голову, учитель заметил это. Но ничего не сказал, а стал читать дальше. Время тянулось страшно медленно, и Друге показалось, что учитель хочет выучить стихотворение наизусть. В конце концов, Линднер сложил листок и сунул его в боковой карман пиджака.
— Прочитал? — спросил он Другу Торстена.
За Другу ответили сразу многие голоса:
— Да.
— Хорошо, — сказал учитель. — А теперь, Друга, расскажи нам, почему во Франции четырнадцатое июля отмечают как национальный праздник.
Друга встал. Он так и не успел прочитать заданного и сразу начал запинаться.
— Потому что… Четырнадцатое июля… Во Франции отмечают четырнадцатое июля как национальный праздник… Четырнадцатое июля во Франции никто не работает потому…
— Нет, лучше пускай кто-нибудь другой расскажет! — спокойно сказал учитель. — Ты, вероятно, не успел до конца прочитать.
— Да, да, — согласился Друга и сел.
Теперь он был убежден, что учитель угадал в нем автора стихотворения, и ему стало не по себе. И не то чтоб он вдруг испугался. Нет, у него возникло чувство какой-то неуверенности — он же не знал, на что учитель решится.
Шел уже последний урок, а Линднер еще ни словом не обмолвился о стихотворении. Наконец он распустил учеников по домам, и Друга вздохнул с облегчением. Но тут же услышал:
— Друга Торстен, будь добр, подожди уходить.
— Мне остаться? — шепотом спросил Альберт, заметивший испуг товарища.
Друга покачал головой.
— Что ты! — Он попытался даже улыбнуться.
Учитель Линднер взял стул и поставил его рядом со своим — для Други.
— Садись, — предложил он.
Но Друга не садился.
— Это ты написал? — спросил учитель довольно приветливо и показал на переписанное стихотворение.
— Ну и что? — грубо ответил Друга, глядя полными ненависти глазами на Линднера.
Учитель сделал вид, что ничего не заметил.
— Хорошо, что ты пишешь стихи, — сказал он. — Только знаешь, я ведь тоже немного пишу. — Он улыбнулся.
Почувствовав, что у него колени сделались как ватные, Друга опустился на стул рядом с учителем.
— Но видишь ли, — продолжал учитель все так же приветливо, — когда пишешь стихи, необходимо соблюдать определенные правила. Настоящее стихотворение — оно как бы похоже на дерево. — Он развел руки, словно ветви. — У него есть корни, ствол, крона. И если ты попытаешься выкинуть из него хоть бы строчку или слово — оно рухнет. И добавить ничего нельзя — оно должно быть цельным и законченным. Но вот о твоем стихотворении этого, пожалуй, сказать нельзя… — Он ласково улыбнулся Друге. — К нему можно добавить еще десять строк, можно десять и вычеркнуть — от этого ничего не изменится.
Учитель еще говорил о том, что стихотворение должно образно рассказывать о чем-то, однако Друга уже ничего не слышал. На его лице отразился ужас, в голове все перемешалось. «Зачем он это делает? — думает он. — Я ненавижу его. Почему он не ругает меня? Почему не кричит? Я же должен ненавидеть его. Нет, я не вынесу этого, если он сейчас же не закричит! Хоть бы он ударил меня! Да, пусть он ударит меня — тогда я смогу защищаться».
Но учитель Линднер не ударил Другу Торстена. Должно быть, он вообще с ребятами умел быть только добрым. Он подошел к доске, написал на ней все стихотворение и стал говорить что-то о рифмах, повисших в воздухе, подробно объяснил, почему этого нельзя допускать…
Друга так сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Он прикусил нижнюю губу и дышал часто-часто, словно после схватки на ринге. Нет, больше он не в состоянии здесь сидеть, он вскакивает — еще секунда, и дверь захлопывается за ним.
В коридоре его ждет Альберт, Родика и другие члены Тайного Союза. Друга стоит перед ними с искаженным, бледным лицом. Альберт, готовый тут же ринуться в бой и отомстить, спрашивает:
— Всыпал он тебе?
Словно вернувшись из другого мира, Друга переспрашивает:
— Ты о чем?
— Ну, всыпал он тебе?
— Оставь меня в покое! — выкрикивает Друга и бросается бежать.
— Хи-хи! — хихикает ему вслед Длинный и стучит пальцем по виску. — Свихнулся!
Глава пятая АРЕСТ
Ночью все кошки серы. За это Вальтер и любил ночь. Правда, если откинуть месяц и прочую мишуру, которой в это время все небо захламлено. Ему все равно, ведь он звезд с неба не хватал! Зато охотно забирался в чужие коптильни и там уж хватал что ни попало. А для этого лучше, чтоб на небе не было всего этого мишурного блеска. Грязные тучи куда спокойней. Но правда, лазить надо осторожно, а то ведь можно и шею сломать. Это-то Вальтер понимает: тише едешь — дальше будешь. Вот мы и на сарай уже влезли. Теперь можно отдышаться, повертеть головой, оглядеться. Ничего подозрительного, все тихо. Дождь моросит по-прежнему, дворовый пес забился в конуру, должно быть спит. Значит, можно дальше двигать!
Шаг за шагом по толевой крыше Вальтер подбирается к жилому дому. А дом-то приуныл под дождем, как промокший солдат на посту. Вот наконец и фронтон! Еще два шага влево, — и Вальтер нащупывает черепицу. «Спокойствие, прежде всего спокойствие!» — говорит он себе и еще раз оглядывает все вокруг своими жабьими глазами. Тихо. Теперь он уже всерьез берется за черепицу. Тащит, тянет, давит, качает — не торопясь, конечно, осмотрительно. Наконец одна из черепиц поддается, что-то трещит. Но в собачьей конуре по-прежнему тихо. Вальтер кладет первую черепицу на крышу сарая. Потом еще одну, и еще… Так время идет. Много-много времени проходит. Дождь усиливается. Вот теперь можно и попробовать. Решетка больно частая. Вальтер ложится на скользкую от дождя крышу и просовывает ноги между планками. Не треснули бы! Черт!.. Живот ободрал. Но он спускается все ниже и ниже. А одна планка все-таки треснула.
Вальтер затаил дыхание, а потом протиснулся до конца и опустился на чердак. Так, прибыли, значит. Самое трудное позади. Вальтер ощупью двинулся по чердаку, зажег лучину, прихваченную с собой. Впереди белела стена заветной коптильни. Он осмотрел замок, и на лице его появилась презрительная ухмылка. Секунду он порылся в кармане и достал связку отмычек. Уже при второй попытке замок, сухо звякнув, открылся. Чуть скрипнула дверь. Вальтер вытянул шею, как будто так лучше было слышно… Порядок!
Переступив порог коптильни, он с наслаждением вдохнул аппетитный запах. Затем начал осмотр каждого куска сала, каждого кружка колбасы. Вот он воткнул лучину в жирный окорок, чтобы освободить себе руки, и принялся снимать трофеи со стальных крюков. Кружок за кружком сначала исчезла колбаса, затем куски сала, ветчины — в его брюках, предусмотрительно завязанных у лодыжек. Так, теперь, пожалуй, и довольно. Вальтер прислонился к косяку и с наслаждением откусил кусок толстой колбасы, которую как раз держал в руках. Он не любил сказок, они чересчур утруждали его воображение, но страна молочных рек с кисельными берегами рисовалась ему примерно такой, как эта коптильня на чердаке.
Пора. Надо спускаться вниз. Вальтер взял лучину, запер за собой дверь, сориентировался и затоптал лучину. Неожиданно он вздрогнул. Ему почудилось, что внизу скрипнула дверь. Напрягая слух, он застыл. Тишина гудела в ушах. Смелей! Он ухватился за планки и, напрягая все силы, подтянулся. Черт!.. Опять ободрал себе лицо, руки, живот! Осторожно, чтобы не производить лишнего шума, он соскользнул на крышу сарая. Дождь приятно остудил разгоряченное лицо. Вальтер опять вздрогнул.
— Стой, ни с места! — раздался окрик со двора. Голос кулака Лолиеса, хозяина дома. Должно быть, снизу он приметил силуэт Вальтера, но пока еще он стоит на месте и лишь кричит: — Убивают! Караул! На помощь! — Тут и собака, осознав наконец свой долг перед кормильцем, гавкнула.
Преодолев оцепенение, Вальтер плашмя хлопнулся на крышу сарая, ползком добрался до желоба, ощупал край фронтона. Вот и громоотвод! Вальтер повис на нем и услышал, как всего в нескольких метрах от него что-то загремело у ворот. От волнения Лолиес, должно быть, никак не мог отодвинуть засов и скинуть цепь. Медленно Вальтер соскользнул вниз и вдруг ощутил резкую боль в руке — это он о крюк разодрал себе ладонь. Еще секунда — и он летит вниз с четырехметровой высоты. Ему удается более или менее мягко приземлиться, он тут же вскакивает и бросается к своим деревянным башмакам, подхватывает их и, прошмыгнув в одних носках в ворота, несется по улице. За ним метрах в двенадцати, тоже в одних носках, мчится хозяин. Задыхаясь, он кричит:
— Стой! Стой! На помощь!..
Трофеи, запихнутые в брюки, мешают Вальтеру бежать, однако страх заставляет его увеличить разрыв между собой и преследователем. В конце концов Лолиес так отстает, что прекращает погоню, правда все еще взывая о помощи. Наконец она к нему и приходит. Где-то далеко позади Вальтера слышатся чужие голоса. Но ржаное поле уже рядом. Спасся!
Вальтер нырнул в высокую рожь, спотыкаясь, разгребая руками стебли, пробрался вперед, бросился наземь, пополз по-пластунски до самой середины поля и так остался лежать там в изнеможении. Вдали постепенно затихают крики преследователей. Пусть теперь идут. Узнать-то они его все равно не узнали!
Подняв голову, Вальтер смотрит на небо. Интересно, есть там кто-нибудь? Бог? Может быть, и есть, да сейчас дождь, небось спрятался. Вальтер пожимает плечами. На бога рассчитывать нечего. Когда он нужен, его никогда нет.
Сырость и холод пронизывают его насквозь; с колосьев тоже капает. Вальтер вытер лицо. Ладонь липкая. Ах да, это он о громоотвод руку ободрал. Он лизнул и сплюнул кровь с песком. Потом с удовлетворением ощупал трофеи. Вот братишка и сестренки обрадуются! Улыбка озарила некрасивое лицо Вальтера. Завизжат, как увидят. Мысленно он уже слышал их смех, всех четверых. Малыши его больше матери любят, и правда, она дома редко бывает, все в больнице. Приходится всю детвору самому кормить. А попробуй-ка заткни столько ртов!.. Они ведь переселенцы, и маленькой пенсии матери разве хватит! Времена тяжелые. Поэтому он, Вальтер, и крадет. Но до сегодняшнего случая все сходило гладко. Иной раз он даже гордился своими «подвигами». А боится он только Альберта и мстителей. Узнают — сразу выгонят. Шеф не терпит никаких дел в одиночку. Он даже как-то предложил, чтобы Тайный Союз кормил всех его малышей. Но Вальтеру это показалось чересчур рискованным. Один-то он не так скоро попадется, а если весь Союз, то стоит одному засыпаться, и кончено дело — уж никуда не сунешься. И так люди удивляются, как это ему удается прокормить такую ораву. С тех пор как он начал свои ночные набеги, он никому в глаза смотреть не может. И ребята из Союза мстителей ему больше не доверяют. Надо ухо востро держать, чтобы ничего не всплыло наружу.
Вальтер уже промок до нитки. В ране стучит кровь. Там, позади, на деревенской улице все тихо. Он еще раз взглянул на небо и пополз. Надо обойти деревню задами и через огород пробраться домой. А выспаться — он выспится в школе, на уроках.
Маленькому Вейделю недавно исполнилось десять лет, но по деревьям он лазил не хуже обезьяны. Какая бы ни попалась гладкая сосна или елка, он быстро взбирался на самую макушку. Поэтому старшие мальчишки — Грабо и другие — не прогоняли его. Отец маленького Вейделя не вернулся с войны, а мать батрачила у кулака. Оба они жили на чердаке в доме хозяина.
Стоял жаркий и душный июньский день. Даже кроны деревьев и те как будто задыхались. Ветки вяло свисали вниз, иголки изредка потрескивали, словно кто-то сухим языком прищелкивал. Одни муравьи сейчас не жаловались на солнцепек: им солнышко яйца высиживает. А яйца у них белые, с рисовое зернышко.
— Четыре штуки! — кричит маленький Вейдель, крепко ухватившись за гладкий ствол сосны. — Голубиные! — добавляет он, засовывает яйца под рубашку, пропихивает их подальше на спину и, как на лифте, съезжает вниз.
Здесь его обступают Гейнц Грабо, Клаус Бетхер и другие ребята — все дети богатеев.
— Показывай! — велит Гейнц.
Лицо маленького Вейделя так и сияет, когда он достает яйца из-за пазухи.
— Еще тепленькие! — говорит он. — Голубиха, должно быть, только что слетела.
Гейнц нюхает яйца, ощупывает их.
— Тоже мне голубиные! — с презрением произносит он наконец. — Совиные. Разве голубиные такие круглые бывают?
На улыбающемся лице маленького Вейделя появляется выражение страха. Он боится впасть в немилость у старших ребят. Они такие противные, когда что-нибудь не по-ихнему. Поэтому он всегда боится, когда лазает на деревья, — вдруг в птичьем гнезде ничего нет. Ему же и попадет — он, видишь ли, виноват, и обязательно подлость какую-нибудь придумают. Так и в прошлый раз было. Они играли в песчаной яме, а Гейнц Грабо залез на самый верх и позвал его. Он подошел снизу, а Гейнц взял да и помочился ему прямо на голову. Ребята еще смеялись над ним, как над клоуном в цирке.
Клаус Бетхер потряс одно яйцо около уха и подмигнул остальным ребятам — те сразу сообразили: он что-то затевает.
— Говоришь, еще тепленькие! — спрашивает Клаус маленького Вейделя.
Но тот уже ничего хорошего не ждет от него.
— Были теплые, — спешит он ответить.
— От солнца, понял?
— Почему от солнца? От голубихи… От совы, я хотел сказать.
— Так, так. — Клаус еще раз подмигивает остальным ребятам. — Глядите все! — Он вплотную подходит к маленькому Вейделю и хлопает его рукой, в которой зажато яйцо, прямо но лбу.
Весь залитый вонючей желто-коричневой жижей, маленький Вейдель стоит и не знает, что делать. Руки опущены, в глазах ужас.
Старшие ребята гогочут, жирный живот Клауса Бетхера так и прыгает. От хохота у него даже слезы набегают на глаза.
Муки маленького Вейделя от этого только усиливаются. Тыльной стороной ладони он вытирает лицо и со смелостью отчаяния бросается на толстого Клауса. Он хочет ударить, но тот легко отводит его тонкие ручки, крепко сжимая их и радуясь беспомощности малыша. Ребята давятся от смеха, а Клаус издевательски добавляет:
— Чего разбежался? Не вышло, как тебе хотелось, эх, ты!
Слезы заливают щеки маленького Вейделя. Он с силой бьет башмаком по ногам своего мучителя. Взвыв от боли, Клаус тут же кулаком сбивает маленького Вейделя с ног. Вейдель вскакивает, отбегает подальше. Останавливается, смотрит. До него доносится глупый, издевательский смех Клауса и его дружков.
— Свинья с пятачком, вот ты кто! — выкрикивает Вейдель. Но так как это только усиливает веселье остальных, он решается на крайность и кричит: — Вот возьму да пойду к пионерам! Дураки вы! К пионерам пойду! Идиоты! К пионерам!..
Но тут ему приходится снова удирать. Однако Гейнц Грабо нагоняет его, толчок — и Вейдель падает. Гейнц бьет его ногами куда попало. Вейдель кричит, но Грабо не обращает на это внимания. Противная физиономия Гейнца склоняется над Вейделем, он слышит его сопение. В конце концов Гейнц оставляет свою жертву и возвращается к своим. Он даже не смотрит, как его «противник», с трудом встав на ноги, шатаясь бредет домой.
Трудно живется маленькому Вейделю. Никто его не понимает, даже родная мать. Она боится только одного: как бы хозяин, у которого она батрачит, не рассердился. Вот Вейделю и приходится терпеть всякие обиды от хозяйского сынка и его дружков-приятелей.
Мать всегда говорит: «Ты радоваться должен, что они тебя с собой играть берут. Больно ты им нужен. Да кто ты такой? Нищие ведь мы!..»
Гейнц Грабо и Клаус Бетхер еще некоторое время бахвалились своими героическими подвигами перед дружками, по мало-помалу ими всеми овладела скука. Они бродили без всякой цели по лесу и вскоре оказались неподалеку от шоссе на Бирнбаум.
— Чепуха! Все чепуха! Придумали бы чего-нибудь, а то я домой пойду, — протянул Клаус, широко разевая свою пасть.
Словно по команде они опустились на вереск и с ленцой обалдевшей от жары собаки принялись поглядывать на мух, жужжавших над ними. Может быть, они надеялись, что мухи подскажут, как развеять скуку? Гейнц Грабо, поглаживая свои толстые икры, ломал себе голову: как-никак он сын учителя и должен придумать что-нибудь особенно интересное.
— Придумал! — воскликнул он наконец. Ребята в ожидании уставились на него. — Но если узнают, все мы сядем, ясно?
Интерес только возрос. И ребята стали наперебой расспрашивать Гейнца. Но он не спешил.
— Молчать все должны, будто вам языки повырывали. А то лучше и не начинать… — На мгновение он закрыл свои бесцветные глаза, а когда снова открыл, сказал: — Давайте насолим Ивану.
От неожиданности ребята оторопели. А кое-кто подумал: очумел Гейнц, что ли?
— Чего уставились? — небрежно бросил Гейнц. — Я ведь что хочу сказать: давайте нарвем мху, отнесем на шоссе и выложим свастику. Вот Иван и обрадуется.
Гейнцу Грабо довольно долго пришлось убеждать ребят в «полезности» своего предложения. Они боялись, как бы их не застали на месте преступления: здесь часто проезжали советские солдаты, расквартированные в Бирнбауме. Однако в конце концов Гейнцу удалось убедить всех.
— Ничего вы не понимаете! — сказал он. — Иван должен почувствовать сопротивление. — Эти слова он часто слышал от отца. — В России одни колхозы, крестьяне спят на печке вместе с кроликами и курами. А теперь русские хотят, чтобы и у нас так было, а потому нам надо сопротивляться. У всех у вас землю отнимут и раздадут таким, как Вейдель, чтобы они над вами командовали.
Гейнц еще довольно долго продолжал пороть подобную чушь. И в конце концов у его приятелей сложилась такая страшная картина, что они уже не противились. Чувствуя себя отчаянными героями, они вырывали мох и таскали на шоссе.
Только раз Клаус Бетхер подошел к своему дружку Гейнцу Грабо и, чтоб не слышали остальные, шепотом спросил:
— А что, если узнают?
Гейнц скривил рот:
— Вот и не должны узнать.
— Они ж будут разыскивать: кто-то ведь это сделал.
Ухмыльнувшись с видом превосходства, Гейнц ответил:
— А как же! Берг и его шайка это сделали, понял? Они и так уже с головой увязли. Пусть сколько угодно отпираются — все равно все подумают на них.
Подмигнув, он хлопнул Клауса по плечу:
— Сперва мне это и в голову не приходило. Но тем лучше: будем квиты с Бергом!
Это несколько успокоило Клауса, и он снова стал таскать мох. Они собрали его довольно много и принялись выкладывать самый большой фашистский знак, как вдруг выставленный неподалеку дозор крикнул:
— Машина!..
Но грузовик быстро приближался. Ребята слишком поздно заметили его и теперь, оцепенев от ужаса, застыли на местах.
Гейнц первый, преодолев свой страх, заорал:
— Дралка, ребята! Русские…
Как стая крыс, они запрыгали по откосу, толкая друг друга, кричали, а один даже начал причитать:
— Это не я придумал… Я не виноват… я…
Когда они уже бежали по лесу, позади раздался скрежет тормозов, захлопали дверцы…
Гейнц Грабо очень удивился, заметив, что до Бецова он добежал совсем один: друзья-товарищи давно уже покинули его. Даже Клаус Бетхер. Должно быть, они сторонились его, как чумового. В ужасе Гейнц мчался по деревенской улице, пот градом катил по лицу, и больше всего ему хотелось крикнуть: «Папа-а-а-а!»
Друга и Альберт готовили домашние уроки. Во всяком случае, решили готовить. В учебник заглядывал только Друга. Альберт явно не утруждал себя домашними заданиями. Он сидел против Други и время от времени почесывал свою растрепанную голову. Неожиданно лицо его помрачнело. Он вскочил, подбежал к шкафу, открыл дверцу, пригладил волосы и уставился на свое отражение в зеркале. Затем вновь подошел к Друге и показал ему свою голову. Среди густых черных зарослей белела довольно большая прогалина.
— Нет, ты только погляди! — сказал он. — Такое свинство!
Если б я только знал, кто мне их выдрал! — Огорчение его было вполне искренним.
— Понятия не имею! — ответил Друга. — Такая свалка была, разве тут разберешь? — При этом ему не удалось скрыть улыбки. Дело в том, что в последнее время он стал замечать у Альберта склонность к щегольству.
— Еще смеется! — проворчал Альберт. — Ничего тут смешного нет. На этот раз они нарушили правила. Мы все один на один вышли, а они гуртом навалились на нас. Будь покоен, в следующий раз мы тоже так сделаем.
Они говорили о новом нападении на пионеров. Два галстука — вот и все трофеи, добытые ими накануне вечером, к тому же мстителям порядком досталось. Пионерская дружина в Бецове выросла. Кроме двух сыновей новосела Рункеля, в пионеры были приняты две девочки и один мальчик.
— Знаешь, — неожиданно признался Друга, — я вчера и не дрался как следует.
Альберт посмотрел на него.
— А ты думал, я этого не заметил? Или ты мне это говоришь потому, что знаешь — я все равно заметил?
Друга, сморщив нос, куда-то мечтательно глядел, но в конце концов почувствовал, что Альберт все еще смотрит на него.
— Не понимаю я… — сказал он. — Знаешь… вот если бы это был Грабо или Бетхер. Этих бы я с большой охотой отлупил. А пионеров?.. Я все время о Линднере думал, как он мне про стихотворение объяснял…
Альберт так и не успел ответить. В дверь постучали, и вошел старый Деналуш — общинный курьер, частенько исполнявший роль глашатая. Тогда он торжественно шагал по деревенским улицам с колокольчиком в руке, останавливался где-нибудь на перекрестке, поджидал, пока соберутся жители, и с важностью министра провозглашал постановления общинного совета и указы. Сейчас он никак не мог отдышаться и смотрел на Альберта и Другу такими глазами, взгляд которых сам по себе уже был укором.
— В контору! Живо! Оба! — произнес он наконец.
— Поздороваться тоже не мешает. Или этому тебя в твоей конторе так и не научили? — ответил Альберт.
— Живо, я сказал! Поторапливайтесь!
Деналуш собрался уже уходить, но Друга задержал его, схватив за руку.
— Чего мы в конторе не видели?
Высвободив рукав, старик дунул на то место, к которому прикоснулась рука Други, словно желая сдуть гадкую муху.
— Еще спрашиваешь! Постыдился бы! — и тут же захлопнул дверь.
Друга и Альберт переглянулись.
— Должно быть, из-за синих, — высказал предположение Альберт — Ну и пускай!
— Теперь они нас в колонию отправят, — заметил Друга, когда они выходили.
— А тебе жалко?
— Чуточку, — ответил Друга. — Нет, правда.
Перед конторой бургомистра стояли два советских военных грузовика.
— За нами пожаловали! — с мрачным видом отметил Альберт. — Шик! Машины поданы. Для каждого — персональная.
В бургомистерской, кроме фрау Граф, находились два советских офицера и господин Грабо. Он стоял, скрестив руки за спиной. Все остальные сидели.
— Вот и вы наконец! — воскликнул он, увидев Другу и Альберта. Затем, повернув свою лошадиную физиономию к офицерам, он кивнул в сторону обоих юношей и сказал: — Это они, господа офицеры. Бандиты!
— От бандита слышу! — тут же отпарировал Альберт, казалось в один миг избавившийся от всякого страха.
Дикая злоба исказила лицо Грабо, однако старший из офицеров удержал его. Он подошел к Друге, двумя пальцами приподнял его подбородок и молча посмотрел ему в глаза. Затем то же самое проделал и с Альбертом. Ребята стояли тихо, не зная, что делать.
— Эти? Почему эти? — сказал он с сильным акцентом, повернувшись к учителю Грабо. — Почему вы думаете, что эти?
— Почему? Ох-ох-ох… — Грабо не сразу нашелся, что ответить. Он состроил всезнающую мину, поклонился обоим офицерам, приложил руку к груди и с подобострастной улыбкой сказал: — Эти парни, господа офицеры, нам хорошо известны как зачинщики подобного рода дел.
Фрау Граф хотела было вмешаться, но офицер жестом велел ей не прерывать Грабо.
— Я понимаю, — продолжал тот. — Вам должно показаться странным, что мы, зная о подобных вещах, самым решительным образом не пресекаем их. Лично мне такого рода упрек нельзя предъявить. Я требовал решительного пресечения. Но меня не послушали… Я бы давно уже очистил Бецов от подобных элементов.
Он кивнул в сторону Альберта и Други, которые недоуменно переглядывались, переступая с ноги на ногу, и никак не могли взять в толк, зачем их сюда вызвали.
— Всю ответственность за подобные эксцессы, — заявил Грабо, — я возлагаю на моего молодого коллегу. Фамилия его Линднер. — Снова подобострастная улыбка появилась на лице Грабо. — При этом я обязан заверить вас, что я почти убежден в честности его намерений.
По лицам офицеров нельзя было определить, какое впечатление произвела на них несколько выспренняя речь Грабо. Ничего нового они от него так и не узнали.
— Слушая вас, — тихо сказала фрау Граф, — можно подумать, что вы пришли сюда плести интриги.
— Я возмущен! — взорвался Грабо, однако тотчас же приглушил свой голос.
Фрау Граф хотела обратиться к обоим офицерам, но тут Альберт и Друга привлекли к себе всеобщее внимание. Вся эта сцена им порядком надоела, и они, чтобы выразить свое пренебрежение, взяли да и сели прямо на пол.
Три огромных прыжка — и Грабо очутился рядом с ними. Губы его дергались, лицо покрылось красными пятнами.
— Встать! — заорал он, намереваясь поднять Альберта за руки.
Но тот брезгливо высвободился и сказал:
— Ну, уж таким манером у вас никогда ничего не выйдет.
Ярость Грабо достигла предела, и он готов был ударить Альберта, но в эту минуту открылась дверь и вошел Линднер. Он выглядел бледным и усталым, как всегда.
— Ну, что вы теперь скажете? — сразу же набросился на него Грабо, давно уже переставший церемониться со своим более молодым коллегой.
— Заходите, заходите! — спокойно пригласил Линднера старший офицер и, обратившись к Грабо, сказал: — Плох тот учитель, которому ученики не доверяют.
Грабо снова отвесил офицерам поклон, что выглядело довольно глупо, но, должно быть, его озадачило замечание старшего офицера.
— Что случилось? — спросил Линднер, поздоровавшись со всеми.
Фрау Граф рассказала ему, что на шоссе в Бирнбауме кто-то из учеников выложил из мха фашистские знаки. Советские офицеры видели разбегавшихся детей.
— А теперь господин Грабо утверждает, — она подчеркнула «утверждает», — что этими детьми были Альберт и Друга.
— Дорогая фрау Граф, надеюсь, вы понимаете, что у меня достаточно оснований для подобных утверждений! — тут же вставил Грабо.
Учитель Линднер задумался. В уголках его рта снова появилась горестная складка, вид у него был очень грустный. Подойдя к Альберту и Друге, он долго смотрел на них.
— Вы это сделали? — спросил он.
— Чего это вы нас спрашиваете! — возмутился Альберт, не поднимаясь с пола. — Те, кто нас вызвал, лучше знают.
Друга выразил свое презрение небрежным:
— Эх…
Учитель Линднер глубоко вздохнул и так ничего и не сказал.
— Ступайте домой! — младший из офицеров как-то удивительно по-домашнему помахал рукой Альберту и Друге. Он даже подмигнул им. Разумеется, оба не стали ждать вторичного приглашения.
— Однако, господа офицеры, надо же сначала добиться… признания. Оба должны признаться в своей вине…
— Нам не надо никаких признаний! — несколько резко ответил младший офицер господину Грабо. — Нам надо знать причину.
На сей раз Грабо от удивления даже забыл поклониться. Он так и стоял с открытым ртом.
— Это очень верно, — подтвердил учитель Линднер. — Важно вскрыть причины. Но тем не менее нам надо знать и кто это был. Я не думаю, чтобы это были те два ученика, которые только что вышли отсюда. Хотя именно они доставляют нам больше всего хлопот, но на такое, мне кажется, они не способны. — Линднер говорил, избегая всякого внешнего эффекта. Он просто высказывал свою искреннюю озабоченность. Когда он смотрел на офицеров, взгляд у него был такой, будто он спрашивал совета у товарищей и единомышленников, а вовсе не у представителей чужой страны.
Он просто и ясно рассказал всю историю Альберта и Други. Когда он закончил свой рассказ, старший офицер задумчиво сказал:
— Понимаю. У нас такие же проблемы. Ребят любить надо. Любовь эта должна быть сильнее всего! Вы справитесь. Вы отличный педагог!
Затем он долго смотрел своими серыми глазами на Грабо.
— А вы? — спросил он. — Почему вы сказали, что дети гитлеровские бандиты? Почему мы должны верить в это? Почему это не могли быть другие дети?
Грабо побледнел.
— Господа Офицеры! Вы должны понять… поводов для подозрения более чем достаточно, — начал он, явно смутившись. — Эти парни… оба они уже попадались в таких делах. И это последнее только дополняет ту картину, которую я уже составил себе о них. — Он умолк, внезапно почувствовав, что офицеры относятся к нему без всякой симпатии и слушают через силу.
— Что касается поводов для подозрения, — сказал теперь Линднер, и в глазах его вспыхнула еле заметная лукавинка, — то я вынужден возразить вам, коллега Грабо. Ничего подобного ребята до сих пор не делали. Их действия всегда имели какой-то смысл. Хотя порой и мрачный.
Грабо не слышал последних слов Линднера, ему что-то пришло на ум, и он поспешил немедленно высказать свой новый аргумент.
— Так, так, — заметил он с иронией. — Тут я придерживаюсь иного мнения. Дело в том, что существует весьма определенная связь между прежними и нынешним позорными деяниями этих бандитов. А вы сами разве не находите, что тот, кто нападает на пионеров и избивает их, способен выложить и свастику на шоссе?
Офицеры насторожились и потребовали подробного рассказа о случаях нападения на пионеров.
Ошеломленный Линднер должен был признаться себе, что факты говорят против Альберта и Други, а он сам, отводя от них подозрения, руководствовался скорее своим желанием. И все же правду следовало искать в другом месте.
Лица обоих офицеров помрачнели, но им, должно быть, претило то, что Грабо так старался очернить ребят. По-видимому, он готов был кое-что присочинить, только бы представить подростков в самом неприглядном свете.
— Нехорошо, нехорошо! — сказал старший офицер. — Вы нам умолчали о многом. Нехорошо! — Он покачал головой.
— Я сделал это без особого намерения, — ответил Линднер. — Я просто не могу поверить, чтобы эти ребята… — И он посмотрел офицеру прямо в глаза.
Офицеры поднялись, и младший, который до этого почти не говорил, положил руку на плечо Линднера.
— Мы вас понимаем, — сказал он. — Но есть большая разница между тем, во что веришь, и тем, что ты знаешь. Прошу вас, расследуйте все как надо. А потом приходите к нам в комендатуру. Мы поможем вам. Если понадобится, пришлем товарища, который поговорит с детьми о фашизме…
Они направились к двери, но, прежде чем выйти, старший сказал:
— Я надеюсь, вы понимаете: если даже теперь на немецкой земле мы встречаем этот знак, то это очень-очень серьезно.
За окном взревели моторы, и обе машины укатили.
В комнате надолго воцарилось молчание. Наконец Грабо откашлялся и, очевидно поняв, что он здесь лишний, сказал:
— Пожалуй, я могу откланяться?
— Можете, — ответила фрау Граф, пытаясь преодолеть неприязненное чувство к этому человеку.
Грабо вышел, хлопнув дверью.
Учитель Линднер, опустив голову, сидел на скамье у окна. «Лучше бы ребята Альберта что угодно натворили, только бы не это!» — подумал он в сердцах. Вся история со свастикой больно ранила его.
— А я тоже не верю! — услышал он низкий голос фрау Граф.
Линднер был ей признателен за эти слова.
Снаружи послышался стук деревянных башмаков. Вошел Шульце-старший. Он никак не мог отдышаться, лицо его было красным.
— Раньше никак не мог, — сказал он, пожав руку фрау Граф. — Опоздал вроде?
Линднер отмахнулся.
— Еще успеешь расстроиться.
— Рассказывайте, что случилось-то? — спросил Шульце, присев на край стола.
Фрау Граф и учитель Линднер поспешили сообщить ему о происшедшем. Порой Шульце кивал, как бы говоря: так я и думал.
Под конец Линднер спросил его:
— Ты веришь, что Альберт и его приятели способны на такое?
— Смешной вопрос! Ты же доказал мне, кто из нас лучше в ребятах разбирается. Нет, Вернер, я ничуть не сомневаюсь в том, что ты говоришь. — Он помолчал немного, взгляд его сделался жестким. — Но этот Грабо доведет меня в конце концов. Пусть он не думает, что он может людей натравливать друг на друга. Надо нам всем вместе в партгруппе поговорить о нем. Где это видано, чтобы такой склочник тон задавал! Пускай лучше сам себе зуб выдернет, а то как бы ему с флюсом не ходить!..
На улице уже стемнело. Учитель Линднер сидел у себя в комнате на диване и думал. Думал уже много часов подряд. Кто-то постучал в окно. Линднер отпер дверь. Перед ним стоял пастор Меллер.
— Я не помешал? — спросил он. Лицо его обычно лукаво-веселое, было сейчас очень серьезным.
— Заходите, — пригласил Линднер, обрадованный, что может отвлечься. После памятного родительского собрания в школе он подружился с пастором, и они часто и охотно беседовали друг с другом.
— Со мной только что приключилось нечто странное, — начал пастор, как только они сели. — Интересно, что вы скажете, если я сообщу вам: у нас в деревне свили себе гнездо преступники? Вполне взрослые, не малолетние!
Учитель Линднер поднял голову и посмотрел на него.
— Скажите, пожалуйста, Линднер, — сказал пастор, — сколько имен у вашего коллеги Грабо?
— Одно, разумеется. Но я не знаю, что вы имеете в виду, — ответил Линднер.
— Зато я знаю — у него два имени.
— Вот как! — заметил учитель, не понимая, куда клонит пастор. — Что ж, это, разумеется, очень ценно.
— Я тоже так думаю. — Пастор подошел к окну и несколько минут стоял там, прислушиваясь к тому, что происходило на улице. Не оборачиваясь, он затем медленно проговорил: — Настоящее имя Грабо — Аренфельд. Он был штурмбанфюрером эсэс.
Некоторое время в комнате царила абсолютная тишина. Но вот учитель Линднер подошел к пастору и, повернув его к себе, посмотрел ему в глаза.
— Вы отдаете себе отчет в том, что вы только что сказали?
— Отдаю.
Пастор сел за стол, а Линднер остался стоять у него за спиной.
— Сегодня Бетхер возвратился из больницы, — начал пастор. — Ну, а так как я находился в Бецове, то и решил исполнить мой пасторский долг и зайти к нему. Вам ведь известно, Бетхеры — семья верующая или, во всяком случае, выдает себя за таковых. Ну, а священнослужителю, честно исполняющему свои обязанности, надлежит заботиться обо всех своих прихожанах. Но это лишь введение, дабы вы лучше поняли меня…
Так как учитель все еще стоял за спиной пастора, тот поднялся: ему хотелось говорить, глядя ему в лицо.
— Итак, я захожу к Бетхеру во двор, ищу его всюду, затем поднимаюсь на кухню — нигде никого. Думаю — все ушли. Вхожу в сени и вдруг слышу голоса. Хочу постучать и слышу, как произносят ваше имя. Я остановился скорее из соображений такта, чем из любопытства, однако то, что я услышал затем, заставило меня оцепенеть. Ваш драгоценный коллега говорил о некоем наглом хулигане и, насколько я понял, имел в виду вас. Потом речь зашла о фашистских знаках, чем-то связанных с сыном Грабо, Гейнцем, и его товарищами. А вы, дорогой Линднер, «испортили им игру», как выразился Грабо. Судя по голосу, он был возбужден и сказал, что, если вы в скором времени не исчезнете, все присутствующие должны опасаться за свою жизнь. После этого внезапно воцарилась тишина. Я уже подумал, что сейчас выйдет кто-нибудь, и так испугался, что не знал, куда деваться. Но тут этот крестьянин, тот самый, который на родительском собрании так глупо выступал — кажется, его зовут Лолиесом, — заговорил о каком-то револьвере, который в конце концов нашелся, и сразу затем назвал штурмбанфюрера Аренфельда. Должно быть, так он обратился к Грабо, ибо тот, вскипев, заявил, что не желает больше слышать этого обращения. Лолиес, мол, обязан забыть это имя и не употреблять его даже тогда, когда нет посторонних. Называть его так — значит играть с огнем. Снова наступила тишина. Из страха быть обнаруженным я удалился. Вот, собственно, и все. Однако мне сдается, что дело стоит того, чтобы им заняться. — Пастор снова подошел к окну и прислушался.
Стряхнув с себя оцепенение, Линднер подошел к двери, желая удостовериться, не подслушивает ли кто, затем сел на диван и задумался.
— Вы не могли бы назвать участников этого разговора? — спросил он несколько минут спустя.
— Гм. Боюсь, как бы мне не ошибиться. Судя по голосам, там, помимо вашего коллеги, были лесничий и Лолиес. Правда, один голос был мне незнаком — возможно, он принадлежал хозяину дома Бетхеру.
Пастор с нетерпением ждал, что скажет Линднер, но тот сидел, глубоко задумавшись. Внезапно погас свет. Ток опять отключили. Линднер зажег свечу и поставил ее на стол.
— А почему вы рассказываете все это мне? — спросил он наконец. — Разве вам неизвестно, что церковь может рассчитывать на поддержку Грабо и его компанию куда больше, чем на мою? Я убежденный атеист.
Пастор коротко рассмеялся, но в его смешке прозвучало какое-то недовольство, даже обида.
— Я в этом уверен, — ответил он. И на лице его снова появилось лукавое выражение. — Однако, представьте себе, я не пролью ни одной слезы, отказавшись от подобной поддержки.
— Это я вижу. Но почему? Почему вы такой?
— Почему? — Пастор присел рядом с учителем.
Некоторое время оба молчали.
— Я как раз окончил теологический факультет, когда началась война, — проговорил он. — Меня призвали, но не как духовное лицо, а рядовым солдатом. Три года я пробыл на фронте, и с каждым днем это становилось все ужаснее. Я уже не понимал, как господь допускает подобное. Именем его прикрывали убийства, а он, казалось, ничего не видел и не слышал. Как-то осенью мы целый день отбивали атаки Красной Армии, но атаки продолжались и ночью, и весь следующий день. Обе стороны несли тяжелые потери, было очень много убитых и раненых, и когда огонь несколько утих, мне показалось, что я схожу с ума. Погрозив кулаком небу, я проклял бога. Да, да, я вел себя как человек, лишившийся разума. Прошло несколько, часов, и я наконец заснул мертвым сном в своем окопчике. И в ту ночь мне приснился сон. Настал Судный день. Господь творил суд свой. Повсюду на небе стояли в ожидании люди — сотни тысяч людей — и смотрели на него. У его ног я увидел весы: одна чаша для добрых дел, другая для дурных. И когда я по наилучшему своему разумению распределил все дела свои, господь изрек: «Меллер, ты забыл великую вину свою, вину своего времени!» Он сказал это о моем времени, том времени, в котором я жил, — времени окопов и истребления людей. Но я воскликнул: «Невиновен!» Господь же громко, так, что было слышно на всем небе, сказал: «Невиновен лишь тот, кто что-то сделал против преступления своего времени». И тогда я понял и проснулся от стыда.
Пастор встал, но тут же сел на край стола. За его спиной мерцало пламя свечи, на стене прыгали причудливые тени.
— Вот и мой ответ на ваше «почему». Совесть моя — мой ответ.
Учитель Линднер несколько раз прошелся по комнате взад и вперед. Остановившись перед пастором, он протянул ему руку. Оба молчали.
За окнами моросил дождь, и в классе было как-то неуютно. Глаза учителя Грабо блестели за стеклами очков. Каждую минуту он набрасывался на кого-нибудь из учеников.
С утра учитель Линднер не явился на занятия, и никто не мог сказать, куда он уехал. Долго его искали в школе, у знакомых — везде. В конце концов Грабо в припадке гнева скорее прогнал, чем распустил по домам младший класс. Уже не сдерживая себя, он велел передать родителям, что уроков не будет по вине нового учителя. Он, мол, шляется где попало и, очевидно, считает возможным проводить занятия, когда ему заблагорассудится. А он, Грабо, поистине не в состоянии преподавать одновременно в двух классах.
Все это время Друге казалось, что учитель Грабо втайне рад отсутствию Линднера, и его вспышки — дурно разыгранный спектакль.
Время плелось, как усталая кляча. Наконец начался и последний урок. Ребята дремали, сидя за партами, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы окончательно не заснуть. Шум автомобильного мотора заставил их встрепенуться. Перед школой остановились две легковые машины. И ученики, осмелев, вытянули шеи, стараясь разглядеть, что там. Бешеный окрик учителя Грабо заставил их повернуться к доске. За окном хлопнули дверцы, и ребятам опять оставалось только сожалеть о том, что они ничего не увидели.
В дверь постучали. В класс вошел незнакомый мужчина в помятом костюме. Ученики поднялись. Он приветливо кивнул им и что-то шепотом сказал учителю Грабо. Все заметили, как Грабо побелел. Какой-то миг он стоял оцепенев, затем, силясь говорить спокойно, произнес:
— Ведите себя тихо, я сейчас вернусь, — и вышел.
Ученикам показалось, что мужчина в мятом костюме хочет им что-то сказать, но он только кивнул им и вышел вслед за Грабо. В коридоре ребята заметили еще нескольких человек, но дверь тут же закрыли, и они никого не смогли узнать.
Весь класс повернулся к Гейнцу Грабо, который сидел теперь бледный, как его отец.
— Это… это гости к нам приехали, — пробормотал он неуверенно. — Они хотели вечером приехать…
Выдумка так понравилась ему самому, что он воспрял духом. Гости на двух легковых машинах — это же высокая честь, всем будет завидно…
И все же Гейнцу не удалось преодолеть свой страх: а вдруг дело со свастиками выплыло?
— Здрасте вам, гости! Как бы не так! Дурак я буду, если это не полиция! — громко сказал Альберт.
И весь класс согласился с ним.
— Брось ты! — зашипел на него Гейнц Грабо, готовый разреветься. — Это наши гости.
— Еще бы! — безжалостно продолжал Альберт. — Шикарные гости. Они еще с твоим стариком кататься на машинах поедут. — И он показал за окно, где как раз в сопровождении двух незнакомых мужчин Грабо садился в автомобиль.
Там же стоял учитель Линднер, который прощался с одним из незнакомцев за руку. Дверцы хлопнули, и машины отъехали.
— Это, брат, важнецкие гости! — продолжал издеваться Альберт. — Гости — высший класс, что и говорить!
Многие засмеялись громко и злорадно. Никто не жалел Гейнца Грабо.
В класс вошел учитель Линднер. Поздоровался он без обычной своей улыбки. Но голос его по-прежнему был мягким и добрым.
— Садитесь! — сказал он. — Последний урок проведу я. Грабо не вернется. Ни сегодня, ни завтра — никогда. Его только что арестовали. — Посмотрев на Гейнца Грабо и Клауса Бетхера, он добавил: — Клаус, твоего отца тоже арестовали. Если хотите, вы оба можете сейчас идти домой.
Гейнц и Клаус, взяв свои сумки, тут же поднялись.
— Минутку, — сказал учитель Линднер. — Я вам сказал, что вы можете идти домой, но будет совсем не плохо, если вы останетесь и выслушаете, что я скажу…
Клаус задержался и хотел было снова сесть за парту, но Гейнц потянул его за рукав, и тот все-таки последовал за ним. Проходя мимо учителя Линднера, Гейнц посмотрел на него с выражением открытой ненависти. Это был очень неприятный взгляд. И все ученики почувствовали себя задетыми.
Оба давно уже вышли, а в классе все еще никто не проронил ни слова. Руди потянулся и этим привлек внимание учителя.
— Извини, пожалуйста, Руди, — сказал он. — Если хочешь, ты, конечно, тоже можешь идти домой.
— Оставьте меня в покое! Мне-то какое дело до них?.. — Руди обиделся и возмутился одновременно. Губы его были плотно сжаты.
Впервые за весь день учитель мягко улыбнулся.
— Извини! — сказал он еще раз.
Руди со злостью взглянул на него, потом махнул рукой, как бы говоря: к чему все это!
Учитель Линднер несколько раз прошелся между партами и наконец встал посреди класса.
— Сегодня, — начал он, — в нашей деревне арестовали людей, которые ничему не научились из прошлого. Они делали все, чтобы возродить фашизм и его государство. Ради этого они были готовы пойти на убийство. У них уже было приготовлено оружие. Кстати, настоящее имя Грабо — Аренфельд. Во время фашизма он был директором средней школы на юге Германии, затем офицером в эсэс. Перед концом войны ему было присвоено звание штурмбанфюрера. В те годы Грабо совершил тягчайшие преступления. Он несет ответственность за смерть многих ни в чем не повинных людей. Его непосредственным начальником в ту пору был человек, которого мы теперь знаем как здешнего лесничего. Какую роль играл всем вам известный Лолиес, пока еще не выяснено. Во всяком случае, он знал о преступлениях этих эсэсовцев и находился у них в подчинении. Только благодаря содействию Бетхера Грабо и лесничему удалось после тысяча девятьсот сорок пятого года укрепиться в Бецове. Бетхеру теперь тоже придется отвечать за свои преступления.
Лица ребят были очень серьезны. И все же Линднер чувствовал, что большинство из них имеет лишь смутное представление о фашизме. Оттого-то они, должно быть, плохо представляют себе весь ужас преступлений, совершенных такими, как Грабо и его подручные. Но как объяснить им? Как довести до их сознания? А что, если им рассказать историю из своей жизни?
Будто случайно, Линднер присаживается на краешек парты Руди Бетхера. Руди благодарен ему: учитель сел рядом как ни в чем не бывало и вообще не делает никакого различия между ним и остальными. Тем временем Линднер снимает очки и протирает стекла о рукав.
— Разрешите мне, ребята, — говорит он, — рассказать вам одну историю — историю, приключившуюся со мною самим. Возможно, вы тогда лучше поймете, почему только что арестовали этих преступников…
Помолчав немного, учитель Линднер смотрит куда-то вверх и тихо, даже немного строго начинает свой рассказ.
— Когда я ночью иду по улице совсем один и только чистое небо у меня над головой, мне кажется, что рядом шагает Самуил, друг моего детства. Я вижу перед собой его мальчишеское лицо, узенькое и смуглое, с черными глазами, которые как будто всегда что-то спрашивают, как будто хотят заглянуть во все тайны этого мира. Я слышу и голос его, слышу, как он говорит о своей великой мечте:
«Хорошо бы, можно было взять да подарить звезду! Вон ту, самую большую, рядом с месяцем, я подарил бы тебе. И для дедушки нашлась бы звездочка — красивая и яркая, ведь он так плохо видит! И вообще всем хорошим людям я подарил бы по звезде. И все они были бы тогда счастливы. Кругом было бы светло-светло, никто бы тогда не плакал, все были бы такие веселые, всем хотелось бы петь! Но сперва-то надо машину такую изобрести, чтобы я мог подняться на небо и собрать там побольше звезд. Наверное, они очень тяжелые — эти звезды, но я бы их все равно на землю притащил».
Да, вот такой он и был, мой Самуил, мой Сам. Всю землю он хотел одарить счастьем…
Но нет, надо вам по-другому все рассказать.
Было лето, я уже второй год бегал в школу, и мне только что исполнилось восемь лет. Родителей своих я не знал, они вечно путешествовали по белу свету — были артистами. Меня воспитывали чужие люди. Очень скоро мой приемный отец погиб от несчастного случая, жена его вышла замуж второй раз, а меня отправили в сиротский приют. Произошло это как раз летом тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Переменив таким образом местожительство, я попал в другую школу. Там я оказался новичком. Предстояли большие летние каникулы, а у меня не было ни одного товарища. Накануне последнего дня занятий нас всех осматривал зубной врач. В белом халате, из-под которого выглядывал коричневый мундир штурмовика, маленький, толстенький, с безобразной физиономией, он внушал мне страх.
Мы сидели в большом классном помещении и ждали. Он вошел и, не поздоровавшись, стал разглядывать нас, как телят, которых отбирают для бойни. Хмыкнув, он провел языком по губам и сказал:
«А тут, оказывается, еще евреи есть?»
Наш классный наставник жестом дал ему понять, что он, мол, не виноват и сожалеет о наличии евреев среди учеников.
Зубной врач молча чего-то ждал. И вдруг он как заорет: «Скоро ли эти господа евреи выйдут вперед?! А ну, живей!» Мы все себе казались преступниками, так он нас запугал своим криком. Никто не вставал с места. Но вот на первой парте кто-то обернулся. Его примеру последовали другие. Все присутствовавшие, в том числе и я, кто с упреком, а кто и с угрозой, смотрели на одного-единственного ученика — на Сама. А он сидел, ничего не понимая, и был похож на маленькую собачонку, которую побили и которой некуда бежать. Черные его глаза молили о помощи, по щекам бежали слезы.
Наконец Сам встал. Мне казалось, он вот-вот упадет на пол — такой он был бледный.
Мы, остальные ученики, вздохнув с облегчением, вновь повернулись к доске. Но вдруг — сердце мое готово было остановиться — я заметил, что колючий взгляд доктора сверлит меня, на Сама он уже не обращает никакого внимания. В чем же дело? Я ведь не был евреем! Я ощупал свою курточку: может, рубашка была расстегнута и потому он так уставился на меня? Ничего не обнаружив, я оглянулся и увидел, что теперь все, кто до этого смотрели на Сама, уставились на меня. Я думал — еще секунда, и я задохнусь от страха.
Врач опять что-то сказал. Но двигались при этом только его губы, лицо казалось деревянным. А я услышал его слова, только когда он замолчал. В конце концов я понял, что он, собственно, произнес.
«Кто-то здесь, очевидно, ждет специального приглашения».
«Я не еврей, — сказал я. — Родители мои — артисты».
Сзади кто-то хихикнул. Мне было очень плохо.
«Так, так, ты, значит, не еврей!» — заметил доктор с угрозой и взглянул на нашего классного наставника.
«Он только неделю, как поступил, — поспешил тот ответить. — Но вы, должно быть, правы. У него на лице написано, что он еврей».
Ухмыляясь, врач медленно приближался ко мне. Но ухмылялась только одна половина его лица, другая застыла, как маска. Быть может, оттого, что лицо его рассекал рубец, тянувшийся от глаза до подбородка. Около меня он остановился и постучал пальцем о парту. Я заранее дрожал, боясь новой вспышки его гнева. Но он проговорил даже не очень громко:
«Твоя очередь при осмотре — последняя! Это тебе за твою еврейскую надменность, понял?» — повернувшись, он быстро вышел из класса. Наставник — за ним.
Все, что произошло в последующие часы, глубоко врезалось в мою память. Сначала ученики боялись и слово вымолвить, но мало-помалу они начали перешептываться, кое-кто тихо переговаривался. На нас, на Сама и на меня, никто не смотрел. И самое страшное для меня заключалось в том, что теперь мы с ним остались одни за партами. Все уже встали и отошли подальше от нас. Самуил молча глядел вперед; мысли его, должно быть, витали где-то далеко. В полном отчаянии, не видя никакого выхода, я расплакался. Не знаю почему, но мне было так скверно, что казалось, я вот-вот умру. Может быть, оттого, что доктор сказал, будто я еврей, а это, вероятно, было что-то ужасное! Иначе остальные ученики не сторонились бы нас. Наверное, они это делали, боясь заразиться.
Так примерно думал я тогда. Разве я мог предполагать, что ученики просто боялись, как бы доктор не рассердился на них. Нет, не вражда, а самый обыкновенный страх заставлял их сторониться нас. Никто не хотел быть заподозренным в том, что он еврей.
Бесконечно долго тянулось время. И это было мучительно. К обеду весь класс уже опустел, только Сам и я еще ждали вызова. Он, должно быть, уже довольно долго смотрел на меня. Я чувствовал это, но поднял голову, только когда он заговорил.
«Хочешь конфетку? — спросил он, улыбнувшись. — У меня как раз две».
Сам подошел, сунул мне в руку конфету и сел рядом.
«Не надо бояться!» — сказал он неожиданно, без всякого перехода. И все в нем — лицо, голос — успокаивало меня.
И тем не менее я заявил:
«А я не верю, что я еврей».
«Не веришь?
«Правда, нет».
Несколько секунд он ощупывал парту перед собой, и когда вновь заговорил, он мне показался необычайно застенчивым.
«Тебе не хочется со мной больше говорить?» — спросил Сам.
«Почему? Хочется! — поспешил я заверить его, ведь он же мне очень нравился. — Ты добрый…»
«Да что ты, все такие».
Я вопросительно взглянул на него, и он тут же поправился:
«Большинство, во всяком случае».
«А ты настоящий еврей?» — спросил я.
Он кивнул.
«Это очень страшно, да?»
«Что ты! Евреи такие же люди, как и все».
«Что же тогда этот доктор так рассердился?»
Он пожал плечами.
«Я и сам не знаю. Но ругать нас уже многие ругают. За то, что мы евреи. Дедушка говорит: таких все больше делается. Он говорит: их натравливают на нас. А ты понимаешь, что это такое: «натравливают»?»
«Нет», — ответил я.
«Я тоже не понимаю. Но я уверен — это пройдет. И никто никого не будет «натравливать».
Его вызвали, и я остался один. Выходя, он сказал, что подождет меня на улице. Я никак не мог дождаться своей очереди, страх снова овладел мною. О зубах, бормашине я не думал вовсе, только о самом докторе и о его злых глазах. Но вот наконец вызвали меня. За мной пришел наш классный наставник. В коридоре он даже больно пнул меня в спину — иди, мол, скорей! В кабинете мне велели сесть в кресло. Рядом стояла бормашина. У нее была такая же педаль, как у швейной машины. Когда на нее наступали, бормашина начинала жужжать.
Молча доктор следил за мной, время от времени проводя пальцем по рубцу. Я в конце концов не выдержал и сказал:
«Правда, господин доктор, я не еврей. Правда, не еврей! А потом Самуил сказал мне, что евреи такие же люди, как и…»
«Заткни глотку! — заорал на меня наш классный наставник, не дав мне договорить. — Кто такие евреи, и люди они или нет — не Самуилу определять!» На лбу наставника вздулись жилы, до того он, должно быть, был зол.
Доктор опять ухмылялся только одной половиной лица. Другая застыла, как маска. Мне стало дурно. Доктор схватил меня за подбородок и резко нажал, чтобы я открыл рот. Затем он сунул в него какую-то железку. Теперь я сидел разинув рот. Никто не говорил ни слова. Наставник, крепко держа мою голову, нажимал на педаль. У меня все зубы были здоровы, ни одного дупла. Но доктор сверлил и сверлил один зуб за другим, а я все время видел перед собой его полулицо-полумаску. Я даже кричать не мог, только плакал, но мне не делалось легче. После этого я двенадцать лет к зубному врачу не ходил, хотя у меня очень часто и сильно болели зубы.
Выйдя в тот день на улицу, я прислонился к забору и заплакал. Кто-то положил мне руку на плечо, и я сразу догадался — Сам.
«Не плачь, не надо! — просил он. — Ну, прошу тебя, не надо!»
Только теперь я заметил, что вся моя одежда оказалась холодной и мокрой. Мокрой от пота. Ответить Саму я был не в силах.
«Доктор злой, нехороший, и учитель тоже, — тихо говорил он мне. — Я, когда вырасту, пойду к ним и скажу. Обязательно скажу. Но теперь не плачь, пожалуйста, не плачь. Я уж им задам трепку, обоим задам, можешь быть уверен! Но теперь ведь все опять хорошо, правда?» И он увлек меня за собой, держа за руку ласково и бережно, как старший брат, хотя лет ему было столько же, сколько мне.
Ни минуты он не думал о себе, ни слова не говорил о том, как мучился сам. Главное для него было, чтобы я перестал плакать. Если бы он знал, как он помог мне тогда!
Мы чувствовали, что стали теперь друзьями и что мы совсем одни на всем белом свете. Но мне пора было спешить в приют. Наверное, меня уже давно там ждали. На прощание он протянул мне руку и посмотрел на меня своими черными глазами.
«Если хочешь, зови меня Сам, как зовет дедушка. Самуил — очень длинно».
«Хорошо, Сам, — сказал я, и это были первые слова, произнесенные мною с тех пор, как я вышел из школы. — До завтра, Сам!»
«До завтра!»
На следующий день во время перемены меня подозвал классный наставник.
В приюте я рассказал о зубном враче, и, должно быть, наш воспитатель посетил классного наставника.
«Послушай, Вернер, — медленно произнес он. — Эта вчерашняя история… лучше всего забудь о ней… Гм! Разумеется, я должен выразить сожаление в связи с тем, что мы приняли тебя за еврея. Но ты сам знаешь, все мы можем ошибиться. Надеюсь, ты сознаешь это?»
Мы молча смотрели друг на друга, и я хорошо чувствовал, что он куда охотнее накричал бы на меня.
«А теперь ты можешь идти играть с остальными учениками… Но нет, постой! Запомни: немецкий юноша не ябедничает!» Он кивнул, велев мне таким образом удалиться.
На дворе я прежде всего разыскал Сама. Он сидел на земле и рисовал пальцем какие-то странные фигуры в песке. Я опустился рядом и стал рассматривать его рисунки. Немного погодя я произнес:
«Я не еврей. Мне только что наставник сказал».
«Хорошо!» — В голосе Сама звучало разочарование.
Мне стало его жалко.
«Что хорошо? — спросил я. — Что я не еврей?»
Он пожал плечами и отвернулся.
«А я хотел бы быть евреем, — сказал я неожиданно для самого себя. — Мне хотелось бы быть твоим братом».
«Ты мой самый лучший друг».
«А ты — мой», — сказал я.
Он все еще что-то чертил на песке.
«Ты во что это играешь?» — спросил я.
«Это вот небо, — мягко проговорил он. — Ночное, конечно».
«Правда?» — сказал я, ничего не понимая.
Сам пояснял:
«Вот это луна. А это звезды уцепились за небо. Гляди, красиво, правда?»
Я кивал, но на самом деле ничего этого не видел — только песок и какие-то полоски на нем. Однако для Сама это, должно быть, был настоящий небосвод, ночной, конечно, и тысячи-тысячи звезд на нем. Он мечтательно смотрел на свой рисунок, и выражение лица у него было такое, какое, должно быть, бывало у меня, когда я начинал думать о своем дне рождения. Я вспомнил, как он впервые заговорил со мной о своей великой мечте. Каждому хорошему человеку он хотел подарить звезду. Он твердо верил, что когда-нибудь все зло исчезнет и настанет волшебное царство его мечты.
Родителей Сама уже не было в живых. Мать он совсем не помнил: она умерла при его рождении. Отец его был археологом и погиб во время кораблекрушения. Вот Сам и жил со своим дедушкой. Они снимали маленькую, темную квартирку с окнами во двор, куда и солнышко никогда не заглядывало — такой он был тесный и глубокий.
У дедушки была небольшая бакалейная лавка. В ней-то, к великому ужасу деда, мы с Самом не раз устраивали настоящие сражения. Нашим оружием были новые метлы и щетки. А то мы разыгрывали с ним целые концерты на сковородках и кастрюлях.
При этом Сам так веселился, что и я, заразившись от него, помирал со смеху. В таких случаях дедушка, отпустив по нашему адресу несколько нелестных замечаний, в конце концов выпроваживал нас, подарив по монетке.
«Ступайте, ступайте, дети! Купите себе весь мир!» — говаривал он при этом.
И мы убегали, спеша последовать его совету. Беда заключалась только в том, что никто не хотел продавать нам весь мир. И мы очень быстро уничтожали все свое состояние, обратив его в леденцы.
Так пролетели каникулы, начался новый учебный год. И очень скоро появились и первые вестники зимы — иней на деревьях, чуть смерзшийся песок. Почти все свои свободные часы мы были вместе. Мечтали, смеялись, шалили — чудесно проводили время, если бы только можно было забыть о школе. Наш классный наставник стал штурмовиком. Теперь он всегда ходил в точно таком же мундире, как зубной врач. Моя дружба с Самом, очевидно, не давала ему покоя. И он ежедневно попрекал меня ею.
Но все это было пустяки по сравнению с тем, что вынужден был терпеть Сам! Если первый урок вел наш классный наставник, это начиналось с самого утра. Он выкликал наши фамилии и регулярно не называл только одну — Сама. Затем ом щурил глаза так, чтобы оставалась только смотровая щель, как у танка, и спрашивал язвительно:
«Может быть, я забыл кого-нибудь?»
Сам поднимался со своего места, лицо, как у затравленного зверька.
«Да, меня, — говорил он, — меня вы забыли».
«Что это значит «меня»? — грубо спрашивал учитель. — У тебя что, имени нет, или как вообще с тобой обстоит дело?»
«У меня есть имя. Меня зовут Самуил. Самуил Леви».
«Да что ты говоришь? — восклицал учитель, прикидываясь дурачком. — Самуил Леви, значит. Гм. Это же звучит как-то очень по-еврейски… А может быть, ты и впрямь один из этих «евреев»?» — добавлял он презрительно.
«Да, я еврей!» — говорил Сам, мужественно глотая слезы.
«Так, так, еврей! Такой маленький и уже еврей!..»
После этого начинался урок. Но еще долго на лицах многих ребят можно было заметить гнусную ухмылку. Меня так и подмывало плюнуть им в физиономию. С каждым днем все больше учеников ухмылялись этой грязной ухмылкой. Они смеялись, видя, как Сам мучается, считая его шутом или клоуном. Но когда он хотел ответить на какой-нибудь вопрос, заданный учителем, тот делал вид, будто Сам вообще пустое место. Впрочем, Сам не сдавался, не впадал в отчаяние, а только учился еще прилежнее. Он учился лучше нас всех. Никем в моей жизни я не восхищался так, как я восхищался Самом. Когда же, бывало, Сам не знал ответа на какой-нибудь вопрос, учитель тут же вызывал его к доске:
«Леви!»
Сам, опустив глаза, тихо говорил:
«Я не знаю этого».
«Не знаешь? — подхватывал тут же учитель. — Великолепно! Значит, не знаешь? — Потом он начинал кричать: — За что же тогда, по-твоему, платит национал-социалистское государство? За то, чтобы ты, как пиявка, высасывал из нас кровь? И ничего не делал, а? За то, чтобы ты жил как паразит?! Пять![6] Дневник».
Но и это Сам выдерживал и не плакал. Он выдерживал все оскорбления, не принимая их близко к сердцу. Однако какие-то изменения в нем происходили. Мы уже знали друг друга примерно два года. И того Сама, с которым я когда-то познакомился, давно уже не было. Он стал замкнут, как-то весь ушел в себя, совсем не шалил. Однажды он сказал мне:
«Нет, ничего не получается. Звезды нельзя дарить людям. Они больше земли или такие же. Дедушка мне книжку купил. Там это написано».
Я промолчал, так и не сумев себе объяснить, почему он именно сейчас об этом заговорил.
Немного позднее он как бы продолжил свою мысль:
«А потом, это не так важно. Вот машину, на которой можно полететь к звездам, надо обязательно изобрести. И тогда я возьму с собой всех хороших людей, и мы поселимся все вместе на какой-нибудь звезде. Сразу-то всех мне не поднять на моей машине. Ну что ж, я тогда несколько раз слетаю. Сколько понадобится, столько и слетаю. А ты мне будешь помогать, Вернер, ладно?»
Я кивнул, хотя мне и было очень грустно. Мне же нравилось на нашей земле, несмотря ни на что.
«Видишь ли, Вернер, мы все будем счастливы на этой звезде. А злые люди будут плакать: им будет страшно, когда они заметят, что остались совсем одни на земле. Но мы вернемся, только когда они исправятся и пообещают никогда больше не делать зла». Он улыбался, и его темные глаза светились надеждой.
«А я знаешь как предлагаю, — сказал я. — Давай лучше всех злых людей отправим на какую-нибудь звезду. Земля ведь наша, а не их. Там, на звезде, нет еще ни домов, ни садов. Пусть они сами себе все построят. Это и будет им наказание».
«Ладно, — согласился Сам после длительного раздумья. — Может, мы так и сделаем. Оставим землю для себя».
Никогда бы я не подумал, что потеряю такого замечательного товарища. Но прошел всего год, и так оно и случилось. Повсюду в Германии, словно чума, бушевала расовая ненависть. И вот однажды у нас шел как раз урок истории. Наш учитель — он был все тот же — злорадно потирал себе руки.
«Самуил Леви, — сказал он, — выйди вперед и расскажи всему классу, почему еврейство — главное несчастье нашего народа!»
Сам побледнел, но остался сидеть. Учитель подошел к нему, схватил за воротник, вытащил его из-за парты и поставил у доски.
«Ну, что я тебе сказал?..» — рявкнул он.
Сам скорее висел, чем стоял, и глаза его как бы спрашивали: «За что?»
Голос его был едва слышен, когда он начал говорить.
«Не могу я поверить, чтобы мы могли быть несчастьем немецкого народа. Право, не могу! Очень прошу вас, я правду говорю!» Он зарыдал, и учитель толкнул его к парте.
«Мы — немцы, великий и героический народ, — начал он немного спустя. — Многие столетия мы ведем беспримерную борьбу за место под солнцем. И это место мы добудем себе, ибо нет народа, равного нам. Всемирное еврейство и большевизм никогда не заставят нас отказаться от этого места. Они враги наши, они хотят лишить нас жизненного пространства, и каждый немец должен ясно отдавать себе отчет: они или мы!..» И так далее, и тому подобное.
Вся эта болтовня его была ужасна. Я уже не мог выносить ее. А каково же было Саму? Потом учитель стал нам преподносить всякие россказни о том, какие евреи — чудовища. Мне было стыдно перед Самом, перед его дедушкой. Они же были не только люди для меня — я хотел брать с них пример. Я ненавидел учителя, но я не мог понять, зачем он это делает, зачем это нужно государству? Разве я мог тогда знать, это нацистскому государству нужно было одурачить немецкий народ, натравить его на другие народы, подготовить к войне. И так как Германии никто не угрожал, то нацисты натравливали народ на мнимых врагов, они придумывали этих врагов.
Большинство учеников поддавалось этому. Кое-кто вообразил, что он и впрямь лучше всех, ребята сделались надменными и наглыми. У них родилось чувство ненависти к евреям. И Сам это чувствовал с каждым днем все острее.
После урока истории несколько учеников поджидали Сама на улице. А он шагал рядом со мной весь какой-то взъерошенный и все время молчал, но я знал, что мое присутствие ему сейчас приятно. Неожиданно наши одноклассники заступили нам дорогу.
«Отойди-ка в сторонку!.. — сказал один из них мне. Он встал перед Самом и крикнул ему прямо в лицо: — Смирно!»
Сам как будто и не слышал его, и тогда этот наглый парень ударил моего Сама в лицо.
Я весь так и кипел, но все еще колебался. Быть может, меня отпугивало превосходство сил?
«Слушай ты, еврейский ублюдок! — сказал теперь этот тип. — Считаю до трех — или ты скажешь громко: «Мне стыдно, что я еврей», или тебе влетит по первое число».
Остальные ребята обступили Сама со всех сторон и гнусно ухмылялись. Заводила начал считать:
«Раз… два…»
Тут я уже не выдержал. Рука моя поднялась как-то сама собой, и я ударил наглого парня в лицо. Он выплюнул зуб и еще долго плевался, так и не поняв, что, собственно, произошло. Теперь и Сама будто встряхнули. Я еще видел, как он размахивал руками, отбиваясь от наседавших на нас учеников. Потом я уже ничего не видел. Нас смяли, и я упал. Противников было слишком много. Но мы долго сопротивлялись. Ожесточение удвоило наши силы. Внезапно они отпрянули от нас. Мы с Самом поднялись и увидели ненавистную рожу классного наставника.
«Вот, значит, как! — тихо прошипел он. — Вернер Линднер защищает евреев!»
«Это не мы напали!» — поспешил сказать Сам.
«Молчать! Тебя никто не спрашивает! — закричал учитель и вновь обратился ко мне: — Как зовут директора твоего интерната?»
Я сказал ему.
«А когда у него приемные часы?»
«Кажется, он весь день у себя в кабинете».
«Прекрасно. Превосходно!» — произнес он несколько раз, оставив нас одних.
«Теперь тебе попадет!» — заметил Сам, когда остальные ученики отошли подальше.
«Знаешь, — сказал я, — мне лучше и не возвращаться в приют».
«И незачем. Ты и у нас переночуешь».
Но когда мы пришли к Саму, дедушка мне отсоветовал:
«Если ты удерешь из своего заведения, ты только хуже сделаешь. Полиция начнет тебя разыскивать и прежде всего явится сюда. Кроме того, настоящий честный человек защищается, дает отпор, а не удирает при первом удобном случае. И если вы уж назвались друзьями, ты и Сам, вы должны отстаивать свою дружбу».
Зная, что старик желает мне только добра, я, набравшись мужества, отправился в приют.
Там все уже приготовились встретить меня. В кабинете директора собралось, кроме него самого, пять воспитателей. Они таращили на меня глаза, ничего не говорили, и я почувствовал себя дичью, попавшей в западню. Директор откашлялся и встал. Хотя он говорил тихо, однако речь его должна была стереть меня в порошок.
«Ты добился своего — ты стал позорищем для нашего заведения. И надо признать, ты превзошел все, с чем мы сталкивались в последние годы. Национал-социалистское государство предоставляет тебе возможность овладеть науками, подвинуться вперед, хоть ты и растешь сиротой, а ты замазал грязью все, что для нас свято».
Я сидел на стуле, а он сверху взирал на меня. Вдруг он раскричался:
«Ты что? Как ты посмел предать наши самые высокие идеалы?»
Шея его налилась кровью, он кричал, как резаный, но я его не слушал. Мне все казалось каким-то дурным спектаклем, в котором вместо артистов выступают черти. И я вдруг понял, что я всю жизнь буду ненавидеть всех тех, кто будет говорить так, как сейчас говорил директор интерната. Я сидел и плакал, но не от страха. Я плакал от злости, что я не взрослый и не могу встать да отлупить этих негодяев.
Теперь воспитатели принялись клевать меня. Но я не обращал на них никакого внимания. Тут мне бросилось в глаза, что один из воспитателей все время молчит и порой, мне казалось, он как-то по-доброму посматривает на меня.
Услышав слове «наказание», я невольно насторожился. Мне приказали написать сочинение на тему «Позор всем, кто водится с евреями!». И это сочинение должны были вывесить в столовой приюта на доске объявлений.
«Мы тебе предоставляем последний шанс! — напутствовал меня директор. — Воспользуйся им, в противном случае я уже ни за что не отвечаю. А теперь отправляйся в спальню».
Словно во сне я побрел по коридору. Нет, никогда я не напишу такого сочинения! Это будет предательством. Чудовищным предательством! В спальне я оказался один. На душе у меня было так плохо, что я готов был выброситься из окна.
Вдруг кто-то вошел. Это оказался тот самый воспитатель, на которого я обратил внимание во время допроса: он так ласково глядел на меня и ни чуточки не ругал. Он подошел к окну. Я приподнялся и молча смотрел на него. На улице, кружились осенние листья, завывал ветер.
Неожиданно воспитатель заговорил, скорее обращаясь к самому себе, чем ко мне:
«Ты не напишешь этого сочинения!» Теперь он повернулся лицом ко мне.
Я сидел не шелохнувшись и молча глядел ему в глаза. Он сказал:
«С твоим другом тебе придется расстаться. На некоторое время, во всяком случае. Иначе вам обоим будет плохо. — Он положил руку мне на голову. — Ты на верном пути, Вернер, — продолжал он. — Но тебе надо соблюдать осторожность. Когда-нибудь настанет время, и никто не будет верить, что здесь, в Берлине, и во всей Германии, могло такое происходить. Береги свою честь для тех времен».
Всего этого я не понимал. Мне было страшно, и я только догадывался, что до волшебного царства, о котором мечтал Сам, царства, где уже не будет зла, еще очень и очень далеко.
«Что же мне делать?» — спросил я воспитателя.
А у него, оказывается, был наготове определенный план.
«Ты отправишься к директору интерната, — сказал он, — и сделаешь вид, будто ты сожалеешь о происшедшем. Попроси прощения, обещай ему, что никогда больше не будешь играть со своим другом-евреем. Скажи, что ты чувствуешь и понимаешь свою вину, но только пусть он тебя простит и не заставляет писать сочинение. Иначе, мол, тебе стыдно будет перед интернатскими ребятами…»
«А я не чувствую никакой вины», — прервал я его.
Он улыбнулся доброй и грустной улыбкой.
«Конечно, ты и не можешь чувствовать никакой вины. Этого еще не хватало! Неужели ты думаешь, я мог бы тогда с тобой так разговаривать? И тем не менее директору ты должен это сказать. Никакого предательства по отношению к твоему другу здесь нет. Это ложь во спасение, тебя принудили к ней».
Я все еще всхлипывал, но кивком дал понять, что согласен. Тут из коридора донеслись чьи-то шаги, но никто не вошел. Воспитатель знаком велел мне молчать, подошел к двери, прислушался и тихо сказал:
«Запомни: мы с тобой незнакомы и никогда ни о чем не говорили».
Я снова кивнул, и он оставил меня одного.
Вечером я нерешительно постучал к директору приюта. Конечно же, он прочел мне длиннейшую нотацию, без конца повторял, какой я нехороший, но все это уже не было столь важно для меня. Важно было одно: он не требовал от меня сочинения.
И все же по-настоящему тяжело мне стало на душе только на следующий день. Как я посмотрю Саму в глаза? Сидеть на занятиях в школе стало для меня сплошным мучением. Я чувствовал себя предателем. Все перемены я торчал в уборной, а во время уроков старался не смотреть на Сама. Должно быть, и он, поняв, что что-то случилось, не подходил ко мне.
Кончились занятия. На улице я чуть не попал под автомобиль. Я был совершенно вне себя. Неожиданно я увидел, что Сам шагает рядом со мной.
«Я ведь понимаю тебя, — тихо и ласково проговорил он. — Но так нам расставаться будет нехорошо».
Я остановился и посмотрел на него. Слезы застлали мне глаза.
«Нет, Сам, — сказал я, — ты даже не представляешь себе, как все плохо. Но я же правда не виноват».
«Нет, ты не виноват, — согласился он. (Но мне все равно хотелось просить у него прощения.) — И правда, лучше, чтобы мы не встречались… — продолжал он. — Я же только хотел поговорить с тобой перед расставанием».
Я схватил его за руку, я умолял его:
«Пойми меня, Сам, настанет время, и всем будет стыдно за все то, что теперь происходит у нас». Так я пытался утешить его словами воспитателя, услышанными накануне.
«Да, это время настанет, — тихо-тихо проговорил Сам, так что я еле разобрал его слова. — И тогда мы опять будем неразлучными друзьями, правда?» Лицо его озарилось улыбкой, только в его темных глазах так и застыл вопрос: «За что?»
Он медленно повернулся и пошел. Я, казалось, окаменел, и только когда он был уже довольно далеко, крикнул:
«Да, Сам! Да, да!..»
Последующие месяцы на многое открыли мне глаза. Я стал размышлять о многом, чего прежде и не замечал. Я обратил внимание, например, на некоторые расклеенные по городу объявления. В них говорилось о вынесении смертных приговоров людям, обвиненным в государственной измене.
Порой, видя, что никто не наблюдает за мной, я гладил черные афишные буквы, из которых были составлены эти имена. Но вот скоро настал день, когда я окончательно понял, за что я полюбил этих людей. Случилось это точно в тот день, когда нашего классного наставника назначили директором школы. Я никогда не сомневался в его подлости, в его злобе, что, должно быть, и помогло ему так выдвинуться.
А воспитатель, который помог мне, уже месяца три как не показывался в приюте. Почему? Мы так никогда и не узнали. И вот я, выйдя на улицу, снова увидел объявление о смертном приговоре. На сей раз на афише значилось имя моего воспитателя. Я не могу сказать, заплакал ли я тогда. Но, быть может, именно тогда у меня впервые зародилось желание стать таким же, каким был этот воспитатель. Во всяком случае, в последующие годы я шел по тому пути, который он мне указал. И то был нелегкий путь — он прошел на волосок от плахи, вел через многие тюрьмы, штрафной батальон и наконец привел меня в советский плен. Но, шагая по этому пути, я сохранил свою честь незапятнанной…
Однако вернемся к Саму и нашей общей с ним истории. Мы виделись каждый день, но никогда больше не разговаривали. Мы всячески избегали встреч и только издали украдкой приветствовали друг друга. Нечистая совесть мучила меня, а Сам страдал от одиночества и тех проклятий, которые каждый день сыпались на его голову. Порой я ненавидел себя, оттого что ничего не предпринимал против этого, но пока что у меня не было достаточно сил начать подобную борьбу. Однако и самая крепкая тетива рвется, если ее натянуть слишком сильно. Так случилось и со мной.
Это было в школе. Прозвенел звонок на перемену. И мы без оглядки бросились во двор. Так, наверное, поступают школьники всего света. Перемена так перемена! Возле дверей в коридоре стоял наш бывший учитель, а теперь директор школы. Он пропустил нас всех, но Сама задержал, набросившись на него:
«Кто это тебя научил не приветствовать директора?»
Сам, запинаясь, пробормотал:
«Извините. Здравствуйте…»
Директор тут же отхлестал его по щекам и от этого еще больше распалился.
«Как надо здороваться? Ублюдок ты жидовский! Где твое «Хайль Гитлер!»? А теперь зайди в класс и выйди еще раз!»
Сам зашел в класс, потом снова вышел и, вытянув руку, сказал:
«Хайль Гитлер!»
При этом голос его осекся, и его едва было слышно.
Директору это показалось недостаточным. Он вновь и вновь загонял Сама в класс, заставляя его повторять церемонию приветствия без конца. Кругом стояли явно наслаждавшиеся мучениями Сама ученики. Я тоже стоял там, кусая губы до крови и дрожа от гнева и возмущения. Я готов был задушить директора.
Вот тогда-то я и принял твердое решение: пойду к Саму, пусть он всегда рассчитывает на мою помощь.
После занятий я отправился на квартиру к дедушке Сама. Я застал своего друга одного.
«Заходи, — произнес он, как будто вообще ничего не случилось и наша дружба ничем не была омрачена. — Я ведь знал, что ты придешь».
«Сам… Сам…» — бормотал я, не зная, что сказать.
«Да оставь ты! Все прошло!» — Сам улыбнулся.
«Нет, Сам, — сказал я. — Все начинается сначала. Но мне это безразлично. Больше, чем убить, они ведь не могут. Я теперь навсегда останусь твоим другом. Навсегда!» Помнится, я тогда даже поднял руку, как бы для клятвы.
«Таких друзей, как мы с тобой, — сказал Сам, — никто не разъединит. Никто во всем свете!»
Он стоял посреди комнаты и был очень похож на маленького профессора.
Мы помолчали немного. На дворе мусорщики громыхали баками. Наконец Сам прервал молчание.
«Знаешь, кем я буду, когда вырасту?» — спросил он.
«Знаю. Ученым. Ты же должен изобрести машину, на которой ты полетишь к звездам».
Но он покачал головой.
«Нет, не ученым. Во всяком случае, не сразу. И знаешь, для злых, для плохих людей мне жалко звезд. Звезды и землю мы оставим для себя. Дедушка говорит, что злые люди, те, что сейчас злые, они не исправятся никогда. — Он сделал паузу и заговорил как-то особенно убежденно. — Я буду генералом! И ты тоже. У нас будет большая армия. И мы прогоним плохих людей до самого океана. Пусть тонут все, все! Зачем они так мучают меня?» Последние слова он произнес очень тихо.
«А как же звезды? — снова заговорил я. — Ты же хотел полететь к звездам, Сам?» Я никак не мог примириться с тем, что Сам так легко расстался со своей мечтой.
«Погоди, дойдет очередь и до звезд! — ласково ответил он мне. — Будем в отпуск летать на звезды, каждый год. Но сначала надо здесь на земле все устроить по-хорошему».
«Тогда я согласен. Я тоже буду генералом!»
Было уже поздно, когда мы разошлись. На сей раз мне было совсем нетрудно соврать что-то директору нашего приюта. Это была определенная мера предосторожности, которая только помогала нашей дружбе. И хотя мы могли видаться только у дедушки, мы там замечательно проводили время. Мечты наши с каждым днем делались все смелее. Мы никогда не могли наговориться досыта.
И все же нам всегда казалось, что детство наше давно уже позади. Порой мы брали в руки какую-нибудь книгу и читали. Но вскоре я заметил, что Сам не переворачивает страницы, и сидит задумавшись. Что-то происходило с ним, о чем он мне не говорил, что-то точило и грызло его день и ночь. Возможно, он тогда уже подозревал, что не доживет до своего волшебного царства. Я не знаю. Ведь когда бы он со мной ни заговаривал о будущем, он всегда бывал полон уверенности.
Шел 1938 год. В октябре, словно в августе, грело солнышко. Никто и не замечал, что деревья уже стояли голыми — целые стаи воробьев, словно веселые листья, порхали меж ветвей. Но вот настал день, когда солнце, казалось, издевается над людьми. По дороге в школу мне представилась чудовищная картина. Ночью орды штурмовиков подожгли синагоги — еврейские церкви, разграбили магазины, принадлежавшие евреям. На разбитых витринах виднелись такие, с позволения сказать, лозунги: «Немец не покупает у еврея!» или «Мировое еврейство принесет тебе гибель!» Все улицы были запружены распоясавшимися штурмовиками с наглыми рожами. От стыда я обливался слезами.
В тот день Сам не пришел в класс. С каждым часом мой страх возрастал, и после большой перемены я под предлогом нездоровья отпросился. Сперва я побежал на квартиру дедушки Сама, но никого там не застал. Тогда я отправился в маленькую бакалейную лавку. Но меня не впустили внутрь. У дверей стояли штурмовики. Витрина была разбита вдребезги. На тротуаре повсюду валялось стекло. На дверях красовалась огромная шестиконечная звезда, которой, словно прокаженных, метили всех людей еврейской национальности. Я снова бросился на квартиру к дедушке. Опять там никого не застал. Бегал туда-сюда до тех пор, пока не свалился от усталости.
Следующие два дня ничего не изменилось. Сам так и не приходил. А я искал его повсюду. В конце концов я уже решил, что его нет больше в живых. Но вот на четвертый день я его вдруг увидел. Когда я возвращался из школы, он поджидал меня неподалеку от сиротского приюта. Но он не был похож на Сама, которого я так хорошо знал: глаза ввалились, под ними — черные круги и бледный-бледный, как смертельно больной человек. Лицо все время дергалось. При этом он непрестанно оглядывался, словно ожидал погони.
«Уйдем отсюда, — были его первые слова, — вон там безопаснее».
Я последовал за ним, но все еще не мог вымолвить ни слова. Мы шли безлюдным переулком.
«Где же ты был все это время?» — спросил я наконец.
«Где? — переспросил он, должно быть над чем-то глубоко, задумавшись. — Ах да… где? У знакомых. У знакомых, понимаешь, только у знакомых».
Я обнял его за плечи.
«Сам, скажи мне, что с тобой?»
«Ничего, — ответил он и остановился. — Дедушка умер!» Глаза его при этом горели.
«Это они… убили его?» — спросил я, запинаясь.
Он покачал головой.
«Нет, он умер. Не вынес всего, что было в последние дни».
Мы снова шагали дальше. Я хотел его как-нибудь утешить, но не находил слов.
«А как же теперь? Тебя отправят в приют?»
«Нет, я уеду».
«Куда?»
«В Америку. Многие евреи уезжают в Америку. Я знаю, мне говорили».
По тому, как он это сказал, я понял: решение его было твердым и окончательным.
«А ты знаешь, где она, эта Америка?»
«Конечно, знаю. Я посмотрел в атлас. Сперва надо добраться до Гамбурга. Ближе всего туда вон по той улице. И все время прямо. В Гамбурге я наймусь на пароход, буду юнгой. А может, и зайцем проеду… Знаешь, как в книжках про это пишут».
«Знаю», — ответил я. Но на самом деле все это не умещалось у меня в голове. Нет, этого я не в силах был постигнуть. А потом мне вовсе не хотелось расставаться с Самом.
«Когда же ты пойдешь?» — спросил я в страхе.
Он посмотрел на меня с некоторым сожалением: какой же я несообразительный!
«Сейчас. Сейчас и пойду. Я же только хотел попрощаться с тобой».
Он даже улыбнулся, но я приметил, как трудно далась ему эта улыбка.
«Ты еще немного проводишь меня, да?» И он потянул меня за собой.
Я шагал молча. Мне надо было удержаться от слез, а это легче всего, когда молчишь. Сам оказался намного сильнее меня. Он все время о чем-то говорил. О каких-то пустяках, о прежних наших шалостях, вспоминал дедушку, говорил о тех немногих радостных минутах, которые мы тогда вместе с ним пережили. Но как-то бессвязно, и в конце концов я догадался — он хотел меня отвлечь. Быть может, и себя самого тоже.
Потом он еще раз остановился.
«Не надо грустить, — сказал он. — Когда-нибудь ведь я вернусь. И, пожалуйста, не тревожься за меня! Я все собрал, что необходимо для такого далекого путешествия. Даже денег накопил: семнадцать марок и восемьдесят пфеннигов. Штурмовики их не нашли при обыске».
Я молча разглядывал его. На нем не было даже пальто, он был в своем обычном костюмчике. В руках — старая, обшарпанная, коричневая школьная сумка.
«Знаешь, и из Америки мы можем с тобой переговариваться. Там ведь те же самые звезды, что и здесь. Надо только смотреть на них и думать друг о друге».
«Да? Но нет, кажется, нельзя так. В Америке ночь, когда у нас день. И наоборот».
Сам был разочарован. Но он быстро нашел выход.
«Ну и что же? Ты будешь смотреть на солнце, а я на звезды, но только в один и тот же час».
Мы уже дошли до окраины Берлина. Неожиданно впереди показалась группа старших ребят из Гитлерюгенда[7]. Пока гитлерюгендовцы не обращали на нас никакого внимания. Но вдруг Сам отпустил мою руку и бросился через улицу. Он бежал так быстро, будто за ним гнались собаки.
Я стоял как вкопанный и ничего не мог понять, глядя то на убегавшего Сама, то на гитлерюгендовцев. В первую минуту они, должно быть, не поняли, почему и от кого убегает этот мальчик. Они даже засмеялись. Но тут один из них воскликнул:
«Ребята, да это еврей!»
Смех мгновенно умолк, и в наступившей тишине послышался голос:
«Ясно — еврей!».
И тут же двенадцать пар ботинок затопали по мостовой. Началась погоня. Гитлерюгендовцы промчались мимо меня. И только тогда я понял, какая опасность угрожает Саму. Я выкрикнул его имя, не зная зачем, да он и не услышал меня. Но теперь я окончательно очнулся от своего оцепенения. Теперь я уже бежал за гитлерюгендовцами, надеясь нагнать Сама и защитить его.
Однако расстояние между ними и мною оказалось уже довольно значительным. Да и было им лет по шестнадцати. И все же они долго не могли нагнать Сама — страх заставлял его бежать с невероятной быстротой.
Скоро они разбились на две группы. Одна из них свернула в проулок. Я, зная эти места, понял их замысел. Проулок вновь выходил на главную улицу, и гитлеровцы надеялись таким образом отрезать путь Саму. За этой-то группой я и побежал, уже сильно задыхаясь и еле поспевая.
Несколько минут спустя я все же нагнал их. Однако поздно. Слишком поздно…
Сама уже не было в живых. Он лежал рядом с автобусом, въехавшим передними колесами на тротуар. Водитель, обливаясь слезами, бормотал:
«Прямо под колеса выскочил, словно нарочно!.. Прямо под колеса!.. А улица-то вон какая широкая…»
Не отрываясь я смотрел на Сама. Его черные глаза были открыты и как бы спрашивали: «За что?»
Водитель автобуса без конца повторял:
«Улица-то вон какая широкая!..»
Я, быть может, был единственным здесь, кто знал: для Сама она была узка, слишком узка, и он должен был угодить под колеса.
Я отошел, в сердце своем унося два образа, которые не смогли стереть ни время, ни долгий путь, пройденный мною до сегодняшнего дня. То были образы моего казненного воспитателя и Сама.
Весь класс сидел затаив дыхание.
Прежде чем распустить ребят по домам, учитель Линднер сказал:
— Отнеситесь по-товарищески к Клаусу и Гейнцу. Им теперь очень тяжело.
По дороге домой никто не разговаривал. События сегодняшнего дня потрясли учеников. Глубоко задумавшись, шагали ребята из Союза мстителей.
Неожиданно для себя они, должно быть, сделали вывод: «А новый учитель — мировой парень!»
Только Альберт шел нахмурившись. Именно потому, что и его захватила история, рассказанная учителем, он и злился. «И к чему он это нам рассказал? — думал он. — Хочет облапошить нас, чтобы под конец мы делали все, что он ни захочет». Альберт не верил, что человек может совершать и бескорыстные поступки. Весь его мальчишеский опыт говорил об обратном. Но все же он, вскинув голову, проговорил:
— Не будем их больше бить!
— Кого? — спросил Сынок, расправив свои атлетические плечи.
— Синих, а кого же еще? — гаркнул Альберт, чтобы Сынок не подумал, будто шеф вдруг испугался.
Ему показалось, что ребята чересчур уж обрадовались его решению, а это было ему не по душе. Ведь учитель Линднер все равно его враг. И если мстители будут чересчур уж миролюбиво настроены, это может стать опасным. Поэтому Альберт добавил:
— Все бить да бить — надоело вроде! Надо что-нибудь другое придумать. — Он пристально всматривался в лица своих друзей и случайно остановил свой взгляд на Вальтере.
Не на шутку испугавшись, Вальтер сразу сделал вид, будто глубоко задумался: а вдруг шеф догадался, что он, Вальтер, и есть тот самый воришка, который совсем недавно и только на свой страх и риск очистил коптильню Лолиеса. И так уж разговоры по всей деревне пошли…
Глава шестая ПЕРЕБЕЖЧИК
Было как раз то время, когда вечер, будто играя в жмурки, завязывает дню глаза, и только далеко за околицей, там, где небо встречается с землей, краешку облаков достается чуть-чуть солнечной позолоты. Ласковое это зрелище похоже на молчаливую улыбку — она горит и искрится. И одна-единственная искра ее проникает через окно и падает на кухонный стол в доме убийцы. За столом, не сводя своих грустных миндальных глаз с этого светлого пятнышка, сидит женщина такой редкой красоты, что ни один поэт не смог бы ее описать. Ей лет тридцать. Словно корона, всю ее фигуру венчает тяжелый пучок золотых волос.
На столе стоят две тарелки и две миски с картошкой и селедкой.
Вошел Манфред, сел и сразу же принялся за еду. Прошло немного времени, и он поднял голову. Не прикоснувшись к картошке, мать все еще смотрела на светлое пятнышко. Манфред пододвинул тарелку и закрыл солнечное пятнышко:
— Ешь, а то опять остынет.
Женщина не шелохнулась. Она сидела, будто в глубоком сне. На стол упала слеза.
Манфред отложил вилку. Опять ревет! Злость готова была хлестнуть его. Только и знает что реветь! Ему хотелось сказать что-то, дать выход своему раздражению, но вид у матери быт беспомощный, как у ребенка, проснувшегося после страшного сна. Она поднялась и легла на кровать, дав наконец волю слезам.
Манфред сдержался. Надо подождать. Да и ничего не поделаешь. Пройдет время, и мать сама успокоится. Неожиданно он подумал: «Почему я, почему именно я сижу вот здесь?» И тут же сам ответил: «Это моя судьба». Но нет, судьба могла быть и счастливой. А почему одни люди бывают счастливые, а другие — несчастливые. И почему на его долю выпала несчастливая судьба?
Мать, лежащая где-то там на кровати, комната — все куда-то отступило. И Манфред погрузился в воспоминания.
Тогда… да, тогда отца еще никто не называл убийцей…
Деревушка их, словно островок, затерялась в богемском лесу. Лес шумел, как море. Ветер гнал зеленые волны по его кронам. А под ними скрывались тысячи тайн. Отец у Манфреда был громадного роста. На одной его ладони Манфред мог построить целый замок из песка. Отец работал дровосеком и был всегда такой же мрачный, как старый дуб в заповеднике. Когда мать шла рядом с ним, она была похожа на звездочку рядом с тучей. Только эта туча любила звездочку и всегда позволяла ей сиять. И Манфреду это тоже очень нравилось. У его матери был прекрасный голос, и она пела целый день. Иногда отец приносил ей подарки из лесу. Деревенские мужики смеялись над ним. Но смеялись больше из зависти. Мать Манфреда все в деревне называли лесной королевой. А она очень любила подарки отца, хотя никогда не знала, что с ними делать. Как-то раз он приволок огромное бревно и положил его прямо на стол. Годовые кольца на срезе изогнулись сердечком.
На следующий день они чуть не убили друг друга — дровосек и деревенский кузнец. У кузнеца были руки что кувалды, а лицо красное-красное, будто его обжег огонь в кузне. Больше всех в деревне он ненавидел отца — за то, что мать вышла за него. Как узнал кузнец про дерево с сердцами на срезе, так сразу поехал в город. Он привез матери букет роз из оранжереи и сказал: «Брось бревно в печь, а розу к сердцу прижми». Мать выгнала его из дому и бросила розы вслед.
Каким-то образом об этом узнал отец. Драка была такая, что после нее на кузнице три недели висел замок. Но и отцу порядком досталось.
Зимой из города пришла бумажка — ордер на костюм защитного цвета. Так, во всяком случае, говорил тогда отец, и Манфред очень удивился, почему же мать плачет. Они поехали в город и на станции увидели отца. Он уже был в новом костюме. Там толпилось еще много мужчин — все в таких же костюмах. Они ждали своих жен и детей. Паровоз засвистел, в морозном воздухе расплылись клубы пара, все сразу закричали, и мать повисла у отца на шее. А он, оттолкнув мать, прыгнул на подножку. Кузнец уехал с тем же эшелоном.
С той поры мать уже не пела, даже когда отец приезжал на побывку.
Манфреду шел уже десятый год. Неожиданно пришел приказ: всем немцам собраться в течение десяти часов и прибыть в округ, оттуда их эвакуируют в рейх.
Мать не боялась русских и хотела остаться. Совесть у нее была чиста. Но солдаты в черных мундирах с черепом на рукавах прикладом погнали ее. «Кто сам не поедет, того к поезду сзади привяжем», — говорили они.
Так Манфред с матерью оказались в Бецовских выселках. Они устроились в развалившемся домишке, где давно уже никто не жил.
Мать стала работать в лесу. В питомнике. По вечерам она сидела с Манфредом у плиты и рассказывала про отца, о кузнеце и многих других жителях родной деревни. Манфреду всегда казалось, будто он сидит в кино, и он представлял себе все так ярко, что потом уже не мог отделить рассказанного от пережитого им самим.
От отца давно не приходило никаких известий. Они не знали, жив он или погиб. Время шло, и в маленьком домике делалось все тише и тише. Теперь они с матерью чаще всего сидели молча и смотрели на медленно темневшие угли в печи.
В 1946 году вернулся из плена кузнец. Нежданно-негаданно он пришел к ним и стал у порога. Никто не мог сказать, как он их отыскал в Бецовских выселках. Сам-то он говорил — случай помог. Мать так и впилась в него глазами: может, он ей сообщит, что с отцом? «Как говорится, пал смертью героя», — сказал кузнец.
Мать кричала так громко и долго, словно на нее одну обрушилось горе всех жен и матерей, потерявших родных на войне. После этого она часто сидела, будто спала с открытыми глазами, а когда Манфред окликал ее — отзывалась только на второй или третий раз. Как будто жизнь проходила мимо, а сама она смотрела на нее со стороны, словно безучастный зритель.
Кузнец в это время часто помогал им. Самую тяжелую работу за мать делал. Но когда мать пыталась расспросить его, как же погиб отец, он уклонялся от ответа. А один раз даже что-то напутал. Во всяком случае, Манфреду так показалось. А потом он перестал ходить к ним.
Но вот с некоторых пор с матерью стало твориться что-то неладное. Она почти уже не говорила и была такая безучастная, как никогда. Манфред заметил, что она пополнела. «Беременная», — говорили в деревне, и еще говорили плохие слова про мать и их дом. И даже кузнец это говорил. Манфред не знал, куда глаза девать от стыда.
Снова настало лето. Солнце на небе совсем заморило ржаные поля. В воздухе, как туман, висела пыль. Манфред и его мать обедали. Кто-то постучал в дверь. Увидев на пороге отца, мать закричала. Весь он был какой-то опухший, но глаза его по-прежнему горели огнем и смеялись. Мать бросилась к нему на шею, он поднял ее на руках, и тогда он заметил. Лицо его словно раскололось. Он ничего не сказал, но мать стала так кричать, что Манфреду пришлось заткнуть себе уши. В промежутках она говорила что-то о насилии, о кузнеце, потом снова страшно кричала, а лицо отца никак не вставало на место. Мать судорожно обнимала его колени. А он стоял, как дуб в бурю. Наконец он отвел ее руки. Мать утихла и больше не удерживала его. Пошатываясь, отец вышел на улицу. В глазах матери застыл ужас. Манфред с трудом дотащил ее до кровати и уложил. Он сидел рядом и плакал. Отец его даже не заметил.
Когда стемнело, отец вернулся. Тяжелый, как колода, он опустился на скамью. Сидел и молчал. Вдруг с улицы донесся шум. К их дому сбежалась почти вся деревня. Люди кричали наперебой:
— Он кузнеца убил!
— Бейте его!
— Убийца!
— Тащите его из дому!..
Зазвенели стекла. Кто-то бросил в окно булыжник. Камень попал отцу в спину. Но он только встряхнулся и так и остался сидеть.
Полиция спасла его от гнева деревенских жителей. На пороге отец еще раз обернулся и, глубоко вздохнув, в последний раз посмотрел на мать и Манфреда.
Мать надолго слегла. Ребята в школе стали избегать Манфреда, а то и поколачивали. От этого он почувствовал себя совсем одиноким.
Отца приговорили ко многим годам тюремного заключения. В день приговора у матери случились преждевременные роды. Ребенок оказался мертвым. А мать смеялась, смеялась, как смеются дети на каруселях, когда у них кружится голова. Но потом она снова надолго умолкла. Только плакала все ночи напролет.
В школе Манфреду было очень тяжело. Ребята относились к нему как к прокаженному. Иной раз даже камнями в него бросали. Тогда он еще учился в Штрезове и мечтал об одном — отомстить! Но один он был слишком слаб. И он решил учиться лучше всех, чтобы в школе его уважали. Тогда ребята стали говорить, будто он карьерист. А когда он отвечал у доски, ребята хихикали: они думали, что он важничает.
Как-то раз, когда ему казалось, что хуже уж и быть не может, с ним заговорил Альберт:
— Хочешь — приходи к нам.
И Манфред пришел. Не потому, что ребята Альберта его понимали, а потому, что все они, как и он, хотели мстить.
Манфред закашлялся, и это вернуло его к действительности. Солнечное пятнышко давно уже исчезло, на мокрой черепичной крыше, видной из окна, поблескивал месяц. Манфред обернулся: мать заснула. А ведь и правда пора спать. Раздеваясь, он думал: «И почему у меня такая несчастная судьба? Почему все так случилось? Почему?»
Ответа на эти вопросы он не знал. Он даже представить себе не мог, как это бывает, когда кругом царит мир. Он знал только, как бывает, когда война или когда она только что кончилась…
Прошло уже два часа, с тех пор как Гейнц Грабо взобрался на чердак. Солнце так напекло крышу, что нечем было дышать. И Гейнц то и дело вытирал пот со лба. Гнев и боль искажали его лицо. Он все ненавидел, все, что не было им самим, — будь то человек или вещь…
Клаус Бетхер ему уже не друг, он хорошо это знал, да и остальные ребята, сыновья крупных хозяев в деревне, сторонились его после ареста отца. Они не хотели больше дружить с ним. Они не прогоняли его, но и не делились больше с ним своими планами. Под ногами у Гейнца валялись старые географические карты и прочие наглядные пособия. От нечего делать он, поднявшись сюда, перерыл всю эту рухлядь. Но ничего интересного вроде пистолета или клада не нашел и оставил это занятие. А потом взял да растоптал все, что попадалось под ноги.
В конце концов голод согнал его с чердака. Но и внизу все было мертво и пусто. Мать куда-то ушла. С тех пор как увезли отца, она работала в поле у богатых крестьян поденщицей. Гейнц так разозлился, что забыл о голоде. Он ненавидел мать за эту работу — она унижала его перед товарищами. Он уже не сын учителя, а сын поденщицы. Будь она проклята, такая мать! На письменном столе стояла ее карточка, рядом — отца. Мать улыбалась. Гейнцу это было противно. Разве она могла понять его? Понять, в какую он попал беду? Вместо того чтобы поддержать, ободрить его, она теперь работает поденщицей и еще смеется на этой карточке! Нет, этого он уже не мог вынести! Гейнц схватил карточку в застекленной рамке и швырнул ее об стену. Стекло разбилось. Подняв фотографический снимок, он разорвал его на кусочки и разбросал по всей комнате. На ковре остался узор из белых бумажек. Это немного успокоило его. Гейнц сел за письменный стол перед портретом отца. Потом подошел к зеркалу и пробовал принять такое же важное и строгое выражение.
Выглянув случайно в окно, Гейнц увидел Клауса Бетхера и еще двух сыновей богатых хозяев. Стараясь поднять побольше пыли, они волочили ноги. В руках у каждого было по остроге.
Отбросив все сомнения, Гейнц выскочил на улицу. Пусть только посмеют его не принять — он им покажет!
Ребята остановились и стали перешептываться. Но к этому Гейнц уже привык. Он подошел.
— Хоть и запрещено с острогой на рыбалку ходить, но я, так и быть, уж пойду с вами.
— Это еще зачем? — возразил ему Клаус. — Без остроги ты только мешать будешь.
— А ты мне свою дашь, я разок и попробую.
— Ничего не выйдет. Я сам ее взял на один раз у знакомого. А одолженную вещь нельзя передавать.
Гейнц вскипел:
— А я знаю — это твоя острога!
— Может, и моя, — холодно согласился Клаус и зашагал дальше.
Оба его спутника злорадно посмеивались.
Больше всего Гейнцу хотелось тут же подраться, но ведь потом в два раза скучней одному будет, да тут еще скоро летние каникулы начнутся…
Они шли гуськом по тропинке, прямо через луга. Порой издали доносился шипящий перестук. Это косари правили косы. Когда ребята приблизились к каналу, о Гейнце все уже забыли. Держа острогу, как боевое копье, Клаус и его товарищи обходили берег. Увидев рыбу, они метали острогу и вытаскивали какую-нибудь маленькую щучку. А крупная рыба, ударяя плавниками, уплывала. Гейнц плелся за ребятами, надоедая им своими наставлениями, и в конце концов даже сам себе показался дураком.
Но вот они увидели большую щуку возле самого берега. Стоит в воде рядом с фашинами, как здоровенная коряга, совсем не глубоко. Клаус поднял острогу, спокойно прицелился.
— Бросай, чего ждешь!
Хотя Гейнц сказал это шепотом, щуки как не бывало. По воде разошлись круги, а из глубины поднялась тучка мути.
— Ну, знаешь, с меня хватит. Я сыт по горло! — сразу же заорал Клаус на своего бывшего приятеля. — Сыт, сыт и сыт! Понял? Проваливай к чертовой бабке или куда тебе угодно, но только проваливай! Чтоб духу твоего тут не было!
Гейнц побледнел, выставил вперед подбородок и прохрипел еле слышно:
— А ну замолчи!
— Ишь чего захотел! — раскричался Клаус. — Чего задаешься?
— Очумел ты! — теперь кричал уже и Гейнц. — Если тут кто и задается, так это ты! Изображает тоже, а сам мешок сала! Ты ни чуточки не лучше меня, ни на грамм!
«Мешок сала» — за такую обиду криком не отплатишь. Сделав глотательное движение, Клаус с презрением сказал:
— А ты сам-то кто? Кто у тебя старик оказался? — Вот это была отместка!
Гейнц залился краской. Но, сплюнув, он сказал только:
— Тебя самого нянька уронила!
Клаус разозлился:
— Да мой отец во сто раз меньшая свинья, чем твой!
Вскочив, Гейнц вцепился в воротник рубахи Клауса.
— А ну, повтори! Попробуй!
— Ну и повторю! А ты что думал? Все знают, что твой старик моего втянул. А теперь ты и сам такой стал, как твой отец. Свинья и фашист!
Бац! И у Клауса появился фонарь под глазом. Клаус сразу же давай молотить своими жирными руками Гейнца, да так, что тому пришлось отступить до самого канала. Вдруг что-то ему подвернулось под ноги, он споткнулся и — бултых прямо в воду! Кто-то из бетхеровских ребят сунул ему палку под ноги.
Гейнц тут же вынырнул. Громкий хохот встретил его. Жажда мести заставила его подплыть к берегу. Но ребята отгоняли его острогами, хохоча при этом до упаду. Гейнц переплыл канал и выбрался на противоположный берег. Отплевавшись, он крикнул так громко, чтобы его слышали на другом берегу:
— Трусы!..
Вот он, значит, какой, его друг-приятель Клаус Бетхер! «Трус, тряпка, крыса!» — думал он, шагая к деревне.
— Крысы покидают тонущий корабль! — пробормотал он. Отец его часто так говорил. Да, отец. Нет, он, Гейнц, и его отец — это тебе не крысы! Оба они капитаны! Их место на капитанском мостике до конца! Выше — только бог.
Гейнц дошел до моста, пересек канал и остановился. Солнце припекало, от одежды шел пар. Нет, в таком виде не пойдешь, да и вообще так никому нельзя показываться — засмеют! Гейнц изменил направление и теперь шагал прямо через поля и луга. Вдали темнел лес. На опушке он высушит одежду. Гейнцу стало вдруг страшно жалко себя, и он заплакал. Ему представилось, что он уже умер, лежит в гробу, а гроб везут на лафете. За лафетом бесконечная вереница автомобилей, справа и слева от дороги — шпалеры людей. Все они сияли шляпы и плачут и почему-то все очень похожи на отца. Были тут и Клаус Бетхер, и его дружки, учитель Линднер и несколько ребят из шайки Альберта. Они хотели спрятаться в толпе, но полицейские схватили их и тут же прикончили. Люди подняли его гроб на плечи, несли его и восторженно кричали: «Он спас нас от большевизма! Он самый большой герой!» Гейнц так растрогался, что увидел себя плачущим в гробу.
На опушке леса в тени деревьев Гейнц немного остыл. Чихнул. Затем решил полежать в молодняке, примыкавшем к высокому старому лесу, намереваясь и дальше предаваться своим мечтам, но вдруг насторожился: чей-то веселый и звонкий, как колокольчик, смех раздавался в лесу. Прямо на Гейнца бежал маленький Вейдель, а за ним еще двое ребят. Неожиданно Вейдель застыл, но в следующий же миг повис на высокой сосне. Раз-два, раз-два, все выше и выше карабкался он по гладкому стволу. На шее у него был повязан синий галстук, а в волосах торчали куриные перья. У двух других ребят тоже были синие галстуки и перья в волосах. Должно быть, они играли в индейцев. Когда преследователи добежали до сосны, Вейдель уже был вне пределов досягаемости. Сидя в густых ветвях, он заливался веселым смехом.
— Не отстанете — обстреляю! — кричал он. — У меня тут заповедные охотничьи угодья! — Чтобы доказать вескость своих слов, он тут же принялся бомбардировать ребят внизу сухими ветками. Но вдруг, забыв, что он краснокожий и на тропе войны и даже что он сидит в заповедных охотничьих угодьях, он восторженно заверещал: — Гнездо, гнездо вижу! — Несколько акробатических прыжков — и маленький Вейдель очутился возле гнезда. — Молодые голуби! — послышался его победоносный клич. — Я их за пазуху, чтобы не подавить, когда спускаться буду. — Он запустил руку в гнездо, потом сунул ее за пазуху и стал спускаться.
Оба преследователя — это были сыновья Рункеля — с нетерпением ожидали его. И Гейнцу Грабо, спрятавшемуся в густых зарослях молодняка, пришлось унять свое любопытство, иначе его сразу обнаружили бы.
Спрыгнув на землю, маленький Вейдель стал перед своими преследователями, расстегнул рубашку и, смеясь, проговорил:
— Доставайте сами!
Оба Рункеля запустили руки под рубашку Вейделя и тут же переглянулись — лица у них при этом были страшно глупые.
— Обманул! — заверещал маленький Вейдель, и снова по лесу разнесся его заливистый смех.
Вейдель было прыгнул в сторону молодняка, где притаился Гейнц Грабо, но сыновья Рункеля успели его схватить и в отместку принялись щекотать.
Больше всего Гейнцу хотелось заехать ему башмаком прямо в лицо — уж очень оно было счастливое! Но тут внимание его привлекло другое: из глубины леса послышались громкие голоса — приближался пионерский отряд Бецовской школы. Гейнц быстро подсчитал — восемнадцать галстуков. Все ребята с перьями на голове и в середине ведут учителя Линднера. Он уже шатается от усталости, руки связаны за спиной веревкой, волосы растрепаны. Пионеры угрожают ему длинными палками — должно быть, винчестерами.
Трое пионеров, возившихся неподалеку от Гейнца, вскочили. Маленький Вейдель крикнул:
— «Уф! — проговорил Винниту. — Бледнолицый! — и пришпорил своего мустанга».
Маленький Вейдель уже мчался галопом к отряду. Рункели последовали его примеру.
— К столбу пыток! — услышал Гейнц и увидел, как ребята с восторгом стали привязывать учителя Линднера к дереву.
Вперед вышел Шульце-младший, расправил плечи и громко сказал:
— Совет краснокожих воинов решил: бледнолицый будет поджарен, если немедленно не выдаст нам тайну морского пирата — Штертебеккера!
Краснокожие воины закричали от восторга, размахивая самодельными луками, и тут же пустились в дикую пляску.
«Бледнолицый» пробормотал что-то невнятное. Но вот краснокожие уселись вокруг своего пленника. Он говорил очень тихо. И Гейнц не мог ничего разобрать. Как он ненавидел пионеров и учителя! Они ведь играли в такие интересные игры, а ему это было запрещено или он сам себе это запрещал. Но больше всего он ненавидел учителя Линднера, и ненависть эта завладела всеми его чувствами и мыслями. Одна за другой ему представлялись ужаснейшие пытки, которым он подверг Линднера в своем воображении. Он отомстил ему за отца! Линднер выдал его большевикам. Он — виновник всех несчастий Гейнца! И Гейнц готов был схватить камень, лежащий у него под рукой, и швырнуть в Линднера. Слезы радости выступали у него на глазах, стоило ему представить себе Линднера, обливающегося кровью.
Минуту спустя он страшно удивился: оказывается, этот Линднер был еще жив. В своем воображении Гейнц давно уже прикончил его.
Все еще находясь во власти только что услышанного, пионеры-индейцы поднялись на ноги. Скоро они уже опять носились по лесу как угорелые, визжа от восторга. Кто-то нашел пустую бутылку, и началась новая игра. Бутылка на высоком пне — отличная мишень. Но сколько бы пионеры ни бросали, бутылка стояла все на том же месте. После каждого броска Гейнц Грабо строил гримасы, рот его презрительно кривился. Вдруг он поднял камень и бросил сам. Бутылка… вдребезги… Пионеры даже не удивились. Они тут же развели руками ветки молодой сосны. И Гейнцу пришлось выйти из своего убежища.
— Прекрасный бросок, Гейнц! — воскликнул учитель.
— Бэээ… — запротестовал маленький Вейдель. — Ничего не прекрасный. Он сбоку кидал.
Учитель улыбнулся.
— Это верно. — И, обратившись к Гейнцу, он добавил дружелюбно: — Итак, снайпер, повторим? Если ты и отсюда попадешь, победа твоя.
Ребята тут же раздобыли еще одну бутылку, но Гейнц и не думал бросать. Он стоял и исподлобья поглядывал на учителя.
— Бросай! Чего ты?
Гейнц только сплюнул. Это был явный вызов. Теперь все молчали.
— Ну, как хочешь, — сказал наконец учитель. — Мы одни будем бросать.
Оставив Гейнца, пионеры вновь принялись бросать в цель. Кто-то попал в бутылку, но она не разбилась.
Гейнц стоял поодаль, прислонившись к дереву. Безучастный с виду, он внимательно следил за каждым броском, время от времени сплевывая. Брошенный пионерами камень отскочил рикошетом и подкатился к его ногам. Заметив, что никто на него не смотрит, Гейнц поднял камень и бросил в бутылку. Зазвенело стекло, и тут же послышались негодующие крики; пионеры бросились на него в атаку, но Линднеру удалось опередить их.
— Это было некрасиво с твоей стороны. Извинись, пожалуйста! — сказал он спокойно, однако в голосе его звучала настойчивость.
Гейнц скривил рот.
— Здесь вы мне вообще не можете приказывать, я ведь не из тех вон… — И он кивнул в сторону пионеров.
— Это мы-то «те вон»? — возмутился маленький Вейдель, выпятив грудь. С тех пор как маленький Вейдель стал пионером, смелости у него значительно прибавилось. — По морде получишь, если не попросишь прощения!
Гейнц сплюнул на землю.
Пионеры, с трудом сдерживая себя, обступали его все тесней.
— Оставьте, ребята, — сказал учитель. — Он извинится.
— Долго вам ждать придется! — буркнул Гейнц. Сделав вид, будто Линднера здесь нет, он проговорил: — Еще учитель называется, а сам в индейцев играет, как маленький!
В то же мгновение голова его резко откинулась назад и ударилась о дерево. Это Шульце-младший стукнул его кулаком в подбородок.
Учитель Линднер только тогда сообразил, что произошло, когда Грабо замахнулся для ответного удара. Но было уже поздно. Дико крича, пионеры, в том числе и девочки, бросились на того, кто испортил им игру. Такому мощному натиску Гейнц, разумеется, не мог противостоять и через несколько секунд уже лежал на земле.
— Перестаньте! Немедленно перестаньте!.. — кричал Линднер, но его никто не слушал.
Тогда он бросился разнимать дерущихся, и ему пришлось приложить немало сил, прежде чем он достиг успеха.
Гейнц Грабо поднялся. Он весь дрожал от ненависти.
— Теперь уходи! — резко проговорил учитель, взглянув на Гейнца.
Грабо выдержал его взгляд, затем повернулся, собираясь уйти, но, еще раз взглянув на Шульце-младшего, ударил его в грудь.
Снова пионеры набросились на него, но учитель успел закрыть его своим телом и громко крикнул:
— Прекратите!..
Пионерам пришлось смириться, в противном случае они ударили бы своего учителя.
Бросая по сторонам презрительные взгляды, Гейнц Грабо прошел сквозь строй ребят, стоявших со сжатыми кулаками.
Долго учитель Линднер смотрел вслед Гейнцу. Пионеры не понимали своего руководителя — уже не первый раз учитель Линднер позволял Гейнцу Грабо делать то, чего он никому бы не позволил.
Линднер откинул волосы со лба и с грустью и разочарованием взглянул на пионеров.
— Я предложу совету дружины наказать тебя, — сказал он Шульце-младшему. — Ступай домой!
— Почему это? Грабо первый начал! — заступился за Шульце маленький Вейдель.
Остальные пионеры поддержали малыша.
— Нет, это неверно, — возразил учитель. — Он спровоцировал вас, а вы поддались и начали. Теперь расходитесь, хватит!
Послышались недовольные голоса, но учитель, не пускаясь ни в какие разъяснения, ушел, оставив пионеров одних.
…Гейнц Грабо чувствовал себя, как полководец, выигравший сражение. Он ведь был уверен, что учитель Линднер испугался, и только сожалел, что никто из его бывших дружков не видел, как он, Гейнц, столкнулся с учителем и пионерами.
Между Бецовскими выселками и самим Бецовом он вышел на шоссе. Навстречу, покачиваясь, двигалась фура, тяжело груженная сеном. Рядом с коровьей упряжкой шагали Альберт и Родика.
— Здорово, Альберт! — приветствовал его Гейнц, когда они поравнялись с ним.
Родика кивнула в ответ, а Альберт что-то проворчал, не останавливаясь.
Гейнц поплелся за ними.
— Жаль, что вы не видели! — сказал он. — Знаешь, как я их разделал, этих вонючек вместе с их обер-вонючкой. — Гейнц говорил так, будто Альберт был его закадычным другом.
— О ком это ты? — спросил Альберт, с досадой покосившись на Гейнца. «Чего этому Грабо от меня надо? — подумал он. — Все время дорогу перебегает».
Гейнц засмеялся.
— Это я пионеров так называю. Сам придумал. А уж кто у лих обер-вонючка, ты и сам знаешь.
— Нет!
— Да Линднер.
— Вот оно что! — отозвался Альберт, мягко хлопнув корову кнутом по спине.
— Да… — протянул Гейнц в ожидании расспросов, но так как они не последовали, он сам стал рассказывать: — В индейцев они играли или еще в какую-то детскую дребедень, и потом сказки рассказывали про Штертебеккера. Потом стали в бутылку камнями бросать. Ты бы со смеху подох — так они бросали. А я взял да испортил им все. Тут они на меня, да все вместе, и Линднер. Но Линднер сразу струсил и деток своих оттащил — как бы я им «бо-бо» не сделал. Но я еще до этого ему всыпать как следует успел. Он так и остался стоять с разинутой пастью. — Гейнц лихо хлопнул Альберта по плечу, как бы поздравляя себя и его с одержанной победой.
— Брось! — сказал Альберт. — Не люблю!
Оба долго молчали.
Наконец Гейнц решился на новый приступ.
— Знаешь, Альберт, давай забудем, что было раньше. Я, например, не понимаю, почему мы с тобой давно уже не друзья?
— А сейчас мы с тобой друзья? — спросил Альберт, скривив рот.
— У нас общий враг.
— Тпррру! — Альберт натянул вожжи, затем, ослабив их, привязал к фуре. — Вот что, Грабо, — сказал он, подбоченившись. — Я, конечно, с Линднером не в ладах. В этом ты прав. Но я уж как-нибудь сам с ним справлюсь, и такого подонка, как ты, мне в помощники не требуется. Если ты его терпеть не можешь, дело твое. Можешь ему по морде съездить, я мешать не стану. Но меня со своими делами оставь в покое, черт бы тебя подрал, а то я тебя так отутюжу!.. Дошло?
— Да я… знаешь, Альберт, — промямлил Гейнц, но, увидев, что Родика что-то уж очень пристально смотрит на него, поспешил добавить: — Альберт… Ты ведь прав. Я тогда как подонок поступил…
— Прова-ли-вай! — протянул Альберт. — Живо!
Гейнц тут же повернулся и сначала медленно, а затем все быстрей и быстрей побежал прочь.
Альберт с презрением плюнул ему вслед. Потом снова взял вожжи в руки и прикрикнул на коров:
— А ну, пошли, пошли!
Фура закачалась сильней. Ни он, ни Родика не проронили ни слова об этой встрече.
Распрягая на дворе коров, Родика вдруг сказала:
— А эти, синие, играют во всякие игры… И всегда-то у них что-нибудь новенькое! — В голосе ее прозвучала зависть.
Альберт только проворчал что-то в ответ. На лбу его обозначилась сердитая складка.
Было воскресенье, вечер тихо спускался на деревню. Тени вдоль опушки леса вытягивались и вытягивались, пока не переросли и самые большие сосны. В деревне с каждой минутой загорались все новые желтые огоньки, скрипели ставни. На песчаной деревенской улице еще не улеглась пыль, поднятая за день копытами, сапогами и колесами высоких фур.
В библии сказано: «Помни день субботний». Но авторы ее забыли посоветовать, что делать, если из-за дождей запаздывает жатва или только что высушенному сену грозит дождь?
Насвистывая, Длинный шагал по Дегтярному переулку Бецовских выселок. Особенно-то веселиться не стоило — у Длинного были дурные вести для мстителей. Но он еще успеет предупредить ребят, и это настраивало его на бодро-веселый лад. Итак, давай насвистывай! Цикады, прятавшиеся в маленьких палисадниках, вторили ему.
В доме Бергов свет еще не зажигали. Длинный установил это после тщательного осмотра темного фасада. При этом он щурил один глаз, как какой-нибудь заправский сыщик. Из коровника донеслось мычание, и сразу же завизжали поросята в свинарнике. «Значит, кормят еще», — мудро решил Длинный. Что ж, можно и подождать. Работа дураков любит. С него хватит. Старик его сегодня совсем загонял, и это в каникулы! «Длинный, поди! Длинный, принеси!..» Будто он один и существует на всем свете! Длинный потянулся так, что кости затрещали, и тут же огляделся в безлюдном проулке, словно говоря: «Эй вы, сони! Слыхали, как мои косточки поют? Вот она, песенка рабочего человека!»
Но тут он вспомнил, что ему надо было передать, и поспешил во двор, на который вступил с важностью шута в королевском наряде. При этом он старался придать себе вид ученого, который только что сделал чрезвычайно важное открытие. Таким его и увидела фрау Берг, несшая два полных ведра воды. Покачав головой, она пробормотала:
— Баран бараном!
От возмущения Длинный готов был взвиться на дыбы. Ведь он так старался придать себе ученый вид, а она — «баран». Ну, погоди, он еще ей покажет!
— А сами-то вы… — но тут же умолк: потом еще хлопот не оберешься с этой ведьмой!
— Чего-чего? — переспросила фрау Берг, поднимая ведра.
— Нет, нет, я хотел сказать, вы, мол, сами воду таскаете! Давайте, так и быть уж, я вам ведро донесу. — По дороге к коровнику он спросил: — Альберт-то где?
— В риге.
Лучше бы фрау Берг не говорила этого. Длинный тут же поставил ведро на землю, заявив:
— Тогда мне с вами не по пути. Благодарствую за ценную информацию. — Он приложил грязную лапу к виску, хихикнул и был таков. Вслед ему еще долго неслись проклятия, но к этому Длинный привык.
В риге было душно. На высокой фуре, въехавшей в ворота, широко расставив ноги, стоял Альберт и подавал вилами сено наверх, где его принимал старший Берг. Лицо Альберта было все в пыли, и капли пота проделали на нем дорожки, избороздившие лоб, щеки и подбородок. Казалось, его выкрасили, но нанесли краску слишком густо, и она стекла.
Посмотрев наверх, Длинный лениво процедил:
— Здорово, шеф!
Вместо ответа Альберт сказал:
— Залезай сюда! Вон позади тебя вилы стоят.
Но разве так джентльмены разговаривают! Длинный ведь считал себя джентльменом. Нет, уж лучше он с четверть часика где-нибудь здесь пофилонит.
Не успел он дойти до выхода, как сзади его что-то ударило. Длинный взвыл, а Альберт крикнул ему:
— Сейчас по башке получишь! Лучше сразу лезь наверх!
Вот ведь беда какая! Не везет так не везет. Что поделаешь, придется взять вилы!
Вместе они довольно быстро перекидали сено, вымели фуру и теперь могли подумать о заслуженном отдыхе. Так как тайные дела Союза мстителей обсуждались только в «Цитадели», они и отправились туда. Альберт давно уже понял, что у Длинного есть какой-то секрет — он ведь пришел один и без предупреждения.
Плотно прикрыв дверь и убедившись, что за ними никто не следит, Альберт зажег свет. Он где-то раздобыл двухсотсвечовую лампу и выкрасил ее зеленой краской.
«Небось украл!» — не без удовлетворения подумал Длинный.
Теперь ничто здесь не напоминало развалившуюся конюшню, скорей — разбойничий замок. Трофейные пионерские галстуки, развешанные на голых стенах, походили на ночных бабочек, распростерших свои огромные крылья.
Опустившись на ящик, Альберт взглянул на Длинного и тут только заметил у того на подбородке большой пластырь.
— Всыпали тебе? — деловито спросил он.
Длинный махнул рукой:
— Чего там говорить! Все равно ничего не изменишь.
Но Альберт придерживался другого мнения.
— Твоего старика тоже пора в работу взять, — сказал он.
— А мне потом вдвойне достанется. Благодарю за угощенье.
— Брось, ты! Надо все так обделать, чтобы он и не догадался, кто его обработал. Пусть Друга что-нибудь придумает. А за что он тебя сегодня?
— Просто так, — ответил Длинный, пожав плечами. — Весь день ходил злой, как черт, а под конец на мне свою злость и выместил. И все потому, что я городской. Будто я виноват в этом.
— То-то и оно! — согласился Альберт, по-стариковски покачав своей взлохмаченной головой. — Надо из него котлету сделать.
— Без меня, пожалуйста. Я в мясорубку не прошусь. — И он со страдальческим видом ощупал свой разбитый подбородок.
Достав финку, Альберт принялся нарезать табак. Затем, ловко оторвав два листочка от старой газеты, он протянул один Длинному и насыпал табаку.
— На, тонкая работа, — сказал он. — Попробуй.
— А я не курю больше, — ответил Длинный, пренебрежительно взглянув на бурую траву.
— Боишься? — спросил Альберт, насторожившись.
— Ерунда! Храбрость не в том, чтобы коптить себе легкие.
— Заразился у синих?
— Я-то? Нет. — Длинный сделал обиженный вид. — Но тебе как шефу, не мешало бы самому, — он помахал в воздухе рукой, отгоняя дым, — позондировать обстановочку. — Исполненный гордости, оттого что он знает такое иностранное слово Длинный выпрямился во всю свою действительно немалую длину.
Однако на Альберта это не произвело никакого впечатления. Он с презрением заметил:
— Наболтал тут с три короба! Теперь давай выкладывай, зачем пришел?
— Ты не знаешь, где Родика? — не без злорадства спросил Длинный.
— Откуда мне знать, где она шатается! — ответил Альберт, уже скучая.
— Зато я знаю. У синих…
Подозрительно взглянув на Длинного, Альберт медленно поднялся и толкнул его к двери. Теперь он уже злился.
— А ну, сматывайся отсюда! Сказки можешь кому-нибудь другому рассказывать, мне они ни к чему.
«Обидеться мне или нет?» — думал Длинный. На всякий случай он сказал:
— Это ты сам сказки рассказываешь!
Альберт что-то заподозрил. Не нравилось ему, как вел себя Длинный. И правда, где это Родика весь вечер пропадает? На лугу ее тоже не было… А когда они накануне распрягали коров, она что-то про синих говорила и сама на себя не была похожа.
Теперь уже Альберту стало трудно разыгрывать из себя равнодушного. Он молчал.
— Нечего нос вешать, шеф! — ободрил его Длинный — Мы, ребята, без нее только плотнее сплотимся. Увидишь, какая у нас жизнь пойдет, когда одни мужчины! — Длинный уже вошел в роль утешителя, да она ему и больше подходила. Он мухи не мог обидеть, не то что человека. Ну, а так как Альберт все еще молчал, он продолжил: — Бабы в герои не годятся! Вязать там, суп варить — это их дело. Да еще подгорает он у них, а мы потом расхлебывай! Я всегда это говорил.
Это была уж откровенная ложь. Ничего подобного он никогда не говорил. Но это для него была уже мелочь. Прошлое он всегда видел таким, каким оно ему представлялось в данную минуту.
Альберт стоял, прислонившись к стене. Лицо бледное. Он не отрывал глаз от Длинного. И наконец спросил, чуть шевеля губами:
— Откуда ты… про Родику знаешь?
— Беккерша у нас сегодня на дворе рассказывала. Она ходила в Бирнбаум, в больницу. Кого-то там навещала. Вот она и видела, как Линднер по лесу со своими на животе ползал. А Родика с ними была, впереди всех. Беккерша ее сразу узнала. И здорово, говорит, так ползла! — Еще немного, и Длинный сам лег бы на землю и показал, как Родика ползла но земле. Только боязнь запачкать рубашку и брюки заставила его отказаться от подобной демонстрации.
Альберт все еще стоял, прислонившись к стене: губы плотно сжаты, глаза ничего не видят, в углу рта прилип давно погасший окурок. Жгучая боль сдавила ему грудь, виски. Должно быть, где-то в глубине души он начал догадываться, что соперник сильнее его. Он ненавидел этого соперника и в то же время чувствовал, что его пиратский корабль, на котором он был капитаном, попал в сильную бортовую качку. Но пока еще его не выбросило на мель, пока еще он может управлять кораблем.
Каким-то почти автоматическим движением, как будто подчиняясь чужой воле, он погасил свет, и оба вышли во двор.
Длинному очень хотелось чем-нибудь утешить шефа, но он только и спросил:
— Ты что теперь будешь делать?
— Изобью! — послышался словно издалека голос Альберта. При этом он смотрел куда-то в пустоту, поверх головы Длинного.
— Спятил! — сказал Длинный, которому вдруг стало жалко Родику. — Пока она член нашего Союза мстителей, Союз и решает, как ее наказать.
— Тоже неплохо, — согласился Альберт с таким мрачным видом, что это внушало страх.
— А куда, в какое место ты ее ударишь, ты подумал? — спросил Длинный. — Девчонок куда ни стукнешь, все не по правилам. Или ты думаешь, она пощечины испугалась? Поверь мне, шеф, придется нам ей какое-нибудь педагогическое наказание придумать.
Около жилого дома Альберт остановился и сказал:
— Сходи к Друге. Пусть и остальным передаст: завтра вечером, в восемь, в сарае.
Впервые за долгое время Альберт снова назвал «Цитадель» сараем. Должно быть, сообщение о Родике потрясло его.
К вечеру облака сгустились, грозно нависнув над лесом и деревней. Люди спешили с полей и лугов, возницы подгоняли лошадей — надо было урожай сухим доставить под крышу. Ласточки носились над самой травой, в воздухе ни ветерка. Казалось, земля затаила дыхание. Весь мир стал каким-то маленьким — черные тучи теснили его. Дождь все не шел, напряжение людей нарастало с каждым часом. Задавая корм скотине, они ругались, грубили друг другу, каждая мелочь становилась поводом для ссоры. В кухне за ужином все сидели нахмурившись, а ложки стучали громче обычного.
На улице темным-темно. А вот и первые тяжелые, как свинец, капли. Надвигалась буря.
В это самое время члены Союза мстителей собрались в «Цитадели». Не было только Родики и Сынка. При зеленом свете новой лампочки лица мстителей казались усталыми и необычно бледными. Дрожа от холода, они сидели на своих ящиках, а там, за стенкой, разверзались небеса.
По прибытии, Друга каждому объяснял, о чем сегодня пойдет речь, и они молчали, не смея взглянуть соседу в глаза. А что, если и другие ребята подумывают о предательстве?
Раздраженный Альберт бегал из угла в угол, порой останавливался и с недоверием посматривал на ребят. Они избегали его взгляда. Придя сюда, чтобы судить, они теперь сами казались себе подсудимыми.
Наконец явился и Сынок, промокший до нитки, лицо замкнутое, как всегда.
— Извините, ребята, раньше не мог, занят был, — проговорил он очень спокойно и сразу сел на свое место. С одежды его капало.
Альберт, стоявший посередине, впился глазами в Сынка и вдруг заорал:
— Лучше бы сам признался: так, мол, и так. Избавились бы от сорняка. Что ж вы не идете к синим, не говорите им: мы паиньки, примите нас. Трусам тут делать не…
Оглушительный удар грома прервал его. Где-то поблизости ударила молния. «Цитадель» каждую минуту освещалась холодным светом, как будто сама луна упала на землю. Гроза обрушилась прямо на деревню.
На минуту в «Цитадели» стало очень тихо. Словно окаменев, Альберт стоял все на том же месте.
Готовые к отпору, ребята холодно поглядывали на своего шефа, считая его выпад чудовищно несправедливым. Должно быть, Альберт и сам понял это. Пожав плечами, он отвернулся, затем открыл дверь в соседнюю кормовую и вышел.
Ребята сразу оживились. Послышались возгласы недовольства. Друга жестом приказал молчать.
В эту минуту Альберт втолкнул в дверь Родику. Гордо и непреклонно смотрела она куда-то вверх. Руки у нее были связаны, по она стояла спокойно, мысль о побеге казалась ей ниже всякого достоинства.
— Пришлось ее связать и запереть, а то бы не пришла, — сказал Альберт и сел на ящик.
Родика презрительно скривила губы.
Друга встал. Запустив руки под ремень, он посматривал на ребят. Они сидели перед ним, обхватив колени руками, и пытались хоть как-нибудь согреться. Все они были босы. Сильнее всех дрожал промокший Сынок. Он с упреком смотрел на Родику. Друга откашлялся.
— Братья-мстители! — начал он и, взглянув на Родику, тут же отвел глаза. — Не раз нам грозила опасность, но до вчерашнего дня никто из нас не становился на путь предательства.
Снова ребята оживились, послышались возгласы:
— Свинство! Нечего разговаривать! Расправимся с ней, и все!
— Да, Родика предала нас, — продолжал Друга. — От нее мы этого меньше всего ожидали. Хоть она и девчонка, но вела она себя не хуже ребят. Поэтому и наказать ее надо так, как если бы она была такой же, как все. Она изменила. За это ее и надо судить.
Гром гремел без перерыва, одна молния вспыхивала за другой, и Друге приходилось кричать, чтобы его могли слышать.
Родика стояла, прислонившись спиной к двери, лицо горело. Вся ее гордость, высокомерие исчезли. «Только бы не разрыдаться», — думала она. Родика была сейчас очень красива.
Ребята сидели, опустив головы. Кое-кто готов был взять наказание на себя. Длинный ерзал на ящике. Только Альберт зло смотрел прямо перед собой. Его настроению больше всего соответствовала гроза, бушевавшая за дверью.
Друга, который намерен был произнести длинную обвинительную речь, посмотрев на Родику, сбился, потерял нить и замолчал. С Родикой ему всегда бывало так хорошо, они так понимали друг друга, и поэтому роль прокурора потребовала от него неимоверных усилий. Сделав какой-то беспомощный жест, он сел и тихо произнес:
— Теперь сами говорите!
Все долго молчали.
— Пусть расскажет, как оно вышло. Все расскажет, — проворчал Сынок.
Родика не шелохнулась.
— А ну давай рассказывай! — набросился на нее Альберт.
Снова на ее лице появилось выражение непреклонности.
Она гордо вскинула голову, словно все происходящее ее «ничуть не касалось. Родика не знала, что такое страх, — никто здесь не мог заставить ее говорить.
Друга понял состояние Родики и приказал развязать ей руки.
— Ну вот, теперь рассказывай! — произнес он. — Соврешь — только усилим наказание.
Родика сделала два шага вперед. Грубое обращение не обидело ее. Она знала законы Союза мстителей. И все же она гневно воскликнула:
— Постыдились бы! Единственная девчонка я у вас, а вы связали меня, чтобы не убежала. Смешно!
— Получишь пощечину, будет не смешно! — Альберт уже замахнулся.
— Оставь, шеф, — сдержал его Друга. — Пусть она говорит.
Альберт медленно поднял голову и мрачно посмотрел на Другу. На лбу у него опять появилась складка.
— А что мне говорить? — начала Родика немного спустя. — Ну, была я вчера у синих, а предавать никого не предавала, да они меня и не спрашивали про наш Союз. И Линднер не спрашивал. Он только и сказал, что, если мне охота, я тоже могу с ними в лес пойти, я и пошла. — В глазах Родики снова появилось влажное мерцание. — Я ж только хотела посмотреть, как они играют… Потому… потому что мы только мстим без конца… — Она сделала глотательное движение.
Ребята отвернулись.
Но Альберт был настороже.
— Бабья болтовня! Давай закругляйся!
— Рассказывай скорее! — поддержал шефа Друга, видя, что Альберт уже не потерпит никаких проволочек.
А Родика, ощутив сочувствие ребят, продолжала:
— Ну ладно! Сперва мы играли в золотоискателей и индейцев. Дотемна! — Глаза ее задорно сверкнули. — И хоть сто раз прикажите мне этого не говорить, а все равно скажу — нам было очень весело!
Ребята молчали.
— А вечером во дворе лесничества мы разожгли костер. Линднер рассказал нам страшную историю. Жутко было, у меня даже мурашки по коже бегали. О разбойничьем атамане в России. Дубровский звали его. Так и повесть называется, которую Пушкин про него написал. Вот уж был смелый разбойник этот Дубровский! Чего только он ни вытворял, а они его все равно поймать не могли. Он всегда бедным помогал, даже когда это было опасно. Линднер так и говорил, что Дубровский был хороший разбойник, чуть ли не народный герой. Ради справедливости он на все готов был. Государство тогда было против справедливости.
— Хватит! — Друга с беспокойством наблюдал, как ребята, позабыв о своей судейской роли, все больше увлекались рассказом Родики.
Только Альберт мрачнел и мрачнел.
— Почему хватит? Пусть дальше рассказывает про то, что этот Дубровский делал. — Не сдержавшись, Вальтер выдал, как его заинтересовал этот рассказ.
— Довольно! — не выдержав, зарычал Альберт. — Идиоты вы! Уши развесили и не замечаете, как она вас вокруг пальца обвела.
— Ну, а теперь что? Чего дальше-то? — спросил Сынок. Ему надоело сидеть в промокшей одежде.
— Надо обсудить приговор.
— Давайте обсудим.
— Катись отсюда! — крикнул Альберт на Родику и снова вытолкнул ее в кормовую.
Когда рано утром они отправились в поход, небо было синее, как целое море васильков. Теперь же оно казалось вороненым и только вдали мерцало, словно изъеденное зеленью. Дождевые тучи торопливо набегали, будто за ними кто-то гнался. И пионеры, возвращавшиеся с экскурсии на кирпичный завод, попав под дождь, конечно же, промокли до нитки. Но носа они не вешали. Дождь был теплый. Только девочкам не нравилось, как одна молния за другой раскалывала небо и, не унимаясь, грохотал гром. Маленький Вейдель с рубашкой в руках бежал вприпрыжку. Он повязал голову, как у бабушки, под подбородком синим пионерским галстуком. Учитель Линднер собирался уже возразить, но Вейдель привел самый веский довод:
— Прическа испортится, если волосы под дождь попадут! — При этом волосы у него торчали, как жнивье, о прическе вообще говорить было нечего.
Впереди показались дома Бецова. Пионеры прибавили шагу. В такую погоду теплый сухой дом неодолимо притягивает. Вдруг они застыли на месте — лица осветила светло-голубая вспышка. Резкий удар грома раздался прямо над головой и покатился по морю облаков. Шульце-младший, вытянув голову, как олень, почуявший опасность, тихо сказал:
— Близко ударило… У Меллендорфов, наверное.
Примерно в двухстах метрах от них с крыши поднимался столб дыма.
Секунду спустя ребята уже мчались вперед. Один маленький Вейдель немного замешкался. Должно быть, только потому, что рядом с ним вдруг очутился отличный «мотоцикл», не меньше семисот пятидесяти кубиков. Вейдель вытянул вперед руки — как известно, руль у мотоцикла расположен впереди, — а правой ногой нажимал на стартер. «Теф-теф-теф!» — «мотоцикл» с грохотом завелся и маленький Вейдель, неподражаемо воспроизводя эти звуки, дал полный газ.
Они прибыли к месту почти одновременно. Действительно, горел хлев Меллендорфов, и над его крышей уже поднималось яркое пламя. И это было совсем не страшно, как будто полуразвалившийся хлев взяли да разукрасили. Дождь, ливший теперь как из ведра, ничуть не мешал огню, и языки пламени с жадностью дикого зверя подбирались все ближе к риге, примыкавшей к хлеву. Если пламя перекинется на нее, все погибло.
Ворота, ведшие во двор, были заперты, и ничто не выдавало присутствия людей. Должно быть, Меллендорфы еще не вернулись с поля. Из хлева доносился рев перепуганной насмерть скотины. Дворовый пес то рвался с цепи, то застывал на месте и, вытянув лапы вперед, принимался выть на грозившее рухнуть небо.
Пионеры мигом перелезли через дощатый забор и вдруг растерялись: с чего начинать? Учитель Линднер, подтолкнув маленького Вейделя к девочкам, крикнул:
— Ваша задача — не допустить огонь к риге!
— Как не допустить? — спросил Вейдель.
Но учитель уже бежал к хлеву.
— А ну, девчонки! — крикнул маленький Вейдель. — Ищите ведра и давайте качать. — Он чувствовал себя при этом настоящим генералом.
Правда, к его чести будь сказано, генералом новой армии, ни секунды не заботящимся о собственной безопасности. Вейдель тут же нырнул в ригу и появился оттуда с длиннющей стремянкой на плече, под тяжестью которой его мотало из стороны в сторону. Но он во что бы то ни стало решил одолеть эту штуковину, и скоро лестница стояла прислоненной к крыше риги. Девочки поджидали Вейделя с полными ведрами, а помпа уже напевала свою скрипучую спасительную песенку.
Маленький Вейдель выбрал себе место прямо на крыше риги, где его время от времени заволакивали клубы черного дыма и он делался похожим на домового. Девочки подавали ему ведра наверх. Раскачать как следует ведро с водой у него не хватало сил, да и крыша под ним не представляла достаточно прочной опоры. Огонь шипел и прятался от вылитой на него воды, но, прежде чем маленький Вейдель успевал опрокинуть следующее ведро, он вырывался с удвоенной силой в другом месте. Вейделя душил кашель, он обливался потом, глаза слезились. И все же он отважно сражался. Пламя разгоралось все сильнее, от жары кожа на лице готова была лопнуть, девочки задыхались от усталости. Вейдель был в отчаянии: если так дальше пойдет, ему не удержать своего поста. Пренебрегая опасностью, он напряг все свои силы и выплеснул ведро прямо в центр пламени — сразу все кругом заволокло черным дымом. Порыв ветра отнес его в сторону, и — о ужас! — маленького Вейделя не было на крыше. Должно быть, он, потеряв равновесие, упал в огонь. Девочки сразу в слезы. Налетел еще один порыв ветра — и первые языки пламени уже лизали соломенную крышу риги. Теперь все увидели, как что-то повисло на крыше свинарника. И сразу же упало на землю. Это и был маленький Вейдель — весь черный, словно он только что выкупался в торфяном болоте. Он вскочил и тут же, даже не заметив, что девочки украдкой вытирают слезы, набросился на них:
— Чего уставились на меня? Рига горит!
Карин, младшая дочь бургомистра, подскочила к Вейделю и давай его целовать. А маленький Вейдель даже растрогался, однако, разыгрывая возмущение, он крикнул:
— Дуры набитые! Надо из риги все вытаскивать, а вы тут лижетесь!
И он бросился к воротам риги в гордой уверенности, что девочки побегут за ним. При этом он даже не заметил, что во дворе теперь было полным-полно народу, бецовская пожарная команда разматывала шланг и заводила мотор насоса.
Тем временем учитель Линднер, Фредегар и Рюдегар — сыновья Рункеля, Шульце-младший и другие пионеры успели многое сделать. Не теряя ни минуты, они бросились в горящий хлев. Здесь от дыма почти невозможно было дышать. В смертельном страхе коровы рвались с цепей. Опустив рога и никого к себе не подпуская, они бились о стену, брыкались, и спасители никак не могли к ним подступиться. Сыновья Рункеля схватили теленка, который, быть может, только накануне увидел свет и еле держался на своих дрожащих ножках.
— Хватай за передние! — кричал Фредегар младшему брату, сам обхватив обеими руками теленка сзади.
Так они и вынесли теленка из хлева и отвели в сад, примыкавший к жилому дому. Тут же они бросились назад к хлеву и подбежали к нему как раз тогда, когда оттуда галопом выскочила двухгодовалая телка, волоча кого-то за собой на цепи. Это был учитель Линднер. Он вскочил, но тут же снова упал и покатился по земле. Фредегар подхватил палку, загородил телке дорогу и несколько раз со всего размаха ударил ее. Оторопев, телка остановилась. Учитель поднялся. Теперь оба брата Рункеля тоже ухватились за цепь, и вместе им удалось довести телку до сада.
В этот миг еще одна телка промчалась мимо них, и кто-то шлепнулся с ее спины прямо в грязь. Кажется, Шульце-младший. Но, когда они снова подбежали к скотному двору, он уже шел навстречу вместе с тремя другими пионерами, которые вели тревожно мычавшую старую корову. Шульце-младший прихрамывал…
Вся крыша хлева уже полыхала огнем — вот-вот рухнет! Рига тоже горела. Несколько свиней еще оставались в свинарнике, и ребята тут же бросились в чад и дым. Теперь уже и взрослые тушили пожар. Первое подкрепление прибыло.
Родика все еще ждала в кормовой. Приговор так и не был вынесен.
Первым избавился от жалости Длинный. Его чувство справедливости было неподкупно.
— Надо нам сделать ее козлом откушения.
Все засмеялись.
— Отпущения, а не «откушения». А потом, какой она козел, скорей уж коза, — поправил его Друга.
— Подумаешь, важность какая! — отмахнулся Длинный. — Вы же поняли, что я хотел сказать. — Теперь он со строгой судейской миной добавил: — Вот мое мнение: давайте ее просто выгоним! В конце концов она девчонка, а все девчонки — пустой номер.
— Сам ты пустой номер. — Ганс постучал пальцем по виску. — А по-моему, ерунда это. Все мы тут делаем вид, будто Родика совершила какое-то страшное преступление. А кого она предала? Что она сделала плохого? Ошибку она сделала, что пошла в лес с синими, большую ошибку. Вынесем ей выговор. Тридцать пощечин или что-нибудь в этом роде — и все забыто. — Его плутовское лицо с разноцветными глазами сейчас никак нельзя было назвать веселым.
— Тридцать пощечин! Ты с ума сошел! Может, ты еще предложишь ее кнутом высечь? — Руди так обозлился, что даже постучал себе кулаком по лбу. Должно быть, не лишенный понятия рыцарской чести, запрещавшей ему безучастно смотреть, как мальчишка бьет девчонку, он тут же заявил: — Кто Родику тронет, тому я морду набью. Я шуток не понимаю.
И сразу же «Цитадель» закипела, словно ведьмовский котел. Ребята орали, отпихивали друг друга, пытались перекричать один другого. Кто и что говорил, вообще нельзя было понять. Выделялся только пискливый голос Калле. Прыгая то на одной, то на другой ноге, он верещал:
— Выстегать заразу! Выстегать!
О ком он говорил: о Родике или о Руди, невозможно было разобрать. Во всяком случае, Руди принял это на свой счет и тут же заехал Калле кулаком в физиономию. Тот даже подлетел кверху и очнулся только на полу.
Это было уже слишком! Наклонив голову набок и рыча, словно дикий зверь, Сынок, которого не так-то легко было вывести из себя, ринулся на обидчика. Остальные ребята сразу же нашли себе жертву.
— Рыло! — раздался повелительный голос Альберта.
Драка немедленно прекратилась. Все смотрели на дверь.
Альберт, красный от гнева, весь дрожа, стоял у входа с готовыми к бою кулаками. Взгляд его перебегал с одного лица на другое, словно он выбирал. Наконец он подошел к Руди и остановился перед ним.
— Кому ты набьешь морду, если он тронет Родику? — еле сдерживаясь, скорей прохрипел, чем проговорил, Альберт.
— Кому бы то ни было! — ответил Руди, полный решимости.
Альберт ударил бунтовщика, держа его при этом за ворот.
— Кому ты набьешь морду, повтори!
Руди оглянулся, ища поддержки. Альберт тоже всматривался в лица ребят. Но все стояли, понурив голову. К чему бунтовать? Чтобы сколотить новую шайку, которая так же быстро развалится? Другого выхода ведь не было. Вернее, они не видели его. Да кроме того, Альберт с них со всех шкуру спустит. Это они хорошо знали. Его бесшабашная отвага всегда производила на них должное впечатление.
Руди молчал, глядя прямо перед собой. Его крупный рот походил сейчас на синеватый рубец, так крепко сжал он губы.
— Чего тебе надо в нашем Союзе? — с презрением спросил Альберт. — Ты хоть раз подумал об этом? Нет, не думал. То-то и оно! — Он с презрением отвернулся.
Мало-помалу ребята расселись по своим местам, правда, лица у них были при этом мрачные.
Гроза разбушевалась с новой силой. Снаружи грохотал гром, лил дождь, сверкала молния, а здесь — призрачный свет зеленой лампочки, бледные лица ребят…
— А мы правда как идиоты! — с грустью заметил наконец Друга. — Не договорились — и сразу драться. Да, да, идиоты! И нечего вам губы кривить. Синие только обрадуются, узнав, что мы ссоримся. Если мы хотим чего-нибудь добиться, мы должны быть едины. Или вам всякие игры голову заморочили? Или вы забыли, как нас кулаки со жнивья гнали, когда мы по колоску хлеб собирали? Запахать каждое зернышко готовы были, только бы нам, беднякам, ничего не досталось. Или вот на Калле поглядите. Только потому, что отец его итальянец, иностранным рабочим был, они до сих пор издеваются над ним. — Друга тут же передразнил крикунов: — «Апельсин! Апельсин!» Синие туда же. Увидят Калле и обязательно отлупят. Или вот Руди. Ты тут раскричался. А зачем ты, собственно, пришел к нам, если тебе у нас не нравится? Ты же мог пойти к кулацким сынкам. А почему не пошел? Я тебе скажу: потому что они тебя и не приняли бы. Ты для них батрак, понял? Им родители запретили с тобой играть. Каждому, кто тут сидит со мной и с шефом, я прямо скажу, почему вы в Союзе мстителей. Когда вы меня принимали, я ведь думал, вы все тут преступники. Я пришел к вам только потому, что не было у меня никого. Но потом я понял — никакие вы не преступники. Вы же только защищаетесь, а когда вы все вместе, с друзьями, вам и жизнь кажется легче. Наш Союз превыше всего. Вы еще тогда мне говорили: кто его предаст, того искалечите, и пусть это будет даже ваш лучший друг. Это правильно, иначе мы и защитить себя не сможем. Верно, конечно, Родика — девчонка. Но она предала нас, а за предательство надо наказывать.
По долгому молчанию Друга понял, что слова его дошли до ребят. Горячность, безрассудство — все это теперь отступило, и ребята всерьез задумались. Альберт немного успокоился, пока говорил его заместитель, и теперь сидел на своем ящике, выпрямившись и выпятив грудь, с благодарностью поглядывая на Другу.
Из кладовой послышалось что-то похожее на всхлипывание. Все насторожились. Но звуки утихли. Мстители смотрели на Руди, желая услышать его объяснения. Ведь это он тут все затеял.
— Ну так вот, — начал Руди, — может быть, я и правда что-нибудь не то сделал. Но я же хотел… — Он запнулся, словно решив еще раз подумать, но тут же торопливо продолжал — Может, синие не такие и плохие. Дайте мне сказать. Линднер же говорит, что они за справедливость. Мы тоже за справедливость. И к нам он, по крайней мере до сих пор, ничуть не хуже относился, чем к остальным. Даже лучше. Потом: он же велел арестовать наших злейших врагов — Бетхера, Грабо. А если Линднер за справедливость, я, к примеру, не понимаю, какое же тогда Родика преступление совершила? Да, я так думаю. И если кто-нибудь из вас это лучше понимает, пусть объяснит.
Все молчали.
— Это верно, что Линднер часто говорит о справедливости, — начал наконец Друга. — А я вот все равно не верю — нечестный он. Мы ему поперек дороги стали. Мы настоящие борцы и ничего не боимся. Может, он думает: я, мол, место свое из-за них потеряю, если они синие галстуки не наденут. А чтобы мы на его удочку попались, он и треплется насчет справедливости или еще что-нибудь выкидывает, вроде как тогда с моим стихотворением. И ничего сказать-то нельзя. Но, в конце концов, мы не такая уж мелкая рыбешка, чтобы на любую приманку идти. Какая ж это справедливость? Кто из вас живет сейчас, как кулаки живут? Они сдают излишки, и у них все есть. И кроме того, они еще спекуляцией занимаются. А этому Линднеру государство хорошие денежки платит за то, чтобы мы не рыпались и помалкивали. Но я вот не верю вранью. А вы верите?
— Как Друга сказал, так оно и есть! — выпалил Альберт. — Линднеру только и надо, чтобы мы синие галстуки надели и чтобы все над нами командовали. А теперь мы и приговор можем вынести. Мы теперь все знаем, что к чему.
Никому не хотелось выступать первому. Все боялись что-нибудь не так сказать. Но вот Длинный решился. И правда, чего бояться, ну покричат — и все.
— Я как говорил, так и теперь скажу — выгнать ее! Пусть катится к синим и хороводы всякие водит с мелюзгой. — Что все девчонки пустой номер, он на этот раз не посмел повторить.
Предложение Длинного понравилось.
— Ясно! — пропищал Манфред, весь вечер дрожавший от холода как осиновый лист.
— А правда, неплохо, — согласился с ним Сынок. — Но, может, она только этого и ждет? Мне кажется, усилить бы надо наказание.
— Что предлагаешь? — спросил Альберт.
— Не знаю. Я ничего придумать не могу.
— Ты что, Сынок, считаешь, мы ее, прежде чем выгнать, еще отлупить должны? — спросил Руди неуверенно.
— А он опять струсил! — тут же вставил Калле, должно быть уже забывший, какие кулаки у Руди.
— Не тявкай, а то опять получишь!.. — огрызнулся Руди.
— Тихо! — приказал Друга, сердито взглянув на обоих драчунов, всегда готовых вцепиться друг в друга.
— Незачем ее лупить, — заметил теперь Сынок. — Не успеем ее отлупить, а она уж и забудет об этом. Придумать надо что-нибудь другое.
— Вот вы и ворочайте мозгами! — проворчал Альберт.
Заикаясь и глотая слова, неожиданно заговорил Вальтер:
— Я подумал… Ну ладно, так и быть, скажу. Может, нам у синих против нее поагитировать? Чтобы они ее не приняли.
— Тоже мне придумал! — Скорчив рожу, Ганс махнул рукой. — Синим начхать на твою агитацию. Они тебе еще благодарственную открыточку пришлют — больно ты хитер.
— Нет, нет, так тоже нельзя, Ганс, — вступился Друга. — Предложи что получше, пожалуйста. Вот послушайте, как нам это понравится: Родика вылетает из Союза, и никто больше с ней не разговаривает, как будто ее и нет вовсе: ни здесь, ни в школе. Посмотрим, сладко ли ей придется у синих. Не так-то быстро она найдет таких друзей, как мы.
На этом мстители и порешили. Они вызвали Родику в «Цитадель». И Друга хотел уже объявить приговор.
— Я за дверью стояла и все слышала! — прервала она его, гордо вскинув голову. — И как вы тут все передрались — тоже.
Всем стало немного стыдно, и стыд этот обернулся гневом против Родики. Теперь десять пар сердитых ребячьих глаз смотрели на нее.
— Отдавай пропуск, — заорал Альберт, — и вон отсюда!
Дверь громко захлопнулась.
Молча сидели мстители на своих ящиках. Кое-кому взгрустнулось не на шутку. И острее всех это ощутил Друга, самый строгий судья после Альберта.
Шеф стоял, опустив голову. Он до боли сжимал кулаки: хоть как-то надо было заглушить другую боль — боль, которую вызвал у него уход сестры. Альберт жаждал борьбы: око за око, зуб за зуб. Наступит ведь миг, когда и учитель сделает ошибку, споткнется, и тогда…
Кто-то забарабанил в дверь: Родика!
— Выходите! Скорей выходите! — кричала она, задыхаясь.
— Проваливай отсюда! — зарычал Альберт, весь красный от злости.
— Пожар! В Бецове пожар! Скорей выходите, скорей! — кричала Родика. Голос ее стал удаляться.
На секунду ребята застыли, потом все вместе бросились к двери.
Началась свалка. Каждый хотел первым выбраться на улицу. Выскочив, они увидели огромное пламя, поднимающееся над домами. «Может быть, нам еще удастся чем-нибудь помочь? Что-то спасти?» — думали мстители, уже мчась к месту пожара.
Навстречу им неслись тучи дыма, ливень прижимал их к земле. И стар и млад, почти все население деревни, уже толпились вокруг пожарища. Ребята Альберта поняли — они опоздали. Там, где стоял хлев, чуть курились балки, остатки фундамента. Огонь давно уже перекинулся на ригу и там творил свое разрушительное дело — она полыхала, как факел, который, казалось, выронил из рук огромный великан. Рокот моторных насосов, треск огня сливались в общий грохот, в котором жалкое шипение водяной струи тонуло, как и обрывки человеческой речи. Здесь была и пожарная команда из Штрезова, а ребята даже не заметили, когда она проезжала мимо «Цитадели». С разгоряченными лицами стояли они и смотрели на потухающее пламя.
С трудом пробираясь по глубокой грязи, к ним подошел чудаковатый старичок, живший на самой опушке леса в жалкой лачуге. Ребята часто дразнили его. Сейчас вид у него был чрезвычайно важный. Он покровительственно положил руку на плечо Альберту и сказал:
— Молодцы ребята! Молодцы! Хоть и досаждаете порой старику, а тут себя героями показали.
Мстители удивленно переглянулись, не понимая, за что их хвалит старичок.
А тот, глядя на огонь и как бы не веря глазам, покачивал головой, приговаривая:
— Вот ведь разбойники: со своим наставником всю скотину из хлева вывели, а потом еще помогали сено от огня спасать. Дела! Такого еще свет не видывал!
— Кто? Кто спас скотину? — спросил Альберт.
Ничего не понимая, старик уставился на него, но потом, словно на него нашло просветление, сказал:
— Неужто не вы? Нет, должно быть, и правда не вы. У тех-то такой синий платок на шее повязан был. И девчушки с ними тоже были, да хранит их господь! Идут это они со своим наставником куда-то, должно быть гулять ходили, видят — горит! Всё позабыли и прямо бросились спасать, что еще спасти можно было. Ничегошеньки-то не боятся, прямо в огонь прыгают. Нет, такого свет еще не видывал!
— Из риги уже все вытащили? — спросил Альберт с пересохшим горлом.
— Все, миленький, все вытащили! Только молотилку не успели выкатить, — ответил старик. И так и остался стоять, широко раскрыв от удивления глаза.
Огромными прыжками Альберт уже бежал мимо пожарников прямо к полыхающей риге. Нет, не мог он допустить, чтобы хвалили пионеров, а его нет, вот он и ринулся навстречу смертельной опасности.
Увидев Альберта, учитель Линднер, державший вместе с пожарниками один из шлангов, бросился за ним. Под давлением воды шланг стал дергаться из стороны в сторону, окатил любопытных и в конце концов повис на заборе. С криками люди разбежались в разные стороны. Еще какая-нибудь доля секунды — и Альберт исчез бы в море пламени, но в последний миг учитель Линднер схватил его за рубашку и рванул назад. Альберт упал, а учитель, задыхаясь, выволок его по грязи из опасной зоны. Тут же рига рухнула.
Поднявшись, Альберт ненавидящими глазами посмотрел на учителя. Еще не хватало, чтобы ненавистный враг ему жизнь спас! А Линднер с упреком проговорил:
— Даже самый храбрый человек сначала подумает, а потом уже действует.
Презрительно фыркнув, Альберт сплюнул. Потом повернулся и, пройдя близко-близко от огня, зашагал домой.
…Из командирского блиндажа доносился звон оружия. Деревья тихо потрескивали. Солнце уже закатилось. Над поляной раздавались крики мстителей. Под лопатами скрипел песок, шлепалась земля, порой слышны были удары металла о дерево. Лесок погрузился в вечернюю дремоту.
На краю поляны виднелись амбразуры пяти дзотов, на двух бойцов каждый.
В блиндаже Альберт устанавливал карабины вдоль стены, с которой свешивались длинные корни. Друга сидел позади него и при свете коптящей свечи читал какой-то детектив. Потолок над ними был выложен в один накат из стволов молодых сосенок и сверху прикрыт дерном. Порой сверху тонкой струйкой сыпался песок или прямо на голову падал какой-нибудь жук.
Альберт подошел к люку, ведшему наружу, и, словно крот из кротовины, высунул голову.
— Через пять минут начнем. Поторапливайтесь! — крикнул он и снова спустился вниз.
Он присел прямо на земле против Други и принялся внимательно изучать его лицо. После исключения Родики Альберт почти перестал говорить, все только кричал.
— Убери-ка! — сказал он наконец Друге и выдернул у него книжку из рук.
Друга поднял голову.
— Хотел тебе сказать, — начал Альберт. — Никогда не забуду, как ты здорово все повернул с Родикой. Честное слово, до ста лет доживу — не забуду! Можешь на меня положиться.
— Чего там… — проговорил Друга. — Через сто-то лет…
— Почему? — спросил Альберт немного погодя.
— Не знаю я, Альберт. Если всю жизнь так… только и делать, что подкарауливать кого-нибудь да избивать… и бояться, как бы дело не вскрылось… Смейся, если тебе кажется это смешно, а я реву по ночам, когда я один…
— Тяжело, да? — Альберт взял горсть песку и дал ему струйками сбегать между пальцами. — Разве я смеюсь?
Друга покачал головой.
— Не только потому, что тяжело. Мы же с тобой совсем разные люди. Ты вот злишься на всех, не доверяешь никому, даже мне. А я стараюсь в людях найти хорошее. Люди ведь должны быть хорошими, понимаешь? — Говоря это, Друга немного волновался, голос его дрожал. — Или мы тоже все плохие, но я в это не могу поверить. И все же иногда бываешь плохим потому, что хочешь быть хорошим. Как недавно с Родикой! А ты вот клянешься: мне этого и до ста лет не забыть. Я же был плохой тогда. — Внезапно он умолк, словно и так уже сказал слишком много, и хотел было снова взяться за книжку.
Альберт спрятал книгу за спину, спросив с тревогой:
— Не понимаю. Объясни!
— Да потому, что я, может, и соврал, когда говорил про Линднера и синих, что он нечестно поступает и только боится место потерять…
Альберт проглотил слюну. Оба не сводили глаз с пламени свечи.
— Почему ты говоришь, что тогда соврал? — спросил Альберт.
— Может, это и правда, что я тогда сказал, но я не верю в это, чувствую, что соврал.
— Если не верил, — хрипло сказал Альберт, — почему же все-таки сказал?
— А что мне оставалось делать? — с трудом выдавил Друга. — Я же растерялся. Если бы я тогда говорил о том, что я чувствовал, я был бы тебе плохим другом. Это всегда так: если ты для одного делаешь хорошо, то для другого это плохо. А ты мой друг, поэтому я так и сказал.
Комок земли упал прямо на свечу, и она погасла. Долго друзья сидели в темноте и молчали.
— Вот ведь ты какой! — скорее выдохнул, чем сказал Альберт.
Снова воцарилась тишина, изредка нарушаемая звуками, доносившимися с поляны.
Щелкнув зажигалкой, Альберт снова зажег свечу.
— Нет, ты тогда сказал правду, Друга! — мрачно произнес он. — Можешь мне поверить — это правда!
Друга пожал плечами, выразив таким образом и свою неуверенность, и свои сомнения.
— Кроме того, честный Линднер или нет, вообще не имеет значения. Врать-то он врет, во всяком случае, но это безразлично. Помочь он нам ничем не может, а вот помешать может. Или ты считаешь, что Длинного перестанут сечь, если мы запишемся в синие? Отец Ганса бросит пить и не будет больше драться, а Вальтеру не придется больше красть жратву для своей мелюзги? Нет, все останется по-старому, только нам с тобой уже больше не позволят мстить. Вот как оно.
— Да, — заметил Друга, — бедность, конечно, останется. — Он закашлялся, но в этом было что-то неестественное, должно быть, он кашлял от смущения. — Поэтому и лучше, что мы такие, какие мы есть. Плохо бывает только, когда я домой прихожу и мать на меня такими глазами смотрит… Плачет она, а я ничего сказать не могу. Огрызнешься только, когда она что-нибудь против тебя и мстителей скажет. — Тоска светилась в глазах Други. — Хоть бы я мог объяснить ей, что мы это все справедливости ради делаем. Но стоит мне заговорить, как она качает головой и делает вид, будто я тяжелобольной. А ведь сама больше всех страдает от несправедливости. Недавно один дровосек наорал на нее — не так, мол, она кору счищает. Потом весь вечер озноб ее бил. Вот когда мне захотелось стать разбойником. На месте бы этого дровосека уложил!
Снова между ними воцарилось согласие. Альберт протянул Друге сигарету, закурил сам и, пуская кольца дыма, сказал:
— Может, я и стану когда-нибудь настоящим разбойником. Если хочешь, давай вместе.
Друга промолчал.
— Чего дальше-то, шеф? — послышался снаружи голос Сынка. — Сперва гоняешь нас, а теперь сам никак не кончишь.
— Разорался! — цыкнул Альберт в ответ. — Докладывать надо. Пусть идут сюда, забирают карабины. — Альберт раздавил сигарету и стал передавать оружие в люк.
Все это было немецкое военное снаряжение, брошенное в конце войны в лесу. Замки карабинов заржавели; и только свой Альберт отчистил и привел в порядок. У Други к ремню был пристегнут армейский пистолет, тоже заряженный.
Теперь оба поднялись наверх. Посреди поляны в полном составе выстроились мстители.
Лязгало железо, стволы карабинов торчали, как флюгеры над головами ребят. Ветер трепал волосы, клочья облаков низко проносились над лесом, и месяц висел на небе, как уличный фонарь. Иногда он даже раскачивался, но, быть может, это только казалось.
— Братья-мстители! — обратился Альберт к ребятам. — Мало нам быть разбойниками — пора нам стать солдатами. Может ведь случиться, что кого-нибудь из нас арестуют, и тогда те, кто не попался, освободят товарища. Дошло? Передаю командование Друге. За неподчинение его приказу — расстрел! По-нашему — намылим шею. Для начала и этого хватит. — Альберт занял место в шеренге.
— Отряд мстителей, смирно! Напра… во! Бег-о-о-ом… марш! — скомандовал Друга.
Ребята бегали по кругу, а Друга стоял посередине, как дрессировщик в цирке. Кое-кто уже начал задыхаться, но на это сейчас нельзя было обращать внимание.
— Ложись! — скомандовал Друга.
Ребята сразу же упали на землю, усыпанную камнями и гнилыми ветками.
— Встать!.. Лечь!.. Длинный, поворачивайся живей, чего плетешься сзади?.. По-пластунски на меня…марш!
Карабины громыхали, дыхание ребят участилось, а Друга отдавал все новые и новые команды.
Альберт исступленно полз на правом фланге. На лице никакой радости, одно ожесточение. Муштра, не имеющая никакой дели и смысла, была его выдумкой, он возлагал на нее большие надежды. Поступок Родики нагнал на него немалый страх — втайне ведь мстители мечтали играть, как все ребята в их возрасте. Альберт это понимал и придумал эту солдатскую муштру.
Через некоторое время Манфред заменил Другу. И снова началось все сначала. В конце концов все они уже только ругались. Одежда прилипла к телу, руки и ноги были покрыты ссадинами. И кое-кто уже стал мечтать о том, чтобы посидеть за партой, а не валяться здесь в грязи. Наконец они собрались в центре поляны вокруг Альберта, пытавшегося разжечь костер. Дрова были собраны заранее и лежали здесь же. Но огонь никак не занимался, должно быть, из-за зеленых веток.
— Тащи патроны! — приказал Альберт Вольфгангу. — И клещи!
— А где я их возьму? — спросил Вольфганг, разглаживая брюки и куртку, даже здесь в лесу пахнувшие прокисшим картофельным супом.
— Что за дурацкий вопрос! — без всякой злобы буркнул Альберт. Он радовался предстоящему. — В блиндаже, где же еще!
Вольфганг бегом бросился исполнять приказание и скоро вернулся, притащив патроны, которых здесь в лесу было больше, чем грибов. Альберт ловким движением выдергивал пули и высыпал порох в кучку под ветками, сложенными для костра. Ребята наблюдали за ним без всякого страха, как будто несчастных случаев с брошенными боеприпасами вообще не бывало на свете.
Зашипев, как сварочная горелка, порох вспыхнул, и костер наконец разгорелся. Устроившись поудобнее, ребята в ожидании смотрели на Другу. Он обещал рассказать им интересную историю — историю, которую он выдумал сам. Но теперь что-то не начинал.
— Давай шпарь! — поторопил его Альберт.
— Это было много-много лет назад, — начал наконец Друга. — И если в те времена кто-нибудь взбирался на высокую гору, то видел вокруг зеленое море — вся земля была еще покрыта дремучими лесами. Глубоко в этих лесах спряталась деревушка, которую называли «Будь оно неладно». Жили в этой деревне очень бедные люди. Весь день они проклинали свою судьбу. То и дело слышалось: «Будь оно неладно!» За это и деревню так назвали.
Десять месяцев в году снег лежал до самых макушек деревьев. Все это время избы крестьян были погребены под ним. Захотелось кому-нибудь пойти к соседу или в трактир — прокапывай себе туннель. Зато два последних месяца года солнце так пекло, что растапливало весь снег. Тогда быстро вырастали хлеба. Вокруг деревни было много тучных и плодородных земель. Пшеница и сахарная свекла росли на ней, как нигде в мире. И хлеба никогда не ложились — от ветров и дождей поля защищал со всех сторон высокий лес. Крестьяне трудились, не щадя себя, но они думали: соберем богатый урожай, и все будет хорошо. Только рано они радовались. Когда они начали хлеба убирать, налетели на них солдаты короля. Отняли все, что было, а того, кто не отдавал своего добра, убили у кладбищенской стены.
«Во имя его величества короля ничего не надо жалеть! — говорили солдаты. — А потом ведь сам господь разделил людей на богатых и бедных. И тот, кому это не нравится, — тот грешник и будет гореть в аду».
И остались крестьяне такими же бедняками, как до этого, и весь год им пришлось ходить в обносках. С горя они стали все чаще наведываться в кабак. Жены и дети голодали. Хозяин возвращался поздно ночью и колотил их — надо же ему было на ком-нибудь злость сорвать. Горе и нужда сделали всех крестьян врагами друг друга. Все чаще в деревне случались убийства.
И вот однажды убили крестьянина Химмельхунда. А было у него два сына, и таких здоровых, что они быка могли унести на плечах. Одного звали Рыжий — такие у него были рыжие волосы, а другого — Смола, потому что волосы у него были черные как смоль. Узнали они, что отец убит, и решили отомстить за него. Они тут же побежали в кабак. На площади перед кабаком уже дралась почти вся деревня — кто кулаками, а кто и камнями. Кругом валялись убитые.
Тут же стояла скрюченная, как ведьма, старушка с клюкой и причитала:
«Все друг дружку поубивают, будь оно неладно!»
«Это почему же?» — спросил Рыжий.
«Почему» — спрашиваешь? — крикнула она ему в ответ. — А потому, что жрать нечего!» — и погрозила кому-то клюкой.
Грустно стало Рыжему от этих слов, и потащил он своего брата опять домой. Но Смола, как только пришел во двор, погрозил небу кулаком и закричал:
«Будь ты проклят там наверху! Все горе-несчастье от тебя».
Рыжий смотрел-смотрел на него и говорит:
«Грози не грози, от этого лучше не станет».
«Это почему же?» — спросил его Смола.
«Чего там! Сверху один снег сыплется, а все, что тут на земле, — это уже наше дело». Рыжий был намного умнее своего брата. Он прочитал много книг.
«Наше дело», «наше дело»! — передразнил его Смола со злостью. — А почему мы тогда ничего не делаем, если это наше дело?»
«Делаем! — ответил Рыжий. — Вот слушай меня. Сегодня ночью мы уйдем отсюда и вернемся только тогда, когда тут все будет по справедливости. А до тех пор мы с тобой будем мстить за всех бедняков. И пусть дрожат перед нами тираны!»
Как только наступила ночь, братья отправились в путь. Высоко над их головами неслись черные тучи.
Шли они так день, шли другой и дошли до громадного дуба, который рос в самой глубине леса. И в нем было большое дупло. Здесь-то братья и решили устроиться на зиму.
И вот наконец настал час их первого разбойничьего налета. Залегли они в придорожной канаве и стали ждать. Вдруг видят: скачет дюжина солдат, за ними карета, запряженная шестерней, а позади опять солдаты.
Ничего не подозревая, верховые проскакали мимо. Карету братья подпустили совсем близко. И вдруг, заревев, как дикие звери, они выскочили из канавы. Пока Смола вилами стаскивал солдат с коней, Рыжий перерезал косой постромки. Карета прокатилась еще немного и встала. Разбойники сразу прыгнули на крышу. Одним ударом кулака Смола свалил кучера с козел. Важные дамы внутри завизжали. Но тут к карете подскакал арьергард. Братья-разбойники прыгали по крыше кареты и так работали вилами и косой, что только солдатские головы летели. Шум сражения становился все громче, но сильнее всего верещали дамы: топот разбойничьих сапог над головой приводил их в ужас. В живых оставалось не более половины солдат, было и много раненых. Вдруг Смола споткнулся. Крыша кареты поддалась. Офицер, командовавший отрядом солдат, немедленно воспользовался этим и проткнул ему шпагой левое плечо. Брызнула кровь, и Смола взревел от боли. Но теперь его гнев удесятерился. Он взорвался, как заряд пороха, к которому поднесли огонь. Солдаты, словно оловянные, падали с коней. Их стоны смешивались с громоподобными выкриками разбойников:
«Будь оно неладно!»
Под конец в живых остались четыре солдата. Дрожа от страха, они пустились в бегство. Братья-разбойники погрозили им вслед кулаками.
Рыжий спрыгнул вниз, рывком открыл дверцу и крикнул:
«А ну, выходи, клушки!»
У важных дам от страха коленки тряслись, а лица стали белыми как мел, только драгоценные камни сверкали.
«Высокочтимые разбойники, помилуйте нас, сохраните нам жизнь! — взмолились они. — Мы такие хорошие, мы никогда никому не причиняли зла».
«Будь оно неладно! — взревел Смола. — Воровки вы! От зари до зари обкрадывали крестьян — вот вы какие хорошие!» И он стал срывать с них драгоценные украшения, а Рыжий собирал браслеты и кольца.
«Живей! К обочине!» — прогремел его голос.
И важные дамы побежали так быстро, как они никогда в жизни не бегали.
Разбойники вытащили из кареты подушки и обыскали все уголки. Они и правда нашли шкатулку, набитую доверху золотыми талерами. У братьев даже потемнело в глазах от их нестерпимого блеска.
Затем Рыжий разорвал рубаху, перевязал брату плечо, и они тронулись в путь к своему дубу. В первый же набег они добыли столько денег, сколько крестьяне целой деревни не выручили бы, если бы продали даже весь урожай.
«Завтра же ночью отнесем все это добро в нашу родную деревню, — сказал Рыжий. — Пусть жители разделят все между собой».
Глубокой ночью в кромешной тьме отправились они в деревню «Будь оно неладно». Пришли, сложили все сокровища на базарной площади и снова ушли в лес.
А там Смола спросил брата:
«Кто же ты теперь, разбойник или кто?»
Рыжий гордо поднял голову и ответил:
«Нет, я не разбойник. Разбойники грабят. А мы отдаем крестьянам отнятое у них добро».
«Да, — сказал Смола. — Так и дальше надо делать, пока все не будет устроено по справедливости. Вот оно как!»
Так Рыжий и Смола прожили много лет.
Но они и не подозревали, какую беду натворили. Они-то хотели сделать крестьян счастливыми, а на самом деле принесли им несчастье. Ведь после того, как они в первый раз оставили все сокровища в родной деревне, на следующий же день туда прискакал целый полк солдат. Оказывается, братья-разбойники выдали себя. Они же кричали: «Будь оно неладно!» — и солдаты отомстили крестьянам. Земля на базарной площади на много вершков пропиталась кровью.
Вот и пришлось крестьянам платить с тех пор еще большую дань, чем прежде. И с каждым днем они все больше злились на братьев-разбойников. Они давно уже узнали в них Смолу и Рыжего и теперь только поджидали случая поймать их.
Снова настало лето. И однажды Рыжий сказал:
«Брат мой, надо бы у людей побывать. Тоска по родине загрызла меня совсем.
«И меня тоже», — ответил Смола.
Но как только они прибыли в свою деревню, крестьяне набросились на них с косами, цепами и вилами. Они кричали, что братья-разбойники виноваты во всем. Услыхали это Рыжий и Смола и подумали: «Сколько же горя принесли мы людям!» Пришлось им бежать от гнева крестьян. Но Смола не вытерпел, остановился и стал крестьянам растолковывать, почему они с братом грабили богачей. Крестьяне тут же схватили его и заперли в пожарном сарае. А ворота завалили дубовыми бревнами. Ко двору короля был послан гонец. Ему поручили сообщить, что один из разбойников схвачен.
Дважды Рыжий пытался освободить брата, но всякий раз крестьяне прогоняли его. В конце концов он убежал в лес, сел на большой пень и горько заплакал: ведь все, что они с братом делали, все было напрасно, и теперь Смолу ждет казнь. А ведь он так мечтал снова встать за плуг, так любил черную как смоль землю! Но вдруг Рыжему пришла в голову замечательная мысль.
Надрезав сосну, он дал вытечь смоле. Потом вымазался в ней, облепил себя корой и сразу стал похож на живое дерево, на существо из другого мира. Так он и отправился в родную деревню.
В одном из домов он услышал шум. Заглянув в окошко, он увидел, как всем известный драчун Оксенкопф бил жену и детей. Рыжий открыл дверь и ввалился в комнату. Вся семья так и застыла, увидев человека-дерево.
А тот подтянулся да как гаркнет:
«Будь ты проклят, Оксенкопф! Не знаешь, как тебе дальше быть, и бьешь жену и детей? Погляди на меня! Сам господь перед тобой».
От ужаса крестьянин упал на колени, сложил руки и взмолился:
«Боже милостивый! Это все нищета наша виновата. Она нас до погибели доведет!»
«А почему ты не восстанешь против короля? Это же он довел тебя до нищеты!» — спросил разбойничий бог.
Крестьянин Оксенкопф оторопел от удивления.
«Как понимать тебя, господи? Ты же сам разделил людей на бедных и богатых».
«Что-о-о! — взревел господь, облепленный корой. — Где тот дьявол, что так наврал на меня?»
«Стало быть, он и всем нам наврал?» — спросил Оксенкопф, а когда господь ответил ему, что так оно и есть, крестьянин побежал по деревне и стал всех созывать.
Скоро жители собрались на базарной площади.
Господь из древесной коры был выше их всех на целую голову. Он поднял кулак и крикнул:
«Много я видел в своей жизни, но таких рабов, как вы, я ни разу не видел. Да на что вы годитесь, если только друг друга убиваете и жизнь ваша от этого только еще тяжелее делается! Вы верите в ложь, которую господа распространяют обо мне, и позволяете с себя семь шкур драть. Почему вы не защищаетесь, рабы?»
Так он говорил с крестьянами, пока они не стали проклинать короля.
И еще разбойничий бог сказал им:
«Не добьетесь вы справедливости, если лучшего сына своего палачу в руки отдадите. Я говорю о Смоле и приказываю вам немедля выпустить его на свободу».
Крестьяне не на шутку испугались.
«Король два полка солдат сюда пригонит! — кричали они. — Он хочет Смолу повесить в столице. Солдаты нас накажут».
«О трусы! — воскликнул разбойничий бог. — А почему бы вам этих солдат в плен не взять? Неужели вы такие безрукие и ленивые?»
Но этого крестьяне не хотели за собой признать и тут же выпустили Смолу из пожарного сарая. А он даже не узнал своего брата, облепленного сосновой корой. Потом они все вместе пораскинули умом, как им перехитрить солдат. И придумали.
Настал вечер. И вдали послышалась барабанная дробь — это подходили королевские полки. Но на деревенской улице они не увидели ни одного жителя. Вдруг из закоулков и дворов выскочили крестьяне с цепами и вилами и напали на солдат. А те до того опешили, что даже не защищались. Они тут же сдались в плен, и крестьяне отобрали у них ружья и мундиры.
На следующий день крестьяне надели мундиры королевских солдат и выступили в поход на столицу. Топот их сапог гремел, как барабанная дробь, и гулко разносился по лесу. Это услышали жители окрестных деревень. Они спросили, куда идут крестьяне из деревни «Будь оно неладно», и, узнав, с радостью примкнули к колонне. Так их становилось все больше и больше.
Во главе колонны шагал Рыжий. Он все еще прикидывался, будто он всемогущий бог. «И как это я раньше не догадался! — думал он. — Ведь только все вместе мы можем победить!»
Когда армия переодетых в солдатские мундиры крестьян подошла к столице, стражник у ворот крикнул:
«Да здравствуют солдаты короля!» — и впустил их в город.
А там на базарной площади поскрипывала виселица. Ее приготовили для Смолы. Петля раскачивалась на ветру. Король уже прибыл полюбоваться казнью.
Но переодетые в солдат крестьяне подвели Смолу — и неожиданно отпустили его. А потом давай все вместе лупить лейб-гвардейцев короля. Сам король так перепугался, что от страха не мог сказать ни «бе» ни «ме». Но его все равно повесили.
Тут весь народ возликовал: и крестьяне и горожане танцевали, целовались и обнимали друг друга. Теперь они были сами ребе господа. Но как же они обрадовались, когда узнали, что бог-дерево вовсе и не бог, а их односельчанин, по прозванию Рыжий. Они подняли Рыжего и Смолу на плечи да так и отнесли домой.
Но вскоре братья снова покинули родную деревню. Они отправились в другую страну, где еще не восторжествовала справедливость, и там снова стали разбойниками. Но теперь они уже не были одиноки. Крестьяне заключили с ними союз, и с каждым днем их делалось все больше и больше, пока не собралась целая армия. Тогда они и там выступили против короля…
Ветер усилился, от костра разлетались искры. Друга смущенно кашлянул. Мстители сидели, покусывая ногти. Отсветы огня плясали на лицах.
— Вот это были разбойники! — мечтательно произнес наконец Вольфганг.
— Вот кому весело было, не то что…
— Только не воображай, что и тебя когда-нибудь на руках понесут! — съязвил Сынок.
Лица ребят снова помрачнели, а Руди со злостью бросил в огонь комок земли. Остальные последовали его примеру и кидали до тех пор, пока костер совсем не погас и мстителей не окружила темнота.
По дороге домой каждый думал о своем. Альберт то и дело сплевывал. Только раз он нарушил молчание.
— А своего сочинителя у них не было, — сказал он.
Все сразу поняли, о ком он говорил.
— Ерунда какая-то! — возмущался маленький Вейдель. — По лесу ползать да на птиц и навозных жуков глядеть, будто мы их никогда не видали. — Сбор отряда ему сегодня совсем не понравился.
«Будем изучать природу», — предложил учитель Линднер. И самое противное, ребята даже обрадовались.
— Правда, ерунда какая-то! — снова сказал маленький Вейдель. — А я вот не хочу быть ни садовником, ни сторожем в зоопарке.
— Давай уходи отсюда! — набросилась на него старшая дочь фрау Граф. — А нам здесь не мешай!
— Ту-ту-ту-ту! — Маленький Вейдель немедленно занял боевую позицию. — Девчонок я никогда не буду слушаться!
— Будет тебе! — стал его успокаивать Шульце-младший, положив ему руку на плечо и подталкивая к выходу. — Иди-иди! Может быть, где-нибудь ястребиное гнездо найдешь.
Вот это уже было настоящее мужское дело. Боевое задание, так сказать. И маленький Вейдель тут же отправился в путь.
Примерно час он пропадал. Но вот он вынырнул откуда-то и крикнул естествоиспытателям:
— Руки вверх! Стрелять буду!
Никто не послушался его приказа, и Вейдель… выстрелил.
Чудовищный гром разорвал тишину леса. Пуля просвистела над самыми головами пионеров и вошла глубоко в ствол дуба.
Лица ребят сразу стали серыми. По примеру учителя все бросились на землю. Послышался рев маленького Вейделя.
Осторожно приподняв голову, Линднер осмотрелся, вскочил и бросился к нему.
Маленький Вейдель катался по земле.
Учитель Линднер расстегнул мальчишке рубашку. Все плечо было сплошным синяком.
— Перестань реветь! — приказал учитель строго. — Это же отдача. — Он поднял карабин, открыл затвор и покачал головой. — Еще немного — и через три дня у нас были бы похороны!
Как будто силы наконец снова возвратились к нему, Линднер поднял маленького Вейделя за воротник и как следует встряхнул.
— Ты же сейчас мог убийцей стать! Тебя бы следовало основательно вздуть!..
Маленький Вейдель заревел еще пуще.
— Да он не виноват, — сказал Шульце-младший, стоявший рядом. — Откуда ему знать, что эта пушка стреляет? И вообще, почему такие вещи валяются в лесу?
Учитель Линднер рывком повернулся, казалось, он вот-вот набросится на него.
— Потому что была война! — сказал он с горечью.
— Я правда не нарочно!.. — бормотал маленький Вейдель, размазывая слезы по лицу.
— Где ты взял карабин?
— В блиндаже.
— В каком еще блиндаже?
— Их там пять! — всхлипнул маленький Вейдель.
— Ну хорошо, — нетерпеливо сказал Линднер. — Где эти блиндажи?
— Там, в молодняке…
На шоссе между Бедовом и выселками целый час уже шел ожесточенный бой. Камни так и свистели. На одной стороне сражались мстители во главе со своим шефом. На другой — Клаус Бетхер и его дружки. Руди случайно услышал разговор между своим сводным братом и одним из его приятелей. Так мстителям стало известно, кто тогда выложил фашистский знак на шоссе. Альберт и Друга страшно обозлились. Нет, они не могли забыть, как им тогда досталось. Альберт решил: «Мы их так отлупцуем, что они на всю жизнь запомнят!» Сразу же после обеда они подкараулили Клауса и трех его друзей и хорошенько вздули их. Но вот мстители, сотворив суд и расправу, стали удаляться. В эту минуту Клаус и его друзья засыпали их градом камней, что и послужило началом уличного сражения, ибо мало-помалу собрались все друзья Клауса, и боевые порядки противника, таким образом, значительно усилились.
Рядом с Клаусом Бетхером — и, может быть, это было в последний раз — стоял сейчас его бывший друг Гейнц Грабо. Он просто затесался сюда, как только узнал, в чем дело, и никто, конечно, в эту минуту не стал его прогонять.
Против них сражались все члены Тайного Союза мстителей. Манфред, Калле и Друга только подтаскивали боеприпасы. Они были посредственными стрелками.
— Осторожно! — крикнул Руди Альберту.
Тот нагнулся, но в этот миг в него попал другой камень, который бросили со стороны пашни. Послышался глухой удар, и Альберт со стоном опустился на землю.
— Плохо, да? — спросил Друга, нагнувшись над ним.
Альберт откинул голову назад.
— Теперь все в стрелки! — медленно произнес он. Говорить ему было явно трудно. — Одно мокрое место от них останется!
Собрав все силы, он бросил булыжник в своих противников. И попал. Доказательством этого был чей-то отчаянный крик.
Мстители ринулись на врага, забрасывая его камнями. Атака была столь внезапной, что вся группа Бетхера пустилась в бегство. Паренек, в которого Альберт попал булыжником, хромая, спасался через пашню.
Но постепенно фронт снова установился. Брошенный рукой Грабо камень попал Альберту прямо в грудь. И мстителям в конце концов пришлось отступить. Бетхеру и его группе удалось занять позицию рядом с грудой щебня на краю дороги.
Ребята Альберта обливались потом, искаженные лица были покрыты пылью, но они не сдавались.
Вот вскрикнул Калле и сразу же запрыгал на одной ножке, кусая от боли собственную руку. Прикрыв голову руками, в канаве лежал Вольфганг. На его и без того шишковатом лбу теперь ясно обозначилась большая новая шишка.
Тем временем у противника тоже выбыло несколько ребят. Бой велся с большим ожесточением.
И тут в тылу мстителей показался учитель Линднер с пионерами. Лишь на секунду задумавшись, он бросился к Альберту.
— Немедленно прекратить! — приказал он.
Не выпуская камня из рук, Альберт обернулся. Глаза его загорелись ненавистью.
— Вас еще не хватало в моей коллекции сельскохозяйственных вредителей! — прошипел Альберт и швырнул камнем в Гейнца Грабо.
Когда он вновь размахнулся, учитель схватил его за руку. Очень тихо Альберт проговорил:
— Отпустите!
— Брось камень!
— Отпустите.
— Брось-ка!..
Альберт размахнулся и ударил, но Линднер успел отскочить, и в следующий же миг Альберт полетел в грязь.
Учитель Линднер знал дзюдо.
Альберт поднялся. Словно бык торреро, он долго ощупывал взглядом немощную фигуру учителя. Тот нагнулся.
— Ну, давай наскакивай!
Альберт, склонив голову, медленно приближался.
Друга Торстен прыгнул между ними.
— С ума ты сошел! — крикнул он, с трудом удерживая Альберта.
— Отстань!
— Недавно ты говорил, что ты мне друг! — выпалил Друга. — Значит, все это была болтовня?!
Несколько секунд Альберт смотрел на него, потом опустил кулаки.
— Пошли! — сказал он, сплюнув в песок, и зашагал прочь.
Никто их не стал удерживать.
Не удерживал и учитель Линднер.
Клаус Бетхер и его друзья, узнав учителя, быстро покинули поле боя.
По дороге Альберт и Друга не говорили друг с другом. Около дома Бергов их нагнали остальные члены Союза. В «Цитадели» Сынок первым делом сообщил:
— Они засыпали наши дзоты и блиндажи! А винтовки перетаскали в контору бургомистра.
— Кто? — спросил Альберт, резко подняв голову.
— Синие.
Друга подскочил к двери.
— Не ходи! — сказал он Альберту. — Там ты все равно ничего не сделаешь.
Медленно Альберт обвел взглядом мстителей. Подавленные и разочарованные, стояли они, понурив головы.
— А Родика была с ними? — наконец овладев собой, спросил Альберт прерывающимся голосом.
— Нет.
— Ладно, — выдавил Альберт. — Но так быстро ему с нами не справиться. Мы снова откопаем блиндажи. И сейчас же!
— А они их опять засыплют, — вставил Друга. — Какой толк? Надо в другом месте выкопать.
— Нам и так попадет. За карабины, — заметил Манфред, — и за то, что мы срубили там молодняк.
— «Попадет, попадет»! — Альберт недовольно отмахнулся — Линднеру попадет, и благодаря нам.
— Ты что придумал?
Альберт выпрямился.
— А мы спилим все деревья в школьном саду. Они там мичуринские сорта хотят разводить…
Только несколько секунд спустя он заметил, что никто не откликнулся на его предложение.
— Чего это вы? — спросил он.
— Да я не знаю… — протянул Друга. — Может, Линднер нам ничего плохого и не хотел сделать.
— Ну, а вы?
От смущения мстители сидели, опустив голову, и потирали колени.
— Сдрейфили, значит! — презрительно проговорил Альберт.
Дверь громко захлопнулась за ним.
Глава седьмая ДУРНОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
Обеденный перерыв. Солнце печет нестерпимо, клонит ко сну. Шульце-младший прилег на травке у канавы. Его отец чинит плуг: какой-то болт соскочил. Гарри лежит на спине в тени старого бука, а над зеленым шатром распростерлось синее-синее небо. Оно похоже на огромное озеро или даже море. Гарри так хочется окунуться в это море, поплавать, а еще лучше — нырнуть на этом берегу и вынырнуть на другом… Ах как хорошо! До чего же хорошо на свете! Стоит чуть-чуть повернуть голову, и перед глазами вырастает густой зеленый лес — вблизи каждая травинка превращается в могучее дерево. А сам он, словно великан, развалился в этом лесу и лежит блаженствует.
Подошел отец, Шульце-старший. Присел на межевой камень и принялся чистить трубку. Но сколько ни чистил, когда раскурил — она булькала и шипела, словно он кипятил в ней воду для чая.
— Не трубка, а диво у тебя! — заметил Шульце-младший, ехидно улыбаясь. — Соловьем поет! Пора новую купить!
— Ничего ты не смыслишь в этом! — ответил отец. — В нынешнее время разве можно достать такую хорошую трубку!
— Где уж там! Такую певунью днем с огнем не сыщешь! — И парень подмигнул отцу.
Ему всегда доставляло удовольствие подтрунивать над своим стариком: тот совсем помешался на курительных трубках. Особенно на старых. Если в остальном он всегда готов был немедленно испытать все новое, то трубки — и будь они насквозь прогрызены — он любил старые. И обычно тут же пускался в длинные рассуждения в защиту трубок, а если уж он молчал, то это был верный признак того, что у него тревожно на душе.
И сегодня, должно быть, выдался именно такой день. Шульце-старший сразу забыл о своей трубке.
Отвернувшись и делая вид, будто что-то высматривает вдали, он сказал:
— И где это мать с обедом пропадает?
Гарри даже не повернул головы, однако его внимательный взгляд говорил о том, что он понимал отца. Он, так сказать, давал ему время на раскачку.
— Да, малыш… — произнес Шульце-старший очень серьезно. — Лучше я тебе прямо скажу: неспокоен я за тебя. Да…
Сын даже присел от неожиданности. Что это с отцом? А тот продолжал:
— Знаешь, иногда мне кажется: зря мы стараемся. Ну, с этим Бергом. Я ведь не Линднер. У меня бы давно терпение лопнуло.
Сын ждал. Но ничего более конкретного от отца так и не услышал.
— А я-то тут при чем? — спросил он.
— Очень даже при чем, Гарри. Линднеру было бы куда легче, если бы он мог на тебя положиться. А ты иной раз возьмешь да в сторонку, вроде тебя это не касается. Сам бы занялся Бергом — сколько раз я тебе говорил!
— Как же, стану я ему навязываться! Так он меня и дожидается! — Ответ сына прозвучал несколько раздраженно.
Но Шульце-старшего это не вывело из себя.
— Верно, что он тебя не дожидается. Но, может быть, ты сам его дожидаешься? Вот послушай, Гарри! Надо тебе, к примеру, куда-нибудь поехать, купить там что-нибудь или поручение выполнить. Разве вагон за тобой в зал ожидания прибежит? Нет уж, дудки, самому надо на перрон выходить Да не мешкать, а то место у окошка не достанется.
Некоторое время ни тот, ни другой ничего не говорили.
— А что мне делать-то? — заметил Гарри, пожав плечами. — Берг меня к себе не подпускает.
Отец подмигнул ему.
— Еще бы! — сказал он. — Надо знать, с какой стороны к нему подъехать. Ты вот возьми да налети на него, черт возьми! Мой ты сын, в конце концов, или нет?
— Ну, подеремся мы с ним. А дальше? Ты опять к Линднеру побежишь жаловаться. Как тогда. После этого мне и думать нечего было заговаривать с Альбертом.
На лице Шульце-старшего появилось лукавое выражение и тут же исчезло.
— Вон откуда, значит, ветер дует! Ну что ж, может быть, тогда я и правда поспешил. Ладно, на ошибках и учимся. Вот тебе мое честное слово: не будет этого больше. Не буду тебе мешать, не буду вмешиваться. — И он протянул сыну руку, а тот ее пожал, как пожимают руку высокие договаривающиеся стороны, заключая договор.
— А все же, Гарри, — поспешил добавить отец, — если можно — без драки. Ты уж постарайся! — Он встал и снова пошел к плугу — должно быть, еще не кончил починку. Но, пройдя несколько шагов, вновь возвратился. — Да, я ведь забыл тебе сказать… В жизни с кондачка ничего не сделаешь, и самый прямой путь бывает иной раз извилист. Да и мне тоже редко когда что-нибудь удавалось с первого захода.
Казалось, он еще что-то хотел сказать, но неожиданно оставил сына одного.
Гарри снова прилег на траву. Но теперь ему уже не было никакого дела ни до бездонного неба, ни до могучего леса из травинок. Он думал: прав отец или не прав? Неужели правда, он, Гарри, иногда несерьезно относится к своим обязанностям? Конечно, отец прожил жизнь, которой может гордиться не только он сам, но и многие другие люди. Но понимал ли он, как мать и он, его сын, страдали, живя в вечном страхе за него? Ведь именно жизнь отца сделала их такими, какими они стали теперь.
Еще тогда, когда отца арестовали, в их бецовском доме поселился страх, родилась ненависть. Это было летом 1941 года, вскоре после нападения на Советский Союз. Гарри хорошо все помнит: в том году он впервые пошел в школу. Вместе с другими ребятами он гонял на улице в футбол. Вдруг подъехал грузовик. С него спрыгнули люди в мундирах и оцепили дом. Засвистел свисток, дворовый пес рвался с цепи. Несколько человек в мундирах сразу же стали рыскать по дому, в риге, в хлеву, не пускали во двор даже его, сына Шульце. Он стоял у дверей и плакал — он не понимал, что происходило. Скоро люди в мундирах вернулись. Они вели человека, которого он, Гарри, никогда еще не видел. И как он попал к ним во двор? Весь в сене! Но раздумывать было некогда. Люди в мундирах вывели из дому еще одного человека. Гарри вздрогнул — отец! На руках его висела какая-то цепочка.
«Корова он, что ли?» — с возмущением подумал Гарри.
Отец прошел совсем рядом и посмотрел ему прямо в глаза. Лицо у него было красным, но он улыбнулся. «Я вернусь, Гарри, — сказал он, — обязательно вернусь! Ступай к маме, пусть не плачет».
Гарри послушно вошел в дом, внеся в него все свое великое горе. Мать сидела на стуле и плакала. Это было очень тяжело. Он ничем ей не мог помочь. Все его сочувствие выразилось в том, что он тоже заплакал.
В тот день Гарри никак не мог успокоиться, унять свои рыдания — они засели где-то глубоко в груди. Мать давно уже ушла на кухню и что-то торопливо мыла и чистила там, будто хотела перемыть посуду за весь год. До самого вечера он не отходил от нее. Глаза у мамы горели, но она больше не плакала.
«Мама, а кто был тот чужой?» — спросил он.
Мать вытерла руки о фартук и привлекла его к себе.
«Не знаю, — ответила она. — Никогда раньше его не видела. И отец не видел и не знал его, если тебя кто спросит».
«Правда, мам?»
Мать не ответила и снова занялась кастрюлями. Только гораздо позднее она опять заговорила:
«Ступай теперь спать, Гарри, пора! Подойди ко мне, пожелай мне спокойной ночи».
Недели три спустя вся деревня уже знала, кто был этот чужой человек, — коммунист, которого разыскивали по подозрению в государственной измене. Так написали в газете. Там же значилось, что отец Гарри многие годы был знаком с этим человеком и больше месяца прятал его у себя на дворе. Этот коммунист работал на кирпичном заводе в Бирнбауме. Газета писала, что еще и другие рабочие с этого завода виновны в государственной измене. Но они скрываются, и их до сих пор не обнаружили. Однако в конце концов их тоже поймают. Но за все эти годы их так и не нашли.
Однажды ночью в груди Гарри шевельнулось подозрение. Кто-то пришел к ним. Он слышал через стенку, как мать с кем-то говорила. Сперва он не придал этому значения и снова заснул. Но потом все же спросил мать, с кем это она разговаривала ночью.
«Должно быть, тебе почудилось, — ответила она. — Никого у нас не было».
Гарри не поверил:
«Ты неправду говоришь!»
Мать села с ним рядом, взяла его руку в свою.
«Гарри, ты ведь любишь папу?» — спросила она.
В знак согласия он опустил голову.
«Вот поэтому, — сказала мать, гладя его по голове, — никто и не должен знать, что к нам ночью заходили».
Но понять этого Гарри так тогда и не понял. Однако промолчал. Он догадывался, что ночные посетители были друзьями его отца. Он ничего не сказал и когда обнаружил, что мать дала этим гостям с собой яиц и сала. Напротив, он обрадовался и даже старался поменьше есть, чтобы мать могла что-нибудь дать им в следующий раз.
И это было каким-то утешением для него. В школе никто не хотел с ним водиться — ведь отец Гарри сидел в тюрьме. А учитель — старый и седой — вечно мучил его придирками: то оставит после уроков, то розгами накажет. А сколько всяких других наказаний он для него придумывал! Но Гарри не сник, он твердо решил: буду учиться лучше всех, буду всегда внимательным и прилежным. Только так он и мог жить. Но такая жизнь сделала его жестоким по отношению к самому себе. Ему ведь не помогали никакие извинения; стоило ему совершить малейшую ошибку, как тут же приходилось за нее расплачиваться. Это и определило его характер. Он рано понял: кто ошибается, тот должен считаться с последствиями. Зато позднее, когда прошли уже многие годы, ему было трудно понять других ребят.
Но тогда… тогда он вовсе не мирился со всем окружающим. Ему было уже девять лет. Прошло три года с тех пор, как забрали отца. Каждую ночь крупные соединения американских бомбардировщиков пролетали высоко над деревней. Жители ее как раз убирали картошку. Сентябрьское солнце стояло довольно высоко в небе. В обед мать дала ему денег и попросила принести две бутылки газированной воды.
Перед трактиром стояло несколько военных грузовиков. В самом трактире набились эсэсовцы — яблоку негде было упасть. Гарри подошел к стойке, попросил воды. Обернувшись, он заметил, как Бетхер, тогдашний бургомистр, разговаривая с эсэсовцем, показал на него, Гарри. Это было очень неприятно, и Гарри решил поскорей убраться из трактира. Но эсэсовец схватил его за рукав.
«А ну, погляди на меня! — сказал он совсем не зло, только глаза его все время бегали. — Красивый парень, рослый! Жаль, отец у тебя сволочь. — И он покосился на Бетхера. Потом взял да пододвинул свою кружку ему, Гарри. — Что ж, ты не виноват. Выпей за то, чтобы все эти гады сдохли!»
Гарри не притронулся к кружке.
«Пей!» — сказал ему почти ласково эсэсовец, но тут же плеснул ему в лицо все содержимое кружки.
Гарри стоял не шевелясь. Сперва он ничего не видел, слышал лишь громкое ржание. Первое, что он разглядел в конце концов, была кружка, стоявшая на столе. С пивом. Рука потянулась к ней… И вот уже эсэсовец стоял облитый пивом с головы до ног. Как мокрый пес.
Все остальное произошло очень быстро. Кто-то ударил Гарри. Он даже не понял кто. В глазах потемнело. Пришел он в себя уже на улице. Кругом никого не было.
Гарри побежал в поле. Не бежал, а несся, задыхаясь, исполненный боли. Голова лихорадочно работала, сердце выстукивало: «Папа! Вернется папа — за все отплатит!»
Мать сразу догадалась, в чем дело.
«Поплачь! — сказала она. — Легче станет».
И правда, потом полегчало. Но папа!.. Мысль об отце теперь никогда не покидала его. Мысль эта принесла ему надежду…
И час возвращения настал. Снова отец сидел в кухне за столом. Они с трудом узнали друг друга, стали какими-то чужими и не столько внешне, а как-то внутренне. Да и о чем им было говорить? Отец принялся расспрашивать, помогал ли Гарри матери. А как в школе? Успевал ли? А пахать научился? Парным плугом, конечно? Или только все играл?
Вот такого отца он и ждал все эти годы. И что же, разочаровался теперь? Ничуточки, напротив. Только внешне он представлял себе отца немного другим. Ему хотелось броситься ему на шею и рассказать обо всех пережитых муках. Но отец был таким серьезным, строгим. И Гарри стало совестно говорить с ним о прошлом. Отец, наверное, хорошо знал, что тут без него происходило, как они жили, но теперь это было уже неважно для него. А о чем-то понятном, само собой, не стоило и говорить. Ему подавай что-нибудь настоящее, что Гарри тут сделал хорошего.
И сын принялся перечислять. А вот о том, как было жутко, как он боялся, умолчал.
Отец остался доволен.
«Хорошо, Гарри, — сказал он. — Очень даже хорошо. Значит, нас теперь двое мужчин в доме». Он обнял его за плечи и встряхнул.
Это и была, должно быть, его благодарность за все эти годы. Да и большей Гарри никогда и не представлял себе ее. Итак, для отца он был теперь взрослым. И он докажет, что достоин этого признания. Он никогда не будет жаловаться, никогда!
И Гарри сдержал слово. Более, чем прежде, он был строг и суров к себе, в нем появилась даже какая-то жесткость. Ведь в деревне покамест мало что изменилось. Кое-кто даже высказывал недовольство: с какой это, мол, стати отец Гарри вернулся раньше других — тех, что ушли в солдаты? Они говорили, что отец все четыре года провел чуть ли не в санатории. И в школе ребята повторяли это. А учитель Грабо был большой мастер причинять боль словами.
Но что же Гарри было делать? Бежать к отцу каждый раз жаловаться? У того своих забот хватало. В конце концов он и сам справился без помощи отца. В общем и целом, конечно. И все же нелегко ему это досталось. Очень нелегко…
Гарри все еще лежал в траве на краю канавы. Тем временем пришла мать, принесла обед. Кликнула его. Он встал и пошел к фуре. И пока шел, мысли его вновь возвратились к Альберту. Да, уж этот Берг… Но, в конце концов, он ведь такой же парень, как и он, Гарри, и должен сам знать, что хорошо, а что плохо. Верно?.. Нет, что-то тут неверно. То, что было плохо, Альберт считал хорошим, поэтому он и вытворял черт те что. Если бы он понял, в чем ошибается, может быть, все изменилось бы к лучшему. А вдруг и правда ему надо помочь?..
Первый день нового учебного года совсем не был похож на другие такие дни. Никто не пытается перекричать друг друга, и даже никто не спорит из-за лучшего места. Слышен только шепот. Маленькие группки учеников шушукаются по углам, ребята то и дело поглядывают в сад: не изменилось ли там что-нибудь. Какой-то злой дух витает над всем, каждая группка готова броситься на другую, считая, что ее тоже в чем-то подозревают.
Все деревца и кусты в школьном саду кто-то спилил. Ночью взял да спилил. Говорили, что это кто-то из учеников, возможно даже несколько учеников.
А ребятам так хотелось, чтобы у них был свой мичуринский сад, так хотелось самим делать прививки!..
Члены Тайного Союза мстителей сидели, не сводя глаз с доски. Лицо Альберта застыло, он стиснул зубы так, что резко обозначились желваки. Руками он сжимал крышку парты перед собой.
Друга неотступно следил за ним.
— Скажи по-честному, ты это сделал?
Альберт молчал.
Родика сидела отдельно от остальных и время от времени поглядывала на своих бывших кровных братьев. Она как-то беспомощно улыбалась. Никто не обращал на нее внимания.
Гейнц Грабо, будто его вообще ничто не касалось, рисовал на парте. Злорадно усмехаясь, он то и дело подмигивал Альберту. Выражение его лица как бы говорило: «Я же тебе давно предлагал, Альберт. Мы с тобой вдвоем что хочешь можем сделать».
Но Альберт даже не смотрел в его сторону. И не из-за недавнего сражения. Презрение Альберта к Грабо имело более глубокие корни — он и все мстители ненавидели сына господина Грабо за то, каким он был, а вовсе не из-за какой-то отдельной стычки.
Ровно в восемь в класс вошел учитель Линднер. Ученики поднялись. Ни одна парта не хлопнула. Ребята смотрели на своего учителя с участием, как будто тяжелый удар был нанесен ему одному, и приветствовали его особенно дружно.
Учитель заговорил очень тихо. Он поздравил учеников с началом учебного года, сказал несколько слов о предстоящих задачах и вдруг подошел к окну. Долго он молча смотрел в сад.
Весь класс тоже молчал. Слышалось только дыхание ребят. Очень громкое почему-то.
Гейнц Грабо ухмылялся, опустив уголки губ.
Глаза Альберта горели огнем. Ненависть удваивала силу, с которой он сжимал крышку парты. Сидел он чуть пригнувшись и втянув голову.
— Как часто видел я это во время войны! — не оборачиваясь, произнес учитель, все еще глядя в сад. — Разрушенные дома, опустошенные сады… Чем больше немецкий солдат разрушал, тем выше ставилось ему это в заслугу. Этим война и отличается от мира. Если в мирное время ты хочешь чего-нибудь достигнуть, тебе необходимо многое сделать, и сделать хорошо. Ты должен гораздо лучше учиться и лучше работать, чем тот, кого ты хочешь победить. Нет, не победить — ты просто должен быть лучше, чем тот, для кого ты хочешь служить примером. — Учитель Линднер подошел к столу и, внимательно всматриваясь в лица своих учеников, продолжал: — Но вот в этой войне, — он горестно улыбнулся, — какое значение имеют честность, прилежание, разум? Гораздо важнее подлость и обман, предательство и самое примитивное чувство мести. Уж если я не могу быть лучше, чем другой, то хотя бы изобью его. И потому такая война не что иное, как признание собственной слабости.
Все поняли, что эти слова были обращены к Альберту и его друзьям. Ведь прежде всего подозревали их.
Альберт сжался, как пружина, готовая в следующий же миг распрямиться. Вот-вот он бросится на учителя и вцепится ему в горло. Мускулы на его лице окаменели от напряжения.
— О нашем саде я мог бы сказать то же самое, — продолжал Линднер. — И я думаю, что тот или те, кто это совершили, находятся среди нас. И если осталась у них хоть искорка чести, они должны сами встать и признаться. — Глаза его остановились на Альберте.
Наступило долгое молчание. Скрипнула чья-то парта. Кто-то двинул ногой…
— Это сделал я! — послышался голос. Сказал это Гейнц Грабо, и сказал с вызовом.
Все обернулись к нему. Альберт тоже медленно повернул голову.
Несколько мгновений учитель не мог вымолвить ни слова. Он застегивал и расстегивал пиджак. Потом воскликнул:
— Ах вот как!.. — и снова замолчал.
— К чему это «ах»? Я спилил, и все! — проговорил Гейнц Грабо с вызовом, сунув руки в карманы.
Учитель Линднер направился к нему.
— Немедленно вынь руки из карманов!
— А мне неохота!
Молчание.
— Зачем ты это сделал?
Гейнц нагло ухмыльнулся, явно наслаждаясь испуганными лицами ребят.
— Чего это вы уставились на меня? — спросил он. — А почему бы мне и не спилить? Захотел и спилил!
Он отпрянул, но учитель все же успел ударить его по лицу.
Гейнц тут же замахнулся для ответного удара. Линднер перехватил его кисть, прибегнув к приему дзюдо. И Грабо полетел через парту на пол. Но учитель так и не отпустил его руки.
Все были настолько заворожены происходящим, что никто не заметил, как Альберт вскочил и, подбежав к учителю, резко выбросил правую руку вперед. Щелкнул нож.
Учитель Линднер, мгновенно обернувшись, упал на бок, и нож ударился о стену.
В ту же минуту Друга, перепрыгнув через ногу Альберта, упал на пол и прикрыл собой нож. Подскочили и остальные мстители и стали оттеснять Альберта, готового с кулаками наброситься на учителя.
Воцарилась тишина. Все это произошло за несколько секунд.
В нерешительности Друга вертел в руках нож.
— Дай сюда! — сказал учитель.
Друга покачал головой. Лицо его выражало одновременно беспомощность и сожаление. Он смотрел на Альберта. Учитель сделал шаг к Друге, намереваясь отнять нож. Но Друга повернулся на месте и неожиданно сломал нож о колено. Затем отдал обе половинки учителю Линднеру.
В классе послышался вздох облегчения, и без единого слова ученики вновь заняли свои места.
Подойдя к Альберту, Сынок крикнул ему прямо в лицо:
— Идиот! Вот ты кто!..
Остальные мстители тоже смотрели на своего шефа осуждающе.
Учитель подошел к столу, сел и уронил голову на руки.
— Что мне теперь с тобой делать, Альберт? — произнес он очень тихо.
— Меня это не интересует, — ответил Альберт, и гнев его вспыхнул с новой силой. — Мне безразлично, что бы вы со мной ни сделали!
— Тебе-то безразлично, — сказал учитель. — Все тебе безразлично!.. — Он заставил себя улыбнуться и снова обрел необыкновенное спокойствие, всегда так удивлявшее его учеников. Выйдя из-за стола, учитель подсел к Друге и Альберту. — Ты думаешь, ты герой? — сказал он при полном молчании класса. — Как-никак хотел зарезать своего учителя. Для этого надо немало смелости. А к смелым я всегда питал слабость. Раньше, когда я еще был, как вы, я восхищался преступниками. Может, сейчас вам это покажется странным, и учителю вроде как бы и ни к чему рассказывать это ученикам. Ну да ладно, раз уж вспомнилось! Так вот, я восхищался преступниками, которые совершали ограбление с умом. Например, жили тогда в Берлине два брата, которые ограбили банк. За месяц до ограбления они поставили перед самым банком палатку, обыкновенную палатку, какой пользуются монтеры при проверке подземных кабелей. Люди и думали, глядя на братьев в замасленных комбинезонах: наверное, чинят кабель. А на самом деле они рыли подземный ход к подвалам банка, где стояли сейфы с деньгами. Землю они выносили в портфелях. В конце концов они продолбили стену подвала, захватили много денег и скрылись. Полиции оставалось только глаза таращить от удивления…
Слушая учителя, ребята улыбались, а Альберт смотрел на него снизу вверх.
— Но все-таки грабителей этих поймали, — продолжал Линднер. — А жаль! Мне было искренне жаль их. Не то чтобы я оправдывал их преступление — оно-то должно быть наказано. Нет, мне просто нравилось, с каким умом они взялись за дело. Вы только представьте себе, чего они достигли бы, если бы освоили какую-нибудь толковую профессию, — может быть, из них вышли бы великие изобретатели. Вот почему я жалел их! — Линднер посмотрел Альберту прямо в глаза. — А теперь ты, наверное, хочешь узнать, почему я рассказал вам об этом случае? Да просто потому, что ты, Альберт, готов убить человека, даже не подумав, из чувства самой обыкновенной, я бы сказал, примитивной мести.
Более чувствительного удара Альберту невозможно было нанести. Он покраснел до корней волос и как-то сник. Наконец он поднял голову, посмотрел на учителя горящими глазами и хрипло произнес:
— Ничего подобного — очень даже подумал! Потому что вы Гейнца ударили, а это запрещено. И насчет сада — не он его спилил, а я. И еще потому, что вы всюду свой нос суете. — Он говорил торопливо, как бы желая поскорее все высказать. Но вот он на миг запнулся и тут же добавил: — Ерунду вы говорите, я вас и не собирался зарезать! Не такой уж я дурак, чтобы сразу взять да зарезать. Пырнуть я вас хотел немного ножичком, вроде как предупреждение сделать. А вы говорите «не подумал»! Вот оно как!
Хотя эта попытка оправдаться и прозвучала ужасно, она вызвала улыбку на устах учителя. Однако улыбка мгновенно исчезла.
— Значит, это не ты спилил? — спросил учитель Гейнца Грабо, посмотрев на него.
— Мне послышалось, будто это уже только что сказал Альберт, — ответил Гейнц, мобилизовав все остатки высокомерия и надменности.
— Правильно послышалось, — едко заметил Линднер.
В классе раздался смех. От злости Грабо сжал кулаки. Но терпение учителя Линднера лопнуло. Он решил в дальнейшем не обращать больше внимания на Гейнца Грабо. «Не хочет по-хорошему, пусть будет по-плохому!» — думал он. И все же не что иное, как огромное желание помочь и этому высокомерному парню, заставило его так решить. Учитель Линднер снова обратился к Альберту:
— Ты один уничтожил сад?
Альберт не сразу ответил. И Сынок немедленно вспылил:
— Герои! Сперва набезобразничают, а потом в кусты!..
Альберт вздрогнул. Не ослышался ли он? Один из мстителей напал на него с тыла?
— Заткнись! — только и буркнул он, однако уверенности у него не прибавилось.
— Так дело у тебя не выйдет! — выкрикнул Калле, которому история про грабителей очень уж пришлась по душе.
Альберт обернулся и окинул взглядом всех мстителей. На их лицах он увидел осуждение. Альберт промолчал.
Учитель все еще глядел на него.
— Да, один, — ответил наконец Альберт.
— О подлости, мерзости этого поступка мне вам нечего говорить! — расхаживая по классу, начал Линднер. — Вред, нанесенный им, всем очевиден. Особенно тебе, Альберт. В противном случае ты его не совершил бы. Остается один вопрос — как быть дальше?
Родика подняла руку. Лицо ее пылало от стыда за Альберта. С тем, что мстители оттолкнули ее, она уже примирилась. Но пионеркой она вовсе не собиралась стать, не собиралась она предавать своих друзей-мстителей даже тогда, когда ее исключили. Но теперь она чувствовала себя в какой-то мере ответственной за поступок Альберта, который она осуждала всем сердцем. Ей хотелось, чтобы и брат это понял. Но и помочь ему хотелось.
— На опушке, — сказала она, — растет много диких яблонь и груш. Можно выкопать и посадить здесь. Ради этого и я пойду с синими.
— Посмей только домой явиться!.. — погрозил ей Альберт кулаком.
Учитель Линднер решил не обращать внимания на угрозу.
— Хорошо, — сказал он, — мысль отличная! Но с какой стати пионеры должны отвечать за всякие безобразия, которые учинили другие? Нет, нет, это задача самого Альберта. А его друзья помогут ему. Вы же всегда поддерживаете друг друга.
— И пальцем не пошевельну!.. — снова взорвался Альберт.
— А вы подумайте все вместе. Это ведь не наказание. Просто надо поправить то, что сделано неверно.
— Поправим!.. — сказал Друга.
Альберт постучал пальцем по лбу.
— Теперь достаньте книги! — вновь послышался голос учителя.
Он нашел наконец выход и, несмотря на все случившееся, воспрянул духом. Спасать ребят от пути, ведущего к преступлениям, — вот в чем он видел задачу своей жизни. Нелегкая задача! Но новому времени нужны все люди, а учитель Линднер верил в новое время.
Это был уже настоящий бунт!
По дороге домой они снова переругались. У околицы Альберт поджидал Родику. Она шла одна. Он сразу же схватил ее за волосы. Теперь-то он отомстит ей за то, что было в школе. Но тут же подскочил Друга и ударил его по руке. Выйдя из себя, Альберт с кулаками набросился на него, но остальные мстители встали на защиту Други.
— Что ж, — сказал шеф, тяжело дыша, — как хотите. Кончился, значит, наш Тайный Союз! — Голос его дрожал, и все заметили, как трудно было ему говорить.
Снова Друга протиснулся вперед.
— Чего ты ерунду мелешь: «Кончился наш Тайный Союз»! Что это значит? Кто тут против нашего Союза? Ты или мы? Сам же знаешь, что Родика теперь может делать все что хочет. Вот и оставь ее в покое!
Девочка все еще стояла рядом. Кивнув ей, Друга сказал:
— Проваливай, Родика!
Подталкивая Родику, ребята выпроводили ее из своего круга. Но она все не уходила. Ей так хотелось крикнуть им: «Вы же делаете одну глупость за другой! Никому вы уже не мстите. Неужели вы ничего уже не соображаете?»
Сердце Родики сжалось. Ей было больно за брата и за его друзей. Сдерживая слезы, она наконец пошла прочь и, только отойдя подальше, позволила себе расплакаться.
Альберт стоял, все еще сжимая кулаки. Мимо прогромыхала фура с рожью, и они переждали, пока она отъедет подальше.
Ну что ж, бей! — сказал Друга с презрением.
Альберт сунул руки в карманы.
— Что ты школьный сад погубил — это свинство! — продолжал Друга. И остальные ребята одобрительными возгласами поддержали его. — И кто был против одиночных выступлений? Ты. А сам хуже всех оказался!.. — Друга даже засопел от злости.
— Вон ты о чем! — заметил Альберт с явным облегчением. — Надо же кому-то что-то делать, если все вы дураки и ничего не понимаете.
— Зато ты уж слишком умен! — возразил Друга. — Потому и делаешь все шиворот-навыворот.
Подумав, Альберт повернулся и сказал:
— Сейчас нет времени. Сегодня вечером в восемь в «Цитадели»!
— И не подумаю прийти! — отрезал Сынок. — Пойду купаться.
Альберт остановился. Ему удалось подавить свой гнев.
— Ладно, тогда на берегу. Но только в девять.
Плеснулась рыба, и по воде побежали красивые круги. Потом вода снова разгладилась. Где-то над лугами крикнула цапля. Белая луна словно прилипла к небу. Было прохладно.
Сынок и Руди лежали на песчаной косе, хотя уже покрылись мурашками от холода.
Остальные мстители расположились на лугу и курили. Им не хотелось купаться. Тучи комаров то и дело атаковали их голые руки и ноги.
— Шеф идет! — почтительно сообщил Вольфганг.
Сынок и Руди прыгнули в воду, но тут же вынырнули и принялись одеваться.
Шагая через луг, Альберт приближался к берегу реки. Словно беспокойная лошадь, он то и дело вскидывал голову.
Ребята лениво поднялись.
На всякий случай Альберт примирительно улыбнулся. Прижав руку к груди, он произнес:
— «Свобода над сердцем»!
Почти все ребята только приложили руку к груди, лишь Вольфганг пробормотал:
— «…над сердцем»!
Такой прием не понравился Альберту, и рапорт Манфреда он выслушал лишь краем уха.
— Валяйте, господа судьи! — сказал он, растянувшись на траве. Против его воли это прозвучало зло.
Атмосфера сразу же накалилась.
— Лучше бы признался, что это было свинство с твоей стороны, — сказал Сынок очень спокойно, что несколько удивило ребят.
— Ишь чего захотел! — Альберт прищурился.
— Если так дальше пойдет, давайте лучше сразу подеремся! — Друга встал.
— Как хотите.
— Перестань трепаться, Сынок.
Друга присел подле Альберта на корточки. Он не знал, как ему быть. Внутренне он осуждал Альберта, но не хотел столкновений.
— Ты же не прав, шеф! — сказал он. — Признайся, и мы как-нибудь вместе все уладим.
— Слушайте-ка! — приподнявшись на локте, ответил Альберт. — Вы, должно быть, забыли: у нас война с синими.
Друга покачал головой.
— Мы же говорили о другой войне. Один на один, и не так, чтобы потом стыдно было. Мы же хотели разгромить синих, ослабить их, а ты своим подлым поступком только помог им. Теперь все сами побегут к синим. Это всегда так. Если на кого нападают сзади, тому и хочется помочь!
Альберт затянулся дымом и задержал руку на губах. Он хотел понять Другу. Медленно выпуская дым изо рта, он, усмехнувшись, сказал:
— Прав! Глупость я сморозил.
— Что же, все ясно, значит, — поспешил заключить Сынок. — Надо теперь только сговориться, как нам это дело с деревьями поправить…
— Не о чем нам сговариваться, понял? — оборвал его, поднявшись, Альберт.
— Не понял, — все так же спокойно ответил Сынок.
Альберт вплотную приблизился к Сынку.
— Послушай, что я тебе скажу: пальцем шевельнешь для них — и вылетишь из Союза. Вообще мне что-то твоя рожа надоедать стала.
— А мне твоя и подавно!
— И мне! — добавил Руди.
Альберт толкнул его в грудь. Но он ошибся, предположив, что Руди будет и сегодня вести себя, как тогда, в «Цитадели». Руди тут же ударил Альберта. И сразу же получил пощечину.
Драка началась. Сынку удалось схватить Альберта за ноги и опрокинуть на землю. Теперь они втроем катались по песку. В конце концов Альберт одержал верх, но и ему досталось порядком. Как только он отталкивал кого-нибудь из противников, в него сразу же вцеплялся другой.
Калле посматривал на Другу, да и остальные тоже: вмешиваться им или нет? И на чьей стороне? Против Альберта? Этого они не хотели. Но помогать Альберту они тоже не желали, у них было тяжело на душе.
Друга стоял с поникшей головой. Вся эта свара настраивала его на грустный лад. Он взял да и растянулся на траве.
— Отойдите от них! — крикнул он Вальтеру. — Не стоит связываться!
В эту минуту Альберт изловчился и ударил Руди по подбородку и тут же в солнечное сплетение. Задохнувшись, Руди упал.
В схватке Сынок рассек Альберту бровь, и тот с залитым кровью лицом, озверев, словно отбойным молотком, обрабатывал Сынка. Прошло несколько секунд, и Сынок тоже свалился замертво.
Не произнося ни слова, Альберт опустился на траву, стер носовым платком кровь и стал ждать, пока оба противника придут в себя. Он тяжело дышал.
Скоро Сынок и Руди зашевелились, поднялись и, пошатываясь, побрели прочь.
— Пойдет кто-нибудь с нами? — спросил, вернувшись, Сынок. Лицо его было в крови.
Альберт только пристально посмотрел на него. Никто не ответил Сынку.
— Ну что ж! — пробормотал Сынок и, пожав плечами, зашагал вслед за Руди.
Первым нарушил молчание Ганс:
— Было одиннадцать — восемь остается! То-то Линднер посмеется! Ну, как скажешь, сочинитель, получается у меня или нет?
— Получается! — с горечью ответил Друга.
— В драке они сами виноваты, — вставил Вольфганг, покосившись на Альберта.
Калле, почесав ногу, всецело занялся борьбой с комарами.
Манфред судорожно пытался подобрать какое-нибудь острое словечко, подходящее к данной ситуации, но так и не нашел. Да его пискливый голос только привел бы в раздражение остальных.
Вальтер молчал, понимая, что сейчас его никто и слушать не будет.
А Длинный мечтал, как он при помощи какого-нибудь отчаянного трюка все опять поставит на место.
— Я точно знаю, о чем вы все сейчас думаете, — сказал наконец Альберт.
И Друга понял, как ему было тяжело.
Это как-то вновь сблизило его с ним. Ведь для Альберта Союз мстителей — это было все, весь смысл жизни. Друга это знал. Знал он также, что Альберт никогда не покинет его в беде. Альберт был его первым и лучшим другом. И Друга поклялся себе сейчас, что никогда этого не забудет.
— А, все равно! — сказал он. Это должно было послужить к примирению.
— Нет, не все равно! — Голос Альберта звучал как-то глухо. — Или вы, может, думаете, я не понимаю, что спилить сад — это свинство?! Если бы меня Линднер наказал как положено, я бы и не пикнул. Но сажать новые деревья и не подумаю! Это все равно что мне ему ботинки чистить. А вы что скажете?
Луна играла синими бликами на копне его волос.
— Ну, я пошел, — сказал Ганс явно разочарованно.
Калле тут же последовал его примеру.
Все поднялись.
Посмотрев своими большими серьезными глазами на небосвод, Длинный мечтательно сказал:
— Если б я был волшебником…
Друга и Альберт шли медленно и скоро отстали от других.
— Я им руки-ноги переломаю! — сказал Альберт.
— Кому это?
— Сынку и Руди Бетхеру.
— Нет, Альберт, тогда нас останется еще меньше. — Он положил Альберту руку на плечо.
— А законы Союза мстителей?
— Какие там законы! Для этого случая вообще нет никаких законов.
— И все равно! — упирался Альберт. — Они теперь вместе с синими посадят деревья и будут без конца трепаться про нас. Надо мне им всыпать как следует.
— Не думаю, чтобы они нас предали синим.
— А ты докажи! — Альберт сбоку посмотрел на Другу.
— Нет у меня доказательств. Но узнать это всегда можно.
— Как?
— Мы подошлем к ним лазутчиком Вольфганга. Пусть они думают, что ты Вольфгангу тоже морду разукрасил.
— Неплохо! — согласился Альберт, задумавшись. — Если они нас предадут, мы их все вместе проучим. — Альберт, вновь обретя уверенность, ускорил шаги, чтобы догнать Вольфганга.
Друга в нерешительности следовал за ним. Он любил смотреть правде в глаза. А уж если мстители дерутся друг с другом, значит, дело дрянь.
Альберту он об этих мыслях ничего не сказал и только спустя некоторое время обронил:
— Ну, а насчет сада? Ты же сам признался, что это было свинство…
— Признался! — сердито ответил Альберт.
— Ну, а дальше?
— Что — дальше?
— От одного признания ничего не изменится. Вот о чем я говорю.
Альберт остановился, стараясь побороть раздражение.
— Больно вы сегодня все умные! Так, как хочет Линднер, со мной ничего не выйдет. Понимаешь ты или нет?
— Понимаю-то я понимаю… — Друга кивнул. — Ну, а если как-нибудь по-другому…
Родика места себе на находила. Уроки она до сих пор так и не сделала.
При мысли о погубленном школьном саде у нее щемило в груди. Этот поступок наносил удар самым благородным ее чувствам. Нет, так не должно остаться. Но Альберта она тоже не хотела терять. Он же ее родной брат, она всегда видела в нем пример для себя. И хотя она и осуждала его за школьный сад, хотя они с братом сейчас как бы играли в прятки, она готова была защищать его, даже если ради этого надо было в чем-то обманывать себя.
Немного грустно, немного растерянно ее огромные глаза, похожие на продолговатые ракушки, смотрели в окно. Мимо проехал на велосипеде Шульце-младший. Это заставило ее встряхнуться. Рывком она открыла окно и крикнула ему вслед:
— Гарри, Гарри! Подожди!
Гарри остановился. И Родика, не раздумывая, выпрыгнула в окно.
В несколько секунд у Родики возник целый план — пожалуй, даже чудовищный план, равнозначный обману, однако в основе его лежало истинное чувство товарищества, и родиться он мог только у человека с отважным сердцем.
— Чего тебе? — спросил Шульце-младший.
— Надо поговорить. Срочно. Здесь нельзя. Пойдем вон туда за забор, там нас никто не увидит. — Решительно схватив Гарри за руку, она потащила его за собой.
— Ты давай скорей выкладывай, мне в Бирнбаум надо.
— Успеется! — отрезала она.
— Может, ты лучше меня это знаешь?
— Знаю. Завтра поедешь — тоже не поздно будет! — Это прозвучало нагловато, но ее глаза при этом смотрели на него с мольбой.
Вздохнув, Гарри смирился. Родика, вертя ручку его велосипеда, вдруг спросила:
— Скажи, что ты думаешь об Альберте?
— Чего это ты? Ничего хорошего я о нем не думаю.
— А вот ты и ошибаешься. Он все равно хороший!
— Да?
— Да!
— Чего же ты тогда спрашиваешь?
— А спрашиваю потому, что мне очень обидно из-за этой истории с садом. И ему, я знаю, тоже обидно и жалко.
Гарри внимательно посмотрел на нее.
— Нет, такие вещи, не обдумав, не делают, — проговорил он. Шульце-младшему всегда все было очень ясно. Для него существовали только прямой и кривой пути. И ничего больше. Так его воспитали, и, должно быть, ему было очень трудно понять Альберта. — Что же, — сказал он наконец, — если Альберт раскаивается, он сам знает, что ему делать.
— Если бы ты хоть раз поговорил по-другому! — произнесла Родика, глубоко вздохнув. Она явно начинала терять надежду.
— Ты это о чем? Разве я что неправильно сказал?
— Да нет, говоришь, как учитель какой-то, а не как парень. Да и вообще!..
Гарри покраснел до ушей. Родика сейчас походила на кошку, готовую вцепиться в него когтями.
— Вот Альберту куда тяжелей приходится, чем тебе, Гарри. Да он и другой совсем. И ничего-то нет хорошего в том, что ты, как упрямый козел, ничего ни справа, ни слева не видишь.
— Это я-то козел?
— Ты.
— Ну, знаешь ли! — Гарри не на шутку разозлился. — Кто сад спилил: я или Альберт?
— Если так рассуждать, ты, конечно, прав. Да не об этом я говорю. Плохо он поступил, очень плохо! Но ведь он признал, что плохо. Мне это уж лучше известно, чем кому-либо. Но вот посадить новые деревья в саду, как того хочет Линднер, — этого Альберт никогда не сделает. Ему же стыдно. Это же унижение для него!
Голос Родики звучал очень ласково, она буквально умоляла о чем-то Гарри.
Некоторое время он чертил ногой по песку, а когда вновь поднял голову, то заметил, что у Родики вот-вот брызнут слезы из глаз.
— Ничего, как-нибудь обойдется, — попытался он сразу утешить ее.
— Ничего не обойдется! Боюсь я очень! — всхлипывая, проговорила она.
— Чего?
— Потом все станут думать, как и ты, что он плохой. А я его не оставлю, потому что он хороший!
Отчаяние, прозвучавшее в ее словах, пробудило в нем желание помочь. Честное слово, он готов был помочь ей!
— Но что делать-то? — спросил Гарри.
Родика подошла поближе и внимательно посмотрела ему в глаза. И сразу же на щеках ее появились маленькие веселые морщинки.
— Ты и вправду поможешь?
Гарри кивнул.
— А молчать ты умеешь? — Родика опять стала той девчонкой из Союза мстителей, которая умеет сразу оценить, с кем она имеет дело.
— Хорошо, буду молчать, — ответил Гарри. Но сказал он это без всякого удовольствия.
— Слушай… Нет, лучше ты отвернись, а то у меня ничего не получится… Ну вот. Знаешь, надо сделать так, чтобы все подумали, будто это Альберт посадил новые деревья в саду. А на самом деле мы сами их посадим. Ты, я и еще кого-нибудь возьмем. И сегодня же ночью…
Судя по выражению лица Гарри, он вовсе не был согласен с Родикой и, должно быть, сожалел о том, что обещал ей помочь.
— Ерунда какая! — сказал он наконец. — Это ему только на руку… В конце концов он еще вообразит, будто ему все позволено — всегда, мол, идиоты найдутся за него все исправлять.
В каком-то порыве Родика схватила его за руку и заглянула в глаза. С ресниц скатилась слезинка.
— Нет, Гарри, не подумает он так, нет, нет! Ему стыдно, понимаешь, стыдно!.. Ну, помоги же мне!
Гарри был сражен. Не выносил он, когда девчонки плачут! И потом: вдруг Родика права, и Альберту будет стыдно, когда он узнает, что за него кто-то другой все поправил в саду.
— Хорошо, — согласился он. — Но только потому, что я тебе обещал. В следующий раз ты мне говори сначала, чего тебе надо.
— Ты поможешь? По-настоящему?
— По-настоящему.
— Спасибо! — Родика потянулась, схватила его за руку и стала порывисто трясти ее.
Гарри сконфузился.
— Сегодня ночью, значит? — спросил он.
— Да, но тебе надо захватить кого-нибудь из синих и чтобы все — молчок… Только девчонок нельзя, Гарри! Они обязательно все провалят.
Гарри засмеялся.
— А ты-то разве не девчонка?
— Я совсем другое дело! — ответила она очень серьезно. — Это вообще нельзя сравнивать.
Гарри все еще смеялся.
— Или девчонки тоже пойдут, или никто не пойдет!
Некоторое время Родика колебалась.
— Ладно, — сказала она. — Но отвечать за них будешь ты.
Луна висела на небе ярко-желтая, как лимон. Время от времени на нее набегали рваные клочья облаков, и она просвечивала желтыми бликами, как будто кто-то разбросал леденцы. И все же ночь была темная. Мерцание звезд походило на подмигивание усталых глаз: сон смежал их все крепче и крепче…
Во главе отряда топал Шульце-младший, рядом с ним Родика. Гарри совсем нетрудно было набрать ребят для ночного похода. Напротив, с кем бы он ни заговаривал, все без колебаний сразу же соглашались принять участие в ночной вылазке. Это же было настоящее приключение, такое таинственное, интересное…
Было уже за полночь. Они немного запоздали со сборами. Ведь дома никто не должен был знать, куда они собираются и зачем, а на это потребовалось время. Родители иногда очень поздно ложатся спать.
Но теперь все уже позади. Метрах в двухстах виднеется лес, у каждого в руках лопата, а у маленького Вейделя даже топор.
Обе дочки фрау Граф не отходили от него ни на шаг. А маленький Вейдель рассказывал им о том, какой у него верный глаз и крепкая рука: вот выскочит из зарослей огромный секач — не миновать ему топора. Своим рассказом он нагнал такого страху на девочек, что они дрожали, хотя было тепло, как летом.
Время от времени Родика поглядывала на девочек: она никак не могла примириться с их присутствием. И в семье и в школе Родика привыкла к обществу мальчишек, порой она даже забывала, что она тоже девчонка.
— Тише! Да говорят вам, тише! — послышался ее несколько приглушенный голос.
Маленький Вейдель снял с плеча топор и оглянулся в поисках тропинки, а вдруг Родика и правда заметила секача.
— Там кто-то есть! — послышался взволнованный шепот Родики.
— Где?
— Там, куда мы идем. Где дикуши растут!
Застыв на месте, все напряженно прислушивались. И Родика не ошиблась.
— Стойте здесь! — приказала она и, не дожидаясь ответа, пригнувшись, бросилась вперед.
Некоторое время ребята еще видели ее, но вдруг она исчезла, словно сквозь землю провалилась.
— Спорим, она к ним ближе чем на десять метров подползет, — негромко сказал маленький Вейдель.
Но никто не захотел держать с ним пари.
В напряженном ожидании все всматривались в темноту. И не было среди них ни одного, кто не завидовал бы бесстрашию Родики.
Прошло довольно много времени. И ребята уже начали не на шутку беспокоиться, как вдруг совершенно неожиданно Родика выросла перед ними.
Никто не заметил, как она подкралась. Она вся сияла. И было заметно, что ей доставляли большое удовольствие перепуганные лица пионеров.
— Давай рассказывай лучше, чего там? — сердито проворчал Шульце-младший. Он был немного обижен.
— Это Альберт там со своими ребятами. Они дички выкапывают.
— Вот свиньи! — проворчал Гарри, прищурив глаза.
— Сам ты свинья! — чуть не закричала Родика, забыв об осторожности и сверкая на Гарри глазами. Сердцем ведь она была все еще с мстителями.
— Что это с тобой? — спросил он, как будто его окатили ушатом холодной воды. — Ясно, что свиньи! Теперь еще и дикуши погубят.
Родика рассмеялась ему прямо в лицо.
— Я же не сказала, что они рубят дички, а сказала: они их выкапывают! Понял наконец? Они сами, значит, хотят посадить у школы новый сад.
На следующий день Альберт в класс не пришел. Друга сказал, что Альберт Берг болен, лежит в постели со вчерашнего дня. И Родика с благодарностью подтвердила эту версию.
А в школьном саду уже стояли пятнадцать молодых деревьев.
Учитель Линднер радовался больше всех, но что-то все-таки его беспокоило. Он подозревал, что деревья посадил Альберт и его ребята. Но если Альберт уже со вчерашнего дня лежит в постели?..
В начале урока Линднер сказал:
— Знаете, ребята, это как в сказке! В сказке волшебники могут за одну ночь все переделать. Но интересно, кто же это был на самом деле? Неужели никто из вас не догадывается?
Нет, никто ничего не знал. Ни Родика, ни Шульце-младший и никто из мстителей. Об остальных учениках и говорить было нечего. И тайна эта оставалась нераскрытой еще долгие месяцы, хотя учитель Линднер по-прежнему подозревал, что в чудесном превращении сада виновны Альберт и его ребята.
Глава восьмая СВАСТИКА
В самый разгар боя атаман разбойников сломал себе шею. Длинному пришлось его выбросить и произнести надгробную речь.
— Братья-разбойники! — шептал он. — Ушел из жизни герой с сердцем, полным отваги! Не было другого такого смелого и бесстрашного ни на земле, ни на небе. Я здорово переживаю за него. Как и вы, конечно. Он был отчаянный патриот и первым бросился мне в глаза — мои соколиные глаза. Но благодетель ваш, какой я есть, никогда не оставит вас. Я спасу вас вон от тех чудовищ, которые хотят вас сожрать. На самом деле они и не люди совсем, хотя и утверждают это…
Глаза Длинного подернулись влагой, так он расчувствовался, обращаясь столь велеречиво к нескольким картофелинам, отличавшимся от остальных своей причудливой формой. Ведь в каждом слове Длинного звучало и его собственное горе, и вся надгробная речь была не чем иным, как жалобой на тех взрослых, от которых он никогда не слышал ласкового слова. Здесь, вдали от них, он мечтал, здесь он мог быть самим собой.
Длинный сидел неподалеку от вспаханного поля. Рядом с ним была разложена всякая снедь, к которой он так и не прикоснулся.
Они пришли сюда копать картошку. У Длинного уже ныла спина, а до шабаша еще долго ждать.
Старик, как он называл своего приемного отца, обедал с женой и двумя поденщицами — одна из них была фрау Торстен, мать Други, — около фуры, в которую ссыпали картошку. Старший его сын, конечно, отсутствовал. Он и во время сбора урожая заколачивал деньги в окружном центре. А в чем дело? Здесь же Длинный, и пусть он даже валится с ног от двойной нагрузки — эка важность! Сколько раз старик говорил: «Едоком меньше — ложкой больше!»
Длинный все еще беседовал со своим картофельным войском и не заметил, как остальные снова принялись за работу. Неожиданно перед ним вырос Старик.
— Пес шелудивый! — накинулся он на приемыша. — Жрать-то горазд, а как работать, так нет его! Я тебе покажу! Вставай, говорят! — И Старик пнул Длинного сапогом, а потом взял да передавил и расшвырял всех его любимцев.
Спотыкаясь, Длинный побрел по полю. Мимо пролетела ворона, и Длинный с завистью поглядел ей вслед.
Поденщицы молча выбирали картошку. Мать Други уже стояла на коленях, остальные работали согнувшись. Мотыги чавкали в сырой земле; пахло гнилью.
Взвалив корзину на плечи, Длинный понес ее к фуре. Рядом с искаженным от гнева лицом шагал Старик. Но, когда Длинный поднял десятую корзину, он так вымотался, что уже не замечал никого и ничего вокруг.
Ему вспомнился Дрезден. Весна. В аллеях щебечут птицы. Солнце, пробегая за облаками, гонит по улице зайчиков. Гюнтер пускается вдогонку. Какой-то глупый камень не желает уступить ему дорогу, и Гюнтер падает. Он плачет. Отец наклоняется над ним. Озабоченно качает головой. «Знаешь, зайцу надо соли на хвост насыпать, — говорит он ему очень серьезно, — тогда его поймать ничего не стоит! А так…» Он протягивает вперед руку и смотрит вдаль, словно вслед убегающему зайцу. Лицо у него при этом печальное. И вдруг он подмигивает сыну, и тот подмигивает в ответ. Вот все и забыто. Солнышко опять сияет. Да и вообще дождливые дни кто-то выдумал куда позднее.
Отец у Гюнтера был замечательный. Звали его Максом, и он все время шутил, так что мама называла его Морицем.
Но вот он ушел на войну. А когда приезжал в отпуск, шутки его были какие-то мрачные. Мама и не смеялась над ними, а только говорила: «Да потише ты!..» И вообще поиграть с ним можно было только после того, как он пробыл несколько дней дома.
В одно воскресенье они с отцом настреляли воробьев, но мать отказалась их жарить. Так они ничего и не поели в тот день. «Голодная забастовка». Гюнтеру это тогда понравилось. Но потом-то они все равно залезли с отцом в кладовую.
Вообще-то мама не мешала им играть, и Длинный больше всего любил, когда она представляла, как в театре.
«Ты меня не любишь больше!» — шептала она столу и падала перед ним на колени. Она умоляла стол, но он оставался глух и нем. Мама начинала сердиться и даже не смотрела больше в его сторону. Обед она накрывала прямо на ковре. Это было наказанием для стола, а Гюнтеру все казалось на полу во много раз вкуснее. Мама это понимала и наказывала стол всегда в те дни, когда у нее что-либо пригорало. Но в этом она призналась Гюнтеру только тогда, когда они жили уже в Бецове.
Что же он еще помнил о Дрездене? Да, приемник. Он стоял на полке, к нему был прикреплен листок. «Кто слушает передачи врага, тот будет расстрелян!» — или что-то в этом роде. По вечерам они сидели и слушали с мамой всякие передачи, пока по радио не объявляли: «Крупные соединения вражеских бомбардировщиков вторглись в район…» — и тут же начинали выть эти дурацкие сирены. Вой они в десять раз тише, и то можно было бы от них с ума сойти. Но хуже всего было в подвале. На полу вода, лица у всех белые, все дрожат, и Гюнтер боится людей еще больше, чем бомб.
Но настоящая беда началась, когда пришло письмо от отца. Он писал, что очень тревожится за них из-за бомбежек, а поэтому пусть мать отправит его, Гюнтера, в деревню, в семью хорошего фронтового товарища. Почему отец называл Старика хорошим товарищем, Гюнтер до сих пор не может понять.
Во всяком случае, уже на следующий день они написали в Бецов. Так он и попал в деревню.
Поначалу было даже интересно. То поглядишь, как борову щетину палят, то в ночное поскачешь на рыжем мерине — весело! И работа нетяжелая. Но дома он себя никогда у них не чувствовал. Может быть, потому, что он не умел говорить с ними по-деревенски. Потом американцы разбомбили Дрезден. Мама сгорела на улице. Люди говорили, что американцы сбросили фосфор.
Другое известие пришло из России. Старик писал, что отца убили.
«Ты работай, вот и горе свое забудешь!» — сказала ему жена Старика. Да она и не знала, как его по-другому утешить. Но все равно никто не считался здесь с его бедой. Какое там! Со всех сторон он только и слышал: «Чужой хлеб жрать приехал!» А он тогда ночи напролет ревел в своей каморке, покуда сам себе не показался девчонкой и не застыдился. Днем он выматывал себя на работе, как вол, — не хотел, чтобы его попрекали куском.
Когда Старик вернулся из плена, они с первого же дня возненавидели друг друга. Но все же он как-то смирился с тем, что Гюнтер теперь тоже член его семьи. Возможно, потому, что с рабочими и поденщиками было тогда туго. Но позднее, когда Старик заметил, что Гюнтер обходится дороже батрака — его надо в школу посылать, одевать и кормить не только летом, но и зимой, — он попытался спихнуть его в сиротский приют. Но это почему-то не удалось, и теперь Гюнтер всегда и во всем был виноват. В черта он правда не верил, но Старик был не лучше черта. В гневе своем он бил его каждый день, да и работой совсем замучил: никак Гюнтер не мог ему угодить, все Старику было не так, вечно он брюзжал, ругался. Не будь Альберта и его Союза мстителей, Гюнтер давно бы уже удрал из Бецова.
А может быть, и правда Старика надо отлупить как следует? Это дело стоит обмозговать.
Длинный споткнулся. Корзина соскользнула с плеча. Картошка рассыпалась. Он оглянулся украдкой. Старик что-то прилаживал к фуре. Ничего, значит, не заметил. Длинный торопливо принялся подбирать картофелины. Вдруг он улыбнулся: его соколиный глаз разглядел «атамана», и Длинный тут же спрятал его в ботве. Затем он взвалил корзину на спину, выпрямился и гордо зашагал вперед. Так он таскал картошку до самого вечера…
У солнышка было хорошее настроение, и у Шульце-старшего тоже. Лицо у него сияло, как сам небосвод, хотя время года было не из веселых и до весны следовало ожидать и бурь, и морозов, и проливных дождей. Вместе с другими жителями деревни Шульце стоял перед доской объявлений у конторы бургомистра. Глаза его светились. Но долго стоять на одном месте ему не позволяла его беспокойная натура. Он переходил от одного к другому и со всеми заговаривал.
— Да, старикан! Ты вот сюда погляди, — говорил он дедушке Калле, хлопая его своей лапищей по плечу. — Тут и нам кое-что перепадет! — И он показал на доску объявлений, которую маляр как раз начал красить во второй раз. Краски так и сверкали: черная, красная и золотая. Было 7 октября 1949 года, и новое государство — Германская Демократическая Республика впервые увидела свет, а вместе с ним и тень этого мира.
— Я в политике не разбираюсь, — холодно ответил дедушка. — Ее там, наверху, делают.
— Брюзга ты старый! Конечно, ее наверху делают, политику-то. Но теперь ты и все остальные, что до сих пор внизу были, наверх попали. Ну как? — Тяжелая рука Шульце еще раз опустилась на плечо старика. Но тут же Шульце наметил себе следующую жертву.
Дедушка только головой покачал.
— Ну и задается! Будто его самого президентом этой республики назначили, — сказал он соседу.
— И пусть его! — отозвался тот. — Оно ведь понятно. Сколько лет он в нацистской тюрьме просидел ради этой самой республики.
В это время к доске подошел Альберт.
— Ну, Альберт, небось удивился, а? — Шульце надо было дать выход своей радости. — Теперь у нас своя республика, и президент ее — столяр! Увидишь, как теперь дело пойдет! Пастор и тот с нами! Вон он как прихожан отчитал в воскресной проповеди. Теперь им придется что-нибудь другое выдумать — с ведьмой у них ничего не вышло. Пусть думают!
И он басовито захохотал.
— А кто его знает, зачем он про это говорил, — заметил Альберт, заподозрив, что зачинщиком этой проповеди был не кто иной, как сам Линднер. И все же Альберт испытывал некоторое удовлетворение — над теми, кто обзывал его мать ведьмой, теперь смеялась вся деревня.
Увидев Альберта, Гейнц Грабо подошел к нему. После стычки с Линднером в классе у него вновь появилась надежда, что ему удастся сблизиться с шефом мстителей. Иногда Альберт и сам заговаривал с ним, хотя и очень холодно.
— Ты как, «за»? — спросил Гейнц Альберта, кивнув в сторону доски.
Альберт ответил неопределенным жестом.
— Я тоже «против», — сразу же проговорил Гейнц.
На том разговор и иссяк. Немного погодя Гейнц начал опять.
— А у меня есть тайна! — сказал он только для того, чтобы заинтересовать Альберта.
Тот взглянул на него.
— Я тебе открою ее, если ты примешь меня в ваш Союз.
Альберт сплюнул:
— Ну и дурак ты!
Всякая приветливость сразу же слетела с Гейнца. Он и так слишком унизился, и теперь в его глазах вспыхнула ненависть.
— Погоди, еще пожалеешь! — пригрозил он.
Альберт, как на шарнирах, повернулся к нему, нагнул голову и сжал кулаки, но почему-то сразу же опустил их.
— Я тоже знаю тайну, — произнес он тихо, как человек, готовый в следующую секунду нанести сокрушительный удар. — Она у меня сидит в кончиках пальцев, эта тайна, и стоит тебе только показаться — она тут как тут. И тогда я делаю так! — Он сжал кулаки. — Ну, что скажешь, нравится тебе моя тайна? — Он отпихнул Гейнца Грабо плечом и ушел, оставив его одного.
Класс был похож на потревоженный улей. Ученики, путь которых в школу пролегал мимо конторы бургомистра, принесли с собой новость. Ночью на черно-красно-золотой доске объявлений кто-то намалевал колесным дегтем свастику. Весь класс строил предположения.
Задолго до звонка вошел учитель Линднер и еще с порога сказал, позабыв поздороваться:
— Садитесь! Альберт пришел? — спросил он тут же, пробегая глазами парты. Линднер с трудом сдерживал свой гнев.
Альберт еще не приходил, но минуту спустя он ввалился со всей ватагой из Бецовских выселок.
— Здрасте!
Сжав губы, учитель ждал, пока ребята не расселись по местам.
— Альберт!
— Да.
— Встань, когда с тобой говорят. — Голос учителя звучал необычайно строго.
— А что такое? — буркнул Альберт, недовольный подобным тоном. Отношения между ним и учителем и без того были достаточно напряженными. Он встал.
— Этой ночью кто-то нарисовал на доске объявлений свастику, — сказал учитель.
— Ну и что? — нагло ответил Альберт.
— Не груби! — вдруг взорвался учитель, и впервые, с тех пор как ученики его знали, лицо его стало багрово-красным. — И не воображай, пожалуйста, что ты тут можешь разыгрывать из себя героя. Мое терпение истощилось! — Дрожа от злости, Линднер стукнул кулаком по столу.
Альберт кусал губы. Еще секунда, и он тоже потеряет самообладание, кулаки уже сжаты. Заметив это, Друга кашлянул. Но свой сигнал ему пришлось повторить не раз и очень громко, пока шеф не понял намека и не засунул руки в карманы.
Глаза Альберта горели, говорить он не мог, горло как будто перехватило, он делал лишь какие-то судорожные глотки. В конце концов, весь дрожа, хриплым голосом он спросил:
— Интересно, чего это вы так раскричались?
Рывком, словно лопнула пружина, учитель отвернулся. Он не мог произнести ни слова. Ученики заметили, что он с трудом подавил слезы.
— Непостижимо!.. — сказал он немного погодя, опустившись на стул. — Вот вы сидите тут передо мной. Добрая половина все еще страдает от последствий войны, а кто-то из вас ночью малюет свастики на доске объявлений. И ты, Альберт, еще спрашиваешь, почему я так кричу? Пора вам наконец понять, как велико несчастье, которое эта свастика принесла всему миру! Я не хочу вам повторять, сколько миллионов людей было убито! Это прозвучит для вас как еще одна цифра. Но вы подумайте о том горе, которое принесла война только в нашу деревню, вспомните о том, что я рассказывал вам из моей жизни! И тогда вам станет ясно, почему эта свастика на доске объявлений — преступление и почему я так кричал.
Боль его была искренней. А голос уже опять звучал ласково.
Девочки и ребята старались не смотреть в сторону учителя — им было стыдно. Альберт все еще стоял рядом со своей партой. Ему тоже было стыдно, но еще сильнее было его возмущение — ведь его оскорбил злейший враг.
— И это я, значит, свастику намалевал, да? — спросил он.
— Тебя видели.
— Когда?
— Ночью, когда и было совершено преступление.
— Так уж и видели?
Учитель подошел ближе.
— Альберт, ответь честно: был ты сегодня ночью около двух часов неподалеку от конторы бургомистра?
— Был. Ну и что?
Друга с удивлением взглянул на Альберта. В классе послышались возгласы недовольства.
— И что ты там делал?
В ответ Альберт только состроил презрительную гримасу.
— Значит, ты действительно был там? — В голосе учителя звучало глубокое разочарование.
Альберт то бледнел, то краснел. Гнев его выразился в презрительной ухмылке.
— Вам же все лучше известно, — тихо произнес он.
Сразу же раздались возмущенные выкрики, но учитель велел ребятам замолчать.
— Тише! — сказал он, сняв очки и тщательно протирая их. — Если у тебя хватило ума намалевать свастику, то у тебя, может, хватит ума и стереть ее? А когда ты удалишь свастику, пойди к фрау Граф. Пусть она тебе даст кисть и краски, и ты покрасишь доску вновь. Теперь ступай! — Постукивая пальцем по парте, Линднер ждал.
Альберт посмотрел на Другу, но тот отвернулся. Ощутив острую боль в груди, Альберт вышел, так и не промолвив ни слова.
С гневом и презрением смотрели ученики ему вслед. Друга засопел. Сердцем он и сейчас был со своим другом. И внезапно он проклял всех вокруг: все эти лица, надменные, злые. Они же не лучше, чего же они корчат из себя! Он поднял руку.
— Что тебе, Друга Торстен?
— Я тоже пойду перекрашивать доску! — Он покраснел.
— Почему?
— Потому что Альберт ее не один намазал. Я был вместе с ним. — Друга говорил неправду, и голос отказывался ему повиноваться.
Все уставились на него, а он не слышал и не видел ничего, в висках стучала кровь, словно в тумане надвигались на него очки учителя Линднера, и чей-то слабый голос спросил:
— Может быть, еще кто-нибудь?
Друге послышались голоса, громкие и тихие. Но, возможно, они ему только послышались, а на самом деле все смолчали?
Друга встал около своей парты и спросил:
— Можно мне идти?
Учитель не ответил. Глаза за стеклами очков казались грустными-грустными.
Друга вышел на улицу. Чтобы хоть немного остудить пылавшую голову, он прислонился к стене. Что же это такое делается с ним? Почему все это так потрясло его? Он же участвовал не в одном деле и никогда не терял голову. Может быть, ему жалко учителя Линднера? Нет, что-то не то. Тогда, может быть, эта свастика? Да, именно она. Свастика оскорбляла и унижала. Если Альберт ее действительно там намазал, тогда учитель прав, и защищаться нечего. Да и оправданий никаких не может быть ни для шефа, ни для всех мстителей. Вот почему ему так плохо!
Но тут же Друга подумал, что он несправедлив к Альберту. Он бросился бежать и еще до конторы бургомистра нагнал шефа.
— Ты чего? — спросил Альберт.
— Хочу тебе помочь.
— Где?
— Смыть эту дрянь!
— Я и один справлюсь! — заявил Альберт, сплюнув в песок.
А Друга сдул себе волосы со лба.
Доску объявлений завесили попоной. Оба приятеля потоптались около нее, поглядывая друг на друга, — они не спешили приняться за дело.
— А может, тебе велели присмотреть за мной, чтобы я действительно замазал это? — спросил вдруг Альберт, нахмурившись.
Друга покачал головой.
— Я сказал Линднеру, что вместе с тобой это сделал.
Раскрыв рот от удивления, Альберт некоторое время молча смотрел на него. Затем, часто дыша, он отвернулся и с преувеличенным интересом принялся разглядывать собственные руки.
— Друга! Старина! Не согнуть им нас и в тысячу лет! Пра-а-в я или нет? — Он даже заикаться стал от радости.
— Точно! — ответил Друга.
И тут, будто кто-то их подгонял, они сорвали попону с доски объявлений и, набрав песок в носовые платки, принялись стирать деготь. Они терли и скребли, сами вымазались, вспотели даже, но ни слова больше не проронили. Им почему-то казалось, что сейчас весь мир смотрит на них, весь мир презирает их и насмехается над ними. Об этом говорили им взгляды проезжавших велосипедистов и зевак, в которых можно было прочесть и злорадство, и иронию, и гнев. Кое-кто, проходя мимо, даже обругал обоих парней.
Альберт работал, стиснув зубы. И Друга побаивался, как бы он не набросился с кулаками на злорадствующих прохожих. Только теперь он понял: хуже, чем эта чистка доски, нельзя было придумать наказания.
Потом, когда они наново красили доску, Альберт сказал:
— Во всяком случае… даром ему это не пройдет. Еще узнает Линднер наших! — И затем, набросившись на Другу: — А ты? Ты что ж, тоже думаешь, я тут насвинячил?
— Нет, там, в школе, я минуты две колебался, но не больше.
— А сейчас?
— Да ты никогда ничего подобного не сделаешь! Ты же не идиот!
— В том-то и дело! Что я, фашист, что ли? Это же самое последнее дело — фашист! — Он окунул кисточку в ведро с краской. — Но я уже догадываюсь, кто это сделал. А как узнаю наверняка, убью, ей-богу! — Альберт даже прищурил глаза.
— Ты на кого думаешь? — спросил Друга.
— На Грабо. Он еще так по-дурацки таращил глаза в классе, а потом вообще свастика к нему как-то подходит.
— А почему ты не сказал, что ты тут ночью делал?
Альберт прикинулся, будто ничего не слышал, и только стал быстрей водить кистью.
— Вон оно что!.. — произнес Друга.
— Ничего подобного! — Альберт зло посмотрел на него. — Я за Вальтером следил: он опять чего-то украл.
«Об этом действительно незачем было говорить учителю», — подумал Друга и потому только сказал:
— Оставь ты Вальтера в покое!
— Нет, не оставлю. Или все вместе, или никто. Никаких вылазок в одиночку. Сам же видел, что получается, когда в одиночку действуешь. Ну, это дело с садом!..
…Последним уроком была физкультура. Ребята готовились к кроссу по пересеченной местности.
Воздух был ясный и прозрачный. Пахло теплым дождиком, прелым листом.
Всю первую половину дня Альберт не проронил ни слова. Время от времени он так поглядывал на Грабо, что Друге делалось жутко. Но как только Гейнц замечал, что за ним наблюдают, Альберт сразу же начинал улыбаться, чтобы сбить его с толку. Друга решил не спускать глаз с обоих.
Учитель Линднер скомандовал «марш», и весь класс побежал. Грабо вырвался сразу вперед, но Альберт, должно быть, решил не отставать от него. Постепенно они удалились от основной группы на значительное расстояние. Каким-то чужим, но приветливым голосом Альберт крикнул:
— Давай вместе!
Грабо повернулся и посмотрел на Альберта.
— Чего?
— Перекур.
— Сейчас?
— А когда же?
Грабо, наклонив, как лошадь, голову набок, следил за Альбертом. Но тот улыбался, как добрый товарищ. Несколько неуверенно он продолжал бежать вперед.
— Боишься Линднера? — спросил Альберт немного спустя.
— Брось ерунду молоть! — Грабо уже задыхался. — Ну ладно, давай отдохнем!
Он уже хотел сбавить темп, когда Альберт крикнул:
— Не надо! Пропустим остальных вперед, а то еще тоже остановятся. Давай прикинемся, будто мы выдохлись… — Альберту важно было пропустить Другу вперед, ведь тот наверняка сорвет его план.
Они бежали все медленнее и, когда основная группа приблизилась, прикинулись уставшими и сразу же отстали. Маневр был настолько удачным, что даже Друга ничего не заподозрил. Когда за молодым сосняком скрылся последний из учеников, Грабо и Альберт остановились.
— Садись! — сказал Альберт, показывая на два рядом стоящих пня, и улыбнулся.
Грабо тоже хотел улыбнуться, но его лицо только исказила гримаса недоверия. «Добрый» Альберт был для него большой неожиданностью. Поверить ему, что ли?
Грабо колебался, но жажда отомстить Линднеру заставила его сердце биться чаще. Как утопающий, он готов был ухватиться и за соломинку, и эту соломинку протягивал ему Альберт.
— На, закуривай! — Альберт с равнодушным видом сунул Гейнцу под нос пачку сигарет.
Некоторое время они молча курили, стряхивая пепел и вертя в руках сигареты. В конце концов Грабо удалось даже улыбнуться.
— Линднер небось ума не приложит, где это мы пропали, — хихикнул он.
Альберт только кивнул, не глядя в его сторону.
— А ты ведь прав был, — сказал он. — Если мы с тобой будем держаться вместе, он нам ничего не сможет сделать.
— Никогда! — Дым от сигареты ел Гейнцу глаза, набегали слезы. — Надо бы нам с тобой уже давно договориться.
— Точно. — Альберт опять кивнул. — Но знаешь, и сейчас не поздно.
— Конечно, не поздно.
— А потом, — Альберт говорил, отвернувшись, боясь выдать себя, — теперь мы с тобой квиты. Я ж тебе поперек дороги вставал, а ты мне помог в школе. Вот я и не выдал сегодня, что это ты свастику намалевал.
— Ты… ты откуда знаешь? — Грабо побелел.
— Видал тебя. — Альберт подмигнул.
— А я думал, никто не знает, — сказал Грабо, почувствовав облегчение. — Но я не струсил, не сказал ему.
Продолжая разыгрывать свою роль, Альберт ущипнул его за руку.
— Думаешь, я не заметил? А что ты не трус, это я тоже знаю.
На эту уловку Грабо сразу попался.
— Раз мы с тобой договорились, я тебе теперь и сам расскажу. — Гейнц был убежден, что и впрямь питает дружеские чувства к Альберту. — По правде говоря, я только подразнить его хотел, пока он не разозлится как следует. А потом я бы признался и опять довел бы его до того, что он снова бросился бы на меня. Но на этот раз я бы первый ему влепил — можешь быть уверен! — Лицо Гейнца все время дергалось, а блестящие глаза следили за пробиравшимся по траве жуком. — Ну, а как оно все дальше обернулось, ты и сам знаешь, — заметил он под конец, словно извиняясь. — Линднер с самого начала пристал к тебе, а так как я против тебя зуб имел, мне это вроде даже на руку оказалось. Ну, ты ж меня теперь понимаешь, и я тебя. Видишь ли, я же недаром на тебя зуб имел — ты ж на меня взъелся. Да и ты бы на моем месте…
— Хватит! — Альберт затоптал окурок и встал. Пригнувшись, он с презрением посмотрел на Грабо, как на какое-то насекомое. — Мне только узнать надо было, ты это намалевал или нет. А теперь гаси сигарету и вставай, да поживей! Не то я тебе, пока ты сидишь, личность расквашу. Давай вставай! — Альберт пнул Гейнца несколько раз ногой, а тот, все еще ничего не понимая, таращил на него глаза.
Ты что, Альберт? Чего это ты? — Губы его дрожали, казалось, он вот-вот разревется.
— Встать! Я сказал! — крикнул Альберт и ударил Гейнца по щеке.
Пощечина устранила все сомнения. Гейнц оперся на руки, медленно встал и попятился назад. Альберт все ближе и ближе подступал к нему. Губа у Грабо отвисла, глаза трусливо бегали, и Альберт от презрения взял да и плюнул ему в лицо. В тот же миг Гейнц повернулся и пустился бежать. Но далеко уйти ему не удалось. Шагов через пятьдесят Альберт уже нагнал его — бегал он куда лучше! — и подставил ножку.
Грабо растянулся во весь рост.
Альберт стоял над ним, цедя сквозь зубы:
— Ну, поворачивайся! Живей! Мы с тобой по всем правилам драться будем. Один на один.
Длинный давно уже обогнал всех бегунов. Когда он начал финишировать, весь класс был далеко позади. Его длинные мосластые ноги работали, как на рессорах, голова была запрокинута назад.
— Наддай, Гюнтер! Еще наддай! — кричал учитель Линднер издали. Он стоял, наклонившись над секундомером, нервно переступая с ноги на ногу.
Длинный, напрягая все силы, сделал последний рывок и с облегчением опустил руки.
— Окружной рекорд! Лучшее время округа!
Учитель был даже больше взволнован, чем сам герой, и с воодушевлением тряс ему руку.
— В Бирнбаум пошлем тебя на состязания, Гюнтер… Ты что это, не рад?
— Очень даже рад! — ответил Длинный со страшно серьезным лицом. Он все еще тяжело и часто дышал. — Очень даже рад!
Недалеко от финиша Руди и Шульце-младшему удалось оторваться от основной группы. Они прибежали сразу после Длинного. Но ни их время, ни время остальных уже не засекали. Учитель просто забыл об этом. Однако известие о том, что Длинный установил новый рекорд округа, вполне утешило их, и они включились во всеобщее ликование.
— Альберт и Грабо!.. — вдруг крикнул Друга, глядя на учителя широко раскрытыми глазами.
— Что с ними? — Учитель не очень внимательно слушал.
— Они… они по дороге!.. — пролепетал Друга — Они… он… он убьет его! — И Друга тут же бросился бежать.
Ничего не понимая, Линднер смотрел ему вслед. Взгляд его, как до этого взгляд Други, перебегал с одного ученика на другого. Заметив отсутствие Грабо и Альберта, он наконец понял.
— Сейчас! — крикнул он и тут же, отстранив Вальтера, бросился за Другой.
Вцепившись друг в друга, они катались по земле.
Страх придал Грабо силы. Он был похож на дикого зверя и бросался на Альберта, ничуть не заботясь о прикрытии. Но Альберт не давал ему передышки. Неожиданно Грабо удалось подхватить палку и, изловчившись, ударить Альберта по голове. Сухое дерево переломилось пополам. Перед глазами Альберта все поплыло — кроны деревьев, облака… Он рухнул наземь.
— А-а-а! — закричал Грабо. Внезапный поворот дела опьянил его. На губах выступила пена. Он снова ударил Альберта оставшимся у него куском палки.
В эту минуту подскочил Линднер и сильно толкнул его в грудь. Но Грабо только чуть пошатнулся и вновь поднял палку. При этом он бормотал что-то непонятное. Он ударил учителя и снова замахнулся. Казалось, ненависть и боль ослепили его. В бешенстве крутил он палку над головой, никого не подпуская к себе.
В этот миг подбежал Друга. Он пригнулся, прикрыл голову рукой и ринулся вперед. Палка попала ему по спине, но тут же Грабо застонал. Друга угодил ему головой в солнечное сплетение. Выронив палку, Гейнц принялся размахивать руками и ногами. В конце концов Друге вместе с учителем удалось повалить его на землю и удержать.
— Да ну его! — буркнул Альберт, ощупывая голову. — Не буду я об этого болвана руки марать!
Учитель стоял у окна. Оно давно уже запотело от его дыхания.
Позади него на столе лежало письмо, прерванное на полуслове. Это было ходатайство о представлении места в трудовой колонии. Оно предназначалось для Гейнца Грабо. Свастика и драка в лесу переполнили чашу. Правда, Альберт и его ребята доставляли ему не меньше хлопот, может быть, даже больше. Значит, он делал определенные различия, руководствовался чувством симпатии и антипатии? Нет, все гораздо сложнее. Ведь у Альберта не было ничего дурного на уме, даже когда он делал что-нибудь плохое. Все в нем восставало против несправедливости и нищеты. С раннего детства он заразился недоверием; он не понимал еще, что окружающий его мир начал изменяться. Он отталкивал тех, кто протягивал ему руку. Но делал это из страха, как бы его не перехитрили, И тем не менее справедливость должна была восторжествовать в нем. Быть может, он даже столкнется с ней, болезненно столкнется, прежде чем распознает ее. Пока что ясно было одно: эта встреча состоится, и Альберт почерпнет из нее многое. И не только он, но и все его друзья. Учитель Линднер был убежден в этом…
С Грабо дело обстояло совсем иначе. Он ничему не хотел учиться. Ничего не искал. Его очень дурно воспитал отец. И никогда за его действиями не скрывалась жажда справедливости. Нет, он хотел разрушать, он натравливал своих товарищей друг на друга, стремился вогнать клин между учителем и учениками.
И все же… и все же… Гейнцу было теперь тяжелее, чем всем остальным. Отца он лишился, а он всей силой своей юношеской любви был привязан к нему, любил этого отца. Да, он любил плохое, но ведь для него оно не было плохим. Гейнц верил в своего отца. И теперь, когда все от него отшатнулись, ему осталось лишь одно — ненависть и ожесточение. Одуматься, поразмыслить он не хотел, и в этом был, разумеется, сам виноват. Но сделал ли учитель все, чтобы помочь Гейнцу? Может быть, и сделал. Но, возможно, и нет. Он должен попытаться еще раз и настоятельнее, лучше, умнее, чем до этого.
При этой мысли учитель отложил ручку и отправился на поиски Гейнца Грабо. Так и не найдя его, он вернулся и с тех пор стоял у окна, притихший, глубоко задумавшийся. В комнате было холодно. Он решил, пока еще не стемнело окончательно, протопить. Взяв корзину, он вышел во двор и направился к дровяному сараю.
Там он и застал Гейнца. Держа в руках топор, тот сидел на колоде. И, вероятно, уже давно.
Учитель испугался. Гейнц — ничуть. Он поднял голову и стал ждать.
— А я тебя уже давно ищу… — сказал Линднер, прилагая все усилия, чтобы голос его звучал приветливо. — С самого обеда.
Гейнц молчал. В сарае царил полумрак.
— Надо нам с тобой поговорить, Гейнц. Так продолжаться не может. Я тебе не враг. И если бы ты захотел, мы могли бы стать даже друзьями. Слушай, я сейчас вскипячу чай, и мы с тобой поговорим по душам.
— Осторожно! — крикнул вдруг Гейнц. И в тот же миг рядом с головой учителя пролетел топор, ударился о бревно и отскочил. На секунду лицо Гейнца исказилось, затем опять стало равнодушным.
Учитель Линднер только теперь осознал, что произошло.
— Это еще что такое? — спросил он, и слова его прозвучали абсолютно спокойно, даже обыденно, как будто он спрашивал о каком-то пустяке.
— Ничего! — выдавил Гейнц, но слово это чуть не задушило его. — Ничего! Если вы не оставите меня в покое, в следующий раз я раскрою вам голову…
Все остальное произошло очень быстро.
Он встал и, не кончив даже говорить, прошмыгнул мимо учителя, толкнул его в грудь и выбежал вон. Слышно было, как хлопнула калитка.
На минуту Линднер прикрыл глаза. Потом долго тер лоб, словно у него вдруг разболелась голова.
Глава девятая БЫТЬ ИМ ВЕЛИКАНАМИ!
Как огромно должно быть сердце человека, чтобы вместить все чувства, рождающиеся у него, когда он вдруг узнаёт, что нужен этому миру! Не разорвется ли оно от радости и счастья, если этому человеку только четырнадцать лет?
Нет, не разорвется, хоть не заковано оно в сталь, и само-то не больше мальчишеского кулака, и мягко постукивает в еще узкой ребячьей груди. Ибо сердце человеческое создано для радости и счастья, а не для страданий.
Ну, а каково же лицо человека, вдруг познавшего столь великое счастье? Не таит ли он свое счастье в глубине души, как скряга монету в чулке?
Нет, не таит. И даже если бы хотел, ничего бы не утаил: он сам бы выдал себя. Но отныне он будет смотреть на мир другими глазами, глазами человека — созидателя и властелина всего сущего.
Быть ему великаном!
Этим человеком был Вольфганг. И вся душа его в эти минуты была наполнена пока еще непривычным, но уже таким родным счастьем. Он шагал по дороге в Бецовские выселки. На лице сияла улыбка.
Высоко в небе клинообразным строем летела стая диких уток, а рядом, справа и слева от дороги, по пашне прыгали, взлетали и снова садились грачи, как будто им кто-то подрезал крылья. Листья кленов, росших вдоль кювета, были такие ярко-красные, что казалось, они хотят заменить солнце, редко посещавшее землю в эти осенние дни.
В мыслях своих Вольфганг все еще был среди пионеров, вместе с Родикой, Руди и Сынком. Хотя их еще и не приняли, им все равно можно было играть со всеми. Учитель Линднер заказал настоящий арбалет. И Вольфганг сегодня в третий раз вышел победителем в стрельбе по мишени.
По дороге со стрельбища учитель спрашивал его:
— И как только это у тебя получается, Вольфганг?
— Расчет — вот и все! — отвечал он.
Так и завязался разговор, от которого Вольфганг до сих пор не мог опомниться.
— В математике ты вообще силен, — сказал учитель. — Я уже давно наблюдаю за тобой. У тебя есть способности. Был бы ты немного прилежнее, мы могли бы гордиться тобой. А ты не хотел бы учиться в университете? На математическом или физическом факультете? Стать ученым?.. Ты что это так смотришь на меня! Я думаю, мы пошлем тебя в школу, где ты сможешь получить полное среднее образование. Или, может быть, не надо? — Учитель наклонил голову и улыбнулся Вольфгангу.
Вольфганг ничего не понимал — слишком уж чужда и далека была ему мысль об университете. Вот тебе и раз! Разве таким шпингалетам, как он, можно учиться в университете? И барахло-то у него провоняло плесенью и прокисшим картофельным супом.
В конце концов учитель Линднер, должно быть, понял, что творится с Вольфгангом.
— Ты считаешь, что ты на это не способен? Какой же ты чудак, Вольфганг! Если бы кто-нибудь другой так успевал, как ты, ты бы от удивления рот раскрыл. А свои собственные успехи ты и не замечаешь. Вот какой ты! Зачем же ты себя так принижаешь, зачем стараешься еще другим подражать? В этом нет нужды.
Учитель Линднер еще некоторое время говорил с Вольфгангом, и при этом у него было такое серьезное лицо, что в конце концов Вольфганг поверил ему и удрал, не сказав ни слова.
Неужели он и вправду будет учиться? В университете! Станет ученым? Сын калеки — и ученый? А дедушка? Если бы он был жив, что он сказал бы на это? Дедушка ведь всегда так гордился своим племянником, который работал где-то аптекарем. «У нас ученый человек в родне», — говорил он кстати и некстати, а когда к ним кто-нибудь заходил, он этими словами и встречал гостя. И пока Вольфганг бежал домой, воспоминания его забирались все глубже и глубже в прошлое, а настоящее от этого делалось только еще великолепнее.
Родился он в Польше, а когда настало время идти в школу, пришли немецкие войска. Накануне ночью поляки взорвали мост, чтобы остановить продвижение вермахта, и грохот взрыва напугал Вольфганга до смерти. Он соскочил с кровати и в темноте пробрался к дедушке. Старик и шагу не ступал без своего внучонка, а тот вечно цеплялся за его штанину. А как они с дедом ездили по деревням! Вольфганг сидел рядом с ним на козлах, и иногда оба они засыпали, но Серый все равно находил верную дорогу. У отца было небольшое садоводство, и окрестные хозяева заказывали у него саженцы и рассаду. А они с дедом развозили их по дворам. Домой они возвращались, когда на небе уже сияли звезды, и бабка всегда ругалась: «Дьявол старый, опять насосался! Чтоб тебя черти на том свете слопали! И малого не постыдился ведь! Ну погоди, придешь ко мне на кухню, я тебе покажу!»
Бабушка была легонькая, как перышко, но дедушка все равно относился к ее проклятиям, как к гласу божьему, и молча теребил свою черную, как вороново крыло, бороду. Стоило бабушке замолчать, как он поднимал один палец и говорил: «И выпил-то я один стаканчик, мать. Один-единственный. Вольфганг, малый наш, тебе всегда это подтвердит!»
Вольфганг тут же принимался старательно кивать. Ведь как только они останавливались у какого-нибудь трактира, дед ему первым делом покупал конфеты.
Но долго обманывать бабушку им не пришлось. Однажды она поехала с ними, и тут-то все выплыло наружу. Серый сам останавливался у каждого заезжего двора, и никакими силами не удавалось сдвинуть его с места. Батюшки мои, вот когда бабушка раскричалась!
Потом дедушка умер, а вскоре за ним и бабушка. Должно быть, она души в нем не чаяла, жить без него не могла.
Отец у Вольфганга был совсем другой. Но он его тоже очень любил. Отец носил протез. Ему отрезало правую ногу до колена. В деревне все называли его просто калекой. Но не по злобе. Отец скупился на слова и на ласку, как на деньги, он был строгий. Но когда Вольфганг зимой обрывал в теплице бутоны у тюльпанов и мать принималась ругать его, отец, бывало, говаривал: «Брось ты, садовник вырастет — оно и сейчас видно». И от глаз у него, словно лучи, разбегались морщинки.
Но все это Вольфганг знал только по рассказам других. Потом-то он действительно стал настоящим помощником отца.
А мать? Мать у него была лучше всех. И Вольфганг никогда не понимал, почему это так. Может быть, потому, что глаза у нее были такие ласковые, или потому, что взгляд ее становился таким озабоченным, а улыбка ободряющей, когда ему не удавалось решить задачку, а быть может, и оттого, что ее страх сразу же передавался ему, когда отец в ответ на приветствие «Хайль Гитлер» тихо говорил: «Его уже ничем не вылечишь!»[8]
Как-то вечером за ужином она спросила Вольфганга: «А кого бы тебе больше хотелось, брата или маленькую сестренку?» — и покраснела до волос. «Никого я не хочу, — мрачно ответил он, — и не приставай ка мне больше с этим!» Ребята в школе осточертели ему, спрашивая без конца, почему у его матери такой большой живот. Мать сразу поднялась с грустным лицом, а отец тут же набросился на него: как, мол, он смеет так говорить с матерью.
А вообще-то отец был прав: Гитлера уже ничем нельзя было вылечить. Война давно была проиграна, и началось великое переселение. На дорогах — гололедица. И вся их семья сидит на высоко нагруженной фуре. Постель, мебель всякая — все хозяйство. Мимо грохочут танки, в морозном воздухе раздается щелканье бичей, лошади шарахаются и неудержимо несутся вперед. На подъеме Серый поскользнулся и сломал ногу. Пришлось его оставить, а с ним и фуру со всем скарбом. Дальше они взяли с собой только то, что можно было унести на руках.
На вокзале в Накеле их погрузили на товарные платформы, покрытые ледяной коростой. Ветер хлестал синие от мороза лица людей. Замерзший хлеб валился из рук. Из-за клочка одеяла вспыхивали драки.
На третью ночь мать вдруг громко закричала. Паровоз словно задыхался, колеса выстукивали холодные звуки, а ветер срывал с губ матери крики, будто желая разнести их по всему эшелону. Вольфганга вместе с остальными ребятишками оттеснили в дальний угол платформы. Время от времени над ним показывалось лицо отца, которое с тех пор стало словно вырезанным из дерева — белое, мертвое, иссеченное горем.
Крики матери то усиливались, то затихали всю ночь напролет и совсем затихли, когда холодное январское солнце поднялось над зелено-белой полосой далекого леса.
Подошел отец и опустился рядом с Вольфгангом.
Вольфганг и не спрашивал ничего. Он только взглянул на отца и сразу заплакал. Какая-то женщина погладила его по голове и укутала потеплее.
Когда поезд, в который уже раз, остановился на перегоне, мать похоронили в снегу.
Бецов встретил их закрытыми дверями. Да и кто они были — пришлые, беженцы, без кола, без двора. Еще насекомых занесут, болезни всякие, небось и на руку-то нечисты! На всех воротах висели дощечки с надписью: «Злые собаки! Не входить!»
А потом и правда стало случаться воровство; жадюги показывали пальцем на переселенцев и кричали: «Я ведь когда еще говорил: нельзя им доверять!» При этом дурачье не понимало — это ведь жадность хозяев толкала приезжих на воровство!
Поселились они в каморке на чердаке. Вечно усталый отец редко когда заговаривал с сыном. Слова его были какие-то холодные и словно чужие.
Вот и получилось, что Вольфганг никак не мог прижиться в Бецове. Он казался себе кусочком ржавого железа, который где бы ни валялся, всюду мешает. Другие дети без конца били Вольфганга — никто ведь не защищал его, и всё им сходило с рук. Отец работал на лесопилке в Штрезове. Поздно вечером, придя домой, он садился на диван и глядел мертвыми и пустыми глазами. Сидел час, два, три, потом укрывался одеялом и заваливался спать.
Как-то Вольфганг застал в хозяйской кухне вора. Это был Вальтер. Тот сразу удрал, но Вольфганг и не думал выдавать его. К чему?
Вальтер этого не забыл. Он и привел Вольфганга к Альберту. Хотя мстители и приняли Вольфганга, но и здесь он чувствовал пропасть, отделявшую его от остальных. Никогда он не знал, что говорить. Ребята могли его неверно понять, обидеться, а он так дорожил вновь приобретенными друзьями! В конце концов он и придумал для себя выход: надо просто делать все, что другим хочется, повторять за ними все, что они скажут. Постепенно он привык к этому, и не прошло и года, как он так вжился в эту роль, будто она была уготована ему от природы. Счастья он при этом не испытывал, но и куском ржавого железа себе уже не казался. А это тоже было не мало!
И вот теперь его хотят послать в университет! И он будет там учиться! Может, отец хоть этому обрадуется? Наверное, обрадуется. Надо скорее рассказать ему. Как можно скорее!
Вольфганг побежал быстрее. Лицо его раскраснелось, глаза горели, волосы щекотали лоб. У первых домов Вольфганг вдруг увидел Ганса Винтера и вспомнил о мстителях и Альберте. Наверняка его опять заставят поссориться с учителем Линднером. Он же был «лазутчиком», «шпионом». И сразу все счастье представилось Вольфгангу мыльным пузырем.
…Правда, «шпион» был скорее похож на жертву. Он сидел на своем ящике в «Цитадели» и поглядывал на раскаленную печурку. Вид у Вольфганга был такой, будто он больше всего боялся, как бы глаза его не выдали. Недавно после разговора с учителем Линднером ему стало ясно, что он никогда и не думал шпионить за Сынком и Руди. Поручение, полученное от мстителей, казалось ему теперь позорным, и в последние дни он частенько задумывался над тем, всегда ли их Союз был таким, каким он теперь ему представлялся. Может быть, его обманывали воспоминания, но все же ему казалось, что все стало теперь как-то мрачней. Началось с исключения Родики. Нет, еще раньше, скорее всего с того дня, когда в деревню приехал новый учитель. Ведь с тех пор все их силы уходили на борьбу против него и пионеров. При этом пионеры им вообще ничего плохого не делали. Если подумать, то и у мстителей и у пионеров были одни и те же враги. Нет, наверное, это не так — тогда ведь вся их борьба теряла всякий смысл! Ну, а вдруг это и в самом деле так?..
Вольфгангу никак не удавалось разобраться во всём этом. Он понял одно: так жить, как он жил до сих пор, он уже не может. Но что же делать? Изменить мстителям он не мог. С ними все его старые друзья, столько они пережили вместе! И потом, они ведь тоже за правду и справедливость. А вдруг есть две правды: одна у мстителей, другая у пионеров?
Они сидели и ждали Ганса. Он наконец вошел и хотел было извиниться за опоздание, но Альберт махнул рукой.
— Вижу, — сказал он. — Тот, кого называют твоим отцом, опять напился.
Правый глаз Ганса был закрыт.
— Каждый день одно и то же, — заметил он равнодушно. — А трезвый — жалеет.
— А когда он трезвый-то бывает?
— В том-то и дело.
— И откуда он только водку берет?
— Откуда? Сам гонит.
— Да вылей ты бурду эту!
Взглянув на Длинного, Ганс сказал:
— Вылить? Хорошо бы. Но знаешь, что потом будет? Убьет он меня, вот и все. А мне что-то еще неохота… Вроде рановато. Понял?
— Ну, а если мы перебьем всю его музыку — аппарат и прочее? — Глаза Калле сверкали решимостью.
— Правильно! — подхватил Альберт.
Со всех сторон послышались одобрительные возгласы.
— Ну, а как это сделать? — спросил Ганс, обдумывая новое предложение.
— Очень просто! — ответил Альберт. — Заберемся ночью и переколошматим всю его посуду. Но только сначала все вынесем. Узнать, кто это был, он не узнает, а в полицию не заявит — гнать самогон запрещено.
— Гм… — отозвался Ганс. — Это еще куда ни шло. Ладно. Я вам потом скажу.
— Идет… — решил Альберт. — Теперь очередь Вольфганга. Давай выкладывай!
Вытянув ноги, ребята сидели на ящиках и посасывали самокрутки. Одежда большинства из них была уже латана-перелатана, да и вообще все это было очень похоже на сборище малолетних конокрадов.
Желая оттянуть время, Вольфганг принялся долго и обстоятельно сморкаться. Потом, опустив голову, уставился на свои сбитые деревянные туфли. Он говорил так тихо, что его слова лишь с трудом можно было разобрать.
— Что выкладывать-то? Руди и Сынок ничего про Союз не рассказали, ни слова я не слышал. В синие они не записались, да и Родика тоже. И потом… вообще синие — хорошие ребята. — Теперь он поднял голову и робко взглянул на своих кровных братьев. — А потом, мне неохота больше шпионить. Не буду! Вот и все… — Вольфганг как-то весь съежился, но, очевидно, был полон решимости не отступать, если даже его и побьют.
Никто не произнес ни слова. Все уставились на Вольфганга, как на чудо. Неужели и он взбунтовался? Переглядываясь, ребята вертели головами. Неужели они не ошиблись? Слух не обманул их?
Прицелившись, Альберт плюнул в стену. Плевок пролетел над самой головой Вольфганга. Все ожидали, что шеф вот-вот взорвется. Но Альберт встал, подошел к Вольфгангу и тихо произнес:
— Вставай!
— Зачем? Бей, если думаешь — так правильно. Для этого мне и вставать не надо.
Рывком Альберт поставил его на ноги. Словно изучая, он долго смотрел в лицо Вольфгангу, потом вытолкнул его за дверь.
— Ступай во двор, но совсем не уходи, — сказал он очень тихо. «Да, даже этот Вольфганг подвел, даже у него оказалось свое собственное мнение!» — подумал Альберт, присев на ящик и уронив голову на руки.
— Отхлестать его кнутом и выгнать! — предложил Калле в полной тишине.
— Тоже придумал! — сказал Ганс, состроив рожу.
Длинный безнадежно вздохнул.
— Прямо как болезнь какая-то с этими синими! — проговорил Манфред. — Стоит кому-нибудь прикоснуться к ним — и готово, заразился.
— Может, ты еще что-нибудь сморозишь?! — заорал на него Альберт. — Умник нашелся!
— Я бы сказал, да еще скажешь чего-нибудь не так. Нет, лучше уж ничего не скажу, — заметил Вальтер.
Но Альберт немедленно же набросился на него:
— Ну и молчи! «Сказал, скажу» — сказалкин какой!.. — Гнев его с каждой минутой нарастал — он ведь и сам не видел никакого выхода. Ряды мстителей поредели, и исключение еще одного могло привести к развалу всего Союза.
— А ты чего молчишь, как в рот воды набрал? Тебя это не касается, что ли? — наскочил Альберт теперь на Другу, который молча вырезал ножичком.
— Очень даже касается! Я как раз думаю, почему все так случилось?
— Думаешь? У тебя крыша над головой горит, а ты, значит, думаешь, отчего это она загорелась. Тушить надо, а не думать! — И Альберт постучал пальцем по лбу.
— Чего ты кричишь? Я не глухой.
— Вот как? А какой еще ты?
— Я тебе что, опротивел? Чего ты ко мне пристал?! — Теперь уже Друга зло взглянул на Альберта.
Альберт выдержал его взгляд, но как-то сразу весь обмяк и, устало махнув рукой, слабо улыбнулся.
— Не мели, Друга! Сам же понимаешь, что к чему.
— Ладно уж!
Альберт опустился на свой ящик. Снова воцарилась тишина. Даже дрова в печурке горели, не потрескивая.
— Так просто его ведь не выгонишь, — заметил наконец Друга, высказав то, что думали все остальные. — А что, если он не последний? И в конце концов от нашего Союза ничего не останется. Надо вот что сделать: путь ему отрезать! Да, да, это будет лучше всего.
— Как это «путь отрезать»?
— Заставить его поругаться с синими, и завтра же. Пусть там сломает что-нибудь. А не сломает — наша месть на него обрушится!
— Недурно, — согласился Альберт. — Только как мы можем ему отомстить?
Пожав плечами, Друга состроил такую мину, будто ему задали очень трудную арифметическую задачу.
— Придумал! — немедленно выскочил Манфред. — Отец его собирает на зиму хворост и складывает в кучи. Хорошая идея?
— Какая идея-то?
— А мы возьмем да подожжем этот хворост. У него три большие кучи заготовлены. Они там, у Рощи призраков. Как останутся на зиму без топлива, Вольфганг еще подумает, стоит ему нам изменять или нет… — Манфред передернулся и застучал зубами.
— Ты бы почаще высказывал нам свои предложения, — одобрил Альберт, — иной раз они у тебя и толковые бывают.
Манфред почувствовал себя польщенным.
— Вы и сами могли такое придумать! — сказал он. — Во всяком случае, мы его теперь крепко держим.
Альберт кивнул и велел Калле сходить за Вольфгангом.
В Бецове выла собака. По черному гладкому небосводу скользнула звезда. Ночью обещали заморозки на почве. Предвещая зиму, ветер нес с собой запахи снега и, как подручный самой смерти, пригибал травинки еще ниже к земле.
— Скоро опять кто-нибудь помрет.
— Почему это? — спросил Друга.
— Собака воет. Это всегда так. Сам увидишь.
— Это же случайное совпадение. Каждый месяц кто-нибудь умирает. Ну и каждый месяц какая-нибудь собака воет.
— Ничего ты в этом не смыслишь! — отрезал Альберт, позевывая.
— Ладно.
Они сидели вместе со всеми членами Союза на холодной каменной лестнице Бергов и ждали Вольфганга. Когда накануне они сообщили ему о своем решении, Вольфганг даже побелел. Ушел он от них со слезами на глазах.
Мстители были уверены, что он выполнит приказ. Однако пионерский сбор, должно быть, давно уже кончился, а им все еще ничего не сообщили. В двадцать ноль-ноль должен был явиться Вольфганг и доложить, что он сделал. Они ждали уже час, а его все не было.
— Не придет он совсем, — сказал Калле, делая приседание, чтобы согреться.
— И откуда у него такая смелость? — вслух размышлял Альберт.
— А вдруг он… вдруг он взял да и донес на нас? — высказал свои опасения Вальтер.
— Нет, не посмеет он! — сказал Друга. — Знает же, что мы из него котлету сделаем, как только он нам один попадется.
— Почему же он тогда не идет?
— Я откуда знаю!
— А может, он струсил и решил: никто, мол, все равно не узнает, что он мог предотвратить пожар и спасти дрова.
— Может, и так, — согласился Друга.
— И так и этак, лучше предусмотреть, чем недосмотреть, — сказал Альберт. — А теперь пошли, братва!
Гуськом, спотыкаясь, они брели через пашню к лесу. Никто не разговаривал. Лишь изредка раздавался чей-нибудь сдержанный кашель. Под деревянными туфлями скрипел песок. Перед самым носом Альберта выскочил заяц и помчался зигзагами прочь.
Рощей призраков называли полоску леса неподалеку от песчаного карьера, где мстители в свое время прятали тележку с крадеными дровами. Много-много лет назад рощу назвали так. По преданию, в холодные осенние вечера в этой роще встречались два одноглазых призрака, чтобы обсудить свои дьявольские планы нападения на жителей Бецова. Если же кто-нибудь из крестьян, на беду, оказывался у этой рощи, огромные, с ладонь, глаза призраков вспыхивали зеленым огнем. Огонь этот был такой яркий, что убивал человека на месте, бедняга даже не успевал помолиться перед смертью. Иной дед, пригревшись зимним вечером у печки, рассказывал в кругу семьи, как в юные годы с превеликим трудом избежал этих смертоносных лучей. Обычно молодежь смеялась над такими рассказами, и дед, обидевшись, снова забивался в свой угол.
На самом краю песчаных ям высились три огромные кучи хвороста. Издали они походили на три брошенные избы.
— Погодите здесь! — шепнул Альберт. — Вышлем вперед двух дозорных — проверить, как там и что. — Он оглянулся на своих ребят, но не смог различить даже лиц — тоненький серп месяца излучал лишь слабый свет. — Кто пойдет добровольцем?
— Я! — тут же отозвался Друга.
— И я! — встал с ним рядом Вальтер. Он чувствовал себя ответственным перед остальными — ведь это он привел к мстителям Вольфганга и теперь должен был как-то загладить свою вину.
— Идет! — сказал Альберт. — Будем ждать вас здесь. Пригнитесь, а как подойдете поближе — ползите по-пластунски.
— Сами соображаем! — отвечал Вальтер. В умении совершать ночные вылазки никто не мог сравниться с ним.
Вскоре тени их скрылись во мгле. Остальные, не сводя глаз с куч хвороста, напрягали слух. Все было тихо. Через полчаса Друга и Вальтер вернулись.
— Все в порядке, — доложил Друга. — Кругом ни души.
— А ямы проверили?
— Да.
— Тогда — вперед! — распорядился Альберт. — Друга, Вальтер, Калле займутся правой кучей, средней — Ганс и Манфред, а ты, Длинный, пойдешь со мной. Поджигать каждую кучу со всех сторон.
Не соблюдая прежней осторожности, мстители стали приближаться к кучам заботливо сложенного хвороста. Им не терпелось поскорее закончить операцию. Порой их деревянные туфли задевали о камни, и ветер тут же подхватывал эти звуки и уносил, словно хомяк свою добычу.
Добравшись до места, отряд Альберта тут же обошел кучи хвороста с подветренной стороны, обращенной к лесу.
Альберт уже достал свою зажигалку, как вдруг мстители содрогнулись от ужаса.
«Уааа… Ауи…» — какие-то чудовищные звуки, не похожие ни на что человеческое, неслись с лесной опушки. На вершине самого близкого дерева вспыхнул ядовитый огонь одноглазого призрака. Он скользнул по стволу и огромными прыжками стал приближаться к песчаной яме… «Уиии… Ауи…» Теперь звуки неслись откуда-то снизу, левее дерева, с которого только что спустился призрак. Они становились все пронзительнее. Зеленый глаз упал на землю, подскочил и какими-то дергающимися прыжками подбирался все ближе, ближе…
Ужас парализовал мстителей.
Первым пришел в себя Длинный.
— Ложись! — крикнул он что было сил.
Знакомый голос привел в чувство остальных ребят. Но они не бросились наземь, а пустились наутек. Они падали, поднимались и вновь бежали во весь опор. Заметив, что он остался один, Длинный тоже побежал. Он оглянулся, словно прикидывая, не принять ли ему бой с призраком. Смертоносное сияние неотвратимо приближалось. Последние остатки мужества покинули Длинного. Со скоростью оленя он несся вслед за остальными, волосы его развевались. Сзади все еще слышны были адские голоса. Длинный зигзагами бежал по пашне — только бы эти лучи не поразили его в спину! Скоро он стал нагонять основную группу. Громче всех пыхтел Калле.
— Мама! — верещал он. — Мама!..
На шоссе Длинный нагнал его. Они оглянулись. Там, где должны были быть кучи хвороста, царила темень и тишина.
На перемене у Манфреда подвернулась нога, и сверток с завтраком упал на землю.
— У него колени до сих пор дрожат! — тут же съязвил Калле, ухмыляясь, как обычно, во весь рот.
— Держу пари — твои дрожали еще сильнее! — тут же отпарировал Манфред, сдувая песок с хлеба. — У меня тут один знакомый сосунок все время «мама» пищал.
— Ну и что? Зато я своего барахла в грязь не кидал, как некоторые.
— Псих!
— От психа слышу!
— Идиот!
— Сам идиот!
— Черт с тобой! Значит, мы оба идиоты!
— С какой это стати? Ты идиот, а я нет! — с возмущением ответил Калле.
Манфред только махнул рукой. Он не выспался и теперь без конца зевал. После ухода из Союза Руди Бетхера Калле непрестанно задирал Манфреда, должно быть, он не мог иначе.
А Руди и Сынок теперь вечно вертелись вокруг Шульце-младшего. Даже Клаус Бетхер и тот не отходил от него. В последнее время у него с приемным братом установились какие-то новые отношения, с каждым днем они все более сближались. Остальные сыновья крупных хозяев потянулись за Клаусом, так что ученики разделились теперь на два лагеря: группу мстителей и группу Шульце. Не последнюю роль в этом деле сыграло отсутствие Гейнца Грабо. Вот уже неделя как он находился в колонии. Это учитель Линднер отправил его туда, понимая, что Гейнц может выправиться только под постоянным наблюдением строгих воспитателей. Во всяком случае, никто из учеников не жалел об исчезновении Грабо.
— Давайте-ка обмозгуем без лишней трепотни, — начал Альберт. — Хотел бы я видеть того, кто вчера не струсил бы! Я, к примеру, сигал по полю, как косой. Но пусть кто-нибудь посмеет сказать мне, что я трус! Против привидений ничего не поделаешь — короли и то от них удирали. Вот как оно! Все это одна бражка — и черт и призраки. Захотят они — с горошину станут, а то с гору величиной, а то в бабочку-капустницу превратятся…
— А то и человеком прикинутся, — заметил Длинный, причем это явно был крик души — он думал о своем Старике.
— Точно! — сказал Альберт, но тут же спохватился и, взглянув на Длинного, добавил: — А ведьм все равно не бывает. Понял?
— Будто я об этом! — обиделся Длинный.
— Я бы тебе и не советовал.
— Странное дело! — заметил Друга, желая отвлечь их. — Если это были настоящие привидения, почему они не нагнали и не убили нас? Кто его знает, что это на самом деле было!
— Гарантию даю — настоящие привидения! — заявил Манфред.
Друга недоверчиво покачал головой. Тогда остальные мстители набросились на него.
— Вот дурак-то! Ничего ты, Друга, в привидениях не смыслишь!
— И чего же ты тогда драпал, если это были не привидения? И какие еще привидения! Уши — вот с эту сумку! Что я, слепой, что ли!
— Брось заливать!
— Линднер идет! — прошипел Друга.
И, словно по команде, все умолкли.
Учитель остановился и, улыбаясь, осмотрел ребят.
— Ну что, друзья, — сказал он, — здорово струхнули вчера?
Мгновенно лоб Альберта перерезала вертикальная складку. Остальные, полные недоверия, тоже уставились на учителя. О чем это он?
— Признаюсь, — продолжал учитель, так как ответа не последовало, — игра была не по правилам. Но что мне было делать? Как быть? Бежать в полицию? Разве можно! Что бы я им сообщил? Что мои ученики собираются поджечь хворост на опушке леса? Они бы вас еще арестовали, как поджигателей, и все из-за такой глупости. «Нет», — подумал я. К тому же мне пришлось поклясться Вольфгангу, что я никому ничего не скажу и полиции тоже. Что делать? Надо самим предотвратить пожар. — Он сделал свой потешный жест, который очень подходил сейчас к его веселому лицу. — Сказано — сделано! Мы и предотвратили: Вольфганг и я.
Мстители стояли, вытаращив глаза.
Друга, откашлявшись для храбрости, наконец сказал:
— А как? Как вы его предотвратили?
— Вот ты о чем! — Учитель рассмеялся. — Хочешь знать, как мы устроили себе такие глаза? Очень просто. У меня, видишь ли, есть два карманных фонаря с зелеными стеклами. Их-то мы и захватили. Вольфганг взобрался на дерево. Перед этим мы с ним тренировались в подражании крикам диких животных, а я вас снизу ослепил. Вот и все! — Линднер рассмеялся им в лицо, но мстители смотрели на него, будто он и впрямь был привидением.
Альберт глубоко и часто дышал, кусая нижнюю губу. После долгого молчания Длинный постучал пальцем по лбу и, повернувшись к Калле, фыркнул:
— А этот еще: «Уши — вот с такую сумку»! Идиот!
— А сам-то? Идиот в квадрате!
Перепалка разгорелась с новой силой. Они осыпали друг друга попреками — надо же было найти козла отпущения!
Учитель прилагал все усилия, чтобы не рассмеяться.
— Да заткнитесь вы наконец! — зарычал Альберт, красный как вареный рак.
— Слушайте, ребята, — сказал учитель Линднер, — тут еще о другом надо потолковать. С этим я к вам и шел. Пионеры предлагают на время летних каникул совершить на велосипедах путешествие к морю или в горы. Они предлагает записаться всем желающим. Если вы не против, приходите после обеда в четыре — обсудим, как нам лучше подготовиться.
— Нам с синими не по пути! — буркнул Альберт.
— Ерунда какая! Поход для всех учеников, а не только для пионеров. Кто хочет, может принять участие. А у кого нет велосипеда, тому мы достанем. Или вы пионеров испугались? — Наклонив голову, учитель поглядывал на ребят.
— Испугались? — Альберт сплюнул в песок. — Как бы вы нас не испугались!
— Советую вам подумать! — сказал учитель и отошел.
Опешившие мстители смотрели ему вслед.
— А здорово он нас разыграл!
— Да. Тут надо было мозгами поворочать. Не без этого, — ответил Друга.
Тем самым он высказал то, что у всех сейчас было на душе.
За окном пасмурный день. Зато в самом классе царит безудержное веселье, строятся планы, как лучше провести летние каникулы.
Головы с вихрами и с аккуратно заплетенными косами склонились над атласами, пальцы скользят по железнодорожным линиям и шоссейным дорогам, каждый старается перекричать другого — ведь кто громче кричит, тот и прав.
Пройдет всего несколько месяцев — и великая мечта исполнится: бецовские ученики отправятся в большой поход. Глаза их сияют. Все они как-то очень деловиты.
Альберту и его мстителям с трудом удавалось сдерживать себя. И хотя они и чувствовали себя как в гостях, сердца их бились не менее радостно. Тревога овладела ими, и они пытались скрыть ее грубыми замечаниями и скучающим видом.
Но для всех, кто сейчас собрался здесь, наступил праздник. Как часто дома ждала их нищета и безнадежность — наследие военных лет, но здесь в классе, быть может, впервые они заглядывали в будущее. Подобно траве после урагана, они выпрямлялись очень медленно.
Поход было решено провести в таких местах, где приключения ожидали бы их на каждом шагу.
— Пропасти, пещеры и что-нибудь еще пострашнее — вот что нам надо! — заявил Калле.
Учитель, сам похожий на ученика старшего класса, сидел среди ребят и ломал себе голову над таким маршрутом, который одинаково понравился бы и девчатам и ребятам. Сегодня он много и часто смеялся, и все же лицо его казалось еще более уставшим и постаревшим, чем обычно. Порой у него кружилась голова, и он вынужден был держаться за парту, чтобы не упасть. При этом он делал вид, будто задумался над чем-то, только бы ученики ничего не заметили.
— А теперь слушайте все! — сказал он наконец. — Конечно, для такого похода или путешествия нужны деньги. Большую часть заплатит за нас государство. Тут уж все будет в порядке. Но как быть со всякими мелкими расходами, карманными деньгами, так сказать? А потом, главное, где нам взять велосипеды для всех? У половины из вас ведь нет велосипедов. А раздобыть на время нам вряд ли удастся. Летом, особенно в дни жатвы, велосипеды всем нужны.
— Шишки собирать! — крикнул один из сыновей Рункеля — Вот и заработаем монету.
Бесспорно, это был выход. За предложением Рункеля последовали другие. Но велосипеды были тогда очень дороги. В конце концов учитель Линднер предложил вот что: общинный совет Бецова принял решение устроить в одном из пустовавших домов детский сад. Но для этого дом надо полностью отремонтировать. Пусть ребята, разумеется за плату, возьмут на себя часть работ…
Вдруг он остановился на середине фразы: лицо побелело; часто дыша, он судорожно ухватился за спинку парты.
— Извините меня… я сейчас вернусь. — И учитель Линднер, пошатываясь, побрел к двери. В коридоре он ударился плечом о стену.
Учеников охватило оцепенение, каждый думал: нельзя его было так отпускать одного…
— Может быть, ему просто дурно стало, — высказал догадку Шульце-младший.
Но прошло полчаса, и учитель не возвращался. Наконец Гарри отправился за ним. Когда он вошел в комнату учителя, тот, с белым как мел лицом, поднялся с дивана.
— Расходитесь по домам, — сказал он. — Мне что-то нехорошо. Сам не знаю почему.
Ночь, небо затянуто тучами, моросит дождь. По грязной деревенской улице шагает человек. Ботинки его чавкают, ему холодно. Но он не застегивает пальто, только поглубже прячет руки в карманы. Когда весной он прибыл сюда, сидя верхом на молочных бидонах, он и не подозревал, как трудно будет учительствовать здесь. Многое он представлял себе легче, чем это оказалось впоследствии, а о многих трудностях и бедах вообще не имел никакого понятия. Он улыбнулся.
А сколько раз ему хотелось бросить все и уехать! И как часто он бывал счастлив, найдя удачный выход!
Вначале жизнь в деревне показалась ему очень тяжелой. Люди все были чужие, относились к нему с недоверием, а подчас и просто враждебно. Редко, когда причиной этого была злоба или ненависть, чаще самое обыкновенное недоверие, с каким крестьяне относятся ко всем чужим. А может быть, в этом сказывался их печальный опыт. Но прошли месяцы, и наконец лед был сломлен. «Мальчишка», как они его сперва называли, превратился в «наставника», а это у крестьян звучит всегда уважительно. Да и в самой деревне многое изменилось, с тех пор как он прибыл. Да, время бурно неслось вперед. Порой оно обгоняло людей, изменявших его, но затем работа, труд изменяли их самих.
Нет, он уже не чужак в деревне, он прочно вошел в жизнь ее и любил ее, несмотря на все трудности.
У околицы человек остановился и долго смотрел на дом, в котором жили Друга, его мать и дедушка.
«И что же ты за человечек такой? — думал о Друге учитель, ласково улыбаясь. — Драчун ты — и вместе маленький философ. Как сложится твоя жизнь? И станешь ли ты и впрямь когда-нибудь поэтом? И о чем ты будешь писать? Что люди хорошие? Или плохие? И будешь ли ты честен перед самим собой? С поэтами, знаешь ли, не просто. Они должны уметь мыслить, очень хорошо мыслить. Порой им приходится наступать на горло собственной песне. Судьба человека потрясла их до глубины души, но они знают, этот один человек должен выстрадать, чтобы спасти тысячи других от куда более ужасных страданий… Тебе надо твердо знать, для кого ты пишешь. Ты должен выступать на стороне того, кто приносит людям пользу, и бороться с тем, что наносит им вред. А потом, ты должен быть мужественным и честным. Ибо долг писателя — переделывать мир, и тут ты непременно натолкнешься на сопротивление. Но ведь, по сути говоря, лишь жизнь, отданная борьбе, счастливая жизнь!»
Учитель сам удивился своим мыслям и покачал головой. Целую речь сочинил! В конце концов, какой этот Друга поэт — просто беспризорный мальчишка, ему предстоит еще долгий путь, прежде чем он сумеет понять, что творится вокруг. И все же, если вовремя ему помочь, из него выйдет толк. Да и не только из него — из всех его друзей, которые пока еще именуют себя «мстителями».
Линднер вспомнил, что сегодня на уроках ему стало плохо — результат напряженной работы и свалившихся на него в последнее время забот. Но какое это имеет значение? С кем не бывало? Гораздо важнее другое — пройдет несколько месяцев, и ребята из шайки Альберта получают путевку в жизнь, а сердца их еще полны упреков и проклятий по адресу окружающего их мира. А этого нельзя допускать, в противном случае, они могут оказаться на неверной стезе и пропадут. Осталось очень мало времени, и все же, чего бы это ни стоило, надо успеть! Даже если для этого потребуется удвоить усилия. Учитель Линднер решил раз и навсегда вычеркнуть из своего лексикона слова «слишком трудно».
Ведь и Родика, и Вольфганг, и Сынок, и Руди — все они еще непрочно стоят на ногах. Опасность велика. Но он ее отведет.
Человек шагает по дороге к выселкам. Ветер раздувает его плащ, воздух наполнен запахами свежевспаханной земли. Широко шагает учитель Линднер, он высоко держит голову, словно намереваясь лбом раздвинуть сгустившиеся над ним тучи. И вдруг он начинает петь:
Вставай, проклятьем заклейменный…Ветер срывает с его уст слова и уносит их вдаль. Он улыбается и, сжав кулаки, поет:
Никто не даст нам избавленья — Ни бог, ни царь и не герой!Нет, он доведет свое дело до конца. Хныканье еще никому не помогало. И ради чего человеку жить на свете, черт возьми, как ни ради борьбы за счастье всех людей! Выдержка и еще раз выдержка — вот что ему нужно! Жизнь — это приказ, и он гласит: «Живи! Живи ради других!»
Добьемся мы освобожденья Своею собственной рукой!Долго еще голос его разносился по полям. И никто его не слышал, разве только ветер. Сердце учителя Линднера знало только одну страсть, и страстью этой была сама жизнь. И сражался он за эту жизнь не в окопах — он сражался за десять ребячьих жизней, и в этом — величие его борьбы.
Он хорошо знал: один он никогда не достиг бы того, что ему удалось достичь. Бок о бок с ним сражались такие же люди, как он, только на другом участке того же самого фронта. И он видел их рядом с собой, слышал их твердую поступь, улыбался своим товарищам. Вот Шульце-старший. Его мощный кулак готов сокрушить любое препятствие. Все-то ему кажется слишком медленным. Еще вчера он нес в своем сердце мир таким, каким он будет только завтра. Сколько же ему лет? И чего только он не пережил! Вот фрау Граф, бургомистр, удивительная женщина! Такая изящная и хрупкая, совсем не похожая на тех, кто за словом в карман не полезет. Однако жестоко просчитается тот, кто даст себя обмануть ее внешностью. Она знает, за что борется, и упорство ее всегда достигает цели. Ее не собьешь ни распрекрасными словами, ни грубыми проклятиями, она убедит и самого упрямого крестьянина. Хороший она товарищ, храбрый и мужественный!
А Рункель? Еще на родительском собрании, когда он вышел вперед и пожал ему, молодому учителю, руку своей лапищей, жесткой, как подошва, — еще тогда он, Вернер Линднер, ощутил, какой это великолепный человек. Да и кто бы мог подумать, что этот Рункель с его медвежьими повадками, от которого никто никогда ничего не слышал, кроме проклятии, готов сражаться за счастье, за новый мир.
Все они — могучая сила в Бецове и не случайно составляют ядро партии. И все же они могли бы больше помогать школе…
Вот и Бецовские выселки. Учитель Линднер останавливается у каждого дома, в котором живет кто-нибудь из мстителей, и спрашивает: «Что же такое должно было случиться, Альберт, чтобы ты так плохо стал думать о людях? И сколько горя принесла вам, ребята, эта проклятая война! А ведь господа в цилиндрах, наживающиеся на войне, снова грозят ее развязать. Когда-нибудь и ты, Альберт, поймешь — они-то и есть по-настоящему плохие люди. И я уверен, ты тоже станешь солдатом армии, сражающейся против них, и будешь драться с ними столь же дерзко, с той же прямотой, с какой дерешься сейчас, но не на том фронте».
И учитель Линднер стал думать о том, как ему помочь всем ребятам Альберта стать на правильный путь. О Друге он знал, что он хочет учиться на каменщика в Потсдаме. А Вольфганг непременно окончит полную среднюю школу. Большинство из них нужны Бецову, значит, они должны остаться здесь. Да, вот еще это дело с отцом Сынка. Это же дело всей общины. Может быть, вызвать его на партийную группу, поговорить? Конечно, и это семейное дело как-нибудь уладится. А жизнь Вальтера будет намного легче, как только откроют детский сад. Может, его вообще удастся устроить учеником в Народное имение, и Родику, и еще нескольких ребят. А кончат учиться, пусть приезжают в Бецов уже молодыми специалистами.
Дождь прекратился. Медленно шагал учитель Линднер. Тучи над его головой ненадолго расступились, и далекая звезда прислала свой привет земле.
Только раз учитель остановился. В одном из окон он приметил человека, сидевшего за столом: лицо опухшее, седые волосы прилипли к потному лбу; на столе стакан и бутылка; злые глаза устремлены на подростка, сидящего напротив. Это же Ганс! Линднер глубоко вздохнул. Нет, всего ему не удастся изменить. Для многих ребят жизнь еще долгое время будет иметь горький привкус.
Учитель двинулся дальше, не подозревая, что несколько минут спустя группа мстителей проникнет в подвал этого самого дома и разобьет самогонный аппарат.
Ну, а если бы он узнал об этом, разве он стал бы препятствовать?
— Отойдите от вагонов! — в третий раз крикнул дежурный по станции, и голос его сорвался.
Были часы «пик». Люди, усиленно работая локтями, пытались пробиться к вагонам. Ночь все не хотела уступать дню. Вдоль поезда, словно клочья тумана, проплывали клубы пара и при свете тусклых станционных фонарей отбрасывали на перрон причудливые тени.
Наконец паровоз дернул, буфера застучали, и поезд тронулся. Вот мелькнула последняя надпись: «Бирнбаум», и поезд, как в пропасть, нырнул в темноту.
— Не топят, бездельники! — проворчал пожилой железнодорожник с лицом в рубцах и сунул свой шишковатый нос в платок величиной с полотенце.
— Люди спать хотят, а этот дудит в свою трубу, будто кому охота его концерты слушать! — буркнул сосед, успевший уже задремать.
— Тише вы!..
Вскоре во всех концах вагона послышался храп, порой прерывавшийся испуганным хрюканьем.
Накал в лампочках заметно ослабел, по купе поплыли запахи самых сомнительных табаков, нещадно сквозило.
Прижав лоб и нос к стеклу, Друга пытался что-нибудь разглядеть за окном. Густой белесый туман висел над полями и лугами.
— Гляди, Альберт, на море похоже — когда оно спит.
Теперь и Альберт прижал нос к стеклу.
— Да нет, — сказал он, как-то неопределенно пожав плечами. — Море… когда спит… А ты был на море хоть раз-то?
— Нет.
— Чего ж ты тогда?
Друга улыбнулся про себя, но так ничего и не ответил. Оба стояли, затиснутые в угол, не спуская глаз со своих школьных сумок, и изредка перешептывались.
— Как думаешь, сколько мы монет выручим? — спросил Альберт.
— За что?
— Ну, за масло.
— Не знаю. Может, мы и не проскочим через контроль.
— Брось! В первый раз никогда не задерживают. Сам знаешь, сколько раз тетка Люция ездила, прежде чем ее поймали.
— Не по себе мне что-то.
— Боишься?
Друга покачал головой.
— Ну, то-то! Знаешь, сколько с нами тут сейчас спекулянтов сидит — весь вагон. Вот как оно. Да у них весь график к черту бы полетел, начни они за каждым мешочником гоняться.
— Поживем — увидим. Может, и правда проскочим, — заметил Друга.
— Никаких «может»! Процентов за сто проскочим.
— Сто, за то что проскочим, — поправил Друга.
— Хоть бы и так.
Они не пошли в школу и теперь ехали в Западный Берлин. В школьных сумках у них было припрятано десять фунтов масла, и оба теперь надеялись сбыть его подороже. Дело заключалось в том, что пионерский поход мог нанести Союзу страшный удар. Альберт не доверял мстителям и потому решил заранее принять свои меры. Мстители должны были заработать больше денег, чем пионеры, — вот и весь расчет! Тогда уж никто из ребят и не подумает последовать примеру Родики, Вольфганга, Руди и Сынка. Правда, этими соображениями Альберт поделился только с Другой, а остальным он сказал: «Можете поверить мне, предатели позеленеют от зависти, как услышат, сколько мы монет раздобыли. На коленях приползут! Скулить будут: «Примите нас обратно!» Так мы их и приняли, дудки! Пусть попрыгают сперва».
Как раздобыть денег, они быстро придумали. Надо было продать что-нибудь на черном рынке, а что именно — подсказал многоопытный Вальтер.
Бецовские крестьяне-самоснабженцы получали масло прямо с Бирнбаумского маслозавода. С утра они сдавали заказ шоферу молоканки. А когда тот в обед развозил по дворам пустые бидоны, то оставлял на крышках бидонов пачки масла. Крестьяне забирали его потом вместе с бидонами. Вот Вальтер, проявив свои, всем известные способности, и опередил их. Калле помогал ему.
Потом все члены Союза сложились на билеты для Альберта и Други, и те отправились в путь.
— Ты чего дома сказал, когда ни свет ни заря уходил? — спросил Альберт, заранее улыбаясь.
— Мать думает, мы силки разыскиваем.
— А если она узнает, что ты прогулял?
— Что-нибудь совру.
Лампочка на потолке погасла. Колеса отстукивали свою монотонную песню, а из-за горизонта медленно вздымалась огненная гора — всходило солнце.
— Ишь солнце — как бочка здоровенная выкатывается! — заметил Альберт, явно довольный тем, что придумал такое сравнение.
Народ в купе зашевелился. Поезд подходил к Седдину. Оба железнодорожника сошли. Кто-то надсадно кашлял, кто-то ворчал, а один пассажир тихо ругался — разбудили его, видите ли, слишком рано.
Альберт и Друга смогли теперь сесть. Развалившись, они всячески демонстрировали свое дурное воспитание.
За окном раздался свисток. Поезд снова тронулся. Где-то хлопнула дверь.
— Еще секунда — и этой дурьей башке пришлось бы любоваться красными огоньками нашего последнего вагона, — сострил Альберт, мотнув головой в сторону хлопнувшей двери. Но тут же осекся, побледнев.
— Доброе утро! — произнес кто-то басом. — Приготовьте документы и багаж для досмотра.
— С чего бы это? — спросил Альберт пассажира напротив, придя немного в себя. — Здесь же никогда не проверяют?
Нервничая, пассажир дергал себя за мочку уха. Заметив его лакированные ногти, Альберт пожалел, что обратился к нему с вопросом.
— Вот и я полагаю, — заявил субъект с лакированными ногтями, четко произнося каждый слог, — эти постоянные контроли только обременяют людей. В конце концов мы же не уголовники какие-нибудь, чтобы находиться под полицейским надзором.
Выпятив грудь и высоко подняв голову, он высокомерно уставился в окно.
От страха Друге ничего другого не пришло в голову, как закрыть глаза. Он притворился спящим, однако при этом нервно перебирал руками. Весь вагон притих. Лишь изредка в купе раздавалось спокойное «пожалуйста» полицейского, возвращавшего очередной паспорт.
— Чего ты пальцами вертишь? Держи руки спокойно! — пнул Другу Альберт.
Друга открыл глаза. Все равно не поможет. В купе вошли двое полицейских. В то время как один начал проверять паспорта и просматривать багаж, второй листал блокнот с длинным списком имен. Пассажир с лакированными ногтями брезгливо протянул полицейскому паспорт, так и не повернув головы от окна.
Полицейский, взглянув на документ, указал своему товарищу на фамилию. Тот, быстро перелистав блокнот, нашел такую же в своём списке.
— А, старый знакомый! — сказал полицейский, пристально глядя на пассажира. Затем, кивнув на чемодан в сетке, спросил: — Это ваш?
— Вполне возможно, что мой, — высокомерно ответил человек с лакированными ногтями.
— Тогда вам придется последовать за нами, — сказал полицейский, так и не возвратив паспорт.
— Я заявляю протест! Я не позволю, чтобы со мной так разговаривали!
— А я отклоняю ваш протест… — вежливо возразил полицейский и обратился к Альберту: — Ваш паспорт, пожалуйста!
— Нет у меня!
— Как так?
— Еще не выдали, — ответил Альберт, зло взглянув на полицейского.
Друга попытался разрядить обстановку, тихо заметив:
— Мы еще в школу ходим.
— Оба?
— Ясно, что оба! — буркнул Альберт.
— А что это ты так сердишься?
— Ничего не сержусь!
Полицейские улыбнулись, обменявшись многозначительными взглядами.
— Куда же вы собрались, молодые люди? — спросил первый полицейский.
— К моей тетке, — ответил Альберт.
— А где она живет?
— В Берлине.
— А где в Берлине?
— В Панкове[9].
— А у вас что, уже каникулы?
— Учитель заболел, — ответил Друга, так как Альберт замешкался с ответом.
— Разрешите взглянуть на ваши билеты?.. Благодарю! — Полицейский отошел и, встав у дверей, со скучающим видом принялся смотреть в окно.
Альберт незаметно толкнул Другу локтем, тот ответил тем же.
Проскочили! Полицейский ведь даже не заглянул в школьные сумки. Тем временем поезд подошел к Михендорфу. Один из полицейских вышел из вагона, пассажир с лакированными ногтями последовал за ним. Второй полицейский, повернувшись к Альберту и Друге, приказал:
— Приехали! Выходите!
Оба разом вздрогнули.
— Это еще зачем? — огрызнулся Альберт.
— Поскорее, прошу! С вашими билетами до Панкова вы не доберетесь. Дальше Ванзее[10] вам не доехать, — заметил он не без иронии.
— Влипли! — честно признался Альберт. — Ничего не попишешь. Давай выходить, Друга!
Друга не мог и слова вымолвить — так он дрожал. На перроне ветер перекатывал клочки бумаги. Все было серо кругом.
Полицейские приказали обоим обождать и даже отошли на несколько шагов. Покосившись на человека с лакированными ногтями, Альберт шепнул Друге, отведя его чуть в сторону:
— Гляди! — и он указал на проход между двумя вагонами. Там стоял другой пассажирский поезд, следовавший в обратном направлении.
— Наверняка сейчас отправится… Айда, бежим!
Друга сразу вскинул голову. Только что он еще думал о неприятностях, ожидавших его дома, не веря, что им удастся выпутаться, а теперь вся прежняя энергия мгновенно вернулась к нему. Оба, не спуская глаз с полицейских, стоявших к ним спиной, шаг за шагом подвигались к краю перрона.
— Прыгай! — шепнул Альберт.
Оба спрыгнули на рельсы и проскользнули под буферами. Вот и поезд. Едва они схватились за поручни, как раздался свисток. Но это не был сигнал к отправлению: ни тот, ни другой состав не тронулся. По перрону, громко топая сапогами, бежали полицейские.
На этот раз членов Тайного Союза мстителей созвал старый Деналуш, курьер Общинного совета. И теперь они сидели в классе, окружив Альберта и Другу. За окном день уже готовился натянуть на себя ночной колпак, а совещание в комнате учителя все еще продолжалось. Кроме Линднера, там были: бургомистр фрау Граф, мать Други, фрау Торстен, и два представителя железнодорожной полиции.
— А у одного знаешь сколько звездочек вот тут! — заявил Альберт и похлопал себя по плечу. — Но те, что нас сцапали, были другие. — И он рассказал ребятам, как их с Другой задержали на вокзале в Михендорфе, и обо всех последующих приключениях.
После неудачного бегства Альберту и Друге пришлось выслушать не очень-то вежливую нотацию. Затем их под охраной отправили обратно в Седдин и там отвели в барак, где помещалось отделение железнодорожной полиции.
— Заперли они нас, — продолжал Альберт. — Ничего там не было, только три стула стояли. А нам жрать хотелось! Бутерброды-то наши они вместе с сумками забрали. А потом нас отвели в другую комнату, где сидел этот, со звездочками. И туда еще два чина подошли. И тут нас здорово в оборот взяли, перекрестный допрос учинили. Но все равно ничего не узнали. Сперва-то Друга струхнул, да и я, по правде сказать, ну, а потом увидел, делать нечего, взял себя в руки. Начальник этот, со звездочками — прямо с ума сходил: ничего с нами поделать не мог. Ни в чем мы не признались, только вот про масло сказали, что оно краденое.
Пересыпая свой отчет шуточками, Альберт всячески увиливал от признания того, что вся поездка была новым провалом Союза.
— Под конец они, конечно, скисли и послали нас обратно в комнату с тремя стульями. Хорошо, хоть бутерброды вернули — жрать-то всякому хочется! Я уже подумал: теперь нас за решетку посадят. Да не тут-то было: в легковую машину нас насадили и — жжик! — в Бецов. И прямо сюда, в школу. А этот, со звездочками, запретил нам даже разговаривать. Вот как оно делается… Но что они вас всех сюда пригонят — я не ожидал. Дело дрянь! Хуже, чем можно было предполагать. — Альберт подмигнул мстителям, но получилось это очень неестественно, и он перестал притворяться.
Его судорожные попытки представить поездку как веселую историю все равно не имели успеха. Лица ребят выдавали растерянность, а может быть, и страх.
Друга сидел, опершись локтями о парту и прижав кулаки к губам. Он не сводил взгляда с двери, ведшей в маленький коридор, в конце которого находилась комната учителя. Там теперь сидела его мать, наверное плакала, и плакала из-за него. В отчаянии он прикусил губу.
Так они молча сидели некоторое время, пока Манфред, словно очнувшись, неожиданно не выпалил:
— Я тебя не хотел прерывать, Альберт! А ведь твоего отца тоже вызвали, он теперь тоже там. — И он указал в направлении учительской комнаты. — Линднер сам твоего старика перехватил, когда он мимо школы на фуре проезжал.
Подойдя к окну, Альберт выглянул на улицу. И правда, вон она стоит, их фура с обеими телками в упряжке. Этого еще не хватало! Альберт сплюнул.
Все молчали, лишь изредка у кого-нибудь вырывалось проклятие, однако легче от этого никому не становилось.
Постепенно в классе стало совсем темно. Вот хлопнула дверца автомобиля, на котором привезли Альберта и Другу.
— Сматываются, — заметил Калле.
И снова наступило долгое молчание. Вошел учитель Линднер, включил свет. Ребята поднялись.
— Сидите! — сказал он. И в голосе его слышалась такая подавленность, что ученики сразу подумали: все пропало.
Вид у учителя был такой, будто он две ночи не спал. Но, может быть, это лампа так тускло горела? Линднер присел на одну из парт, и никто сейчас не мог бы сказать, о чем он думает. Он ни на кого не глядел и так долго молчал, что в конце концов ребята повесили головы, как увядшие подсолнухи.
Странно, но впервые они чувствовали себя виноватыми и готовы были принять любое наказание. Почему? Они и сами не знали. Но все чувствовали, какую боль они причинили Линднеру. И чем дольше он сидел с ними и молчал, тем сильнее угнетало их это чувство.
Прошло несколько минут. Учитель Линднер поднялся и зашагал к двери.
— Да, чуть не забыл, — произнес он, остановившись, и указал на школьные сумки Други и Альберта, которые, войдя, положил на парту. — Масло в сумках отнесите тем, у кого вы его украли, и скажите, зачем вы это сделали? И еще: подготовкой к походу вам теперь незачем заниматься — на каникулы вы останетесь дома.
Когда шаги учителя стихли в коридоре, ребята поднялись.
— Как это понимать? — спросил Калле уже на лестнице. — Вы что, проболтались, для чего нам деньги нужны были?
Друга кивнул. Он все время думал о своей матери.
На школьном дворе их уже ожидало возмездие. С кнутом в руках возле своей фуры стоял отец Альберта. Невзрачная его фигура вся подалась вперед, сморщенное лицо подергивалось. Он поднял кнут, и ребята отпрянули в сторону. Только Альберт не тронулся с места. Кожаный кнут обжег ему лицо и грудь. Альберт вздрогнул, словно пораженный молнией, но тут же вскинул голову и подставил лицо следующему удару. Он даже не поднял руки, чтобы защититься, и только по его крепко сжатым губам можно было догадаться, сколь велик его гнев и как он страдал от подобного унижения. Отец хлестал его по ногам и вновь по лицу. Он кричал так громко, что даже осип:
— Опозорил ты меня! Проклятый щенок! Бандит вшивый!.. — По его морщинистым щекам сбегали слезы.
— Отец!.. — взмолился Альберт, но так тихо, что ребята скорее догадались, чем услышали.
Все они стояли сейчас в стороне, стараясь не глядеть на своего шефа. По опыту они знали — Альберт и сам справится с отцом. Только ему одному Альберт позволял себя бить и потом никогда не злился, только всегда бывал очень грустный. На лице его вспыхнули две красные полосы, как будто их кто-то краской намазал. Длинный кнут обвился вокруг его шеи. Внезапно Альберт схватил его и вырвал из рук отца. Ребята побледнели, боясь, как бы Альберт не набросился теперь на старика. Но Альберт отвернулся, переломил кнут пополам и отдал отцу. Дрожа всем телом, он проговорил:
— Не бей меня, отец!.. Правда, лучше не надо… — Глаза его влажно поблескивали. Судорожно глотнув, он пошел прочь.
Проводив его диким взглядом, отец сразу весь обмяк. Казалось, вместе с кнутом сломали и его. Смахнув мозолистой ладонью слезы, он заковылял к фуре.
— Пошла, пошла, Лотта!.. — тихо скомандовал он, шлепнув телок вожжами по спине.
Колеса заскрипели.
Альберт сидел, прислонившись спиной к каменной ограде парка, уронив голову на руки, лежавшие на коленях. С липы упал желтый листок и запутался в его волосах. Ветер тщетно пытался высвободить его.
В нескольких метрах от Альберта, на жухлой траве, присели остальные мстители. Кто теребил травинку, кто грыз ногти, и все молчали. Наконец Альберт произнес с наигранной бодростью:
— И вождь ирокезов сказал… — Он тронул рукой красные полосы на лице, похожие на воинственную раскраску, и добавил: — Воины, будем держать совет!
Ребята ответили улыбками, выразив таким образом готовность перейти к следующему пункту повестки дня.
— Если ты насчет масла советоваться надумал, — поспешил начать Вальтер — видно, ему давно уже не давала покоя эта тема, — то нечего вам тут рожи кислые строить! Давайте его себе оставим. — Словно застыдившись, он отвернулся.
— Так мы тебе его и преподнесли! — Калле постучал пальцем по виску. — Ворюга, ты нажрешься до отвала, а нам потом скажут: трусы!
Вальтер посмотрел на него своими жабьими глазами, но так ничего и не сказал.
— Это мы-то трусы? — возмутился Длинный.
— Я тоже считаю, что масло надо вернуть! — пропищал Манфред.
— Ловко это Линднер придумал, — сказал Альберт, сплюнув. — Не верни мы теперь масло, нас и правда вся деревня начнет презирать: трусы, мол, и все! А если мы его вернем, еще хуже получится — «Извините нас, пожалуйста, мы у вас тут маслецо стырили, но мы никогда больше не будем». Уж хуже этого наказания не может быть. Вот как оно! Но, правда, трусами уж тогда никто не обругает. — Он высвободил листочек из своих волос и растер его между ладонями. — Или как ты считаешь, Друга?
— Вернуть! — Другу, по-видимому, сейчас грызли другие заботы.
— Что ж, потопали тогда! — предложил Ганс. — Давайте с песней пойдем по дворам: может, и отпустят нам грехи наши.
— Довольно чудить! — отрезал Альберт. — У кого вы масло сперли? Выкладывайте!
Вальтер назвал пять крестьян, и среди них Шульце-старшего.
— Ну и наломали вы дров! — произнес Альберт, вздохнув. — У Шульце всего две коровенки в хлеву, да и молока они с гулькин нос дают. Он же и пашет на них.
— Поворчи, поворчи еще! — задиристо вставил Калле. — Сами попались, а мы теперь виноваты.
Альберт промолчал, и они тронулись в путь. Прежде чем ступить на двор к Шульце, Альберт сказал:
— Две оплеухи я еще готов получить, но не больше. А после третьей сам сдачу дам.
Все вошли тесной гурьбой, словно стая гусей, только что не гоготали.
Хозяева как раз кормили скотину. Из риги вышел Шульце-младший. Мстители еще больше помрачнели.
— Нам тут сдать кое-что надо! — проворчал Альберт, не поздоровавшись.
— Я и так уж догадался, — приветливо ответил Шульце-младший и посмотрел в сторону свинарника, откуда несся душераздирающий визг свиней. «Позвать отца или лучше не надо? — подумал он. — Нет, не надо! Наверняка Альберту и его дружкам нотациями уже все уши прожужжали, а потом им небось нелегко было сюда прийти». И ведь все они из одного класса — тут уж лучше вместе держаться. Правда, отец отругает его, но уж это он как-нибудь переживет. Он же сам сколько раз ему говорил, чтобы он ребятами Альберта занялся. Вот теперь как раз представляется такая возможность.
Тут Гарри еще вспомнил, что совсем недавно ребята Альберта ночью выкопали дички и посадили их на школьном участке. Все это вместе и заставило его совсем по-иному отнестись к Альберту.
— Давайте масло скорее! Отец в хлеву. А то еще раскричится тут! Я ему потом сам скажу, что вы, мол, приходили и извинялись и все такое прочее. — Говоря это, Гарри даже улыбнулся чуть-чуть.
Мстители так и опешили. Подобного приема они уж никак не ожидали. Они ж не извинились даже, и вообще… Вальтер тут же сунул Гарри масло в руку, и минуту спустя мстителей и след простыл.
Альберт шагал один в стороне от остальных. Время от времени покачивая головой, он оглядывался на двор Шульце. Нет, такого он не ожидал. Нагнав своих ребят, Альберт несколько необычным образом высказал свои чувства:
— А неплохо бы этого Шульце-младшего в наш Союз заполучить!
Заметив удивленные взгляды мстителей, он поспешил добавить:
— Я же сказал только «неплохо бы», а на самом-то деле он все равно нам враг. — Однако ему не удалось придать своему голосу обычной злости.
У других хозяев мстители не так-то легко отделались. Потоки брани и проклятий обрушивались на их головы. Но они вынесли и это, быть может, оттого, что сами осознали свою вину. Только под конец один из крестьян набросился на Альберта с кулаками, но тут мстители, как один, встали на его защиту.
Когда все уже было позади, ребята поняли: этот день они никогда не забудут. Даже Вальтер стал подумывать о том, не бросить ли ему воровать.
Альберт долго отмалчивался. Что-то с ним происходило. Никак не мог он найти, на ком бы сорвать свою злость.
Даже Линднера нельзя было ни в чем упрекнуть. Скорее сам Линднер имел все основания возненавидеть его, Альберта. Шеф мстителей легко мог себе представить, что учителю больше всех влетело от полиции. Но злости своей надо же было дать выход.
И Альберт сказал:
— Плевал я на их поход!
— А все равно жалко, — тихо произнес Манфред.
— Да, — протянул Калле. — И мне охота была поехать. А то сидишь тут, как в норе, и ничего не видишь. — Последние слова он адресовал Альберту.
Понурив головы, они плелись по деревенской улице.
— А что, если нам извиниться перед Линднером и этими… пионерами? — вдруг предложил Длинный. — Может, они нас тогда возьмут?
Очевидно, не ему одному пришла такая мысль — сразу же послышались возгласы одобрения.
Альберт готов был броситься на ребят, но Друга одернул его:
— Тише ты! А то весь Союз разбежится.
Альберт сопел от негодования.
— Первым я к ним ни за что кланяться не пойду. Вот вы сами и начинайте, покажите, какие вы храбрые!
Друга устало улыбнулся. Простившись, он повернул домой. Самое тяжелое ожидало его впереди.
Глава десятая СТЕНАНИЯ И ПЛАЧ ДЛИЛИСЬ ДОЛЬШЕ САМОЙ НОЧИ
Прошли месяцы. Настала зима. Солнце подернулось глазурью. Озимые всходы присыпало снежком: мороз, словно пух, выщипывал из облаков снежинки. Природа отдыхала, накапливая силы для нового года, для новой жизни, для новых ростков и побегов, которые она, как букет, преподносит людям. Быть может, она столь щедро приветствует человека, дабы он почувствовал, как прекрасна жизнь и как ее надо беречь?
Деревня тоже дремала в ожидании этого великого пробуждения. Только из кузницы от зари до зари неслась песня молота и наковальни — там для нового трудового года ремонтировали сельскохозяйственные машины.
Даже мстители не нарушали этого покоя. И порой казалось, будто их Союз и не существует вовсе. Просьба мстителей простить их нашла тогда в школе доброжелательный отклик, и им снова разрешили участвовать в подготовке похода. Делали они это «с огоньком», и скоро каждый из жителей Бецова мог убедиться в результатах их труда: за веселой изгородью из зеленых, желтых и красных планок раздавался визг малышей. Здесь недавно открыли детский сад. Вальтер часто бродил теперь около этого разноцветного заборчика, словно лиса вокруг курятника. За этим заборчиком гуляли его братья и сестры.
А Друга что-то подозрительно часто засиживался в комнатке у учителя Линднера, так что складка на лбу Альберта вообще больше не разглаживалась.
На вопросы шефа Друга обычно отвечал:
— Линднер читает мне из своей будущей книги, а потом мы ее обсуждаем. Ничего такого в этом нет. Мы же с ним оба вроде как сочинители и поэты.
Даже себе самому Друга боялся признаться в том, что на самом-то деле он восхищается учителем Линднером и с каждым днем ему становится все труднее искусственно подогревать в себе ненависть к нему.
Манфред, Калле и Длинный использовали перемирие с пионерами для всевозможных совместных вылазок с ними, и Альберту потом говорили, будто участвовали все школьники, а не одни пионеры.
Только Ганс, насколько это было возможно, всегда держался в стороне. Ожесточение его нарастало в зависимости от побоев, которые ему доставались дома. Он чувствовал, что жизнь его друзей изменилась, завидовал им и мучился. Для себя самого он не видел выхода и очень боялся, как бы в один прекрасный день не остаться совсем одному. Потому-то он в последние дни и предпочитал не отходить от Альберта.
Но время от времени мстители и впрямь доказывали, что Тайный Союз их еще жив. Чаще всего они избирали своей жертвой перебежчиков. Альберт задирал их где только мог. Они тоже не оставались в долгу, и любой спор превращался в драку, в которой, как правило, принимали участие все мстители и почти все пионеры. Но теперь никто заранее не намечал такой драки. Они вспыхивали сами по себе, как порой погасшие угли вдруг разгораются вновь, если налетит порыв ветра и сдует прикрывающий их пепел.
Наконец настал май. Воздух пропитался запахами талого снега. Было решено вечером, в день Освобождения, на дороге между выселками и Бецовом зажечь большой костер. Пламя его должно было возвестить на всю округу, что люди жаждут мира и готовы за него бороться. На этот костер мира пригласили всех жителей деревни.
Накануне праздника в классе возник спор. Альберт сделал наглое замечание относительно костра, а Руди Бетхер ответил:
— Если вы обязательно хотите все испортить, то незачем вам и приходить.
— Ишь чего захотел! — презрительно фыркнул Альберт, пристально поглядев на него и скривив рот. — Небось думаешь, что тебе тогда легче будет всякие басни рассказывать. Без помех, так сказать.
Сынок оттащил Руди в сторону, шепнув:
— Плюнь ты на него! Дурак дураком и останется! — Он всегда напрямик высказывал то, что думал.
Альберт уже замахнулся, чтобы ударить Сынка, но тут отворилась дверь и вошел учитель Линднер.
После уроков у Альберта уже пропала охота драться. Он решил созвать всех членов Союза на военный совет в «Цитадели».
— Оболванить людей они хотят костром своим! — заявил Альберт, сплюнув на пол. — Начнут заливать о прогрессе, справедливости. На самом-то деле справедливости нет, вообще нет! Вот как оно!
Калле взъерошил свои курчавые волосы.
— Это, конечно… — протянул он. — Но чуть-чуть-то справедливость есть. Синим Линднер тоже спуску не дает.
— Вот еще один болван на мою шею! Как будто я об одном Линднере сейчас говорил. — Альберт побагровел от злости. — Я о политике говорил, дурак ты набитый, о политике! — Ему даже пришлось передохнуть. Уже спокойнее он сказал: — Потом не воображай, пожалуйста, будто этот Линднер все делает задаром. Такого вообще не бывает. Ему русские премию выдадут. Это уж точно. — Он оглянулся, ища поддержки, но увидел внимательно слушавших ребят, на лицах которых было заметно сомнение. Окончательно обозлившись, Альберт замолчал.
— Вроде как прав наш шеф, — заметил немного погодя Друга, сдунув волосы со лба. — В большом-то справедливости нет — насчет излишков, например, и беженцев… Не знаю я… — Он пожал плечами.
— Хоть один нашелся, кто понимает, в чем дело, — примирительно проговорил Альберт.
— Почему это «один»? — возмутился Длинный. — Что такое справедливость, я не хуже вашего знаю.
Некоторое время Манфред мялся в нерешительности, но в конце концов сказал:
— Я тоже так думаю, как вы. У нас в Богемии, например…
— Во-во! — прервал его Альберт, не желая, чтобы мстители отвлеклись от темы. — И у вас в Богемии происходит то же самое.
Ганс смотрел своим синим и своим карим глазом на Альберта и молчал. Он и так был на стороне шефа, но не из убеждения, а скорей из злобного чувства, ставшего для него чем-то привычным.
— Ну и что ты думаешь делать? — задал вопрос Длинный.
— А мы их возьмем и разгоним, когда они соберутся у костра! — ответил Альберт.
— Так ты их и разогнал! — вставил Друга, скривив губы, словно только что услышал плоский анекдот. — Может быть, и ты, Альберт, тоже притворишься призраком с такими вот глазищами?
— Брось трепаться! Мы им патронов подкинем в костер! Поглядишь, как пионеры улепетывать будут, когда те начнут взрываться.
Мстители сидели молча, прищурив глаза, кое-кто ковырял в зубах.
— Нет, нельзя! — решил наконец Длинный. — Может покалечить кого-нибудь.
— Верно, — согласился Друга, — это опасно! Попугать можно, но и только. — Друга с неприязнью обдумывал предложение Альберта. Ему оно казалось совершенно неинтересным.
— Так и сделаем, — снова заговорил Альберт. — А то они еще подумают, что мы хвосты поджали после этой истории с маслом и сидим, забившись в конуру. — И Альберт принялся убеждать свою команду. Вызвать воодушевление, как бывало прежде, ему не удалось, но в конце концов все согласились с ним.
— Послушай, Альберт, а что, если патроны пулями в землю ткнуть? Пуля ведь при взрыве вниз должна пойти, — спросил неожиданно Ганс.
— Кажется, да, — ответил Альберт. Другие себе это тоже так представляли. — Или как ты считаешь, Друга?
— Я?.. Чего это? A-а… конечно. — Друга совсем не о том сейчас думал и так и не понял, о чем речь.
Он решил сразу после этой операции с костром непременно поговорить с Альбертом. До этого не стоило. Альберт не выслушал бы его до конца, вспылил бы, и все. Должен ведь быть какой-то путь к миру между мстителями и пионерами! Зачем вообще теперь Тайный Союз? Но почему это так трудно? И почему он, Друга, все еще считает, что мстители правы? А раз так, то мыслимо ли вообще примирение?
— Решено! — сказал теперь Альберт. — Кто из вас видел, собрали они уже хворост на костер или нет?
— Только завтра после обеда пойдут собирать.
— Поздновато! — определил Альберт. — Тогда патроны тоже только завтра придется в землю закапывать. — Подумав, он покачал головой. — Пойдет кто-нибудь один. Есть добровольцы?
— Я! — тут же вызвался Ганс и даже встал. При этом он похлопал себе по штанам и куртке, хотя на них и грязи-то никакой не было.
…Этот костер был зажжен во имя мира. Потрескивая, он взметал искры до самых звезд. И звезды, словно понимая мирные чаяния людей, светили в эту ночь необыкновенно ярко. Вокруг полыхавшей горы огня собрались сотни людей. Все в деревне, кто мог ходить, пришли сюда. Многие из простого любопытства. Однако очень скоро не осталось равнодушных зрителей — всех захватила торжественность этого события. Ибо вместе с пламенем разгорались надежды.
Все ребята — члены Тайного Союза мстителей держались в стороне от остальных школьников. Неожиданно их охватило чувство сожаления, что они внезапно прервут этот праздник, так похожий на клятву во имя торжества жизни. Но пути назад уже не было. Шульце-старший, встав на кучу щебня, призывал собравшихся:
— Все люди, кто бы вы ни были, соединяйтесь в борьбе за мир!
— Германии нужен мирный договор!
— Дайте по рукам тем, кто расколол нашу родину. Они хотят войны!..
— Требуйте уничтожения всех атомных бомб!
— Крестьяне и рабочие, крепите единство! У нас общий враг, и счастье наше тоже неделимо!..
Своими медвежьими лапищами он рассекал воздух, и лицо его пылало от гнева на всех врагов рода человеческого. Он часто запинался, прерывая начатое предложение, перескакивал с одной мысли на другую. Но он говорил честно и открыто. Его внимательно слушали. Иронические выкрики не прерывали его речи, и слова его доходили до самого сердца. Не всегда же путь к сердцам людей закрыт!
Подняв кулак к небу, Шульце воскликнул:
— Миру — мир! Долой войну!.. — и сбежал с кучи щебня, сразу же исчезнув в толпе.
Аплодисменты заглушали треск костра. Теперь на куче щебня стоял учитель Линднер. Лицо его казалось помолодевшим. Высоко подняв голову, он улыбался. Воцарилась глубокая тишина. Линднер прочитал стихотворение Готфрида Келлера «Весенние надежды»:
Дыша фиалковою новью, Мечтой, надеждой, вешним сном, Песнь, вдохновленная любовью, Витает над земным челом. То возлелеянная нами Песнь торжества и красоты О мире между племенами И правоте людской мечты. Чтоб, к горним устремясь пределам, Весь род людской поведать мог, Что у него на свете белом Один король, закон и бог. Надежды этой светоносность, Земной любви благую весть Лишь зависть черная да косность Мечтой безумной смогут счесть. Но, кто с надеждой распростился, Пускай клянет свою судьбу: Напрасно он на свет явился. Он жив, а будто спит в гробу[11].Когда он кончил, никто не захлопал. Люди стояли, опустив головы. Да, думали они, сказка о великом счастье человечества должна стать былью. Кое у кого скатилась по щеке слеза…
Мстители с ужасом смотрели на угли. Должно быть, они уже глубоко прожгли землю. Пройдет несколько минут, может быть секунд, — и страшный взрыв развеет мечты людей. Страх и ужас нарастали в груди Други. Ногти его глубоко впились в ладони, глаза рыскали по лицам людей. Неожиданно повернувшись к Альберту, он выкрикнул, скорее выпалил единым духом:
— Скорей, Альберт, предупредим их!
Лицо Альберта выражало нерешительность. Подняв плечи, он как-то беспомощно развел руками.
Друга нашел глазами Линднера. Тот стоял по другую сторону костра перед пионерским хором, подняв руки и отсчитывая такт. Громко и требовательно звучала песнь в ночи.
Ветер мира колышет знамена побед, Озаренные кровью знамена. Озарил миру путь нашей Родины свет, Мы на страже стоим непреклонно.Друга локтями расчищал себе путь. Люди недовольно ворчали, но Друге было все равно. Вперед! Учитель Линднер уже близко!
Наши нивы цветут, Мы отстояли весну. Наши силы растут…Кто-то схватил Другу за руку. Словно клещами впился в него. Но Друга вырвался, ударив костяшками по державшей его руке. Еще секунда, и он все скажет учителю…
Мы сильны! Берегись, поджигатель войны. Не забудь, чем кончаются войны…Что-то затрещало в огне, сухо и не очень громко, как будто кто-то палкой провел по штакетнику. Хор умолк. И снова этот треск. Люди стали оглядываться. В чем дело? Вдруг Длинный упал. Еще секунда, и послышался его отчаянный крик. Никто никогда не слышал такого крика. Только те, кто бывал на фронте, сейчас почему-то вспомнили войну. Альберт и Ганс, стоявшие рядом с Длинным, пытались его поднять, но он закричал еще пронзительнее. На правой ноге Длинного от бедра до колена зияла огромная кровавая рана…
— Отойдите от костра! — закричал Друга истошным голосом. — Патроны! Пулеметные патроны в костре!..
Но никто не обратил на него внимания. Его оттолкнули в сторону. Все устремились к Длинному.
— Жгут! Перетянуть рану! — крикнул учитель Линднер.
Гюнтер лежал на боку, глаза открыты, щеки белые-белые.
Ганс смотрел на него не отрываясь. Ему хотелось зареветь, но он не мог. Да, он убийца! Это он заложил патроны под хворост. Гюнтер умер. Никакого сомнения — он мертв!
Как будто кто-то взял его за руку и повел. Ганс повернулся и зашагал к деревне. Навстречу ему попалась телега. Лошади галопом промчались мимо. Должно быть, за Гюнтером…
Когда костер остался далеко позади, Ганс припустился бегом. Ветер нагонял ему слезы на глаза. Теперь он мог плакать. Но плакал он не от боли. Он прислушивался к своим шагам, считал деревья, росшие вдоль дороги. Все кончено. Все. Удивительно, как долго все это тянулось. Почему все это не случилось два года назад? Зачем он так мучился с отцом, терпел бесконечные побои?
Ганс подумал о том, что теперь он в последний раз бежит по этой дороге.
Дорога! Да что там дорога! Песок, камни, упадешь — больно будет. Всегда больно. И крик. Как крик Гюнтера. Боль и крик. А правда ли, что земля вертится? Может, и правда, да слишком медленно. Лучше бы она вертелась быстро-быстро, чтобы люди кувыркались через головы. Вот была бы потеха! И Ганс рассмеялся. Смеялась вся его лукавая рожица, казалось созданная только для смеха. Но Ганс смеялся так редко, с тех пор как отец вернулся из армии. С тех пор Ганс знал только побои, крики и боль…
Гансу послышалось, что кто-то его зовет, но он, не оглядываясь, побежал еще быстрее…
Забежав во двор, он остановился и посмотрел на небо. Равнодушно поблескивали звезды. Подумаешь, звезды! И как только люди могут мечтать о звездах? Холодно!
Он ведь и не собирался, но почему-то зашел в комнату. Отец опять был пьян. Он что-то бормотал себе под нос, навалившись на стол. И откуда только он водку берет? В Бирнбауме, должно быть. Вчера ведь опять ходил туда и дом продал, а Гансу сказал: «Крышу над головой мы с тобой всегда найдем».
— Закрой дверь! — крикнул он сейчас.
Ганс повернулся и вышел, так и не закрыв дверь.
— «Так точно!» надо отвечать, — услышал он позади себя.
Под ногами скрипела лестница, ведущая на чердак.
С минуту Гансу пришлось порыться в куче рухляди. Он искал веревку, которую тогда брала мать. Теперь Гансу все уже было безразлично, как звездам в холодной ночи.
Когда он спустился с чердака, дверь в комнату все еще стояла открытой. Ганс пересек двор и вошел в ригу. Он уже не думал о Гюнтере, а только о том, как бы не занозить руки на лесенке. Но затем перед ним возникла картина: он увидел своих друзей. Они почему-то радовались, над чем-то смеялись, но над чем, он не мог разглядеть. Мешал костер. Там же стоял учитель Линднер. Он тоже смеялся, как ребята из Союза и все, кто тут был, и повторял: «Весенние надежды… весенние надежды…»
Смех оборвался. Ганс все-таки занозил руку. Жалко. Так весело было смотреть, как они смеются. Но вот и перекладина, на которой мать… тогда…
Через три дня после этого никто из жителей деревни не вышел в поле. Ветер гнал белые облака по небу. Они набегали на солнце, и по земле рыскали пятна тени. С колокольни доносился печальный перезвон, словно жалоба на траурное шествие. Люди шагали, опустив головы. Должно быть, они чувствовали свою вину. Сосновый гроб несли шесть человек. В гробу лежал Ганс. Гроб наскоро покрасили, и вид у него был такой нищенский, как будто он олицетворял жизнь покойного Ганса. Во главе процессии, сложив руки на груди, шел пастор Меллер, изредка едва заметно качавший головой. Сразу же за гробом шагал учитель Линднер, затем мстители и вся школа. За ними почти все жители деревни. Только отца Ганса не было. Он сидел пьяный дома за столом.
Трудно было объяснить, почему так много народу шагало за гробом. Вряд ли всех захватило горе. Часть пошла на похороны потому, что таков уж обычай, а часть, может быть, потому, что костер, зажженный во имя мира, оставил след в их сердцах.
Они несли цветы и венки и много-много сирени. Весна — время сирени, и, может быть, это самые прекрасные цветы, ибо после холодных и ненастных зимних дней сирень как бы говорит усталым и измученным людям: жизнь восторжествовала, хотя вначале и было очень трудно.
В последние дни учитель Линднер был бледен, щеки ввалились. Но когда его кто-нибудь спрашивал, не болен ли он и в самом деле, он отвечал: «Да что вы! Это у нас в роду». Сейчас, шагая вместе с траурной процессией, он время от времени поглядывал на гроб, и лицо его искажалось от боли.
Альберт и Друга никак не могли отделаться от ощущения, что они идут впереди колонны заключенных, которых ведут по улицам для того, чтобы население могло забросать их камнями. Даже трава на обочине и птицы на заборах в гневе отворачивались от них. В шепоте траурного поезда им слышались проклятия. От косых взглядов у них ныло все тело, отнимались ноги. Что надо было этим людям? Все смотрели на них, как на убийц. Но мстители ведь не хотели того, что случилось у костра. Нет, не хотели!
Несколько раз их допрашивали полицейские. Но ребята Альберта упорно молчали.
Тем временем лес поглотил весь траурный поезд. Разнесся последний удар колокола, а затем уже слышен был только шум деревьев.
Друга взглянул на Альберта, лицо которого выражало скорее ненависть, чем печаль. Альберт перехватил его взгляд и пододвинулся ближе.
— Сейчас-то они все за гробом бегут! — процедил он сквозь зубы. — А раньше? Кто из них хоть раз подумал о Гансе?
Друга не ответил. Возможно, Альберт и был прав, а возможно, и нет. Ведь немало изменилось после памятного родительского собрания. Почему, например, мстителям теперь приходится куда меньше мстить? Потому только, что у них меньше основания для мести. А почему меньше? Потому что приехал учитель Линднер? Вряд ли. Он один никогда бы не справился. Вокруг него теперь столько людей! Как же это все произошло? Сначала арестовали группу Грабо и лесничего с их подручными, и это сразу сказалось на Руди Бетхере. Он уже не был рабом. Жить ему стало легче, и он не ходил с таким подавленным видом, как прежде. Теперь и у Сынка в доме, кажется, все наладилось. А Вольфганг пойдет в университет! Разве мог кто-нибудь об этом даже подумать год назад? Всех малышей Вальтера устроили в детский сад, и он сразу перестал красть. Да и вообще так много изменилось с тех пор! А поначалу вроде и не скажешь, в чем, собственно, эти изменения состоят. Нет, нет, в самом настроении людей произошел перелом. Меньше злобы, меньше слухов, в людях появилось больше доброты. Да и как иначе объяснить, что приемный отец Длинного стал по-человечески разговаривать со своим приемышем. А в школе? В школе Друга теперь никогда не чувствовал, будто он хуже других. И потом, было ведь еще что-то другое, о чем он еще и не задумывался даже. Никто не считал их за прокаженных. Напротив, и учитель и другие ребята старались привлечь их на свою сторону. И снова Друга вспомнил о матери. В июне она перейдет на другую работу — продавщицей. Партия приняла решение увеличить магазин, и теперь одного работника за прилавком будет уже мало. А фрау Торстен предложили это место потому, что работа у нее совсем не женская, слишком тяжелая для нее. Шульце-старший так сказал.
На днях Друга вошел в дом, как раз когда мать, стоя посреди комнаты, предлагала воображаемому покупателю воображаемый товар.
В конце концов он сообразил, что это мама тренируется, готовится к своей новой специальности, и ему почему-то стало стыдно за нее.
Издали донесся колокольный звон. Процессия подошла к лесному погосту. Всюду росли цветы, трудовая песня пчел звенела над могилами…
Земля приняла гроб с телом Ганса, и воздух задрожал от птичьего щебета, словно и птицы возмущались этой бессмысленной смертью. Пастору Меллеру пришлось говорить очень громко, рядом с ним могли встать только несколько человек. Большинство толпилось поодаль.
Вместо родственников рядом с могилой стоял учитель Линднер. Он не молился, как остальные, не подпевал «за упокой». Учитель Линднер не верил в бога. Он верил только в человека. Сейчас он грустно улыбнулся. Его друг, пастор Меллер, говорил:
— Это был несчастный юноша. Нам не следует обманывать себя, вскрывая причины этого несчастья, ибо родительский дом был для него лишь внешней причиной его страданий. Нельзя с уверенностью сказать, кто больше страдал — отец или сын. Обоих ввергла в беду война, которую люди вели ради злого дела и которую господь никогда не мог благословить. Ныне горе и боль теснят наши сердца вдвойне: усопший покинул нас, когда все наши надежды были посвящены миру. Ибо стенания и плач длятся дольше самой ночи. Быть может, свежее это горе заставит нас не забывать о войне и извлечь из нее уроки для грядущего. Никто не освобождает нас от ответственности. Однажды мы допустили войну, и пусть это никогда не повторится. И в то время как я, дорогие друзья, призываю всемогущего даровать милость усопшему, чья жизнь была безутешным заблуждением, пред очами моими встают все жертвы минувшей войны. И мой голос отказывается мне служить при мысли о страданиях людских и вине людской. Я хотел бы, чтобы слово мое раскрыло сердца и мы отдали бы все ради счастья людей на этой земле. Прошлое прошло, его не вернешь. Но я хотел бы, чтобы ни сегодня, ни завтра никто на земле не проливал слез и чтобы люди вечно были счастливы!..
Пастор говорил еще долго, и у всех осталось впечатление, что слова его шли от самого сердца. Он был полон печали, но полон и веры в то, что радость восторжествует.
Когда люди вышли с погоста, по небу прокатился гром. Словно струны, из облаков тянулись нити дождя. Ветер, должно быть решив отдохнуть от бешеной гонки, утих. Деревья умолкли. Лишь дятел стучал где-то поблизости. Все спешили укрыться от дождя.
Последними покинули кладбище учитель Линднер и пастор. Они шагали, глубоко задумавшись и не обращая внимания на небо.
— Посмотри на Альберта и Другу, — заметил пастор Меллер. — Они ведь идут одни.
Примерно в ста метрах прямо через поле брели шеф Тайного Союза мстителей и его заместитель.
— Им сейчас нелегко, — ответил учитель. — Но так оно ведь и должно быть. Вот, например, заболела у кого-нибудь нога, потом началась гангрена. Беда! Без помощи человек погибнет! Но вот ему помогли, больной очнулся и вдруг увидел, что ногу ему отрезали. Ужас охватывает его! А ведь только благодаря этому спасли человеку жизнь…
— Да, — сказал пастор и вдруг улыбнулся. — Но у этих ребят ноги не отрезали, и, если ты хочешь их нагнать, придется тебе прибавить шагу, Вернер.
Учитель на прощание положил ему руку на плечо и, сойдя с дороги, пошел вслед за Альбертом и Другой.
Первые тяжелые капли шлепнулись на землю. Снова засвистел ветер. Линднер хотел было окликнуть ребят, однако передумал и только ускорил шаг. К подошвам стала прилипать земля, брызги грязи разлетались из-под ног. Дождь усиливался какими-то рывками.
Альберт и Друга пустились бежать. Должно быть, решили укрыться в копне. Очень хорошо! Теперь он их наверняка нагонит.
Линднер немного сбавил шаг. Дождь все равно уже промочил его до нитки.
Обойдя копну, он увидел Альберта и Другу. Они зарылись в солому. Оба были бледны и дрожали.
— Брр! — отряхнулся учитель, улыбнувшись. — Если я после такого полива не подрасту — всю жизнь мне в карликах ходить!
Альберт и Друга молча смотрели на него. Учитель Линднер поспешил тоже зарыться в солому между ними.
— Костюм пропал, — безучастно заметил Друга.
— Его давно пора выбросить! — сказал учитель. — Но, может, я его и отутюжу.
На этом разговор оборвался. Дождь шуршал по соломе и барабанил по земле.
— Только бы хлеба не полегли! — вновь заговорил учитель.
— Если вы думаете, — вдруг гневно и с болью выпалил Альберт, — будто мы хотели, чтобы случилось несчастье, то вы здорово ошибаетесь!
— Я уверен, что вы не хотели этого! — спокойно ответил учитель. — Никто этого не хотел! Я это прекрасно знаю. — Он поглубже зарылся в солому. У теплого влажного воздуха был какой-то особый привкус, словно смешали весну и лето. — Но то, что вы сделали, — дурная выходка, очень дурная!
Альберт вскочил и крикнул:
— Можете посадить нас в тюрьму! Мы не испугаемся! Я вам скажу, почему мы это устроили. Потому что мы не согласны с вашим коммунизмом! Вот почему! — Он пнул камень ногой.
— Вот оно что!.. — сказал учитель. — Тогда, значит, надо нам поговорить по душам. Может быть, мне удастся вам помочь. Иди садись, Альберт.
Мягкое спокойствие, с каким были сказаны эти слова, сбило Альберта с толку. Он обалдело смотрел на учителя. Затем, сев, сказал:
— Нечего нам вообще разговаривать. Все, что вы скажете, я наперед знаю.
Но учитель Линднер умел ждать.
— Вы вот всё говорите — справедливость есть! — сказал Друга. — А это неверно. Возьмите хотя бы эти излишки или границу по Одеру — Нейсе. — В задумчивости он грыз соломинку и порой смешно морщил нос.
— Хорошо, что вы над этим задумываетесь, — заметил учитель Линднер. — Надо бы вам давно ко мне прийти.
— А мы и так знаем, что вы ответите.
— Может быть, вы и ошибаетесь. — Учитель потер себе лоб и надолго задумался. Порыв ветра донес из лесу запахи смолы и хвои. — Вы правы, это дело с сельскохозяйственными излишками не всегда справедливо. Но на это надо взглянуть и с другой стороны. Когда кончилась война, у очень многих людей не было своей кровати, да и есть было нечего. Кто же мог нам помочь? У нас был только один путь: мы сами себе должны были помогать. Но люди потеряли интерес к работе. Да и какой смысл начинать все сначала? Кругом одни развалины, каждый разочарован в жизни по-своему. Но ведь с чего-то надо было начинать! И ясно, что начинать надо было с работы. Но кто работает, должен есть. Крестьянам определили норму обязательных поставок. При этом точно высчитали, сколько они могли сдать и сколько у них оставалось для личного потребления. Много они при этом не могли зарабатывать. Но с какой стати они должны жить лучше, чем рабочие в городе? Работа везде нелегкая. Конечно, стоимость труда большая, чем за него платят. Но ведь и восстановление разрушенного хозяйства стоит немалых денег. Полученная прибыль и покрывает эти расходы. А когда новые заводы начнут выдавать продукцию, заработают машины, они принесут гораздо больше прибыли, чем в них было когда-то вложено. А в результате понизятся цены и в магазинах будет больше товаров.
И сейчас, например, уже есть люди, которые работают больше, чем работают в среднем все остальные. Ясно, что они должны и получать больше денег. Ну, а теперь мы подошли и к интересующему вас пункту. Они получают больше денег, но купить на них они ничего не могут. Ведь в магазинах всё выдают по карточкам. Как быть? Повысить нормы поставок для крестьян? Нет, этого нельзя. Ведь уже подсчитано, сколько каждый в состоянии сдать. Разве что они добровольно произведут больше продуктов? Но это возможно только благодаря дополнительному труду, изобретательству и так далее. Так же, как промышленные рабочие, они за этот свой большой труд получат больше денег.
Теперь рабочий в городе может купить себе больше продовольственных товаров, а крестьянин таким образом получит дополнительные промышленные товары. Благодаря этому и рабочий и крестьянин производят больше и вся жизнь становится немного лучше…
Учитель Линднер прервал свою речь. Где-то вдали еще погромыхивал гром. Дождь уже только накрапывал.
— Ну, а теперь о несправедливости в связи с этим. Вы оба не совсем правы, когда говорите, будто при этом наживаются одни крупные хозяева, кулаки. Нет, и мелкие хозяйства крепнут. Скажем, у кулака три свиноматки, может быть, больше, а у мелкого крестьянина только одна. Если она у него при опоросе околеет, он пропал. Пока еще он заведет себе новую свиноматку! Да и поросят он бутылочкой да соской всех не вытянет. Ему и норму-то свою выполнить трудно, не говоря уже об излишках. Ну, а если у крупного хозяина подохнет одна свиноматка, у него ведь останутся еще две, и, может быть, они-то ему и выкормят поросят от подохшей. Вы, конечно, скажете: эти свиноматки сожрут чужих поросят. Но это бывает по-разному, и на худой конец он ведь тоже может вырастить их при помощи бутылочки. Таким образом кулаку не приходится ждать, пока у него подрастет новая свиноматка. Он продолжает работать с прибылью. Оставшийся у него домашний скот помогает ему оправиться после такой потери.
Конечно, мелкий земледелец не виноват в том, что у него сдохла свинья, и поэтому нам представляется несправедливым, что из-за этой потери он не будет иметь излишков и ничего не выручит благодаря продаже их. Как же быть? Принципиально отказаться от свободной продажи излишков? Нет, от этого мы все были бы в проигрыше. Да и вообще причина несправедливости кроется совсем в другом — виновата в этом разность имущества крестьян. Как вообще появились богатые и бедные? Не родились же люди такими? Нет, разумеется. Да вы же сами прекрасно знаете, как это бывает, когда один крестьянин богатеет за счет другого. Не все, конечно, кое-кому и просто повезло, он прилежно трудился. Но это не правило, а исключение. Ты вот скажи, Альберт, чем вам приходится расплачиваться за молотилку во время уборки? Своим трудом, верно? Вы отрабатываете свой долг, и владелец молотилки наживается на вас…
Умолкнув, учитель Линднер долго смотрел на землю, как будто дождь напечатал на ней для наглядности его слова. С соломы скатывались жемчужные капли воды и падали ему на голову. Вдруг ему показалось, что он должен чего-то стыдиться. Часа не прошло, как они похоронили Ганса, и чем же он теперь занят? Произносит речи о сельскохозяйственных излишках, о политике. Может быть, это дурно? Нет, Ганса к жизни уже не вернуть. А вот ребята, сидящие рядом, они живы. И будут жить и сегодня и завтра. Должны же они наконец выбраться на правильный путь! И ради этого нельзя терять ни минуты времени, будь это даже сразу после похорон.
— Да, вот так примерно! — произнес он наконец. — Я уверен, что настанет время, когда не будет различия в собственности и все будет принадлежать всем. Тогда исчезнет и несправедливость со свободной продажей излишков. Но на все это нужно время, а людям надо есть каждый день. Существуют и другие противоречия и трудности, иначе и не может быть.
Оба мстителя изображали на своих лицах равнодушие. Другого оружия у них не осталось. Но слушали они внимательно, не пропустив ни словечка.
Друга думал о Гансе. Но воспоминания его были не отчетливыми, а такими, будто прошло уже много-много лет с тех пор, как он видел Ганса. Почему это? Они же были друзьями, кровными братьями? Пожалуй, на дружбу это и не было похоже, признался себе Друга. Дружба — это когда так, как у него с Альбертом. Но как же тогда все остальные ребята из Тайного Союза? Ну хорошо, держались-то они вместе, но это только для окружающих. А в самом Союзе все выглядело по-иному. Мстители ссорились без конца, дрались, и, по правде говоря, каждый шел своим путем. Если и помогали кому-нибудь, то только ради того, чтобы и он им помогал…
Альберт сидел и лепил в руках комок намокшей земли. Он уже понял — Тайный Союз перестал существовать. Недаром сразу же после похорон все остальные мстители не пошли за ними прямо через пашню. Да, они были сыты по горло: все равно ведь ничего не изменилось, а если и изменилось, то только в худшую сторону, как, например, это было с Гансом. Альберту было очень плохо, так плохо, что он мог бы и разреветься. Ведь он твердо верил, что они добьются своего. А теперь с ним один Друга. Нет, они слишком слабы. Это уже полное поражение… Но как ни горько было ему от этого поражения, Альберт хорошо запомнил все, о чем только что говорил учитель. «Вранье!» — уговаривал он себя, но теперь он уже не был так уверен в этом. Раньше он просто взрывался, когда учитель объяснял ему какое-нибудь общественно-политическое событие. Теперь же у него не осталось никаких доводов, которые подкрепили бы его уверенность. Осталась одна уязвленная гордость, заставлявшая его убеждать самого себя и притворяться.
Ветер ослабел. Торжествуя победу над ним, дождь громко забарабанил по земле.
Вот уже несколько минут, как учитель Линднер ничего не говорил. Он сидел и смотрел куда-то вперед.
— Да, вот еще граница по Одеру — Нейсе! — произнес он теперь, все еще мысленно находясь где-то далеко. — Правильная ли это граница? Хорошая ли? И главное, для кого она хороша? Для кого правильна? Каждому человеку тяжело, когда он вынужден расстаться с местами, где он родился и вырос. Это всякому ясно. Со всем связаны какие-нибудь воспоминания — и с подгнившим забором, и с полуразвалившейся стеной, и с тропинкой через луга, где пахнет болотцем, и с лесами вместе со всей их живностью. Даже дождик дома, даже грусть дома легче переносить, чем на чужбине. Таков уж человек. Да, чувство родины благородно… И все-таки…
Учитель снова умолк, глубоко задумавшись. На лице Альберта сразу же появилось победоносное выражение. С вызовом он сказал:
— Ну так что же? Что «все-таки»?
Учитель вздрогнул от этих слов, посмотрел на него и улыбнулся.
— Да… Почему же эта граница все-таки хорошая граница? На это есть много веских причин. Но для нас одна важнее всех остальных. Я хотел бы это пояснить вам одной историей. Не бойтесь, она не длинная, да и не история это вовсе. Это быль — то, что произошло со мной самим.
Это было шесть лет назад. Я служил тогда в штрафной роте рядовым. Мне предстояло впервые участвовать в бою — ночном бою. Но пока что был еще полдень. До передовой далеко. Мы уже многие часы тряслись на грузовике по польской территории, редко когда встречая людей. Может быть, это они нас избегали, а может, их и просто не было. Меня знобило. Казалось, все страна оледенела при виде нас, и даже когда воздух был прозрачным, пахло пожарищами.
Ехало нас всего одиннадцать человек, но не все такие молодые ребята, как я. Но к чему я это? Каждый из нас был, так сказать, сам по себе. Никто ничего не говорил. Может быть, это и всегда так бывает, когда неуверен, доживешь ли до завтрашнего дня? Штрафник — это ведь смертник. Есть над чем подумать перед боем, вот и молчишь. Что ты сделал неправильного в жизни? Что правильно? Кто останется после тебя? И что будет, если ты все-таки выживешь? Так примерно думал каждый из нас. Товарищ, сидевший рядом со мной, был единственным человеком, с которым я обмолвился несколькими фразами. Он был раза в два старше меня.
Неожиданно он произнес:
«Я был в Варшаве», — и пристально посмотрел на меня.
Я не ответил, так и не поняв, к чему это он.
«А вообще-то ты знаешь, что такое Варшава?» — спросил он затем.
«Странный какой-то, — подумал я и, ухмыляясь, тянул с ответом. За кого он, собственно, меня принимает? Если хочет меня взять на пушку, лучше бы сразу спросил, знаю ли я такую столицу — Берлин».
«Ухмыляешься? — проговорил он теперь. — Ухмыляйся, в каком бы дерьме мы ни сидели! Все лучше, чем если бы ты начал плести о том, что Варшава — столица Польши, что там хорошенькие девчонки, широкие улицы и что на скверах можно рвать цветы. — Он засмеялся, и смех его был нерадостен. Так смеется обманутый человек, которому всучили непокрытый вексель. — Нет, дорогой мой, — продолжал он. — Это все не Варшава. Варшава — это выжженная земля. Варшава — это горы пепла. А была она когда-то городом с миллионным населением. Бог ты мой! Варшава плачет, она рыдает от боли, хотя жителей там и нет. Можешь поверить мне — сам своими глазами видел. Такое уж не назовешь войной. Это какое-то бешеное безумство. Улицу за улицей взрывают динамитом, жгут огнеметами, бензином!..»
«Не ори ты так громко!» — предупредил я.
Пристально взглянув на меня, он замолчал на минуту.
«А ты ведь прав! Лучше всего самому себе приказать: проглоти, друг, не первая это пилюля, которую тебе приходится глотать! Неважно, что она горькая. Только бы помог этот крысиный яд!» Он плюнул навстречу ветру.
«Ужасно!» — только и сказал я.
Он же, покачав головой, ответил:
«Болтовня! «Ужасно» — не то слово. Будто у тебя почву вырвали из-под ног и ты провалился в бездну. Ты получил приказ разрушить целый город, и вдруг ты больше не можешь». Он умолк, поджав губы, словно и так уже сказал слишком много.
Подумав, я наконец спросил:
«За что ты в штрафники попал?»
«Я полюбил Варшаву», — ответил он.
«А сам взрывал ее», — заметил я.
«Да, взрывал, но потом больше не мог. А то они б меня к вам сюда не сунули. Я видел, как Варшава давала отпор. Горстка людей сражалась за город. Ты думаешь, в этом не было никакого смысла? Нет, дружок, в этом был великий смысл — это был настоящий героизм! Мне стало стыдно перед ними, с этого и началось. Но это еще далеко не все. Я понял, что Варшаву защищали не просто люди, что тут сражалась сама любовь, понимаешь? Любовь к жизни, к этому городу!..»
Он отвернулся и стал смотреть на полотно шоссе, убегавшее от нас.
Прошли часы, небо начало темнеть, когда мы наконец остановились. Посреди деревни. Деревню эту, конечно, уже нельзя было назвать деревней. Деревня — ведь это люди, скот, дома, риги… Здесь же ничего этого не было. Обгоревшие остатки стен, разбитая тарелка на земле… Ветер гоняет перья из разорванной подушки.
Я ничего не мог понять: почему здесь все разрушено. Боев вроде не было. На земле ни воронки, ни следов гусениц от танков — ничего. Но, может быть, фронт все-таки… Я спросил товарища, с которым мы говорили по дороге. Он ответил:
«Какой там фронт! Партизанская деревня. Больше ничего!»
Он сказал это таким тоном, что я сразу понял: «Чего ты, собственно, ждешь в этой стране от немцев? Героических поступков?» Затем сразу же и ответ: «Нет, дружок. Здесь бойня. Здесь жгут и взрывают. Можешь уж мне поверить!»
Наш унтер приказал нам осмотреться — нет ли где поблизости немецких солдат. И мы отправились, словно завороженные жутким молчанием, затаившимся во всех углах.
Деревня, или то, что называлось ею, растянулась вдоль шоссе. Мы нигде не могли обнаружить и следов жизни.
И вдруг — мы уже хотели повернуть — услышали какой-то хриплый вой.
«Собака! — воскликнул мой товарищ. — Видишь, где она?»
Но я ничего не видел. В следующую же минуту мы убедились, что увидеть ее было невозможно. Она выла за дверью. Дверь была завалена бревнами. А вела она в маленькое кирпичное здание без окон, случайно оставшееся неразрушенным. Баня или прачечная, должно быть… Покуда мой товарищ подстраховывал меня, стоя в сторонке с автоматом, я отвалил бревна от двери. Работа оказалась нелегкой. Я взмок. Но вот наконец я откатил последнее бревно, и дверь тут же подалась.
Внутри — кромешная тьма. Сначала ничто там не шевелилось. Но вдруг на пороге показалась собака. Это был скелет, обтянутый кожей. Морда выглядела еще живой, но глаза уже закатились, как у мертвой. Она стояла пошатываясь. Я не мог понять, как в таком теле еще могла биться жизнь. Собака снова завыла и вдруг бросилась бежать — прямо, прямо через деревню. Вой ее нарастал, как вой сирены, и неожиданно оборвался. Примерно метрах в двухстах от нас собака упала и так и осталась лежать бездыханной.
«Сдохла», — сказал мой товарищ и вытер пот со лба.
«Да, взбесилась. По-настоящему взбесилась».
Он кивнул. Смерть несчастного пса произвела на нас обоих гнетущее впечатление.
«Давай зайдем, — предложил товарищ. — Здесь что-то не так. Ради собаки никто не станет заваливать дверь бревнами».
Навстречу нам пахнуло сыростью. К этому примешивалась вонь, от которой с души воротило. Внезапно мы оба отпрянули. В свете карманного фонаря нам представилось ужасающее зрелище. Дети. Восемь или десять детей. И все мертвые. Среди них не было никого, кто дожил бы до двенадцати лет. Правда, лица их выглядели старше. Кругом стояла тишина. Фонарь погас. Это мой товарищ погасил его. Но мы не могли сдвинуться с места. Как будто мертвые дети приковали нас к месту, крича: «Запомните, что вы увидели здесь! Не забывайте! Никогда не забывайте!!!»
«С голоду умерли! — тихо произнес мой товарищ. — Они заставили их умереть с голоду».
Голос его звучал сдавленно, и я понял — он плачет.
Мне стало дурно. Я вышел и сел на первый попавшийся камень. Теперь показался и мой спутник. Глаза его горели огнем.
«Ты понял или нет? — спросил он. — Собака!»
Я смотрел на него.
«Они нарочно заперли ее с ними, чтобы она сожрала ребят. Ей-то тоже есть было нечего. А она не тронула их. Нет, не тронула! Она взбесилась от голода, от ужаса, охватившего ее. Но не тронула детей. Что же это за бестия придумала такое?»
«Немцы!» — сказал я. И слово это было лишним, но я произнес его потому, что сам был немцем, потому что мне было стыдно…
«Да, немцы! — сказал мой товарищ. — И все же тебе не должно быть стыдно за то, что ты тоже немец. Не все немцы такие. К счастью, есть и другие. Но все это будет записано на наш счет, все, все! Это ведь наша война, мы ее ведем…»
«Недолго осталось. Мне во всяком случае», — ответил я, выдав свои самые сокровенные мысли.
Он опять пристально взглянул на меня и отвернулся. Немного позднее он снова заговорил.
«Идет! Ты тот, кого мне надо. И я с тобой! При первой же возможности мы повернем автоматы, дружок ты мой! И тогда все увидят, как мы умеем драться».
Мы поднялись. На обратном пути мы почти не разговаривали. Только в одном месте, когда шагали через ржаное поле, мы снова разговорились. Белесые стебли казались усталыми. Колоски были пусты, без зерен: выпали или их выклевали птицы. Земледельцев ведь здесь не было — урожай и погибал. Лето кончалось. Небо над нами было тоже усталым, и от этого на душе становилось особенно горько.
«Разве это можно поправить?» — невольно произнес я, должно быть глубоко задумавшись.
Мой спутник сказал:
«Деревни, города — может быть. А вот убитых? Разве их вернешь? Нет, друг мой, извлеки из всего этого урок и, покуда жив, помни о нем. И это будет много, даже очень много, если ты это сумеешь».
Мы зашагали быстрей, времени у нас оставалось в обрез.
Окончив свой рассказ, учитель Линднер вытер мокрое от дождя лицо. Ребята, сидевшие рядом, притихли. Они даже избегали смотреть на него.
Постепенно молчание стало угнетать. Учитель выпрямился и заговорил снова:
— На чем это я остановился? Ах да, граница по Одеру и Нейсе, какая она…
Альберт встал.
— Ладно уж, — сказал он.
— «Ладно»? Вы же хотели знать…
Обратившись к Друге, Альберт прервал его:
— Всегда-то он думает, что мы дураки!
Прозвучать это должно было злорадно, но Альберт был плохим актером и не сумел скрыть своей взволнованности. Должно быть, с ним происходило что-то хорошее.
Тот, кто умеет смотреть вглубь, никогда не утратит надежды. А учитель Линднер умел это, и он не проронил больше ни слова.
Глава одиннадцатая НЕ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК
Главная грунтовая дорога через бецовские поля была вконец разбита, прямо хоть скачки с препятствиями устраивай! Сплошные выбоины, непросыхающие ямы. Что же тут удивительного, если то и дело ломались колеса телег, а то и оси. В самую страду нередко опрокидывались фуры, доверху груженные снопами или сеном.
Окружной совет выделил Бецову немного денег на починку этой дороги. Но их хватило только на закупку шлака. Работать должны были сами жители. Но все они были заняты на сенокосе. Кто же виноват, что шлак подвезли в самый разгар лета. Опять какой-то бюрократ в округе постарался! Но разве бранью дело поправишь? Надо браться за работу, и чем скорей, тем лучше. Оставишь шлак в кучах лежать до зимы — его затопчут в грязь, развеет ветер.
Шульце-старший придумал выход. Он предложил: пусть каждый хозяин внесет немного денег в школьную кассу, а школьники займутся ремонтом дороги. Так и поступили. Уже больше недели ученики с энтузиазмом трудились на дороге. Правда, большинству из них приходилось помогать родителям в поле, но ведь и после того как подоят коров, можно урвать часок для себя и сбегать поработать с ребятами на дороге. А уроки? День летом длинный — хватит времени и на уроки.
Калле, поднимая пыль, шагал рядом с маленьким Вейделем по обочине и подгонял нескольких замешкавшихся учеников:
— Эй вы, мешки с трухой! Поживей давайте! А то я из вас душу вытрясу!..
— Ты смотри, как бы мы из тебя самого душу не вытрясли! — пригрозил ему один из парней и приблизился на опасное расстояние.
— Ах, вот оно что! — поспешил Калле перейти к обороне. — Вы, оказывается, живые люди! На вид этого никак не скажешь, — и отскочил в сторону, иначе горсть шлака угодила бы прямо в него. Они тут же вместе с маленьким Вейделем пустились наутек.
— Все равно вы мешки с трухой! Все равно! — кричал маленький Вейдель, оглядываясь на бегу.
Словно кролики, скакали они через канавы, которыми был изрезан луг. По пятам за ними — преследователи. В конце концов Калле все же угодил в одну из канав.
Послышался злорадный смех. Калле с арьергардом в лице маленького Вейделя медленно побрел восвояси. Должно быть, между обоими беглецами начало завязываться что-то похожее на дружбу.
Весь вечер на дороге не утихал веселый ребячий смех. Птицы, устав за день петь, убрались на ночь, зато кузнечики и цикады тоже очень весело трещали. Каникулы, а с ними и пионерский поход с каждым днем приближались. Воображение учеников лихорадочно работало. Казалось, не существовало большего счастья, чем право участвовать в этом походе, и чем больше они заработают денег, чем лучше они будут работать, тем веселее пройдет и поход. Ребята заработали почти все деньги на велосипеды, и учитель Линднер узнал, где можно будет их приобрести. Он объездил весь округ, писал письма, но теперь наконец-то добился своего. Через две недели ребята отправятся за велосипедами.
Альберт и Друга держались в стороне, и, несмотря на все усилия, учителю не удавалось установить с ними контакт. Работали они спустя рукава, и не проходило дня, чтобы не покинули строительства раньше всех. Разговаривали они мало, а когда кто-нибудь пытался прийти им на помощь, они просто садились на землю. Это был явный протест, и все это так воспринимали. Только Родику они терпели. Она трудилась рядом с ними — разравнивала шлак, перед тем как ребята его укатывали и утрамбовывали. Может быть, это само время примирило их? Сначала Альберт из-за чего-то накричал на Родику, потом спросил, что задали на дом, и в конце концов они уже, оказывается, разговаривали. Не то чтобы они говорили друг с другом по душам — настоящего доверия не было, но они хотя бы делали вид, что между ними ничего не произошло.
Порой, когда Друга и Альберт отдыхали, вид у них бывал сердитый: да, они недовольны, но не только вообще, они недовольны и самими собой. На их лицах можно было прочесть примерно следующее: «Не воображайте, будто мы так и рвемся в поход, раз вы уж так уверены, что мы убийцы. И если мы сейчас помогаем вам, то только потому, что не хотим вам портить игру. Но вся эта волынка здесь никакого удовольствия нам не доставляет!»
Правда, они никому не позволяли работать за себя, но и перевыполнять норму не перевыполняли, — это они предоставляли другим.
Учитель Линднер ломал себе голову: что с Другой и Альбертом? Может быть, всему наперекор они хотят доказать: Тайный Союз мстителей существует? Но нет. На самом-то деле Альберт только притворялся. Он давно уже понял: учитель Линднер и все те, кто с ним, борются за подлинную справедливость. Но сердце — сердце его не хотело признать себя побежденным. Мальчишеское сердце может быть таким сильным, что в состоянии заковать в цепи целый мир или же разорвать цепи, в которые закован этот мир. Дело в том, что ребятам с сильным характером особенно трудно дается шаг от сознания к признанию, ибо для этого им надо победить самих себя. В день похорон Ганса Альберт осознал, что учитель был прав. Но разве он мог пойти к Линднеру и сказать: «Я ошибся, вы оказались правы. Вот как оно!» Нет, этого он, конечно, не мог, и потому он теперь разыгрывал из себя упрямца, который в крайнем случае позволит попросить у себя прощения…
А Друга имел свои основания, чтобы быть недовольным. Ему переход на сторону учителя дался бы не так тяжело, как Альберту. Общий интерес Други и учителя к литературе, поэзии давно уже превратился в нечто большее. Друга с помощью Линднера научился думать по-иному, думать более правильно. Только с Альбертом ему нельзя было об этом говорить. Стоило ему заикнуться, как Альберт сразу же взрывался: «Пожалуйста, ступай к нему, ступай к синим, если я тебе больше не нравлюсь! Сам должен разбираться, на чьей ты стороне».
Постепенно между ними возникло отчуждение. Хотя Друга и догадывался о том, что происходило с Альбертом, он все же был зол на него. Если они и дальше будут плыть против течения, то очень скоро все станут смеяться над ними. Друга боялся этого, но оставить Альберта одного он тоже не мог. И это не было признаком трусости, желанием оттянуть окончательное решение. Друга поступал так из чувства товарищества.
Больше всего забот доставлял Альберт своей сестре Родике. Хотя она и стыдилась своего «героического» прошлого, но перед другими всегда была готова защищать брата. Она верила в Альберта, была привязана к нему и очень боялась, как бы все остальные ученики и учитель Линднер не махнули на Альберта рукой, если он и дальше будет так упрямиться. Она хотела доказать им, что он уже очень изменился. Но как? Как это сделать? В конце концов она все же придумала. Тайком, никому не сказав ни слова, она пробралась в «Цитадель» и притащила оттуда один из захваченных когда-то мстителями пионерских галстуков. Однажды вечером она взяла да явилась с повязанным синим галстуком на участок дороги, где работали все ребята. Это произошло три дня назад. Первым на Родику обратил тогда внимание учитель Линднер.
— Пожалуйста, не говорите Альберту, что меня еще не принимали в пионеры, — предупредила его Родика.
Учитель рассмеялся.
— Вот как! Но тебя примут, Родика. Как только ты захочешь вступить в пионеры, тебя непременно примут!
— Да нет, я и не хочу! — пролепетала она. — Нет, правда, мне еще надо обдумать все как следует.
Не могла же Родика сказать учителю, что, если она сейчас вступит в пионерскую организацию, это будет предательством по отношению к Альберту. Она же хотела вместе с ним вступить в пионеры. В конце концов ведь они брат и сестра! Но сейчас ей необходимо обмануть брата, и если Альберт смирится с синим галстуком на сестре, это будет означать половину победы. Во всяком случае, остальные ребята немало подивятся, что Альберт позволяет Родике носить галстук. Пусть никто не думает, что он такой плохой.
Должно быть, учитель понял ее с первых же слов или сделал вид, что понял.
— Хорошо, бегай с галстуком, сколько тебе заблагорассудится, и подумай о том, когда ты вступишь в пионеры, — сказал он, подмигнув Родике.
Она подошла к Альберту и Друге, взяла лопату и тут же как ни в чем не бывало принялась за работу. Когда несколько минут спустя она подняла голову, то заметила, что ее брат и Друга не работают. Альберт, прищурив глаза, вцепился о трамбовку… Ничуть не смутившись, Родика выдержала его взгляд и даже улыбнулась. Но стоило ей это немалого…
Прошло немного времени, Альберт отвернулся и с силой, удвоенной гневом, обрушил трамбовку на землю. Нет, ссоры с сестрой он сейчас не мог себе позволить! Родика нужна ему, нужна больше, чем когда-либо.
Друга встретился глазами с Родикой. И оба одновременно принялись вытирать пот со лба.
До позднего вечера Альберт так и не проронил ни слова, а на следующий день, казалось, гнев его совсем улетучился. Во всяком случае, он делал вид, что не замечает галстука на Родике.
Огромный огненный шар опустился за небольшим леском, стоявшим, словно гость, посреди раскинувшихся кругом полей и лугов. Стволы деревьев как бы разрезали шар на части, и казалось, в лесочке занялся пожар. Невольно люди прислушивались, не доносится ли оттуда столь характерное потрескивание…
По отремонтированному участку дороги шли ребята, окончившие работу. Они славно потрудились и теперь шагали домой. Трудящийся человек всегда твердо ступает по земле — он властелин ее! Ребята лишь изредка перебрасывались шутками. Но, поглядев на их лица, можно было сказать: они довольны.
Друга и Альберт сделали вид, будто не заметили, что все уже уходят. Они работали мрачно, не поднимая головы. Но и здесь Родика помогла: она улыбалась за троих, приветствуя проходящих ребят, и как бы давала им понять: с этими двумя еще придется повозиться.
Последними шагали бывшие мстители. Вместе с ними шли Сынок и Руди, его брат Клаус, Вольфганг, а также Шульце-младший.
Это была целая бригада, и, должно быть, уже неплохо сработавшаяся. Около Альберта и Други они остановились и некоторое время наблюдали за их работой.
Сынок сказал:
— Ей-богу, мы кретины! Выстроились тут, как бараны, вместо того чтобы взять да помочь.
Он тут же схватил заступ и принялся перекидывать шлак. Остальные нерешительно последовали его примеру. Им явно не хотелось давать Альберту повод для ссоры. Шлак так и летел, рассыпаясь по полотну. Вот-вот он угодит в Альберта. Пришлось остановиться. Альберт стоял, подавшись вперед, как всегда, когда злился, и не отступал ни на шаг. Его темные глаза так и сверкали, лицо казалось высеченным из камня, черные волосы развевались по ветру.
— Мотайте отсюда! — процедил он сквозь зубы и стал медленно приближаться.
Звякнула лопата, упавшая на песок. Ребята стояли, сжав кулаки. Что ж, они готовы примять бой, раз уж этого так хочет Альберт.
Друга подумал: «Начнись сейчас потасовка — беды не миновать». Буря, разразившаяся в груди Альберта, угрожала теперь ему самому. До сегодняшнего дня никто и словом не упомянул о том, что Союз мстителей уже не существует. А теперь это хотели доказать кулаками. Если это произойдет, путь к примирению и для Альберта, и для Други будет окончательно отрезан.
Постепенно круг, в центре которого стоял Альберт, замкнулся. Альберт, сжав кулаки, приподнял руки.
— Проваливайте, балбесы! — закричал Друга.
Он протиснулся между ребятами, и ему наверняка досталось бы, не окажись с ним рядом Родики. Вместе они развели противников.
Какой-то миг все пребывали в нерешительности, потом Руди взял свою лопату, отвернулся и сказал:
— Пошли! — И еще раз: — Пошли, чего вы?
Альберт все еще стоял, держа кулаки наготове. Лицо бледное-бледное. И вдруг стало казаться, что он вот-вот заплачет. Но это только показалось.
Немного погодя он снова взялся за работу. Трамбовка в его руках поднималась и опускалась все быстрее и быстрее. Альберт трудился с таким ожесточением, будто дело шло о жизни и смерти. Друга и Родика не отставали от него.
Уже позднее, по пути домой, Альберт сказал:
— Что ни говори, а одно ясно: с нашим Союзом теперь покончено!
Никто ему не ответил, правда никто не знал, как это понимать: к добру или не к добру. Да и сам Альберт не знал этого.
Учитель Линднер обогнал их на велосипеде. Он задержался, намечая задание по ремонту на следующий день.
— До завтра! — крикнул он им, не останавливаясь.
— Ты уйди лучше! — бросил Альберт Родике, когда они дошли до дороги, соединяющей Штрезово с Бецовскими выселками. Она удивленно взглянула на него. Он ответил только усталым движением руки. — Ну, чего ты? Уматывай!
Закинув голову назад, Родика ушла, даже не подумав возражать.
Друга присел на камень и принялся рисовать большим пальцем ноги на песке.
— Что с тобой? — спросил он немного погодя Альберта.
— Ничего, — послышался ответ. — Надо нам кое в чем с тобой разобраться.
Друга поднял голову. Он устал за день.
— Мне еще на работу идти, — сказал Альберт. — Ты же знаешь, из-за Длинного.
— Куда?
— На мельницу.
— Когда?
— Сейчас. Я им сказал, в девять придем.
Друга подмигнул.
— По правде сказать, мне жрать охота.
— Ясно, что охота, — ответил Альберт. Было заметно, что настроение его резко улучшилось.
— А морква зачем тут рядом растет?
Тут же они, перепрыгнув через кювет, принялись дергать морковь. Вытерев морковь о траву, они запихнули ее себе за пазуху и всю дорогу до самой мельницы отплевывались и чавкали с превеликим наслаждением.
— Работать буду, пока с ног не свалюсь! — проговорил Альберт.
Друга кивнул:
— И я!
Обняв его за плечи, Альберт сказал:
— Увидишь, как Длинный обрадуется, когда мы ему что-нибудь хорошее принесем.
— Еще как обрадуется! — ответил Друга. — А я… — Он тут же прикусил язык и покраснел.
— Что — ты? — спросил Альберт, который терпеть не мог, когда кто-нибудь, начав говорить, не договаривал.
— Да так просто, — ответил Друга. — Может, и ерунда. Я хотел сказать, что я мог бы написать стихотворение, в котором мы оба пожелали бы ему, чтобы он поскорей выздоровел. — Он как-то неуверенно взглянул на Альберта и замолчал.
Однако Альберт не рассмеялся, и выражение лица его не было насмешливым.
— Вообще-то это мало чем поможет, но я понимаю — ты это по доброте своей, — заметил он после некоторого молчания. — Длинный — парень что надо, но в искусстве он ни бум-бум.
— Ладно, — согласился Друга.
Неожиданно Альберт заговорил быстро, с какою-то страстью, даже страхом, но в то же время и надеждой.
— Хотел бы я увидеть того, кто больше заботится о Длинном, чем мы.
Друга внимательно посмотрел на него. Он уже знал: Альберт очень тревожится, как бы кто-нибудь не опередил его в ухаживании за больным товарищем.
— Мы лучше их — и всё! — сказал Друга. — Пусть кто-нибудь попробует заработать столько денег, сколько мы уже заработали и еще заработаем.
И это была правда. Тайком они уже два раза навещали Длинного в больнице и отнесли ему конфеты, которые купили в коммерческом магазине в Бирнбауме. И даже цветы преподнесли ему, не забыли. Об этом подумал Друга. Деньги на все эти расходы они честно заработали.
По воскресеньям они бегали на станцию в Бирнбаум и разгружали вагоны с углем и удобрениями…
Вся мельница пела — столько в ней работало электрических машин. Мучная пыль плясала в воздухе. Неописуемая жара заставляла людей обливаться потом. Рабочие все чаще поглядывали на часы — смена кончалась.
Лысый человек, похожий на откормленного кабана, вылез из проволочной клетки, на которой висела дощечка с надписью: «Грузовой подъемник, перевозка людей строго запрещена». Обнаружив Другу и Альберта, лысый подошел к ним:
— Ну что, молодежь? Пришли муку малость подпортить? — И ухмыльнулся.
— А почему бы и нет? — рассмеявшись, ответил Альберт. — Главное, чтобы нам заплатили.
— А ты за словом в карман не лезешь. Ну что ж, это тоже неплохо. — И он долго гоготал.
— Мы насчет работы! — попытался перекричать его Альберт. — Говорят, в зерновом бункере люди нужны, и в ночную тоже.
— Кто это тебе говорил? — заинтересовался лысый человек. Он долго рассматривал ребят и наконец, пхнув Другу в грудь, сказал: — Работа-то есть, да не для школьников.
— Какие там еще школьники! — возмутился Альберт. — Мы из ремесленного.
Лысый снова заржал, закатывая при этом глаза.
— Ремесленники!.. Никогда я так не смеялся. Ремесленники! — И тут же с хитрецой добавил: — Раз назвались ремесленниками, так докажите.
— Что еще доказывать? — спросил Альберт, теряя терпение.
— Поставь! Дело чести для ремесленника.
— Бутылку пива, не больше. После получки. И только тебе одному, — согласился Альберт.
— Идет! — явно обрадовавшись, ответил лысый. — Вычту потом в конторе.
Все вместе они направились в мельничный двор к зерновому бункеру. Там лысый выдал им лопаты и велел подняться наверх по узенькой деревянной лесенке.
— Чего другие, то и вы делайте, как обезьяны, поняли? — Снова послышалось его ржание, и наконец-то ребята остались одни.
Наверху, под самой крышей, лежали горы зерна, и было невыносимо жарко, словно в печке. С потолка падал слабый свет, но лампочек уже невозможно было разглядеть — они тонули в клубах пыли. В этой пыли двигались какие-то тени. Что-то шуршало. Подойдя ближе, ребята разглядели рабочих, которые лопатами пересыпали зерно к воронке, через которую оно сыпалось вниз.
— Здорово! — крикнул Альберт.
Раздетые до пояса рабочие только кивнули в ответ, не прерывая работы.
— Давай разденемся! — предложил Друга. — Я уже взмок.
Альберт тут же скинул рубашку, взял рубаху Други и отнес обе к стене, где стопой лежали мешки.
Возвращаясь, Альберт вдруг высоко подпрыгнул и закричал. И еще раз закричал. Обычно так вскрикивают, когда наступают на гвоздь.
Ничего не поняв, Друга рассмеялся, да и правда у Альберта при этом был очень смешной вид.
— Чего смеешься, рыло!
— Как — чего? Что это с тобой? — спросил Друга и хотел было подойти к Альберту, но тут же высоко подпрыгнул и, уже не останавливаясь, плясал как одержимый.
Теперь смеялся Альберт. Зерно, как угли, горело под ногами.
— Что же это такое? — спросил Друга, побледнев от страха.
— Свинство, вот что это такое! — серьезно ответил Альберт. — Они насыпали зерно в три метра высотой, а просушить не просушили как следует. Вот оно и горит. Это как с невысушенным сеном.
— А почему же оно впереди не такое горячее?
— И там оно такое же горячее, только снизу, а сверху оно холодное. Здесь, видишь ли, они уже сняли целый слой. — Он взял горсть влажной липкой ржи и понюхал. Зерно дымилось. — Пропащее дело! — со злостью проговорил Альберт. Его крестьянская душа негодовала. — Повесить бы этих собак! Переводят хорошее зерно! Сотни центнеров! А когда хлеба в кооперативе нет, кто виноват — русские!
Друга, набравший лопату зерна, остановился и с любопытством взглянул на Альберта.
— Чего смотришь? Что я насчет русских, что ли? Что справедливо — то справедливо! — И, поплевав на ладони, Альберт вновь взялся за лопату.
В груди Други родилось чувство радости. Он и сам не мог себе объяснить почему. Подумаешь, что такое сказал Альберт! И все же чувство это нарастало с каждой минутой. Друга был счастлив…
Кроме Длинного, в палате лежало еще четверо ребят — и все с переломами костей. У него был самый тяжелый перелом, но Длинный отрицал это с удивительным упорством.
— Ну, знаешь, — возмущался он, — если тут кто и болен, то это ты, а не я!
Ни разу он никому не проговорился, что до сих пор он не может заснуть от боли и что нога у него все еще в гипсе. Иногда его охватывал и страх: а вдруг нога не будет сгибаться и он не сможет больше бегать, как раньше? Это он-то, Длинный, который бегал, как борзая! Нет, это невозможно!
И о чем бы ни заходила речь, он всегда ухитрялся сворачивать именно на эту тему — на то, кто как бегает. Когда же соседи по палате не поддавались, он шел даже на провокацию.
— А ты чего такой жирный, Шнурер? — кричал он через три кровати парню с огромным количеством веснушек. — На тысячу метров я тебя обставлю — на три круга, не меньше!
— Чего проще? — следовал ответ. — Тысяча метров — всего-то два круга.
Раздался громкий смех. И прежде чем строить из себя обиженного, Длинный успевал скорчить не менее трех разных рож.
— Вот дурачье! — говорил он, опускаясь на подушки, и закрывал глаза. Но огорчение его было слишком велико, и некоторое время спустя он тихо произносил: — Захочу, так долго буду тренироваться, пока мировой рекорд не поставлю. Была бы воля — чего хочешь можно добиться!
Голос его дрожал от возбуждения.
Кто-то постучал. Вошел учитель Линднер. Он улыбался, стекла очков так и сверкали.
— Здравствуйте! — обратился он ко всей палате.
Стоило ему переступить порог больницы, как он тотчас же оказывался в превосходном настроении. «Смех — лучшее лекарство!» — любил он говорить.
— Здравствуйте! — обрадовался Длинный. — Знаете, как здесь скучно! Хорошо, хоть навещают иногда. — Он гордо повернул голову в сторону остальных больных.
Он знал — все завидовали, что к нему ходит учитель. Поэтому Длинному иногда бывало даже стыдно за свое прошлое. Учитель Линднер и правда часто навещал его, словно родственник, и ни разу не сказал ничего о мстителях, ни разу не попрекнул его. О Гансе они только однажды заговорили — это было вскоре после похорон. Но Длинный не в силах был представить себе, что Ганса уже нет.
Учитель рассказывал о всяких бецовских делах. Другие больные притворились, что спят. К ним ведь никто не пришел, и от этого им было грустно.
— Смотри-ка! — вдруг воскликнул учитель. — У тебя новые книги! — И он указал на столик. — «Молодая гвардия» и «Синяя птица».
— Да, — протянул Длинный с некоторой досадой по поводу открытия учителя. — Это мои.
— Так я и думал, — заметил учитель с видом опытного сыщика. Он понял, что разговор был неприятен Длинному.
— Подарили, — пояснил тот.
— Это еще хуже! — воскликнул учитель. — Это же подсудное дело! — засмеялся он. — Но шутки в сторону, выбор неплохой. Я бы и сам лучше не выбрал. А кто тебе их подарил?
— Да… кто подарил?.. Старик, кто еще… Приемный отец.
— А он заходил разве?
— Заходил. Вчера… — соврал Длинный, так как у него не оставалось другого выхода. Он ведь обещал Альберту и Друге никому не говорить, что они навещали его, а уж учителю и подавно.
Учитель Линднер долго смотрел на Длинного. Он не верил ему. Да и трудно было представить себе, чтобы приемный отец Длинного, да еще в будни и во время жатвы, отправился в больницу.
— А еще у тебя был кто-нибудь? — спросил учитель.
— Нет, никого не было, — тихо ответил Длинный.
Они переменили тему, но разговор не клеился. Обоим вдруг показалось, что время тянется очень медленно, и вскоре учитель простился. Он был глубоко разочарован. Ему-то казалось, что он уже завоевал доверие Гюнтера.
Встретив в коридоре сестру, он спросил:
— Извините, вы не можете сказать мне, кто навещал в последние дни Гюнтера Борбаса?
Сестра долго рассматривала его своими карими глазами. Учитель Линднер даже немного сконфузился. Сестра была молоденькая и очень красивая.
— Сам он не сказал вам этого? — лукаво спросила она. — Вы, должно быть, его учитель?
— Почему? Разве я похож на учителя?
— Да, немного похожи. — Сестра улыбалась.
— Ну хорошо. Я его учитель. Но сам он мне этого, к сожалению, все равно не скажет.
— Наверное, вы очень строгий! — воскликнула сестра и сделала вид, будто она очень боится учителя. Потом сказала — Так и быть, скажу вам, но дайте честное слово, что не выдадите меня!
— Даю вам честное слово!
— Приходило двое ребят. Уже в третий раз. Один похож на цыгана, а другой высокий, стройный, волосы на лоб свисают. Мне дежурный врач замечание сделал: ребята, мол, ходят сюда, когда им заблагорассудится.
Окна в классе широко распахнуты. И когда кто-нибудь, тарахтя, проезжает мимо, это похоже на веселую песню. Может быть, оттого, что утренний воздух так чист и свеж и земля еще влажна от росы, а на голубом небе сияет золотое солнышко? Птицы заливаются, а одна ласточка даже залетела в класс. День чудесный, и все так и рвутся куда-то вдаль…
Шел урок математики, но ученики мало обращали внимания на то, что делалось у доски. Да и учителю Линднеру никак не удавалось сосредоточиться. Мысли его все вновь возвращались к Альберту и Друге и их подарку. Откуда у них деньги? Неужели они опять занялись воровством? Ну, тогда их непременно отправят в исправительную колонию. Ужасная история с костром и так наделала много шуму. И все же учитель Линднер чувствовал, что подозрения его были недостойны. Он не мог поверить, чтобы ребята сейчас могли совершить что-то дурное. Но как же ему удостовериться? Просто спросить? Нет, это не имело смысла, наверное, у них были какие-то причины, чтобы держать свои визиты в больницу в секрете.
Рассердившись, учитель покачал головой. Подозрение — плохой советчик. Бесспорно Альберт и Друга понимали: оба они виноваты, а это вполне объясняло их приход к Длинному. Но ведь виноваты не одни они. И он должен доказать это им. И сразу же у Линднера возник план, как он это сделает. Сложность заключалась только в том, что его план требовал такого глубокого понимания, такого огромного чувства дружбы у всех, что учитель Линднер заколебался.
Должно быть, он теперь уже в десятый раз снял очки и протер их рукавом. Ребята давно догадались — учитель что-то задумал — и смотрели на него в ожидании.
— Отложите ручки! — вдруг сказал он. — Мне надо с вами поговорить. — Учитель встал и, подойдя к окну, некоторое время смотрел на улицу. Затем он присел за одну из парт, оперся локтем о колено, прижал ладонь к щеке и заговорил: — В такую погоду невольно мечтаешь о каникулах. Я во всяком случае. Мне представляется, как все будет хорошо и красиво, и у меня даже сердце стучит быстрей… Но вот я и забыл, о чем я хотел с вами поговорить. — Учитель прикусил губу и как-то растерянно улыбнулся. — Мне кажется, нам надо бы позаботиться и о Гюнтере, о Длинном. Через неделю-другую его выпишут из больницы, а к тому времени мы как раз соберемся в поход. Ему еще нельзя будет с нами поехать, первое время ему придется ходить на костылях. И потому я не могу радоваться предстоящему походу. Думаю, что и у вас такое же чувство. — Учитель умолк, внимательно следя за выражением лиц. Глаза учеников были широко раскрыты и полны участия. Только Альберт сидел насупившись.
— Так я и думал, — сказал теперь учитель Линднер. — Было бы очень хорошо, если бы мы все вместе приготовили Гюнтеру-Длинному сюрприз. Конечно, ради этого мы должны чем-то поступиться, пожертвовать чем-то. Но ведь у нас у всех здоровые ноги, мы можем бегать и прыгать, где захотим. А потом, мы же должны поступать, как настоящие друзья, — друзья, которых и водой не разольешь. И пусть тогда кто-нибудь придет и скажет нам, будто мы и не знаем, что такое настоящая дружба…
И хотя учитель больше ничего не сказал, ребята глубоко задумались. Нет на свете такого мальчишки, который не рвался бы совершить великий подвиг. Всем им хотелось помочь, но никто не знал как.
— Я уже думал об этом, — снова заговорил учитель Линднер довольно тихо, все еще колеблясь. — У меня, знаете ли, есть друг, советский офицер. И с его помощью мы могли бы кое-что сделать для Длинного. Давайте отправим его отдыхать в Советский Союз, в Крым. Ну как, правда это замечательно?
Радость светилась на лицах ребят и на лице учителя. Подумать только: они, бецовские школьники, посылают своего товарища в Крым! Вот Длинный обрадуется! Да, таких друзей, как они, пусть-ка поищет! Но что им самим-то надо сделать? Чем пожертвовать? Но не все ли равно! Они готовы на любую жертву. Теперь они принялись расспрашивать учителя.
— Мы должны собрать деньги, — ответил тот. — Нам придется оплатить дорогу или, во всяком случае, большую часть дорожных расходов взять на себя.
— Подумаешь! — воскликнул маленький Вейдель. — И оплатим. Тут и думать нечего.
— Нет подумать надо, — мягко сказал учитель. — Мы не миллионеры, и такая поездка стоит немалых денег. Я, во всяком случае, вижу пока только одну возможность.
— Какую?
— Говорите скорей!
— Да говорите же, что нам делать!..
— Хорошо, скажу, — послышался наконец голос учителя, он теперь, уже не переставая, протирал очки рукавом. — Мы отдадим деньги, которые мы собрали на велосипеды, и на каникулы останемся дома.
Самое страшное было сказано.
Шум в классе мгновенно прекратился, наступила полная тишина. По лицам ребят пробежала тень, они опустили глаза.
— Мы ведь и здесь можем хорошо провести каникулы, — как-то нерешительно заметил учитель Линднер. — Будем устраивать экскурсии, на пароходе прокатимся, на это ведь у нас немного денег останется. Да и вообще, все зависит от нас: захотим, так…
Ребята не слушали его, да и сам учитель чувствовал, что произносит какие-то пустые слова. Наконец он замолчал.
С улицы донеслись ругательства, проклятия, топот копыт — должно быть, лошади понесли. Но ни один ученик не повернулся к окну. Надежды и мечты не умирают, не причинив глубокой боли.
Никто не знал, сколько прошло времени, как вдруг послышалось шарканье деревянных туфель.
Кто-то сказал:
— А я сам добровольно возьму и никуда не поеду.
Ребята обернулись медленно, как будто не доверяя своим ушам. Слова эти произнес Шульце-младший. Он стоял у своей парты и даже улыбался, хотя немного неестественно.
— Если уж дружба, так настоящая! А потом — отложить ведь не значит совсем отказаться. Это я насчет похода говорю.
Ребята сидели не шелохнувшись. Но вот поднялся Руди Бетхер. Он тоже стоял около парты, но ни слова не говорил.
Ребята начали вертеть головами: кто же следующий.
Родика! За ней сыновья Рункеля. Потом несколько бывших мстителей — и пошло! Ученики поднимались один за другим. Только парты хлопали.
Учитель Линднер отвернулся: у него слезы набежали на глаза. Точно такую же картину он однажды уже видел. Это было в самом начале, когда он только что приехал в Бецов. Тогда ученики поднимались из-за парт, решив бунтовать против него. Как давно это было! Но не больше, чем полтора года назад. Как это мало! И как это много! И вот сейчас они опять стоят — и ученики и ученицы, впервые поднявшиеся выше самих себя. Они готовы пойти на подвиг. С такими ребятами можно построить новый мир. И ничего для таких ребят не жалко — даже самой жизни!
Радость захлестнула учителя Линднера. Он не мог произнести ни слова. Эта минута вознаградила его за все труды и заботы, сомнения и страхи. Это была прекрасная минута! Да и прекрасная награда!
Ребята стояли единым строем перед ним. Стояли, опустив головы, словно стыдясь того, что они колебались.
Весь класс поднялся со своих мест. Не встал только Альберт. Глаза его горели, волосы нависли на лоб. Лицо было серым и время от времени дергалось.
Учитель вздрогнул. В глазах Альберта он прочитал глубокое отчаяние. Но что же тогда он, Линднер, опять сделал неправильно? Какой опять совершил промах?
По классу пробежал шепоток. Друга потянул Альберта за рукав, но тот гневно отдернул руку. Какой-то миг казалось, что и Друга вот-вот сядет рядом с ним. Но он преодолел свою нерешительность и стоял теперь прямо и гордо. Впервые он с презрением взглянул на Альберта и покачал головой.
Ропот учеников все усиливался. Поведение Альберта возмутило всех.
— Что с тобой, Альберт? — осторожно спросил учитель. — Может быть, ты решил сперва обдумать все как следует? Ничего, это не повредит.
— Нечего мне обдумывать! Не буду я с вами — и все! — Хрипота приглушила его голос. Он выкрикнул эти слова.
Никто не понимал Альберта, никто из учеников, даже Друга. Не понимал его и учитель Линднер.
— Что ж, — произнес наконец учитель, — ты сам знаешь, что тебе делать. К тому же все это добровольно. — Слова его прозвучали очень грустно.
— Да плюньте вы на него! — крикнул Сынок. — Он всегда «против»!
— Заткнись! — заорал теперь Альберт, и все услышали в его голосе боль. — Я тебя сейчас изувечу, ноги-руки переломаю!.. — Альберт вскочил и шаг за шагом стал приближаться к Сынку.
Учитель Линднер удержал его за руку. Альберт резко обернулся, но так и застыл в нерешительности, сжав губы и прищурив глаза.
— Выйди, пожалуйста, из класса! — тихо сказал Линднер. — Успокоишься, тогда приходи! — И он отпустил Альберта.
Альберт громко и часто дышал, губы его шевелились, но он не проронил ни звука. Дверь громко захлопнулась за ним.
Постепенно напряжение слало. Сначала ученики только тихо перешептывались, потом все стали громко ругать Альберта. Ребята презирали его.
Друга был сам не свой. Он осуждал Альберта, он не мог понять его, но и то, что сейчас говорилось о нем, было несправедливо. И это возмущало Другу.
— Слушайте, вы, кретины! — заорал он. — Альберт сделал в десятки раз больше для Длинного, чем все вы, вместе взятые. Каждый вечер мы вкалывали на мельнице, и в зерновом бункере, и в других местах! И все ради Длинного. А вы, вы что для него сделали? Речи-то всякий может произносить! — От злости у Други выступили слезы на глазах.
Неожиданно учитель Линднер подошел к Друге и положил ему руку на плечо.
— Сегодня такой хороший день! — сказал он. — Ступай верни Альберта. Вы же просто… мировые ребята!
Друга смотрел на учителя, ничего не понимая…
Вскинув голову, Альберт несся по деревенской улице. Нет, такого еще никогда с ним не бывало! Он проклинал самого себя. Как ему хотелось при всех во весь голос отказаться от этого похода! Только бы это предложение не исходило от учителя Линднера. Ведь он, Альберт, был больше всех виноват. А ребята добровольно отказались от похода, ради которого он сделал меньше всех. На ремонте дороги он работал спустя рукава. Ни разу даже норму не перевыполнил. И это было противнее всего. Если бы он на дороге работал за двоих, тогда бы он сейчас первым отказался от похода. А теперь? Он меньше всех заработал. Что же получается? Он хуже всех? Поэтому он и заартачился в классе.
От напряжения у него выступили капли пота на лбу, да еще солнце пекло так нещадно! Альберт все бежал и бежал, покуда не очутился перед низенькими воротами родительского дома. Словно вор, крался он через двор, вошел в сарай и оттуда в «Цитадель». С тех пор как они приняли здесь решение взорвать костер мира, Альберт сюда не заходил. А почему, собственно? Может быть, он боялся воспоминаний?
Дверь скрипнула, и сразу где-то в углу зашуршала мышь. Воздух был здесь сырой и затхлый. Солнечные лучи падали сквозь сетку паутины, дрожащей на окошке. Из щели в стене выползла оса и тут же налетела на Альберта. Он отмахнулся, но оса еще долго жужжала около его уха.
Альберт сел на ящик, уронил голову на руки. Время от времени он с презрением сплевывал на пол. Презрение это в равной мере относилось к нему самому, к жужжащей осе и вообще ко всему, что его окружало.
Мало-помалу он размечтался, представляя себе, как он совершает великие подвиги, а Длинный поехал не только в Крым, но и совершил кругосветное путешествие с ним, Альбертом! И все только благодаря ему, Альберту! Но нет, не только благодаря ему, остальные ребята тоже совершили подвиги. Правда, они трудились не совсем так, как он, но когда кто-нибудь отставал, Альберт немедленно приходил ему на помощь. Он вкалывал, не зная усталости, и силы его возрастали с каждым новым делом, какое он совершал.
Дверь в «Цитадель» снова заскрипела. Вошел Друга, немного постоял, глядя на Альберта сверху вниз. Долго Друга искал Альберта, а теперь не знал, о чем с ним говорить. Альберт делал вид, будто он все еще был здесь один.
С каждой минутой таяли благие намерения Други: Альберт не обращал на него никакого внимания. А что, если он и впрямь ошибся в своем товарище? И Альберт правда всегда только «против», против всего, что он не сам придумал или затеял.
Наконец Альберт поднял голову и некоторое время молча смотрел на Другу. Он хотел было объяснить ему, что с ним творится, но в своем отчаянии только проворчал:
— Тоже шпионом у них заделался?
— Какой там шпион! — вскипел Друга. — Только пришел тебе сказать: дрянь ты! Дрянь, какую не всякий день найдешь!
Альберт медленно поднялся, подошел вплотную и процедил сквозь зубы:
— А ну скажи еще раз!
— Дрянь ты!
Альберт поднял кулак, вцепившись левой рукой в рубаху Други.
— Бей! — только и сказал Друга, с презрением глядя на своего бывшего шефа.
— Думаешь, не посмею?..
Молчание.
Удар. Друга, вскинув голову, отлетел к стене. С трудом поднялся. Из носу текла кровь.
Альберт ждал, подняв кулак.
— Эх ты, герой!.. — только и произнес Друга и вышел, оставив Альберта одного.
Долго стоял Альберт, не шелохнувшись, глядя на дверь, за которой исчез его друг. Глотнул, потом еще и еще. И тоже вышел.
Он хотел идти медленно, хотел обмануть себя, но что-то гнало его вперед.
На дворе кудахтала курица. Други не было видно. Внезапно Альберт побежал. Рывком отворил калитку и выскочил на улицу. Остановился. Друга отошел уже довольно далеко. Он шагал очень быстро.
— Друга-а-а!.. — заорал не своим голосом Альберт.
Но Друга даже не оглянулся. Тогда Альберт, забыв обо всем на свете, бросился за товарищем.
Друга чуть посторонился, все так же быстро шагая вперед. Альберт шел рядом, пытаясь поймать его взгляд, но Друга не смотрел на него.
— Ты прав: я дрянь! — хрипло произнес Альберт.
— Да, да!.. — подтвердил Друга, так и не подняв головы. О примирении не могло быть и речи.
Они шли рядом, шаг за шагом. Мимо, стремительно ныряя вниз, промчались ласточки. Высоко в небе гудел самолет.
У Альберта было слишком тяжело на душе — он не мог молчать, он должен был высказаться.
— Я хотел тебе только объяснить, что ты меня не понял сегодня в школе, — проговорил он. — Я же совсем не то хотел сказать. Если уж я против того, чтобы Длинный ехал в Крым, кто же тогда «за»? Да я же… в школе, понимаешь… Наших с тобой денег там гроши. Мы же с тобой сачковали… Верно ведь? А вот если бы нам дали еще участок отремонтировать, только нам с тобой, никому больше. Я сам бы тогда первый сказал: пускай едет! Нет, правда! Только, чтобы наших денег там было побольше, понял? — Альберт окончательно сбился.
Лицо его выражало полную растерянность.
Оба невольно остановились.
Друга взглянул Альберту в глаза, как бы надеясь найти в них какой-то ответ… Но тут же засопел и пошел дальше. Нет, словам своего товарища он уже не доверял.
Друга давно уже исчез из виду, а Альберт стоял все на том же месте. Он чувствовал себя одиноким. Очень медленно по щеке его скатилась слеза. Она упала в песок.
Наступила ночь. Было полнолуние. И луна светила так ярко, что отражалась даже в кювете, где и воды-то было только на самом донышке. Поля и луга затихли.
Слова Альберта не давали Друге покоя. Ведь Альберт был прав. Они сачковали во время ремонта дороги и поэтому заработали для поездки Длинного меньше всех. Но нет! Друга решил, что будет ходить на дорогу ночью, и тогда догонит остальных — заработает столько же, а может, и больше. Ради этого он и сегодня покинул дом в неурочный час. Он вылез через окно, чтобы мать ничего не заметила, и теперь шагал по дороге. Неожиданно ветер донес до его слуха какие-то глухие удары. Что это? Неужели там, впереди, кто-то разрушал все, что ребята успели сделать днем? Друга перепрыгнул через кювет и под прикрытием плакучих ив стал пробираться через луг вперед. Неожиданно перед ним открылась картина, ошеломившая его. Вначале он вообще ничего не понял, но потом ему стало стыдно. Там впереди кто-то чинил дорогу! И делал это вовсе не ради того, чтобы потом сказать: вот, мол, этот участок я замостил совсем один! Нет, он поправлял и латал уже готовые, но еще не отработанные до конца участки, прибавляя свой труд к труду всех ребят.
Несколько секунд Друга Торстен не мог двинуться с моста. Друг, лучше которого на всем свете не сыскать, снова вернулся к нему! Громко и радостно он крикнул:
— Альберт!..
КОМУ И ЗА ЧТО МСТЯТ МСТИТЕЛИ?
Десять мальчишек в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет и одна девочка — сестра их предводителя Альберта Берга — Родика решили объединиться для того, чтобы бороться за правду и свободу, мстить за несправедливости и обиды, поддерживать друг друга в беде. Всё это дети беднейших жителей деревни — малоземельных крестьян, батраков, переселенцев, — жизнь которых соткана из беспросветной нужды, горя, унижений и лишений. В деревне верховодят кулаки Лолиес и Бетхер — ярые приверженцы фашистского порядка. С их помощью в Бецове находят пристанище крупные фашистские хищники — бывший штурмбанфюрер СС Грабо и его начальник, укрывающиеся здесь от расплаты за свои преступления и тайно развертывающие широкую вредительскую деятельность, направленную против рождающегося в Восточной Германии нового демократического строя: они занимаются спекуляцией, переправляют продукты на Запад, устраивают диверсии.
И хотя война кончилась и фашистское государство уничтожено, в Бецове пока мало что изменилось. Перед нами немецкая деревня такая, какой сложилась она издавна, но с теми же чертами быта и нравов, какие были привнесены долгими годами фашистской власти. Разобщенность и враждебность, равнодушие к чужой судьбе, грубость и жестокость в отношениях людей, культ денег и силы — вот результаты фашистской «цивилизации», показанные изнутри, на судьбе одного небольшого поселка. А развязанная фашизмом война внесла трагедию почти в каждый дом, в каждую семью, и не только потому, что привела к потерям. Люди умирают не только физически, не менее страшна смерть моральная, какая постигла, например, отца Ганса Винтера или отца Сынка.
Именно в этих условиях и в силу вызванных ими причин сложился в Бецове Тайный Союз мстителей.
У каждого из ребят есть свое горе, своя глубокая рана в душе. У Альберта и Родики это обида за мать, ославленную ведьмой, негодование на богачей, которые «купили себе правду»; у Манфреда Шаде — трагическая судьба отца, ставшего убийцей; у Руди — гибель всех близких во время бомбежки Берлина и положение бесправного батрака в доме Бетхера; у Ганса Винтера — мучительная жизнь с отцом, пьяницей и садистом, доведшим мать до самоубийства. У Вольфганга трагически погибла мать во время эвакуации и калека-отец утратил всякую волю к жизни. Друга Торстен — «чужак» в Бецове. Ведь они с матерью приехали сюда из города, где в их дом попала бомба. Отца Други убили на войне, и теперь мать ходит батрачить на деревенских богатеев. Ну, а тех, у кого ничего нет, в Бецове презирают, к беднякам здесь относятся как «к клопам или чуме». Бедняков в деревне немало, и «не только своих, местных: война привела сюда беженцев из разрушенных городов — немцев, выселенных на территорию Германии после разгрома гитлеровского рейха. Бецов встречал таких закрытыми дверями. Да и кто они были — беженцы, без кола, без двора. На всех воротах висели дощечки с надписью: «Не входить! Злые собаки!»
Словом, каждый из этих ребят на собственной судьбе испытал страшные последствия фашистской политики войны и завоеваний, каждый хотел мстить за свою искалеченную жизнь. «Почему у меня такая несчастная судьба? — спрашивает Манфред. — Почему все так случилось?..» Ответа на эти вопросы он не знал. Он даже представить себе не мог, как это бывает, когда кругом царит мир. Он знал только, как бывает, когда война…»
Тайный Союз, который организовали ребята, для каждого из них является опорой и единственным прибежищем в жизни. Жизнь жестока и несправедлива, считает Альберт, вожак мстителей, и на жестокость надо отвечать жестокостью, а на силу — силой. Поэтому в Союзе разработан такой устрашающий ритуал приема: испытание болью, клятва, подписанная кровью. Поэтому от каждого вступающего требуется умение драться и бесстрашие. Подчас ребята не останавливаются в своем стремлении мстить за несправедливость даже перед прямым преступлением. Мстители заступаются за обиженного друга, выручают из беды товарища, крепко стоят друг за друга; но они же без всяких нравственных сомнений идут на обман, воровство, шантаж и основным методом убеждения считают кулачную расправу, причем, например, избиение Бетхера, приемного отца Руди, проводят с далеко не детской беспощадностью.
Миру жестокости и вражды ребята противопоставляют свой дружеский союз, основанный на мечте о свободе, правде и справедливости, свое стремление изменить жизнь к лучшему. Но они плохо разбираются в том новом, что приходит в их жизнь вместе с установлением демократического строя, с утверждением Германской Демократической Республики. Конечно, перемены происходят постепенно. Бургомистром в Бецове становится член СЕПГ фрау Граф, в деревне создается партийная группа, которой руководит антифашист Шульце, вернувшийся из фашистского застенка. В школу прислан новый учитель антифашист-подпольщик, тоже член партии, Вернер Линднер, которому предстоит сыграть такую важную роль в судьбе мстителей.
Однако Альберт и его друзья все перемены встречают с недоверием, им трудно сразу поверить в хорошее, их собственный жизненный опыт был слишком горьким да и в самой новой действительности еще много сложного и противоречивого, не так просто и не так легко было покончить с наследием фашизма. Неудивительно поэтому, что так труден и долог путь ребят к новому миру. Перемены в школе и появление пионерского отряда мстители оценили сперва лишь как опасность для существования своего Союза. Поэтому наряду с «акциями» против Лолиеса, против Бетхера и Винтера, против сына фашиста Грабо и его дружков, они выступают против Линднера и организованного им пионерского отряда, бросают призыв: «Долой пионеров!», избивают первых пионеров, хотя в общем весьма смутно представляют себе, кто же такие пионеры.
И вот начинается борьба Линднера за этих ребят, борьба, в которой учитель проявляет бесконечное терпение и доброту, неослабевающее стремление преодолеть все больное и изломанное в их душах и донести до их сознания идеалы нового общества. Линднер стремится открыть этим ребятам правду о прошлом своей страны, о позорных страницах немецкой истории периода гитлеризма, но также и о тех силах, которые противостояли фашизму в те годы. Вернер Линднер еще очень молод, ему двадцать лет с небольшим, его детство тоже было искалечено фашизмом, но тем большую ответственность чувствует он перед молодым поколением, с которым связано будущее Германии.
Для Линднера ясно, что первопричина всех зол — война, развязанная фашизмом, и сам фашизм, утвердивший силу над справедливостью, поправший все человеческие законы. На школьном собрании Линднер вступает в бой за мальчишек, он доказывает взрослым их собственную вину: «Сами взрослые показали им, что сила выше права, откуда же им знать, в чем смысл жизни, честь, справедливость?» Линднер верит в доброе начало у этих ребят, детей войны и нищеты, он видит у них «острое чувство справедливости», он проводит резкую грань между ними и сыном фашиста Грабо — Гейнцем, сознательным и ожесточенным врагом новой жизни.
Линднер видит «задачу своей жизни в том, чтобы спасать ребят от пути, ведущего к преступлениям». Он страстно борется за нового человека. И эта черта молодого учителя напоминает нам обаятельные образы педагогов, хорошо известных нашему читателю по книгам замечательного советского писателя и педагога А. С. Макаренко. Но мстители во многом отличаются от героев «Педагогической поэмы». И прежде всего мрачным взглядом на жизнь, недоверием к людям, изломанностью психики, что, безусловно, отражает трагизм судьбы молодого поколения, чье детство совпало с годами нацистского режима и войны. Поэтому так труден характер Альберта, поэтому так упорно сопротивление мальчишек учителю. Они как бы испытывают его на прочность, им невероятно трудно поверить, что можно жить открыто и просто, верить человеческим словам и чувствам, что Линднер возится с ними «задаром», не имея в виду никакой выгоды для себя лично. Ведь таких, как Линднер, им до этого не пришлось встречать: до разгрома фашистской Германии такие Линднеры были в тюрьмах и лагерях или в глубоком подполье.
Линднер счастлив, что настало время, в котором осуществимо право помогать людям, в чем и видит он красоту и смысл жизни. Но, чтобы утвердить новое, надо до конца разоблачить прошлое. Этому и служат в книге рассказы Линднера, из которых наиболее интересны история Грит и Станека и повесть о Саме. Рассказы Линднера не выдуманы им, как сказка Други, назначение которой развлечь ребят. Линднер делится с ребятами самым сокровенным, тем, что он пережил и видел лично.
Велика сила рассказов Линднера, их воспитательное значение для его учеников. Это сила личного примера, личного опыта. Но мстителей переубеждает также и сама жизнь. Постепенно, но неуклонно все изменяется в их родной деревне, эти перемены ощущаются в судьбе каждого. Мать Други получает хорошую работу, налаживается жизнь Руди и Длинного, а также других ребят. Разобщенный и недружный класс превращается в коллектив, где все думают и заботятся об общем деле. Но главным доказательством изменений и величайшим триумфом для Линднера является решение его учеников отдать заработанные ими деньги на лечение товарища. Теперь они друзья, способные на активное добро, способные создать новую жизнь, новые человеческие отношения. Своекорыстию, разобщенности, равнодушию и враждебности приходит конец. Приходит конец и существованию Союза мстителей.
Альберту, Друге и их друзьям предстоят большие дела и дальние пути.
А. ГЕЦЕЛЕВИЧПримечания
1
Люфтшуцварт — дежурный по бомбоубежищу из гитлеровской гражданской обороны.
(обратно)2
Югендамт — гитлеровское ведомство по делам молодежи.
(обратно)3
СД — гитлеровская служба безопасности.
(обратно)4
Юнгфольк — детская гитлеровская организация.
(обратно)5
Стихи в переводе А. Голембы.
(обратно)6
В немецких школах пятерка — самая плохая отметка, равная нашей единице.
(обратно)7
Гитлерюгенд — гитлеровская молодежная организация.
(обратно)8
Heil — по-немецки одновременно и «да здравствует» и «лечить»— heilen.
(обратно)9
Панков — один из районов столицы Германской Демократической Республики.
(обратно)10
Ванзее — один из районов Западного Берлина.
(обратно)11
Стихи в переводе А. Голембы.
(обратно)


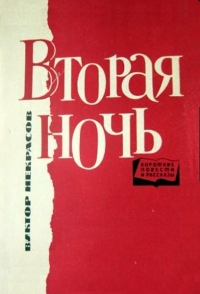



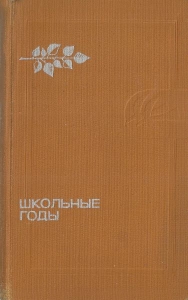




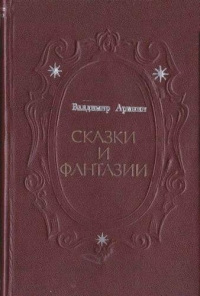

Комментарии к книге «Тайный Союз мстителей», Хорст Бастиан
Всего 0 комментариев