Анатолий Димаров СО ЩИТОМ И НА ЩИТЕ
О книге и ее авторе
Автор этой увлекательной грустно-веселой книжки Анатолий Димаров, конечно, не похож на главного ее героя. Ныне он известный писатель, лауреат Государственной премии им. Т. Г. Шевченко, всеми уважаемый человек, любимец юных и взрослых читателей. Непослушные когда-то, буйные волосы поредели и поседели. Но все же… Озорные молодые глаза выдают его, как говорят, с головой. И вижу Анатолия Андреевича вихрастым пареньком, любопытным и непоседливым, всегда остро чувствующим любую несправедливость, всегда горячо и смело отстаивающим правое дело.
Родился Димаров в 1922 году в городе Миргороде на Полтавщине, в семье учителя. Судьба его до мелочей похожа на судьбы сверстников, сельских и городских ребятишек, хлебнувших немало горя в период своего «счастливого детства», однако ни в какое сравнение не шедшего с той воистину горькой чашей, которую довелось испить во время Великой Отечественной войны.
Это они, еще совсем зеленые юнцы, заслонили собой Родину от страшной, жестокой силы фашизма. Мало их вернулось с полей сражений, но вернувшиеся, засучив рукава, принялись отстраивать и украшать свой дом.
Анатолий Димаров, храбро воевавший и партизанивший, после демобилизации начал пробовать свои силы в литературе. Еще во время войны (в 1944 г.) были опубликованы его первые рассказы, позже вошедшие в книгу «Гости из Волыни». В украинскую литературу пришел талантливый и самобытный писатель. Его повести и романы снискали любовь и признание многих читателей нашей страны. Активно работает А. Димаров и на ниве детской и юношеской литературы — его перу принадлежат сборник рассказов «Через мостик», повести «Голубой ребенок», «Со щитом и на щите», сказки, фантастические повести.
В книге «Со щитом и на щите» рассказывается о ребятах предвоенных лет, об их радостях и огорчениях. Герои повести не избалованы жизнью. Нелегкими и непростыми были их детство и юность, опаленные пожаром начавшейся Великой Отечественной войны. Так жизнь сразу же заставляет их повзрослеть.
Повесть читается с неослабевающим интересом, потому что в ней ярко и выразительно нарисованы люди. Они живые, настоящие. Разве не взволнуют читателя бурные события в восьмом классе, разве проблемы школьников тех далеких лет не близки ученикам сегодняшней школы? Вопросы чести, справедливости, бескорыстной дружбы всегда актуальны.
Яркие, незабываемые личности — Толя и его младший брат Сережа, — образы учеников и учителей с их привычками, привязанностями и индивидуальными чертами характера волнуют, заставляют сопереживать, пристально следить за судьбой героев. Все произведение словно искрится от брызжущего с каждой страницы доброжелательного, я бы сказал, добросердечного юмора, иногда веселого и задиристого, а иногда мягкого и грустного.
Настоящая, хорошая книга!
Николай Шевченко
Мы поступаем в восьмой класс
— Вот ты у меня уже и взрослый! — Мама заботливо поправляет на мне воротничок рубашки и пытается пригладить мои всегда торчком торчащие волосы.
— Совсем, совсем взрослый!
Где-то в самой глубине души у мамы теплится надежда, что однажды погожим утром откроет она глаза и увидит меня взрослым. Степенным и солидным — ну, таким, например, как Павел Степанович. Тот самый Павел Степанович, что недавно изрек:
— Ступай на место! Ты никогда не будешь математиком!
По правде говоря, и другие учителя время от времени выражали твердую уверенность, кем я не буду. Если верить их словам, то я абсолютно не способен овладеть ни одной из существующих для нормальных людей профессий. Не быть мне ни географом, ни писателем, ни инженером, ни историком, — это они знали. Одного лишь не ведали: кем же я стану…
— Давай присядем перед дорогой!
Мама задумчива и немного печальна. Бледные тени усталости лежат на ее губах, мелкими морщинками сгущаются в уголках глаз. «Сколько же лет моей маме?» — впервые задаю себе вопрос, над которым никогда до сих пор не задумывался. Мне всегда казалось, что мама будет жить вечно.
Хотя мне давно известно, что Земля вертится вокруг Солнца, однако подсознательно все еще уверен в том, что весь окружающий мир вращается вокруг мамы. Значит, мама никак не может умереть, потому что тогда придет конец всему свету.
Вчера вечером мама долго вычесывала из моей головы «остатки летних каникул». Толстый роговой гребешок аж трещал. Я поминутно хватал маму за руки, а она сердилась и говорила, что в моих волосах разве только граблями грести.
— Боже мой, и репьи у него! Ты что, все лето на голове ходил?
Потом мама луговой водой вымыла мою голову, зачесала назад волосы и заставила на ночь повязаться косынкой. А когда я посмотрел утром в зеркало, то едва удержался, чтобы не плюнуть от отвращения: большущий лоб, торчком уши и волосы прилизаны, будто у какой-нибудь девчонки.
Чтобы я в этаком виде на улице появился? На глазах всего честного народа?
Опасливо, чтобы мама не заметила, послюнив ладонь, старательно лохмачу волосы.
— Ну что же, сынок, пошли.
Мама поднимается, внимательно оглядывается вокруг, словно не мне, а ей предстоит распрощаться с домом, где все такое родное и привычное. И изрезанный, исковырянный, залитый чернилами трудяга-стол, за которым так часто мы собирались втроем: мама, я и Сергейка. И скамьи на мощных дубовых ножках: если уж они выдержали все происходившее в отсутствие мамы и до сих пор не сломались, то, значит, какой-то неведомый столяр смастерил их действительно не за страх, а за совесть. И печь — кормилица и поилица, источник тепла и покоя, без которой неизвестно как бы мы и жили. И щербатые чашки и тарелки, и обкусанные деревянные ложки, которыми так хорошо есть, а еще лучше драться — конечно, когда не видит мама. И пузатый комод, облупленный и весь потрескавшийся: он чем-то напоминал старого-престарого человека, давно зажившегося на свете; часто по ночам, в полудремоте, я слышал, как комод потихоньку кряхтел и постанывал. И до самой ручки размочаленный веник, что не раз танцевал на наших спинах — моей и Сергейки. И ведра, до блеска изнутри полуженные родниковой лесной водой, и вытертые нашими спинами стены, и оконные рамы, и двери, — сегодня все это прощается со мной перед дальней дорогой.
У меня почему-то начинает пощипывать в носу, и я, наклонив голову, тороплю маму:
— Так мы пойдем или как? — И снова спрашиваю: — Ты сумочку не забыла?
Дело в том, что в черной клеенчатой сумке лежит мое свидетельство об окончании семилетки. В нем не такие уж и плохие отметки, хотя мама постоянно твердит, что они могли быть значительно лучше. Я вполне с нею согласен, что могли бы, однако не моя в том вина: ведь не я же все эти оценки выставлял!
— Если бы ты старательней учился…
Ха, старательней! Куда еще старательнее, если мне до сих пор кажется: все семь лет я только то и делал, что погибал над учебниками и тетрадками.
— …Ты был бы таким же круглым отличником, как Оля Чровжова.
Так и знал! Никак мама не может понять, что я парень, мужчина, а не какая-то зубрила-девчонка, которая только и знает — пальцы в уши, нос в учебник.
— Зато она имеет только очень хорошие оценки, — возражает мама, — и уж кого-кого, а ее обязательно примут в восьмой класс. А вот если ты не поступишь…
Теперь мне все ясно: мама просто-напросто боится, что я не закончу среднюю школу. Тогда прощай среднее образование, которое она так мечтает дать своим сыновьям.
— Ну, если не примут — что ты станешь делать?
— Поступлю в ФЗУ. Ванько ведь поступил.
Признаться, кому-кому, а Ванько я очень завидовал. Ему уже выдали форму, да какую: шинель, картуз и ремень с большой пряжкой. Когда Ванько впервые появился в ней на улице, все мы обалдели. А Ванько еще похвалялся:
— Вот стипендию получу — буду только «Казбек» курить.
Да что и говорить, сказочная судьба выпала Ванько: ходить в форме, курить «Казбек» и водить поезда. А мне, видите ли, снова в школу…
— Глупенький, — ласково говорит мама. — Я ведь для тебя хочу, как лучше.
Откуда-то из огорода отзывается Сергейка. Забрался в заросли кукурузы и что-то там мастерит. Все время он если что-нибудь не строгает, то сколачивает, и мама говорит: Сергейка у нас будет инженером. Что касается меня, то я уверен совсем в другом: мой младший братишка, когда вырастет, станет самым упрямым ослом на свете. Он и сейчас: как упрется на чем-нибудь, так ты, хоть убей его, ничего не сделаешь. Так что же будет дальше?..
— Ты хочешь Толю проводить?
Сергейка сначала смотрит на дощечку, которую только что строгал, потом на меня. Я хорошо понимаю братишку, которому ужасно не хочется оставлять начатую им работу. Но мама, которая никогда не была мальчишкой, удивленно допытывается:
— Разве ты не хочешь проводить брата?
— Хочу, — нехотя отвечает Сергейка. Сует за пояс свою дощечку и — что с вами, взрослыми, поделаешь! — бредет за нами.
Улица, по которой мы шествуем, длинная-предлинная. Она протянулась так, словно кто-то взял наше село, как краюшку хлеба, да и разломил пополам. Трещина засыпалась песком, заполнилась пылью, поросла спорышем и превратилась в улицу. Одним концом она выбегает в поле, другим упирается в лес.
Мама идет в праздничном платье, в том самом, с которого я спорол однажды все пуговицы и тут же проиграл их Кольке. Платье нарядное, такого, наверное, нет ни у кого, и мама в нем прямо расцвела. Она приветливо здоровается со встречными женщинами, охотно рассказывает, куда это мы в таком нарядном виде шествуем.
— Смотри учись хорошо! — напутствуют меня женщины. — Да ни с какими бандитами там не связывайся, слышишь?!
Все они непоколебимо уверены, что каждый город — неважно, большой или маленький, — кишмя кишит бандитами.
Ну вот, надо же, и мать Соньки тут как тут. А я-то надеялся, что хотя бы сегодня без нее обойдется. Да разве от такой куда денешься?
— Ой, зятек мой дорогой, на кого же ты нас покидаешь?
Делает вид, что горюет, а сама аж трясется от смеха. Рада-радешенька, что меня в краску вогнала. Чего это она ко мне привязалась с этим зятем? И без нее ребята прохода не дают. Чуть что, так сразу крик поднимают: «Зятек! Зятек!..»
Нет, все-таки придется Соньку отлупить. Так ей поддать, чтобы и она, а главное, ее мать навсегда от меня отцепилась.
На мое счастье, вот и конец улицы. Село позади, впереди лес. Огромные сосны одна перед другой тянутся, аж на цыпочки встают, чтобы со мной попрощаться.
Мама останавливается и говорит Сергейке:
— Ну, проводил брата — теперь можешь возвращаться домой.
Но Сергейка, который до сих пор плелся за нами, как на убой, идти домой уже никак не хочет.
— Ты же устанешь!
— Не устану.
Стоит, упрямо выставив вперед лоб, словно бычок. Я очень хорошо знаю: пусть теперь мама ругает, даже пусть побьет, он все равно пойдет следом за нами.
— Ладно, — не выдерживает характера мама. Ей, милой нашей маме, не хочется в такой день портить настроение ни нам, ни себе. — Проводишь нас и сейчас же домой… Только смотри мне, чтобы все было в порядке. А я тебе гостинцев привезу…
Сергейка согласно кивает головой. Я немного отстаю от мамы и иду рядом с братишкой.
— Что это у тебя?
Брат поглубже засовывает дощечку в штаны.
— Пугач, — тихонько отвечает так, чтобы мама не услышала. Наша мама, надо сказать, принципиально против любого оружия. В особенности если оно попадает в наши руки.
— А где ты трубку возьмешь?
— Ванько обещал. Во-от такую… Целая горсть спичечных головок влезет!
Я отчетливо представляю, как грохнет этот пугач, и у меня поднимается глухая обида на Ванько, который, видите ли, Сергейке, а не мне отдаст ту трубочку. Ну, погоди, ты у меня еще попросишь что-нибудь!
— Спичек только мало, — печалится братишка.
— Спичек? Да я тебе сколько хочешь их привезу! У меня теперь всегда будут деньги.
— Откуда они у тебя?
— А те, что мама на еду давать будет. Каждый день — рубль… И те, что на проезд. «Зайцем» раз прокатиться — вот тебе аж сорок семь копеек в кармане!
— Что же ты там есть будешь? — интересуется брат. — Конфеты небось?
Он никак не может себе представить, что за обыкновенную еду — борщ или кашу — надо платить деньги.
— Я бы только одни конфеты покупал, — мечтает он вслух. — Драже и халву.
Самым большим лакомством была для нас халва. Раз в два или три месяца мама привозила из районного центра огромную буханку белого хлеба и целый килограмм халвы. Халву делили на три части: одну маленькую и две большие, так как маме она почему-то не очень нравилась. Хлеб же нарезали большими аппетитными ломтями. И мы пировали: откусывали душистый, мягкий хлеб сколько могли, а халву — понемножку…
Наконец мы дошли до полустанка.
— Теперь ты можешь возвращаться, — говорит мама Сергейке.
Но он об этом и слышать не хочет: протопать такой долгий путь и даже паровоз не увидеть! Да и к тому же здесь все необычно, не то что в селе. Бесконечные бегущие вдаль блестящие рельсы — горячие-горячие под солнцем. По ним так хорошо идти, расставив для равновесия руки. Еще задолго до того, как появится поезд, рельсы начинают едва слышно гудеть. Как часто, бывало, мы ложились на них ухом и старались угадать, какой идет поезд: пассажирский или товарный? И были среди нас такие мастера, что никогда в этом не ошибались.
Я поглядываю на братишку, балансирующего сейчас на рельсе, и невольная грусть охватывает мое сердце. Почему-то мне кажется, что мы уедем не за тридцать километров, а за тридевять земель. Кажется, что и этот полустанок со скромной деревянной будкой, которую лишь рабочие поезда замечают, а пассажирские гордо проносятся мимо, и дорога к нашему селу, и само село, и речка, и поле, — все это навсегда уходит из моей жизни. Тревожно и беспокойно становится мне, хотя в этом я никогда и никому не признался бы.
«Скорей бы пришел поезд», — обреченно думаю я, и, словно вызванный мною, там далеко-далеко, где рельсы сливаются в тонкую нитку и исчезают в лесу, появляется поезд. Сначала виден только дымок. Он поднимается все выше и выше, и вот уже видны и труба, и колеса, и небольшие, словно игрушечные, вагончики. Все это мчится, кажется, прямо на нас и вот, тяжело пыхтя, с дребезгом и лязгом останавливается рядом.
Мы с мамой бежим к ближайшим дверям. Спешим, потому что поезд стоит всего одну минуту. Карабкаемся на высокие ступеньки и едва успеваем забраться в тамбур, как паровоз залихватски свистит, резко дергает вагоны и мчится дальше.
Изо всех сил вцепившись в поручни, я смотрю на Сергейку. Он стоит около рельсов и старательно машет нам рукой. Чем дальше мы отъезжаем, тем меньше и меньше становится фигурка Сергейки, и мне почему-то становится жалко брата.
— Ма, — тихонько говорю я, войдя в вагон и усаживаясь на скамейке, — почему мы не взяли Сергейку?
Мама не отвечает. Может, не услышала, а может, не знает, что сказать. Тогда я усаживаюсь поближе к узкому окну вагона и прислоняюсь к раме лбом.
Средняя школа, в которой мне предстояло учиться, находилась в середине железнодорожного поселка, застроенного деревянными, на четыре квартиры, бараками, все, как один, похожими на пеналы для карандашей и ручек. Я шел и удивлялся: как живущие в них люди отличают дома один от другого? Все под приплюснутыми, покрытыми красной краской крышами, все ограждены реденьким штакетником, в каждом дворе — небольшие тощие деревца, прозябающие на унылой желтовато-серой песчаной земле. Песок был всюду: во дворах, на улице, в моих ботинках. Даже ступать по нему было трудно.
Наконец добрели до школы. Стоит она тоже на песчаной площадке, хотя деревья здесь погуще и забор из штакетника намного новее. Само же школьное здание похоже на дворец: двухэтажное огромное строение с такими большущими окнами, что для стен вроде бы и места не остается. Во все глаза смотрю на широченные стекла и удивляюсь, как они до сих пор уцелели. Неужели ученики этой школы рогаток не имеют?
— Вот здесь ты будешь учиться, — благоговейно говорит мама. И сразу же добавляет: — Конечно, если тебя примут.
Мама волнуется. Вытирает носовым платочком ладони, поминутно приглаживает волосы. Словно ей, а не мне поступать в восьмой класс. Ну, вот, доходит очередь и до моей персоны:
— Застегни верхнюю пуговицу… Вечно она у тебя расстегнута! Боже, а волосы! Да не крути ты головой, дай хотя бы немного причесать… А уши! Только вчера ведь мыла… Ну разве можно идти к директору с такими ушищами?
Мне кажется, что директору надо в мой аттестат смотреть, а не в уши заглядывать. Мама, однако, другого мнения и тщательно протирает платочком мои уши.
— Ты у меня смотри: будешь сидеть у директора — ногами не шаркай, — напутствует она меня напоследок, — и руки чтоб на коленях держал. И головою не крути, а все время на директора гляди.
Подавленный величием момента, я смиренно киваю.
Директорский кабинет такой же огромный, как и вся школа. Мы с мамой замерли возле двери, не осмеливаясь вступить на роскошную ковровую дорожку.
Директор восседает за массивным столом, спиной к окну, лицом к нам. Наверное, он небольшого роста, так как над столом виднеются только его голова и плечи. От его головы никак не могу отвести зачарованного взгляда. Сколько на свете прожил, никогда такой блестящей лысины не видел. Была она похожа на только что облупленное пасхальное яйцо. Как в гипнозе, не отводя глаз от директорской лысины, я опустился на краешек стула и замер, поджав ноги и положив ладони на колени. Так, как мама учила…
Из школы мы выходили веселые и счастливые. Мама вся сияет — гордится мною, что я уже восьмиклассник.
— Знаешь что, Толечка? Давай-ка в кино сходим!
— В кино? Вот это да! Пойдем в кино!..
— Но сначала зайдем в столовую, — несколько гасит мама мою радость. — Ты ведь, наверно, есть хочешь?
Конечно, хочу. Да еще в столовой! Интересно ведь посмотреть, как и что там едят.
В столовой людей — как пчел, а между ними мечутся женщины в серых халатах, посуду собирают.
Понемногу мы продвигаемся в очереди к кассе. Я зажимаю в руке две ложки, две вилки и две чайные ложечки — их при входе нам дал мрачного вида дядька. При этом предупредил, что, когда будем уходить, ложки и вилки надо сдать другому — тому, который напротив него стоит. Не сдадим — из столовой не выпустят.
— Для чего это? — удивляется мама. — Почему нельзя просто на столе оставить?
— Для того, дамочка, чтобы не разворовали. Один, у кого совесть есть, оставит, а другой к себе в карман сунет. Да еще пару чужих прихватит…
Теперь я гляжу в оба, чтобы кто-нибудь ненароком не похитил наши ложки и вилки. Все с большим подозрением поглядываю на парня, который непрестанно на меня напирает. Сам в замасленной спецовке, руки в мазуте, на взъерошенных волосах еле держится видавшая виды кепка: такие-то небось и охотятся за ложками. Резко отстраняюсь от него и тут же получаю крепкий подзатыльник.
— Я тебе что — котлета, что на вилку насаживаешь?!
Отскакиваю от мужчины, которого нечаянно кольнул. А он во весь голос ругается.
Конечно, все вокруг хохочут, а у меня от мощного леща голова гудит. Да еще мама по дороге к столу отчитывает:
— С тобой на людях показаться нельзя!
Виновато помалкиваю. Хотя, если как следует разобраться, не так уж я виноват в случившемся. Разве было бы лучше, если бы тот мазурик наши вилки спер?
Взять значившиеся в меню ростбиф или гуляш мама не рискнула — кушанья неизвестные, да и к тому же дорогие. Поколебавшись немного, заказала вместо них две порции котлет и два стакана какао.
Пробовать котлеты мне уже доводилось, а вот какао — никогда. Хотя как-то раз видел раздавленную пустую коробку из-под него, на которой была надпись «Золотой ярлык». От коробки шел таинственный и волнующий запах, и в моем воображении возникали далекие заморские края, караваны верблюдов, толстобокие корабли, смуглые пираты. И вот этот сказочный напиток стоит передо мной, и я его буду пить, как только доем котлету.
— Не спеши, — говорит мама, смущенно оглядываясь вокруг. — Ты как будто сто дней ничего не ел.
Проглотив побыстрее котлету, я наконец-то припал к своему стакану, наслаждаясь душистым напитком…
Домой возвращались уже вечером, так как все-таки и в кино сходили. И кого, как бы вы думали, увидели мы, когда из вагона вышли? Сергейку!
Мама своим глазам не поверила:
— Ты?.. Да как ты тут оказался?
Молчит — ни гугу.
— Дома ты хоть был?
Об этом мама могла бы и не спрашивать. Сергейка с головы до пят был покрыт мазутом и выглядел как трубочист после дня работы.
— Что же ты молчишь? — не на шутку начинает сердиться мама. — Язык проглотил?
Подошел путевой обходчик — оказывается, мамин знакомый.
— Так это, значит, ваш сынок? А я-то его целый день гонял, чтобы на рельсах не болтался. Еще под поезд попадет — мне тогда отвечать за него придется…
Мама благодарит обходчика, и все мы втроем двигаемся домой. Сергейка жует огромную горбушку, которую мама отломила от буханки свежего хлеба, и глаза его — от голода, что ли? — прямо горят.
Разделавшись с горбушкой, Сергей потихоньку отстает от мамы и, приблизившись ко мне, шепотом спрашивает:
— А что мне мама купила?
Только теперь я понял, веревочкой какого ожидания был привязан к железнодорожной колее мой братишка.
Домна Даниловна, я, козел и Федька
Мама долго подыскивала для меня квартиру: такую, чтобы и от школы недалеко и не очень дорогую. Велика ли зарплата у сельской учительницы? А на руках два лоботряса, попробуй и обуть, и одеть, когда на них все огнем горит, не то что на нормальных детях. Еще ведь и книжки-тетрадки, да кормить каждый день нужно…
Но вот как-то вечером мама сообщила:
— Я, Толечка, нашла тебе квартиру с питанием. Ты знаешь Шульгу?
— Какого такого Шульгу?
— Да Федю. Того, что сейчас в девятом классе.
Еще бы не знать! Такого задавалу! Когда он в сельской школе учился, еще в седьмом классе, только у него одного была самая настоящая портупея с большой медной пряжкой. А на той пряжке — звезда. Как начистит — аж горит.
Каждый праздник Федька надевал свою портупею и впереди всех нес красное знамя.
— Я с его матерью разговаривала, — продолжала мама, — она нашла для него квартиру, где можно и жить, и питаться. Федина мама пообещала мне договориться и о тебе. Ведь это так хорошо: не нужно терять время в столовых. Да обойдется дешевле.
Мама в восторге, а я вовсе нет. Плакала моя экономия по рублю в день и планы купить и то, и это!
Но что тут поделаешь: если мама решила, с ней не поспоришь. К тому же я понимаю, как нелегко маме выкручиваться. Мы с братишкой знали цену копейке и не канючили, выпрашивая на сладости, годами лежащие в нашем сельском магазине, слипаясь от времени или каменея, как пряники, которые лавочник дядька Никифор под веселую руку давал таким же взрослым дядькам, как и он сам, разгрызать на спор. Разгрызешь — твое счастье, а нет — гони трешку!
В такую коммерческую сделку с нами лавочник не вступал. О нас он говорил:
— Этим только дай! Они и камни погрызут!
— И вправду, погрызут, — охотно соглашались наши родители.
Так что ни у кого из нас и в мыслях не было просить у мамы деньги на конфеты или пряники. Деньги — мы это твердо знали — зарабатывают для того, чтобы на них жить, а не тратить на какие-то сладости…
Ладно, попробую кое-что сэкономить на железной дороге. На поездках в город и обратно. И я тайком от мамы решаю задачку.
Итак, билет в один конец — сорок семь копеек. Что ни месяц — шесть выходных. Шесть раз домой, шесть — из дома. Если хоть половину проехать «зайцем», то сколько это получится?
— Два восемьдесят две! — выпаливает Сергунька и с уважением смотрит на меня: подумать только — почти три рубля каждый месяц! — Я тоже скоро вырасту, — с нескрываемой завистью добавляет он. — И тоже в восьмой класс пойду…
На квартиру поселились мы накануне нового учебного года. В небольшом домишке: в нем всего две комнатки и кухня, да еще коридорчик, где под ногами крышка погреба, а над головой лаз на чердак. Не раз приходилось мне или Федьке, а то и сразу обоим выпрыгивать в окно, когда пора было бежать в школу, а хозяйка в это самое время, как назло, лезла в погреб за капустой или огурцами. Поднимала тяжеленную крышку и подпирала ею дверь: хоть лбом бейся — ни за что не открыть!
Двор тоже небольшой — повернуться негде. Весь застроен: здесь и сарай, и курятник, и хлев. Так что для нас с Федькой оставалась лишь узкая тропинка да еще более узенькая скамейка. Это на тот случай, если бы нам вдруг захотелось свежим воздухом подышать.
В комнате, что поменьше, стояли кровать и обитый черным дерматином диван с высокой спинкой и зеркальцем в ней. Зеркальце было настолько узким, что если посмотреться в него, то лицо вроде бы пополам разрезается: видны либо лоб и полноса, либо полноса и подбородок. Еще у того дивана было два валика, твердые, словно из камня вытесанные. И главное — стальные пружины, обладавшие дьявольской способностью впиваться в тело, как шпаги.
Сколько пришлось мне воевать с ними в долгие осенние и зимние ночи! Сколько мучиться! Не успеешь одну укротить, как другая уже впивается в бок. Часто, доведенный до отчаяния, я принимался молотить кулаками по дивану, а он рассерженно гудел, как старый рояль. А Федька, сразу захвативший кровать и теперь роскошествовавший на ней, просыпался и ругал меня почем зря: я ему, видите ли, спать не даю.
— Поиграй, поиграй еще — по шее получишь!
До чего же я в то время их обоих ненавидел: и диван, и Федьку!
Диван изводил меня своими пружинами, а Федька по ночам так храпел — слушать жутко!
— Федь!.. Ну Федь!..
— А-а?
— Не храпи!
— Да разве я храплю?
Вот так и мучился я из ночи в ночь недели две. Мучился бы и дольше, если бы не верный мой дружок Ванько.
Встретил я его в вагоне, когда домой ехал. На голове у него лихо сидела такая засаленная кепочка, будто ее дня три в мазуте полоскали.
— Обменял на новую, — признался Ванько, понимая, что я все равно не поверил бы, что он успел так заносить свою.
Кепка меня потрясла: Ванько выглядел в ней настоящим рабочим. А когда он достал из кармана пачку «Казбека» и зажал папиросу в зубах, я даже слюну от зависти проглотил.
— Закуривай! — небрежно предложил он.
Я потянулся за папироской, хотя до сих пор не курил — и мама говорила, что это единственное, слава богу, до чего я не дошел. Но сейчас я никак не мог отказаться: мужская гордость не позволяла.
— Ну, как?
— Ароматная, — ответил я, давясь дымом.
Некоторое время мы молча важно пускали в воздух дым и казались сами себе солидными взрослыми мужчинами, которым после работы и покурить не грех.
Потушив папироску, Ванько спросил:
— Ну, как поживаешь?
— Да ничего, — ответил я. Потихоньку, чтобы не заметил мой товарищ, смял недокуренную папиросу и опустил ее под ноги. — Вот только Федька спать не дает: храпит, собака!
— А ты отучи.
— Как его отучишь?
— Да очень просто! Как только начнет храпеть, ты ему махорки под нос сыпани. Раза два отведает — и другим на всю жизнь закажет.
— Правда?
— Разрази меня гром! — поклялся Ванько. — Ты только махру покрепче выбирай. А лучше заходи ко мне завтра, я тебе дам ту, которую мой дед курит.
Получив у Ванько перетертую в пыль махорку, я едва дождался следующего дня, когда нужно было возвращаться в город.
После ужина я поспешил нырнуть под одеяло, а Федька, как назло, никак не ложился.
Наконец он погасил свет и под ним заскрипела кровать.
Затаив дыхание, жду, когда зазвучат знакомые рулады. Потом потихоньку поднимаюсь и тихо-тихо сползаю с дивана, боясь неосторожным движением разбудить Федьку.
И вот я стою над ним, лежащим навзничь на спине. Вижу его раскрытый рот, две ноздри, нацеленные прямо на меня. Раскрываю кулек и щедрой рукой посыпаю Федькин нос. Затем одним прыжком бросаюсь на диван.
На миг в комнате наступает могильная тишина. Потом словно взорвалось что-то — это начинает чихать Федька. Да как!.. Чихал Федька до самого утра.
Наши хозяева обитали в проходной, намного большей, чем наша, комнате. В ней стоял круглый, покрытый скатертью стол, дубовый шкаф, пузатый буфет и кровать такой необъятной ширины, что на ней, казалось, мог бы разместиться весь наш восьмой «В». Кровать тоже была из дерева, на толстенных слоновьих ножищах, с высокими резными спинками. На ней громоздились горой перины, подушки и подушечки в бессчетном количестве.
Эта пышная гора напоминала мне Домну Даниловну, нашу хозяйку.
У себя дома, в комнате, особенно по утрам, Домна Даниловна ходила преимущественно в одной сорочке: ей всегда было жарко. Капельки пота обильно орошали ее круглое, как блин, лицо, и она поминутно вытиралась полотенцем, как после бани.
В первые дни, видя хозяйку в таком облачении, я смущался и, опустив глаза, старался побыстрей прошмыгнуть мимо нее. Но со временем привык и перестал обращать внимание.
Муж Домны Даниловны, Иван Иванович, маленький и тщедушный, выглядел подростком рядом со своей могучей половиной, которую неизменно называл Домной Даниловной и обращался к ней только на «вы».
Хозяин наш был железнодорожником. Домна Даниловна считалась домохозяйкой, хотя ближайшая соседка, как-то поссорившись с ней, обозвала ее спекулянткой и ведьмой.
Что касается ведьмы, точно не знаю, а вот насчет спекулянтки, то тут соседка не очень погрешила против истины. Домна Даниловна частенько шастала по магазинам, доставала разные товары, а потом перепродавала их на базаре из-под полы.
Но прибытком этим она не удовлетворялась и выискивала все время новые источники обогащения. На ее дворе появлялись то свиньи, то кролики, то куры или гуси, которых она выкармливала для продажи. Вся эта живность требовала немалого внимания, и Домна Даниловна постоянно вызывала на помощь меня и Федьку.
Мы секли для корма свиньям тыкву и свеклу, чистили хлев и курятник, рвали траву для кроликов. Только придешь, бывало, из школы, только раскроешь учебник, а Домна Даниловна тут как тут:
— Ребятушки, кто из вас поможет картошечку в погреб снести? А ну-ка, кто самый быстрый?
Я смотрю на Федьку, Федька — на меня. Нам обоим страх как не хочется ставить рекорды быстроты транспортировки картофеля. Но разве от Домны Даниловны отвертишься?
Восемь здоровенных мешков ожидают нас возле погреба. Даже Федька не может ни одного приподнять, как ни силится. Приходится переносить картошку ведрами.
— Чтоб они у нее посдыхали! — тихонько ругается Федька, имея в виду свиней.
Я ношу молча. Таскаю — аж чуб взмок! «Может, хоть поужинать даст досыта», — утешаю себя. Говорю об этом и Федьке.
— Как же, разевай рот пошире! — сердито отвечает Федька.
Наша хозяйка почему-то уверена, что сытый желудок и наука — вещи диаметрально противоположные. Возможно, это от убеждения, что знания, как и пища, помещаются в желудке; следовательно, чем меньше мы будем есть, тем больше места останется для знаний.
Об этом она нам, понятно, не говорит, но мы и сами догадываемся по тем мизерным, нищенским порциям, достающимся нам на завтрак, обед и ужин.
Вот Домна Даниловна разливает по тарелкам суп. Тарелки такие мелкие, что и ложку не утопишь, а она следит, как бы, упаси бог, не перелить.
— Ешьте, ребятушки, ешьте да поправляйтесь, — вздыхает она, растроганная собственной щедростью.
Вот кладет нам на тарелки по махонькому обжаренному кружочку:
— Мясо-то нынче кусается. Но мне для вас ничего не жаль.
То, что она называет котлетками, — с пятачок. Воробью раз клюнуть.
А тут затеяла пироги печь. Смачный запах сочится по комнатам, и мы с Федькой глотаем слюнки. Смотрю в учебник, а перед глазами вместо параллелепипеда — пирожок. Румяный, из сдобного теста и желтком сверху смазанный. Трясу головой, зажмуриваю глаза — не помогает, пирожок еще заманчивей становится!
Обалдело смотрю на Федьку, а он уже не в учебник, в раскрытые двери уставился. Ноздри у него ходуном ходят и в глазах хищные огоньки горят.
— Приеду домой, закажу пирогов напечь, — говорит он, не оборачиваясь. — Все сам поем!
Наконец, когда нам кажется, что дальше терпеть невозможно, к нам в комнатушку вплывает хозяйка. Ее круглое лицо лоснится, словно тоже смазанное желтком, в руке тарелка с двумя пирожками-крохотульками.
— А ну-ка, ребятушки, отведайте!..
Пожалуй, еще долго нам лакомиться бы ее пирожками, не выручи нас козел.
Городок, в котором мы учились и жили, был поистине козьим царством. Легионы коз бродили по улицам и переулкам, выщипывая траву и обрывая листья. Куда бы ты ни направился, обязательно натыкаешься на козу. Коз было тьма-тьмущая, а вот козлы наперечет. В нашем углу, например, не было ни одного. Но это и не удивительно: от козы молоко и козлята, а от козла какой толк?
Однако наша хозяйка рассудила иначе. Козы козами, но и без козла не обойтись. На нем тоже можно прибыль получить. И одним воскресным днем привела с базара красавца козла. С могучими рогами и холеной профессорской бородкой. Оставшись с нами наедине, он доверчиво приблизился к нам, и тут же Федька больно щелкнул его по носу.
От неожиданности, боли и обиды козел жалобно мекнул и отскочил было назад. Не мешкая, я схватил его за рога и начал выкручивать ему голову, стараясь повалить на землю.
Так состоялось наше первое знакомство.
Прошло совсем немного времени, как это миролюбивое, доверчивое существо превратилось в сущего дьявола. Стоило козлу заметить нас, как он сатанел: глаза его загорались адским огнем, хвост бешено крутился. Нагнув голову и выставив страшные острые рога, козел бросался в атаку. Казалось, он теперь только и жил жаждой мести, подстерегая нас на каждом шагу. Стоило мне или Федьке выйти утром на крыльцо, козел мгновенно, точно из-под земли, появлялся. С разгона стукался лбом в крыльцо так, что доски трещали.
Отныне мы с Федькой передвигались по двору пробежками. Со всех ног мчались к калитке, ощущая спиной нацеленные острые рога, а возвращаясь из школы, летели как сумасшедшие к крыльцу, спасаясь от обезумевшего животного. Не раз и по земле катились, сбитые мощным ударом.
Первому крепко досталось Федьке. Козел таки настиг его возле крыльца. Сотворив головоломное сальто, Федька влетел в комнату… И потом долго пытался составить вместе разодранные надвое штаны, еще больше сердясь из-за того, что я над ним хохотал.
В другой раз надрывал от смеха живот Федька, а мне было совсем не до веселья.
Возможно, мне и удалось бы удрать, если бы не какая-то тетка, что несла с базара кошелку яиц. Когда я пулей вылетел со двора на улицу, тетка оказалась как раз на моем пути… И мы уже втроем — я, тетка и козел — единым клубком скатились в канаву.
Выкарабкавшись из-под меня и козла, тетка схватила раздавленную кошелку и раза два благословила ею меня по голове. Что она при этом выкрикивала, я не слышал: все желтки и белки вылились на меня. Вернулся я домой похожий больше на раздавленное яйцо, чем на человека.
Федька ржал, как конь. А хозяйка сердито заявила, что козел тут ни при чем, мы сами во всем виноваты.
— Почему он только за вами гоняется, а меня не трогает?
Мы не знали, что ответить, и про себя истово желали, чтобы поскорей и нашей хозяйке досталось.
И что бы вы думали, он таки и до нее добрался: так саданул Домну Даниловну, что она три дня сесть не могла, даже ела стоя.
Судьба козла этим была решена: пылая местью, Домна Даниловна позвала мясника. И потом целый месяц после казни мы давились козлятиной: суп с козлятиной, борщ с козлятиной, пирожки с козлятиной, котлеты из козлятины. Нам уже всерьез казалось — конца-краю не будет этой козлятине и до последних дней своих придется нам жевать этого проклятого козла.
От затянувшихся поминок по козлу спасли нас матери. Прослышав, как кормит Домна Даниловна своих постояльцев, они забрали нас и перевели на другую квартиру, но теперь уже без хозяйских харчей.
Первый раз в восьмой класс
Проснулись мы в то утро рано, задолго до первого школьного звонка. Точнее говоря, проснулся рано я, а Федька и не думал подниматься: ругался вовсю, натягивая на голову одеяло.
— Федь, а Федь! Вставай же!
— М-м-м… А сколько времени?
Я стремглав бросился в соседнюю комнату, где обитали огромные часы, похожие на гроб, поставленный стоймя. Они так уныло и неохотно отсчитывали часы и минуты, что мне всегда казалось: стоит только им остановиться, потом заводи не заводи — стрелки ни за что с места не сдвинутся.
— Ничего, успеем, — позевывая, ответил Федька, когда я ему сказал, что уже четверть восьмого. Нехотя выбрался из-под одеяла, спросил: — И куда это мои ботинки подевались?
Чем дольше он возился, тем большее нетерпение меня охватывало. Казалось, что мы обязательно опоздаем, что заявимся в школу, когда все уже будут сидеть за партами. А как тогда в класс зайти?
— Давай-давай, Федь, быстрей одевайся!..
Наконец-то все заботы и сборы позади — и оделись, и умылись, и позавтракали. Наконец мы выбегаем на улицу.
Утро встречает нас торжественно и празднично. Небо стоит высоко-высоко, и редкие облачка серебристыми паутинками плывут по нему. Солнце вовсю сияет нам прямо в лицо, и Федькины оттопыренные уши горят, как фонари. Он размахивает своим новеньким портфелем, и под солнечными лучами ярко поблескивает никелированный замок. Мне кажется, что Федька нарочно так размахался, чтобы поиздеваться надо мною. Дело в том, что у меня в руках кошелка не кошелка, сапог не сапог, а черт-те что.
«Черт-те что» появилось на свет после того, как я наотрез отказался брать с собою старую, ношеную-переношеную сумку, с которой ходил и в пятый, и в шестой, и в седьмой класс.
С моей стороны это было не совсем честно: сумка все эти годы служила мне верой и правдой, всегда была добрым, надежным товарищем. Сколько раз летела она на пол, в снег, на траву, а то и просто в дорожную пыль, потому что никогда не было времени аккуратно положить ее где-нибудь. А разве не мчалась она наперегонки с другими сумками по льду — чья дальше других отлетит? И разве не принимала боевое участие в многочисленных сражениях, разгуливая по головам и спинам моих противников? Разве надежно не скрывала все те вещи, о которых взрослым не требовалось знать, — то рогатку, то пугач, то «запретную» книжку. Хотя бы того же Мопассана: при одном намеке на него мама начисто пообрывала бы мне уши.
Но что поделаешь! Честно отслужила свое сумка, но ехать с нею в город мне было стыдно.
Вот тогда-то и пришла маме мысль сшить мне портфель. Вскоре она торжественно извлекла из кладовой голенища от женских сапожек. Мама их носила, когда была еще молодой, и последний раз надевала задолго до моего рождения.
С подобающим почтением разглядывал я старые, потрескавшиеся от времени голенища и никак не мог в толк взять, для чего их мама вытащила.
— Мы из них закажем тебе портфель.
— Портфель?
— Ну да… Отнесу к немому, и он такой сошьет, что будет не хуже настоящего.
Признаться, тогда я даже спорить не пытался. Меня разобрало любопытство: что же из этого может получиться?
Немой, который обувал по меньшей мере половину села, наверное, никакого понятия не имел, что представляет собой портфель. Поэтому кроил и шил так, как подсказывала ему фантазия. Главное, о чем он старался, чтобы не было износу его творению. «Чтобы в воде не промокал, — показал, подмигивая, в небо, — чтобы и по швам не расходился», — ткнул пальцем сначала в дратву, потом в мою сторону.
— Когда же за ним прийти? — поинтересовалась мама.
Немой, приложив ладонь к груди, показал затем семь растопыренных пальцев.
Ага, значит, через неделю.
Спустя назначенный срок мы пришли к немому. Увидев нас, он отложил в сторону чей-то ботинок, поднялся с табуретки и достал с полки что-то завернутое в мешковину. Когда он развернул сверток, мы с мамой невольно содрогнулись.
Это было нечто среднее между нищенской сумой, сумкой почтальона и кожаным ведром, таким, какое кучера прихватывали с собой, отправляясь с обозом в дальний путь. Одним словом, некий чудовищный гибрид всего этого. В этом предмете с одинаковым успехом можно было носить воду, ставить тесто, хранить картошку и заквашивать яблоки.
Радостно гмыкая, немой показывал, как надо «портфель» зашнуровывать, пытался надеть мне на плечо. Чтобы не обидеть немого, мама сказала, что ей портфель понравился.
— Нет, он все-таки неплохой, — убеждала она сама себя, когда мы возвращались домой. — Ты только посмотри, какой он прочный.
Что прочный, так прочный: был бы хоть немного поменьше! И не такой неистово рыжий!
— Не большая это беда, — утешала меня мама. — Походишь сейчас с ним, а на следующий год, будем живы-здоровы, куплю тебе настоящий портфель.
Что поделать? И на том спасибо. А пока суд да дело, снимаю эту громадную суму с плеча, беру ее под мышку, чтобы меньше мозолила глаза: чудилось, что все проходящие мимо только на мой «портфель» и глядят.
Вот, наконец, и школа. Она встречает нас празднично сияющими окнами и трепещущим на ветру большущим транспарантом на красном полотнище: «Добро пожаловать!» Это приглашение относится и к нам с Федькой. И, входя во двор школы, я невольно выпячиваю грудь.
Тут полным-полно учеников: и старших, и младших, и совсем еще цуценят. Первоклассников сразу заметно: они как пришли сюда с мамами и папами, так от них не отходят. И глаза у них — как пятаки. А между ними туда-сюда снуют те, что немного постарше, — из второго, третьего и четвертого классов. Носятся так, что аж в глазах рябит. Кричат, верещат — плотва, одним словом. Даже не верится, что и я когда-то был таким, как они.
Ученики пятого, шестого и седьмого классов ведут себя более сдержанно. Девочки особенно. Эти прохаживаются стайками по две-три, обняв друг друга за плечи, а на мальчиков не обращают никакого внимания. Задаваки, да и только!
Впрочем, интересуют меня не они, а те, что почти взрослые: восьмиклассники-десятиклассники, к которым отныне принадлежу и я. Больше всего я присматриваюсь к десятиклассникам. Почти у всех наглаженные брюки, ботинки начищены до блеска. Вид у них серьезный. Оно и понятно: всего один год — и они со школой распрощаются!
А девчонки! К ним теперь и не подступись! Расфуфырились — косы в лентах. Никак не верится, что это те же самые девчонки, которые совсем недавно сломя голову носились вместе с нами.
Вот и Оля Чровжова. Расхаживает, обнявшись с какой-то городской девочкой. На меня даже не взглянула, когда мимо проходила, хотя я нарочно встал у нее на дороге.
Ну и ладно! Подумаешь!..
Обиженный до глубины души, начинаю искать глазами Федьку. Но он не иначе сквозь землю провалился. А ведь обещал не оставлять меня одного, познакомить с ребятами. В отчаянии бросаюсь искать его, да разве в такой кутерьме кого-нибудь найдешь? Да еще с таким портфелем, с этим рыжим чудищем, которое поминутно приходится за спину прятать.
С Федькой столкнулись, когда я уже потерял всякую на это надежду. Но он не очень-то мне обрадовался: был увлечен беседой с каким-то пареньком, наверное своим одноклассником.
— Тебе чего?
— Федь! А мне куда идти?
— Становись к своему классу… Вон там, видишь, они строятся… — ткнул пальцем куда-то вбок, лишь бы я поскорее от него отцепился.
Отхожу от Федьки, смотрю вокруг во все глаза — ищу свой класс. Ага! Вон они! Какой-то паренек взобрался на крыльцо, размахивает руками и изо всех сил выкрикивает:
— Восьмари, давай ко мне!
Пробираюсь к нему, а он уже командует:
— Двоечник к двоечнику — ста-а-новись! Направо р-р-ав-няйся!
Смех, выкрики, кто-то становится в строй, кто-то нет, так как этот парень вовсе не учитель и никто ему нами командовать не поручал. Директор, который как раз проходил мимо, сделал ему замечание:
— Кононенко? Вы опять за свое!..
— А что такого я сделал, Василий Васильевич? — весело возмущается тот. — Я ведь вам помогаю!..
Хотя команды никто всерьез не принимает, однако все начинают понемногу строиться. А там уже и другие классы стали выстраиваться, и бесформенная до сих пор толпа, заполнявшая школьный двор, прямо на глазах превращается в стройные, длинные шеренги. Остаются только группки родителей и учителя во главе с директором.
Лысина директора сияет, как солнце. Он поднимает руку, и гомон вокруг него понемногу стихает. Слушаем, что он там говорит. Вернее, слушают только первые ряды, те же, что стоят подальше, почти ничего не понимают. Доносятся только отдельные, выскочившие из фразы слова. Хотим мы того или не хотим, но наши уши улавливают совершенно противоположное тому, что сейчас произносит директор.
— «…балуйтесь… безобразничайте… нарушайте школьную дисциплину…» — категорически звучат указания директора, и нам чем дальше, тем становится веселее.
Потом держала речь десятиклассница — круглая отличница, наверное: в такой день вряд ли кому другому поручили бы выступить. Она таких вещей наобещала от имени всех учеников, что никаким ангелам не снилось: и учителей слушаться, и учиться только на «очень хорошо», и дисциплину не нарушать, и вести себя примерно…
Девочка, что выступала, была красивая, но мне она не понравилась: вероятно, из тех самых, что к учителям подлизываются. Заведется такая в классе — пиши пропало! Пролезет обязательно в старосты — и тогда каждого поедом съест.
После этой девчонки говорил завуч. Он кратко рассказал, что мы будем изучать, какие новые предметы включены в учебную программу. Потом директор взмахнул рукой, с крыльца прозвучал звонок, и мы двинулись в классы.
Учитель с красной повязкой на руке громко предупреждал всех, чтобы оставляли головные уборы в раздевалке и не уносили с собой в классы. Но я кепку снял еще во дворе и спрятал в свою кожаную суму: побоялся, что украдут. Ведь это была единственная моя обнова: настоящая, купленная в магазине кепка с модной пуговицей, с узеньким козырьком. Очень уж хорошо сидела она на моей голове, а еще лучше летала, если ее изо всех сил запустить вверх.
Заходим в высокий коридор, поднимаемся по широкой лестнице. Вокруг все сияет: и пол, и стены, и потолок, и перила лестницы. Веду по ним рукою, двигаясь по ступенькам вверх, и поминутно натыкаюсь на набитые через равные интервалы короткие брусочки, сначала никак не могу понять, для чего они. Наконец осеняет: это ведь для того, чтобы ученики были лишены увлекательной возможности съезжать по перилам.
Еще интереснее на втором этаже: окна такие огромные, что к ним подойти страшно. И видно из них ух как далеко! Даже железную дорогу и станцию. Вдоль стен — металлические баки с водой. Медные краны начищены так, что аж сияют, а кружки — на цепочках, прямо как собачата. Наверное, чтобы ученики ими не дрались и не обливали друг друга водой. А вот и наш класс: просторный, высокий, с большой черной доской, светло-коричневым столом для учителя и низкими черными партами для нас. Пока я проталкивался в класс, не только задние — все места были заняты. Осталось свободным только одно, на первой парте, под самым носом у учителя.
Ничего не поделаешь, пришлось усаживаться за эту парту. Хорошо хотя бы то, что не девчонка будет сидеть со мною, а парень.
— Ты зачем сюда сел? — сердито спрашивает он.
Конечно, виду не подаю, что поначалу испугался. Отвечаю вопросом на вопрос:
— А ты чего?
Парень шмурыгнул носом, и его лицо тут же приняло не угрожающее, а насмешливое выражение:
— А-а, меня сюда все равно пересадит классрук…
— Кто, кто?
— Классрук, классный руководитель… Ты откуда? Из села, что ли? — спрашивает немного погодя.
— Из села. Ну и что?
— Все вы там подлизы…
— Я вовсе не подлиза, — обиженно отвечаю. Неприязненно смотрю на соседа: откуда он такой выискался, чтобы обзывать?
— Тебя как зовут?
— Толя.
— Толя, — повторил парень. — Толька, тюлька, фитюлька… А вот меня — Михаил Иванович Кононенко.
Сам ты тюлька-фитюлька! Тоже мне — Михаил Иванович! Попадись ты мне в нашем селе, я бы тебе показал, какой ты Михаил Иванович!..
Кононенко тем временем достает линейку и карандаш, чертит поперек парты жирную линию.
— Это моя половина, а там — твоя. Залезешь в мою, по носу получишь!
Такое для меня не в новинку: сам не раз делил с соседом парту. Но только когда ссорились. А этот — ни с того ни с сего.
Отворачиваюсь от Кононенко и делаю вид, что он мне совершенно безразличен. Не спеша расшнуровываю свой «портфель», вынимаю чистую тетрадь, ручку, а чернила уже есть на парте — в неразливайках. Чувствую, что Кононенко наблюдает за мной, но не обращаю на него никакого внимания. Если он ко мне так, то и я буду так же.
И зачем только я пошел в этот восьмой? Куда лучше было бы в ФЗУ, вместе с Ванько…
Вдруг прозвучал звонок.
— Электрический, — слышу голос соседа, но никак не отзываюсь: я все-таки на него обижен.
Шум в классе сразу утих: в дверях появился учитель.
Застучали парты, ученики дружно поднялись. Учитель бодро здоровается и быстро идет к своему столу. Раскрывает классный журнал и начинает знакомиться с нами:
— Андриенко!
— Голобородько!
— Данильченко!
В ответ поднимается тот или другой ученик. Слышу свою фамилию и так громко выкрикиваю «я», что по классу катится хохот. Учитель с удивлением посмотрел на меня.
— Садитесь!
Я опустился на свое место, а учитель назвал Кононенко. И тот, явно передразнивая меня, тоже изо всех сил выкрикнул «я». В классе снова захохотали. Учитель, наверно давно привыкший к выходкам моего соседа, только взглянул в его сторону и сказал, чтобы тот тоже садился.
Закрыв журнал, учитель сообщил нам, что его зовут Григорий Викторович и он будет преподавать нам историю.
— Григорий Историевич, — шепчет будто бы сам про себя мой сосед. Вероятно, он уже стал нудиться за этой «погранлинией», однако не я ее прочертил, не мне ее и стирать. Тем временем учитель говорит, чтобы мы достали учебники по истории, и урок начался.
Григорий Викторович рассказывает очень интересно, совсем не заглядывая в книгу. Я оперся подбородком на кулак и собрался внимательно слушать. Не успел сосредоточиться, как что-то хлясь по уху! Не иначе дробинка из рогатки.
Я аж подскочил. Тру ухо, оглядываюсь — кто бы это?
Да разве узнаешь? У всех совершенно невинный вид. Тогда я осторожно, чтобы учитель не заметил, скашиваю глаза под парту, пытаюсь найти, чем же в меня выстрелили… А ничегошеньки!
Только приготовился слушать, как опять — хлясь по уху!
Резко оглядываюсь — те же самые безмятежные лица. Но стоило повернуться к учителю, как снова — хлясь, хлясь!
Начинаю уже злиться. Во-первых, больно, а во-вторых, учителя мешают слушать. Ну, погодите же!
Торопливо ищу на ощупь в кармане… Ага, вот оно! Резинка. Тонкая, упругая, по концам две петельки: на пальцы надевать.
Кладу резинку на коленку, из тетрадки выдираю клочок бумаги. Конечно, патроном было бы куда лучше, но ничего, для первого знакомства и бумага сойдет.
Мой сосед так и стрижет глазами. Он заметил, что меня обстреливают, и теперь сгорает от любопытства: что же это я готовлю в ответ? Даже стеречь свой кордон забыл.
Я плотно свертываю бумажный квадратик, потом сгибаю пополам и сажаю на резинку, на большой и указательный пальцы надеваю петельки, что есть силы натягиваю и, не целясь, из-под локтя стреляю назад.
— Ой!..
Ага! Попал!
Кононенко от смеха давится, аж шипит, а я боюсь мигнуть — сижу навытяжку, от учителя глаз не отрываю.
— Что случилось? — спрашивает он недовольно. — Почему вы кричите, Голобородько?
— Меня кто-то по губе ударил! — жалуется тот.
— Вы как маленький! — с досадой отмахивается от него Григорий Викторович. Но Голобородько не унимается:
— Ага, маленький! Вас бы кто-нибудь так ударил!
— Ладно, ладно! Потом разберемся, — нетерпеливо прерывает его Григорий Викторович. — Кононенко, вы что, дома не выспались?
Мой сосед отрывает от парты голову и отвечает, что выспался.
Урок продолжается, стрельба тоже продолжается. Правда, она стала менее интенсивной: я прикрыл уши ладонями, и тем, кто сидит сзади, обстреливать меня теперь не так интересно. Прислушиваюсь к учителю и обещаю себе, что завтра обязательно приду с настоящими зарядами — не бумажными, а из картона. Вот тогда почувствуют.
На перемене, как только учитель вышел из класса, ко мне подошел Голобородько. Тот самый, которому я влепил свой бумажный гостинец. Он был на голову выше меня, и руки у него длиннющие, как у гориллы.
— Это ты меня ударил?
— Вовсе не я…
— Не ты? А что у тебя в парте?
Я и опомниться не успел, как Голобородько выхватил мою сумку.
— Ребята, мяч!
Сцепив зубы, я бросился к нему:
— Отдай!
— Ребята, лови! Гоп-ля!
«Портфель» стал летать по всему классу. Я кидался от одного ученика к другому, но лишь натыкался на пустые руки, а за моей спиной истошно и весело звучало: «Гоп-ля!»
Наконец, «портфель» снова попал в руки Голобородько. Он спокойно подождал, когда я подскочу к нему, и поднял вверх руки.
— Отдавай!
— А ты попробуй достать!
Я не выдержал и изо всех сил толкнул его в грудь. «Портфель» полетел на пол, Голобородько чуть не упал, тут же ринулся на меня и вцепился в волосы…
Нашу возню прервал звонок. После этого мне уже было не до уроков.
— Он тебя будет бить, — на следующей перемене сообщил Кононенко. — Сказал, что все кости тебе переломает.
— Ну и пусть… Видал я таких!
Однако на душе у меня было совсем не спокойно. Не столько тревожила предстоящая драка, сколько то, что все вокруг чужие, все против меня. Даже мой сосед, даже Чровжова Олька.
На большой перемене отправился на поиски Федьки. Если и он отречется от меня, то тогда и жить на свете не стоит.
— Знаю я этого Голобородьку, — говорит Федька. — Так, значит, когда он тебя бить будет?
— Сегодня, после уроков. — И добавляю, чтобы Федька не подумал, будто я очень боюсь: — Понимаешь, они там все за него, все против меня.
— Я пойду с тобой, — принимает решение Федька. — Ты без меня один не иди, слышишь?
Когда окончились занятия, Федька ждал меня в коридоре. По дороге наставлял:
— Он длиннее тебя, так ты его бей под дых…
Сколько времени мы дрались, не знаю. Только в голове звон стоял и глаза застилало. Да еще воздух стал совсем раскаленный. Потом кто-то меня обхватил за пояс (оказалось, что это был Федька), а я все продолжал молотить кулаками воздух, бросался вперед, хотя враг мой исчез, будто сквозь землю провалился.
— Молодчина! — по дороге домой хвалил меня Федька. — Голова здорово болит?
Я ощупывал саднящие шишки и сквозь запекшиеся губы выдохнул, что вовсе не болит.
На следующий день я появился в школе увенчанный лаврами победителя. Да еще над кем! Над самим Голобородько! Самым сильным из всех учеников восьмого «В».
Ребята, которые еще вчера не обращали на меня никакого внимания, теперь спешили первыми поздороваться. Изо всех сил жали руку, не иначе хотели сами удостовериться, такой ли я силач.
Вот в класс влетел Кононенко — красный, задыхающийся, взбудораженный. Швырнул в парту портфель, во весь голос поздоровался:
— Привет, Тюлька!
Не успел я обидеться, как он ткнул меня под бок кулаком, сказав восхищенно и весело:
— Ну и здорово же ты навешал этой дубине! Так ему и надо!
Я не спрашиваю, почему именно «надо», для меня было вполне достаточно того, каким восхищением сияли глаза Мишки. А то, что называет меня Тюлькой, — так это наверняка не по злобе, и обижаться на него потому совсем не надо.
Однако недолгим было мое счастье: прямо с первого урока меня вызывают к директору.
Шел я к нему и думал: за что же ругать будет? Ведь сколько лет учился, ни разу на приятные разговоры не вызывали. Учительская всегда была для меня местом искупления вины, суровых внушений.
— А, это ты… Ну-ка, подойди поближе!
Медленно приближаюсь к огромному блестящему столу, из-за которого зловеще сияет директорская лысина.
— Рассказывай, что ты вчера после уроков натворил.
Только теперь стало ясно, зачем я понадобился директору. Значит, про вчерашнюю драку кто-то все-таки донес. Но почему же тогда только меня одного вызвали?
Низко опускаю голову. Не знаю, что говорить директору, к тому же стараюсь упрятать свои синяки от его грозного взора.
— Дрались? — допытывается он. — Ты что, язык проглотил? Так из-за чего же вы подрались?
Отмалчиваюсь. Как ему объяснишь, чтобы понял, почему все произошло?
— Молчишь?! Значит, то, что рассказал Голобородько, правда?
Голобородько?!
От возмущения у меня перехватило дыхание. Чего-чего, а такой подлости никак не ожидал. Меня охватывает мрачное отчаяние. Теперь пусть сколько угодно меня ругает, пусть наказывает, как только вздумается, ни одного слова я больше не скажу. Все равно не поверит.
Еще ниже опускаю голову, чтобы директор не заметил слезы боли и обиды. Украдкой их глотаю, с горечью думаю: «Ну и ладно, ну и пусть!»
— Так и будем молчать? — спрашивает сердито директор.
После долгой паузы произносит:
— Хорошо. Учту, что это первое допущенное тобою нарушение. Но имей в виду: если еще кто-нибудь на тебя пожалуется, исключу из школы. Мне хулиганы не нужны.
Потом что-то медленно пишет на листке бумаги. Аккуратно складывает пополам, вкладывает в конверт, заклеивает.
Отвезешь домой и передашь матери! А теперь иди!
Совсем убитый вышел я от директора. Жег мне руку конверт, а еще больше — обида, чувство того, что меня наказали совсем несправедливо. В голове сумрачные мысли о том, что, наверное, придется оставить школу. Напоследок войти в класс (чтобы он провалился!), собрать учебники (чтоб они сгорели!) и, не взглянув ни на одного из восьмиклассников, выйти вон.
Медленно вхожу в класс, усаживаюсь за парту. Ощущаю взгляды всего класса. Наверно, такой уж несчастный у меня сейчас вид.
— Был у директора?
Кононенко совсем забыл о всяких там «кордонах», подсаживается ко мне ближе. Все вы теперь хорошие, а кто громче всех кричал, когда по всему классу мой «портфель» швыряли?
Отворачиваюсь от него, делаю вид, что углубился в учебник. Хотя, по правде, ни одного слова не понимаю, буквы так и прыгают перед глазами.
— Что он тебе говорил?
— Ругал, — отвечаю, чтобы он отстал. И, не выдержав, делюсь с ним откровенно: — Матери вот письмо написал. За вчерашнее.
— А откуда он узнал?
— Голобородько ему пожаловался.
— Голобородько?!
Кононенко или делает вид или на самом деле никак не может поверить. Потом быстро выдирает листок из тетради, разрывает пополам, еще пополам, что-то взволнованно пишет. Я даже не пытаюсь прочитать — мне все стало безразличным: решил, что в школе ни за что не останусь.
Тем временем Кононенко свертывает записку и незаметно для учителя кладет на соседнюю парту.
В классе постепенно возникает какое-то движение. Неприметное, неуловимое, тщательно скрываемое от учительского ока. Едва слышно шуршит бумага, поскрипывают перья и тихо перелетают записки с парты на парту. Вот и учитель начинает ощущать, что в классе происходит нечто необычное, несколько раз он прерывает свой рассказ. Но сколько ни приглядывается — ничего заметить не может. Куда там! В течение семи лет ученики прошли не абы какую школу конспирации.
Прозвенел звонок. Как только закрылись двери за учителем, Мишка вихрем сорвался из-за парты, бросился к Голобородько.
— Это ты директору донес?
— А тебе какое дело? — буркнул Голобородько.
— Ага, значит, все-таки донес? — наскакивал на него Мишка. — А ну пошли к директору!
— Иди сам, если тебе приспичило!
— И пойду! Ребята, кто со мной? Гаврил, ты пойдешь?
— Пойду!
Высокий парень с гладко зачесанными светлыми волосами подошел к Кононенко и стал с ним рядом.
— И я с вами!
Девочка, что сидела за одной партой с Олей Чровжовой, тоже вышла из-за парты и стала рядом с Кононенко.
— Может, и ты меня бить будешь? — с вызовом бросил Голобородько.
— Давай-ка сюда это письмо, — командует, обращаясь ко мне, Кононенко. — А ну, пошли к директору.
Письмо отдаю с неохотой. Мне почему-то стало неловко, особенно перед девчонкой.
Кроме них троих, никто больше к директору не пошел. Кто молча сидел на своем месте, а кто разговаривал, пререкался, однако все с нетерпением ждали, чем же закончится вся эта история. А когда в дверях появилась делегация и Кононенко с порога закричал: «Наша взяла!», класс взорвался таким дружным «Ура-а!», что у меня даже уши заложило. Кричали все: и те, что за меня, и те, что за Голобородько. Молчали двое: Голобородько и я.
С того дня я никогда больше не дожидался после уроков Федьку, чтобы идти домой вместе с ним. У меня появились новые друзья. И Кононенко с Гаврильченко, и Нина Рыбальченко — та самая девочка, что сидит рядом с Олей Чровжовой, и еще один парень, который имеет необычное имя Ким, то есть Коммунистический Интернационал молодежи. У Интернационала нежное девичье лицо и такие длинные густые ресницы, что любая девочка им позавидовала бы.
Все они жили в том же углу поселка, что и я. Мы шли вместе веселой, шумной ватагой, и никогда еще не было мне так хорошо, так легко и радостно на душе…
Учителя, учителя
С первых же дней, когда начались занятия, мне больше всего запоминались уроки физики. И вовсе не потому, что я питал горячую любовь к этому предмету. Если по-честному признаться, то изо всех дисциплин наимилейшей моему сердцу была та, что имела увлекательное название — «каникулы». Выставляли бы за нее отметки, всегда ходил в круглых отличниках.
Что же касается других предметов, то я рассматривал их как кару небесную, неведомо за какие грехи насланную на нас, как жестокое испытание, не пройдя которое ты не вырастешь, не станешь взрослым, тем самым невероятно счастливым существом, что может не готовить уроки, не сдавать экзамены, не сидеть каждый день по четыре-пять часов за партой.
Да разве можно сравнить нашу жизнь с жизнью Тома Сойера и Гека Финна, которым было суждено испытать такие головокружительные приключения! Как-то в конце каникул перед шестым классом, прочитав эти две книги, решил повторить подвиг героических мальчишек и отправиться на плоту по нашей речке в далекие края. Куда, и сам того не знал; во всяком случае, не ближе Черного моря.
Плот строили мы вместе с Ванько, которого без особого труда я подбил на это путешествие. Начали мы с того, что глубокой ночью похитили у дядьки Юхима, который жил у самой речки, новые ворота. На следующий день разъяренный дядька Юхим поочередно хватал за рукав каждого парнишку и допытывался, не его ли рук это дело. Мы же затащили ворота в заросли вербы и целую неделю привязывали к ним жерди, чтобы не ухнули сразу на дно реки.
За дядькой Юхимом пришла очередь моей мамы и отца Ванько: теперь они пытались дознаться, какая это нечистая сила повинна в том, что почти каждый день исчезают то пшено, то сало, то хлеб. Только что лежала целая буханка хлеба, а уж половины как не бывало. Потом стала исчезать кухонная посуда — еду-то надо в чем-то готовить, а затем, к концу сборов, и одежда. Ванько даже отцовский полушубок прихватил, мотивируя свой поступок тем, что хотя сейчас лето, но ведь не известно, сколько времени будем плавать, и в пути, вполне возможно, нас захватит зима.
Отчалили поздно вечером, когда совсем смеркалось, чтобы нас не заметили и не вытащили обратно на берег. Ванько все у меня допытывался, где завтра нас будут искать, как утопленников: на плесе против села или пониже, у обрыва?..
Проплыли мы не меньше двух часов. Было очень интересно и страшновато, особенно когда всплескивала вблизи большая рыбина. А потом мы попали на быстрину, плот понесло с такой скоростью, что в глазах зарябило, и вдруг со страшной силой ударило в корягу. Плот встал на дыбы, и мы с Ванько бултыхнулись в темный омут. Не потонули только потому, что оба плавали, как утки. Все наше имущество пошло ко дну, мне удалось спасти лишь шест, а Ванько еще долго барахтался в водовороте и с отчаянием спрашивал, не видел ли я тулуп.
Потом мы шлепали домой, мокрые и несчастные. Я нес шест, хотя толком не знал, на что он мне теперь нужен. Ванько громко убивался по поводу тулупа: что скажет он отцу, когда морозы ударят? Но все это было давно, а сейчас я с нетерпением жду, когда начнется урок физики, потому что много наслышался об Иване Даниловиче, который преподает этот предмет.
Он появился в классе, как только прозвучал звонок. Легкой, пружинистой походкой подошел к столу, повернулся к нам, негромко, но так, что услышали все, поздоровался.
Одет он был необычайно аккуратно: вышитая рубашка со стоячим воротничком, черный пиджак и синие галифе — без единой морщинки, без единой складочки, словно только что вышел из-под пресса.
Но больше всего меня поразили сапоги. Никогда еще я не видел такие до зеркального блеска начищенные сапоги. И на них хоть бы какая-нибудь пылинка! А на улице такая пылюка, что серым маревом стоит.
Налюбовавшись сапогами, перевожу взгляд на лицо учителя. Оно строгое и сосредоточенное. Серые глаза внимательно изучают класс — парту за партой. Вот они остановились на мне.
— Новенький?
Я поднялся, кивнул головой.
— В следующий раз придешь как следует причесавшись. Или постригись, если расческой не можешь пользоваться. Школа — не улица.
Сгорая от стыда, сажусь на место. Теперь я уже жалею, что лохматил волосы, когда мама их так ласково приглаживала.
В это время Иван Данилович распорядился:
— Достаньте учебники.
Все, как один, быстро вытащили из парт и положили перед собой новенькие книжки.
— Откройте на тридцать шестой странице. Третий сверху абзац зачеркните. Там даны неточные определения некоторых физических явлений.
Он указал еще несколько абзацев, и мы с наслаждением их повычеркивали.
Урок он начал так:
— Вспомните, как вы купались этим летом. Забирались, наверное, на вышку или на крутой берег и прыгали в воду. Почему вы прыгаете вниз головой или ногами, а не животом, боком, спиной?
— Чтобы не убиться, — хором отвечает класс.
— Правильно, чтобы не ушибиться. Каждый раз вы стараетесь прыгнуть так, чтобы сопротивление воды было как можно меньше. То есть вы используете один из законов физики.
Ты смотри! До чего же здорово!..
Постепенно физика становится самым любимым предметом.
Иван Данилович терпеть не мог зубрил. Он никогда не спрашивал по учебнику, а, вызвав к доске, задавал какую-нибудь такую головоломную задачу, над которой надо было хорошенько помозговать.
Написав на доске условия, он сразу же садился за стол. Мы же поспешно хватались за ручки, потому что каждый из нас втайне хотел как можно быстрее управиться.
Почти всегда первой была Нина Рыбальченко. У нее не мозги, а какая-то счетная машина: наверное, не существовало такой задачи, чтобы она не могла ее решить. Щелкала их как семечки.
Мне никогда не удавалось вырваться первым, но и в последних не пасся.
В конце первого месяца, подводя итоги наших успехов, Иван Данилович вместе с Ниной Рыбальченко и еще несколькими учениками вспомнил и меня. Правда, он не назвал мою фамилию, но это и так было понятно, когда он сказал:
— Еще один из новеньких совсем не плохо осваивает материал.
И хотя в нашем классе было трое новичков, однако я был непоколебимо уверен, что Иван Данилович имел в виду только меня. Ну а если так, то как следует помозгую и обязательно открою новый закон, о котором никто не знал и не слышал. Да не просто какой-то там закон, а всем законам закон. Чтобы без него не только в воду сигануть, а и шагу ступить было нельзя. Чтобы Иван Данилович, уже совсем старый, седой и сгорбленный, свой первый урок в восьмом классе всегда начинал с моей фамилии:
«Вот за этой партой и сидел наш великий ученый. До сих пор не могу себе простить, что однажды забыл его фамилию и назвал просто „новенький“. А теперь вот вся физика основывается на его гениальном законе!..»
Чтобы в будущем легче было разыскать мою парту, вырезал на ней свои инициалы.
Возможно, что я и в самом деле стал бы физиком, если бы Иван Данилович не ушел из нашей школы.
Новый учитель физики был не столько обременен знаниями, сколько годами. Может быть, у него и были знания, но он их держал в строжайшей тайне и, отвечая на наши неожиданные вопросы, как щитом, прикрывался учебником физики. У нас сразу же возникло подозрение, что он преподавал совсем другой предмет, а за физику взялся лишь потому, что надо было хоть кем-нибудь заменить Ивана Даниловича.
Немного погодя мы проведали, что ему перевалило за шестьдесят и он ждет не дождется пенсии. Что единственная у него страсть — это цветы: дома не сад, а цветник, не комнаты, а оранжереи. Он сам рассказал нам об этом во время урока, и мы потом частенько злоупотребляли его увлечением. Поинтересуемся, бывало, откуда у нас появились розы. Или что-нибудь о тюльпанах спросим. И он тут же, забыв про физику, восторженно повествовал о редкостных цветах и опоминался лишь тогда, когда зазвенит звонок. Мимоходом заглядывая в учебник и уже совершенно другим голосом, безразличным и будничным, говорил нам, чтобы мы к следующему уроку выучили такой-то параграф.
Звали его Юрий Сергеевич, мы же окрестили Юсом, потому что он имел привычку начинать каждую фразу с непременного «ну-с»:
— Ну-с, так что же мы будем сегодня отвечать?
Сидит, слушает, кивает головой. Мели, что только в голову взбредет, только не сбивайся. Остановишься, а он все кивает.
— Все, Юрий Сергеевич.
— Ну-с, ладно… Давайте сюда дневник.
Отметки ставил в зависимости от того, что ты получил по предыдущему предмету. Ежели «удовлетворительно», то, сколько ни проси, сколько ни моли, более высокой отметки ни за что не добьешься.
— Юрий Сергеевич, я ведь вам все ответил!
— А вот это что у вас? — тыкал пальцем в дневник.
— Так ведь это по языку! При чем же здесь физика?
— А при том-с, что надо все как следует учить! — начинал сердиться Юс. — Все-с, молодой человек!
И что удивительно: мы даже не обижались на него. Попытайся какой-нибудь другой учитель с нами так поступать, так ого какой шум мы бы подняли! До самого директора дошли бы. А тут только плечами пожмешь и под веселый хохот товарищей садишься за парту.
Юс пробыл у нас до конца учебного года: додержался-таки до пенсии и, получив ее, весь отдался занятиям со своими возлюбленными цветами.
О парашютной вышке, о том, что такое «зайцы» и с чем их едят
Такого серьезного парня, как Вася Гаврильченко, никогда в жизни я еще не встречал. Думается, что никто, даже мой заводной сосед Мишка Кононенко, в котором энергия так и бурлит, не сможет вывести его из равновесия. Когда, бывало, Мишка начинает к нему приставать, он никогда не рассердится, лишь пристально посмотрит и скажет:
— Ты мне мешаешь!
И Мишка, неугомонный Мишка, от которого не так-то легко отделаться, тут же отступает и только пробурчит:
— Тоже мне Сократ нашелся! Диоген в бочке.
Почему именно в бочке, никто из нас не знал. Доискиваться до логики в мышлении Мишки было совершенно напрасно: никаких правил он не придерживался, будучи по своей природе стихийным бунтарем и анархистом. Его будущее таилось в глубоком мраке, так же, впрочем, как и мое.
Сказать же так про Васю Гаврильченко было невозможно. Достаточно заглянуть в его книги и тетради, чтобы не оставалось никаких сомнений, кем после средней школы станет Гаврильченко.
На полях, на обложках, на промокашках — всюду красовались самолеты самых различных конструкций. От тяжелых бомбардировщиков до юрких истребителей. Самолеты на земле и в небе, самолеты в «мертвой петле» и падающие в пике, самолеты, которые заходят в хвост один другому и мчатся навстречу в лобовой атаке. Эскадрильи, армады крылатых машин заполоняли учебники и тетради Василия и не раз бомбили, сбивали с высоты хорошие, честно заработанные отметки. Так, например, Мария Федоровна, которая никак не разделяла Васино увлечение, каждый раз, возвращая тетрадку по родному языку, говорила укоризненно:
— Вы опять понарисовали свои страшные самолеты! Приходится снижать вам за это оценку.
Гаврильченко молча брал тетрадь, больше похожую на аэродром, и шел на свое место. С учительницей он даже не пытался спорить: сознательно жертвовал высокой отметкой ради любимого дела.
Среди его рисунков часто встречались и планеры и парашюты: Гаврильченко посещал курсы планеристов. Он единственный из всех восьмиклассников поднимался в небо, и, как меня убеждал Мишка, далеко не каждый десятиклассник может похвастаться тем, чтобы ему доверили летать самостоятельно на планере.
— Он даже с парашютом прыгал!
Смотрю на Гаврильченко с еще большим уважением. Кто бы мог подумать: самый обыкновенный паренек — и уже, нате вам, парашютист! Теперь-то мне понятно, почему он так спокойно относился к сниженной оценке по родному языку. Будь я на его месте, тоже глазом не моргнул бы.
Мне нестерпимо хочется подружиться с Гаврильченко. Ужасно завидую тем ребятам, которые с ним запанибрата. Хожу и придумываю, что бы этакое сотворить, чем привлечь к себе внимание Василия.
Неожиданно помогла Ольга Чровжова, с которой у нас мир был восстановлен. Поэтому на радостях, что мы помирились, Оля и выкрикнула мое имя, когда выбирали редколлегию стенной газеты.
Я, конечно, сделал вид, что мне совершенно безразлично, выберут или нет, но в глубине души очень хотел, чтобы выбрали.
И меня все-таки выбрали. Тут-то я вовсю постарался, чтобы газета понравилась Васе: под заголовком нарисовал огромный самолет, а внизу — ледяные торосы с челюскинцами. А еще сочинил стихотворение. Большущее, на всю колонку. Вложил в него все, что знал о челюскинцах, о героях-летчиках, которые их вызволяли из ледяного плена. Закончил же тонким намеком на Гаврильченко: и среди нас, мол, учится будущий летчик; если понадобится — и он на край света полетит.
Гаврильченко долго рассматривал газету, а я стоял рядом, вроде бы в другую сторону глядел. Потом он, наконец, повернулся ко мне, ткнул пальцем в стихотворение:
— Это ты написал?
— Я.
— Молодчина! — Помолчал и признался: — Знаешь, я тоже одно стихотворение сочинил… Про авиацию. Неделю промучился. Ух, тяжелое дело стихи писать! А тебе тяжело?
— Мне? Раз плюнуть! Вот это я за пять минут написал! — соврал я, хотя просидел над ним почти всю ночь.
Вася с уважением смотрит на меня. Потом говорит:
— Я бы хотел, чтобы ты посмотрел мое стихотворение.
— Ну так давай!
— Да оно у меня дома. Если хочешь, завтра принесу. Или, знаешь что, пошли после уроков ко мне!
И вот я в гостях у Гаврильченко, в его собственной комнате. Здесь господствует такой идеальный порядок, что я опасаюсь сделать лишний шаг, чтобы, упаси бог, не наследить. Только теперь вижу, какие у меня ужасные ботинки: невесть когда чищенные, все в пыли, с обшмыганными, поцарапанными носами. Знать бы, хоть чем-нибудь вытер.
Вася вышел, а я стал осматриваться вокруг. Тут есть на что посмотреть. На этажерке, на высоких подставках, даже на шкафу — модели самолетов и планеров. Стены увешаны фотографиями. На них тоже самолеты и прославленные летчики. Вот улыбается Чкалов — его я сразу узнал, вот Водопьянов, вот Беляков… А это кто? А-а, Коккинаки, тот самый, о котором сложили стихотворение, известное всей стране:
Бравый генерал Араки Всюду ищет с нами драки. Если надо, Коккинаки Долетит до Нагасаки И покажет всем Араки, Где и как зимуют раки.Входит Вася, уже не один, а с высокой белокурой женщиной, очень на него похожей.
— Познакомься, мама, это мой школьный товарищ.
Женщина протянула мне руку, я смущенно поздоровался, а из головы не выходило: какие же у меня ботинки! Мне казалось, что мать Васи все время на них смотрит.
— Идемте пообедаем вместе с нами, — приветливо приглашает она. — Вы оба ведь прямо из школы.
Я отчаянно отказываюсь.
— Ну, не хотите, как хотите, — отступилась от меня Васина мама. — Тогда посидите, посмотрите пока книжки.
Они вышли, и я остался один. Сижу, прислушиваюсь, как приглушенно позвякивает посуда в соседней комнате, а голова аж кругом идет — так есть хочется.
В конце концов они пообедали, и мои мучения закончились. Но настроение ни капельки не улучшилось. А когда Вася читал свое стихотворение, я его почти не слушал. Поэтому, когда он закончил, ничего сразу сказать ему не мог. Увидев разочарованное лицо автора, начал тут же выкручиваться:
— Стихотворение мне понравилось. Если только заголовок немного изменить, совсем будет хорошо.
— Правда?
Вася даже зарозовелся, и вид у него стал счастливый. Начал снова рассказывать, как он мучился над этим стихотворением. Одна рифма особенно не получалась. К слову «самолет» все время липло «идиот».
Мы от души хохочем, и я думаю, какой же чудесный хлопец этот Вася и как здорово получилось, что мы с ним стали друзьями. Я его сейчас ни на кого, даже на Олю Чровжову, не променяю.
Он проводил меня почти до самого дома. По дороге говорил о своем увлечении самолетами, о курсах планеристов. Когда прощались, пообещал, что завтра возьмет меня с собою.
— Увидишь, как на планерах летают.
На следующий день мы отправились на аэродром.
Собственно говоря, это было самое обыкновенное поле, на котором стояли старенький тренировочный самолет и несколько планеров. Самолет кургузый, толстобокий, как шмель, планеры же тонкие, словно осы, с узкими длинными крыльями. Возле них суетились какие-то пареньки, тянули толстую длинную веревку, как змею, извивавшуюся в траве. Вася мне объяснил, что это амортизатор — планеры запускаются с его помощью. Он запросто здоровался со всеми за руку, знакомил со мною:
— Это мой товарищ. Поэт.
На «поэта», однако, никто не обратил внимания — так все были озабочены.
Потом Вася сидел в планере, а я вместе со всеми натягивал веревку и что есть мочи кричал: «Раз!» Неожиданно веревка ослабела, и я кубарем покатился в траву. Ребята, которые успели отскочить, хохотали, но я нисколько не обиделся, а, задрав голову, неотступно следил за планером, в котором сейчас летел мой друг.
Когда мы возвращались с аэродрома, я спросил Васю: правда, что он из самолета с парашютом прыгал? И, по правде говоря, был немного разочарован, когда тот ответил, что прыгать-то прыгал, но не из самолета, а с парашютной вышки.
— Ты не думай, с парашютной вышки тоже не так-то просто спрыгнуть, — добавил Вася. — Если хочешь, то давай на следующей пятидневке сходим. Только сорок копеек захвати. За то, чтобы спрыгнуть, надо платить.
Федька, которому я похвастался, что собираюсь прыгать с парашютной вышки, ехидно спросил, заготовил ли я себе на гроб доски. Там, дескать, каждый третий если не насмерть разбивается, то обязательно покалечится.
— Гаврильченко ведь прыгал! И ничего, цел-целехонек.
— Ну, это ему просто повезло. Стропы у них знаешь какие? Р-раз — и лопнули. Веревки ведь гнилые. Не лопнут, так вокруг шеи замотаются: р-раз — и ты покойничек. Приземлиться тоже дело непростое. Ноги не так поставишь — из колен кости выбивает…
— Сам-то ты прыгал?
— Прыгать не прыгал, зато видел, как другие калечатся.
Я, конечно, не знал, верить мне Федьке или нет, так врать он мог — похлеще любого другого. Но даже если все это было правдой, мне все равно отступать невозможно. Лучше стать инвалидом, чем в глазах Гаврильченко навсегда опозориться.
Теперь только надо достать сорок копеек. Так что ничего другого мне не оставалось, как податься в «зайцы».
Хочу предупредить, что «зайцы», о которых речь идет, — это вовсе не те безбилетники, что пока еще встречаются в наши дни. Когда я сталкиваюсь с современным «зайцем», меня невольно охватывает грусть: до чего же измельчало это племя! До какого позорного состояния оно докатилось, если самая обыкновенная тетка с повязкой контролера может поймать сразу не одного, а двоих и даже троих!..
Чтобы успеть на работу, подниматься приходилось до рассвета. Поезд шел час или два с остановками через три-четыре километра. Поэтому каждый старался захватить место на верхней полке, чтобы еще немного поспать.
Когда же возвращались с работы, спали меньше. Правда, те, кто постарше, и вечером забирались на полки: шапку под ухо, телогрейку на голову и похрапывали себе до своей остановки. Молодые же играли в подкидного дурака, козла, а то и в шалабаны. Последняя игра пользовалась особой популярностью. Во-первых, потому, что не нужны ни карты, ни домино, только руки и головы, а во вторых, в ней могло быть сколько угодно участников.
Игра заключалась в том, что кому-то одному предлагали нагнуть голову и закрыть глаза. Остальные становились вокруг, и двое-трое из них — раз! раз! — что есть силы наделяли щелчками. Потом все выставляли вперед сжатые в кулак руки с большими пальцами вверх и выкрикивали: «Кто?» Сразу угадаешь — твое счастье, теперь бьешь ты. А не угадал — снова подставляй голову. Пока доедешь, то столько тебе щелчков навешают, что хоть на базаре торгуй.
Я тоже не раз участвовал в этой увлекательной игре. Поначалу мама никак не могла сообразить, почему это у меня вся голова в шишках.
— Ты что, гвозди ею забиваешь?
Просветила маму мать Миколы:
— Так это они, песьи головы, в щелчки играют. Моему почти все мозги отшибли — заикой уже стал…
Получив такую информацию, мама пригрозила: если хотя бы еще одну шишку домой привезу, не посмотрит, что я восьмиклассник…
Но все это впереди. А пока что я первый раз еду «зайцем»: рука в кармане, в потной ладони зажаты сорок семь копеек. В голове — горячая надежда: может, контролеров не будет, не зайдут они в наш вагон, минуют его. Другие хоть бы что: разговаривают, шутят, смеются. Я же каждый раз содрогаюсь, когда хлопают двери и кто-то заходит из тамбура. Будто бы и в самом деле заячью шкуру на себя напялил.
Вот оно!
— Граждане, приготовьте билеты!
Вижу: приближаются два контролера. А в противоположном конце — еще один. Широко расставил ноги, спиною дверь подпирает. Проскочить — нечего и думать.
— Ваш билет! Ваш билет!
Все ближе и ближе. Щелкают, как в сердце дырки пробивают.
— Ты чего трясешься? Безбилетник небось?
Сидящий напротив человек в засаленной спецовке сочувственно смотрит на меня. Возможно, сам когда-то вот так же дрожал.
— Сыпь, паренек, под лавку. Может, проскочишь.
Я, конечно, сейчас же полез. Натянул поглубже на уши кепку, учебники и тетради за пазуху — и, между ногами, навстречу контролерам. Только бы до другого конца вагона добраться, до той двери…
— Ваш билет! Ваш билет!
И вдруг перед глазами рука. Красная, огромная, словно лопата. Пальцами шевелит, движется прямо на меня. Прячусь от нее дальше, дальше, а она — хвать меня за плечо!
— Ага, еще один!
Изо всех сил упираюсь, судорожно вцепившись в чей-то сапог. Сапог от меня отбрыкивается, кто-то яростно кричит:
— Какой там черт ногу выкручивает?!
Но я не отпускаю, совсем ошалев от ужаса. Вопреки всему надеюсь удержаться под лавкой. Вдруг появляется еще одна рука, хватает за штаны. Р-раз! Меня так выдергивают, что обмотанная синей портянкой чья-то разутая нога только мелькнула перед глазами. Прижав к груди сапог, я вихрем вылетаю из-под лавки.
— Сапог… сапог украли!.. — звучит истошный голос, и в купе, в которое меня вытащили, вскакивает здоровенный дядька — одна нога босая, другая в сапоге.
Сюда сразу же набивается толпа любопытных.
— Что случилось, что там такое?
— Сапог украли! На ходу человека разули!
— Какой там сапог! «Зайца» поймали!
— А зачем он тогда с людей сапоги стягивает?
Возникает бурный спор: одни утверждают, что я самый обыкновенный «заяц», другие настаивают, что, конечно же, я вор. Контролеры, не обращая никакого внимания на шум и гам, ведут меня в соседний вагон и заталкивают в служебное отделение.
Тут полным-полно выловленных «зайцев». Одни хмурые, перепуганные, другие беззаботные, даже веселые, видно, что им это не впервой. Один из таких многоопытных сразу подсаживается ко мне:
— Курить есть?
— Не-е…
— Эх, посмолить бы с досады… Да ты не кисни: держись меня — не пропадешь.
Глаза у парня жуликоватые, лицо все в рябинках, а нос все время подергивается. Нагнулся ко мне поближе, поинтересовался:
— Ты живешь-то где?
Я ответил так, как есть.
— Надо же, ведь я совсем рядом! Слушай, сосед, давай рванем…
— Чего рвать-то?
— Бежим, дурень! Тебя-то как звать? Толька? Ты смотри, и меня ведь Толька звать!
Новый знакомый чем дальше, тем больше мне нравится. К тому же просыпается робкая надежда, что вдруг удастся как-нибудь спастись. «Ни за что больше „зайцем“ не поеду, — истово сам себе даю клятву. — Только бы убежать!»
А поезд мчится и мчится вперед, оставляя за собой маленькие станции. Вот и нашу проскочили. Скоро узловая станция, где всех нас сдадут в милицию.
— Слышь, — шепчет приятель, — когда выводить будут, так ты первым не иди, а держись посрединке. Как дерну за рукав — сразу под вагон кидайся.
— А ну как поймают?
— Да они и ловить не будут: тогда все другие у них разбегутся. Ты слушай меня — дома ночевать будешь.
Вот и станция. Ревизоры выстроились у ступенек.
— А ну, выходи!
Я иду следом за новоявленным спасителем.
Только мы спустились на перрон, он дерг меня за рукав — и под вагон.
— Сю-р-р-р! Сур-р-р! Лови! Держи!
Мчусь за тезкой, только рельсы мелькают. Проскочили под одним эшелоном, другим… Скатились с насыпи в молодые сосенки — аж треск кругом пошел.
Ух, кажется, убежали!
Лежим, воздух ртом хватаем, никак отдышаться не можем.
— А ты как думал? Со мной нигде не пропадешь!
— Да-а… Как же мы теперь домой доберемся? — печалюсь я.
— Домой? Так это проще простого. Сядем на товарняк — по-барски довезет. Ты прыгать с поезда умеешь?
Отвечаю, что умею. Как-то раз так спрыгнул, что три дня потом отплевывался: песку полный рот набил.
— Подгадывай так, чтобы насыпь была высокая и песчаная. Тогда и скорость нипочем. Ноги вперед, голову в руки, чтобы далеко не откатилась, — смеется парень, — и сигай…
Вскоре забрались на товарный поезд и ехали «как баре». И я таки сиганул: с высоченной насыпи так покатился, что небо и земля перемешались, только руки и ноги мелькали. Хорошо еще, что никакого пенька по пути не оказалось, — разлетелись бы вдребезги и он, и я. Потом поднялся и долго стоял, пьяно пошатываясь, потому что земля все еще колыхалась подо мною и солнце шло кругом.
Опамятавшись немного, собрал книжки-тетрадки и направился домой. Некоторое время шел вдоль железнодорожного полотна — рядом гудели, позванивали сияющие, отполированные тяжелыми колесами рельсы. Где-то вдали, в чаще леса замирало гулкое пыхтение, таял кудрявый дымок.
Недавние приключения, происшедшие со мною, постепенно теряют мрачные краски. К тому же в горячей ладони — «честно заработанные» сорок семь копеек. А впереди сколько еще поездок в город и обратно!..
Мои заячьи уши, до сей поры прижатые, снова поднимаются вверх. Я сбегаю с насыпи на дорогу, что ведет к селу, шагаю уже бодро и весело и на весь лес напеваю популярную песню про летчиков:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор, Нам разум дал стальные руки-крылья, А вместо сердца — пламенный мотор! Тор! Тор! Тор! Трум-ба-бум-ба-тор!..Парашютная вышка стояла недалеко от Дворца культуры железнодорожников, посредине парка, на возвышенности. Высоченное, все из дерева сооружение, внизу широкое, а наверху узкое — там на маленьком пятачке площадки едва умещались два человека. Вот оттуда-то и прыгали.
Взбираюсь вверх по крутой лестнице, с каждой ступенькой выше и выше, а в животе аж холодеет и под сердцем сосет от одной только мысли, что придется оттуда прыгать.
Хорошо, что хоть Гаврильченко рядом нет. Я решил, что сначала попробую сам. Тем более что денег у меня — сорок семь копеек.
Вот я и наверху. Вцепляюсь в поручни, робко взглядываю вниз. У-у-у…
Люди там как спички. Даже самые высокие деревья кажутся кустиками, мне до колен. Видно все далеко-далеко, горизонт вроде бы отступил вокруг, а городок — как на ладони.
— Ты это что, ночевать здесь собрался? — спрашивает меня паренек в синем галифе, на босу ногу и рубашке навыпуск. Сам он худой и длинный, да я его иным и не представлял: раз вышка такая высоченная, то и он должен быть высоким.
— Ну, давай прыгай! — командует и показывает на парашют, что топорщится над пропастью. А стропы тонкие-претонкие, да еще Федька ведь говорил, что они из гнилых веревок.
Паренек их подтягивает, разматывает лямки.
— Давай сюда!
Отступать некуда. К тому же и деньги заплачены — целых сорок семь копеек… Быстро присаживаюсь и начинаю расшнуровывать ботинки, чтобы весить хоть немного поменьше.
— Ты чего это вытворяешь? — удивляется паренек.
А мне уже не до разговоров. Торопливо стягиваю левый ботинок, правый, поднимаюсь, зажав их в руках.
— Ты зачем разулся?
— Да так, — отвечаю, все еще не зная, что мне делать с ботинками. Оставить здесь на вышке? Вдруг парень их потом не отдаст, скажет, что их сбросил следом за мной? Кинуть вниз? А что, если кто-нибудь украдет?
— Ты будешь сегодня прыгать? — уже не на шутку сердится парень, и я, так ничего не решив, безропотно лезу в лямки. Он что-то застегивает у меня за спиной, подталкивает к краю пятачка, командует: — Прыгай!
Мне бы сразу и прыгнуть. А я, замешкавшись, глянул вниз, в жуткую пустоту, и решимость моя сразу стала маленькой, как маковое зернышко. Пячусь назад, отчаянно упираясь босыми ногами в горячие доски, а парень, которого я чуть не столкнул с вышки, дубасит кулаками в мою дугою выгнутую спину и перепуганно кричит:
— Ты что, спятил?! Прыгай, или я тебе сейчас башку сверну.
Собираюсь с духом и лезу через перила.
— Куда ты? — вопит. — Прыгай прямо!
Эге, тебе хорошо командовать — прямо!.. Прямо ведь еще страшнее!
Тогда парень отлепляет меня от перил и сталкивает с вышки.
Блеснул окованный железом пятачок, мелькнули перила, метнулись навстречу зеленые пики деревьев. Меня тряхнуло, крутануло и заболтало, как в люльке. Хочу в стропы вцепиться, чтобы из парашютных лямок не выскочить, и только теперь до моего сознания доходит, что в каждой руке у меня по ботинку. Изо всех сил прижимаю их к груди и, болтаясь из стороны в сторону, плыву к земле…
Федька никак не хотел верить, что я с вышки прыгал:
— Ой, не смеши, а то помру!
У меня от такой обиды даже слезы на глазах выступили:
— Пошли тогда к вышке, сам спросишь!
— Хе, буду я еще ходить куда-то! Что я — вышки твоей не видал?
Ухожу от Федьки. И так я его сейчас ненавижу, что в груди печет.
Утешение получил от Гаврильченко: тот мне сразу поверил. Только спросил, почему я пошел без него. Я ему что-то наплел про товарища, который сам никак не отваживался прыгнуть. Вот мне, дескать, и пришлось провожать его на вышку, силой спихивать вниз.
Кононенко тоже поверил. Только заметил, что ежели прыгать, то надо прямо с самолета. Да я его за это время малость уже раскусил: для Мишки вообще середины не существовало. Доведись ему прыгать, так давай только такой самолет, который поднял бы его аж в стратосферу.
Маскулинум, фемининум, нойтрум
Спроси меня кто-нибудь, какая дисциплина самая ненавистная, я, не колеблясь, назвал бы немецкий язык. По правде говоря, мне никогда не приходилось встречаться ни с одним учеником, который его любил бы. Да и за что можно было любить этот предмет, если он требовал постоянной зубрежки, заучивания слов, которыми мы не пользовались вовсе: ни на других уроках, ни тем более вне уроков. Но однажды мне все-таки довелось применить знание немецкого языка.
Случилось это в седьмом классе, где-то под Новый год. В нашем клубе тогда появился бильярд — огромный стол, покрытый зеленым сукном. Каким образом его направили в сельский клуб, никто толком не знал. Возможно, наш клуб перечислил деньги на инструменты для духового оркестра, а их не оказалось. Тогда вместо труб и кларнетов нам и подбросили бильярд. До сих пор вспоминаю ту сцену: возле только что вернувшейся из района грузовой машины стоят рыжий парень — заведующий клубом Иван — и заведующий сельсоветом дядька Андрей, который громыхает на всю улицу:
— У тебя голова на плечах есть? Ты что этакое привез?
— Так это же бильярд…
— «Билярд, билярд»… Гроб тебе из него сколотить — вот тогда и будет тебе билярд!
Как бы там ни было, но не отсылать ведь обратно, коли уж привезли. И дядька Андрей, для порядка покричав еще, махнул рукой.
Бильярд собирали два плотника: сколько дней морочились с ним. Где молотком, где обушком, по своему разумению, где подогнали, а где и подтесали. Шары после той экзекуции катились как пульки — все к одному борту, к одной и той же лузе. Парни ходили вокруг с киями, штрикали то один шар, то другой, а мы лишь с завистью со стороны глазели. Нам даже руки сводило — так хотелось взять кий, да Иван упорно отгонял нас от бильярда — зеленое сукно, видите ли, берег.
Наконец однажды он сказал мне и Ванько, что позволит несколько раз ударить кием по шарам, если мы очистим от снега дорожку от клуба до проезжей дороги.
Снегу тогда навалило ой-ей-ей сколько. От клуба до дороги было не меньше четырехсот шагов, пришлось нам с Ванько немало попотеть, пока справились. А Иван время от времени выходил на крыльцо и покрикивал:
— Шире, шире разгребайте! Чтобы и машина могла пройти!
От нас валом валил пар, когда, управившись, мы вошли в клуб. Тут Иван снова заколебался:
— А вдруг сукно порвете? Кто тогда платить будет?
Как мы его ни уверяли, что ни за что не порвем, как ни просили, Иван так и не подпустил нас к бильярду.
— И не просите, ребята, ничего у вас не выйдет! Идите лучше на балалайке поиграйте.
Обиженные до глубины души, возвращались мы домой. Наши сердца пылали жаждой мести. Ванько предлагал взять в руки лопаты, снова засыпать дорожку снегом, да еще полить водой на ночь, чтобы потом грыз ее Иван зубами. Но я охладил друга, сказав, что разве, кроме нас, не найдутся в селе другие такие же дураки? Ивану стоит только свистнуть — руками выгребут! Нет, если мстить как следует, то надо что-нибудь другое придумать. Такое, чтобы Ивана всего скрючило.
И я придумал.
Иван был влюблен в нашу молоденькую учительницу немецкого языка Парасю Михайловну. Когда она появлялась в клубе, Иван словно пьянел, начинал терять равновесие на ровном месте и даже билеты забывал спрашивать. Мы этим частенько пользовались: шли гурьбой за Парасей Михайловной. Пока Иван в себя придет, нас, глядишь, добрый десяток в клуб проскочит.
Влюбленность Ивана не была тайной и для Параси Михайловны. Но она почему-то не испытывала от этого никакого удовольствия, а сильно гневалась на Ивана и не раз сердито его отчитывала, чтобы перестал таращить на нее глаза и не делал для всего села посмешищем.
Вот я и решил написать ему вроде бы от Параси Михайловны записку, чтобы Иван узнал, чего он на самом деле стоит. Поначалу писал прозой, но моя душа, горевшая праведным гневом, требовала высоких чувств, и я, несколько раз перечеркнув написанные строки, ударился в поэтический слог. Спустя час напряженной творческой работы вот что получилось:
Рожа у тебя как у жабы, Голос у тебя как у бабы, Глаза у тебя как у рака, А сам рыжий, как собака.Прочитал Ванько. Тому очень понравилось. Тогда я изготовил конверт, заклеил вареной картошкой и вручил Ванько, чтобы отнес в клуб и сказал, что это от Параси Михайловны.
Но Ванько заупрямился: а что, если Иван успеет прочитать «любовное послание», прежде чем он успеет дать деру?
Тогда-то я и додумался переписать свои стихи немецкими буквами. А так как Иван никогда в жизни немецкий язык не учил, то, пока доберется до смысла, мы с Ванько успеем отбежать на расстояние, вполне для нас безопасное.
Не мешкая мы уселись за стол, раскрыли учебник немецкого языка и принялись за дело. Ни одного домашнего задания мы так усердно никогда не готовили.
Наконец труд был завершен. Старательно переписал я стихи, да еще подписался: «Параска Михайловна». Снова в ход была пущена картошка, конверт тщательно заклеен, но мне показалось это недостаточным, я еще нарисовал сердце, пробитое стрелой.
— Здорово! — одобрил Ванько. И, наморщив лоб, добавил: — Теперь еще подпиши: «Жду ответа, как соловей лета».
Дописал и это!
— А может, он уже знает по-немецки? — допытывался осторожный Ванько.
— Да откуда ему знать-то? Он ведь всего четыре класса кончил.
Договорились, что понапрасну рисковать не будем и, как только Иван распечатает конверт, сразу же дадим стрекача.
Ивана мы застали в клубе. Он как раз скамейки расставлял перед киносеансом.
— Ага, ребята! — обрадовался он. — А ну, давайте, помогите!
— Нам некогда. Мы вот письмо тебе принесли.
— Какое письмо?
— От Параси Михайловны.
Услышав о Парасе Михайловне, Иван стал еще более рыжим. А когда взял из моих рук конверт и увидел пронзенное стрелою сердце, то совсем запылал, и мы, чтобы не оказаться в самом центре пожара, тут же улепетнули из клуба.
— Хлопцы! Эй, хлопцы! — Иван уже выскочил на крыльцо и отчаянно махал рукой. — Помогите записку прочитать! Дам на бильярде поиграть!
— Пусть кого дурней себя поищет, — мстительно выдыхал на бегу Ванько. — А здорово мы с тобою придумали!
Я, конечно, соглашался, что действительно придумано здорово, особенно если Иван разыщет кого-нибудь пограмотнее себя и услышит то, что сказано о нем в письме. Откуда же мне было знать, что у Ивана в голове в самом деле клепок не хватает. Что он, не найдя среди взрослых знатока немецкого языка, дождется Парасю Михайловну и вручит ей записку. Да если бы одну записку, а то ведь еще с конвертом, на котором написано: «Жду ответа…» — и сердце, пробитое стрелою.
Читать послание Парася Михайловна не стала. Она только спросила Ивана, который совсем плавился от счастья, кто ему передал письмо, и сразу же ушла из клуба.
После этого случая и того, что за ним последовало, к немецкому языку я окончательно охладел. Уже в восьмом классе этот предмет преподавала Клара Карловна. Она и внешне была типичная немка: белокожая, беловолосая, с редкими белыми ресницами над холодными бледно-голубыми глазами. С нами разговаривала исключительно по-немецки и только изредка что-нибудь поясняла по-русски. Часто я ее вовсе не понимал и переспрашивал Кононенко.
Иногда Кононенко переводил, а иногда нес полнейшую околесицу. Я, конечно, обижался, а Клара Карловна, уловив наше перешептывание, стучала по столу длинным сухим пальцем и строго предупреждала:
— Но! Но!
Моей особой Клара Карловна заинтересовалась в первый же день нашего знакомства. Когда поручила мне прочитать новый текст из учебника, то едва не упала в обморок от моего «немецкого» произношения.
— Генуг! Генуг! — аж стонала немка.
После меня вызвала Олю Чровжову, у которой произношение было никак не лучше. И тогда она приняла решение: прикрепить к каждому новенькому хорошего ученика из нашего же восьмого класса.
— Как ето говорит? Взат… Взат…
— На буксир, — первой догадалась Оля.
— Я, я! На пуксир.
Мне сразу же стало интересно: кого назовет Клара Карловна? Очень хотелось, чтобы Васю Гаврильченко. Неизвестно только, примерный ли он у нее ученик или нет?..
Нина — хорошая девочка, вот только педагог из нее никудышный. Возможно, это потому, что не хватает терпения. Или нервов, как говорит моя мама.
— Ты просто невозможный! — всякий раз взрывается Нина и подскакивает с места. Щеки ее пылают, губы дрожат, в глазах блестят гневные огоньки. — Дер! Понимаешь, дер, а не ди!
Я тоже начинаю сердиться: почему именительное мужского рода вдруг в немецком языке становится женского?..
Чем глубже мы с Ниной забираемся в дебри немецкой грамматики, тем чаще ссоримся. И не однажды Нина, отшвырнув учебник, кричала, что больше у нее сил нет. Что я кого угодно своими «почему» до слез доведу.
— Завтра же скажу Кларе Карловне, пусть кого-нибудь другого к тебе прикрепит!
— Ну и говори! Подумаешь, тоже мне учительница нашлась! Сама ничего толком не знаешь!
— Ах, так!..
Нина хватала учебники, ожесточенно запихивала в портфель и выскакивала из класса.
— После всего этого я тебя и видеть не хочу! — сердито бросала с порога.
Но я хорошо знал, что все эти угрозы исполнены не будут, что завтра Нина Кларе Карловне ничего не скажет, а снова после уроков сядет на первую парту рядом со мной. Ведь и ей, как и мне, чего-то недоставало бы, оборвись сразу этот каждодневный «буксир». Если я оставался с Ниной после уроков сначала назло Оле Чровжовой, то со временем стал ощущать, что даже немецкий язык может быть увлекательным. Это когда мы с Ниной склонялись над одним учебником и ее волосы касались моей щеки. Никогда не думал, что могут быть такие приятные, такие нежные волосы. Каюсь, частенько говорил Нине, что свой учебник я забыл дома.
Как бы там ни было, мой немецкий язык постепенно выправлялся. Я уже вполне прилично читал, правильно произносил слова и не блуждал, как среди трех сосен, в тех самых артиклях, определениях единственного и множественного числа. Даже Клара Карловна однажды сказала, что она довольна моими скромными успехами. Услышав это, я невольно оглянулся на Нину. Глаза ее сияли, она явно гордилась мною. Как-никак это был ее первый педагогический успех: Нина и во сне, наверное, себя видела учительницей — не немецкого, правда, а математики…
Вот уроки заканчиваются, и мы собираемся домой. Нам было по дороге, несколько кварталов мы шли вместе, и сейчас, спустя много лет, когда вспоминаю те наши совместные прогулки, то почему-то кажется, что они всегда были освещены ярким солнцем. В том солнечном сиянии, чистом и радостном, я вижу Нину, от белых парусиновых туфелек до белокурых, золотистых волос, что свободно падали на плечи. Тогда была такая мода, что девочки безжалостно чекрыжили косы и как-то особенно, как-то независимо и гордо встряхивали распущенными волосами.
Всю дорогу мы разговаривали. О чем — существенного значения не имело: нам было радостно, мы все время смеялись, часто сами не зная почему. И мне очень хотелось, чтобы дорога от школы с каждым днем становилась длиннее, а время не бежало так быстро.
Однажды Нина прислала мне записку. В нашем классе записки писали только во время уроков. Когда нельзя было разговаривать. Эти своего рода почтовые послания передавались с парты на парту, пока не доходили до адресата. Надо было только глядеть в оба, чтобы учитель ничего не заметил, так как это грозило неприятностями и автору, и адресату, и почтальону…
В этих записках писалось все что угодно. Были, конечно, деловые, например: «Дай списать задачку». И информационные: «А Калюжный вчера Ольку целовал во время немецкого». И издевательски-ругательные: «А ты — болван набитый! Ха-ха-ха!» Получишь такой «привет» и оглядываешься тайком, надеясь угадать, какая это, извините, свинья написала. По почерку ведь, хоть разбейся, не узнаешь — обязательно измененный.
Нинину записку никак нельзя было назвать деловой: «Толик! (Сердце у меня екнуло: до сих пор никто так не называл.) Я достала два билета в кино. На „Щорса“. Пойдем? Н.».
Я сразу же оглянулся, встретился с глазами Нины, согласно закивал. Потом выдрал из тетради целую страницу и огромными буквами, через весь лист написал наискось: «Угу. Т.».
Еще никогда моим ботинкам так не доставалось, как в тот день. Отродясь не чищенные, они захлебывались ваксой. Незаметно от Федьки, чтобы он не допытывался, куда это я собрался, вынес ботинки на крыльцо, обулся и побежал в кино.
Вот и Дворец культуры. А вон и Нина. Еще издали она увидела меня и радостно машет билетами.
Сидели в десятом ряду, посредине большущего зала. Фильм захватил нас, мы уже не принадлежали самим себе, а тем легендарным событиям, что развернулись на мерцающем в сумраке экране.
После кино какое-то время идем молча. Солнце давно уже спряталось за горизонт, а месяц еще не вышел, и было бы совсем темно, если б не фонари, развешанные на столбах через полсотни метров один от другого. Около каждого столба будто маленькие озерки света разлиты, мы то вплываем в них, то снова ныряем в темноту, я то отчетливо вижу Нину, то вдруг ее окутывают сумерки, и вот уже это вроде совсем не она, не моя школьная подруга, а какое-то таинственное существо, и мне кажется чудом, что она сейчас идет рядом со мной.
Когда мы поравнялись с моим домом, Нина хотела попрощаться, но я храбро ответил, что я провожу ее домой.
С моей стороны это был необычный поступок, на который не каждый парень мог бы решиться. Дело в том, что Нина жила не в Верхнем поселке, а в Нижнем — совсем в другой державе, куда нам, верхневским, и днем соваться небезопасно. Ну а ежели ночью поймают, да еще с девушкой, то тогда совсем беда.
Вот и я, вгорячах предложив проводить Нину, вскоре же получил полную возможность в этом раскаяться. Когда она, попрощавшись, закрыла калитку, вбежала на крылечко и скрылась в доме, мне тотчас показалось, что железные двери безысходной западни захлопнулись за мной. Мрак, зловещий и враждебный, сразу же пополз изо всех переулков, и я, нахлобучив поглубже кепку, двинулся в обратный путь.
Вот так же, вероятно, чувствовали себя разведчики на чужой территории. Так же они пробирались, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Вот впереди вроде кто-то перебежал улицу. Вот как будто сзади топот. И я, боясь оглянуться, нырнул в первый на пути переулок и сломя голову помчался вперед.
Домой добрался далеко за полночь: плутал по закоулкам и огородам — никак не мог выбраться из Нижнего поселка. Осторожно открыл калитку, пробрался к окну — заперто!
Прижимаюсь лицом к темному окну — даже здесь слышно, как храпит Федька. Осторожно стучу в стекло, покрикиваю:
— Федь, а Федь! Открой!
Хоть бы шелохнулся.
Отхожу от окна, размышляю: что же теперь делать? Громче стучать — хозяев разбудишь. Начнутся расспросы, где это я до полуночи шатался…
Брожу по двору, не зная, где мне приткнуться. А спать хочется — так бы и влип в подушку!
Прохожу мимо хлева. Хлев не хлев, а сарайчик на курьих ножках. Там, вверху, на жердочках, сидят с десяток кур, а справа, сбоку… Постой, постой… Что же сбоку? Да ведь сено. Целая копенка прошлогоднего сухого сена!
Не раздумывая долго, забираюсь в сараюшку, лезу на сено. Куры встревоженно закудахтали. Одна у другой допытываются, кого это принесло. Отодвигаюсь подальше от края, под балку. Значит, когда проснусь, резко подниматься не надо, а то и лоб разбить можно.
Лежу навзничь, потихоньку начинаю дремать. Куры покудахтывают, никак не угомонятся, да вдруг отозвался петух, что-то на них сердито прикрикнул, и они сразу же замолкли. Сладко потягиваюсь, покрепче зажмуриваю глаза и тотчас проваливаюсь в глубокий сон.
Проснулся от неистового крика петуха. Вскочил, совсем ошалев, и, конечно, врезался лбом в балку. Постанывая, сползаю вниз. Лоб аж пылает, в глазах скачут искры, в затылке тенькает. Нащупываю дверь, выползаю во двор. Семеню к колодцу, к огромному корыту, из которого хозяйка поит коз. Опускаю лоб в воду и долго-долго стою на четвереньках у корыта. Время от времени щупаю разбитое место — не уменьшается ли шишка?
На улице начинает светать, я опять направляюсь в курятник и забираюсь на сено в надежде, что удастся хотя бы часок поспать. Только лег, только умостился, как снова заорал петух: «ку-ка-ре-ку!»
Орет как сумасшедший, даже хвост вниз выгибает. Ну, погоди, я т-тебе покажу!
Сползаю вниз, выхожу во двор и выламываю хворостину поудобнее. Возвращаюсь и, хорошенько примерившись, как хлестану петуха по свесившемуся хвосту!
Если бы все это произошло где-нибудь на открытом месте, петух залетел бы за облака. А так он врезался в соломенную крышу и шлепнулся вниз и уже на земле заорал как недорезанный. Тут же, сочувствуя своему повелителю, вовсю закудахтали куры.
Так мне и не удалось заснуть. До самого утра просидел на скамейке у хаты. Щупал разбитый лоб и тоскливо думал: «Чтобы оно огнем сгорело, такое ухажерство!»
Хоть мы с Ниной по-прежнему занимались после уроков, мои успехи в немецком языке продолжали оставаться довольно сомнительными. И кто знает, не ожидала ли и меня доля Голобородько — остаться в восьмом классе еще на год, — если бы не Карацюпа, не Индус и не «Пионерская правда».
В те годы не было ни одного школьника, который не бредил бы Карацюпой — прославленным пограничником, грозой всех шпионов и диверсантов. Не было пионера, который не мечтал бы заиметь такую собаку, как Индус. Его все видели в газетах рядом с пограничником Карацюпой — самого красивого, самого сильного, самого умного из всех псов на свете. Сто сорок нарушителей — вот какой боевой счет Индуса!
Тем временем «Пионерская правда» начала печатать сообщения о тех учениках, которые стали воспитывать служебных собак для пограничников.
Мы с братом решили тоже помочь пограничникам. Мы отчетливо представляли себе, как вырастим похожего на Индуса пса, как научим его брать след и обезоруживать нарушителей, как потом поедем на заставу и там с рук на руки передадим нашего воспитанника какому-нибудь пограничнику. Мы даже кличку придумали — Дик. Так что оставалось только достать щенка.
Это было не таким простым делом, как нам на первый взгляд казалось. Ведь для службы на границе была пригодна лишь немецкая овчарка, значит, и щенок должен быть той же породы. Тем городским пионерам, о которых писала газета, было, конечно, куда как легче, а вот в нашем селе овчаркой и не пахло. Было полным полно Шариков, Полканов, Рыжиков, они честно несли свою собачью службу и принимали оживленное участие в наших развлечениях, но ни один из них не имел малейшего шанса попасть в пограничные войска, так как все были беспородными дворняжками.
Мы долго расспрашивали всех по очереди ребят, нет ли у кого немецкой овчарки, и стали уже терять надежду, как вдруг наш приятель Микола сказал, что у его родного дядьки, что живет в соседнем селе, есть необходимая нам овчарка, которая вот-вот принесет щенят.
Микола славился тем, что мог выдумать какую угодно историю, и поэтому мы отнеслись к его рассказу с некоторым сомнением:
— А ты откуда знаешь, что это немецкая овчарка?
— Так ведь мой дядька сам на границе служил. Вы что думаете — мало он там всяких шпионов задержал?..
Сомнения наши тут же рассеялись. Но теперь задача: как получить щенка?
— Ну а что я за то буду иметь? — стал торговаться Микола. — Вы что думаете, дядька так просто, задаром отдаст?
Мы заверили, что за ценой не постоим: выложим все, что только у нас есть.
И вот настал долгожданный день: Микола объявил, что сегодня принесет щенка. Только строго-настрого предупредил, чтобы встречать его не выходили, а ожидали дома. И мы часа четыре висели на воротах, выглядывали.
Наконец-то!
Пазуха у Миколы топорщилась, там что-то шевелилось и тихонько поскуливало.
— Держите вашу овчарку! — произносит Микола и засовывает руку за пазуху.
Наши нетерпеливо протянутые руки одновременно опускаются. То, что достал из-за пазухи Микола, ну нисколечко не похоже на овчарку. Это был пепелястый, лопоухий и неимоверно лохматый щенок. Он дрожал и жалобно скулил.
— Это овчарка?
— А то что же еще!
— А почему он такой серый?
— Потому как еще маленький. Вырастет — сразу порыжеет… Так вы будете брать или обратно к дядьке отнести?
Так состоялось наше первое знакомство.
Прежде всего мы решили искупать щенка: у нас еще теплилась надежда, что грязь отмоется, он станет рыжее. Когда мы вынули щенка из миски и вытерли, в комнату вошла мама.
Я давно убедился, что взрослые имеют скверную привычку появляться в тот самый момент, когда их меньше всего ожидаешь.
— Это что такое? — с подозрением спросила мама.
— Овчарка…
— Для заставы, значит…
— Мы его только что искупали…
— Не слепая: вижу, что искупали, — строго заметила мама. — А вот чем вы его вытирали?
Все мы — я, Сергейка, мама и даже щенок — посмотрели на полотенце.
— Так, — сказала мама после тяжелой паузы, — мне еще щенка не хватало. Давно я вас от лишаев лечила?
Мы подавленно молчали. Я, Сергейка и щенок. Какая-то общая ниточка протянулась между нами, от сердца к сердцу, и щенок вдруг стал для нас таким дорогим, таким родным, что разве только служба в пограничных войсках могла нас разлучить. Это почувствовала мама и утомленно сказала:
— Вы и дня прожить не можете, чтобы не притащить в дом какую-нибудь пакость… Добро бы этот… — Красноречивый кивок в сторону Сергейки, что изо всех сил прижимал щенка к груди. — А ты? Ты ведь уже в восьмом классе! Должен хоть немного соображать: вытирать щенка тем же самым полотенцем, которым пользуемся мы!
С мамой я был согласен. Тут я, конечно, не подумал, надо было достать из комода чистое полотенце, вытереть им, свернуть аккуратно и положить на место. Тогда все было бы в порядке.
Росли мы, подрастал и щенок. Мы с нетерпением приглядывались к нему: когда, наконец, его серая шерсть начнет приобретать рыжеватый оттенок, поднимутся торчком уши и хвост, что закручивается бубликом, станет прямым, как палка. Однако нас ожидало жестокое разочарование: Микола нас попросту подло обдурил. Никакого дядьки, что служил на границе, у него не было, а тот несуществующий дядька, разумеется, никогда никакой немецкой овчарки не держал.
Так погибла наша мечта воспитать собаку для пограничной службы. И «Пионерская правда», которая долго придерживала место для нашей фотографии (я, Сергейка и Дик), была вынуждена напечатать снимок совсем другой собаки и другого счастливого владельца настоящей немецкой овчарки…
Однако у нас и в мыслях не было расстаться с Диком. Каждое утро он провожал нас, когда мы шли в школу, терпеливо ждал, когда вернемся, лаял под дверью, когда засиживались за учебниками. И последний, кого мы видели, уже отправляясь спать, снова был, конечно же, Дик. А когда наступали каникулы, мы и на минуту не разлучались.
А какой он был умный! Даже мама и та не раз говорила, что у Дика в голове ума больше, чем у меня и Сергейки, вместе взятых.
И вот Дика не стало.
В середине мая, когда я готовился дома к экзаменам, а Сергейка с головой нырнул в летние каникулы, Дика покусала собака. Мы сразу же бросились промывать его раны, заливать их йодом и забинтовывать.
Утром Дик со двора исчез. Мы нашли только окровавленные, перемазанные йодом бинты и весь день рыскали по селу, в поле и лесу, звали его в надежде, что откликнется, прибежит. Но так и не нашли и совсем поздно вернулись домой.
В тот вечер мы и есть не ели, и пить не пили — все выглядывали в темные окна. И нам чудился Дик — одинокий, несчастный, всеми покинутый…
А на третий день мама пришла встревоженная, сказала, чтобы мы собирались в райцентр, в больницу. Дика, оказывается, покусала бешеная собака, ту собаку охотники уже пристрелили, а мы, когда промывали Дику раны, могли тоже заразиться.
Впервые мы видели, чтобы мама так волновалась, нам же ну нисколечки не было страшно. Я только спросил, как же теперь с экзаменами. Страшно обрадовался, когда мама сердито ответила, что экзамены могут подождать, никуда они не денутся, сейчас главное — нас, детей, спасать. С мамой я был полностью согласен, что экзамены никуда не денутся — по мне, хоть бы их вовсе не стало, земля от этого не провалится, — и, совсем повеселев, стал поспешно собираться в дорогу, опасаясь, чтобы мама вдруг не передумала.
В больнице мы пробыли целехонький месяц. Нас через день кололи в живот, и уколы эти были очень болезненные, зато там было такое приволье, столько интересных книжек в библиотеке, роскошный сад вокруг, кормили нас так вкусно и учить ничегошеньки не надо, и мы были согласны хоть весь наш век оставаться в больнице.
Но все-таки нас выписали. Мне дали справку, мама отвезла ее в школу, и меня перевели в девятый класс без всяких испытаний.
В девятом большую часть времени я, наверно, просиживал над немецким языком. Во-первых, боялся ледяного взгляда Клары Карловны; во-вторых, никак не хотелось подводить Нину, которая за меня поручилась. Однажды она при всем классе сказала, что я знаю немецкий язык никак не хуже некоторых. А возможно, и лучше.
Не знаю, на кого Нина намекала, только после этого заявления на нее почему-то обиделась Ольга Чровжова. И Нина от нее пересела: поменялась партами с Калюжным. Сидит теперь сразу за мною и Кононенко. Кононенко по этому поводу сказал, что нам сильно повезло, так как теперь у нее можно во время контрольных списывать задачки.
И еще Кононенко сказал, что Нина в меня влюбилась. Я с ним тут же подрался, и несколько дней мы не разговаривали, а потом Вася Гаврильченко нас помирил. Он выслушал сначала меня, потом Кононенко и сказал, что мы оба слишком погорячились.
У нас с Мишкой произошло примирение, и наша дружба стала еще крепче.
Анжелика Михайловна, птица Феникс, физкульт-ура и карманная артиллерия
Любовь пришла к нам в том самом девятом классе, во втором полугодии. Это была удивительная любовь: она вспыхнула как эпидемия и за какие-нибудь день-два охватила все старшие классы, а точнее — их мужскую половину.
Итак, мы любили всем классом и ревновали тоже всем классом: не к какому-то конкретному Сашке, Миколе либо Игорю, а к девятому «А», десятому «Б» или восьмому «В». Дело в том, что влюбленность была особенная и имела свою неповторимую историю.
Все началось с того, что из нашей школы ушел учитель химии. К этому известию отнеслись мы с прохладцей, даже порадовались, ведь, пока нового учителя найдут, можно будет какое-то время бить баклуши. Наконец настал день, когда, как мы узнали, в школе появился новый химик и вот сегодня должен прийти к нам на урок. Сидим на местах, глазами впились в дверь. Вот и звонок! Сначала слышно только, как колотятся собственные сердца, а потом — легкая походка в коридоре, по ту сторону двери. Шаги замерли, кто-то мелодично и звонко спросил: «Это здесь?.. Очень благодарна!» Скрипнули двери, и в класс вошла такая молодая, такая красивая девушка, что, встретив ее где-нибудь вне школы, мы ни за что не поверили бы, что она учительница.
А когда она блеснула по классу глазами, когда звонко и весело поздоровалась: «Добрый день!», мы все, все восемнадцать парней, вскочили, как один, и дружно ответили. За нами — что им оставалось делать? — нехотя и угрюмо поднялись девчата.
Анжелика Михайловна (так звали новую учительницу) с той поры и навсегда овладела нашими сердцами.
У нас в классе она появлялась дважды в неделю. И мы — все ребята — каждый раз ожидали урока химии, как праздника. Никогда раньше так идеально чисто не бывала вытерта доска, так аккуратно положен мел, так красиво застлан стол белой бумагой.
— Вы, если бы могли, то и пол перед ней вылизывали бы! — упрекали нас девчата. И были недалеки от истины.
Для Анжелики Михайловны мы были на все готовы. Даже на то, что большинство из нас начали втайне бриться.
На это деяние нас понуждали не густые бороды, не длинные усы, а все те же — на год старше, чем мы, — ученики из десятых «А» и «Б» классов, которые также были влюблены в Анжелику Михайловну.
Тех, кто брился, мы сразу узнавали по царапинам и порезам на щеках и подбородке. Таких не столько побритых, сколько порезанных ребят с каждым днем становилось все больше и больше, а когда и Мишка засиял однажды свежими царапинами, я тоже не выдержал и решил, что настал и мой час.
Но как это совершить? Ни у меня, ни у Федьки собственной бритвы не было. Что касается Федьки, то он брился отцовской дома, так что мне не оставалось ничего другого, как отправиться в парикмахерскую.
Беру деньги, выхожу на улицу.
Парикмахерская находилась совсем недалеко, на углу, в небольшом домишке с одним окном. Ее можно издалека заметить по голубой вывеске, на которой нарисована здоровенная голова, с ужасом поглядывающая на бритву огромных размеров.
Стою, не решаясь зайти внутрь. Наконец приоткрываю двери, осторожно всовываю голову.
— Можно?
В парикмахерской нет ни одного посетителя. Только два парикмахера, оба давно небритые, сидят за круглым столиком, в шашки играют. Им, по-видимому, сейчас не до меня, потому что один из них, даже не подняв головы, нетерпеливо машет рукой в сторону кресла:
— Садитесь!
Осторожно сажусь, упираюсь затылком во что-то твердое и холодное. Вижу себя в потресканном зеркале, и мне кажется, что подбородок и щеки у меня значительно темнее, чем были до сих пор. Неужели что-то по дороге успело подрасти?
— Амба! — выкрикивает парикмахер, что указывал мне на кресло. Отодвигает шашки, поднимается, достает простыню и подходит ко мне: — Как стричься будем: под «польку» или под «бокс»?
— Побриться! — отвечаю как можно решительнее.
Простыня недоуменно повисает в воздухе. Потом начинает подрагивать, и тот же голос спрашивает:
— Что вы, молодой человек, сказали: под «польку» или под «бокс»?
Я едва не поддался на провокацию, едва не ответил, что под «польку», но вовремя спохватился и еще раз повторил, что не стричь, а побрить.
— Чего ты выспрашиваешь? — вмешивается другой парикмахер. — Раз клиент говорит — брить, значит, надо брить!
— Да что же здесь брить? — Моих щек касается тыльная сторона ладони.
— Брей то, что есть! Клиент деньги платит за то, чтобы ты брил ему то, что есть…
Простыня наконец ниспадает и обволакивает. Парикмахер проводит еще раз шершавой ладонью по моему лицу — наверно, пытается нащупать хоть какой-то намек на бороду. Потом яростно хватает мыльницу, сыплет порошок, льет воду, втыкает помазок. Желтыми прокуренными пальцами стискивает кончик моего носа, у меня аж слезы брызжут из глаз, и начинает намыливать мне щеки и подбородок.
Когда моя физиономия стала похожа на избитую белую подушку, парикмахер наконец смилостивился, отпустил нос и взялся за бритву.
Он не столько брил, сколько соскабливал пену. Затем побрызгал меня одеколоном, помахал салфеткой перед самым носом:
— Экстракласс! Готово!..
На радостях, что все так благополучно окончилось, я отдал ему все свои пятьдесят копеек. Возвращаясь домой, непрерывно водил ладонью по лицу — никогда оно не было таким гладким и приятным на ощупь. Жаль только, что ни одной царапины нет.
Со временем нам уже не хватало двух уроков в неделю: хотелось видеть Анжелику Михайловну каждый день, каждый час. Достаточно было появиться ей во дворе школы, как мы стремглав мчались навстречу.
— Здравствуйте, Анжелика Михайловна!
— Добрый день, Анжелика Михайловна!
Она, наше божество, все видела, все понимала и воспринимала наше восхищение с такой милой улыбкой, что мы были готовы ради нее на любой подвиг.
— Анжелика Михайловна, разрешите я вам поднесу портфель!
— Анжелика Михайловна, вчера я до полуночи над химией сидел. Все назубок выучил.
Каждого Анжелика Михайловна выслушает, каждому подарит улыбку, и наши выбритые лица от счастья блаженно сияют. И мы чувствуем себя рыцарями молоденькой химички и влюбленными глазами ловим каждое ее движение, каждый взгляд.
Кроме уроков в классе, у нас еще были и практические занятия в кабинете химии, что находился на первом этаже, рядом с учительской. Это было просторное, хорошо оборудованное помещение, заставленное длинными столами с разнообразной стеклянной посудой — от пузатых колб до тоненьких пробирок. А в закрытых на замок шкафах находились химические реактивы, с которыми проводились опыты.
Мы усаживались за столы, начинали смешивать один раствор с другим, чтобы узнать, что из этого получится. Анжелика Михайловна прохаживалась за нашими спинами, и ее время от времени можно было подозвать, но почему-то звали ее в основном мы, ребята, а девчата все, как одна, предпочитали обходиться собственными силами. Нам же ужасно хотелось сделать все как можно лучше, и однажды, чтобы обратить на себя внимание Анжелики Михайловны, я и Мишка взяли из шкафа еще какой-то раствор и долили в тот, что уже был в колбе.
Там вдруг замутилось, запенилось, забулькало, над кипящей поверхностью заколыхалась тоненькая рыжеватая струйка. Она была похожа на сказочного джинна, что просидел тысячелетия в запечатанной бутылке, и мы уже собрались позвать Анжелику Михайловну, чтобы она полюбовалась вместе с нами, как вдруг раствор заклокотал, как вулкан, и из колбы повалил такой рыжий, такой едкий дым, что мы с Мишкой сразу стали кашлять и протирать покрасневшие глаза.
Потом закашляли ребята и девчата, что сидели рядом, за ними и те, что были от нас подальше, немного погодя и сама Анжелика Михайловна зашлась кашлем. А когда она подбежала к нам, то уже ничего поделать не могла: вырвавшийся на свободу джинн, заполонив весь кабинет, стал просачиваться в коридор. В это время там проходил директор, и ему, видите ли, захотелось узнать, кто напустил эту нестерпимую вонь. Так что к нашему кашлю и он присоединился. А за ним и учителя, которых принесла нелегкая в кабинет химии.
После этого Анжелика Михайловна стала относиться ко мне и Мишке весьма настороженно и сажала нас всегда от шкафа подальше.
Тем не менее даже этот случай не мог поколебать наш восторженный пыл. Подкосило его другое.
Костик Калюжный принадлежал к той категории ребят, что дня не могут прожить, не совершив какой-нибудь каверзы. Не удивительно поэтому, что многие ребята терпеть его не могли, а Мишка — так тот со счету сбился, сколько раз с Костькой ссорился.
На этот раз Калюжный допек-таки всегда невозмутимого Кима. На большой перемене, перед уроком химии, подошел к Киму и спросил:
— Что это у тебя на щеке такое?
— Не знаю…
— Да не на этой, на другой. Пятно вроде или еще что? Дай-ка вытру. О, и на лбу тоже, и на подбородке!
Доверчивый Ким подставляет лицо, ему и невдомек, что перед этим Костик натер ладони о щедро побеленные стены.
— Ну, вот и все! Ничего нет. Гуляй спокойно.
И почти всю перемену Ким проходил привидение привидением. Все умирали со смеху, а Ким долго никак понять не мог, чего это мы смеемся. До тех пор, пока Мила не дала ему зеркальце, чтобы сам полюбовался, какой он красивый.
Ким, конечно, захотел тут же расквитаться. А так как Калюжный выскочил из класса, Ким схватил белую от мела тряпку, которой стирали с доски, и притаился за дверью, чтобы ударить ею Костьку, как только он появится.
Отзвонил звонок. Мы, затаив дыхание, сидим за партами. Куда же девался этот Калюжный?
Ага, вот! Слышно… идет. Ну, сейчас будет!
Двери открываются и… вместо Калюжного появляется Анжелика Михайловна. Ким уже не может удержать свою руку, хотя тоже видит, что это совсем не Калюжный.
Все произошло так неожиданно, что мы и охнуть не успели.
Закрыв лицо руками, Анжелика Михайловна выбежала из класса. А мы, ошеломленные, даже побежать следом за ней не догадались.
Первою опомнилась Нина. Она почти никогда самообладания не теряет, ведь недаром два года подряд была старостой нашего беспокойного класса. Вот и сейчас: выскочила из-за парты, подбежала к обеспамятевшему Киму, вырвала у него тряпку и скомандовала:
— Беги за свою парту! — И к девочке, что рядом с Кимом сидела: — Вытри ему руки! — А после ко всему классу: — Никто ничего не слышал и не видел.
Только она успела сесть снова за парту, как двери широко распахнулись и в класс ворвался директор. А следом за ним — вероятно, ему на помощь — завуч, высоченный и страшно худой Свирид Остапович, которого мы прозвали Дон Кихотом.
Директор остановился около стола. Если бы не стол, он, наверное, проскочил бы наш класс и стрелой вылетел во двор — так был разгневан.
— Кто?! — грохнул кулаком по столу.
Молчим, вроде немые. Ведь, если узнают, кто это сделал, Кима из школы обязательно выгонят, без всяких разговоров.
— Я вас спрашиваю: кто?!
Снова гробовое молчание. Сидим, подавленные несчастьем, что нежданно-негаданно свалилось на нас.
— Староста класса!
Нина встает, бледная и решительная Нина.
— Назовите хулигана, который ударил Анжелику Михайловну.
— Иван Корнеевич, я ничего не видела.
— Вы что, в это время не были в классе?
— Была.
— И ничего не видели?
— Ничего…
Голос у Нины дрожит, но она твердо стоит на своем. Мы втайне ею любуемся и думаем, какая же она храбрая: такую хоть к стенке ставь, хоть из нагана в нее стреляй — не признается!
— Садитесь, мы с вами еще поговорим! — разгневанно бросает ей директор. И снова обращается ко всему классу: — Кто видел хулигана, который ударил Анжелику Михайловну? Поднимите руку!
Хулигана?! Да какой же Ким хулиган? Вон он сидит ни живой ни мертвый, и нет во всем мире сейчас несчастнее его человека.
В наших сердцах растет протест. Протест и обида. Сейчас мы не только что Кима — вообще никого не назвали б! Вон и девочка, что сидит рядом с Кимом, напряженно следит, чтобы он себя чем-нибудь не выдал.
Не дождавшись протянутой руки, Иван Корнеевич начинает нас вовсю ругать. Нам становится известно, что такого невыносимо плохого класса, как наш, не было и не будет. Что все мы, без исключения, злостные нарушители дисциплины и порядка. Школу давно надо было избавить от нас, и только его доброта мешала это сделать. Но теперь и его терпение лопнуло. Он сейчас даст нам последний шанс доказать, что у нас еще осталась хоть капля порядочности: до конца урока подумать, а на перемене подойти к нему и назвать преступника.
— Это сделает староста!
Директор выходит. Следом за ним Дон Кихот, который ни одного слова не проронил, лишь укоризненно кивал головой.
Мы остаемся наедине со своей совестью. С той самой каплей порядочности, о которой только что говорил директор.
Внезапно Ким подхватывается, выбегает из-за парты.
— Ты куда?!
Добрый десяток рук сразу же хватает его за полы.
— Пустите! Я к директору!
Но его держат еще крепче. Обступают со всех сторон, уговаривают не делать глупостей.
— Я не хочу, чтобы из-за меня весь класс… — изо всех сил упирается Ким.
Голос его срывается, он вот-вот заплачет. Мы же продолжаем его уговаривать, чтобы не смел идти к директору, который всему классу ничего сделать не сможет, а его, Кима, запросто вытурит…
— Ну и пусть, — продолжает упираться Ким. — Пусть выгоняет!..
Тогда Вася Гаврильченко спокойно спрашивает:
— А ты о своей матери подумал?
Ким сразу же сникает, перестает вырываться из наших рук.
— Что с его матерью? — тихо спрашиваю Мишку.
— Сердечница она. Как узнает, что его из школы выгнали, непременно помрет…
Вдруг Васька, отпустив Кима, поворачивается к Калюжному, со злостью выпаливает:
— Все через тебя…
— А я тут при чем?
Костька хотел еще что-то сказать, но мы ему не даем, накидываемся на него со всех сторон.
— Ребята! Хватит вам, ребята! — утихомиривает нас Нина. — Да плюньте на него, нам сейчас вовсе не до него.
Постепенно мы утихаем. Лишь потрясенный нашим неожиданным нападением Калюжный растерянно и жалобно бубнит:
— При чем тут я?
Но мы уже не обращаем на него внимания. Беспокоит нас другое: скоро звонок. Нина должна идти к директору, а мы до сих пор так и не решили, что же ей говорить.
— Весь класс из школы они не выгонят, — произносит Вася Гаврильченко. — А Кима называть нельзя…
На том и решили: Нина пойдет к директору и скажет, что класс так и не знает, кто запустил в Анжелику Михайловну тряпку…
И тут-то мы сразу подумали об учительнице, обиженной нами, — до сих пор мы думали только о Киме.
— Надо перед ней извиниться, — предлагает Мишка, и все с этим соглашаются.
— Только чтобы не весь класс шел, а несколько человек, — добавляет Гаврильченко. — Пойдем, например, я, Мишка, Анатолий и… девчата.
Но к нашему удивлению, девочки отказываются. Все, как одна. Говорят, что ни за что не пойдут, а если нам не терпится снова подлизываться к этой зазнайке, то можем без них отправляться.
Выясняем, что Анжелика Михайловна сразу же после случившегося из школы ушла. Решаем завтрашнего дня не дожидаться, а идти к ней сейчас же домой.
По дороге, конечно, торгуемся, кто начнет. В конце концов соглашаемся на том, что разговор будет вести Вася, а мы — поддакивать.
Вот и домик, в котором квартирует Анжелика Михайловна. Он такой же веселый, такой же приветливый, как наша любимая учительница. Сияет белыми стенами, синей и красной краской, весь утопает в саду.
Потоптавшись у ворот, осторожно открываем калитку. Идем гуськом по прямой дорожке, стелющейся к самому крыльцу.
— Вы это к кому, ребята?
Из сада выходит пожилой мужчина, нами ранее не замеченный. В руке он держит лопату, которая поблескивает в лучах багрового заходящего солнца.
— Анжелика Михайловна дома?
— Дома, дома, — отвечает мужчина и сразу же кричит в открытое окно: — Анжелика Михайловна, тут к вам пришли!
— Кто такие?
— Да какие-то парнишки!
— Сейчас выйду…
Мужчина втыкает в землю лопату, вынимает из кармана кисет, скручивает козью ножку, берет ее в рот, а потом достает фитиль и огниво — вещи такие древние, что мы рты пораскрывали от удивления. Закурив, мужчина хитро прищуривается и спрашивает:
— Из девятого небось?
— Из девятого, — отвечаем удрученно, даже не удивляясь тому, что мужчина сразу же догадался, кто мы такие.
— Ну и молодцы: учительнице чуть глаза не повыбивали!
Мы совсем падаем духом. А в прищуренных глазах мужчины — то ли от табачного дыма, то ли от солнца — время от времени вспыхивают искорки, а полные губы причмокивают миролюбиво и дружески.
— Ведь надо додуматься!.. — покачивает головой. — Вот и ваша учительница! — восклицает неожиданно и вполголоса добавляет ободряюще: — Ну, теперь держись, казаки! А я пошел, не то и мне перепадет…
Увидев нас, Анжелика Михайловна сразу помрачнела. Была будто высветлена солнцем, а теперь как в тень вошла. И чем ближе подходила к нам, тем более темной и холодной становилась эта тень. Нашу учительницу не узнать — такое у нее сейчас недоброе лицо.
— Ну? — неприязненно спрашивает она.
Мы растерянно топчемся на месте, никак не решаясь начать.
— Чего же вы молчите?
Неужели это она? Наша всегда веселая, всегда улыбающаяся, с ее звонким, как песня, голосом?
Первым собирается с духом Вася Гаврильченко.
— Анжелика Михайловна, — выдыхает он, и голос его аж звенит от волнения. — Мы пришли… От всего класса принесли вам извинения. Мы вас просим…
Ему так и не удается сказать, чего же мы просим, — Анжелика Михайловна обрывает его раздраженно и властно:
— Кто бросил тряпку?
— Анжелика Михайловна, мы никак не можем это сказать.
— Вы для этого пришли?
— Мы пришли… принести извинения всего…
— Не нужны мне ваши извинения! — взрывается учительница. Лицо ее покрывается пятнами, заостряется и на глазах дурнеет. — Вы должны назвать мне хулигана!
— Анжелика Михайловна, он вовсе не хотел попасть в вас… — Бедный Вася даже вспотел. — Честное комсомольское, не хотел! Если директор узнает кто, то выгонит его из школы. Мы вас, Анжелика Михайловна, все очень любим…
— Вижу, как любите, — саркастически усмехается учительница. Потом гасит усмешку и говорит ледяным тоном: — Так вот. До тех пор, пока не назовете того, кто меня ударил, я с вами разговаривать не хочу. Все! Прощайте!
Резко повернулась и пошла к крыльцу.
Анжелика Михайловна! — растерянно выкрикивает ей вслед Вася. — Анжелика Михайловна, у него ведь мать сердечница!..
Даже не остановилась. Даже не оглянулась.
Какое-то время стоим не шелохнувшись, словно гром нас поразил. Потом Вася гневно говорит:
— Пошли!..
Лицо у него горит, а у Мишки Кононенко даже уши пылают. И злые слезы поблескивают, и глаза из-за этого — как ножи. Только со двора вышли, он за кирпич и обратно.
— Ты что, спятил?
Вася схватил его, вырвал из руки кирпич.
— Не хватало нам с Кимом, так тут еще и ты!..
— Я все равно окно ей высажу! — аж всхлипывает Мишка.
— Ну и балда!
— Пусть балда! А она кто? Кто?
Мы понимали, что не Мишка спрашивает нас, а смертельно раненное его сердце. Нам будто в лицо наплевали, растоптали самое чистое, самое святое чувство каждого из нас.
Мишка первый и высказал наше горестное негодование:
— Ненавижу женщин! Ненавижу!!!
Вот тут-то и погасла наша любовь к Анжелике Михайловне. А когда нам стало известно, что она еще и директору донесла о нашем посещении, сообщив, что у матери того ученика, который ударил ее, больное сердце, наше недавнее пылкое восхищение переросло в не менее пылкую ненависть. Ведь даже директор понял, что это уж слишком, и не стал допытываться, у кого мать сердечно больная. Он только передал через Нину распоряжение, чтобы все мы пришли на следующей неделе во вторник в восемь часов вечера вместе с родителями.
Я долго колебался: приглашать ли маму на это собрание или нет? Наконец решил, что никуда школа не провалится, если мама не придет. Пусть бы это собрание было приятным, а то — сплошные поминки. Зачем же лишний раз доставлять маме огорчение?
К тому же ей придется возвращаться вечерним поездом, потом идти одной через лес, среди ночи, да еще мимо кладбища. Представить себе и то страшно.
Итак, пожалев маму, я сказал классному руководителю, что она заболела. Лежит тяжело больная — ни рукой, ни ногой пошевелить не может. И потом каждую неделю был вынужден сообщать о состоянии мамы. Как она постепенно выздоравливает, как начала уже выходить во двор, но в школу приехать еще никак не может.
Классный руководитель, старенькая уже Марья Федоровна, душевно мне сочувствовала, просила передавать, чтобы мама побереглась и не спешила выходить на работу. Я отвечал, что мама очень ее благодарит, и лишь одного боялся: чтобы они как-нибудь не встретились. Ну хотя бы до того дня, когда я закончу школу.
Единственный, кто оказался в этой истории в выигрыше, как ни странно, был Ким. Девчонки стали прямо умирать по нему. Носились как с писаной торбой, твердили, что он единственный достойный их внимания парень. Счастье Кима, что он не стал задирать нос, не то мы бы из его благожелателей превратились во врагов.
Нас же, остальных учеников, девчонки стали просто бойкотировать. Даже до того дошло, что, сговорившись, они однажды все, как одна, отсели от ребят. Мария Федоровна, которая как раз пришла на урок, долго протирала пенсне, потом осведомилась у Нины, что все это означает. Нина опустила голову и ответила, что она не знает: просто взяли и пересели.
Мария Федоровна только покачала головой. Допытываться дальше не стала, а вместо того полистала молча учебник да и отложила его в сторону. Сказала, что сегодня будем работать без учебника.
Мы до сих пор даже и не подозревали, что Мария Федоровна столько стихов знает на память. И каких стихов!
Нельзя сказать, чтобы Мария Федоровна читала мастерски. У нее был старческий, надтреснутый голос, она немного пришепетывала, ее низенькая фигурка никак не соответствовала тем высоким чувствам, о которых говорилось в поэтических произведениях, но мы ничего не замечали. Мы открывали для себя новых Шевченко и Лесю Украинку, нового Рыльского, Сосюру, Тычину.
О люба Інно, мила Інно, Сестру я вашу так любив Дитинно… злотоцінно.Или:
Мамо, моя мамо. Сива моя муко. В'ється перед нами Шлях, немов гадюка…Или:
Ніхто ще згадки не зборов, Вона, як смерть, нема їй краю… Моя душа — на крик, на кров У тузі Дантовій конає… А роки йдуть… і все минає… Та не мине моя любов.Мария Федоровна читала и читала, потому что стоило ей замолчать, как мы поднимали крик: «Еще, Мария Федоровна, пожалуйста, еще!» Мы были согласны слушать ее не только на этом, но и на других уроках, даже не выходя на перемену.
До конца дня девочки пересели на старые места, и между нами вновь воцарились мир и согласие.
Вот что может сотворить настоящая поэзия.
После этого каждый урок, будь то украинская литература или язык, начинался с одного и того же.
— Мария Федоровна, почитайте нам немножко стихи, — заводил кто-нибудь.
И весь класс дружно подхватывал:
— Почитайте, Мария Федоровна!
И не было случая, чтобы Мария Федоровна отказалась. Ее лицо сразу теплело, она снимала пенсне, дышала на стекла и протирала их, седые букли старомодной прически трогательно дрожали, а нас охватывало праздничное настроение, наполненное чем-то необычным, небудничным, что таилось в наших душах и пробуждалось под магическим воздействием стихов.
А еще нам нравились уроки физкультуры. Во-первых, к ним не надо было готовиться; во-вторых, они всегда проходили в спортивном зале или во дворе; в-третьих, физкультура была тесно связана с воинской службой. А в школе не было, пожалуй, ни одного парня, который не мечтал бы увидеть себя в военной форме.
То были годы массового призыва комсомольской молодежи в военные училища, годы Испании, Хасана, Халхин-Гола, а затем — освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии. Мы восторженно следили за героическими действиями наших войск, жалели, что на два-три года позднее родились и поэтому лишились возможности принять участие во всех этих сражениях. Ведь так невероятно интересно было наблюдать на киноэкранах за боевыми действиями наших танков и самолетов, за стремительными атаками нашей героической пехоты, что всегда завершались блестящими разгромами врага. Мы смотрели эти фильмы по два-три раза — сколько позволяли наши финансовые возможности, выходили с тех сеансов в военном чаду, и — боже ж мой! — каким серым, невыразительным по сравнению с теми кинобаталиями казалось наше школьное житье!
Мы любили уроки физкультуры и потому, что обучались на них шагать в строю и дружно кричать «ура!», изучали винтовку и пулемет, ходили на пункт военной подготовки, где стреляли по мишеням из мелкокалиберок. И не просто стреляли, а стремились выбить побольше очков, чтобы украсить свою грудь значком «Ворошиловский стрелок».
Особой популярностью в то время пользовалась среди учеников тренировка с гранатами. Начитавшись про «карманную артиллерию», мы старались швырнуть гранату так, чтобы она упала как можно дальше. И не только зашвырнуть, а еще и попасть в небольшой окопчик, в котором затаился невидимый самурай. Для этого надо было разогнаться и на бегу перед отчетливо проведенной линией метнуть гранату.
Среди нас были такие мастера, которые если не с первого, то со второго раза обязательно попадали в окопчик.
Мне же долго никак не удавалось достигнуть успеха. Граната, не долетев до цели, бухалась метров на десять — пятнадцать ближе. Как я ни разбегался, как ни размахивался, как ни напрягал мускулы, мне так и не удавалось попасть в самурая. И это на глазах всего класса, в том числе Нины!..
Так вот, я решил, чего бы это ни стоило, научиться бросать гранату.
Нашел тяжелое дубовое полено и два дня мастерил из него гранату. Пришлось немало похлопотать, потому что дерево оказалось прочным, как железо, а я, кроме перочинного ножа, другого инструмента не имел. Но вот граната готова. Федька, взвесив ее на ладони, сказал, что он тоже пойдет со мною. Я не возражал: вдвоем всегда веселее, к тому же тогда не придется раз за разом бегать за гранатой.
Выходим вместе со двора. Теперь надо найти подходящее место, чтобы граната не улетела на чужую усадьбу, упаси бог, не потерялась бы. Федька остановился у самой последней хаты и сказал, что бросать будем здесь.
Перед нами просторный выгон, тут есть где разбежаться и размахнуться. За нашими спинами крайняя хата, в ней сквозь большое окно видно женщину. Она просеивает в сите муку и все время поглядывает на нас. Ей, должно быть, тоже интересно, как мы будем бросать гранату.
Федька берет гранату первым.
— Ты стой на месте, — говорит мне, а сам отходит подальше, громко считая шаги: — Двадцать… тридцать… сорок…
— Докинешь? — кричу ему.
— Докину!
Федька почему-то закатывает правый рукав, примеривается, как половчее взять гранату, а женщина начинает стучать в окно и пытается что-то жестами передать мне. Ага, я, наверное, заслоняю Федьку, и ей ничего не видно. Ну что ж, могу и в сторону немного отойти.
Федька в это время разгоняется, подпрыгивает, как жеребец, и швыряет гранату…
Он таки ее докинул: прямехонько в окно влепил. Звякнуло, рассыпаясь, стекло, граната влетела внутрь, разорвалась истошным женским воплем. Не успели мы опомниться, как из хаты вылетела разъяренная баба: вся в муке, будто привидение, с толстой скалкой в руках. И такой она показалась нам страшной, что куда там тем самураям. Мы от нее улепетывали так, что аж пятки горели.
Добравшись домой, больше всего я сожалел о гранате. Два дня провозиться и ни разу не бросить!
О том, как Амур пытался пронзить мое сердце, да только стрелы погнул
С этой историей у меня связаны самые горькие воспоминания, наибольший мой позор. Много времени минуло с той поры, казалось, пора бы и забыть, но, как только вспомню тот урок, от стыда сгораю.
А виновата во всем ручка, обыкновенная ученическая ручка, с одной стороны которой перо, с другой — карандаш. Она имела никем еще не исследованную особенность всасывать в себя чернила, а потом незаметно выпускать их на пальцы, так что наши руки были всегда в синих пятнах, а часто и нос, и щеки, и подбородок.
Но зато те ручки были безотказны, перья у них никогда не тупились, карандаши не ломались, мы их с удовольствием покупали, носили в портфелях, в книжках, в карманах — кому где вздумается.
А еще из них было очень удобно стрелять. Бумажными, хорошо разжеванными пульками. Заложишь такую пульку в трубочку от ручки, зажмешь в губах тот конец, где сидит пулька, потом прицелишься и — пфу! — что есть силы в трубку. И твоя пулька, глядишь, у кого-то на лбу или на затылке. Это зависит от того, куда ты целился.
Лучше всего стрелять во время урока, когда «мишень» сидит более или менее неподвижно. Так вот и я, дождавшись, когда учитель истории повернулся в сторону, зарядил свою ручку загодя приготовленной пулькой, прицелился и выстрелил — прямо в щеку Василю.
Тот сразу же догадался, кто в него выстрелил, и, стоило учителю обратиться к доске, я получаю пульку в ухо.
Ах, ты так! Ну, я сейчас тебе!
Не сводя глаз с учителя, готовлю очередную пульку.
— Что это вы все время жуете? — интересуется учитель.
Отвечаю, что ничего и не думал жевать.
Он отворачивается, и я, быстренько прицелившись, стреляю в Василя.
И как это он заметил? Совсем ведь в другую сторону смотрел!
— Если вам не интересно, можете выйти из класса…
Конечно, я и не подумал это сделать. Еще чего: выйти в коридор, где тебя сразу же поймает директор!
Прилежно кладу ручку на парту, внимательно слушаю учителя.
Хлясь!..
Ответ Василя. Снова в самое ухо попал. А учитель, видите ли, ничего не увидел. Меня так сразу заметил…
Вот он снова отворачивается в другую сторону, и я, не теряя его ни на минуту из поля зрения, выдираю листок бумаги, начинаю жевать. Потом опасливо и осторожно беру ручку, заряжаю пулькою и, скосив один глаз на учителя, быстро подношу трубку к губам…
Не иначе учитель тоже искоса пас меня. Так как, не успел я выстрелить, он прервал свой рассказ, открыл классный журнал и туда сердито что-то записал.
— «Плохо»… Тебе за поведение «плохо», — шепчет Мишка, который сидит к столу ближе меня.
Я и без него знаю, что никак не «отлично». Явственно представляю, как директор меня вызывает, как песочит на классных, а то и на общешкольных собраниях, как посылает маме записку, и жить мне совсем не хочется.
К тому же совсем недавно я был «в гостях» у директора. Он меня сурово предупредил, что ему уже надоели свидания со мною (будто я к ним стремился!). Еще одна жалоба, и нам придется навсегда расстаться.
Это предостережение меня напугало больше всего.
Конечно, я бы от этого никак не помер, так как пылкой любви к директору не испытывал, но беда заключалась в том, что пришлось бы распрощаться не только с ним, но и со школой. Куда же я тогда денусь? И что будет с мамой?
Мишка, что сидит рядом, тоже за меня переживает, шепчет, что как только историк выйдет из класса, я должен сразу же его догнать и упросить вычеркнуть из журнала эту никому не нужную отметку. В ответ я киваю головой: согласен, дескать, все что угодно сделать, лишь бы остаться в школе.
Поэтому, как только прозвенел звонок, бросаюсь вслед за учителем:
— Михаил Платонович! Михаил Платонович!
Историк останавливается. Он очень высокий, на меня глядит сверху вниз, и стекла его очков строго и неприязненно поблескивают.
— Слушаю вас!
— Я больше не буду, Михаил Платонович… Я нечаянно, Михаил Платонович…
Бубню поспешно, так как охвачен страхом, что он может меня не дослушать. Вот-вот распахнутся двери классов, оттуда посыплются ученики, окружат нас, перебьют — и тогда я пропал!
Брови Михаила Платоновича недоуменно лезут вверх:
— Нечаянно, говорите?.. Как это нечаянно?
И тогда я выпалил фразу, которую, пока жив, никогда себе не прощу.
— Так в меня Гаврильченко стрелял… Если бы не он, я бы ни за что… Я больше не буду, Михаил Платонович!
Какую-то минуту историк колеблется, потом раскрывает классный журнал, зачеркивает плохую отметку.
Даже не поблагодарил его, потому что был готов язык себе откусить…
Как я мог лучшего друга вот так предать? Разве нельзя было без этой подлой фразы уговорить учителя?
Весь день не мог Васе смотреть в глаза. А он, будто нарочно, все ко мне подходит то с этим, то с тем и, разговаривая, нет-нет да положит руку на плечо. И казалась мне его рука такою тяжелой, что я даже сгибался под нею.
Что бы он сказал, знай про ту мою фразу?
И он все-таки узнал — правда, немного позднее! Ведь я очень скоро забыл о данном историку обещании, хотя поначалу добросовестно старался дисциплину в классе не нарушать. Но обстоятельства жизни порой складываются так, что самые благороднейшие наши намерения летят вверх тормашками. Итак, я снова на чем-то попался, и Михаил Платонович, который имел хорошую память, сказал при всем классе:
— Прошлый раз вы все свалили на Гаврильченко. Теперь я вижу, что вы тогда сказали неправду…
— Ничего я вам не говорил!..
— Как не говорили?..
Лицо учителя покраснело, наверное, не меньше, чем мое. Он очень рассердился, но не его гнев и даже не плохая отметка, которую он вот-вот поставит, огнем палили меня сейчас. Затылком, спиной, сердцем ощущаю удивленный взгляд Гаврильченко и уже на весь класс кричу:
— Неправда! Ничего, ничего я не говорил!
Учитель, по-видимому, понял, что со мною творится что-то необычайное, и не стал спорить. Только сердито повел плечами и сказал:
— Садитесь…
Даже забыл поставить мне плохую отметку. Хотя я сейчас нестерпимо хочу, чтобы он записал в журнале против моей фамилии «плохо», чтобы директор выгнал меня из школы, чтобы я попал под машину, чтобы лежал в больнице и, умирая, сказал Василю, что все это неправда.
— Ничего такого я ему не говорил, — бубню Мишке, потому что никак не могу молчать: меня что-то душит за горло.
— Ну, веришь, что не говорил? — пристаю к Киму на перемене: мне кажется, что все только и думают о той моей фразе.
Ребята — и Мишка, и Ким, и другие — отвечают, что верят, отчего бы и в самом деле не поверить, но мне от того не легче…
Даже в субботу, когда мы с Федькой ехали домой, я убеждал его и себя одновременно, что никак не мог сказать такое! Но Федька, у которого кожа как у носорога, к моей трагедии отнесся, в общем, безразлично. Он только пожевал губами и сказал:
— Нашел из-за чего печалиться! Вот домой приедешь, как следует поужинаешь — все сразу забудется.
У меня руки зачесались дать ему по физиономии. Отодвинулся на скамейке от него подальше, ничего больше слышать не хотел. Смотрел, ничего не видя, в окно и обреченно думал, что никогда Вася мне не поверит, сколько бы я его ни переубеждал.
…Но вскоре Василь перестал сердиться. От счастья я был на седьмом небе. Думал о том, какой чудесный парень мой друг. Мне так хотелось совершить для него что-нибудь совсем необычное! Если б это было на войне, я бы под все пули бросался, чтобы его защитить.
Однако войной пока что не пахло, и пули вокруг не свистели. Поэтому свои героические порывы мне пришлось отложить на неопределенное время, а услужить Васе все-таки довелось, но совершенно иным образом.
Кто-то сказал, что бог любви Амур прилетает в наши края весенней порой вместе с птицами, а поздней осенью, с наступлением холодов, собирает свою амуницию и отлетает на юг — в далекие теплые края.
Возможно, что Амур, взмахивая прозрачными крылышками, действительно регулярно улетал с первыми журавлями, но в тот год он отбился от журавлиной стаи и залетел в наш класс — передохнуть, наверно, с дороги да отогреться. И то ли мы ему так понравились, то ли у него уже не было сил лететь дальше, только остался тот греческий бог Амур в нашем девятом «В» на всю зиму, до самой весны: нам — на любовь и вздыхания; учителям — на горе и слезы.
Не знаю, где обитал веселый лукавый божок: за классной доской или под потолком. Да в конце концов, это и не столь существенно. Отогревшись немного, придя в себя, он снял с плеча лук, вынул из колчана стрелы и принялся стрелять, целясь прямехонько в наши сердца.
Первым под выстрел попал Мишка Кононенко. Стрела впилась ему в грудь, наполнила сердце ядом. Примерно с неделю продолжался инкубационный период, а потом появились все признаки любовной лихорадки.
Мишка стал крутиться на парте и поминутно оглядываться. Я прекрасно знал, на кого он посматривает: на третьей парте за нами сидела Мила, которая делала вид, что эти взгляды ее вовсе не касаются. Когда же Мишка под большим-большим секретом однажды дал мне прочитать записку от нее и при этом его лицо аж плавилось от идиотской усмешки, я понял, что мой друг погиб окончательно. От ненавистника девчонок, гордого казака и бесстрашного мушкетера осталась лишь хилая тень, да и та ему уже не принадлежала…
Следом за Мишкой заболел Гаврильченко. Признаком болезни было то, что он снова принялся за стихи. Не про самолеты либо планеры, а про такие достойные презрения вещи, как звезды в небе, соловьи в кустах, лунные ночи и девичьи очи.
Я был потрясен и не знал, что отвечать Васе, когда он с жалкой улыбкой ждал моего приговора.
Стихи были отвратительные. Их не спасали ни напиханные в них звезды, ни чирикающие соловьи, ни лунные вечера. Но у меня не хватало духу сказать ему об этом.
— Они вроде ничего… Нравятся… — бормотал я, поражаясь собственному вранью.
— Правда?!
Вася расцветает. Тогда я не выдерживаю. Ехидно спрашиваю, указывая на строку, где говорится про какую-то деву с глазами, мерцающими, как звезды:
— Ты про кого это?!
— Да-а…
Увиливает от моего взгляда, еще больше смущается. Потом, взяв у меня свои стихи, с необычным для него смущением спрашивает:
— Я тебя провожу после уроков. Ладно?
До конца занятий меня одолевало любопытство: что ему от меня надо? И когда мы вышли, прошли молча один квартал, другой, Вася спросил:
— Скажи честно, ты мне друг?
— А ты что, до сих пор сомневаешься? — отвечаю осторожно.
Он вроде и не слышал.
— Ты скажешь правду, о чем я тебя спрошу?
Облизываю пересохшие губы, отвечаю, что буду говорить правду. Неужели доподлинно узнал, что я тогда, в коридоре, сболтнул учителю истории?
— Скажи… ты любишь… Нину?
На какое-то время я остолбенел. Стою сам не свой. Вася захватил меня, можно сказать, врасплох: никак не мог подумать, что он про это спросит. К тому же я и сам хорошо не знаю, люблю ли я Нину или нет. Она мне нравится, мне приятно, когда ее вижу, и грустно, когда расстаемся, но разве можно считать, что это уже настоящая любовь? И разве можно в таком признаться даже самому близкому другу?
— Откуда ты взял? Очень нужна мне эта Рыбальченко!..
Услышав ответ, Вася хватает мою руку, изо всех сил ее пожимает, обещает упросить инструктора, чтобы покатал меня на самолете. А я, совсем сбитый с толку, только хлопаю глазами…
Лишь спустя некоторое время, когда уже вечером сидел за столом дома и решал задачку, меня вдруг осенило: вот те на — Васька втрескался в Нину!
Так вот, значит, почему он допытывался, люблю ли я ее!
Сижу как сыч, и мне уже не до задачки и вообще не до уроков. Мне кажется, что я тоже люблю Нину. Ну, пусть еще не люблю, пусть только начинаю любить. Потому что она мне как друг, как верный товарищ.
А разве Васек не друг? Разве не я провинился перед ним, разве не поклялся, что искуплю ту свою вину?
На следующий день, получив записку от Нины с предложением сходить в кино, я ответил, что сегодня не могу, что пусть пойдет с Васей. И так каждый раз отвечал. А когда мы втроем возвращались из школы (я всегда внимательно следил, чтобы не остаться с Ниною наедине) и доходили до улицы, на которую мне надо было сворачивать, я всегда поспешно с ними прощался.
Поначалу это удивляло Нину и, наверно, немного обижало. Но со временем она привыкла и ко мне уже не обращалась. Не писала записки, не приглашала больше в кино: адресовала все это Васе. И наши с ней занятия но немецкому языку сами собою заглохли.
Про то, как я едва не стал отличником и какая это была бы для мамы радость
Это благородное намерение возникло у меня в девятом классе.
По правде говоря, и раньше время от времени меня осеняла мысль: а почему бы и мне не стать отличником? Чем я глупее Икса или ленивее Игрека?
Посредственные отметки я получал вовсе не потому, что не мог запомнить рассказанное учителем, а потому, что высидеть спокойно сорок пять минут был способен разве только каменный идол, да и то если бы его соседи не задевали. А так — тот шепнет, тот щипнет, тот что-нибудь смешное нарисует и потихоньку покажет, — уже и пропустил мимо ушей какую-то часть рассказа учителя, уже и хлопаешь беспомощно глазами, когда учитель неожиданно спрашивает:
— Повторите, что я только что рассказывал!
К тому же, если б в классах не было окон или находились они где-нибудь под потолком, чтобы только свет давали. А то на всю стену, чтобы все было видно, что вне школы творится. Вон дядька что-то на телеге везет. Интересно, что там у него? Вот остановились две женщины — стоят, одна на другую машут руками, вроде бы ссорятся. Подерутся или нет? А вон еще более интересное: воробей. Примостился на подоконнике, в класс заглядывает.
Помню, как еще в пятом классе повадился к нашему окну козел. Бывало, подойдет, постукает в раму рогами и принимается лизать стекло — воздушные поцелуи нам посылает. Ну как тут от хохота удержаться!
Мы покатывались от смеха, а учительница посылала кого-нибудь отогнать животное. Но только ученик, выполнив свою миссию, возвращался, только усаживался за парту, как козел снова тук-тук в окно.
Учительница лишь потом узнала, почему козел всегда заглядывает в наше окно и лижет нижнее стекло, — мы его солью натирали.
Так вот, мысль о том, почему бы и мне не стать отличником, раньше тоже у меня мелькала. Например, когда в конце года происходило вручение похвальных грамот и подарков. Это действительно было бы здорово — на глазах всех собравшихся выйти к столу и из рук самого директора получить похвальную грамоту. Да, было бы совсем неплохо стать отличником — хотя бы для того, чтобы не так часто тебя вызывали к доске. Ведь учителя отличников почти никогда не спрашивают. Разве только тогда, когда весь класс ответить не может.
Вот если бы отличников вообще никогда не спрашивали! А то: вызовут — не вызовут, все равно задания готовь. Сиди над учебниками день и ночь, интересно тебе или неинтересно — учи все подряд назубок. Так что стоит ли овчинка выделки? Пожалуй, не стоит.
Однако в девятом классе дело приняло неожиданный оборот. Как-то Мария Федоровна сказала, что ученики, которые удостоятся аттестата отличника, имеют право поступать в институт без экзаменов. Да еще в первую очередь их зачисляют.
Тут я и задумался. Чего я больше всего на свете не любил, так это экзамены. Я их просто терпеть не мог. А тут, оказывается, если стать отличником, от них можно увернуться.
К тому же и два месяца летних каникул не пропадут: не придется день и ночь над учебниками гибнуть. А тогда как хочешь развлекайся.
Что и говорить, перспектива соблазнительная.
В тот вечер я аккуратно выписал в два столбца предметы: один был совсем маленький — с отличными оценками, а другой — в два ряда, куда длиннее.
Ты чего это пишешь? — заинтересовался Федька. Он уже кончал десятый класс, и ему, конечно, думать об аттестате отличника было поздно.
Я охотно ему пояснил и рассказал о своем намерении.
— Ты — отличником? — вытаращил на меня глаза Федька. Покрутил головой, потом убежденно произнес: — Ничего у тебя не выйдет. Хоть лопни, хоть тресни, а отличником ни за что тебе не стать.
— А откуда ты знаешь?
— Знаю.
У меня сразу испортилось настроение. Чувствую, что все это он нарочно говорит, чтобы только вывести меня из себя, но не могу как следует обозлиться на него.
— Я тоже про тебя такое знаю… — бросаю многозначительно, чтобы только поддеть его.
— Что ты знаешь? — настораживается Федька.
— Думаешь, не видел, как ты козу доил? Чтобы хозяйка не увидела…
Меня спасают только ноги. Да еще то, что двери были открыты. Федька как бешеный гонялся за мной, но, куда там, догнать не мог. И когда он, задыхаясь, останавливался, я тоже делал передышку:
— Козодой! Козодой! Вот расскажу в школе, как ты козу выдоил, будешь тогда знать, как я не стану отличником!
Федька срывается с места. Если бы он меня поймал, то, конечно, убил бы. Ну а ко мне сейчас же возвращается хорошее настроение и уверенность, что отличником я все-таки буду. Назло Федьке.
Решил с понедельника начать. В середине недели как-то не с руки: оглянуться не успеешь, как уже суббота. Пусть уж погуляю напоследок, сил наберусь, ведь придется и днем и ночью спину гнуть.
Домой возвращались с Федькой в разных вагонах: я никак не мог простить его неверия. Поэтому, наверно, дома но выдержал и поделился с братом своими намерениями.
— Не веришь?
Сергейка сказал, что верит, только сказал как-то безразлично — отцепись, дескать. Мастерил сейчас для самоходного катера реактивный двигатель: коробка из-под зубного порошка «Пионер» с впаянной в нее металлической трубкой. А когда он чем-нибудь увлечен, все остальное ему до лампочки. Мне же необходим сочувствующий слушатель.
Разве что маме сказать?
До сих пор я имел намерения рассказать ей, когда стану отличником. А лучше даже вовсе ничего не говорить, а только показать аттестат с отличием. Чтобы мама глазам своим не поверила.
Но когда это еще будет! Нет, надо обязательно сегодня сказать, а то, может, не смогу и заснуть.
Мама в это самое время перестилала постель, белье меняла. Захожу сбоку и говорю как только удается равнодушно, вроде бы все это мне раз плюнуть.
— Знаешь, что я задумал?
— Что же это ты надумал?
— Стать отличником!
Всего мама от меня ждала, только не такого.
— Ты хочешь стать отличником? — переспросила мама, не веря, наверное, своим ушам.
— Может, не веришь? — в свою очередь спрашиваю я обиженно.
Мама торопливо отвечает, что верит. Но это так неожиданно для нее…
— А ты, я вижу, вовсе не рада, — все еще дуюсь на маму.
— Да что ты, глупенький! Как может мать не радоваться сыну-отличнику.
У мамы на глазах уже слезы. И смеется она, и вот-вот расплачется. Обнимает меня за плечи, взволнованно приговаривает:
— Боже мой, какой ты вымахал! Думала ли я когда-нибудь, что у меня такой сын вырастет?..
Мне становится так хорошо, будто я уже отличник. И все трудности, которые мне предстояло побороть, давно остались позади.
Мы долго сидели рядом на кровати, мама ее так и не успела застлать. Одеяло сползло на пол, да мама о нем и забыла, а я боялся наклониться, чтобы не сбросить мамину руку, что лежала у меня на плече. Мы мечтали об институте, в который теперь-то я обязательно попаду…
Потом мама поднялась, ласково провела ладонью по моим вихрам:
— Ложись спать, отличник мой золотой.
Я быстренько разделся, нырнул в постель и, согретый мыслью, как хорошо быть отличником, почти сразу заснул.
Проснулся окончательно убежденный, что мое намерение в скором времени исполнится. К тому же мама испекла такой высокий, такой румяный пирог, что я уже просто не мог не стать отличником.
Наевшись пирога, вышел на улицу. Первой, кого я встретил, была Сонька. Небрежно с нею поздоровался. Она же блеснула на меня глазами и ехидно спросила:
— Что это ты вроде кол проглотил?
Сонька осталась Сонькою, хотя и вымахала, нечего сказать — совсем девица. Хотел мимо пройти, не заводиться с нею, однако не выдержал.
— Попробовала бы ты вытянуть в нашей школе на отличника!
— На отличника? Ты? Ой, держите меня, а то сейчас упаду!
Раскрыла рот, хохочет, аж эхо по улице катится. И на что только я с нею связался? Знаю ведь, что она за штучка.
Поскорее ухожу от нее, а она вслед кричит:
— Как «отлично» получишь, шли телеграмму!
А-а, чтоб ты треснула! Сразу все настроение испортила.
Встретил Ванько, и на душе стало веселее. Ванько вырядился по случаю воскресенья, будто собрался для газеты фотографироваться. Начищены до блеска ботинки, черные суконные брюки, черная шинель с медными пуговицами, да еще новенькая фуражка с бархатным околышком и лакированным козырьком. Морозище на дворе, аж трещит, запросто уши отморозишь, а Ванько хоть бы что: вовсе не холодно, говорит.
— Это что! Попробовал бы ты на паровозе! Мороз не мороз, а хоть умри, выглядывай… А скорость знаешь какая? Семьдесят километров, да еще против ветра!
С завистью смотрю на Ванько. Вот кому повезло! Но есть чем похвастаться и мне.
— А мне пришлось все-таки отличником стать. Не очень-то хотелось, но что поделаешь, если в институт без испытаний принимают.
— Тяжело, наверно? — сочувствует Ванько.
— Не так чтобы слишком тяжело, канительно только. Как чего-нибудь в классе не знают, так все учителя сразу ко мне: помогай… Будто я за всех должен думать! А когда приезжает инспектор, то меня только и спрашивают…
Ванько смотрит на меня с уважением. Что значит верный друг: что бы ты ему ни наплел — поверит и глазом не моргнет! Думаю, что бы еще ему сказать, и вспоминаю встречу с Сонькой. Как она хохотала и про телеграмму кричала.
— А ты наплюй на нее, — советует Ванько. — Как была глупой, так глупой и осталась: замуж выходит!
— Замуж?
— А ты до сих пор не знал? Про это у нас только и звон идет!
Никак не могу поверить. Пусть бы кто угодно, а то — Сонька. И какой сумасшедший на ней жениться отважился? Жить надоело, так решил век себе сократить?
— Да все девчонки с придурью, — философствует Ванько. — Как только семилетку закончат, так и целятся выскочить замуж. Аж смотреть противно!
Ванько презрительно цвиркает сквозь зубы, и я за ним сплевываю.
Наполненные презрением ко всему несерьезному девчоночьему роду, мы гордо шествуем но улице.
В понедельник, вернувшись из школы, сразу же сажусь за уроки. Пусть теперь хоть камни с неба рушатся — из-за стола не поднимусь, пока все до конца не выучу!
Достал чистую газету, застлал ею свою половину стола. Старательно разложил учебники и тетради, полюбовался, придвинул стул.
Итак, что же у нас на первом уроке завтра? Физика? Давай сюда физику!
Только нашел необходимую страницу, только наклонился над нею — Федька на пороге. Да еще не один, а с товарищем.
— Раздевайся! — говорит ему Федька. — Сейчас я тебе всыплю.
Тот раздевается, а мне уже интересно, как это он ему всыплет. Делаю вид, что углубился в физику, а сам на них незаметно поглядываю. Ага, Федька шахматную доску достает.
Сели оба по ту сторону стола, расставили фигуры. Федька хватает две пешки, под столом их в кулаках зажимает.
— В какой руке: в правой или левой?
Его товарищ ничего не видел, а я сразу заметил, что Федька смахлевал: обе пешки взял черные. Так вот почему мне никогда не удавалось отгадать, в какой руке белая!
Обозлившись на Федьку, я предупреждаю его товарища:
— Не угадывай: у него в каждой руке по черной пешке.
— А ты чего лезешь! — вспыхнул Федька. — Готовь свои уроки, а к нам нос не суй!
Как это не совать, когда такое жульничество! Тут и его товарищ становится на мою сторону. Говорит, чтобы белую и черную пешки взял я, так как он больше Федьке не верит. Гордясь доверием, откладываю на минуту учебник, беру две фигуры, прячу руки под стол:
— В какой?
— В правой.
В правой руке пешка у меня черная. Однако я не теряюсь: быстро меняю под столом пешки и выкладываю белую. Уж очень хочется, чтобы Федька сегодня проиграл!
Игра начинается. С каждым ходом она приобретает все более острый характер. Федька и его товарищ поминутно пререкаются, вырывают друг у друга то одну, то другую фигуру. Я, конечно, ввязываюсь в их перепалку, из-за чего дело еще более запутывается, и мы уже втроем ошалело кричим друг на друга.
— Имею я право переходить или не имею? — вопит Федька.
— А ты мне позволял? — не отступает товарищ.
— А ты ему позволял? — встреваю я.
— Так он руку отнимал, а я не отнимал!
— Отнимал, отнимал! — кричу я, хотя, побей меня гром, ничегошеньки не видел. — Ставь фигуру на место!..
Вот так, понемногу, мы и выигрываем партию у Федьки.
— Мат! — объявляет победоносно товарищ.
— Мат! Мат! — пританцовываю я.
Федька даже посинел. Никогда не подумал бы, что он так переживать может. Сметает ладонью фигуры с доски, начинает заново расставлять.
— Еще одну?
— Не одну, а две, — хмуро отвечает Федька. — С контровой.
— А если я и эту выиграю?
— Все равно с контровой… А ты чего над головой торчишь? — Это уже ко мне. — Готовь свои уроки, а нам мешать нечего.
Федькин товарищ сразу вступается за меня. Говорит, что вовсе я им не мешаю, что могу смотреть на их игру столько, сколько захочу. Я, безусловно, не мог пренебречь столь любезным приглашением: снова в каждую перебранку влезаю, горячусь не меньше, чем они оба.
Так мы сыграли аж тринадцать партий: восемь выиграли мы, пять выиграл Федька. И когда, совсем уж одурев, убрали шахматы, было одиннадцать часов вечера.
Проводив товарища, Федька стал готовиться ко сну. Я же замер над раскрытым учебником, не зная, что же делать. Садиться сейчас за физику — другие уроки не успею подготовить. Хвататься за другие уроки?.. А Федька зевает и зевает. Хотя бы молча, а то как гиена подвывает.
— Ты еще долго сидеть будешь?
— Да мне ведь физику надо! — От отчаяния едва не плачу. — И географию, и немецкий…
— Выучишь завтра. Встанешь пораньше… А сегодня ничего не выйдет — спать пора…
И сам вижу, что пора. Голова идет кругом, горло дерет — так накричался. И откуда они взялись на мою беду со своими шахматами?!
Оправдываюсь перед собственной совестью, что я, если разобраться, вовсе и не виноват: если б не шахматы, весь вечер сидел бы не разгибаясь. С завтрашнего дня и начну. А если Федька еще кого приведет, скажу, чтобы в другую комнату шли… Чтобы не мешали!..
Однако и на следующий день засесть за уроки мне не удалось. Может, такая выпала мне судьба: стоит что-нибудь задумать, как кто-нибудь обязательно перебьет. Вчера нечистая сила Федькиного товарища принесла, а сегодня только успел сесть за парту, как Мишка говорит мне:
— Ты только послушай, какая идея! Всем классом после уроков направимся на речку. На коньках…
Ну кто может устоять перед таким соблазном! Я, правда, сказал, что у меня нет коньков, но Мишка сразу же отрезал все пути к отступлению:
— Я тебе свои дам… Будем по очереди…
Хочешь не хочешь, приходится соглашаться. Если бы один Мишка шел, тогда б еще подумал. А то ведь весь класс! Вон и Вася Гаврильченко весело подмигивает, из-под парты коньки показывает…
Что поделаешь, придется браться за учебу всерьез со среды. Среда, четверг, пятница… На субботу рассчитывать не стоит, в субботу, пока доберешься домой — тут уже и спать пора… Зато в воскресенье целый день с утра до вечера — ого, сколько успеть можно!
— Так идешь?
— Пойду! Только смотри: коньки по очереди.
До чего же весело было на коньках! Лед как зеркало: мчишься, аж в ушах звенит. И девчата и парни: та упала, тот не смог остановиться — да головой в сугроб. А иной нарочно под ноги покатился: мала куча, большая лучше!.. Смех, писк, крик — век бы отсюда не уходить! И мороз — не мороз. Градусов двадцать, а то и двадцать пять, а нам нипочем! Щеки пылают, руки горят — и рукавиц не надо.
А когда солнце село и взошел месяц, то стало совсем как в сказке: снега синие-синие, а льдины черные. Скользишь что есть духу, и желтый месяц бежит перед тобой. Так бы и мчался, не останавливаясь вовсе.
Возвращались, когда уже совсем стемнело. И весь наш Верхний поселок как на ладони — огни, огни. То цепочками, то треугольничками, то кольцами. Будто кто-то взял и светляков понавешал.
Зашел в комнату, глянул на часы: опять одиннадцать! Хотя можно было и не смотреть, Федька уже спал.
На этот раз совесть меня не так мучила, как вчера: весь класс ведь за уроками не сидел. Даже наши круглые отличницы — Милка да Олька — и те от соблазна не удержались.
Завтра, как только уроки кончатся, бегу прямо домой. Сразу же засяду и до полуночи из-за стола не вылезу!
С этим твердым намерением и заснул.
И я бы все-таки засел за уроки и получил отличную отметку — одну, а то и две, если бы не Мила: попала ко мне на глаза со своею книжкой, будто ее кто-то специально подговорил. Я в тот день как раз дежурил: проветривал класс, следил, чтобы доска была чистой, поэтому не мог не заметить, что Мила — звонок не звонок — на перемену не выходит. Сидит как пришитая за партой, уткнулась носом в какую-то толстую книжку, ничего не слышит, ничего не видит.
Интересно, что это она там читает?
— Ты чего из класса не выходишь?
Едва оторвалась от книжки. Глаза затуманены, ничего не соображает.
— Что читаешь?
— «Агасфера».
— Интересно?
— Очень интересно!
— Дай посмотреть.
Мила неохотно протягивает мне книгу.
Эжен Сю, «Агасфер», перевод с французского. Издана еще до революции — где только ее Мила выкопала? Зачитана так, что некоторые листы совсем вместе не держатся — из книжки выпадают. Сразу видно, какая интересная: занудливые книги целы-целехоньки лежат.
— Дай почитать!
Мила жмется-мнется. Говорит, что книжка чужая, что ей самой дали всего на несколько дней и в субботу должна обязательно вернуть. Но мне уже кажется, что если не прочитаю «Агасфера», то помру.
— Смотри, чтобы не больше чем на два дня, — наконец сдается Мила. — Сегодня я закончу, а ты чтобы в пятницу принес. Успеешь прочитать?
— Успею… День и ночь читать буду!
Книжку нес домой, как драгоценнейшее сокровище, не вместе с учебниками, а на груди, под пальто. И если бы не зима, если бы не снег, и по дороге ее бы читал. Чтобы не тратить понапрасну такое дорогое сейчас время.
Дома отодвинул в сторону учебники, положил «Агасфера» на чистую газету и с головой нырнул в книгу.
Что это была за книжка, если бы вы только знали! Два дня как в тумане прожил.
Итак, изо всей недели только пятница и осталась. А что можно за один день сделать? Ничегошеньки! Так что не лучше ли начать с будущей недели? Прямо с понедельника!
Но моим благородным намерениям не довелось осуществиться и на следующей неделе: как раз в понедельник, будто назло, мы писали контрольную по тригонометрии. Из трех задач я решил только две, да и то в одной допустил ошибки. За что и получил посредственную отметку.
К тому же Мария Федоровна записала мне в дневник замечание: на уроке баловался. А я вовсе и не думал баловаться, только надул резинового чертика, который, если его выпустить из рук, плачет, как ребенок.
Я имел намерение, как только раздастся звонок и Мария Федоровна из класса выйдет, подкинуть его кому-нибудь из девчонок.
А Мишка вдруг хлоп меня по руке, чертик выскользнул и заголосил «уа! уа!» под ногами у учительницы.
Мария Федоровна в это время читала свой самый любимый отрывок из «Фата-Морганы», тот, где дожди и холодные, осенние туманы… Как раз в тот момент, когда она с трагедийным надрывом в голосе вопросила: «Где небо? Где солнце?», чертик и закричал ей в ответ, будто и он тосковал но небу и солнцу.
Класс тихонько смеялся, только мне было совсем не смешно.
В этот выходной мама возле печки не хлопотала — убедилась, наверно, что для меня пироги печь — только муку переводить. Да я и не был в претензии к маме, понимал, что сам виноват. Хотя если как следует разобраться, то никакой особой моей вины не было.
Ведь я так хотел стать отличником!
Последняя школьная глава
В нашем классе что ни ученик, то обязательно какое-нибудь новое увлечение. Мишка, например, больше всего любил стрелять: мечтал стать снайпером. Стоило ему увидеть мелкокалиберку — весь трясется. Ким собирал почтовые марки: как-то принес в школу три больших альбома. Каждая марка аккуратно наклеена, еще и папиросной бумажкой прикрыта. Показывал сам — не позволял и пальцем притронуться. Калюжный поначалу бегал на лодочную станцию, а с девятого поступил в футбольную команду. И когда осенью — мы уже в десятом были — наша школьная команда завоевала первенство и ее фотографию поместили в районной газете, он и вовсе задрал нос. Ходит — на нас и не глянет. И все, что бы ни валялось на пути, обязательно ногой поддаст. Как-то я книжку уронил, так он и ее запузырил под самый потолок.
Ну, мы его и проучили: я и Мишка. Я задавак терпеть не могу, а Мишка и подавно.
Принесли в класс кирпич, завернули в газету и положили недалеко от дверей. Каждому, кто вбегает в класс, кричим, чтобы не трогал: гостинец Калюжному. Но вот и Калюжный. Заметил сверток, разогнался да бац носком. Хотел, видимо, зафутболить под потолок. Только кирпич не книжка, лежит, как лежал, зато Калюжный ухватился за ногу и проойкал до самой парты. Это чтобы знал, как задаваться!
Василь Гаврильченко грезил самолетами. После девятого класса по комсомольской путевке отправился в авиационное училище. Провожали мы его всем классом и очень гордились им. Нина даже заплакала на перроне. Девчата ее обняли, шепчут, утешают, а Василь отвел меня в сторонку, спрашивает:
— Ты мне будешь писать? О хлопцах, о девчатах и о Нине?..
Ответил ему, что буду.
— Ты настоящий друг! — воскликнул Василь и сильно пожал мне руку.
Теперь я каждую неделю пишу ему письма. Пишу больше стихами, потому что прозой неинтересно, да и событий особенных нет, а в стихах можно выдумать что-нибудь необычное.
У меня тоже было увлечение, которое не угасало все школьные годы и частенько мешало даже в учении. Я много читал, жадно поглощая все, что только попадало в руки. Маме некогда было следить за тем, какие книжки я глотаю, тем более что где-то в четвертом классе я понял, что совсем не обязательно показывать старшим то, что читаешь. К этому печальному выводу я пришел после того, как, будучи учеником еще третьего класса, на вопрос высокого гостя — инспектора из района, — что я читаю, достал и показал ему объемистую книжку. У инспектора брови полезли на лоб, когда он прочел заголовок: это была «Повия» Панаса Мирного.
— И много ты успел прочитать? — немного оправившись, поинтересовался он.
— Уже дочитываю.
— Что же ты понял в ней?
— Все.
Я было собрался рассказать инспектору, о чем там написано, но мама вовремя закрыла мне рот. Она сердито сказала, чтобы я убирался вон и не смел приносить в дом никаких книжек без ее разрешения.
— Где ты ее взял?
— В клубе. Их там навалом…
— Чтобы твоей ноги там больше не было! А эту книжку я сама отнесу…
Обескураженный, вышел я из дома. Никак не мог понять, почему так удивился инспектор, увидав книжку, и почему так рассердилась мама. Ведь ничего такого я в повести той не заметил, может, что-нибудь в самом конце?.. Наверное, так, раз мама не дала мне дочитать.
Позднее я поумнел: знал, какую книжку можно показывать маме, а с какой нужно прятаться от нее подальше — на чердаке, на дровах в сарае или где-нибудь в огороде.
Кроме мамы, должен был остерегаться и учителей. Они тоже охотились за такими, как я. Особенно на уроках, когда достанешь книжку тайком, развернешь на коленях под партой и читаешь. Бывало, так зачитаешься, что и не слышишь, будто глухой, как тебя вызывает учитель. Пока сосед в бок не толкнет.
А сколько раз проезжал остановку, когда возвращался в субботу домой! Зачитаешься и не заметишь, что твоя остановка. И хорошо, если рядом знакомый и крикнет, выходя:
— Ты что, заснул? Давай к выходу, а то дальше поедешь!
Подскочишь и опрометью из вагона.
В восьмом классе я перечитал почти все книжки из нашей школьной библиотеки. Это оказалось нетрудным: библиотека помещалась в небольшой комнатке с двумя или тремя шкафами и большую часть книжек я уже читал. Тогда старшая пионервожатая — она же выдавала нам книги — посоветовала мне записаться в библиотеку Дворца культуры. Там хватит что читать до самого окончания школы.
Библиотека занимала второй этаж.
Сперва нужно было пройти через большой читальный зал, почти пустой днем и переполненный по вечерам, и только потом можно попасть в абонемент: святая святых для каждого, кто влюблен в книги. Там, отгороженные невысоким барьером, стояли длиннющие, высотой до самого потолка стеллажи, сплошь забитые книгами. Среди этого неимоверного богатства похаживал всегда деловитый, всегда немного сердитый Михаил Семенович — среднего роста мужчина с седыми растрепанными волосами и воспаленными близорукими глазами.
Когда я несмело вошел, он придирчиво допытывался у пожилого человека:
— Вы хотите интересную книжку? Думаете, вы один ее хотите? Все хотят только интересные книжки! А кому прикажете читать скучные? Но человек не сердился на библиотекаря. Он весело отвечал:
— Скучные вы и читайте! Вам за это деньги платят.
— «Деньги, деньги»! А вы их считали, те деньги?
Человек ответил, что не считал.
— Чего же вы изволите о деньгах говорить?
— Да я просто так… — оправдывался человек. — Дадите вы мне интересную книгу?
— А какую такую книжку вы хотите?
— Дайте что-нибудь Гоголя.
— О, опять Гоголя! — всплеснул руками Михаил Семенович. — И этот хочет Гоголя, и тому дай только Гоголя… Где я вам возьму столько Гоголей? Как вы себе думаете, нам только Гоголя и присылают?
Человек ответил, что не думает.
— Почему все вы хотите только Гоголя?
Последний вопрос прозвучал уже из-за стеллажей, так как Михаил Семенович все же пошел за Гоголем.
— Вот вам последняя, — сказал, возвратившись. Осторожно пролистал книжку, лицо у него было таким торжественным, что и пожилой читатель, и я прониклись уважением к тоненькому томику.
Когда мужчина, поблагодарив, ушел, Михаил Семенович перевел взгляд на меня:
— Ну-с, а где твоя книжка? Или, не дай бог, уже потерял?
Поняв, что библиотекарь принял меня за постоянного читателя, отвечаю, что я пришел впервые.
— Ты пришел записаться? — переспрашивает Михаил Семенович. — А пять рублей принес?
Молчу, ничего не понимая.
— Пять, пять! — как глухому, повторяет Михаил Семенович. — Пять рублей залога. Если ты потеряешь книгу или не захочешь вдруг возвратить ее, то мы вычтем из этих пяти рублей ее стоимость. Ну-с, есть у тебя пять рублей?
Говорю, что нет. Нет и не будет. По крайней мере, еще лет шесть, пока не закончу институт и не начну работать.
— О, у него нет пяти рублей! — воскликнул Михаил Семенович. — Он, видите ли, учится! И ждет, пока мама с папой дадут ему пять рублей! А чтобы самому заработать, так этого и в мыслях у него нет…
Библиотекарь продолжает свой сердитый монолог, но я его уже не слушаю. Разочарованно говорю «до свидания», отступаю к двери.
— О, он уже и обиделся! Лучше сказал бы, из какой школы да что читал…
Передо мной появляется проблеск надежды. Возвращаюсь к столику, перечисляю названия прочитанных книжек. И чем больше книг я вспоминаю, тем внимательнее слушает меня Михаил Семенович.
— Хватит-с, — говорит он. — Вижу, что ты кое-что читал… Так нет, говоришь, у тебя пяти рублей? — Опять за свое.
Уныло говорю, что нет.
— Вот все вы такие! На кино, на ситро есть, а на книги нет…
Он снова сердится, но тем не менее выписывает мне читательскую карточку.
— Так что будем читать-с?
Молчу в нерешительности. Попросить что-либо интересное — вдруг еще больше рассердится? А неинтересных книжек не помню.
— Что дадите, — отвечаю несмело.
— О, он уже не знает, что и читать! — взрывается Михаил Семенович. — Выдавай им книги, да еще думай за них! «Что дадите, что дадите»… А если ничего не дам?
Последняя фраза доносится до меня уже из-за стеллажей.
Михаил Семенович вернулся вскоре с целой охапкой книг. Разложил на столе аккуратным рядком, спросил:
— Ну-с, может, хоть из этих что-нибудь себе выберешь?
«Что-нибудь выберешь»! Да я готов забрать их все разом! Рассматриваю книжку за книжкой, и руки мои дрожат, щеки пылают. Одна интересней другой, не знаешь, на которой остановить свой выбор.
— Вот эту.
И по тому, как сверкнули глаза Михаила Семеновича, понял, что и ему понравился мой выбор.
Так стал я в библиотеке своим человеком. Прошло совсем немного времени, как я дневал и ночевал там, помогая Михаилу Семеновичу.
У него, кроме меня, было еще несколько таких же помощников, и все мы считали за счастье остаться на вечер, чтобы помогать Михаилу Семеновичу выдавать книги. Библиотека была очень большая, читателей по вечерам набивалось полным-полно, и тогда Михаилу Семеновичу впору было разорваться. Да еще с его привычкой не просто выдать книгу, а обязательно допытаться, почему именно эту, а не иную. Он был большим чудаком, однако чудачества его не отваживали читателей от библиотеки — наоборот, они всем нравились.
Свое дежурство мы начинали с того, что разыскивали очки Михаила Семеновича. Мне и до сих пор не понятно, для чего он их носил. Сколько его помню, он ни разу ими не пользовался. Большие, в старомодной медной оправе, они или зависали на самом кончике его горбатого носа — и тогда глаза Михаила Семеновича смотрели поверх оправы, — или венчали его высокий лоб. Но чаще всего они куда-то таинственно исчезали, и тогда раздавался полный отчаяния крик Михаила Семеновича:
— Куда делись мои очки? Кто взял мои очки?!
И все, кто находился в это время в библиотеке, включались в поиски. Дело в том, что, пока пропажу не обнаруживали, Михаил Семенович отказывался выдавать книги. Подбегал чуть ли не к каждому, сердито спрашивал:
— Это вы взяли мои очки?
Наконец очки попадались кому-нибудь на глаза. Находились они в самых неожиданных местах: между книжками, на подоконнике, а то и под столом. Михаил Семенович торжественно водружал их на лоб и как ни в чем не бывало прицеливался прищуренными глазами в очередного читателя:
— Так вам хочется интересную книжку? А я что, печатаю их, эти интересные книжки?
Мы ходили между стеллажами, отыскивали и доставали одни томики и устанавливали на место другие. Мы блаженствовали в этом книжном царстве, и вскоре я заслужил такое доверие Михаила Семеновича, что мог брать с собой любую книжку и читать ее сколько угодно.
Понятно, что при таких обстоятельствах нечего было и думать об аттестате отличника. Закончить бы с хорошими оценками, без удовлетворительных, хотя и от удовлетворительных никто еще не умирал. Поступают же как-то люди в институт, а я чем хуже?
Михаил Семенович соглашался, говорил, что не хуже. Убеждал меня поступать в библиотечный, поскольку это была единственная специальность, стоящая, по его мнению, внимания. Я так и подал бы туда документы, если бы не вторая мировая война, не напряженное международное положение и не решение правительства призвать меня в ряды Красной Армии. Потому пришлось мне на некоторое время распрощаться с мечтой об институте и готовиться к военной службе.
Михаил Семенович был этим очень удручен.
— А что, может война начаться?
Я говорил, что не начнется. Ведь нам не с кем и воевать. Мы подписали пакт о ненападении с Германией… Доказывал я это все Михаилу Семеновичу с запальчивостью молодости, а он только покачивал головой да печально улыбался.
— Если б у всех было столько разума, сколько в словах твоих правды! — отвечал Михаил Семенович. Покачивая головой, с горечью добавлял: — Я старый человек, может, и не доживу, а ты доживешь и вспомнишь, что я тебе сейчас скажу: Гитлер начал с евреев, а заканчивать будет вами.
Тогда я не обратил внимания на эти пророческие слова. Всплыли они в моей памяти много позднее, во время войны, когда за плечами осталась и школа, и год службы в армии, и библиотека при Дворце культуры с постоянно озабоченным, чудаковатым и добрым Михаилом Семеновичем…
Чрезмерное увлечение книгами не прошло для меня бесследно. Кроме того, что я не получил аттестат отличника, надо мной нависла еще и угроза остаться вне армии из-за близорукости, которую я приобрел, читая книжки. При одной лишь мысли об этом меня начинало трясти. Это оказалось бы позором, который вряд ли можно было пережить.
Не годен к строевой. Все равно что калека.
Но в армию я должен попасть во что бы то ни стало. Хотя бы для этого пришлось обмануть всю медицинскую комиссию.
Я заранее разузнал, как проверяют там зрение, — сажают на стульчик, подальше от стенки, на которой висит таблица с буквами: большими, чуть поменьше, еще меньшими и совсем мелкими, как маковые зернышки. Врач становится возле той таблицы и указкой касается букв — самых крупных, потом тех, что поменьше, и так дальше, а ты должен их называть…
Точно такая же таблица висела в школьном медпункте. Я взял «взаймы» ее и повесил дома на стене. Изо дня в день изучал я те буквы, какая за какой стоит, до тех пор, пока мог безошибочно назвать все до самой мелкой, когда меня экзаменовал по таблице Мишка.
После этого я уже не пасался идти на медкомиссию.
Не так давно мечтал я стать танкистом. Но, начитавшись морских рассказов Станюковича, заболел морем. Потому и заявил в военкомате, что хочу служить в военно-морском флоте.
Военный комиссар записал что-то в блокноте, и я, чувствуя себя уже моряком, гордо возвращался из военкомата домой.
Проводы
— И когда ты, наконец, станешь взрослым?..
Мама улыбнулась — спасибо и на этом! Правда, улыбка коснулась лишь маминых губ, а глаза остались печальными. Смотрит так, будто видит меня в последний раз. Мне становится не по себе: не переношу, когда кто-нибудь грустит. Или, еще хуже, плачет.
А во всем виновата Олька Чровжова. Загорелось ей, видите ли, похвастать, что она уже в институте. Прибежала, точно рублевку по дороге нашла.
— Завтра в армию?
— Да, завтра, — отвечаю сдержанно: что они, женщины, понимают в этом!
— Я тебя провожу… — И тут же к маме: — Можно? — Будто мы до сих пор маленькие, ей-ей! Не хватало еще и теперь спрашивать разрешения у старших.
— Провожай, если хочешь, — опережаю маму. — Только мы чуть свет выйдем.
— А ты мне покричишь. Мимо же пойдете…
— Не забуду, так крикну.
Могла бы уже и уйти. Так нет, вертится и вертится.
— А может, и служить будешь недалеко?
Меня всего передернуло: насмехаться надо мной прибежала, что ли?
— Ха, недалеко! А Тихий океан не хочешь? А Ледовитый?
Сам-то я до сих пор убеждал маму, что буду служить лишь на Черном море. Чтобы она не так убивалась. При одной только мысли об океане, об ураганах и штормах у нее сердце заходится. На Черном же море, как маме кажется, и ветры послабее, и волны поменьше.
— Значит, ты будешь плавать на кораблях? Ой, как интересно!
— На линкоре, — поправляю снисходительно. Не то, чего доброго, Оля может подумать, что буду служить на каком-нибудь торговом корыте.
— Это надо же, целых четыре года! — вставляет мама. — А он, глупый, радуется… Эти четыре года службы на флоте маму больше всего страшат. Когда узнала, куда я напросился, — обмерла. Даже в пехоте всего два года, а там — четыре!
— Ты все перезабудешь! И так в голове ничего не задерживается!
Маму заботит одно: институт. Никак не может уяснить, что флот и пехота — как небо и земля. Вот отслужу год или два, приеду в отпуск в морской форме, тогда увидит, что лучше: пехота или флот.
Чтобы замять неприятный для меня разговор, спрашиваю Олю:
— Ну а как твой институт?
— Прекрасно! — сияет Оля от счастья. — Уже и лекции начались!
— А почему ты дома?
— Мама заболела. На три дня отпустили.
— На лекциях интересно?
— Очень! Математику нам читает профессор, так знаешь, что он нам сказал? Забудьте все, что вы учили в школе!
Ну! Вот это здорово! Оглядываюсь на маму: неужели не слыхала? А Олька щебечет и щебечет — все о своем институте. И какие там аудитории, и какое общежитие… В их комнате живут три девушки.
Это меня совсем не интересует.
Наконец Оля ушла. И хорошо сделала. А то мама совсем загрустила. Ей и так, бедняжке, невесело, а тут еще Олька со своим институтом надоела!
— Вот и ты мог бы стать студентом…
— Успею… Закончу службу…
— Ой, сынок, пока отслужишь — все перезабудешь!
Мама весь день ходит как в воду опущенная. Плакать, правда, не плачет, не то что другие матери, а все же очень опечалена. Да и мне самому не по себе. Бодрюсь, бодрюсь, а то вдруг сердце так защемит — хоть садись да ревмя реви!
Однако пора собираться.
Собирались вот как: что мама в торбу, то я из торбы. Маме почему-то кажется, что еду я в голодный край. Потому и впихивает все, что попадается на глаза. Еще и упрекает:
— Говорила же: бери ту, что побольше. А в эту, видишь, не вмещается…
Большую торбу мама сшила еще вчера. Но торба — чувал! Нищий и то не решился бы ее надеть. Я как глянул — завопил. Из дома сбегу, ночевать не вернусь, если заставят эту торбу взять!
Пришлось маме вновь браться за иголку с ниткой.
А теперь она старается наполнить эту торбу по самую завязку.
— О, и сухари! Что я, побирушка, что ли?..
— Вот глупенький! Я тебе в дорогу насушила. Захочется есть — и погрызешь в свое удовольствие.
— Ага, погрызешь… Чтобы все надо мной смеялись!
— Да кто там станет смеяться?
— Все! А сало зачем?
Я кисну и кисну. Да и как не предаваться унынию, когда в повестке черным по белому написано, что нужно брать с собой. Ложку и пару белья. А про харчи — ни слова.
Но наконец мы все-таки собрались! И тут ко мне подходит брат:
— Это тебе. На дорогу.
— Чего там еще?
Сергунька не говорит. Лишь протягивает что-то зажатое в кулаке. Я подставляю руку, и в мою ладонь ссыпаются медяки. Целая гора медяков.
— Рубль и сорок семь копеек, — говорит брат. — Бери!
Я ужасно растроган. Знаю же, как трудно Сергуньке отдавать эти деньги. Собирал их больше года — на «Конструктор». Не позволял себе купить самых дешевых конфет. Даже маму как-то попросил: если она захочет покупать нам сладости, так его долю пусть отдает ему деньгами.
— Оставь лучше себе. Тебе ж на «Конструктор»!
— Не хочу.
Стоит, на медяки и не глянет. Боится, очевидно, передумать — попросить назад.
— Ну, спасибо! А тебе чего привезти?
— Ничего. Я так, без отдачи…
Побродил, побродил без дела, потом вновь подошел:
— Ты мне малость пороху пришли… И патронов…
Пылко обещаю прислать и то и другое. Сейчас я готов весь флот обезоружить, только бы порадовать брата.
Ложимся поздно, в час. Мама в последнюю минуту надумала меня искупать, хотя я позавчера мылся. Как я ни отговаривался, как ни отбрыкивался — ведь там же будет и море, и баня, — ничего не помогло.
— Так это ж на четыре года! А мне известно, как ты сам купаешься… Терла мне спину, аж кожа трещала. А потом принялась еще и голову мыть. Совсем ни к чему: все равно обстригут!
— Тем более! Я не желаю за тебя краснеть!
Умора! Будто мама собиралась присутствовать при том, как мне волосы снимут!
Вымытый, прилизанный, ложусь в постель. Не успел, показалось, и заснуть, как слышу ласковый мамин голос. Склонилась надо мной, провела теплой ладонью по щеке:
— Пора, сынок… Опоздаем…
Насилу открыл глаза. Слабый мягкий свет заливает комнату, в плите потрескивают дрова, шипит, стекая из кастрюли, вода: мама уже готовит мне завтрак. Когда же она встала? А может, и вовсе не ложилась?!
Смотрю на маму, на ее, как всегда, озабоченное лицо, и волна горячей нежности заполняет мое сердце. Нежности и жалости к маме. Думаю, как ей тоскливо будет без меня, впервые начинаю понимать, что эти четыре года покажутся ей куда более долгими, чем мне. Хочется подойти к маме, сказать что-нибудь хорошее в утешение, но я знаю наперед, что ничего из этого не выйдет.
Мама понятия не имеет, что со мной творится. Поворачивается ко мне, повторяет ласково:
— Сынок, пора.
Да, нужно вставать. Считаю до трех, потом до десяти, наконец, на пятнадцатом счете сползаю с кровати. А мама уже стоит с кружкой воды, с чистым, из комода, полотенцем…
Выходим из дома, когда светать еще и не думает. На улице темно, по-осеннему холодно. Но я не хочу надевать пальто, как мама ни сердится, опасаясь, что я простужусь.
Олькины окна без света — в доме все спят. Мама напоминает, что я обещал постучать, но я не желаю.
— Ну, как знаешь, — печально соглашается мама.
Сбор у военкомата, а оттуда поведут на станцию. Мы пришли в числе первых, во дворе пусто, над воротами красное полотнище: «Пламенный привет допризывникам — достойному пополнению Рабоче-Крестьянской Красной Армии!» Значит, и я — достойное пополнение! Невольно выпячиваю грудь, расправляю плечи. Торбу бросаю на землю и загораживаю собой, чтобы в глаза не бросалась.
Постепенно двор заполняется новобранцами. Подходят по одному и группками. Те, что пришли одни, сразу ищут свободное местечко у стены, робко опираются на нее. Компании вваливаются со смехом, шумом, даже с музыкой. Вот уже и в одном углу двора и во втором перекликаются гармошки, одна звонче другой выводят:
Эх, яблочко, да куда котишься, Как на службу попадешь — Не воротишься! Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет!Тут же и Катюши — без них и проводы не проводы. Виснут на локтях у хлопцев, ни на шаг не отходят. Поют, разговаривают потихоньку, а некоторые уже и глаза платочками вытирают — попусту слезы развозят. Хлопцы им «бу-бу», да «бу-бу», оглядываются по сторонам смущенно. Хорошо, что хоть Ольку не взяли с собой: а ну как реветь вздумала б? Что тогда могли подумать? Мне бы маму удержать от слез…
Стоит печальная, на глазах постарела, взгляд от меня не отводит.
— Ты, сынок, веди себя хорошо, не перечь командирам… И пиши мне почаще…
Слушаю маму вполуха. Потому что такой галдеж, шум-гам вокруг — оглохнуть можно, да к тому же высматриваю Мишку Кононенко. Договорились с ним держаться вместе, хотя бы до тех пор, пока не отправят нас по частям. Он записался в танкисты, а я, как известно, во флот.
Но вот и он. Пробирается через толпу, вертит головой — меня разыскивает.
— Мишка! — машу ему рукой. — Сюда!
Заметил, направился в нашу сторону. У меня на душе даже потеплело.
— Военно-морскому — привет!
— Привет, броня!
Хлопнули изо всех сил ладонями, крепко пожали друг другу руки. У Мишки через правое плечо небрежно перекинута сумка, на левом — осеннее пальто. Воротничок сорочки расстегнут, будто не осень сейчас, а жаркое лето. И кепка задом наперед.
— Чего опоздал?
— Да со стариками прощался. Договорились, что не пойдут провожать…
— Может, ты нас познакомишь? — делает мне замечание мама. И затем обращается к Мишке: — Мне Толя о вас много рассказывал.
Я говорю Мишке, что это моя мама. А маме говорю, что это мой товарищ Миша Кононенко.
Ну, вот они и познакомились. Теперь маме можно и домой возвращаться. А то не известно, когда еще нас на вокзал поведут.
— Ты не хочешь, чтобы я тебя проводила?
Чувствую, что обидел маму, хотя совсем того не хотел.
Просто мне было стыдно перед товарищем, что меня провожают, будто маленького. Однако хватает ума не сказать этого маме. Говорю, что очень хочу, чтобы мама проводила меня до вокзала, но она может устать. А ей еще и до дома добираться нужно…
— Обо мне можешь не тревожиться, — отвечает мама обиженно.
Чувствую себя не в своей тарелке. Мишке, видимо, тоже неловко за меня, а я готов себе язык откусить. Вот так всегда: что-нибудь брякну, а потом каюсь.
Но вот на крыльцо выходит капитан. Я его до сих пор не видел. За ним еще несколько военных.
— Внимание! Сейчас начну вызывать допризывников. Кого вызову, выстраивайтесь здесь. — И указал на стену справа.
— Бойко!
— Коваль!
— Костюк!
Меня и Мишку назвал почти последними, когда я уже забеспокоился: вдруг в списки забыли внести?
— Пошли! — тяну Мишку нетерпеливо за руку.
Когда капитан закончил, забегали младшие командиры, которые вышли из здания райвоенкомата вместе с ним. Они будут сопровождать нас в дороге. Дают команду рассчитаться, приказывают построиться по четыре в ряд.
Но странно: все тут пехотинцы — ну хотя бы один моряк или танкист!
— Это только до Харькова, — уверенно говорит Мишка. — А оттуда уже по нашим воинским частям разошлют.
Ищу глазами маму.
— Я здесь, сынок!
Машет мне рукой, пробирается поближе. Косынка сползла с головы, но мама этого не замечает — смотрит только на меня. Хочу крикнуть ей, чтобы поправила косынку, но в это время капитан махнул рукой: отправляйсь! Командиры засуетились, закричали на все голоса: «Нале-во! Правое плечо вперед — ша-гом арш!» И мы, толкая друг друга чемоданами, котомками, торбами, вышли на улицу.
— Ать-два! Левой!
Командиры стараются, чтобы наша колонна приняла стройный вид. Мы и сами усердно отбиваем шаг, так что подошвы болят, а рядом торопятся матери, сестры, отцы. Они пытаются не отстать от нас, но мы уже не принадлежим ни себе, ни им, между нами пролегла полоса отчуждения, которая будет разделять нас многие годы.
До Харькова едем пассажирским поездом. Сидим в купе чуть ли не друг на друге, притихшие, печальные, всеми мыслями оставшиеся еще там, на перроне. Даже Мишка, которого никто не провожал, который ни с кем не прощался, и тот скис. А про меня и говорить нечего…
Мама так и не поправила косынку. Когда поезд тронулся, она шла рядом с вагоном и приговаривала:
— Твоя мать не плачет. Видишь, твоя мать не плачет…
А сама не замечала, как по ее лицу катились слезы.
Поезд мчится уже вовсю. Мелькают телефонные столбы, проплывают поля, села, небольшие рощи. Одни из нас прилипли к окну, другие слушают нашего сопровождающего — помкомвзвода. Мы приберегли для него место и втайне гордимся тем, что он едет в нашем купе, наперебой, друг перед другом, угощаем его всем, чем богаты. Но все это без заискивания, угодничества: помкомвзвода представляет часть того удивительного мира, в который мы вскоре войдем. Сопровождающий не отказывается от щедрых даров: ест все подряд, охотно отвечает на наши дотошные бесконечные расспросы. Изо всех его ответов до нас доходит одно: что служба в армии — это «не фунт изюма», кто не был на ней, тот попадет, а кто побывал, тот «не забудет»! Потому что армия — это вам не игрушки, в армии перво-наперво дисциплина: «Кругом!» — и все разговорчики!
В Харьков приехали в обед. И сразу же в баню.
— Отпарить гражданский душок, — пояснил нам сопровождающий. — И патлы остричь. Чтобы зверей не разводить.
— А если я не хочу? — спрашивает Мишка. Помкомвзвода прицелился на Мишку строгим глазом, ответил:
— В армии забудь: хочу — не хочу! В армии: «Кругом!» — и все разговорчики!
Раздался смех.
Баню брали приступом: кто первый ворвется.
— Куда?! — хотел остановить нас здоровенный дядька.
Его так и втащили в раздевалку. А он яростно размахивал березовым веником и ругался:
— Ну, сущие жеребцы, окаянные!
В раздевалку набилось полным-полно. Мишка успел захватить шкафчик для одежды. Окликает меня:
— Толька, сюда! Раздевайся быстрей. Орда налетит, и шайки не захватишь.
Сбросили с себя одежду, заперли шкафчики и с номерками в руках начали пробираться к дверям, из которых валил пар. Заняли свободную лавку поблизости от кранов. Лавка широченная, скользкая, хоть катайся на ней. Шайки деревянные, с медными ручками. Медь вся зеленая, дерево — черное: из них, должно быть, мылись еще купцы до революции.
Только устроились, как вдруг подбегает к нам тот подхалим, что всю дорогу увивался вокруг помкомвзвода. Подбежал и две шайки на лавку плюх:
— Товарищ помкомвзвода, сюда! Вот лавка свободная!
Мы бы ему показали «свободную»… Мишка уже и шайку его схватил, да сопровождающий тут как тут. Подошел, хлопнул Мишку по голой спине, дружелюбно спросил:
— Моемся? Порядочек…
А угодник возле него чуть хвостом не машет:
— Ложитесь, товарищ командир, я вам спинку потру!
Нам уже никакая баня не мила. Отодвинулись на самый край лавки, хмуро наблюдаем, как подлиза заискивает перед командиром. Набрал теплой воды, шурует спину, только что языком не лижет.
Мишка смотрел, смотрел, а потом взял свою шайку — и к кранам.
— Ты что?
— Ничего.
Открутил кран с холодной водой, налил полную шайку:
— Сейчас он его помоет.
Я попробовал рукой воду: как лед!
— Стань так, чтобы он ничего не заметил, — шепчет мне Мишка. И поставил свою шайку на лавку, разводит мыло, чтоб было точно так же, как у подхалима.
Я, понятно, стал. Мне-то что, трудно? Стою и смотрю, как угодничек командиру спину намыливает. Спина красная, распаренная — командир лишь покряхтывает блаженно.
— Порядочек! А теперь обливай…
Я отступил в сторону, чтобы не мешать людям мыться. Тем более что и Мишка уже управился: поменял шайки. А подлиза рад стараться:
— Держитесь, товарищ командир!
Да хлюп всю шайку ледяной воды!
Никогда не думал, что командир так разозлится и начнет ругаться. Особенно после того, как, вскочив с лавки, уже сам схватил другую шайку и вылил ее на себя…
Потом мне Мишка рассказал, что он успел подменить и вторую: она была с кипятком.
Здесь же в бане мы с Мишкой и постриглись. Взглянули друг на друга — и не могли удержаться от хохота. Мишка заливается, а я пуще его.
Когда вышли из бани, сопровождающий громко спросил:
— Кто хочет сходить за обедом?
Мишка дерг меня за рукав:
— Толька, пойдем?
— Пойдем!
— Мы, товарищ командир!
Колонна двинулась, мы, двенадцать человек, остались на месте. И тринадцатым — младший командир. Как раз чертова дюжина!
— Товарищ командир, а где этот обед?
— В воинской части… По два — становись!
— Товарищ командир, а куда все наши пошли?
— На станцию, в эшелон… Правое плечо вперед — шагом марш!
— Товарищ командир, а разве не будут нас рассылать по частям?
— Разговорчики! Вы в строю иль на посиделках?!
Войсковая часть, в которой мы должны были забрать обед, оказалась далековато: шли около часа. Мишка уже начал бурчать, что могли бы и на трамвае подъехать, но тут командир подал команду «Стой!» — и мы увидели массивные зеленые ворота с красной пятиконечной звездой. Ворота сразу же открылись, и мы вошли в широченный, вымощенный булыжником двор. Вокруг длинные двухэтажные дома из красного кирпича.
— Глянь, танки!
Мишка восторженно колотит меня локтем в бок, хотя я и без него все вижу. Грозные боевые машины выстроились в длинный ряд, вдоль них расхаживает часовой с винтовкой.
Да-а, это тебе не пехота! А может, и мне попроситься в танкисты? Чтобы вместе с Мишкой. На одной машине: он водителем, а я — командиром…
Тем временем подходим к единственному одноэтажному дому, останавливаемся у дверей. Командир приказывает нам подождать, а сам заходит внутрь. Вскоре появляется с двумя дымящимися паром ведрами в руках. Ведра огромные, каждое как бадья.
— А ну-ка, налетай, кто проголодался!
Я ринулся было подскочить первым, но Мишка вовремя дернул меня за рукав:
— Куда, дурной? Может, полегче будут.
Более легких так и не дождались. Командир сказал:
— Нужно с часок подождать. На два ведра не хватило: доваривают.
— Товарищ командир, борщ же остынет!
Командир подумал-подумал и решил так: он поведет тех, кто с борщом, а нам с Мишкой оставаться здесь. И ждать, пока он снова вернется. Ясно?
Ясно-то ясно, да не очень весело. Есть так хочется, аж в животе бурчит, и еще не терпится побыстрей к эшелону добраться, узнать, куда нас повезут. Но приходится ждать, и мы рассматриваем танки.
— Толька, ты какой взял бы себе?
— Вон тот, что с двумя башнями.
— Дурной, это же устаревший. Бери тот, что с одной!
Не успели закончить спор, который танк лучше, как на пороге появился повар в белом:
— Вы за борщом? Держите!
Эти ведра вроде бы больше тех. И тяжелей. Стоим и не знаем, как быть дальше. Когда-то еще вернется командир, а борщ стынет и стынет.
— Давай пойдем! Что мы, дороги не найдем?
Пошли. Ведра тяжелые, и нести их неудобно. Перегибаемся на бок, а борщ хлюпает и хлюпает. Несли, несли, устали — остановились. Поставили ведра, вытираем вспотевшие лбы.
— У тебя деньги есть?
— А что?
— Сейчас бы мороженого, хоть по порции! Ты любишь мороженое?
А кто его не любит! Глотаю голодную слюну, а Мишка соблазняет:
— Пломбир с изюмом тебе приходилось пробовать?
Я не выдерживаю, хватаю ведро и говорю решительно:
— Идем!
— Куда?
— Мороженое искать!
Нашли мороженое лишь в центре: едва добрались. Если бы не ведра, как гири, было бы легче.
Мороженщица как нас увидела, сразу догадалась, кто мы такие:
— Налетайте, солдатики, забирайте последнее!
— Видишь: последнее! — шепчет Мишка. — Хорошо, что сразу пошли, а то не хватило б.
Съели по порции, облизнулись. Посмотрели друг на друга:
— Еще по одной?
— А денег хватит?
— Хватит.
Вот так мы и проели Сергунькины деньги. Лакомились мороженым, пока языки не задубели.
Взялись было за ведра, а куда идти — не знаем. Пока мороженое ели, и дорогу забыли.
— Вам, ребятки, на станцию? — спрашивает мороженщица. — Так вы идите по этой улице. Три квартала пройдете, а потом повернете направо. А там прямо, прямо — как раз в станцию и упретесь.
Поблагодарили, подняли вновь ведра, пошли. Отшагали три квартала. Остановились на углу, отдохнули и снова в путь. Хотя вокзал и далековато, едва виднеется вдалеке, но ничего, дойдем, солдатам не привыкать к походам.
— Зато все наедятся, — утешаю Мишку.
Доплелись до вокзала. Руки ноют, ноги гудят. Где же эшелон?
— Эшелон? — переспрашивает дежурный. — Погодите, хлопцы, вы допризывники?
— Да, допризывники.
— Так вы, голубчики, не туда попали! Ваш эшелон на товарной, а это пассажирская…
— На то-о-варной?..
— Конечно, в пяти километрах отсюда.
Мы оба готовы разреветься. Легко сказать: пять километров! Да еще с полными ведрами, будь они неладны! Вы идите по колее, — советует дежурный. — По улицам чуть ближе, но можете с дороги сбиться…
Шагаем и шагаем. А колее ни конца ни края. Ффу, наконец дошли. Но где же наш поезд? Столько кругом эшелонов, что глаза разбегаются.
— Дя-адь, вы не знаете, где наш эшелон?
— А вы кто такие?
Железнодорожник в замасленной форме подозрительно осматривает нас. И мы торопимся ответить:
— Мы допризывники.
— Допризывники? Так ваш эшелон уже отправлен.
Я растерянно смотрю на Мишку, Мишка — на меня.
— Как же вы умудрились отстать? — интересуется железнодорожник.
Нехотя объясняем. О мороженом, понятно, ни слова, при чем тут мороженое? Послали за обедом, пока дождались, пока донесли, эшелон и ушел. Что же теперь нам делать?
— Что-нибудь да придумаем, — утешает железнодорожник. — Вы, ребята, постойте тут, а я узнаю, куда ушел эшелон.
Сели прямо на шпалы, уставились бездумно на ведра. А железнодорожника все нет и нет. Уже и солнце к закату отправилось, уже похолодало, а он как сквозь землю провалился.
Сидим еще полчаса. А может, и дольше.
— Заждались, ребятушки?
Железнодорожник! Мы так и подскочили.
— Берите свои ведра да живо за мной.
Ведет нас через рельсы, между вагонами, на ходу рассказывает:
— Ваш эшелон направили на Полтаву. А сейчас отходит второй. Садитесь и дуйте следом…
— А вдруг не догоним?
— Еще и обгоните, — успокоил нас железнодорожник. — Этот пойдет с ветерком, зеленой улицей… Вот и он! Залезайте быстренько в тамбур…
И только мы влезли, только поставили ведра, как поезд — ту-ту! — и поехал. Не успели даже железнодорожнику и спасибо крикнуть.
Мчались — и вправду только ветер свистел! Мелькали полустанки и станции. Перед каждой из них паровоз отчаянно кричал: давай дорогу! И семафоры едва успевали поднимать свои руки. Нам с Мишкой совсем было бы весело, когда б не ветер. Холодный, пронизывающий, он продувал открытый тамбур и трепал на нас одежду. Да еще если бы не уголь на платформе, перед самым нашим тамбуром. Через час мы выглядели как трубочисты — только зубы блестели.
Вот тогда я и вспомнил добрым словом маму, заставившую меня взять пальто. И когда Мишка не выдержал — оделся, я достал и свое. Уперлись спинами в стену вагона, руки — в рукава, головы — в плечи. Сидим нахохлившись, как совы.
В Полтаву приехали далеко за полночь.
— Эшелон с допризывниками? Есть такой. Вот он, хлопцы, и стоит. А вы что ж, отстали?
Мы даже не ответили — бросились со всех ног к эшелону. Чтобы опять без нас не тронулся.
Утром помкомвзвода сердито допытывался:
— Самоволочка? Погулять вздумалось? Не выходить из вагона, пока не доедем до части!
Потом мы узнали, что ему досталось на орехи от начальника эшелона за то, что мы потерялись.
— А сейчас — умываться! Вы в трубе паровозной ехали или в цистерне из-под мазута? И ведра вымойте!
Мы долго плескались под краном, потом отмывали ведра от борща, который никто не захотел и пробовать. Но не это нас удручало. Неприятно поразило другое: после Полтавы разузнали мы с Мишкой, что всех нас везут в одну часть. Не в матросы, не в танкисты — в пехоту! Царицу полей.
Каково служить в пехоте
Вскакиваю от неистового крика. Только что снился мне сон: ярко освещенный коридор и открытая дверь в темную комнату. В той комнате, в густой тьме, притаилось какое-то чудище. Нечто настолько страшное, что я весь дрожу. Хочу убежать, но ноги приросли к полу. Хочу закричать, но голос пропал. В это самое время свет в коридоре гаснет и врывается этот зычный крик.
Сердце стучит так, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Ошалело моргаю, а в ушах стоит это яростное:
— По-одъе-ом!
Наконец доходит до сознания, что я в казарме. На узкой двухэтажной койке: я внизу, наверху Мишка.
Он тоже проснулся. Свешивает ноги, раскачивает ими, не иначе как старается попасть мне по голове. Все еще сердитый, ловлю его ногу и щиплю его за икру. Мишка ойкает, ног как не было, вместо них появляется его разозленное лицо:
— Ты чего щипаешься?
— По-одыма-айсь!
Ну и голосище — мертвого поднимет!
Соскакиваю на холодный пол. Он словно обжигает разогретые подошвы, а меня всего встряхивает. Бр-р-р! Клацая зубами, начинаю одеваться.
— А вам что, персональная команда нужна?!
Помкомвзвода! Но не тот, который нас сопровождал, а другой. Отныне он будет командовать нами. Остановился напротив, грозно смотрит на Мишку.
Мишка ложится на живот, сползает неуверенно со второго этажа. Высокая койка качается, Мишка болтает босыми ногами — ищет пол.
— Живей, живей! Это вам не у тещи в гостях!
Мы еще неженатые, у тещи ни разу не гостили, потому и не можем по достоинству оценить помкомвзводовский юмор.
— Чтоб через десять минут никого здесь не было! — напоминает помкомвзвода командиру отделения. — Ясно?
— Ясно, товарищ помкомвзвода!
Командир отделения лихо прищелкивает каблуками. Он уже одет, обут, стоит у нас над душой:
— Вы что как сонные мухи! В армии небось, а не у тещи в гостях!
Он явно подражает помкомвзводу: точно так же хмурит брови и закладывает большой палец правой руки за ремень. Но это ему плохо удается. Уж очень юное у него лицо и голубые, как у девицы, глаза.
— Чтоб за пять минут все было застелено! — командует он и бежит к другим койкам.
А у меня, как назло, запутался шнурок от ботинка.
Хоть зубами помогай! Вчера поленился развязать, скинул просто так, а теперь вот в переплет и попал.
Мишка совсем не торопится. Прыгает на одной ноге, стараясь попасть второй в штанину.
— Разве это жизнь? И поспать не дадут! Пехтура несчастная!
Он никак не может свыкнуться с мыслью, что приходится служить в пехоте. Твердо намерен написать в Москву наркому, чтобы его перевели в танкисты. Уговаривает и меня:
— Ты сдурел, что ли, — в пехоте служить!
Еще в эшелоне грозился:
— Дай только до места добраться!
По дороге попасть на почту никак не удавалось: меня и Мишку не выпускали из вагона до самой Винницы. А в Виннице сразу же всех повели на узкоколейку, посадили в маленькие вагончики и повезли аж в Вапнярку.
Из Вапнярки двинулись уже пешком на Дзиговку. Топали часов пять, пока дошли. Устали страшно: у каждого торба или чемодан, да еще какое-нибудь пальто. А сопровождающий «подбадривал»:
— Это что! Попробуете при полной выкладке, да на сорок километров, тогда и папу с мамой вспомните!
Кое-кто и нос повесил: не так легка и приятна оказалась военная служба, как до сих пор казалось.
В конце концов дошли. Впереди, в широкой долине, Дзиговка, а по левую руку — двухэтажные из красного кирпича казармы. Триста семьдесят первый стрелковый полк — наш дом, наша хата.
— Правое плечо вперед!
Наша кое-как выстроенная колонна овечьей отарой поплыла в ворота.
— Приставить ногу! Можете опустить поклажу!
От вчерашнего дня — два ярчайших воспоминания: как набивали матрацы и как потом ужинали.
Матрацы раздали прямо в колонне. Ткнули каждому по длиннющей полотняной колбасе, скомандовали: «Кругом!» — повели со двора, приказав оставить вещи на месте.
Привели в поле, к двум огромным скирдам. Была подана команда набивать матрацы, и мы облепили скирды, как мыши.
Полосатые колбасы казались бездонными. Но мы их все же наполнили соломой.
Потом нас снова выстроили и повели назад. Если бы кто глянул сверху, подумал бы, не иначе, что это не мы, а муравьи тянут на себе длинные полосатые личинки.
Повели сразу в казарму, на второй этаж. В огромную комнату с двумя рядами двухэтажных коек. Таких я сроду не видел. Мишка сразу же скок наверх:
— Чур, моя!
Ладно, пускай будет твоя, раз ты такой жадный!
Потом нас водили ужинать. Хотя мы, уставшие за трудный день, хотели одного: спать.
А утром — ни свет ни заря:
— По-одъе-ом!
Не успели одеться да койки застелить, как новая команда:
— На зарядку! Быстрее! Быстрее! Вы что, месяц не ели?
Есть-то ели, да не привыкли так торопиться.
Катимся вниз со второго этажа. Спотыкаемся, полусонные, на ступеньках.
Во дворе темно, холодно — бр-р-р! А мы в нижних сорочках: ветер так и пронизывает.
— По два — стройся!
Строимся. Прижимаемся друг к другу, чтобы хоть немного согреться.
— Напра-во! Бегом арш!
Побежали. Сначала весело, дружно, размахивая вовсю руками. А когда немного запыхались, то помедленнее. А помкомвзвода, голый по пояс, скачет впереди, поджидая нас, на бегу командует:
— Не отставать!
И командиры отделений, тоже голые по пояс, дружно за ним:
— Ногу! Ногу!
Воздух в груди аж свистит. Уже не холодно — жарко. А помкомвзвода прет, как конь. Повернул в ворота.
Бежим из последних сил, а нам навстречу возвращаются группы военных. Тоже бегом.
— На месте шагом арш! Ать-два! Выше ногу!
Куда еще выше? И так задираем — суставы трещат!
— Взво-од, стой!
Остановились. Только теперь заметили речушку, прыгающую по каменистому дну.
— Снимай сорочки!
Помкомвзвода, подавая нам пример, первым наклоняется над водой. Черпает полные пригоршни, хлюпает на шею, грудь, спину. Мы же боязливо подступаем к берегу, пробуем пальцами воду: ледяная!
— Пускай дурные моются, — бубнит Мишка. Склоняется, делает вид, что черпает ладонями воду. Ухает, будто и вправду водой обливается.
— Молодец! — хвалит его командир отделения. — Вот берите с него пример!
Брать так брать. Я тоже черпаю ладонями воздух, ухаю не хуже Мишки.
— Хватит для начала, — останавливает нас командир. — А то еще простудитесь.
— Не застудимся! — дружно отвечаем. — Нам не впервой!
— Возим полотенца по сухой коже, делаем вид, что вытираемся.
— Помылись?
Помкомвзвода! Не заметили, как подошел.
— Уже умылись! — бодро докладывает Мишка.
— Ну, как вода?
— Как парное молоко!
— А ну, покажите-ка полотенца!
Попались! Полотенца-то сухенькие. Не догадались, дураки набитые, смочить в воде.
— Та-ак… — И к командиру отделения: — А вы куда смотрите? Ну-ка, наклоняйте их по очереди!
Командир отделения хватает за шею сначала Мишку. Наклоняет, аж спина трещит. И Мишка уже ухает, не прикидываясь: помкомвзвода обливает его водой сверху донизу.
— Ясно, как нужно умываться?
Мишке ясно. Вытирается, полотенце так и мелькает.
— Давайте и этого!
Твердая ладонь ложится мне на затылок. Я расставляю ноги пошире, чтобы не свалиться в речку, кричу, что буду умываться сам, а те, кто уже умылся, смеются, хватаясь за живот. Цирк, да и только!
У помкомвзвода не пригоршни — ведра. Да и плещет так, что вода и в штаны затекает.
— Хватит, вытирайтесь!
Мгновенно хватаю полотенце.
Назад бежим — и подгонять не нужно.
После завтрака повели всех в баню, а оттуда опять строем.
Старательно размахиваем руками, стучим о землю подошвами, на ходу ровняем ряд. Навстречу проходят красноармейцы, меряют нас насмешливыми взглядами, перекидываются ехидными репликами. Нам и самим понятно, какое жалкое зрелище представляем собой: в гражданской одежде, не строй, а отара.
Вот прошагал ощетинившийся штыками взвод — с песней, с залихватским посвистом, с командиром-орлом впереди. Мы оглядываемся им вслед с неимоверной завистью.
— Как ты думаешь, нам скоро винтовки дадут?
— Спроси у командира.
Подходим к одноэтажному приземистому зданию с маленькими зарешеченными оконцами. И пока мы раздумывали, куда нас привели, услышали новую команду:
— Приставить ногу! Справа по одному шагом арш!
Это «арш» звучит как выстрел — неожиданно и резко. Мы аж вздрагиваем.
Заходим внутрь. Нас ведут в конец длиннющего склада. Здесь стоит что-то напоминающее прилавок, а за прилавком — командир. У каждого спрашивает рост, размер обуви, приказывает снять кепку или шапку и натренированным оком прикидывает окружность головы.
— Третий… Сорок один… Пятьдесят шесть…
Цифры так и сыплются из его уст и материализуются шинелями, гимнастерками, бельем, обувью. Выдают сразу все, вплоть до портянок, чтобы на нас от домашнего не осталось и нитки. Кое-кто порывается сразу и примерить, но командиры торопят, чтобы не задерживались. Примерять будем в казарме.
— А вдруг не подойдет?
— Потом поменяете!
В казарме было пусто и тихо, все словно замерло. И двухэтажные койки, выстроенные в длинные ряды, с идеальной линией белых подушек и серых одеял, и табуретки, по две у каждой койки, и пустые пирамиды для винтовок и пулеметов. И даже дневальный, единственное живое существо на все помещение, в ловко подогнанной форме, со штыком на боку. Стоит и не моргнет: стережет строгую тишину.
Но мы ее враз всколыхнули: бросились к своим койкам. Каждому хочется скорее сбросить с себя гражданское, стать настоящим бойцом. Торопливо влезаем в нательное белье, в брюки галифе из синей диагонали, а потом уже подходим к командирам отделений с ботинками, портянками, обмотками.
До сих пор мне казалось, что обуться — дело нехитрое. Натянул на ногу, что попало под руки — носок так носок, портянку так портянку, кое-как зашнуровал, притопнул — одна нога и обута. Затем так же со второй, чтоб побыстрее из дома, с глаз маминых, не то обязательно заставит что-нибудь делать, а на улице друзья уже ждут…
Оказывается, что обуваться — это целая наука, от знания ее может зависеть успех наступательного боя, поучает командир отделения.
Ведь что может случиться, если неправильно обуешься?
Первое — натрешь себе ноги. Второе — отстанешь от колонны. Один отстал, второй отстал… А кому воевать?..
— Ногу нужно заворачивать, как куколку. Вот так!
Командир расправляет портянку, ставит наискось босую ногу. Молниеносное натренированное движение — и нога как облитая портянкой: ни единой складочки, ни единой морщинки. Мы пробуем делать точно так же, но жалкие наши старания не приносят успеха.
— Отставить! Давайте сначала…
Наконец кое-как обуваемся.
— Хватит для первого раза, — смилостивился командир отделения. Ему тоже наверняка надоело вертеть портянку. — Теперь давайте обмотки.
Ох, обмотки! Две длиннющие полоски грубой черной материи, скатанные в толстые валики. Сколько они нас помытарят в недалеком будущем, каких только неприятностей не доставят нам! Подадут, бывало, команду:
— Взво-од, смирно! Равнение на-право!
На командира роты, а то и батальона! Весь подберешься, подтянешься, соблюдая строй, и, топая вытянутыми ногами о землю, стараешься пройти получше мимо командира, показать ему, на что ты способен. Вот он уже почти рядом, торжественный и строгий, с ладонью у козырька. Поедаешь его глазами, как и положено по уставу, весь так и вздрагиваешь от напряженного шага. Еще шаг… Еще шаг… И вдруг замечаешь, как твердая и до сих пор неподвижная ладонь командира начинает дрожать и досадливо щурятся глаза. И еще замечаешь, как что-то черное и длинное мотается перед тобой, сбивает с шага, опутывает ноги…
Обмотка! Будь она проклята — двухметровое голенище!
Распустилась именно тогда, когда подошел к командиру…
Потом примеряли гимнастерки. И в один голос кричали:
— Товарищ командир! Велика!
— Поменяйтесь с товарищем!
— Все равно велика!
Особенно в воротнике. Плечи и рукава еще ничего, а воротник как хомут. И шея в нем — как палочка.
— Подошьете подворотнички — как раз будет, — утешает командир.
Подворотничок — узенькая полоска белой материи. Ее нужно подшить так, чтобы над воротником гимнастерки она выглядывала ровно на полсантиметра.
Я отроду не держал иголки в руках. Разве что тогда, когда нужно было уколоть Ванько или Сергуньку. У нас на селе шитье считалось чисто женским делом, которое не подобает мужскому роду.
Прилаживаю подворотничок и так и этак, спрашиваю тихонько у товарища, сидящего напротив на койке:
— Мишка, ты не знаешь, как его пришивать?
— А я что, портниха?
Мишка безуспешно тычет нитку в ушко и шепотом ругается.
Начинаю шить. Иголка почему-то чаще втыкается в палец, чем в твердый воротник. За несколько минут пальцы становятся будто решето.
В конце концов кое-как пришиваю. Втыкаю иголку в одеяло и иду к командиру — похвастаться.
— Отставить! — говорит командир и показывает на свою гимнастерку. — Вот как нужно пришивать. Ясно?
После того как с грехом пополам подшили подворотнички и надели гимнастерки, командиры учили нас, как подпоясываться: чтоб спереди ни одной складочки, а под ремень нельзя было и двух пальцев просунуть.
— Подтянуть живот! Сильней… Еще сильней! А теперь затягивайтесь. У кого не хватит силы — поможем…
Мы послушно вбирали живот, прокалывали дырки, затягивались изо всех сил. Уж очень нам хотелось стать такими бравыми с виду, как наши командиры.
И вот мы, наконец, обряжены. И не узнаем друг друга — так изменила нас военная форма. Все кажутся на одно лицо. Чувствуем себя немного неловко и боимся, что кто-нибудь это заметит. И ни за что на свете не надели бы сейчас гражданскую одежду, из которой только что вылезли.
Я и до сих пор убежден, что важнейшая личность в армии — младший командир. Но до того как попасть в армию, думал совсем иначе. Мне почему-то казалось: чем выше по званию командир, тем он страшней для рядового бойца. Комбата следует бояться больше, чем комроты, а командиру полка или дивизии, корпуса вообще не стоит попадаться на глаза. Младших командиров в моем воображении в то время просто-напросто не существовало. В своей святой наивности я думал, что стоит мне попасть в армию, как моей скромной особой сразу же заинтересуется по крайней мере полковник.
А в части нас постоянно опекал наш помкомвзвода, который почему-то считал, что солдата нужно держать в заячьей шкуре.
За все время я никогда не видел помкомвзвода улыбающимся. Он всегда ходил насупленный и сердитый. И очень любил читать нотации.
— Учили вас, учили… Ни ходить, ни стоять не умеете. А заправочка! Вот вы… Как ваша фамилия?
— Кононенко.
— Отставить! Нужно говорить: боец Кононенко!
— Боец Кононенко! — повторяет Мишка.
— Выйдите из строя. Кру-гом!
Мишка поворачивается — и едва не падает. По строю прокатывается смешок. Помкомвзвода пренебрежительно рассматривает Мишку.
— Разве так должен выглядеть боец? — спрашивает он. — Где ваша заправочка? Отделенный Ярчук!
— Я!
— Выйдите из строя.
Командир нашего отделения делает три шага вперед, приставляет ногу, поворачивается к строю лицом. Весь взвод невольно залюбовался его четкими движениями. Лишь теперь мы заметили, насколько велика разница между нашей и его походкой.
— Станьте рядом!
Чак-чак-чак! — стал.
— Ясно, каким должен быть боец?
Ясно. Гимнастерка как влитая, под ремнем ни морщинки, подворотничок белой линией очерчивает мускулистую, загорелую шею. И даже обмотки так плотно облегают ногу, будто наматывали не человеческие руки — машина.
— А теперь посмотрите на него!
Смотрим на Мишку, который стоит, как чучело. Гимнастерка перекосилась набок, воротник болтается на шее, как недоуздок, обмотки одна выше, а другая ниже.
— Видите?
— Видим, — неохотно отвечаем вразнобой. Видим не столько Мишку, сколько себя.
— Даю десять минут на заправочку… Р-р-разойдись!
Так началось наше знакомство. Сколько прошло лет, но до сих пор, вспоминая службу в армии, я прежде всего вижу не командира взвода или роты, а помкомвзводовскую статную фигуру.
Нам казалось, что все его раздражало, кроме двух вещей: он любил устав, который знал, наверное, на память, и безумно был влюблен в лошадей. Его и в армию взяли прямо из конюшни, где он работал конюхом, и он втайне страдал, что попал не в конницу, а в «царицу полей». Поэтому, видимо, во время учения, когда мы выходили в поле, чаще других звучала команда:
— Конница слева!.. Конница справа!
Наш взвод выстраивается в каре — лицом к вражеской коннице. Передние ложились, те, кто за ними, становились на колено, а третий ряд стояли во весь рост и целились в воображаемую конницу. И как мы ни старались, помкомвзвода все же в душе не верил, что наше каре смогло бы остановить стремительную атаку конницы. Ведь он не раз нам повторял то место из устава, где утверждалось, что десять кавалеристов могут порубить сотню пехотинцев. Но, по правде говоря, в том же уставе говорилось, что десяток пехотинцев могут перестрелять сотню конников. Наш помкомвзвода это место почему-то всегда пропускал.
Воскресенье было единственным днем, когда я мог посидеть с книжкой. Всю неделю ждала она меня в тумбочке. И вот наступал желанный день. Подъем, физзарядка, завтрак — и мы свободны до вечера. Делай, что желаешь. Можешь подремать, пригревшись где-нибудь в уголке (на койку лечь не вздумай, к койке и притронуться нельзя), болтай с товарищами, пиши домой письма, играй в шашки, шахматы, домино… А вечером — обязательно кино. Те, кто служил второй год, с самого утра наряжались, начищали до блеска ботинки и выстраивались в один ряд. Выходил старшина, придирчиво их осматривал, не расстегнута ли пуговица, нет ли неуставной складочки, и, наконец, командовал:
— Можете идти!
И они, счастливые, весело отправлялись в городок Дзиговку, расположенный в полукилометре от наших казарм. На два-три часа, а то и до обеда, в зависимости от настроения старшины, который выдавал увольнительные.
Нас еще никуда не выпускали, даже в строю не водили через Дзиговку, чтобы мы не порочили Красную Армию своим невымуштрованным видом.
Но я не очень-то печалился тому, что не пойду в Дзиговку.
Меня ждала книжка, и я торопливо принимался за нее. А чтобы помкомвзвода, чего доброго, не придумал какой-либо работы — перестилать койку или менять в матраце солому, — я шел в библиотеку, в читальный зал. Там находишься в полной безопасности: помкомвзвода туда и носа не показывает.
Командир нашего взвода совсем другой человек.
Когда он впервые вышел к построенному взводу — высокий, стройный, подтянутый, — мы так и впились глазами в новенький орден Красной Звезды, поблескивавший у него на груди.
В те времена командиров-орденоносцев можно было по пальцам пересчитать. В нашем полку даже командиры рот, да что там рот — батальонов, не имели ни одного ордена. Поэтому понятно, как мы гордились своим лейтенантом.
Со временем разузнали, что он награжден за участие в боях на озере Хасан. Тогда еще командир отделения, он со своими бойцами пробрался во вражеский тыл и разведал оборону японцев. Да не только разведал — еще и «языка» приволок! При последнем штурме был ранен, а после выздоровления его направили в военное училище.
Лейтенант внешне выглядел строгим, почти никогда не улыбался. Но никогда не сердился, что бы ни случилось. За все время службы мы ни разу не слышали, чтобы он кричал. А не кричать на нас не смог бы и сам святой.
Помню, как во время занятий в поле я забрался в бурьян. Командир послал меня в разведку — узнать, нет ли во-он на той высоте вражеской засады. Поначалу я горячо принялся за дело. Но идти все время согнувшись, чтобы не высовываться из бурьяна, достаточно тяжело, и я решил немножко отдохнуть. К тому же определенно знал, что на той высоте нет никакого врага и нечего туда переться. Не лучше ли полежать в укромном уголке, а командиру потом доложить, что высота свободна от неприятеля.
Так и сделал. Лежал, лежал и не заметил, как уснул.
Разыскивали меня всем взводом. Пора уже идти на обед, никого, кроме нашего взвода, не осталось в поле, а меня никак не могли отыскать. Наконец один из бойцов наткнулся на меня:
— Вот он, товарищ лейтенант!
Я подскочил, словно заяц.
Если бы вместо лейтенанта занятия вел помкомвзвода, он бы меня живьем съел. Лейтенант же лишь внимательно посмотрел на меня и спокойно сказал:
— Докладывайте!
Я готов был провалиться сквозь землю.
— Заснули?
Я еще больше потупился. Чувствовал на себе взгляд лейтенанта, осуждающие взгляды товарищей, и тишина вокруг становилась такой угнетающей, что мне стало трудно дышать. Лучше бы помкомвзвода отругал меня сейчас.
— Становитесь в строй!
За обедом пища не лезла мне в горло.
После обеда и «мертвого часа», когда мы изучали материальную часть, наш лейтенант несколько изменил тему занятий: начал рассказывать о боях на озере Хасан. Припомнил случай, как послали однажды в разведку двух бойцов, которые испугались и, не разведав всего как следует, вернулись обратно. И как много потом наших бойцов погибло, когда пошли в наступление. Именно тогда был ранен и он, наш лейтенант.
— А те два? Что им потом было? — поинтересовался кто-то.
Лейтенант ответил не сразу. А я сидел, боясь шевельнуться, вздохнуть. Мне казалось, что весь взвод уставился на меня.
— Их потом судил военный трибунал.
Мне он больше не напоминал о том случае в поле. Я же долго мечтал, чтобы лейтенант дал мне необычайно трудное поручение. Я бы умер, но выполнил его.
Мы не понимали, когда лейтенант спал. Частенько оставался с нами до отбоя, а утром, когда звучала команда «Подъем», он уже был в казарме. Аккуратный, подтянутый, в чистом, словно только что отутюженном мундире — и ни намека на малейшую дремоту в спокойных глазах! Идет между койками, и мы вовсю стараемся поскорее стать в строй.
Иногда наведывался и посреди ночи, когда все уже спали. Помню, как в мое первое дежурство, когда я, примостившись возле тумбочки, читал книжку, чтобы не заснуть, вдруг открылись двери, и на пороге вырос наш лейтенант.
Меня так и подкинуло. Вскочил, повернулся к командиру:
— Товарищ лейтенант…
— Тсс… — Он предостерегающе поднял руку, чтобы я своим криком не разбудил роту. Заметил книгу, взял, полистал: — Интересная?
— Очень интересная, товарищ лейтенант.
Подвинул табуретку, приказал сесть и мне.
— Много читаете?
Я ответил, что много. Тогда лейтенант спросил, какого писателя я люблю больше всего. Выслушал, в свою очередь сказал:
— А я люблю Толстого.
Расспрашивал потом, откуда я родом, где учился, кто мои родители, есть ли у меня сестры и братья. И мне почему-то казалось, что это его очень интересует, — так внимательно он смотрел на меня. Потом спросил:
— Тяжело в армии?
Нечистый дернул меня за язык ответить, что нисколько не тяжело. Лейтенант усмехнулся недоверчиво, качнул головой:
— Тяжело. На то это и армия… Я первые полгода думал, что не выдержу. Средняя Азия, жара больше сорока градусов, солнце, песок — дышать нечем, а мы при полной выкладке в форсированном марше… Или с утра до вечера на плацу. Коснешься затвора винтовки — руку обожжешь. А потом привык. И недосыпать привык, и наедаться начал. Привыкнете и вы. Служба закончится — жаль будет возвращаться домой.
Посидел еще немного, встал, закрыл мою книжку:
— А на посту читать не годится, товарищ боец.
Лейтенант ушел, а я честно спрятал книжку. И один на один изо всех сил боролся с дремотой.
Ать-два!
Каждый новый день начинается криком дневального:
— Подъе-о-ом!
Крик взрывается, будто бомба, и мы, еще сонные, вскакиваем с коек. «Чтоб одеяло летело под потолок, а вы на пол!» — учил помкомвзвода выполнению этой команды. За окнами еще ночь, и нам каждый раз кажется, что нас ошибочно разбудили на час раньше.
Во дворе замирает сигнал горна «Подъем», а здесь командиры вторят ему предрассветными петухами:
— По-однима-айсь! Быстрей! Быстрей! Живо на зарядку!
Не успеешь управиться с ненавистными обмотками, этими «двухметровыми голенищами», как вновь голос дневального:
— Выходи строиться!
Хватаем полотенца, мчимся вперегонки. Выстраиваемся, за помкомвзвода бежим на зарядку…
Так начинается еще один, следующий день службы в армии.
Сегодня у нас неизбежная строевая, потом укрепленная полоса, два часа уставы и под конец — занятия на физкультурной площадке.
Строевую мы уже немного освоили: научились ходить, приветствовать командиров, на ходу поворачиваться кругом, не сбивая при этом в строю друг друга с ног. А вот укрепленная полоса…
Те, кто ее планировал и создавал, старались не пропустить ничего, что может встретиться на пути бойцу в будущей войне во время атаки. Так вот, на этой полосе было длиннющее бревно над глубокой ямой с водой. Бревно круглое, как скалка, еще и покачивается, когда по нему идешь. За ним — макет двухэтажного дома: дощатая стена с единственным окном на втором этаже. Далее — полутораметровый забор и широкий ров с водой, уже без бревна. И в самом конце — чучело вражеского солдата, сделанное из лозы.
— Это совсем не трудно, — убеждал нас лейтенант. И тут же помкомвзвода: — Покажите, как это делается!
— Есть показать!
Помкомвзвода берет в левую руку учебную винтовку, а в правую — гранату. Наклонился вперед, напрягся — ждет команды.
— В атаку, вперед! — Помкомвзвода вихрем помчался к укрепленной полосе.
В это мгновение мы забыли все: и то, как он нас ругает, и как наряды вне очереди дает, и… Мы смотрели — нет, любовались нашим помкомвзвода, и каждому из нас хотелось стать таким же ловким, как он.
Вот он с разбега прыгнул на бревно и побежал по нему, как по дорожке. Вот остановился неподалеку от стены. Энергичный бросок, граната исчезает в окне, а помкомвзвода мчится прямо на стену… Неужели собирается взобраться? Но стена-то как отполированная, а окно во-оно где! Не успели мы и глазом моргнуть, как помкомвзвода уже там.
Ловко, как кошка, соскочил по ту сторону на землю, побежал дальше вперед. Р-раз — и забор остался позади. Р-раз — и птицей перелетел яму… Приземлился, как пружина, и вперед на чучело. Короткий, как молния, выпад, чучело лишь качнулось, прошитое насквозь штыком, и помкомвзвода, раскрасневшийся, запыхавшийся, возвращается назад.
— Ясно? — спрашивает командир взвода.
Молчим. Со страхом смотрим на бревно, на стену, на ров, обреченно думаем: «Хотя бы без воды… Вода ведь холодная…»
— Кто попробует первым?
Те, кто стоит в первой шеренге, отводят глаза, задние прячутся за передних.
— Добровольцы, два шага вперед!
И тут я не выдерживаю. Ноги сами собой чеканят два шага вперед. Двигаюсь как во сне, и, когда опомнился, отступать назад было уже поздно.
Пораженный помкомвзвода передает мне гранату и винтовку.
— Вот посмотрите, это не так уж и трудно, — то ли мне, то ли взводу говорит лейтенант. И затем определенно мне: — Приготовьтесь!
Я выставляю одну ногу вперед, набираю полную грудь воздуха. У меня, пожалуй, получается не так красиво, как у помкомвзвода, но командир взвода хвалит меня:
— Молодец! Готовы? В атаку… Вперед!
— Ур-ра! — кричу я и бегу к яме с бревном. Бегу, как к виселице, и чем ближе, тем глубже кажется яма, тем тоньше бревно. Добежал — тык! — остановился.
— В чем дело? — спрашивает лейтенант.
— Товарищ лейтенант, с ноги сбился!
— Не нужно сбиваться… Давайте сначала.
Сначала? А я-то надеялся, что теперь другого вызовут.
— Готовы? Вперед!
— Ур-ра!
На этот раз я все же шагнул на бревно. Оно качается, так и норовит скинуть меня в воду, а я, отчаянно балансируя, продвигаюсь вперед.
— Молодец! Молодец! — слышу позади голос лейтенанта.
Наконец яма позади. Ффу, аж вспотел! Бегу к стене, бросаю гранату в окно и… останавливаюсь. Нет, не взобраться ни за что!
— Хватит, — сжалился надо мной лейтенант. И когда я возвращаюсь в строй, обращается ко всему взводу: — Видите, не так-то и трудно… Взво-од, слушай мою команду: справа по одному — вперед!
И началось «справа по одному»: кто через яму, а кто и в яму. Таких сразу отсылали в казарму — сушиться. Там дневальный, из второго года службы, встречал сочувственно:
— В яме купался?
— А ты не купался?
— Купался, чего уж там… Но яма — это что! Вот на стенку попробуйте…
Пробовали. Стукались коленями и локтями, стараясь с ходу добраться до окна. А достав, зависали на окне, как чучела, скользили отчаянно ногами, ища хотя бы трещинку, чтобы зацепиться, опереться, и падали мешками вниз…
Когда справились со стеной, стало немного полегче. Правда, случалось, что и на заборе зависали, и плюхались в ров, но это уже мелочи. Зато, дорвавшись до чучела, кололи его с такой злостью, будто оно всю укрепленную полосу и построило. Мишка как налетел, как саданул, повалил чучело, да и сам на ногах не удержался, вслед за ним полетел.
Была еще одна мука: спортивная площадка. Большинство нашего взвода составляли десятиклассники, и все мы хорошо помнили, как всячески уклонялись в свое время от уроков физкультуры, отказывались лезть на турник или прыгать через коня.
— Василий Павлович, у меня рука болит!
— Василий Павлович, я вывихнул ногу!
И Василий Павлович в конце концов махал рукой на таких, как я или Мишка: делайте, как знаете, только другим не мешайте.
На прощанье, чтобы не портить аттестат, он выставил всем нам хорошие оценки, хотя значительная часть не заслуживала и посредственных.
И вот мы снова на спортивной площадке: тот же турник, тот же конь и брусья, но теперь это не школа, нет здесь Василия Павловича.
В первый же раз, приведя нас на спортплощадку, помкомвзвода вызвал из строя меня и моего командира отделения:
— Раздеться до пояса!
Я уже знал, для чего должен раздеваться, и делал это не очень-то охотно.
— Станьте рядом. — И затем ко мне: — Теперь посмотрите, какой вы сейчас и каким станете, если будете стараться.
— А кто не захочет стараться?
— Боец Кононенко, один наряд вне очереди!
— За что, товарищ помкомвзвода?
— Чтоб не были таким умником! Будете стараться! Ясно?
Ясно. Ясно и Мишке, что будет сегодня мыть пол.
Так вот, мы стоим перед взводом: я и мой командир. Более ошеломляющей картины не придумать. Я худой, как заброшенный хозяевами щенок, ребра так и выпирают, а бицепсы… Какие-то жалкие узелки, какие-то веревочки, которые тут же оборвутся, как только я зависну на турнике.
— А теперь посмотрите на своего командира!
Смотрим. С нескрываемой завистью смотрим. Тело как сбитое, мышцы так и играют на нем, а на руках — стальные бугры.
Такие бы мускулы мне!
Звучит команда:
— Командир отделения — на снаряды!
Наш командир идет к спортивным сооружениям. Он летает над ними, то замирая в невероятнейшем, казалось бы, положении, то выполняя головоломные сальто. Кажется, он не прилагает никаких усилий, а тело его не весит и грамма, — так легко, четко, красиво выполняет он упражнение за упражнением. Мы не сводим с него завороженных глаз, нам трудно поверить, что и мы сможем стать такими. Но тот небольшой опыт, уже приобретенный нами в армии, подсказывает, что обязательно будем.
Кроме строевой, кроме укрепленной полосы, кроме спортивных занятий, мы еще изучали и уставы.
Прежде всего мы должны были научиться распознавать командиров — от самых младших до маршалов. Запоминали все эти треугольники, кубари, шпалы, ромбы и маршальские звезды, все нашивки и эмблемы, которые носят командиры Красной Армии. И не приведи господи перепутать да назвать, например, неточно количество шпал в петлицах!
— Две шпалы и две широкие нашивки…
— Отставить!
— Три шпалы и три широкие нашивки…
— Отставить!
Сбитый с панталыку, совсем умолкаешь. А помкомвзвода ехидно замечает:
— Учили вас, учили! Десять классов закончить и не знать, что носит полковой комиссар!
Он доволен, имея возможность подчеркнуть наше невежество. Мы же сидим, слушаем его поучительные сентенции и… потихоньку клюем носами.
Дремлем все время, дремота неотступно следует за нами. Как только ослабишь хоть немного внимание, так тут же глаза начинают сами собой слипаться.
Почему нам так хочется спать? Ведь восемь часов ночного сна, с одиннадцати до семи, да плюс еще «мертвый час» после обеда, — казалось бы, вполне достаточно, чтобы выспаться. Дома и то меньше спали. Но здесь сон так и ходит но пятам за нами, дремота не оставляет нас от подъема до самого отбоя.
Не меньше, чем спать, нам хотелось есть.
Нельзя сказать, чтобы нас морили голодом. Наоборот, дома мы не съели бы и половины армейского пайка. А здесь, несмотря на густые, наваристые супы и борщи, восемьсот граммов хлеба, мы всегда ходили голодные.
— Это первый год так, — убеждали нас командиры. — А на второй — всего, что положено, съедать не будете.
Мы им верили и не верили. Верили, так как собственными глазами видели, что после бойцов второго года службы и вправду остаются куски хлеба и не вылизанные до блеска миски. Но нам казалось, что это они нарочно не доедают, чтобы перед нами пофорсить. Ведь мы садились за стол голодные и вставали с таким чувством, что съели бы еще столько, а то и больше. Особенно вначале, пока не научились есть по-военному. Тарелка еще почти полная, а уже слышится команда:
— Выходи строиться!
Съел — не съел, бросай все и беги из столовой.
Вскоре мы научились есть так, что за нами не угонишься.
Раз в месяц нашей роте приходилось дежурить по гарнизону. И нашей заветнейшей мечтой было попасть в наряд на кухню. Всю ночь мы чистили картошку — целые горы картошки, кололи дрова, таскали воду, а днем еще и грязную посуду мыли, и убирали в помещении. Занятия не очень приятные, старослужащие избегали этих нарядов, как могли, мы же спали и видели себя в наряде на кухне: хотя и устанешь так, что ноги гудят, зато и наешься до отвала!
Как-то нам с Мишкой повар положил полный котелок вареного сала. То ли просто расщедрился, то ли хотел проверить, сколько может съесть новобранец, но положил с верхом, еще и пообещал:
— Поедите — за добавкой придете.
И мы принялись с жадностью есть. Уминали это сало, кусок за куском, пока в котелке ничего не осталось.
— Возьмем еще? — спросил раскрасневшийся Мишка.
Я колебался. Сало стояло в горле, но мысль о том, что я откажусь от еды, казалась дикой.
— Возьмем!
На этот раз Мишка вернулся с поваром.
— Съели все?! И еще будете есть? Ну и ну!
Нам не оставалось ничего, как поддержать свою добрую славу.
Из-за стола мы встали нашпигованные салом, как рождественские гуси. Кое-как добрели до картошки и повалились на нее. Лежали, пока нас не поднял помкомвзвода.
Ничего с нами не произошло. Наши волчьи желудки спокойненько переварили все сало, и через несколько дней мы снова с вожделением ждали очередного наряда на кухню.
Вот что значит свежий воздух и физические упражнения!
Наконец нам выдали настоящие боевые винтовки.
Когда мы вернулись в казарму с новенькими, смазанными солидолом винтовками, то не могли налюбоваться своим оружием.
Это были не модернизированные трехлинейки, которыми до сих пор была вооружена наша армия. Только позднее, во время войны, мы по-настоящему оценили безотказное то оружие, которое верой и правдой послужит до самого последнего выстрела в мае сорок пятого года. А тогда мы с плохо скрытым пренебрежением поглядывали на бойцов, вооруженных старыми винтовками. Как же, у нас на плечах СВТ — оружие до сих пор неслыханное и невиданное. Не исключена даже вероятность, что за рубежом уже пронюхали о нем. Потому-то мы и должны быть особенно бдительными, оберегать свое новое оружие от постороннего глаза.
Так объяснил нам помкомвзвода и добавил грозно:
— Кто штык потеряет — голову оторву!
Почему-то он больше всего боялся, что мы потеряем именно эту часть винтовки. Может, потому, что штык не примыкали к стволу в походном положении, а носили отдельно, на ремне. Да и похож он был больше на кинжал или тесак, чем на обыкновенный штык. С рукояткой и плоским лезвием с желобком посредине. Одного лишь блеска этих штыков достаточно, чтобы все враги в плен сдались! А тут еще и винтовки. СВТ — самозарядная винтовка Токарева. То есть такие, что сами заряжаются, сами и стреляют, — нажимай знай на курок. Выпалил все пули — есть еще один запасной магазин. Враг и головы не сможет поднять. Будет лежать уткнувшись, пока мы не подойдем и не закричим: «Хенде хох!»
— Отставить! — кричит помкомвзвода. — Говорите по-английски!
По-английски мы не знаем, приходится замолчать. Не сводим глаз с винтовок, застывших в пирамидах, даже ладони чешутся дотронуться до них.
Потом мы их изучали. Разбирали до последнего винтика, до последней пружинки довольно-таки сложные механизмы и ужасно гордились: это не то что трехлинейка, которую раз-два и разобрал. А здесь как разложишь деталей и деталек — голову поломаешь, пока разберешься, какую куда приспособить! Даже командиры наши и те сперва запинались. Особенно если приходил кто-нибудь из бойцов — в одной руке собранная винтовка, а в другой «лишняя» к ней деталь.
Куда ее приткнуть?
Чаще обращались к командирам отделений, а то и к лейтенанту. Помкомвзвода же старались обходить. У того один ответ:
— Отставить! Начинайте сначала!
Недели через две мы знали новое оружие назубок. По стольку раз за день разбирали и собирали, что теперь могли с завязанными глазами сказать, какую куда деталь ставить.
Чистили мы винтовки каждый день перед отбоем. Винтовка должна сиять, как солнце. Не дай бог, заметят грязное пятнышко или точечку ржавчины. Даже сам командир роты не ленился наведаться к нам ночью, когда мы уже спали. Войдет, махнет рукой дневальному, ринувшемуся навстречу, чтобы не докладывал, и к пирамидам — винтовки осматривать…
Позднее, нянчась с новыми винтовками, мы начали жалеть, что нас вооружили не старенькими трехлинейками: ведь их чистить — одно удовольствие. А с этой чертякой повозишься, пока командир отделения разрешит поставить ее в пирамиду.
— Зато стрелять легче, — утешает меня и себя Мишка. — Не нужно каждый раз с затвором морочиться. Нажал на гашетку — и все.
Легче или трудней — мы еще не знаем. И нам очень хочется пострелять, с чем и пристаем мы то и дело к командирам, которые пока что учат нас лишь целиться: лежа, с колена, стоя.
— На огневой рубеж… короткими перебежками… вперед!
Срываемся с места, бежим. Пробежишь шагов пять — и падай. Еще пять шагов — и на землю. Земля твердая, утоптанная, брякнешься — аж екнет внутри, а помкомвзвода, как всегда, недоволен.
Боец Кононенко, вам что, пуховую перину подстелить?
Но вскоре и огневой рубеж: глубокие, по грудь, окопы. Здесь «вражеский» огонь особенно губителен, поэтому вместо перебежек мы оставшееся пространство ползем, ползем по-пластунски, роя носом пылищу. А помкомвзвода от пуль заворожен, поэтому он спокойненько ходит между нами, нависая то над одним, то над другим:
— Ниже голову! Врастай пупом в землю! Третий от края, убери свои ягодицы!
Пыль набивается в рот, пот заливает глаза, сердце готово выскочить из груди, а помкомвзвода все недоволен:
— Шевелитесь быстрей! Ярчук, вы что, заснули?
Вваливаемся наконец в окопы. Падаем грудью на бруствер, чтобы хоть немного остудить распаленное тело. А над головами уже звучит команда:
— Лежа… по мишеням… заряжай!
Так учили нас стрелять до тех пор, пока не наступил день, когда каждому выдали не учебные, а настоящие, боевые патроны. С тяжелыми, хищно заостренными пулями.
В этот день волновались не только мы — нервничали и наши командиры. Ведь от того, насколько успешно мы поразим мишени, зависит оценка их работы.
Особенные надежды они возлагали на тех, кто имел значок «Ворошиловский стрелок». В том числе на Мишку и на меня. И мы всех заверяли, что взвод не посрамим. Стрелять будем так, чтоб других завидки взяли.
— Толька, а ты хоть в мишень попадешь? — шепотом спросил Мишка.
Я на него страшно рассердился:
— Попаду, и не хуже тебя!
Сегодня стреляет только наш взвод. Но по случаю такого события пришел и сам командир роты.
— Ну как, орлы, к бою готовы?
— Готовы, товарищ капитан!
— Тогда начинайте.
И наш лейтенант подает команду:
— Взво-од, на огневой рубеж… короткими перебежками… вперед!
Бежим. А все-таки не напрасно гоняли нас все эти дни командиры: вскакиваем и падаем, как автоматы. Потом ползем по-пластунски.
Вот и окопы… И брустверы, на которых можно перевести дыхание.
— Лежа… по мишеням… заряжай!
Клац-клац-клац — щелкают затворы.
— Первое отделение к стрельбе готово!
— Второе отделение к стрельбе готово!
— Третье отделение к стрельбе готово!
Лейтенант подбегает к командиру роты, берет под козырек:
— Товарищ капитан, взвод к стрельбе готов!
— Начинайте.
— Взво-од, слушай мою команду!
Мы затаиваем дыхание, у нас замирают сердца. Мишени давно уже на мушках, пальцы — на гашетках.
— По мише-еням… огонь!
Господи, хоть бы попасть!
Бах-бах — слева и справа.
Выдохнув, как учили, воздух, нажимаю на гашетку. Раз, второй, третий… Не осознав как следует, что делаю, выпускаю все десять пуль подряд.
— Отставить! — шипит над самым ухом помкомвзвода.
Товарищи мои еще стреляют, старательно прицеливаясь, а я выпалил все патроны, столбом торчу в окопе.
— Что же это вы? — с укоризной спрашивает лейтенант, и я не смею даже взглянуть на него. Сам чуть не плачу: если до этого еще теплилась надежда, что попаду в мишень, то теперь уверен: все пули послал «в молоко».
И вот все выстрелы стихли. Возбужденные, раскрасневшиеся бойцы откладывают винтовки, а командиры торопятся к мишеням. Останавливаются возле каждой, подсчитывая выбитые очки, мы же нетерпеливо ждем результаты. Ну, а мне и ждать нечего: и так все ясно. Даже Мишка не пытается меня утешать. Лишь спрашивает:
— Ты что, рехнулся?
— Отстань! — отворачиваюсь от него со слезами на глазах.
— К твоей подошли, — говорит Мишка.
И без него вижу, что к моей. Долго рассматривают… Наверно, пробоины ищут. «Найдете, как же!» — мелькает ожесточенная мысль. Мне хочется, чтобы там провалилась земля.
От группы командиров отрывается наш отделенный, мчится к окопам.
— К командиру роты! Бегом!
Беру потяжелевшую винтовку, бегу. Бегу нехотя: знаю наперед, что за угощение ждет. Бегу и припоминаю, какое самое строгое наказание может наложить командир роты.
— Ваша мишень? — спрашивает комроты, и лицо у него почему-то нестрогое.
А лейтенант… Лейтенант, ей-ей, улыбается!
— Моя-а, — отвечаю растерянно.
— Молодец! — говорит капитан и еще раз повторяет: — Молодец! Знаете, сколько вы выбили? Девять пуль в «яблочко», а десятая — в семерку!
— Молодец! — подтверждает комроты и смотрит на меня почти влюбленно.
Я же настолько ошарашен неожиданной удачей, что даже не ощущаю радости. Только позднее, когда лейтенант выстроит взвод и капитан объявит мне перед строем благодарность, за плечами у меня зашевелятся крылышки. Сначала маленькие и хилые, а потом все больше и больше разрастаясь, особенно на следующий день, когда пришедший комбат спросит лейтенанта:
— Где ваш орел? Покажите!
Я уже немного освоился, свыкся с внезапной славой. Отвечал комбату, что еще сызмальства стрелял — каждый раз попадая в копейку.
Комбат тоже назвал меня молодцом. И все — и лейтенант, и командир отделения, и весь наш взвод — гордились мной.
В тот вечер мне не хотелось спать. Писал домой письмо, рассказывал маме, что стал снайпером, что сам командир полка пожимал мне руку и обещал послать на стрелковые соревнования. А брату сообщал, что у меня уже есть своя винтовка и я стреляю из нее сколько захочу, что не забыл о своем обещании и скоро пришлю ему патроны и порох. И еще приписал в конце, что, по-видимому, я здесь долго не задержусь: после соревнований меня обязательно заберут в дивизию, если не выше. Ждите теперь новый адрес, а потом уже напишете ответ.
Похмелье наступило через день. Сам комбат захотел посмотреть, как я стреляю, мне вручили десять патронов и повели к мишеням.
На этот раз не звучали команды. Я сам залез в окоп, положил локоть на бруствер, а на локоть — винтовку и, посадив на мушку еле видимую мишень, выпустил все десять пуль точно так же, как и позавчера, — разом. Командиры сразу же кинулись к мишени, но могли и не бегать: все десять пуль ушли «за молоком»!
Мне выдали еще десять патронов и приказали не торопиться — целиться получше. Я целился до боли в глазах, но результат оказался таким же, пули летели куда угодно, только не в мишень.
Пришлось следом за первым посылать домой еще письмо. С сообщением, что стрелковые соревнования откладываются на неопределенный период и потому остаюсь по старому адресу.
Служба, служба…
Идя в армию, я и представить себе не мог, насколько трудной окажется военная служба. Был убежден: в армии только и делают, что стреляют из винтовок да пулеметов, мчатся на конях и танках, а по воскресеньям форсят перед гражданскими. Служба казалась мне легкой и приятной, а виной этому были прежде всего кинофильмы и книжки, которыми мы зачитывались. Кроме того, и один морячок, мой односельчанин, который служил на Черноморском флоте и как-то приехал к родителям в отпуск на десять суток. Когда он проходил по улице, заметая пыль широченными клешами, мы с восторгом бежали следом, сгорая от зависти.
По утрам, сразу же после того, как наши матери выгоняли коров на пастбище, мы собирались около двора, где жил моряк. Садились на густой спорыш и терпеливо ждали его появления.
Сначала выбегал его младший брат с бескозыркой на стриженой голове. Бескозырка наползала ему до самого носа, а на ней… две ленточки позади с золотыми тиснеными якорями и золотая надпись по околышу. Даже не глянув в нашу сторону, будто вовсе не знаком с нами, он шел к колодцу, вытаскивал полное ведро воды. Ставил его на траву и громко кричал из-под бескозырки:
— Коля, иди умываться!
Из дома, голый по пояс, выходил моряк.
— Готово? — весело спрашивал он. — Порядочек!
Широко расставив ноги, он наклонялся почти до земли и, подставляя широкую спину, командовал:
— А ну-ка, лей — не жалей!
И только покряхтывал от ледяной воды.
После умывания моряк обязательно подходил к нашей стайке:
— Здравствуйте, товарищи моряки!
Мы неслаженно гоготали, как гуси, а он запросто устраивался между нами на спорыше. Он совсем не был задавакой, не то что его братишка, и с готовностью отвечал на все наши вопросы о море, о кораблях, о службе на флоте. У нас головы кружились от его рассказов, мы спали и видели себя на военной службе и ужасно жалели, что никак не перекроишь на клеши наши узенькие штанишки.
Моряк пробыл в отпуску десять дней, а растревожил наши сердца на многие годы. До тех самых пор, пока мы сами не попали в армию и во всех тонкостях не узнали военную службу.
За три месяца службы в армии мы многому научились, во многом изменились. Нас уже не пугала ни строевая, ни физподготовка, и хотя не так легко, как наши командиры, мы уже преодолевали укрепленную полосу и, добравшись до хворостяного чучела, лихо кололи его штыками. Нам уже не требовалось, встречая командира, высчитывать расстояние, чтобы ровно за четыре шага перейти на строевой шаг, вскинуть выпрямленную ладонь к виску, — все это выходило само собой: натренированное тело автоматически выполняло всевозможные команды. Когда мы приняли присягу, командиры нам объяснили, что отныне мы стопроцентные бойцы и потому нас теперь могут за особо важную провинность даже отдать под военный трибунал, чего нельзя было сделать до этого. И, как ни странно, это сообщение нам польстило, еще больше дало почувствовать, что мы теперь не какие-то там желторотые, а полноправные члены великой, стройной, обмундированной семьи, имя которой — армия.
Итак, прошло время предварительного обучения, началась настоящая служба.
Сегодня мы с Мишкой дневальные.
Громадная казарма пуста: рота ушла на учения. На улице настоящая зима, снегу намело по пояс, наши товарищи штурмуют сейчас «вражеские» окопы, а мы с Мишкой роскошествуем в относительном тепле. Тепло, правда, не очень-то, печи едва дышат, и возле них не нагреешься, но это все же лучше, чем лежать посреди поля в снегу и отогревать дыханием задубевшие пальцы.
Но удивительно: никакие болезни нас не брали. Как мы ни мерзли, как ни мокли, валяясь на сырой земле, — никакой насморк не смел к нам цепляться. Дома мы давно свалились бы в горячке, а здесь никто из нас и не чихнул! Будто и вправду наши командиры знали волшебные магические слова, оберегавшие нас от всяческих болезней и простуд.
Так вот, сегодня мы с Мишкой блаженствуем: в казарме прибрано, койки застыли в строгих рядах, табуретки выровнены в линию, и нам осталось лишь стоять по очереди возле тумбочки у входа. Даже можно немножко посидеть, но тогда навостри уши, чтобы не застал тебя внезапно командир. Дневальный должен стоять, как свечка, ни на шаг не отходя от тумбочки, и докладывать каждому командиру, где находится рота в данный момент, что дневальные — такой-то и такой-то.
Это когда в казарме пусто. А когда рота вернется и зайдет комроты или комбат, тогда следует подать как можно громче команду: «Рота, смирно!» — и, подойдя к командиру, отрапортовать ему по уставу.
Помню, как во второе мое дежурство дневальным, как раз в полночь, когда я клевал носом у тумбочки, внезапно распахнулась дверь и вошел комбат. Я до того растерялся, что вместо доклада вполголоса — мол, рота спит, и ничего за время дежурства не случилось, — заорал во все горло: «В ружье!»
Вся рота так и сорвалась с коек. Пока разобрались, в чем дело, половина бойцов уже разобрала винтовки, а остальные торопливо заканчивали одеваться.
Ругали меня в тот раз не только командиры, но и бойцы. Даже Мишка, мой дружок, заявил, что у меня не все дома. И еще добавил: «За такое следовало бы тебя ногами вверх подвесить».
Но все это в прошлом, когда был я еще зеленым, желторотым бойцом. Теперь же я дневалю так, что ко мне не придерется самый требовательный командир…
В караул попали мы на четвертом месяце службы, уже после того, как приняли присягу. Это было необычное событие для нас, новичков, волновались мы страшно, но виду не подавали. Множество разных историй, печальных и комических, рассказывали нам бывалые бойцы о карауле.
Поставят, например, тебя охранять сарай с сеном, которое шло на наши же матрацы. Мороз, метель, поземка метет, а ты стой. Танцуешь, танцуешь, дышишь, дышишь на пальцы и не выдержишь: забьешься в сарай, который обязан охранять от диверсантов. А затем дело ясное: как отогрелся, так и заснул. И только заснешь, откуда ни возьмись — командир роты, а то и батальона. Или сам полковник. Это обязательно: стоит заснуть, тут же командир возле тебя. Как они об этом узнают, нам, рядовым, неведомо. Даже глаза не успеешь как следует зажмурить, а они уже тут как тут. Подойдут тихонечко, вытащат затвор из винтовки…
— Ну, а потом? — замираем от любопытства.
— Потом дело ясное. Отойдет, развернется и опять к тебе. Идет, кашляет громко или разговаривает, чтобы разбудить. Проснешься, вылезешь из соломы: «Стой, кто идет?» А он идет прямо на тебя. «Стой, стрелять буду!» Хап-хап, а затвора-то как и не было. Затвор у командира в кармане…
— А то однажды было, — вступает в разговор другой «старик». — Темно, как у негра за пазухой, к тому же еще и вьюга — снег глаза залепляет. Продерешь глаза, присмотришься — вроде бы ничего. Еще раз продерешь — идет! Прет прямо на тебя, да еще вилы наставил… «Стой, кто идет?» А он все на тебя. «Стой, стрелять буду!» Прет — хоть бы приостановился! Тут уже раздумывать нечего: приложишься торопливо — ба-бах! Так на вилы и упал… А потом вверх тарарах! Вызываешь разводящего. «Что за шум? Что случилось?» — «Товарищ командир, застрелил диверсанта! Подкрадывался с вилами!» — «Где диверсант?» — «Да вон там лежит!» Кидаемся туда, а там корова. Лежит и копыта откинула…
— Ну, а что дальше? — заливаемся от души.
— Известно что: за порчу казенного имущества…
— Та-ак, — подключается третий. — Корова — это что! Корова хоть двигалась… А помните, братцы, как наш командир отделения столб расстрелял? Был он тогда еще рядовым, как раз второй год разменял. И поставили его возле склада, а напротив — столб. Стоял часовой, стоял, да не заметил, как задремал. Лето, ночь темная, по небу тучи бегут. Подремал, подремал, а потом — хлоп глазами: диверсант подкрадывается! А луна то из-за тучи, то за тучу, вот и кажется, особенно спросонок, что столб на тебя движется… Он не окликал, а схватил сгоряча винтовку да все пять пуль и всадил в столб. Как ни выстрелит, а диверсант не падает… Такую пальбу учинил — весь полк по тревоге подняли!
Мы дружно хохочем. Смеется и наш командир отделения. А рассказчик, скосив лукаво на него глаз, заканчивает:
— И что бы вы думали: тьма-тьмущая, а когда посчитали утром — все пять пуль в столбе нашли! Ни разу не промазал! Командир полка так и сказал: «За то, что задремал на посту да стрельбу поднял, под трибунал следовало бы отдать, а за то, что все пули в цель вогнал, объявить перед строем благодарность!»
— Так и сказал? — восклицаем восторженно.
— Так и сказал… Попробуйте сами среди ночи попасть в столб, да еще спросонок, вот тогда и спрашивайте! Столб тот не под носом стоял, а шагов за пятьдесят…
Сколько в тех историях правды, а сколько выдумки, мы не допытывались. С нас хватало того, что они нам очень нравились, мы увлеченно их слушали, и нам не терпелось самим стать героями таких же событий…
И вот я на посту.
Напряженно всматриваюсь в темноту, охраняя сарай с соломой. Я так и знал, что помкомвзвода обязательно поставит меня поближе к соблазну, и мстительно думаю: «Ладно, попробуй только полезть за затвором — я тебе покажу, где раки зимуют!» Изо всех сил стараюсь не думать про солому, призывно шелестящую за спиной.
Ледяной ветрище пронизывает насквозь. Дышу на заледеневшие пальцы, перекладывая винтовку с руки на руку, стучу ботинком о ботинок, пританцовываю. Вдоль сарая — плотно утоптанная дорожка, я бегаю по ней все быстрей и быстрей — до угла и обратно. Слышно, как по ту сторону скрипят шаги моего напарника — Баташвили. Мне холодно, а каково ему — южанину?
Вдруг…
— Стой, кто идет? — окликает кого-то Баташвили.
Аж приседаю от неожиданности. Всматриваюсь перед собой до боли в глазах, и мне начинает мерещиться, что все поле шевелится от диверсантов: ползут и ползут, зажав кинжалы в зубах. Стискиваю изо всех сил винтовку, и мне уже не холодно — жарко.
А по ту сторону сарая:
— Стой, стрелат буду! — И тут же отчаянно: — Лажис!
У меня мурашки разбежались по спине: и впрямь диверсант!
Что же делать? Бежать к Баташвили на помощь? Но я-то ведь тоже на посту и не имею права оставить его ни на минуту.
— Баташвили! — кричу. — Что там у тебя, Баташвили?!
Баташвили то ли не слышит, то ли не хочет отвечать. Сердито кричит на кого-то:
— Лежи, каму гавару! Стрелат буду!
Поймал-таки диверсанта!
И диверсант что-то отвечает, за ветром не слышно. Никак, ругается.
— Какой парол? — допытывается Баташвили.
Диверсант что-то кричит.
— Павтари!
В ответ взрыв злой ругани. И тут я узнаю голос помкомвзвода. Так вот кого задержал Баташвили!
— Зачем шел — малчал? — оправдывается Баташвили.
Уже в караулке Баташвили на упреки лейтенанта отвечал то же самое:
— Зачем шел — малчал?
И, показывая рукой на меня:
— Спраси его… Ты слышал парол?
Честно говорю, что не слышал.
— Ты что нас учил?! — кричит уже Баташвили на помкомвзвода.
Потом приставали мы к Баташвили:
— Ну, скажи, кацо, — дело прошлое — ты нарочно положил помкомвзвода? Не мог же ты его не узнать!
— Зачем нарочно? — сердился Баташвили. — Что я, савсем дурной?
Впервые мы пошли в поход на втором месяце службы. Если считать настоящий большой поход, длящийся от раннего утра до позднего вечера.
В те времена наша армия не имела еще достаточно машин, даже пушки тащили лошади. Сейчас, когда я смотрю на солдат, которые едут на мощных машинах, то всегда думаю, что слово «пехота» давно уже утратило прежнее свое значение.
Перед войной наша пехота полагалась больше на собственные ноги, чем на резиновые колеса. И тот не считался бойцом, кто не научился ходить, запросто преодолевая по тридцать и сорок километров.
Написал я «запросто» и невольно задумался. Потому что вспомнил, как давалось нам это «запросто».
Готовимся к походу еще с вечера. Командиры снуют между койками, проверяют, все ли мы приготовили на завтра, не забыли ли чего. Особенно их волнуют наши ноги. Хотя мы и научились уже обуваться как следует — обвертывать ногу портянкой, как куколку, — командиры не устают повторять:
— Смотрите, хоть одна складочка останется — ногу разотрете до мяса.
Помкомвзвода проверяет в основном наши вещевые мешки. Дело не столько в том, чтобы там было все, чему положено быть. Вещевой мешок должен весить ровно два пуда, и помкомвзвода поблажки не сделает ни на грамм.
Кроме вещевого мешка, боец несет в походе шанцевую лопатку, патронташи, набитые учебными патронами, противогаз и винтовку, а летом еще и скатанную колбасой шинель. Все это висит на тебе, давит, тяжелеет с каждым километром. Не зря же в армии в то время был очень популярным анекдот о том, как боец выступал в поход и каким возвращался из похода.
Выступая в поход, кричал бодрым голосом: «Эй, дядька, убери воз с дороги, а не то перескочу!»
Возвращаясь же из похода, еле бормочет: «Дядечка, подбери кнут: не перелезу…»
— Это еще вам повезло, — утешали нас «старики». — Сейчас что: осень, солнце не печет… А попробовали б летом! Вернешься из похода, скинешь гимнастерку, а она коробом стоит. Побелеет вся от соли, хоть ногой футболь…
Что такое мокрая от пота гимнастерка, нам было известно. Нас уже раза три гоняли форсированным маршем через овраги и холмы, невзирая на дорогу, в таком темпе, какой не каждый спортсмен выдержит. Когда легкие и горло огнем горят и, как ни разеваешь высохший рот, воздуха не хватает.
В конце хотелось одного: упасть на землю. И дышать, дышать, пока в груди хоть немножко остынет. Ведь мы не просто бежали, а выдвигались на огневой рубеж, навстречу «врагу». И теперь должны его атаковать. Падаем и стараемся немножко полежать, прикрываясь шанцевыми лопатками не столько от «вражеских» пуль, сколько от командиров.
В то время мы не понимали, зачем нужно так мучиться. Нам казалось, что командиры нарочно нас гоняют. Лишь потом, уже во время войны, мы по-настоящему оценили эту крутую, необходимую науку…
Ну, а пока мы об этом даже не думаем — нам просто трудно. Пронизывающий ветер срывает с туч мелкие капли дождя, вскоре вся одежда на нас становится мокрой и еще более тяжелой. От нас валит пар, уже давно болят ноги, а дороге ни конца ни края, она плывет, расползается под ногами то скользкой размокшей глиной, то набухшим вязким черноземом, пудовыми гирями прилипающим к ботинкам.
Наконец доносится долгожданная команда:
— Привал!
Сползаем с дороги, садимся прямо на землю. Все три батальона, весь полк блаженствует, вытянув натруженные ноги. Один уже сворачивает самокрутку, другой, тайком от командиров, грызет выданный на обед сухарь, а этот, склонившись на вещмешок, дремлет. Слышны тихие разговоры:
— Эх, чайку бы горячего!
— Или миску борща…
— А обед скоро будет?
— Спроси у помкомвзвода — он тебя сразу накормит!
— А сколько нам еще километров идти? — Это из тех, кто больше других устал.
— Не тужи: все твои будут!
— Сейчас это что! — Опять кто-то из всезнающих «стариков». — Сейчас хоть пить не хочется. А попробуйте-ка посреди лета!
— А разве вы мимо колодцев не проходили?
— Колодцы — это не для нас! Пока не объявят большой привал — капли воды не дадут…
Разговоры, разговоры, разговоры… Весь полк отдыхает: повзводно, поротно, побатальонно. А на опустевшей дороге появляются одиночные фигуры. Это те, кто не выдержал темпа, отстал.
Оживаем во время большого привала. Во-первых, полдороги позади, а во-вторых, обед. Сухим пайком, полученным еще вчера вечером. Невиданная новинка: мясные консервы, одна банка на четверых, и твердые как камень сухари. Нетерпеливо открываем банку, выуживаем все мясо до крошки, делим на четыре идеально ровные пайки.
Едим. Грызем сухари, аж искры летят, сдабриваем мясом.
— Вот такого бы побольше… По банке на брата…
— Одолжи в НЗ!
НЗ — неприкосновенный запас, находящийся в вещмешке: банка консервированного мяса, десяток сухарей. Вернемся из похода — сдадим помкомвзвода. НЗ… Лучше бы этого НЗ и не было. Идешь — и все мысли о нем. Особенно к вечеру, к концу марша. Когда даже на привалах разговоров не слышно…
Наконец в вечернем сумраке завиднелись казармы.
Какие же они сейчас желанные и милые! Большие светлые окна сулят отдых и сон. До них еще добрых три километра, предстоит еще спуститься в овраг, потом выкарабкаться наверх, а сил больше нет, вот-вот упадешь, но все же приободряешься. И тут вдруг впереди взрывается музыка. Полковой оркестр, высланный нас встречать! Бодрый марш разрывает темноту, громыхает над головами, и колонны подтягиваются, и шаг становится четче, бодрее, пружинистей…
— Ногу!.. Ногу!.. Ать-два! — враз ожили, заметались командиры. — Равнение направо!
Поворачиваем головы. Проходим строевым вдоль оркестра, вдоль группы командиров во главе с полковником, и сама собой расправляется грудь, в едином взмахе взлетают и опускаются сотни рук.
Еще немного… еще… Вот, наконец, и казармы. И такая желанная, долгожданная команда:
— Р-разойдись!
Не успеваем раздеться, передохнуть после тяжелой дороги, как следующая команда:
— Чистить оружие!
Чистим. Качаясь от усталости, чистим. Заученными движениями разбираем, протираем, смазываем, и теперь уже не слышно даже приглушенного гомона: все молчат, как онемевшие.
Наконец отбой. Падаем в койки, проваливаемся в тяжелый, каменный сон.
Наутро едва поднимаемся, еле ступая на ноги, — так все болит. Но проходит день, второй, все муки, перенесенные при марш-походе, забываются, и мы уже сами готовы с видом бывалых воинов сказать новобранцам: «Марш — это что! С вечера подготовились, всем запаслись, а утром нормально встали и пошли… Вот попробовали б вы ночью, да по тревоге!»
Мы уже знакомы и с этим. Когда среди ночи подкинет тебя с койки голос дневального:
— Ро-ота! В ружье!
А за окном тревожно, как на пожар, заливается горн.
Сорвешься и не знаешь, что и хватать. Не успеешь домотать обмотки, как уже новая команда:
— Выходи строиться! Бегом!
Оделся — не оделся, хватай винтовку и лети во двор. Сперва, бывало, выскакивали: тот лопатку забыл, тот ремень, а этот без обмоток. А тут уже приказ: «Враг напал на наш гарнизон, окопался в трех километрах. Выбить и уничтожить!»
Выбили врага, разгромили наголову, и снова в казармы — спать.
Так что обычный марш еще ничего. Вот подъем по тревоге изведайте…
Сколько времени существует армия, столько же звучит над нею песня. Понаблюдайте, как проходят солдаты по улицам вашего города, городка, села. Запевала-тенор впереди, командир-орел сбоку, руки взлетают как одна, ноги — ррра! ррра! — в такт дружной песне. Выскакивают раскрасневшиеся девчата, льнут к окнам молодицы, бегут, обгоняя строй, ребятишки. А солдаты идут, распевая, и будто ничего не замечают.
Убежден, что самый первый в мире отряд, первая когорта, фаланга, дружина, первые люди, вооруженными ставшие в строй, отправились в свой первый поход с песней.
Мы, конечно, не знали, какие песни пели в те далекие времена. У нас были свои боевые, революционные песни, и они звучали над нами, когда мы выходили из казармы на учения или когда возвращались домой.
Сколько было в нашем полку взводов, столько звучало и песен. У каждого взвода, а точнее, у каждого командира была своя любимая песня. Ее и исполняли чаще всего.
Во втором взводе, например, особенно любили петь о трех танкистах:
На траву легла роса густая, Поплыли туманы из тайги, В эту ночь решили самураи Перейти границу у реки.Первым взводом командовал лейтенант, влюбленный в броню. Поэтому те чаще пели тоже про танки:
Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход…Когда мы выступали ротой, то пели любимую песню ротного:
Мы войны не хотим, Но себя защитим, Оборону крепим мы недаром.Ну, а наш третий взвод, понятно, пел про кавалерию! Любимую помкомвзводовскую.
Пролетают кони да шляхом каменистым, В стремени привстал передовой, И поэскадронно бойцы-кавалеристы, Подтянув поводья, вылетают в бой! —выводил-заливался наш тенор.
Посмотрели бы в это мгновение на нашего помкомвзвода! Всегда сердитое лицо его враз расцветало, весь он сиял.
Глаза у помкомвзвода увлажнялись. Он растроганно поглядывал на запевалу, заливавшегося соловьем, и вместе с нами подхватывал припев…
И хотя не копытами, а, не жалея ног, подошвами били землю не кони, а мы, помкомвзвода, наверно, казалось, что он командует не какой-то там несчастной пехотой, а кавалерийским эскадроном. Подведя нас к столовой, весело командовал:
— Приставить ногу! Справа по одному в столовую шагом арш!
И не допекал нас за то, что медленно едим, не замечал, что мы задерживаемся, наливаясь лишней кружкой чая. Более того, выйдя из столовой, он не выстраивал нас сразу, а, достав коробку, с папиросами, угощал курящих.
Потому-то мы никогда не боялись охрипнуть, распевая помкомвзводовскую песню.
Зимние маневры наша стрелковая дивизия проводила в поле, в нескольких километрах от полковых казарм. Поэтому наш полк объявили «синим» и посадили в оборону, а два других — «красные» — должны нас атаковать.
Во время этих маневров нам предстояло впервые столкнуться с танками, и командиры взводов в который раз повторяют, как нам вести себя. Они почему-то боятся, что мы не выдержим и побежим, и напоминают помкомвзводам — проследить, чтобы мы ни в коем случае не выскакивали из окопов. Помкомвзводы обещают: пусть только попробует кто драпануть — полы будет мыть, пока не отслужит! А мы и не думаем удирать. Нам совсем не страшно, нас даже разбирает любопытство: как это будет, когда танк над головой прогрохочет?
Жаль только, что нет настоящих гранат! А то мы показали бы этим танкам.
Цельтесь по смотровым щелям, — поучают командиры. — Главное — ослепить водителя.
Мы целиться согласны. Только как его ослепишь, если патроны без пуль?..
Так вот, с самого начала обреченные на поражение, мы мерзли в окопах, условно именуемых дотами. И вместе с нами мерз молоденький лейтенантик с повязкой посредника на рукаве. Он должен оценить, как мы будем держаться в бою.
Танков мы так и не увидели: атаковала нас только пехота. Правда, в разгаре боя появились танки, но лишь в богатом воображении посредника.
— Вражеские танки атакуют вас справа! — кричал он нашему командиру.
И лейтенант командовал нам:
— Взво-од… бронебойными… по танкам… огонь!
Мы загоняли в патронники патроны с мнимыми бронебойными пулями, брали на мушку воображаемые танки и палили в белый свет как в копеечку. А посредник сообщал о новой опасности:
— Танковая атака отбита! Кавалерия слева!
Досталось на орехи и кавалерии. Невидимые кавалеристы горохом сыпались с невидимых коней, погибали от наших несуществующих пуль.
— Атака конницы отбита! Вас атакует авиация!
— По самолетам… бронебойными… огонь!
Мы держались молодцами, никто и не думал оставлять окопы, даже газовая атака, оглашенная посредником, не смогла выкурить нас из окопов. И как знать, так ли легко досталась бы победа «красным», если бы посредник не помогал им. Он «убивал» направо и налево, и скоро от нашего взвода остались рожки да ножки.
Добрался даже до нашего командира:
— Товарищ лейтенант, вас смертельно ранило!
«Смертельно раненный» лейтенант с последним вздохом успел передать командование помкомвзвода и выбрался из окопов. Он стоял и с грустью смотрел, как смерть в образе посредника свирепствует в его взводе, как все реже и реже гремят выстрелы по «красным», надвигавшимся на нас неодолимой лавиной. Вот «погиб» боец, который стрелял справа от меня, вот пуля попала в Мишку, а затем «убило» осколком и меня. Я выбрался из заснеженного окопа и присоединился к «мертвым» и «тяжелораненым». Мы пританцовывали на морозном ветру, боролись, чтобы согреться, и никто не кричал нам «отставить», не приказывал укрыться от пуль: ведь мы уже все были «трупами». Посредник старался вовсю, не отставали от него и другие, и, когда «красные» добежали до окопов, почти весь наш полк, согреваясь, приплясывал над опустевшими шанцами. Из нашего взвода отбивали атаку всего пять бойцов во главе с помкомвзвода, которого легко «ранило» в левую руку.
Помкомвзвода держался до последнего: когда «враги» приблизились, он выскочил из окопа, метнул учебную гранату, сбил ею командира наступавших. Потом изо всех сил закричал уцелевшей пятерке:
— Взво-од… в атаку… за мной! Ур-р-ра! — И первым бросился на врага.
В завязавшейся схватке кто-то трахнул его прикладом (кто, потом так и не смогли установить), и помкомвзвода месяц проходил с забинтованной головой. Он оказался первым раненым в нашем полку, в санчасти не знали, где его и усадить, почти ежедневно вызывали на перевязки и наматывали столько бинтов, что их хватило бы на целую роту. Другой бы спокойненько пролежал месяц в казарме, но не из таких был наш помкомвзвода! Каждое утро во главе нашего взвода маячила забинтованная голова, неизменно напоминая, что служба есть служба и ее нужно нести во что бы то ни стало.
В конце мая вся наша дивизия выступила на строительство дотов. Вместо винтовок нам выдали кайла и лопаты: нам предстояло выдалбливать глубочайшие ямы — по яме на взвод.
Жара стояла страшная, с утра до вечера палило солнце, и мы не знали, как от него спастись. Мы спускались в яму, углублявшуюся с каждым днем, как в ад, неистово вгрызались кайлами в каменистый, неподатливый грунт. Пыль вздымалась тучей, от жары и духоты мы обливались потом, и водоносы не успевали таскать нам воду: пьешь и не можешь напиться, вода входит в тебя, как в пересохший песок. Мы потихоньку ругались, чтобы не услышали командиры, не понимая, для чего все эти сооружения, — ведь мы уверовали, что в случае войны будем лишь наступать, да и то не по своей, а по вражеской территории. Потому нам порою казалось, что и эти доты, которые мы строим, не настоящие, а только для тренировок.
Мишка так и сказал:
— Пороем, пороем, а потом закапывать заставят.
Мишка разительно изменился: стал важным и сдержанным, в разговоре со мной появились высокомерные нотки. Мне ненавистен этот тон, но о том, чтобы осадить Мишку, нечего и думать. Он теперь не рядовая тюлька, а ефрейтор и носит ефрейторские лычки с таким тщеславием, словно это не лычки — маршальские звезды.
Я тоже дорос бы до ефрейтора, ведь почти всем десятиклассникам присвоили воинские звания, однако мне стал помехой потрясающий успех во время первой стрельбы по мишеням. Командир роты не забыл, как я его подвел перед комбатом, и вычеркнул меня из списков:
— Пускай сперва стрелять научится как следует!
Значит, мне нечего и думать подняться хотя бы на ступеньку повыше.
Но я об этом не очень-то печалился. Единственное, что меня беспокоило, так это то, что я скажу маме, если вернусь рядовым. Ведь когда прокатился слух, что нам присвоят командирские звания, я поторопился порадовать маму, что ее сын уже старший сержант. И не видел в этом ни малейшей неправды: разве не учили нас с малых лет, чтобы мы всегда доставляли радость родителям? Вот я авансом маму и порадовал. А теперь хоть локти кусай.
Но ничего, впереди еще больше года, возможно, за это время мне все-таки присвоят звание сержанта. Поэтому я долблю камни так, что осколки шрапнелью летят, с ненавистью поглядываю в раскаленное небо и мечтаю о вечере. Когда прозвучит, наконец, команда кончать работу, мы, отложив кайла, тачки и лопаты, скатимся к Днестру, с радостными криками ринемся в воду.
Командиры долго не могут выудить нас на берег, ругают и грозят, что больше к речке не подпустят. Но мы им не очень-то верим: разве командиров солнце жарит меньше, чем нас? Командирам тоже купаться хочется.
Но вот мы выстраиваемся и, мокрые, посвежевшие, взбираемся повзводно вверх, к лесу. Там, в палатках, мы и живем. Там уже нас ждет ужин: под зелеными шатрами, на земле… И мы, начаевавшись, откатываемся от горячих еще кружек и лежим себе, ожидая сигнала «отбой».
Небо еще дышит жаром, хотя солнце уже на горизонте. А здесь, на траве, под высокими густыми деревьями, прохладно и приятно. Весь наш лагерь словно вымер: монотонно лепечут лишь сонные голоса каких-то пичужек да изредка раздастся окрик командира.
О чем мы в такие минуты думаем? О чем разговариваем?
Обо всем. Но больше всего о службе. Разговоры наши изменились с тех пор, как мы попали в армию.
Если поначалу мы еще вспоминали большей частью родные места и они казались нам раем, то теперь мы все реже заводим разговоры о доме. С головой окунувшись в армейские будни, мы постепенно прониклись их интересами.
Мы многому научились за это время, многое узнали. Нас не пугают теперь ни морозы, ни жара, дубленую нашу кожу не пробить градом, не промочить дождем, мы совершенно спокойно ляжем на сырую землю и заснем, не боясь простудиться. Мы научились по команде вставать, по команде ложиться.
Мы стали воинами.
Мы научились ходить в атаку и мгновенно окапываться, хоть километр ползти по-пластунски, преодолевать глубочайшие рвы и высочайшие стены, лихо колоть штыком и отбивать вражьи удары прикладом винтовки. Ноги наши сами собой вытягиваются в струну, как только звучит команда «арш!», руки наши взлетают ни на сантиметр выше, ни на сантиметр ниже, мы ходим в строю так, что залюбуешься, и никому не пришло бы в голову, что всего несколько месяцев тому назад мы совсем не умели так держаться.
Мы стали настоящими воинами.
Нас теперь не сгибают до земли двухпудовые солдатские вещмешки, мы и думать забыли о НЗ, который несем в своих вещмешках, потому что не чувствуем того постоянного голода, который грыз нас в начале военной службы. Мы уже наедаемся за завтраками, обедами и ужинами. Нас не беспокоят твердые, со слежавшейся соломой подушки, мы можем спокойненько выспаться хоть на каменной глыбе. Мы огрубели, мышцы наши окрепли, движения стали точными и уверенными.
Мы стали теми, кем и должны были стать. Близившаяся война готовила нам суровый экзамен на мужество и зрелость.
И мы сдадим его — живыми или мертвыми.
Вместо эпилога
Война началась для нас не свистом пуль, не взрывами мин и снарядов, а нескончаемыми маршами, рытьем траншей и окопов. То ли нас опасались пустить на передовую (первый год службы!), то ли там было уже столько войск, что не протиснуться, и на протяжении почти пятнадцати суток мы шли, шли, шли — по сорок, по пятьдесят километров. Или зарывались в землю.
Кое-кто начинал высказывать опасения, что нам и пороху понюхать не удастся. Ведь все мы, как один, были уверены, что именно сейчас, пока копаем осточертевшие блиндажи и окопы, наша армия добивает врага «малой кровью, могучим ударом». И если нас хотя бы с неделю еще погоняют вдоль фронта, то мы так и не увидим живых врагов, разве что пленных. Но когда начинали сетовать вслух, наш помкомвзвода, стягивая брови в строгий шнурок, обрывал:
— Разговорчики!
Ибо дисциплина есть дисциплина, и она не терпит никаких нареканий на действия командования, даже если нарекания эти порождены самыми высокопатриотическими чувствами.
Дважды мы видели вражеские самолеты. Первый раз они летели так высоко, что казались лишь серебристыми крестиками. И когда прозвучала тревожная команда: «Во-озду-ух!», мы рассыпались с дороги по густой, высокой пшенице. А потом, как нас недавно учили, с колена стреляли по этим самолетам.
Терпко и будоражаще запахло порохом, в голове звенело от выстрелов, а крестики плыли и плыли, и хотя бы один упал. Наш лейтенант, разрядив в небо свой ТТ, огорченно скомандовал отбой.
На поле вдруг упала тишина, так как наш взвод последним закончил стрельбу. Вот тогда-то с неба донесся могучий сдержанный гул. Что-то жестокое и холодное угадывалось в нем. Какая-то тупая, уверенная в себе сила. И мы растерянно смотрели на нескончаемую армаду самолетов и спрашивали у самих себя и вслух: где же наши прославленные истребители?
Командиры нам поясняли, что истребители накинутся на вражеские самолеты подальше, в тылу, что они нарочно пропускают их вглубь, чтобы потом ни одного не выпустить.
Второй раз мы встретились с вражескими самолетами в Могилев-Подольском, за километр от переправы через Днестр. Не успело отзвучать «Воздух!», как прямо над головой с ужасающим, выматывающим душу ревом и свистом пронеслись самолеты, и вся наша колонна, зажатая высокими каменными заборами узенькой улочки, посыпалась в кювет.
Наш помкомвзвода прыгнул в тот кювет первым, а на него — весь взвод. Мы падали, задевая друг друга прикладами, ботинками, коленями и локтями, а вокруг уже ходуном ходила земля. И хотя бомбы падали лишь у моста, нам казалось, что они взрываются рядом, что самолеты целятся только в нас.
Так мы и не дошли до переправы через реку, хотя командиры заверяли, что на этот раз нас обязательно кинут в бой. Вместо этого нас развернули и повели назад. Шли до самого вечера, а потом снова копали траншеи и завидовали другим взводам, у которых были низкорослые командиры. А наш лейтенант, как нарочно, был в роте выше всех, и траншею копать нам приходилось самую глубокую.
Все мы сильно похудели и отчаянно устали. Усталость накапливалась в наших телах изо дня в день, из ночи в ночь. Кратковременные остановки на отдых не могли ее разрядить, а чуткий сон — обновить наши силы. Мы были отравлены усталостью, она окрашивала исхудавшие лица в землистый тон, проступала черными пятнами под глазами, делала наши движения неуверенными и вялыми, а нас самих — тупыми и безучастными.
Единственная была мечта — выспаться. Упасть на землю и спать, спать…
Дремота не оставляла нас ни на минуту. Перемешанная с пылью, тяжело плыла над колонной, налипала на веки, и, отяжелевшие, они начинали слипаться. И тогда на ходу мы погружались в сон. Ноги наши шагали, руки размахивали, а головы спали.
Некоторые умудрялись спать вот так, на ходу, километр или два. Попадались лишь тогда, когда дорога сворачивала в сторону. Они же продолжали двигаться по прямой, выходили из колонны и падали в кювет. Ошалевшие, выбирались на дорогу, к ним разъяренными петухами подскакивали командиры, а мы натужно хохотали, как по принуждению.
Еще тяжелее было рыть окопы. Сколько мы их оставили после себя за эти пятнадцать суток! Вгрызались в твердую, неподатливую землю короткими шанцевыми лопатками, а над нами сгущалась ночь, и из темноты возникала то фигура помкомвзвода, то лейтенанта, то самого комроты, и звучало, звучало одно и то же:
— Не спать… Не спать…
Потому что нам нестерпимо хотелось спать. Боже, как нам хотелось спать! Чем глубже становились окопы, тем сильнее нам хотелось спать. Будто зарывались не в землю, а в сон, и он смыкался вокруг тесными стенами, сыпался с шуршанием под ноги, неодолимо тянул за собою на дно.
И вот уже то один, то другой окоп замирал — до тех пор, пока над ним не появлялась темная тень командира:
— Боец Кононенко!.. Кому сказано: не спать!!
Как-то, полусонный, я незаметно для себя прикопал винтовку. Положил рядом и потом, совсем очумев, завалил ее землей.
Поднялся переполох на всю роту — пропала винтовка. Весть докатилась до самого комбата, мне уже угрожал трибунал, но командир роты заметил приклад, видневшийся из-за бруствера. Мне приказали вычистить винтовку до последнего винтика. («Чтоб языком ее вылизал!» — передал комбат, помкомвзвода же сказал, что только кровью я могу смыть тяжелейшую провинность.) И пока все спали, я мытарился над винтовкой и проклинал свою судьбу.
Неприятное это происшествие послужило, должно быть, причиной того, что лейтенант при первой же возможности постарался от меня избавиться: назначил связным командира роты. Ведь о такой роскоши, как полевой телефон, мы тогда и не мечтали.
Наша рота заняла оборону на левом берегу Днестра, в небольшом селе Садковцы. Село и вправду утопало в садах. Фруктовые деревья сбегали к самой речке, к извилистой линии траншей, выкопанных до нас какой-то другой частью. По ту сторону круто высился правый берег. Он был покрыт густым лесом, и как мы ни всматривались — не заметили ни одного немца. Враг то ли еще не подошел, то ли так хитро маскировался, что берег казался абсолютно безлюдным.
Мы отсыпались.
Спали прямо на траве, подложив под головы плащ-палатки. Спали так крепко, что если бы в самом деле подошли немцы и сумели переправиться через реку, то могли бы взять нас голыми руками. Но и немцы, пожалуй, тоже отсыпались, так как на том берегу никакого движения не было заметно. Единственным открытым пространством, которое просматривалось с нашей стороны, было подворье монастыря, и мы, трое связных, ежедневно отправлялись на наблюдательный пункт — следить, не появятся ли там немцы. Это был неглубокий окопчик, вырытый на яру. В течение дня мы торчали в нем идеальными мишенями, но немцы почему-то нас не перестреляли; должно быть, их такой наблюдательный пункт на нашей стороне вполне устраивал. Тем более что у нас даже бинокля не было (командир роты свой боялся нам доверить), так что приходилось полагаться лишь на собственное зрение.
Каждый раз, возвращаясь с наблюдательного пункта, мы подходили к командиру роты, печатая шаг, лихо козыряли и громко, так, что даже на том берегу, пожалуй, было слышно, докладывали, что враг но обнаружен. Капитан слушал внимательно и строго, потом командовал: «Вольно!» — и мы расслаблялись с чувством честно выполненного долга. Теперь можно было прислонить к вишне винтовку, напиться холодной колодезной воды, остудить в тени обгоревшее тело. Война начинала казаться нам обыкновенными маневрами, где «красные» воевали с «синими» и «красные» обязательно побеждали (иначе они не были бы «красными»), где «убитые» и «раненые» спокойненько отходили в сторонку и с нетерпением ждали кухню. Пока живые довоюют, «убитые» уже и сливки снимут, и лежат в холодочке, блаженно подремывая.
Так мы играли в войну почти неделю, а потом штаб полка приказал послать на тот берег разведку, и командир роты выделил десять бойцов во главе с сержантом. Разведчики переправлялись перед рассветом, и я впервые подумал, что все эти хлопцы могут и не вернуться назад. Командир роты, наклонившись с берега, что-то тихо говорил сержанту — давал, по всей видимости, последние напутствия, — я же смотрел на съежившиеся фигуры, жавшиеся друг к друг в двух надувных лодках, и мне уже казалось, что на том берегу только и ждут, когда они отплывут на середину. Поэтому, когда сержант, козырнув в последний раз, оттолкнулся от берега, я весь напрягся в ожидании выстрелов с того берега.
Однако то ли враг крепко спал, то ли его вообще не было, — берег молчал, словно вымер. Лодки плыли и плыли, тускло взблескивая короткими веслами, пока не уткнулись в густые заросли ивняка.
Вскоре оттуда послышалось кряканье утки: условный сигнал, что все в порядке, и над нашими застывшими напряженно окопами прокатился радостный гомон.
Приказав докладывать о любом движении на том берегу, наш капитан отправился к себе. Он очень тревожился за успех разведки. Ведь для него, как и для каждого из нас, это была первая боевая операция, и потому, заметно нервничая, он то и дело гонял меня во взвод — узнать, не слышно ли там чего. Я мчался кратчайшим путем вниз и спрашивал у лейтенанта, не слышно ли чего-либо. Он отвечал, что ничего нет. И чем чаще я к нему прибегал, тем неприветливое он меня встречал. Получалось, будто я был виноват в том, что разведчики как сквозь землю провалились.
Наконец где-то после обеда на той стороне, глубоко в лесу, поднялась частая стрельба. Она то распадалась на одиночные выстрелы, то сливалась в сплошной клубок, и клубок этот катился вниз, все ближе и ближе к берегу. Вот уже ударили наши пулеметы, затрещали нервно и торопливо наши винтовки. Командир роты сорвался с места как ошпаренный и, придерживая рукой планшет, помчался что есть духу вниз. Следом побежал политрук, а за политруком мы, трое связных.
Стрельба разгоралась все больше, нам уже казалось, что немцы перешли в атаку, хотя теперь стреляли только с нашего берега, а на том все затихло.
Когда мы добежали до траншей, стрельба уже утихла. Лишь иногда то тут, то там срывался нервный выстрел, вслед которому несся сердитый оклик: «Отставить!» — и затаивалась виноватая тишина. Над траншеями колыхался сизоватый дымок. Он стекал вниз, к воде, и из окопов выглядывали возбужденные, красные лица бойцов. Не прыгая даже в траншею, комроты побежал к взводному, а мы спешили за ним и казались сами себе неимоверными смельчаками, которые не привыкли кланяться нулям.
Лейтенант, высунувшись по пояс из окопа, смотрел не на капитана, а на реку. И помкомвзвода смотрел туда же, и все бойцы поблизости тоже. Что-то настолько тревожно-выжидательное, до предела напряженное было в этом молчаливом созерцании, что и мы остановились и тоже стали смотреть в том направлении.
Речка мерцала, блестела, горела. Нещадное летнее солнце высвечивало ее всю, до мельчайшей ряби. И по этой сверкающей поверхности, раз за разом вспыхивая поспешными движениями весел, плыли обе наши лодки. Согнутые фигуры бойцов чернели, словно угли, а на борту передней лодки виднелось что-то резко белое. Когда разведчики наконец приблизились к берегу, мы поняли, что это белело: на дне лодки, положив забинтованные ноги на борт, лежал один из бойцов. Лицо его было желтым и осунувшимся, а глаза воспаленными, как у тяжелобольного.
Передав нам раненого, разведчики вмиг оказались на берегу. Они так торопились покинуть лодки, что едва их не утопили, и все оглядывались на противоположный берег. Сержант начал было докладывать капитану, но тот досадливо махнул рукой: вид раненого произвел на него такое же гнетущее впечатление, как и на всех нас. Поэтому он приказал немедленно нести бойца к командному пункту.
Это был первый раненый, и мы не знали, как к нему подступиться. Неловко топтались вокруг, пока кто-то не догадался расстелить плащ-палатку и положить на нее раненого. Сбившись беспорядочной гурьбой, мешая друг другу, мы понесли его вверх. Он раскачивался, как в зеленой люльке, его забинтованные ноги болтались то в одну сторону, то в другую. Ему было, наверно, очень больно, вскоре он не выдержал, начал стонать. И чем громче он стонал, тем быстрее мы бежали в гору. Нам казалось, что он умирает, и мы старались донести его хотя бы до командного пункта живым.
Наконец опустили его на траву в тени вишни. Сразу же прибежал санинструктор и поверх бинтов, которыми уже были обмотаны ноги раненого, стал накладывать свои, будто опасался, что имевшихся до санбата не хватит. После этого мы напоили раненого водой. Он затих, а командир роты сказал, что вот-вот подъедет подвода и отвезет его в санбат.
Только после этого капитан повернулся к сержанту. Тот снова вытянулся в струнку, начал докладывать. Лицо его пылало от возбуждения…
Высадившись на том берегу, они стали взбираться вверх. В густых зарослях, где пересохшие сучья громко трещали, они медленно пробирались, преодолевая эту стометровую полосу чуть ли не час. Потом стало полегче. Они перебегали от дерева к дереву, все время вели наблюдение, но немцев не было, как сквозь землю провалились, хотя повсюду было натоптано и они даже нашли пустую пачку от чужеземных сигарет…
Тут сержант полез в карман и достал ярко разукрашенную картонную пачку. Капитан внимательно рассмотрел ее, понюхал, передал политруку. Тот тоже осмотрел ее со всех сторон и понюхал, но нам не передал, хотя нам тоже хотелось понюхать, чем это пахнет.
Наконец они увидели немцев, продолжал сержант. На поляне, вблизи монастыря. Раздевшись до трусов, немцы загорали на солнце, а одежда и оружие лежали, небрежно разбросанные, рядом. Трое дремали, четвертый лежал на спине и наигрывал на губной гармошке. Подкравшись к поляне, сержант приказал примкнуть штыки, и с криком «ура!» они атаковали немцев.
Враг в панике бежал, одежда и оружие остались.
Наспех собрав трофеи, они побежали вниз, и тут их обстреляли…
Только теперь мы обратили внимание на большой узел, который держал один из разведчиков. Командир приказал развязать, и мы с любопытством столпились вокруг.
На землю выпали сапоги, тупоносые, короткие, с голенищами раструбом, штаны и френчи необычного покроя, украшенные какими-то значками, ремни с блестящими алюминиевыми пряжками и новенькое, будто только что с завода, оружие: автомат с прямым, как пенал, магазином, пистолет с рукояткой необычной формы.
— А где же еще оружие? — поинтересовался капитан. — Их же было четверо.
— Мы подобрали все, товарищ капитан!
— Значит, трое убежали с оружием, — задумчиво сказал капитан. — Но почему они не отстреливались?
Сержант позволил себе пожать плечами. Тогда политрук высказал мысль, что немцы, испугавшись, забыли и про оружие. Это надо представить: десять орлов с винтовками наперевес, да еще грозное «ура!»…
Мы все одобрительно рассмеялись, а политрук, обернувшись к нам, троим связным, поучительно и строго произнес:
— Учитесь, как нужно воевать!
Но мы и без этого с восторгом и завистью смотрели на разведчиков.
Вскоре разведчиков вызвали в штаб батальона. А чуть позднее подъехала подвода и забрала раненого.
Еще два дня немцы сидели тихо, как мыши. За это время ничего особенного не произошло. Разве что минометная батарея, расположенная рядом с нами, обстреляла монастырь. Я как раз сидел на наблюдательном пункте, когда туда прибежали капитан и политрук, и мы уже втроем наблюдали за обстрелом.
Первая мина упала в лесу, и политрук сказал: «Недолет». И так строго взглянул на меня, будто я был в этом виноват. Вторая тоже взметнулась между деревьями, и политрук сказал: «Перелет». Третья взорвалась как раз посреди подворья, и политрук воскликнул: «Молодцы!» Взметнулся вверх столб черного дыма. Немцы же не появлялись. Они даже не ответили на обстрел, хотя наши командиры были уверены, что, кроме как в монастыре, вражескому командованию негде и быть. Ведь где останавливались белые офицеры во время гражданской? У помещиков, кулаков да у попов!
Выпустив еще три мины, наша батарея замолкла, и политрук сказал мне строго: «Видали, как нужно стрелять?» — словно я тоже был минометчиком и стрелял неважнецки.
Немцы отмалчивались весь этот день и ночь, а на рассвете перешли в наступление.
Все мы сладко спали, когда на том берегу засверкало, заухало и с черного неба на нас посыпались снаряды и мины. И уютная, мирная до сих пор земля, дышавшая сном и покоем, вдруг задрожала, заклокотала, вздыбилась, тугие горячие волны смели нас с пригретых мест, и мы, ослепшие, оглушенные, заметались между взрывами, разыскивая вход в блиндаж. И когда наконец нашли и вкатились клубком, там уже были командир роты и сержант-писарь.
— Где политрук?
Капитану приходилось кричать, потому что вокруг все ревело от взрывов. Он хватал каждого из нас за грудки, кричал в лицо:
— Где политрук?!
Мы не знали. Мы ничего не знали. Политрук спал с нами рядом, но мы бы не могли сейчас с уверенностью сказать, где то место, на котором мы спали. Его снесло, смело, бросило в небытие.
Мы прижимались спинами к глиняной стене, тряслись вместе с ней, а сверху сыпалась земля, трещали сосновые бревна, и ухало, и громыхало, и визжало, и ревело, горячие ядовитые волны воздуха врывались в блиндаж сквозь жиденькие дверцы и амбразуру.
Разве мог кто-либо из нас думать, что война может быть такой!
Наконец капитан понял, что, сколько бы он ни кричал, ничего от нас не добьется. Он метнулся к выходу, а сержант закричал:
— Товарищ капитан, туда нельзя: убьют!
И в тот же миг раздался особенно оглушительный взрыв. Вокруг так и зазвенело, дверь раскололась пополам, будто по ней рубанули огромным топором. Мы инстинктивно припали к стене, закрываясь локтями от нестерпимо яркой вспышки, и тут же, сразу, взорвалось в самом блиндаже, ослепило, рвануло, швырнуло друг на друга. По каске звякнуло что-то остро и зло, я успел лишь увидеть черную фигуру сержанта, медленно оседавшую на землю, как по руке моей вроде бы отбойный молоток прошелся — руку откинуло в сторону, а винтовка полетела на землю. И только тогда я услышал, что затрещал автомат — прямо в амбразуру. Кто-то там наверху крикнул раз, второй, третий, и опять короткой очередью, густо сея пули, ударил автомат.
И сразу все стихло. Лишь было слышно, как внизу, у самой речки, длинной бесконечной очередью захлебывался наш пулемет да над головами потрескивали бревна. Я взглянул на свою правую руку, которая уже онемела, стала вроде чужой, и с ужасом заметил, как по рукаву гимнастерки быстро расползается и парит черное пятно.
— Товарищ капитан, я ранен!
На меня зашипели, зацыкали, чья-то жесткая ладонь зажала рот. Только тогда я понял, что и первый и второй раз взорвались в блиндаже немецкие гранаты, а в амбразуру строчил снаружи немецкий автомат. И кричал коротко и зло не кто иной, как немец.
Сквозь сорванную дверцу, сквозь амбразуру, перевитый дымом, вливался холодный рассвет. В этом чадном призрачном свете чернело неподвижное тело сержанта, а под дверью шевелился наш ротный.
Упираясь ногами в землю, капитан пытался подняться, но ноги его не слушались: он опять сползал вниз — и опять начинал все снова. Без звука, без единого слова. Я растерянно оглянулся на остальных связных, сидевших рядом, и увидел, что один из них торопливо бинтует ладонь, а второй, поднявшись, идет к капитану.
— Товарищ капитан, вас ранило?
Командир роты уже сидел, привалившись спиной к разбитой двери. Узкое, всегда строгое лицо его быстро серело. Он взглянул на бойца, глухо приказал:
— Пойдите… разведайте… где немцы…
Но тут моя рука начала отходить, я перестал наблюдать за ротным. Достал из противогазной сумки индивидуальный пакет, разорвал зубами, стал бинтовать прямо поверх мокрого от крови рукава гимнастерки. Бинт ложился неровно и редко, пропитываясь кровью, но я наматывал и наматывал его, пока смотал до конца. А потом достал еще один пакет и продолжал бинтовать, так как кровь все еще проступала, собираясь в тяжелые темные пятна.
В конце концов рука моя стала походить на огромный порыжевший чудовищный кокон с торчащими из него кончиками неподвижных, посинелых пальцев. Набухая кровью, рука все тяжелела, будто из ран моих сочилась не кровь, а свинец. Боль донимала все больше и больше. Я осторожно, бережно взял правую руку в левую, поднял ее вверх, и мне вроде бы полегчало.
Тем временем в блиндаж вернулся боец и громко доложил:
— Товарищ капитан, немцев поблизости не видать!
В блиндаже вроде даже посветлело от этого.
— Поднимите меня, — приказал капитан. — Помогите выбраться наружу…
Боец взял его под мышки, и капитан застонал. Этот стон так удивил связного, что он едва не выпустил своего командира, но тот уже замолк, только лицо его посерело еще больше, покрылось мелкими каплями пота.
Стараясь не наступить на убитого сержанта, мы выбрались из блиндажа.
Бой так же внезапно стих, как и начался. Не слышно было ни выстрелов, ни взрывов: и наши, и немцы исчезли бесследно. Если бы не множество воронок вокруг, трудно было поверить, что здесь только что падали мины и снаряды. Воронки чернели повсюду, глубокие и мелкие, из них еще поднимались рыжеватые дымки, и здесь же, под голой вишней, лежал политрук. Одним взрывом стрясло все листья с вишни и сорвало с политрука гимнастерку, и он лежал голый по пояс. Лишь на худой, с длинным кадыком шее повис оторванный воротник. Политрук лежал уткнувшись лицом в землю и походил бы на человека, решившего загорать, если б не руки, откинутые неподвижно и жутко, будто тело было само по себе, а руки — сами по себе.
Мы старались не смотреть на убитого, но не помогало: жуткая неподвижность мертвого тела ощущалась даже в воздухе, от нее невозможно было никуда деться, никуда спрятаться.
Связной, тащивший капитана, вскоре опустил его на землю. У командира снова вырвался стон. Он впился судорожно сведенными пальцами в траву, открыл плотно зажмуренные до сих пор глаза. Солнце било ему прямо в лицо, но лучи гасли, едва коснувшись глаз. Связной достал индивидуальный пакет, но комроты отрицательно покачал головой:
— Не нужно…
Он даже не смотрел вниз, на залитые кровью гимнастерку и галифе. Выпустил из пальцев траву, отстегнул нагрудный карман, достал аккуратно завернутый пакет.
— Здесь… мои документы… Передать комбату…
— Товарищ капитан…
— Молчать!
Это снова был наш комроты, требовательный и строгий. Мы все поневоле вытянулись, а он продолжал:
— Пойдете вместе… Встретите врага — пробиваться с боем… В плен не сдаваться… Оружие… Где ваше оружие?..
— В блиндаже, товарищ капитан.
— Принести… И мой автомат…
Связной побежал в блиндаж. Капитан опять закрыл глаза, опустил голову. Дышал тяжело и хрипло, и пальцы вновь мяли траву.
Мы стояли, скованные дисциплиной, боясь первыми обратиться к нему. Стояли и молчали.
Наконец возвратился связной. Капитан сразу же открыл полные муки глаза:
— Принесли?
Будто ничего уже не видел.
— Принес, товарищ капитан!
Он приволок все, забрал и гранаты. Даже три полуавтоматические винтовки — три СВТ с раздробленными вдребезги прикладами.
— Автомат возьмите себе… Назначаю вас старшим…
— Есть быть старшим!
Капитан поморщился, словно бодрый этот возглас причинил ему еще большую боль. Достал из кобуры свой ТТ, вынул магазин, стал выдавливать из него патроны. Оставив один патрон, загнал магазин в рукоятку. Одна и та же страшная догадка пронзила наше сознание.
— Товарищ капитан…
— Возьмите, они вам пригодятся.
— Товарищ капитан!..
— Молчать!
Связной протянул дрожащую руку, и комроты, пересыпав в нее патроны, вновь закрыл глаза, лицо еще сильнее побледнело. Но он не застонал. Он лишь стиснул зубы, да так, что в уголках губ появилась розовая пена. Дышал тяжело, говорил, будто бредил:
— Пробиваться к своим… В плен не сдаваться…
Раскрыл вдруг глаза, сурово посмотрел на меня. На мою обмотанную руку.
— Старший!
— Я!
— Подвяжите ему руку к шее!
Старший (теперь старший над нами Вано Баташвили из второго взвода) сразу же достал индивидуальный пакет, подвязал мою руку к шее так, чтобы она висела на уровне груди.
— Гранату! — приказал капитан.
Вано подал ему гранату.
— Руку! — Это уже мне.
Я протянул левую руку, и граната оказалась у меня в ладони. Это была круглая ребристая граната, тяжелая чугунная лимонка. Сверху над немного выступающим ее телом торчал блестящий цилиндрик запала, соединенный с металлической дужкой. Я прижал дужку к ребристому боку гранаты, и, прежде чем понял, что хочет командир роты, он выдернул предохранитель и забросил его в траву…
До сих пор мне казалось, что я сжимаю гранату. Теперь же сжал ее так, что захрустели пальцы. Мне уже чудилось, что дужка выскальзывает-выскальзывает и вот-вот раздастся взрыв.
А командир, кивнув, чтобы третий уцелевший из нас взял винтовку, приказал:
— Идите!
— Товарищ капитан, мы вас понесем, — сказал Вано.
— Идите!
— Товарищ капитан…
— Идите!!
Он крикнул так страшно, что мы обернулись и пошли. И не успели сделать несколько шагов, как позади хлопнул выстрел. Этот сухой, отрывистый звук толкнул нас в спину, мы побежали… и остановились только на узкой полевой дороге, проскочив вишневый садик.
За нами осталось село, а впереди расстилалась пшеница. Высокая, по грудь, она разлилась до самого горизонта. И где-то там были наши войска. Наше спасение.
И мы, пригнувшись, нырнули в пшеницу.
— Днем нам отсюда не выбраться.
Вано перевернулся на бок, снял каску. Солнце палило немилосердно, накаляло каски, как сковороды, головы наши разбухали от этого, перед глазами расплывались огненные круги. Но мы не решались расстаться с касками: в случае стычки с врагом они прикроют наши головы от пуль и осколков.
А еще нас мучила жажда. У нас давно уже почернели, потрескались губы, голоса стали хриплыми и чужими. Мы больше молчали: каждое слово обдирало рот и ранило горло.
Бредили водой. Темной колодезной водой, светлой ключевой водой, от которой ломит зубы, бредили водопадами, реками воды, которую мы пили бы без конца. Вода струилась перед глазами, вода журчала вокруг, вода била тугими струями водометов… и сразу же исчезала, как только мы к ней приближались. Вместо нее возникала растрескавшаяся серая земля, сухие стебли пшеницы — жестокая реальность, от которой можно было сойти с ума.
Меня, как и моего раненого товарища, к тому же донимал жар, все тело пылало огнем. Скованная пересохшими, затвердевшими от крови бинтами рука горела все сильней и сильней — огонь полз уже по плечу, разливался по всему телу. Хотелось содрать бинты, чтобы хоть немного остудить руку, а то вовсе оторвать ее, избавиться от нестерпимой муки. Время от времени я не выдерживал и стонал — от боли, от острой жалости к себе, и Вано, оборачиваясь ко мне, с трудом выговаривая слова, успокаивал:
— Потерпи, дарагой, потерпи… Скоро дайдем…
Я умолкал. Сжимал зубы и молчал. И порой казалось, что в уголках моих губ проступает такая же розоватая пена, как у капитана. Хотелось вытереть губы, но я не решался: в моей левой руке, крепко зажатая, дремала граната. Но нет, не дремала! Все время настороженная, все время напряженная, нацеленная на взрыв, она жала и жала мне на ладонь, на пальцы с тупой неумолимой силой. Как мне хотелось размахнуться и отбросить ее подальше от себя! Но Вано то и дело прикладывал палец к тоненьким усикам:
— Тс-с-с… Немцы…
И мы замирали. Припадали к земле, и каждому казалось, что под нами громко бьется чье-то испуганное сердце. Лежали и прислушивались, поскольку тщетно было что-либо увидеть в этой пшенице.
Иногда немцев мы слышали. Они переговаривались на своем языке и, конечно же, шли в полный рост, не сгибаясь в три погибели. Им некого было бояться, их не мучили раны, они не умирали от жажды. И у нас одновременно со страхом начинала накипать ненависть. Но страх был сильнее, поэтому мы лежали замерев. Лежали и ждали, пока немцы отойдут подальше.
Когда немцев не было и не было слышно, Вано хрипел:
— Пашли…
И мы тащились за ним…
Наконец мы совершенно выбились из сил. И когда опустились на прокаленную сухую земляную корку, на сухие стебли пшеницы, Вано сказал, раздирая запекшийся рот:
— Днем нам не выбраться…
Помолчав, прохрипел:
— Будем ждать ночь…
Мы отупело молчали. Ночь так ночь. Нам уже было все равно: идти ли и жариться на солнце или сидеть и жариться. Мы с ненавистью смотрели на солнце, в белесое раскаленное небо и тоскливо мечтали о тучах. Ну хотя бы небольшая, хотя бы махонькая тучка, чтобы хотя на минуту оказаться в тени…
И тут появился вражеский самолет. О том, что это был разведчик, я узнал позднее, повоевав на фронте, а тогда для нас это был просто одномоторный самолет с четкими крестами на фюзеляже и крыльях. Он пронесся над нами с оглушительным ревом, и Вано, накинув каску на голову, метнулся в сторону, а следом за ним побежали и мы. За короткое мгновение, пока самолет пронесся над нами, вражеский пилот успел нас заметить, даже, пожалуй, разглядеть, кто мы. Может, нас выдали каски, может, то, что мы сразу же бросились бежать, а может, и то и другое вместе, только самолет развернулся и помчался прямо на нас.
— Лажись! — отчаянно закричал Вано и первым уткнулся в землю.
И не успели мы упасть, как черная тень пронеслась над нами. Тугая струя воздуха склонила к земле пшеницу, ударила в лицо раскаленной пылью. Как по команде, мы снова вскочили на ноги, побежали что есть духу, так как самолет опять заходил по кругу. Мы бежали и падали, бежали и падали, глотая горячий воздух, и голова шла кругом, и сердце, казалось, вот-вот разлетится в клочья, а вражеский пилот все гонялся за нами. Он то мчался над полем, почти касаясь пшеницы, то свечкой взмывал вверх и оттуда коршуном падал вниз.
Наконец мы свалились с ног. Лежали, загнанные насмерть, со стоном вдыхали воздух, и немец, пожалуй, понял, что больше нас не поднимет. Тогда он зашел еще раз и ударил по нам из пулеметов. Сквозь гул, нарастающий рев до меня донеслось сухое короткое чавканье, мгновенно рядом зашипело, зачмокало, на сжатые плечи, втянутую голову, прямо в лицо сыпануло горячей землей. Впереди кто-то вскрикнул, я открыл глаза и увидел темные ямки, тянувшиеся ровной строчкой. Моя левая рука, сжимавшая гранату, лежала между двумя ямками, которые еще курились дымком.
Я отдернул руку, не удержался, опрокинулся на спину. И опять увидел самолет. Он падал прямо на меня, а по обе стороны нацеленного носа, на крыльях, танцевали острые огненные язычки. Снова зашипело, зачмокало, обсыпало землей — и теперь уже не вскрик, а дикий нечеловеческий вопль несся впереди меня. Кто-то кричал и кричал, и это надрывающее душу, бесконечно-болезненное «А-а-а-а!» заполняло весь простор. Казалось, это кричит, бьется в конвульсиях смертельно раненное поле. Ибо человек не мог так кричать…
Когда самолет улетел, я, качаясь, поднялся. Противно дрожали колени, перед глазами раскачивалось окрашенное в красное поле, как залитое кровью. Черный тошнотворный клубок стоял в горле, а я не мог ни проглотить его, ни выплюнуть. Рот стянуло, как резиной…
Уже никто не кричал. Стояла тишина, как на кладбище.
Сначала я увидел Вано. Он все еще словно прятался от самолета, прикрыв голову каской, упав лицом на руки. Но на каске зияла рваная дыра, а земля вокруг чернела жирным пятном. И первые мухи ползали по этой кровавой луже, слетались и садились на каску, на забрызганные кровью руки.
Второй мой товарищ лежал немного дальше, перевернувшись на спину. Смертельная строчка прошила в первый раз ноги, а потом — живот. Он так и умер с раскрытым от крика ртом. Он истек этим криком, как истекают кровью. Он и сейчас продолжал безмолвно кричать, и застывший тот крик бился в черном провале рта. А из руки, из намертво сжатой ладони тоненькой струйкой стекала перетертая в пыль земля. И там, куда она ссыпалась, вырастала остренькая пирамидка. Она то поднималась вверх, то вдруг оседала. А земля сыпалась, сыпалась, сыпалась, бесшумно и жутко, словно убитый весь был наполнен этой пылью и истекал ею на хлебную ниву.
Я повернулся и пошел. Куда — не знал и сам. Чувствовал лишь необходимость двигаться, пока еще были какие-никакие силы в изнуренном, высохшем, казалось, до шелеста теле. Единственное, что смог осмысленно сделать, — сбил с головы каску. С ненавистью расстался с раскаленной посудиной, обручем стискивавшей голову. Шел не пригибаясь, не ломая ноги в коленях, потому что стало безразлично, увидят меня немцы или нет, убьют сейчас или немного позднее. Страх, владевший мной, исчез, и если б я наткнулся сейчас на немцев, то, не раздумывая, швырнул бы в них гранату.
Я плелся и плелся, а полю не было ни конца ни края: было оно такое же бесконечное, как и день, пылавший надо мной. Казалось, что после утреннего боя прошла целая вечность, что я уже неведомо сколько лет бреду в одиночестве. Время как будто застыло, уплотнилось в призрачной своей неподвижности, и я полз по нему издыхающей мухой.
Вечер застал меня все в той же пшенице. И когда солнце все же скрылось за горизонтом, а земля погрузилась в сумрак, я опустился на поле, вытянул измученное тело. Мне уже не хотелось пить, даже рука моя вроде стала меньше пылать огнем.
Зато хотелось спать. Никакая постель не казалась еще такой мягкой, как эта разогретая земля!
Но я не смел даже задремать. Не смел, не имел права, не мог! В левой ладони моей, под онемелыми пальцами, шевелилась граната. Она разбухала, она наливалась тяжестью, дозревая неминуемым взрывом. Металлический цилиндрик запальника неотступно и хищно следил за мной, чтобы при малейшей возможности выскользнуть из-под пальцев, выдернуть дужку, спустить боек. И я чувствовал, что он рано или поздно, а дождется своего: что могли значить мои пальцы в сравнении с металлом!
Все чаще мной овладевало желание размахнуться и зашвырнуть ее подальше-подальше. Пусть летит, пусть взрывается, пусть останется лишь страшным сном, что угнетал меня на протяжении бесконечно долгого дня. Но что-то было сильнее этого желания, и я знал, что буду нести ее, пока не пробьюсь…
Я вздрогнул. Я, кажется, задремал. Не заметил и сам, как прикрыл веки и провалился в сон…
Граната!!!
Даже не взглянув, почувствовал под ослабевшими пальцами выползающую дужку. Она освобождалась потихоньку и осторожно, она замирала каждый раз, когда я шевелился. Я сжал руку с такой силой, что из-под ногтей, казалось, брызнет кровь, и на мгновение замер, боясь вздохнуть. И только стучало сердце, подкидывая руку, что сжимала гранату.
Но вот наконец осмелился посмотреть. Глядел издалека, не решаясь поднести гранату к глазам, будто от того, что она взорвется у меня на груди, а не возле лица, могло что-то измениться. Цилиндрик заметно высунулся, но дужка, прихваченная двумя крайними пальцами, еще держалась.
Осторожно приподнял руку и, повернув гранату запальником книзу, стал давить им изо всех сил в грудь. Запальник не поддается, он сопротивляется, но я давлю и давлю — и чувствую наконец, как дужка начинает ползти под пальцами. Медленно, миллиметр за миллиметром, но все же отползает назад…
Лоб мой взмок от пота. Меня опять начала мучить жажда. Как будто эти жалкие капли высушили меня до конца. Вновь ожила раненая рука, стала гореть сплошным пламенем.
Со стоном поднялся. Собственно, это был даже не стон — стонать я уже был не в состоянии, — какой-то ржавый хрип вырывался из моей наболевшей груди.
Брел, запутываясь, выдираясь и снова запутываясь в густющей пшенице.
Есть ли еще что на свете, кроме пшеницы?
Не знаю, сколько прошел за ту ночь. Может, кружил по полю, как загнанный конь, а может, просто топтался на месте, но, когда стало светать, я все еще барахтался в пшенице. Не позволял себе остановиться, присесть хотя бы на минутку, знал: тогда больше уже не встану. Сразу же засну, и граната, которая только и ждет этого, вырвется из расслабленной ладони…
Чудо свершилось лишь тогда, когда на востоке высунулось из-за края земли солнце. Сперва и сам не понял, что же, собственно, произошло, — почувствовал вдруг, что стало легко идти.
Пшеница осталась позади. Ее будто отсекли гигантским ножом, она остановилась перед неширокой балкой, засеянной клевером. Клевер зеленел влажно и свежо, а дальше, там, где балка опускалась вниз, он был сизым от густой росы. Из последних сил, задыхаясь, все еще не веря, что это роса, я вяло побежал. Упал на колени, зарылся лицом в клевер, и меня сразу обдало влагой, и я застонал от невероятного наслаждения. Я ползал и ползал, купая лицо в росе, я хватал ее ртом, слизывал, омывал потресканные губы, отпивал с листков, промок до костей. Все время боялся, что вот-вот солнце взойдет выше и само выпьет всю росу.
Наконец я поднялся. И как только оторвал исступленный взгляд от мокрого клевера, сразу же заметил группу военных. Стояли они по ту сторону балки и молча смотрели на меня.
Меня как в грудь ударило. И хотя успел разглядеть, что это не немцы — свои, оцепенело стоял в клевере.
У того, который стоял впереди, на груди висел бинокль. Пристальным взглядом он подозрительно смотрел на меня, ощупывая на мне каждую складку. Вот его взор остановился на моей забинтованной руке, и глаза смягчились.
— Кто вы?
Я назвал свою часть: у меня вновь прорезался голос, хотя говорить было больно и тяжело.
Услыхав название «Садковцы», военные оживились, заговорили. Один из них быстро полез в планшет, достал и развернул карту, а тот, что с биноклем, все еще рассматривал меня.
— Что это у вас в руке?
Только теперь я вспомнил о гранате. Вспомнил и содрогнулся.
— Бросьте! Она вам больше не нужна.
— Не могу… Она без предохранителя…
Некоторые сразу же отступили от меня подальше.
— Зачем вы его выдернули?
— Это не я… Это капитан…
— Где ваш капитан?
— Застрелился…
Военные притихли. Тот, с биноклем, обернувшись, приказал:
— Лейтенант, заберите гранату! И отправьте его немедленно в санбат!
Ко мне подскочил лейтенант, почти мой одногодок. Лицо его светилось готовностью выполнить любое приказание своего командира.
— Отойдите только подальше!
Лейтенант пропустил меня вперед — видимо, стерег мою руку с гранатой.
За неглубокой балкой, где я ползал по росе, была еще одна, более глубокая балка, с крутыми изрезанными краями. Мы остановились над ней, и лейтенант скомандовал:
— Дайте сюда гранату!
Я протянул ему руку. Он с силой прижал блестящий цилиндрик и, побледнев, сказал почти шепотом:
— Пускайте…
Я попробовал развести пальцы, но они не слушались.
Они оцепенели, и как я ни напрягался, ничего не мог с ними поделать.
— Не могу! — сказал я с отчаянием: мне казалось, что граната прикипела ко мне навеки.
Тогда лейтенант начал сам разгибать мои пальцы. Друг за другом, по одному, пока не освободил гранату. Размахнулся, кинул, упал.
— Ложись!
Граната катилась по дну, подпрыгивая черным мячиком, а я стоял, не сознавая, что делать. И лишь после того, когда она взорвалась, и над головой моей прошуршали осколки, и лейтенант, вскочив на ноги, стал меня ругать, ноги мои подкосились, я сел прямо на землю.
Трясся всем телом и плакал.
Это были мои первые и последние за всю войну слезы.





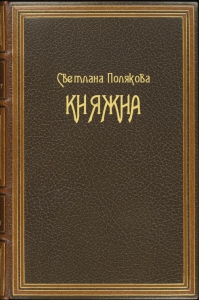

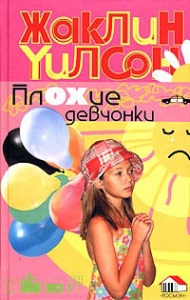




Комментарии к книге «Со щитом и на щите», Анатолий Андреевич Димаров
Всего 1 комментариев
Эрнесто
22 дек
Замечательная книга легендарного человека!