Моё появление на свет стоило жизни моей матери, и меня воспитывала бабушка. Отец записал меня именем бабушки Саши — Александр. То ли это случайно получилось — просто ему нравилось имя Саня, то ли потому, что он знал, что бабушке придётся воспитывать меня.
Получилось так, что бабушке пришлось возиться со мной ещё больше, чем мог думать отец и чем вообще кто-нибудь мог думать.
Когда началась война и отец ушёл на фронт, мне было семь лет, у нас не было ни одной рабочей карточки, только детская и иждивенческая, хотя смешно даже сказать, какая же бабушка иждивенка? Кто хочешь иждивенец, только не бабушка. Но уйти на работу и оставить мальца (это меня) одного дома она не могла, поэтому мы прожили войну без рабочей карточки. И когда вернулся наконец с фронта отец, то бабушка ему крепко-накрепко сказала, что ребёнок вырос без масла и без витаминов и что-то надо придумать.
Пока отец думал, тут как раз ему написал один фронтовой товарищ, дядя Николай, звал к себе: он жил в городе на море и работал на судоремонтном заводе. Отец очень сомневался, что же будет с московской квартирой, но бабушка сказала ему: «Что тебе дороже — квартира или ребёнок?», и ещё она ему сказала, что настоящий корабельщик должен ходить по палубе корабля, а не по конторским коридорам. И тут он решился.
Нам дали товарный вагон, мы в него погрузили все свои вещи и поехали.
В обычном нормальном пассажирском поезде надо ехать туда два дня, но мы ехали почти что целый месяц; на остановках отец бегал получать по карточкам, а бабушка — за водой и потом покупала лук и картошку, которые выносили продавать к поездам. Меня же не выпускали из вагона. Дело в том, что мы никогда не знали, сколько простоит наш состав, — в нём люди не ехали, в нём везли оборудование, мы были только одни люди во всём поезде. И нас даже один раз заперли на засов, когда мы спали, и мы целый день стучали-стучали, и никто нас не открывал, а потом наш стук услыхали нищие мальчишки, которых было очень много по всему пути, и сказали дорожникам, и нас открыли… А бабушка пригласила мальчишек в вагон и усадила вокруг печки (у нас в вагоне была своя печка-«буржуйка»), поставила перед ними кастрюлю с икрой из тушёного лука и дала каждому по куску хлеба.
Когда они поели и ушли, бабушка вздохнула и сказала мне:
— Видишь, тёзка, хорошо, что я у тебя есть, а то у отца всё время свои важные дела, и ты бы тоже вот так же шастал.
— Конечно, Буля, — сказал я (дело в том, что бабушку я никогда не называл бабушкой, а Булей. Сначала потому что не выговаривал «бабушка», а говорил «Буля», сокращённое от «бабули», а потом уже мы оба так привыкли, и она меня всегда называла «тёзка», а при отце — «ребёнок»), — конечно, Буля, — сказал я, — и хорошо, что я у тебя есть, хорошо, что мы друг у друга есть. Мы вдвоём никогда не пропадём.
Это было Булино выражение, она любила его повторять. И действительно, с Булей трудно было пропасть: она умела всё на свете и никогда не унывала. И всё равно мы чуть не пропали.
Дело в том, что Буля в первый раз в жизни (по крайней мере, в моей) растерялась. А всё произошло от того, что она представляла себе жизнь на море совсем другой, чем она была на самом деле. А когда мы приехали на место и всё увидели, то Буля, как говорится, только ахнула.
Наш состав загнали куда-то не туда, и дядя Николай никак не мог нас найти, и отец нервничал, а потом, наконец, прибежал дядя Николай, и они с отцом стали орать и ругаться — что за беспорядки, и куда это нас к чёртовой матери загнали, а потом дядя Николай вдруг остановился посреди ругани, да как засмеётся, и схватил отца за плечи и говорит:
— Что это мы с тобой, Леонтий, в самом деле, это всё ерунда, надо смотреть в корень. Давай, говорит, знакомь меня со своими чадами-домочадцами и бежим за машиной.
Бегали они очень долго, чуть ли не до вечера, и Буля уже начинала нервничать и сказала мне:
— Давай-ка, тёзка, выйдем с тобой на минуточку, посмотрим на город, не станут же воры в товарный вагон забираться.
Ну мы с Булей вышли, но встали у самого вокзала, чтобы отец нас сразу мог увидеть. Буля как посмотрела на этот город, так лицо у неё такое стало, как будто, по крайней мере, у неё карточки вытащили. Прямо напротив вокзала через площадь стояли три больших дома, то есть только скелеты от домов. И такие все чёрные. Единственно, что в них целого осталось — так это лестницы. И они всё насквозь были видны, и по ним мальчишки носились, в войну, конечно, играли. До нас через площадь доносилось: бах-ба-бах!
И Буля сразу стала такая скучная. А мимо шёл как раз какой-то морской офицер. Он остановился около Були и говорит:
— Что, гражданочка, смотрите? Да, это следы войны, с моря прямым попаданием.
Буля ничего не сказала и часто, часто заморгала. А я тогда спросил этого моряка:
— А до моря далеко?
— До моря? Да вот же оно, за вашими спинами.
Я обернулся и увидел, что за путями, за товарными вагонами торчат какие-то чёрные палки, и не понял, где же море. Я только подумал, а не спросил, а моряк мне ответил:
— Это мачты затопленных кораблей. Война, кругом война…
И в этот момент у нас над самым ухом грохнула весёлая музыка: «Путь далёкий до Типерери!..» Моряк засмеялся и сказал:
— А вот это уже не война. — И пошёл дальше.
Мы с Булей увидели, что, оказывается, перед нашим носом что-то вроде террасы, только без дома, а просто отдельная терраса. И там музыка играет, а туда заходят матросы под ручку с девушками, всё такие весёлые. И Буля говорит: «Это танцплощадка». И тоже повеселела и говорит мне: «Нечего, тёзка, нос вешать».
Тут как раз подошли отец и дядя Николай. Отец нам сказал, что с машиной загвоздка получилась, но Николай нас проводит до места — тут недалеко, а он останется с вещами, будет машину ждать. А дядя Николай добавил:
— Мы тут мобилизовали наших хлопцев, так что будет полный порядок, не беспокойтесь.
Мы пошли как раз мимо танцплощадки, и я увидел, что рядом с ней башня стоит такая, ну вроде кремлёвская, только без макушки и тоже разрушенная. Я спросил дядю Николая:
— Прямым попаданием?
— Да это ж старинная, можно сказать, историческая, её ещё генуэзцы строили. Ведь наш город когда-то в прошлом был генуэзским портом. Не проходили по истории?
Мы шли по узкой улице, прямо не улица, а коридор какой-то, заборы из камня, а дома внутри двора, их и не видно. Идём, идём. Вдруг забор поваленный, и во дворе бугор такой, весь забросанный землёй, да сухая трава торчит. Это, я теперь знал, тоже следы войны. Поднялись по улочке этой в горку, а дядя Николай встал, повернулся и говорит:
— Вот смотри-ка, отсюда город наш, как на ладони.
И правда, крыши, крыши черепичные, а дальше внизу, за путями — море, только оно совсем не синее, а серое, такое же точно, как небо, и даже не поймёшь, где море кончается, а небо начинается.
Нам дали комнату в красивом старом особняке. Наверно, раньше там жили какие-нибудь дворяне, но сейчас не позавидуешь — печки в комнате нет, только на кухне, да и то сложенная кое-как. Никак Буля не могла к ней приспособиться, а парового отопления, как в Москве, нет. Ну а в комнате камин с огромной такой дырищей — это пустой номер, дров на него нет. Буля их знает, эти камины — они, как драконы, ненасытны. Да ещё перед окнами деревья — солнышко загораживают. Такая сырюга — самое подходящее место, чтоб устроить питомник для мокриц.
И кто это придумал, что здесь зимы не бывает? Ветрище ледяной, а дождь как зарядит — уж лучше снег. Вот тебе и юг!
Прожить здесь без своего огорода и сада было просто невозможно. Правда, у нас появилась рабочая карточка, отцовская, но и есть ведь надо было отцу не то, что мне или Буле. Буля вообще ела очень мало, только чай пила, но зато чай ей был необходим больше, чем, например, отцу суп, а мне сахар.
В Москве-то хоть хорошо отоваривали карточки, и потом Буля меняла. То водку на масло, то папиросы на сахар. А здесь по карточкам ничегошеньки не давали, кроме тяжёлого, мокрого хлеба, которого четыреста граммов и не видно даже, а все местные жили с огородов; да ещё столько было всякого приезжего народа — они, наверное, так же, как и Буля, думали, что на море и рыба, и фрукты, и дров не надо. А дров-то ещё как надо было! Но их не было. Не было, и всё.
На отцовском заводе обещали дрова завезти, да всё никак не могли собраться: видно, не хотели из-за нас одних машину гонять. Ждали, когда дом заселится. В нашем доме должен был жить главный инженер и ещё кто-то.
Мы с Булей навели уют как умели, вот только лампочка у нас голая висела — наш московский абажур Буля уже давно обменяла мне на валенки. Но какой же может быть уют, если холод собачий? Я весь этот уют обменял бы на хорошую печечку, да ещё с полушубочком! Вот где рай-то!
Ну, Буля меня послала на разведку местности — выяснить, как аборигены решают дровяной вопрос. Мне же легче было, чем Буле, завести знакомство. Я зашёл в гости к мальчику, с которым мы познакомились на улице около нашего дома, и ещё заходил к другому, но ничего утешительного для нас я выяснить не мог. Насчёт дров здесь всегда-то туговато было, у местных жителей печечки понаставлены в комнатах: хоть соломинками топи — накаляются докрасна, и готовь на ней и грейся — душа радуется. Ну а с нашим-то дурацким камином да с печищей — нам надо, чтоб каждый день паровоз бы дрова подвозил.
Вот Буля и скисла. Я её такой, пожалуй, и не видел. Первый день мы без супа и без чаю спать легли, во второй тоже, на третий Буля у соседей кипяточком разжилась, а дальше-то что?
Ну я и говорю: «Всё, что мы с тобой, Буля, знаем и умеем, здесь не годится. Здесь надо всё по-новому, будто мы робинзоны».
Буля сидела, задумавшись, а тут словно её кто подтолкнул. Она вскочила с табуретки и помчалась, и на ходу говорит:
— Ты у меня, тёзка, просто Цицерон.
— Ну почему же, Буля, Цицерон?
— Соображаешь здорово!
Я ещё сообразить ничего не успел, а смотрю, Буля тащит какого-то мужика. Он в комнату вошёл, огляделся, к окну подошёл и сказал: «Сюда тягу сделаем». А Буля мне так хитро подмигнула.
А потом этот дядька ушёл и долго не приходил, а пришёл, таща на плече круглую чугунную печку, «буржуйку».
Ну и к вечеру у нас уже стояло главное украшение комнаты — чудо-печечка с длинной трубой, выходящей в форточку, а дядька ушёл от нас в парадном отцовском кителе.
— Ну, тёзка, вместе отвечать будем перед отцом.
— А мы, Буля, давай ему сейчас не скажем, зачем расстраивать трудящегося человека, зачем ему радость портить, потом как-нибудь.
Буля засмеялась и погрозила мне пальцем: «Ах ты хитрюга, и трусишка к тому же!»
Пока что будущее объяснение с отцом из-за кителя поблёкло перед радостями жизни. На печечке варился суп, распространяя аромат жаренного на лярде лука, а рядом притулился кофейник с кипяточком. Хорошо, что в наших вещах нашёлся алюминиевый кофейник, а то чайник не уставился бы вместе с кастрюлей на нашей игрушечной печечке.
На дрова пошли все наши упаковочные материалы: коробка из-под посуды, старые газеты, картонки, обёрточная бумага. Но всё это сгорало моментально и не разрешало дровяную проблему.
— Надо в подвале посмотреть, что-нибудь да найдётся, что горит; если и дров нет, то хоть хлам какой-нибудь, — сказала Буля.
Я спустился на пять ступенек вниз и толкнул подвальную дверь, но она была заперта. Я стал бухать в неё спиной, и дверь затрещала, а из кухни послышался сердитый Булин голос:
— Ты что же это делаешь, разбойник? Казённое имущество ломаешь, хочешь, чтоб нас отсюда выселили?
— Да ну, Буля, замок всё равно весь ржавый, не годится, ключом бы его не открыли.
Наконец, дверь подалась, и я влетел в подвал. На меня пахнуло запахом сырости, краски, прелой бумаги; в темноте я ничего не смог разобрать, но чувствовал под ногами шуршание большого количества толстой бумаги и сообщил Буле о первых трофеях:
— Кое-что есть, Буля, не зря дверь ломал.
В углу я наткнулся на какие-то ящики, составленные друг на дружку.
— Буля! — радостно закричал я. — Считай, что дровяная проблема решена, тут до черта ящиков!
Мои глаза привыкли к подвальному полумраку, и я увидел в углу кучу вещей, сваленных на полу в беспорядке.
— Буля! Буля! Скорее сюда. Что я нашёл! Здесь клад настоящий. Наверное, дворяне оставили.
— Какой ещё клад, какие ещё дворяне, — ворчала Буля, но тем не менее быстро спустилась ко мне.
— Посмотри, Буля, чего только тут нет! Настоящий клад!
Первое, что мне бросилось в глаза, — это была деревянная полированная люстра с матовыми светильниками-колпачками, и такой она мне показалась шикарной, что я решил: не иначе, как она украшала дворянский особняк, а когда случилась революция и дворяне бежали за море, они спрятали её в этом тайнике, чтоб потом воспользоваться ею — они ведь надеялись вернуться.
Я осторожно потянул люстру, чтоб не сломать стеклянных колпачков, и победно представил её во всей красе Буле.
— Эх ты, тёзка! Разве ж это дворянская люстра! Дворянские, они, знаешь, все из хрусталя или, может, даже позолоченные, а это крест какой-то деревянный. Его только мне на могилу водрузить. Знаешь, что это, тёзка? Тут немец, наверно, жил какой-нибудь начальственный, бежал, вот и не успел прихватить свои пожитки. Надо разобрать — может, чего и толковое осталось.
Буля оказалась права насчёт немца. Мы тут же в этом убедились. В куче хлама я нашёл увесистую короткую дубинку из резины с кожаной ручкой (такими дубинками, я знал, орудовали полицаи) и длинную финку в чёрном металлическом футляре. Только я распустил слюнки на эту финку, как Буля моментально конфисковала её в свою пользу.
— Ну, положим, это ты не получишь, это не игрушка.
Она вынула длинную острейшую финку из ножен, попробовала её на большой палец и удовлетворённо кивнула головой — хорошо будет капусту шинковать, а я только с завистью проводил её взглядом, когда финка убралась обратно в свой футляр, но спорить с Булей не посмел. Но зато меня ждало кое-что другое. Отбрасывая в стороны старые поломанные стулья и искалеченные электроплитки, я наткнулся на толстенный альбом в коричневом бархатном переплёте. Я думал, что это фотографии фрицев, открыл его на середине и ахнул про себя. Это был альбом с марками — толстенный, огромный альбом, и каждая страница заполнена аккуратно вставленными в гнёзда марками. Внешне я не показал своего восторга, даже не пискнул. В груди у меня захолонуло. Всё перестало для меня существовать. Я прижал альбом к груди и медленно, медленно бочком пошёл.
А Буля говорит:
— Что это ты затанцевал, будто конь на цирковой арене, а ну показывай, чего прячешь-то?
Я, так ни слова и не говоря, раскрыл обложку альбома, а на первой странице сплошной Гитлер идёт: всё заполнено, и всё портреты Гитлера — и на сером фоне, и на синем, и на коричневом. И Буля даже плюнула сгоряча и закричала:
— Брось это в печку!
А я и сам немного опешил от этого гитлерообилия, но всё же ответил Буле:
— Что ты, Буля, это же он только вначале идёт, а дальше… Марочки, может, таких и у испанского короля не было.
Столько у нас получилось всяких сюрпризов, что когда пришёл с работы отец, он прямо обалдел: и печка, и суп, и чай, и тепло, и альбом с марками, и деревянная люстра висит. И мы всё-таки сразу сказали ему про китель, но он ни капельки не ругался, махнул рукой и сказал:
— Всё равно надо будет штатский костюм шить.
Было тепло и уютно, и мы с отцом здорово объелись супом, так что было трудновато дышать, и сидели за столом, и я ему показывал марки. Я видел, что отца не очень-то интересовали марки, и он сказал мне:
— Знаешь, ведь дядя Николай, ну, который нас встречал, он марки собирает и даже на фронте возил с собой маленький альбомчик. Это очень хорошее, познавательное занятие, мы пойдём к нему, он тебе всё объяснит, чтоб было на научной основе.
Отец сидел и листал мой альбом, и я видел, что он смотрит так, из вежливости, и ещё потому, чтоб меня воспитывать. Так листал он, листал страницы и набрёл на такую: сплошь корабли. Ну и марочки! Испанские марки — это такая редкость, с колумбовскими каравеллами, и тут, я заметил, у отца стал совсем другой взгляд. И не потому совсем, что это редкие испанские марки, и не потому, что это колумбовские каравеллы, а потому, что это корабли.
Отец вздохнул и сказал:
— Сколько ненужной пышности, сколько всяких красот, а тонули как…
Отец не договорил, а я понял ещё одно: отец смотрит на колумбовские корабли, а думает о своих — о тех, которые лежат и ржавеют на дне моря, потопленные фрицами, и ждут, когда он их вытащит. Вытащить — это ещё что, это ещё полдела, а надо, чтобы они стали снова новенькими и более надёжными, чем колумбовские каравеллы. И тогда я сказал:
— Папа, а меня возьмёшь на свой завод?
Отец как будто проснулся и ответил мне раздражённо:
— Эх, Александр, тебе бы всё в игры играть, а ты вот учись давай да бабушке помогай, это будет лучше…
Отец это сказал так просто, потому что не знал ещё, как у него будет на этом самом заводе. А то, что я бабушке всегда помогал, он знал это прекрасно. Даже не помогал вовсе, а просто мы с ней делали всегда всё вместе, так уж у нас жизнь пошла с самого начала…
Утром, как только отец ушёл на свой завод, Буля стала запихивать что-то в нашу большую дерматиновую старую хозяйственную сумку. Всё ясно; Буля отправляется менять. Я посмотрел на неё вопросительно — в Москве Буля никогда не брала меня с собой на рынок, она всегда мне говорила: «Этот опыт тебе в жизни не пригодится…» Но тут Буля кивнула мне и сказала:
— Живо пей чай, тёзка, пойдём вместе.
Идти до рынка было, по-моему, дальше, чем Колумбу плыть до своей Америки. По крайней мере, он хоть не пешком тащился. Мы тоже могли бы не идти пешком, но когда мы увидели, что делается на автобусной остановке… Штурм Бастилии — это детские игрушки по сравнению со штурмом автобуса номер «три», следующего рейсом: Порт — Центральный рынок. И мне было вполне понятно, что скрывалось за Булиными словами: не хочу ли я пройтись пешочком, а заодно и город посмотреть?
Ужасно был унылый этот город, в котором нам предстояло жить, не знаю сколько времени. Мы шли по узкой улице всё вверх. Колючий ветер обдирал лицо как наждачной бумагой, а иногда чуть с ног не валил. Мы с Булей вдвоём тащили сумку, а когда останавливались отдохнуть, я переворачивался и смотрел на море. И что, в самом деле, особенного находили в нём люди, и притом не глупые, всякие там поэты или художники, ну хоть Айвазовский! На нас с Булей, по крайней мере, оно только тоску наводило: грязно-серое, да ещё эти торчащие чёрные палки…
На рынке было очень шумно и было очень много народа. Чего только не продавали! Маленьких кудрявых барашков, ужасно симпатичных; тут же наливали в стаканы вино из огромных бутылей. Но меня мой верный, никогда не ошибающийся нос точно повёл в правый угол большой площади. Там на огромном треножнике была водружена такой величины сковорода, что, ей-богу, можно было зажарить любого, самого толстого барана. Над сковородой стоял густой, едкий чад, и сквозь него проглядывало улыбающееся лицо.
— Эй, бабуся, подходи бери, не жалей для внука, вон он какой у тебя тощий. Если не понравится, деньги твои назад верну…
— Почём твои пирожки с собачиной?
— Мои замечательные чебуреки с молодой баранинкой, бабуся, десять рублей за штуку.
— На какой площади поймал ты свою молодую баранинку, не из этой ли компании?
Рядом лежала свора худющих собак, вдыхающих без всякой надежды божественный аромат чебуреков.
— Говорю тебе, бабуся, мои чебуреки из замечательной молодой баранины, а собаки нынче так тощи да так вёртки, что смысла нет их ловить, легче барашка откормить, трава не покупная.
Я помимо воли сжимал Булину руку, а продавец чебуреков, видя бабушкину нерешительность, сказал:
— Только для тебя, бабуся, для твоего внучонка, отдаю за восемь рублей. Очень уж ему хочется попробовать моих чебуреков.
И это была правда. Тут уж никуда не денешься, и всё это знали. Знал продавец чебуреков, знал я, и знала Буля, и она решилась. Поставила нашу хозяйственную сумку и, вытащив из какого-то таинственного кармана кошелёк, отсчитала деньги, а я получил самый хрустящий, самый душистый, самый замечательный чебурек.
Пока я наслаждался чебуреком, Буля разговаривала с какими-то женщинами, две из них подошли с ней ко мне, и Буля расстегнула сумку и стала с трудом вытягивать из неё огромный свёрток.
— Ну-ка, тёзка, помоги мне.
Я рывком вытащил из сумки свёрток и тут увидел, что это Булино пальто, замечательное Булино ещё довоенное коричневое пальто с коричневым меховым воротником. Единственная хорошая вещь, которая у нас осталась.
— Буля, ни за что! — Я вцепился в пальто жирными от чебуреков руками и так посмотрел на подошедших женщин, что они попятились.
Буля спокойно положила руку мне на плечо:
— Ну подумай сам, тёзка, подумай спокойно. Москва — одно, а здесь к чему мне оно? Куда ходить в таком шике? Всё равно на второй день в автобусе обдерут. Да и потом в Москве — там я глава семьи была, ну и нужно было фамильную честь держать, а здесь перед кем мне фасонить?
Я понимал справедливость Булиных слов, но всё-таки не выпускал из рук пальто! Когда мы выходили из дому, я даже не обратил внимания, во что была одета Буля, а сейчас я прямо не мог на неё смотреть, такой она мне казалась жалкой в своём стареньком серо-буро-малиновом жакете. Всё-таки я выпустил, в конце концов, пальто и отвернулся к собакам, не хотел я смотреть, как Булино пальто мерила чужая женщина. Наконец Буля меня весело окликнула, и мы двинулись в обратный путь. Наша большая дерматиновая сумка доверху была набита вяленым судаком…
Как-то через несколько дней отец взял меня с собой на завод. Я ожидал увидеть большие кирпичные корпуса, высокие дымящиеся трубы и был не то что разочарован, а просто-таки сбит с панталыку, когда увидел, что весь папин завод — это несколько больших сараев на самом берегу моря. Я, конечно, ничего не сказал отцу. Я же не маленький и прекрасно понимал, что отца и так мучает, как же они будут чинить корабли. Но отец увидел всё-таки мою растерянность и сказал мне:
— Ты не смотри, что пока тут ничего нет. Главное — люди, а люди у нас есть, и ещё какие! Один дядя Николай чего стоит!
И тут как раз к нам навстречу идёт дядя Николай с какой-то высокой женщиной в комбинезоне.
Дядя Николай такой симпатичный, загорелый, и глаза весёлые.
— Знакомься, Лёня, — говорит он отцу, — это Ксения Ивановна — наш командир, то есть, бишь, председатель профкома, у нас с ней до тебя важное дело есть. Мы тут с Ксенией Ивановной толковали и решили тебя переселить на природу. А ты как к природе относишься?
Отец только глазами моргал — так его дядя Николай в клещи взял, отцу ничего и сказать не дал, пока все козыри не выложил:
— Знаешь, какое дело, тут ещё до войны завод участки давал, ну вроде дачи, что ли. И вот один размахал себе дворец такой, да не пришлось ему в нём пожить, погиб под Керчью, и родственников никаких не обнаружилось. Ну это и отошло в собственность завода. Завод ссуду давал на строительство. Вот местком решил тебе этот дом выделить, поскольку у тебя сын; ну и вообще, все здесь устроены-пристроены, а ты так долго не протянешь с семьёй, а там и огород, можно и яблони…
— Погоди, Николай, погоди, дай мне сообразить.
— Да чего ж там соображать, я тебя вытащил сюда не на погибель же, давай слетай туда да решай. Туда рабочий автобус ходит, там наши многие живут.
— Да мне надо с тёщей посоветоваться, она у меня командир.
— Чего там советоваться, дело стоящее. Сегодня же надо провести это дело на завкоме…
Когда я вернулся домой и всё рассказал Буле, она только и сказала: «Печку берём с собой, так я им и оставила». «Им» — это, наверное, мокрицам, потому что никого больше в доме не было.
* * *
Нам дали дом самый последний в посёлке, на горе, а если с горы спуститься, то сразу — море, а с другой стороны — горы. Вы бы посмотрели, что это за дом! Мне он сразу показался парусником: такой вытянутый, фанера, как паруса, а терраса недостроенная — ну точь-в-точь как капитанский мостик.
А Буля как только увидала этот дом, так сразу и окрестила:
— «Приют пиратов».
— Нет, Буля, парусник.
— Какой, прости господи, парусник! Настоящий «Приют пиратов», спьяну сколотили: дверь не на ту сторону вывели, а окошко вовсе забыли, и стенку лишнюю поставили, и место такое на отшибе, как раз для пиратов — товар краденый прятать.
— Ну, Буля, что ты выдумываешь?
Тут и отец обиделся:
— На вас, Александра Васильевна, не угодишь: отдельный дом дали бесплатно — попробуйте получите! И участок, можно огород разводить.
— А кто тебе сказал, что я недовольна? Очень довольна! Но вот насчёт огорода, это у нас тут вряд ли что получится — вода вся будет катиться с горы, попробуй натаскайся!
— Да, это я не учёл, — сказал отец, — ну что ж, дарёному коню в зубы не смотрят!
Так с лёгкой Булиной руки наш дом стал называться «Приют пиратов». Буле так понравилось это название, что она взяла кусок картонки и написала на нём: «Приют пиратов» — и нарисовала страшного пирата с завязанным глазом, а сверху и по бокам украсила вывеску гирляндами цветов и прицепила над дверью. По поводу этой вывески у нас с Булей произошли разногласия. Я ни за что не соглашался на цветы.
— Сюда надо череп со скрещёнными костями, а сюда — кривой нож.
— Ещё чего! — возмущалась Буля. — Хватит с меня этой страшной пиратской рожи, чтоб я портила себе нервы, ещё любуясь на череп с костями! Лучше мой глаз будет отдыхать на цветах!
— Ну, Буля, при чём же здесь цветы? Скажи на милость, зачем пиратам цветы?
— Пиратам, может, они и не нужны, зато мне нужны, — проговорила Буля тоном, не терпящим возражений, и я вынужден был согласиться, так как сам рисовать не умел.
Буля же, я забыл это сказать, рисовала очень хорошо и даже в войну подрабатывала тем, что делала вышивки по своим рисункам. Только передвижники не взяли бы её в свою компанию, потому что она никак не могла понять, сколько я ей ни объяснял, что нельзя на одном рисунке, например, рисовать букет георгинов и корову, да ещё георгин у неё получался с корову; или нарисует корзину с цветами, а рядом дом такого же размера.
— Буля, а где же у тебя перспектива?
— А плевать я хотела на твою перспективу, вот захотелось мне нарисовать домик — как приятно было бы жить в таком домике!
И в нашем доме, в нашем «Приюте пиратов», было жить приятно. Совсем не то, что в питомнике для мокриц. Жизнь в «Приюте пиратов» пошла совсем другая, весёлая пошла жизнь.
Никаких таких богатств не было у нас и в «Приюте пиратов», а проще сказать, ничегошеньки у нас не было. Правда, мы привезли с собой из города нашу печечку, и здесь к тому же оказалась прекрасная русская печка. Но топить, как и в городе, было нечем.
Вещи все мы уже поменяли давно, по карточкам только и давали что хлеб, а ещё у нас всего-навсего была сумка вяленого судака да немного толчёной кукурузы. Да и дом-то наш, наш «Приют пиратов», весь был разодранный, раздёрганный. Стёкол в окнах не было, это уж конечно, да и крыша-то текла, хорошо хоть дожди тут редко, и печку пришлось Буле чинить и ступеньки, да мало ли ещё чего. А всё равно, хоть убей, здорово нам было в этом доме. Как с первой минуты пошло, так и не останавливалось. Всё нам нравилось с Булей: и то, что наш дом на самом краю обрыва стоит, а внизу море, и то, что горы рукой подать, и то, что наш «Приют пиратов» совсем не похож на другие дома в посёлке. И заботы-то все для нас с Булей были как будто не всерьёз. С самой этой вывески всё пошло так, как будто мы с Булей в игру играем. Между прочим, пиратская вывеска дорого нам с Булей стоила.
Вечером приехал с работы отец (на наше несчастье, темнеть уже стало поздно) и увидел на доме этот самый «Приют пиратов». Что тут началось! Кофе и какао, и детский визг на лужайке! Досталось и мне и Буле!
Я оболтус и стоеросовая дубина. Вместо того чтобы учиться… И тут нам нечем было крыть, потому что мы уж неделю как переехали, а я ещё не пошёл в школу. На Булю же он, конечно, не говорил «оболтус» или «стоеросовая дубина», он вообще Булю очень уважал и, кроме того, никогда не забывал, что она «выходила ребёнка», но он здорово рассердился:
— Я просто удивляюсь вам, Александра Васильевна, вы такая умная женщина и поддаётесь всеобщей эпидемии бабушек: балуете внука. Вы же видите, что я работаю день и ночь, мне некогда следить за сыном. Почему же вы не проследили, чтоб он сразу записался в школу, а вместо этого занимаетесь с ним всякой чепухой? Что это за идиотский «Приют пиратов»?! Что скажут соседи! Чему вы учите ребёнка? В конце концов это знаете чем пахнет?
Тут взорвалась Буля. Пока разговор шёл о школе, она молчала, она была справедливая, и тут мы с ней явно дали маху, но с «Приютом пиратов» она не стерпела.
— Ну, Леонтий, ты превращаешься в старую бабу! Да какое тебе дело, что скажут люди и чем это пахнет! Ну чем это пахнет? А я могу тебе сказать! Если бы мы с Александром не умели многое оборачивать в шутку, то мы бы не выжили в войну, и у тебя бы не было сейчас ребёнка.
Тут замолчал отец, и Булин гнев тоже сразу прекратился: она увидела, что задела больную струнку (когда говорили что-нибудь такое, отец сразу вспоминал о матери). Отец встал и начал заводить будильник, а Буля тоже встала и стала заваривать чай — видно, ей хотелось успокоиться.
Так или иначе, мне было ясно, что завтра я иду в школу. Я тоже встал и без энтузиазма достал портфель, вытряхнул всё, что в нём лежало, на кровать и стал перебирать каждую вещичку — и марки, и значки, и тетрадки. Новых тетрадей не оказалось, я выбрал тетради, где были исписаны только один-два первых листа, и выдрал их: мне хотелось в новой школе начать новую жизнь. К чему тянуть за собой хвост старых грехов, разве новых не будет?
Сложив всё в портфель, я вышел к Буле на кухню: произвести разведку — удастся ли чего-нибудь схватить пожевать. И тут я увидел, что Буля не одна. На табуретке у стола сидела какая-то женщина, а на краю стола стояло два котелка — один с картошкой, один с яблоками. Я сразу оценил это существенное пополнение в наших боевых припасах и сразу же проникся симпатией к этой незнакомой женщине, так как понял, что это принесла она, зачем и почему — не знаю, но она.
Я перекинулся взглядом с Булей, и мы поняли друг друга, и она сказала:
— Вот это мой внук Саня, а это наша соседка, тётя Вера. Видишь, она нам какой подарок принесла на новоселье.
Надо сказать, что картошка — ужасная редкость в этих краях, она здесь плохо растёт, и для нас этот подарок тёти Веры был особенно ценным. Ведь картошка — это самая наша с Булей любимая еда, а мы её давно уже не видели.
На следующее утро Буля разбудила меня чуть свет, и у неё уже была готова варёная картошка. Я, обжигая пальцы, в нетерпении чистил крупную продолговатую прекрасную картофелину и, подмигнув Буле, сказал:
— Ну что, живём — не тужим, а?
У Були вдруг, непонятно почему, сделалось сердитое лицо, и она пробурчала:
— Учти, больше картошки не получишь, не думай о ней и не мечтай!
Я что-то ничего не мог понять и даже ничего не стал спрашивать. Но спрашивать было и не нужно. Уже весёлым голосом Буля сказала:
— Знаешь, что мы сделаем с этой картошкой?
Я только молча смотрел на Булю.
— Мы её посадим!
И Буля возбуждённо схватила сырую картофелину и с азартом почти что закричала: «Ты только посмотри, тёзка, какая замечательная картошка, ведь это синеглазка, самый лучший сорт, но не в этом дело! Ты видишь, сколько у неё глазков и какие они мощные? Я уж всё утро изучала её. Ты представляешь, у нас будет целый огород картошки! Ты это понимаешь?» А я сказал: «Вот видишь, Буля», как будто бы эта идея пришла мне.
Мне надо было уже идти в школу. Буля наворотила мне с собой целый свёрток. Я отказывался.
— Не надо, Буля, я приду — буду обедать.
— Бери, бери, — сказала Буля. — Все на большой перемене будут завтракать, а ты будешь в рот смотреть!
Отец уже уехал с рабочим автобусом. Я вышел из дому. Ещё семи не было. Слева над морем, как раз напротив нашего дома, вставало солнце, но оно всё было закрыто белым туманом и выглядело как желток в яичнице-глазунье. Я уж говорил, что наш дом стоял почти на самом обрыве, а под ним — море. Я подошёл к самому краю обрыва — подо мной был сплошной белый туман, море как будто заложено белой ватой, и из-за этого казалось, что оно далеко-далеко внизу, а посёлок тоже был не виден из-за тумана и даже наш дом; и мне уже не казалось, что это вата, мне казалось, что я стою на вершине мира, а подо мной небо, а под ним море и посёлок, и море как будто там, далеко внизу. Это было здорово. Так ещё никогда не было.
Но уже пора было идти в школу, и я пошёл по дороге, повернувшись спиной к морю.
Разговор с завучем был без всяких штучек. И вот я уже сижу в 6-м классе, ни «А», ни «Б», а просто в 6-м, потому что здесь всего один шестой класс, не то что в Москве. Я там учился в «Г», а в городе в «Б», а здесь мы учимся вместе с девчонками, потому что не только один шестой, но вообще одна школа в посёлке.
День прошёл ничего себе. На перемене все ели такие же завтраки, как и я, — хлеб с яблоками (как только Буля угадала!). А после большой перемены была химия, и химичка Аннушка (вообще-то Анна Константиновна), классный руководитель нашего класса, спросила, кто я и что, и откуда приехал, и кто у меня родители, и потом сказала, что сейчас у многих ребят только по одному родителю.
А Надька Кочкина, с которой меня посадили, стала мне на ухо шептать песенку, которую они сочинили про химичку Аннушку, и я прыснул со смеху, а химичка так странно посмотрела на меня и пробурчала под нос: «Что он нашёл здесь смешного?»
Да ведь она не слышала, что Надька Кочкина в это время напевала мне частушку:
А химичка в кабинете Кушает кислоты, А у Нинки-старосты Новенькие боты.Последний урок был история. Историк опоздал. Вошёл он, сильно хромая на одну ногу, и потому, что шёл очень быстро, получалось, как будто он пританцовывал, но никто не хихикал. Пал Палыч потерял ногу на фронте, и у него был протез.
Пал Палыч мне понравился, да, видно, и ребята его любили: он рассказывал о всяких исторических личностях, как о своих знакомых — к одним он хорошо относился, других презирал, а были такие, которых ненавидел.
После объяснения урока Пал Палыч вдруг сказал:
— Новенький, расскажи нам о себе.
Я так растерялся — уж больно быстро он перескочил от Жанны д’Арк ко мне, и я начал вякать и мякать, а Пал Палыч вдруг перебил меня и сказал:
— Ну, потом расскажешь о себе, а сейчас я тебе о нас расскажу.
Я уж совсем обалдел. Больно уж непохож на других учителей Пал Палыч, но мне понравилось.
— Ты знаешь, Кубов, где ты сейчас живёшь?
— В посёлке Морское, кажется.
— И больше ты ничего не знаешь о Морском, кроме того, что он называется «Морское» и расположен на берегу моря? А ты знаешь, что Морское — это музей.
— Я и не знал, что здесь есть музей.
— Да нет. Ты меня не так понял. Всё Морское — музей, даже весь Крым. Нет второго такого места на земле, где бы столько народов оставили следы своего пребывания. Скифы, сарматы, аланы, гунны, греки, итальянцы, армяне, русы.
Человек не может быть культурным, человек не может ничего создать, если он не знает прошлое, не относится к нему с уважением.
Если ты пройдёшь с этой мыслью по земле, где ты сейчас живёшь, по земле Крыма, и небезразличным глазом всмотришься в неё, то увидишь историю целых народов, некогда могущественных, ушедших в прошлое. Ты уж, наверное, видел в городе остатки генуэзской башни, а у нас ведь есть целая большая генуэзская крепость, и историки говорят, что это самый лучший памятник средневековья во всей Европе. А в лесу ты можешь встретить обомшелые развалины крепости или монастыря и подумаешь: когда-то здесь была жизнь. Может быть, даже у себя в огороде ты найдёшь обломок амфоры, может быть, даже столетия сохранили на нём отпечатки пальцев слепившего её гончара. Не брось безразлично этот обломок. Бережно храни, собирай, мысли. Ведь каждая находка, даже маленькая, поможет нам узнать что-то новое о прошлом.
Я так слушал Пал Палыча, как, наверно, никогда в жизни не слушал никакого учителя…
* * *
После школы я вспомнил, как хорошо было утром на море, и решил сделать небольшой крюк, чтоб пройти к дому берегом моря. Действительно, здорово было сегодня на море! Что-то я и не замечал, какое оно синее и выпуклое, а может быть, потому, что сегодня первый такой жаркий день, и утренний туман совсем исчез, солнце печёт будь здоров. Я снял пальто, хотелось снять ботинки и пройтись босиком по песочку, да тащить в руках не хотелось.
Так я шёл себе, как вдруг меня догоняет одна девчонка из нашего класса — она сидит на задней парте, я её заметил ещё в классе, — непохожая на других: молчаливая, длинная, худая-прехудая, а глаза такие синие-синие, как сегодняшнее море.
— Ну, как тебе Гай Гракх?
— Это что ещё за Гай Гракх?
— Да наш историк.
— Он же Пал Палыч!
— Пал Палыч, но мы его ещё и Гаем Гракхом зовём с прошлого года, когда древний мир проходили. Правда, мировой?
— Железный. А ты здесь тоже живёшь?
— Я совсем не здесь. Я — в горах. Наша деревня самая последняя, а там уже начинается заповедник. И дом у нас последний.
— А что ж ты здесь ходишь? Клад, наверно, генуэзский хочешь найти. Небось историк ваш заразил всех этими самыми генуэзцами!
— А ты не смейся! Клад у нас здесь очень даже просто найти, и находили сто раз. Вот огород копают, вдруг раз тебе — и клад.
— Знаешь, а я тоже клад нашёл, ещё когда мы в городе жили. Самый настоящий, только не генуэзский, а немецкий. Фриц один сбежал и оставил.
— Ну, немецкий я бы даром не взяла, не нужно мне фрицевское добро. Да вообще я кладами не увлекаюсь. Я камни собираю на море. И в горах тоже, но на море лучше, гладенькие, они горят больше.
И она достала из кармана фартука (она была уже по-летнему одета — в одной форме, а я, как дурак, пальто тащил) горсть камушков и протянула на ладони. Камушки были круглые, гладкие, как будто отточенные, совершенно прозрачные и горели голубоватым огнём. Я так и поверил, что это она нашла сама!
— Ну уж, ну уж! Так я и поверил. У матери небось бусы утянула.
Она презрительно фыркнула и убрала камушки обратно в карман.
— Понимал бы что-нибудь! Да если хочешь знать, это самые плохие, и их здесь полно, глаза бы имел на лбу, а не на макушке.
Она остановилась, и я остановился тоже, и она словно впилась глазами в подбегающую к нам волну. И мы так стояли и смотрели, как дураки. И я уже хотел плюнуть и уйти — я думал, что она меня разыгрывает, — как вдруг увидел в воде ослепительное голубое сияние. Я заорал благим матом и бросился, как есть, в ботинках и не засучив форменных брюк, в воду и, как коршун цыплёнка, схватил в кулак это голубое сияние.
— Эх, что там твои камни, вот у меня — это да!
— А ты посмотри, что у тебя, да никогда не смотри над волной, а то, если уронишь, море второй раз не отдаст.
И она потянула меня за рукав дальше на песок, и я с замиранием сердца разжал онемевшие пальцы и увидел у себя на ладони большой мутноватый жёлто-белый камень. Я чуть не заплакал от обиды, бросился к воде, но она меня остановила:
— Нет, это тот самый, просто он в воде так сиял, это — халцедон. Вот я собираю маленькие, они прозрачнее, и поэтому в них голубой свет не только в воде. Но ты не бросай его… Возьми. Смотри, как надо… — Она осторожно разжала мои пальцы, взяла камень и потёрла его о свою щёку, и камень заблестел почти так же, как в воде.
— Что ты с ним сделала, — закричал я, — ты колдунья, что ли?
Она засмеялась и закружилась по песку, размахивая портфелем.
Мы уже дошли до того места, где мне надо было подниматься к себе домой, и я, небрежно кивнув ей: «Гуд бай!» — полез по тропинке на обрыв, как вдруг остановился и закричал:
— Эй! Как тебя зовут?
— Меня?
Она сделала шага два назад и сказала:
— Джоанна.
— Джоанна? Такого и имени-то нет, ты что?!
— Нет?! Ну, ты серость! Ты что же, не читал «Джека-Соломинку»?
— Ну, знаешь, я уже вышел из того возраста, — это про уголёк и соломинку, что ли?
— Эх ты, тундра, а ещё москвич! Придумал! Уголёк и соломинка! Сразу видно, что ты не открывал историю дальше заданного. Слыхал про восстание Уотта Тайлера? Джек-Соломинка был один из его помощников, а Джоанна была его невеста. Хочешь, принесу книжку?
— Тащи. Давай завтра в школу.
И я полез на обрыв и долез уже до самого верха, а потом снова оглянулся и закричал что есть мочи:
— Эге-ге-гей! Джоанна! Салют, камарадос!
Только я взлетел на гору, как носом к носу столкнулся с Булей. Она стояла на нашем обрыве с ведром и чайником, и я схватил из Булиных рук ведро и чайник, отдал ей портфель и побежал к почте, около которой находился единственный в посёлке колодец.
— Буля, пошамать есть? Давай к боевой готовности!
— Что-то ты уж больно весёлый. Или так весело воду таскать?
— А чего! Думаешь, тяжело, что ли? Ни капельки!
Я поставил воду. Буля уже накрывала на стол, а я, в нетерпении принюхиваясь к запахам, спросил:
— Что на обед сегодня?
— «Что-что»! Суп из манных круп, на второе толчёный рябчик! Что дадут, то и будешь есть.
Буля поставила на стол кастрюлю. На обед был суп из кукурузы, заправленный жареным луком.
— Буля, а чай с чем?
— С та́ком.
— Ну, Буля, что-нибудь сладенькое?
— Ещё не выросло. Вот посадим с тобой, вырастет — осенью будет сладенькое.
— Ну, Буля, хоть вприглядочку достань кусочек сахара.
Буля, ворча себе под нос, открыла железную чайную коробочку с двумя крышками и достала оттуда кусочек сахара, примерно, с ноготь моего мизинца. Это богатство, мелко наколотое щипчиками, было привезено ещё из Москвы, и, конечно, это были остаточки Булиной доли…
Потом дотемна я ходил к колодцу и обратно — таскал воду, а Буля копала грядки, вытаскивала корни и рыхлила землю, и только уже поздно вечером я сел за уроки. Буля зажгла фитилёк на моём любимом подсолнечном масле, и я первым делом пролистал «Средние века» и прочёл про восстание Уотта Тайлера. Про Джоанну там не было сказано ни слова.
На следующий день я только и думал, как напомнить Джоанне про книгу, да не решался при всём классе подойти к ней. Но это и не понадобилось. Джоанна, подойдя со своей «Камчатки», положила мне на парту потрёпанную книжку, завёрнутую в газету. Любопытная Надька Кочкина тут же выставила ушки на макушку — что ещё за книжка? — и цап своей ручищей за книжку, а я цап сверху.
— Свои ручки держите при себе, мисс, если они дороги вам как память!..
И я слегка сжал ей запястье, так что она запищала.
На следующем же уроке я начал читать так, что учительница даже и ухом не повела; у нас в Москве эта система разработана железно: книга под партой, и в щёлочку между откидной доской и партой прекрасно видна одна строчка — прочтёшь, и поехали дальше. Этот метод был нов не только для здешних учителей, но и для ребят, и когда Надька Кочкина раскусила наконец, она растрезвонила всему классу. И на следующем уроке (как раз был английский) весь класс поголовно упражнялся в новом методе, причём некоторые за неимением художественной литературы читали учебник.
— Нет, вы сегодня определённо какие-то не такие, — сказала нам англичанка, когда пятый или шестой спрашиваемый попросил повторить вопрос.
Но это всё ерунда…
* * *
…Вся эта весна для нас с Булей прошла однообразно: я, как заведённый, ходил от дома к почте, от почты опять к дому, таскал воду уже не в ведре и чайнике, а в двух вёдрах, а Буля ползала по-пластунски по огороду, то разрыхляя, то поливая. Но у меня было такое впечатление, что всё это зря — я только не хотел огорчать Булю, — потому что на нашей горке вода тут же сползала вниз и земля высыхала прямо на глазах.
— Знаешь, Буля, пожалуй, я последую примеру Фархада и продолблю в горах канал прямо к нашему огороду. А есть и другой способ: сделать огород террасами по примеру японцев.
— Есть ещё и третья возможность, — сказала Буля, — попридержать язычок и работать.
Изредка я выкраивал полчасика, чтобы спуститься с обрыва и побродить вдоль моря. Иногда я встречал Джоанну, и мы ходили вместе и искали камни. За это время я многое узнал о камнях: узнал, что так поразившие меня прозрачные халцедоны — лишь бледные братья царственных сердоликов. И я научился видеть камни не тогда, когда они блестят в воде ослепительным блеском, а когда они на берегу среди других камней, часто покрытые грязью и пылью, и сияние их спрятано, только угадываешь его чуть-чуть внутри.
Один раз шли мы с Джоанной, почти не разговаривая, шли себе и шли. Джоанна время от времени наклонялась и поднимала камушек, вытирала его сначала об рукав, а потом об щёку и показывала мне. Я не собирал камней, у меня было какое-то странное настроение: казалось, что вот-вот сейчас я найду что-то такое необычайное, такое невиданное и неслыханное, и даже внутри как будто звучал какой-то марш, точь-в-точь как бывает в кино, когда что-то должно случиться и по музыке ясно, что вот-вот должно случиться, а что — неизвестно. И несколько раз у меня ёкало сердце, казалось — вот этот не виданный никем камень; но это оказывался мокрый булыжник, в котором мне почудилось внутреннее сияние, или кусок обкатанного стекла. А когда я, наконец, увидал его — этот невиданный камень, я так спокойно наклонился за ним, как будто поднимаю какую-нибудь плоскую гальку, чтобы пустить блин. Я поднял его, и зажал в ладони, и немного подождал, когда, сердце водворится на место…
Да, это был невиданный камень — сердолик, побольше, чем пятак, и был он формы сердца, но только был не одного цвета: сверху он был нежно-розовый, а потом этот цвет густел, густел, а снизу такого красного цвета, как загустелая кровь, и сверху он был совсем прозрачный, а внизу густой такой, и в нём как будто внутри горел свет. А Джоанна только посмотрела на меня, помолчала, а потом сказала:
— Ты какой-то не такой. Почему ты молчишь? Я бы кричала, и бегала по всему берегу, и прыгала на одной ноге, а ты молчишь.
— А знаешь, почему я молчу?
— Ну?
— Я знал, что найду сегодня что-нибудь такое.
И Джоанна не удивилась, она сказала:
— Я это знаю. И вообще верю в то, что находишь такое, когда ждёшь этого, а если не ждёшь, то и не найдёшь. А знаешь, я думаю: когда очень ждёшь, глаз становится другим, к нему, наверно, витамины приливают. Знаешь, если очень хочется, можно увидеть сквозь.
Тогда я не задумался над словами Джоанны, а потом вспомнил про них.
Мне надо было уже возвращаться домой, к нашему с Булей огороду, а Джоанна побежала к своим кроликам.
* * *
Вскоре на нашем огороде стало появляться кое-что: вылезли кругленькие первые листочки редиски, но я это приписываю не столько нашему труду, сколько тому, что у Були зелёная рука. Это уж известно: всё, что она ткнёт в землю, у неё начинает расти и цвести, когда у другого, хоть лопни, ничего не получится. Буля в Москве во время войны умудрялась не только целый сад на подоконнике развести, но и опытный участок (у нас даже были огурцы), и мы его называли «уголок юного мичуринца». Один раз во время бомбёжки нас так тряхнуло, что вылетели стёкла и испортили наш мичуринский уголок. Но лучше об этом не вспоминать.
Факт тот, что мы с Булей всё-таки убедились, что солнце здесь южное: не успели мы оглянуться, как наша редисочка стала с ноготь большого пальца, и мы устроили пир. Это до того вкусно, что и не знаю! Красная, сочная!
Буля не разрешала мне дёргать редиску, хоть у меня руки чесались. Она, как профессор, заложив руки за спину и нацепив на нос очки, наклонялась над грядкой, высматривая наиболее толстенькие редисочки, — рраз, как зубной врач зуб, но только зубчики эти были что надо.
Как-то вечером — как раз мы с Булей кончили поливать — смотрим, идёт отец, но только не один. Я сразу узнал: это та женщина в комбинезоне, которая подходила и разговаривала с нами на заводе, только сейчас она была не в комбинезоне, а в синем костюме, и косынки тоже на ней сейчас не было, у неё были чёрные косы, которые были уложены на голове как корона.
— Вот это здорово! — закричал я. — Буля, а к нам гости, а почему дядя Николай не приехал?
Отец говорит:
— Александр, как ты себя ведёшь, ты уже взрослый. Александра Васильевна, познакомьтесь, это Ксения Ивановна.
— А я вас сразу узнал, только вы были в комбинезоне…
Ксения Ивановна рассмеялась и подала мне руку, как взрослому, никаких там потрепываний по разным частям головы, и это мне понравилось.
Буля позвала всех ужинать, а я сказал:
— Буля, ну скажи честно, ты знала, что у нас сегодня будут гости?
— Нет, не знала, чтоб мне лопнуть, — шепнула мне на ходу Буля.
На столе красовалась наша старая селёдочница с розочками, а на ней, лучше всяких роз, так красиво были разложены в середине стрелки зелёного лука, а по бокам горки редисок. Я смотрел на отца, прямо впился в него взглядом и видел, что он чуть не ахнул, когда увидел редиску. Подумал, наверно: «Откуда такая роскошь, ведь первая редиска стоит бешеные деньги?» — но ничего не сказал, как будто у нас каждый день к ужину первая редиска. И мы с Булей тоже ничего не сказали — вытерпели, а потом, когда поели, торжественно вышли из комнаты и повели отца и Ксению Ивановну в наш огород и показали им редиску, и лук, и несколько грядок картошки.
Картошка — это была наша особенная гордость. Буля говорила, что это наш научный эксперимент, мы сажали её не по целой картошке, как положено, а так, как мы решили ещё тогда, когда тётя Вера принесла эту картошку. Буля разрезала каждую картошку на столько, сколько в ней глазков, и мы всё гадали: взойдёт или не взойдёт? А она взошла, да такие толстые, мощные ростки, ну как будто мы кило картошки в каждую лунку посадили. Буля рассказала про наш опыт с картошкой, а я сказал Ксении Ивановне:
— Вы знаете, ведь у бабушки зелёная рука: у неё всё растёт.
И Ксения Ивановна проговорила своим певучим голосом:
— Не зелёные вовсе, а золотые руки у твоей бабушки, Саша.
Когда отец проводил Ксению Ивановну, я пристал к нему, очень ли он удивился, когда увидел на столе редиску и лук, и понравился ли ему наш огород. И отец сказал, обращаясь к Буле:
— Да вы действительно молодчина — свежие витамины… Я надеюсь, Александр принимал в этом участие? Трудовое воспитание…
Но Буля перебила — она не любила, когда отца заносило, как она говорила, — и сказала ему:
— Знаешь, Леонтий, сколько сюда вылито воды? Цицерон сбился бы со счёта. Ясно, что я не могла таскать.
И отец опустил свою руку мне на голову и шершавыми пальцами стал перебирать мои волосы, а потом взял и прижал мою голову так, что мне всерьёз стало больно, но я не пискнул.
* * *
Как я узнал, у Були был разработан план секретной военной операции, и она держала его в секрете даже от меня. На следующий день было воскресенье, но отец всё равно работал, и Буля попросила взять её на рабочий автобус (у неё были какие-то дела в городе), а мне велела пуще глаза стеречь наш огород и, конечно, полить его. С поливкой я управлюсь быстро: у меня уже было натаскано порядочно воды — заполнена вся тара, которая нашлась дома, а остальное время я мечтал провести в своё удовольствие. Мне давно уже надо было провернуть одно дельце. Правда, я это откладывал на после экзаменов, но почему бы не сделать предварительную разведку, если выдался свободный денёк?
Отец и Буля уехали, а я не спеша попил чаёк с кукурузной запеканкой — вот бы к ней ещё вареньица! Но и так неплохо, Буля у нас повариха что надо. Потом так же не спеша полил наш огород и заметил: ростки на картофельных грядках со вчерашнего дня уже стали больше, а огурцы выпустили усики, но всё это я делал в предвкушении того, что мне сегодня предстояло.
Наконец с поливкой было покончено, но я не побежал, не поскакал, а, наоборот, как бы между прочим, пошёл вразвалочку, захватив с собой лопату, сантиметр, бечёвку. А пошёл я вот куда.
Но надо рассказать всё по порядку.
Ещё в самый первый день, когда я только пошёл в школу, Пал Палыч что-то вроде целой лекции прочитал про Крым, а главное, он сказал, что вполне даже возможно найти что-нибудь стоящее. Я тогда хоть и виду не показал, но всё время думал, а откуда это он так сразу и догадался, что мне как раз это интересно. Ну потом Джоанна сказала, да я и сам узнал, что он всем это говорит, что он вообще почти что помешан на этом.
Ну а тогда мне показалось, что он только для меня говорил, и, честно сознаюсь, так это во мне засело, хоть никогда я не был учительским подпевалой, но тут-то совсем, совсем другое. Все-то ведь другие так себе, несерьёзно относились к таким делам. Ну что там, считали — это только для дошкольников, а Пал Палыч такое сказал, что я только об этом и думал. Но никому не говорил. Даже Джоанне. Потому что я привык, что все смеются над этим, а поэтому даже и сам как будто не верил, когда Джоанна мне рассказывала, как у них тут всё что-нибудь находят. Но на самом деле это было не по-честному. На самом деле я каждый день только об этом и думал.
Я думал, вполне даже вероятно, что именно наше Морское было когда-нибудь довольно значительным портовым центром, потому что и верно — ведь лучше нашей бухты трудно сыскать: она закрыта выдающимися в море горами от штормов; и, может быть, здесь когда-то стояли парусники с высоко задранными носами, на которых были золочёные скульптуры всяких там богинь или золочёных птиц.
И ещё я всё время думал о том, куда же это всё подевалось. Мне это дело прямо покою не давало.
Интересная вещь происходит с нами: знаете, когда нам рассказывают, что это история, что это было давным-давно, то из-за дальности времени нам кажется, что и земля была какая-то другая, которая ушла в прошлое, а на самом-то деле (ведь подумайте только!) вот точно на этом месте, на котором я сейчас стою, стоял какой-нибудь генуэзский воин, и ведь стоял-то он не в пустыне — кругом были дома, тут люди жили, и не могло это как ветром сдуть, растаять всё не могло, уж конечно, что-нибудь да осталось, надо только поискать как следует; и я так себе это представлял, что прямо чувствовал, что я хожу по сплошному кладу, и я тогда прямо обалдел, когда это придумал.
Джоанна сказала — а она узнала это от Пал Палыча, — что если раскопать какой-нибудь метр (по-научному это называется «культурный слой», а на самом деле просто обыкновенная земля и грязь, которые наросли сверху), то мы можем наткнуться на остатки жизни генуэзцев.
Я всё прикидывал: не могу же я один всё перекопать, весь посёлок, а приглашать к себе в компанию я мог бы только Джоанну (из всех ребят только ей было это интересно), и она бы не подумала смеяться, но она была занята побольше моего — у них был и огород, и сад, и ещё кролики; и эти кролики были очень прожорливые, и им надо было каждый день рвать чёрт те сколько травы, а одного беленького она обещала подарить мне, если мать разрешит.
Так вот, я долго раздумывал, где мне начать свои раскопки, и всё обозревал наше Морское и так и эдак — и с горы и с дороги, как полководец местность перед боем. И однажды меня осенило: за нашим посёлком, как раз недалеко от нашего дома, проходит глубокий овраг, он идёт полукругом, так что почти весь посёлок окружает, и вот я подумал, что если полазить по оврагу, да не по дну, а так с метр от верха, то как раз и откроется мне та земля, по которой генуэзец ходил, только разрезанная, и может, кончик какой-нибудь из неё и выглянет, а я тогда и подкопаю лопаточкой.
Ну вот наконец и настал денёк, когда я смог это сделать. Я пошёл в овраг, а надо сказать, он был почти что отвесный, так что ходить по его стенке — почти что по стенке дома ходить. Лопату я наверху оставил, а сам, цепляясь за колючки, смерил от верха метр, вбил туда колышек, привязал бечёвку и пошёл по стенке, как фокусник в цирке (а бечёвка мне нужна была, чтоб отметить то, что я прошёл). Вот так ползу, держась за кусты, а земля здесь какая-то непрочная, пыль да мелкие камушки, так из-под ног и выскакивают, того и гляди, вниз кувырком полетишь. Впиваюсь я в землю, аж глазам больно, всё потому, что Джоанна мне сказала, что, если сильно смотреть, можно и сквозь землю увидеть. Смотрю, смотрю — ничего не высмотрел, вот уже почти полпоселка обогнул, как раз за магазином ползу; ну, думаю, тут, конечно, ничего нет: может, старый ящик найдёшь на дрова — из магазина бросили, и на том спасибо, а не то что древний клад. И как раз, когда я это подумал, смотрю, из земли торчит что-то кирпичного цвета, похожее на цветочный горшок. Наверное, думаю, так и есть: осколок от горшка гераниевого кто-нибудь бросил, он и закопался. И я пальцем расковырял немного землю вокруг этого гераниевого горшочка. Смотрю — большой. Вроде, пожалуй, из-под фикуса, побежал за лопатой, подкопал вокруг, а лопата — звяк! Я, конечно, стал подкапывать пониже, а она опять — звяк. Я ещё пониже спустился, пожалуй что и на полтора метра, и опять то же. Ну, думаю, если это и горшочек из-под герани, то из великаньей утвари, не иначе, а скорее всего, в нём клад лежит, и не иначе как генуэзца, а может, даже какой-нибудь морской пират здесь свои сокровища спрятал. Ну, думаю, тут мне одному не потянуть. Тут надо что-то сообразить, а пока что лучше не раскапывать, чтоб место не выдать.
Я вылез из оврага, почистил брюки и вернулся домой. И как раз в самое время — отец сегодня приехал пораньше, и Буля приехала; и я их встретил полным порядком: огород полит, а я сижу за геометрией.
Я молчал, молчал, но меня так распирало, и я сказал за обедом:
— А я кувшин с кладом нашёл.
— Опять клады… — вздохнул отец. — Когда ты повзрослеешь, Александр?..
Но Буля поняла, что у меня что-то серьёзное, хоть и вернулась из города расстроенная и злая. И она ни слова мне не сказала, только посмотрела, и я всё выложил: про генуэзцев, про овраг и про великаний горшочек.
— Вряд ли это клад, — сказал отец, — хотя, может быть, что-нибудь интересное. Может, в войну туда население прятало продукты для партизан, а они ночью приходили и забирали — очень удобно пройти по оврагу незаметно. Этим, конечно, следует заняться. Сообщи своему пионервожатому. Это всё хорошо. Но меня вот что волнует: тебе, Александр, уже тринадцать почти, а ещё не выявилось никаких интересов — математику ты не любишь да и литературу от сих до сих… Пора подумать, что за человек из тебя будет, какую профессию изберёшь?
Буля посмотрела на меня так печально, будто они с отцом увидели у меня признаки какой-нибудь страшной болезни.
— Человеком-то он будет, — растянуто начала Буля, — он и уже человек, и талантливый человек, но меня волнует, что талант свой он никак к жизни не приклеит. Ну, хоть бы ты рисовать умел, не в меня… — вздохнула Буля. — А мать так пела хорошо и на гитаре играла, и ведь никто не учил, слух был замечательный… Отец — человек деловой, собранный, а ты что, как твоим талантом хлеб заработаешь? В кладоискатели идти?
— Да это всё придурь, обычная у всех мальчишек, только у Александра с запозданием, — сказал отец.
Буля покачала головой:
— Нет, не придурь, одержимый он.
А отец сказал:
— Главная беда твоя, Александр, в том, что разбрасываешься. Увлекался марками. Ну хорошо, познавательное занятие; бросил, начал минералогическую коллекцию собирать — организовал бы в школе кружок, учитель естествознания вам бы помог, вот было бы дело.
— Ещё чего, какой интерес будет собирать камни, если все табуном ходить будут. Будут из-под ног у тебя хватать. Нет уж, спасибочки.
— Ну, Александр, как тебе не стыдно, что за кулацкие наклонности! Минералогию, впрочем, ты тоже оставил. Теперь увлекаешься какими-то кладами. По-моему, ты идёшь назад, в детство. Как-то это не серьёзно. А я надеялся, — вздохнул отец, — что биологией увлечёшься, агрономом будешь, но, оказывается, огород — это для тебя так, — отец помахал рукой у меня под носом, — только лишь средство поинтереснее разнообразить стол. Я молчал, мне нечем было крыть. Я как-то не думал, а когда отец сказал, то получилось, что я действительно разбрасываюсь, а я и не замечал — вроде получалось, что у меня как-то всё не всерьёз.
* * *
Однажды, когда Буля приехала из города, открылся секрет её поездок. Буля привезла в нашей дерматиновой хозяйственной сумке маленького баранчика — представьте, настоящего, живого баранчика…
Буля осторожно вынула его из сумки и поставила на ножки, а ножки не держали его, беднягу, подгибались, и он так смешно качался. Я провёл по его густым завиткам и сказал:
— Тебе нечего здесь бояться, Борька, здесь тебя будут любить.
Так у нас в доме появился Борька. Ах, до чего же он был хорошенький, когда был маленький, мой Борька, и до чего ласковый и умный! А ещё говорят: «Глупый, как баран…» Но Борька был не глупый, он был понятливый и преданный.
Экзамены окончились, я перешёл в седьмой класс, но ничего особенного в моей жизни от этого не случилось. Мы с Джоанной часто стали ходить вместе: она рвала траву своим кроликам, а я — Борьке. Внизу у моря трава уже стала высыхать, свежая она была выше, в горах, но нам не хотелось забираться высоко, потому что нет-нет и вырывали какой-нибудь часок, чтобы сбегать в Солёную бухту камни искать. А скоро я стал брать с собой Борьку — какой смысл оставлять его дома, то, что я приносил за день травы, он почти всё съедал вечером, а так он целый день щипал травку, какая ему по душе, а траву, которую я рвал, сушил, чтобы накопить Борьке корм на зиму. И он ходил вместе с нами и так здорово прыгал по горам и лазил по узеньким тропиночкам высоко над морем, а когда мы спускались в бухту, Борька бродил прямо по воде и ел водоросли, Борька считал их лакомством. И скоро до того Борька привык ходить со мной, что стал ходить везде: я в магазин — и Борька в магазин, я за водой — и он тоже, а если я вздумаю, например, почитать, Борька не мог это долго выдержать — подойдёт и носом меня в бок тычет: хватит, мол, дурака валять, пойдём. Джоанна иногда, чтоб позлить меня, пела песенку:
У нашего Сани был баран, Собаки он верней: Куда бы Саня ни пошёл, Борис идёт за ним.А я не злился. Чем, скажите, пожалуйста, мой Борька хуже собаки? Да и Джоанна его любила. Эх, Борька, Борька! Если б я знал тогда!..
Буля тоже очень любила Борьку, но старалась этого не показывать, она говорила: «Животное должно знать своё место», — но на самом деле ей явно не хотелось, чтобы Борька шёл на своё место. Она иногда делала вид, что не замечает, как Борька лежит у моих ног, когда я делаю уроки, а иногда даже, когда мы пили чай, Борьке перепадало то сушёное яблоко, то сушёный абрикос, которые он обожал.
Отец тогда недовольно ворчал на Булю:
— Вы умудряетесь даже животных избаловать…
И вот, помню, сидим мы вечером за столом, Борька вертится под ногами, а мы пьём чай, но только у меня он что-то не пьётся: в рот наберу, а дальше не идёт, как будто поперёк горла крышку положили, да ещё с острыми краями, режет как ножом, когда глотну. Буля мне и говорит:
— Ты что это, тёзка, уж не заболел ли?
— Да, горло чего-то…
— Перекупался, целые дни, наверно, в море торчишь. Нет чтобы хоть книжку в руки взять, вам ведь задали что-нибудь на лето?
Ночью у меня ужасно болело горло, но я молчал, потому что действительно вчера перекупался, и чувствовал, что горло болит всерьёз.
Лежу я так, ворочаюсь, и сон не идёт. Буля подходила ко мне ночью, лоб пощупала, а я глаза скорей закрыл, как будто сплю. А рано утром Буля опять подошла ко мне. Я опять глаза закрыл, но она громко сказала:
— Боже мой! Скарлатина. Встань, Леонтий!
Отец соскочил босиком на пол, спросонок понять ничего не может, смотрит как ошарашенный, а мне даже, смешно стало, и я сказал:
— Да вы что, в самом деле!
— Так ты не спишь, тёзка? Поставь-ка вот градусник. Леонтий, надо бы врача вызвать, а пожалуй, и «скорую помощь». Сомнений никаких нет. Вот смотри, — и Буля стала показывать отцу на моё лицо, — видишь красный треугольник вокруг носа? Это точно скарлатина. Беги в поссовет, звони в город.
Отец засуетился, никак штаны не мог надеть и все на меня смотрит.
— Как же это ты, Александр, а я-то думал, ангина, ещё ругал тебя вчера, ты уж на меня, брат, не обижайся.
Мне даже как-то не по себе стало, такой отец чудной, что это с ним — прощения у меня просит.
Отец ушёл, а Буля стала мои шмотки на кровать класть, а сама говорит:
— Тебя, тёзка, в больницу возьмут, видишь ли, это обязательно: при скарлатине в больницу берут. Подумать только, маленький был — никаких скарлатин, а всё же вот не проскочил мимо, но ты, тёзка, не печалься, дня три-четыре только неважно будет, а потом карантин будешь отбывать, я к тебе ходить буду. Молочка попьёшь тёпленького? Ну выпей!
— Нет, Буля, не могу глотать, даже говорю и то с трудом.
А Буля совсем прямо расстроилась.
— Ладно, давай сюда молоко, — прохрипел я.
Пришёл отец, а вернее бы сказать, прибежал и сказал, что он с трудом дозвонился и что «скорая помощь» приедет. А Буля ему сказала, чтоб он не нервничал, что это обычное дело — детские болезни, что все дети, какие есть, все ими болеют, и что она сейчас даст ему завтрак и чтобы он ехал на работу, а она отвезёт меня в больницу.
Отец сказал, что ни за что и что сам повезёт меня в больницу, а Буля ему сказала, что в этом нет никакого смысла, потому что «скорая помощь», хоть она и называется «скорая», совсем даже неизвестно, когда приедет, может, только к вечеру, и что все мужчины — паникёры.
И конечно, всё-таки Буля взяла верх, и отец позавтракал и уехал на работу, а «скорая помощь» пришла хоть и не вечером, но всё-таки после обеда; и конечно, врач сказал, что у меня скарлатина, и меня, как раненого, положили на носилки. А Буля тоже села в машину, и мы поехали в больницу.
* * *
Няня привела меня в палату и показала на свободную застеленную кровать.
— Вот, сыночек, тебе самое уютное местечко, и смотри, не обижай наших — они у нас ослабленные.
Как же, как же, обидишь их! Держи карман шире! Не успела няня ретироваться, как восемь или девять «ослабленных» людоедов — я и глазом не успел моргнуть — вскочили в своих кроватях, перелезли через сетки и повисли на мне, как груши на дереве.
— Эй ты, новенький! В каком классе? Чего принёс пожевать? Принёс книжечку?
Я стряхнул с себя мелюзгу и сказал:
— В очередь становитесь вопросы задавать. И только в письменной форме.
Я подошёл к своей кровати. На первый взгляд будто место ничего: и в уголочке, и тумбочка своя есть, но я сразу разобрался, что к чему, и завистливым взглядом оглядел две кровати у окна. Палата наша была на первом этаже, да и вообще-то вся больница была одноэтажная, и наши окна выходили в садик, как раз через который надо идти с улицы в больницу.
Ну, что делать! Не безногий, подойду к окошку, если Буля принесёт передачу. Окно-то, конечно, было закрыто, хоть и жара стояла на улице, но форточка, такая большущая, открыта, и очень можно даже спокойно разговаривать.
Я заметил, что тапочки были у меня одного: все «ослабленные» стояли на полу прямо босиком, — и подумал, что, наверно, это бы не очень понравилось нянечке, если бы она сейчас вошла. Я сложил своё имущество в тумбочку, а имущество всё моё было: зубная щётка, порошок, яблоки и старый календарь, ещё довоенный, — ведь отсюда книжки не возвращают обратно. Сюда, пожалуйста, хоть целую библиотеку принеси, а обратно ни одной книжечки не получишь. Так кто же принесёт сюда книжки?! Ясное дело! И тут вдруг я услышал Булин голос, да так, как будто она рядом говорит, в этой же комнате. Я оглянулся и увидел Булю у окна, она меня тоже узнала, и улыбалась, и прижала к окошку нос, и делала мне рожи, так что все «ослабленные» надрывали животики. Я подскочил к окошку, а тут — рраз! — меня кто-то сзади за плечи схватил: я думал, кто-то из ребят, чуть в ухо не двинул, а это, оказывается, сестра.
— А ну-ка, новенький, марш на койку!
— Я только на минуточку…
— Никаких минуточек! А вы, мамаша, — сказала она Буле, — пожалуйста, не нервируйте больного ребёнка. Им вставать не положено. Передачу — в окошечко приёмника, о состоянии узнаете в справочном бюро.
Сестра ожесточённо стряхивала градусники и раздавала «ослабленным». Сунув мне градусник, сестра взяла со спинки кровати халат и наклонилась за тапочками.
— Тапочки-то хоть оставьте, как же я вставать буду?
— А вставать тебе не положено.
— А в уборную босиком, что ли, ходить?
— А ты не будешь ходить в уборную, захочешь — вызовешь няню, она горшок принесёт.
Я оторопело смотрел на сестру, а «ослабленные» забавлялись. Мой халат и тапочки выплыли из палаты вместе с сестрой. Я бросил взгляд в окно — Були уже не было: пока мы с сестрой препирались, я и не заметил, как она ушла.
Ну раз так, раз меня лишили средств передвижения, попробую разузнать насчёт места у окна.
— Эй, парень, тебе там не дует, у окна? Не поменяешься со мной? Самое уютное местечко.
У окна лежал толстый-претолстый парень с хитрой такой рожей.
— А мне, знаешь ли, приятно — свежий воздух. Уф-уф! — И он замахал перед носом своей пухлой ручкой. — Уф! Как приятно! Такой свежий воздух. Знаешь, малец, у меня правило есть железное — ничего не подарю, даром тоже не даю. «Подаришь» уехал в Париж, остался один «Купишь». Ну как, сообразил? Котелок варит? Будешь отдавать мне все передачи, которые тебе таскают. Кто у тебя бабка? Не жадюга она? Жрать будет носить? А мать-то будет ходить?
Меня тошнило разговаривать с толстяком Гришкой; я молча встал, собрал свои манатки, своё одеяло и подушку и, зажав под мышкой градусник, двинулся к Гришкиной кровати.
— На вот, лопни, — и кинул ему пакет с яблоками.
А Гришка, нисколько даже не обратив внимания на мой тон, подозрительно проворчал:
— Ничего там не зажал? Ну-ка, что у тебя там?
— Ты, может, зубной порошок кушаешь?
Ну и тип был этот Гришка! Такого поискать. Потом я узнал от ребят, что он не только меня ободрал — это хоть была мена. Оказывается, все ребята платили ему дань за право подходить к окну. А если кто пытался протестовать и не отдавал передачу, Гришка сообщал сестре, что не уплативший дань разговаривал через окно с матерью. А узнал я это так: один дошкольник стал мне совать два большущих персика после того, как почирикал у окошечка со своей матерью.
— Ты что это, парень, раздаёшь персики, самому, что ли, надоели или у твоей матери персиковая роща в горах? А может, консервный завод? — А я ничего не понял. Оказывается, это он мне теперь по привычке платил — я же лежал на Гришкином месте.
Но это всё потом. А сейчас пришла сестра и, увидев перемену, окинула нас таким взглядом! И уже раскрыла рот, чтобы исторгнуть нравоучение. Ну, думаю, сейчас будет Ниагара, как вдруг она рот закрыла, подошла ко мне и как-то странно на меня уставилась.
— А ну-ка, — говорит, — давай сюда градусник: допрыгался, молодчик, сорок один и восемь. — И сестра быстро вышла из палаты.
«Ослабленные» все притихли, и только толстый Гришка пробубнил из своего угла:
— Чур, уговор в силе, передачи мне. Какое мне дело, если ты не можешь пользоваться моим окном, сам виноват, допрыгался.
Скоро послышался топот ног, и в палату почти вбежала сестра, а за ней целая свита, и все устремились ко мне. Что они, в самом деле, всерьёз, что ли! На мою кровать присел такой симпатичный молодой парень, а из-под халата у него вылезала гимнастёрка — это и был мой доктор. И, взяв меня за руку, спросил меня так серьёзно:
— Ты что же, дружище, нас всех заставил в панику вдариться? Нельзя, брат, дисциплину нарушать. Лежать, пока не скомандую «вольно», договорились?
И хоть доктор, как и сестра, тоже мне приказывал лежать, но почему-то его мне хотелось слушаться, и даже было приятно слушаться, и я ему кивнул, а он меня слушал трубкой, и выстукивал, и смотрел горло, а потом, осторожно покрыв меня одеялом, как будто я стеклянный, сказал:
— Ну, я думаю, на тебя можно положиться, ты ведь, кажется, старший в этом подразделении. Ну, дружище, до завтра, а если ночью что будет не так, зови сестру, только не вставай — вот тебе звонок.
И он взял с тумбочки стакан с чайной ложкой и постучал ложкой о стенку стакана.
— Вот видал?
Доктор встал и сказал сестре Тамаре:
— Завтра к самому открытию идите в горздрав и требуйте пенициллин. Если откажут, бегите за мной.
И ещё чего-то они говорили, но я уже не слушал, у меня вдруг ужасно заломило голову, как будто я трахнулся с лестницы, и заболели глаза. И доктор, и сестра Тамара, и нянечка, и все «ослабленные» как будто плавали в тумане, и я, кажется, заснул. Ночью я то спал, то не спал. Помню, что заходила сестра Тамара и зажигала свет, а у меня голова проваливалась всё время вниз, а большие пальцы на руках стали большими и толстыми, и больше ничего не помню. Да помню ещё, что мне приходили делать уколы, а я удивлялся: только что был день, а сейчас уже ночь и так, оказывается, прошло несколько дней, но больше я о них ничего не помню, так что и рассказать не могу.
В один прекрасный денёчек — да, это был распрекрасный денёчек — лежал я с закрытыми глазами, но вдруг почувствовал, что это я так просто лежу с закрытыми глазами, но не сплю и чувствую, что всё у меня на месте: и голова не валится и пальцы нормальные. Только я хотел открыть глаза, как вдруг слышу голос Були, и вроде над собой:
— Он ещё спит.
А я думаю, что это: или Буля мне приснилась, или, наоборот, приснилось, что я болел и в больнице? Я с опаской открыл один глаз и — что же вы думаете! — увидел у окошка Булю и Джоанну. Они обе смотрели на меня и сразу заметили, что я открыл один глаз. Я открыл другой, а Буля схватила Джоанну за руку и закричала:
— Смотри, смотри, Аня, он, хитрюга, притворяется, он же совершенно здоров, чтоб мне лопнуть, здоров как бык!
Но Джоанна уже видела сама, смотрела на меня и улыбалась, как будто получила пять с плюсом по геометрии. Она сделала какой-то непонятный жест рукой, и вдруг исчезла — это она присела на землю, — и тут же снова поднялась, и поставила на подоконник коробку из-под ботинок, и стала развязывать шнурок. Вся палата смотрела: ребята думали, наверно, что мне купили новые ботинки… Но я-то знал, что Джоанна не такая, не станет она возить в коробке из-под ботинок ботинки, но даже и я этого не ожидал: Джоанна открыла крышку и вытащила из коробки кролика. Ну что это за кролик! Белый, с серыми пятнышками, а глаза не какие-нибудь красные, как у белой мыши, а фиолетовые.
— Это Морис, он умеет стоять на задних лапках и барабанить. Это твой, Саня.
Вся палата обалдела от такого. Все ринулись к окошку, засвистели, закричали «ура», так что я вынужден был вмешаться:
— А ну, «ослабленные»! Что, захотели, чтоб Тамара явилась?
А Джоанна поставила кролика на задние лапы, а передними он упёрся в стекло, и смотрел прямо на меня, и дёргал носом, и шевелил ушами. Вот это да! Мой Морис!
— Подожди, Джоанна!
Я слез с кровати на пол, залез в тумбочку, достал одну коробочку, которую запрятал за всеми шмотками и никому не показывал, и кинул её в форточку, а Буля стала стучать мне в окошко, чтоб я скорей ложился. Но я и не собирался разгуливать: мне, слава богу, этого не требовалось — ведь моя кровать стояла у самого окошка вплотную к подоконнику, и я сказал Джоанне:
— Не открывай коробку, дома посмотришь.
А Джоанна покраснела, наверное от удовольствия; как она, скажите, догадалась, что в коробке тот самый сердолик? Буля взяла у Джоанны коробку, я испугался, что она откроет её. Но, оказывается, Буля боялась, что Джоанна заразится от меня, и сказала Джоанне:
— Коробочку придётся сжечь, а то, что там, вымоем дома одеколоном.
Ну, Буля, дорогая Буля, она никогда не сделает того, чего не надо! И я впал в телячий восторг и стал прыгать на кровати и молотить подушку, пока не вошла сестра Тамара, и всем попало.
Кролика водворили обратно в коробку, и Буля с Джоанной быстро-быстро ретировались, а мне было море по колено, и я закричал во весь голос:
— Буля, приходи завтра и принеси побольше поесть!
Ну и аппетитик прорезался у меня, я вам доложу, с тех пор как я стал поправляться. Я даже вспомнил толстого Гришку (он выписался в те дни, когда у меня была температура) уже с некоторым пониманием. Я только что дань не собирал с «ослабленных» за право подходить к окну, а так аппетит у меня стал такой же, как у Гришки.
И Буля приходила и завтра и послезавтра и приносила мне жареную картошку с котлетами (доктор сказал, что сейчас меня надо питать) и даже пирожки с мясом. Подумать только, пирожки с мясом! И я стал толстеть не по дням, а по часам, так что, когда я утром умывался, я не узнавал себя в зеркале. Ну и портрет!
Как-то в воскресенье пришёл ко мне отец с Ксенией Ивановной. Она принесла мне целую плитку шоколада «Дирижабль». Но из этого вышли одни неприятности: нянечка принесла передачу, а сестра Тамара увидала у меня на столе шоколад, честно разделённый на восемь частей, и выбежала как ошпаренная, и привела с собой доктора. Доктор сказал, что нам никому есть шоколад нельзя, а то будет осложнение на почки и нас ещё придётся держать в больнице. Она завернула разломанные кусочки в серебряную бумагу и сказала:
— Пока я забираю к себе, передам твоей бабушке.
Доктор ушёл, а сестра Тамара ещё долго бушевала и кричала на нянечку Симу, и проехалась насчёт некоторых родителей, которые даже не знают, какую диету можно их детям. Я-то ничего, а некоторые дошкольники даже распустили нюни, что отобрали шоколад, и нянечка Сима ходила с заплаканными глазами.
Настал, наконец, день, когда мы с Булей возвращались домой. Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали раньше, что и я стану «ослабленным». Я еле-еле дотащился до автобуса, и даже пришлось отдать узелок со шмотками Буле. Меня качало и бросало, как на палубе парусника в девять баллов.
Вот мы и в нашем «Приюте пиратов». Мне казалось, что я, по крайней мере, год не был дома, и я первым делом бросился к сарайчику, где мы запирали Борьку. Но я увидел, что дверца сарайчика открыта, и в ту же секунду услыхал какой-то странный, сдавленный звук, оглянулся — и увидел, что Буля держится одной рукой за калитку, а другой — за левый бок, а мой узелок со шмотками валяется на земле.
— Буля, ты что?!
Я подскочил к Буле и увидал только, что у неё какие-то странные глаза, я таких у неё никогда не видел; и я положил её руку себе на плечи, а сам схватил Булю покрепче, и так мы дошли кое-как до двери, а там ещё долго возились с ключом, и, наконец, я Булю довёл до её кровати и накапал капель, которые она велела. Эти капли были новостью в нашем доме. Я, конечно, сразу понял, что Борьки нет, что Борьку зарезали, и с ужасом вспомнил котлеты и пирожки с мясом, которые встречались бурей восторга всей компанией «ослабленных» (Буля никогда не приносила мне одному). И я ел эти пирожки, и ничто не шевельнулось во мне!
Но Буля, как она могла? Она ведь так любила Борьку! Тут я вспомнил и другое. Вспомнил непривычно грустный и усталый Булин вид, когда она стояла у окна; вспомнил, как она шла сегодня к автобусу; вспомнил её глаза, когда она закричала. И вдруг я всё увидел по-другому: мне показалось, что всё, что случилось в последнее время, быстро-быстро прокрутили перед моими глазами. И я видел уже как будто всё другое и заново вспомнил, как один раз Буля пришла и долго не могла отдышаться: оказалось, что она шла половину дороги, десять километров, пешком, потому что автобус испортился в дороге, а «попутки» не взяли её, но тогда я на это не обратил внимания — Буля принесла целую сумку пирожков, мы все накинулись на них, и я просил Булю завтра опять приехать и привезти печёное яблочко.
Я всё это вспомнил и глотал слёзы: как я мог упрекнуть Булю, она же из-за меня, из-за меня это сделала! Из-за того, что доктор сказал, что меня надо питать. Я повернулся к Буле и сказал ей:
— Буля, я всё знаю, только больше не готовь мне ни пирожков, ни котлет, пусть отец ест, он мужчина, а мы с тобой будем как раньше.
И Буля заплакала, а я так растерялся — я никогда не видел, чтоб Буля плакала, — и молчал.
А потом приехал с работы отец. Он был таким весёлым и молодым, всё время смеялся и поднимал меня за локти, загадывал загадки, говорил, что все на заводе передавали мне привет и что дядя Николай велит мне ни в коем случае не бросать марки.
И мне тоже было весело. Буля встала, и мы с ней забыли о сегодняшнем и радовались, что я, наконец, дома, и отец вспомнил, как я всех перепугал и как он бегал вызывать «скорую помощь».
* * *
Через несколько дней у меня был день рождения. В этот день у нас с Булей всегда было заведено так — гостей мы не звали, ведь это не только мой день рождения, но и день смерти моей матери, а Булиной дочки, но Буля всегда готовила мне что-нибудь, что я люблю. Помню, один раз, когда совсем уж ничего не было, Буля накопила корок от белого хлеба и на мой день рождения сделала из них шарлотку, а сверху полила её таким сладким, как патока, лекарством от печёнки, которое получала в аптеке соседка.
Но на этот раз Буля сказала, чтоб я обязательно позвал Джоанну (Буля называла её Аня или Анюта). Я был уже незаразный и через неделю должен был идти в школу.
Я пошёл к Джоанне нарочно, когда она была в школе, и подсунул под дверь записку: «Приходи завтра в 16.00. Будет настоящий пирог. С».
Ещё утром, как только я проснулся, я увидел над своей кроватью картину. И это была не просто картина, а настоящее приключение: здесь был прекрасный парусный корабль, и на нём стояли рыцари в доспехах, и возвращались они, совершив великие открытия, и на носу стоял капитан (это, конечно, был я), а на обрыве (это, конечно же, наш обрыв) стоял прекрасный дворец, и принцесса, немножко похожая на Джоанну, держала под уздцы прекрасного белого коня в серых яблоках, конечно же, мне в подарок. И ещё шла большая надпись: «Возвращение в родной дом знаменитого капитана Александра Кубова, после того как он совершил путешествие вокруг света и открыл новые земли. В день рождения дорогому тёзке от бабушки Александры!!!»
Я лежал, блаженствовал в своей постели, и рассматривал картину, и вдыхал аромат печёного теста и яблочного повидла, когда Буля заглянула в комнату, и я соскочил, и бросился ей на шею, и стал её мять, и тормошить, и слегка поддавать кулаками.
— Буля, когда ты успела нарисовать, а я ничего и не видел!
Буля освободилась от моих объятий и торжественно, по всей форме поздравила меня с днём рождения, а потом велела быстро одеваться — завтрак уже на столе. Я на бегу натянул шмотки и выскочил на кухню — конечно, на столе были горячие лепёшки и яблочное повидло. Буля!
— Ну, немножко теста осталось от пирога, вот я тебе сделала лепёшек.
Мы с Булей позавтракали: она пила чай и съела всего пол-лепёшечки и ни за что больше не хотела, а я хватал, обжигаясь, горячие лепёшки, мазал их яблочным повидлом и запивал чаем.
А потом мы занялись делом. Я вымыл пол во всём доме, подмёл во дворе и сложил всю ботву на огороде в одну кучу, и тут как раз настало шестнадцать ноль-ноль и пришла Джоанна. Она принесла мне Мориса в маленькой хорошенькой клетке с ручкой, так что её очень удобно было носить всегда с собой. Почему-то она догадалась, что у меня день рождения, и поздравила меня, и мы дрессировали вместе Мориса, а потом Буля позвала нас пить чай с пирогом. Пирог был такой вкусный, и было так весело, я повёл Джоанну смотреть Булину картину, и мы все решили, что Морис немножко похож на коня — у него такие же серые пятнышки.
А потом Джоанна рассказывала школьные дела и ещё рассказала потрясающую новость: когда я болел (почему-то всё случается или когда болеешь, или когда уедешь куда-нибудь!), в наш посёлок приезжали археологи. Археологи — это такие специальные историки, которые только ищут старые клады и не обязательно там что-нибудь ценное, а вообще всё старое. Даже откапывают иногда целые дома, а по этим вещам все историки догадываются, что раньше было. Так вот эти археологи из Москвы, они потом ещё приедут и будут искать клады по-научному. Мы с Джоанной говорили, что как было бы здорово, просто замечательно, наняться к ним в кладоискатели, и они сначала не будут брать, будут говорить: «Пойдите ещё поучитесь, а какие у вас отметки?»
А тут мы (ты только представь, Джоанна, — раздумывают они, брать нас к себе или не брать?), а мы с тобой идём, тихонько откапываем тот слоновий горшочек с кладом и вдвоём еле-еле тащим прямо к начальнику: «Это вам подойдёт?» Ну, у того глаза на лоб выкатились! Он всех зовёт: «Вы только посмотрите, какой клад нашли эти товарищи! Придётся их сделать главными кладоискателями!»
Мы были счастливы, да, мы были по-настоящему счастливы в тот день. Но в какую-то минуту тень набежала на глаза Джоанны.
— А знаешь, Санька, мы, может быть, уедем… навсегда…
— Куда же?
— На Урал.
И Джоанна стала мне рассказывать, что здесь они живут у бабушки — папиной мамы, и мама с ней часто ссорится, а у неё есть другая бабушка — мамина мама, и она зовёт их к себе, и что сначала мама не хотела ехать, потому что всё ждала папу. Он же пропал без вести на фронте. Но теперь он уж, наверно, не вернётся, и мама говорит: поедем к той бабушке… Я слушал Джоанну, но смысл её слов не доходил до меня или, скорее, был где-то в таком отдалении, как, например, конец света или моя собственная смерть…
Скоро приехал отец и тоже привёз мне подарки. Во-первых, шоколад «Дирижабль» от Ксении Ивановны и два чудесных альбома для марок, такие небольшие, удобные — это уж он от себя.
И снова мы пили чай с остатками пирога, сначала, конечно, отец ел суп, и отец был такой весёлый и задавал мне армянские загадки, а я ему сказал:
— Я тебе тоже загадаю армянскую загадку. Что такое: белое в серых яблоках и прядает ушами?
Ну и отец сказал:
— Конечно же, конь, больше некому быть.
А я с радостью закричал:
— А вот и нет, вот и нет, это Морис!
А отец говорит:
— Так, наверно, зовут коня?
Мы с Булей посмотрели друг на друга и засмеялись, и тогда я побежал в комнату, и полез под кровать, и достал клетку с Морисом, и показал его отцу, и нам всем было ужасно хорошо. Отец посадил меня, как маленького, к себе на колени, и положил подбородок на моё плечо, и крепко, как клещами, обхватил так, что я не мог встать, и вдруг спросил:
— Александр, ответь мне, как мужчина мужчине, ты не будешь на меня сердиться, если я женюсь на Ксении Ивановне?
Я так был поражён, что прямо-таки обалдел. Мне и в голову не приходил такой вариант. Но Буля почему-то совсем не была удивлена, и она просто-таки спасла меня, потому что я сам слова не мог из себя выдавить, как будто язык проглотил.
— Что ты, Леонтий, обижаешь сына таким вопросом, и он, и я, конечно же, мы будем очень рады: Ксения Ивановна очень милая женщина, и ты заслужил своё счастье, а Александр уже не ребёнок.
Первый раз Буля сказала, что я уже не ребёнок; ну конечно, мне сегодня исполнилось тринадцать лет.
Это сообщение отца меня совсем сбило с панталыку. На следующий день я ходил как потерянный. Не знал, за что взяться. Не могу сказать, чтобы оно меня расстроило. У меня не было ничего похожего на ревность к отцу или на недоброе чувство к моей будущей мачехе, Ксении Ивановне. Скорее, какое-то неясное предчувствие перемен тяготило меня. Я это не понимал и не мог выразить. Одним словом, я места себе не находил. Как будто бы вчера с днём рождения ушла какая-то пора моей жизни и должна начаться другая, не знаю пока какая. Мне ужасно хотелось поговорить с Булей, но я не знал, с чего начать, да и не знал, о чём точно я хотел спросить. Я подходил к ней, мешая работать, как маленький, начинал целовать или тёрся щекой о её щёку. Таких телячьих нежностей давно уже между нами не водилось, и Буля, конечно, поняла, что́ у меня на душе (она всегда всё понимала), но ей не нравилось, что я так раскис.
— Мне что-то кажется, тёзка, что со вчерашнего дня ты впал в детство. Тебе самому так не кажется?
— Ох, Буля, сам не знаю, что со мной делается!
— Зато я знаю и прямо тебе скажу. Выходит, я зря вчера отцу сказала, и выходит, что ты действительно его не понимаешь!
— Да нет, Буля, не в этом дело. Останется ли у нас с тобой всё так, как было?
— Глупенький ты! Кто же нам помешает? Да ещё лучше будет. Нам с тобой хорошо, конечно. Ну а будет ещё лучше. Скоро не так всё будет. Скоро уж времена наступят полегче, отец не будет так много работать. Будет нормально домой приезжать, и будет у нас в доме настоящая семья, веселье, довольство, будут приезжать друзья. Тебе будет веселей. А что все со мной… Какой я тебе товарищ, я же старая!
— Ты старая?! Буля, ты не придумала ещё чего-нибудь смешнее?
Буля вдруг стала очень серьёзная и даже немного печальная.
— Совсем даже не смешно, тёзка. Ты должен больше дружить с отцом. Ты же знаешь, какой он хороший и как тебя любит. Ну а если иногда кой-какие пустяки не поймёт, так ты его должен понять — большими делами он занят всю жизнь. Война, тёзка… Отвык он от тебя немножко. Да и когда было привыкать-то? А ты, тёзка, сам ему навстречу пойди…
В этот день, хоть мы и не договаривались, Джоанна опять пришла ко мне. Она принесла мне уроки и ещё кое-что, что меня страшно обрадовало, — книжечку по археологии.
— Гай Гракх дал. Знаешь, у него их как много! Целая стенка, всё полки и полки и почти всё по археологии. Только он сразу по две не даёт.
Мы рассматривали в книжке картинки. И она обещала оставить её мне почитать, хотя и сама ещё не прочитала. И я оценил всю жертву Джоанниной дружбы — ей ведь тоже было интересно прочитать эту книжку.
И наверно, из-за этой книжки по археологии или из-за того, что мне хотелось удивить Джоанну, но только я больше не мог уже терпеть со своим слоновьим горшочком. Как только ушла Джоанна, я натянул шаровары, схватил в сарае лопату и помчался к оврагу, к своему заветному местечку, где зарыт слоновий горшочек с кладом. Подумать только, я даже не прикрыл его как следует. Если бы археологи нашли мой клад, а я что, с носом? Пойди тогда докажи им, что я умею клады искать. Я об этом думал и даже не заметил, как пролетел крутой овраг, хотя шёл чуть не по стенке.
Не теряя времени, я стал откапывать свой горшок, но вот дело — куда ни ткну лопатой, она всё натыкается на твёрдое. Что же, в самом деле, за горшок, с дом, что ли? Я переменил тактику, встал боком и стал срезать землю тонкими пластами не вглубь, а по поверхности.
Скоро на уровне моих рук уже можно было видеть ширину горшочка. Он был толщиной так, примерно, с увесистую женщину. Но лопатой здесь не поработаешь, нужен инструмент поделикатней. Я вылез из оврага и порыскал на свалке. Тут, на счастье, за магазином была свалка, и я нашёл проржавевшую крышку, то ли от кастрюли, то ли от детского горшка, — не бог весть какой инструмент, но надо спешить. Я спустился в овраг и начал обрабатывать свой горшочек так, словно выковыривал камешек из песочка, только камешек-то этот в кармашек великану. И так я пыхтел и здорово, видно, увлёкся, если даже ничегошеньки не слышал и не видел, а не так-то легко было подступиться ко мне, как вдруг — гром среди ясного дня! — кто-то схватил меня за ухо, да так — чёрт тебя дери, я никогда и не думал, что можно так больно схватить за ухо, у меня аж заломило всю голову, и даже не мог повернуть шею, чтобы взглянуть на своего мучителя. Наконец пальцы (а вернее было бы сказать, тиски железные) разжались, и тут же послышался голос, да такой голосочек, что ни дать ни взять за своим добром явился сам хозяин-великан:
— Ты что же, воришка, у нас из-под носа хочешь наши находки утянуть?
Я, наконец, смог перевернуться на сто восемьдесят градусов на узкой тропиночке. Ну, так и есть! Точно, великан, да, пожалуй, ещё он не брезгует человечинкой. Вид был такой. Рост такой, что ему только телеграфные столбы чинить, бородища рыжая, носище такой — семерым рос, ручищи — ему бы не за уши хватать, а подковы гнуть. Это было бы для него приятное времяпрепровождение! Я ужасно разозлился, а когда я очень злюсь, я спокойным-спокойным становлюсь, вот и говорю я ему так спокойненько:
— Так, значит, вы говорите, это ваша находка! Скажите-ка мне, когда вы это нашли? Не прошлый ли раз (я сразу понял, что это археолог, как раз из тех, про которых рассказывала Джоанна), когда вы приезжали, всё здесь перерыли и ни черта не нашли? Может, вы застолбили это место, забором обнесли, сторожа поставили, ярлычок повесили — музейная вещь, экспонаты руками не трогать? Может, я не разглядел ярлычка?
Видно, рыжий здорово опешил. Он молчал, молчал, так на меня поглядывал, а потом как захохочет! Я говорю:
— Потише смейтесь, а то мой горшочек лопнет.
— Так, значит, это твой горшочек? — говорит он.
— Ясно мой, а чей же ещё?
— Ну, ну, ты, значит, профессионал, а я, — говорит, — сразу не понял, я думал, это любитель тут копается, страсть не люблю любителей, но ты, я вижу, к ним не относишься, ты, значит, прежде меня сообразил пробежаться по этому овражку?
— Ясное дело, — говорю я ему, — сообразил, а чего же тут не сообразить! Проще простого, — говорю. — Тут всякий, — говорю, — сообразит, кто вообще соображает, а так вы будете сто лет копать, пока до чего-нибудь докопаетесь.
— Ну, ну, — опять говорит рыжий, — и давно ты этим занимаешься?
— А чем это «этим»?
— Ну как же, «чем этим»? А археологией!
— А я «этим» не занимаюсь, я марки собирал и то бросил, не с кем меняться, а просто у меня глаз насквозный, и я подумал, зачем ему зря пропадать.
— Интересно, что это? Я не слышал.
— Не слышали, а зря, такие, люди для вашей профессии во как нужны. Глаз насквозный — это значит, я вижу насквозь, через землю, и могу любой клад разыскать.
— Ну, брат, здорово ты себя рекламируешь, как цыган лошадь.
А он, чёрт рыжий, хитрый такой, сразу понял, что я к ним хочу. Он, пока со мной разговаривал, всё рассмотрел, даже наклонился, камешек какой-то с тропинки поднял. Он увидел, что сюда дорожка протоптана по стенке оврага.
— Ладно, брат, пойдём, ребят позовём, твоим инструментом здесь не раскопаешь.
И он так серьёзно взял своими ручищами мою крышку и так осмотрел её со всех сторон, будто это на самом деле был какой-то интересный инструмент.
— Нет, не откопаешь этим, — повторил он, вздохнул так, будто очень сожалел о том, что не откопаешь этим инструментом, и швырнул крышку в овраг.
Мы тронулись, а он мне и говорит:
— Ты что же это, брат, здесь работаешь, а школой пренебрегаешь?
— Да нет, это я просто болею, у меня скарлатина была. Ну и потом у меня тут плохо заделано было, а я знал, что вы приехали, ну и побоялся, что вы на моё место вперёд меня придёте. Так и прошляпил бы всё из-за этой скарлатины проклятой.
И тут мы уже совсем подошли к нашему пригорочку, у калитки стояла Буля.
— Куда это ты запропастился?
— Ага, мы, значит, ближайшие соседи, — сказал рыжий, — тем более, заходи по-соседски на чашку чая, и дело заодно обсудим. Тебе ведь, наверное, не хотелось бы, чтобы без тебя твой горшок этот выкопали? А? А как горшок такой называется, знаешь? А дом твой хо-о-рош! — Он задрал бороду чуть не в небо. — Он, случайно, в прошлом не был пристанищем пиратов?
У меня ёкнуло сердце, когда он так сказал, но я, конечно, промолчал. Я повернулся к дому, а рыжий крикнул мне вдогонку:
— Заходи обязательно! Я кивнул.
На столе уже стыл обед, я быстро заглотал его, не разбирая, что ем.
Я всё думал об археологах и об этом рыжем: возьмут они меня к себе или нет? Я несовершеннолетний и к тому же в школе учусь, но если не возьмут, я буду им помогать после школы, хоть бы только копать, самую, самую тяжёлую работу буду делать.
Буля видела, что я ем, а сам даже и в тарелку не смотрю, чего это я там ем, а Буля прекрасно знала, что это совсем на меня не похоже, и не настали ещё такие счастливые времена, чтобы на еду внимания не обращать.
Ну она стояла, стояла, смотрела и говорит:
— Что за дела такие великие, тёзка, происходят?
— Ох, Буля, такие, — говорю, — дела, что чуть из-под носа самого у меня мой клад не увели, а тогда как докажешь им, что я клады умею искать? Сейчас вместе копать будем. Без меня, сказал, не будут.
— Этот, что ли, рыжий? Он начальник у них? Больно на людоеда похож, — сказала Буля. — Пожалуй, такого вот я и не дорисовала на нашей вывеске, на «Приюте пиратов».
Проглотив обед, я помчался к холму, на котором стояла палатка археологов, это совсем даже рядом было от нашего дома. Подбегаю. Парень какой-то возится около треноги, а на ней котёл закопчённый висит. Смотрю — а парень тушёнку большим ножом открывает.
— А где ваши все?
— А тебе кого?
— Ну хоть того, с бородой.
— Александра Григорьевича? А ты кто?
— А я здесь живу.
— Ах, так это ты пифос нашёл? А они все там, в овраге. Копают твой пифос.
Я помчался по оврагу. Что же это он, в самом деле, слово не держит! Но, оказывается, они ещё не начинали копать этот самый пифос. Они только сделали вокруг площадку, чтоб удобно было стоять, и по бокам горшка землю отковыряли, так что теперь стало видно, какой величины этот горшок, — пожалуй, не меньше меня ростом будет. Рыжий бородач увидел меня и подошёл ко мне.
— Вот, рекомендую, — сказал он своим всем. — Как, коллега, тебя звать, мы забыли познакомиться?
— Александр Кубов.
— Вот, знакомьтесь — Александр Кубов, тёзка мой, значит. А я Александр Григорьевич.
Я достал немецкую финку в футляре, которую я ещё утром потихоньку от Були утянул.
— А вот такой инструмент годится?
Он даже ахнул.
— Ну и ну! А у тебя есть разрешение на ношение холодного оружия?
— Это немецкая. Я в подвале нашёл, когда мы ещё в городе жили.
— Ах, нашёл! Я смотрю, ты действительно профессиональный кладоискатель. У тебя действительно глаз… Как ты говорил? — И он обратился к своим: — А вы знаете, коллеги, что за человек такой Александр Кубов? У него ведь глаз, как это… Он видит сквозь землю и может всё что угодно найти.
Я уже понял, что он вроде говорит серьёзно, а сам шутит.
Александр Григорьевич что-то объяснял и показывал своим, а потом спрашивает меня:
— Тёзка, ты умеешь рисовать?
— Ничуточки.
— Да и мне не надо, чтоб ты замки сказочные рисовал. Вот, — и он протянул мне лист бумаги и карандаш, — попробуй нарисуй свою бухту, как расположен в ней посёлок, как овраг идёт и где мы находимся.
— План нужен? Так бы и сказали…
Я столько раз представлял в уме нашу бухту, и где у генуэзцев мог быть причал, и где их посёлок, что с закрытыми глазами мог бы нарисовать план.
Так я начал работать с археологами, и до конца дня я их всех уже хорошо знал и знал, что сейчас они приехали делать только пробный раскоп, чтоб узнать, стоит ли вообще здесь копать. А потом, если им утвердят экспедицию в Москве (а это попросту значит, если дадут деньги), тогда уже будут брать на работу много народу и тогда начнут настоящие раскопки.
Узнал я и то, что Александру Григорьевичу всё про меня известно, и когда я спросил, откуда он знает, он серьёзно ответил:
— А у меня глаз насквозный, почти что как у тебя.
Потом мы стали раскапывать этот самый, как они говорят, пифос, а вернее будет сказать, они копали, а я стоял рядом в ужасном нетерпении. Мне жутко хотелось посмотреть, что же там внутри.
А Александр Григорьевич мне и говорит:
— Тёзка, ты хоть знаешь, что такое пифос и для чего эта штука? Это просто бочка, обыкновенная житейская бочка, в них люди держали зерно или ещё чего-нибудь. Вот в такой бочке сидел Диоген, а если бы галлы изобрели раньше деревянную бочку, то резонанс был бы уже не тот, и тогда уже Диоген не стал бы тренировать в бочке свой ораторский талант.
— Обыкновенная бочка! Да стоило из-за обыкновенной бочки огород городить…
— А ты погоди, тёзка, не спеши. Иногда самая простая бочка интереснее нам, чем если б она была из чистого золота. Что ещё в этой бочке будет да вокруг этой бочки будет. Увидим, увидим…
И вот раскопали, наконец, эту самую бочку, этот мой слоновий горшочек. И с такой осторожностью из оврага его поднимали, как будто он и правда золотой или бриллиантовый.
Александр Григорьевич сдвинул глиняную крышку и заглянул внутрь. Хорошо ему! Ему хоть и в трубу печную на крыше ничего не стоит заглянуть.
— Ага, — сказал он, довольно потирая свои ручищи, — что-то там есть!
И как он только это сказал, я так прямо застыл на месте — то в жар меня бросает, то в холод. Ну, думаю, вот сейчас такое что-нибудь будет, такое…
И тут Гера с Витей наклонили этот самый пифос, и Александр Григорьевич своими длинными ручищами стал извлекать оттуда сначала ремни какие-то кожаные (они сказали, что это сбруя конская), потом топор какой-то, ещё там всякий хлам. А я всё ждал и ждал. Ну что, что там, на дне, должен же быть настоящий клад! Неужели только этот хлам и будет? Да, ей-богу, я в городе и то лучше клад нашёл. Я даже плюнул с досады.
— Ну, — говорю, — знал бы я заранее, что здесь такое барахло, которое только на помойку выкинуть…
— На помойку, говоришь? — прорычал Александр Григорьевич. — Нет, видно, мал ты ещё, чтоб стать археологом, тебе ещё в салочки-выручалочки гонять. «На помойку»! А ты знаешь, помойка для археолога как раз и есть самое интересное. А ты говоришь — барахло.
Здорово мне досталось. Хорошо ещё, что Александр Григорьевич любителем меня не обозвал. Вот что значат такие на первый взгляд пустяковые вещи! Для них для всех — теперь-то стало мне понятно — этот самый пифос и то, что там было, вроде как знак был, что, мол, здесь ищите, вроде как игра «горячо-холодно», а я, как попугай, болтал о кладе, ничего не понимая.
На следующий день, я помню, Джоанна пришла какая-то особенная. Я тут же усёк, что дело нечисто, и стал её тормошить, в чём дело. Она туда-сюда, но меня-то не купишь на ржавую железку.
— Давай, — говорю, — выкладывай.
Ну, а она мне:
— Знаешь, оказывается, ты очень талантливый археолог, у тебя, — говорит, — дар особый.
А я говорю:
— С чего ты вдруг взяла, что я талантливый?
Ну Джоанна завела бодягу:
— Вот книжки прочитала и поняла, что ты талантливый.
А я говорю:
— Нечего хитрить, и если мы друзья, давай выкладывай всё начистоту.
Ну она и призналась, что рассказала Пал Палычу про слоновий горшочек, а он почему-то удивился совсем не тому, что я нашёл этот горшок, а просто-напросто тому, что я догадался пробежаться по стенке оврага. И он сказал чего-то там насчёт естественно разрезанного «культурного слоя». Ну это он, по-моему, загнул, хотя мне и приятно, что Пал Палыч считает меня талантливым. Но если бы Пал Палыч знал, что эта мысль пришла ко мне ну совсем дуриком: я тогда даже ни одной ещё книжки не прочитал про археологию, просто думал, как здесь жили генуэзцы и куда всё это подевалось? Если бы Пал Палыч знал всё это, а тем более, если б он знал, что в горшке ничего особенного не оказалось, он бы, конечно, не стал говорить, что я талантливый. И хоть мне не очень-то приятно было разочаровывать Джоанну, но я всё-таки ей сказал:
— А знаешь, на самом-то деле всё ерунда оказалось, ничего в этом слоновьем горшочке стоящего не было: не то что там золотого гребня или фигурок, а вообще гниль какая-то. Так что никакой я не талантливый.
— Как это? Откуда ты знаешь?
— А вот так и знаю. Всё уже раскопано, всё уже известно. А вот ты скажи лучше, зачем ты без спросу нашу тайну выдала?
А Джоанна как будто и не понимает.
— Выдала? — говорит. — Кому же это я её выдала?
— Как это кому? А Пал Палычу?
— Ну, Санька, ты уж совсем того, рехнулся. Это же Пал Палыч! Да ты сам знаешь, какой он мировой, да он никому ни за что не скажет.
— Ещё не хватало, чтобы он говорил! Да разве в этом дело? Всё равно вон археологи всё узнали, но ты не должна была говорить. Я-то не говорил, они сами узнали! А ты растрезвонила.
— Да ну тебя, Санька, ты тронутый, ей-богу! Ну ты же сам говорил, что Пал Палыч совсем другой, чем все учителя, с ним так интересно.
— Ах так, ну и иди водись с ним, если с ним интересно, а со мной можешь не водиться, тем более что я совсем даже и не талантливый.
— Нет, Санька, ты определённо того… на почве скарлатины.
На следующий день я должен был идти в школу. Джоанна показала мне уроки, мы вместе с ней делали алгебру. Но мы больше не говорили ни о Пал Палыче, ни о слоновьем горшочке. Мне всё время было не по себе. Что-то сверлило меня внутри, не давало мне покоя, как будто кто-то третий встал между нами.
* * *
Вечером мы с Булей работали на огороде; а если сказать честно, то не работали, а стояли и наслаждались зрелищем. И было у нас тогда с Булей гордости, я думаю, не меньше, чем у суворовских солдат после того, как они перешли Чёртов мост.
Мы стояли, только Буля не могла стоять так просто: она то веточку от помидора отщипнёт, то плетение огуречное поправит. И так мы стояли и млели, а Буля меня и спрашивает:
— А помнишь, тёзка, как тебе хотелось чего-нибудь вкусненького, а я тебе сказала: вырастет — тогда и будет вкусненькое. Ведь небось не верил тогда?
Мы оба засмеялись, и я даже не ответил Буле: зачем говорить, когда и так всё понятно!
Потом Буля готовила ужин отцу, а я безнадёжно ломал голову над алгеброй — ведь завтра мне надо было уже идти в школу, когда вдруг мы услышали на нашем пригорочке голос отца и ещё кого-то. Этот «кто-то» оказался дядя Николай. Когда они вошли, сразу было видно, что они такие весёлые и счастливые, как будто случилось что-то невероятное: ну, скажем, как если бы нашли сокровища Флинта.
Дядя Николай такой симпатичный, и я только сейчас рассмотрел, какой он молодой, а ведь он — товарищ отца, и, наверное, ему лет столько же, сколько моему отцу. Но бьюсь об заклад: кто не знает, мог бы подумать, что это мой товарищ, а не отца. Он такой курчавый и загорелый, и из-под куртки у него виднеется тельняшка. Он сжал мне руку так, что я даже присел и ойкнул, а потом выжал меня за локти два раза и сказал:
— Давай, брат, заводи музыку, у нас сегодня праздник.
И отец сказал:
— Санька, бросай свои уроки, отметим, чёрт подери, это событие, ведь ты же сын корабельщика!
А событие было вот какое: оказывается, их завод сегодня спустил на воду первый починенный танкер, и они разбили об него бутылку настоящего шампанского.
Мы с Булей тоже так радовались, как будто это мы с ней отправили в плавание первый танкер, а не всего-навсего вырастили огород. И хотя мы с ней уже ужинали, мы тоже сели за стол, и отец налил и мне и Буле красного вина, и мы чокнулись, и тут вдруг Буля соскочила с табуретки, стремглав бросилась в чуланчик и притащила два наших самых больших (наверно, по полкило) помидора, которыми мы собирались удивлять народ, и протянула один дяде Николаю, а другой отцу. Они, конечно, охали и восторгались Булиными способностями и говорили, что помидоры даже жалко разрезать.
Я снова сел за алгебру. Буля занялась своими делами, а отец с дядей Николаем сидели и разговаривали, вспоминали войну и какого-то Алёшку и капитана Ивана Потапыча, а мне совсем не шла на ум эта чёртова алгебра. Я всё думал, какая у отца была долгая жизнь без меня, на фронте, сколько всего случалось. А у меня за это время ничего не случалось, просто я жил с Булей и сам не заметил, как вырос.
И тут на пороге появляется отец и говорит:
— Пойдём, Санька, с нами, одну вещь увидишь.
Я отбросил алгебру, и мы втроём — я, отец и дядя Николай — пошли на наш обрыв. Отец говорит мне:
— Вот туда смотри. — И показал налево к горизонту.
Я стал смотреть, а там в море скала такая длинная, как ящерица, закрывает от нас город, и ничего не видно — просто море было очень красивое. Солнце как раз только что село, а воздух был немножко фиолетовый, а море как будто перламутровое.
И вдруг отец посмотрел на свои часы, и как раз в эту секунду я увидел, что из-за носа скалы — как будто бы от скалы отделился кусочек — выплыл пароход. Отец вдруг рванулся и схватил меня в охапку, а дядя Николай закричал:
— Ура! Слава нашему «Алексею Коробицыну»!
Это и был первый починенный ими и выпущенный в испытательное плавание танкер. А потом мы все трое стояли на обрыве, как будто отдавали военный салют «Алексею Коробицыну». И так мы стояли и стояли, и незаметно сразу стемнело, и воздух из фиолетового стал тёмно-тёмно-синим, и «Алексея Коробицына» уже почти не стало видно, только, если всматриваться так, что больно глазам, можно было ещё увидеть медленно двигающееся пятнышко. И тут, когда его совсем не стало видно, вдруг на нём вспыхнули красные и жёлтые огоньки.
* * *
На следующий день я пошёл в школу, и тогда же всё и случилось. И подумать только, что я своими собственными руками дал этой толстой корове Надьке Кочкиной «Джека-Соломинку»! Пристала: дай интересную книжку почитать, ну я ей и принёс «Джека». Ещё на первом уроке Надька меня спросила:
— Как ты там, в больнице, не скучал?
Но я подумать не мог, что в этом вопросе таится хитрость, и говорю:
— Нет, ко мне приезжали.
И вот на большой перемене Надька встала на парту и закричала:
— Ребята, что я вам расскажу, послушайте!
И я, дурак, уши развесил, ничего ещё не соображаю.
— Вы знаете, почему Анька Каркачиди с нами ни одного разика не ходила ни купаться, ни за кизилом — никуда? Знаете почему? Не знаете! Тане я вам расскажу. Потому что она сразу после уроков мчалась к Кубовым.
Я и тут ещё ничего не понял: ну и нашла чем удивить! Что ж тут такого, что приходила, если я болел, так, выходит, и уроки нельзя принести. А Надька скорчила такую рожу, что аж затошнило. И медовым таким голоском запричитала:
— Ну конечно, Сашенька, можно. Конечно, можно. Кто ещё о тебе позаботится, как не твоя Джоанна.
Тут уж, когда Надька это сказала, меня как будто иглой раскалённой кольнули и глаза аж туманом заволокло. Я как закричу, сам себя не помня:
— Замолчи сейчас же, замолчи, дура, кретинка!
А Надька не останавливается:
— Вы знаете, почему наша Анька Каркачиди себе придумала имя Джоанна? Она вовсе его не придумала, а взяла вот из этой книжки. — И Надька вытащила из парты «Джека-Соломинку» и помахала им над головой. — А Санька — Джек-Соломинка, её жених, она к нему и в больницу ездила, чтоб он не скучал. И отец у него жених, и он сам жених. Ты ведь, Сашенька, Джек-Соломинка, так? Ну скажи, не так?
И не знаю, что это со мной случилось, только, конечно уж, не Надьку я испугался, а просто все на меня так смотрели, все-все, весь класс, а я чувствую, что у меня внутри тряска какая-то начинается, и я закричал:
— А вот не так, никогда я не называл себя Джеком-Соломинкой, это только Анька себя Джоанной называла, и никакой я не жених, а Надька Кочкина — толстая корова, и мать её спекулянтка, не хочет в колхозе работать…
Я ещё продолжал кричать, что Надька такая и сякая, но внутри у меня уже всё похолодело, и холод поднимался к груди, и к рукам, и к голове, и немел язык, и тут я увидел, как Джоанна встала со своей «Камчатки» и спокойно пошла по ряду прямо к нам. Никто больше не смеялся, все молчали, а она подошла прямо к нашей парте и как ни в чём не бывало говорит Надьке Кочкиной:
— Давай сюда книгу.
А на меня даже не взглянула. Надька Кочкина молча отдала ей книгу, и Джоанна опять пошла на свою «Камчатку».
Но, дойдя до середины, остановилась и как заплачет, а потом схватила свой портфель и выскочила из класса. И тут как раз Пал Палыч вошёл. Он вошёл и сразу спросил:
— Что случилось с Каркачиди? — спросил он.
А Надька, змея подколодная, даже после всего не смогла стерпеть и снова свой яд выпустила:
— А она, Пал Палыч, без разрешения ушла.
Было видно, что даже Пал Палыч здорово на неё разозлился и сказал:
— Это не ответ, Кочкина. Я спросил, что с ней случилось.
А Надька и говорит:
— А вы у Кубова спросите, пусть он расскажет.
Но Пал Палыч ничего не спросил.
* * *
Я пришёл домой сам не свой. Внутри у меня было так, как будто бы где-то там вскочил большой чирей, мне даже не хотелось есть — возьму ложку и снова кладу её. Буля посматривала на меня поверх очков, но ничего не спрашивала.
Сколько раз в течение дня Буля так смотрела на меня, глаза её говорили: «Ну что, что? Откройся!» — но ничего не спрашивала. А я не мог. Ну не мог — и всё тут! — ей рассказать. Я тоже несколько раз уже рот открывал. Или начинал издалека, но об этом так и не смог сказать.
…Нам с Булей предстояла важная работа: в следующее воскресенье у нас свадьба, и нам с Булей столько всего надо было сделать, что просто ужас. Во-первых, Буле пришло в голову сделать копчёную колбасу и копчёную рыбу, и мы стали сооружать у нас во дворе коптильную печку. Буля, конечно, была мастер, а я на подхвате. Мы попросили у тёти Веры десяточек кирпичей, и Буля сложила маленькую печечку, но это была не совсем печка, сверху не было никаких дырок, а только вход и выход. Я месил глину, и мы вместе аккуратно замазали её, а потом Буля поручила мне раздобыть хороший, крепкий ящик и кусок железной трубы. Ну, я побежал на свалку за магазином и нашёл там ящик что надо. И я подошёл к тому месту, где был раньше мой слоновий горшочек. Сейчас там была большая дыра, вроде как пещера. Я смотрел, бросал носком в овраг комья земли и думал. А всё-таки ужасно жалко, что я не раскопал его один и что там не оказалось чего-нибудь такого, ну, в общем, сокровища. Может, я бы не отдал всё археологам, а хоть одну какую-нибудь штучку, хоть какое-нибудь там золотое ожерелье я бы оставил и отнёс Джоанне. Она, конечно, не такая, чтобы за подарки мириться, но просто она бы так удивилась и спросила: «Где ты это взял?» А я бы спокойно её спросил: «Может, ты предпочитаешь золотой гребешок с гладиаторами или фигурку писца?»
Я вернулся домой с ящиком, а трубу не нашёл, и нам опять пришлось идти к тёте Вере и брать у неё трубу от самовара. А нужна она была вот зачем: Буля всунула её в дырку печки и замазала, а второй конец трубы сунула в ящик, только сначала мы там сделали полочки такие из палочек, как в кладовке. И получился у нас агрегат — чудо современной техники.
Ты топишь печку, но так, чтоб было больше дыму, чем огня, а дым идёт по самоварной трубе и заходит в ящик, а там на полках раскладывай любые товары и копти, сколько твоей душе угодно. Но только это не то что суп сварить или кашу — тут надо держать целый день, а то и два.
Тётя Вера стояла рядом, смотрела и всё время ахала.
— Подумать только, городская женщина, а такие вещи знает! А мы-то всю жизнь прожили на рыбе и ничего такого не знали.
Печка-рыбокоптилка поразила тётю Веру ужасно; ну и, конечно, тётя Вера ещё знала, что Буля шьёт и рисует, и всё прочее. Тётя Вера сказала, что Буле надо было бы в посёлке открыть курсы народного просвещения. Так она и сказала. Весь посёлок бы ходил, и, ей-богу, толку было бы больше, чем от наших собраний.
И так тётя Вера Булю захваливала, а я хоть и знал всё это и сам, а всё равно мне было приятно, потому что я знал, что тётя Вера совсем не лицемерка и ничего она у Були не выпрашивает, как некоторые другие. Хвалят, когда им чего-нибудь надо. А тётя Вера, наоборот, только нам с Булей помогает. И рыбу-то нам тоже тётя Вера достала: она же всех здесь знала, договорилась с рыбаками, и они продали Буле немного ставриды. Буля сначала вскипятила её в солёной воде, а потом мы её коптили; и она получилась такая вкусная, хоть Буля говорила, что она ещё не готова, — шкурка золотистая, жир прямо так и капает, и так аппетитно пахнет копчёным, что я, например, вполне бы мог съесть всё один. А когда Буля начала делать колбасу, мне даже и смотреть не хотелось и думать об этом! Я ушёл на огород и стал собирать спелые помидоры.
* * *
В следующий понедельник первый урок был история. Пал Палыч, как всегда, быстро-быстро делал перекличку и дошёл до буквы «К».
— «Каркачиди, Кочкина, Кубов», — как пулемёт, тараторил он и тут вдруг остановился и взглянул на «Камчатку».
— Каркачиди! Где Каркачиди? Заболела?
— Они уехали на Урал! — закричали все в классе, и, кажется, я один только этого не знал.
Я незаметно оглянулся и посмотрел на «Камчатку». Пал Палыч сказал:
— Каркачиди уехала? Жаль, талантливая голова ушла из нашего класса.
И тут Пал Палыч вдруг замолчал, и подошёл к окну, и вынул портсигар (а мы и не знали, что он курит), и вынул немецкую зажигалку, и закурил прямо в классе. Стоял там и смотрел в окно, а потом загасил папиросу о подоконник и сказал:
— Эх, Каркачиди, Каркачиди, даже не зашла попрощаться. Ну ладно, начинаем урок.
А я поднял руку, и Пал Палыч спросил:
— Тебе чего?
И я сказал:
— Можно выйти?
И Пал Палыч вдруг посмотрел на меня быстро так, и ещё посмотрел, и сказал:
— Ты ещё не совсем здоров, собирай портфель и уходи домой.
И я послушно собрал портфель, хотя, конечно, был совсем здоров, и пошёл. А в дверях обернулся и сказал: «До свиданья!», но никого не видел, вышел из двери и шёл тихо-тихо по коридору, не зная, зачем я ушёл, и так же тихо вышел из школы. Но когда дошёл до дороги, повернул сразу в другую сторону и побежал, побежал в деревню Васильевку, где жила Джоанна.
Зачем я бежал, я и сам тогда не знал, но так бежал, как никогда не бегал даже на физкультуре, и у меня так закололо в левом боку, и так заболело горло, что я не мог уже дышать. Я подбежал к последнему дому, к Джоанниному дому, и когда увидел, что дверь открыта, у меня чуть не лопнуло всё внутри; я решил, что она ещё не уехала и я так буду просить прощения, совсем забуду про всякую гордость, и может быть, она простит меня.
Но я совсем забыл, что ведь её бабушка осталась, папина мама, а Джоанна уехала. Это я сразу понял, когда толкнул дверь, и, как псих, влетел в комнату, и увидел её бабушку — она подметала пустую комнату, — и я влетел прямо в кучу мусора, в Джоаннины старые тетрадки, и блокнотики, и промокашки. Я ничего не сказал бабушке и ничего не спросил, а повернулся и пошёл обратно. Я увидел на дороге свежую колею от грузовика. Ночью был дождь, а она не размокла, и в глине отпечатались аккуратненькие квадратики от шин.
Я пошёл по дороге, стараясь не наступать на эти квадратики, на следы Джоанниной машины. Я дошёл до развилки и остановился, потому что я не мог идти домой. Да вот, не мог идти домой, хоть у меня дома есть самый лучший друг, какой только бывает на свете, самый понятливый. Но потому-то я и не мог идти домой. Ведь я не могу скрыть от Були, я должен ей сказать, что я предал Джоанну, а как я могу сказать это Буле? Ведь ни разу, ни разу такого со мной не было. Буля верит в меня, а я ей должен это сказать. Я и пошёл не по той дороге, которая ведёт к посёлку, а пошёл по дороге, ведущей к школе. Я вдруг понял, кого мне надо срочно увидеть — Пал Палыча, я понял, что именно он мне сейчас необходим. Почему-то мы оказались с ним связаны через Джоанну. Я вспомнил, как он достал портсигар и закурил прямо в классе, когда узнал, что Джоанна уехала. Джоанна его обидела: не попрощалась с ним даже. И он переживал из-за этого. Выходит, что он тоже её любит. Почему я говорю «тоже»? Разве я её люблю?!
Я открыл дверь учительской. Там сидел Пал Палыч над нашими тетрадками. Он нисколько не удивился, увидев меня. Как будто бы так и надо. Как будто он меня ждал. Я не думал заранее, что я скажу Пал Палычу, вообще не думал, как это будет, о чём мы будем говорить, а тут, когда зашёл, меня вдруг осенило:
— Пал Палыч, вы не думайте, что Каркачиди увезла вашу книгу, она у меня.
— Заходи, Кубов, присаживайся, поговорим.
Пал Палыч ничего не ответил про книгу. Может, он не расслышал, а может, хотел мне этим сказать: «Знаю, что это всё враки, что вовсе не из-за книги пришёл».
Я подошёл, сел на стул сбоку стола. Мы оба долго молчали, и Пал Палыч снова, как тогда, достал портсигар и закурил папиросу.
И я сразу понял, что Пал Палыч знает всё, что там у меня творится, и может, даже знает про то, в классе. Вот он сейчас заговорит, вот у него уже подрагивают усы…
Я онемел. Я стал каким-то железобетонным, и только бухало в ушах. Я ждал, что скажет Пал Палыч.
И Пал Палыч начал:
— Вот, Кубов, что я хочу тебе сказать… Это было в последнее предвоенное лето, когда я начал самостоятельные раскопки. Я тогда только что кончил археологический…
— Вы начали раскопки, вы…
Пал Палыч сбил меня с копыт одной левой, положил на обе лопатки, в секунду провёл три раунда и во всех победил.
— Так вот, Саша, понимаешь ли, я знал, я чувствовал, что стою на пороге большого открытия, может быть, великого. Уверен был в том, что у меня начинается жизнь, о которой я мечтал, — жизнь учёного. И бац! Война!..
Я слушал Пал Палыча, боясь пропустить хоть слово, хоть букву. Всё, что он говорил, было совсем даже не о Джоанне и не о том, о чём я хотел с ним поговорить, но в то же время я почему-то почувствовал, что всё это имеет отношение и ко мне и к Джоанне.
— И вот понимаешь, Саша, война!..
— Ну а потом?
— А потом… Потом началась совсем другая жизнь — школа, кружок… И потом нога, Саша.
Пал Палыч достал ещё одну папиросу, закурил её от первой. Он встал, и так противно, так визгливо заскрипел его протез.
— Так вот, Кубов, ты понимаешь, надеюсь, что я говорю с тобой сейчас не как учитель, а… ну как старший товарищ, что ли. Так вот что. Бывают обстоятельства, которые сильнее нас. И они ломают нашу жизнь. И это обидно, очень обидно. Но если выбор зависит только от ТЕБЯ, то ты должен его сделать. Понимаешь, должен. Не должен предавать…
Я так вздрогнул, что даже подскочил на стуле. Но Пал Палыч говорил совсем не о том.
— Не должен предавать то дело, которое ты избрал, которым ты послужишь людям… как бы не были тягостны твои личные обстоятельства. Ведь смешно думать, что личные обстоятельства могут быть только у взрослых. Ведь правда?..
* * *
В воскресенье у нас была свадьба. Рано утром отец поехал в город за Ксенией Ивановной. Они должны были сначала пойти в загс, а потом приедут к нам домой и все приглашённые отцом и Ксенией Ивановной.
Мы с Булей в этот день сбились с ног, хотя про Булю можно было сказать, что она всю эту неделю сбивалась с ног, и непонятно, на чём сейчас стоит.
У Були всё уже было готово, и, оказывается, всё равно ничего не готово. Табуреток не хватает. Стол маленький. Чтобы собрать нужное количество табуреток, я обегал всех соседей. За посудой Буля пошла сама к тёте Вере и сказала мне, что хочет посоветоваться со мной, не обидится ли отец и Ксения Ивановна, если она пригласит и тётю Веру и тётю Марусю Кочкину (это мать Надьки Кочкиной). С соседями надо жить дружно, и должна быть не такая дружба, как у волка с лисой, а настоящая, душевная, чтоб делить и хорошее и плохое.
Я, конечно, не возражал, хотя мне не очень-то хотелось видеть на нашей свадьбе мать Надьки Кочкиной, но я думал сейчас не о дружбе с соседями, а о том, что тётя Вера и тётя Маруся Кочкина помогут Буле, а мне, я знаю, Буля не доверит мыть чужую посуду.
Вот, наконец, у нас всё готово. Стол мы поставили во дворе — вернее, не стол, а три стола (притащили тёти Верин и тёти Маруси Кочкиной), — накрыли белыми скатертями, а один простынёй, но всё было так тесно заставлено едой, что и не видно совсем, что это простыня. Посередине красовалась колбаса Булиного изготовления, и пироги, и баклажанная икра, а огурцов и помидоров прямо горы.
На большом длинном блюде лежала копчёная ставрида. Стояло настоящее покупное вино, не считая того, что тётя Вера и тётя Маруся Кочкина принесли ещё своё домашнее вино: один сорт — из винограда, а другой — из яблок.
Но это ещё не все. Разве Буля могла обойтись без неожиданного! В конце обеда Буля собиралась подарить отцу и Ксении Ивановне свой главный сюрприз — огромный пирог, чудо кулинарного и художественного Булиного искусства. Он стоял до поры до времени в комнате на круглой доске, которую мы с Булей сбили и зачистили специально для этого пирога. Ещё со вчерашнего дня весь посёлок приходил дивиться на это чудо. Но секрет знали только мы с Булей. Пёкся-то он не сразу, а сначала мы с Булей начертили чертёж пирога в натуральную величину, а потом чертёж разрезали на части, и Буля пекла пирог по частям, а потом уж составила все вместе, и он так крепко пригнался, что никто-никто не догадался об этом.
И вот, наконец, приехал отец с Ксенией Ивановной, и все гости, и дядя Николай, которому я ужасно обрадовался. Ксения Ивановна была в голубом платье, чёрные косы уложены на голове, как корона, и отец был в белой новой рубашке, и он всё время смеялся. Все сели за стол, и хвалили угощения, и говорили, какая Александра Васильевна хозяйка. Выпили, как полагается, за здоровье молодых, и я тоже выпил, мне налили шипучего яблочного вина, а дядя Николай, который сидел рядом со мной, говорил, что это настоящий яблочный сидр и что точно такой пьют французы.
Говорили все сразу, было шумно и весело, желали счастья отцу и Ксении Ивановне, и Буле, и мне, а отец и Ксения Ивановна желали счастья всем гостям и пили за мир во всём мире, и за счастье всех людей, и чтоб никогда больше не было войны.
Буля с другого конца длинного стола строго посматривала на меня, когда я уже в третий раз подливал себе яблочного сидра, и я видел, что она сердится, но у меня вдруг стало такое хорошее настроение, в первый раз за все эти дни я вдруг почувствовал, что мне легко-легко, и хотелось петь и смеяться, и все вокруг были такие весёлые.
А потом завели патефон, и я хотел идти танцевать, но дядя Николай крепко схватил меня за руку, притянул к себе и зажал между колен, как маленького, но я не рассердился: он такой хороший, и я по нему ужасно соскучился.
Он меня стал спрашивать, продолжаю ли я собирать марки, а я сказал, что собираю, но ни одной новой пока не собрал, потому что тут никто не собирает и меняться не с кем. А он сказал, что когда у него будет время, чтоб я приехал к нему на завод, и мы пойдём после работы, и он меня познакомит с настоящими филателистами.
— Ну, а чем же ты сейчас увлекаешься? — спросил дядя Николай.
— Морисом.
— Морисом? Что это за зверь?
— Это… это конь.
— Конь?
— Да, конь, белый, в серых яблоках, и он шевелит ушами и дёргает носом, и его держит под уздцы принцесса, она его мне подарила и к нему такую чудную клетку с ручкой, чтобы можно было носить с собой.
Дядя Николай так странно посмотрел на меня и пригладил мне вихры.
— Не пей больше яблочного вина, пойди проветрись немного.
Я пошёл. Пошёл я, взял клетку с Морисом, сел на обрыв, а Мориса выпустил из клетки, и он скакал по мне, он же стал совсем-совсем ручной, и мне уже не было весело, а, наоборот, сами собой навёртывались слёзы. Я боялся расплакаться, совсем как девчонка, и стал часто-часто моргать глазами, а потом стал смотреть на море. Оно было тёмно-тёмно-синим, почти чёрным — настоящее Чёрное море, как на Булиной картине, а вон там, далеко, какой-то пароход. Сейчас он приблизится. Это белый парусник, а на носу стоит капитан в бархатной куртке и в шляпе с пером и курит трубку… Мы подплываем, нас встречает много-много лодок, все нас приветствуют, кричат «ура!», а на берегу стоит Джоанна и держит под уздцы Мориса, а кругом генуэзцы. Это же настоящий генуэзский порт. Тут я вдруг вспомнил про свой слоновий горшочек и решил, что я хоть лопну, но найду настоящий клад, такой, что все ужасно удивятся, и отнесу археологам, а их начальник возьмёт меня к себе главным кладоискателем.
Я так сидел, сидел и просидел, наверное, долго, даже, кажется, заснул, потому что помню, как неожиданно прозвучал над головой голос отца:
— Саня, Саня, пойди попрощайся, гости уходят.
Я потянулся и встал. Морису надоело прыгать, и он залез в клетку и сидел там, хоть она была открыта. Я пошёл прощаться с гостями, и мы втроём с отцом и Ксенией Ивановной провожали всех до автобуса. Дядя Николай на прощание снова приглашал меня заходить к нему и насчёт марок и вообще. Гости меня целовали и обнимали, а мне было неудобно, потому что в одной руке у меня была клетка с Морисом.
Мы вернулись домой, я буквально спал на ходу, но завтра, слава богу, не надо идти в школу, потому что я отпросился ещё в субботу. Завтра отец и Ксения Ивановна уезжают в отпуск на целый месяц к её родителям в Харьков.
Тётя Вера и тётя Маруся Кочкина убирали со стола посуду и складывали на тарелки остатки большого пирога, а я даже и не увидел, удивился ли отец этому пирогу и была ли довольна Ксения Ивановна. Буля сидела на табуретке, но всё время порывалась встать, а тётя Вера и тётя Маруся Кочкина снова её усаживали и говорили, чтоб она легла, что у неё неважный вид. Я вспомнил Булины взгляды через стол, когда я потягивал шипучее яблочное вино, и боялся разговора, но Буля ничего не сказала, может быть потому, что мы вошли в кухню втроём и Ксения Ивановна обняла меня за плечи.
А наутро мы завтракали вчетвером. И не на кухне, как всегда, а в комнате. На Ксении Ивановне был длинный блестящий халат с синими и красными большущими цветами, и косы лежали так же короной. Я удивился, что дома надевают такую дворянскую роскошь, как в театре. Моя Буля всегда ходила в тёмно-синем сарафане, который сшила ещё в войну из отцовских брюк, а внизу у неё была моя старая лыжная куртка. Тут я посмотрел на Булю и увидел, что на ней вовсе не лыжная куртка: под сарафаном у неё новенькая белая кофта с отложным воротничком, и даже была пристёгнута брошка-собачка в красную крапинку, как мухомор. Да, конечно, Буля и вчера была в новой кофте, а я даже не заметил. И я спросил Ксению Ивановну:
— А вы заметили на бабушке новую кофту? Это она сама сшила.
Буля непонятно как-то посмотрела на меня, а Ксения Ивановна рассмеялась.
Потом мы собирали в дорогу Ксению Ивановну и отца. Собирала, конечно, Буля, а я крутился у неё под ногами. Буля заворачивала в газету колбасу и пироги с мясом, а Ксения Ивановна протестовала, смеялась и говорила, что им это не съесть за целый год и чтоб мы оставили себе. Ксения Ивановна не знала, что мы с Булей не притронулись ни к этой колбасе, ни к этим пирогам с мясом.
Поезд уходил поздно вечером, и отец говорил, что нам не надо ехать провожать: как мы ночью домой будем возвращаться? Но мы всё-таки поехали.
И вот мы уже распрощались, и Буля велела отцу написать сразу, как только приедут, и уже велели провожающим покинуть вагон, Ксения Ивановна достала из щёлкающей сумочки шоколад «Дирижабль» и дала мне.
Поезд ушёл. Мы с Булей побрели на автобус. В автобусе было битком набито народу, и он, как назло, еле-еле тащился и долго стоял на каждой остановке. Я видел, что Буля устала и ей не по себе, и хотел, чтоб кто-нибудь уступил место, но стеснялся попросить и только гипнотизировал взглядом одного дядьку, чтоб внушить ему мысль на расстоянии, что надо встать и уступить место старой женщине, которая к тому же плохо себя чувствует.
И когда мы, наконец, доехали, и поднялись на свою горку, и Буля взялась рукой за калитку, я испугался, что ей будет так же плохо, как в тот раз, когда мы ехали из больницы. Но ничего. Буля только постояла немного, и мы пошли снова и сразу без чая легли спать.
А ночью Буля меня разбудила. Я сначала ничего не мог понять и совсем запутался в темноте: ведь электричество у нас выключают в двенадцать часов, пока наконец не зажёг фитилёк с постным маслом. Тогда я подбежал к Буле, и мне показалось, что у неё всё лицо чёрное, но это просто свет был такой. Буля держалась за грудь и показывала рукой на швейную машину, а я не мог взять в толк, при чём здесь швейная машина, пока, наконец, Буля каким-то не своим голосом прохрипела: «Ящик».
И тогда я сразу вспомнил, что Буля держит свои лекарства в ящике для ниток. Я схватил ящик, да так, что он у меня весь выдвинулся и полетел на пол, по полу покатились катушки, но пузырёк с каплями, слава богу, не разбился. Я выбежал на кухню за стаканом, но увидел, что Буля машет рукой, подбежал к ней — она пыталась что-то сказать, но я не понимал что. Наконец, я понял слово «маленькие» и бросился снова к машине, встал на четвереньки и стал раскидывать тряпочки и нитки и нашёл маленькую стеклянную пробирочку, а в ней малюсенькие такие таблеточки, хотел дать Буле несколько, но Буля выпила только одну. Может разве помочь одна такая малюсенькая таблетка? Но Буле почти сразу стало легче. Она смогла говорить и сказала мне:
— Пойди за тётей Верой.
Я побежал к тёте Вере (она жила рядом, через два дома), постучал в окошко и закричал:
— Тётя Вера, бабушке плохо!
Тётя Вера вышла почти что сразу, в одной рубашке, а сверху ватник, и мы побежали снова к нам, и тётя Вера всё повторяла:
— Я так и знала, что этим кончится.
Потом у калитки она остановилась и сказала:
— Знаешь что, не теряй времени, беги в поссовет, там сторож, скажи, что бабушка умирает, пусть звонит в город, вызывает «скорую помощь».
Я прибежал в поссовет; сторож спал на ступеньках и никак не мог сначала понять и спрашивал, кто мы и где живём, но я, наконец, догадался назвать тётю Веру, и он тогда встал, открыл ключом дверь и стал звонить в город.
Когда я прибежал домой, то увидел, что у нас сидела не одна тётя Вера, а ещё и другие соседки. Я подбежал к Буле, но говорить не мог, задыхался, а тётя Вера и не спрашивала, вызвал ли я «скорую помощь». Я сел на край Булиной кровати и взял её руку в свою и вдруг ощутил, что Булина рука такая холодная и такая тяжёлая. И жуткая мысль пришла мне в голову. Нет, Булино лицо было живое. И она как-то странно двигала бровями, будто разговаривала сама с собой и чему-то удивлялась. Я услышал, что кто-то из соседок сказал: «Началась агония». Я знал, что это значит. Но этого не может быть! Она же не болела. Это просто приступ, он пройдёт. Сейчас приедет врач.
Я бросился к дверям посмотреть, не едет ли «скорая помощь», но тётя Вера остановила меня и сказала:
— Не суетись, Саша, попрощайся с бабушкой, она умирает.
Я снова подошёл и сел на Булину кровать. Веки её вздрагивали, как будто она силилась, но не могла раскрыть глаза. Я взял её холодные пальцы и стал растирать их и дышать на них. Тётя Маруся Кочкина сказала:
— Она уже ничего не чувствует.
Но я не верил, ни за что не хотел верить, что Буля может умереть и даже не попрощаться со мной и я не успею ей ничего сказать!
— Буля, бабушка, чем ты была для меня! Я не могу, не могу без тебя, просто даже не знаю, как же я буду без тебя жить!
И я почувствовал, как Буля чуть-чуть сжала мою руку.
* * *
Когда приехала «скорая помощь», Буля была уже совсем, совсем мёртвая, я это уже видел, а всё-таки надеялся: вдруг доктор сделает какой-нибудь укол, может быть, это только она без сознания. Но доктор даже не стала раскрывать своего чемоданчика. Она вошла, взглянула на Булину кровать и сразу спросила, кто тут ближайшие родственники, и села к столу, а тётя Вера стала ей всё объяснять про Булю и про отца, а потом стала говорить, что она так и думала, что так кончится, потому что Александра Васильевна вот нисколечко о себе не думала, а ей было уже очень, очень плохо, ещё когда была свадьба, но она не хотела им портить настроение.
Но доктор её перебила и строго сказала:
— Теперь уж ей ничем не поможешь, лучше подумайте о мальчике и как всё организовать. Кто будет заниматься похоронами?
Тут вмешалась тётя Маруся Кочкина и сказала:
— То-то и оно, что некому. Я говорю, надо зятя вызвать, как же ещё-то…
Доктор сказала:
— Ну, в общем, вот вам справка, по ней получите нужные документы, а там разбирайтесь. — И она уехала.
А тётя Вера и тётя Маруся Кочкина стали спорить, нужно ли вызывать моего отца и Ксению Ивановну или нет. Тётя Маруся Кочкина мне и говорит:
— Ты-то что молчишь, как воды в рот набрал, тебя разве не касается?
А тётя Вера ей говорит:
— Отстань от него, Маруся. Я тебе дело говорю, посчитай-ка — ты сама знаешь, как телеграммы сейчас ходят, — когда они получат, ещё когда билет достанут и доедут.
— Ну, билет им дадут по телеграмме.
— Да всё равно не меньше пяти дней получится. Зачем же зря людей срывать с места, небось всю войну без отпусков воевал. А что мы его без толку будем тягать. Мы с тобой всё и сделаем, а потом уж пропишем в письме.
— Сделаем, сделаем, а деньги-то кто даст?
— А, вот чего тебя беспокоит, ну ты, Маруська, как есть кулачка! Да были бы у меня, я б всё сама дала. Что же ты думаешь, что Лёня-то с Ксеней не отдадут?
— Отдадут, не отдадут, да лишних-то нет.
— Ну это ты, Маруська, брось. Кому ты говоришь? Да я могу тебе сказать, на сколько ты наторговала, а у меня, знаешь, одна зарплата, а сад — дай бог себе повидла сварить хоть бидончик.
Тётя Вера вдруг замолчала, потом говорит:
— Нехорошо так, Маруся… — и заплакала. — У меня завтра получка, я всё отдам, а если не хватит, ты уж добавишь.
Я вроде и слышал каждое слово, что они говорили, но как будто до меня не доходило, а тут вдруг дошло, что они о деньгах заспорили, и я сказал:
— У нас есть деньги, вот здесь.
И я подошёл к швейной машине и выдвинул тот ящик, где у Були лекарства лежали, там, с краю, лежала железная коробочка из-под чая. Я отдал её тёте Вере, а она открыла и говорит:
— Тут только двести рублей, тебе ещё жить и жить до приезда отца. Да ты об этом не думай, Саша, деньги — это ерунда…
Булю похоронили, а тётя Вера так и не пошла к себе, она осталась жить у нас и сказала:
— Сдам тебя с рук на руки отцу.
В посёлке была горячая пора — все убирали свои огороды, варили варенье и всякое такое, и я сказал тёте Вере:
— Тётя Вера, не думайте, что я маленький, я вполне могу быть один, а вы идите к себе и варите варенье.
Тётя Вера сказала, что никуда она не пойдёт, но что верно, то верно — надо нам убрать огород, а то бабушка трудилась, портила себе здоровье… И тётя Вера захлюпала и высморкалась в передник.
Я даже не мог подумать подойти к огородной калитке, ну вот не мог, и всё тут. И я сказал:
— Давайте мы сначала у вас все сделаем, а потом у нас.
Тётя Вера посмотрела на меня и протянула:
— Ну, ла-а-дно.
И мы каждый день, как тётя Вера приходила с работы, отправлялись к ней. У неё был маленький сад и яблони совсем крошечные, но яблок на них полно. Мы собирали яблоки и самые хорошие, крепкие заворачивали в старые газеты и складывали на полки в сарайчике, а те, которые с червоточиной, мы бросали в большой таз.
Потом тётя Вера прямо тут же на улице поставила на ребро два кирпича, а я собрал сухие яблоневые ветки и огуречные плети и подкладывал всё это под таз между кирпичами понемножку, чтобы не было дыма, а то варенье так дымом пропахнет, что и есть не захочешь.
Тётя Вера говорила:
— Ну, всё уже у меня поделано, теперь к вам пошли, а то дожди зарядят и помидоры погниют.
А я оттягивал:
— Как же, тётя Вера, участок надо убрать.
Хватал грабли и начинал сгребать оставшуюся ботву.
В конце концов тётя Вера вздохнула и сказала:
— Вот что, Александр, хватит тебе бабьими делами заниматься, давай-ка за ум берись, а на вашем огороде я сама всё поделаю — невелика работа готовый урожай собрать.
И я пошёл в школу. Когда я подумал, что всего-то прошло пять дней, всего пять дней, даже и представить себе невозможно! Больше всего на свете я боялся взглядов, и я так опустил глаза, чтобы видеть только у себя под ногами и больше ничего, и так я дошёл до своего класса и до своей парты. Конечно, я ничего не понимал, что объясняют, и даже ничего не слышал, только думал, хоть бы ничего никто у меня не спросил и про меня не сказали. Только об этом сидел и думал. Я, конечно, понимал, что надо идти в школу, нельзя же теперь вообще бросить школу, но какая это была пытка! Но, кажется, все меня решили оставить в покое. После уроков я выскочил первый из класса, прибежал домой, схватил что-то на ходу, сбросил форму и надел свои сатиновые шаровары, взял клетку с Морисом и ушёл. Я боялся, что вот-вот должна была вернуться с работы тётя Вера. В этот день я даже и её не мог видеть.
Я вышел из посёлка и пошёл по дороге в горы. Был конец сентября, и стояли ещё такие жаркие дни, каких у нас в Москве не бывает даже и в разгар лета. Время от времени я останавливался, чтобы нарвать кизила, он был чуть переспелый и такой душистый и сладкий.
Чуть в стороне от дороги росла старая дикая груша. Я подошёл. Какая приятная лёгкая тень под деревом, до чего вкусные маленькие твёрдые дикие груши. Я выпустил Мориса из клетки, пусть он поест вволю груш, вон их сколько в траве, а сам лёг под дерево.
Земля была такая сухая и горячая, я чувствовал её, как будто прижался спиной к печке.
Не переставая стрекотали кузнечики, жутко пахло полынью, горячо грело солнце. Всё это было так, я понимал, что это так, но совершенно ничего не чувствовал, как будто я смотрел на всё это через толстое стекло.
Низко-низко пролетел самолёт, незнакомый шум, наверно, испугал Мориса, и он со всех ног бросился ко мне, уткнулся носом мне под мышку и прижался к моему боку. Я чувствовал, как дрожит всё его тело. И тут я заплакал. Я заплакал первый раз. Я плакал, и тело моё тряслось, наверно, ещё сильнее, чем у Мориса, а он поднял на меня глаза, он, наверно, ничего не понимал и только двигал ушами…
С того дня у меня так и пошло. В школе я еле-еле отсиживал уроки, и учителя почему-то меня не спрашивали, а потом я брал Мориса и уходил в горы. Я облюбовал одно такое местечко, меня никто там не видел, зато я видел всё. Это было что-то вроде неглубокой пещеры в скале, которая висела прямо над морем. К моей пещере вела чуть заметная тропиночка, кругом росли кривые перекрученные сосны и колючие маленькие дубки, так что мою тропиночку и совсем не было видно. Я полюбил там сидеть и часто сидел часами и смотрел на море до того, что у меня начинали болеть глаза. Но сколько ни смотрел я на море, мне ни разу не привиделся больше тот белый парусник, который привиделся мне однажды, и я думал, будет ли ещё в жизни хоть что-нибудь хорошее, и почему, почему так быстро всё кончилось, а я и не знал, как мне было хорошо раньше.
Возвращения отца и Ксении Ивановны я ждал со страхом, я знал, что они сейчас счастливы, а мне казалось, что я уже никогда, никогда не буду счастлив, и я думал о них со снисхождением, как будто я взрослый, а они дети.
Единственный человек, который, наверно, понимал всё, что во мне происходит, был Пал Палыч, но я бегал от него, как от огня. Почему-то с ним мне было тяжелее, чем с кем-нибудь другим. Не знаю сам почему. А тётя Вера, при всей своей доброте, не могла понять, да и просто не знала всех моих бед.
Однажды я вернулся домой с гор усталый и разбитый своим непосильным одиночеством. Мне казалось, что сил у меня хватит только дотащиться до своей кровати.
Вдруг я вижу: посреди двора стоит тётя Вера, явно меня поджидает.
— Послушай-ка, Саша, — говорит она. — К нам заходил рыжий этот, Александр Григорьевич, что ли? Говорит, что хочет тебя оформить на работу. — И тут вдруг тётя Вера засуетилась, вытащила из кармана фартука платок, высморкалась и начала причитать: — Вот что значит без бабушки остаться, отцы, они что, им лишь бы скорей кусок хлеба зарабатывать! А учиться!..
Я прямо обалдел.
— Тётя Вера! — закричал я. — Что это вы говорите, какой кусок хлеба! И какие там отцы! Вы же знаете, что отец и не знает ничего, а школа тут ни при чём, они же ненадолго приехали. Что я не могу вечером, что ли, уроки делать?
Тётя Вера успокоилась, да, видно, она это так просто наговорила — нервы сдали!
А у меня вся усталость прошла, как будто бы её и не было, я прямо как будто от долгого сна очнулся.
— Тётя Вера, — закричал я как сумасшедший, — дайте мне чистую рубашку, я пойду к археологам!
— Куда же ты, ей-богу, на ночь глядя? Сходил бы завтречка.
— Ой, тётя Вера, да я не дотерплю до завтра.
Я вымылся по пояс под умывальником на улице, растёрся так, что щёки и грудь у меня стали красные, как горный мак, и, схватив рубашку, которую тётя Вера вынесла из дома, побежал к палаткам археологов, на ходу натягивая рубашку.
— Господи ты боже мой, — вслед мне причитала тётя Вера, — вот торопыга-то, рубашку-то хоть бы на месте надел! Разобьёшься же, ей-богу.
А я мчался, сердце у меня стучало, нетерпение было у меня такое, что я еле жив остался, пробежав эти триста метров, которые отделяли от нашего дома палатку археологов.
«Как я мог, как я мог! Почему я не ходил к ним столько времени!»
Я вбежал в палатку, дыша, как загнанная лошадь.
Вбежал и врос в землю, как каменный столб. Сидят в кружок на земле люди, один голову поднял, и я смотрю — ну прямо пират, настоящий пират с нашей вывески: глаз завязан чёрной повязкой, шляпа соломенная с большущими такими полями и ещё шрам через всю щёку. А второй — турок какой-то, что ли, или багдадский вор? Чалма на голове, борода рыжая, а усы чёрные. Ну этого-то я сразу узнал: Александр Григорьевич полотенце на голову намотал, ненастоящие у него только усы — чёрные, углём нарисованные, а борода рыжая. Ну а вот того пирата, Виктора, я, ей-богу, только потом узнал, а сначала даже понять ничего не мог. А у третьего, у художника Геры, лента через плечо и какой-то орден на животе — прямо фельдмаршал Суворов у походного костра, он как раз миску держал в руках, а Коля, который у них вроде и за повара и за всё про всё, накладывал ему в миску из котла кашу.
Я подумал, что, может, Гера картину будет писать — что-нибудь вроде запорожцев, а зачем бы тогда он и сам нарядился? Оказывается, они просто так нарядились, просто они такие весёлые, ну такие весёлые, совсем на взрослых даже не похожи.
Багдадский вор, то есть Александр Григорьевич, поклонился мне и говорит:
— Проходите, достопочтенный, сегодня вам не угрожает быть съеденным, сегодня у нас пшённая каша с тушёнкой, так что не бойтесь, проходите, садитесь, будете самым дорогим гостем на нашем пиру. — И он отобрал ложку у фельдмаршала Геры — и тот только глазами заморгал — и протягивает мне.
И до того у них вкусно пахла пшённая каша с тушёнкой, что я навернул хорошую порцию, хоть — не подумайте — тётя Вера меня кормила что надо.
А потом мы пили чай, который они варили прямо в ведре — вот чудаки! — высыпали туда пачку чаю и яблок нарезали. Ну и вкусный же чаёк получился!
А потом пират Витя взял гитару и стал играть и петь, и все ему подпевали, а песни были такие, что я таких сроду и не слыхал, такие мировецкие и запоминались сразу, прямо сами в голову лезли. Вот, например, что за песенка:
На острове Таити Жил негр Ти́ти-Ми́ти, Жил негр Тити-Мити И попугай Кэкэ́. Вставали утром рано, Съедали два банана, Съедали два банана. Валялись на песке.Ну и смешная, ну такая смешная песенка! И ещё много в таком роде. А то просто всякие объявления и вывески как песню пели.
Тростей, зонтов и чемо-о-данов Ты на ступени не клади! Не облокачивайся на перила. Стой справа, слева проходи!И как я столько лет на свете прожил, а ни одной такой песенки не знал, обидно даже стало.
А потом они запели песню, которую я знал, — про пиратов из фильма «Остров сокровищ», и я так обрадовался, что знаю эту песню, и вместе с ними стал петь; я знал все слова и стал петь погромче, чтоб они слышали, что я знаю все слова, а припев: «Эге-гей и бутылка рома!» — я так кричал, что в горле больно стало.
А потом, когда песню допели, Александр Григорьевич меня и спрашивает, знаю ли я о том, что веселюсь на своих именинах.
— Нет, — говорю я, — веселюсь просто потому, что мне с вами весело, а день рождения у меня уже был, ещё летом.
А они все переглянулись так хитро, и Александр Григорьевич говорит, только, уж не мне, а им, ну то есть всем археологам:
— Так-таки совсем и не догадывается! — И вдруг тут он посерьёзнел и такое сказал, что я чуть не лопнул и от удовольствия и от радости. А сказал он то, что сегодня, оказывается, день рождения нашей экспедиции, и причём не простой экспедиции, а первой послевоенной. — Для тебя первой, — сказал Александр Григорьевич, — а для нас больше чем первой. — Так он и сказал: «…больше чем первой». — Первая послевоенная! Ты хоть понимаешь, тёзка, что это значит?
Оказывается, как раз сегодня они получили ответ из Москвы, что наша экспедиция утверждена и что я (подумать только! Нет, это даже трудно себе представить!) утверждён штатным коллектором.
Я как вскочил, так даже свой чай вылил прямо на орден Геры, ну а орден-то у него на животе висел, так что и Гера вскочил и тоже стал кричать, только, кажется, не от радости.
А я как закричу:
— Дядя Саша!
А Александр Григорьевич даже зубами заскрипел.
— Какой, — говорит, — я тебе дядя? Я начальник твой, и раз уж попал ко мне в подчинение, чтоб дисциплина была, — говорит, — как на фронте.
— Да я, — говорю, — знаете как рад? Это от радости!
А он говорит:
— Знаю, ещё бы ты был бы не рад, ну всё равно это не повод, чтоб панибратствовать.
А Гера тут и говорит:
— Если бы он был не рад, я бы сейчас вот своими руками снял бы ему штаны и так бы ему всыпал по первое число, а потом выпустил бы его без штанов: иди, парень, на все четыре стороны, только к археологам близко не подходи.
А Витя рассказал, что, когда его приняли первый раз в экспедицию, он от радости целых пять минут ходил на руках, а потом задел ногами буфет, и буфет покачнулся, и оттуда выпал любимый мамин сервиз, который она всю войну берегла, не выменяла.
А потом Александр Григорьевич вспомнил про то, как я говорил, что у меня «глаз насквозный», и сказал, что они будут давать меня напрокат другим экспедициям в обмен на тушёнку и сгущённое молоко.
Я, конечно, понимал, что это шутки, но всё-таки немножко обиделся, а Александр Григорьевич засмеялся и сказал, что в археологи принимаются только настоящие мужчины, а настоящие мужчины испытываются двумя вещами — несчастьем и солёной шуткой и что я первое испытание прошёл, а второе ещё не совсем.
И тут вдруг Александр Григорьевич стал какой-то серьёзный и говорит, вот мы, мол, тебя все шуткой испытывали, а если говорить всерьёз, то нашу экспедицию только из-за тебя и утвердили.
А я и говорю:
— Сами говорите, что всерьёз, а сами опять шутите!
А Александр Григорьевич вроде бы совсем стал серьёзный, так что я и не пойму ничего. И Витя тут ещё говорит:
— Точно, старик, из-за тебя.
Ну, а я и совсем ничего не понимаю:
— Как это так?
— А вот так, — говорит Александр Григорьевич. — Всё из-за твоего слоновьего горшочка.
— А я, хоть застрелите меня, всё равно ничего не понимаю: там же хлам какой-то был, ерунда всякая. Свалили в большой горшок, что не нужно, чтоб на свалку тащить, поленился генуэзец какой-то.
— Стоп! — вдруг прогремел тут Александр Григорьевич. — Стоп, машина! Генуэзец, говоришь; был бы генуэзец — не было бы экспедиции. Вот тебе и генуэзец. Нет, брат, тут тебе лет этак на пятьсот пораньше будет, чем генуэзец. Вот это-то всё барахло, которое, ты говоришь, поленились на свалку оттащить, и рассказало нам, что это был не генуэзец вовсе, а киммериец, причём, судя по его скарбу, вполне мирный киммериец, а не вояка какой-нибудь. А почему вдруг киммериец и пифос античный, а? Ответь мне. Не можешь. Этого, брат, и мы сказать пока не можем, а вот покопаем ещё, тогда, может, и скажем. А тебе-то, тёзка, ещё учиться ох как надо!
Я совсем сник. Хоть Александр Григорьевич говорил со мной совсем просто, без всяких там научных слов, я понял, что я ничегошеньки не знаю, сколько мне всего надо узнать и как я только смогу!
Но Гера снова взял гитару и запел чудесную песню, и мои заботы улетучились. Гера пел песню об археологах и смешную и серьёзную сразу, про то, что вот Колумб ехал открывать новые земли далеко за океан, а мы туда поехать не можем, потому что билет дорого стоит, но зато мы рядом, в своём собственном дворе, открываем новые земли.
И это ведь точно! Как будто бы он пел ну прямо про нас. У нас как раз так и получалось. Мы открыли какой-то новый мир ну совсем рядом, только вот завернуть за дом и пройти двадцать шагов.
Мне стало снова до того хорошо с ними, с моими новыми друзьями, до того легко и весело, что я прямо не знал, что бы мне такое сделать. Вдруг я сорвался, выбежал из палатки, побежал домой, влез на свою кровать и стал отшпиливать вывеску «Приют пиратов» (я её повесил тоже на стенку, рядом с картиной), побежал снова к ним, влетел в палатку и развернул перед ними вывеску — вот!
Они обалдели, конечно.
— Ну, тёзка, — сказал Александр Григорьевич, — ты, оказывается, первоклассный художник, что же ты скромничал и говорил, что рисовать не умеешь?
Мне стало стыдно: я же и не думал это выдавать за своё, и я сказал:
— Нет, это не я рисовал, это… в общем, один человек… Я принёс просто показать. Она на нашем доме висела, и я подумал, что такую же можно и вам повесить на палатку.
Вернее, когда я побежал за ней, я ни о чём таком и не думал, просто ни о чём не думал, а теперь как-то неудобно стало: может, они решили, что я подарить её принёс, а теперь жалею.
— Вы только не подумайте, что мне жалко, — сказал я, — просто я не могу её подарить, а пусть Гера такую же нарисует.
— Не знаю, право, нарисую ли я такую. Это же настоящее! Надо ведь так же чувствовать. — И Гера стал вдруг серьёзным-серьёзным. — Это прямо как у Пиросмани, надо так же любить и чувствовать жизнь, а иначе будет слабая подделка. Посмотрите, Александр Григорьевич, вы оценили буйство красок? Посмотрите на эти гирлянды — вот как человек любит жизнь!
И я стоял и держал развёрнутую вывеску на своей груди. Я никогда не думал так об этой вывеске, а сейчас подумал, как вот Гера говорит о Буле, и мне стало сразу и хорошо и как-то не по себе, что-то у меня внутри живота защекотало, и я сказал им:
— Это моя бабушка рисовала.
Они все молчали, а потом Александр Григорьевич встал, стянул с себя чалму из полотенца и сказал:
— Никогда не забывай свою бабушку, тёзка!
Я пришёл в тот вечер от археологов очень поздно. Тётя Вера ждала меня с ужином. Но я не мог, конечно, есть, и потому что был сыт по горло и по горло был полон всякими новостями. За эти два часа я стал совсем другим человеком, но, наверно, внешне это не очень-то было заметно. Ну, а как это будет заметно, ведь на вид я остался такой же. Тётя Вера стала меня уговаривать съесть ну хоть кусочек и смотрела на меня так жалостливо, а я вдруг спрашиваю её:
— Тётя Вера, а как ваше отчество?
— Вот ещё выдумал! И на что тебе моё отчество? Что, уж тётей не хочешь звать?
— Да нет, не потому, что не хочу, а просто я уже большой, а «тётя» и «дядя» — это так только дошкольники говорят. Это знаете что? Это — панибратство.
А тётя Вера вдруг ни с того ни с сего заплакала.
— Вот, ей-богу, жизнь-то какая пошла. От горшка два вершка, а уж в работу, и слов каких-то нахватался. Ещё выпивать там начнёшь, упаси бог.
Тёте Вере непонятно было то, что у меня сегодня, вот только что, в этот вечер, произошёл такой важный поворот в жизни, так же как и непонятны были все мои переживания до сегодняшнего дня. Она по-своему жалела меня, хотела оградить меня от преждевременных забот. А ведь я ей был совсем-совсем чужой. Делала она это в память Були. И я это понимал.
* * *
И вот я стал работать в экспедиции уже не как любитель, а как профессионал. Я был штатным коллектором экспедиции.
Наскоро проглотив после школы обед, я переодевался: надевал старую, выцветшую ковбойку, шаровары и специально купленную на базаре соломенную шляпу с большими полями — на этом особо настоял Александр Григорьевич.
И действительно, очень скоро я понял, что, пока я не работал, я не знал, что такое жара. Потому что одно дело — пройтись вразвалочку, не спеша под солнышком и другое дело — несколько часов копать. Даже октябрьское солнце покажется жарче июльского.
А надо сказать, что копали мы с остервенением. Наш азарт подогревало то, что буквально в первые же часы мы стали что-нибудь находить.
Гера первым нашёл жёрнов, и сплясал какой-то танец наподобие лезгинки, держа жёрнов, как бубен, на вытянутых вверх руках. А Александр Григорьевич сказал:
— Жаль, что этот жёрнов такой маленький, ручной, а не такой, какой ворочали ослы, тогда бы мы посмотрели, как ты с ним поплясал бы.
А потом мы все начали находить жуткое количество осколков глиняной посуды. Но попадалась и совершенно целая. Витя даже сказал: не открыть ли нам на базаре лавочку по сбыту тары для простокваши?
Если сказать по-честному, я здорово уставал вначале. Я, конечно, ни разу не показал виду, но так иногда уставал, что вечером, сидя за уроками, часто засыпал, уронив голову на тетради.
Александр Григорьевич вроде бы не делал мне никаких поблажек — и так я ведь работал не полный день, а только после школы. Но на первых порах он часто под видом каких-либо поручений давал мне возможность немного размять затёкшую спину и ноги. То пошлёт меня к колодцу за свежей холодной водой, то в лагерь за карандашами и бумагой, то попросит зарисовать узор какого-нибудь там найденного горшка.
А вообще Александру Григорьевичу часто приходилось утихомиривать наши страсти, и часто он говорил, что всем надо брать пример с моей степенности. Я не всегда знал, когда он шутит, а когда нет, но вообще-то у меня и раньше такая привычка была: если я найду что-нибудь стоящее, никогда не кричу на весь свет.
Мы находили не только всякие отдельные вещи. В разных местах мы стали натыкаться на каменную кладку. Это были остатки фундамента жилищ, и на этом уровне раскопали задернованный зольный слой (к этому времени я привык уже говорить как наши). Чуть в стороне мы нашли остатки какого-то укрепления, защищённого валом и толстой стеной из большущих необработанных камней.
И вот внутри этого укрепления мы напрасно потеряли целую неделю, а сил столько, что можно было бы, наверно, целый поезд втащить на гору Ай-Петри.
Александр Григорьевич говорил нам, что здесь обязательно будет оружие, и мы так надеялись его найти. Ну и ничегошеньки! Хоть бы один паршивый глиняный черепок нашли, ни одного, а не то что там оружие.
Александр Григорьевич сам копал так рьяно, что я думал: уж он-то, если и не до оружия, до центра Земли докопается. И вихры свои рыжие дёргал и бороду теребил, мне даже жалко его было, а потом он как хлопнет себя по лбу — ну, ей-богу, как контузия у него не случилась, не знаю! — и говорит нам:
— Да уж точно говорят: дурная голова рукам покоя не даёт!
Гера робко сказал:
— Ногам покою не даёт.
А Александр Григорьевич как зарычит, прямо как лев:
— А я говорю — рукам! Не было здесь никакой крепости, не было, даже и рядом не лежала!
А мы все говорим:
— Как же так — не было, а стены?
А он рычит:
— Вал, стены! Да это мы всё о войне думаем, а они за этими стенами свой скот держали, чтоб не разбежался. Так вот. Овечки, козочки, а я — дурак! — И он снова себя хлопнул по лбу. — Время сколько потеряли зря!
А мне тут стало жалко его уже всерьёз, и я сказал:
— Но ведь мы не зря потеряли время. Мы зато доказали, что здесь жили мирные люди, скотоводы.
И Александр Григорьевич положил мне свою руку на плечо, так что я даже присел немного, и сказал:
— Ты молодчина, тёзка, будет из тебя толк.
И хоть я сказал это так просто, ну просто, чтоб его утешить, всё равно мне было очень приятно услышать такое от Александра Григорьевича.
Вскоре вернулись отец с Ксенией Ивановной. Отец расспрашивал тётю Веру, как всё было, благодарил её за то, что она не оставила без внимания «ребёнка», за то, что дала свои деньги на похороны, и обещал вернуть сразу после получки. Ксения Ивановна плакала. Тётя Вера подождала, а потом говорит:
— Деньги, Лёня, — это ерунда, не стоит о них и говорить, а для Саши я тоже ничего особенного не сделала, то, что я это время у вас жила, так ведь мне что одной, какая разница — дети не плачут, муж не заругает, а вот тут есть один человек, который для Саши побольше моего сделал, и тебе, Лёня, надо бы с ним поговорить.
И тётя Вера рассказала про всё: про Александра Григорьевича и про мою работу. Отец и говорит:
— А школа как же?
А тётя Вера ему говорит:
— Я тоже сперва боялась, да, видно, с делом ещё лучше получилось: так бы он горевал, а так всё занят был. Да ты, Лёня, умней меня, сам всё поймёшь, ты только поговори с Александром Григорьевичем, очень он человек душевный.
Вот так и случилось, что Александр Григорьевич пришёл к нам в гости, отец сам ходил звать его, и по этому поводу Ксения Ивановна даже ужин сделала специальный. Они втроём ужинали на кухне, а я был отправлен в комнату делать уроки, но я всё-таки немного кой-чего слышал, как отец сначала благодарил Александра Григорьевича, и они что-то долго тихо говорили, а потом отец сказал громко, и я услышал:
— Но это же игрушки, это детская игра, неужели, Александр Григорьевич, к этому можно относиться серьёзно! Всё ребячество, ребячество, — говорит мой отец, — повзрослеет ли он когда-нибудь? Помните, как мы с вами, Александр Григорьевич, в четырнадцать лет? Вкалывали как взрослые, а вечером — на рабфак.
Ну, я уже знал, что это был любимый конёк моего отца, и он оседлал его и поехал. Я это слышал сто раз — и про рабфак и про всё это, но сейчас мне было немножко обидно, и пожалел даже, что всё слышно через дверь, хотя сначала мне было интересно, о чём это они будут говорить. Ну, а Александр Григорьевич — я-то уж знаю, какой он бывает, ой-ей-ей, не дай бог ему на язычок попасть, ещё когда за тобой грешок там какой-нибудь… Но я и не знал, что он так срезать может не только нас. Александр Григорьевич и говорит на это моему отцу:
— Положим, — говорит он без всяких там простите-извините, — вы дважды неправы. Во-первых, — говорит, — наши дети не должны жить как мы, иначе, — говорит, — всё кошке под хвост. (Так прямо и сказал.) И наша юность тяжёлая, и то, что мы воевали, всё, всё тогда зря.
А вторая ваша неправда более тяжёлая, чем первая. Вы несправедливы к вашему сыну, несправедливы к нему вдвойне. Он-то как раз тянет трудовую лямку с детских лет, — нет, не перебивайте! — я имею в виду не те несколько недель, которые он работал у нас в экспедиции, а быт, Леонтий Николаевич. Что вы не видите, что ли? Выжить в эти страшные годы — это тяжёлый труд!
— Вы правы, Александр Григорьевич, а я старый осёл…
Я слышал по голосу отца, что он совсем, ну начисто сбит с катушек, положен на обе лопатки, и мне до того стало его жалко, хоть и Александр Григорьевич меня защищал, а всё равно до того мне жалко стало отца, что хотелось выскочить в кухню и броситься к нему, и чтоб он меня сжал между коленок. Но я продолжал сидеть на табуретке перед своим письменным столом, и передо мной лежала раскрытая тетрадка по алгебре, но сам я был сейчас так же далёк от алгебры, как от Филиппинских островов.
И отец начал снова говорить, и голос его был тихий и какой-то побитый.
— Что касается трудностей жизни и быта, то тут, Александр Григорьевич, вы правы на все сто процентов, но вот что меня всё-таки беспокоит — я же о нём думаю, о Саньке. Детскость его эта запоздалая, инфантильность, ведь жить-то ему трудно будет. Фантазии, кладоискательство в его-то возрасте… Смешно! Как будто в «Томе Сойере». Мне бы хотелось, чтоб парень увлёкся серьёзным каким-нибудь делом — мало ли, математикой, физикой, биологией, ну пусть хоть история! А то кладоискательство, раскопки… Фантазия!
А Александр Григорьевич спокойненько так говорит, но я-то знаю, что за этим спокойненьким будет. Так вот он и говорит отцу:
— Да уж, — говорит, — в нашем деле без фантазии никуда, в нашем деле, — говорит, — без фантазии всё равно что работать спасателем, не умея плавать…
А отец-то и не понял, что его уже подсекли, как ставриду на крючок, и своё:
— Я и говорю — фантазии, фантазии…
Вот тут Александр Григорьевич его и прихлопнул.
— А без фантазии, — говорит он, — разве что в сортир пройтись, а так, — говорит, — ничего более путного не сделаешь. Чай и то без фантазии не заваришь.
И тут наступило долгое молчание. Я так подумал: «Отец, наверно, обалдел от того, что ему Александр Григорьевич сказал, а Александр Григорьевич, наоборот, наверно, наслаждался, как он отца срезал». Срезать-то Александр Григорьевич умеет ещё как! Это мы все, кто с ним работали, знаем, но не таковский он, чтоб лежачего добивать, и потому совсем уже другим тоном, и вполне даже уважительным, стал дальше говорить:
— Фантазия, она ведь и в вашем деле не на последнем месте. Но это ещё не всё. Вот вы, Леонтий Николаевич, — четыре года по окопам и уже не чаяли, когда домой вернётесь. А археологи ведь всю жизнь так. Ведь подумайте только, вся жизнь — палатка, примусы, костры, подгорелая каша, а лет-то уж под сорок, а жизнь проходит, а в городе семья, дети без тебя вырастают, а жена… Вот так-то всю жизнь. А вы говорите — детская забава… Тут особую любовь надо иметь к нашему делу, я бы даже сказал: одержимым надо быть.
И как только сказал Александр Григорьевич это слово, ну про одержимость, я Булю вспомнил, вспомнил, что она как раз отцу то же говорила, ну про одержимость. А откуда она всё знала так? Ведь Александр Григорьевич профессор!
— Потому-то, — говорит Александр Григорьевич, — я и взял вашего мальчика к себе в экспедицию, хотя я совсем даже не за то, чтоб дети работали. Но, — говорит, — тут случай особый. Тут никак нельзя было мимо пройти. Никак нельзя. Такие ярко выраженные способности. — И Александр Григорьевич заговорил тише, но я всё равно слышал каждое слово: — Такой подбор человеческих качеств, знаете ли, просто на редкость…
— Так вы считаете, что у Саши способности? Но достойно ли это дело мужчины?
— Если вас беспокоит это, то, уверяю вас, для человека знать своё прошлое — не менее важно, чем строить дома, чинить корабли. Ведь если люди не будут знать своего прошлого, они не смогут учиться на своих ошибках, и тогда всё начнётся сначала: новый Наполеон, новый Гитлер, новые столетние войны и крестовые походы, новые Освенцимы и костры аутодафе, благодарные народы снова будут сжигать своих героев, как сожгли Жанну д’Арк…
— Да, Александр Григорьевич, — сказал после этого отец, — признаю себя неправым по всем вопросам. Наверное, я не гожусь в воспитатели.
Александр Григорьевич молчал. Потом он благодарил за ужин, а потом они задвигали табуретками, и вдруг отворилась дверь, и Александр Григорьевич вошёл в комнату.
— Тёзка, я не помешаю штудировать науки?
— Я уже выучил.
Александр Григорьевич подошёл к моему письменному столу — этот стол был, конечно, не настоящий, мы с Булей его соорудили из ящиков, но в нём даже был ящик, который выдвигался, и к нему была прикреплена круглая дверная ручка. Александр Григорьевич внимательно рассмотрел мой стол, даже подвигал ящик и спросил меня:
— Столярничаешь?
— Да нет, это я не сам.
Потом Александр Григорьевич стал рассматривать картины, которые у меня висели над кроватью; вывеску «Приют пиратов» он уже знал, а другую нет, и сейчас он её внимательно рассматривал и читал подпись.
— Ну-ну, тёзка, а какие новые земли ты открыл?
— Да это же так просто. Ну, как в сказке!
— А в сказке не бывает ничего так просто, и то, что я слышал о твоей бабушке, никак не вяжется, чтоб она писала «так просто» и «вообще». Как ты сам-то думаешь?
А я думал то, что какой он умный, а я и не сообразил. И Буля, конечно, что-то имела в виду, она бы не стала писать просто так, что придёт в голову, и почему я её не спросил, а теперь я никогда не узнаю.
— А может быть, новая земля — это то, что ты открыл древних киммерийцев, то бишь, ты считал генуэзцев? Дворец сей я узнаю, и обрыв как раз подходит, вот конь…
Тут я, ни слова не говоря, выскочил из комнаты, и принёс из сарайчика клетку с Морисом, и выпустил его на стол.
— Ну что ж! — сказал Александр Григорьевич. — Так я и думал, конь в яблоках весь. А где же принцесса?
— Она уехала на Урал.
И как-то так он это спросил не просто, я сразу понял, что у него что-то такое на уме.
— Ну, насколько я знаю географию, Урал ведь на нашей планете и даже, кажется, в пределах нашего государства. А? Письма туда доходят?
— Нет, не доходят. Я не могу ей писать. Я её предал.
Александр Григорьевич ничего не стал спрашивать, а только стал ходить туда-сюда вдоль кровати, и его рыжая шевелюра почти что подметала потолок. И вдруг он остановился сразу, ещё посмотрел на картину и сказал:
— А знаешь что, тёзка! Как я это сразу не понял? Ведь эта картина не только о том, что было, а и о том, что будет.
— Как это?
— А вот так, очень просто!
Александр Григорьевич схватил табуретку и сел на неё верхом, как великан на ослика.
— Вот смотри. — И он растопырил свои великаньи пальцы. — Родной дом есть. Конь в яблоках? Есть! Новая земля есть, ты открыл новую землю. Но кто сказал, что новые земли обязательно открывать только на поверхности, их можно открывать и в глубине. Ведь так? Всё сходится. Одно только не сходится. Здесь сказано: не новую землю, а новые земли — ясно тебе? Раз всё остальное сходится, значит, и это сойдётся. Когда-нибудь ты откроешь ещё новые земли, но это не обязательно должна быть земля древних киммерийцев или генуэзцев и вообще не обязательно должно быть так, как было сейчас, ты понимаешь меня, тёзка? Может, ты откроешь эти новые земли даже и вовсе не на земле и не в земле, а, скажем, в себе, а может, в людях, ведь открыл же ты сейчас что-то новое в своей бабушке, так? Ясно только, что тогда всё сбудется точно, как здесь нарисовано. Тогда, тогда, когда ты ещё и ещё откроешь новые земли. Но, наверное, это будет не так быстро и не так легко, — ты заметил, как потрёпаны паруса на картине и какое усталое лицо у капитана?
Я сидел, и молчал, и чувствовал, что ещё не всё понимаю, но что-то до меня доходит, что-то там во мне ворочается. Я пережил один раз похожее, когда всё, что случилось со мной в больнице, представил себе заново. Как ходила ко мне Буля в больницу, и как ей было трудно, и как она страдала из-за Борьки, а всё из-за того, чтоб я поправился. И вроде бы мы с Булей всегда были заодно, а не понимал я тогда ничегошеньки. А теперь вот второй раз уже со мной такое происходит. Я ведь думал, что знаю свою Булю до последнего седого волосочка, а выходит, что совсем-то я не всё знал. Сколько она обо мне думала, и может, наперёд уже догадывалась, что я докопаюсь до этих самых киммерийцев или ещё чего. Верила она в меня, это точно. А может, и про Джоанну тоже всё знала? Выходит, Буля-то знала гораздо больше, чем я думал.
Первый раз я понял тогда про Булю, сам по себе, после того, как Буле стало плохо, а теперь потому, что мне Александр Григорьевич разгадал картину.
Но, может, так и ещё будет, и ещё, и ещё. И может, я ещё много чего нового буду находить в Буле, хоть она уже умерла.
И потом ещё совсем другое. Я так и не всегда понимал, когда Александр Григорьевич говорил всерьёз, а когда нет. Правда, он считает, что я ещё встречусь с Джоанной?..
* * *
Уехали археологи. И началась у нас новая жизнь. Совсем, совсем другая жизнь. Утром мы вставали, а Ксения Ивановна раньше нас с отцом, она кипятила чайник и делала всем бутерброды. Потом мы все расходились: я в школу, а отец с Ксенией Ивановной уезжали на рабочем автобусе на завод. Дел домашних почему-то почти не стало. Только получу хлеб по карточкам, за водой схожу, да не как раньше, а всего раз: ведь поливать-то не надо было. А вечером к приезду отца и Ксении Ивановны я кипятил чайник. Вот и все дела. Ну, ещё днём сварю себе чего-нибудь — картошку или кашу кукурузную.
После того как уехали археологи, я снова стал ходить в горы. Брал с собой клетку с Морисом и забирался чёрт те куда. Иногда даже там уроки учил, устные, конечно. Если бывали ясные денёчки, я залезал в свою пещеру и смотрел вниз на море. Море казалось таким тёплым, таким летним. Смотрел, как рыбаки сети снимают с кольев, как пароходы идут. Иногда задумаюсь — и мне какая-нибудь лодка покажется вдруг парусником с белыми парусами, а на носу стоит капитан в бархатной куртке, в шляпе с пером и трубку курит. И мы подплываем, и нас встречает много-много лодок, все нас приветствуют, кричат «ура», а на берегу стоит Джоанна и держит под уздцы прекрасного коня в яблоках.
Если когда-нибудь случайно вспомню про больницу, мне не по себе становилось. Как я ни видел тогда, ничегошеньки я не видел и не понимал!..
Как-то я написал письмо Александру Григорьевичу и теперь занимался тем, что высчитывал, через сколько дней может прийти от него ответ. Я считал: моё письмо ну пусть шесть дней — то да сё, пока получит, пока прочитает, пока соберётся ответить, хоть он долго не будет собираться, — и обратно шесть дней. И я прикидывал, какого числа я могу получить от него письмо. Хотя я себе и говорил, что раньше и быть не может, всё-таки дня за три до высчитанного срока начал подлавливать почтальона Таню и спрашивать её, нет ли мне письма.
И один раз в совсем даже нежданный день почтальон Таня окликнула меня на дороге:
— Эй, Саша, тебе извещение на бандероль!
Я схватил извещение и сначала никак не мог понять, от кого это. А Таня мне говорит:
— Да куда ты там смотришь? Это же фамилия контролёра на почте. А бандероль из Москвы, с тебя магарыч.
В школе я все уроки думал, от кого же это, хотя наверняка это от Александра Григорьевича, а сначала я подумал, что от Джоанны, но раз из Москвы, то от Александра Григорьевича. И после школы я побежал сразу на почту и ужасно волновался: а вдруг мне не выдадут, тут же надо написать номер паспорта, а у меня не только номера, но и паспорта нет?
Но мне выдали — я заполнил только свой адрес и расписался. Тут же разрезал бритвой бечёвку и развернул бумагу — передо мной был «Джек-Соломинка». Я обалдел, но нет, это была не та, не Джоаннина книжка, это была другая, в новенькой совсем обложке — конечно, это подарок Александра Григорьевича. Я открыл книжку, и на первом листе шла размашистая надпись:
«Открывателю новых земель Александру Кубову» — и стояла подпись Александра Григорьевича.
Была и ещё одна книжка: «История Древней Греции». Та была без надписи.
Я взял книжки и пошёл. Когда я уже открывал дверь, мне крикнули:
— Эй, парень! А кто бумагу будет за тобой убирать?
Я вернулся и сунул бумагу и бечёвки в корзину. Книги я не положил в портфель. Портфель я нёс в одной руке, а книги — в другой, и всё время смотрел на них, и открывал носом обложку «Джека», и снова читал надпись.
Было уже холодно, лужи на дороге затянулись тонкой ледяной коркой — я наступал на неё, и она сразу разбивалась как стекло.
Я шёл и думал.
Будет весна, и приедет Александр Григорьевич, и мы будем копать, и теперь-то я буду уже настоящий профессионал, а потом ещё лето и ещё лето, а потом настанет лето, когда я поеду в Москву и буду поступать в университет на истфак, отделение археологии.
Буля! Помнишь, как ты жалела, что я не умею ни рисовать, ни петь, ни играть на гитаре, но, знаешь, мне это не понадобилось. Ты так порадовалась бы за меня, Буля! Неужели ты никогда ничего обо всём этом не узнаешь?
Ну, подай мне какой-нибудь знак, Буля, как тогда, когда ты сжала мне руку…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
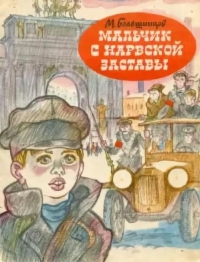


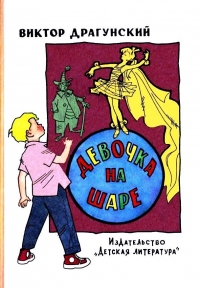

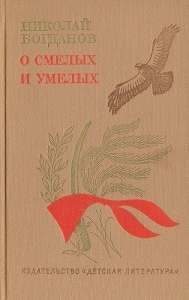

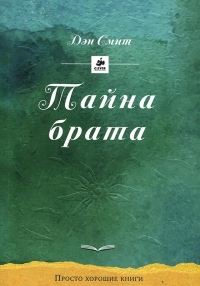

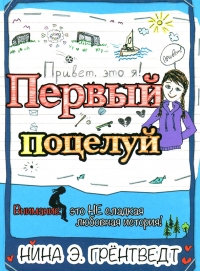

Комментарии к книге «Новые земли Александра Кубова», Нинель Ильинична Максименко
Всего 0 комментариев