Памяти моего отца
1
В конце февраля тысяча девятьсот сорок второго года, в седьмом часу вечера, Катя стояла в очереди у булочной. Люди стояли молча, тесно сгрудившись, словно так было теплей.
Катя не слышала, как начался разговор. Да и можно ли назвать это разговором? Так, несколько фраз. Кто-то сказал: «Эта зима никогда не кончится».
Сказал вполголоса, скорее самому себе, чем другим. Но молчание, которое окружало стоящих здесь людей и казалось плотным, как лед, и таким же холодным, все же было нарушено.
— Когда-нибудь да кончится, — откликнулся, не оборачиваясь, высокий пожилой рабочий. — Ведь все-таки скоро март, этого Гитлер у нас отнять не может. Время-то небось идет к весне.
— Скорее мы кончимся! — со злобой крикнул человек, стоящий рядом, — маленький, сутулый, закутанный так, что и лица не разглядеть.
Молодая женщина, которая до этого стояла у двери совершенно неподвижно, вздрогнула от этих слов и быстро обернулась.
Разговор замер. И Катя, подойдя поближе, чтобы послушать, что говорят, ничего уже не услышала. Ее живые темные глаза быстро пробежали по хмурым, неприветливым лицам, потом она опять вернулась на свое место. А те, что стояли у двери, теперь вошли в булочную.
Здесь, внутри, почти темно, так как витрины закрыты снаружи деревянными щитами. На прилавке горит свеча, вставленная в бутылку. Еще одна свеча стоит ниже, там, где белокурая девушка клеит отрезанные талоны. Вторая девушка, с одутловатым, сизым от холода лицом, вырезает талоны и взвешивает хлеб.
— На завтра…
— На два дня…
— На завтра…
Очередь медленно движется. Вот уже и Катя протиснулась в булочную. Она развязывает свою ушанку и с облегчением вертит головой.
А тем временем молодая женщина подошла к самому прилавку. Вытянув шею, как завороженная, она смотрит на руки, режущие хлеб. Вся она поглощена одной-единственной мыслью — получить сегодня хлеб. Это третья булочная, в которую она пришла, в двух ей уже не дали. С напряженным лицом, вся внутренне оцепенев и сжавшись, она осторожно вытаскивает из варежки карточки и молча протягивает их.
Уже конец месяца, и они совсем маленькие, много раз сложенные и помятые, эти драгоценные бумажки, утеря которых означает смерть. Затаив дыхание, молодая женщина со страхом и ожиданием смотрит девушке в лицо.
Все. Девушка протягивает карточки обратно.
— На завтра взято, — говорит она равнодушно. — Следующий.
Но молодая женщина обеими руками ухватилась за прилавок.
— Мне на послезавтра, — голос ее внезапно охрип и стал каким-то ломким. — Пожалуйста. Ведь уже вечер.
— На третий день не даем, отлично же знаете, — говорит девушка с раздражением.
Понимая, что это безнадежно, женщина все же продолжает просить, тихо, хрипло, с маниакальной настойчивостью.
— Ведь уже вечер. Вы же можете…
— А завтра что будешь делать? Опять бегать просить? — спрашивает мужской голос.
Но та, которой он говорит это, уже не может ни рассуждать, ни рассчитывать. Все ее мысли, так же как ее глаза, устремлены на хлеб, лежащий на прилавке.
Кто-то участливо шепчет: «Ты иди на Подъяческую, там дают вперед».
Но вряд ли она слышит и это.
И тут пожилой рабочий говорит резко и с силой:
— Дай ей хлеб!
— Я не могу на послезавтра давать, — огрызается девушка. — Куда я талоны дену?
— Найдешь куда деть. Завтра наклеишь. Дай ей хлеба, слышишь? — повторяет он с угрозой. — Сама небось сытая. У нее детская карточка, не видишь?
И тогда белокурая девушка, которая клеит талоны, подымает голову.
— Дай ты ей, ладно, — говорит она тихо, — я их на завтрашний лист потом наклею. Давай их сюда.
Девушка берет карточки. Ее замерзшие руки привычно держат эти жалкие бумажки. Большие ножницы ловко и быстро вырезают два маленьких квадратных талона.
— Иждивенческая и детская… — Она отрезает кусок хлеба, кладет на весы, добавляет маленький довесок.
Молодая женщина осторожно берет хлеб, бережно засовывает его в сумку и молча, ни на кого не глядя, пробирается к выходу. У дверей она испуганным, воровским движением кладет довесок в рот.
2
Когда молодая женщина вышла на улицу, свет уже померк. Воздух словно уплотнился, он стал совсем синим. Очередь у булочной казалась сейчас одним длинным, слабо шевелящимся телом.
Женщина постояла с минуту, собираясь с силами, потом медленно пошла по направлению к мосту.
Тут на углу она и столкнулась с маленькой старушкой, закутанной в белый платок.
— Смотри-ка ты, Воронова! — воскликнула та. — Какая ты страшная стала. Я думала, вы с заводом эвакуировались. А как Алексей Петрович?
— На фронте он, — тихо ответила Нина Воронова. — Он ведь в апреле уехал в командировку. Оттуда его и взяли. А мы тогда на даче жили, в Волосове. Еле выбрались; нас по дороге бомбили два раза. Ах, лучше бы убили тогда! — крикнула она вдруг с неожиданной силой. — Хоть сразу. Все равно ведь умрем теперь с голоду, сколько же мучиться еще? Сколько нам еще мучиться?
— Слушай, Нина, — быстро заговорила старуха, — ты сходи на завод. Ты знаешь, я вчера встретила Боровую; помнишь ее? Ее муж с Алексеем Петровичем вместе работал. Она говорила, опять начали эвакуировать — на машинах через Ладогу. Конечно, там бомбят, да и страшно в такой мороз, а она говорит: «Рискну». У нее младший-то умер еще в декабре, а она с девочкой хочет ехать. Ты пойди, узнай. Они тебя должны взять, — Алексей Петрович сколько лет на заводе работал. Сходи, попробуй.
— Я пойду, я завтра же пойду, — с надеждой проговорила Нина, — конечно, я пойду.
— Постой, а твоему сколько? Она говорила, у кого дети моложе трех лет, тех как будто не берут. Не довезти ведь таких.
— Не берут? — пробормотала Нина. Лицо ее опять помертвело. Не прощаясь, она побрела дальше.
Вот она уже завернула за угол и медленно пошла по темной, перегороженной баррикадой, заваленной снегом улице. Теперь она уже едва передвигала ноги. Волнения этого получаса совсем обессилили ее.
Когда она, наконец, подошла к своему дому, ее обогнала Катя. Подойдя к подворотне, Катя оглянулась. Она узнала женщину, которую только что видела в булочной. Секунду они смотрели друг на друга. Катя остановилась, но Нина прошла мимо и исчезла в темноте двора.
3
Несколько дней спустя Нина стояла в небольшой, набитой людьми комнате заводоуправления. И когда она пошла к столу, она думала только об одном: «Я должна получить эти бумаги». Пожилой небритый человек что-то спросил, она ответила. Он посмотрел на нее усталыми, красными от бессонницы глазами и сказал: «Так помните: ровно в семь часов, — и протянул ей две бумажки. — Вещей берите минимум, — продолжал он и, повышая голос, обратился уже ко всем: — Товарищи, предупреждаю, лишние вещи просто будем выбрасывать!»
Нина все еще неподвижно стояла перед ним. Тогда, внимательно глядя в ее застывшее лицо, он сказал: «Удостоверение спрячьте получше. И посадочный талон. Ну, счастливо доехать! Будете писать Алексею Петровичу, — от меня привет. Я Игнатьев, не забудьте?»
— Нет, не забуду, — ответила Нина. Она повернулась и медленно пошла к дверям, все так же держа бумажки в негнущихся тонких пальцах.
И в этот момент оттуда, из страшной дали, знакомый голос окликнул ее: «Нина!» Предостерегающий и с каким-то испугом. Но она продолжала идти, продолжала сжимать в руках бумаги.
«Я не могу больше. Я не могу так больше. Я здесь с ума сойду. Алеша! Не могу я больше голодать. Ведь днем и ночью, и конца этому нет, все время. Все равно мы все умрем здесь. Я не могу так больше».
Выйдя из комнаты, она в изнеможении прислонилась к стене.
Одна-единственная мысль поглотила ее целиком: как решиться на это!
4
На следующий день в пять часов утра Нина вышла из ворот своего дома.
Улица казалась вымершей — ни одного огня, ни одного человека. Снег шел всю ночь и продолжал идти и сейчас — косой, колючий, подгоняемый ветром.
Посередине улицу перегораживала баррикада, наскоро сложенная еще осенью из кусков железных ферм. Снег легко проходил через этот прозрачный каркас, завихряясь в пролетах, оседая на железных брусьях белым, толстым слоем.
Закутанная, с мешком на спине, Нина с трудом продвигалась против ветра и снега, протаптывая узкую тропинку в нетронутом рыхлом снегу.
Завернув за угол, она вышла на широкую улицу. Здесь было так же темно, так же сыпал снег, но здесь уже заметна была какая-то жизнь. Высокий человек, едва различимый в темноте, перешел через улицу и тут же исчез в узкой щели парадной. А вот и еще кто-то, внезапно появившись из снежной мглы, нырнул туда же.
Там темно, но там, очевидно, есть люди. Они тихо шевелятся, и сквозь густую завесу летящего снега смутно слышны их приглушенные голоса.
Кто-то зажег и тут же потушил спичку. И в этот краткий миг можно было заметить, что в черной глубине парадной, тесно сгрудившись, стоят люди. Когда Нина поравнялась с этой парадной, высокая тощая женщина, внезапно возникнув из мрака и снега, тихо окликнула ее: «Нина!»
Ей бы не останавливаться, ей бы уйти.
Но она тотчас остановилась, словно этот тихий оклик «Нина!» имел силу приказа и гремел, как трубный голос. Она обернулась и с испугом взглянула на подошедшую к ней женщину.
— Ты куда это, Нина? С мешком…
— Евгения Петровна, я уезжаю, эвакуируюсь, — тихо проговорила Нина. — Нас от Алешиного завода везут.
— Как везут? Ведь кругом немцы! Поезда же не ходят.
— На машинах. Через Ладогу.
— Через Ладогу? — спросила женщина, и голос ее дрогнул.
Ладога. Короткое, древнее слово, которое вдруг возникло, никто не знает откуда, и шло теперь по городу, от человека к человеку, неся с собой надежду, которой не смели верить. И каждый, боясь поверить, все же передавал это слово другому, и его уже повторяли все.
И вот теперь старая женщина стоит, прижимая руки к груди, и там, внутри, что-то отпустило ее. Этот страх, леденящий страх, который сжимал ее сердце каждое утро, — он отпустил ее, и она стоит, улыбаясь в темноте, а по лицу у нее текут слезы. «Нина Воронова едет через Ладогу. Там дорога. Значит, это правда. Там дорога, слава тебе, господи. Это оттуда нам везут хлеб».
Нина все еще стояла перед ней не шевелясь, и тогда женщина, опомнившись, спросила: «А Алексей Петрович пишет?»
— Пишет, — с усилием проговорила Нина.
— Нина, а Митя?
Нина молчала, словно не расслышав вопроса. Потом сказала очень тихо, с трудом выговаривая слова: «Умер он…»
— Ну, что же тут поделаешь, Ниночка, — быстро заговорила Евгения Петровна. — Такое уж время. Да разве могут тут дети выжить, господи! А Алексей Петрович как же? Знает уже? Постой минутку, я только очередь займу. Милиционер гоняет с улицы, так мы тут в парадной стоим до семи. Значит, умер твой Митя, ах ты, горе какое. Постой, я сейчас…
Когда Евгения Петровна, заняв очередь, вышла на улицу, маленькая фигурка Нины уже потонула в темноте.
Следы ее неровных шагов были еще видны. Но вот и их уже засыпал мягкий снег.
На Ладоге тоже шел снег.
Он продолжал идти и тогда, когда уже совсем рассвело и идущие друг за другом грузовики вышли на широкое пространство озера.
Ленинград остался позади. И хотя впереди до самого горизонта не видно было ничего, кроме мутной мерцающей пелены падающего снега, — там, в этой смутной дали, уже угадывалась Большая Земля.
5
В это время в Ленинграде, в полутемной холодной комнате просыпается Митя Воронов. Он лежит неподвижно. Его маленькое бледное лицо наполовину закрыто одеялом и сползшей набок меховой шапкой.
Понемногу в комнате становится светлей.
Медленно и словно неохотно мальчик открывает глаза. Несколько секунд он равнодушно смотрит перед собой, потом с трудом приподнимается и садится.
Шапка, надетая на него, но не завязанная, осталась на подушке. Грязный платок, съехав назад, открыл белокурые, спутанные, мягкие волосы, косо подрезанные спереди неумелой рукой. Лицо его не выражает ничего, кроме покорной усталости.
Как всякое живое существо, он машинально обращает свои глаза к свету. Это слабый свет. Он плохо проникает сквозь замерзшие стекла, перекрещенные тонкими полосками наклеенной на них бумаги. К тому же окно затемнено наполовину поднятой, косо свисающей шторой.
Равнодушный взгляд ребенка медленно блуждает по маленькой комнате, заваленной наспех брошенными вещами. Все здесь обличает поспешный отъезд, лихорадочные сборы измученного и полного отчаяния существа.
Ребенок не догадывается о том, что произошло, но в его затуманенный слабостью мозг постепенно проникает сознание, что что-то случилось в окружающем его мире. Что-то тревожное и страшное.
Тонкие брови приподнимаются с недоумением, и он скашивает глаза на закопченный чайник, который нелепо, боком лежит на полу рядом с чем-то легким, воздушным, пестрым.
Губы его вздрагивают, и он тихо произносит: «Мама». Два коротких слога, о которых скорее можно догадаться, чем их расслышать, так тихо они произнесены.
И легкое облачко пара подымается в холодном воздухе из его маленького полуоткрытого рта.
6
Вечером того же дня, одна в пустой квартире, Катя с увлечением читала толстую книгу. В комнате холодно, Катя поджала под себя ноги и с головой укуталась в большой клетчатый платок. Круг освещенных предметов весьма невелик, так как свет — это свет от коптилки, стоящей на невысокой стопке книг. Все это сооружение рассчитано на то, чтобы даже при этом свете можно было читать. И действительно, страницы книги освещены лучше всего, в то время как все остальное потонуло в густой тени.
Из репродуктора над головой девочки льется спокойная и ясная мелодия.
Но вот она оборвалась. Тревожный вой сирены мгновенно заполнил все вокруг.
«Воздушная тревога! Воздушная тревога!»
Катя с досадой и злобой посмотрела на репродуктор. «О черт!» — прошипела она сквозь зубы, решительно заткнула уши и, упершись локтями в стол, снова погрузилась в свою книгу.
Слова диктора, смертельно надоевшие, но всегда неожиданные, звучали теперь еле слышно. И чтобы они не мешали ей вовсе, Катя стала читать вслух, с чувством и глубоким волнением: «У другой двери послышались шаги, и няня испуганным шепотом сказала: — Идет, — и подала шляпу Анне. Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидев ее, он остановился и наклонил голову. Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при беглом взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив, шагу, почти выбежала из комнаты. Она не успела и вынуть и так и привезла домой те игрушки, которые она с такой любовью и грустью выбирала в лавке».
Вдруг кто-то яростно заколотил в наружную дверь. Звучный голос управхоза Анны Васильевны прогремел оттуда настойчиво и властно:
— Катя! Немедленно иди в бомбоубежище! Слышишь? Вечно тащить тебя надо. Скорей шевелись. Живо! Наш район бомбят!
Катя оторвалась от книги и неторопливо поднялась. Голос в репродукторе уже замолк, слышался только громкий стук метронома.
Удар. Это еще не очень близко.
Катя прислушалась и не спеша, спокойно и обстоятельно начала собираться. Она сняла платок, надела пальто, затянула поверх него широкий мужской ремень, нахлобучила на голову меховую шапку.
Потом, держа в одной руке коптилку, она вскарабкалась на стул, открыла верхнюю дверцу буфета и, вытянув шею, заглянула внутрь. Там, в глубине пустой полки, в самом дальнем ее углу, видна была стеклянная банка с несколькими круглыми конфетами и маленький пакет, плотно завернутый в газетную бумагу. Катя поставила коптилку на край верхней полки и, привстав на цыпочки, достала банку и пакет. Оторвав кусок от бумаги, покрывавшей полку, и сделав из нее кулек, она аккуратно пересыпала в него конфеты, сунула кулек в карман и осторожно развернула маленький пакет. Там лежал очень небольшой, черный, совершенно сырой кусок хлеба.
Помедлив немного, Катя снова его завернула и тщательно засунула во внутренний карман пальто. Взяв коптилку в руки, она спрыгнула на пол, поставила коптилку на стол, решительно захлопнула «Анну Каренину», сунула под мышку и книгу и платок и, нагнувшись, легко дунув, потушила слабый огонек.
А в это время управхоз Анна Васильевна — высокая, немолодая, широкая в кости и, вероятно, еще недавно толстая женщина — уже поднялась на верхний этаж.
— Ксения Александровна, — кричит она там, и ее голос грохочет, как листовое железо, — спускайтесь вниз! Марина!
Марина, поспешно надевая пальто, дрожащим голосом уговаривает мать:
— Ну, я тебя прошу, пойдем вниз. Ну что за упрямство, ведь все идут. Одевайся, прошу тебя, вот твое пальто.
Старуха ответила устало:
— Я никуда не пойду. Ну, пойми, мне там хуже. Пусть будет что будет. Я старый человек. Если придется умереть, пусть у себя дома. Мне здесь не страшно, как ты не хочешь понять. Ты иди, не жди, иди, бога ради.
— Мама…
— Иди же, Мариночка, иди.
Марина схватила платок и, на ходу накинув его на голову, быстро пошла к выходу. Ей очень страшно. Руки не слушаются, и ей никак не удается завязать платок.
Почти бегом она добралась до двери.
А управхоз Анна Васильевна, тяжело ступая распухшими ногами, уже спускалась по той же лестнице.
Это черная лестница старого дома, построенного, вероятно, не меньше, чем сто лет назад. Она не сквозная, как современные лестницы. Посередине проходит массивный квадратный столб с неглубокими нишами, в которых когда-то хранились дрова; вокруг этого столба идут, заворачиваясь на поворотах веером, широкие каменные ступени. И из таких же неровных, щербатых каменных плит сложены лестничные площадки.
Полосы лунного света тянутся из огромных, во весь простенок, скругленных сверху окон. Он такой плотный, этот лунный свет, что кажется, по нему можно пройти. Высокая фигура женщины то возникает в ярком лунном свете, то совершенно растворяется в темноте.
Когда Анна Васильевна остановилась на лестничной площадке, полоса лунного света, перерезанная черными линиями оконных переплетов, легла ей под ноги сверкающими квадратами.
— Шестая квартира, — сказала она вполголоса, — тут Вороновы. Она эвакуировалась сегодня. Ладно…
Она уже прошла мимо двери. Но дверь приоткрыта. И тень от нее рисует острый угол на лунном квадрате у ног Анны Васильевны. Она быстро повернула голову и увидела узкую щель приоткрытой двери.
— Растяпа чертова, — пробормотала она сердито. — Дверь не смогла запереть.
В этот момент Марина, спускаясь вниз, быстро прошла мимо нее.
— Скорее идите, — сказала ей вслед Анна Васильевна. — А мать что, опять не пошла?
— Нет, — отвернувшись, еле слышно ответила Марина.
Шаги ее уже затихли внизу, и тут Анна Васильевна, решительно взявшись за ручку двери, чтобы захлопнуть ее, уловила какой-то слабый звук.
Шире открыв дверь, она прислушалась. Тихий, унылый, однообразный звук доносился из глубины квартиры. Она вошла. Звук стал слышней. Она чиркнула спичкой и, вынув из кармана маленький кусок свечи, осторожно зажгла его. Ее большая громоздкая тень упала на стену пустого коридора, в конце которого неожиданно светлым прямоугольником вырисовывалась открытая дверь. Оттуда и доносился этот странный звук.
Анна Васильевна прошла по коридору и с чувством смутного страха заглянула в комнату.
Так вот почему здесь так светло. Широкая полоса лунного света тянулась из окна, лишь наполовину закрытого косо свисающей шторой. Бросившись к окну, Анна Васильевна быстро опустила штору. Лунный свет исчез. Тогда, подняв огарок над головой, она медленно осмотрелась, с удивлением разглядывая вещи, разбросанные вокруг в самом причудливом беспорядке.
В комнате никого не было. Но странный звук стал еще слышней.
И тут Анна Васильевна, вздрогнув, внезапно разглядела там, в углу, детскую кровать и лежащего на ней ребенка.
Он плакал, но не так, как плачут здоровые дети, — требовательно, громко, с сознанием своих прав. Чуть приоткрыв рот, он тихо скулил на одной слабой, напряженной ноте. Пораженная женщина неуверенно шагнула по направлению к ребенку. Скудный свет свечи упал на его лицо.
Несколько секунд она не шевелясь смотрела на маленькое жалкое лицо, потом быстро оглянулась на разбросанные кругом вещи.
— Какая дрянь! — прошептала она со злобой и отвращением.
Поставив огарок на стол, она быстро подошла к кроватке. Ребенок лежал в меховой шубке и валенках, весь съежившись под наполовину сползшим с него одеялом. Равнодушно глядя куда-то вверх, мимо склонившейся над ним женщины, он продолжал скулить.
Тяжелый удар. Это близко.
Маленький огарок на столе дрогнул, тонкий язычок огня заколыхался.
Анна Васильевна взяла ребенка на руки, надела ему на голову лежавшую на подушке шапку и кое-как, уже на ходу, завернула его в одеяло.
Спустившись во двор с ребенком на руках, Анна Васильевна нагнала спокойно идущую Катю.
— А ты еще только тащишься! — крикнула она. — Скорей иди. Поторапливайся. Ведь бомбят!
Вместе они пересекли темный колодец двора. Анна Васильевна крупно шагала, обеими руками, по-мужски, держа перед собой ребенка. Катя с трудом поспевала за ней.
— Анна Васильевна, а это чей? — спросила она с любопытством.
— Ничей! — ответила та сердито. — Вот завтра надо в детский дом снести. Или в приемник, что ли; где-то есть такой.
— А ему сколько лет?
— Третий год, кажется. Иди скорей. Катя!
— Мог бы и сам идти, если третий год, — заметила Катя наставительно.
Они вышли на улицу.
Это была та же улица, но как зловеще она преобразилась! Та сторона, на которую вышли Анна Васильевна и Катя, была погружена в абсолютную тьму. Но вся середина улицы и противоположная ее сторона были залиты ярким лунным светом. Дома казались совершенно белыми в этом мертвом свете. Снег, покрывающий мостовую, ослепительно блестел. Тень от баррикады лежала на нем как черное кружево.
А наверху — небо, тоже совершенно черное, и на нем ослепительно сияла огромная, яркая, беспощадная луна, сообщница врага. И улица лежала обнаженная и беззащитная под этим безжалостным светом.
Анна Васильевна и Катя немного помедлили у границы света и тени, потом быстро вышли из темноты и побежали по освещенному пространству.
На бегу Анна Васильевна повернула голову и еще раз по-хозяйски оглядела дом. Взгляд ее быстро скользнул по темным окнам. И вот наверху, на третьем этаже, она заметила узкую золотую щель — неплотно задернутую штору. Она остановилась. «Опять у Левитиных, безрукие какие-то! Который месяц затемнение, а все не могут наладить. На, Катя, держи. Беги с ним в убежище, я сейчас приду…» Ее крупная фигура уже исчезла в темноте, а Катя растерянно стояла, прижимая к себе ребенка.
В зловещей тишине, под ярким, беспощадным лунным светом она была совсем одна с чужим ребенком на руках.
Но медлить нельзя. Добежав до баррикады, Катя, нагнувшись, старалась пролезть между косыми брусьями железных ферм. Одеяло, в которое был закутан ребенок, развернулось и мешало ей двигаться. Увязая в снегу, она с трудом пробиралась в этом пересечении железа и снега, света и тени. Вдруг она замерла, съежившись и прижавшись к железной балке.
Воющий, низкий, нарастающий рев пикирующего самолета заполнил все вокруг. Невольно, несмотря на охвативший ее страх, Катя закинула голову к небу. Луна ярко осветила ее испуганное лицо с расширенными блестящими глазами и лицо ребенка, с ужасом обращенное вверх.
Внезапно густая тьма плотно накрыла детей. Огромная тень низко летящего самолета, страшная, как доисторическое чудовище, косо пронеслась по улице, причудливо изламываясь на стенах домов.
Рев понемногу утих. Катя стояла среди железных ферм, крепко прижимая к себе ребенка. Сползшее одеяло освободило ему руки, и он, все еще с ужасом глядя вверх, обнимал ее за шею.
— Ну, чего ты боишься, какой дурак! Он ведь нас и не заметил, — переводя дыхание, покровительственно проговорила Катя.
Волоча одеяло за собой, она выбралась, наконец, из этой железной паутины и быстро побежала, уже по ту сторону баррикады, к высокому дому напротив.
7
В бомбоубежище — большом, низком, набитом людьми помещении — было почти темно. Только у дальней стены на большом канцелярском столе слабо горела свеча, вставленная в чернильницу.
Освещенные этим светом, ближе всех к нему, сидели пожилая женщина с узлом на коленях, застывшая в полудремоте старуха и подросток, который, по-видимому, спал, опустив голову на лежащие на столе руки.
Катя с трудом пробиралась вперед. Протискиваясь боком, с усилием держа свою неудобную ношу, она наконец добралась до освещенного стола. Локтем она растолкала дремлющего подростка.
— А ну, двигайся, — сказала она решительно, — очень уж ты расселся. Тоже — нашел, где спать.
Тот неохотно подвинулся, и Катя с облегчением усадила Митю на скамейку. Она старательно завернула ему ноги в одеяло, подвинула его в самый угол и втиснулась между ним и проснувшимся подростком.
— Ну вот и пришли, — обернулась она к Мите. — Ты сиди, сейчас Анна Васильевна придет.
Катя положила на стол свою книгу и, подсунув под локоть клетчатый платок, начала сосредоточенно перелистывать страницы.
— Ты из какого дома? — спросил ее подросток, который теперь, проснувшись, видно, не прочь был поболтать.
— Из восьмого, — ответила Катя рассеянно.
— А почему я тебя не знаю?
— А я недавно здесь живу. Я раньше на Васильевском жила.
— А в школу ты ходишь?
— Нет. Моя школа на Васильевском, разве туда дотащишься.
— Будто здесь нельзя ходить. Вот потеплеет немножко — я пойду. У нас теперь многие опять стали ходить.
Но Катя уже нашла нужную ей страницу.
— Ну ладно, не мешай, — сказала она нетерпеливо. Она погрузилась в чтение, а подросток рядом с нею снова усталым движением положил голову на руки.
Освещенная слабым, мягким светом, ничего уже не замечая вокруг, Катя продолжала читать, по временам неслышно шевеля губами.
В темном углу убежища, сидя на низком ящике у толстого кирпичного столба, поддерживающего нависающий свод подвального помещения, тихо разговаривали двое мужчин.
Лица обоих собеседников лишь смутно различимы в темноте.
Один из них — высокий старик, одетый в меховую куртку и ушанку. Ушанка не завязана, и прямо свисающие края ее обрамляют его худое лицо подобно бармице русского шлема. Вероятно, ему холодно, но во всей его осанке нет той скованности, какую можно видеть в позе старухи и женщины с узлом. Он сидит, откинув голову назад и глядя немного вверх, в свободной позе размышляющего человека.
Его собеседник, опершись рукой на выдвинутое вперед колено и сняв шапку, так что кудрявые, давно не стриженные волосы падают на лоб, смотрит куда-то вдаль, мимо человека, с которым он говорит, как если бы он говорил с самим собой. Трудно с уверенностью сказать, сколько ему лет. Он очень худ, небрит, к тому же ведь здесь почти темно. Вероятно, он еще молод.
— Но ведь самое ужасное, — продолжает он начатый разговор, — это мысль, что мы гибнем совершенно бесцельно в этой ловушке. Да, Ленинград сейчас — ловушка, и дверца захлопнута. И мы погибаем здесь — бессмысленно, бесцельно… На фронте — да, тысячу раз да! На заводах — да, там куется оружие. Но здесь, посмотрите, эти женщины и дети. Да и мы с вами. Без всякой пользы… Вот что страшно…
Старик ответил:
— Не всегда легко решить с первого взгляда, что бесцельно, а что нет. И является ли легко обозримый конечный результат подлинным мерилом человеческих поступков? На каких весах их взвешивать? И когда они приходят в действие, эти весы? Ведь логика обывательского здравого смысла пригодна здесь очень мало. Каков был непосредственный результат героической гибели Леонида и его спартанцев? Чего они этим добились? Как будто бы ровно ничего. Один подлец свел на нет усилия трехсот героев, — ведь Эфиальт провел персов обходной тропой. Но что считать конечным результатом? И кто осмелится сказать, что их гибель была бесцельной? Битва при Фермопилах подняла душу Греции на такую высоту, что, может, это и решило в конечном счете ее окончательную победу.
Он замолчал, медленно, с печальным вниманием оглядывал тонущий во мраке подвал и измученных, жалких, притихших людей, забившихся под землю от смертельной опасности.
— Произведен невиданный эксперимент, — снова обратился он к своему собеседнику. — В середине двадцатого века за короткий срок, всего за несколько месяцев, огромный город, один из красивейших в мире, город высокой культуры и самой передовой техники отрезают от всего света, насильственно отодвигают назад, чуть ли не в ледниковый период. Постепенно, но быстро отнимают все завоеванные веками достижения цивилизации. Электричества больше нет. Нет даже керосиновых ламп. Нет мостовых и тротуаров — только толстая корка льда. Нет трамваев, нет поездов. Нет больше музеев, театров, библиотек, концертных залов. Нет водопровода, нет даже колодцев. Воду надо доставать прямо из проруби, как тысячу лет назад. И нету хлеба. И нет даже могил… — Помолчав немного, он проговорил совсем тихо. — Вы видели по утрам у Александровской больницы эти завязанные, как мумии, трупы, которые подкидывают туда по ночам? Я прохожу там каждый день… И вот вопрос: можно таким образом превратить людей опять в троглодитов — на что и надеется Гитлер, между прочим, — или нет? Или все же они останутся людьми? Во всем! — добавил он с силой и снова повторил: — Во всем! А ответить на этот вопрос должен каждый из нас своей жизнью и смертью. И кстати, мой дорогой, я не говорю, конечно, о гибнущих в бомбежке и обстрелах, это дело случая, но что касается голода и лишений, — поверьте мне, выживут не те, кто выносливей физически, а те, кто не станет на четвереньки!
Зашевелившись в своем углу, Митя снова начал скулить. Этот унылый звук дошел наконец до Кати, которая все с тем же увлечением, не отрываясь, читала книгу.
— Ну, что ты скрипишь? Нудный какой, — сказала она недовольно и, приподнявшись, стала всматриваться в темноту, разыскивая Анну Васильевну.
Но той все еще не было.
Катя опять села и сказала с досадой:
— Замолчи. Чего ты все воешь?
— Голодный, вот и воет, — вполголоса заметила женщина с узлом.
— И все голодные, — ответила Катя сердито. — Если все начнут выть, так что же это будет!
— А ты вот объясни ему это, такому.
Катя внимательно и с неодобрением посмотрела на Митю. Видно было, что он очень слаб и ему трудно сидеть. Он сполз ниже и теперь полулежал на скамье, так что меховая шубка стала на нем горбом, а шапка надвинулась на глаза. Он был похож на какого-то странного зверька в своей меховой одежде. На бледном личике был виден только маленький, жалобно открытый рот.
Нахмурившись, Катя засунула руку за пазуху и вынула оттуда небольшой пакет, плотно завернутый в газетную бумагу. Очень осторожно она развернула его и несколько секунд сосредоточенно глядела на маленький, черный, сырой кусок хлеба. Ей смертельно не хотелось отдавать другому этот драгоценный кусок хлеба, который она с таким трудом, с таким недетским напряжением воли сохранила себе на вечер. И сердито, неохотно, повинуясь лишь необоримому чувству долга, Катя сунула свой хлеб в этот жалобно приоткрытый рот.
Все с тем же хмурым, недовольным видом она смотрела теперь на лицо ребенка, медленно, с наслаждением жующего хлеб. Потом она хозяйским жестом поправила на нем шапку. И в эту минуту страшный удар потряс все вокруг.
Все дрогнуло и качнулось. Свеча упала. И одновременно с чудовищным грохотом, донесшимся извне, здесь, внутри, в кромешной темноте, раздался задыхающийся, хриплый, многоголосый крик.
И почти тотчас, перекрывая этот страшный крик, разбившийся теперь на отдельные крики и невнятные возгласы, послышался ясный, громкий, повелительный мужской голос: «Тише! Спокойно! Без паники. Не двигайтесь с места. Сейчас зажжем свет».
Где-то высоко, над головами, внезапно вспыхнул крошечный желтый огонек. Всего лишь зажженная спичка, которая, казалось бы, ничего не освещала вокруг, кроме держащей ее руки. Но темнота — эта абсолютно черная, невыносимая для человека темнота — все же отступила хоть на шаг, а с нею вместе, хоть на мгновенье, отступил и ужас.
А эти большие человеческие руки там, наверху, — почему так высоко? — продолжали одну за другой зажигать спички; и человек снова и снова повторял, как заклинание, ясным и громким голосом: «Не двигайтесь с места. Спокойно. Без паники. Не двигайтесь с места».
Внезапно опомнившись, Катя схватила со стола упавшую свечу и стала быстро пробираться между людьми, которых словно стало сразу вдвое больше, — пробираться с такой энергией, будто зажечь сейчас свечу было самое важное, неотложное дело, которое сразу могло всем помочь.
А может, так оно и было.
Пробившись, наконец, к этому человеку, она, встав на цыпочки, потянулась — да какого же он роста? — крича изо всех сил звонким детским голосом: «Вот свечка!»
Оказалось, что он стоит на ящике, и когда он наклонился и зажег поданную ею свечу, Катя узнала в нем пожилого рабочего, которого на этих днях видела в булочной.
И вот свеча горит, и этот ровный, теплый, знакомый свет, который кажется сейчас почти ярким, — он словно обладает магической силой. Все притихли и уставились на него с каким-то облегчением.
Но не прошло и минуты, как с грохотом распахнулась дверь. Озаренный заревом пожара, юноша в ватнике, шатаясь, остановился на пороге.
— В дом восемь… фугаска… Все там к черту!
8
В общей суматохе, в неверном, резком, неестественном свете пожара Катя, с ребенком на руках, кидалась то к одному, то к другому с одним и тем же вопросом: «Вы не видели Анну Васильевну?»
Никто не отвечал ей, никто не обращал на нее внимания. Заметив среди мечущихся людей высокую фигуру уже знакомого ей пожилого рабочего, она протиснулась к нему, но в этот момент он крикнул, раскинув руки и преграждая дорогу напиравшей на него толпе:
— Посторонитесь! Дайте дорогу!
Что-то такое было в его голосе, что Катя сразу попятилась и крепче прижала к себе ребенка. И тут из-за широкой его спины она вдруг увидела рукав какого-то ватника, потом чью-то большую руку, держащую ручку носилок, и рядом с ней повернутую набок голову Анны Васильевны. Голова эта была не покрыта, темные волосы спадали вниз и медленно шевелились на ветру.
Так, качаясь и стукаясь о края носилок, как может качаться и стукаться только неживой предмет, голова эта косо ушла куда-то вниз, мимо пораженной ужасом Кати.
9
Почти совсем рассвело, когда Катя, едва передвигая ноги от усталости, подошла к милиционеру. Вдали был смутно виден еще дымящийся остов разрушенного дома и маленькие темные фигурки работающих там людей.
— Туда нельзя, — сказал милиционер устало.
— Я знаю, — ответила Катя. — Куда мне его деть?
— Кого? Мальчишку? А он чей?
— Он ничей! Анна Васильевна говорила, его в детский дом надо или в приемник какой-то. Ее убили… — добавила она тихо. — Вон там…
— Вот что! — сказал милиционер решительно. — Неси-ка ты его в райсовет, в двенадцатую комнату. Там и отдашь. Они разберутся!
Катя медленно добрела до угла и пошла по направлению к проспекту Майорова. На углу в морозном утреннем тумане вырисовывалось высокое здание — райсовет Октябрьского района.
Она миновала бульварчик, который показался ей невероятно длинным. Руки у нее затекли и ныли, — этот мальчик весил прямо тонны. Когда бульварчик кончился и опять пошли дома, Катя то и дело усаживала ребенка то на подоконник, то на тумбу.
Вот и райсовет. Окна первого этажа наглухо закрыты запорошенными снегом деревянными щитами. Катя, очень маленькая между этими наклонными щитами, придающими дому вид крепости или защищенного замка, с трудом открыла тяжелую дверь.
Она вошла в полутемный вестибюль, повернула налево и стала подыматься по лестнице.
Закутанные хмурые люди молча проходили мимо нее вверх и вниз. Она уже с трудом тащилась, время от времени останавливаясь и прислоняя ребенка к перилам. Так она добралась до третьего этажа и медленно пошла от двери к двери, подымая голову и рассматривая номера.
Что-то еще, кроме усталости, заставляло ее замедлять шаги.
Наконец она остановилась. На грязной белой двери висела табличка с цифрой «12». Катя мрачно уставилась на нее. Тут подошел какой-то человек.
— Тебе сюда? — спросил он у Кати, отворяя дверь и пропуская ее вперед.
— Нет, — сказала Катя испуганно и отошла от двери.
Крепко прижав к себе ребенка, она прошла в глубь коридора, в самый дальний его конец, и там усадила мальчика на подоконник. Постояв немножко, она вздохнула и тоже уселась, положив рядом с собой свой клетчатый платок и книгу.
Так она и сидела, понурившись, в глубокой задумчивости, на широком подоконнике большого грязного окна, выходившего во двор, глубокий и узкий. Но вот пыльный луч солнца пробрался сквозь грязное стекло и мягко озарил личико ребенка. И этот солнечный луч, хоть и очень слабый, внезапно вывел Митю из его привычной апатии. Он зашевелился, и Катя, тотчас повернув голову, внимательно посмотрела на него.
Только сейчас, впервые с тех пор, как Анна Васильевна так неожиданно сунула мальчика ей в руки, она получила, наконец, возможность спокойно рассмотреть его при ясном дневном свете. Так вот он, оказывается, какой! Широкий лобик полузакрыт спутанной, белокурой, косо подрезанной челкой. Светлые, несообразно большие глаза кажутся еще больше от окружающих их голубых теней. Худые щеки резко сужаются к маленькому острому подбородку. Бледные губы сомкнуты скорбно и немного криво.
В нормальное время он был бы, вероятно, красивым ребенком. И он был, конечно, здоровым, веселым и толстым восемь месяцев назад, иначе он и не дожил бы до нынешнего дня, а он еще жив, хотя очень слаб и уже не может ходить.
И тут, то ли под влиянием солнечного света, от которого он давно отвык, или потому, что он уже смутно почувствовал в этой девочке какую-то опору и защиту, но губы его дрогнули, и он внезапно широко улыбнулся неожиданной и милой улыбкой.
И, словно тень от этой улыбки, что-то нежное и мягкое прошло по Катиному лицу. Она коротко вздохнула и встала.
— Ну, чего там, пошли! — сказала она решительно.
Она перекинула платок через плечо, засунула книгу за пазуху и, закутав Митю в развернувшееся одеяло, тяжело подняла его на руки.
10
Когда три часа спустя Катя, еще порядком поскитавшись, остановилась у дверей домовой конторы и заглянула внутрь, в обширное, полутемное, грязное помещение, ей сперва показалось, что там никого нет. Но вглядевшись, она увидела в глубине, у окна, маленького пожилого человека в очках, который писал что-то, низко наклонившись над столом. Очевидно, это и был управхоз, к которому ее послали.
Катя подошла к нему, усадила мальчика прямо на стол и стала молча глядеть, как пишет управхоз. Освободиться от своей тяжелой ноши уже было для нее облегчением. Она тихо стояла, понурившись, машинально следя, как движется его перо.
Наконец он поднял голову.
— Тебе что? — спросил он вполголоса.
— Нас к вам послали, — так же негромко ответила Катя, — мы из разбомбленного дома.
— Почему это вдруг ко мне? В тридцатое хозяйство ведь посылали.
— А там сказали, к вам. Там у них уже полно.
— Что ж, давай, — сказал управхоз и вздохнул. — У меня кругом пусто: кто эвакуирован, кто умер, кто на казарменном положении. Пожалуйста, хоть целую квартиру! — Он помолчал и прибавил с каким-то недоумением: — Дожили!
— Мне не надо целую квартиру, — серьезно сказала Катя. — Нам комнату. Какую-нибудь.
— А почему кто-нибудь из взрослых не пришел?
— У нас взрослых нет. Мы одни.
Управхоз посмотрел сперва на нее, потом на мальчика и покачал головой.
— Так, — сказал он, помолчав. — А с кем раньше жили?
— Я с тетей жила. Еще раньше я на Васильевском жила, с папой, а когда он на фронт ушел, я к тете переехала, сюда. А она еще в августе эвакуировалась, со своим учреждением. А я осталась, — добавила она тихо.
— А почему осталась?
— А папа тут недалеко был; они у больницы Фореля тогда стояли, знаете, за Кировским заводом. Он два раза к нам приходил. Я не хотела так далеко от него уезжать. Это ведь так далеко! Я думала, вдруг он еще придет, пешком, чтоб на меня посмотреть, а меня и не будет.
— И приходил?
— Нет, — ответила Катя коротко и замолчала.
Управхоз отвел глаза. Он знал, что она сейчас скажет.
— Убитый он… — наконец с усилием проговорила Катя и еле слышно добавила: — В ноябре.
— Так, — задумчиво произнес управхоз. — Так. А ты, значит, с братом здесь и сидишь. Славно распорядилась! На что же живете?
— Я пенсию получаю.
— Ну, давай документ. — Он открыл ящик стола и вынул из него домовую книгу.
А Катя тем временем сняла ремень, положила платок и книгу на стол и, расстегнув пальто, достала из внутреннего кармана помятый конверт, а из него вчетверо сложенную метрику. Потом она старательно расправила ее и положила на стол перед управхозом.
— Ладно, — сказал управхоз и стал писать в домовой книге, заглядывая в Катину метрику и вполголоса, с короткими паузами бормоча вслух: — Никанорова, Екатерина Дмитриевна… Год рождения? Так… Тысяча девятьсот двадцать восьмой. Двенадцатого числа… февраля месяца. Место рождения — Ленинград. Отец — Никаноров. Дмитрий Александрович. Мать… Никанорова. Елена Николаевна. Хорошо. Теперь давай братнину метрику.
— Как? — пробормотала Катя растерянно. — И его разве тоже надо записывать?
— А то как же? А он что, не человек? Если будет здесь жить, — значит, надо прописать его.
— Нет у него метрики, — сердито сказала Катя.
— Это почему же нет?
— Пропала она. Она в доме осталась, там ведь все пропало.
— Что ж это, свою небось с собой носишь, а его пропала?
— Он же маленький, — примирительно заметила Катя.
— Это не имеет значения, что маленький. Каждый гражданин должен документ иметь; не паспорт, так метрику.
Катя опустила голову.
— Ничего у него нет, — сказала она упавшим голосом.
Управхоз помолчал.
— Ладно, — сказал он угрюмо. — Его как зовут?
Он сердито потряс чернильницу с полузамерзшими чернилами, окунул туда перо и приготовился писать. Катя совсем растерялась. Лицо ее дрогнуло, и она испуганно посмотрела на Митю. Как его зовут? Но мальчик уже дремал, весь съежившись и привалившись к стене.
— Ну? — Управхоз взглянул на нее.
Катя смущенно опустила глаза и тут, прямо перед собой, увидела свою «Анну Каренину», лежащую на столе. Быстро подняв голову и смело глядя на управхоза, она сказала уверенно:
— Его зовут Сережа.
Управхоз был далек от мысли, что тут что-нибудь неладно. Он спокойно писал, заглядывая в только что сделанную им запись.
— Так. Стало быть, Никаноров. Сергей Дмитриевич.
Катя широко улыбнулась и посмотрела на мальчика. Ей показалось забавным, что это маленькое жалкое создание называют, как взрослого, Сергеем Дмитриевичем.
— Год рождения? — услышала она голос управхоза.
Она нахмурилась, стараясь вспомнить, что говорила тогда Анна Васильевна.
— Ему третий год, — проговорила она с облегчением.
— Год рождения — тысяча девятьсот тридцать девятый, — продолжал писать управхоз. — Какого числа?
— Что какого числа?
— Какого числа родился, ну, день рождения когда?
Катя молчала. Взгляд ее рассеянно скользил по грязным стенам, увешанным старыми плакатами, какими-то пожелтевшими объявлениями и сводками.
«Да здравствует Первое мая, международный праздник трудящихся!» Этот старый порванный плакат, косо висящий как раз над головой управхоза — словно ободряющий оклик из далекого, ясного, довоенного мира. Слова «Первое мая» были написаны на красном флаге.
— Первое мая, — сказала Катя неожиданно звонким голосом.
— Первого числа, — писал управхоз. — Мая месяца. Место рождения — Ленинград. Отец… Так. Мать… Ну, вот и все, — заявил он с облегчением.
И он еще раз взглянул на заполненную страницу домовой книги, густо исписанную, разлинованную, заклеенную гербовыми марками, где только что появилась новая запись: «Никаноров, Сергей Дмитриевич».
— Ладно, выправим ему метрику. Пошли! — сказал управхоз, вставая.
И захлопнул домовую книгу.
11
Тихий, засыпанный снегом, загибающийся влево канал. Здесь и всегда-то бывало немного народу, а сейчас и совсем ни души.
Это Коломна, старый район Ленинграда.
Узкая, едва заметная тропинка протоптана в снегу у самых домов, — и там они и идут, маленький управхоз и девочка с ребенком на руках.
Высокие деревья словно сдвинуты в сторону единым порывом ветра. Старые дома, невысокие, облупленные, растянутые в длину, довольно убоги, но все же сохраняют еще какое-то ампирное изящество. Треугольные наличники, чугунные решетки балконов, потрескавшиеся колонны, где под осыпающейся штукатуркой уже торчат кирпичи.
Но полно, живет ли кто-нибудь в этих домах? Окна частично забиты фанерой, а уцелевшие стекла совершенно замерзли. Трудно поверить, что за подобными стеклами еще может теплиться жизнь.
Они подошли к старинному трехэтажному дому. Управхоз вошел в парадную, и Катя торопливо последовала за ним. Они поднялись на третий этаж, и управхоз, вынув связку ключей, долго возился в полутьме, разыскивая тот, который был ему нужен. Потом он открыл дверь, и они вошли.
В передней было темно.
— Постой-ка, вот в той, кажется, все стекла целы, — сказал управхоз, и голос его раздался глухо и странно в тишине нежилой квартиры.
Снова проскрежетал ключ, и Катя вслед за управхозом нерешительно вошла в комнату.
Это оказалась довольно большая комната, которая, очевидно, служила кабинетом тем, кто жил здесь раньше.
Катя, все еще с ребенком на руках, внимательно оглядывала чужое жилище, в котором теперь она будет жить.
Большой письменный стол, старинный шкаф красного дерева, полный книг, широкий диван, два вольтеровских кресла. Что в этой комнате давно не живут, было заметно сразу: письменный стол был совершенно пуст, все мелкие вещи с него убраны, диван закрыт куском холста, кресла застланы газетами. На выцветших обоях отчетливо выделялись более темные пятна, оставшиеся от снятых картин. Книжный шкаф был поставлен перпендикулярно к стене, отгораживая от окон часть комнаты. Тут, за шкафом, в нише, и стояли эти картины и низкий деревянный сундучок.
— Тут профессор жил, ученый очень человек, книги писал, — говорил управхоз, видно, считая своим долгом познакомить таким образом старого профессора, живущего сейчас за тысячу верст отсюда в тихом сибирском городке, с этой хмурой девочкой, которую он, управхоз, привел в профессорское жилище.
— Ты тут ничего не трогай. На кухне, что надо по хозяйству, ну там чайник, ведра, — это бери; не такое время, чтобы считаться. А в комнате ничего не трогай. И главное, следи насчет затемнения — штору спускай аккуратно.
— Хорошо, — сказала Катя.
Она уже обошла всю комнату и теперь неподвижно стояла перед большой изразцовой печью.
Глаза ее медленно скользили по белым, блестящим, холодным изразцам.
— Печурки нету… — прошептала она упавшим голосом.
— Да, это действительно, — пробормотал управхоз. Он, нахмурившись, посмотрел на печь и добавил, словно оправдываясь: — Они ведь еще летом эвакуировались.
Катя молчала. А он знал не хуже ее, что это значит — остаться без печурки.
— Вот что, — сказал он. — Ты сходи в восемнадцатую квартиру, к Трифонову; это тут — со двора. Он делает печурки, так ты с ним уж договорись как-нибудь. Скажи, я послал. А на чердаке возьмешь доски; мы там переборки разобрали, так еще осталось немного. Поищи там в самом конце, я их толем прикрыл. Ну, вот тебе ключ. Смотри, не теряй, другого нету.
Катя взяла ключ, а он все еще стоял, хотя делать ему здесь уже было нечего. Потом он решительно пошел к дверям, но там еще раз остановился и, обернувшись, посмотрел на детей.
— Ну что ж, живите тут… сколько протянете, — проговорил он тихо.
И вот уже слышно, как со стуком захлопнулась за ним дверь. Словно очнувшись от этого звука, Катя подошла к креслу и, сняв газеты, со вздохом облегчения посадила в него Митю. Потом она сняла газеты и с другого кресла, положила на стол платок и книгу, стащила с головы шапку и опять, уже по-хозяйски, оглядела комнату.
— Ну, вот мы и дома! — сказала она.
12
Катя медленно шагала по крутым, грязным, выщербленным ступеням. Да она никогда не кончится, эта чертова лестница. Может, это уже чердак? Но это как раз и оказалась квартира 18.
Из-за двери слабо доносился звук пилы. Катя встала на цыпочки и с усилием дернула круглую ручку старого звонка. Слабый, дребезжащий звук задрожал там, внутри, — и замер.
Катя прислушалась. В наступившей тишине снова стал слышен звук пилы.
Она терпеливо ждала.
Наконец из-за двери раздался негромкий женский голос:
— Кто там?
— Мне к Трифонову, — сказала Катя, — меня управхоз послал.
Дверь медленно приоткрылась, и в образовавшейся темной щели Катя увидела внимательно уставившийся на нее глаз. Ей видна была только часть лица стоящей за дверью женщины — маленькой, с узким, недобрым лицом, закутанной в грязный шерстяной платок. Женщина молчала, подозрительно рассматривая Катю.
— Мне Трифонова надо видеть, — повторила Катя. — Дома он?
Ничего не отвечая, словно не расслышав ее слов, женщина продолжала рассматривать Катю. Потом она приоткрыла дверь немного шире и неохотно пропустила ее.
Катя нерешительно вошла в большую полутемную кухню.
Видно было, что этой кухней давно никто не пользуется, через нее только проходят. Большая, пустая, мертвая плита — странно подумать, что когда-то ее топили, что на ней варилась еда. Мертвая раковина, мертвый кран, из которого давно не идет вода. Нет ни табуреток, ни кухонного стола…
В углу у окна широкоплечий человек в ватнике и ушанке пилил кухонную полку. Он даже не взглянул на вошедшую девочку и медленно продолжал пилить, согнувшись и придерживая доску левой рукой.
— Это вы Трифонов, что ли? — спросила Катя, слегка оробев.
Человек в ватнике, по-прежнему не глядя на нее и не прекращая своей работы, проговорил негромко и равнодушно:
— Я Трифонов.
— Меня к вам управхоз прислал, — быстро заговорила Катя. — Мы в пятую квартиру въехали, из разбомбленного дома. Управхоз сказал, что вы делаете печурки. Там нет печурки, в этой квартире.
— Триста граммов, — негромко сказал Трифонов, все так же продолжая пилить.
Катя испуганно взглянула на него. Она отлично поняла смысл его слов, но все же переспросила упавшим голосом:
— Чего… триста граммов?
Трифонов молча продолжал пилить. Пила мерно двигалась, все глубже вгрызаясь в доску. Взад-вперед, взад-вперед. Жена Трифонова, стоя у пустой плиты, проговорила со злостью:
— Хлеба триста граммов! Чего…
— Нет у меня хлеба, — тихо сказала Катя.
— Ну и иди себе, если нет, — ответила женщина.
Катя подошла ближе к Трифонову.
— У меня нету хлеба, — повторила она, тихо, но раздельно и очень внятно произнося каждое слово. — Вы же сами понимаете, — где я его возьму? Мы не можем совсем не есть, у меня брат маленький. Я вам деньгами заплачу, вы скажите, сколько.
Она достала из внутреннего кармана старый мужской бумажник и вытащила из него деньги.
Трифонов, не глядя на нее, продолжал пилить.
Катя растерянно взглянула на его неподвижное, равнодушное, словно застывшее лицо.
Тогда он сказал:
— А на что они мне? Печку растапливать, что ли, твоими бумажками?
— Ну, иди, иди, — быстро сказала женщина. — Нечего тебе здесь делать. На деньги мы не продаем. Иди отсюдова.
— Не пойду! — крикнула Катя с отчаянием и злостью. — Нам невозможно без печки! Там всю зиму не топлено, а печь — как дом. Нам же не выжить так!
Женщина сказала:
— Ну и не выживайте. Нужны вы очень.
— Нужны! — яростно крикнула Катя. — Нужны. Все нужны!
— Ну, хватит, — сказал Трифонов. — Мы тоже выжить хотим, а разве на пайке выживешь? Иди, довольно разговаривать. Сказал тебе: триста граммов. Нет, так иди. И все.
Он сказал это очень спокойно, не повышая голоса, не подымая головы. Полка была уже почти перепилена, пила уходила в нее все глубже — взад-вперед, взад-вперед… Все тот же унылый, мерный звук.
Катя притихла. Ее покрасневшие от холода руки все еще сжимали мятые ассигнации.
— Вы, может, думаете, у меня денег не хватит? — сказала она каким-то усталым, внезапно охрипшим голосом. — Вы скажите, сколько. Сколько скажете, столько я заплачу. Я вам сейчас дам, сколько есть, а третьего я пенсию получу и все остальное отдам.
Трифонов молча продолжал пилить. Все так же размеренно, так же медленно.
Потом, по-прежнему не глядя на нее, он спросил равнодушно:
— За отца пенсия?
— За отца, — ответила Катя.
Очень тихо было в этой пустой полутемной кухне, только слышался все тот же унылый звук пилы.
Катя стояла молча, невольно глядя на его большие рабочие руки, на мерно движущуюся пилу. Ножовка совсем погрузилась в глубь доски. Взад-вперед, взад-вперед.
Вдруг доска, распавшись на две части, с грохотом упала на пол.
Катя вздрогнула.
И тут она услышала, как Трифонов сказал:
— Дай ей печку, Пелагея.
13
А он все тянется, этот бесконечный день. И когда кажется, что силы совершенно иссякли, он ставит новые задачи, и одновременно с этим откуда-то берутся и силы, чтобы эти задачи разрешить. Обыкновенные, будничные задачи, но на них требуется столько сил, что, кажется, при других обстоятельствах их хватило бы на полжизни.
Катя тихо идет по пустому темному чердаку. Деревянные переборки, раньше делившие его на части, теперь сняты, и он кажется бесконечным. Тусклые полосы света тянутся из выходящих на крышу полукруглых окон. Попав в такую полосу, Катя медлит, в темное пространство она вступает, как в воду.
В конце концов выясняется, что он все же не бесконечен, этот чердак, и что там, в глубине, под толем, действительно лежат доски. Катя выбирает две короткие толстые доски и, взвалив их на плечо, медленно идет обратно. Войдя в полосу света, она останавливается и, прислонив свои доски к стене, подходит к чердачному окну.
Далеко внизу, плавно заворачиваясь влево, лежит замерзший, засыпанный снегом канал.
Ни живой души не видно там, внизу. Тихо и пусто. Ни людей, ни машин, ни даже птиц. Все мертво и покрыто снегом.
Но вот вдали, на мосту, появилась маленькая черная фигура. Медленно, с усилием продвигаясь вперед, человек тащит санки, на которых стоит привязанное к ним ведро. Он такой крошечный, когда глядишь на него отсюда. Держась руками за край окна, вся вытянувшись, Катя долго провожает его взглядом.
Час спустя Катя подошла к дверям булочной и, не обращая внимания на очередь, стала протискиваться внутрь. «Куда лезешь!», «Ты чего без очереди!» — раздались сердитые голоса. Но Катя продолжала пробиваться вперед.
— Ладно. Не орите, — проговорила она спокойно. — У меня ребенок один дома. — И, добравшись до прилавка, сунула свою карточку. — На два дня!
Когда, вернувшись к своему новому дому, она медленно подымалась по лестнице, из квартиры на втором этаже вышла невысокая девушка и с любопытством посмотрела ей вслед.
— Ты что, там живешь? — спросила она.
— Ну да, — коротко ответила Катя.
— Когда же вы въехали?
— Сегодня. Мы тут в пятой квартире теперь будем жить.
— А, там профессор жил. Вам что, всю квартиру дали?
— Да нет, одну комнату. Я тут с братом, только он маленький еще.
— А красиво у них там в квартире?
Катя уже стояла на верхней площадке и вынимала из кармана ключ.
— Зайди посмотри, — сказал она равнодушно. — Тебя как зовут?
— Женя, — ответила девушка и поднялась наверх.
Как только Катя открыла дверь и они вошли в темноту передней, сразу стало слышно, как в комнате тихо скулит ребенок.
— Пищит, бедняга, — сказала Катя с огорчением. — Все один да один. И не ел ничего.
Митя сидел в том же кресле, куда его посадила Катя. Он все еще был в шубе и шапке, на ногах у него лежало одеяло и Катин клетчатый платок. Когда Катя подошла к нему, он сразу замолчал и, подняв голову, серьезно посмотрел на нее.
— Ну вот, теперь все в порядке, — сказала Катя, снимая с него шапку. — Сейчас печку приладим. Видел, какая печка? Я хлеба принесла, и у нас еще четыре конфеты есть. Кипяток согреем!
Женя, быстро осмотрев все вокруг, подошла к ним.
— Это Сережа, — сказала Катя.
К комнате сгустились сумерки, но у окна, где сидел мальчик, было еще почти светло. Бледное лицо ребенка, обрамленное грязным, сползшим набок платком, казалось совсем прозрачным, большие глаза глядели устало и равнодушно.
Женя посмотрела на него без особого любопытства. Легкая гримаска сомненья скривила ее губы.
— Эх, совсем он у тебя плохой, — заметила она спокойно. — Наверно, и не ходит уже. Ему сколько?
— Скоро три года будет, — сказала Катя и вдруг, поняв не только смысл сказанных Женей слов, но и смысл того тона, каким они были сказаны, быстро повернулась и спросила с испугом:
— Почему плохой?
— Слабый очень. У нас у соседки прошлый месяц тоже девочка умерла. Вот так же ходить перестала, все лежала, вот как твой. Хочешь, я у нее для тебя какие-нибудь вещи спрошу — ей теперь ни к чему. Сейчас кому они нужны, детские вещи, — ни продать, ни сменять.
— Спроси, — сказала Катя коротко, — у него ничего нет. Одно одеяло.
— Только не жилец он у тебя, — добавила Женя равнодушно.
— Кто не жилец? — тихо и угрожающе спросила Катя.
— Да твой.
— Неправда! — крикнула Катя с такой внезапной силой, что Женя невольно попятилась. — Жилец! Ну и что, что у вас там девочка умерла? А мой не умрет! Не слушай ее, Сережка! «Не жилец», — повторила она, передразнивая Женю. — Сама ты не жилец! Да он тебя на сто лет переживет, если хочешь знать!
Послышался отдаленный орудийный выстрел. Митя повернул голову к окну, и Катя тотчас заметила его движение.
— И их не слушай! — закричала она с яростью. — Пусть стреляют! Плевать нам на них! Они все тут передохнут, фашисты проклятые, их всех, как собак, закопают, а мы все будем жить! Вот увидишь. И ихний Гитлер подохнет, и могилы от него не останется, а ты будешь жить! И будешь в школу ходить, и по Невскому гулять! И играть в футбол… И кушать пирожные!
14
Наконец наступает вечер. Катя опустила маскировочные шторы, и в комнате стало темно. Но печурка уже прилажена с помощью вставленной в печь самоварной трубы, и в ней пылает огонь. И освещенные этим огнем, согретые и утешенные его живительным теплом, сидят перед печкой Катя и Митя.
Они сидят на поду, на снятой с дивана подушке. Мальчик наконец раздет. На нем вязаная кофточка и длинные лыжные штанишки. Полусонный, он задумчиво глядит в огонь, прижавшись к Кате белокурой головой. Катя очень устала. Она сидит без движения, охватив колени руками, наслаждаясь покоем и теплом.
На высоком шкафу, стоящем перпендикулярно к стене и обращенном к детям торцовой стороной, стоит мраморная копия античной скульптуры. Это голова Гермеса работы Праксителя. Слабо освещенный колеблющимся светом печки, почти живой от смены света и теней, скользящих по его лицу, он смотрит вниз с едва заметной улыбкой.
Нет, он вовсе не казался чужим или лишним в этой промерзшей комнате, в блокированном городе, среди лишений и тревог. В самой красоте его, дошедшей до нас сквозь века разрушений и варварства, таилось что-то, несущее надежду и призывающее к стойкости.
Катя только сейчас заметила его. Она не знает, кого изображает стоящая здесь скульптура, не знает, кто ее создал. Но эта благородная красота невольно трогает ее детское сердце. К тому же ведь он единственный, кто живет теперь с ними в этой пустой квартире. И, закинув голову, она задумчиво смотрит на него.
15
Так они идут, эти короткие зимние дни, до самых краев наполненные непосильным трудом, страхом, надеждой и мужеством. Каждый прожитый день — это выигранное сражение, маленькое, незаметное, бескровное, но часто кончающееся смертельным исходом. Но вот он отвоеван, еще один день. Он все-таки прожит, он прошел, присоединился к ряду других прожитых дней, превратился в воспоминание.
И снова наступает вечер. Снова опускаются маскировочные шторы. Слабый желтый свет коптилки — потому что у них уже есть и коптилка — падает на угол письменного стола, на котором стоят две алюминиевые миски.
Перед одной из них сидит Митя Воронов. На стул что-то подложено, чтобы ему было выше, но его подбородок все же едва возвышается над полированным краем стола.
Он сидит совершенно неподвижно, он весь ожидание. Катя медленно отрезает от небольшого куска хлеба два тоненьких, ровных, совершенно одинаковых ломтика. Нужно многое вытерпеть, чтобы научиться так аккуратно резать хлеб.
Светлые глаза мальчика неотрывно следят за движениями ее рук. И, поймав этот упорный взгляд, Катя, помедлив, отрезает еще ломтик. Остальной хлеб она снова завертывает в бумагу. Потом она идет к печурке, осторожно неся на ладони эти драгоценные куски.
Хлеб — бесценное сокровище. Маленькие нежные пальцы Мити собирают вместе несколько крошек, оставшихся на гладкой поверхности стола. Они легко прилипают одна к другой, эти мокрые, липкие крошки, и ребенок осторожно засовывает их в рот.
Катя возвращается к столу и кладет на его блестящую поверхность три подсушенных на печурке ломтика хлеба. Один из них она делит пополам и кладет у каждой миски по полтора куска.
Когда она снова отходит, Митя, весь вытянувшись, достает нож и неловко, с большим напряжением, разрезает свой хлеб на маленькие неровные кусочки. Он медленно раскладывает их около себя, совсем маленькие, слегка подгоревшие квадратики хлеба.
Катя ставит на стол закопченную кастрюльку и наливает в миски жидкий дымящийся суп, старательно делит поровну жидкое и гущу. Митя греет у стенок миски свои маленькие замерзшие руки, внимательно следя за каждой ложкой, которую Катя ему кладет.
Потом очень медленно, не замечая больше ничего вокруг, он начинает есть свой суп.
Катя садится напротив. И тут она видит на гладкой поверхности стола его мелко нарезанный хлеб.
— Опять! — восклицает она с отчаянием и болью. — Не смей так делать, крохобор несчастный! Ешь как человек. Нельзя так… Как нищий…
Митя перестал есть. Он снова застыл, съежившись над своими кусочками. Он не понимает, почему она сердится, но неясное чувство унижения пригибает его все ниже. И он тихо плачет, совсем беззвучно — неподвижный, сжавшийся в комок.
— Ешь, ешь, ведь стынет, — тихо говорит Катя, и нестерпимое чувство бессильной жалости охватывает ее с небывалой силой.
— Ешь, Сережа, — добавляет она совсем неслышно и придвигает к его мисочке свою половинку хлеба.
И он снова начинает есть свой суп. Слезы еще текут по его лицу, но он их уже не замечает. Он не замечает больше ничего на свете. Он очень счастлив. И он ест как можно медленней, чтобы продлить свое недолгое счастье.
16
Ослепительный день. Март тысяча девятьсот сорок второго года.
По обе стороны Литейного моста лежит Нева — великолепная, широкая, мертвая, закованная льдом, засыпанная снегом.
Огромное небо расстилается над ней — бесконечное, сияющее, пустое. Яркое солнце пылает на нем.
Все бело́ и все оледенело.
С Нижегородской улицы, подымая снежную пыль, стремительно выехал грузовик. Перед Литейным мостом он затормозил, и высокий военный в полушубке, с заплечным мешком в руках, легко спрыгнул на снег. Дверца кабины распахнулась, и молодой парень в ушанке крикнул, наполовину высунувшись наружу: «Что, лихо? С тебя причитается!»
— Ладно, пол-литра после войны, — улыбаясь, ответил военный.
Парень рассмеялся, захлопнул дверцу, и грузовик, повернув на Арсенальную набережную, быстро скрылся из глаз.
А Алексей Воронов остался стоять перед Литейным мостом — высокий, худой, светлоглазый человек. Несколько минут он стоял совершенно неподвижно, пораженный в самое сердце этой немотой, этим безлюдьем, этой сверкающей и мертвой белизной.
Он уехал из города десять месяцев назад, в конце апреля сорок первого года. Уехал в командировку, веселый, полный всевозможных планов, уверенный, что через два месяца он снова вернется в Ленинград. А через два месяца он уже воевал, уйдя на фронт в первый же день войны из Петрозаводска, где был в командировке. И все это время он отчетливо помнил тот предпраздничный, весенний, довоенный Ленинград, каким он видел его в день отъезда. Оживленную толпу на широкой, залитой солнцем улице, цветы на перекрестках, улыбки женщин, веселый крик детей. Эту многоликую жизнь, полную движения и шума.
И вот теперь он стоит один перед Литейным мостом. Тишина и пустота окружают его.
Внезапно над его головой раздался спокойный женский голос: «Мы передаем Седьмую симфонию Бетховена. Часть вторая. Аллегретто. Трансляция производится по записи». Воронов взглянул вверх. Из установленного на фонарном столбе черного раструба репродуктора раздались первые звуки знаменитого аллегретто.
Он постоял еще с минуту, потом надел свой заплечный мешок и медленно пошел по направлению к мосту.
Взойдя на мост, он снова остановился. По обе стороны расстилалась широкая заснеженная гладь Невы. Щурясь от яркого света, Воронов долго, с пристальным вниманием смотрел на неподвижные, вмерзшие в лед корабли, на золотисто-розовый силуэт Петропавловской крепости.
Вдруг он заметил, что он уже не один на мосту. Маленькая, странно и громоздко одетая женщина, наклонившись и с усилием волоча что-то за собой, медленно шла ему навстречу. Он посторонился, отступив в снег, и на фоне опушенной снегом решетки проплыл темный силуэт закутанного, неподвижного человека, сидящего на чем-то низком, скользящем по земле.
«Детские салазки! Бог ты мой, ведь это детские салазки!» Вторая женщина, в ватнике и большом платке, идя сзади, поддерживала сидящего на санках человека.
Воронов провожал их взглядом, пока они не скрылись из глаз, свернув на Пироговскую набережную. Это ленинградцы. Сердце его сжалось. Это ленинградцы.
Трамвай, разбитый снарядом, застыл под давно засыпавшим его снегом; искрящиеся снежные гирлянды свисали с порванных проводов.
Мост кончился наконец. Впереди, на Литейном, видны были темные фигурки редких прохожих. Ему бы лучше было пройти там, но, в глубокой задумчивости, он, по старой привычке, повернул направо. Бесконечная, покрытая снегом набережная уходила в морозную даль; высокая фигура Воронова, казалась совсем маленькой в этом безграничном пространстве. Он шел теперь вдоль Невы по узкой, протоптанной в снегу тропинке.
Ворота Летнего сада были заперты. Он постоял перед ними, задумчиво глядя на этот пустынный сад, белый, недвижный, без дорожек, без статуй, — только снег, глубокий, ровный снег и черные, застывшие стволы деревьев. Волшебной красоты решетка — ее колонны, вазы, пики и цветы, — озаренная солнцем, осыпанная снегом, парила над ним в ослепительно синем, бездымном, ясном небе.
И мимо этой прославленной решетки навстречу Воронову двигался высокий черный человек. Да полно, человек ли это? Живые люди так не ходят. Человек из плоти и крови не может держаться так неподвижно. Словно посторонняя, механическая сила движет по белому снегу эту неестественную прямую черную фигуру. Он приближается. Он уже совсем близко. Воронов видит прямо перед собой его лицо, его глаза, глядящие на него невидящим взором.
Нет, нет! Такого лица не может быть у человека! Воронов стоял потрясенный. Он прошел через восемь месяцев войны. Но ни мертвые, ни умирающие не были так страшны, как этот живой.
Тот уже прошел, а Воронов все еще стоял, не в силах двинуться, боясь обернуться.
Но ведь надо идти! И вот уже Марсово поле легло перед ним необозримой пустыней.
Одна-единственная, узкая, чуть заметная тропинка шла через выступающее над снегом гранитное каре. Воронов медленно побрел по этой пустыне. Дойдя до угла гранитного надгробья, полузанесенного снегом, он остановился.
Их почти невозможно было различить сейчас, эти торжественные надписи, так хорошо знакомые ему с самого детства. Он смог прочесть лишь одну строку — внизу, у самой кромки снега:
НЫНЕ ПРИМКНУЛИ СЫНЫ ПЕТЕРБУРГА
Нет, он не был сейчас униженным, родной его город, который он любил такой неистребимой, страстной, ревнивой любовью, какой можно любить только живое существо. О нет, он не был униженным. Что-то гордое и даже надменное было сейчас в его блистательной красоте и что-то презрительное и грозное.
Сколько памятников и статуй было закрыто щитами, завалено мешками с песком, зарыто в землю, укрыто в подвалах, но произведения искусства, украшавшие город, были рассыпаны с такой неисчерпаемой щедростью, что они наполняли его и сейчас, покоясь, как бесценные сокровища, в этом ослепительном снегу.
И, словно насмехаясь над злобными ордами, залегшими вокруг сплошным кольцом, он гордо подымал к бездымному небу свои прославленные здания, арки, мосты, ограды, статуи — воспетые поэтами, исцарапанные осколками снарядов.
Обо всем этом думал усталый человек, медленно шагая по направлению к Инженерному замку. И здесь, на мосту через Мойку, прислонившись к решетке, наполовину погруженной в снег, подняв лицо к репродуктору, из которого лилась щемящая и прекрасная музыка Бетховена, он понял до конца всем своим существом, что этого города врагу не взять никогда, и, может быть, именно потому, что, обороняя его из последних сил, они сражались здесь за все высокое и прекрасное, на что способен человек.
И тут впервые, еще неясно, стороной, прошла в его сознании странная мысль, что в этой страшной борьбе они — советские солдаты — сражаются здесь в конечном счете также и за душу этого народа, этих немцев, залегших там, в снегу, — их испоганенную, изуродованную, опозоренную фашизмом душу.
Он снова идет, теперь уже быстрее, пересекая улицы, минуя площади и сады, переходя мосты, углубляясь в переулки.
Бронзовый святой между колоннами собора протягивает обрубленную руку. Осколок снаряда попал ему в грудь, черное отверстие зияет как смертельная рана.
Но тот, кто лежит навзничь у ступеней собора, — разве он тоже изваян из бронзы? На голове у него ушанка, плотно завязанная под подбородком, сквозь запорошивший его снег еще видно черное пальто. Нет, так не одевают святых и воинов, украшающих соборы и дворцы. А может быть, святые и воины одеваются сейчас именно так?
Снег лежит не тая на его потемневшем лине, в орбитах глаз, во впадинах щек. Из снега приподнята окоченевшая рука; темные пальцы кажутся черными среди сияющей белизны. Видно, кто-то снял с этой руки уже не нужную рукавицу.
Воронов идет теперь быстрее; он пристально смотрит и запоминает навсегда все, что открывается сейчас его взгляду.
Стена дома, развороченная ударом снаряда. Женщина, с непосильным трудом подымающая ведро. Наклонный щит у витрины магазина. Очередь, безмолвно прижавшаяся в стене. Окно, забитое фанерой. Баррикада из железных ферм, перегораживающая узкую улицу. Снег. Оборванные провода. Снег.
Он стоял перед развалинами своего дома.
17
Час спустя в маленькой тесной домовой конторе Воронов молча смотрел, как пожилая женщина, управхоз, рылась в открытом шкафу.
— Я человек новый, я никого не знаю, — говорила она сердито. — Как фамилия, вы сказали?
— Воронова. Нина Владимировна. Дом восемь.
— Это я знаю, что дом восемь, — сказала женщина, с шумом перебирая толстые домовые книги, как попало сваленные в шкафу.
Воронов спросил:
— А где теперь Анна Васильевна, старый наш управхоз?
— Да ведь она погибла в бомбежку, когда в ваш дом попало.
— Погибла?
— А вы что думали? Только на фронте от бомбы погибнуть можно? А тут они что, только для виду рвутся?
Воронов хмуро ответил:
— Ничего я не думал.
Мучительный страх сжал ему сердце. Смутная страшная мысль, мелькнувшая у него еще там, перед развалинами дома, оборачивалась теперь угрожающей реальностью. И он проговорил запинаясь, с видимым усилием:
— А разве… не уходят в убежище, когда тревога? Там… там еще люди были?
— Кто уходит, а кто и не уходит. Ходить тоже надоело, всю осень бегали, каждый день. Вот дом восемь. Свалили все, разберись тут.
Она взяла домовую книгу и пошла к столу.
В черной тарелке репродуктора над ее головой быстро и напряженно стучал метроном.
«Артиллерийский обстрел района», — подумал Воронов. И тотчас забыл об этом. Невольным движением прижав к груди руку, сощурившись и стиснув зубы, как бы в ожидании удара, он, нагнувшись над столом, напряженно смотрел в разлинованные, испещренные печатями и марками, исписанные крупным почерком страницы домовой книги.
Узловатые, замерзшие руки женщины, неумолимые и страшные, как руки судьбы, медленно переворачивали эти страницы.
Метроном все стучал. Это сердце насторожившегося города стучало сейчас в этой черной тарелке. Но Воронову казалось, что это его сердце, которое так тяжко и больно колотится там, у него в груди, наполняет сейчас все вокруг сухим, напряженным стуком.
— Воронова. Нина Владимировна… — услышал он голос управхоза. Стук становился нетерпимым, все резче, все громче. — Вот… Эвакуировалась. Девятнадцатого февраля. Повезло ей — как раз перед бомбежкой. В Ярославль.
Женщина закрыла домовую книгу.
Как тихо.
Метроном, оказывается, стучит едва слышно из черной тарелки репродуктора.
Воронов перевел дыхание и выпрямился.
— В Ярославль? — пробормотал он задумчиво. — С Митей?
Женщина встала и положила книгу обратно в шкаф.
— Немножко бы раньше приехали и застали бы, — проговорила она, обернувшись.
— Да, еще застал бы.
Он неподвижно стоял посередине маленькой комнаты. Чувство облегчения и пустоты охватило его.
Она сказала:
— Вы тут переждите, а то обстрел.
— Ничего. Я пойду, — сказал Воронов. — Спасибо.
Выйдя во двор, он постоял немного, щурясь от яркого света, и пошел по узкой тропинке, ведущей к темной арке подворотни.
Кто-то окликнул его. Высокая костлявая женщина торопливо пробиралась к нему, то и дело увязая в снегу.
— Алексей Петрович, — повторяла она. — Алексей Петрович! Подумать только! А Нина ведь уехала, вы знаете уже?
Теперь она подошла вплотную к нему, и хотя он стоял совершенно неподвижно, она ухватилась за рукав его полушубка, словно боясь, что он убежит или попросту внезапно исчезнет.
Он все еще молчал, и она спросила испуганно:
— Вы что, не узнаете меня, Алексей Петрович?
— Теперь узнал, — проговорил он медленно. — Вы очень изменились.
— Еще бы! Половина осталась. Ведь сколько мы натерпелись здесь, господи! А Ниночка-то какая стала — одна тень. Как обидно, что вы с нею разминулись. И подумайте, я с ней совсем случайно столкнулась, вот как с вами сейчас, — в то самое утро, как она эвакуировалась. Я в очередь бежала, смотрю — Нина идет, с мешком, а я и не знала, что опять эвакуируют. И только уехала — ваш дом разбомбили.
— Да, я знаю.
Он молчал, не решался спросить, и наконец проговорил, запинаясь:
— Евгения Петровна, вы ее видели. Ну… а Митя?
— Ах, Алексей Петрович, так вы и не знаете? Я думала, она вам писала. Ведь умер он, ваш Митя. От нее я тогда и узнала. Что же делать! Ведь взрослых людей сколько поумирало, сказать страшно, не то что малых детей. Право же, и ему легче, и ей хоть руки развязал.
Взглянув в изменившееся лицо Воронова, она поспешно добавила:
— Ничего, Алексей Петрович, вы люди молодые. Вот кончится война, будут у вас еще детки. Не горюйте, что уж тут поделаешь.
Не слыша ее слов, не отвечая ей, он стоял, низко опустив голову, ссутулившись, словно это горькое известие физически придавило ему плечи.
Он сам не заметил, как вышел снова на ярко освещенную улицу.
Известие о смерти ребенка, которого он так недолго знал и так смутно уже помнил, но мысль о котором хранил где-то в потаенной глубине своего сердца, как нечто драгоценное, хрупкое, нежное, ни на что не похожее в его теперешней жизни и потому особенно важное для него, — мучительно его поразило. И он медленно шел, в глубокой задумчивости не замечая ничего вокруг.
Улица была совершенно безлюдна. Изредка слышались отдаленные удары. Когда Воронов поравнялся с закрытой подворотней высокого дома, маленькая худая женщина внезапно выскочила оттуда и крикнула ему: «Товарищ военный!» Он не слышал ее. Тогда она догнала его и схватила за руку.
— Товарищ военный, вы что, не слышите, ведь обстрел. Нельзя ходить!
Нахмурившись, он молча смотрел на нее. Он так и не понял, что она сказала, но покорно пошел в подворотню, куда она упрямо тянула его своими слабыми руками. Там уже стояло несколько человек, пережидая, когда кончится обстрел. Не заходя в ворота, Воронов стал в затененной арке, глядя прямо перед собой на сияющий под солнцем снег.
Рядом с ним стояла Катя. Она была все в том же пальто, подпоясанном мужским широким ремнем, и в меховой ушанке. В руке она держала помятый бидон. То и дело, как птица, вытягивая шею, Катя выглядывала на улицу, очевидно стараясь прикинуть, далеко ли до соседних ворот. Один раз она уже пыталась удрать, но дежурная ее вернула.
— Товарищ военный, — тихо проговорила Катя, и так как он не отвечал, она повторила громче и настойчивей: — Товарищ военный!
— Да? — откликнулся Воронов.
— Товарищ военный, — быстро заговорила она, заглядывая ему в лицо своими темными блестящими глазами, — давайте пойдемте. Они ведь всегда так: начало прохлопают, а как обстрел уже почти кончится, — тут они и объявляют тревогу — и стой тогда здесь, как дурак. Давайте побежим до следующих ворот, — там проходной двор, я вас проведу, там выход на канал, и мы спокойно пройдем. А по Садовой никак не пройти: милиционер ни за что не пустит, пока не объявят отбой. А это знаете сколько ждать? Пойдемте, а?
— Ну что же, пойдем, — сказал Воронов.
Катя побежала, то и дело оглядываясь, идет ли он за ней.
— Товарищ военный! — снова крикнула дежурная, но они уже достигли соседнего дома и вошли во двор.
— Я тут все проходные дворы знаю, — сказала Катя с веселым оживлением.
Он спросил хмуро:
— А зачем ты ходишь во время обстрела?
— А если они весь год стрелять будут, так нам что, так все и сидеть? Мне надо скорей домой, у меня братишка дома. Некогда мне по подворотням стоять.
Они пересекли узкий двор, в глубине которого оказалась заметенная снегом, наполовину разобранная кирпичная стенка. Катя с усилием вскарабкалась на эту стенку и, махнув бидоном, крикнула: «Сюда идите!» Спохватившись, она испуганно приоткрыла крышку бидона и осторожно заглянула внутрь. Воронов тоже влез на стенку, и Катя, заметив его взгляд, сказала озабоченно: «Это суп. Я в столовой теперь карточку отовариваю. Вы знаете, так лучше, все-таки каждый день суп».
Она спустилась по другую сторону стенки, осторожно неся бидон, и добавила едва слышно, с затаенным мучительным страхом: «Только все вперед берем…»
Они прошли через второй двор — между глухой кирпичной стеной и низеньким старинным флигелем — и сквозь темную арку ворот вышли на тихий, засыпанный снегом, залитый солнечным светом канал. Обрамленный чугунной решеткой, наполовину ушедшей в снег, он мягким изгибом заворачивался влево к смутно различимому вдалеке мостику. Осыпанные снегом высокие деревья, словно сдвинутые единым порывом ветра, склонялись в одну сторону. Голубая тень от них лежала на снегу.
Погруженный в свои мысли, уже позабыв о своей маленькой спутнице, Воронов крупно шагал прямо по нетронутому снегу, оставляя за собой глубокие, голубые на свету следы.
Катя шла рядом с ним по узкой, протоптанной в снегу дорожке, с трудом поспевая за его широким шагом. Иногда она даже бежала немножко, чтобы от него не отстать, и при этом оступалась в снег. Тогда рядом с его большим широким следом появлялись ее маленькие, косолапые следы.
Полуоткрыв рот, закинув голову, она на ходу с глубоким вниманием заглядывала ему в лицо. Когда она там, в подворотне, позвала за собой этого высокого военного, она думала только о том, чтобы под его прикрытием удрать от бдительной дежурной. Но сейчас, идя рядом с ним, она смутно почувствовала в нем что-то особенное, значительное, не похожее на других.
Он так глубоко ушел в свои мысли, так был отрешен от всего, что во всем его облике не осталось ничего будничного, ничего бытового.
И с чувством любопытства, тревоги и смутной жалости Катя внимательно вглядывалась в его лицо.
Они уже поравнялись с Катиным домом.
— Вот здесь мы живем, — сказала Катя, останавливаясь. — У нас даже стекла целы.
Она посмотрела наверх, и Воронов, невольно остановившись, тоже скользнул рассеянным взглядом по крайним окнам третьего этажа, единственным не поврежденным во всем доме окнам.
А там, за одним из этих окон, отделенный от взгляда отца только грязным замерзшим стеклом, сидел Митя Воронов. Перед ним на подоконнике, под снежными узорами замерзшего окна, стояла маленькая, сложенная из газеты бумажная лодочка.
Тоненьким грязным пальцем мальчик медленно водил ее взад и вперед.
Удар. Митя поднял голову и прислушался. Очевидно, обстрел все еще продолжался. Он слез на пол и тихонько пошел по направлению к шкафу. Но ноги плохо его держали. Опустившись на четвереньки, он добрался до шкафа, а обогнув его, дополз и до ниши, где стоял плоский сундучок.
Бумажную лодочку он принес с собой. Она немного помялась, пока он полз, сжимая ее в кулаке.
Это ценная вещь; и теперь он старательно и аккуратно расправил ее погнутые края.
А те двое все еще стояли внизу у парадной.
— Ну, я пойду, — сказал Воронов и медленно пошел в сторону далекого мостика. Несколько секунд Катя задумчиво смотрела ему вслед, потом открыла дверь и вошла в дом.
Пройдя несколько метров, Воронов вдруг остановился.
— Слушай, девочка, — сказал он, обернувшись. Но Кати уже не было. Тогда, скинув на ходу мешок, он возвратился к дому.
— Эй, девочка! — крикнул он, стараясь неповоротливыми в варежках руками развязать мешок. Дверь приоткрылась, и Катя снова появилась на пороге.
— На, возьми, — хмуро сказал Воронов и вынул из мешка две банки тушенки и начатую буханку хлеба.
Катя, пораженная, взглянула на него широко раскрытыми глазами.
— Нам? — пробормотала она испуганно. — Что вы… Вы своим снесите…
Но он уже сунул ей все это в руки.
— Нет у меня своих, — коротко сказал он со странным выражением, где смешались злоба и боль. И, повернувшись, он, уже не оборачиваясь больше, снова пошел вдоль канала, уходя все дальше и дальше от Кати, которая, стоя у дверей, неотрывно смотрела ему вслед.
Высокая фигура уходящего человека становится все меньше и меньше. Вот, совсем вдали, едва различимый, он переходит пустынный мост.
Катя долго стояла, прижимая к себе хлеб. На лице ее застыла странная, изумленная и нежная улыбка.
18
Как бесконечно они тянутся, эти страшные ночи. А утро не приходит само, — нужно набраться мужества, чтобы вылезти из постели в ледяной холод остывшей за ночь комнаты и дойти до окна, и поднять маскировочную штору. Только тогда ночь отступает и наступает утро.
Катя стоит, дрожа от холода, и смотрит в окно. Опять приходят дневные заботы, а с ними вместе — надежда и смутное сознание торжества. Вот все же удалось и на этот раз выскользнуть из плена ночи, вот мы снова возвращены свету, — и мы уже не одни. Катя стоит, вытянув шею, и внимательно следит за маленькой темной фигуркой человека, идущего по улице. А вот еще двое! И даже проехал грузовик. Теперь она отходит от окна и подходит к Мите. Мальчик лежит совершенно неподвижно под своими тряпками и мехами.
Катя смотрит на него с мучительным страхом. Потом крайним усилием воли она протягивает руку и быстро трогает дрожащими пальцами его щеку и рот.
Мальчик медленно приоткрывает глаза. Катя опускает руку и глубоко, с облегчением вздыхает.
— Как ты напугал меня, дурак ты этакий, — говорит она едва слышно.
Постепенно они становятся короче, эти страшные ночи. Происходит это поначалу совершенно незаметно. Но как-то утром спохватываешься, что стало как будто светлей. А через пару дней это уже совершенно очевидно.
Земля крутится себе помаленьку и тихонько, понемножку поворачивается к солнышку своей северной стороной. И никакие моторизованные дивизии не могут ее остановить. И никакие сверхмощные танки не могут остановить время. И тут становится ясно, что тот рабочий у булочной был совершенно прав: дело-то идет к весне, этого Гитлер у нас отнять не может!
И теперь, если пораньше лечь спать, можно уже обойтись без коптилки, а утром и подавно, и тогда можно на ночь не опускать штору. Ты просыпаешься — а утро уже тут. И мальчик, разбуженный этим утренним светом, уже сам приподнимается и становится на колени, опираясь слабыми руками на широкие поручни вольтеровских кресел, из которых составлена его кровать. В комнате холодно, и голова у него завязана платком, из-под которого видны спутанные светлые волосы. Он поворачивает голову к дивану, на котором лежит Катя, и легкая улыбка озаряет его серое личико.
19
Широкий солнечный луч, врываясь в грязное окно, ярко освещал лист чертежной бумаги, на котором Катя писала плакат.
При этом она пела высоким и чистым голосом, пародируя колоратурное сопрано: «Все ленинградцы — на уборку снега. Все ленингра-а-а-а-дцы — на уборку, на уборку снега! На уборку сне-га! На уборку сне-га! Сне-е-е-е-га!»
Митя рассмеялся. Он стоял рядом и, держась за край стола, с восторгом смотрел на поющую Катю.
— Ну, что ты смеешься? — спросила Катя, улыбаясь. — Ты ведь тоже ленинградец, Сережка! И ты, и я. Ты даже не просто ленинградец, а блокадный. А за блокадного двух неблокадных дают. Вот!
Она снова принялась писать свой плакат, а Митя, вытянув шею и по-прежнему держась за край стола, внимательно следил за каждым движением ее руки.
Катя запела снова: «Ленинград мы не сдадим, моряков столицу!»
— А ты что не поешь? — спросила она вдруг.
Митя смущенно улыбнулся, и Катя, оторвавшись от своего плаката, серьезно и невесело посмотрела на него.
Давно не стриженные и не мытые волосы падали неровными прядями на его лоб и уши. Поверх лыжных штанишек на нем было надето короткое фланелевое платьице. Мать умершей девочки из Жениной квартиры отдала им уже не нужные ей вещи.
Внимательно и хмуро разглядывая мальчика, Катя словно впервые увидела, какой он маленький и жалкий в своем нелепом наряде.
— И ничего-то ты не умеешь, — проговорила она с печальным сожалением. — Другие дети в твоем возрасте уже много чего знают, а ты у меня совсем дурачок. Ты бы хоть стишки какие-нибудь выучил. — Она на минуту задумалась. — Ну, как там? «Надо, надо умываться по утрам и вечерам. А нечистым трубочистам стыд и срам! Стыд и срам!»
Но стихи попались не очень-то подходящие. И Катя хмурится и вздыхает, все так же невесело разглядывая его бледное личико, узкое, большеглазое, с пятнами сажи у маленького, сложенного в жалкую улыбку рта.
— И в самом деле, Сережа, очень уж ты немытый, — заметила Катя. — Это потому, что ты все у печки сидишь. Как старик. Все к печке, к печке — вот и закоптел весь… Без солнца-то и незаметно было.
Она подошла к стоящему в углу ведру и, сняв лежащую на нем фанерку, заглянула в него. Потом она нагнула ведро и слегка его покачала; на самом донышке, блеснув, колыхнулась вода. Катя задумчиво посмотрела на нее, потом решительно поставила ведро на место и вернулась к столу.
— Знаешь, — сказала она своим звонким голосом, — я думаю, что если бы этот Чуковский, как мы, таскал бы воду из Фонтанки, так он, наверно, не так бы уж и разорялся насчет этой самой чистоты. «Стыд и срам, стыд и срам!» — передразнила она воображаемого Чуковского. — Подумаешь!
И, снова принявшись за свой плакат, она спокойно добавила:
— Я тебя завтра помою.
В домовой конторе, той самой, куда Катя впервые пришла в конце февраля, было сейчас довольно много народу, но Катя еще с порога крикнула: «Антон Иванович, я плакат принесла». Все расступились, и Катя, неся в руках развернутый плакат, гордо прошла к столу у окна, где сидел все тот же маленький управхоз.
— Давай-ка сюда, — сказал он, надевая очки, и стал внимательно читать плакат, который Катя растянула на столе.
— Молодец, Катя, все правильно.
— Еще бы, — сказала Катя. — А лопаты есть?
Женщина в военной форме стояла тут же у стола, читая какую-то бумажку. Она обернулась на звонкий Катин голос и тоже посмотрела на плакат.
— Это ты писала? — спросила она.
— Я, а что?
Катя уже рассмотрела, что эта женщина — военврач, и с любопытством разглядывала ее. Но женщина, хоть и военврач, была самая обыкновенная — худая, усталая и озабоченная. И управхоз Антон Иванович попросту называл ее Марьей Дмитриевной, словно она и не носила сейчас шинель, и ушанку, и эти большие мужские сапоги.
— Хорошо написано, — сказала Марья Дмитриевна. — А рисовать ты тоже умеешь?
— Немножко умею. Не очень-то, конечно.
— Может, ты придешь к нам в госпиталь? Надо будет сделать стенгазету, написать лозунги. Ты сумеешь это?
— Сумею, — быстро сказала Катя, — почему же нет? Я в школе всегда делала стенгазету. Вот мы снег уберем, и я приду. Через недельку.
— Хорошо. Давай я тебе адрес напишу. Хлеба не обещаю, а обед мы тебе выкроим.
— Я обязательно приду!
20
Через месяц, в ясный, ветреный, блестящий и холодный майский день, Катя рисовала заголовки в стенгазете. Стол, за которым она работала, стоял в глубине широкого коридора бывшей школы, где теперь помещался госпиталь.
То, что этот старинный дом, наполненный сейчас госпитальными койками, запахом иодоформа, человеческим терпением и человеческой мукой, был еще недавно школой, не помнил уже никто из этих взрослых, так много переживших людей. Но Катя с чрезвычайным удовольствием узнавала в сотне мелочей приметы недавней школы. Стол, за которым она работала, был наверняка из химического кабинета, — на крышке его в углу было нацарапано: «Вася Шалагин», а на внутренней доске ящика — хорошо знакомая ей химическая формула. И Катя, которая пришла сюда впервые две недели назад, теперь чувствовала себя как дома за этим старым черным столом.
Как и работники госпиталя, она была одета в белый халат. Он был ей велик, но это нисколько ее не смущало. Она закатала длинные рукава, запахнула халат поглубже и подпоясалась бинтом. Погруженная в свою работу, она тихонько насвистывала какой-то мотив.
В длинном коридоре было тихо, пусто и очень светло. Но вот из двери напротив, тяжело опираясь на костыль, вышел Володя Снегирев, молодой раненый летчик. Он подошел к зеркалу и осторожно приподнял край повязки, закрывавшей ему глаз. Однако, несмотря на все уловки, ему так и не удалось разглядеть, что там у него делается. Зато он заметил в зеркале Катю, которая улыбаясь наблюдала за его стараниями. Он немного смутился и, сделав ей в зеркале лукавую гримасу, обернулся и медленно направился к столу.
— Ну как, Катя, — сказал он, останавливаясь прямо перед ней с независимым видом, — будут меня еще девушки любить?
— Будут, — улыбнулась Катя.
— Ну, спасибо, Катюша, а то очень уж я огорчался!
— Скажите спасибо, что глаз цел.
Снегирев не без труда уселся на подоконник и с видимым облегчением положил на колени костыль.
Он казался еще моложе своих лет благодаря нежной коже, светлым волосам и насмешливой, дерзкой улыбке, которая то и дело, как яркий луч света, внезапно озаряла его лицо.
Катя опять принялась за свой заголовок.
— Знаешь, Катя, — сказал Снегирев, — пишешь ты здорово. Вот только слово «раненый» пишется, к сожалению, через одно «эн».
— Да?
Катя смутилась и с огорчением посмотрела на надпись. Потом лицо ее прояснилось.
— Ничего, — сказала она бодро, — я здесь сделаю красный флаг. Лишний флаг никогда не помешает.
— И я того же мнения, Екатерина Дмитриевна.
Легко и свободно, с явным удовольствием Катя нарисовала красный флаг на месте испорченной надписи.
— Ну, вот. А когда высохнет, я напишу все это белилами прямо на флаге.
— Хотел бы я, Катя, с такой же легкостью исправлять свои ошибки.
Катя засмеялась.
Вытянув шею, отодвинувшись от стола и став на цыпочки, она внимательно рассматривала свою работу. Сейчас, когда она стояла в ясном свете, падающем от окна, видно было, какое худое у нее лицо, какая тонкая шея.
Привычно насмешливое выражение медленно сошло с лица Снегирева, и теперь он смотрел на стоящую перед ним девочку с какой-то не свойственной ему нежной жалостью.
— И худенькая же ты, в чем душа держится, — пробормотал он вполголоса.
— А чего мне сало растить?
— Да, уж до сала тебе далеко. Тебя хоть кормят здесь?
— Кормят. Мне обед дают. Целиком обед, только без хлеба.
Склонившись над газетой, Катя старательно подправила флаг. Потом, положив кисточку на стол, она взглянула на Снегирева так же внимательно, как перед тем смотрела на свою работу.
Заметив этот взгляд, Снегирев, улыбаясь своей дерзкой улыбкой, медленно расправил плечи.
— Ну, что, Катя, хорош?
— Ничего, — сказала Катя серьезно. — А это правда, Володя, что вы два самолета сбили?
— Правда.
— И что у вас уже орден есть и медаль?
— Тоже правда.
Катя с огорчением пожала плечами.
— Такой герой, а думает о девчонках.
Закинув голову, Снегирев весело расхохотался. Опершись на костыль и глядя ей прямо в лицо светлыми, очень прозрачными глазами, он проговорил с глубокой серьезностью:
— Именно герои, Катя, и должны думать о девчонках.
— Почему? — спросила Катя, опешив.
— А потому, что если герои не будут о них думать, что же будет с бедными девчонками, — им достанутся только трусы!
Катя растерялась, — она не могла понять, шутит он или говорит всерьез. Нахмурив брови и склонив голову набок, она задумчиво смотрела на него.
В конце коридора отворилась дверь, и Валя, молоденькая санитарка, звонко стуча каблучками, прошла мимо них с подносом в руках.
— Идите в палату, товарищ лейтенант, обед несу! — крикнула она весело.
— Так-то, Катя, — Снегирев встал и потянулся.
Хромая и тяжело опираясь на костыль, он тихонько побрел к дверям своей палаты. В дверях он обернулся и помахал Кате рукой.
21
Офицерская палата, в которой лежал Снегирев, была маленькая. В ней, почти вплотную одна к другой, стояли шесть коек. Стояли они в два ряда, и проход между этими рядами был так узок, что мало-мальски толстому человеку пришлось бы проходить здесь боком.
В палате было тихо. Только раненый, лежащий на соседней со Снегиревым койке, тихо стонал через равные промежутки времени.
Снегирев лежал, примостив повыше раненую ногу, и с увлечением читал книгу.
Напротив него, на ближайшей к двери койке, сидел пожилой широкоплечий человек. Он сидел задумавшись, низко спустив широколобую голову и поддерживая левой рукой забинтованную правую руку.
Но вот из-за двери едва слышно донеслась чистая и ясная мелодия. Детский голос тихонько пел белорусскую песню «Перепелочка». Слова были почти неразличимыми, но милый простой напев, хорошо ему знакомый, дошел до слуха сидящего на койке человека. Он поднял голову и прислушался.
— Это наша, белорусская, — проговорил он улыбаясь и совсем тихо добавил: — Моя мамаша ее пела, когда я был еще совсем маленький.
Снегирев опустил книгу и тоже прислушался.
— Да это Катя! — сказал он. — Сейчас я ее приведу.
Он тяжело поднялся и, опираясь на костыль, поспешно заковылял к двери.
— Одну минутку терпения! — И он исчез за дверью. Пение стихло. Широкоплечий офицер все с той же легкой улыбкой в ожидании смотрел на дверь. Через минуту дверь отворилась. Катя вошла и смущенно оглянулась вокруг.
— Валяй, Катя! — весело сказал Снегирев, входя вслед за нею. — Ты не стесняйся, все здесь люди свои. Проходи. — И он махнул рукой в узкий проход между койками. — Как раз по твоему калибру.
Но Катя осталась стоять у двери.
— Спой, Катя, — продолжал Снегирев. — Спой, что ты там в коридоре пела. Вот этот товарищ — видишь? — он тоже герой и даже о девчонках не думает, и для него эта песня все равно что для вас, ленинградцев, ваши дурацкие белые ночи. Давай пой!
Катя прихватила из коридора свою матерчатую продуктовую сумку. Сейчас она осторожно поставила ее на пол у стены.
Выпрямившись, она стала у дверей, такая маленькая в своем просторном, не по росту халате, и начала петь. Лицо ее очень серьезно, темные глаза смотрят перед собой печально и строго. О себе поет она эту горькую песню. Только сама она этого не понимает. Она просто поет старую песню, чем-то тронувшую ее детское сердце.
Но те, кто ее слушают, отлично это понимают. Вот почему такая горькая жалость, такая невеселая улыбка видна сейчас на их огрубелых лицах.
Вот она, эта перепелочка, у которой ножки болят, и детки малы, и нету хлеба.
А Катя пела:
А у перепелки головка болит. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая. А у перепелки да ножки болят. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая. А у перепелки да грудка болит. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая. А у перепелки да детки малы. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая. А у перепелки да хлебца нема. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая.Снегирев, опираясь на костыль, так и остался стоять, прислонившись к стене, откинув назад свою белокурую голову. Сейчас он казался старше. Лицо его стало задумчивым, почти печальным. Та слабая полуулыбка, которая светилась теперь на его лице, совсем не похожа была на его обычную дерзкую усмешку.
Широкоплечий белорус весь ушел в эту песню, которая для него сейчас — сама родная его, истерзанная белорусская земля.
Раненый, который лежал на койке, соседней с койкой Снегирева, вряд ли видел поющую девочку, вряд ли различал слова этой песни. Но что-то мягкое и нежное дошло до его сознания, затуманенного жаром и болью. Он перестал стонать, и лицо его, сведенное напряженной гримасой, стало спокойней, словно это мучительное выражение медленно стерла с него чья-то милосердная рука.
Тот, кто лежал напротив, был совсем еще мальчик. Его светлые глаза не отрываясь смотрели на поющую девочку. Он слегка улыбался. Жалость и ласка были в этой улыбке и еще — печальная отрада видеть милое детское лицо, слышать нежный голос после всего, что довелось ему, такому еще юному, перевидать и переслышать за эти страшные месяцы войны.
Пожилой человек, сидящий на соседней с ним койке, что-то писал, когда Катя начала петь. Он так и остался сидеть с карандашом в руках. Задумчиво смотрел он на эту хрупкую девочку, которая чем-то была так похожа на его собственных, бог весть как далеко от него заброшенных детей.
На крайней койке в углу лежал Воронов.
Погруженный в свои невеселые мысли, он не сразу обратил внимание на вошедшую Катю. Но сейчас он повернулся к ней и внимательно слушал, как она поет. И хмурое лицо его постепенно светлело, словно кто-то не спеша отводил от него то невидимое, что бросало на него тень.
Вот песня кончилась.
Пожилой офицер глубоко вздохнул.
— Хорошо спела, — сказал он тихо. — Спасибо. Словно дома побывал.
— Ай да Катя, — протяжно и мягко проговорил Снегирев. — Молодец!
Катя улыбнулась и в смущении опустила глаза. И, опустив глаза, она тотчас заметила темную, блестящую тонкую струйку, которая, изгибаясь и задерживаясь на неровностях пола, медленно подбиралась к ее ногам.
Испуганно обернувшись, Катя кинулась к сумке.
Это Снегирев своим костылем так неловко повалил ее набок.
— Растяпа! — крикнула Катя отчаянным голосом. — Что вы наделали! Смотреть же надо!
Опустившись на колени, она быстрым движением открыла сумку. Так и есть! Маленькая банка с кашей и кусочком мяса стояла на своем месте, но большая банка наклонилась, и драгоценный суп наполовину вытек.
Вопросы гигиены мало смущают Катю. Она сгребла рукой крупу, лежащую на дне сумки и осторожно опустила ее обратно о суп. Но жидкость вытекла, и это непоправимо.
Снегирев смущен, но пытается отшутиться.
— Нельзя же, Катя, так кричать на раненого человека.
— Дурак! — отрезала Катя. — Это же суп.
— А суп надо есть, а не таскать по банкам.
— Много вы понимаете. У меня ребенок дома.
Снегирев рассмеялся.
— Что-то рано ты, Катя, завела ребят.
— Дурак!
— Но-но! Потише ты, девчонка!
— Сам девчонка! — крикнула Катя, яростно глядя на него снизу вверх блестящими темными глазами. — Какой ты мужчина, все время перед зеркалом вертишься!
Снегирев, по-видимому, всерьез задет и говорит с недоброй усмешкой:
— Эх, была бы ты хоть немножко постарше…
— Попридержи язык!
Это сказал Воронов, и при звуке его голоса Катя сразу притихла. Все еще стоя на коленях с банкой в руках, она, вытянув шею, безуспешно пыталась разглядеть сказавшего это человека. Но ей отсюда ничего не видно.
Тогда, осторожно поставив банку на пол, она как-то нерешительно поднялась на ноги. Теперь она наконец увидела Воронова, и широкая счастливая улыбка озарила ее озабоченное лицо.
Все так же улыбаясь, она постояла несколько секунд, вся вытянувшись и уронив руки, а потом тихонько пошла к нему по узкому проходу между коек. Подойдя к его постели, она остановилась.
— Я вас сразу узнала, — сказала она совсем тихо, все с той же счастливой улыбкой, которая словно не помещалась уже на худеньком ее лице и озаряла теперь все ее существо, ее голос и движения. — Не тогда, когда вошла, я вас не заметила тогда, а вот теперь — я вас сразу узнала.
Воронов внимательно смотрел на стоящую перед ним девочку. Он не узнал ее. И, внезапно угадав это по его недоуменному взгляду, Катя совершенно потерялась. Неясное чувство разочарования и обиды охватило ее. Словно она была уверена, что все это время он вспоминал о ней так же часто, как она о нем вспоминала, и что это было так же важно для него.
— Неужели вы не помните? — проговорила она растерянно и, помолчав, тихо добавила: — Ведь вы дали нам хлеб…
— Прости, я забыл, — сказал Воронов, словно в чем-то оправдываясь. — Да, теперь я помню. Ну, как ты живешь? У тебя ведь еще сестренка есть?
— Нет, брат.
— Ах, да, брат. Ну и как же вы теперь?
— Хорошо. Теперь тепло стало. И мне здесь обед дают.
— Это ты ему несешь?
— Ну да. — Катя смутилась.
— Это нехорошо, что я кричала на Володю, да? — И она серьезно посмотрела в лицо Воронову, в глубокой уверенности, что этот человек знает доподлинно, что хорошо, а что плохо.
Воронов улыбнулся.
— Ничего, его не очень-то обидишь.
В этот момент распахнулась дверь, и Валя, держа руки за спиной, с торжествующим видом вошла в палату. Дойдя до койки Воронова, она лихо тряхнула пышными волосами, на которых едва держалась белая госпитальная шапочка.
— Эх, товарищ капитан, — сказала она, улыбаясь, — заставила бы я вас плясать, только жалко, вам доктор не позволит.
Воронов быстро протянул руку, и Валя, улыбаясь, положила письмо на его раскрытую ладонь.
По тому, как жадно протянул он руку, как нетерпеливо, но в то же время осторожно оборвал края конверта, чтобы, боже упаси, не порвать лежащего внутри письма, по тому, как низко он нагнулся, чтобы его прочитать, — каждому стало бы ясно, как он ждал этой минуты и как дорог ему человек, написавший это письмо.
Валя уже ушла, а Катя все медлила, глядя на Воронова, на его низко склоненную голову, на его руки, бережно держащие маленький листок. Оно очень коротко это письмо, всего несколько строк. Он уже прочел его, но все еще не подымает головы, словно окаменев над этим клочком бумаги.
О ней он и думать забыл, и Катя медленно отошла от его кровати. Но, уже идя по узкому проходу, она снова обернулась.
Теперь он поднял голову, и на лице его застыло то же странное выражение, которое так поразило ее в тот день, когда она впервые встретилась с ним во время обстрела.
Нахмурившись, ничего не замечая вокруг, он всеми силами души старался справиться с нанесенным ему ударом.
С жалостью и страхом Катя смотрела на его изменившееся лицо. Рука Воронова, безжизненно упавшая на одеяло, теперь медленно сжалась в кулак, беспощадно сжимая это несчастное письмо, которое столько дней и ночей он ждал — глупец! — с таким страстным нетерпением. И когда он, наконец, разжал кулак, это был уже только бесформенный комок бумаги.
22
Уже за полночь. Но маскировочные шторы подняты, и тусклый свет белой ночи свободно струится в широкое окно госпитальной палаты.
Раненые спят. Но, может быть, не все.
Вот Снегирев приподнимается и внимательно всматривается в тот угол, где стоит койка Воронова. Тот лежит неподвижно, повернувшись лицом к стене. Но Снегирев все же поднимается и без костыля, опираясь руками на спинки кроватей, осторожно, стараясь не шуметь, пробирается к нему по узкому проходу. Когда он тихо уселся на край постели, Воронов медленно повернулся.
— От жены письмо? — спросил Снегирев.
— Была жена! — Воронов сказал это резко, с ударением на первом слове.
Оба говорили тихо, почти шепотом, и не только потому, что боялись разбудить товарищей, но и потому, что им нелегко было об этом говорить.
— Эх, Алексей Петрович, надо жить легче, — с укором, чуть улыбнувшись, проговорил Снегирев. — Женщины чудесная штука, только не нужно принимать их чересчур всерьез.
— Все это легче сказать, чем сделать.
— А я вот так и делаю!
— Да, до поры до времени.
«Как ты молод! — подумал Воронов. — Боже мой, как ты еще молод». И одновременно с этой мыслью другая, страшная мысль о жестокой, мучительной смерти, которая жадно подстерегает этого мальчика на каждом шагу, наполнила сердце Воронова злобой и болью.
Юные летчики. Сколько погибло уже вас в этой беспощадной войне, в этом небе, которое от века было полно свежего ветра, облаков и птиц — нерушимый оплот чистоты и покоя, — а теперь стало полем битв еще более свирепых, чем битвы земли.
И он положил руку на колено товарища, словно спеша убедиться, что это юное тело все еще полно силы, тепла и движения, все еще принадлежит живому.
— Иди ложись, Володя, — сказал он мягко. — Поздно уже.
— А все светло, — задумчиво проговорил Снегирев. — Никак я не привыкну к вашим белым ночам. Слушай, Алеша, хочешь я попрошу для тебя порошок у сестрички? Сразу заснешь.
— Упаси бог! — быстро сказал Воронов и, помолчав немного, добавил едва слышно: — К сожалению, Володя, никто не волен над своими снами… Ну, а ты иди, ложись.
Он снова один. Он лежит, глядя широко раскрытыми глазами на светлое небо, белеющее сквозь оконный переплет. Нет, он не хочет заснуть! Из ночи в ночь, с тех пор как его привезли сюда и сильные боли прошли, он видел во сне, казалось, совсем позабытые и вдруг опять возникшие в его памяти куски своей прежней жизни. И значит — Нину. И, просыпаясь ночью на этой госпитальной койке, он шептал ей о своей любви. И какой это было отрадой. Да, до сегодняшней ночи. Но эта ночь совсем иная, и теперь он боится заснуть. Он старается изо всех сил, чтобы глаза его оставались открытыми, но он потерял много крови и все еще очень слаб. И веки его, дрогнув, опускаются.
И тотчас он видит Нину, которая легко идет, балансируя и широко раскинув руки, с испуганной, но счастливой улыбкой на нежном юном лице. А, вот оно что! Она идет, оказывается, по тонкому бревнышку, перекинутому через ручей. Высокие травы колышутся вокруг нее, а он ждет ее внизу, под откосом; и, дойдя до конца бревна, она с торжествующим криком бросается в его объятья.
Вздрогнув, он быстро открывает глаза. Сколько он спал? Возможно, только минуту. И опять он смотрит в мутную пустоту, разделенную на восемь частей четкими линиями оконного переплета. Но усталые глаза его снова смыкаются; теперь он идет вверх по узенькой, звенящей металлической лестнице, которая вьется спиралью вокруг каменного столба. Здесь довольно темно, свет падает откуда-то сверху. Постепенно свет становится все ярче, все ближе. Огромные, подгоняемые ветром облака быстро несутся, догоняя друг друга, дует сильный ветер, совершенно немыслимый на земле, и Нина, тоненькая, легкая, в развевающейся белой юбке, стремглав бежит по гремящим металлическим мосткам на крыше Исаакиевского собора туда, где темный ангел, преклонив колена, поддерживает поднятой рукой огромный бронзовый светильник.
Он снова проснулся и смотрит перед собой испуганным взглядом. За что ему уцепиться? Что ему делать, если он так слаб и не может бороться с дремотой?
И действительно, через несколько минут сон снова его одолевает.
Где это он?
Широкий солнечный луч косо падает на половицы свежевымытого пола. Нина в чем-то легком, белом, почти прозрачном быстро идет перед ним, едва касаясь босыми ногами этих свежих, влажных половиц. Она идет против света, и тело ее кажется обнаженным, как у тех греческих статуй, чьи одежды струятся на них, как вода.
Как здесь светло! Нина наклоняется над чем-то белым, ярко залитым солнечным светом, и он, Воронов, тоже наклоняется через ее плечо. Маленький, пухлый нагой мальчик спит, свободно раскинувшись, под наполовину сползшей с него простыней.
Воронов вздрогнул, быстрым движением приподнялся и сел. Лицо его передернулось от мучительной боли.
Ему нельзя так резко подыматься.
Смертная тоска и острая физическая боль слились для него сейчас в одну нестерпимую муку. Он сидит обессилев, вцепившись руками в край постели. Ворот рубашки расстегнут, и в льющемся из окна тусклом, призрачном свете отчетливо видны бинты, стягивающие его грудь.
Как бьется сердце. Надо подождать.
С трудом переведя дыхание, он сует руку под подушку и вытаскивает маленький, безжалостно смятый листок бумаги. Тщательно развернув, он медленно, с наслаждением рвет его на узкие длинные полосы, а потом еще и еще, пока от него не остается только груда маленьких бумажек. Тогда, с трудом перегнувшись через край кровати, он бросает все, что осталось от письма, в подкладное судно, стоящее под кроватью.
Все. Теперь он снова ложится.
Но беспощадная память мгновенно восстанавливает так тщательно уничтоженное письмо.
И он снова читает его, сквозь зубы, шепотом, все, от слова и до слова.
«Алеша! Мы больше не увидимся с тобой. Митя умер, а я никогда не вернусь в Ленинград и никогда не решусь тебя увидеть. Не думай обо мне, прошу тебя. И не беспокойся обо мне. Я здесь встретила человека, с которым, может быть, смогу быть счастлива, — ведь перед ним я ни в чем не виновата. А ты прости меня, если только сможешь. Нина».
Он лежит, безнадежно глядя перед собой в пустое, тусклое пространство за окном. За что ухватиться? Чем спастись от мучительных мыслей?
И вдруг в его измученном мозгу возник простой, бесхитростный мотив:
Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая.Лицо поющей девочки смутно возникает перед ним на фоне широкого окна, и вот он уже спит, спит, наконец, без снов, внезапно странно утешенный этим промелькнувшим перед ним виденьем.
А там, на другом конце города, такая же тишина, такая же белая ночь. Сквозь мягкий сумрак, как сквозь воду, виден плавный изгиб канала, высокие, наклоненные в одну сторону деревья и маленькая фигурка девочки, сидящей на ступеньке у парадной. Катя сидит на сложенном в несколько раз платке, через плечо — противогаз. Она задумчиво смотрит наверх, на высокое, тусклое небо, на котором, как раз над ее головой, застыли два маленьких бледных облачка.
Но вот послышались неспешные мужские шаги. Подошел квартальный.
— Какой дом?
— Дом сто двадцать два, — звонко ответила Катя.
— Ты что это так часто дежуришь?
— А у нас народу мало, вот Антон Иванович меня и гоняет — то на чердак, то сюда.
— Ну, ничего, теперь тепло.
— Конечно, — охотно согласилась Катя. — Тихо как, правда?
— Да, тихо, — подтвердил квартальный и помолчал, прислушиваясь к окружающей их тишине. — Надолго ли только?
— А может, им надоело? — Катя, закинув голову, вопросительно посмотрела на квартального. — Палят, бомбят, а ведь все равно без толку!
Они опять помолчали.
— Товарищ квартальный, — воскликнула вдруг Катя с веселым оживлением, — а правда, что на бульваре Профсоюзов по ночам поет соловей? Мне девушка знакомая рассказывала. Она на почтамте работает, так они ночью бегали слушать. Их милиционер гоняет, а они — ни в какую! Они милиционера и слушать не стали. А он как поет!
— Кто, милиционер? — спросил квартальный, улыбаясь.
— Да нет же! Соловей!
— Ну что же. Вокруг война, грохот, леса погублены — вот они сюда и слетаются. У нас теперь тише, да и людей мало. А там, на бульваре, и совсем ни души, да и деревья не стрижены. Им там раздолье.
— Никогда я не слыхала соловьев, — с огорчением сказала Катя. — А вы?
— Я-то слыхал, в наших местах их много. — Он вздохнул. — Ничего, и ты еще услышишь! Ну, сиди, да не спи смотри.
Он отошел. Еще слышны его шаги. Потом — негромкий оклик: «Какой дом?» И ответ: «Сто двадцать четвертый».
И снова тихо.
23
Через два с половиной месяца, ранним теплым вечером, Воронов, снова в своей старой военной форме, сидел в кабинете врача, Марьи Дмитриевны.
Они сидели друг против друга за ее маленьким столом, сплошь залитым в этот час золотым вечерним светом.
— Ну, вот ваши бумаги, товарищ Воронов, — сказала Марья Дмитриевна. — Сухой паек получили?
— Да, спасибо.
— Вы ведь ленинградец, так я тут выписала вам еще два дня, побудьте дома.
— Да ведь дома-то у меня фактически и нет, — невесело усмехнувшись, пробормотал Воронов.
— А все-таки родной город.
— Да, конечно.
Ему бы уже надо было попрощаться, а он все сидел, задумчиво глядя на эту немолодую, смертельно усталую женщину, муж которой воевал сейчас далеко на юге, а дети — кто знает, живы ли они — были в оккупированном немцами селе.
— Ну, желаю вам всего хорошего, доктор, — наконец сказал Воронов и встал. — Спасибо вам за все.
Она тоже встала.
— Ну, а вам что пожелать? — проговорила она с неожиданно молодой улыбкой. — Как пели в мои комсомольские годы: «Если смерти, так мгновенной, если раны — небольшой»?
— Вот именно, — отозвался он серьезно. — Спасибо.
Когда он вышел из кабинета, Валя, которая во время этого разговора возилась с чем-то тут же, у белого шкафчика, быстро выскользнула вслед за ним. Она догнала его на лестничной площадке.
— А со мной что же и попрощаться не хотите, товарищ капитан? — спросила она задорно.
— Нет, что вы, Валя, — Воронов остановился. — Всего вам хорошего. До свидания.
— Это до какого же свидания? Чтобы вас опять сюда к нам привезли? — Она весело рассмеялась, и Воронов невольно улыбнулся ей в ответ.
— Вы куда сейчас? — понизив голос, быстро спросила Валя.
— Да сам не знаю.
— Приходите ко мне. Я в восемь часов сменяюсь. Приходите, я тут близко живу. У меня еще вино осталось с последней выдачи; посидим, поболтаем. Горевать нам не к лицу, право. Придете?
Несколько секунд они молча смотрели друг на друга — теперь уже без улыбки.
— Ну что ж, — проговорил он, усмехнувшись. — Ладно!
— Я вам адрес напишу, — быстро сказала Валя.
Пока она писала, оторвав для этого угол от истории болезни, которую держала в руках, Воронов рассеянно посмотрел вниз. И там, в полутемном вестибюле, он заметил Катю, которая, закинув голову, серьезно и даже мрачно смотрела на него.
Тут Марья Дмитриевна вышла из кабинета, и Валя, сунув записку в руку Воронова, быстро убежала, точно ветром ее сдуло.
Он стал медленно спускаться по лестнице.
Внизу, на скамейке, лежали его вещи: полупустой заплечный мешок с привязанной к нему плащ-палаткой и сложенная шинель.
И там стояла Катя.
Сам не зная почему, он испытывал странное чувство неловкости оттого, что эта девочка видела, как он говорил с Валей, а может, даже догадалась, к чему привел этот разговор. Катя стояла молча, все так же не спуская с него глаз. Воронов подошел к ней.
— Я думал, что ты уже ушла, Катя. Ну, давай попрощаемся!
Он протянул ей руку, и Катя, все так же молча, подала ему свою.
Он решительно не знал, что еще сказать. Он подошел к скамейке, вскинул мешок на одно плечо, перекинул через руку шинель, и они вместе вышли на улицу.
Как хорошо! Какой чудесный вечер!
Воронов медленно потянулся, с удовольствием вдохнув всей грудью теплый, чем-то сладко и знакомо пахнущий воздух. Спешить ему было некуда, и он спокойно стоял у дверей госпиталя, наслаждаясь мягким теплом, тишиной и покоем. Их длинные тени, так близко одна от другой, лежали на старых каменных плитах.
Но вот меньшая тень внезапно повернула голову — Катя пристально смотрела на руку Воронова, который не спеша, очень обыденным жестом засовывал Валину записку в карман выцветшей гимнастерки. И маленькая тень отделилась и медленно пошла прочь.
Катя, опустив голову, шла одна по пустынной улице, залитой неярким вечерним солнцем. Не ревность, не досада, а какое-то другое, более горькое чувство охватило ее сейчас с такой силой, что она брела, не видя куда, мучительно стараясь не заплакать. Словно какая-то вещь — чудесная, единственная, неисчислимой ценности — вдруг оказалась подделкой. Словно что-то, что давало ей опору и было мерилом для поступков и слов, покинуло ее в эту минуту.
Воронов, нахмурясь, смотрел ей вслед.
Какая она маленькая, жалкая и худая в этой старой выцветшей кофточке и слишком короткой юбке, той самой, которая была на ней надета в тот вечер, когда разбомбили ее дом. И неизменная матерчатая сумка, конечно, у нее в руке.
Катя отошла уже далеко. Внезапно спохватившись, Воронов быстро пошел за ней. Он легко догнал ее и теперь шел рядом, изредка поглядывая на нее со смущенной, но довольной улыбкой.
Она все еще не подымала головы. Их тени, опять рядом, шли впереди, словно вели за собой своих хозяев.
— Не надо вам к ней ходить, — не глядя на него, тихо сказала Катя.
— Так мне же деться некуда, Катя! У меня ведь дом разбомбили.
— Подумаешь, у нас тоже разбомбили.
— Где же вы живете?
— Будто один дом в Ленинграде.
Они уже дошли до конца улицы и свернули за угол.
— Я провожу тебя немножко, ладно? — сказал Воронов.
Катя ничего не ответила, и они молча пошли дальше по широкой, окаймленной деревьями улице.
Как хорош был Ленинград в этот вечерний час! Как полон тихой жизни.
Воронов, все еще хранивший в памяти образ мертвого, оледеневшего города, с радостным изумлением смотрел теперь на все, что открывалось его глазам.
По-прежнему было пустынно на улицах и площадях, сады закрыты, окна магазинов загорожены щитами. По-прежнему редко проезжали машины, редко встречались люди. Но смерть отступила в бессилии от этого города.
Они тихо шли, Воронов и Катя, по нагретому солнцем асфальту. Местами асфальт треснул, и в трещинах пробивалась кудрявая травка. И, сам того не замечая, Воронов осторожно обходил эти зеленые островки, чтобы как-нибудь не помять упрямо торчащие стебельки своими тяжелыми солдатскими сапогами. Они росли повсюду, эта свежая трава, эти храбрые цветы — ромашки, лебеда, одуванчики, клевер.
Так вот чем так знакомо и сладко благоухал этот вечерний воздух.
Неожиданно они вышли на маленький бульвар, заросший высокой некошеной травой. Она мирно колыхалась под налетавшим на нее ветром. Тоненькая женщина с задумчивым лицом тихо бродила в этой высокой траве, собирая ту, которую можно есть. А на узкой скамейке при выходе с бульвара белокурый подросток, закатав брюки, грел на мягком вечернем солнце свои худые, в цинготных пятнах ноги. Довольная улыбка светилась на его лице: «Солнышко, я не надеялся тебя увидеть. И как мне хорошо!»
Воронов замедлил шаги. Чувство благодарной нежности наполняло его сердце. Ему хотелось сидеть с этим мальчиком, с этой женщиной собирать траву.
Но Катя, не останавливаясь, все шла вперед, и он шел за ней молча, очарованный и счастливый.
На углу он внезапно остановился перед наклонным щитом у витрины магазина, наскоро сбитым из неструганых досок. Внутри его, наверно, еще осенью засыпали землей, доски летом рассохлись, и из узкой щели — о, чудо! — поднялся высокий, стройный иван-чай. Огромный, пышный, гордый, он медленно качался на ветру, его малиновые цветы широко раскрылись навстречу солнечному свету. И две маленькие бабочки затеяли вокруг него свою игру.
Воронов смотрел на них со счастливой улыбкой. «Никогда я не думал, что они так прекрасны, что так грациозен их полет».
Катя обернулась, поджидая, потом пересекла улицу и пошла дальше по набережной канала. Воронов нагнал ее и, все так же улыбаясь, пошел с ней рядом.
Это уже была его Коломна, он узнавал здесь каждый поворот.
Две девушки, дружинницы МПВО, в комбинезонах и платочках стояли у стены — старой, облезлой, изрытой, как чудовищной оспой, осколками снаряда. Та, что повыше, что-то оживленно говорила подруге, которая слушала ее, улыбаясь всем своим простеньким, полудетским лицом. А в руке у нее — тополевая ветка.
Вот они, эти старые тополя. Какая щедрая листва! И вся она колеблется и трепещет, полная ветра, полная света, полная жизни. Воронов поднял руку и, сорвав тополевый лист, прикусил его зубами. Как приятен был ему этот знакомый горький вкус, этот острый, резкий, свежий запах.
Они подошли к мостику с гранитными обелисками, где канал пересекает канал. Вода была так недвижна в этот тихий вечер, что все отражалось в ней с абсолютной точностью — дома, деревья, решетки, гранитные спуски и облака. Словно кто-то надоел все это таким прекрасным, что не смог удержаться, чтобы не повторить это дважды.
Вот и их отражения прошли совсем рядом там внизу, в этой тихой воде.
Вдруг Катя мгновенно остановилась и быстро схватила Воронова за руку. Он тоже остановился и с удивлением взглянул на нее.
Лицо ее выражало такой восторг, такой радостный испуг! Да на что же она смотрит?
Маленький серый воробышек весело прыгал у их ног по деревянному настилу моста.
Воронов громко рассмеялся. И, спугнутый его неожиданным смехом, воробышек мигом взлетел и, трепеща крыльями, весь пронизанный светом, пронесся у самого его лица.
— Вы его спугнули, — сказала Катя с укором.
— Ничего, ему спать пора, — все еще смеясь, отозвался Воронов.
Когда они спустились с моста и подошли к старинному облупленному дому, Катя, закинув голову, звонко крикнула:
— Сережа!
В крайнем окне верхнего этажа, в окне которое он, Воронов, уже когда-то видел, появилось маленькое бледное лицо.
— Пойдемте лучше к нам, — глядя прямо на него, очень серьезно сказала Катя.
— А я вам не помешаю?
— Нет, не помешаете. Мы вам будем очень, очень рады.
24
Как только Катя открыла дверь своей квартиры, Митя появился на лестничной площадке и быстро обнял ее. Одет он был довольно странно — в короткие белые трусики и широкую пеструю кофточку, явно сделанную из подрезанного снизу девчоночьего платья. Он был все такой же маленький и тощий, но когда, оторвавшись от Кати, он поднял кверху свое бледное личико, на нем уже не видно было и следа той привычной апатии, которая, как страшная печать, лежала на нем зимой. Легкая улыбка мелькала на его губах, большие глаза с любопытством глядели на незнакомого человека.
— Ну, здравствуй, — сказал Воронов. — Как же тебя зовут?
Митя молчал, все с той же легкой улыбкой разглядывая Воронова.
— Его зовут Сережа, — сказала Катя.
Воронов положил свою большую руку на белокурую головку сына. Он не узнал его, да и не мог узнать. Больше года назад, уезжая в командировку, он оставил его толстым, веселым, румяным малышом. Сейчас перед ним стоял трехлетний, худой как щепочка, мальчик, вовсе не похожий на того пухлого малыша.
А главное — ведь он был уверен, что ребенок его погиб. Уже два человека сообщили ему об этом.
И одна из этих двоих — Нина, мать.
— Ну, пойдемте, что ж мы тут стоим, — спохватилась Катя и широко распахнула дверь. Они прошли по коридору и вошли в комнату.
— Вот тут мы и живем. Правда, у нас хорошо? — оживленно говорила Катя. — Вы кладите свои вещи. А видите, — вот тут за шкафом совсем как отдельная комната. Мы вам кровать достанем, тут на одном пустыре уйма всяких железных кроватей. Это из разбомбленных домов. Там есть совсем целые, я видела.
— Ну, я и на полу могу поспать.
— Зачем на полу? Вот я Сережку покормлю, и мы пойдем на этот пустырь, это близко.
— А это чья такая кровать? — спросил улыбаясь Воронов, остановившись перед двумя составленными вместе вольтеровскими креслами, ножки которых были связаны веревкой. Внутри лежало Митино ватное одеяло и маленькая подушка в пестрой ситцевой наволочке.
— Это моя, — сказал Митя.
Закинув голову, приоткрыв рот и широко раскрыв светлые глаза, он внимательно рассматривал Воронова.
— Ему сколько лет? — спросил Воронов.
— Три года и три месяца, — ответила Катя.
— Мой был бы теперь почти такой, — задумчиво проговорил Воронов. — Тоже белокуренький был.
Катя опустила голову. Расспрашивать тут было нечего, — все и так ясно.
Она тихо отошла к печурке и, вынув из сумки банки, переложила их содержимое в кастрюлю и мисочку. Потом она опустилась на колени, поставила стоймя деревянный брусок и начала большим ножом колоть щепки.
Этот стук вывел Воронова из печальной задумчивости. Он подошел и взял у нее нож.
— Давай, Катя, я этим займусь. Это мужское дело. Вот и Сережа мне поможет.
Катя поднялась с пола и, захватив закопченный чайник, пошла к дверям. В дверях она обернулась и с улыбкой посмотрела на Воронова, который с явным удовольствием быстро и ловко раскалывал брусок. Митя стоял рядом, наблюдая с неослабным интересом за всеми его движениями.
— Я быстро! — крикнула Катя. — У нас теперь вода во дворе.
Она весело сбежала по лестнице, размахивая чайником и тихонько насвистывая. Во дворе из окна подвального этажа был выведен водопроводный кран. Около него Женя, в коротком пестром платье, босая, с веселым шумом полоскала белье в большой жестяной лоханке.
Катя быстро перебежала двор и, повернув кран, подставила чайник.
— Кто это с тобой пришел? — спросила Женя. — Военный этот?
— А это из нашего госпиталя. Он выписался и опять на фронт едет.
— Хитрая ты, Катька! — Женя слила воду и начала выкручивать белье. — У него небось продукты есть? Им ведь сухой паек дают на дорогу.
Катя в бешенстве повернулась к ней. Лицо ее исказилось от гнева и обиды.
— Дура собачья! — крикнула она с яростью.
Женя, ничего не понимая, с любопытством смотрела на нее.
— Подумаешь, что я такого сказала? — проговорила она, на всякий случай отступая назад.
Но Катя уже не слушала ее.
Ужасная мысль, что и Воронов может так же объяснить ее приглашение, привела ее в полное отчаяние.
Опустив голову, она мрачно глядела вниз, на широкую струю, которая с шумом лилась из давно переполненного чайника на крупный неровный булыжник старого двора.
Все еще не подымая головы, она завернула кран и медленно побрела по двору, неся в одной руке чайник, а в другой — крышку, которой она так и забыла его закрыть.
Воронов успел уже растопить печурку и теперь сидел верхом на стуле, положив руки на его спинку и задумчиво глядя в огонь.
Митя все еще стоял около него. В комнате было тихо, и Митя, чья голова находилась как раз на уровне рук Воронова, вдруг уловил тиканье его часов. Он страшно удивился и осторожно приблизил ухо к этой странно тикающей штуке.
— Что, — сказал Воронов, заметив его движение, — стучат? Это часы, Сережа. — И он приложил часы к Митиному уху. Мальчик прислушался с напряженным вниманием, и восхищенная улыбка расцвела на его лице.
Воронов опять положил руки на спинку стула и машинально взглянул на часы. Стрелки их показывали ровно восемь. Воронов нахмурился, силясь припомнить что-то. А, теперь он вспомнил. Усмехнувшись, он не спеша расстегнул карман гимнастерки и, вынув оттуда Валину записку, бросил ее в огонь. И маленький клочок бумаги, ярко вспыхнув, исчез навсегда.
Воронов снял часы с руки и, подойдя к Митиной странной кровати, повесил их на торчащий над нею гвоздь. Потом он снова возвратился на свое место.
С шумом толкнув ногою дверь, в комнату вошла Катя. Не глядя на Воронова, она молча подошла к печке и поставила чайник на огонь.
— Я там все положил, Катюша, ты хозяйничай, — сказал Воронов, кивнув на стол.
Катя бросила туда мрачный взгляд. Хлеб, две консервные банки, бумажный кулек, из которого несколько кусков сахара выпали на стол, еще какой-то пакетик.
Не говоря ни слова, Катя подошла к столу и аккуратно переложила все продукты на другой конец стола. При этом она с чрезвычайной старательностью собрала выпавший сахар и уложила его обратно в кулек.
— Ты что, Катя? — нахмурившись, спросил Воронов.
— Нам вашего не надо, — мрачно ответила Катя. — Сами ешьте ваши продукты. Нам ничего не надо, у нас свое есть.
Воронов смотрел на нее с удивлением. Она так изменилась за несколько минут отсутствия, словно там, во дворе, ее попросту подменили.
— Да что это ты?
— Ничего, — ответила Катя. — Иди сюда, Сережа, садись. Садись, я тебе говорю! Есть будешь.
Она достала с полки над столом алюминиевую миску и пакет с хлебом. Поставив миску у конца стола, противоположного тому, куда она составила продукты Воронова, она отрезала кусок хлеба, положила его у миски и опять подошла к печурке.
— Иди садись, — обратилась она к Мите, и тот, робко оглянувшись, пошел на свое место.
Воронов, по-прежнему сидя верхом на стуле, внимательно и хмуро следил за всеми движениями девочки. Вот она поставила кружку, чайник с чаем и плоскую тарелку на тот край стола, где лежали его продукты.
— Садитесь, ешьте, сейчас чайник закипит, — сказала она, не глядя на него. Потом она налила суп в Митину мисочку.
Воронов медленно поднялся со стула. Подойдя к дивану, он взял свой ремень, который с таким удовольствием туда бросил, когда начал растапливать печку, и не спеша надел его. Затем он так же не спеша застегнул ворот гимнастерки и старательно ее одернул.
Катя исподтишка следила за ним темными, очень мрачными сейчас глазами.
— Ну вот что, Катя, — обернулся к ней Воронов. — Так дело не пойдет. Это мне не подходит. Я лучше в комендатуре переночую, если так.
Катя стояла посреди комнаты, низко опустив голову. Когда он взял со стула свою фуражку, Катя, заметив это, проговорила хриплым, срывающимся голосом:
— Я не из-за продуктов вас позвала. Нам не надо ваших продуктов. Нам ничего не надо.
— А кто думает, что из-за продуктов? — резко спросил Воронов. — Это что же, я, по-твоему, так думаю, да?
Катя молчала.
Тогда он подошел к ней и, взяв ее лицо в свои ладони, внимательно посмотрел на нее.
Какой несчастный вид у нее сейчас. Изо всех сил она старалась не заплакать, и все же крупная слеза против воли скользнула по ее щеке.
Воронов продолжал молча смотреть на нее, его суровое лицо светлело понемногу.
— Нет, давай уж по-другому, Катя, — проговорил он с неожиданной мягкостью.
И вот они сидят все трое рядом, у одного конца большого письменного стола.
«Да, многого мы не знали», — думает Воронов, задумчиво глядя перед собой. Этот чужой изголодавшийся мальчик — с какой недетской серьезностью, молча, почти торжественно, ест он черный солдатский хлеб. И глубокая серьезность ребенка придает сейчас твоему хлебу небывалую, неисчислимую ценность. А это и есть его настоящая цена. Какое счастье — разделить с другими то немногое, что ты имеешь. Не лишнее, не лакомства — насущный свой хлеб. Как хорошо сидеть с ними вместе перед столом, на котором разложено все нехитрое твое добро: хлеб, тушенка, припорошенный махоркой сахар; и скромный стол этот может сейчас поспорить с самым пышным пиршественным столом.
Кривая печурка, сделанная из куска покореженной жести, потрескивает и попахивает дымком, а на ней закоптелый чайник поет чудесную песенку, песенку мира и домашнего очага. Песенка становится громче, крышка чайника подпрыгивает и стучит. Катя тотчас вскакивает и бежит к печурке.
Назад она возвращается медленно — сияющая, похорошевшая, с чайником в руке — и торжественно разливает чай в щербатые старые кружки.
Воронов берет свою кружку и начинает пить.
Лучшее вино не сравнится сейчас в его глазах с этим жидким блокадным чаем.
25
Над его головой было вечернее небо, покрытое легкими, перистыми облаками. Только поблизости от моря бывает такое небо, — и он привык к нему с детства.
Если опустить глаза немного ниже, видна верхушка брандмауэрной стены, озаренная закатным солнцем. А еще ниже — какая-то торчащая боком железная решетка, ее завитки, листья и цветы. И совсем рядом, у самого его лица — девичьи руки, устало лежащие на чем-то клетчатом. И все это пронизано насквозь таким нежным, таким волшебным светом.
Воронов лежал вытянувшись на старой железной кровати. Лицо его было очень спокойно, руки закинуты за голову. Давно ему не было так хорошо.
Он лежал на кровати, которую они нашли среди железного лома и оттащили сюда, на траву, на более свободное место. Глаза его лениво скользили по пустырю, залитому последними лучами заходящего солнца, по фантастическому пересечению ломаных кроватей, решеток, искореженной жести и железа.
Все это свалили сюда почти год назад, первой военной осенью, после бомбежек. Сейчас сквозь эту железную путаницу проросла высокая трава. Серый куст полыни тихо шевелился у самых глаз Воронова, и он, не срывая, прижал его к лицу.
Катя сидела на краю кровати. Лицо ее, задумчивое, с чуть приоткрытым ртом, казалось теперь совершенно детским.
Проследив за направлением ее взгляда, Воронов увидел Митю, который бродил по пустырю, неловко карабкаясь среди железных прутьев. В своем странном наряде, светловолосый, маленький и худой, он походил на персонаж из сказки — не то карлик, не то эльф. Ему здесь нравилось. С явным удовольствием он трогал руками эти странные вещи. Вот он покачался на остатках пружинного матраса.
Воронов, с улыбкой следивший за ним, засмеялся:
— Славный он у тебя!
Катя обернулась.
— Он очень хороший, — сказала она серьезно. — Он никогда ничего не просит, никогда не хнычет. Очень хороший! Вы знаете, ведь он бы, наверно, умер, если бы вы тогда не дали нам хлеба. Ведь так вышло, что до конца месяца у нас была только одна карточка. Я им говорила, что его карточка пропала, только мне никто не верил; они думали, я нарочно так говорю, чтобы еще одну получить… И мы все вперед брали — и хлеб, и в столовой. А что бы с нами было, когда кончились талоны? Мы хлеба такую каплю получали — только по одной карточке, — а в столовой все почти талоны уже повырезали. Мы бы пропали, если бы не вы. Я из вашей тушенки суп варила. Он ведь такой слабый был, Сережка, даже и не ходил уже.
И, помолчав, она сказала с глубоким убеждением:
— Это вы его спасли.
Воронов продолжал следить рассеянным взглядом за мальчиком, который, как причудливый зверек, то появлялся, то исчезал среди железного лома.
— Трудно тебе было с ним в такую зиму.
— Нет, не трудно. Одной трудней. Если только для себя, так разве можно так мучиться? А так, даже если уж совсем нету сил, так ведь знаешь, что тебя кто-то ждет, и если не придешь, так он ведь умрет попросту. Нет, так легче, если не для себя одной.
Воронов внимательно посмотрел на нее.
— Сколько тебе лет, Катя?
— Мне пятнадцать скоро.
Солнце опустилось ниже. Тень от стены уже закрыла половину пустыря.
— Очень любишь своего Сережу? — как-то глухо, вполголоса спросил Воронов.
— Да, очень. — И, помолчав, она сказала совсем тихо, не глядя на него: — Конечно, человеку плохо, если его никто не любит. Только, я думаю, это еще хуже, если самому некого любить. Правда? Надо, чтобы у каждого человека был кто-нибудь, кого бы он любил.
— Вот как? — начал Воронов и замолчал.
Митя подошел к ним и тоже пристроился на краешке кровати.
Воронов вздрогнул и подвинулся. Митя уселся поудобнее и стал с любопытством разглядывать лежащего перед ним человека. Потом он осторожно дотронулся до его лица своими тонкими пальцами.
— Ну, что скажешь? — ласково спросил Воронов.
Но Митя только смущенно улыбнулся в ответ.
— Вы не думайте, что он дурачок, — быстро сказала Катя. — Он очень умный. Он все понимает, только говорит мало, потому что он все время один, бедняга. Он и людей-то совсем не видит. Даже я, и то ведь только утром с ним, а вечером приду, так он поест — и уже сонный.
— А что, его нельзя в детский сад отдать? Или их нет сейчас?
— Есть! — с оживлением воскликнула Катя. — И около нас недавно открыли. Да только его не берут! Я уже ходила просить, а они говорят: «Ты не работаешь, так можешь сама за ним смотреть». У них мест мало. И там заведующая такая сердитая. Ничего у меня и не вышло. А там знаете как хорошо! Конечно, надо карточку отдать, но ведь их там кормят. Им кашу на обед дают. Суп тоже дают, а еще и кашу. А когда они вечером идут домой, им пятьдесят граммов хлеба дают с собой. И гуляют с ними, если нет обстрела. Только они его не берут, Сережку!
— Давай-ка я его завтра сведу, — вдруг предложил Воронов. — Что мы теряем? Попробуем! Скажу, что мой. Не станут же они у меня документы проверять?
— Нет, в самом деле?
— А почему бы и нет? Подумаешь! Совру для хорошего дела. Мне они не откажут, будь спокойна.
Теперь уже почти весь пустырь погрузился в густую тень. Только старая железная кровать и те, что сидели на ней, все еще были озарены мягким золотистым светом.
— А хорошую мы кровать нашли, правда? — сказала Катя с гордостью.
— Отличная кровать, — охотно подтвердил Воронов. — Просто отличная!
— Вы знаете, надо нарезать травы; она быстро высохнет — и можно сенник сделать, если накрыть плащ-палаткой.
Он усмехнулся.
— Нет, не успеет высохнуть твоя трава, Катя. Я ведь уезжаю через два дня.
Катя печально опустила голову.
На следующий день они все трое подошли к высокому дому, у дверей которого висела новенькая надпись: «4-й детский сад Октябрьского района».
— Это здесь, — сказала Катя шепотом, словно сердитая заведующая там, наверху, могла ее услышать и узнать.
— Ну что ж, — сказал Воронов, — смелого пуля боится, смелого штык не берет. Давай его бумажки, Катя.
Катя вытащила из кармана завернутые в носовой платок бумаги.
— Вот метрика. А это его карточки, — не оброните, ради бога.
— Ну, что ты! — Развернув метрику, он прочитал ее и спрятал вместе с карточками в карман гимнастерки. — Ну, пошли… Сергей Дмитриевич, — проговорил он, улыбаясь.
Митя доверчиво подал ему руку.
— Я вас здесь подожду, за углом, — сказала Катя.
Стоя у открытой двери, она смотрела, как они не спеша подымались по лестнице. Воронов держал Митю за руку, и тот очень старался идти с ним в ногу, упорно, с сосредоточенным усилием преодолевая каждую ступень. Каким крошечным казался сейчас мальчик рядом с этим высоким человеком!
Когда они исчезли за поворотом лестницы, Катя отошла за угол и остановилась там, прислонившись к стене в позе терпеливого ожидания.
Редкие прохожие шли мимо, не обращая на нее никакого внимания, — у каждого свои заботы, свои дела.
Катя стояла задумавшись. И хотя она с нетерпением и беспокойством ожидала возвращения Воронова и то и дело выглядывала из-за угла посмотреть, не идет ли он, она пропустила тот момент, когда он появился, и увидела его, когда он уже спокойно стоял у дверей, щурясь от солнца и неторопливо оглядываясь вокруг. И он был один.
С минуту Катя не шевелясь смотрела на него из-за угла, потом встрепенулась и радостно к нему подбежала.
— Взяли? — вся сияя, быстро спросила она.
Воронов, улыбнувшись, кивнул головой.
— Взяли!
26
Ясным ранним утром Воронов, Митя и Катя стояли на мостике с гранитными обелисками, где канал пересекает канал. День только начался, и даль еще была окутана туманом.
Воронов был в шинели, мешок перекинут через плечо.
— Ну, не провожайте меня дальше, — сказал он решительно. — Вам пора идти, а то опоздаете в детский сад. А ведь заведующая строгая!
Он нагнулся и поцеловал Митю. Губы мальчика дрогнули, светлые глаза наполнились слезами.
— Ну, что ты, — заметив это, торопливо сказал Воронов. — Как можно! Ты же мужчина, а время теперь военное.
Кого он уговаривал — этого мальчика или самого себя, свое глупое сердце, которое внезапно сжалось у него в груди? И, наклонившись, он опять поцеловал белокурую головку ребенка.
Катя стояла рядом и смотрела на него в упор, словно стараясь как можно точнее удержать в своей памяти лицо покидающего их человека. Он положил на ее плечо свою большую тяжелую руку.
— Ну, Катя, смотри не бегай под обстрелами. Слышишь?
— Хорошо.
— Ты мне обещаешь?
— Да.
Воронов, охваченный внезапной тоской, медлил, внимательным, хмурым взглядом глядя на стоящих перед ним детей.
Катя сказала очень серьезно, все так же глядя ему в лицо темными, блестящими глазами:
— Приезжайте к нам. Мы вас будем ждать.
И вот он уже уходит от них.
Он идет вдоль канала, под высокими старыми тополями, озаренными утренним солнцем. Голубая прозрачная тень решетки летит на гранитных плитах набережной, совсем пустынной в этот ранний час. Он идет быстро, стараясь побороть странное чувство утраты, охватившее его.
Внезапно он оборачивается.
Вдалеке, на мостике, тающем в нежном, золотистом свете, все еще неподвижно стоят две маленькие фигурки.
И, увидев, что он обернулся, они машут ему вслед.
27
Вот он наступил, этот страстно ожидаемый, этот великий день — девятое мая сорок пятого года!
Ленинградцы, взволнованные, счастливые, все, от мала до велика, все, кто может стоять на ногах, хлынули на улицу. Люди, люди, люди — военные, много военных, девушки, старики, подростки, матросы, дети. Набережная Невы забита прихлынувшей сюда толпой.
Залп! Разноцветные ракеты, искры, длинные трепещущие полосы света поднялись в вечернее весеннее, совсем еще светлое ленинградское небо.
Словно одно сердце, полное волненья и счастья, билось сейчас сильно и быстро в груди всей этой толпы.
Залп! Ракеты сыпались, как дождь, на темный силуэт Петропавловской крепости. И тяжелая, темная невская вода, мерцая и колеблясь, щедро отражала этот фантастический свет.
Залп! Серебряные мечи прожекторов, скользя, рассекали небо.
Залп!.. Еще залп! И вот уже последние ракеты гаснут в медленно темнеющем небе.
Салют окончился. Толпа зашевелилась, тронулась с места и потекла, расходясь и постепенно разбиваясь на группы. И среди этой оживленной толпы, счастливые и взволнованные, шли вместе со всеми Катя и Митя.
Да, это они. Катя ведет мальчика за руку. Он вырос и аккуратно одет. Ему сейчас уже шесть лет, и как легко он идет — тоненький, красивый, светловолосый мальчик. А Кате семнадцать. Она мало изменилась, у нее все еще худенькое, полудетское лицо, но она причесана по-другому, на ней длинная юбка, темная курточка, на голове — берет.
Они свернули с набережной и шли теперь мимо дворца Труда. Митя вертел головой, с живым любопытством оглядываясь вокруг. Возбужденный всем пережитым, он жадно прислушивался к оживленному говору, обрывкам песен, счастливому смеху, ко всему этому веселому разноголосому шуму, который несся со всех сторон.
Высокая женщина, ведя за руку худенькую длинноногую девочку, быстро прошла мимо них. Девочка говорила с увлечением: «А вот когда папа вернется…» Конец фразы потонул в общем шуме. Митя нахмурился. Лицо его стало сосредоточенным, и он больше не глядел по сторонам.
— Катя, — вдруг громко сказал он, но она задумалась о чем-то и не слышала его.
Тогда он настойчиво повторил, дергая ее за руку:
— Катя!
— Да? — очнувшись, откликнулась Катя.
— Катя! А к нам… к нам никто не вернется?
— Не знаю, Сережа, — произнесла она задумчиво.
Они пересекли уже площадь Труда, прошли широкую улицу и вышли на Мойку, когда она еле слышно добавила, словно продолжая начатую ранее фразу:
— Может быть…
28
В тот же вечер, далеко отсюда, на невысоком холме, между поломанными, изуродованными войной деревьями, стоял Алексей Воронов.
Темнеющее вечернее небо распростерлось над его головой, легкий весенний ветер шевелил светлые волосы. Лицо его было задумчиво, слегка прищуренные глаза устремлены вдаль.
Там внизу, в надвигающихся сумерках, смутно виднелся маленький немецкий городок — готические шпили, темные куны деревьев, разрушенные дома.
Немного ниже Воронова на том же холме стоял пожилой коренастый солдат и так же задумчиво глядел на лежащий внизу городок.
— Вот и отвоевались, товарищ майор, — проговорил он, обернувшись.
— Да, отвоевались. Конец, — негромко отозвался Воронов.
— А далеко нас с вами занесло, товарищ майор. Регенвальд… Не думал, не гадал, что такой город и на свете-то есть. А отсюда теперь до дому — бог ты мой! — какая даль!
— Ты откуда?
— Из Благовещенска. Заждались меня дома-то! Ничего, теперь скоро. Кончили свою работу. А вы откуда, товарищ майор?
— Из Ленинграда, — ответил Воронов и добавил, помолчав: — Меня-то некому ждать!
Он сказал это спокойно, без горечи, — он привык уже к этой мысли.
Так он и стоял задумавшись на этой чужой земле — высокий, светлоглазый, усталый человек.
29
Ранним вечером на исходе зимы тысяча девятьсот сорок шестого года, в оттепель и грязь, на перекрестке двух ленинградских улиц внезапно столкнулись двое прохожих — высокий военный и коренастый человек в кожаном пальто.
— Стой! Воронов! Вот это встреча, — радостно, на всю улицу, кричал человек в пальто.
Воронов ответил, улыбаясь:
— Ну, я бы тебя не узнал.
— А ты зато все такой же! Тебе что ж, шинель еще не надоела? Пора бросать, Алексей Петрович.
— Да я только месяц как демобилизовался. Какое месяц — и того меньше.
— И где устроился?
— Да на старом заводе.
— Слушай, дорогой! Ты прости, мне надо бежать. Ты мой адрес еще помнишь?
— Найду.
— Приходи обязательно. Такую встречу надо вспрыснуть. А сейчас, сам понимаешь, — жена ждет. Ничего не поделаешь; тем более, субботний вечер.
— Беги, беги, — отозвался с улыбкой Воронов.
Было то время дня, когда на улицах города царит наибольшее оживление: тротуары заполнены толпой, проходят, звеня, переполненные трамваи, в магазинах толчея. Уже зажглись фонари, ярко освещены витрины, темные окна домов зажигаются одно за другим.
Да, ведь сегодня суббота, он это совершенно забыл. Как все они торопятся домой, к своим!
Нахмурившись, помрачнев, Воронов продолжал стоять среди идущих мимо него людей, которые то и дело на него натыкались.
И вот среди шума шагов, звонков трамваев, автомобильных гудков и невнятного говора в его мозгу внезапно прозвучала короткая, простая, смутно-знакомая мелодия.
Вот она исчезла в уличном шуме. И вот возникла вновь. Всего четыре такта, повторенные дважды, — непритязательный детски-наивный мотив.
Теперь он вспомнил его совсем ясно — мотив белорусской песни, которую когда-то он уже слыхал:
Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, Ты ж моя, ты ж моя невеличкая.Он поднял голову, и чуть заметная улыбка появилась на его лице.
И вдруг совершенно отчетливо, как если бы это было вчера, в его памяти возник мостик, тающий в тумане, и там, на этом мостике, озаренные мягким утренним светом, — дети, мальчик и девочка, которые, стоя совсем неподвижно, смотрят ему вслед.
И голос Кати говорит ему так внятно, словно она стоит с ним рядом: «Приезжайте к нам. Мы вас будем ждать».
Все так же улыбаясь, он пошел вперед, потом свернул на боковую улицу. Он не знал адреса, он не помнил точно, где это было. К тому же ведь это было четыре года назад. Но он продолжал идти, то останавливаясь, то снова двигаясь вперед, порой нерешительно возвращаясь обратно. Он проходил улицы, переулки, мосты, то ускоряя, то замедляя шаг. Он помнил, что это было на канале, недалеко от мостика. Но какого мостика?
Когда, порядком проплутав, он вышел опять на Садовую, шумный поток людей хлынул из подворотни около ярко освещенного входа в кино. Видно, окончился сеанс. Все оживленно переговаривались, переживая перипетии фильма, и он остановился, пережидая, когда можно будет пройти.
— Мировая картина, — проходя мимо него, сказала миловидная девушка своему одетому в шинель спутнику. Воронов рассеянно взглянул на плакат. «Леди Гамильтон».
Теперь толпа поредела. Он снова двинулся в путь, прошел мимо кино и завернул за угол. Только сейчас он почувствовал, что смертельно устал. Начал идти снег. Он падал большими, мягкими хлопьями, которые тотчас таяли на мокрой мостовой.
Воронов пересек улицу и снова вышел на канал.
Но тот ли это канал? Нет, он забыл, где это было. Он остановился и стоял понурясь, совсем один на этой пустынной набережной, а мокрый снег уже облепил ему голову и плечи.
Он устал, продрог и был очень зол на себя за эту нелепую затею.
И вдруг за косой, прозрачной сеткой летящего снега в тусклом свете уличных фонарей он увидел знакомый мостик с гранитными обелисками и там, у этого мостика, направо — высокие деревья и знакомый трехэтажный дом.
Он быстро пошел вперед. И вот он уже стоит под этими деревьями.
Нет, этот старый дом теперь отнюдь не казался мертвым. Почти все его окна были освещены, и взгляд Воронова рассеянно скользил по таким обыденным, милым деталям простой человеческой жизни — абажур, занавеска, кусок обеденного стола.
Потом глаза его остановились на крайних окнах верхнего этажа. Там тоже горел свет. Неяркий, мягкий свет, возможно, настольная лампа. А занавесок нет. Или, кажется, есть. Он не мог различить. А тогда занавесок не было — были маскировочные шторы.
Воронов решительно перешел улицу и вошел в темноту парадной.
Поднявшись на верхний этаж, он позвонил. За дверью послышались неспешные шаги, дверь отворилась, и пожилая толстая женщина в пестром халате с удивлением уставилась на него.
«Ну и ну, — подумал Воронов. Он растерялся. — Хорошо, а чего ты ждал?»
— Вы к кому? — недружелюбно спросила женщина.
Воронов ответил нерешительно:
— Что, Катя еще здесь живет?
— Какая Катя, Никанорова?
— Да, кажется, Никанорова…
Женщина с недоверием посмотрела на него, все еще не отходя от двери. «У нее, наверно, и в шестнадцать лет было такое же сонное лицо», — подумал Воронов.
— К Никаноровым два звонка, — сказала она недовольно.
— Простите, я не знал.
Он пошел по узкому коридору, а она продолжала неодобрительно смотреть ему вслед.
— «Кажется, Никанорова», — иронически повторила она его слова и, пожав плечами, ушла в свою комнату. В коридоре было почти темно, свет падал из передней. Огромная тень Воронова двигалась впереди него и раньше, чем он сам, достигла знакомой двери. В тот же момент дверь тихо приоткрылась.
Он остановился.
Большая серая кошка появилась из этой двери и не спеша, не обращая на него ни малейшего внимания, степенно пошла по коридору. Воронов невольно обернулся и посмотрел ей вслед. Потом он решительно подошел к двери, и в эту минуту звонкий детский голос там, в комнате, отчетливо произнес: «Тридцать два!» Он сказал это громко, с оттенком торжества. Все еще не решаясь войти, Воронов медленно приоткрыл дверь пошире.
Прямо перед ним за квадратным некрашеным столом сидели Катя и Митя. Он видит их в профиль. Лица их освещены светом настольной лампы. Мальчик склонился над тетрадкой и что-то пишет, нахмурившись и шевеля губами. Ах, вот что — он решает задачи. Странная улыбка, насмешливая и смущенная в одно и тоже время, появилась на лице Воронова. Он не хочет признаться самому себе, как сильно он взволнован.
Теперь он смотрит на Катю. Глаза ее опущены, лицо серьезно. Она штопает детский чулок. Ее тонкие пальцы быстро и легко движутся взад-вперед, иголка вспыхивает на свету тонкой серебряной искрой.
Воронов стоял неподвижно, темнота коридора почти совсем скрывала его. Но вот кошка вернулась и, проскользнув у его ног, по-хозяйски вошла в комнату. Дойдя до середины, она промурлыкала какое-то приветствие. Мальчик мгновенно повернул голову.
— Все гуляешь? — спросил он неодобрительно. И тут он заметил стоящего в дверях незнакомца. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Катя, заметив движение мальчика, тоже обернулась.
Воронов стоял совсем в тени, почти не различимый в темноте, но Катя его узнала. Испуганная и счастливая улыбка появилась на ее лице, словно там, в глубине ее существа, внезапно зажгли яркий свет.
Она положила свое шитье на стол и медленно поднялась.
— Я знала, — проговорила она еле слышно. — Я знала, что вы живой.
И вот его шинель уже сохнет у теплых кафелей печки, уже зажгли верхний свет; на кухне в его честь поставлен на керосинку чайник, а он сидит на широком диване между юными хозяевами, наконец-то явившийся, долгожданный гость.
Усталость его прошла. Щурясь от яркого света, он оглядывался вокруг. Из всей старой обстановки только и остались этот диван, да еще большой книжный шкаф. Между окнами, на месте письменного стола, теперь стоял квадратный некрашеный стол, а вокруг него — три табуретки. На месте вольтеровских кресел — узкая голубая кровать, застланная темным одеялом. Больше в комнате ничего не было.
«Как здесь славно», — подумал Воронов, которому все здесь нравилось — и яркий свет, и отсутствие мебели, а больше всего то, что все перемены — и в комнате, и в хозяевах, — оказывается, ничего не изменили.
— Ну, как же вы живете, Катя? — спросил он, внимательно глядя ей в лицо. — Ты совсем взрослая стала.
— Я в типографии теперь работаю. Там хорошо. Я восемь классов окончила, а потом пошла работать. Уже два года.
— Ну, а ты? — и он повернулся к Мите. — Все в детском саду у той сердитой заведующей?
— А вы ее помните? — оживилась Катя.
— А как же!
— Я уже в школе, — с важностью проговорил Митя. — В первом классе.
— Ишь ты! Это ты там задачки решал, когда я помешал тебе?
— Ничего, я завтра кончу, еще целый день. Я их быстро решаю.
— Он хорошо учится, — заметила Катя. — У него все пятерки в этой четверти.
— Ай да Сережа! Тебя ведь Сережей зовут?
Мальчик нахмурился и сказал обиженно:
— Ну да… А вы забыли?
— А ты меня помнишь?
— Совсем немножко… Это у вас какие? — И он тронул измазанным в чернилах пальцем орденские планки на груди Воронова.
— Всякие… — задумчиво проговорил Воронов. — Это, Сережа, чтобы крепче помнить все, что было.
— А вы больше не были ранены? — тихо спросила Катя.
— Нет, не был.
Катя встала с дивана и стала убирать со стола. Митя доверчиво прислонился головой к плечу Воронова; мягкие волосы мальчика касались его щеки.
«Меня здесь ждали, — думал Воронов, — Как я мог забыть. Меня здесь ждали!»
Катя собрала тетради и книги, которые Митя так и оставил раскрытыми на столе, потом положила их в шкаф и из того же шкафа вынула чашки, хлеб и банку варенья.
«Куда же делись книги из шкафа?» — рассеянно подумал Воронов и тотчас забыл об этом. Глаза его с удовольствием следили за легкими движениями Кати; она расстелила на столе лист чистой бумаги и теперь расставляла чашки. Потом глаза его остановились на большом рисунке, который висел над столом, занимая весь простенок между окнами.
Митя тихо сказал:
— Это я рисовал.
Видно, он неотступно следил за всеми движениями Воронова, за его словами и взглядами.
— А ну-ка, посмотрим. — Воронов встал и подошел к столу.
— Молодец! — сказал он от всей души. Рисунок, сделанный акварелью и цветными карандашами, дышал той энергией, легкостью и абсолютной свободой, которые присущи только детским рисункам и работам великих мастеров. Море, корабли — множество кораблей, облака, самолеты, птицы.
— Молодец! — повторил Воронов.
Митя уже стоял с ним рядом.
— Вам нравится? — быстро спросил он.
— Да, очень нравится!
— Я вам тоже могу нарисовать.
— Он хорошо рисует, — сказала Катя, — его учительница хвалит. Только — все корабли да корабли!
Воронов улыбнулся.
— Что ж ты хочешь? Ленинградец! Я, когда был маленький, тоже все корабли рисовал.
Он замолчал. Легкое недоумение отразилось на его лице, и Катя, проследив за направлением его взгляда, звонко рассмеялась.
— Это все Сережка! — и она положила руку на плечо мальчика.
Воронов неподвижно стоял перед окном. На оконном стекле, очевидно белилами, очень крупно были нарисованы фантастические кружева — цветы, птицы, листья, какие-то невиданные животные.
Митя очень смутился. Он так покраснел, что не только его лицо, но даже маленькие уши стали совершенно пунцовыми, а светлые глаза потемнели. Это Воронов увидел очень хорошо, так как, несмотря на смущение, мальчик не опустил глаза, а смотрел снизу вверх прямо ему в лицо.
— У всех соседей занавески, — сказал Митя, — а у нас нет. Я и нарисовал.
Катя снова засмеялась счастливым звонким смехом.
— Я как помою окна — он снова нарисует. Очень удобно — и стирать их не надо, и каждый раз новые.
Воронов сказал с глубоким убеждением:
— Очень красиво. Очень, очень красиво!
Мальчик все еще смотрел на него, и он добавил, желая сказать ему еще что-нибудь приятное:
— А кровать у тебя теперь совсем как у большого.
— Ну да, я же вырос. А кресла увезли.
— А это — ваши… — тихо сказала Катя.
Над кроватью, на том же месте, на том же гвозде, висели его, Воронова, ручные часы, которые он когда-то сюда повесил.
— Ну и как, идут?
— Конечно. Мы все время по ним жили.
Тут Воронов повернулся и заметил голову Гермеса, по-прежнему стоящую на шкафу.
— Как, и ты здесь, приятель! — воскликнул он, чрезвычайно чем-то довольный. — Стало быть, все в сборе!
Катя улыбнулась.
— Вы знаете, я так просила, чтоб его нам оставили. Этот профессор, который здесь раньше жил, он после войны переехал в Москву. Ему там квартиру дали. Они сюда приезжали за вещами. Но у них там комнаты маленькие, и они диван и шкаф нам оставили, — очень уж громоздкие. Профессор сказал — это ленинградский масштаб. А его хотели увезти, — и Катя кивнула на Гермеса, — но я очень просила, чтоб его оставили. Жена профессора не хотела, говорила — это ценная вещь, то да се. А профессор сказал, — и Катя вся вытянулась и сказала басом, очевидно подражая профессору: — «Это только справедливо. Он с ними прожил всю войну». Очень хороший старик! Он сказал, что это Гермес, греческий бог.
— Ну да.
— А мы его Васей звали, — сказала Катя смущенно.
Воронов рассмеялся. Теперь он отошел немного, чтобы рассмотреть скульптуру, и, внезапно вздрогнув, остановился, внимательно глядя в угол. Там, за шкафом, в тени, на прежнем месте стояла старая железная кровать, которую они когда-то теплым летним вечером разыскали на пустыре.
— А, — проговорил он вполголоса и слегка улыбаясь, — моя волшебная кровать.
— Почему волшебная?
— А ты разве не знала, что она волшебная? — внимательно глядя на нее, спросил Воронов.
— Нет.
— Тогда зачем же ты ее сохранила?
Катя опустила глаза. Несколько секунд она стояла молча, не подымая головы, потом сказала очень тихо, почти шепотом:
— Я все думала, вы вернетесь.
— Вот видишь, а говоришь, не волшебная.
Все с той же улыбкой он пристально смотрел на нее.
Она подняла голову и сказала, глядя на него в упор спокойным и ясным взглядом:
— Оставайтесь у нас, Алексей Петрович.
— А я вам не помешаю? — спросил он, помолчав.
— Нет, не помешаете. Мы вам будем очень, очень рады.
К ночи ветер усилился. Снег уже перестал идти, и стало холоднее. Уличный фонарь, висящий на проволоке у Катиного дома, с силой раскачивался на ветру, и тусклый свет его скользил, колеблясь, по облупленному фасаду старого дома.
Проникая в незавешенные окна, он скользил также и по стенам тихой комнаты, где все уже давно легли и погасили лампу. Свет и тени, быстро сменяясь, пробегали по широкому дивану, на котором, свернувшись калачиком, тихо спала Катя, по Митиной кровати, по шкафу, по желтоватому мрамору стоящей на нем скульптуры.
Юный бог казался совсем живым в быстрой смене света и тени, скользящих по его лицу. Он слегка улыбался. И Воронов, который, накрывшись шинелью, лежал там, за шкафом, на своей «волшебной» кровати, улыбнулся ему в ответ.
— Вася… — И он тихо рассмеялся. Давно ему не было так хорошо. И вот он уже засыпает, спокойно, без снов, со странным чувством, что наконец-то он вернулся домой.
30
На следующее утро Воронов в одной гимнастерке и меховой ушанке, лихо сдвинутой на затылок, с наслаждением колол дрова во дворе Катиного дома.
Митя помогал ему, — растянув на земле веревку, он складывал на нее расколотые поленья.
Воронов вытащил из сарая корявое, толстое, покрытое замшелой корой полено, с удовольствием разглядел его со всех сторон, аккуратно поставил на подернутые тонким льдом булыжники и, с силой размахнувшись, с одного маху разрубил его пополам.
— Вот здо́рово! — крикнул Митя, с восторгом глядя на Воронова, который, улыбаясь, стоял посредине двора, широко расставив ноги, с топором в руках — такой большой, необыкновенно сильный, удивительный человек в орденах, в военной одежде, к ним, именно к ним вернувшийся с войны.
— Я еще и не то могу, — хвастливо сказал Воронов, которого и тешило и смешило безудержное восхищение, ярко светившееся на личике мальчика.
— А что вы еще можете?
— А я могу, например, сделать из этого вот чурбанчика очень хороший корабль.
— Да? — прошептал Митя, совершенно пораженный.
— А ну, шабаш! — весело крикнул Воронов. — Складывай наши чурки.
По лестнице они шли медленно. Воронов нес на спине большую вязанку, Митя тащил свои дрова прямо в руках. Шапка съехала у него набок, березовое полешко упиралось в щеку, но он, закинув голову, не отрываясь глядел восторженными глазами на идущего рядом человека.
Они уже поднялись на верхнюю площадку. Митя засмеялся:
— Вот Катя удивится, когда придет из магазина, правда? К нам два звонка.
— Это я уже знаю, что два звонка, — усмехнулся Воронов.
Пока Воронов укладывал дрова и с тем же неожиданным для себя удовольствием чинил перекосившуюся форточку, Митя снова принялся за свои задачи. Он решал их вслух, с забавной серьезностью объясняя Воронову, как мальчик Петя и два его товарища разделили пятнадцать цветных карандашей.
Наконец и с задачами и с форточкой было покончено, и они принялись за строительство корабля. Воронов строгал большим финским ножом продолговатую, остропахнущую смолой сосновую чурку — корпус будущего корабля, а Митя старательно красил белилами тонко наструганные палочки — будущие мачты и реи.
Воронов работал молча, время от времени бросал внимательный взгляд на маленькие, измазанные белилами руки, которые так ловко двигались рядом с его большими, тяжелыми руками.
— Когда мы, наконец, закончим это сооружение, — прерывая молчание, сказал Воронов, — мы торжественно спустим его на воду.
— Где?
— Да у любого спуска на канале. Лед уже сходит.
— А он не уйдет от нас?
— А мы веревку привяжем.
— А как мы его назовем?
— Ну, это еще надо обдумать, — серьезно ответил Воронов.
Он обернулся на звук отворяемой двери. Сопровождаемая большой серой кошкой, Катя, улыбаясь, внесла дымящуюся кастрюлю.
Строительство корабля пришлось отложить, — в этот первый послевоенный год к обеду относились с подобающим уважением. Суп оказался просто замечательным. Воронов признался, что с довоенного времени он не ел такого вкусного супа. А к чаю неожиданно выяснилось, что, пока они здесь трудились над своим кораблем, Катя испекла пирог с вареньем. Правда, он был маленький и порядком подгорел с одного бока, но все-таки это был пирог!
Воронов пил чай, хвалил пирог и обстоятельно разъяснял Мите разницу между шхуной и фрегатом. А впереди был еще целый вечер — свободный, мирный, необъятный вечер выходного дня.
— А вы знаете, — проговорила Катя, поворачивая пирог к Воронову более удачной стороной, — у нас в «Рекорде» идет «Леди Гамильтон». Женя вчера смотрела. Она говорит — совершенно замечательная картина!
— Там морской бой! — с энтузиазмом подхватил мальчик. — Я видел картинки, они в окошке вывешены.
— Морской бой? — переспросил Воронов. — Так это, наверно, Трафальгарское сражение.
Трафальгарское сражение и решило вопрос.
В кино во время сеанса только кажется, что в зале темно. Свет, идущий с экрана, освещает лица зрителей достаточно ярко. Воронов держал Митю на коленях и с ласковой и слегка иронической улыбкой глядел на сидящую рядом Катю. С глубочайшим волнением, забыв все на свете, она не отрываясь смотрела на экран. Там, на экране, молодая прелестная женщина быстро и взволнованно говорила что-то по-английски высокому мужчине, у которого один глаз был закрыт черной повязкой.
— О чем это она? — громко спросил Митя.
Кругом с негодованием зашикали. Митя притих.
— О любви, — все с той же улыбкой вполголоса проговорил Воронов. — Нам с тобой этого не понять, дружок. Ты слишком молод, я слишком стар.
Когда окончился сеанс, шумный поток людей хлынул из подворотни на вечернюю улицу. Воронов вел Митю за руку и то и дело оборачивался, чтобы в толпе не потерять Катю. Наконец, поджидая ее, он остановился возле ярко освещенного плаката у дверей кино. «Леди Гамильтон». Он усмехнулся. «Неужели только вчера я бродил тут, по этим улицам и переулкам?»
Толпа поредела. Катя не спеша подошла к ним и молча остановилась. Лицо ее было взволнованно, темные глаза блестели.
— Ну что ж, пошли, — сказал Воронов, и они медленно прошли мимо рекламного плаката, пересекли оживленную улицу, свернули за угол и вышли на тихий, слабоосвещенный канал, который, плавно заворачиваясь влево, постепенно терялся в синеватой мгле.
31
Через две недели, на исходе дня, Воронов читал, уютно расположившись в углу широкого дивана. Серая кошка спала на его коленях. В комнате было тихо, только время от времени Митя, который, сидя за столом, что-то рисовал на большом листе бумаги, с плеском и звоном полоскал кисти в стакане.
Воронов отложил книгу и осторожно опустил кошку на пол. Когда он встал и направился к столу, Митя, услышав его шаги, быстро обернулся и тотчас обеими руками закрыл свой рисунок.
— Ты это что? — рассмеявшись, спросил Воронов.
Митя лег грудью на бумагу, искоса посмотрел на Воронова.
— Вам нельзя смотреть!
Он очень старался сделать серьезное и даже таинственное лицо, но это плохо ему удавалось.
— А почему нельзя?
— А это секрет.
— Но когда-нибудь я это увижу?
— Да, конечно! — от души воскликнул мальчик.
— Ну что ж, в таком случае я согласен потерпеть. Я ухожу, Сережа. Ты скажи Катюше, что я приду попозже.
— Ладно.
Воронов подошел к своей кровати и, сняв с гвоздя шинель, начал одеваться. Застегивая шинель, он с улыбкой смотрел на мальчика, который снова с увлечением принялся за работу. Действовал он весьма решительно: энергично растирал краски, с шумом полоскал кисти в стакане. Он так ушел в свою работу, что даже не обернулся, когда Воронов вышел из комнаты.
Он рисовал легко и свободно. Уже можно было догадаться, что это будет морской пейзаж.
Он не обернулся даже и тогда, когда дверь с шумом отворилась и Катя, оживленная, с пакетами в руках, стремительно вошла в комнату.
Быстрым взглядом она осмотрелась кругом, и лицо ее сразу потускнело.
— А Алексея Петровича нет?
— Он ушел. — И Митя провел по верху рисунка полосу чистого ультрамарина. — Он сказал, что придет попозже. Посмотри, Катя, как хорошо получилось. Это кильватерная колонна.
Катя медленно подошла и положила пакеты на стол.
— Да, — пробормотала она упавшим голосом, не глядя на рисунок. — Да, очень хорошо.
Вечер незаметно переходит в ночь. Резкий влажный ветер, дующий с залива, неровно, внезапными рывками раскачивает висящий на проволоке фонарь, и причудливые тени деревьев, качаясь, ложатся на мостовую.
Поздно. Редкие прохожие торопливо проходят мимо старинного дома, где на ступеньке у парадной стоит Катя, закутавшись с головой в свой клетчатый платок. Лицо ее печально, глаза уныло глядят из-под темного платка. Каждый раз, когда кто-нибудь появляется из-за угла, она оживляется и, вытягивая шею, всматривается в полутьму. Но нет, все чужие, ненужные, незнакомые люди. А вот эти двое, что вышли сейчас из-за угла, — это знакомые, но Катя тем более не хочет их видеть. И она отворачивается, делая вид что не замечает Женю и ее спутника, которые не спеша подходят к дому.
— Что, Катя, загулял твой майор? — спрашивает, смеясь, молодой человек.
Катя молчит, упорно глядя в сторону, и он, все еще смеясь, входит в парадную. Но Женя медлит, с насмешливой улыбкой наблюдая за Катей.
— А ты что думала! — говорит она весело. — Так он и будет твоего Сережку нянчить? Дура ты, дура! Нынче мужики в цене, не сомневайся, он себе поинтереснее занятие найдет, раньше утра теперь не жди.
Катя отвернулась. Глаза ее прищурены. Она упорно делает вид, что ничего не слышит.
Неторопливо подошла дворничиха, добродушная толстая женщина в белом переднике поверх старого ватника.
— Здравствуй, тетя Даша, — говорит Женя. — Что, дежуришь?
— Дежурю. Так теперь неудобно стало — одна на три дома, вот и броди тут целую ночь.
— А вот тебе Катя поможет, ей все равно сегодня до утра стоять. — И, звонко рассмеявшись, Женя вошла в парадную.
— Что, своего ждешь? — добродушно усмехнулась дворничиха. — Загулял?
Катя молча смотрит в сторону хмурым, злым взглядом.
Губы ее крепко сжаты, глаза блестят, как у кошки, из-под темного платка.
Дворничиха тоже ушла, и опять ни души на пустынной набережной.
Снег уже сошел, и шаги одинокого прохожего отчетливо слышны еще издалека. И, услыхав эти шаги, Катя внезапно встрепенулась. Лицо ее совершенно преобразилось — добрая, смущенная, счастливая улыбка мгновенно осветила его. Но вот она медленно гаснет, эта чудесная улыбка. Лицо девушки тускнеет, словно вянет на глазах.
Высокий военный, который вышел из-за угла и идет по направлению к ней широкими шагами, вовсе не тот, кого она ждет, только похож на него немножко. Он уже подходит к парадной, этот высокий человек в распахнутой шинели, в ушанке, сдвинутой набекрень. Он немного пьян и отлично настроен. Заметив Катю, он остановился.
— Кого ждешь, красотка? — говорит он весело. — Может, меня?
Катя отступила назад и с силой захлопнула дверь. Он расхохотался.
— Зря, зря, — проговорил он добродушно и, постояв немного, тихонько пошел дальше. Фонарь, раскачиваясь за его спиной, бросал ему под ноги пляшущую тень, которая казалась куда пьянее своего владельца.
Пусто. Но вот дверь парадной снова приотворилась. Теперь Катя уже не смотрит по сторонам. Она стоит, опустив голову, мрачно глядя себе под ноги. Потом, медленно повернувшись, исчезает в темноте парадной.
32
А в это время Воронов сидел задумавшись у накрытого белой скатертью стола напротив невысокого, толстого, бритоголового человека. Они уже поужинали. Тарелки и стаканы сдвинуты в сторону, и перед ними — раскрытая коробка папирос и пепельница, полная окурков.
Хозяин дома, одетый в клетчатую куртку, расстегнутый ворот которой позволяет видеть ослепительно белую рубашку, сидит, свободно откинувшись на спинку стула, и чуть прищуренными глазами, улыбаясь, смотрит на своего гостя.
Почувствовав этот ласковый взгляд, Воронов поднял голову и тоже улыбнулся.
В молодые годы они были друзьями. Потом жизнь разбросала их в разные стороны. Но каждый раз, встречаясь, они с удивлением замечали, что их взаимная привязанность не уменьшилась, но стала крепче, — может быть, потому, что те черты характера, которые каждый из них, возможно по контрасту, ценил в другом, с годами обозначились резче. Да еще, пожалуй, и потому, что теперь, кроме всего прочего, они любили друг в друге свою общую юность.
Об этом и думал сейчас Воронов, рассеянно разминая в пальцах давно потухшую папиросу.
— Ну вот, — проговорил он негромко, — вот и вспомнили старину. — Он вздохнул и потянулся. — Ну, мне пора. Здорово я засиделся.
— Нет, погоди, — возразил тот быстро. — Давай поговорим серьезно.
— А мы разве шутили до сих пор?
— Шутили не шутили, а ни до чего не договорились. Так, лирика. Какие же все-таки твои планы, Алеша? Так и будешь торчать на этом заводе, где они так по-хамски с тобой поступили?
— Почему по-хамски? Они мне комнату дали в общежитии.
— В которой ты не живешь. А кстати, где ты живешь?
Воронов нахмурился.
— У знакомых одних. — Он бросил в пепельницу измятую папиросу.
— А то, может, у меня поживешь, пока жена в командировке?
— Да нет, спасибо, не беспокойся. Ну, мне пора!
— Постой, — начал тот снова. — Ты замечательный инженер, а они мальчишек набрали, и ты там теперь сидишь под началом своего же бывшего практиканта. Я же знаю, мне Игнатьев говорил.
— Мой цех ведь целиком остался на Урале.
— Ну и черт с ним, с твоим цехом. Я тебе опять говорю: едем со мной. И работа интересная, и деньги настоящие, по крайней мере. Этим тоже не бросаются, мой милый. Тебя хоть в очередь на жилплощадь поставили?
— Поставили. Даже в первую очередь.
— Вот эта первая очередь как раз и подойдет, когда ты вернешься. Приедешь с деньгами, получишь комнату, да и положение у тебя будет совсем другое. Поверь мне, с тобой совсем иначе будут считаться после работы на таком строительстве. И на такой должности, к тому же. И что у тебя здесь — ни жены, ни детей!.. — Он замолчал, задумавшись, а потом спросил, внимательно глядя в лицо собеседнику: — Кстати, ты прости, что я спрашиваю, ты что-нибудь знаешь о Нине Владимировне?
— Знаю, — ответил Воронов коротко. Лицо его стало замкнутым и хмурым. — В Свердловске она. Замужем.
— Вот как. Так что же тебя здесь держит?
— Да ровно ничего, — пробормотал Воронов задумчиво. — Ты прав, конечно.
— Чего же ты упираешься, как бык перед бойней? Знаю я вас, ленинградцев. Вам хоть райские ворота открой, а вы помнетесь и скажете: «Я бы лучше по Невскому погулял». Что смеешься, разве не так?
— Положим, не совсем так. Ну, а ты?
— Я? Я — гражданин Советского Союза. Сегодня в Ленинграде, завтра в Москве, послезавтра на Камчатке, а через месяц — в Баку. И везде я дома. А под старость поселюсь я в Гатчине и начну разводить плодовые деревья. Что ты улыбаешься? Самое благородное занятие — сажать сады для будущих поколений. Это мое твердое намерение, — он стукнул кулаком по столу. — Вот увидишь!
Воронов улыбнулся.
— А ты слышал, Андрей, чем, по словам очевидцев, вымощена дорога в ад?
— Слыхал, да не очень верю. Где они, эти очевидцы, когда оттуда не возвращаются? Ну, кроме шуток — едешь со мной? Поверь, я тебе друг. Это сейчас наилучший для тебя выход.
Воронов молчал. «Что тебя держит?» — спрашивал он сам себя и не мог ответить, но что-то держало его, это он чувствовал своим внезапно сжавшимся сердцем.
Он сидел, низко опустив голову и положив на стол большие, тяжелые руки. Потом он поднял глаза и твердо встретил трезвый, чуть насмешливый взгляд товарища.
— Ну что ж, пожалуй, ты прав, — проговорил он, медленно выговаривая слова. — Надо начинать жизнь заново. Ладно, Андрей, по рукам!
Тот рассмеялся:
— Молодец! Наконец-то договорились. Только не откладывай, бога ради. Завтра же собирай свои бумаги и приходи ко мне в управление. А с твоим заводом мы уладим, это предоставь мне.
— Хорошо, — сказал Воронов. Он встал и с улыбкой посмотрел на сидящего против него человека. — Уговорил все-таки! Ну, а теперь я пошел. Черт знает, как поздно.
— Да куда ты пойдешь? Ведь уже и трамваи не ходят. Оставайся, переночуешь. Я тебе сейчас постелю.
Наутро, очень рано, Воронов медленно шел по пустынной улице.
Уже рассвело, но день обещал быть пасмурным.
Воронов завернул за угол и подошел к парадной, перед которой толстая дворничиха подметала тротуар. Увидев его, она перестала мести и сказала, понимающе улыбаясь:
— С добрым утром вас.
— С добрым утром, — ответил Воронов.
— А Катька-то небось полночи здесь простояла. Ревнует! — И она рассмеялась с видимым удовольствием.
Воронов резко остановился. Потом, ничего не ответив, быстро вошел в парадную.
Когда он вошел в комнату, там еще было полутемно. Катя легла не раздеваясь, прямо поверх одеяла на постланный на ночь диван. Сейчас она крепко спала, закутавшись в платок. Воронов подошел к дивану и, нагнувшись, несколько секунд пристально смотрел на бледное Катино лицо. Потом он выпрямился и, постояв немного, направился к своей кровати, на ходу бросив на стул ушанку и расстегивая шинель. Тут он остановился. Над его кроватью, аккуратно пришпиленный кнопками, висел большой детский рисунок. Бурное море. По вспененным волнам кильватерной колонной идут корабли. Небо плотно забито облаками и птицами. На широкой рамке, украшенной якорями и флагами, было крупно написано: «От Сережи». У буквы «и» наклонная палочка шла не в ту сторону, — как у латинского «эн».
Воронов подошел ближе и долго рассматривал рисунок.
Медленно застегнув шинель, он взял со стула ушанку и тихо, стараясь не шуметь, снова вышел из комнаты.
Бритоголовый толстый человек, у которого ночевал Воронов, брился, поставив маленькое зеркало на тот же, еще не убранный стол.
Когда раздался телефонный звонок, он не спеша вытер лицо, подошел к письменному столу и снял трубку.
— Да? — спросил он отрывисто. — А, это ты? Куда же ты делся в такую рань? А я тут кофе варю. Что?! Да ты с ума сошел! То есть как не можешь? Почему это вдруг не можешь? Да что случилось, в конце концов?
Воронов, стоя в уличной телефонной будке, говорил смущенно:
— Ничего не случилось. Но, поверь мне, Андрей, я действительно не могу отсюда уехать.
Там, на другом конце провода, энергично и крепко выругались и с силой хлопнули трубкой. Воронов помедлил немного, потом тоже опустил трубку. Задумчивая, смущенная, чуть насмешливая улыбка застыла на его лице. Так он и стоял улыбаясь в тесной уличной телефонной будке.
33
Через два месяца, в конце мая тысяча девятьсот сорок шестого года, Воронов, Катя и Митя вышли с перрона Финляндского вокзала на заполненную народом привокзальную площадь.
Природа, такая жестокая к ленинградцам в военные годы, сейчас отдавала им все сполна — тепло летних дней, мирный покой ночи, шелест листвы, рокот моря, аромат лугов, пенье птиц. Неблагодарных не было — каждая цветущая ветка, каждая птичья трель принимались с изумлением и радостью.
Весь май в окрестных лесах куковали кукушки — так долго, так нежно, обещая каждому долгую жизнь. И усталые люди, улыбаясь, закинув голову к молодой листве, прислушивались к обещаниям, которые, голосом невидимой птицы, давала им природа. А они знали это и сами: да, будут жить долго, никогда не умрут. Каждый, кто вышел живым из испытаний этих страшных лет, чувствовал себя теперь неуязвимым для боли, для смерти, даже для душевных страданий. Жизнь, лежащая впереди, казалась бесконечной и полной счастья.
Сейчас, поздним вечером, они возвращались домой, в Ленинград.
Часы на здании вокзала показывали половину двенадцатого, но было еще совсем светло — безоблачная белая ночь. Чудесный день, полный тепла и света, все длился, и постепенно становилось ясно, что эти запоздавшие сумерки незаметно снова переходят в день. И что ночи не будет вовсе.
Ярко освещенный трамвай, пронзительно звеня, подошел к остановке, и прихлынувшая толпа со смехом и шутками взяла его штурмом.
— Пойдемте немного пешком, — сказала Катя. — Чего нам давиться. Через четверть часа пустые пойдут, мы и сядем.
— А ты не устала? — спросил Воронов.
— Нет.
— А ты, Сережа? — он обернулся к мальчику.
— Нисколечки!
— Ну что ж, тогда пошли.
Они вышли из толпы и не спеша пошли по направлению к Литейному мосту.
На мосту, несмотря на позднее время, все еще было очень оживленно. Прошел освещенный трамвай, одна за другой проносились машины — и люди, веселые люди шли легко и свободно по этому широкому мосту.
Воронов посмотрел вокруг. Как их много! И какую братскую нежность питает он сейчас к каждому из них. Та тонкая, невидимая, но ощутимая стенка, которая отделяет знакомых от незнакомых, родных от чужих, — неужели она возникнет снова? Сейчас ее не было, это он знал наверняка.
Чугунная решетка моста казалась совершенно черной — нереиды, дельфины, гербы. Великолепное кружево, сквозь которое просвечивает тусклое серебро воды. И мимо этой пышной решетки медленно идет светловолосый мальчик, худенький, легкий, одетый в белую матроску; его тонкий профиль точно светится на ее темном фоне. Воронов вел его за руку. Маленькая рука ребенка совсем потонула в его широкой ладони.
По обе стороны моста простиралась широкая гладь Невы. Там вдали, в прозрачном сумраке, бесконечно раздвигавшем границы пространства, угадывалось Ладожское озеро, болота, леса, дороги, а в другую сторону — Петергоф, Кронштадт, и форты, и открытое море. Город лежал, привольно раскинувшись на плоских своих островах, вытягивался, дышал, расправлял онемевшее тело. И этот призрачный, бледный, удивительный свет белой ночи был подобен улыбке.
Неужели действительно было время, когда мы задыхались здесь в кольце блокады? Когда даже Стрельна и Пулково были так недоступны, так далеки, словно находились на другой планете? Сейчас все было близко. Казалось, стоит потянуться — и, глядишь, дотронешься до Кавказских гор, зачерпнешь воду из Тихого океана.
Невысокие дома набережной еще сохранили свою военную камуфляжную раскраску. Серебристо-черные, пятнистые, странные, они казались сейчас причудливой декорацией какого-то необычайного празднества.
На набережной было много народа. Люди шли группами, парами, в одиночку. Старые и молодые, одни — полные воспоминаний, другие — полные надежд, ленинградцы брели не торопясь, опьяненные белой ночью, волшебством, которое повторяется каждый год и все же каждый год опять оказывается чудом.
Как легко идти по этим гранитным плитам, как четко звучат шаги. Воронов положил руку на широкий парапет набережной. Или ему это только кажется, что камни все еще сохраняют дневное мягкое тепло?
— Дай закурить, браток! — Немолодой моряк стоял перед ним, широко улыбаясь. Воронов вынул пачку «Беломора» и зажег спичку. Моряк нагнулся и привычным движением прикрыл ладонью вспыхнувший огонек, хотя нужды в этом не было, — теплый воздух был неподвижен и тих.
Катя облокотилась на теплый гранит и задумчиво следила за маленьким, ярко освещенным пароходиком, медленно скользившим по светлой воде.
— Пошли? — спросил Воронов.
Катя ничего не ответила, улыбнулась и взяла Митю за руку. На полукруглой каменной скамье, мимо которой они проходили, были рассыпаны мелкие белые цветы, словно сам камень вдруг пророс ими в эту удивительную ночь.
— А это Летний сад, я знаю! — встрепенулся Митя.
Воронов вздрогнул, повернул голову и увидел перед собой темную массу Летнего сада.
— Я сюда приходил зимой, я знаю, — быстро говорил Митя. — Тут памятник с вороной и лисицей.
— Да, — сказал Воронов, — это здесь.
Они перешли на другую сторону и остановились у ворот. Воронов взялся обеими руками за чугунные брусья решетки. Не отрываясь, с бесконечной отрадой смотрел он в этот мягкий полумрак. Белые тела статуй словно излучали свет среди густой тени деревьев. «Так вы опять вернулись сюда, — думал Воронов с волнением и радостью. — Правда ли, что вы лежали в земле все эти страшные годы?»
Широкие аллеи уходили вдаль, постепенно теряясь в сумраке сада. Двое — девушка в белом и юноша в военной одежде — медленно шли обнявшись по опустевшей аллее. Шли так легко, почти не касаясь земли, не отбрасывая теней.
— Давайте пойдем сюда. — Митя тихонько потянул Воронова за рукав.
— Скоро двенадцать, дружок, сейчас закроют ворота. Мы еще придем с тобой сюда, много раз придем, вот увидишь!
А впереди пели. Там, у горбатого мостика, несколько подростков танцевали на мостовой. И весь город вдруг показался Воронову одним обширным домом, где большая семья справляла сегодня какой-то семейный праздник. Да разве не были они теперь действительно одной большой семьей, эти ленинградцы, пережившие здесь блокаду? Разве не связала их навсегда общность воспоминаний? Если воспоминания школьных лет, такие обычные, такие простые, связывают иногда людей на всю жизнь, то какой кровной, нерасторжимой связью должны стать общие воспоминания этих страшных лет? Все было у нас общее — наши страдания и наши радости, наши страхи и наши надежды, наша борьба и наша победа.
Могилы и те у нас общие. Где похоронен твой муж? А твой брат? Твоя мать? Говорят, на Пискаревке рыли траншеи, там они и лежат. Рядом — и солдаты, и дети. Может, когда-нибудь в такой же майский день все мы придем туда и будем вместе плакать.
За нее дорого заплачено, за эту общность. Так неужели мы когда-нибудь откажемся от нее? Мы, которые выдержали все и остались живы, неужели мы изменим когда-нибудь этим воспоминаньям?
Неужели, узнав истинную цену хлеба, мы унизимся до того, что будем гоняться за роскошью? Неужели, пройдя через этот ад, мы когда-нибудь струсим, не посмеем вступиться за друга? Неужели мы, постоянно жившие едиными помыслами со всей страной, замкнемся в своей тесной квартирке, перестанем говорить «мы»?
Молодежь танцевала под высоким бледным небом на исцарапанной осколками снарядов мостовой.
— «Под этот вальс весенним днем любили мы подруг», — тихо подпевала Катя, и Митя подхватил знакомый ему напев ясным детским голосом.
Вода Лебяжьей канавки была неподвижная и светло-зеленая, как нефрит.
В темном доме на углу во втором этаже светилось открытое окно. Из этого окна вырывалась музыка. Ей было тесно в четырех стенах, она рвалась наружу, на улицу, на набережную, на широкий простор Невы. Был ли это танец? Быть может. Но в таком случае — здесь танцевали миллионы. Целые народы, целые страны. Не бездумное веселье, а светлая общая радость объединяла танцующих в их стремительном движении.
Но временами сквозь этот радостный танец прорывались фразы, полные печали. Внезапные паузы прерывали музыку, словно те, что танцевали там, на зеленых лугах, покрывавших целые континенты, вдруг останавливались, охваченные грустными воспоминаниями. Но радость была такой сильной, такой общей, что она побеждала все горести и сомнения. Танец продолжался, все более стремительный, и наконец над этим вихрем трижды пропели ликующие трубы.
Наступила тишина. Спокойный голос диктора проговорил негромко: «Мы передавали седьмую симфонию Бетховена. Радиопередачи окончены. Спокойной ночи, товарищи».
Катя подняла голову и тихо сказала, улыбаясь:
— Спокойной ночи.
И, словно в ответ на ее слова, окно внезапно погасло. В его бархатно-черном квадрате легко колыхалась полузадернутая занавеска.
— Седьмая симфония? — пробормотал Воронов с глубоким недоумением.
Невысокий стройный человек, который тоже, слушая музыку, стоял рядом с ними под окном, быстро обернулся.
— А почему это вас удивляет?
— Седьмая симфония? — снова повторил Воронов. — Но она ведь такая печальная, я же помню…
— Печальная? Почему же… а, вы, очевидно, имеете в виду знаменитое аллегретто? Да, это действительно очень скорбная вещь, но симфония в целом, — он рассмеялся и закончил с торжеством, — симфония написана в мажоре!
И вот он уже отошел от них, идет вдоль Лебяжьей канавки, негромко напевая тему финала и словно дирижируя невидимым оркестром легкими движеньями руки.
С Кировского моста, позванивая, быстро приближался трамвай.
— Может, сядем? — спросил Воронов.
— Я не устал! — быстро ответил мальчик.
— Давайте пройдем через Марсово поле, — предложила Катя, — а там видно будет. Такая чудная ночь. Бог с ним, с трамваем!
Очевидно, все в эту ночь рассуждали так же, — трамвай шел совершенно пустой.
Зато на Марсовом поле на каждой скамейке сидели люди.
Двое мужчин, один военный, другой в штатском, оживленно разговаривали, перебивая друг друга. «А помнишь, на Невской Дубровке», — говорил один, и в быстрой, сбивчивой речи повторялось снова и снова: «А помнишь?»
«Однополчане», — подумал Воронов.
Какой благодатный покой царил сейчас над этим обширным пространством, погруженным в мягкий сумрак ленинградской белой ночи! К густому аромату сирени примешивался тонкий запах молодой травы.
«Спокойной ночи, люди, — думал Воронов. — Спокойной ночи, улицы и площади, бульвары и сады. Пусть никогда больше не нарушат ваш покой рев бомбежек и грохот обстрелов, пусть не облетает листва ваша от взрывной волны».
Высокий моряк в расстегнутом кителе медленно шел им навстречу. Голова его была закинута к бледному небу, и он декламировал вслух: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья…»
Воронов и Катя, улыбаясь, проводили его долгим взглядом.
Когда они проходили сквозь гранитное каре надгробий, Воронов остановился. Он не стал читать всю эту надпись, так хорошо знакомую ему с детства. Только последнюю строку:
НЫНЕ ПРИМКНУЛИ СЫНЫ ПЕТЕРБУРГА
Они перешли мостик с решеткою Росси и пошли вдоль Михайловского сада, тихого и таинственного, как незнакомый лес.
34
На Невском было оживленно и почти светло. В этом ровном свете, не отбрасывающем теней, Невский казался просторней и шире, и было что-то торжественное и праздничное в отсутствии суеты в медленном и ленивом движении толпы.
— Вот здесь убили Марью Димитриевну, — тихо сказала Катя. — Первого мая ее убили. Она всю ночь дежурила в госпитале, а утром пошла домой. А они стреляли весь день по людным местам, где побольше народа. Снаряд разорвался как раз на перекрестке, и два осколка в нее попали — в голову и в грудь. Вы помните Сеню Покровского, хромого, который в аптечке работал? Он с нею шел. Тут на углу он с ней попрощался и пошел к Литейному, а она стала переходить Невский, и в это время ударил снаряд. В тот день и Антон Иваныча ранило, нашего управхоза. Он по Сенной шел. Но ему только руку поранило, а ее убило сразу.
«А вам что пожелать? — вспомнился Воронову негромкий женский голос. — Если смерти, так мгновенной, если раны — небольшой?»
— Я помню, — сказал Митя серьезно, — она мне конфеты посылала.
— Она очень была добрая, — продолжала Катя. — Она строгая была, но очень добрая. Она каждый раз из своего пайка мне что-нибудь давала для Сережки — то масло, то конфеты. А осенью она мне ботики свои отдала и пальто, она ведь в военном ходила. Ее и убили в шинели, как солдата.
Они стояли посреди Невского, как у открытой могилы. Катя смотрела вниз, себе под ноги, на серый асфальт, словно здесь все еще лежало мертвое тело одетой в шинель женщины, которую они звали «Марья Димитриевна», и «доктор», и «товарищ майор».
Небо светлело понемногу. Его бледный свет отражался в окнах Публичной библиотеки. На гранитном цоколе огромных угловых колонн Гостиного двора сидел, покуривая самокрутку, коренастый человек в расстегнутой на груди почти добела выцветшей гимнастерке. Он сидел, прислонившись спиной к колонне, широко расставив ноги и положив на колени большие темные руки, — сидел так спокойно и удобно, словно вышел под вечер покурить на завалинке у своего дома.
— Как живете, земляки? — крикнул он громко и весело.
— Хорошо, — ответила Катя серьезно, — очень хорошо.
— Вот и отлично, — сказал человек и засмеялся.
В ночной прозрачной тишине каждый звук был отчетливо слышен. Над их головами, за балюстрадой второго этажа, зашевелился и внезапно заворковал разбуженный их голосами голубь.
А когда он затих, впереди, в аркадах Гостиного двора, запел низкий мужской голос: «Ленинград мы не сдадим, моряков столицу…» Поющего не было видно, только голос его, негромкий, но спокойный и уверенный, двигался там, за широкими арками; и Митя, внезапно встрепенувшись, выпрямился, высоко поднял голову и закричал с волнением и тревогой: «Ты помнишь? Катя, ты помнишь? Мы это пели!»
Катя кивнула головой, и они тоже запели — громко, в полный голос, отчетливо выговаривая слова: «Ленинград мы не сдадим, моряков столицу…» Их звонкие голоса уверенно вторили невидимому певцу, который словно вел их за собой, уходя все дальше и дальше под гулкими аркадами Гостиного двора.
«Да, мы не отдали тебя, — подумал Воронов, и что-то перехватило ему горло. — Ленинград. Город Ленина. Никогда фашисты не топтали твоих мостовых своими сапогами, никогда их лозунги и приказы не пачкали твоих стен! Какие гордые лица сейчас у этих детей. Они гордятся по праву. Потому что те, что жили тогда здесь, в блокадном Ленинграде, помогли нам его отстоять. Своим трудом и своим единством. Своим терпением и своей надеждой. Нет, вернее, — в обратном порядке: надеждой и терпеньем; ведь надежда, именно она, рождала терпенье, великое терпенье, которого хватило на девятьсот дней. Надежда делала человека неуязвимым. Теряя надежду, человек терял все.
Песня кончилась. Они так и не увидели того, кто пел там, под аркадами; возможно, он ушел по Перинной линии.
Теперь стало заметно, что Митя очень устал. Воронов снова взял его за руку.
Улица была безлюдна и светла.
35
— Посидим здесь, на бульварчике, — сказала Катя, — Сережа совсем спит.
До дома было рукой подать, но они сели на низкую скамейку, лицом к воде. Они были совсем одни на маленьком бульваре, идущем вдоль канала. Здесь было так светло, что Воронов различал даже отдельные листья на кусте, растущем около скамейки, видел, как качается под легким предрассветным ветром молодая нежная трава.
Мальчик спал у него на руках. Катя, закинув голову, смотрела на застывшие в прозрачном небе облака.
Воронов долго глядел на ее задумчивое лицо. Потом он вздохнул и отвернулся.
На той стороне канала, в листве старого тополя, вдруг зачирикала какая-то птица. Но никто ей не ответил, и она снова затихла. Наступившая тишина казалась теперь еще глубже.
— Катя, — вдруг неожиданно громко сказал Воронов.
Катя посмотрела на него с изумлением и тревогой. Но он не глядел на нее. Нахмурившись, он упорно смотрел перед собой, на черную чугунную решетку канала.
Потом он сказал очень тихо, странно охрипшим голосом:
— Катя, помнишь, ты сказала мне когда-то там, на пустыре, что человеку не так уж важно, любят его или нет, а главное — это, чтобы самому ему было кого любить. Ну вот, — я люблю тебя. Но что же мне делать, что мне делать, — повторил он с каким-то горестным недоумением, — если я так смертельно, так нелепо хочу, чтоб меня любили в ответ!
Он резко обернулся. Лицо ее было спокойно, даже строго, темные глаза глядели на него в упор, когда она проговорила совсем тихо, почти шепотом:
— Я люблю вас с первого дня, с того самого дня, когда вы дали нам хлеб.
И вот они снова идут рядом по пустому, тихому бульвару. Воронов несет Митю на руках. Голова мальчика совсем запрокинулась, и Воронов остановился, чтобы устроить его получше.
Катя сказала задумчиво:
— Не помню, я говорила вам когда-нибудь, что Сережа мне не родной?
Он спокойно ответил:
— Эх, Катюша! Чего уж тут считаться, свои ли, чужие ли. Все мы породнились общим горем.
Голова ребенка доверчиво покоилась на его плече, маленькая нежная рука легла на ворот военной гимнастерки.
Небо постепенно становится ярче. Облака уже совсем золотые. Первые лучи солнца мягко озаряют треугольный фронтон старинного дома, спускаются ниже, скользят по облезлой стене и наконец освещают окно, на стеклах которого детской рукой нарисованы волшебные кружева.
Птицы. Листья. Цветы. Корабли.

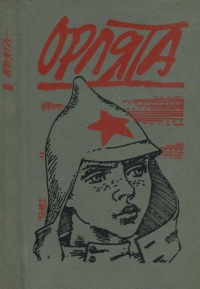
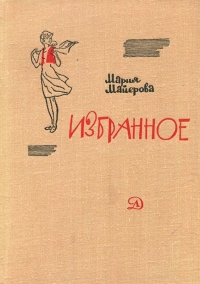







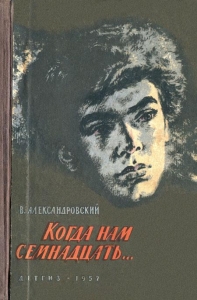

Комментарии к книге «Седьмая симфония», Тамара Сергеевна Цинберг
Всего 1 комментариев
Ангелина
06 ноя
Мне кажется, должно быть седьмая симфония Шостаковича, а не Бетховена?