Настоящая деревенская баба
Родители у Фроси, конечно, были. Но были они… ну, в общем, не здесь, не в Папаново, а где-то далеко. По этому поводу она часто говорила:
— Живу в Папаново, а папы нет! Ну и ну!
Родители у нее были теоретически. Они работали геологами и любили геологию намного больше своей дочери. Во всяком случае, так думала Фросина бабушка Аглая Ермолаевна.
Ее очень сердило, что сын и его жена по полгода пропадают в командировках. Поэтому когда они собрались в очередную экспедицию, старуха проводила их словами:
— Езжайте, и чтобы я вас больше не видела!
Хотя родители, следуя совету бабушки, уехали, она их все-таки иногда видела. На фотографиях, приходивших с разных концов Земли. Папа с мамой там были изображены то на фоне песчаной пустыни, то на фоне снежной, то на фоне сибирской тайги.
— Вот они, твои родители, — говорила Аглая Ермолаевна, показывая Фросе фотографии. — Так что ты не сирота!
— Вот они, мои родители, — говорила Фрося, показывая карточки в школе, которая находилась в соседней деревне Полево. — Так что я не сирота. Поняли?!
Правда, родители на карточках были так увешаны всяким геологическим оборудованием, что понять, где кто, было невозможно. Для этого возле каждой фигуры стояли специальные стрелочки с надписями «папа» и «мама».
— Они исследуют земную кору, — объясняла Фрося одноклассникам.
— У земли не бывает коры, — сказал троечник Жмыхов. — Только у дерева.
— Бывает, — возразил отличник Петухов. — Она бывает даже у мозга.
— Это только у всяких дураков, — ответил Жмыхов, — которые мало думают. А у тех, кто шевелит извилинами, все в порядке.
Сам-то Жмыхов при этом шевелил извилинами не очень и не вылезал из двоек и троек. Учитель называл его «закоренелым». Но правильнее было бы про него сказать: «естественный». Жмыхов считал, что зубрить задания, как Петухов, ниже человеческого достоинства и что знания должны приходить в голову естественным путем. Поэтому, если он не понимал задачу или упражнение, то никогда не бился над их решением, а шел, например, с отцом на рыбалку.
Фрося была по успеваемости второй после Петухова. И это неудивительно, потому что весь класс состоял из трех человек. Больше в окрестных деревнях детей школьного возраста не было. Причем из них в Папаново жила только Фрося, и, конечно, для нее одной никто там школу строить бы не стал. Какой смысл строить школу, если ее придется закрывать, когда Фрося окончит одиннадцатый класс? Так что каждое утро ей приходилось ездить на велосипеде в деревню Полево, где жило целых два ученика и стояла старая школа. А еще у Жмыхова имелся младший брат четырех лет. Так что у Полевской школы было надежное будущее.
От родителей младшей Коровиной передалась сильная любовь к земле. Поэтому Фрося как приходила из школы, сразу шла в огород, грядки полоть или навоз раскидывать. Раньше она это делала вместе с бабушкой. Но у Аглаи Ермолаевны была «спина», что понятно в ее возрасте. А у Фроси «спины» не было. То есть, была, но здоровая, что, опять же, в ее возрасте понятно. В результате Фрося иногда так увлекалась раскидыванием навоза, что забывала уроки сделать. Тогда учитель Петр Сергеевич просил бабушку через Фросин дневник, чтобы та повлияла на внучку. А бабушка через дневник же отвечала, что главное для человека из деревни — не знания, а труд, и что она сама уже восьмой десяток лет живет по этому мудрому правилу. А всяким «дохлым интеллигентам», вроде ее сына и его жены, место в городе, а то и где подальше. Бабушка всегда говорила, что хочет сделать из Фроси настоящую деревенскую бабу. И Аглае Ермолаевне это с блеском удавалось. Она хотела передать свое хозяйство в надежные молодые руки.
Однажды, проводив внучку в школу, она вышла в огород, чтобы с удовольствием подергать свеклу. Согнуться-то Аглая Ермолаевна согнулась, а разогнуться не смогла. Так и простояла до обеда, пока Фрося не вернулась из школы.
Сначала Фрося подумала, что у них в огороде вырос необычный овощ. Но разобравшись, что к чему, она решила вылечить Аглаю Ермолаевну народным средством, которых у Фроси, как и у всякой деревенской бабы, было с избытком. Она тихо подкралась к бабушке сзади и так закричала, что во всей деревне залаяли собаки. Но испытанное средство не помогло — старуха как стояла, так в согнутом виде и упала в свеклу. А Фросе снова пришлось ехать в Полево, потому что единственный на всю округу доктор жил именно там.
Пролежавшую два часа на грядках Аглаю Ермолаевну отнесли в дом и кое-как разогнули. Доктор прописал ей всякие мази, но сказал, что в общем и целом она «крепкая старуха». Однако, как ни ныла бабушка, в огороде работать он ей запретил.
Когда доктор ушел, Аглая Ермолаевна сказала Фросе, что прожить без земли долго не сможет и с того дня стала развлекать себя тем, что подыскивала место для могилы. Бабушка мечтала, что наконец скоро настанет время, когда она сможет жить в своей любимой земле. Если, конечно, смерть можно назвать жизнью. Вообще, по мнению Фроси, бабушка в прошлой жизни была кротом.
Аглая Ермолаевна примеряла на себя места для могилы, как примеряют платья, и вконец замучила Фросю. То похороните ее у леса, то у речки, то на горке, откуда видно озеро, будто бабушка собиралась на него глядеть из могилы. В конце концов, она потребовала похоронить себя прямо в огороде, которому отдала столько сил. Но Фрося ответила, что это неудачное решение, поскольку могила отберет место у свеклы и огурцов. В результате бабушке пришлось отказаться от этого заманчивого варианта.
Впрочем, Аглае Ермолаевне и дома было чем заняться. Дело в том, что они с Фросей жили в памятнике. Не в статуе, конечно, а в памятнике зодчества. На нем даже висела табличка с надписью: «Жилой дом зажиточного крестьянина Федора Коровина. Начало 19 века». Дом был трехэтажный и очень красивый. Но от него постоянно что-то отваливалось, и бабушке приходилось прибивать все это назад.
Фросе вообще-то нравилось жить в памятнике, хотя кроме отваливающихся частей были и другие неудобства. Например, их дом постоянно фотографировали туристы. Сколько раз такое было: едва проснувшись, выйдет Аглая Ермолаевна на резной балкон посмотреть погоду, а ее раз — и снимут. Против того, чтобы снимали дом, бабушка ничего не имела, но попадать на фотографии в ночной рубашке совсем не хотела. А однажды корреспондент какого-то крупного издания сфотографировал, как бабушка с развевающейся шалью на плечах бежит в летнюю уборную.
После этого Аглая Ермолаевна стала местной знаменитостью, потому что ее снимок напечатали в журнале рядом с фотографиями кинозвезд. Бабушка некоторое время про это не знала, поскольку выписывала только «Сад-огород». Но после того, как журнал передал Фросе ее одноклассник Жмыхов, Аглая Ермолаевна повесила на заборе собственноручно нарисованный значок с перечеркнутым фотоаппаратом. Правда, его через несколько недель закрыла малина, и дом снова начали снимать. А потом дело и вовсе дошло до того, что у Фроси взяли интервью.
Было это так. Фрося после школы выкапывала картофель, как вдруг ее подозвала к себе девушка городского вида.
— Здравствуй, девочка, — сказала она, когда Фрося подошла с лопатой к забору. — Как тебя зовут?
— Ефросинья, — ответила Фрося. — Только я не девочка.
— А кто же ты? — удивилась девушка.
— Настоящая деревенская баба. Понятно? — И Фрося ударила черенком в землю, стряхивая с лопаты налипшие комья.
— Понятно, — ответила девушка. — Видишь ли, я журналистка и хотела бы взять интервью у зажиточного крестьянина Федора Коровина. Он дома?
— Нет, — сказала Фрося, — его нет. Он умер.
Журналистка испуганно прижала ладонь ко рту.
— Что ты говоришь?! Давно случилось это несчастье?
— Лет сто пятьдесят назад, — ответила Фрося. — А сейчас тут живет его пра-правнучка.
— Это ты?
— Нет, моя бабушка. Я на два «пра» ее младше. Но сейчас ее тоже нет, она поехала на ферму договариваться насчет навоза.
— Тогда, может, ты мне расскажешь про дом и своего дедушку?
— Пожалуйста, — кивнула Фрося. — Об этих двоих я знаю все, что нужно.
Девушка записала на диктофон Фросин рассказ, а потом он появился в газете. Там же была напечатана ее фотография с лопатой на переднем плане и домом на заднем.
После этого Фрося стала второй местной знаменитостью. И вот именно со статьи в газете началась вся эта история с домом.
Принципиальный пьяница Никанор
Примерно через неделю, когда Фрося, наконец, выкроила немного времени для уроков и села на ажурное крыльцо с учебником математики, к ее забору подошел принципиальный пьяница Никанор.
Он утверждал, что ни одна деревня не может существовать без своего пьяницы и что, поняв эту истину, он взял на себя крест пьянства и собирается его нести до конца, надеясь на сочувствие земляков. Но сочувствия не было, было явное неодобрение, потому что в Папаново кроме него никто не пил.
— Ей, Фроська! — крикнул он, облокотясь для большей устойчивости на штакетник. — Тут в газете тебя с лопатой пропечатали! Давай, я тебе газету, а ты мне стольник на пузырь. Идет?
Фрося отложила учебник и подошла к забору. Посмотрев в красное, испитое лицо Никанора, она сказала, что без всякой газеты прекрасно знает, как выглядит. И что если он сейчас не уйдет, то она ему даст не стольник, а по шее.
Конечно, Фрося преувеличила — для того, чтобы дать Никанору по шее, ей пришлось бы подставлять табуретку. Но за эти слова он здорово на нее обиделся. Исполнившись самой черной злобы, он порвал газету и бросил ее в овраг, откуда она с ручьем попала в речку Тошню и поплыла к реке Вологде. А принципиальный пьяница пошел в церковь, которая была ровно на три года моложе дома Федора Коровина.
Как ни странно, Никанор являлся самым частым ее посетителем, если, конечно, не считать служившего в церкви отца Игнатия. Там Никанор подолгу стоял перед иконами и думал, что его так же как Иисуса не понимают соотечественники, но что после его смерти они одумаются и понесут его учение по свету. А то и причислят к святым. В общем, порядочный фантазер был этот Никанор.
Войдя в деревянную церковь, он снял кепку и подошел к алтарю. Несколько минут он бездумно стоял перед ликами святых. А потом вдруг развернулся, надел кепку и вышел наружу.
Удивительно, но именно в церкви он придумал, как отплатить Фросе. Если точнее, Никанор решил навести на нее порчу. Правда, сам он наводить порчу не умел, как не умел вообще ничего в своей жизни. Зато это наверняка мог сделать лесник Филимон, обитавший за рекой Тошней.
В Папаново лесника уважали, звали «дядей» и поговаривали, что он колдун. И для этого имелись основания. Во-первых, жил Филимон в глухом лесу совершенно один. Во-вторых, был у него медведь, который умел разговаривать. Конечно, разговаривал он кое-как, а по грамотности уступал даже естественному троечнику Жмыхову. Но все-таки это был единственный доподлинно известный говорящий медведь.
Приняв насчет Фроси твердое решение, Никанор выпросил у отца Игнатия лодку, переправился на другой берег и там привязал ее к специально вколоченному в землю столбику. На всякий случай пьяница подергал получившийся узел и, убедившись, что лодка не уплывет, направился в лес.
Тропинка сразу же ныряла от берега в темный ельник. Попавшему в хвойную прохладу Никанору стало не по себе. Иногда над ним начинал бить дятел или куковать кукушка. Тогда Никанор вздрагивал. Спрашивать кукушку, сколько ему осталось жить, он не рисковал. Пьяница боялся, что ничего хорошего в ответ не услышит.
Через пару наполненных страхом километров тропинка стала пошире. Ельник расступился, и Никанор оказался на жилом дворе.
Налево стояла большая крепкая изба, направо — сарай с поленницей. Сначала Никанору показалось, что на поленнице надета огромная шапка. Но вдруг «шапка» зашевелилась, и Никанор увидел медвежью морду. Пьяница уже хотел броситься назад, к лодке, но медведь зевнул, потряс головой и снова свернулся на дровах калачом.
Поняв, что есть его пока не собираются, Никанор облегченно вздохнул. Он потуже натянул на голову кепку и, не спуская глаз с медведя, бочком прошел к избе. Там он три раза стукнул пяткой в дверь.
Сначала в избе было тихо. Но потом что-то зашевелилось, и позади Никанора со скрипом открылась дверь. Повернувшись, пьяница увидел Филимона.
Для колдуна лесник выглядел вполне прилично — у него была аккуратно подстриженная борода и хорошо выстиранная рубаха. Филимон вытирал влажные руки полотенцем с вышитым на нем петухом.
— Чего тебе, Никанор? — спросил лесник.
Тут пьяница окончательно убедился, что старик — колдун. Ведь с лесником он никогда не виделся, и, значит, тот не мог заранее знать имя Никанора.
— Здравствуй, Филимон. — Пьяница почтительно снял кепку. — Ты можешь навести, эту… порчу?
Лесник сдвинул косматые брови.
— На кого это?
— На Фроську Коровину, — ответил Никанор и вдруг похолодел, потому что увидел на уголке Филимонова полотенца вышитое синими нитками слово «Фрося».
Тут же он вспомнил, что Аглая Ермолаевна и, стало быть, ее внучка приходятся дальними родственниками леснику, и пожалел, что не вспомнил об этом раньше.
— Ты, Никанор, не дури, — сказал Филимон и крикнул. — Эй, Герасим!
Медведь заворочался, пыхтя, слез с поленницы и лениво подошел к старику.
— Проводи-ка гостя до реки. — Лесник кивнул на Никанора. — Заодно на обратном пути ягод наберешь.
Подхватив пастью корзину, что стояла у избы, медведь головой подтолкнул обмершего Никанора в сторону Тошни. Тот повернулся, надел кепку и пошел вон со двора.
— И брось пить, Никанор! — крикнул вслед Филимон.
«Проклятый колдун! — думал Никанор, шагая с медведем к реке. — Все знает!»
Впрочем, для того, чтобы угадать в нем пьяницу, не нужно быть колдуном. Достаточно одного взгляда в дряблое и мешковатое лицо.
По дороге к Тошне он то и дело украдкой посматривал на медведя.
— Слушай, а ты правда можешь говорить? — спросил Никанор.
— Угу, — ответил Герасим, не выпуская корзины.
«Ага!» — подумал пьяница, и в его голове начал зреть новый план.
Когда они дошли до столбика с лодкой, этот план созрел окончательно.
— Давай так, — сказал Никанор, отвязывая веревку. — Ты съешь одну девочку, а я тебе за это дам стольник. Идет?
Медведь поставил корзину на землю, посмотрел на пьяницу и вдруг так страшно заревел, что на Никаноре подпрыгнула кепка. Он сначала присел, потом сиганул в лодку и бешено заработал веслом, окатывая себя холодной водой. В результате путь обратно он проделал в два раза быстрее, чем путь туда.
Проводив лодку взглядом, Герасим подхватил корзину и скрылся в ельнике.
А на Папановской стороне Никанора уже ждал отец Игнатий. Он собирался плыть в город, чтобы пополнить запас свечей — папановцы тратили их в церкви на удивление много. С трудом священник высвободил весло из рук перепуганного Никанора и сел в лодку. Оглядев оттуда мокрую фигуру принципиального пьяницы, он грустно покачал головой.
Никанор думал, что сейчас отец Игнатий тоже скажет ему, чтоб он бросил пить. Но священник лишь вздохнул, оттолкнулся от берега и плавно заработал веслом, будто гладил им реку Тошню. А Никанор выжал воду из своей старой кепки и пошел домой.
Жил он на краю деревни, у дороги, в таком же плохо обустроенном, как и вся его жизнь, доме. Пройдя вечно раскрытую калитку и сени, куда Никанор непонятно для чего стаскивал со всей деревни разный хлам, он сел за неубранный после вчерашнего ужина стол.
Никанор немного посидел, раздумывая, а потом снял крышку со стоящей перед ним сковородки. Там пряталась муха. Увидев Никанора в мокрой кепке, она испуганно зажужжала и сломя голову полетела к окну. Пьяница проводил ее взглядом и подумал, что его никто не любит в этом мире, даже мухи. А Фросю любят все, поэтому наводить порчу на нее никто не станет. И тогда Никанор решил это сделать сам.
Он отодвинул сковородку, уперся локтями в стол и стал плохо думать о Фросе. Уж что-что, а нехорошо думать о людях Никанор умел. И постепенно над его неуютным домом с проржавевшей крышей и кривой трубой стало собираться едва заметное облако.
Как раз в это время по дороге шел местный кузнец Мелентий. Он возвращался из Полево, где работал по заказу. Увидев легкое облако над домом принципиального пьяницы, он нисколько не удивился, а только подумал, что Никанор затопил печь. Кузнец поежился, подумал, что теперь на улице действительно стало прохладнее, и пошел быстрее, мечтая о том, как придет сейчас домой и как жена накормит его горячим супом.
А облако повисело еще над домом Никанора, затем отделилось от кривой трубы и поплыло за кузнецом. Так оно миновало несколько домов, колодец и маленький сельский клуб, где по выходным пел местный хор под руководством отца Игнатия. Потом Мелентий свернул с дороги к своей избе, а облако, проплыв дальше, повисло над домом Федора Коровина. И никто в мире, увидев над высокой тесовой крышей чуть заметную дымку, не подумал бы, что на самом деле это черные мысли принципиального пьяницы Никанора.
Серое облако
Проснувшись следующим утром ровно в шесть часов, Аглая Ермолаевна как обычно первым делом вышла на балкон посмотреть погоду. Туристов, к счастью, не было. С холодами их вообще становилось меньше. Наверное, уезжали в Турцию и Египет.
С балкона на третьем этаже дома было видно почти все Папаново. Оно показалось Аглае Ермолаевне каким-то съеженным и нахмуренным. В такие дни его хотелось приласкать и накормить чем-нибудь вкусным. Только церковь стояла по-прежнему прямо и утыкалась головой в затянутое тучами тяжелое небо, словно не давала ему опуститься еще ниже. Потом Аглая Ермолаевна посмотрела в пространство над домом и увидела прямо над собой небольшое серое облако.
«Дождь будет» — подумала она и решила сегодня одеть Фросю потеплее.
Зябко кутаясь в шаль, старушка вернулась в светелку. В тот же самый момент в облаке что-то треснуло, сверкнула серая молния, и от крыши отвалился «конек». Переворачиваясь, он пролетел сквозь то место, где только что стояла Аглая Ермолаевна, сбил угол у деревянного козырька над крыльцом и воткнулся ушами в землю.
Ничего этого, однако, не заметив, хозяйка дома стала будить Фросю. Перечислив вещи, которые той надлежало надеть, так что получился целый гардероб, старуха отправилась в подклет на первом этаже, жарить оладьи. Фрося же полежала еще минуту в постели, но затем встала и хмуро посмотрела в окно. Если и вправду начнется дождь, на велосипеде уже не поедешь. Тогда придется топать до Полево шесть километров пешком, а потом еще столько же назад.
Нет, Фросе вовсе не тяжело было ходить до Полево. Она могла бы легко пройти туда-сюда несколько раз кряду. Просто дорога была ужасно скучной и шла между аккуратно разлинованных плугами полей, где к тому же сейчас уже ничего не росло.
Фрося со вздохом взяла расческу и тоже спустилась вниз. Заплетя русые волосы в две косички, она села за огромный стол. Затем придвинула к себе чашку с горячим чаем, макнула оладушку в сметану и стала завтракать, наблюдая за бабушкой.
При этом Фрося сонно думала, что вот живут они, две деревенские бабы, в прекрасном большом доме и никакие родители им не нужны. Пусть сколько угодно изучают свою любимую земную кору. Так-то вот!
Фрося отхлебнула еще чаю и обвела взглядом огромную кухню. Честно говоря, кухня тут, в подклете, появилась относительно недавно — лет шестьдесят назад. До этого на первом этаже находилась столярная мастерская, где работал сначала сам Федор Коровин, а потом его сыновья. И стол, за которым сидела Фрося, на самом деле был накрытым скатертью верстаком. А жили и кушали все тогда на втором этаже, в избе и в горнице. Причем Федор Коровин был настолько зажиточен, что поставил в доме сразу две печи: русскую, на которой можно спать, и «шведку», с железной плитой.
Продолжая жевать оладушки, Фрося размышляла о том, что, скорее всего, во времена ее прадеда «шведка» была таким же достижением техники, как сейчас микроволновка, и к нему, наверное, приходили соседи, подивиться на это чудо. Именно на небольшой «шведке» сейчас и готовила бабушка, а огромные русские печи на первом и втором этажах по большей части использовали для обогрева дома.
Фрося взяла еще оладушку, окунула в сметану и перевела взгляд с возившейся у плиты Аглаи Ермолаевны на русскую печь. По рассказам бабушки именно там, в печи, мылся Федор Коровин. Фрося много раз об этом думала, глядя в покрытое сажей печное нутро, но все-таки не могла себе представить, как он это проделывал. Насчет своего прадеда она не была уверена, а печка после этого наверняка становилась намного чище.
Допив чай, Фрося пошла одеваться в горницу на втором этаже, где старшая Коровина в свободное время рукодельничала, а младшая учила уроки. Там Фрося надела все перечисленное бабушкой и почувствовала себя чем-то вроде капусты. Решив, что по дороге непременно снимет одну-две кофты, она взяла рюкзак с учебниками и вышла во двор. Закутанная в шаль Аглая Ермолаевна, снова смотрела погоду.
— Наверное, все-таки, дождя не будет, — сказала она, — так что можешь ехать на велосипеде.
Фросю это замечание очень обрадовало. Обогнув дом, она вошла в большую двухэтажную пристройку, нижнюю часть которой называла «куровником», и выкатила старенький велосипед. Следом за ней из пристройки выбежала курица по имени Курица.
Хотя она выглядела значительно старше Фроси, на самом деле была намного моложе нее. Курицу когда-то подарил Фросе ее дальний родственник Филимон. А перед этим он научил птицу разговаривать. Правда, Курица оказалась не очень способной и говорила только два слова: «корошо» и «кошмар». Но Фрося считала, что для курицы и это очень неплохо. Ее огорчило другое — когда она рассказала про свой подарок в школе, учитель Петр Сергеевич ей не очень поверил. Честно говоря, он ей не поверил совсем. Он сказал, что курицы не могут говорить, поскольку у них для этого не приспособлен голосовой аппарат. Тогда на следующий день возмущенная Фрося привезла Курицу в Полево.
Войдя вслед за хозяйкой в теплый, светлый класс, она сказала: «Корошо!», а потом заглянула в дневник Жмыхова и произнесла: «Кошмар!». После этого Петру Сергеевичу пришлось переменить свою точку зрения на куриц. А Курице так понравилось кататься на велосипеде, что она стала ездить с Фросей в школу каждый день.
Только зимой ей приходилось оставаться в давно опустевшем коровнике, переименованным после ее появления в «куровник». Она там зимовала вместе с велосипедом, потому что дорога в Полево в это время становилась для него совершенно непроходимой.
А Фрося в такие дни, катясь в школу на лыжах, думала, что лучше бы Филимон научил Курицу не говорить, а летать.
Выбежав из куровника, его обитательница сделала круг по двору и весело вспрыгнула на багажник велосипеда.
— Ты в своей любимой школе не очень задерживайся, — сказала Аглая Ермолаевна, — надо дров наколоть. А у меня «спина».
— Ладно, ладно, — ответила Фрося и выехала вместе с Курицей в калитку.
Вообще-то, Фрося не могла сказать, что так уж любит школу. Но Аглая Ермолаевна любила ее еще меньше — она считала, что работа руками дает человеку намного больше, чем работа головой.
Закрутив педали быстрее, Фрося скоро миновала крайние дома деревни и, спустившись с горки, поехала мимо уже убранных полей.
А в это время кое-кто смотрел ей вслед из-за чуть приоткрытой двери и думал, что его порча что-то никак не начнет действовать. Однако этот кое-кто был не прав, потому что серое облако уже начало свое черное дело.
Сломанная нога
Проводив внучку, Аглая Ермолаевна хотела войти в дом, но тут заметила вонзившийся в землю конек.
«Опять двадцать пять!» — подумала она и посмотрела на бревно под названием охлупень, венчавшее скаты крыши.
Недовольно ворча, хозяйка дома поднялась в горницу, надела теплую юбку, куртку и снова вышла во двор. До места крепления конька было метров десять. Свое жилище зажиточный крестьянин Федор Коровин строил с размахом и над горницей поставил еще высокий чердак со светелкой.
Обойдя дом с задней стороны, крепкая старуха Аглая Ермолаевна поднялась по широкому взвозу на поветь, что находилась над куровником, и вытащила во двор длинную деревянную лестницу. Однако поднять ее самой к крыше не было никакой возможности.
— По такой лестнице можно и в рай забраться!
Обернувшись, хозяйка дома увидела отца Игнатия.
— Привет, — сказала Аглая Ермолаевна.
— Не забудь, что в субботу спевка хора.
— Да помню, помню. Помоги-ка лучше лестницу поставить.
Отец Игнатий вошел во двор и вместе с хозяйкой поставил лестницу под резное «полотенце», у которого соединялись скаты крыши. Аглая Ермолаевна сунула в карман молоток с гвоздями. Потом взяла подмышку деревянную конскую голову и забралась на первую перекладину.
— Давай-ка лучше я, — предложил отец Игнатий. — А то не дай Бог упадешь. Что без тебя наш хор будет делать?
Для хора Аглая Ермолаевна, и правда, была незаменимым человеком. Она брала такие басы, которые не мог осилить ни один мужик в деревне.
— Ты правильно не прибьешь, — уверенно сказала Аглая Ермолаевна и поползла вверх.
Добравшись до «полотенца», она посмотрела на землю. Сверху отец Игнатий выглядел совсем маленьким. Казалось, что ноги у него растут прямо из головы.
— Так ровно? — крикнула старуха, приставив конек к обломанному охлупеню.
— Прибивай! — заорал отец Игнатий.
Придерживая конскую голову плечом, Аглая Ермолаевна взяла гвоздь и замахнулась молотком. Тут же в сером облаке сверкнула молния, а под ногами старухи подломилась перекладина. Закричав басом, потрясшим все Папаново, хозяйка дома полетела вниз и мешком упала на землю. Перепуганный отец Игнатий подбежал к Аглае Ермолаевне. Хотя она лежала, не двигаясь, ей казалось, что внутри нее все ходит ходуном, а вместо левой ноги появилась раскаленная труба.
— Где болит? — спросил побледневший отец Игнатий.
— У меня вместо ноги труба, — прошептала Аглая Ермолаевна.
Священник сразу понял, что у нее сломана кость и побежал за соседом Милентием. Через пару минут они вернулись вдвоем. Увидев всполошенного, лохматого кузнеца с топором, Аглая Ермолаевна испугалась чуть не до смерти. Но топор нужен был ему только для того, чтобы сделать носилки.
Быстро соорудив их из лежащих у дома деревяшек, кузнец для мягкости положил сверху захваченное из дома одеяло и поднес носилки к пострадавшей. Затем вместе с отцом Игнатием он осторожно положил на них старуху.
Хотя Аглая Ермолаевна чувствовала ужасную боль, она даже не пикнула, потому что была настоящей деревенской бабой. Кузнец со священником взяли носилки и понесли к лодке у церкви. Звать доктора из Полево не имело никакого смыла — старуху надо было везти в больницу, где ей могли сделать рентген.
Аглая Ермолаевна глядела на проплывающие мимо избы и думала, что первый раз двигается по деревне в горизонтальном положении. Она, конечно, предполагала, что подобное с ней когда-нибудь произойдет, но что это случится еще при жизни, никак не рассчитывала.
Наконец мужики обогнули церковь, спустились к Тошне и аккуратно устроили носилки в лодке. Отец Игнатий с силой оттолкнулся веслом от берега, и лодка поплыла по направлению к Вологде.
Теперь Аглая Ермолаевна видела только хмурое небо. Глядя на него, она думала, что правильно одела Фросю в теплые вещи. Это главное. А еще она думала, сможет ли деревенский хор в воскресенье петь в клубе без ее нижнего голоса? О том же думал отец Игнатий и, как минимум, еще один человек, который стоял у церкви и смотрел на уплывающую лодку.
Удивительно, конечно, но этим человеком был принципиальный пьяница. Дело в том, что он тоже участвовал в хоре. Отец Игнатий взял туда Никанора, рассчитывая, что хор благотворно повлияет на него. Но поскольку пьяница имел отвратительный, испитый голос, петь ему запрещали, и во время концертов он просто молча открывал и закрывал рот.
Поначалу он даже это умудрялся делать неправильно, поскольку постоянно забывал слова. Тогда отец Игнатий посоветовал Никанору, чтобы тот во время выступлений просто произносил про себя: «Тридцать восемь, тридцать шесть». С тех пор дело пошло на лад — Никанор чинно стоял в последнем ряду и говорил свои «тридцать восемь, тридцать шесть», а все думали, что он поет с остальными. Эти выступления были теми редкими моментами, когда Никанор чувствовал себя полноправным членом общества, и он вовсе не хотел их потерять. Если бы он знал, что порча коснется концертов, то, может быть, вовсе не стал ее наводить.
Вздохнув, пьяница развернулся и пошел по деревне, выпрашивать у кого-нибудь стольник.
Старая школа
После первого же километра Фрося почувствовала, что ей жарко. Она остановилась, сняла куртку и запихнула ее в рюкзак.
«Этим бабушкам только дай, — подумала Фрося, — и они наденут на тебя все, что есть в доме!»
Курица, воспользовавшись остановкой, спрыгнула с багажника и подошла к распаханному полю посмотреть червяков.
— Эй, потом позавтракаешь! — окликнула ее Фрося.
Курица закричала: «Кошмар!», нагнала велосипед и взлетела на багажник.
К середине пути, когда распаханные поля под лен сменились очень похожими на них распаханными полями под картошку, Фрося проснулась окончательно.
«Велосипед — лучшее средство, чтобы взбодриться!» — подумала она и стала размышлять, почему они с бабушкой зовут дядю Филимона дальним родственником?
«Наверное, потому что он живет далеко в лесу, — решила Фрося. — Тогда мои папа с мамой — совсем дальние родственники. Седьмая вода на киселе».
Затем она стала мечтать, что когда-нибудь тоже поселится в лесу и станет жить там с Курицей, как дядя с медведем. И ее все тоже будут бояться. Правда, Курица совсем маленькая и не страшная. Но с годами она наверняка станет больше. И страшнее.
Но потом Фрося подумала, что настолько больших куриц она ни разу не встречала. Поразмыслив над этим обстоятельством, Фрося решила, что это даже хорошо, ведь большую курицу будет трудно возить на велосипеде.
За неровно лежащими полями то возникала, то исчезала Тошня. Потом она приблизилась к дороге, Фрося прогрохотала по деревянному мосту и въехала в Полево.
Школа находилась в первом от реки доме. Это была большая одноэтажная изба, которая строилась, когда в окрестных деревнях жило намного больше детей. Но теперь школа уже не могла занять все здание, поэтому вместе с ней в избе расположился детский сад с единственным воспитанником — четырехлетним Жмыховым и продовольственный магазин. Его продавщица одновременно работала воспитательницей и школьной поварихой.
Изба была сложена из толстых, некрашеных бревен, а дранка на крыше со временем стала топорщиться. От этого школа казалась какой-то лохматой, и Фросе ее все время хотелось причесать. Только она не знала, где взять такую огромную расческу.
Спрыгнув с велосипеда, Фрося прислонила его к крыльцу и поднялась к двери по скрипучим ступенькам. На крыльце стоял весь детский сад в лице дошкольника Жмыхова.
— Привет, — сказала Фрося, — звонок уже был?
— Не-а, — помотал головой Жмыхов. — А у меня во че есть, — он показал огромный болт от трактора.
— Здорово, — ответила Фрося.
Тут из двери вышла тетя Даша в белом халате и протяжно закричала: «Звоно-о-ок!».
Курица, завопив: «Кошмар!», испуганно слетела с крыльца. Но, увидев, что хозяйка входит в избу, закудахтала и бросилась следом.
Идя по коридору, Фрося думала, что школу очень удачно объединили именно с детским садом и магазином. Ведь и воспитатели, и продавцы, и повара работают в белых халатах, поэтому тете Даше не нужно постоянно переодеваться.
Между входами в детский сад и школу коридор украшала доска почета с пожелтевшей фотографией Петухова. Он появился здесь через месяц учебы в первом классе и своими успехами обещал провисеть на доске до самого выпуска.
Глянув на выцветший за два года портрет одноклассника, Фрося дошла до конца коридора и переступила порог школы.
Все уже были в сборе. За двумя первыми партами сидели Петухов и только что прибежавший, взлохмаченный Жмыхов, а за учительским столом — учитель Петр Сергеевич.
— Здравствуйте, — сказала Фрося, садясь за третью первую парту.
— Здравствуй, — ответил Петр Сергеевич. — Выгони, пожалуйста, птицу на улицу. А то Дарья Ивановна жалуется на испачканные полы.
Фрося открыла окно, выпроводила туда недовольно кудахчущую Курицу и снова села.
Учитель надел очки и с улыбкой оглядел класс.
Петр Сергеевич был очень молод. Ему не исполнилось и тридцати. Хотя ученикам он казался почти пожилым. Четыре года назад он выиграл областной конкурс на звание лучшего учителя, после чего отправился работать в глубинку. Однако, приехав в Полево, он обнаружил, что в местной школе нет ни одного ученика, а саму ее собираются закрыть.
Тогда на приписанной к сельсовету машине он объехал все окрестные деревни и нашел четырех дошкольников, включая Жмыхова-младшего. Потом он в перепачканных районной грязью сапогах со списком детей явился в сельсовет, ударил кулаком по столу и потребовал не закрывать школу.
На список и кулак Петра Сергеевича в сельсовете посмотрели с уважением и школу решили оставить. Выбив из начальства деньги на ремонт, учитель собственноручно выкрасил в школе все полы, залатал крышу и починил печь. А на следующий год в первый класс пришли Фрося, Петухов и Жмыхов. Младший брат последнего поступил в открывшийся при школе детский сад.
«Окружающий мир»
— Ребята, — сказал Петр Сергеевич, — начинаем урок «Окружающий мир». Конечно, это занятие следовало бы провести в лесу, как мы делали в прошлый раз, но погода не способствует.
Он поглядел в окно. Следом туда посмотрели ученики. За окном, под низким, хмурым небом, дошкольник Жмыхов показывал Курице свой гигантский болт.
— Да, не способствует, — повторил учитель, возвращая взгляд в школу и встречаясь им со взглядами учеников. — Поэтому сегодня мы поговорим не о нашем районе, а о всей планете. Но для этого нужно включить воображение.
У Фроси и Петухова воображение включилось сразу, а у Жмыхова с некоторым опозданием. При этом оно постоянно соскакивало с планеты на отцовский трактор, откуда брат-дошкольник, по-видимому, и выкрутил болт.
— Природе свойственно меняться, — заметил Петр Сергеевич. — Летом она одна, осенью другая…
Петухов поднял руку и, увидев кивок учителя, встал.
— Это называется сезонными изменениями, — сказал он.
— Правильно, — согласился Петр Сергеевич, — садись. Это изменения, которые мы можем увидеть. Но проследить, как природа менялась на протяжении миллионов лет нам не дано. Мы это можем только представить. — Учитель на секунду прикрыл глаза, видимо, тоже включая воображение. — В ходе ее истории возникали и исчезали самые разные животные: динозавры, саблезубые тигры, мамонты. А затем появился, — Петр Сергеевич встал, — человек.
Фросе представился первый человек, очень похожий на Петра Сергеевича, только без пиджака и очков.
— Очень долго люди жили в ладу с природой. Для добычи пищи и постройки жилищ они использовали собственную силу и домашних животных, что не могло нанести большого вреда Земле.
Учитель задумчиво прошелся перед школьной доской с картой мира.
— Но потом человек стал строить заводы, железные дороги и создал машину с двигателем внутреннего сгорания…
Почувствовав привычную тему, фантазия Жмыхова наконец заработала, и он вообразил самую первую машину, которая сильно смахивала на отцовский трактор. Причем в ней тоже не хватало одного болта.
Петр Сергеевич остановился и посмотрел в класс.
— Скажите, что удобнее лошадь или автомобиль?
— Конечно, автомобиль! — ответил Жмыхов. — Он может увезти намного больше людей.
— Нет, лошадь, — возразила Фрося.
— Почему? — поинтересовался Петр Сергеевич.
— Потому что она дешевле. Для автомобиля нужно покупать бензин, а лошадь, вон, выгнал на луг, и она бесплатно травой заправляется.
— Это так, — согласился учитель. — Но у автомобиля выше скорость, ему не нужен отдых и, как было верно замечено, он может перевозить более тяжелые грузы. Поэтому автомобиль все-таки удобнее.
Заметив, что учитель на него не смотрит, естественный троечник в знак победы показал Фросе язык.
— Но это только на взгляд человека, — продолжил Петр Сергеевич. — Дело в том, что и лошадь, и машина выделяют углекислый газ. Его, кстати, при дыхании выделяют и люди. Вот мы сейчас с вами разговариваем и выделяем углекислый газ.
Петухов, скосив глаза, недоверчиво посмотрел на свой нос.
— Но машина его производит намного больше, чем человек или лошадь. И этот газ уже непригоден для дыхания. Кроме того, машина вырабатывает другие вредные вещества. А ведь чтобы ее сделать, надо сначала добыть железную руду, потом выплавить разные детали. Необходимо построить дороги и стоянки. Все это наносит очень большой урон природе. Так что с точки зрения Земли лошадь все же удобнее.
Учитель снова посмотрел в окно. Дошкольника и курицы там уже не было. Теперь, воспользовавшись моментом, Фрося показала Жмыхову язык. Троечник перевел хмурый взгляд на учителя.
— Люди хотят жить в комфортных условиях. Поэтому, вооружившись машинами, они пошли в наступление на природу. За считанные десятилетия мы изменили облик планеты до неузнаваемости. Но дело в том, что человек очень сильно связан с окружающим миром. Из-за вырубки лесов становится меньше деревьев, которые поглощают углекислый газ и производят необходимый нам кислород. В результате углекислого газа накапливается столько, что планета уже не может его переработать. Из-за этого температура на Земле повышается. К настоящему моменту лед в Арктике растаял наполовину. А скоро он растает совсем, что приведет к сильным наводнениям. Океаны и моря затопят многие города, и миллионам людей придется перебираться на новые места.
Жмыхов сидел, открыв рот. Теперь его воображение работало на полную катушку. Естественный троечник хотел стать отважным арктическим исследователем и даже недавно написал на эту тему сочинение, за которое получил невиданную для себя четверку. А тут вдруг выяснилось, что когда он вырастет, Арктика, скорее всего, исчезнет, и, значит, исследовать будет нечего!
— Что же делать? — спросил он растерянно.
Петр Сергеевич вздохнул.
— Мне кажется, люди должны научиться жить скромнее. Не жечь лишнюю электроэнергию, не рубить без крайней надобности деревья. Покупать вещи, только когда они необходимы, а не менять их в погоне за модой. Это поможет сберечь ресурсы планеты и сохранить жизнь не только животных, но и человека. — Учитель внимательно оглядел свой немногочисленный класс. — А теперь пусть каждый из вас напишет, что он предлагает для сохранения природы.
Школьники открыли тетради и как один посмотрели в недавно покрашенный Петром Сергеевичем потолок. Жмыхов, не ограничившись этим, стал грызть колпачок ручки. Через минуту Петухов первым оторвал взгляд от пыльной лампы и, наморщив лоб, начал быстро заполнять тетрадный лист. Следом к спасению Земли приступила Фрося. А Жмыхов еще долго смотрел в потолок, пытаясь понять, можно ли спасти природу с помощью каких-нибудь особых тракторов или машин?
Он так напряженно думал, что ему показалось, будто он слышит гудение воображаемых моторов. Но мотор гудел на самом деле — это грузовик привез в магазин продукты.
За пятнадцать минут до конца урока дверь открылась, и вошла тетя Даша. Следом в классе возникли Жмыхов-младший с болтом и Курица.
— Петр Сергеич, посмотрите за ребенком, — попросила тетя Даша, — а то мне товар принять надо.
Учитель кивнул и подошел к дошкольнику. Курица на всякий случай спряталась за печку, где удобно устроилась на дровах. Петр Сергеевич взял Жмыхова-младшего за руку и, чтоб он не мешал ученикам, отвел за свой стол.
Оказавшись на месте учителя, дошкольник сразу стал серьезным. Он спрятал болт в карман и принялся строго оглядывать учеников, как бы прикидывая, кому какую оценку поставить.
Естественный троечник рассеянно посмотрел на брата за учительским столом и наконец начал писать. Петухов к этому моменту уже заканчивал третью страницу. За стеной что-то громко бухало — видимо, разгружали мешки с мукой и пшеном.
Минут через десять снова загудел мотор — это уезжал пустой грузовик. Затем в дверях появилась перепачканная мучной пылью тетя Даша. В руках она держала поднос со стаканами.
— Звонок, — сказала тетя Даша и пошла по классу, расставляя стаканы со сладким чаем.
Отец Игнатий
День в школе пролетел быстро. Последним был урок рисования, на котором рисовали Курицу. Петр Сергеевич сказал, раз она все равно сидит в классе, пусть немного поработает моделью. Правда, Курица из-за тепла то и дело засыпала, поэтому ее постоянно приходилось будить.
Сдав рисунки учителю, ребята вышли во двор. Взбодрившаяся Курица принялась исследовать оставленные грузовиком следы. Жмыхов сказал, что это был «Зил». А еще приезжает «Газель», но редко, потому что ехать по бездорожью, а у нее маленькие колеса.
Поговорив немного о грузовиках, Фрося и Петухов отправились по домам. Жмыхов оставался в продленке и помогал занятой в магазине тете Даше присматривать за братом.
Увлекшаяся следами Курица вдруг обнаружила, что Фроси рядом нет. Хлопая крыльями, она бросилась за хозяйкой и уже на мосту вспрыгнула на старый багажник. Велосипед с грохотом переехал на другой берег Тошни, а затем покатил между разлинованных, как тетрадка, полей.
На одном из них работал трактор. Он напоминал не очень аккуратно нарисованную двойку. Она медленно ползла по полю, выворачивая хвостом черную, тяжелую землю.
Через полчаса, когда впереди показался крест папановской церкви, Фрося остановила велосипед, достала куртку и влезла руками в теплые рукава. При этом Фрося, конечно, заботилась не о своем здоровье, а о бабушкином, чтобы та не очень испугалась, увидев внучку всего в трех кофтах. Курица во избежание новой погони за велосипедом благоразумно не покидала багажника. Вид у нее был очень довольный — не всякой птице выпадает честь целый урок быть моделью! Вернув себе правильный по мнению бабушки вид, Фрося взгромоздилась на сидение и снова закрутила педали.
Церковь постепенно наползала на нее, поднимаясь крестом к небу. Раньше Фрося думала, что крест держит бог, который сидит на церкви. И ей было его очень жалко, потому что из-за обязанности держать крест бог не мог укрыться от дождя, мороза и, наверняка, постоянно страдал насморком. Но потом Фрося вместе с отцом Игнатием поднялась на колокольню при церкви и увидела, что крест просто прибит гвоздями.
— А бог, — сказал отец Игнатий, — живет у каждого человека в сердце, — и добавил. — Если человек, конечно, в него верит.
Фрося в бога верила, но иногда она задумывалась, а верит ли бог в нее? Если нет, то это как-то невежливо с его стороны.
Поднявшись на горку, Фрося прокатила мимо дома пьяницы Никанора, мимо избы кузнеца и наконец въехала в свой двор.
На резном крыльце с деревянной конской головой в руках сидел отец Игнатий. Увидев хозяйку дома, он сунул голову коня подмышку и подошел к Фросе.
— Твоя бабушка в Вологде, — сказал он, грустно улыбаясь.
— Чего это она там делает? — Фрося слезла с велосипеда. — Бабушка туда, вроде, не собиралась.
— Видишь ли, — отец Игнатий очень осторожно подбирал слова, — у вас в доме сломались две вещи.
— Это неудивительно, — кивнула Фрося. — У нас постоянно что-то ломается.
— Сначала сломался конек, — отец Игнатий вынул из подмышки деревянную голову, — а потом нога твоей бабушки. Понимаешь, Аглая хотела прибить конек на место, но под ней подломилась перекладина, и она упала с лестницы. — Священник вздохнул. — Поэтому нам с Милентием пришлось отвезти бабушку в больницу.
Фрося перевела растерянный взгляд с деревянной головы в руках отца Игнатия на место ее крепления под крышей. Серой тучи над домом уже не было. Порча Никанора, как и все, за что он брался, была сделана кое-как, на скорую руку, и ее давно развеял ветер, прилетевший с севера области.
— Может, поживешь пока у меня? — спросил священник. — А то как же ты одна будешь?
Фрося немного помолчала, раздумывая, как же она, действительно, одна-то будет? Но потом вспомнила, что она все-таки не какая-то девочка, а настоящая деревенская баба и помотала головой.
— Мне надо присматривать за домом, а то он совсем развалится. И потом, я не одна, у меня же есть Курица.
Отец Игнатий посмотрел на багажник. Курица, решив, что сегодня она уже достаточно набегалась за хозяйкой, по-прежнему сидела на велосипеде, ожидая, когда ее завезут в куровник.
— Давай я тебе хоть денег оставлю. На время пока бабушка не вернется.
— Не надо, — ответила Фрося. — Я знаю, где кошелек лежит.
Отец Игнатий со вздохом опустил конек на крыльцо.
— Ну, я пойду. Надо всех предупредить, что спевки в субботу не будет.
Дойдя до калитки, священник обернулся.
— Если передумаешь, я тебе всегда рад.
Он перекрестил Фросю, покачал головой и отправился разносить по домам хористов невеселую новость. А Фрося наконец завезла велосипед с Курицей в куровник и вошла в дом.
От всего произошедшего она даже забыла снять куртку. Хотя теперь это уж точно можно было сделать безо всяких опасений. На кухне Фрося уселась на огромный сундук, где Федор Коровин когда-то хранил плотницкий инструмент, и стала думать.
Ей было ужасно жалко бабушку, которая лежит сейчас в Вологде в четырех стенах и даже не может подойти к окну, чтобы увидеть свою любимую землю.
А еще Фросе было очень жалко себя. Хотя она старалась этого не показать отцу Игнатию, Фрося совершенно не представляла, как будет справляться одна с огромным домом прадеда. А что будет, если бабушка когда-нибудь и впрямь умрет? Ведь тогда она будет отсутствовать намного дольше.
Фрося обвела взглядом широкий стол-верстак, давно остывшую русскую печь, высокий потолок и заплакала. Она ревела так долго, что если бы не куртка, то Фрося промокла бы насквозь. Она всхлипывала, икала, и эти звуки эхом отдавались в печи, где когда-то мылся Федор Коровин.
Медведь Герасим
С этого дня жизнь Фроси сильно изменилась. Теперь она вставала на час раньше, потому что надо было растопить печь и пожарить оладьи на завтрак, а ложилась поздно — старый дом то и дело подкидывал какую-нибудь работу. Только Фрося прибила на место конек, как отвалилась ставня. Привесила назад ставню, тут же упала часть забора. А ведь еще надо было постоянно готовить.
Первое время, пока Фрося не научилась стряпать как следует, ей по большей части приходилось есть подгоревшие пироги и недоваренную кашу. Кроме того, нужно было убирать за Курицей, которая временно переехала на кухню.
А скоро к домашним делам прибавилась уборка снега. Он покрыл землю ровно через неделю после падения конька, а вслед за ним и Аглаи Ермолаевны.
По первому снегу в Папаново пришел медведь Герасим.
Перейдя вброд Тошню, он поднялся к церкви и двинулся по единственной в деревне улице. В зубах он нес лукошко с сушеными грибами и банкой кофе.
Медведь взглядом загнал домой шлявшегося без дел Никанора, вошел во двор Федора Коровина и поднялся на резное крыльцо.
Как раз в это время Фрося пересчитывала в погребе банки с вареньем. Услышав скрип половиц над головой, она выглянула из подпола и тут же спряталась обратно. Любой бы на ее месте испугался, увидев у себя дома медведя, да еще с банкой кофе в лукошке! Дело в том, что хотя Фрося не раз навещала дядю Филимона, с Герасимом не была близко знакома — он всегда где-то спал. И потом, на нем же не написано, что это именно Герасим!
Сев на бочку с квашеной капустой, Фрося стала думать. Она, конечно, могла прожить в погребе хоть всю зиму, еды тут, слава богу, хватает. Но ведь завтра в школу!
Фрося встала с бочки и снова выглянула в кухню. Медведь аккуратно прикрыл дверь, поставил лукошко на пол и сел на сундук, чинно сложив лапы на коленях. Курица испуганно глядела на него с посудного шкафа.
Поняв, что медведь культурный и хулиганить, видимо, не будет, Фрося осторожно вылезла из своего убежища. Герасим повернул к ней голову и внимательно осмотрел хозяйку дома.
— Ты от дяди, что ли? — недоверчиво спросила Фрося.
— Угу, — ответил Герасим и ногой подвинул в ее сторону лукошко.
Не сводя глаз с медведя, Фрося подошла к лукошку, схватила его и отбежала назад. Между грибами и банкой кофе лежала записка. Фрося развернула ее и прочитала.
«Здравствуй Фросюшка, — писал дядя. — Я узнал, что Аглая попала в больницу, и решил отправить к тебе Герасима. Он много чего умеет и будет помогать тебе по хозяйству. Только его нужно два раза в день поить кофе, чтобы он не уснул. Ведь сейчас у медведей спячка. Не грусти и учись хорошо.
Твой дальний родственник, Филимон».
Фрося посмотрела на Герасима, который по-прежнему сидел на сундуке.
— Ты знаешь, где у нас магазин?
Медведь кивнул.
— Тогда сходи, пожалуйста, за хлебом. А я тебе сварю кофе. Ладно?
Поскольку медведь не возражал, Фрося вывалила грибы в ведро, положила в лукошко деньги и протянула его Герасиму. Снова опустившись на четыре лапы, он взял лукошко в зубы и неторопливо вышел из кухни.
— И не забудь сдачу два рубля! — крикнула вслед Фрося.
Затем она принесла из сарая дрова и стала растапливать шведку. Так что к моменту возвращения медведя, кофе был уже готов. А из хлеба Фрося сделала целую гору бутербродов с вареньем.
Ел медведь, честно говоря, не очень аккуратно. Но положение исправила Курица — она ходила по скатерти и, то и дело вскрикивая: «Корошо!», склевывала оставленные им крошки.
Потом Фрося попросила Герасима отнести за дом лестницу, что уже неделю стояла перед крыльцом, а сама снова полезла в погреб досчитывать банки.
С медведем, и правда, стало легче вести хозяйство. Он мог не только носить лестницы и ходить в магазин за хлебом. Ну, во-первых, он мог ходить еще и за другими продуктами. А кроме того, он убирал снег и носил воду из колодца. Еще Фрося хотела научить его колоть дрова. Но медведю своими толстыми лапами было трудно как следует обхватить топорище. И каждый раз, когда он размахивался, топор непременно улетал в огород к Милентию. Зато Герасим умел петь песню «Ах, вы сени, мои сени» и пользоваться летней уборной.
Однажды у дома Федора Коровина снова объявился принципиальный пьяница Никанор. Лишившись возможности участвовать в хоре и петь «тридцать восемь, тридцать шесть», Никанор потерял главный, как он думал, смысл жизни. Бессмысленно он слонялся между церковью и домом и безрезультатно просил у всех встречных стольник на пузырь — жители Папаново давно перестали обращать на него внимание.
Вконец отчаявшись, Никанор в первый раз за свою историю решил попросить прощения и отправился к Фросе. Однако сначала он все-таки намеревался выклянчить стольник на пузырь. А если Фрося даст деньги, тогда можно будет и извиниться.
Он открыл калитку, собираясь по расчищенной от снега дорожке пройти к дому Коровина, как вдруг увидел, что из летней уборной выходит медведь. Никанор проводил взглядом топающего к сеням Герасима, вспомнил, как предлагал ему съесть Фросю и, закрыв калитку, отправился домой. Теперь компанию ему составляла только его совесть, от которой, как ни проси, стольник не получишь. Зато уж общаться с ней Никанор мог сколько угодно.
Директор музея
А в это время в противоположном конце области по реке Вологде плыла лодка. Конечно, по той реке, как и по другим, плыло много разных лодок, но эта была особенной. На ее борту было написано: «Вологодский музей деревянного зодчества», а внутри сидел директор музея собственной персоной. Звали его Иван Михайлович Омельянов.
Иван Михайлович был большим знатоком деревянного зодчества. Когда-то он даже защитил диссертацию на тему: «Вариации наличников в вологодской деревянной архитектуре 18–19 веков». Впрочем, Иван Михайлович также знал толк в коньках, карнизах и печах.
Сотрудники музея под руководством Омельянова работали четко и аккуратно. Такими же четкими и аккуратными были движения плывущего в лодке директора. Он погружал весла в воду, откидывался назад и тянул ручки на себя, погружал, откидывался и тянул: раз-два-три, раз-два-три! При этом Омельянова сердил его большой живот, который не давал сводить ручки весел вместе.
Иван Михайлович возвращался из экспедиции по дальним уголкам области, где он искал старинные постройки для музейной коллекции. Целый месяц директор путешествовал по маленьким деревням, но ничего интересного так и не нашел.
Вдруг Омельянов заметил плывущее по реке бревно с налипшим обрывком газеты. В экспедиции Иван Михайлович был отрезан от мировых новостей, поэтому решил воспользоваться случаем и почитать прессу.
Подтянув веслом бревно, Омельянов изучил обрывок. Помещенная на нем фотография изображала какую-то девочку с лопатой и часть старого дома. Как читатели уже, наверное, догадались, это был остаток той самой газеты, которую в начале повести бросил в Тошню разозлившийся Никанор, и который, пройдя на бревне почти всю реку Вологду, доплыл аж до самого Ивана Михайловича.
Фрося и лопата особого внимания директора не привлекли. А вот старый дом его очень заинтересовал! Вынув из рюкзака увеличительное стекло, Иван Михайлович перегнулся через борт и внимательно осмотрел фотографию. Сердце Омельянова радостно забилось. Перед ним был прекрасный образец дома зажиточного крестьянина начала девятнадцатого века! Иван Михайлович решил, что должен любыми средствами добыть эту постройку для музея. Она станет жемчужиной архитектурной коллекции!
Поскольку снять с дерева налипшую страницу, не повредив ее, было невозможно, Иван Михайлович походной пилой отпилил часть бревна с газетой и положил в лодку. Затем он снова взялся за ручки весел, втянул, насколько мог, живот и загреб с удвоенной силой: раз-два-три, раз-два-три!
На следующий день все сотрудники музея собрались в лектории, размещенном в старинной мельнице. Возвращаясь из экспедиций, Иван Михайлович всегда выступал перед коллегами и рассказывал, что ему удалось найти. Это называлось «отчет».
Дождавшись, когда подчиненные рассядутся на длинных крестьянских лавках, Омельянов встал, привычно втянул живот, чтобы казаться стройнее и сказал:
— Ну что же, экспедиция прошла не зря. Мне удалось найти прекрасный дом для нашего музея! Вот он.
С этими словами он достал из-под стола и поставил на него кусок бревна с налепленным сверху обрывком газеты.
Работники музея недоуменно переглянулись. Уж чего-чего, а отличить одно бревно от целого дома они могли без труда!
Из первого ряда поднялся младший научный сотрудник Леня Соболь.
— Простите, Иван Михалыч, — сказал он. — Но ведь это бревно даже не обработано! Его никогда не касалась рука зодчего!
— Зато, — ответил Омельянов, — его касалась какая-то другая рука, которая наклеила на него фотографию удивительного дома. Взгляните!
С этими словами он вынул из кармана и протянул собравшимся лупу.
Через минуту все сотрудники сгрудились у стола. Мельницу, привыкшую к сухим научным речам, наполнили крики восторга.
— Ух, ты!
— Вот это да!
— Именно в таких домах жили зажиточные крестьяне девятнадцатого века!
Из подписи к фотографии работникам музея удалось узнать, где она была сделана. Они решили как можно скорее отправиться в Папаново и попытаться купить дом Федора Коровина.
Нижний голос
А на Папаново все падал и падал снег. Жителям деревни уже не хватало сил, чтобы с ним справляться.
Пьяница Никанор, который снег не убирал из принципа, однажды обнаружил, что дверь не открывается, и стал выходить из дома через окно. Отцу Игнатию хватало духу только на то, чтобы расчищать узкий проход от забора к двери церкви. И лишь Фросин двор оставался аккуратным, как прежде, благодаря силачу Герасиму.
В то воскресенье он с раннего утра чистил лопатой дорожки. Фрося, беспокоясь о здоровье медведя, повязала ему на шею толстый красный шарф. Правда, она не была уверена, поможет ли шарф, если на Герасиме из одежды все равно больше ничего нет. Она уже сварила для него кофе и теперь раздумывала, какие дела сегодня нужно переделать по дому и где что прибить.
Ну, во-первых, нужно счистить снег с козырька над крыльцом. Это придется делать самой, потому что Герасима козырек, конечно, не выдержит, а еще одной сломанной ноги ей в доме не надо. Потом хорошо бы забраться на чердак и посмотреть, не отвалилось ли чего там и не собирается ли крыша провалиться от такого количества снега.
Раздумывая, Фрося вполуха слушала, как во дворе ширкает лопата и как Герасим напевает «Ах, вы сени, мои сени…». Вдруг ей на ум пришла замечательная мысль.
Фрося быстро натянула крутку и выскочила наружу. Тут же ветер швырнул ей в лицо снежную труху. Фрося как следует покашляла, отряхнулась и бросилась по расчищенной дорожке к медведю.
— Герасим, — крикнула она, — ты хочешь петь в хоре?
Медведь перестал махать лопатой, задумчиво посмотрел на растрепанную Фросю и ответил:
— Угу.
Когда расчистка двора и козырька над крыльцом была окончена, Фрося с медведем, как она выражалась, «почайкофили» и отправились в церковь. К счастью, главную улицу время от времени, когда он не застревал по дороге, чистил бульдозер из Полево. Так что передвигаться по ней можно было более-менее свободно.
Деревянная лопата для снега сломалась у отца Игнатия еще прошлой зимой. Поэтому теперь он выбивался из сил, разгребая сугробы обычной садовой лопаткой, которой он летом окучивал приходской огород. Вдруг он услышал, как за спиной от чьих-то шагов скрипит снег. Отец Игнатий обернулся и перекрестился. Он, конечно, уже не раз встречал Герасима на единственной Папановской улице и в магазине. Но священник никак не мог привыкнуть к тому, что у них в деревне живет медведь, да к тому же говорящий.
— Здравствуйте, — сказала Фрося, — вот, я привела вам нижний голос.
Отец Игнатий пробежал взглядом по красному шарфу и посмотрел в морду медведю.
— Ты, правда, умеешь петь?
— Угу, — ответил Герасим.
— Тогда вот что, — решил священник, — я сейчас домолюсь в церкви и пойдем в клуб.
Фрося посмотрела в небо, откуда падали редкие снежинки. Видимо, запас снега там наконец заканчивался.
— А по-моему, молиться лучше на улице.
— Почему? — удивился отец Игнатий.
— Тут богу лучше слышно.
Священник улыбнулся.
— Ему стены не помеха. Потому что Бог есть везде.
— Даже в бане? — изумилась Фрося.
— Ну… да.
— Надо же. — Фрося посмотрела на церковь. — А вы, если все равно будете молиться, не могли бы заодно попросить бога за бабушкину ногу? Сколько это стоит?
Отец Игнатий с сомнением посмотрел на Фросю. Если ему предлагали деньги за молитвы, он никогда не отказывался, ведь нужно на что-то содержать приход! Но брать деньги с маленькой девочки, которая к тому же осталась без бабушки, ему было неудобно.
— Ничего, — сказал он, — я так помолюсь. Это не сложно. Раскрывай рот и все. Чистить снег намного труднее.
Тут Фросе в голову пришла новая идея.
— А давайте, пока вы будете молиться, мы уберем снег с дорожки! Надо, чтобы все делали то, что они умеют — те, кто могут убирать снег, убирали его, а те, кто могут разговаривать с богом, с ним разговаривали.
Отец Игнатий погладил Фросю по голове, отдал лопату Герасиму и направился к церкви.
— И передавайте богу от меня привет! — крикнула Фрося. — Пусть не чихает!
Пока священник молился за здоровье всех жителей Папаново и Аглаи Ермолаевны в частности, Герасим с помощью ее внучки убрал снег с дорожки. Кроме того они расчистили тропинку к дому отца Игнатия, куда ему раньше приходилось добираться по колено в сугробах. Вернее, дорожки чистил медведь, а Фрося поправляла его шарф, когда он начинал развязываться, и пела подряд все песни, которые бабушка исполняла в хоре. Во-первых, медведю было веселее махать лопатой, а во-вторых, надо же было познакомить Герасима с его будущим репертуаром!
Через полчаса отец Игнатий закончил службу, и они все вместе, включая лопату, отправились в клуб. Лопата, конечно, петь не собиралась, но ею надо было расчистить проход к двери. Наконец они вошли в теплое, темное помещение, и отец Игнатий включил свет.
Сельский клуб состоял из прихожей и небольшого зала. В прихожей на одной стене висели крючки для одежды, а на другой — две большие доски. На первой была написана конституция Российской Федерации. Вторая существовала для того, чтобы на нее прикреплять объявления и вырезки из газет с интересными статьями. Если в клубе собиралось много народу и крючков на стене не хватало, то одежду вешали на гвозди, которыми крепилась доска с конституцией, потому что ее в отличие от объявлений все равно никто никогда не читал.
Но сейчас крючков вполне хватило, поскольку посетителей было всего трое. Раздевшись, они прошли в зал, где отец Игнатий сел за старое пианино. Фрося, чтоб Герасим не очень смущался, поднялась вместе с ним на невысокую сцену. Они вышли на середину и встали возле стола, где тускло блестел графин с водой — вчера здесь проводили заседание работники молочной фермы.
— Что он будет петь? — спросил отец Игнатий.
— «Сени», — ответила Фрося, — да, Герасим?
— Угу, — сказал медведь.
Отец Игнатий кивнул и взял первый аккорд «Сеней».
У медведя оказался такой низкий голос, что с дрожащих стен сыпалась труха. От его песни на столе дребезжал графин, а в прихожей упала конституция Российской Федерации. Внутри у Фроси тоже все трепетало, будто она стояла рядом с работающим экскаватором. Фрося невольно подумала, что если бы Герасим спел «Сени» вместе с Аглаей Ермолаевной, то клуб наверняка бы развалился.
Однако отец Игнатий был в полном восторге. Он сказал, что теперь хор снова может давать концерты, и пообещал достать для Герасима красную рубаху с пояском и синие штаны — Папановский хор всегда выступал в национальных костюмах. Конечно, хорошо бы еще обуть медведя в блестящие сапоги, но таких размеров, к сожалению, никто не шьет. Впрочем, это не страшно, ведь нижние голоса всегда находятся в заднем ряду. Значит, никто не увидит, что медведь стоит босиком.
И уже в субботу Герасим выступил в своем дебютном концерте. В красной рубахе и синих штанах он стоял в заднем ряду на месте Аглаи Ермолаевны и исполнял народные песни, разученные с Фросей. А с другого края в том же ряду стоял принципиальный пьяница Никанор и беззвучно пел свои «Тридцать восемь, тридцать шесть».
«Жизнь налаживается, — думал он, — и я снова нужен обществу».
Пьяница как мог старался отплатить обществу и изо всей силы разевал рот. В результате концерт прошел с большим успехом.
В тот же вечер Фросе пришло письмо от бабушки.
«Здравствуй внучка, — писала она. — Надеюсь, ты поживаешь хорошо. А я не очень, потому что нога срастается медленно. Если бы могла, я бы за это ее поставила в угол. Земли я здесь совсем не вижу и очень по ней скучаю. Как и по тебе.
Твоя бабушка Аглая».
Письмо Фросю одновременно обрадовало и огорчило. Обрадовало, что бабушка по ней скучает, а огорчило, что вредная нога никак не хочет срастаться. Эти противоречивые чувства просто разрывали Фросю пополам, и она даже не смогла приготовить ужин.
В конце концов она решила поехать завтра в Вологду. Фросю вовсе не пугало, что Папаново находится далеко от города. Ведь она каждый день добиралась в школу за шесть километров. Что же мешает ей проехать на автобусе еще сорок и найти по адресу на письме больницу? Фрося кое-как приготовила десять бутербродов для себя и Герасима, перекусила и отправилась спать.
Пурга
А на утро разыгралась сильная метель. Снежинки вились и крутились в воздухе, как рой каких-то странных зимних насекомых. Увидев их за окном, Фрося помрачнела: пройти на лыжах шесть километров по такой пурге — не шутка. Можно легко заблудиться, ведь засыпанную снегом дорогу не отличишь от засыпанной снегом пашни! А старый бульдозер из Полево расчистит проселок только к середине дня, если где-нибудь в пути не застрянет. Но ехать-то Фросе надо сейчас!
Вдруг у нее появилась блестящая мысль. Такая блестящая, что Фрося даже зажмурилась. А что, если поехать по льду реки? Всем известно, что по льду ехать гораздо быстрее, чем по снегу — это раз. И между двух берегов невозможно заблудиться — это два. Решено!
Фрося отправилась в поветь и нашла в одном из чуланов свои старые коньки. Раньше, когда в доме было не много дел, она зимой после школы каталась с Петуховым и Жмыховым на озере. Том самом, возле которого еще не так давно планировала лечь в могилу Аглая Ермолаевна.
Затем, в горнице, Фрося оделась как можно теплее и сложила в рюкзак горшок с фикусом. Он был нужен для того, чтобы бабушка в случае необходимости всегда могла увидеть и даже пощупать землю.
Нацепив рюкзак на спину, Фрося взяла коньки и вышла наружу. От волнения она забыла позавтракать и сварить кофе для спавшего в подклете Герасима, что привело к довольно печальным последствиям.
За дверью Фросю ударил ветер. Снежинки словно осы стали жалить ее в лицо. Но они же не знали, что Фрося — настоящая деревенская баба! Не обращая внимание на снежных ос, она двинулась через пургу в сторону реки. В воздухе сегодня было столько ветра и снега, что он напоминал Фросе простоквашу. И ей предстояло проехать в этой снежной простокваше целых шесть километров!
Пройдя мимо церкви, которая, не смотря на пышную белую шапку, выглядела основательно продрогшей, Фрося спустилась к Тошне. Река здесь не отличалась особенной шириной и обычно замерзала уже в начале зимы. Через пургу Фрося сумела разглядеть несколько темных лунок во льду. Их сделал кузнец Мелентий, поскольку он был кузнецом только по рабочим дням, а по выходным превращался в рыбака. Если стояла хорошая погода, конечно. В плохую он оставался кузнецом всю неделю.
Лунки говорили о том, что лед на реке уже достаточно прочный. Во всяком случае, если он не подломился под Мелентием, то Фросю выдержит и подавно.
Сев на мостки, она переобулась в ботинки с коньками, спрятала свои полусапожки в рюкзак и ступила на лед. Тут же ветер, дувший по счастью в нужную сторону, развернул Фросю лицом к Вологде и погнал по реке. Фросе даже не надо было отталкиваться ногами, от нее требовалось только не потерять равновесия.
— Э-ге-гей, бабуля! — закричала она. — Я к тебе еду!
Фрося чувствовала себя чем-то вроде корабля, который несется по морю. Она расставила руки в стороны, будто это были паруса, и поехала еще быстрее.
— Полный вперед!
Снег и морозный воздух били ее с такой силой, что Фросе скоро стало казаться, будто у нее на лице надета стеклянная маска. Скосив глаза к носу, Фрося увидела, что он стал красным, как у принципиального пьяницы Никанора. Она даже удивилась, почему от такого красного носа вокруг не тают снег и лед?
Благодаря помощи ветра и своей сообразительности Фрося доехала до Полево за какие-нибудь полчаса. Увидев сквозь пургу силуэт нависшего над рекой деревянного моста, она скомандовала себе: «Лево руля!» и причалила к берегу. То есть, это она подумала, что причалила, а на самом деле въехала с разгону в здоровенный сугроб.
Рюкзаком вперед Фрося выбралась из снежной кучи, отряхнулась и полезла на крутой берег. Конечно, она могла бы катиться по льду и дальше. Но при впадении в Вологду Тошня становится намного шире и, значит, она могла замерзнуть недостаточно хорошо. А если Фрося провалится под лед, бабушка не получит фикуса и наверняка расстроится. Не только из-за фикуса, конечно.
Выбравшись наверх, Фрося по расчищенной бульдозером дороге сквозь потоки снега доковыляла до школы и села на крыльцо, чтобы переобуться. Едва она спрятала коньки в рюкзак, из магазина вышла сменщица тети Даши тетя Маша. Фрося иногда думала, что они вместе работают, потому что у них похожие имена. И внешне они мало чем отличались — обе добрые и дородные. Аглая Ермолаевна сказала бы про них: «Настоящие деревенские бабы!». А это самая высокая оценка, какую человек может получить от Фросиной бабушки.
Тетя Маша не стала кричать: «Звонок!», потому что по воскресеньям занятий не было. Она вышла посмотреть, не приехала ли машина с продуктами. Но вместо грузовика увидела Фросю.
Продавщица тут же затащила ее в магазин и, само собой, спросила, куда это она собралась в такой свистодуй? Фрося, отогревая замерзшие внутренности горячим чаем, рассказала про бабушку и ее ногу. Тетя Маша ответила, что очень хорошо понимает, каково сейчас Аглае Ермолаевне.
— Помню, — сказала продавщица, — я в молодости во время танцев сломала мизинец на ступне и потом два месяца не могла работать. Но то был всего лишь палец, а тут целая нога!
Она это произнесла с таким уважением, будто Аглая Ермолаевна специально грохнулась с лестницы, чтобы показать твердость своего характера. Покупателей, видимо, из-за непогоды, не было, и ничто не мешало двум настоящим деревенским бабам разговаривать о жизни.
Наконец, Фрося увидела через окно, что к остановке подъехал заснеженный автобус. Она поблагодарила тетю Машу за чай и выбежала из магазина.
Забравшись в пахнущий бензином салон, Фрося поздоровалась с водителем, села на сиденье с залатанной обивкой и сразу уснула. Старый автобус развернулся, поскольку это была его конечная остановка, и отправился обратно в Вологду.
А в Папаново примерно в то же самое время проснулся Герасим. Он вышел во двор, взял лопату и как обычно принялся расчищать занесенные пургой дорожки. Снег был легкий, пушистый, и медведь махал нагруженной лопатой так, будто она совсем ничего не весила. Закончив с этим делом, он аккуратно поправил забор, у которого из-за ветра опять вылетела подпорка, и пошел в дом пить свой обычный кофе.
И до чего же он удивился, увидев, что на «шведке» не варится кофе, а сама она до сих пор не растоплена! Медведь обошел весь дом, но к своему недоумению Фроси не обнаружил. Он, конечно, прекрасно знал, где стоит банка с кофе. Только чтобы насыпать его в кофеварку, налить туда воды и растопить печь, нужны ловкие человеческие руки. А где их взять, если Фроси нет?
Вскоре Герасим почувствовал, что засыпает, причем не обычным сном, а длинным, зимним. Он спешно стал искать подходящее место для зимовки. В конце конов, медведь решил, что лучше всего подходит погреб — это же настоящая берлога! Забравшись в подпол, он расчистил себе уголок от банок с вареньем. Затем свернулся калачом, зевнул и закрыл глаза, рассчитывая проснуться где-нибудь в середине апреля.
И Фрося спала, подложив под щеку толстую вязаную шапку. Хотя в тряском, пропахшем бензином автобусе было не так уютно, как в наполненном вареньем погребе. Сердито похрапывала на больничной койке на четверть загипсованная Аглая Ермолаевна. И в Папаново, в своей продавленной кровати, спал принципиальный пьяница Никанор, не подозревая, что ему скоро снова предстоит, так сказать, выйти на сцену и стать главным действующим лицом этой повести.
Страшная месть
Если бы Фрося не глядела сны, а смотрела в окно, она бы увидела, как мимо автобуса по встречной полосе проехало несколько грузовиков с надписью «Вологодский музей деревянного зодчества». И как бы она удивилась и разозлилась, узнав, что сидящие в них люди собираются купить и увезти из Папаново дом Федора Коровина! Впрочем, она и разозлилась, но гораздо позже.
Ехавший в кабине первого грузовика Иван Михайлович, разумеется, тоже не обратил на промелькнувший за окном автобус никакого внимания. Он думал о том, как перевезти новый экспонат в музей.
Конечно, целый дом в грузовик не влезет, его надо разобрать. А перед этим следует пронумеровать каждое бревно и каждую доску, чтобы потом в музее собрали именно то, что разобрали в Папаново. Научная работа требует точности! Но сначала нужно уговорить хозяев продать свой дом. Впрочем, тут Омельянов сложностей не предвидел. Обычно люди с радостью соглашались перебраться в новые жилища. Потому что в архитектурных памятниках приходится жить так же, как сто или двести лет назад. Это интересно, но очень неудобно, ведь в то время не было газа и санузлов.
Переехав замерзшую Тошню по бетонному мосту, который находился на полкилометра дальше деревянного, грузовики сбавили скорость. Им перекрыл путь старый бульдозер, неспешно расчищавший дорогу на Папаново. Хотя Омельянову не терпелось начать разборку Фросиного дома, он не стал уговаривать водителя обогнать бульдозер. Машины могли застрять в снежных завалах.
Постепенно сугробы на обочинах делались выше. Вскоре директору стало казаться, что он едет не то в страну Снежной королевы, не то во владения Деда Мороза. А бульдозер — что-то вроде северного оленя, который один знает путь в далекий, волшебный край.
Забравшись наконец на горку в начале единственной Папановской улицы, грузовики остановились. Иван Михайлович вылез из кабины и, прихлопывая от холода рукавицами, притопывая валенками, стал оглядываться. Он хотел выяснить, где находится знаменитый дом Федора Коровина.
Тут в ближайшей избе с кривой трубой распахнулось окно, и оттуда к удивлению Омельянова спиной вперед выбрался человек в кепке и драном тулупе. Он перешагнул поваленный забор, подошел к Ивану Михайловичу и тоже стал пританцовывать от холода.
Минуту они «танцевали» молча. Омельянов искоса разглядывал незнакомца. Тот не напоминал ни Деда Мороза, ни уж тем более Снежную королеву. Однако на единственной улице маленькой деревни больше никого не было, и директору пришлось обратиться за помощью к подозрительному мужчине.
Не прерывая «танца», Иван Михайлович спросил, не знает ли «уважаемый», где у них в деревне стоит дом зажиточного крестьянина девятнадцатого века?
Надо сказать, что с рождения Никанора еще ни разу не называли «уважаемым». Поэтому он, несмотря на мороз, проникся к Омельянову самыми теплыми чувствами. Но слова про девятнадцатый век привели его в замешательство. Он совершенно твердо помнил, что вчера на дворе был век двадцать первый. Во всяком случае, так утверждала доска объявлений в сельском клубе. Неужели за прошедшие сутки все настолько изменилось?
Омельянов сразу понял, с кем имеет дело. Чтобы не затягивать разговор, он вынул из кабины бревно с газетой и показал Никанору.
— Мы ищем вот этот дом, — сказал директор музея.
Бревно никакого впечатления на Никанора не произвело. Он за свою жизнь перевидал их немало. А вот обрывки газеты поразили до глубины души. Принципиальный пьяница даже перестал «танцевать». Он ведь лично бросил эту газету в воду больше месяца назад! И вот теперь она вернулась к нему на бревне, да еще вместе с людьми из Вологды! Как же так?
Он подозрительно оглядел Омельянова. Может, этот человек его, Никанора, разыгрывает и называет «уважаемым», просто чтобы поиздеваться? Но держащий в руках бревно Иван Михайлович выглядел серьезно, как и полагается директору музея.
— А зачем вам этот дом? — спросил Никанор.
— Видите ли, уважаемый, — Омельянов за неимением возможности прихлопывать стал сильнее притопывать, — я директор Музея деревянного зодчества, а эта постройка — шедевр архитектуры. И мы хотели бы узнать, не согласятся ли хозяева продать ее нашему музею?
Никанор особенной сообразительностью никогда не отличался. Но теперь он мигом понял, что если избу Федора Коровина увезут в музей, то Фрося жить в Папаново уже не сможет. И дерзкой девчонке, которая не уважает пожилых и почти святых людей, придется убраться из деревни!
«Такова будет моя страшная месть, а заодно и кара Господня!» — подумал Никанор, вставший в своем воображении на одну доску с богом.
Пьяница снова захлопал дырявыми рукавицами, но уже не столько от мороза, сколько от радости.
— Так хозяева давно уже из этого дома уехали! — сказал он.
Одно из окон его избы выходило к Тошне, и Никанор действительно видел, как два часа назад к ней через пургу прошла Фрося с парой коньков на плече. А разве два часа — это не «давно»?
— Садись в машину, друг! — Пьяница решил, что вполне может называть «другом» человека, который помогает ему разделаться с вредной девчонкой и совершенно искренне зовет «уважаемым». — Я покажу тебе, где находится этот шедевр, эта гордость Папаново!
Иван Михайлович с бревном снова забрался в кабину. Водитель первого грузовика гудком дал команду к движению, и колонна поползла по деревне.
Никанор очень жалел, что в этот момент его не видят односельчане. Он с важным видом, насколько это вообще возможно в драном тулупе, шагал по единственной Папановской улице, а за ним ехали пять здоровенных грузовиков с надписью «Вологодский музей деревянного зодчества». Это была минута настоящей славы, какой пьяница не достигал даже в деревенском хоре, распевая свои «Тридцать восемь, тридцать шесть»! Он чувствовал, что нужен людям, и это наполняло его жизнь смыслом.
Миновав избу кузнеца Мелентия, он поднял правую руку, приказывая машинам остановиться, а левой указал на дом Федора Коровина, сделавшись похожим на букву «К». Сотрудники музея высыпали из грузовиков и сгрудились у забора, любуясь архитектурным творением Фросиного прадедушки.
Леня Соболь не заметил значка с перечеркнутым фотоаппаратом и стал фотографировать избу. Иван Михайлович снова посмотрел на бревно. Убедившись, что на обрывке газеты изображен именно этот дом, директор приказал открыть ворота.
Если бы Аглая Ермолаевна видела, как пять огромных грузовиков, уничтожают своими колесами спрятанные под снегом грядки, сотрудникам музея бы очень не поздоровилось.
К сожалению, не видел этого и кузнец Мелентий. Заметив, что непогода утихла, он превратился в рыбака и сидел возле лунки на льду Тошни. А его жена работала на молочной ферме, поскольку на этой неделе ее смена попала на выходные.
Перед тем как утихнуть, пурга снова замела расчищенные дорожки во дворе. Так что теперь трудно было догадаться, что дом обитаем.
Вдруг Никанор вспомнил о Герасиме.
— Совсем забыл! — сказал пьяница. — Тут у нас дикий медведь приблудился, если увидите, гоните отсюда.
— Медведь? — недоверчиво спросил Иван Михайлович.
— Ну да, увидел, что дом пустует, и приблудился.
Омельянов на это ничего не ответил и списал медведя на нетрезвость Никанора. Где такое видано, чтобы медведи жили в домах, да еще таких, которые относятся к памятникам архитектуры?
Конечно, если бы он увидел Герасима с лопатой в лапах, он бы переменил свое мнение. Но медведь сейчас спал в погребе и видел сны, такие же сладкие, как варенье в окружающих его банках. А Омельянов был научным работником и в сказки перестал верить еще в детстве.
— Но как же быть с деньгами? — спросил он. — Музей же должен кому-то заплатить за дом!
— Нам для хороших людей ничего не жалко, — ответил Никанор. — Давай стольник на пузырь и забирай халупу!
Принципиальный пьяница тут же получил требуемую сумму, расписался за нее в каких-то бумагах и зашагал по сугробам в магазин. А Омельянов повернулся к сотрудникам, привычно втянул живот и крикнул:
— Начали!
Памятник свободной ноги
Конечно, Фрося не слышала Ивана Михайловича. Папаново от Вологды отделяло как-никак пятьдесят километров. А на такое расстояние не смогла бы крикнуть даже Аглая Ермолаевна своим нижним голосом. И все-таки именно в этот миг Фрося проснулась. Автобус как раз прибыл на конечную остановку, и его покидали пассажиры, здорово пропахшие в пути бензином.
Фрося уже собралась выйти вслед за ними, но вдруг остановилась посреди салона. Она вспомнила, что не взяла с собой денег, и, значит, теперь ей нечем платить за проезд! С рюкзаком в руке она понуро подошла к кабине водителя.
— Дядь!
— А?
К ней повернулся молодой, усатый шофер в замасленной кожаной куртке. На нем была такая же кепка, как у Никанора. Только она не лежала на голове блином, а была лихо заломлена набок.
— У меня нету денег на билет. Что будем со мной делать?
Шофер сдвинул кепку на затылок и внимательно осмотрел Фросю.
— Из Папаново едешь?
Фрося кивнула.
— Кто ж тебя одну в такую даль отпустил?
— Я сама себя отпустила. У меня заболела бабушка, и я везу ей фикус.
Водитель передвинул кепку на другой бок.
— Какой-то он у тебя мятый. Ты что, ничего красивей не нашла?
Фрося от такой непонятливости даже вздохнула.
— Цветок здесь ни при чем. Главное — горшок с землей. Ведь бабушка всю жизнь с ней возилась.
— Вот как!
Тут Фросю осенило.
— А давайте я вам спою, и это будет плата за проезд! У меня ведь бабушка в хоре участвует. Когда не болеет, конечно.
Бойкая девчушка понравилась шоферу. Он кивнул и устроился в кресле поудобнее.
— Валяй!
Фрося положила рюкзак на ближайшее сиденье, прокашлялась и запела, притопывая по железному полу:
— Поехала Катенька в деревню в гости. Ай же наша Катенька, ай же Катерина! Взяла наша Катенька кудели немножко. Немножко, маленько, семьдесят кочушек, восемь волокушек. Стала наша Катенька куделюшку прясти Потоньше полена, потолще каната. Стала наша Катенька прядено белити, Прядено белити, полотно-то ткати. Полотно-то ткала, бердо не подобрала, В огород пускала, колом притыкала. Стала наша Катенька полотно белити, Полотно белила, на луг выстилала. Стала наша Катенька соседей собирати, Соседей сзывати — рубашку кроити: Топором наставит, молотком ударит. Стала наша Катенька рубашку-то шити, Шилом-то провернет, канатом продернет. Стала наша Катенька соседей сзывати, рубашку надевати. Семеро держали, да трое натягали. Семь годов носила, смены не просила. Ай же наша Катенька, ай же Катерина!— Ну, артистка! — сказал одобрительно водитель. — Прямо филармония!
Фрося снова надела рюкзак.
— Вообще-то, эту песню исполняют с наигрышем на сковороде. Наш кузнец даже сковал для хора специальную наигрышную сковородку. Но у меня ее с собой нет, так что, дядя, извините.
— Ничего, и без сковородки хорошо. Ты, кстати, когда назад собираешься?
— Завтра утром, если в больнице разрешат переночевать.
— Приходи на станцию в полвосьмого, я тебя назад тоже бесплатно отвезу.
— Спасибо, но это как получится.
Она попрощалась с водителем, вышла на улицу и огляделась.
Вологда была заснежена не так сильно, как Папаново. Наверное, потому что она намного больше, и у бога не хватило снега, чтобы засыпать ее как следует. Неподалеку возвышалось припорошенное белой пудрой здание автовокзала. Оно было похоже на большой бетонный сарай. На нем висела слегка проржавевшая табличка с надписью «Площадь Бабушкина».
«Вот повезло какой-то бабушке! — подумала Фрося. — Ей принадлежит целая площадь!»
На ступеньках вокзала стояла старушка в клокастой, плохо причесанной шубе. Решив, что это и есть хозяйка площади, Фрося направилась к зданию.
— Здравствуйте, — сказала она, глядя снизу вверх, — вы не знаете, как пройти в больницу, где ноги лечат?
— Какие ноги? — удивилась старушка.
— Сломанные.
Хозяйка площади спустилась к Фросе.
— А у тебя есть адрес больницы?
Фрося вынула из кармана довольно мятый конверт от присланного бабушкой письма. Пробежав взглядом кривые ряды строчек (из-за сломанной ноги Аглая Ермолаевна прямее писать не могла), старушка кивнула.
— Тебе нужно в областную больницу. Но это довольно далеко, семь остановок отсюда.
— Я в остановках плохо понимаю, — Фрося снова спрятала конверт в карман, — у нас в деревне ездит только бульдозер, и он нигде не останавливается. Сколько это будет в километрах?
Старушка подвигала морщинами, делившими ее лоб на три части.
— Километра четыре. Но ты можешь доехать на автобусе.
— Разве это много? — удивилась Фрося, закаленная длительными прогулками между Папаново и Полево. — Вручную дойду.
То есть, она хотела сказать «вножную», но потом вспомнила, что такого слова нет. Фрося узнала, куда идти, заверила старушку, что у той очень красивая площадь, и захрустела по скудному снегу в направлении больницы.
По пути Фросе несколько раз встречались большие перекрестки. Тогда ей приходилось останавливаться и у кого-нибудь спрашивать, какой дорогой лучше пойти. К удивлению Фроси областная больница оказалась довольно популярным местом в Вологде. Во всяком случае, все люди сразу показывали в нужную сторону.
Через полтора часа Фрося в конце концов добралась до окраины города, где стояли больничные корпуса. Как и положено, они были белого, медицинского цвета. И снег вокруг них казался каким-то медицинским — он напоминал вату из аптеки. Фрося решила, что поломанные ноги лечат в самом большом здании, и, как ни странно, не ошиблась.
Войдя в корпус, похожий на коробку из-под лекарств, спрятанную у бабушки под кроватью, Фрося направилась к дежурной. Та долго искала Аглаю Ермолаевну в списке больных. Наконец выяснилось, что старуха лежит на седьмом этаже, в семьдесят шестой палате. Фрося сказала два раза «спасибо», один раз за ответ, другой за бахилы, которые ее попросили надеть, и направилась наверх.
Шаркая бахилами по сверкающей от чистоты лестнице, Фрося думала, что людям из деревни ох как неуютно в больнице! Ведь тут нет ни земли, ни скотины, ни навоза.
На седьмом этаже Фрося, помня о том, что больным нужен покой, на цыпочках подошла к семьдесят шестой палате и чуть-чуть приоткрыла дверь.
Первым, что увидела Фрося, была загипсованная нога. Для ноги она находилась удивительно высоко. Поддерживаемая специальным кронштейном, она поднималась к потолку, словно протестовала против привычного земного положения ног и призывала их бороться с несправедливостью. Это был памятник Свободной ноги.
Приоткрыв дверь еще немного, Фрося увидела основание памятника — лежащую на койке Аглаю Ермолаевну. Лицо у нее было серое, как ее любимая земля. Кроме Фросиной бабушки в палате находилось еще несколько женщин. Услышав, что кто-то вошел, все они повернули головы к двери. Аглая Ермолаевна удивленно приподнялась на локтях.
— Фрося? — сказала она басом.
Ее внучка решила, что отвечать на этот вопрос глупо — кто же еще мог приехать к Аглае Ермолаевне? Не пьяница же Никанор, в самом деле! Она просто подошла к бабушке и села на стоящий рядом стул, как бы говоря: «Я тут, и с этим уже ничего не поделаешь».
Сначала старуха хотела как следует выругать внучку. Но потом передумала. Ведь своим путешествием в Вологду Фрося доказала, что она действительно настоящая деревенская баба! Осознав эту мысль, Аглая Ермолаевна стала с гордостью посматривать на остальных загипсованных женщин, которые, судя по всему, ее немного побаивались.
Увидев же горшок с фикусом, глава рода Коровиных совсем размякла. Аглая Ермолаевна гладила землю мозолистыми пальцами и шептала что-то ласковое. В конце концов старуха так расчувствовалась, что уронила пару слезинок в плодородный папановский чернозем. В тот день Фрося первый раз увидела свою бабушку плачущей. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что она тоже зарыдала. Крепко обнявшись, две настоящие деревенские бабы всхлипывали на разные лады, и слезы их текли на помятые листья фикуса.
Успокоились Коровины, только когда медсестра привезла в палату ужин. Аглая Ермолаевна отдала внучке свои пюре с котлетой и стала спрашивать, как дела дома?
Пережевывая и глотая пресную еду, Фрося рассказала, что дела дома хорошо, что конек она прибила назад, и что Филимон прислал своего медведя, который теперь помогает ей по хозяйству.
Женщины в палате слушали Фросю с недоверием. Оно ясно читалось на их лицах. Но Аглаю Ермолаевну этот рассказ ничуть не удивил. Больше того, узнав, что Герасим не умеет рубить дрова, она стала ругать нынешних медведей, которые до того изнежились, что уже полено разрубить не могут.
С согласия врачей Фрося провела эту ночь на свободной койке. Правда, внучка Аглаи Ермолаевны долго не могла заснуть и, глядя на белеющие в темноте загипсованные ноги, думала, что завтра надо будет выйти пораньше, чтобы успеть к урокам. Ведь утром ей предстояло снова пройти пешком пол-Вологды.
А ночью Фросе приснился Герасим. Он почему-то спал прямо во дворе, и его медленно заносило снегом. Фрося пыталась разгребать снег лопатой, но метель была сильнее.
Проснулась Фрося ровно в шесть часов. Тихо, чтобы не разбудить других женщин, она попрощалась с бабушкой и отправилась домой.
Теперь она хорошо знала куда идти, поэтому дорога до станции оказалась быстрее, чем до больницы. Кроме того, у Фроси в рюкзаке уже не было горшка с фикусом, и это заметно облегчало путь.
Слегка припудренная снегом Вологда еще спала. Огней в темном небе было куда больше, чем в темных домах. Глядя на раскинувшиеся во всю ширь созвездия, Фрося с удивлением заметила, что они здесь такие же, как над Папаново. А она-то раньше думала — у каждой деревни, у каждого города свои звезды.
Через час Фрося в последний раз свернула за угол и вышла к автовокзалу. Он находился точно под созвездием Кассиопеи, которое как-то зимним вечером показал ученикам Петр Сергеевич. Пожилой хозяйки площади нигде не было. Зато возле ступеней здания стоял знакомый Фросе старый автобус с молодым водителем.
— А я уж думал, не придешь, — сказал парень-усач. — Специально для тебя задержал отправление на десять минут. — Он обвел рукой пустой салон. — Ну, садись где хочешь! Других пассажиров нет.
Фрося заняла место у обрамленного ледяными узорами окна в третьем ряду, положила под щеку толстую шапку и сразу заснула. А автобус укачивал ее, словно огромная люлька, и пел колыбельную своим хриплым голосом.
«Разве дома крадут?»
Когда автобус добрался до Полево, уже рассвело. Фрося попрощалась с водителем и, пригласив его как-нибудь приехать на концерт папановского хора, вышла на мороз.
В розово-голубом небе над школой еще было видно бледную Кассиопею. Фрося снова удивилась тому, что хотя автобус проехал много километров, созвездие осталось на месте.
Тут в дверях школы показался белый халат тети Даши.
— Звоно-о-ок! — разнеслось по округе, и изо рта продавщицы вылетело облачко пара.
Она как обычно кричала так, будто хотела собрать на урок весь Полевский район. В соседних дворах залаяли собаки. От крика тети Даши Кассиопея совсем побледнела и исчезла в синеве.
Из-за угла, разметав сугроб, выскочил Жмыхов. Он прогрохотал по крыльцу и хлопнул дверью. Хотя естественный троечник жил ближе всех к школе, он почти всегда прибегал в последнюю минуту.
Фрося снова посмотрела в небо. Там с солнечным светом боролась самая яркая звезда Кассиопеи по имени Нави, и понемногу проигрывала. Поднявшись на крыльцо вслед за Жмыховым, Фрося вошла в школу.
На первом уроке, математике, учитель Петр Сергеевич провел контрольную. Фрося подготовилась к ней еще позавчера. Только вот писать Коровиной пришлось на листочке, одолженном у Петухова, потому что тетради она оставила дома.
На перемене Петр Сергеевич проверил контрольные и поставил Фросе «отлично». Петухов сказал, что пятерку ей помог получить его листок. А если бы она писала на страницах из тетради Жмыхова, то наверняка схлопотала бы трояк. Но сама Фрося считала, что получила «пять» из-за хорошей подготовки.
Зато на уроке истории, посвященном быту крестьян, Жмыхов подробно описал устройство мельницы и заработал вторую в жизни «четверку». А Фрося рассказала, что живет в настоящем крестьянском доме. Причем в нем все так, как было двести лет назад. Если, конечно, не считать холодильника.
Жаждущий новых знаний Петухов предложил после занятий устроить экскурсию по Фросиному дому, а потом написать о нем сочинение. Эта мысль Петру Сергеевичу понравилась. Поэтому по окончании уроков ученики Полевской школы двинулись по расчищенной дороге в Папаново.
Если летом ее было нетрудно отличить от окружающего пейзажа, то сейчас о существовании проселка говорили только гряды снега, убранного бульдозером на обочины. Но иногда сильная метель уничтожала и это отличие. Тогда бульдозерист, не помнивший точно, как идет дорога, придавал ей новые очертания и прокладывал некоторые ее куски по полям.
Шагая между сугробами, дети громко спорили о домах. Фрося доказывала, что под старой крышей жить уютнее. Петухов стоял за новые дома, от которых ничего не отваливается и где не нужно бояться, что вот-вот на макушку рухнет потолок. Жмыхову было все равно, где жить. Главное, чтобы вокруг имелось побольше всякой техники. Кроме того, он считал, что ремонтировать старый дом тоже интересно и что человек должен уметь работать не только головой, как Петухов, но и руками. На это замечание отличник обиделся и сказал, что недавно сколотил скворечник.
Так постепенно они перешли на тему нескорой весны, затем еще более далекого лета и заговорили о том, как хорошо в каникулы, когда можно ходить за грибами и купаться в Тошне. А над ними сияло прохладное белое солнце, похожее на слепленный богом огромный снежок. У горизонта, словно на обочине дороги, громоздились сугробы облаков. Снег на полях искрился так, будто по нему разбросаны миллионы драгоценных камней.
Через полчаса ребята увидели дым от печных папановских труб, затем сами трубы и, наконец, дома, к которым эти трубы приделаны. Дети поднялись на горку в начале деревни и, вразнобой хрустя снегом, двинулись к Фросиному дому. Хруст был такой громкий, что сквозь закрытое окно кривой избы донесся до Никанора, погруженного в неглубокий послеобеденный сон. Ему стало сниться, что он ест огромный, с себя ростом, сухарь.
Проходя мимо деревянного храма, Фрося рассказала одноклассникам, что он на целых три года моложе ее дома, и что крест наверху на самом деле просто прибит гвоздями.
Затем друзья миновали жилище отца Игнатия, крепкую избу кузнеца Милентия, и вдруг Фрося остановилась, широко раскрыв рот.
Ее дома, ее родного, уютного дома, который простоял на своем месте двести лет, не было. А в центре двора темнел огромный прямоугольник голой, очень черной земли, где стояли русская печь и «шведка», похожие на две обглоданные кости.
Фрося посмотрела вверх — может быть, дом улетел в небо, как ракета? Хотя с чего бы ему улетать? Они с бабушкой всегда обращались с ним хорошо, подметали его и ремонтировали. Аглая Ермолаевна даже ногу сломала из-за того, что хотела прибить назад упавший конек. Нет, тут, видимо, дело в другом. Фрося повернула к одноклассникам побледневшее лицо.
— Ребята, кажется, у нас с бабушкой дом украли!
Петухов удивленно пожал плечами.
— Разве дома крадут?
— Значит, крадут! — ответил Жмыхов и первым шагнул во двор.
Фрося и Петухов прошли в калитку следом и стали смотреть, как естественный троечник, то и дело пригибаясь, шныряет по развороченному огороду. Затем он бухнулся на четвереньки, внимательно разглядывая какие-то комья земли, и даже понюхал их.
— Это следы «Камазов»! — заключил он, посмотрев на друзей. — Точно говорю. Грузовиков было несколько. На них вашу хибару и увезли.
Фрося растерянно развела варежками.
— Но куда увезли? Кому нужно такое старье?
Нет, Фрося не хотела обидеть свой дом. Просто она, и правда, не могла понять, кто захочет жить там, где все время что-то ломается. Фрося, конечно, к такому давно привыкла, но вообще, это удовольствие особенное.
Тем временем Жмыхов вошел в границы не покрытой снегом земли и приподнял наваленные в центре доски. Он довольно долго что-то рассматривал под ними, а затем, бросив, отскочил в сторону.
— Ты чего? — удивился Петухов.
Естественный троечник испуганно показал на доски.
— Там, под ними, кажется, медведь!
— Это же Герасим! — крикнула Фрося и вдруг с ужасом вспомнила, что вчера забыла напоить его кофе.
Обозвав себя дурой, она бросилась к Жмыхову и стала расшвыривать доски, которыми работники музея заботливо прикрыли спуск в погреб.
Одноклассники с недоумением следили за действиями Фроси.
— Ты что делаешь? — сказал Жмыхов. — Сейчас же этот медведь вылезет и нас сожрет!
— Он ручной, — всхлипнула Фрося, у которой глаза были опять на мокром месте. — Он есть только бутерброды!
Отбросив последнюю доску, она сунула голову в погреб. В полумраке тускло блестели крышки банок, похожие на огромные золотые монеты. Они широким полукольцом огибали медведя, который спал, обняв бочку с квашеной капустой.
— Герасик, — тихонько позвала Фрося, — ты спишь?
Медведь повозился, звякнув банками, громко чмокнул, но глаз не открыл. Ему снилось, что сейчас лето и он спит на согретой солнцем поленнице своего хозяина Филимона.
Фрося вынула голову из погреба и снова аккуратно прикрыла его досками.
— Что ж ты нам про своего медведя ничего не говорила? — укоризненно спросил Жмыхов. — Я, может, всю жизнь мечтал с медведем подружиться!
— Ребята, — сказал страшным голосом Петухов и на всякий случай оглянулся, — а я, кажется, знаю, кто дом украл!
— Кто? — спросила Фрося, размазывая слезы рукавом куртки.
Петухов выпучил глаза и зловеще прохрипел:
— Музей! Он находится в деревне Быки. Я там один раз был. В нем собирают разные старые постройки.
— Так надо туда поехать и спросить, по какому праву они стибрили Фросин дом! — заявил Жмыхов.
— Правильно, — согласился Петухов, — а то, если так пойдет, и у нас с тобой избы пропадут. Но как мы доберемся до Быков? Туда же прямого автобуса нет, а с пересадкой в Вологде только к ночи доедем.
Жмыхов, нахмурившись, посмотрел на друзей. Конечно, на уроках естественный троечник часто чувствовал себя не в своей тарелке. Но в жизни он был смел и решителен.
— Возьмем папин трактор. Отца сейчас как раз нет — он уехал на базу покупать запчасти и вернется только к вечеру.
Теперь насупил брови Петухов.
— Это же настоящий угон транспорта! За такие дела можно попасть под суд.
Жмыхов в ответ махнул рукой.
— Скажешь тоже! Если у родного отца, то не считается. И потом, это будет не первый раз.
Естественный троечник действительно уже дважды угонял трактор и уезжал на нем рыбачить на Косковское озеро, где водились здоровенные язи. Отец за это каждый раз драл Жмыхову уши, но про себя гордился сыном — пацан только в третий класс ходит, а уже сам на тракторе ездит!
Фрося на всякий случай спросила:
— А ты правда умеешь рулить?
— И рулить, и на правильные педали жать, — подтвердил Жмыхов. — Ладно, пошли, надо до вечера обернуться.
Тут из-за бани, которой было всего пятьдесят лет, и которая по этой причине не заинтересовала музейных работников, выскочила растрепанная Курица. Вчера, когда начали выносить вещи из дома и складывать их в амбаре, она, сознавая лежащую на ней ответственность, стала храбро защищать владения хозяев. Но чужаки только смеялись над ней. А Леня Соболь даже бросил в нее снежком. К сожалению, Герасим дрых в погребе и ничем не мог ей помочь. Поэтому Курице пришлось отступить в соседний огород к Мелентию и оттуда в бессильной злобе наблюдать, как нахалы бревно за бревном разбирают дом и грузят в машины.
Пытаясь привлечь внимание папановцев к творящемуся беззаконию, она то и дело кричала: «Кошмар!». Но каждый раз ее вопли обрывал снежками меткий музейный работник. А Мелентий дотемна ловил рыбу. В результате вернувшийся домой кузнец даже не заметил, что у соседей исчез дом. Курице же пришлось провести целые сутки на морозе. За это время она так продрогла, что у нее посинели перья.
Увидев бегущую к ней синюю птицу, Фрося сначала испугалась. Но как только она узнала Курицу, сразу засунула под куртку греться.
Наметив план действий, ребята вышли из калитки и быстрым шагом направились в Полево. По дороге они передавали друг другу птицу, и она грелась у всех по очереди. Больше всего ей понравилось за пазухой у Петухова. Во-первых, потому что от него приятно пахло коровами и козами, которых держали его родители, а во-вторых, потому что он был Петухов.
Солнце светило над Полевским районом так, что резало глаза. От него не отставали искрящиеся сугробы. Школьников окружали такие покой и красота, что трудно было понять, как в таком прекрасном мире кто-то может красть чужие дома?
Погоня
Через час ребята снова прошагали по гулкому деревянному мосту. Затем они миновали школьно-магазинное крыльцо и подошли к дому Жмыхова, который, как уже говорилось, жил недалеко от места учебы и именно поэтому часто опаздывал на уроки.
У невысокого деревянного забора, под старою березой, стоял трактор «Беларусь», основательно потрепанный жизнью и механизатором Жмыховым. Естественный троечник передал Курицу Фросе и прошмыгнул в калитку. Через минуту он вернулся с ключами и брелком в виде отвертки, которым действительно можно откручивать самые маленькие винтики.
— А птицу куда? — спросил Петухов. — Мы ее чего, собой попрем?
Если бы об этом спросили Курицу, то она бы ответила, что готова отправиться за пазухой у Петухова хоть на край света. Но ее мнение в данную минуту никого не интересовало.
Почесав выступающий из-под шапки участок затылка, Жмыхов снова сграбастал птицу и, несмотря на ее протестующие крики, запер в покосившемся от старости сарае. Курица всем сердцем хотела принять участие в расследовании и была уверена, что сумеет задержать одного-двух воров. Поэтому, оказавшись неожиданно взаперти, она страшно обиделась и в отместку разбила несколько пустых банок.
Тревожно прислушиваясь к звукам в сарае и вспоминая, какие там еще есть бьющиеся вещи, Жмыхов забрался в «Беларусь». Поднимаясь вслед за ним, Петухов думал о том, что в детективах это, кажется, называется «идти на дело» и что за угон трактора его портрет наверняка снимут со школьной доски почета. А Фрося беспокоилась за бабушку. Ведь Аглае Ермолаевне, нельзя волноваться, и, значит, не стоит знать, что ее жилище исчезло среди бела дня, позабыв во дворе свои печи и погреб. Оставалось надеяться, что дом все-таки вернется в Папаново раньше бабушки.
Усевшись втроем на просторное кресло, друзья с лязгом захлопнули дверь, и естественный троечник завел мотор. Фрося почувствовала, как поджилки у нее мелко затряслись.
— Надо сначала дать машине прогреться, — важно сказал Жмыхов.
Петухов нервно оглядывал улицу через окна.
— Вот сейчас тут кто-нибудь появится и прогреет нас как следует!
Но Жмыхов был совершенно спокоен. Он представлял себя командиром корабля, который отправляется в опасный, но необходимый рейс. Наконец, повинуясь движениям юного водителя, трактор тронулся с места и поехал по дороге, качаясь на колдобинах, как пароход на волнах. Естественный троечник полустоял-полусидел на краешке кресла. Ведь если бы он сел как следует, то не смог бы достать до педалей.
Миновав последние дома главной из двух Полевских улиц, «Беларусь» покатила между заснеженных полей.
— Ты уверен, что мы правильно едем? — хмуро спросил Петухов. — Это же дорога на Кедрово! Разве нам не на Питерское шоссе?
В школе отличник привык быть на первом плане. А теперь, оказавшись на втором, чувствовал себя неуютно и пытался вернуться на привычное место. Но его целиком занял знаток тракторов и окрестных дорог Жмыхов.
— Так короче, — ответил он уверенно. — Переедем на Молочной железку, потом у Марфино через шоссе на Петрозаводск, вот тебе и Быки!
Вскоре заснеженные поля сменились заснеженным ельником. Несмотря на покрывавшие землю сугробы, он казался совсем черным. Даже страшно было представить, кто может жить в таком черном лесу. Тут Петухов обратил общее внимание на то, что им до сих пор не встретилось ни одной машины.
— А если застрянем? — добавил он. — Кто нас вытаскивать будет?
— Мы что, дураки застревать? — удивился Жмыхов. — У нас на это времени нет.
Наконец ельник кончился, и за окнами поползла деревня Кедрово. За ней, чередуясь обрывками леса и полей, последовали Ееремеево и Бовыкино. Еще через пятнадцать минут к «Беларуси» подтянулась станция Молочная, и трактор уперся в красно-белый шлагбаум.
Громкий, неприятный звон, будто от огромного железного комара, говорил о том, что переезд закрыт. Из будки у шлагбаума вышла пожилая женщина в грязноватом оранжевом жилете и вытянула в сторону железной дороги руку с оранжевой палочкой, похожей на гигантский леденец. Она словно хотела им угостить пассажиров приближающегося поезда. Вдалеке раздался гудок и стал быстро нарастать.
Фрося смотрела на женщину с «леденцом», но по-прежнему думала о доме:
«Наверное, в музее его сунут под стеклянный колпак, а сверху напишут „Руками не трогать!“. И будут поднимать стекло только раз в год, чтобы прибить к дому отвалившиеся части».
Жмыхов с интересом ждал поезда и гадал: пассажирский пройдет или «товарняк»? Петухов снова начал нервничать. Он обернулся к заднему окну и вздрогнул. Несмотря на не очень оживленное движение поселковых дорог, за трактором успела собраться небольшая очередь. И первым в ней стоял мотоцикл с коляской, верхом на котором сидел полицейский.
Он был средних лет и среднего роста. Крепко держа руль, полицейский задумчиво глядел в заднюю ось «Беларуси», будто там скрывалась какая-то большая тайна. Однако, почувствовав, что на него смотрят, мужчина поднял голову и встретился взглядом с Петуховым. Отличник снова вздрогнул и отвернулся.
В ту же секунду по переезду загремел поезд. Жмыхов не угадал — это был не пассажирский и не «товарняк», а электричка в северную столицу.
Вдруг сквозь грохот ребята услышали стук в левую дверь. Повернувшись к ней, они увидели в окне верхнюю часть полицейского. Он поднял руку и сделал указательным пальцем манящее движение. В ответ Жмыхов помотал головой и постучал себя по запястью левой руки, как бы говоря, что у них нет времени. Полицейский попробовал открыть дверь, но она была заперта изнутри.
Тем временем мимо женщины с «леденцом» пролетел хвост поезда. Проводив его равнодушным взглядом, она вернулась в будку, и шлагбаум поднялся. Тут же дверная ручка вырвалась из ладони полицейского и вместе с прочими деталями трактора ринулась через железную дорогу. Спустя секунду сержант уже сидел в мотоциклетном седле, а это седло неслось за «Беларусью» с возрастающей скоростью.
Ребята тряслись в прыгающей на кочках кабине, как шарики в погремушке. Из-под огромных колес трактора назад летели фейерверки снега. Между ними, словно огромная железная блоха, по колдобинам скакал «Урал» с коляской. Видимо, полицейский, подобно своему мотоциклу, был сделан из железа. Он держался в седле как влитой и только сурово прищуривался, когда снежные комья разбивались о его мужественное лицо. Очень быстро в коляске мотоцикла набрался целый сугроб. Из-за этого казалось, что сержант везет толстого и бледного преступника.
Редкие прохожие испуганными взглядами провожали погоню. Ничего подобного на тихой деревенской дороге еще не происходило!
Мимо «Беларуси» и «Урала» пролетели: Кулеберево, Маурино и Марфино. В завихрениях снега трактор с преследующим его мотоциклом пересекли шоссе на Петрозаводск, снова проскакали по проселку и наконец замерли перед резными воротами Музея деревянного зодчества.
Вызванная погоней пурга медленно утихала, возвращая воздуху прозрачность. Жизнь в Вологодской области вновь стала спокойной и неторопливой. Заглушив мотор, Жмыхов посмотрел в левое окно. Там опять стоял заснеженный полицейский и совершал указательным пальцем манящее движение. Ребята поняли, что от этого пальца им никуда не деться.
Петухов порылся в памяти, вспоминая, как в прочитанных детективах люди разговаривали с блюстителями порядка. Затем он решительно открыл дверь и спрыгнул в снег.
— Очень хорошо, что вы тут случайно оказались, — сказал отличник. — Мы хотим сделать заявление.
Рука полицейского, протянувшаяся, чтобы схватить Петухова за шкирку, удивленно замерла.
— Случайно оказался? Я за вами гнался так, что от мотоцикла чуть не отвалились колеса! — Тут рука, вспомнив инструкцию по обращению к гражданам, отдала честь. — Сержант Мокроусов!
— А я Петухов. — Отличник показал на выбирающуюся из трактора Фросю. — У нашей одноклассницы украли дом. Помогите нам его вернуть.
Мокроусов потер перчаткой гладко выбритое пространство под носом. Как-то странно получалось. Он гнался через три деревни за детьми, которые безо всякого права разъезжают на тракторе, а теперь вдруг должен им помогать? И потом, разве дома крадут?
Нахмурив необыкновенно прямые брови, сержант посмотрел на Жмыхова. Тот продолжал сидеть в «Беларуси», где чувствовал себя в безопасности. Естественный троечник понимал, что за угон трактора спросят в первую очередь с него и одними ушами дело на этот раз не обойдется.
— Как так «украли дом»?
Петухов поднялся на цыпочки, приложил ладонь к губам и, скосив глаза в сторону деревянных ворот, прошептал:
— Это он украл!
Мокроусов также осмотрел огромные резные створки.
— Кто «он»?
Петухов сделал страшное лицо.
— Музей!
Тут молчавшая до сих пор Фрося решила вступить в разговор. В конце концов, это она была пострадавшей, а не кто-нибудь другой!
— Дядь, только вы их сразу не сажайте в тюрьму. Надо сперва разобраться. Может, они решили, что дом ничейный.
— Фиг с два! — крикнул из трактора Жмыхов. — Ты говорила, что там висела доска с именем твоего прадеда. А кроме того, в доме была Курица!
Мокроусов строго глянул на Жмыхова, и тот присмирел. Сержант тоже считал, что сначала следует разобраться. Он приказал детям закрыть «Беларусь» и следовать за ним.
Две скалы
Войдя в ажурную деревянную калитку, он предъявил контролеру вместо билета полицейское удостоверение.
— А это со мной, — он кивнул на детей, — пострадавшая и два свидетеля.
Вслед за Мокроусовым ребята вошли в музей.
Увидев, как легко контролер пропустил сержанта и как здорово отражается солнце в его начищенных сапогах, Жмыхов подумал, а не стать ли ему полицейским? Он, правда, не любил музеи, но троечнику нравилась сама возможность проходить куда-нибудь без билета. И манила перспектива носить такие шикарные сапоги, а не вечно заляпанные грязью, неуклюжие кирзачи тракториста. Поразмыслив несколько минут, Жмыхов решил, что если Арктика растает и пойти в полярники не получится, то он будет полицейским.
Мокроусов строго поглядывал на здания, мимо которых шел с ребятами.
Музей деревянного зодчества не зря славился своей коллекцией на всю страну! По его экспонатам можно было в подробностях проследить историю Вологодской области. Тут находились не только жилые дома. Рядом с крестьянскими избами и барскими усадьбами стояли амбары, бани и мельницы, привезенные из ближних и дальних деревень. Посетители могли увидеть даже старинный холодильник — ледник, какие раньше ставили над наполненными льдом ямами. А над всем этим поднимались две красивые деревянные церкви из Тарногского и Верховажского районов.
Взглянув на них, сержант перекрестился и сказал Фросе:
— Если увидишь свой дом, дай мне знать. Только потихоньку.
Однако чем дальше они шли, тем более странный вид принимала музейная экспозиция. В самом удаленном ее конце вместо целых домов находились их отдельные части. Тут было крыльцо, которое никуда не вело, балкон, который ни к чему не крепился и обширный, почерневший от времени чердак. Он лежал прямо на земле, из-за чего казалось, что дом закопали по самую крышу. А за чердаком возвышалось нечто бесформенное и накрытое брезентом. Из-под его края выглядывал охлупень со знакомым нам по началу повести коньком. Рядом стоял младший научный сотрудник Леня Соболь. Он держал в руках табличку с надписью: «Жилой дом зажиточного крестьянина Федора Коровина. Начало 19 века».
При виде нее Фрося так заметно побледнела, что Мокроусов без дополнительных знаков понял — пропажа нашлась. Сержант шагнул к младшему научному сотруднику и, представившись, сказал:
— Мне нужно поговорить с вашим директором.
Сначала Леня Соболь хотел ответить, что директор занят (он писал научную работу под названием «Некоторые мысли по поводу бань Среднесухонского сектора»). Но взглянув в строгое, хорошо сложенное лицо полицейского, передумал и, положив табличку на брезент, побежал за Иваном Михайловичем. Вернее, поначалу он шел легким, прогулочным шагом. Однако свернув за двухэтажный четырехстенный амбар из деревни Шапша, бросился со всех ног. Все-таки полиция не каждый день появлялась в музее!
А Фрося подняла табличку и крепко прижала к груди. Она ясно себе представила, как Аглая Ермолаевна возвращается в Папаново, видит, что ее дома там нет, и у нее случается удар, после чего бабушку снова отправляют в больницу. Фрося опустилась на бревно с коньком и горько заплакала.
Петухов и Жмыхов смущенно переглядывались — им было неудобно за ревущую одноклассницу. Но сержант сразу разобрался в ситуации. Он вынул из кармана форменный платок с гербом полиции и протянул Фросе. Так что к моменту появления директора ее лицо было приведено более или менее в порядок.
Однако Иван Михайлович с Леней вышли не из-за шапшинского амбара, как ожидали школьники, а из-за бани, привезенной из деревни Калинино. При этом, видимо, директор задавал Лене вопросы, на которые тот не мог ответить. Младший научный сотрудник так часто пожимал плечами, будто на ходу исполнял какой-то веселый народный танец. Наконец музейные работники подошли к брезенту, скрывавшему то, что еще недавно служило Фросе жилищем.
— Я вас слушаю, — сказал директор, в голове которого по-прежнему преобладали бани.
И он бы наверняка услышал кое-что очень неприятное, потому что Жмыхов и Петухов, сплоченные общим негодованием, дружно шагнули вперед. Но между ними и директором вовремя встал Мокроусов. Он так стремительно отдал Ивану Михайловичу честь, что тот этого даже не заметил. Сержант в третий раз за день представился и произнес привычную для себя фразу:
— Пожалуйста, ваши документы, — к которой сделал необычное добавление, — на этот дом!
Одновременно он метко стрельнул глазами в кучу под брезентом.
После «выстрела» полицейского «Некоторые мысли о банях» в директорской голове наконец начали перестраиваться в мысли о чем-нибудь еще. Среди архитектурных частей забрезжил свет, усиленный отражениями солнца в начищенных до зеркального блеска сапогах. Ослепленный этим ярким сиянием Иван Михайлович прищурился. Затем он втянул живот, за счет чего сумел сделаться немного выше и стать одного роста с сержантом.
— А какие у вас для этого основания? — спросил он, смерив Мокроусова взглядом.
Но смеренный взглядом сержант оставался спокоен и холоден, как окружающий его снег.
— Дело в том, что эта девочка, — полицейский показал перчаткой на оседлавшую охлупень Фросю, — утверждает, будто дом принадлежит ей.
Омельянов сделал губами движение, которое означало то же, что и пожатие плечами, поскольку пожимать ими он опасался, чтобы не выкатить живот. Директор пошептал на ухо Лене, и тот, кивнув, снова куда-то убежал. Видимо, передвигаясь по музею, его работники каждый раз пользовались новыми путями. Во всяком случае, теперь младший научный сотрудник свернул за трехэтажный, однорядный дом-двор из Тотемского района.
В отсутствие Лени возле разобранной избы Коровиных не было произнесено ни слова. Сержант и директор, как две скалы, молча стояли друг напротив друга, стараясь ничем не уронить своего достоинства. Рядом то же самое пытались сделать Петухов и Жмыхов. И им это удалось, хотя и не с таким блеском, как взрослым.
Сидящая между «скалами» Фрося так крепко прижимала к себе железную табличку, что у нее на ребрах потом появились синяки. Единственное заметное движение у дома зажиточного крестьянина в эти минуты производили струйки пара, вылетавшие из пяти покрасневших от мороза и негодования носов.
Наконец Соболь вышел из-за ледника, некогда обнаруженного экспедицией музея в Нюксенском районе. В руке у Лени трепетал белый прямоугольник. Поначалу Мокроусов принял его за парламентерский флаг. Но когда младший научный сотрудник без единого звука передал «флаг» директору, а тот с еще более выразительным молчанием — сержанту, он понял, что это документы на дом.
Руки Мокроусова поднесли бумаги к лицу, и взгляд побежал по строчкам.
— А кто это — Никанор Чемоданов, который подтверждает¸ что дом никому не принадлежит? — спросил полицейский.
Пар из его рта вылетел загогулиной, похожей на знак вопроса.
— Это наш местный пьяница, — возмущенно ответила Фрося. — Он вам за стольник на пузырь что хочешь подтвердит!
Над ее головой повисло облачко, и вправду чем-то напоминавшее Никанора. Можно было различить даже полупрозрачную кепку.
— Бумага действительно оформлена не совсем правильно, — признал Иван Михайлович. — Но у нас есть хотя бы такая!
Вылетевший из его рта столб пара превратился в восклицательный знак.
— А ты, девочка, чем можешь подтвердить, что Федор Коровин, который построил этот дом — твой родственник?
Все посмотрели на Фросю. Она сделала попытку подняться, но под грузом навалившихся на нее взглядов снова опустилась на бревно. Фрося растерялась. Она никогда не думала, что однажды ей придется доказывать родственную связь с собственным прадедушкой. Но, с другой стороны, на ней же не написано, что она Коровина! Это написано на ее дневнике, но он вместе с другими вещами из дома лежит в амбаре, отстоящем сейчас от Фроси на сорок километров.
Вдруг кто-то рядом сказал:
— Я могу подтвердить!
Тяжесть и облегчение
Все удивленно оглянулись. У крыльца, которое никуда не вело, стояли учитель Петр Сергеевич и привезенный им на сельсоветской машине тракторист Жмыхов.
Увидев отца, естественный троечник первым делом переменился в лице, а вторым — накрыл уши ладонями. Тут же правая рука тракториста вынулась из кармана куртки и направилась к троечнику. Она вытягивалась и вытягивалась, а собравшиеся молча следили за ее продвижением по территории музея. Рука неторопливо миновала Леню Соболя, Ивана Михайловича, протянулась над Фросей, ловко обогнула сержанта и наконец зависла над левым ухом Жмыхова, хищно раскрыв пальцы.
— А вы, простите, кто? — спросил тут Мокроусов.
Этот вопрос очень смутил руку. Не окончив дела, для которого она была отправлена, рука стушевалась, метнулась обратно к хозяину и спряталась в карман.
— Я — учитель этих детей, а он… — Петр Сергеевич взглядом передал слово трактористу.
— А я — отец этого ворюги! — Жмыхов повторил путь, только что проделанный его рукой, и взял сына за плечо. — Ну-ка, шпингалет, пойдем поговорим!
— Только вы не очень, — сказал Петр Сергеевич, — по-отечески.
— Именно так, — согласился Жмыхов и повел за ближайший амбар своего сына, упорно продолжавшего закрывать уши ладонями.
Вскоре оттуда послышались короткие вскрики естественного троечника и назидательное гудение его отца. Причем чаще всего звучало прилагательное «недоделанный», которое тракторист, казалось, присоединял ко всем существительным подряд.
— По-моему, ясно, что произошло недоразумение, — сказал Петр Сергеевич, отвлекая присутствующих от звуков из-за амбара, — кто-то случайно или намеренно ввел вас в заблуждение.
Введенный в заблуждение Иван Михайлович тяжелым взглядом смотрел под брезент, где скрывалась разобранная причина неприятности. Ему уже было не до живота, и тот, оставшись без надзора, снова принялся портить фигуру директора. Омельянов всегда тщательно следил за оформлением бумаг на новые экспонаты. Но на этот раз он так сильно хотел заполучить уникальное здание, что посмотрел сквозь пальцы на некоторые формальности. И вот результат: он попал впросак, сел в лужу и заодно опростоволосился. Севший вместе с ним в лужу Леня Соболь тоже молчал, хотя и не так тяжело. А Мокроусов, увидев, что дело с трактором разрешилось, наоборот почувствовал облегчение.
— Ну что же, действительно все ясно, — сказал он. — Если музей вернет дом хозяевам, то мы, пожалуй, будем считать, что ничего не было. Верно? — сержант посмотрел на Фросю.
Она кивнула. Вслед за ней со вздохом, где звучало много чувств, но громче всего — разочарование, кивнул и Омельянов. Он очень любил деревянное зодчество. Но еще больше он любил справедливость и если видел, что совершил ошибку, то всегда это признавал.
Однако для того чтобы считать, будто ничего не было, предстояло сделать очень много. Поэтому директор тяжело развернулся и отправился собирать водителей. Такая бессмысленная перевозка дома с одного места на другое стоила очень дорого. Она даже могла стоить Ивану Михайловичу места директора.
Тем временем из-за амбара вышли Жмыховы, закончившие воспитательную беседу. Теперь уши естественного троечника так сильно давили изнутри на шапку, что она из полукруглой стала многоугольной. Из-под нее, так же как от руки тракториста, шел пар.
Посмотрев на троечника, который всем видом старался показать, будто ничего особенного не произошло, сержант в свою очередь решил провести беседу с трактористом. Поэтому к выходу из музея полицейский шел с отцом Жмыхова. По пути Мокроусов рассказывал ему о штрафах и других видах ответственности за езду без прав.
— С одной стороны, это, конечно, плохо, — соглашался тракторист, — но с другой — пацан только в третьем классе учится, а уже «Беларусь» водит! Зачем же парню крылья резать?
За ними молча шагали ученики Папановской школы. Петухов думал о том, какая большая разница между жизнью и литературой. Одно дело — приключения в книжке, а другое — на самом деле, когда за них дерут твои собственные, настоящие уши. Он искоса поглядывал на оттопыренную шапку Жмыхова и невольно потуже натягивал собственную. Отличник боялся, что дома его ждет та же участь.
Фрося несла под мышкой железную табличку. Этим она как бы начала возращение дома в деревню. Фросе казалось, что табличка — самое главное в доме, его лицо, и что от него дом все равно никуда не денется. Правда, «лицо» это было довольно тяжелым и его приходилось перекладывать из одной руки в другую.
За резными воротами музея Мокроусов попрощался с учителем и трактористом. Потом немного подумал и протянул ладонь естественному троечнику, которому тоже не хотел резать крылья. В заключение полицейский пообещал лично проследить за перевозкой дома Федора Коровина, снова стремительно отдал честь и уехал.
Жмыхов с отобранными у сына ключами залез в «Беларусь». А ребята добирались до Полево с Петром Сергеевичем.
Школьники были уверены, что учитель их поругает. Но он неожиданно похвалил. Больше того, сказал, что гордится ими, хотя брать без спроса чужие тракторы, конечно, нехорошо.
Уставшая от всех этих приключений Фрося быстро уснула. Она даже не слышала, как Петр Сергеевич высадил ее одноклассников у Полевской школы, где их уже ждали родители. Проснулась она, только когда машина с рычанием забралась на горку в начале Папаново и поехала по его единственной улице. Подпрыгивая на ухабах, автомобиль освещал то вечно раскрытую калитку Никанора, то просевшую от снега крышу клуба, то крыльцо церкви. Фросе вдруг показалось, что она снова попала в то место Музея деревянного зодчества, где собраны отдельные части домов.
Наконец машина остановилась у опустевшего двора Коровиных. Возле них учитель и ученица с удивлением увидели половину какого-то человека. Он подошел поближе к фарам, к его нижней половине добавилась верхняя часть, и Фрося узнала дальнего родственника Филимона. Проведав по своим колдовским каналам о неприятности с домом двоюродной сестры, он пришел, чтобы забрать ее внучку.
Филимон поздоровался с учителем и попросил освободить Фросю от занятий, пока ее жилище не вернется на место. Петр Сергеевич не возражал. Он даже пообещал, что завтра приедет в Папаново с остальными учениками и поможет собрать дом.
Чтобы как-то отблагодарить учителя, колдун окинул беглым взглядом автомобиль и сказал, что Петру Сергеевичу надо поменять прохудившийся шланг на бензонасосе. С этими словами он увел Фросю в темноту, оставив потрясенного Петра Сергеевича стоять у деревянных ворот.
Возвращение
Следующий день был великолепен! Облака, чтобы не портить торжественного момента, держались подальше от Папаново. Небо украшал только шар солнца, похожего на огромную новогоднюю игрушку. Снег сиял изо всех сил, желая создать у папановцев хорошее настроение. Даже обычные серые вороны сегодня выглядели празднично- голубыми.
Ровно в два часа в начале деревни показалась полицейская фуражка. Она словно необычный зимний гриб вырастала над пригорком, вытягивая за собой сначала лицо и плечи Мокроусова, а затем его руки, ноги и наконец мотоцикл с коляской. Следом из-за пригорка появились пять «Камазов», нагруженных домом Федора Коровина.
У опустевшего двора за избой кузнеца их уже поджидали.
Разумеется, тут были Фрося и лесник Филимон. Рядом стояли отец Игнатий и кузнец Мелентий, который специально отпросился с работы, чтобы помочь соседям поднять дом. Была тут вся папановская школа во главе с Петром Сергеевичем и находящийся при ней детский сад в составе четырехлетнего Жмыхова. Дошкольник держал наготове неизвестно где добытый огромный гвоздь и мечтал поскорей его куда-нибудь забить.
Наконец, тут был Герасим, которого Филимон смог разбудить настоем каких-то колдовских трав. А на отшибе, вдалеке от всех, стоял замученный собственной совестью принципиальный пьяница Никанор. Он смущенно поглядывал на свои не однажды залатанные валенки и очень надеялся, что ему дадут загладить вину переноской самых тяжелых бревен.
Когда караван «Камазов» добрался до места, Мокроусов лихо соскочил с седла. Он поприветствовал собравшихся и начал руководить разгрузкой. По его предложению Петр Сергеевич и Соболь забрались в кузов, чтобы подавать оттуда части дома. Фрося, Жмыхов и Петухов носили детали полегче: ставни, наличники и причелины. А самые тяжелые бревна таскали Никанор и Герасим. Правда, такая работа была для пьяницы непривычна, и через три бревна у него заболела спина. Тогда ему поручили присматривать за дошкольником. Они до самого вечера вместе ходили по двору и думали, куда бы приспособить огромный гвоздь.
Но все-таки самым главным человеком на стройке был Омельянов. Сверяясь с собственноручно нарисованным планом дома, он внимательно следил, чтобы бревна на старое место укладывали по порядку, в соответствии с нанесенными на них номерами.
К концу дня над квадратом голой земли с двумя печами поднялся испещренный белыми цифрами первый этаж — подклет, с примыкающим к нему куровником. На другой день его надстроили избой, горницей и поветью. А еще через два дня дом накрыли тесовой крышей.
Вот тут-то и пригодился огромный гвоздь Жмыхова. Им Фрося лично прибила к стене «лицо» своего жилища, то есть табличку с надписью «Жилой дом зажиточного крестьянина Федора Коровина. Начало 19 века». Затем из амбара принесли сложенные там вещи и расставили по местам. Фрося была уверена, что теперь даже бабушка не заметит случившихся с домом перемен. Но она ошиблась.
Аглая Ермолаевна вернулась в Папаново вечером тридцать первого декабря. Ее через разыгравшуюся вьюгу привез на сельсоветской машине Петр Сергеевич.
Он хотел помочь старухе выбраться из автомобиля, но Аглая Ермолаевна ответила, что она — не какой-нибудь инвалид, и, опершись на костыли, гордо понесла загипсованную ногу к резному крыльцу.
Сердито сопя, хозяйка дома открыла дверь, проковыляла через сени в подклет и удивленно замерла.
На кухне было полно народу. За празднично накрытым столом-верстаком, под свисающими с потолка разноцветными гирляндами, сидели: ее дальний родственник Филимон, отец Игнатий, какой-то полицейский, незнакомый парень-усач, кузнец Мелентий со своей женой и уж совсем неожиданный Никанор. У пышной елки в углу стоял медведь Герасим с бородой из ваты и наряженная Снегурочкой Фрося, которая держала новогоднюю открытку от родителей. Жмыхов и Петухов с оранжевыми бумажными носами изображали снеговиков.
Не ожидавшая ничего подобного старуха бухнулась на сундук, где ее прадед хранил плотницкие инструменты, и обвела долгим взглядом кухню. Все так внимательно следили за хозяйкой дома, что было слышно, как на печке Курица во сне бормочет: «Корошо!».
Хотя кухонная утварь находилась на прежнем месте, цепкий глаз Аглаи Ермолаевны сразу заметил, что стены проконопачены совсем свежим мохом, а на русской печке новая штукатурка.
Старуха медленно повернула голову к праздничному столу и страшным голосом спросила:
— Что случилось с домом?
Напоследок
Если вам доведется побывать летом в Вологодской области, обязательно навестите деревню Папаново. Живописная дорога, бегущая между зеленых полей вдоль реки Тошни, приведет вас к единственной деревенской улице.
На ней вы увидите старый клуб, где по выходным поет местный хор, и красивую деревянную церковь. Но главная достопримечательность Папаново — это трехэтажный дом зажиточного крестьянина Федора Коровина, построенный еще в начале девятнадцатого века.
Если вы очень вежливо попросите, то, возможно, хозяйки дома, крепкая старуха и ее внучка, расскажут вам его удивительную историю. Может быть, они даже позволят вам войти на кухню, чтобы вы своими глазами увидели огромный двухсотлетний сундук, где их предок хранил плотницкий инструмент, и расскажут, чем поветь отличается от подклета. Только, пожалуйста, постарайтесь не упоминать в этом доме ни о каких музеях! Иначе хозяйки попросту выставят вас за ворота. Во всяком случае, крепкая старуха это сделает наверняка!
Небольшое пояснение к пояснению уже довольно большому
Когда рукопись была закончена, я, как и положено, отправил ее в издательство. Через неделю главный редактор позвонил мне и сказал:
— Ваша история мне понравилась. Но боюсь нынешние дети не поймут всех этих подклетей и охлупеней. Не могли бы вы, ну, э-э, написать нечто вроде словарика к книге?
Я пообещал попробовать. Но пообещать это одно, а написать совсем другое. Ведь словари пишут специалисты. А я, хоть и прочитал несколько статей по северной архитектуре, не мог похвастаться обширными знаниями в этом вопросе. Как же я буду писать словарь?
И вдруг меня осенило. Я сел за компьютер и написал письмо Ивану Михайловичу Омельянову с просьбой прислать материалы, где бы в доступной форме объяснялись особенности вологодской архитектуры. Вечером того же дня пришел ответ. К моей радости в письме содержалась большая статья Омельянова. Она называлась «Вологодское зодчество в контексте развития российского государства». Однако когда я начал ее читать, моя радость исчезла. Вот отрывок из статьи.
«Истоки русской народной резьбы, по мнению ряда крупных специалистов, уходят корнями в скандинавскую мифологию и язычество. Например, солярный знак — явный языческий символ. Тоже можно сказать и про резного коня, который завершал крышу дома и именовался охлупенем. Он, очевидно, также происходит из дохристианских обычаев и является протекционной деталью декора».
В новом письме я вежливо попытался объяснить Ивану Михайловичу, что я пишу книгу для младших школьников, а чтобы понять его статью, нужно не только закончить школу, но и желательно получить хотя бы одно высшее образование. Для большей ясности я прикрепил к сообщению свою повесть. В ответ Омельянов прислал письмо, где особенно часто повторялись слова «профанация» и «дискредитация». Короче говоря, он был очень сердит.
Неделю от него не было ни слуху, ни духу. Я уже хотел махнуть рукой на это пояснение и предложить книгу другому издательству, когда вдруг получил от Ивана Михайловича новое послание. На этот раз он написал то, что нужно!
Пояснение к книге Станислава Востокова «Фрося Коровина»
Составлено директором Вологодского музея деревянного зодчества, заслуженным деятелем культуры, Иваном Михайловичем Омельяновым.
Когда-то в нашей стране все постройки были деревянными. Конечно, дома из дерева строят и теперь. Но в наше время их делают на больших заводах и комбинатах, а потом разбирают и развозят по разным городам. Поэтому и на севере и на юге страны нередко попадаются одинаковые дома. А раньше в каждой деревне были свои зодчие. И дома в Архангельске строили не так как Вологде, а в Вологде не так, как в Ярославле. За много столетий каждый край страны создал свою архитектуру, которая лучше всего подходит к его климату.
Зодчий мог построить избу при помощи одного топора. Пилою раньше не пользовались, потому что распиленное дерево впитывает воду, а в разрубленном бревне сосуды и поры перекрываются, и дерево остается сухим. Для строительства использовали ель, сосну или лиственницу. Эти породы хорошо сохраняют тепло дома в зимнее время, а летом создают приятную прохладу. Но не каждое дерево годилось для постройки жилища! Согласно поверьям, нельзя было использовать деревья, растущие на перекрестках и заброшенных дорогах. Считалось, что такие бревна могут выскочить из стены и придавить хозяев дома. Разметив на земле план будущей постройки, зодчий укладывал на камни или песок первый ряд бревен или, иначе говоря, первый венец. При этом, по древнему обычаю, «на счастье» под углы дома прятали монетку, шерсть, зерно и ладан. Перед тем как положить следующий венец, бревна прокладывали мхом, чтобы потом в жилище не попадала влага. Уложенные друг на друга ряды венцов образовывали сруб, нечто вроде комнаты в привычной нам квартире. Нередко первый этаж состоял из двух срубов. Он назывался подклет. Нижняя часть дома редко бывала жилой. Обычно тут располагались кладовые и погреба, гораздо реже, как в доме Федора Коровина, мастерские. В нежилых подклетах устраивались маленькие «волоковые» окна, которые заволакивались, то есть закрывались, специальными досками. Пол был бревенчатым или земляным. На последний венец подклета клалась главная несущая балка — матица, а на нее потолок из колотых пополам бревен.
Потом начиналось строительство второго, жилого этажа. В отличие от первого он был теплым. Здесь находились изба и горница. В избе ставилась большая печь. Она и дала имя этому помещению, которое в древности назвалось «истба» или «истопка» от глагола «топить». Это было главное место в доме. Здесь уже в стенах прорубались большие, «красные», окна. Рядом, на том же этаже находилась горница. Ее название происходит от слова «горний», то есть «верхний». Горница отапливалась печным боком, который входил в нее из соседнего помещения. Тут обычно женщины занимались рукоделием.
Чтобы тепло лучше сохранялось, стены и потолки жилой части дома обивались полотном или войлоком, обшивались тесом, то есть тонкими досками. Для того же окна на ночь закрывались снаружи ставнями, а изнутри втулками — деревянными щитами, обитыми войлоком или сукном. По тому открыты ставни или закрыты, можно было узнать: спят хозяева или уже встали, дома они или уехали по делам. Снаружи стыки между окнами и стенами закрывали накладными досками с резным орнаментом — наличниками. Они не только украшали дом, но и защищали его от потери тепла и проникновения влаги.
В центре избы помещался обеденный стол, а вдоль стен — лавки. Над ними крепились полки для шляп, книг и прочего мелкого имущества. Такая полка называлась «воронец». Одежду и разную утварь хранили в больших сундуках, вроде сундука Федора Коровина, который не раз упоминается автором книги. С 19 века в крестьянских избах стали появляться шкафы и стулья.
Но продолжим строительство нашего воображаемого дома.
Над вторым этажом ставился терем или по-другому светелка. Именно здесь в доме Федора Коровина находится спальня. Обогревались такие помещения дымоходом, который шел из избы на крышу. К светелке пристраивался балкон-выходец с резными перилами и решетками.
Теперь перейдем к крыше.
На треугольные завершения передней и задней стены укрепляли длинные бревна — слеги. Верхняя называлась «князевой», а к нижним крепились деревянные крюки из выкорчеванных с корнем молодых елей. Обычно зодчий придавал этим крюкам вид птичьих голов, поэтому они назывались «курицами». На них укладывались потоки — деревянные желоба для отвода воды. Слеги покрывались трехслойной крышей. Сначала клался тес, затем береста, которая защищала дом от влаги, а поверх дранка — двухметровые колотые дощечки. Чтобы дранку не унесло ветром, она прижималась к скатам легкими бревнами — гнетами. Наконец на верхнюю точку дома, князеву слегу, укладывалось массивное корытообразное бревно, тот самый охлупень о котором так много и не всегда к месту говорит автор произведения. Название этой детали происходит от слова «охлоп», так наши предки называли крышу. Обращенному к улице концу охлупеня зодчий придавал вид головы коня, птицы или оленя. Считалось, что такое изображение защищает хозяев от злых духов, болезней и неурожаев. Поскольку чаще всего охлупень имел вид головы коня, то со временем верхнюю часть кровли стали называть «коньком». Торец крыши украшали длинными резными досками — причелинами, которые шли влево и вправо от охлупеня, словно крылья летучего коня. Стык между ними закрывался «полотенцем». Эта короткая, с красивым орнаментом доска, находилась точно под охлупенем. Свое название она получила за то, что напоминает расшитое узорами крестьянское полотенце.
Итак, удобное и красивое жилище готово! А теперь пора рассказать о главном отличии северного крестьянского дома.
В Средней полосе России, например в Подмосковье или на Смоленщине, хозяйственные постройки — гумно для молотьбы хлеба, овин для сушки сена, конюшня — были разбросаны по двору. Но лютые морозы Севера заставили обитавших там крестьян собрать все перечисленное под одной крышей со своим жилищем. В результате получилась очень большая постройка. Она называется дом-двор. Обитавшие там люди могли выполнять хозяйственную работу, не выходя на улицу. Причем крытый двор обычно занимал две трети такого дома.
С жилой частью его соединяли сени, которые еще называли «мостом». Входили туда через крыльцо сбоку постройки. «Мост» напоминал подъезды современных жилых зданий. От крыльца на второй и на третий этажи вела лестница с лестничными площадками. На них, так же как и в подъездах, находились двери. Только они вели не в квартиры, а в жилые и хозяйственные помещения.
На первом этаже крытого двора располагались скотный двор и конюшня. Второй этаж назывался «поветь». Тут находились кладовые и чуланы. На повети хранили корм для скота и хозяйственный инвентарь: телеги, бороны, рыбачьи снасти. В непогоду и в холод здесь теребили лен, мололи зерно, долбили лодки и плели сети. С задней стороны дома на второй этаж вел широкий помост из крепких бревен — взвоз. По нему можно было завести лошадь с нагруженной телегой прямо на поветь.
Из тех редких построек, которые в хозяйстве северных крестьян стояли отдельно от дома, можно назвать амбар и ледник. Чаще в амбарах хранили зерно, реже вещи, или, как говорили раньше, рухлядь. В двухэтажных амбарах хранили и то, и другое: на первом этаже, в высоких ларях — сусеках, зерно, а на втором — одежду и различную утварь. Иногда в пристроенном к амбару помещении устраивали часовни, так называемые «часовни-амбаронки». Тогда на его коньке ставился крест.
Ледник служил для хранения скоропортящихся продуктов. Обычно его сооружали недалеко от входа в дом. Сначала вырывалась яма глубиной около двух метров, которая обшивалась досками или выкладывалась камнем. Потом над ямой ставили небольшой крытый сруб, причем его дверь всегда была с северной стороны, чтобы внутрь проникало как можно меньше тепла. С весны яму наполняли снегом, и он служил для хранения припасов все лето.
Свой двор крестьянин обносил забором из тесаных бревен — заплотом. На крепких столбах устанавливались ворота с небольшой крышей. Ее украшали башенками, шатрами и гребешками. Ворота могли быть одностворчатыми или двустворчатыми, с одной или парой калиток. По величине и красоте ворот судили о богатстве их хозяина.
Крестьянские дворы стояли вдоль улицы неровно: один ближе, другой дальше. Зато она отличалась необычной для других краев шириной. Это нужно было для того, чтобы на улице оставалось поменьше тени и побольше солнца, которого на Севере очень мало.
Ну вот, пожалуй, и все что мне хотелось бы объяснить читателям. Добавлю только, что читать — это одно, а видеть своими глазами — другое. Поэтому приглашаю вас посетить наш Вологодский Музей деревянного зодчества. Ведь только здесь, на этом островке старого мира, где еще живы многие древние традиции, вы сможете по-настоящему понять, как жили наши мудрые и бережливые предки.


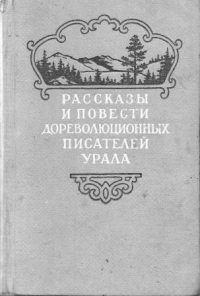



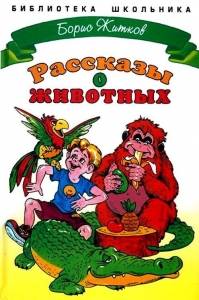


Комментарии к книге «Фрося Коровина», Станислав Владимирович Востоков
Всего 1 комментариев
влад
26 фев
очинь хорошая