МОЙ ДРУГ КАРЛ
Это было в 1947 году. Мы ехали на грузовике по разрушенным улицам Берлина, потом по шоссе за городом, мимо сожжённых лесов в Заксенхаузен, бывший концентрационный лагерь, почтить память погибших героев. Грузовик был битком набит, сидели в тесноте, — молодёжь, всего несколько человек пожилых. Мы почти не знали друг друга, но нас объединяли песни.
Когда запели «Песню юности», мне показалось, что один из пожилых не знает текста. Все остальные песни он уверенно пел вместе с нами с первого до последнего слова, а эту явно старался прочесть с наших губ, вслушивался в неё, глядя нам в глаза.
Я наклонился к нему, чтобы он мог получше разобрать слова:
По дымным руинам, по пыльным обломкам Под новую песню шагаем вперёд. Не смерть и убийство в ней славим мы громко, О радости юность сегодня поёт!Эту песню все мы хорошо знали — не раз слыхали её, не раз пели. Это была наша песня.
В его удивительно больших круглых глазах мелькнула озорная искорка, когда он вдруг весело подхватил припев:
Лети же по миру, ты, песня о мире, И дружбу, и счастье народам неси, Лети, разливайся всё шире и шире, Сплоти нас, придай нам отваги и сил!Когда же гитара заиграла вступление ко второму куплету, он наклонился ко мне и задал весьма неуместный вопрос: знаю ли я, кто написал эту песню?
Мне было тогда семнадцать, я был не один, а в кругу молодёжи, таких же ребят, как я, — все мы пережили фашизм и войну и теперь были так свободны и так рады этой свободе, и вот к нам прилетела песня, выражавшая все наши мысли и чувства… Да какое нам было дело до имени её автора! Это была наша песня. Это была моя песня.
Я напрямик сказал пожилому человеку, что это ведь совершенно всё равно, и продолжал петь дальше. Его взгляд, направленный прямо на меня, я чувствую ещё и по сей день. Озорная искорка пряталась теперь где-то в самой глубине его глаз, и с каждой новой фразой песни он взглядывал на меня всё с тем же вопросом: «Парень, ты это всерьёз, это ты искренне? Кто-то там написал, что он думает, а ты думаешь точь-в-точь так же, когда поёшь?»
Да, чёрт возьми, это было всерьёз, я думал точь-в-точь так же! Я и все мы думали так же:
Войне никогда не дадим повториться, Не встанет из пепла фашистский кумир, Мы будем работать, творить и учиться, Да здравствует дружба, доверие, мир!Дерзко, упрямо я пел в лицо моему настойчивому собеседнику… его песню.
Два десятилетия спустя у нас с ним зашёл разговор об этом случае. Мы сидели у него, возле догорающего камина, и я спросил, не задел ли его тогда мой резкий тон. Ведь тем временем я успел не раз о нём пожалеть. Не только потому, что мы стали друзьями, и не только потому, что теперь я и сам писал и мне было не совсем безразлично, когда спрашивали: «А кто это написал?» Но прежде всего потому, что теперь-то я знал, с каким правом Карл Векен задавал этот вопрос.
Поленья в камине трещали, из них вылетали искры… Векен усмехнулся. Да, немного это ущемило его самолюбие. Но гораздо важнее было ему узнать, что его песня стала воистину нашей песней.
— А она ведь была так нескладно зарифмована, — добавил он, словно поддразнивая, — вся в рытвинах и ухабах, как улицы, на которых подпрыгивал грузовик, увозивший нас в Заксенхаузен!
И тут же у нас возник спор, можно ли так говорить про песню, написанную на одном дыхании, от всего сердца. Векен любил спорить, и спорить с ним было всегда интересно. Потому что в споре каждый выкладывает свой запас жизненной мудрости и вступает за него в бой. Если же споришь с таким человеком, как Векен, то в конце концов, хоть и складываешь оружие, всё равно остаёшься в выигрыше: ты многому научился.
Наконец мы пришли к единому мнению насчёт этой песни. Она безусловно имеет большую ценность — ценность документа. Если бы тогда, в послевоенное время, она не появилась, нам наверняка не хватало бы чего-то очень существенного. Но её не могло не быть. Как она нужна была нам, ребятам и девчонкам, мы доказывали снова и снова, распевая её во всё горло. Она была грубо вытесана, но зато была искренней — так же как и мы, те, кто её пели.
— Я ведь, по правде говоря, никогда не был поэтом, — сказал Векен, в задумчивости откинувшись на спинку кресла, — я всегда был только учителем!
Кто хочет понять, как случилось, что учитель стал писать песни, которые пела молодёжь в громыхающем грузовике под трепещущим на ветру флагом, и как он стал писателем — автором читаных-перечитаных рассказов для детей и юношества, удостоенных многих премий, — тот должен узнать о его удивительной жизни.
Карл Векен родился 22 июля 1904 года в Эссене, городе доменных печей, прокатных заводов и шахт, под небом, серым от дыма, — в городе, где всем заправлял фабрикант Крупп, прозванный «королем пушек». Карл Векен не из рабочей семьи. Родители его, набожные обыватели, хотели уберечь сына от судьбы рабочего в кузнице оружия Круппа, мечтали, чтобы он «вышел в люди». Но средства их были весьма ограниченны, и они послали его учиться в духовную учительскую семинарию.
Вокруг гремели классовые битвы революционных лет — это было после первой мировой войны. Вооружённые рабочие батальоны защищали права пролетариата против армии убийц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Жёны и дети рабочих выходили на демонстрацию против голода, их разгоняла конная полиция. Набожный молодой студент учительской семинарии не мог не видеть, не слышать, не знать всего этого.
Он сдал последний экзамен. Но начались годы кризиса. Место учителя было найти невозможно. Государство стояло накануне банкротства. Векену пришлось встать в очередь безработных на бирже труда и радоваться, когда на несколько месяцев ему предоставили работу шахтёра.
Там, под землёй, у него раскрылись глаза на то, что представляет собой класс пролетариев, от которого его так долго старались держать в стороне. Он почувствовал силу этого класса, научился мечтать вместе с ним об изменении мира, проникся его уверенностью в правоте своего дела. Он перестал молиться.
Сначала он присоединился к социал-демократам. Но когда заметил, что их вожди ходят на задних лапках перед королями пушек, вступил в ряды Коммунистической партии. Его заявление о предоставлении ему места учителя было ещё действительно; так и получилось, что немецкое буржуазное государство в поисках набожного учителя для непокорных пролетарских детей в один прекрасный день послало к ним коммуниста Карла Векена.
По всей Германии бушевали волны протеста. Они бушевали и в школе. Родители были без работы, дети голодали. Родители всё больше и больше прислушивались к лозунгам коммунистов; дети шли за такими учителями, как Векен. Он вёл их на борьбу. Школьная забастовка: долой телесные наказания! Школьная забастовка: долой преследование других национальностей! Даёшь бесплатные горячие завтраки! Долой запрет организации юных пионеров! Он повёл их на запрещённый кинофильм «Броненосец Потёмкин». Они пошли бы за ним в огонь и в воду. Это было бурное время.
Чтобы спасти ускользающую из рук власть, короли пушек спустили с цепи Гитлера. Фашистский террор распространился по всей стране.
Векена посадили в тюрьму. Его хотели согнуть, сломить. Он должен был отречься от коммунистов и снова стать набожным и покорным. Они его не знали. Как только его выпустили на свободу, он перешёл границу и собрал в Чехословакии детей изгнанных и преследуемых немецких антифашистов. Он снова стал учителем. Его школа называлась «Колонией храбрых».
И снова ребята следовали за ним по первому слову.
На этот раз им пришлось в самом деле пойти за ним в огонь. Фашистский террор перехлестнул границы Германии. Необходимо было спешно перебросить «Колонию храбрых» в более безопасное место: в Чехословакию входили войска немецких королей пушек. Из Праги ещё летали самолёты в Париж. С последним из них вылетел учитель Карл Векен. Самолёт этот не долетел до аэродрома. Он разбился неподалёку от Парижа. Из-под груды обломков нескольких человек вытащили живыми. Среди них был Векен.
Теперь я на минуту представлю себе, что я Карл Векен. Я задаю своему читателю вопрос — вопрос к его совести. Векен любил такие вопросы. Предположим, ты попал в чудовищную аварию, перенёс страшную боль. Ты смотришь в зеркало и не узнаёшь самого себя — так изменилось твоё лицо из-за перелома костей. Неожиданно тебе предлагают много тысяч франков — плата за травму, плата за молчание. Ты становишься вдруг богатым человеком. Что бы ты сделал с богатством? Задай себе этот вопрос. Отвечай честно!
Предался бы покою? Думал бы с тех пор только о собственном благополучии?
Векен взял эти деньги. Он отдал их в фонд антифашистской солидарности и вернулся назад, в нацистскую Германию, чтобы принять участие в подпольной борьбе, — вернулся в логово льва. Сильно изменившееся лицо помогало ему в течение нескольких месяцев остаться незамеченным и оказывать товарищам по подполью неоценимые услуги. Когда гестапо всё-таки удалось схватить Векена, в тайной полиции не хотели верить, что это он. Его бросили в лагерь смерти.
В апреле 1945 года советские танковые части выбили ворота концентрационного лагеря Заксенхаузена. Навстречу им бросились с красным флагом заключённые — все, кто выжил и был ещё в силах бежать. Среди них Карл Векен. Он снова имел определённое право сказать: «Всё — я достаточно вытерпел, достаточно сделал и хочу теперь только покоя».
Но тогда бы он не был Карлом Векеном.
Развалины Берлина еще дымились, а он уже собрал вокруг себя детей и снова организовал школу. Он очистил их головы и души от фашистского яда. Он написал для них новые песни. Он воспитал замечательных людей, которые глядели на него с гордостью и восхищением: «Сколько у него за плечами, у нашего учителя!»
Когда он почувствовал, что силы его слабеют, он сжал зубы. Но каторжная тюрьма, побег и изгнание, авария самолёта, лагерь смерти, холод и голод — всё это не могло не сказаться на его здоровье.
Только как же Карл Векен мог отойти от детей? Для чего же он жил, если не для них? Ему надо было ещё так много сказать им. И он знал точно: он им нужен.
И вот учитель стал писателем. Сила его смелой весёлой фантазии превращала всё пережитое, всё, что он видел и о чём слышал, в увлекательные рассказы и повести для детей. В них было над чем посмеяться, но нельзя было и удержаться от слёз; их читали затаив дыхание. Иной раз они озадачивали юного читателя. Ему приходилось задавать себе вопрос: «А как бы я повёл себя на месте героя?» Векен писал о берлинских ребятах первых послевоенных лет, о том, как они открывали ещё невидимую тогда границу посреди своего родного города — границу, разделявшую два мира: людей мирного труда и ненасытных королей пушек («Берлинские сорванцы», 1950 г.). Он повёл ватагу пионеров в сложные перипетии повседневной жизни в школе, дома, на улице, дал им возможность проявить силу духа, силу характера, силу своей доброты («Весёлые истории», «Пенг и ящик», «Приключения Виктора», «Нео-Пиры», 1955–1958 гг.). Дети буквально выхватывали книги у него из рук — они узнавали в них самих себя, и им было хорошо оттого, что о них пишут так весело и что их принимают всерьёз.
Но вот появился сборник «Ключ от подвала» с подзаголовком «Рассказы о днях борьбы» (1956) с посвящением сыновьям невинно осуждённых и казнённых в Америке борцов за мир Этель и Юлиуса Розенберг. Этот цикл небольших рассказов об участии детей немецких пролетариев в классовой борьбе, начиная с революции 1848 года, как ни одна другая книга даёт почувствовать живой огонь прожитой писателем жизни. Революционер Карл Векен платит дань уважения детям революционного класса. Рассказы эти приковывают внимание читателя и волнующим развитием событий, и сменой трагических и комических эпизодов, и противопоставлением человеческого величия и человеческой низости. Юный читатель втайне проверяет себя при их чтении: «А как бы проявил себя я в дни борьбы?» И он знает, что это важно — задавать себе такой вопрос. Ибо дни борьбы не прошли. Вечно меняющийся мир всегда будет нуждаться в мужестве и ждать от детей смелости и смекалки.
Рассказы и повести для детей и о детях были не последним, что написал Векен. За ними последовал увлекательный роман из истории немецкого молодёжного коммунистического движения («Не на жизнь, а на смерть», 1961 г.), позднее получивший продолжение («Без пощады», 1969 г.). Герой его, Вальтер Блюм, многими своими чертами напоминает самого автора, и нередко страницы книги отражают страницы жизни Карла Векена. Вместе со своей женой, Катариной Каммер, Векен написал два рассказа на современную тему — «Неромантичная Анна-Роза» (1964) и «Микки Магер» (1966), получившие широкий отклик в молодёжной аудитории и вызвавшие горячие споры. Пока Векен был в силах, он и сам принимал участие в этих спорах. Он приходил на обсуждения и на несколько часов снова становился учителем. Всякий раз он уходил, подружившись со своей аудиторией, чем-то обогатив каждого.
Он очень любил жизнь. Он успел совершить много доброго. 21 июля 1971 года смерть вырвала у него из рук толстый карандаш, которым он всегда делал наброски.
Поэт Бертольт Брехт повествует о неком господине К., которого однажды спросили:
— Как вы поступаете, когда кого-нибудь любите?
— Я делаю с него набросок и забочусь, чтобы он был похож, — отвечал господин К.
— Набросок?
— Нет, человек!
Точно так же поступал и Карл Векен. Каждый его рассказ — это набросок: «Такими, ребята, надо вам быть! Этого ждёт от вас жизнь!» И в то же время каждый его рассказ — забота о том, чтобы его читатель был похож на его героя.
«Я никогда не был поэтом, — говорил Карл Векен, — всегда только учителем».
Хансгеорг Майер 12 ноября 1980 гI КОГДА-ТО В БЕРЛИНЕ, В ДРЕЗДЕНЕ…
АННА-ЛИЗА И КАЙЗЕР
Маленькая Анна-Лиза в синем ситцевом платьице и застиранном фартуке вела дома всё хозяйство, хотя ей только недавно исполнилось десять. Три года прошло, как мать её умерла от чахотки, и с тех пор они жили вдвоём с отцом.
Это было в Берлине, много лет тому назад.
Вечером усталый отец возвращался с работы. На бледном личике дочки сияли большие голубые глаза. Такие же, как у её матери. После ужина Анна-Лиза мыла тарелки, а отец вытирал и рассказывал ей заводские новости. Он громко ругал канцлера Бисмарка[1] за то, что тот преследует рабочих. И ещё он часто рассказывал про одного человека, которого хорошо знал. Фамилия его была Бебель. Рассказывая о нём, отец всегда приходил в весёлое настроение. Потому что Бебель не страшился говорить правду в лицо Бисмарку и самому кайзеру.
— А потому мы выберем Бебеля, — сказал он как-то вечером. — Тогда и нам станет жить полегче.
Анна-Лиза напряжённо думала.
— А когда Бебель станет кайзером, он сделает так, чтобы у нас еды было больше?
По лицу отца скользнула улыбка.
— Ну да, детка, конечно.
— А этого злого канцлера Бисмарка в остроконечном шлеме он прогонит?
— Ясное дело, прогонит к чёрту! Туда ему и дорога!
— И тебя тогда сделает канцлером?
Отец рассмеялся, и смеялся очень долго. Он просто не мог остановиться.
— Завтра я спрошу об этом Бебеля. А сейчас спой-ка ты мне какую-нибудь песенку!
Анна-Лиза сложила руки на груди, закрыла глаза и стала петь про розу, розу красную, что на лугу росла, и про птичку. И ещё она спела нежную мелодию «Аве Мария», которую учитель разучивал с ней для церковного хора.
«Что за славный у меня соловушка, — думал отец, — как красиво поёт!»
На счастливом личике Анны-Лизы отражалось всё, про что она пела. Её торчащие в стороны косички вздрагивали при малейшем движении.
— Одна нарядная дама в церкви сказала, что я могла бы заработать пением много денег. Хорошо я пою, отец?
— Ты поёшь чудесно!
— Мне хотелось бы учиться петь, отец. Я так люблю петь!
— Тогда уж придётся нам и вправду сперва выбрать в кайзеры Бебеля, — с улыбкой сказал отец. Но на душе у него было горько.
Как-то раз Анна-Лиза пришла домой и с удивлением остановилась перед дверью. На дырочке для ключа приклеена какая-то бумажка. Анна-Лиза в растерянности опустила руку с ключом.
А на бумажке голубая птица… Орёл!..[2]
— Полицейский уже два раза про тебя спрашивал, — послышался за спиной Анны-Лизы испуганный голос.
Швея из квартиры напротив открыла дверь на площадку — на шее у нее сантиметр, в блузку воткнуты булавки.
— Тебе надо пойти в полицейский участок, тут, за углом.
— А зачем? Что мне там делать?
Соседке стало жаль девочку. Она повела Анну-Лизу к себе в квартиру. Стараясь говорить так, чтобы не слишком её огорчить, она рассказала, что отца арестовали. Полиция хочет отдать Анну-Лизу в приют. На целый год. Пока отец не вернётся из тюрьмы.
— Господин фон Бисмарк издал закон, по которому он может арестовать и выслать кого захочет, — сказала она. — Социалисты теперь объявлены преступниками.
Анна-Лиза начала плакать.
— Но ведь мой отец не преступник!..
Неужели у этого Бисмарка вообще нет сердца?
Отец прав, что хочет, чтобы его прогнали.
Анна-Лиза пошла к двери. Вид у неё был сердитый.
— Может, мне пойти с тобой? — с участием спросила швея.
— Я не боюсь, — ответила Анна-Лиза и вышла на лестницу.
На улице было очень холодно. Перед полицейским участком Анна-Лиза остановилась. Войти? Нет. У неё хороший отец. Он её любит. Она должна быть с ним, а не в каком-то приюте для сирот!
«Пусть-ка они меня поищут!» — подумала она.
Она повернулась и пошла в другую сторону.
Анна-Лиза ссутулилась, подняла плечи, чтобы было не так холодно, и стала без цели бродить по улицам. Вдруг она увидела, что какой-то мальчишка пишет на заборе углем:
«Эрна дура».
Она тоже взяла из кучи кусочек угля. А потом быстро побежала дальше.
На колонне для объявлений был наклеен большой плакат с чёрно-белой каймой.
«Выбирайте Бисмарка!» — кричали огромные буквы.
Анна-Лиза зачеркнула эти слова написала внизу: «Выбирайте Бебеля кайзером!»
— Что ты тут малюешь, чёртова девчонка! — заорал кто-то у неё за спиной.
Анна-Лиза выронила из рук кусочек угля и помчалась со всех ног. Сворачивая за угол, она оглянулась. Здоровенный полицейский бежал следом за ней.
Сердце у неё заколотилось. Бежать стало очень трудно. Снова домчалась она до угла, свернула, запыхавшись перебежала пустырь, на котором строили дом. Бежать дальше не было сил. Еле переводя дыхание, она остановилась: «Вот и убежала!»
И медленно пошла дальше.
Было уже время обеда, когда Анна-Лиза дошла до биржевого квартала. Здесь жили богатые люди. Под ложечкой у нее сосало от голода. Это было мучительное чувство. Она остановилась перед каким-то рестораном и с любопытством стала разглядывать людей за стеклом большого окна. Что они там едят? Красные, зелёные, жёлтые, оранжевые, лиловые блюда стояли перед ними на столиках.
Какие красивые дамы! И как хорошо тут пахнет! У неё текли слюнки. С жадностью глядела она на тарелки. «Были бы у меня деньги хоть на селёдку!.. — подумала она. И вдруг ей пришло в голову: — Петь!»
Анна-Лиза встала возле входа в ресторан. Она сложила руки на груди, закрыла глаза и запела:
— «Аве Мария…»
Нежный звонкий голос привлёк внимание прохожих. Дамы и господа в меховых шубах останавливались и слушали.
— Как мило!
— Какой прелестный голосок!
— Какой очаровательный ребенок!
— Ах, господин Лахман, ну, разве это не трогательно! — пролепетала какая-то дама, с умилением разглядывая Анну-Лизу в золотой лорнет.
Банкир Лахман совсем растаял. Он вспомнил день своей свадьбы. Тогда первая солистка городской оперы пела в церкви «Аве Мария». Двести марок стоило ему это удовольствие. Чёрт возьми, малышка и в самом деле очень мило поёт! Несколько пфеннигов она наверняка заслуживает. Он поискал в кармане своего жилета, но нашел там только пятидесятипфенниговую монету. И великодушно сунул её девочке в карман передника.
Дамы и господа похлопали маленькой певице, и она начала новую песню.
Банкир Лахман с благодушной улыбкой вошёл в ресторан.
Мальчик в гардеробе снял с него шубу и взял у него из рук цилиндр. Он удивился, что банкир Лахман не дал ему, как обычно, на чай.
«Может быть, у него сегодня плохое настроение?»
Он проводил знаменитого завсегдатая ресторана к накрытому столику. На нём стояли фарфоровые приборы. Хрустальные рюмки и бокалы переливались всеми цветами радуги.
— Госпожа вас ждёт!
Мальчик поклонился. Нет, сегодня, видно, чаевых не дождёшься.
Банкир Лахман галантно поцеловал жене руку.
— Я только что вспоминал день нашей свадьбы, дорогая.
— О, как мило!
Банкир рассказал ей о маленькой певице. Прелестный голосок! Фрау Лахман это очень заинтересовало.
— Маленькая уличная певица? Хорошенькая?
— Очень нежная. Да ведь никогда не знаешь, что из такой вырастет!
Фрау Лахман вспомнила, что один бедный музыкант прославился и стал великим благодаря некой богатой даме-покровительнице. Она платила за его обучение, и музыкант был ей всю жизнь за это благодарен… Ах, как же его фамилия?
Нет, фамилии музыканта она никак не могла припомнить. Но она уже рисовала себе такую картину. Вот она на концерте знаменитой певицы. Сидит в первом ряду. А вокруг все шепчут: «Чудесно! Чудесно! Как она поёт! А ведь это была совсем бедная девочка. Жена банкира Лахмана сделала её знаменитой».
Её решение созрело:
— Я хочу на неё посмотреть!
Преисполненная человеколюбивых планов, она накинула на плечи меховую шубу и пошла по дорогому ковру к двери.
«Мальчик розу увидал…» — пела Анна-Лиза. Некоторые дамы вытирали платочком глаза.
У фрау Лахман тоже выступили слёзы.
Решено, так я и сделаю, думала она, тяжело дыша от волнения. Подойду и обниму малютку, как только она допоёт эту песню. И поцелую её. Если, конечно, от неё не пахнет хозяйственным мылом. Все они так пахнут.
Анна-Лиза пела с закрытыми глазами последний куплет.
«Я дам этой маленькой Певице музыкальное образование», — хотела громко сказать фрау Лахман. Все должны услышать эти слова. Тогда завтра их напечатают чёрным по белому во всех газетах. Она приблизилась к девочке и благосклонно ей улыбнулась.
— Вот ты и попалась! — Здоровенный полицейский схватил Анну-Лизу за косу и потянул к себе. — Она нанесла оскорбление кайзеру, господа! Пишет на стенах красные лозунги! Она от меня удрала, — объяснял он окружающим.
— Как? Это дитя? — изумилась дама с лорнетом.
— Да, Бебель, видите ли, должен стать кайзером!
У полицейского от бешенства дрожали усы.
— Неслыханно!
— Забрать её!
— Арестовать!
Возмущённые голоса перебивали друг друга.
— Бебель! Да ведь он разбойник!
«Эта девчонка чуть не втянула меня в грязную историю! — подумала фрау Лахман. — Самое лучшее — вообще не связываться с этим сбродом».
Она вернулась в ресторан. Её муж тем временем заказал роскошный ужин в честь дня их свадьбы.
Анна-Лиза хотела убежать, но полицейский так крепко держал её за косы, что каждое движение причиняло боль. Она не обращала внимания на знатных господ, которые, ругая её, начали расходиться. Она уже семенила рядом с полицейским, спрятав окоченевшие руки в карман фартука. Теперь здесь лежало несколько монеток, и она их нащупала. Она хотела спросить полицейского, нельзя ли ей купить селёдку, потому что от голода у неё кружилась голова. Но сердитый полицейский всё не выпускал её кос. Он даже намотал одну косичку на палец, чтобы Анна-Лиза не убежала. И она не решилась его спросить. Только склонила голову набок, чтобы не так тянуло волосы.
По другой стороне улицы, навстречу им, блистая парадной формой, шёл офицер. Его длинная сабля бряцала, задевая землю, блестящие ордена позвякивали о серебряный нагрудник, шлем и шпоры звенели в такт шагам металлическим звоном.
Как только полицейский его заметил, он весь как-то подобрался. Даже пальцы, державшие косички Анны-Лизы, выпрямились и застыли. Он вытянул руки по швам, отвернул лицо в сторону и промаршировал с десяток шагов, выбрасывая ноги вперёд. Потом снова протянул руку, чтобы схватить за косички Анну-Лизу, но схватил только воздух.
Он растерянно оглянулся. На улице, кроме него, никого не было.
Когда Анна-Лиза заметила, что полицейский отпустил её косы, она остановилась. Потом осторожно сделала шаг назад. Ещё шаг… Ещё… Она не спускала глаз с полицейского. И вдруг бросилась бежать. Она неслась со всех ног. И вот она уже скрылась за углом, снова свернула и вбежала в продуктовую лавку. Еле переводя дыхание, дрожа от слабости и голода, она попросила селёдку и две булочки. Заплатив деньги, сосчитала сдачу. Больше марки.[3] Она купила ещё кусок медовой коврижки. Это было самое вкусное из всего, что она когда-либо ела. Выйдя из лавки, она стала, испуганно озираясь, бродить по улицам. Заметив полицейскую форму, делала огромный круг.
Анна-Лиза съела только половинку коврижки. Остаток она спрятала в карман фартука и облизала пальцы. Теперь, после всех волнений, утолив голод, она могла подумать о своём несчастье.
Куда они увели отца? Что с ним будет?
Растерянная и несчастная, бегала Анна-Лиза по улицам, словно загнанный зверёк. По щекам её катились слёзы.
Возле «Молочной» она остановилась. Ей хотелось пить.
Спустившись вниз по лестнице в лавку, она спросила продавщицу:
— Есть тёплое молоко?
— Да, детка. Боже, как ты озябла, прямо вся синяя!
Круглолицая добродушная женщина налила Анне-Лизе молока. Анна-Лиза согрела о стакан озябшие пальцы. Как хорошо тут, в подвале, как вкусно пахнет молоком!
— Поди посиди немного на кухне, погрейся, — ласково сказала женщина. — Вот сюда, поближе к печке!
Анна-Лиза глотала горячее молоко. Потом она уснула, прислонив голову к спинке стула.
Она спала, пока женщина её не разбудила.
— Беги-ка домой! Ты так крепко спала. Даже будить было жалко!
Анна-Лиза заплатила за молоко. Она купила ещё две булочки и немного сыра. Потом пошла к двери. Женщина, качая головой, глядела ей вслед.
Беда-то какая! Какая беда! Что же это творится на белом свете!..
Стемнело. Люди с длинными палками зажигали стеклянные газовые фонари. На витрине игрушечного магазина был выставлен кукольный театр. Долго стояла тут Анна-Лиза, с восхищением разглядывая принцессу. А вот такие же противные шлемы, как у этого Бисмарка! Лежат рядом с игрушечными винтовками. А вот хорошенькая фарфоровая куколка ростом с пальчик. Стоит двенадцать пфеннигов.
— Вот бы мне такую куколку, — прошептала Анна-Лиза. Она пересчитала свои монетки. Оставалось еще четырнадцать пфеннигов.
Она нерешительно вошла в магазин.
— Вон ту куколку!
С сияющими глазами, сжимая в руке куколку, она пошла дальше.
Надвигалась ночь. В окнах магазинов тушили свет. Витрины, одна за другой, становились чёрными. Зевая и спотыкаясь, брела Анна-Лиза по вечерним улицам.
Возле ворот дровяного склада она села на каменный столбик. Она выплела из косы синюю ленточку, чтобы завернуть в неё своего голышка.
— А то тебе холодно, — сказала она, согревая в кулаке ледяную куколку.
Потом Анне-Лизе стало немного теплее, и вокруг неё сделалось светло. Добрая продавщица молока из подвала подошла и взяла её за руку.
— Спой, детка!
Она положила Анне-Лизе на плечи тёплое одеяло.
Анна-Лиза спела все песни, какие знала. Она была счастлива. Откуда вдруг взялись все эти люди с радостными лицами?
И тут к ней шагнул отец. Он весело сказал:
«Ну, выбрали Бебеля. Теперь ты можешь учиться петь!»
«А ты стал канцлером?» — спросила Анна-Лиза.
Отец задумчиво кивнул.
«И теперь нам будут давать коврижки с мёдом?»
«Каждое воскресенье».
«И у меня будет тёплое пальто?»
«Да, пальто у тебя будет».
«И Петрушка, тот, в окне?»
«Да, и Петрушка. И большая кукла».
«И сказки с картинками?»
«Да, да, сказки с разноцветными картинками».
Это была самая весёлая минута в жизни Анны-Лизы.
Собака ночного сторожа нашла Анну-Лизу. Она обнюхала девочку, съела остаток медовой коврижки в кармане её фартука и, подняв морду, громко залаяла.
Подошёл, ковыляя, сторож. Он с испугом поднял девочку и поспешно понес её в полицейский участок.
Анна-Лиза проснулась в спальне приюта для сирот.
На третий день жизни в приюте её одели в серое сиротское платье и повели к директору.
— Кто это? — спросил её усатый человек в чёрном костюме, указав на огромный портрет на стене.
— Это кайзер.
— Что ты знаешь о нашем кайзере?
— Кайзер очень злой человек, — ответила Анна-Лиза.
Её избили. Анна-Лиза не плакала.
— Мы тебя проучим, невоспитанная девчонка! Бунтовщица!
Её заперли в карцер.
В тот же день полицейские перевели отца Анны-Лизы из одной тюрьмы в другую — из Берлина в Потсдам. Когда он в большом волнении, подняв вверх кулаки, потребовал, чтобы ему, наконец, сказали, где же его ребёнок, он услыхал высокомерный ответ:
— Ваша дочь Анна-Лиза находится под защитой его величества кайзера Германии.
КЛЮЧ ОТ ПОДВАЛА
Ещё пять минут.
Стрелки на башенных часах показывали двадцать пять минут первого.
Отец ведь предупреждал:
— Смотри не опоздай! Я приеду, кое-что привезу.
— Что привезёшь?
— Два ящика. В них яйца.
Он весело рассмеялся и притянул к себе Марту.
— Это надо провернуть быстро. Не прозевай! — Он твёрдо взглянул ей в глаза: — И не забудь ключ от подвала!
Из школы Марта сразу побежала домой. Лучше прийти раньше, чем опоздать хоть на минуту. И вот она ждёт перед домом. Большой ключ от подвала — в кармане фартука. А вдруг он выпал, пока бежала? Нет, вот он.
Как будто она не понимает, в чём дело! Когда отец такой вот, как сегодня… Уж она-то знает отца. Ничего она не прозевает, не бойтесь. Не может же мать стоять тут с ключом и ждать. Больная она, да и чересчур уж волнуется. А братья и сёстры на работе. Марта тоже на тот год пойдёт работать на фабрику.
Ещё три минуты!
Полицейских пока не видно. Марта поспешно оглядела улицу. Шпики — вот кто сейчас опасен!
Ещё две минуты.
Ну вот, ровно половина первого!
Но тут из дома вышел господин Дрозд со второго этажа.
— Добрый день! — вежливо сказала Марта.
— Здравствуй! — буркнул в ответ господин Дрозд.
Он, видно, был не в духе. Марта с удивлением поглядела ему вслед.
Все жильцы в их доме считали, что Дрозд работает в какой-то транспортной компании. Но эта «компания» занималась вовсе не доставкой грузов. «Королевская полиция города Дрездена» — вот что это была за компания! И как раз в эти дни работы у неё было хоть отбавляй. Но в доме пока ещё никто не догадывался, что за птица этот Дрозд.
Через два дня должны были начаться выборы, и начальник полиции господин Пауль поклялся: «В Дрездене мы устроим социалистам такую баню, что от них и следа не останется!»
Сегодня утром начальник полиции вызвал к себе в кабинет Дрозда и других полицейских шпиков.
— Безобразие! Социалисты совсем обнаглели! Средь бела дня развозят по Дрездену ящики со своими листовками. За что вам деньги платят, болваны! Мы их застукали, да только не вашими стараниями! Просто на вокзале при разгрузке уронили один ящик, он и развалился. Глядите в оба, ослы! А кто до воскресенья хоть одну рюмку опрокинет, пощады не жди! Водку пить — это всякий дурак умеет, а вот социалистов ловить — вы, видно, умом не вышли!
Дрозд и сейчас ещё чувствовал дрожь в коленках, вспоминая, как рычал на них начальник полиции. Но возмутительней всего было то, что от самого начальника за версту разило водкой. В бешенстве он вонзил в письменный стол свой игрушечный меч для вскрытия конвертов.
— Восемь ящиков из десяти мы уже обнаружили. Разыщите ещё два! Если в Дрездене появится хоть одна их листовка, я вас всех разгоню к чёртовой матери! За каждый ящик — вознаграждение двести марок, понятно? Отправляйтесь!
Как побитые псы бросились шпики к дверям, спеша на охоту за листовками.
Дрозд с хмурым видом перешёл дорогу, завернул в лавчонку «Табак и сигары», купил себе одну сигару — на две у него, как всегда, не хватило денег. Мрачно сунул сигару в рот, поднёс зажжённую спичку.
Найти такой ящичек — вот было бы дело!
Так вышло, что служащий транспортной компании Дрозд думал в эту минуту о том же, о чём и девочка Марта.
— Половина первого, — тихо сказала Марта и потрогала ключ. И вдруг из-за угла, грохоча по булыжнику, выехала телега. Отец правит лошадью, насвистывая песенку. Рядом с ним ещё какой-то человек.
Марта вытащила огромный ключ из кармана. Она подняла руку. Отец кивнул ей. И вот она уже мчится вниз по лестнице в подвал. Какое-то новое радостное чувство несёт её, словно ветер, только косы взлетают.
Повозка наверху остановилась.
Отец с товарищем откинули одеяло, подняли ящик и быстро внесли его в дом.
Чистенький новый ящик!
У Дрозда от изумления выпала изо рта сигара.
— Сигарку пожалуйте, — сказал продавец, поднимая с полу сигару и подавая Дрозду.
— Благодарю!
Дрозд, не глядя, взял сигару и сунул её в рот. Он обжёг палец, но почти не почувствовал этого. Он ликовал. Шляпа его съехала на затылок. Гляди-ка, вот они!
Те двое уже опять возились у телеги. Снова откинули одеяло — ага, вот и второй ящик!
— Дайте мне ещё одну сигару! Высшего сорта! — сказал Дрозд, дрожа от нетерпения и любопытства. Он долго засовывал сигару в карман, продолжая вести наблюдение.
Не успели те двое скрыться со вторым ящиком в дверях дома, как Дрозд выскочил из лавки. Перебежав на другую сторону улицы, он прокрался в подъезд и заглянул вниз через перила. Из подвала доносилось шарканье шагов и голоса.
— Быстро я, папа? — тихо спросила Марта. Но гулкие своды подвала донесли эти слова до слуха Дрозда.
— Да, Марта! Запирай подвал! В три часа мы заберём первый, в пять — второй. Всё понятно?
Дрозд бросился на улицу. «Двести марок за ящик! А за два — четыреста! Четыреста марок!»
Наконец-то он выберется из этого проклятого дома, где живут одни рабочие! Наконец-то ему повезло! Он представлял себе, как сам начальник полиции господин Пауль похлопает его по плечу и скажет: «Ну, Дрозд, старый неудачник, на этот раз тебе привалило счастье!»
Чудеса! Может, и самому господину Бисмарку о нём доложат!
На углу Дрозд вскочил на извозчика. Брать извозчика шпикам разрешалось для особо спешных и важных дел.
В кабинет начальника полиции Дрозд ринулся без доклада.
— Приёма нет, — остановил его секретарь, презрительно усмехнувшись. И что только вообразил себе этот жалкий шпик! Лезет без доклада!
— Скажите ему — два ящика, срочно! — крикнул Дрозд.
Секретарь скрылся за тяжёлой дверью, но она тут же вновь распахнулась. Из кабинета выскочил сам начальник полиции господин Пауль. Он крикнул:
— Кто тут что знает про ящики?
В спешке он даже не застегнул свой мундир. Дрозд почувствовал, что в его жизни настала великая минута.
— Господин начальник полиции… Я знаю… я знаю… где ящики! — Он задыхался. — Два ящика! Скорее полицейских, повозку! Мы мигом доставим ящики! — Он глотал воздух. — Скорее! У нас только два часа!
В другой раз начальник полиции вышвырнул бы всякого, кто осмелился говорить с ним в столь наглом тоне, но сейчас он даже не заметил, что какой-то жалкий шпик, отдаёт ему приказы.
— Экипаж и четырёх полицейских! Немедленно! — рявкнул он на секретаря, и тот сразу же куда-то умчался. Начальник полиции застегнул мундир.
— Молодцом, Дрозд! Ловко это у вас получилось!
Дрозд сиял. Он склонился в благодарном поклоне.
— А вознаграждение, господин начальник, если дозволено спросить?
— Получишь, как только доставят ящики!
«Что-то уж чересчур он торопится захапать денежки, — подумал начальник. — Можно ли ещё доверять этому типу! Рожа уж больно идиотская!»
— Экипаж готов, — объявил запыхавшийся секретарь.
Дрозд бросился бегом вниз по лестнице.
— И этот осёл нашёл ящики? Вы ему верите? — с сомнением спросил начальник секретаря, покручивая свой напомаженный длинный ус.
— Чего не бывает на свете, — усмехнулся тот, — недаром же говорят: дуракам счастье!
Начальник полиции рассмеялся, но тут же оборвал свой смех.
— Если он нас надул, вышвырну! Это уже третий сегодня прибегает и вопит: «Ящики!»
По дороге Дрозд рассказал полицейским обо всём, что он видел. Всё описал в точности, ни одной подробности не упустил.
— Во какой ключ! В кармане фартука он у неё. Марта её звать. Так-то девчонка она вежливая.
Дрозду пришлось вылезти из экипажа, не доехав до угла: ведь если рабочие увидят шпика с полицейскими, шпик уже не шпик.
Четыреста марок просто не выходили у него из головы. Он снова зашёл в лавчонку «Табак и сигары» и купил ещё одну сигару высшего сорта. Теперь-то он может себе это позволить. Он не спускал глаз с экипажа.
Лошади остановились. Полицейские с важным видом проследовали в дом.
Марта как раз возвращалась из лавки. В одной руке бачок с керосином, в другой — бидон с сиропом. Завидев проклятые полицейские каски и экипаж у самых дверей дома, она чуть не уронила на землю и бак и бидон.
«Полиция! Ящики!»
На лестнице она прислонилась к перилам и прислушалась. Полицейские уже стучали в дверь их квартиры.
— Открывайте! Полиция!
Марта услышала, как отворилась дверь. Дома была только мать.
— Ключ от подвала! — скомандовал кто-то грубым басом.
«Что делать?» — лихорадочно думала Марта. Её сковывал страх. Ключ от подвала все ещё лежал у нее в кармане фартука. Теперь они будут искать ключ по всей квартире… Ну а потом? Что же ей делать?
И вдруг ей пришла в голову счастливая мысль.
Она позвонила в квартиру Шрайберов. Тут жил друг её отца, железнодорожный рабочий, тоже «красный».
Жену его изумил смелый план Марты.
— Мы их проведём, — сказала она, кивнув Марте, — только ты не бойся. — Она ласково потрепала её по волосам.
— А я и не боюсь, — сказала Марта и слабо улыбнулась. Сердце её громко стучало.
Потом она взяла бачок с керосином и бидон с сиропом и поднялась вверх по лестнице. Подойдя к двери своей квартиры, она остановилась и, собравшись с духом, постучала. Открыл полицейский. Марта изобразила на лице удивление. На кухне она поставила под стол бачок с керосином, а на стол — бидон с сиропом и быстро сунула ключ от погреба за большой кофейник.
— Тебя зовут Марта? — строго спросил полицейский.
— Да.
Марта удивилась, что он знает её имя.
— Это моя младшая, — боязливо сказала мать. Она, кашляя, дошла до постели и снова легла.
— Пойди-ка сюда! — приказал Марте полицейский.
Марта подошла. Он сунул руку в карман её фартука.
— А что вы ищете? — бесстрашно спросила Марта.
Полицейский поглядел на неё, словно людоед, ткнул её пальцем в грудь и взревел:
— Где ключ от подвала?
— Ключ от подвала? — с улыбкой переспросила Марта. — Ведь я его сейчас… когда уголь приносила… Да куда ж я его положила?.. Ах, да вот же он! — воскликнула она и взяла ключ со стола.
Полицейский выхватил ключ у неё из рук, взглянул на прикреплённую к нему бирку и рявкнул:
— В подвал! Отсек номер девять. За мной!
Марта достала из кухонного стола свечу и спички, и они стали вместе спускаться вниз. Перед дверью подвала стояли ещё двое полицейских. Марта зажгла свечу и пошла впереди.
— Вот он, девятый отсек!
Грозный полицейский торжествующе поглядел на Марту. Вид у него был такой, будто он открыл Северный полюс.
— Да, это здесь, — скромно сказала Марта.
— Ключ подходит!
Полицейские с победным кличем ринулись вперёд. Очутившись в подвале, они стали оглядываться по сторонам. Марта держала в руке свечу. Тени полицейских в остроконечных касках плясали на грязных стенах. Нет, у Марты не дрожала рука, просто свеча мерцала.
— Вот ящик! — крикнул один из полицейских и быстро направился в угол. Он так спешил, что даже споткнулся о чурбак для колки дров.
— Открыть ящик! — раздалась команда.
Для полицейских настал торжественный момент.
Двое из них поспешно открыли ящик. Но, заглянув в него, тут же отпрянули назад и, поражённые, уставились друг на друга. Потом, как по команде, снова нагнулись и стали шарить в ящике руками. Марта светила им свечой. В ящике так и громыхало. Полицейские снова выпрямились.
— Ну? — с нетерпением спросил их начальник.
— Картошка, — ответили они хором с явным разочарованием.
— Что? — заорал полицейский, руководивший обыском.
Он откашлялся и искоса взглянул на Марту.
— Картошка! — раздалось в ответ.
Полицейские отряхивали с рук налипшую грязь.
— Высыпать! — приказал начальник.
Но из ящика выкатилось всего лишь несколько старых проросших картофелин. Они раскатились по каменному полу подвала.
— Вот ещё ящичек! — крикнул один из полицейских.
— Открыть! — В голосе начальника чувствовалась растерянность.
— Ёлочные игрушки!
— Стеклянный шар! Красный! — Полицейский потряс большой красный шар, держа его за ниточку. Тощий паучок поспешно вскарабкался на шар, потом стал спускаться вниз по самодельному канату. Полицейский раздавил его сапогом.
— Чепуха! Красный стеклянный шар есть у всех!
Других ящиков в девятом отсеке не было.
— А что вы ищете? — наивно спросила Марта. Сердце её сильно билось от радости.
Полицейский разочарованно отряхивал пыль со своих форменных брюк.
«Что теперь скажешь этой девчушке? — беспомощно подумал он. — Какой же враль этот Дрозд! Ну погоди, голубчик! Три раза сегодня эти паршивцы заставили меня лезть в подвал и ползать по грязному полу. И всё зря. Ну погоди! Ты у меня за это ответишь! Только увидят эти негодники, что какой-нибудь ящик везут, они уже тут как тут — гони им двести марок! Держи карман шире!»
Ему было стыдно перед Мартой.
Девчушка такая приветливая, да и жалко её.
— Это ошибка, — сказал он, — приносим извинения вашей матери. Запирай!
Пока полицейские садились в свой экипаж, Марта уже успела добежать до квартиры Шрайберов и вновь обменять ключ.
— Всё в порядке! — сказала она жене Шрайбера. И, попросив её известить обо всём мать, бросилась со всех ног на фабрику к отцу.
Выслушав рассказ Марты, отец свистнул сквозь зубы, на минутку задумался, а потом позвал того человека, который вместе с ним привёз ящики. Марта узнала его.
— Сейчас приедем, — сказал этот человек Марте. — А то как бы яйца в ящиках не протухли!
— Надо поговорить с Альбертом, — обратился к нему отец. — Только вот сумеет ли он сразу пригнать телегу?
— Альберт? — отозвался товарищ отца. — Если он услышит, что ящики в опасности, тут же прикатит!
— Необходимо сегодня же раздать яйца.
— Вечером этим займутся четыреста товарищей.
— Ну всё, скорее за ящиками!
— Спасать яйца? — спросила Марта и улыбнулась отцу.
— Да, — ответил отец, — представляешь, какие птички выпорхнут из них в воскресенье! Ну, а теперь домой!
Марта рассмеялась и вышла на улицу вместе с отцом и его другом.
По дороге она ещё раз подробно рассказала им обо всём, что произошло в подвале. Всем троим казалось, что телега ползёт слишком медленно, хотя отец гнал лошадь вовсю. Наконец остановились перед домом. Вытащили ящики, накрыли их одеялом, поехали. И трёх минут не прошло.
Марта поднялась наверх, успокоила мать, села за уроки. Чувство радости и гордости не проходило.
«Прусских королей звали…» Ну и скука, учить имена всех этих королей!
Как тогда сказал отец в подвале? «Да провались этот Бисмарк в тартарары вместе со своим законом о социалистах!»
Между тем полицейский шпик Дрозд не находил себе места от волнения. С удивлением он увидел из окна табачной лавки, что полицейские снова сели в экипаж и возница погнал лошадей. Ящики они не погрузили.
«Почему они не берут с собой мои ящики?» — недоумевал он. Но ответа на этот вопрос не находил. Выйдя из табачной лавки, он встал на углу. Как видно, они сейчас вернутся назад — за ящиками.
Что же случилось? Пойти снова к начальнику полиции? Он ждал почти полчаса, а потом увидел, что перед домом остановилась телега. Слава богу, значит, всё-таки вернулись! У Дрозда гора с плеч свалилась. Марта соскочила с телеги и скрылась в парадном, но он не успел этого заметить. Он спрятался в другом подъезде и стал наблюдать, как грузят ящики, его дорогие, золотые ящики, которые обогатят его, принесут ему четыреста марок дохода! Впрочем, грузили их не полицейские в формах. Начальник полиции Пауль неплохо придумал. Хитёр, дьявол! Так оно, конечно, незаметнее, когда полицейские переряжены в рабочих. Никому не бросается в глаза!
Дрозд просто блаженствовал. Ему хотелось побежать за телегой и погладить ящики.
Телега как раз проезжала мимо него.
— Но ведь это же… это как раз тот самый парень, который… Боже мой, боже мой!.. Мои четыреста марок! — пробормотал Дрозд и в ужасе заорал: — Держи-и, держи-и-и!
Он бросился вслед за телегой. Но лошадь рванула, и телега свернула за угол.
Нет, так просто он не упустит ящики! Дрозд мчался за телегой, размахивая руками, и кричал:
— Держи-и, де-е-р-жи-и-и!
Был полдень, обеденное время, на улице ни души. Никто не мог помочь ему в его беде.
Дрозд споткнулся, шляпа слетела у него с головы, но он бежал всё дальше, ни на что не обращая внимания. Колени у него дрожали, ему не хватало воздуха…
Телега снова свернула за угол и исчезла!
Дрозд остановился, тяжело дыша. Ноги подкашивались. Нет, дальше бежать он не мог. Он растерянно стоял на месте. Какие бессовестные люди!
— Обманут, обкраден! — стонал он. — Четыреста марок!..
Подавленный, он пошёл назад тем же путём, ища свою шляпу. Шляпа лежала посреди улицы, рядом с дымящимся конским навозом. Воробьи косились на неё с недоверием. Они взлетели, когда Дрозд поднял шляпу. Дрозд украдкой оглянулся по сторонам — нет, никто не был свидетелем этого происшествия, ни одна занавеска не дрогнула. Собрав последние силы, он быстрой походкой направился в полицейское управление. Денег на извозчика у него не хватило.
Еле переводя дыхание, измочаленный, он дошёл наконец до здания полиции. Но на последнем углу решил для храбрости выпить стопочку.
Что теперь ему скажет начальник?
Презрительный взгляд секретаря не предвещал ничего хорошего.
— И вы ещё имеете наглость сюда являться? — встретил его господин Пауль.
— Ящики, — пролепетал Дрозд, — телега…
Словно разъярённый бык, ринулся на Дрозда начальник полиции.
— Проклятый осёл, это что же… — Он перебил себя и принюхался. Его длинные усы дрожали. Потом он сказал тихим, зловещим голосом: — Да от вас же разит водкой!
— Одна стопочка только… Я так нервничал, господин начальник… — запинаясь, бормотал Дрозд. — Ящики… девочка…
— Ты пьян как свинья! И ещё мелешь тут что-то про ящики! — взревел начальник полиции. — Ишь чего придумал! Выкладывай ему четыреста марок за этот шантаж… Вон! А то сейчас велю тебя арестовать! Ах ты бандит! Весь подвал обыскали. Нигде ничего нет! Ящика из-под сигар не нашли!
У Дрозда от страха даже слёзы на глаза выступили. И всё-таки, поборов злость и отчаяние, он сделал ещё одну попытку:
— Только сейчас двое рабочих увезли ящики… И…
Начальник полиции был разгневан. Он схватил чернильницу, но шпик уже исчез за дверью.
— Ах ты негодяй!
Пока секретарь оттирал от чернил пальцы своего разъярённого шефа, Дрозд, выйдя из дверей полицейского управления, остановился и простонал:
— Ах вы подлецы благородные! Видно, и впрямь надо голосовать за этих социалистов!
ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ АТЦЕ МЮЛЛЕРА
Кто не знал медсестры Анни из рабочего санитарного отряда! На всех демонстрациях и праздниках мелькала её серая спортивная курточка и красная сумка с белым крестом. Упал ли кто в обморок от голода или получил травму Анни была уже тут как тут: нашатырный спирт, капли Гофмана, валерьянка, пластырь…
Сегодня, Первого мая 1929 года, у Анни было много работы. С раннего утра боролись берлинские рабочие за своё право выходить в этот день на улицу. Начальник полиции социал-демократ Цергибель запретил первомайскую демонстрацию. Но на этот раз берлинские рабочие дали ему отпор.
Баррикады против броневиков. Камни против железа. Пули против пуль.
Запыхавшись, Анни взбежала по лестнице.
Второй этаж. Здесь он живёт. Анни прочла на табличке:
ОТТО ЭЛЬСНЕР.
Её палец на мгновение задержался перед звонком. Но вот она нажала на кнопку. Нелегко приносить людям недобрую весть. За дверью прозвенел хриплый звонок.
Почти в то же мгновение дверь открыл высокий широкоплечий паренёк лет тринадцати. Он в замешательстве уставился на Анни.
— Постели постель! Сейчас принесут вашего отца, — сказала ему Анни.
Вилли не тронулся с места.
Она поспешно прошла мимо него в спальню.
— Постель! Быстрее! — обратилась она к фрау Эльснер. Та стояла в дверях кухни, бледная, не шевелясь.
Элли, одиннадцатилетняя девочка со светлыми косичками и нежным лицом, бросилась к матери, словно ища у неё защиты.
— Мама!.. — Элли заплакала.
— Что? Где? Он жив? — фрау Эльснер прижала к себе Элли.
— Сейчас ты его увидишь. Я думаю, это не так опасно. Мальчик, притвори дверь!
Вилли всё стоял у двери. Когда он увидел Анни с красной санитарной сумкой через плечо, он тут же почувствовал — что-то случилось: «Отец! Он ранен?!»
— Миску с водой! Полотенце!
Мать принесла и то и другое. Анни достала из сумки шприц.
— Старую простыню!
В шкафу у фрау Эльснер лежали только заштопанные, залатанные простыни. Анни разорвала одну из них на длинные полосы.
— Вымой руки, девочка!
Элли быстро вымыла руки.
— Свёртывай полосы, как бинт! У меня нет больше перевязочного материала.
Элли взялась за конец полосы и начала свёртывать. Она перестала плакать.
— Можно, я тоже?.. — спросил Вилли.
— Возьми половую тряпку — вытрешь следы крови на лестнице, когда принесут отца.
— Не выходи на улицу! — испуганно крикнула мать.
Вилли схватил половую тряпку и вымыл её под краном. Он подошёл к двери и прислушался.
Вот они… Шаркающие шаги почти возле самой двери.
— Они идут, — Вилли уже открывал дверь.
Отец вошёл. Он опирался на плечо молодого человека, высокого, крепкого. Тот поддерживал раненого.
— Анни здесь? — спросил провожатый.
— Да, — шепнул Вилли.
Первое, что он заметил, была красная гвоздика в петлице отца. Потом он посмотрел ему в лицо.
Какой отец бледный!
Вилли почувствовал во рту какой-то странный привкус. У него зарябило в глазах.
Кровь капала на пол, вся штанина у отца была мокрая от крови. Вилли в смятении глядел на половую тряпку, которую держал в руке. Потом его взгляд встретился со взглядом отца.
— Правильно. Давай вытри! — Отец улыбнулся Вилли.
Вилли вытер следы крови на лестнице и на каменных ступенях крыльца. Ни одного пятнышка не пропустил. Он вытер и тротуар на несколько метров от крыльца, чтобы следы крови не вели в дом. «Ж-ж-ж», — прожужжало что-то над самой его головой, и он испуганно пригнулся.
Когда Вилли снова вошёл в комнату, отец уже лежал в постели. Молодой рабочий стоял рядом с ним.
— Вот видишь, Отто, какую шутку сыграл с тобой наш друг Цергибель, — сказала Анни. — Значит, вот какой ценой покупают место начальника полиции наши друзья социал-демократы! Отдают приказы стрелять в рабочих!
— Из Померании, из Восточной Пруссии, из Брауншвейга и Тюрингии — отовсюду согнали сюда отряды полиции, этих кровавых собак… — Отто Эльснер скривился от боли: Анни обследовала его рану. — Но этого дня им не забыть!
— Мы тоже его не забудем, Отто. Ты уже не первый, кого я сегодня перевязываю. И одного убитого я тоже видела.
— Что с Отто? — фрау Эльснер судорожно сжимала деревянный шар на спинке кровати.
— Пуля навылет — пониже бедра. Задело кость, но не раскололо. До следующего Первого мая будешь в порядке. Повезло тебе.
Вилли внимательно следил, как отцу перевязывают рану. Когда отец вздрогнул, он так сжал кулак, что ногти впились в ладонь. Анни сделала отцу укол. Резкий запах наполнил комнату. Товарищ, который привёл раненого, уже собрался идти.
— Мне надо туда, к ним!
— Погоди, — сказал отец. — Вилли, пойди открой шкаф. Там в правом углу одна доска отстаёт. Под ней лежит свёрток, завёрнутый в брезент… Нашёл? Принеси-ка сюда!
Вилли принёс свёрток. Он был маленький, но тяжёлый. Внутри что-то металлическое. «Пистолет», — пронеслось в голове у Вилли.
— Я тоже хочу, папа…
Но отец отдал свёрток молодому рабочему:
— Возьми вот с собой. Сегодня это может вам пригодиться! Я прячу его еще с двадцать третьего года. Передай привет Цергибелю и его кровавым собакам!
— Рот Фронт!
Рабочий засунул пистолет в карман, и лицо его осветилось радостной улыбкой. Он пошёл к двери. Анни и Вилли попрощались с ним так же, как и отец, — приветствием борцов красного фронта:
— Рот Фронт!
— Что будет с Отто? — фрау Эльснер взяла мужа за руку.
— Волноваться не надо. Рана заживёт быстро. Я вечером загляну ещё раз… Ребята, у вас у самих ничего нет, но всё-таки мне нужна ещё простыня.
— Дай ей ещё простыню.
Анни разорвала простыню. Фрау Эльснер, Вилли и Элли скатали полосы, как бинты, и хотели уже сложить их в санитарную сумку.
— Погодите, — сказал отец. — Эту сумку Анни нельзя носить на виду у полицейских. Полиция сразу поймёт…
— Возьми мой ранец! — крикнул Вилли.
— Дай Анни твою продуктовую сумку!
Фрау Эльснер вымыла сумку.
— А не позвать ли врача?.. — Она вопросительно глядела на Анни. — Я всё думаю…
— Больше, чем я, и он тебе не скажет. Но если поднимется температура…
— Никакого врача, если в этом не будет крайней необходимости, — сказал Отто Эльснер. — Да и тогда только того, кому мы доверяем. Они ведь будут стараться превратить всех врачей в шпионов. Расспрашивать, у кого те видели огнестрельные раны.
— Наши раненые не должны попасть в руки полиции, — подтвердила Анни. — Мы и в больницы их не отправляем.
И всё-таки фрау Эльснер настаивала на своем:
— Но ведь у доктора Хольца много пациентов среди рабочих.
— Доктору Хольцу я не доверяю, — хмуро сказал отец.
— Подождите, — посоветовала Анни. — В этом не будет необходимости, рана выглядит неопасной. — Она поспешно взяла продуктовую сумку. — До вечера. Слышите? Пальба приближается…
Анни уже открывала дверь. Вилли проводил её вниз до последней ступеньки.
Мать пошла на кухню — она решила сварить отцу кофе.
Элли села рядом с отцом на кровать.
— Очень больно, отец? — спросила она и боязливо потрогала пальцем свою ногу в том месте, где у отца была рана.
— Ничего страшного! — Отто Эльснер погладил руку Элли.
— Кто в тебя стрелял, отец?
— Полицейский.
— Почему? — Элли крепко ухватилась за палец отца. Пусть он её не гладит. Пусть ответит.
— Он получил приказ.
— А кто ему приказал?
— Офицер. — Отец надул худые щёки.
— Что за офицер?
Отец поглядел в окно.
— Да какой-нибудь сынок богатых людей!
— А почему он приказал?
— Потому что так пожелали капиталисты. — Отец ощупал свою ногу.
— А почему они так пожелали?
— Они боятся, Элли.
— Тебя боятся?
Выстрелы всё приближались. Пальба слышалась уже совсем близко. Отец прислушался.
Элли повторила свой вопрос:
— Капиталисты тебя боятся?
Бледное лицо отца оживилось. Он положил руку на плечо девочки.
— Да, Элли, меня они тоже боятся. Ведь отец у тебя коммунист, а ты знаешь, что коммунисты хотят отдать заводы и фабрики рабочим, как Ленин в России. Потому они нас и ненавидят — Эрнста Тельмана и всех коммунистов. И даже вас они боятся.
Вилли задумчиво слушал отца. Он низко нагнулся к нему через спинку кровати.
— Нас боятся? Да мне ведь тринадцать лет, а Элли вообще одиннадцать!
— Но и вы тоже станете коммунистами, когда увидите, какая сила у рабочих.
— Да, это я и хочу — стать коммунистом! — сказал Вилли. Глаза его сияли, щёки раскраснелись.
— Вот видишь, значит, и ты для них опасен! — Отец состроил испуганную гримасу.
Фрау Эльснер принесла кофе, размешала сахар.
— Оставьте отца в покое, мучители!
В первый раз за сегодняшний день на лице её появилась улыбка.
К вечеру пришла Анни. Она осталась довольна своим пациентом и положила ему на столик градусник.
— Померьте на ночь температуру. Если не поднимется, значит, всё идёт как надо.
— Что там на улице? Меня это больше интересует, — сказал Отто Эльснер.
Лицо Анни омрачилось.
— Тридцать три убитых, несколько сот раненых. — Она отвернулась и подошла к окну.
Вилли увидел, как отец сжал кулак.
— Когда же прозреют наши товарищи социал-демократы? — спросила Анни с горечью.
— Завтра у многих из них откроются глаза, Анни. Тридцать три убитых!
— Артур Мюллер вошёл передо мной в ваш подъезд — ну, этот Атце, как его все называют. Он что, у вас в доме живёт?
— Да, Атце живёт над нами. Он не ходил на демонстрацию, остался дома. Послушно выполняет всё, что ему прикажет его социал-демократическое руководство. А жаль! Такой хороший, честный парень!..
Вилли подумал: «Атце Мюллер остался дома, а вот отец вышел на улицу, не струсил». Он почувствовал презрение к Атце. Так вот они, значит, какие, социал-демократы!
— Не забудьте померить температуру! Я, наверно, буду работать всю ночь… — Прежде чем уйти, Анни ещё раз напомнила: — Никто не должен знать, что случилось с отцом.
В девять часов вечера мать принесла отцу липовый чай и поправила ему подушки.
Вилли протянул отцу градусник.
Через десять минут градусник показал 41,6.
Вилли испугался:
— Наш учитель сказал, что при сорока двух градусах человек умирает!
— Ну, так далеко дело ещё не зашло, — пробормотал отец.
— Надо позвать врача. Обязательно. Это необходимо, — решительно сказала фрау Эльснер.
— Может, мне сбегать за доктором Хольцем?
Вилли был уже у двери. Отец и слышать об этом не хотел.
— Наши товарищи ему не доверяют!
— Но, Отто, он ведь всегда был хорош с рабочими…
— Есть врачи, которые заодно с нами. А доктор Хольц пьёт. Он человек слабовольный. Донос, процесс об измене кайзеру и отечеству… Нет, не стоит того!
— Ты слишком мрачно на всё глядишь, Отто. А потом, он живёт так близко, на соседней улице…
Вилли пошёл к Элли на кухню.
— Я иду за доктором Хольцем, — твёрдо сказал он. — А что же — сидеть и ждать, пока отец умрёт?
На минуту он задумался. Потом достал из помойного ведра пустую коробку из-под геркулеса.
— Вырежи прямоугольник, Элли, и напиши на нём имя Атце Мюллера. Только пиши не «Атце», а «Артур Мюллер». Это его полное имя. Прикрепишь эту табличку к нашей двери — так, чтобы она закрыла фамилию и имя отца. Ты ведь так хорошо рисуешь буквы!
— Но тогда доктор Хольц подумает, что он у Атце Мюллера — над нами.
— Ну и пусть думает. Разве ты не слыхала, что сказала Анни?
— А если они схватят Атце Мюллера? — Элли стояла в нерешительности.
— Да разве Атце ранен? Уж он-то как-нибудь выпутается! Он такой находчивый — за словом в карман не полезет! Остался дома, вот трус! В общем, ему легко отбрехаться. Во дворе вон тоже живут Мюллеры, а у них молодые Мюллеры… Этих Мюллеров как собак нерезаных! Словом, делай, что я говорю!
Вилли со всех ног помчался к доктору Хольцу.
Доктор Хольц встретил его хмуро:
— Чего тебе? Почему так поздно?
— Мой отец… С ним… несчастный случай… Температура 41,6…
— Вызови «Скорую помощь».
— Господин доктор, тут дело особое…
— Что же с ним такое?
— У него… У него… — Врач ведь всё равно увидит. Значит, надо ему сказать. — У него… дырка в ноге…
Доктор Хольц сразу стал дружелюбнее. Он внимательно посмотрел на мальчика:
— Где ты живёшь?
— Тут близко, на соседней улице.
— Тогда, пожалуй, пошли. — Он ещё раз взглянул на Вилли, подмигнул и спросил: — Такая вот крошечная дырочка, а?
Вилли кивнул. В самом крайнем случае, думал он, остаётся ещё табличка на двери: «Артур Мюллер».
Врач взял свой саквояж с инструментами и последовал за Вилли.
— Несчастье произошло сегодня утром? Так, что ли?
— Да, рано утром.
— Так, так, так… Полиция?
«Хорошо ли Элли прикрепила табличку?» — с тревогой подумал Вилли, а вслух он сказал:
— Тут у нас в парадном нет света, лампочка перегорела.
Доктор Хольц посветил карманным фонариком на ступеньки лестницы.
— Вот сюда, доктор. Тут мы живём.
Доктор направил луч карманного фонарика прямо на дверь.
«Артур Мюллер».
Всё как следует. Отличную табличку сделала Элли. Она целиком заслонила фамилию и имя отца. Элли открыла дверь — врач вошёл. Вилли незаметно кивнул Элли.
— Добрый вечер, господин Мюллер.
Доктор был очень приветлив.
— Значит, сегодня вам не повезло? Несчастный случай, не так ли?
Вилли остановился в дверях комнаты:
— Я привёл доктора, а то отец…
— Ну-ка, покажите вашу ногу!
Доктор Хольц начал разматывать повязку.
Вилли напряжённо наблюдал за лицом врача.
— A-а, производственная травма! Пуля не задела кости. Кто же это вас перевязал?
Доктор накладывал новую повязку.
«Зачем ему это знать?» — подумал Вилли.
Отец подумал то же самое. «И почему он называет меня господин Мюллер?»
— Да вот, жена перевязала.
— Отличная работа, фрау Мюллер! Вы тоже там были? Правильно делаете, что не позволяете запрещать демонстрацию.
Фрау Эльснер хотела сказать про полицию, но Вилли приложил палец к губам: «Молчи!»
— У вас нет температуры, господин Мюллер. Пульс нормальный. Никакой опасности. Пошлите ко мне мальчика, если что случится.
Фрау Эльснер достала кошелёк из кухонного шкафа:
— Сколько мы…
— Да что вы, дорогая фрау Мюллер! За это я денег не беру. — Доктор Хольц смотрел на неё с улыбкой. — Это я делаю из солидарности!
Вилли проводил доктора вниз до входной двери.
— Значит, правда нет опасности, доктор? И температуры нет?
— Через неделю пойдёшь гулять вместе с папой, — сказал доктор Хольц.
Вилли радостно взбежал вверх по лестнице. Он сунул в карман картонку с надписью «Артур Мюллер» и вдруг почувствовал угрызения совести. С бьющимся сердцем он подошёл к кровати отца.
— Зачем ты его сюда притащил? — сердито сказал отец.
— Я боялся, папа… — запинаясь произнёс Вилли. — Когда у человека 42 градуса…
— Чепуха! Врач сказал, что никакой температуры у меня нет. Ну-ка дай сюда градусник!
Отец сунул градусник под мышку.
— Ну вот, 37 и 4! Нормальная!
— Как же это получилось? — спросила мать.
Все стали думать.
— Градусник лежал здесь на столе…
— Да, рядом с чашкой…
— Господи! — воскликнула фрау Эльснер. — Он лежал рядом с горячей чашкой и нагрелся!
— А ты вот навязал мне этого пьянчугу, этого ветрогона! Уж мы бы нашли врача, которому можно довериться, если бы со мной и вправду что-нибудь случилось!
Вилли не мог больше сдерживать слёзы. Элли глядела на него с виноватым видом. Она ведь тоже в этом участвовала.
— И почему он всё время называл тебя «господин Мюллер»? — спросила мать. Она хотела отвлечь отца.
— А чёрт его знает! Может, опять был навеселе, — буркнул отец. — Идите все спать. Не реви, парень, я знаю, ты хотел как лучше!
Вилли почувствовал, что к нему снова возвращается мужество. Он ещё расскажет отцу про Атце Мюллера. Потом. Ведь главное было, чтобы отец не умер.
А что будет завтра? Подождём. Посмотрим.
На другое утро три человека вошли в их подъезд и стали внимательно читать на доске список жильцов.
— Артур Мюллер. Вот, гляди, третий этаж.
— А доктор, кажется, сказал — второй?
— Может, мы плохо расслышали по телефону?
— Вполне возможно. Пойдём-ка глянем на этого красавца «с дыркой в ноге». Пожалуй, сразу и прихватим его с собой.
Оба сотрудника криминальной полиции и полицейский врач поднялись на третий этаж и позвонили в дверь Артура Мюллера.
— Добрый день, фрау Мюллер. Мы пришли навестить вашего мужа. Можно войти?
— Войти-то вы можете, если, конечно, вытрете ноги! А вот навестить моего мужа не выйдет! Его тут нет.
— A-а, вы стираете, фрау Мюллер? Небось окровавленное бельё?
Тот, кто это спросил, ухмыльнулся.
— Ах, вы суёте нос в моё грязное бельё? Да кто вы вообще такие?
— Криминальная полиция.
— Вот вас-то мне тут и не хватало! Обнюхиваете грязное бельё, привязываетесь к порядочным людям!..
— Где ваша спальня?
— Что-о? Спальня? Надо бы вызвать полицию, да вы сами — полиция!
— А ну-ка заткнитесь! Отвечайте на вопросы!
— Что? Сперва вы бабахаете на улицах, пули так и свистят…
Сотрудники криминальной полиции, распахивая все двери подряд, вошли в спальню.
— Пусто!
— Где ваш муж?
— Мой Атце? На работе. У него не так много свободного времени, как у некоторых.
— Не врите!
Фрау Мюллер была просто в бешенстве. Дверь в квартиру так и осталась открытой, и её крик был слышен во всём доме. Она ещё удостоила этих господ ответом, что её муж работает на заводе «Оренштейн и компания», но уж когда они стали открывать одёжный шкаф и полезли под кровать, она совсем разъярилась. Подскочив к двери, она крикнула на весь подъезд:
— Помогите! Помогите! Разбойники!
Сбежались жильцы из всего дома. Троим пришельцам пришлось показать документы.
— A-а, полицейские! Сыщики! — прорычал кто-то басом.
— Вон отсюда! — злобно выкрикнула какая-то женщина.
— Убийцы! — кричали с верхней площадки.
И трое пришельцев решили, что им лучше убраться подобру-поздорову.
Вилли слышал весь этот шум. Бледный, с бьющимся сердцем стоял он на лестнице. Когда эти трое спустились вниз, он подбежал к окну. Он глядел им вслед, пока они не скрылись из виду.
Значит, доктор предал отца.
Отец крепко спал. Вилли прислушивался к его ровному дыханию. Он лихорадочно думал.
Директор завода «Оренштейн и компания» принял троих полицейских не так непочтительно, как рабочие в большом доме.
— Раненый? Коммунист? Принимал участие в демонстрации и в боях? С удовольствием окажу вам поддержку!
Артура Мюллера вызвали в кабинет директора.
— Ну, Атце, как поживает твоя нога?
С издевательским благодушием они подтрунивали над своей жертвой.
— Моя нога?
— Небось побаливает ножка-то?
Атце не знал, что и думать об этих типах.
— Слаб на ножку-то?
— Могу кой-кого и пнуть, чтобы доказать обратное, — сказал он.
— Не хами! Тебе дорого обойдутся эти шуточки!
— Да разве я хамлю? Уж если я начну хамить, вы рот раскроете! А кто вы такие? Что вам от меня надо?
— Мы из криминальной полиции. Покажи врачу твою дырку в ноге.
— Мою… что?.. — Атце приложил руку к уху, словно он ослышался.
— Не прикидывайся дурачком! Показывай дырку в ноге!
— Нет у меня никакой дырки в ноге! Извините, господа, и рад бы, да нет! — Атце ухмыльнулся.
— А это мы сейчас проверим. Ну-ка снимай штаны! Если будешь сопротивляться, заберём с собой!
Атце Мюллер, всем известный на заводе шутник, пока ещё не разобрался, в чём дело. Одно ему было ясно: полицейские ищейки идут по ложному следу. Вот здорово! Надо разыграть комедию.
— Господа, я не могу так нервничать! — Атце сделал вид, что задыхается от волнения. — Вы нанесли вред моему здоровью! Вы будете отвечать!
— Показывай ногу! — Один из полицейских вытащил из кармана наручники.
И тут Атце смеха ради повернулся к ним задом и спустил штаны.
Полицейский хотел было его пнуть, но врач сказал:
— У него нет никаких повреждений на теле. Ни одной царапины!
Все трое были теперь похожи на побитых псов. Но они быстро оправились и продолжали в том же наглом тоне:
— А вы вообще-то Артур Мюллер?
Пришлось Атце показать документы. Позвали мастера, чтобы он опознал своего рабочего.
Но Атце не хотелось отпускать их просто так. Теперь пришла его очередь.
— Да, вид у вас огорошенный! А как же я?.. Придётся мне пить водку и лежать в постели, чтобы восстановить здоровье! Спросите вот у него, если он доктор!
— Это нас не интересует! Ну ладно, извините.
— Ах так, вы портите мне здоровье, а потом это вас не интересует! А какая-то дырка, которой у меня нет, вас очень даже интересует!
— Да, сожалеем, но дырки у вас нет.
Все трое двинулись к двери.
— Ну раз вы такие, мне и разговаривать с вами нечего! А ведь я мог бы…
Все трое навострили уши.
— Что вы могли бы?
— Я мог бы познакомить вас кое с кем, у кого есть дырка в ноге.
Трое переглянулись.
— А вы, оказывается, разумный человек. Нате-ка вот, возьмите сперва сигару. Для успокоения.
Атце взял сигару и, ухмыляясь, сунул её за ухо:
— О-о, большое спасибо!
— Если вы нам поможете…
Многообещающие взгляды, многообещающие жесты.
Атце сказал очень мирно:
— Почему бы мне не показать вам кое-кого с дыркой в ноге? Я это сделаю из любезности. Но кто же оплатит мне простой? Потерянное рабочее время? Сегодня я уже не смогу больше работать!
— Хорошо, мы это уладим.
— Орье, поди-ка сюда! — подозвал Атце одного из рабочих, проходивших мимо.
— Ну-ка, повторите ещё раз! Значит, вы берётесь уладить дело с моей зарплатой, пока у меня не наладится здоровье? Так?
— Ну, скажем, за три дня, — предложил полицейский врач.
— А я вижу, доктор кое в чём разбирается! Слыхал, Орье?
Орье кивнул. Атце с тремя полицейскими направился в цех.
Выходя, он шепнул Орье:
— Давайте сейчас все в цех! К Антону Цапеку! Орье побежал звать товарищей:
— Ребята, пошли! Атце даёт представление! Войдя в цех, Атце крикнул, перебивая стоявший здесь шум:
— Антон, поди-ка сюда! — И шепнул своим спутникам: — Вот он! У него дырка в ноге!
Антон захромал навстречу посетителям. Каждому было ясно, что с ногой у него что-то не так. Трое взглянули друг на друга торжествующе.
— Антон, — сказал Атце, — будь добр, покажи этим господам твою дырку в ноге. Они жутко интересуются такими вещами!
Антон ухмыльнулся:
— Да ну? Такого ещё не бывало!
— Ну почему ты не хочешь сделать им одолжение? — Атце подмигнул рабочим, стоящим вокруг. — Покажи!
Антон нагнулся и с большой готовностью закатал штанину. Врач склонился над его ногой. Все трое с любопытством взглянули на ногу, но тут же в бешенстве отпрянули: нога была деревянная.
Тут как раз подошёл Орье с группой рабочих:
— Что, Антон, к тебе гости?
— Вот тут и дырка есть, господа, — услужливо сказал Атце. — Я сам просверлил её Антону. Чтобы вечером, когда спать ложишься, продевать верёвочку и вешать ногу на спинку кровати.
Атце быстро повернулся к рабочим.
— Они здесь ищут кого-то с дыркой в ноге. Вы такого не знаете?
Лица рабочих окаменели.
— Гляди-ка, ищейки!
— Кого они ищут?
— А ту дырку ищите с той стороны двери! Да поскорее!
— Ну-ка, проваливайте! А то как бы чего не вышло!
— Убийцы!
— Вон отсюда!
— Ну и сброд! — Трое полицейских попятились к двери. — Вот погодите…
Атце протянул Антону сигару:
— Гонорар за твое выступление!
Вилли стоял на своём посту у окна, когда трое его врагов подходили к дому. Отец крепко спал. Вилли тихонько открыл дверь на лестницу и прислушался. Они остановились внизу.
Мальчик осторожно закрыл дверь и спустился вниз.
Вот они! Опять внимательно читают список жильцов.
— Доброе утро, — сказал Вилли очень вежливо. — Вы кого-нибудь ищете?
— Да, мы ищем господина Мюллера.
— A-а! Тут у нас в доме есть, во-первых, Атце, вернее, Артур Мюллер… — Вилли загнул палец и задумался.
— Нет! — все трое скривились, словно от кислятины. — Нет, не этот! Дальше?
— Тогда у нас вон там во дворе, на втором этаже, есть ещё Георг Мюллер. — Вилли загнул второй палец. — Его сын Генрих Мюллер тоже там живёт со своей семьей. — Вилли загнул третий палец. — Тут ещё много Мюллеров!..
— Спасибо, мальчик!
— Пожалуйста, не за что! — Вилли мило улыбнулся. — А вот через дом тоже живёт один Мюллер… Ну, мне пора в школу, до свидания! — Вилли вышел на улицу.
— Кажется, это единственный приличный человек во всём доме, — сказал полицейский врач. — Милый, вежливый мальчик.
На втором этаже дверь им открыла фрау Мюллер. Вилли стоял внизу на лестнице и прислушивался.
— Мы ищем господина Мюллера.
— Да, есть у нас такой, — сказала фрау Мюллер. — У нас их много. Во всех весовых категориях и любого роста. — Так вам какого? Георга, Генриха? Ну заходите!
Оба Мюллера были безработные. Вилли не слышал больше, о чём говорят в квартире, но через минуту дверь распахнулась.
— Пошли вон отсюда, ищейки проклятые!
Дверь захлопнулась.
Вилли спрятался на лестнице, ведущей в подвал, и опять стал слушать.
— Что ж теперь? Может, спросим дворничиху?
— Да, это хорошая идея!
— Что? Полиция? Ищете Мюллера с подстреленной ногой? Ну ищите, ищите. Только без меня.
Она выплеснула воду из ведра на кафельный пол и стала мыть подъезд.
Ищейкам пришлось выбираться из лужи с мокрыми ногами. Вилли пробежал через двор, взлетел вверх по лестнице. К сожалению, он не мог сплясать дикарскую пляску радости — отец спал. Он дышал глубоко и спокойно.
В полицейском участке шёл громкий разговор.
— Чёрт его знает, что он наплёл, этот пьяница, доктор Хольц!
— Ноги моей больше не будет в этом доме! — сказал полицейский врач. — К чему давать повод этим пролетариям над собой насмехаться! У этих людей нет вообще никаких манер! Жаль только милого мальчика, который дал нам сведения. А работы и без того по горло!
В эти дни работы у сыщиков и в самом деле хватало.
— Займитесь другим случаем, — сказал полицейский офицер. — Возможно, это дело само всплывёт на поверхность!
Атце Мюллер тут же пошёл домой. Может быть, к его жене тоже приставала полиция? Эта мысль не давала ему покоя.
— Я думаю, нам надо показать зубы этим господам, — сказал он на прощанье своим товарищам.
— Так ты тоже приходишь к этому выводу? — спросил Герман из комитета компартии завода. — Ещё два часа назад, когда мы предлагали стачку протеста, ты был против.
Да, два часа назад Атце был уверен, что товарищи из социал-демократической партии в правительстве и в профсоюзе не станут мириться с террором на Первое мая. Они примут меры. Зачем же сразу стачку? Но случай с полицейскими ищейками переполнил его терпение. Он был просто взбешён.
— Чёрт бы их подрал! До чего доходят! Давай, понимаешь ли, спускай штаны, и всё тут!
— А потом и шкуру спустят, Атце, если будем сидеть сложа руки, — сказал Герман.
На улице Атце встретил жену Отто Эльснера — она несла авоську с картофелем.
— Давайте, фрау Эльснер, я понесу!
Когда фрау Эльснер отпирала ключом дверь, Атце сказал:
— Я донесу вам до кухни!
Через открытую дверь спальни он увидел Отто в постели. Раненый не спал.
Рядом с ним сидел Вилли.
Атце удивился. Он подошёл к кровати.
— Что с тобой, Отто? Заболел?
— Да вот утром ногу вывихнул, — сказал раненый. Ну и лёг, чтобы её не растревожить. Как безработный я могу себе такое позволить. Что я прозеваю?
— Это ты правильно. А вот послушай-ка, что у нас на заводе случилось!
Вилли навострил уши. Но страх его сменился радостью, когда Атце начал рассказывать. Атце закончил так:
— В общем, здорово мы этим типам нос натянули. То-то было весело! Хотел бы я только знать, кому мне сказать спасибо за развлечение. Я с удовольствием пожал бы ему руку и даже заплатил марку.
Вилли не мог больше сдерживаться.
— Тогда пожмите руку мне! — выпалил он. — А марку можете оставить себе.
— Что? Как? Ты?
Атце с удивлением смотрел на Вилли. Потом он перевёл взгляд на Отто Эльснера. Он поглядел на ноги раненого, обозначившиеся под одеялом. Лицо его стало вдруг серьёзным и участливым. Он начал догадываться.
— Понимаю, — сказал он. — Вчера они устроили тебе хорошую жизнь, собаки. — Он потрепал Вилли за ухо: — А теперь расскажи-ка, сорванец!
И Вилли стал рассказывать.
Когда он закончил рассказ, все молчали. Мать крикнула из кухни:
— Сейчас будем ужинать!
Атце пристально глядел на мальчика.
— Я боялся, что отец умрёт, — сказал Вилли, и глаза его наполнились слезами. — Я не хотел, чтобы его забрали! Я и подумал: уж Атце-то сумеет вывернуться! Да и к тому же его ведь там не было, на демонстрации!
Тогда Атце встал и обнял Вилли за плечи.
Он протянул руку Отто Эльснеру.
— Да, вчера меня там не было, Отто.
Оба долго смотрели друг другу в глаза.
Потом Атце сказал:
— Я сейчас пойду на завод!
Вскоре после этого рабочие завода «Оренштейн и компания» вышли из здания. Мощная волна протеста прокатилась по Берлину:
«Долой фашизм!»
В тот день, когда берлинские рабочие хоронили своих убитых товарищей и несли тридцать три гроба, Атце Мюллер, Вилли и Элли тоже шли в траурной процессии. Дети бросали цветы на катафалки.
Вместе со своим другом, вместе со всей толпой они пели похоронный гимн рабочих:
Вы жертвою пали в борьбе роковой…Отцу пришлось ещё с неделю пролежать в постели. Атце принёс ему с завода большой пакет и цветы от рабочих.
Он отдал фрау Эльснер конверт с деньгами:
— Это для Отто. От товарищей.
Анни строго говорила отцу:
— Ты поднимешься только тогда, когда я тебе разрешу.
— Вот кто стал бы отличным доктором! — с улыбкой сказал Эльснер Атце Мюллеру.
— Может быть, твоя Элли и станет когда-нибудь доктором. Или вот твой парнишка! А мы пока, кроме как сёстрами в рабочей санитарной дружине, никем стать не можем. Зато уж делаем своё дело от всей души!
— Да, Анни, ты это доказала.
Анни рассмеялась:
— Завтра можешь вставать!
— Да, он может вставать, — сказала фрау Эльснер. — Вот и брюки я ему залатала!
Она поставила две искусные заплатки в виде квадратиков на те места, где прошла пуля. Первый раз в жизни она не ругалась за «рваные штаны», хотя это были единственные брюки Отто.
Доктор Хольц вскоре вынужден был переехать в другой район. Его приёмная была всё время пуста, и многие из его коллег тоже не хотели больше иметь с ним ничего общего. Потому что на его двери всё снова и снова появлялась надпись мелом: «Полицейский шпик!»
ПОБЕГВ ПРАГУ
Матери очень хотелось, чтобы у неё перед кухонным окном росло хоть немного цветов. Весь день ей приходилось смотреть на серую стену соседнего дома Здесь в Берлине, в районе Нойкёльна, все дворы были похожи на каменные ямы.
— Такой игрушечный садик, вот что тут надо бы, — часто говорила она.
Отец с Вальтером смастерили «игрушечный сад» — доска с загородкой, вот и всё. Оставалось только его покрасить и прибить под окно.
— Можно, я буду красить, отец?
— А уроки?
— Готовы!
Вальтер принёс тетради и показал отцу:
— Вот! Математика, сочинение… Всё!
— Ну как в седьмом, справляешься?
— Учитель Паппендиф считает меня первым учеником.
— А Уши?
— Да на самом деле она лучше меня учится!
— И ты с ней всё по-прежнему дружишь?
— С Уши? Ясно, дружу!
По лицу его было видно, что он этим очень гордится.
— А как маленькая Сара Абендрот? — Отец вытер кисточку, которую отмывал от краски, и внимательно поглядел на Вальтера.
Вальтер вздохнул:
— Ей не сладко приходится. Все её дразнят, прохода не дают.
— Все? — мать опустила на колени носок с начатой штопкой. — И ты тоже?
— Я? Да ты что, мама! Мы с Уши играем с ней на всех переменках. Но Паппендиф на каждом уроке ругает евреев.
— Бедная девочка! — мать ласково провела рукой по волосам Вальтера. — Никогда не будь жестоким и бессердечным, сынок!
Вальтер часто рассказывал дома про школу и про учителя Паппендифа. Теперь тот всегда ходил в коричневой рубашке,[4] а для похвалы знал только одно слово: «чётко». Он и сам двигался чётко, словно паяц на верёвочке. И про Сару Абендрот Вальтер часто рассказывал — как она тихо сидит одна на своей парте в углу. Паппендиф никогда её не вызывает. Эта девочка с бледным лицом для него просто не существует.
— Бедная девочка! — повторила мать. — Им становится всё труднее и труднее. — Она вздохнула.
— Это позор для всех нас! — Отец стукнул кисточкой по столу, словно хотел кого-то пристукнуть. — Уж хоть ты-то не обижай маленькую Сару!
Мать продолжала штопать.
Отец протянул Вальтеру пакет с зелёной краской.
— А может, ты и в самом деле сам покрасишь? Мне скоро пора уходить.
— Ура! — крикнул Вальтер.
— Достань с антресолей бутылку со скипидаром, — сказал отец.
Мать расстелила на столе газету. Отец поставил на неё «игрушечный сад», но как только Вальтер вышел за дверь, он сказал жене:
— Этот товарищ из Праги всё-таки не пришёл.
Они помолчали. Оба думали об одном и том же: сегодня вечером придётся уничтожить записку и сообщить Максу.
Вальтер вскарабкался в туалете на антресоли и стал искать там бутылку.
«Сам покрасишь!» Вот здорово!
Он даже запел от радости:
— У маляра облезла кисть, облезла кисть!..[5]
В дверь позвонили. Коротко, громко. Ещё и ещё раз. И тут же изо всех сил забарабанили кулаками. Вальтер прислушался. В кухне было тихо.
— Открывайте! — раздался громкий голос. — А ну быстрее!
Снова забарабанили в дверь. Вальтер услышал медленные шаги отца. Тот шёл к двери. Из кухни донеслось звяканье — что это, конфорка на плите?
— Тайная полиция! Гестапо! Никому не выходить из квартиры!
От испуга Вальтер замер на месте.
Раздался топот. Много людей вошли в квартиру. Они быстро распахивали все двери. Дверь в туалет тоже открылась. Вальтер пригнулся за большой бельевой корзиной. Какой-то человек заглянул в дверь, потом захлопнул её.
Вальтер услышал, как щёлкнули каблуки.
— Никого!
— Вы токарь Вальтер Штайнер? — громко спросил кто-то в кухне.
— Да.
— А это ваша жена?
— Да.
И вдруг Вальтера осенило: «Они ведь не знают, что я здесь!» Он стал прислушиваться. Громкий голос задавал вопросы. Отвечали по очереди — то отец, то мать.
И вдруг мать громко вскрикнула. Удар… Конфорка со звоном упала на пол.
Мужской голос рявкнул:
— Арестовать! Эти скоты что-то сожгли!
В кухне послышался топот.
Вальтер затаил дыхание.
— Ах ты так! — в бешенстве крикнул кто-то.
Душераздирающий крик матери заставил Вальтера подскочить. Он стал ощупью искать ящик с инструментами, нашёл, схватил молоток. Но тут раздался спокойный голос отца:
— Ещё раз тронете жену, размозжу череп!
— Я вам покажу, как у меня под носом сжигать адреса и листовки! Скоты чёртовы! Коммунисты! — бесновался гестаповец. — Пальцы себе обожжёте, и то не поможет! Ваша нора в Нойкёльне окружена, красные звери! Все выходы у нас на примете! Никому не уйти! Вот это вам знакомо?
— Нет! — ответил отец.
— А это?
Что он показывает отцу?
— Нет, — повторил отец.
— А что поделывают ваши друзья в Праге?
Почему это он вдруг заговорил так приветливо?
— У меня нет никаких друзей в Праге.
Послышался насмешливый хохот. От приветливости не осталось и следа.
— Ах так? Тогда я тебе кое-кого покажу. Уж он-то тебе наверняка знаком, дружочек!
Тяжелые шаги в сторону двери. Теперь дверь открыли. Вальтер услышал, как гестаповец кого-то позвал.
— Ну, а вот этот тебе тоже не знаком?.. Хватит комедию ломать! Ведите его вниз. Он у нас научится говорить! Пошли, Вендлиц!
Вальтер услышал голос отца:
— Так, значит, Берт Вендлиц! Ну что ж, в Праге узнают, что ты шпик!
— Заткнись, а то сейчас…
Вальтер всё ещё сжимал в руке молоток. Пальцы так и впились в ручку. Но отец почему-то не замолчал. Он снова повторил то же самое — ещё громче, ещё отчетливее:
— В Праге узнают, что Берт Вендлиц шпик!
Что всё это значит? Вальтер прислушивался затаив дыхание.
— Тащи его вниз!
Грохот отодвигаемой мебели, упал стул, зазвенела разбитая посуда.
— Прощай, мать, будь молодцом! Всё! Можем идти!
— Как бы не так! Жена тоже арестована! Пятнадцать лет отсадит, не меньше.
У Вальтера замерло сердце. Значит, он увидит мать, только когда будет уже взрослым?
Раздалась команда:
— Обыскать квартиру! Один остаётся в засаде. Каждый, кто придёт, — арестован.
«Меня вам не поймать!» Вальтер рывком открыл маленькое окошко на антресолях. И вот он уже спускается вниз по водосточной трубе. Прыжок — и он на земле. Отряхнул пыль с коленок, через подъезд соседнего дома выбежал на улицу.
«А теперь что делать?» Он растерянно огляделся по сторонам.
Перед домом стояла большая легковая машина синего цвета. Какой-то человек, насвистывая, ходил взад и вперёд, засунув руки в карманы. Вальтер медленным шагом прошёл мимо него до угла улицы. Здесь он остановился и с волнением стал наблюдать за домом. Страх ещё не прошел. Он сковывал всё тело. Но Вальтер боролся с ним. «Открыть глаза!» — приказал он сам себе. Четверо штурмовиков вывели из дома отца и мать и втолкнули их в синюю машину. Машина отъехала. Вот она уже проезжает мимо угла, где стоит Вальтер.
Забыв всякую осторожность, он подошёл к краю тротуара и в смятении глядел на машину, увозившую его родителей. Машина подавала гудки. Мысли кружились вихрем в голове Вальтера.
Когда машина сворачивала за угол, отец увидел Вальтера. Он твёрдо посмотрел ему в глаза.
Что это значило?
В глазах отца словно вдруг вспыхнул свет. Он кивнул Вальтеру. Очень осторожно, коротко, но Вальтер отчётливо видел: отец кивнул ему. Потом сразу отвёл глаза в сторону.
Синяя машина исчезла из виду. Только сейчас Вальтер осознал до конца весь ужас случившегося. Он заплакал, громко, безудержно. Прохожие оборачивались и глядели на него. Вальтер не замечал этого.
— Что же мне теперь делать? — всхлипывал он. — Мать, отец, что же мне…
В отчаянии он бегал по улицам, пока ему не пришло в голову, что надо ведь что-то предпринять. Он вытер слёзы и стал напряжённо думать. Пойти к дяде Фрицу? Он близкий друг отца. Отец его очень уважает. Вальтер знал это. Дядя Фриц давно уже не бывал у них дома, но отец часто говорил: «Дядя Фриц передаёт тебе привет».
Дядя Фриц жил на Дунайской улице. Вальтер бросился бежать — бегал он быстро. Но уже издали он заметил, что перед домом стоит большая синяя машина. Трое людей в коричневых рубашках вталкивают в неё дядю Фрица. Руки и ноги у него связаны, сам он идти не может.
Вальтер понял, что происходят страшные события. Страшные не только для его отца, матери, для него самого. Он вспомнил…
Это было вечером, три года назад, в 1933 году. Мать подошла к его кровати. Она плакала.
— Что с тобой, мама?
— Отец… — всхлипнула она.
— Что с отцом?
Вальтер понял не всё из того, что она шептала ему на ухо, — она всё плакала, иногда целовала его. Но главное он понял: отец делает что-то запретное, и это тайна.
— Не проболтайся, если тебя будут спрашивать. Ни про красные флаги, ни про то, что был пионером, ни про Первое мая, ни про Эрнста Тельмана, ни про Ленина… И слово «товарищ» теперь тоже говорить опасно.
— Я ничего не скажу, мама. Не плачь!
Отец тогда всё-таки вернулся домой. Очень поздно. Он был бледный, усталый, но всё чему-то радовался.
— На этот раз кое-как выпутался, — сказал он, смеясь. — Он расцеловал их обоих. — Так просто им с нами не разделаться!
С тех пор Вальтер внимательно следил за всем и многое понял сам, без объяснений.
В полном отчаянии он сел на скамейку в сквере и задумался. Теперь он один в Берлине, один на свете. Он всхлипнул. Что сделают с матерью и отцом? Куда ему деваться? В квартиру возвращаться нельзя, там засада. Идти им прямо в руки? Нет!
Вальтер сжал кулаки. «Так просто им с нами не разделаться!» «Сопротивление!» — так всегда говорил отец. Это был его девиз.
Он вспомнил один случай. Давно уже это было, года четыре назад, может и больше. Рабочие Нойкёльна хоронили трёх убитых антифашистов. Отец тоже нёс гроб, вместе с другими. Море знамён и цветов колыхалось вслед за ними. И тут налетела полиция. Она начала разгонять траурную процессию. Гробы были сброшены на землю. Но и шлемы полицейских катились в тот день по улицам Нойкёльна.
«Долой фашистов! Да здравствует единый фронт рабочих против фашизма и войны!» — скандировала толпа.
А теперь фашисты увезли в тюрьму отца и мать. Значит, они так сильны, эти фашисты?
И вдруг Вальтер вспомнил слова отца: «В Праге узнают…»
Так как же звали этого типа, которого гестаповец позвал в квартиру? Вальтер закрыл глаза — он изо всех сил старался вспомнить фамилию. Ах да — Берт Вендлиц! Вот как его зовут! Вальтер вскочил со скамейки.
«В Праге узнают, что Берт Вендлиц — шпик», — сказал отец. И повторил это два раза.
Перед глазами Вальтера возникла картина: вот отец проезжает мимо него в синей машине… Как он посмотрел, как кивнул!..
Мальчика вдруг охватило страшное волнение.
Берт Вендлиц — человек, который предал его отца, дядю Фрица и, может быть, ещё многих других.
Вальтер нахмурился. Да, они об этом узнают!
Но с кем ему поговорить? Нужен друг, настоящий друг, добрый, готовый помочь. Кто же у него ещё есть?
Фриц Редлов? Но его брат носит теперь коричневую рубашку. Вилли Бенц? Он рассказывает о своём брате таинственные истории — тот испытывает новый опасный вид самолётов для самого Геринга.[6] «Вы будете первыми, когда начнётся, — сказал Геринг брату Вилли Бенца, — вы должны рвануть, как черти!» Когда Вальтер рассказал это своему отцу, тот зло усмехнулся: «Но и самим чертям не войти в Москву!»
Нет, ни тому, ни другому он не может довериться.
Но вот — Уши!
Уши — да, ей можно. Она его не предаст. Она умная. Вместе они уж найдут какой-нибудь выход.
Со всех ног Вальтер бросился к Уши. Когда он свистнул, в окне тут же показалась ее весёлая курносая мордашка. Она вприпрыжку сбежала вниз по лестнице.
— Что случилось?
— Пойдём сядем на скамейку.
Вальтер решил сказать ей всё. Он сел с ней рядом и подробно рассказал, что произошло.
Уши слушала его с изумлением, лицо её было очень серьёзно. Она взяла Вальтера за руку, когда он рассказывал, как синяя машина сворачивала за угол. С минуту она подумала. Потом сказала:
— Тебе надо ехать в Прагу.
— Да! Я и сам так думаю, — ответил Вальтер. — Но у меня нет денег. Я никого не знаю в Праге, ни одного человека. Вот у меня двадцать пфеннигов, как раз на две булочки.
Оба задумались.
— А далеко это — Прага? — спросил Вальтер.
Уши крутила кудрявый хвостик своей косы. Она соображала.
— Погоди, — сказала она. — Прага — это где-то там, справа внизу — я видала её один раз на карте. Знаешь что? Я сейчас принесу атлас, и сперва мы найдём Прагу. Тебе нужно скорей убираться отсюда, а то тебя отправят в приют для сирот.
— В приют? — в ужасе переспросил Вальтер.
— Подожди, я сейчас вернусь.
Уши уже бежала вверх по лестнице.
«В приют для сирот, — думал Вальтер. — Не пойду я ни в какой приют. Никогда!»
Он снова всхлипнул, но тут же заставил себя побороть слёзы. Нет, он найдёт путь в Прагу. И в Праге будет упорно искать, пока не разыщет тех, о ком говорил отец.
Уши уже бежала вниз, размахивая атласом.
Она принесла и свою копилку — розовую свинку и трясла ею так, что внутри у неё тарахтело.
— Сейчас мы первым делом прикончим свинью, — сказала она, еле переводя дыхание, и тут же, найдя на земле камень, разбила копилку. — Вот тебе деньги на дорогу! Только хватит ли?
Они сосчитали деньги — восемь марок тридцать четыре пфеннига. Уши сунула деньги в карман Вальтеру и с серьёзным видом раскрыла атлас.
— Вот Берлин. Мы в Берлине.
— А вот Вена.
— Нет, это слишком далеко. Сперва, видишь, тут Дрезден…
— А, вот она, Прага! Между ними — Шандау. Там у меня тётя! — обрадовалась Уши.
— Какая длинная дорога! Берлин — Дрезден — Шандау — Прага!
— Когда есть деньги — это пустяки. Покупаешь билет, садишься в поезд. Человек в красной фуражке подымает флажок, и поезд трогается. Но так… Денег не хватит…
— Мне надо уехать ещё сегодня, — сказал Вальтер. Он поглядел вверх, на облака.
— Как называется эта страна?
— Чехословацкая республика.
— А перед ней, вот тут, большой горный хребет. Ты можешь через него перейти!
— Поеду прямо сегодня! — решительно сказал Вальтер.
— Но ведь денег хватит разве только до Дрездена…
— Тогда, значит, сперва я поеду до Дрездена. А оттуда уж как-нибудь дальше. Что-нибудь да придумаю.
— Да, так просто им с нами не разделаться!
— Где нам взять денег?
Уши задумчиво крутила хвостик косы.
— Слушай-ка, Уши! Надо ведь не поездом ехать!
Уши с удивлением подняла глаза от атласа.
— А как же ещё ты поедешь?
— Залезу в машину, которая мебель перевозит!
— Вот это идея! Молодец! — Уши закрыла атлас.
— Пошли! На стоянку грузовых машин! Оттуда каждый вечер отъезжают машины с мебелью во все города. Если какая-нибудь поедет в Дрезден, полпути я проеду бесплатно.
— А они тебя возьмут?
— А я их и спрашивать не стану.
Уши даже рот открыла от удивления. Она молча смотрела на Вальтера.
— Ну, пошли!
На стоянке большая машина для перевозки мебели как раз должна была вот-вот отъехать. Мотор уже урчал.
— Извините, пожалуйста, вы, случайно, не в Магдебург едете? — спросил Вальтер шофёра.
— Нет, паренёк, — дружелюбно ответил шофёр, — мы едем в Дрезден. Но вон та жёлтая машина через час отправляется в Магдебург.
— Большое спасибо! Побегу скорее домой. Отец хотел тут кое-что передать в Магдебург.
Вальтер повернулся и собрался уже отойти.
— А что он хотел передать?
— Да почтовых голубей!
Вальтер и сам не знал, как это пришло ему в голову.
— Поговори с водителем, может, он и согласится.
Шофёр вошёл вместе со своим сменщиком в контору грузовой станции.
— Давай! — шепнула Уши. От волнения она даже схватила Вальтера за плечо. — Всё получается!
Они поглядели друг на друга. У Уши вдруг выступили на глазах слёзы, и Вальтер почувствовал, что наступила грустная короткая минута прощания. Он быстро пожал руку Уши:
— Прощай, Уши! Спасибо тебе!
Вальтер огляделся по сторонам. Никто за ними не следил. Он проворно влез в ящик для зеркал, укреплённый под машиной. Прежде чем закрыть крышку, он шепнул:
— Прощай, Уши! Когда-нибудь я вернусь и женюсь на тебе. Ты мой самый лучший друг на свете. Я тебе напишу.
— Счастливого пути, Вальтер! Я буду держать за тебя кулак на счастье.
Она подняла руку вверх и показала, как крепко сжала кулак. Потом медленным шагом пошла со стоянки.
Спускались сумерки.
Вальтер глядел сквозь щёлку в ящике, как нерешительно удалялась Уши. Вот она остановилась у забора и оглянулась назад. Она всё крутила хвостик своей косы. Потом Уши вдруг махнула рукой — коротко, едва заметно. Атлас она всё ещё держала под мышкой. Вальтера охватило чувство нежности к этой милой мужественной девочке. Где еще сыщешь такую, как Уши!
Мотор взревел, машина тронулась. Поехали!
Но Вальтер ещё раз увидел Уши. Она в задумчивости жевала уголок атласа, грустным взглядом провожая машину.
Прощай, дорогая Уши! Прощай, Нойкёльн!
Стемнело. Вальтер укрылся одеялами, которые лежали тут, в ящике, устроился поудобнее. Его мучил страх за родителей. Но в то же время он был полон ожидания и решимости. Он стал засыпать. И вдруг очнулся в испуге. Кажется, в дверь позвонили?
— Мама, звонят! — крикнул он.
Вальтер стукнулся головой о крышку ящика. Где же он? Звонок всё звонил и звонил, протяжно, громко…
Это был гудок машины — ночью она гудела почти непрерывно, предупреждая редких прохожих.
И опять Вальтера охватил страх за мать. Он заплакал. И снова уснул в слезах.
Потом он проснулся ещё раз — машина остановилась. Он услышал голоса шофёра и его сменщика. Оба они вышли из кабины. Вальтер прислушался. Водитель — тот человек, которого он спрашивал в Берлине про машину на Магдебург, — рассказывал спутнику о своём сынке.
После короткой остановки машина опять тронулась.
Вальтер ещё немного поспал. Он проснулся, когда машина стала подпрыгивать на булыжнике мостовой. Полосы света проникли сквозь щели ящика.
Значит, они уже в Дрездене?
Мальчик осторожно приоткрыл выдвижную дверцу своей «спальни» и выглянул из ящика. Был уже день.
Вдруг машина резко затормозила. Вальтер тут же задвинул дверцу. Водитель со сменщиком вышли из кабины.
— Я точно видел — кто-то выглянул из ящика! — сказал сменщик.
Они стояли, склонившись над ящиком. Вальтеру в щель были видны их ноги.
— Выходи!
Удар ногой в стенку ящика.
У Вальтера оставался только один выход — бегство. Он медленно отодвинул дверцу ящика, вылез, потягиваясь и зевая, протёр глаза и сказал:
— Доброе утро!
При этом он незаметно оглядывался по сторонам. Они остановились на тихой, безлюдной улице. Ни души. Вальтер поднёс руку ко рту, словно прикрывая зевоту. И вдруг — прыжок…
— Ах ты паршивец! Стой! Мы хотим познакомиться с тобой поближе! — крикнул шофёр. Он уже схватил Вальтера за шиворот.
Что делать? Вальтер не сопротивлялся. Рука, державшая его, была словно из железа. Он вгляделся в лица стоявших рядом с ним людей. Неужели они отведут его в полицию? Он с отчаянием думал о родителях, о своём плане.
— Ну-ка рассказывай, почему ты удрал из дому! — крикнул шофер. — «Вы, случайно, не в Магдебург едете?» Стреляный воробей!
Шофёр говорил очень строго, с сердитым видом. Одно удивительно — глаза его смеялись. Они были совсем не такие суровые, как его лицо. Вальтер пригнулся под рукой шофёра и молчал. Он взвешивал разные возможности. Ещё раз попробовать удрать? Теперь это обречено на провал. Какую бы историю выдумать?
— Ну что, Ханнес, — сказал сменщик шофёру, — ведём его в полицию?
«В полицию! Всё кончено. Оттуда позвонят в Берлин…»
— Знаешь, Карл, — ответил Ханнес, — в полицию надо обращаться, только когда нет выхода. Конечно, если он ещё раз покажет нам пятки или наплетёт тут с три короба, придётся отправить его в участок… Ну так вот, рассказывай честно и откровенно! Мы можем и назад в Берлин тебя отвезти и перед родителями словечко замолвить… Скажи-ка, а кто твой отец?
— Токарь по металлу, — быстро ответил Вальтер. Ему пришла в голову спасительная мысль. Последний выход.
— Видишь, Карл, мальчишка из рабочих. Если мы, рабочие, можем сами разобраться друг с другом, на что нам полиция?
Шофёр добродушно рассмеялся.
— Так расскажи-ка нам, что случилось. Почему ты удрал? Я в твои годы тоже как-то раз отправился в дальнюю дорогу. К счастью, мне встретился на пути один друг — помог не наделать глупостей. С нами ты можешь говорить откровенно!
Вальтер всё глядел на шофёра и на его сменщика. Это рабочие. Полицию принимают не слишком всерьёз. Рассказать?.. Водителю Ханнесу он доверял. Но вот другой? Если тут выйдет осечка, всё кончено.
— Я еду к бабушке, — спокойно сказал Вальтер.
— А ну расскажи, расскажи!
— Мне на билет деньги дали, а я хотел…
— Ишь ты какой! Хотел деньги на билет прикарманить! — усмехнулся сменщик Карл. — Небось футбольный мяч задумал купить, а?
— Да, футбольный мяч, — поспешно подтвердил Вальтер. — У нас нет денег на мяч. А я так хотел мяч! Мама думает, я еду поездом к бабушке… — Вальтер внимательно наблюдал за лицом шофёра. Поверил?
— Вот видишь, я сразу угадал, — с гордостью сказал Карл. — Ладно, полезай в машину, а я пойду принесу чего-нибудь позавтракать. Ну, хитёр!
— А где живёт твоя бабушка? — спросил Ханнес, когда они остались вдвоём. Но раньше, чем Вальтер успел ответить, он твёрдо посмотрел ему в глаза и сказал: — Всё ты врёшь!
У Вальтера заколотилось сердце — сейчас всё решится! Он ещё раз испытующе взглянул на Ханнеса.
Нет, он такой же, как отец, как дядя Фриц. Он не трус.
— Да, я всё наврал.
— А теперь скажи правду!
Вальтер начал осторожно. Надо оставить путь к отступлению. На всякий случай. Сначала он сказал только одно:
— Отца теперь уже нет дома.
— А мать?
— Её тоже нет.
— Где же они?
Вальтер ещё немного помедлил. Он поглядел на Ханнеса, потом тихо сказал:
— Арестованы. Вчера вечером.
И опять замолчал.
Ханнес свистнул сквозь зубы и пристально взглянул на Вальтера.
— Гестапо?
— Да.
— А куда же ты едешь? Говори скорей, пока не вернулся мой сменщик.
Вальтер почувствовал полное доверие к Ханнесу. Он торопливо рассказал обо всём — об аресте, о том, как убежал из дому, о своём плане.
— Как зовут эту скотину? Шпика?
— Берт Вендлиц.
— Ладно.
Ханнес обнял Вальтера за плечи.
— Ты храбрый парень, недаром сын рабочего. Тебе будет нелегко услышать, что я скажу, но я хочу говорить с тобой прямо. Твоих родителей ждёт тяжёлая кара за то, что они хотели оградить немецкий народ от войны, которую готовят эти бандиты. Ты можешь гордиться своими родителями.
Какие хорошие, добрые глаза у этого человека! Как любовно, по-дружески глядит он на Вальтера… Вальтер почувствовал, что он уже больше не одинок. У него есть союзник. Какое счастье после стольких бед!
— Правильно, что ты сразу же пустился в путь. В Берлине тебя отправили бы в приют, чтобы воспитать из тебя настоящего нациста. В Чехословацкой республике Коммунистическая партия была запрещена, но теперь им пришлось отменить запрет. Ты увидишь на улице рабочих со значком на груди. Серп и молот — ты знаешь?
— Я был пионером, — сказал Вальтер. Он вспомнил, как однажды отец просмотрел вместе с ним все учебники, тетради, промокашки: «Стереть, стереть, стереть!» Серп и молот нельзя было больше рисовать. Жаль! Он так любил рисовать этот знак, особенно на развевающемся флаге. Вальтер знал и что он означает: союз рабочих и крестьян.
— Так вот, если ты увидишь рабочего с таким значком, заговори с ним. Попроси его помочь тебе, — сказал Ханнес.
— А если он не понимает по-немецки? — спросил Вальтер.
— Правильно. Ведь они там говорят по-чешски…
— Тогда я покажу ему на его значок и уж как-нибудь объясню, что я хочу.
— Ну, правильно, я тоже так думаю. Ты ведь парень не промах. — Ханнес притянул Вальтера к себе: — Ты молодец! — Потом Ханнесу пришло в голову ещё кое-что. — Ты скажи им имя Эрнста Тельмана. Его знают во всём мире.
— Хорошо. Эрнст Тельман.
Ханнес положил руку на плечо Вальтера:
— Осторожнее, Карл возвращается. Так ты едешь в Шандау, к бабушке. Смотри не выдай себя. Я тебе помогу.
— Спасибо, Ханнес, — шепнул Вальтер.
Карл начал расспрашивать Вальтера: фамилия, адрес, школа, братья и сёстры? Как любопытная тётушка! Вальтер рассказывал.
Ханнес не переставал удивляться: «Умён! За словом в карман не полезет!»
— Пожалуй, высадим его у вокзала, — предложил Карл. — Но, может, всё-таки сообщить в полицию? Не то что донос, а так, для порядка…
— Чепуха! — рассмеялся Ханнес. — Мальчонка как мальчонка!
— Да я-то, собственно… — лицо Карла выразило сомнение.
У Вальтера перехватило дыхание. Он глядел на Карла с виноватой улыбкой.
— Хорошо, мы можем туда заехать, — небрежно сказал Ханнес, — но вообще-то обычная мальчишеская выходка… Представь себе — твой парень выкинул такую штуку. Хотел бы ты, чтобы полиция, школа, соседи… Мы ведь тоже мальчишками были не ангелы с крылышками!
— Да я-то что! И какое, в конце концов, до этого дело полиции. Пусть себе покупает футбольный мяч! Будем надеяться, он не обвёл нас вокруг пальца.
— Да что вы! — взмолился Вальтер. — Я приду к вам в гости в Берлине.
Он записал адреса обоих шофёров.
— По-моему, он говорит правду, — твёрдо сказал Ханнес.
Во время заправки Вальтеру ещё раз удалось поговорить с Ханнесом с глазу на глаз.
— Ну, всё в порядке, — шепнул Вальтер.
— Да, Карл парень неплохой, только он боится. Немало людей стало нацистами из трусости. Из трусости и ещё оттого, что им думать лень… А теперь слушай внимательно. Ты должен сделать всё, чтобы в Праге тебя свели с немецкими коммунистами.
— А разве в Праге есть немецкие коммунисты?
— Да, многие эмигранты живут в Праге. У них налажена связь с нашими товарищами в Германии. Они им помогают. Обо всём этом ты там узнаешь.
— А как мне добраться от Дрездена до Праги?
— Деньги у тебя есть?
Вальтер показал свои восемь марок. Ханнес сунул ему в карман ещё десять марок, чтобы он доехал до. Праги, не думая, где бы раздобыть денег. Потом они быстро обсудили путь в Прагу.
— Ты не волнуйся, на носу у тебя не написано, кто ты такой, — сказал под конец Ханнес.
Они снова сели втроём в машину. И вот они уже едут по улицам Дрездена.
Какой красивый город!
— Хорошо вот так быть шофёром, — сказал Вальтер.
Оба его спутника усмехнулись и кивнули.
Вальтер с удивлением глядел на старинные церкви и прекрасные дворцы, но мысли его всё равно были далеко. Он думал о родителях, о Берлине, об Уши. Он искоса поглядывал на Ханнеса и Карла. Его вновь охватило чувство одиночества. Что ждёт его на чужбине?
— Вон, гляди, Эльба течёт, — сказал Ханнес.
Вальтер впервые увидел эту могучую широкую реку.
Ханнес остановил машину:
— Вокзал.
Они позавтракали. Потом весело попрощались.
— Привет бабушке! — смеясь, сказал Ханнес и подмигнул Вальтеру; тот понял, кому он просил передать привет в Праге.
— Ещё раз поймаем — отправим в полицию, — пригрозил Карл не то всерьёз, не то в шутку.
— Теперь я учёный, — сказал Вальтер, — больше не попадусь!
Все рассмеялись.
— Спасибо за мяч! — сказал Вальтер. — У богатых ребят всё есть, а нам вот так приходится…
Они пожали друг другу руки. Оба шофёра сели в кабину и уехали. Вальтер глядел вслед машине, пока она не скрылась из виду. Потом медленно побрёл в здание вокзала. Стрелки на больших вокзальных часах показывали восемь.
Как раз в это время в Берлине, в районе Нойкёльна, к директору школы явились два господина в штатском и спросили про ученика Вальтера Штайнера. Они предъявили свои книжечки, на которых было написано: «Сотрудник гестапо».
— Вальтер Штайнер учится в седьмом классе. Один из наших лучших учеников. Он что-нибудь натворил?
— Он сам — нет. Но его родители арестованы. Тяжёлое преступление. Мы пришли за мальчиком.
Директор испугался. Он повёл сотрудников гестапо в седьмой класс. Учитель Паппендиф щёлкнул каблуками.
— Вальтер Штайнер сегодня отсутствует.
— Где же этот сорванец? Сообщите нам срочно по телефону, как только он появится. Его родители — коммунисты, очень опасные. Необходимо направить его в приют Для сирот, чтобы воспитать из него порядочного немца.
— Коммунисты? — испугался учитель Паппендиф. — Да, да, он ведь всегда разговаривал с этой еврейской девчонкой! Сегодня же я сам лично её допрошу. Правительству пора, наконец, покончить с этими евреями! — Паппендиф вытянул руку вверх: — Хайль Гитлер!
Директор школы глядел вслед гестаповцам, качая головой.
— Такой умный, одарённый мальчик! Где же он скрывается?
В ту самую минуту, когда гестаповцы вышли из школы, Вальтер сел в поезд, который должен был довезти его до границы.
«На носу у меня не написано, кто я такой», — повторял про себя Вальтер всё снова и снова. И всё-таки его каждый раз охватывал страх, когда он видел коричневую нацистскую форму.
«Спохватились ли они там, в Берлине, что я удрал?»
Он с недоверием разглядывал своих спутников. На следующей остановке после Дрездена в вагон вошёл отряд «Юных гитлеровцев». Вальтер глядел в окно. Ребята были в весёлом настроении, болтали, пели песни. Вальтер напевал вместе с ними вполголоса знакомые мелодии. Но вдруг он замолчал.
«Юные гитлеровцы» запели:
…Сегодня Германия наша, А завтра, а завтра — весь мир!..«Чёрта с два!» — с ненавистью подумал Вальтер.
Ему вспомнились слова: «…война, которую готовят эти бандиты».
Эти ребята были такие же, как и он. Наверняка они думали бы по-другому, если бы у них забрали отца и мать. Они и понятия не имеют о том, что творится вокруг них.
— Саксонская Швейцария!
Ребята стали вылезать из вагона.
Вальтер с изумлением смотрел на высоченные скалистые горы.
Так он представлял себе Альпы. Какой-то приветливый пассажир стал называть ему горы:
— Вон там — Бастай, а вон — Кёнигштайн!
Вальтер никогда раньше не видел гор.
— Шандау! Курорт Шандау!
Вальтер направился вместе с толпой к выходу. Он примкнул к группе экскурсантов.
«Поменьше спрашивать, — говорил ему Ханнес. — Ни с кем не встречаться взглядом».
Вальтер понял из разговоров туристов одно: он на верном пути.
— Вон там уже чешская территория, — сказал какой-то человек своим спутникам.
Вдоль Эльбы тянулось шоссе. Крутые горы за ним взмывали ввысь. Вальтер шёл всё дальше и дальше. Его словно лихорадило.
Он заставил себя смотреть на Эльбу, блестевшую на солнце. Он разглядывал пароходы — так же, как и другие путешественники.
— До границы уже недалеко, — сказала какая-то женщина, обращаясь к девочке.
Вальтер отделился от толпы. Одно мгновение он ещё любовался красотой горного леса.
«Спокойно иди вперёд, — советовал ему Ханнес. — Если тебя задержат, говори, что тут, недалеко, в гостинице ты должен встретиться со своим классом». Это был хороший совет. Вальтер видел здесь много школьников, они бродили со своими учителями по пограничной полосе. Чешские пограничники смотрели на это сквозь пальцы.
Ему хотелось пить, он вспотел. Да и устал тоже. В гостинице у самой границы он выпил сельтерской воды.
Может, поесть чего-нибудь? Под ложечкой сосало от голода. Но он отказался от этой мысли. Сперва перебраться на ту сторону!
Да! Вот что ещё надо сделать, пока он не перешёл границу — послать письмо Уши.
«Дорогая Уши! — писал Вальтер на обороте открытки с видом горного хребта. — Через несколько минут я буду уже не в Германии, но я всё равно хочу остаться немецким мальчиком и навсегда твоим другом.
Всё это чуть не провалилось. Но мне помог один хороший человек. Я никогда тебя не забуду. До встречи в Берлине».
Вальтер опустил открытку в почтовый ящик. На душе у него было горько. Какая-то женщина, тоже бросившая письмо в ящик, спросила его с улыбкой:
— Наверно, маме письмо отправил?
Вальтер промолчал. Только взглянул на неё. Глаза его наполнились слезами. Он поскорее отошёл, так ничего и не ответив.
«Может быть, его мать больна», — подумала женщина.
Вальтеру было очень грустно. Все вокруг радовались, глядя на горы, леса, на яркий солнечный свет. А он?..
С ненавистью посмотрел он на пограничный столб со свастикой и поспешил дальше.
Красно-бело-синий флаг Чехословацкой республики приветствовал Вальтера. Он оглянулся назад: да, он уже в другой стране. Впервые в жизни. Странное чувство… А какие удивительные мысли приходили ему в голову!.. Граница — это, оказывается, не линия, как на карте. Даже не замечаешь, что ты уже на другой стороне. В первом же чешском доме Вальтер увидел перед одним окном зелёный «игрушечный сад». Ему сразу вспомнился недавно сколоченный «сад» в Нойкёльне — доска с загородкой. Какое счастье, что он ещё не был покрашен! А то бы никогда ему не спастись!
Что теперь сталось с этой доской? Мать тогда так радовалась…
Возле большой ели Вальтер ещё раз остановился. Но потом пошёл дальше, не оглядываясь. В первой встретившейся ему лавке он купил хлеба, колбасы, сыра и поменял свои деньги на чешские кроны, как советовал ему Ханнес. Продавец говорил по-немецки. Он рассказал Вальтеру, как пройти к вокзалу.
Час спустя Вальтер уже сидел в вагоне поезда, отходившего в Прагу. Он забился в угол и уснул, измученный, одинокий, озабоченный будущим, таившим в себе неизвестность.
Он проснулся, только когда начало смеркаться. Съел то, что купил на границе. Теперь он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Не отрываясь, он глядел в окно. Наконец вдали показались очертания башен. Какая красивая страна! А это там, вдалеке, Прага?
— Прага! — громко сказал какой-то человек в их купе.
Полный ожидания, Вальтер глядел на приближавшийся город, переливающийся вечерними огнями.
Он дышал глубоко. Он думал о своём задании.
Теперь всё зависит от него.
И опять Вальтер двинулся вместе с толпой к выходу с перрона. Голова у него кружилась. Он не мог разобрать ни слова в жужжании голосов и доносившихся до него выкриках, не понимал ни слова в надписях, висевших в большом зале ожидания.
Одно мгновение Вальтер, потерянный, неподвижно стоял перед зданием вокзала. Но потом он собрался с мыслями: «В Праге узнают…»
Он пересек большую площадь с яркими нарядными витринами и влился в поток людей, шагавших по улице.
Теперь, значит, надо одно: искать значок! Вальтер ухватился за эту мысль. Он внимательно разглядывал прохожих.
«Вот!»
Но женщина уже прошла.
«Вон тот мужчина!»
Но опять Вальтер слишком долго медлил.
«Следующего я не упущу», — решил он про себя.
И снова знакомый значок!
Вальтер поспешно повернул назад и пошёл за человеком с небольшим значком на груди — звёздочка, а на ней серп и молот. Ничего, кроме этой звёздочки, он больше не видел.
Рослый, широкоплечий человек со значком остановился у киоска и купил газету. Вальтер наблюдал за ним издали. Наверное, он рабочий. Чем дольше Вальтер на него смотрел, тем твёрже было его решение: «Я с ним заговорю». Он пошёл за ним дальше — до трамвайной остановки. Они остановились перед большим зданием в самом конце широкой улицы — такой широкой, каких Вальтер ещё ни разу не видел. В Берлине таких улиц не было. А какое движение!
Чешский рабочий сел в трамвай.
«Хоть номера я понимаю! — думал Вальтер. — Это номер 11, как в Берлине. Но куда мы едем? А как называется газета, которую он развернул?
«РУ-ДЕ ПРА-ВО».
Что бы это могло значить?»
Где-то на середине полосы он увидел слово «БЕРЛИН», напечатанное большими буквами. Другая статья называлась «МАДРИД». Больше он ничего не смог разобрать.
Мадрид? Мадрид — это главный город Испании!
…Сегодня литейщик Франтишек Грна, как всегда, возвращаясь с завода домой, купил свою рабочую газету.
Там не впервые написано чёрным по белому: «Немецкие фашисты напали на испанскую республику. Они чинят расправу над народом, прогнавшим своих угнетателей. Вот уже два месяца, как льётся кровь».
«Он затевает кровавую бойню — этот сумасшедший маляр по ту сторону гор! — думает чешский рабочий. — Всё так и будет, как предсказали коммунисты: он свернёт себе шею. Кончит стыдом и позором. Но сколько людей, любящих мир, поплатятся жизнью, если немцы сами не прогонят ко всем чертям этого паяца! Нашим товарищам нелегко там приходится, по ту сторону гор…»
Франтишек Грна не замечает, что какой-то мальчик не спускает с него глаз, потому что у него на куртке звёздочка, и едет вместе с ним в район Дейице. Чем дольше Вальтер наблюдает за этим человеком, тем больше он ему нравится.
Когда Франтишек Грна привычным движением сдвигает кепку на затылок, он похож на отца. Такое же выражение лица — умное, зоркое, а в глазах весёлый огонёк. И крепкие ручищи, как у отца, — такими руками можно много чего своротить.
«Это тот человек, которого я ищу», — решил Вальтер и снова пошёл за ним, когда тот вышел из трамвая.
Он перегнал его, остановился перед ним и показал пальцем на его значок. Франтишек Грна посмотрел на него с удивлением, потом весело улыбнулся и сказал:
— Добри![7]
Вальтер снова дотронулся пальцем до значка. Он поглядел незнакомцу в глаза и спросил:
— Коммунист?
— Ано,[8] коммунист, — кивнул Франтишек. Что хочет от него этот забавный малыш?
«Что же дальше?» — думал Вальтер. Где-то когда-то он слыхал, что слова «папа» и «мама» есть почти во всех языках. Он вытащил из кармана огрызок карандаша и поспешно нарисовал решётку на оборотной стороне билета. Протянув билет с решёткой незнакомцу, он сказал:
— Папа!
Теперь Франтишек Грна сообразил, что дело серьёзно. Мальчик хочет ему что-то сказать. Он спросил его о чём-то, но тот ничего не понял.
Зато Вальтер опять придумал фразу:
— Папа — коммунист!
И тут же ему пришли в голову ещё две фразы. Он показал на себя и сказал:
— Я — Берлин. — И добавил: — Папа — Берлин.
Лицо незнакомца вдруг осветилось. Он понял и сказал то, что для Вальтера было ценнее, чем десять фраз:
— Эрнст Тельман!
Вальтер кивнул:
— Эрнст Тельман!
Как хорошо они могли объясняться друг с другом! Франтишек Грна нашёл теперь тоже интернациональные слова. Он сжал кулак, лицо его помрачнело. Он сказал:
— Гитлер капут!
Вальтер тоже поднял кулак и повторил эти слова. Так закончилось их первое объяснение. Они познакомились. Они поняли друг друга.
Франтишек Грна с минуту подумал, а потом поехал вместе с Вальтером к своему другу Йозефу Прохазке, который долгое время жил недалеко от границы и понимал по-немецки…
И вот Вальтер снова стоит рядом с Франтишеком в 11-м трамвае, но на этот раз с ними едет ещё и Йозеф Прохазка.
Прохазка выслушал Вальтера и, так и оставив стоять на столе недоеденный ужин, выбежал в переднюю и надел куртку.
— Пошли скорее! Я знаком с эмигрантами. У них тут недалеко общежитие.
Вальтер тоже не стал ужинать, он горел нетерпением увидеть своих.
Проезжая теперь на трамвае мимо тех же улиц, мимо которых он ехал сюда полчаса назад, Вальтер успел увидеть многое. Ведь в тот раз он ни на что не обращал внимания — всё только смотрел на Франтишека.
— Вот это Влтава, — сказал Йозеф, — она впадает в Эльбу, и, если ты бросишь в неё спичку, она донесёт её до Германии.
— А вон тот большой замок?
— Это Пражский Град. Раньше тут был королевский дворец. Один сумасшедший по фамилии Гитлер мечтает здесь поселиться.
Зажглись первые вечерние огни. И вдруг высокие башни Праги засияли в лучах бесчисленных прожекторов.
Вальтер глядел во все глаза.
— Значит, Прага такая красивая?
— Да. Мы называем ее «Злата Прага» — золотая Прага. И кто на неё посягнёт, тому несдобровать!
В голубых глазах Йозефа вспыхнула искра. Он перевёл Франтишеку весь разговор.
Они снова ехали по той широкой улице, которая так поразила Вальтера.
— Вацлавская площадь, — сказал Йозеф. — Я вижу, она тебе нравится, а?
— Очень!
Женщины в ярких платьях, украшенных разноцветными лентами, садились в трамвай. У многих молодых парней на голове были красивые цветные картузики.
— Тут всё по-другому, чем у нас, — сказал Вальтер, — только вот вы…
— Кто «мы»?
— Ты и Франтишек — такие же, как отец и дядя Фриц, точь-в-точь такие же.
Йозеф крепко прижал к себе мальчика.
Они вышли из трамвая. Пройдя немного пешком, они оказались перед большим одноэтажным домом, стоявшим в стороне от других, на неширокой тихой улице.
Йозеф постучал в дверь.
Им открыл коренастый человек небольшого роста Он приветливо и с лукавым любопытством глядел на Вальтера.
— Добрый день, товарищ Эрих! — сказал Йозеф Они поздоровались, как старые друзья.
Вальтер удивился: Эрих был самый настоящий берлинец! Это стало ясно с первого же произнесённого им слова. Неужели Вальтер у цели?
— Как ты думаешь, кого мы к тебе привели? — спросил Йозеф Прохазка Эриха из Берлина.
— Ну?
— Вот, юного берлинца!
— Что? — изумлённо переспросил Эрих. — Берлинца? — Он сердечно пожал руку Вальтеру. — Входите!
Эрих дружески обнял Вальтера за плечи и повел в комнату. Сердце Вальтера бешено колотилось. Он ухватился за руку Франтишека.
В комнате было много людей. Йозеф вопросительно взглянул на Эриха.
— Ты можешь говорить всё, Йозеф. Что с мальчиком? — сказал Эрих.
— Мне-то говорить нечего, — ответил Йозеф, — а вот паренёк…
Йозеф подтолкнул Вальтера к собравшимся и сказал:
— Говори, Вальтер, ты среди друзей!
На третью ночь после бегства Вальтера штурмовик, оставленный в засаде в квартире Штайнеров, стал искать топливо, чтобы растопить плиту и согреть кофе.
— Чёрт бы их всех драл! — ругался эсэсовец. — Никто не идёт в ловушку. А дрова все кончились. И куда только подевался этот сопляк?
Его взгляд упал на «игрушечный сад».
— Даже не покрасили, — проворчал он и с досадой наподдал ногой по доске с загородкой.
Ещё удар — и «игрушечный сад» разлетелся на куски.
Тут он увидел пакет с краской. Он вспомнил, что хотел покрасить в зелёный цвет скамейку у себя в беседке, и рассмеялся.
«А вообще-то здорово, что они не успели доску покрасить, — подумал он, — а то б для моей скамейки и краски не осталось».
Больше месяца в квартире днём и ночью дежурили штурмовики. Но никто не приходил.
Вальтер успел предупредить своих как раз вовремя: когда он вместе с Эрихом и двумя новыми друзьями вошёл в комнату, курьер, отправлявшийся в Берлин, уже собрался в путь.
Все, для кого это было важно, узнали, благодаря мужественному поступку Вальтера, что Берт Вендлиц предал гестапо товарищей из Нойкёльна.
II АННЕМАРИ И КАПИТАН
БЕРЛИНСКИЕ СОРВАНЦЫ
Холодный осенний ветер брызгал в лицо ребятам мелким дождём. Он заносил дождь даже сюда, под арку ворот берлинской школы, где стояли, уславливаясь о чём-то, четверо восьмиклассников. Потом они быстро вышли из-под арки, прямо под дождь, и тут же расстались. Один из них, высокий светловолосый парнишка, бегом свернул за угол. Двое других помчались по улице, держа за руки девочку.
Светловолосый парнишка пошёл на разворот к парку. Он двигался в ускоренном темпе, взвивая на ходу водовороты осенних листьев. Холодный дождь освежал его лицо, ветер развевал волосы. Мимо спешили прохожие. Некоторые ворчали и ругались, что осень так громко затрубила в свой рог.
Наш восьмиклассник был, очевидно, другого мнения. Он звонко выкрикнул «Кукареку!», потом залаял как щенок, а потом — ну почему бы и это не рассказать? — замемекал как коза. Как настоящая коза на лужайке, даже очень похоже, не ошибёшься:
— Ме-ме-ме-е!
Свернув в главную аллею парка, он поднял руки в стороны и полетел через море, которое перед ним открылось. Теперь наш друг был уже не петухом, не щенком, не козой — он был самолётом.
Всем вам это хорошо знакомо. И нечего объяснять, что морем была тут лужа, огромная лужа, метра в четыре длиной.
Вдруг наш самолёт снова стал мальчишкой. На одной из боковых дорожек парка он увидел инвалидную коляску на резиновых шинах. Сидевший в ней человек, как видно, старался починить передаточный механизм. Ничего у него не выходило. Вода бежала по волосам ему за воротник. Сейчас он как раз заметил Дитера. Он только хотел поманить его пальцем, но Дитер уже сам бежал к нему.
— Можно, я вам помогу?
— Спасибо, мой мальчик. Придётся уж тебе взять меня на буксир. Не так-то легко тут исправить.
— С удовольствием. А куда вас везти?
Человек в инвалидной коляске, как оказалось, жил неподалёку от Дитера. Дитер хотел его спросить, что с ним, но тут ему пришло в голову, что с больным надо быть по-тактичнее. И они говорили про осень, про дождь, про то, что скоро зима. На углу улицы их встретила какая-то женщина.
— Что случилось? Ужин давно вас ждёт, господин Клем!
— Пожалуйста, не сердитесь, фрау Зигала, я потерпел аварию, застрял. Хорошо вот, мальчик мне помог, а то бы я ещё позже приехал.
— Да ведь вы вымокли до нитки! — Она провела рукавом пальто по его волосам. — Только бы опять не поднялась температура.
— Да, фрау Зигала, дожди. Скоро снова зима…
Дитер повёз коляску дальше. Он решил, что уйдёт, только когда инвалид больше не будет в нём нуждаться. Они подъехали к двери дома, и человек откинул с коляски клеёнчатую покрышку. Дитер хотел помочь ему встать, но тут он увидел, что у него нет обеих ног. Дитер испугался…
Господин Клем вошёл в квартиру, передвигаясь на руках. Фрау Зигала дала ему тёплую вязаную кофту и вытерла лицо и волосы. Господин Клем был очень взволнован случившимся. Он кашлял. Дитер принёс ему из коляски одеяло.
— Да, только бы всё сошло благополучно, — сказала фрау Зигала. Она обернулась к Дитеру: — Большое спасибо, мальчик. А как тебя зовут?
— Дитер Шумахер.
— А меня — фрау Зигала. Я ухаживаю за господином Клемом. Скажи, а ты не мог бы ещё как-нибудь к нам зайти — вот к господину Клему?
Прощаясь с господином Клемом, Дитер спросил, не помешает ли он, если будет иногда заходить.
— Да что ты! Это будет отлично. И ты расскажешь мне про школу. — Господин Клем закашлялся.
Фрау Зигала проводила Дитера до двери. Она рассказала ему, что господин Клем вернулся с войны без ног. И ещё у него прострелено лёгкое.
— Он тяжело болен, и если ты вправду придёшь, он будет очень рад. Расскажешь ему, как там сейчас у вас в школе. Ведь раньше он был учителем…
Так Дитер познакомился с господином Клемом. Он и его друзья не раз потом приходили в гости к Клему и рассказывали ему о своей жизни: о своих приключениях и озорных проделках, о своих бедах и радостях, об успехах и планах на будущее — обо всем, о чём ты прочтёшь тут дальше.
Фрау Зигала тоже сидела здесь долгие часы вместе с ребятами. На прощанье она иной раз говорила: «Ну, вы настоящая банда!» или: «Ах вы бедняги, сколько же вам пришлось пережить!» А то похлопает кого-нибудь по плечу и скажет: «Ну молодцы, это вы правильно! Вот бы и мне сейчас было опять тринадцать!»
Вернувшись в комнату к господину Клему, она часто вытирала глаза концом передника. Она думала о своём сыне. Вот так же весело и он смеялся, так же сияли его глаза. Теперь ему было бы двадцать девять… если бы не война.
А Клем открывал ящик письменного стола, доставал бумагу и ручку и начинал писать. Иногда он засыпал за своей работой. Фрау Зигала замечала это, потому что на другое утро в его комнате все ещё горел свет.
— И что это вы всё пишете? — сердилась она. — Такой больной человек, и не спит по ночам!
Что же писал господин Клем в свои одинокие ночи? То, что он записал, начинается со следующей главы.
РАССКАЗ ДИТЕРА. 1945 ГОД В БЕРЛИНЕ. ТРИ ДРУГА. ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Всякий раз, когда после летних каникул переходишь в следующий класс, сам себе кажешься ужасно важным. На «мелюзгу» смотришь сверху вниз, на всех этих ребятишек, которые мельтешат где-то там, в самом низу нашей лестницы в восемь ступенек. А в один прекрасный день сам ты взбираешься на верхнюю ступеньку. Над тобой уже никого нет, ты на самом верху, и скоро тебе придётся прыгнуть. Но куда, как?
Каждый спрашивает тебя, кем ты собираешься стать.
Когда поглядишь назад, на все эти годы, удивляешься, как быстро прошло время. Как всё изменилось с сорок пятого года! Приходишь на какую-нибудь улицу, где и не был-то меньше месяца, а там уже новая стройка, дом до второго этажа совсем готов. Глазам своим не веришь, а тут ещё с верхотуры кто-то кричит:
— Эй, Дитер! Дитер Шумахер!
Это Альфред, который пять лет назад, может, сидел на той же парте в восьмом классе, на которой сейчас сидишь ты.
Но я хочу рассказать всё по порядку. Я начну сначала.
В сорок пятом году я пошёл в Берлине в школу, а теперь я уже в восьмом классе. Сколько всякого с нами было с тех пор, как мы ходим в школу! Но пожалуй, надо начать ещё раньше. Я ведь не из Берлина, не берлинский мальчишка, как думают некоторые. Моих родителей я почти не помню. Отец мой погиб на войне, а мама умерла в последний год войны. Одна женщина из нашего эшелона — я называл её тогда тётя Эрна — взяла меня к себе. Её муж тоже погиб на войне, и она ехала в Берлин к своим родителям. Тетя Эрна любила меня, и я её любил.
Мы пережили в дороге много ужасного, но про это я сегодня рассказывать не буду, а то можно было бы рассказывать без конца.
Когда мы наконец добрались до Берлина, оказалось, что отец тёти Эрны умер, а мать у неё старая, но жива и здорова. Каждый вечер она уходила спать в бомбоубежище, потому что, когда спала дома, не слышала воздушной тревоги. «Я ещё долго жить собираюсь!» — говорила она. Она сначала подумала, что я сын тёти Эрны, и сердилась, что ей ничего обо мне не писали. Но тётя Эрна рассказала, как она меня нашла. Мне велели называть её бабушкой. Это мне понравилось, раньше у меня не было бабушки.
Бабушкин дом два раза разбомбили. У неё всё пропало, а она всё равно была весёлая. Всякий раз, когда я бухался на пол вместе с моим хромоногим стульчиком, она находила какое-нибудь шутливое слово, чтобы меня утешить. Два стула, старый-престарый стол и мой калека-стульчик — это и было всё бабушкино имущество, когда я к ней приехал. Однажды я нашёл доску, и мы положили её на два больших стула. С этого дня я сидел между мамой и бабушкой. Мой стульчик перекочевал на кухню — в плиту. Да и пора было.
Тётя Эрна хотела, чтобы я называл её мамой. Я и сам давно уже втайне хотел этого. Мою настоящую маму, которая погибла в эшелоне, я всё равно всегда помнил. Её я забыть не мог. Моя новая мама была ко мне очень добра, и я любил её.
В последние дни апреля мы вообще больше не выходили из бомбоубежища. Бомбили так часто, громыхало так громко, что голова кружилась.
Вокруг бегали какие-то люди, похожие на привидения. Пахло разрушением и дымом. Женщины иногда начинали вдруг кричать, а потом падали. Мы, дети, забивались в самые дальние, самые тёмные углы убежища.
— Пора кончать с этой так называемой «защитой отечества», — говорила бабушка. — Дождутся, что от Берлина вообще ничего не останется.
Повсюду лежали трупы.
Потом пришла весть, что Гитлер покончил самоубийством.
— Хоть раз в жизни этот подлец сделал что-то разумное, — сказала бабушка. — Только вот опоздал на двенадцать лет!
В один прекрасный день прикатили русские танки. Земля так и гудела под их гусеницами. Война кончилась.
Один советский танк остановился перед нашим домом. Солдаты вылезли из него. Они смеялись и обнимали друг друга. Потом они вошли в убежище.
Солдаты дали мне хлеба и леденцов. Это был просто праздник. Они поехали дальше, но женщины не решались выйти из убежища, потому что думали, что их убьют или сошлют в Сибирь — так писали тогда в газетах.
— Вы и до сих пор все этому вранью верите? — спросила моя бабушка.
К вечеру в убежище вошёл советский офицер И сказал нам по-немецки:
— Идите в свои квартиры, убирайте — войне конец! Мы всегда знали, что она окончится в Берлине!
Солдаты были счастливы.
— Война капут! — повторяли они всё снова и снова.
Бабушка подала им руку и сказала:
— Гитлер капут!
Старый усатый солдат обнял её. Вечером они пели красивые песни, каких мы раньше никогда не слыхали, и играли на гармошке.
На многих окнах висели белые флаги из простыней, а на нескольких развевались красные. Я удивлялся некоторым жителям нашей улицы. Они просто одурели от радости; смеялись, плакали, обнимали солдат…
Бабушка показала мне одного человека с белыми как снег волосами. Лицо у него было бледное-бледное.
— Посмотри на него. Двенадцать лет нацисты держали его в тюрьме. Раньше волосы у него были чёрные.
— Двенадцать лет? А он что — преступник?
— Какой он преступник! Если бы все были такие, как он, не было бы всего этого позора!
— Разве так бывает, что хороших людей сажают в тюрьму? — спросил я, боязливо поглядывая на седого человека.
Всё вышло не так, как писали в газетах. Мы стали убирать улицы. Солдаты давали нам хлеб. К нам, детям, они относились очень хорошо. У меня всегда были леденцы, я всё ходил и сосал их.
А сейчас я расскажу о моих друзьях: о Боксёре и Деревянном Глазе. Боксёра по-настоящему зовут Вольфганг Лютге, и он совсем не так опасен, как его прозвище. Он в очках и очень добродушный. Он уже тогда много чего знал и про всё нам рассказывал и делился с нами куда честнее, чем мы с ним. Сейчас-то это всё по-другому. Я любил его, и мама с бабушкой тоже говорили, что он очень милый мальчик. А вот второй, Деревянный Глаз — а на самом деле его зовут Пауль Шульце, — он им совсем не нравился. Но мы с Боксёром очень его уважали. Потому что он вообще ничего не боялся. Правда, он был тогда отчаянный озорник, ну а мы-то какие были? Просто мы это не так явно выказывали.
Офицер, который вывел нас из бомбоубежища, стал нашим другом. Его звали Сашей, и он даже часто брал нас с собой, когда ехал куда-нибудь на машине. Никогда ещё я не жил так здорово. А главное, пальбы и бомбежки больше не было и можно было всю ночь спать спокойно.
— Это оттого, что мир, — сказал Саша. Он подхватил нас всех троих на руки и поднял вверх. — Эх вы, мелюзга, понимаете, мир! Только теперь и начинается настоящая жизнь…
Саша много рассказывал нам о своей жизни. Боксёра он называл «профессор» и говорил, что ему надо будет пойти учиться дальше.
— У нас нет денег, — сказал Боксёр. — Папа убит на войне. Я буду столяром, инструменты у меня уже есть.
Саша улыбнулся с таинственным видом:
— Ты меня ещё вспомнишь!
Он дал нам свой адрес: «Москва, Никитский бульвар, 43. Саша Борисов». Кто знает, может, когда-нибудь мы приедем в Москву и найдём его.
Бедный Берлин! Развалины, грязь. Вечером мы возвращались домой чумазые как поросята. Бабушка сшила мне из старого костюма штаны и куртку. Ботинки стали мне малы, а новые купить было негде. Но было ещё тепло, и мы бегали босиком.
Потом Саша и солдаты уехали, и нам стало грустно. Взрослые убирали улицы, мы им помогали — всё-таки какое-то развлечение. Но очень уж после этого хотелось есть.
Голод стал нашим постоянным спутником. Куда бы мы ни шли, он был с нами. Продукты выдавали строго по норме. Бабушка считала куски хлеба. Когда она его резала, у меня текли слюнки. Мне хотелось съесть весь хлеб сразу, но бабушка говорила:
— А потом что будешь делать?
Деревянный Глаз придумал игру, которая чуть не кончилась плохо. Он собирал патроны. Мы высыпали из них порох и делали длинную змею. А потом её поджигали. А ещё мы сперва зажигали огонёк, потом бросали на него патроны и радовались, что громыхает так громко. Как выстрелы. И вдруг Деревянный Глаз закричал… Его брюки вверху на ноге были разорваны, капала кровь. К счастью, это оказалось не так страшно — царапина.
— Кончаем с этим, ребята, — сказал Боксёр. — Всё!
Мы никому не рассказывали об этом случае, а Деревянный Глаз дома уж как-то выпутался.
Новая «игра» была — меняться. В ней была горькая правда жизни. У взрослых тоже тогда всё шла мена: брюки на хлеб, кольцо на сахар, отрез на мясо, салат на полотенце. Все вокруг нас менялись. А тут ещё началась спекуляция. Некоторые на этом зарабатывали. Мы, дети, подражали всему этому. Мы собирали окурки и за табак получали хлеб и деньги. На хлеб можно было выменять что угодно, все были голодны.
В один прекрасный день мы узнали большую новость.
— Знаете, что школа открывается? — сказал Боксёр.
— Ну и пусть открывается, нам-то что, — сказал Деревянный Глаз.
— Так ведь нам уже шесть лет — мы тоже в школу пойдём.
— Главное — остаться всем вместе!
Мы решили пойти посмотреть нашу школу. Один её угол был разрушен — развалины, битый кирпич. Целые оконные стёкла можно было пересчитать по пальцам. И это называется школа?
Вот так школа! А может, она изнутри лучше? Мы смело вошли в дверь и увидели осыпавшуюся штукатурку, снятые с петель двери, обломки парт. Какой-то человек вышел нам навстречу.
— Хотите помочь? — спросил он.
— Не… — сказал Деревянный Глаз. — Мы хотели нашу школу посмотреть.
— Вот как, — с улыбкой сказал человек. — А из какого вы класса?
— Ни из какого, — ответил Боксёр, — мы только ещё в первый пойдём.
— Все трое?
— Все трое. Нам уже шесть.
— Это здорово, — сказал человек и протянул нам руку: — Познакомимся. Я как раз ваш директор школы.
Деревянный Глаз покашлял и собрался уходить. Тут я набрался храбрости:
— А когда школу откроют?
— Первого июля. Пусть ваши мамы придут, вас запишут. И начнёте заниматься. Ну-ка пойдёмте, я вам что-то покажу!
Мы поднялись по лестнице наверх. Перед комнатой без дверей мы остановились.
— Вот ваш класс. Он вам нравится?
— Не! Ничуть не нравится, — сказал Деревянный Глаз. — Наше бомбоубежище лучше.
Директор рассмеялся:
— Когда вы снова придёте, тут будет по-другому.
Так мы познакомились с директором Гермесом, который потом не раз выручал нас из беды.
Дома уже знали про эту новость, потому что по городу были расклеены объявления, что нужно записывать детей в школу.
— Ну что ж, самое время, — сказала бабушка. — А то эта команда и вовсе одичает! Пора учиться!
Мы всем рассказывали, что идём в школу, и здорово воображали. Боксёр, Деревянный Глаз и я записались в один день. Правда, тут мы слегка оробели. Даже Деревянный Глаз притих, когда директор Гермес узнал нас.
— Ну как, хотите учиться в школе?
— Да, — ответили мы с Боксёром.
Деревянный Глаз отвернулся, покашлял и сказал:
— Там видно будет.
Мать толкнула его в бок. Он поглядел на неё с решительным видом:
— Этого наперёд не узнаешь!
— Конечно, — сказал директор Гермес, — сперва нужно выяснить, что тут, в школе. Если тебе покажется что не так, приходи ко мне. Договорились?
— Ладно, приду, — серьёзно ответил Деревянный Глаз.
Теперь нам при каждом удобном случае напоминали, какие мы уже взрослые.
Погодите, в школе вас проучат! В школе вы так себя вести не будете, там порядок! В школе так громко не разговаривают! Вот узнаете! Вот получите!
Мы все чувствовали страх перед этой развалиной, перед этой огромной коробкой, в которую нас собирались посадить и где нам грозили побои, оставление после уроков и дополнительные задания. Нам хотелось повременить ещё хоть годик. Деревянный Глаз заявил дома, что у него болит живот. Разве он может ходить в школу? Мать уложила его в постель. И, понятно, он быстро выздоровел.
Делать было нечего. Нам не оставалось ничего другого, как снова начать радоваться, что скоро мы пойдём в школу. Мы решили ещё раз сходить посмотреть, что там в школе, и установили, что физкультурный зал почти совсем цел. Там в зале были разные гимнастические снаряды, шведская стенка, шесты.
— Пошли влезем в окно!
— Давай! И вверх по шесту!
— Не, — сказал Деревянный Глаз, — в животе пусто.
— У меня есть кусок хлеба.
Мы легли на солнышке и только хотели разделить хлеб на три части, как вдруг подскочил большой мальчишка, вырвал кусок у меня из рук и убежал. Мы глядели ему вслед открыв рот.
— Вот это скотина!
— Если тут в школе большие ребята такие нахальные, давайте держаться вместе, а?
— Правильно, Деревянный Глаз.
— Ну пошли, нарвём щавеля!
— У меня в животе будто щенок скулит!
— Я знаю, где растут одуванчики!
Наконец школа открылась. В то утро, когда я в первый раз пошёл в школу, я проснулся очень рано. Мама уже встала и, увидев, что я не сплю, подошла к моей постели. Она заплакала и взяла меня на колени.
— Ну, теперь ты у меня совсем большой. Вот уже и в школу идёшь.
Она показала мне фотографию, на которой маленькая девочка с ранцем за спиной стояла, держа в руках огромный кулёк, и весело улыбалась. Кулёк был почти такой же, как сама девочка.
— Это карточка старая — как я в первый раз пошла в школу, — сказала мама.
Я спросил, что за кулёк у неё в руках.
— Это кулёк со сладостями, — ответила бабушка. — Такой у нас всегда давали детям в первый школьный день. Но тебе мы с мамой не смогли собрать кулька. Эта страшная война сделала нас всех нищими…
Мама достала из кармана передника яблоко.
— Вот — всё-таки у тебя будет радость!
Я оделся и пошёл вместе с мамой и бабушкой в школу. Настроение у меня было очень радостное. В одном кармане у меня лежало яблоко, в другом — два куска хлеба, посыпанных сахарным песком. Ранца, книг и тетрадей не было, но рядом с яблоком у меня в кармане лежал ещё большой карандаш. Я нашёл его в старом пиджаке.
На углу мама поцеловала меня и ещё раз вытерла слёзы. Ей надо было на работу. А мы с бабушкой пошли в школу.
Боксёр и Деревянный Глаз были уже тут. Боксёр со своей матерью, а Деревянный Глаз с сестрой Анни — она тогда ещё училась в школе. Только у одного мальчика был в руках большой пёстрый кулёк, как у девочки на фотографии. Мы глядели на него во все глаза. Его мать была одета наряднее, чем моя мама в праздник. Она очень важничала и всё старалась что-то рассказать господину Гермесу про своего Максика. Но директор не слишком-то её слушал. Он говорил с другими матерями.
— Это он правильно, — сказал Деревянный Глаз. — Она спекулянтка.
Директор Гермес разделил нас на два класса и зачитал два списка. Деревянный Глаз и я попали в один класс, а Боксёр — в другой, и мы должны были разойтись в разные стороны. Но тогда Деревянный Глаз подошёл к господину Гермесу. Тот поднял глаза от списка.
Минуту спустя мы все трое были уже учениками первого класса «Б». Вот какой он, наш, Деревянный Глаз! Это он добился, чтобы нас не разлучили.
Когда мы все гуськом шли в свой класс, Деревянный Глаз шепнул нам:
— Он в порядке! — И подмигнул, указывая на директора Гермеса. Мы кивнули.
Я с любопытством глядел на нашу учительницу. Она казалась гораздо старше моей бабушки, но была совсем не такая весёлая. Наша учительница мне не понравилась.
Так начался наш первый учебный год — 1945-й. Штукатурка на лестнице и в коридорах была убрана. В нашем классе была теперь дверь, но со щелями, и через них можно было смотреть из класса в коридор и из коридора в класс. Класс наш уже больше не походил на убежище, но стены всё равно были исцарапанные, а кое-где отбита штукатурка. Парт на всех не хватало. Нас было пятьдесят два ученика, и на партах мы сидели по трое. Боксёр, Деревянный Глаз и я сели вместе.
Некоторые ребята с гордостью показывали свои старые ранцы. Матери ещё раз заглянули в класс. Потом наша учительница закрыла дверь. Мы смотрели на неё с нетерпением и любопытством.
Фрейлейн Штайнхен — так звали учительницу — рассказала нам про свою жизнь. Маленькой девочкой она тоже ходила в эту школу. А потом она стала учительницей и уже больше сорока лет преподаёт в этой школе. Два года назад она вышла на пенсию, а сейчас вернулась, потому что не хватает учителей.
— Как плохо, что такая прекрасная школа разрушена. Война отняла у нас всё, — сказала фрейлейн Штайнхен.
На глазах у неё выступили слёзы. Мы привыкли, что женщины плачут, но не хватало ещё, чтобы наша учительница разревелась перед нами на первом же уроке. Мы глядели на неё с недоумением. Деревянный Глаз толкнул меня в бок.
— Погоди! Она сейчас перестанет!
Потом фрейлейн Штайнхен подошла поближе к нашим партам и стала спрашивать, у кого отец, брат или ещё кто-нибудь погиб на фронте. Почти все подняли руки, некоторые тоже начали плакать.
Тут встал Боксёр.
— Фрейлейн, — сказал он, — ты не горюй, мы все будем хорошо учиться.
Фрейлейн Штайнхен погладила Боксёра по голове. Потом она обратилась к нам ко всем и сказала:
— Война — это самое плохое, что есть на свете, дети. Она приносит беды и нищету и больше ничего. И мои самые близкие тоже погибли, я их потеряла. На этом первом уроке ваша старая учительница хочет научить вас одному: мы всегда будем стараться относиться друг к другу как можно лучше и добрее. Если бы все люди этому научились, жизнь могла бы стать прекрасной!
Мы никогда ещё ничего такого не слыхали. Мы сдержали обещание Боксёра. Фрейлейн Штайнхен было с нами легко. И вот почему: мы все её любили.
Книг и тетрадей не было. Деревянный Глаз принёс один раз целый рулон обоев. Он его где-то стащил. Мы разрезали его на листы, а потом писали и рисовали на них. Фрейлейн Штайнхен сияла. Мой большой карандаш я не отдал бы даже за полбуханки хлеба. У многих в нашем классе не было и маленького огрызка.
Родители радовались, что наша учительница — фрейлейн Штайнхен. Некоторые и сами у неё учились, когда были детьми, и все её хвалили.
— Это вам повезло! — сказала моя бабушка.
Фрейлейн Штайнхен давала нам разноцветные мелки — писать на доске. У неё был целый ящик таких мелков, и нам очень нравилось писать и рисовать ими. Как это было здорово! В других классах часто не хватало даже белого мела.
С этими мелками вышел вот какой забавный случай. Неделю спустя после начала занятий ящик оказался пустым, и каждый знал почему. В моём кармане тоже лежали два мелка — голубой и оранжевый. И в карманах у других ребят были мелки разных цветов. Каждый выбрал цвета, какие ему больше нравились.
Фрейлейн Штайнхен рассказала нам на уроке арифметики сказку про маленьких человечков. Она рисовала этих человечков на доске черточками, а мы их считали. Это была наполовину игра, и нам было очень весело. Теперь-то наши первоклашки считают совсем другие вещи — очень интересные и очень серьезные.
Один мальчик спросил, правда ли, что эти человечки есть на свете. Фрейлейн Штайнхен сказала:
— Хотите их увидеть?
Весь класс закричал:
— Хотим! Хотим!
Фрейлейн Штайнхен взяла ящик из-под мелков — в нём почти ничего уже не было — и поставила его на стол.
— Мне надо кое-что принести из учительской, — сказала она. — Когда я вернусь, человечки положат в ящик разноцветные мелки. Ящик наполнится почти доверху. И вы их увидите — только хорошенько смотрите!
Фрейлейн Штайнхен вышла из класса. Мы с удивлением глядели друг на друга. Вдруг Деревянный Глаз громко расхохотался.
— Ну, это она здорово! — крикнул он. — А ну давай, ребята, тащи мелки!
Он вышел и положил в ящик четыре маленьких разноцветных кусочка мела, а потом ещё один большой. Я пошёл вторым, но оказался не последним.
Ящик быстро наполнился до половины. Мы с Деревянным Глазом устроили проверку, но больше ничего ни у кого не нашли. Некоторые ребята сказали, что у них ещё дома есть мелки, завтра они их принесут.
Тут дверь отворилась — фрейлейн Штайнхен вернулась. Она посмотрела на ящик, улыбнулась и спросила:
— Ну как, видели человечков?
Мы покатывались со смеху. Ловко она нас провела! Это был чудесный урок, и мы считали так хорошо, что фрейлейн Штайнхен нас всё время хвалила.
Дома все радовались, когда я рассказал эту историю. А вот Деревянный Глаз получил от своей матери трёпку.
— Так, значит, ты воруешь? Ну погоди!
Деревянный Глаз был очень обижен. Всё ведь так хорошо получилось!
— Вот теперь я нарочно что-нибудь украду, — сказал он, — пусть знает!
Что мы ему ни говорили, он всё равно стоял на своём и однажды вправду исполнил свою угрозу, а мы ещё, дурачьё, ему помогали! И все трое попались.
Между тем становилось всё холоднее. Дул осенний ветер, лил дождь. А ботинки нам всем были малы.
Что же делать?
Мои башмаки подошли Боксёру, у него нога была меньше. Отец его был убит, и матери приходилось туго.
Мне отдал свои башмаки Деревянный Глаз, а сам он носил теперь ботинки своей сестры, хотя они были ему велики.
Когда наступила зима, полкласса пропускало школу — не было обуви. Тогда мы ходили одну неделю в первую смену, другую — во вторую. Потому что много школ было разрушено американскими бомбами, и в нашей занимались в три смены.
— Жаль, что моя сестра в другой смене, — вздыхал Деревянный Глаз, — а то бы и я дома сидел. Поглядите на мои шлёпанцы!
Он сплясал нам танец диких, то расставляя ноги; то ставя их ступнями внутрь. Мы смеялись над его кривыми ножками в огромных ботинках и радовались, что ходим в школу, а не сидим дома, как другие ребята.
Всё, что взрослые рассказывали нам про школу, оказалось неправдой. «Порядок», «дисциплина», «хорошее поведение»…
Такой рёв и топот, такой ералаш сейчас и представить себе невозможно! Фрейлейн Штайнхен шла с нами по коридору, словно наседка с цыплятами. Мы вздыхали с облегчением, когда наконец, протиснувшись сквозь толпу старшеклассников, входили в свой класс.
Только когда появлялся директор Гермес, становилось тихо.
Вообще-то ребята должны были бы относиться к учителям с уважением, ведь они трудились не покладая рук — стучали молотками, чинили школу. Когда осенью надо было законопатить окна и заклеить их бумагой, они не уходили домой даже ночью. В один жутко дождливый, ненастный день — это было воскресенье — дождь проник сквозь дырявую крышу, и всю школу залило до самого подвала. На всех этажах стояли лужи. Наши учителя работали день и ночь, пока не привели школу в порядок. Старшие ребята им помогали, но многие очень радовались, что нет занятий.
Когда годами не учишься или приехал из нацистского лагеря для детей, не так-то легко вдруг сразу начать ходить в школу. Поэтому со старшими ребятами была просто мука. Конечно, не все старшие были такие. Многие поддерживали учителей и хотели поскорее наверстать то, что пропустили из-за войны. Но были и другие. Я хорошо помню Фрица Хольтхауза. Это был жуткий сорвиголова. Он учился тогда в шестом, но был очень сильный и потому водил знакомство с ребятами из восьмого.
Фриц Хольтхауз был главарём настоящей банды. Никто не мог с ними справиться. Даже директор Гермес. Даже полиция. А уж о родителях и говорить нечего. Мальчишки совершали кражи со взломом.
Уже в первые дни наших школьных занятий у меня вышло столкновение с этой бандой. Я встретился с ней в туалете: в полном составе она прогуливала урок. Фриц Хольтхауз показал мне настоящий револьвер. Он зарядил его, приложил к моей груди и спросил:
— Ты за Гитлера?
Меня охватил страх. Фриц Хольтхауз стал мне грозить:
— А ну, давай поразмысли! Гитлер жив. У меня с ним связь. Мы его последний батальон.
Вот какую чушь он молол. Я убежал. На перемене я всё рассказал Боксёру и Деревянному Глазу.
— Что? — сказал Деревянный Глаз. — Он целился в тебя из револьвера? Ну-ка пошли!
Мы пошли к директору Гермесу. Он говорил по телефону, но, узнав, в чём дело, тут же прервал разговор и позвонил в полицию. Полиция нашла у ребят из банды много револьверов и другого оружия. Директор Гермес долго разговаривал с ребятами и с их родителями. Но это ещё не значит, что все они сразу исправились.
После рождественских каникул мы узнали страшную новость. Умерла фрейлейн Штайнхен. Наши родители горевали вместе с нами. Матери сплели большой венок из еловых веток. Делегация учеников пошла на похороны. Мы тоже пошли — Боксёр, Деревянный Глаз и я.
К нам пришла новая учительница. Молодая. Мы были очень рады, когда её увидели.
— У меня вы многому можете научиться, если будете внимательны, — сказала она. — Я говорю на трёх языках: по-английски, по-французски и по-немецки. — Потом она рассказала нам про Европу.
— Там мы живём, — сказала она в заключение.
Боксёр поднял руку:
— Фрейлейн, ведь это неверно! Мы живём в Берлине. Это не там, в Европе, а тут, возле города Тельтова.
Фрейлейн Будов рассердилась:
— Что за глупости! Надо же быть такими глупыми! Вы никогда не перейдёте в старшие классы!
Тут я встал:
— А фрейлейн Штайнхен говорила как раз наоборот! И очень часто нас хвалила!
Теперь она разозлилась не на шутку:
— Таких наглых детей я вообще никогда ещё не видела! Нет, я у вас надолго не задержусь!
Мы были очень разочарованы в фрейлейн Будов и решили теперь дерзить ей по-настоящему. На другой день она велела нам повторять хором: «Англия, Франция, Испания, Италия…», и под конец мы так гнусавили, что она на нас наорала. И ещё мы ничего не понимали из того, что она рассказывала. Нет, она и представления не имела, что такое первоклассники и как им надо всё объяснять.
Через неделю господин Гермес привёл к нам другого учителя. Фрейлейн Будов перешла в старшие классы.
Фамилия нашего нового учителя была Вольтерс. Он попросил рассказать ему всё, что мы до сих пор выучили. И очень хвалил фрейлейн Штайнхен. Тут мы сразу поняли — это наш друг.
Учитель Вольтерс был ещё молодой. Но он быстро подружился с нашими родителями. А получилось это так. Он велел родителям прийти вечером в школу и вместе с ними вырезал и склеил из бумаги и картона большие кассы для букв. Теперь мы могли составлять любые слова. Так мы научились читать, хотя букварей у нас не было. В тот вечер пришли не многие — всего пять человек. Моя мама тоже пришла. И всем им это очень понравилось. Когда господин Вольтерс в следующий раз попросил прийти родителей, пришло уже человек сорок. Теперь у всех ребят в нашем классе были красивые кассы для букв, и вся школа удивлялась, откуда мы их взяли.
С тех пор родители часто приходили помогать учителю Вольтерсу. Они радовались, что мы быстро учим буквы и вообще делаем большие успехи. Когда учитель Вольтерс в конце учебного года выставил нам отметки — ещё не в табель, а просто на листок, — он и родителям поставил отметки за их помощь. Моя мама получила четвёрку. А мама Деревянного Глаза — единицу. Она была этим очень задета и даже рассердилась. Но зато стала ходить на все родительские собрания. А это было для неё не так-то просто — ведь у неё восемь детей!
А теперь я расскажу — наверно, давно пора! — как Деревянный Глаз и Боксёр получили свои прозвища. Я ведь, кажется, уже говорил, что Боксёр лучший ученик у нас в классе. Или не говорил? Я тоже был тогда одним из лучших. Только ещё немного хромал по арифметике. А Деревянный Глаз — ну, уж он как-нибудь да вылезал всякий раз вместе с нами. Ему всё давалось легко, только вот с домашними заданиями он не ладил.
В самом конце учебного года учитель Вольтерс привёл однажды к нам в класс большого мальчика. Ему было десять лет, но он не умел ни читать, ни писать. Во время войны он не ходил в школу. У нас в классе уже был один восьмилетний, с которым случилось то же самое.
Новенького звали Клаус Хармс. Мы смотрели на него с удивлением.
На первой же перемене он произнёс речь:
— Я ваш Клаф, — сказал он. — Это значит классный фюрер. Мне нужны два адъютанта. Вон ты там, Деревянный Глаз, и вот ты!
Деревянный Глаз ходил тогда в школу с ячменём на глазу. Глаз у него сильно опух. Вид был устрашающий. Может, поэтому тот и выбрал его в адъютанты. Вторым адъютантом он назначил восьмилетнего.
Деревянный Глаз крикнул:
— Какой я тебе Деревянный Глаз? И адъютантом твоим быть не хочу!
— Не болтай, — сказал Клаус. — Будешь носить мой портфель и передавать мои приказы.
— Какие ещё приказы? — поинтересовался Боксёр.
— Вот узнаешь какие, ты, умничек! — ответил «Клаф».
— Спасибо, — сказал Боксёр. — А ты дурачок. Десять лет, а читать не умеешь!
— Хо-хо! — крикнул большой парень. — Ты, кажется, начинаешь дерзить? Эй, адъютанты, ко мне!
Тогда Боксёр вскочил и встал против Клафа.
— На что ты нам нужен, фюрер! — крикнул он. — А если нам такой понадобится, мы его выберем. Вот как Дитера выбрали отвечать за тряпку и мел!
— Заткнись, — сказал большой парень, — а то как дам по очкам!
Боксёр, одной рукой защищая очки, сжал другую в кулак и поднял вверх, как настоящий боксёр.
— Ах, ты боксёр?
Клаф расхохотался и толкнул его кулаком в грудь так, что он отлетел и ударился о парту. Но Боксёр тут же подскочил снова и со всего размаху дал ему в нос.
Деревянный Глаз и я бросились на помощь. Мы здорово отдубасили этого Клафа.
Учитель Вольтерс вошёл в класс, и мы разбежались по местам. Клаф стоял посреди класса и ревел, да и было отчего. Мы, перебивая друг друга, рассказали учителю, что случилось. На следующем уроке Клафа перевели в другой первый класс.
Учитель Вольтерс сердился и ругал нас, но нам показалось, что он притворяется. Мы были уверены, что он, когда был мальчишкой, поступил бы точно так же. А прозвища так и остались — Деревянный Глаз и Боксёр. Мы часто потом вспоминали, как осадили Клафа, пока он ещё не успел стать классным фюрером. Клаф был всего с месяц в нашей школе. Потом его отец переехал в Западную Германию.
Правильно ли мы тогда поступили? Как-то раз мы спросили об этом Отто. Отто — наш пионервожатый. Он сказал:
— Во всяком случае это было лучше, чем подчиниться Клафу.
РАССКАЗ ДЕРЕВЯННОГО ГЛАЗА. НЕ ВСЕГДА НАМ СЛАДКО ПРИХОДИЛОСЬ!
Ну что ж, я расскажу. Только сразу предупреждаю: так складно, как Дитер, я излагать не умею. И по порядку тоже. Вы ведь меня знаете. Я как начну, меня не остановишь!
Мы, правда, решили говорить «по-берлински» только в игре, но всё равно мне трудно объясняться «литературно». Так что если у меня проскользнут разные эдакие словечки, не начинайте сразу орать. Пусть-ка лучше Дитер толканёт меня в бок. Ой! Это за что? Ах, да я, кажется, сказал не «толкнёт», а «толканёт». Но только, чур, толкай не так, как сейчас! А то ещё я приму это за вызов. И тут уж, ясное дело, начнётся драка. Вернее, борьба на ринге.
Нас ведь восемь детей в семье, и все болтают «по-берлински» — легко ли переучиваться! И вообще, как говорит моя мать, «главное — это золотое сердце». Рассказать, что ли, про золотое сердце моей матери?
Боксёр и Дитер её знают. Но кто другой и не поверил бы. Ведь вы уже слыхали, как она отлупила меня за цветные мелки.
Это точно, за цветные мелки она меня тогда здорово выдрала. И понятно, не в первый и не в последний раз. Но для полной ясности я сразу скажу: моя мать против побоев! Да-да, Дитер и Боксёр это понимают, они помнят случай с учителем Бутцем. И вообще моя мать давно уж не бьёт нас, детей.
Самое голодное время, когда всё шло шиворот-навыворот, прошло. Мать теперь и сама удивляется, как часто она нас тогда колотила. Я даже думаю, она на себя за это злится и малость стыдится. А что же ей было делать? Орава детей, один другого крикливее и драчливее. Школа не работает. А тут ещё отца забирают на фронт. Он должен стать солдатом, завоевателем Европы. Дети с голоду чёрт-те что вытворяют, лишь бы раздобыть кусок хлеба. Вот ей и пришлось взяться за палку, чтоб навести порядок. Виновата она? Нет, моя мать человек правильный. Это война и голод во всём виноваты. А многие родители и сейчас говорят, что детей надо бить. Но моя мать против.
А с учителем Бутцем вот как вышло. Мы тогда были первоклашками. Вернее, как раз перешли во второй. Тут у нас и отобрали нашего учителя Вольтерса. Ему пришлось взяться за старших. И начались для нас тяжёлые времена. Во втором классе у нас сменилось семь учителей. Одного перевели, другой заболел, двоих уволили. Один из этих двоих и был Бутц.
Несколько дней у нас вообще не было учителя. Фрейлейн Штайнхен, наверное, перевернулась бы в гробу, узнав, как мы одичали за это время. Потом появился Бутц. Он влетел в класс как ракета, а мы как раз играли в футбол. Он схватил первого попавшегося — а это был я! — и как следует отлупил. Таких побоев я больше не припомню.
— Я ничего не делал! — заревел я.
Он отпустил меня и зарычал:
— Вот видите, он ничего не делал, а как ему попало! Что же будет с тем, кто что-нибудь натворит!
Ну, это малость чересчур, решил я. Я показал ему язык и помчался домой. Когда я рассказал всё матери, она взяла меня за руку и пошла со мной в школу.
Мать широко распахнула дверь класса и устроила скандал учителю Бутцу. Он дрожал от страха и только за тем и следил, чтобы между ним и мамой оставался барьер — кафедра. Директор Гермес тоже пришёл тогда в класс, и учитель Бутц исчез навсегда.
Не понимаю, почему некоторые родители его защищали. Когда у них канарейка или там кролик и они поручат кому-нибудь о них заботиться, то небось не станут терпеть, чтобы их били. Но ведь мы, дети, тоже люди!
Тут-то я в первый раз и понял, какая у меня мама. Так, значит, когда она нас била, она и сама знала, что это плохо. С тех пор я часто ей помогал. Она даже удивлялась:
— Вот отца-то обрадую, когда из плена вернётся!
Потом она плакала и была со мной очень ласкова.
Ведь я самый младший. И ещё с тех пор мама всегда интересовалась школой. Теперь она даже в родительском комитете.
Настоящий учитель — это директор Гермес. Ганс Хольт неделю прогуливал школу, а потом это выплыло. Его мать влетела с палкой в класс — хотела отколотить Ганса. Но директор встал между ними и отнял у неё палку:
— В нашей школе детей не бьют!
Тогда ещё не был издан закон, запрещающий телесные наказания. Но Гермес сам его ввёл. Мы смотрели на него, как на чудо природы, и решили помочь Гансу Хольту.
Долгое время мы заходили за ним в школу и по очереди готовили с ним уроки. Дитер лучше всех умел ему всё объяснить. Дитер вообще, по-моему, должен стать учителем!
Директора Гермеса ребята слушались по первому слову. И он всегда принимал верные решения. Раз я пришёл к нему за мелом. И тут врывается какой-то парень. Один рукав его куртки оборван.
— У-у-у!
— Ты о чём плачешь?
— Петер Мюллер меня…
— Стоп! Начинай так: Я Петера Мюллера…
Тут возникла пауза. Мальчишка опять показывает на свой рукав:
— Петер Мюллер…
Но директор снова его перебил:
— Ты сперва расскажи, как это вышло.
— У-у-у, мой отец меня изобьёт за куртку…
— Ты так начинай: «Я Петера Мюллера…»
— Подумаешь, чуть-чуть кровь показалась… — всхлипнул мальчишка.
— У кого?
— У Петера Мюллера.
— Вот как? Где же?
— На голове.
— Чем же это ты его стукнул?
— Да просто этой… посудиной… миской в буфете…
— А на миске осталась вмятина?
— Нет.
— А на голове шишка? И даже кровь шла? Ну-ка пошли к этому парню. Наложим сперва ему пластырь.
Петеру Мюллеру прилепили пластырь. Потом меня послали звать девочку, у которой отец портной. Оба драчуна были тут же назначены дежурными. Вместе. Он всегда так делал. Конечно, куда проще отлупить или оставить после уроков. А он — нет, он вот так.
Какие же мы были тогда сорванцы!
Уже во втором классе такое вытворяли, что и сегодня людям в глаза глядеть стыдно. Жаль, должен признаться, что зачинщиком чаще всего бывал я. Вот только почему?
Мне никогда б не пришло в голову подговорить Дитера и Боксёра на это дело с лампочками, если бы я не слышал каждый вечер, что у нас в парадном кто-то опять вывернул лампочку.
Нам очень хотелось посмотреть фильм «Белеет парус одинокий», а денег не было.
— Где бы нам денег добыть? Хоть немного, — сказал Дитер.
— А мы лампочки продадим, — заявил я.
— Да ты что? У нас дома только одна! — возразил Боксёр.
— Нет, дома брать не годится, — поддержал его Дитер.
— А мы свистнем где-нибудь! У нас их любой купит. И вообще настоящий мальчишка должен уметь воровать, — сказал я. — Или, может, вы дрейфите?
— Дрейфим? Ты что, спятил? — сказал Дитер.
— Ну ладно, тогда, значит, стащим. Только вот где? — Я не имел об этом ни малейшего представления, но как Старый опытный вор предложил: — А давайте в трамвае!
Ну, разработали мы план — он и нас самих привёл в восторг. На последней остановке трамвая кто-нибудь из нас подойдёт к кондукторам — они там стоят у трамвайных вагонов — и спросит, не осталось ли у них такой книжечки — верхней части отрывных билетов. Это, мол, надо нам для игры. А другой в это время влезет в вагон и вывинтит лампочки, а третий возьмёт их у него — и скорей удирать!
Конечно, все хотели влезть в вагон за лампочками. Эта роль нам нравилась больше всего.
— Это я придумал! — крикнул я. — Значит, мне и вывинчивать!
Но всё же мы бросили жребий. Жребий пал на меня. Дитер должен был выпрашивать остатки билетиков, а Боксёр — удирать. Всё сошло отлично. Мы продали две лампочки за шесть марок и пошли в кино. А сверх того ещё наелись вафель с кремом.
Фильм «Белеет парус одинокий» здорово нам понравился. Теперь самым большим нашим желанием было тоже найти такую девочку, которая пускалась бы вместе с нами на все приключения.
Вскоре нам опять понадобились деньги, и мы снова отправились на разбой. Но на этот раз мы попались. Продавец газет увидел нас из своего киоска и хотел задержать.
— Эй, ты! Ты ведь только что стащил лампочку в трамвае!
Мы бросились бежать, но я на бегу растерял мои книжки со школьной печатью. Не надо много ума, чтобы сообразить, что случилось потом. Газетчик получил от «Общества охраны порядка» вознаграждение за охрану народного имущества. А мы?.. Мне ещё и теперь снится в страшных снах, как мы тогда стояли перед директором Гермесом. Он весьма дружелюбно спросил нас, зачем мы это сделали. Конечно, чтобы доставить радость нашим родителям? Как они радовались, это вы сами можете представить. Мне было так стыдно перед матерью, что я только вечером приплёлся домой. Ко всем несчастьям, на лестнице было темно, потому что кто-то опять вывернул лампочки и, наверное, продал. Весь дом ругал этих воров, а я должен был рассказать матери, что её сынок Пауль и сам из таких. Когда кто-то вскоре вывернул лампочки у нас в школе, мы бродили по коридорам, как побитые щенки. Мы думали: теперь все считают, что это мы. Но наши старшеклассники нашли воров. Это были взрослые.
Я вообще теперь часто вижу во сне то время — как мы тогда голодали, мёрзли, играли в развалинах. И каким вкусным показался нам первый горячий завтрак в школе! Мы проглотили его мигом. Это была манная каша с мармеладом! И как мне жали тогда ботинки, потому что стали малы, а новых всё не было и не было…
А ещё я вижу во сне пещеру, в которой мы открыли тайну. Тайну о грабеже. Рассказать про это? Ну ладно.
Это было, когда бациллы воровства так и Кишели в воздухе и заражали нас, детей. Вот сейчас можно спокойно оставить на парте бутерброд, или яблоко, или кусок пирога, или ручку — никому и в голову не придёт прикарманить.
А тогда… Отвернёшься на минутку — и нет! Фокус-покус! Теперь-то я знаю, откуда это взялось. Война и нужда делают людей хуже, отравляют всю жизнь. И дети тоже учатся плохому. Но когда на земле мир, и люди спокойно работают, и у них есть всё, что необходимо для жизни, они становятся и радостней, и добрее. И дети тоже. И никто не огрызается. А как тогда было? Все огрызались! Я не про детей говорю. Дети часто и огрызаются, и орут. Я про взрослых.
Не помню, кто первый это открыл. Кажется, Боксёр. Если купишь за двадцать пфеннигов билет на трамвай или на метро, то можешь часами кататься по всему Берлину. Сколько влезет! А что ещё мы могли тогда купить?
Да, чего только нет сейчас у первоклашек! И буквари, и задачники, и тетради, и цветные карандаши, и книжки с картинками, и игрушки, и сласти! А какие огромные кульки дают им с собой в первый школьный день! И всё это для них само собой разумеется.
У них и самокаты, и площадки для игр, и кукольный театр, и детские праздники — с каждым днем всё больше и больше радостей. И это правильно. Мы им не завидуем, наоборот. Жаль только, что у нас для игры были одни кирпичи да патроны. А единственной нашей возможностью путешествовать был берлинский транспорт. Часами катали мы по Берлину. Иногда до школы, иногда после школы, потому что у нас менялись смены. Мы казались сами себе полярниками, путешественниками на Северный полюс. Больше всех удивлялся Дитер. Он совсем ещё не знал Берлина. И повсюду мы видели обломки, развалины, разруху.
Один раз мы сели в трамвай, а там какие-то двое ругались, потому что кто-то вёз рюкзак с углем и кого-то толкнул. А может, это была большая сумка с картофелем. Я уж теперь не помню.
И только мы влезли в трамвай, сразу началось:
— Эй вы, сорванцы, брысь от двери!
Мы забились в угол, но Боксёр выразил протест:
— Никакие мы не сорванцы! Мы — дети!
Теперь все набросились на нас. Даже те двое, что чуть не вцепились друг в друга не то из-за сумки, не то из-за рюкзака, объединили против нас свои силы.
— Небось школу прогуливаете, паршивцы?
— Ну и манеры у этой нынешней мелюзги!
— Нет, когда нам взрослые что-нибудь говорили, мы не смели отвечать так нагло!
— Эти сопляки скоро вконец испортятся! Скоро с ними и вовсе сладу не будет!
— А что удивляться? Такие времена!
— Надавать как следует по мягкому месту, и дело с концом! — выкрикнул какой-то толстяк.
Я узнал его. Это был мясник Кульрих. Его мальчишка учился в нашей школе.
Мы, забившись в угол, чуть не лопались со смеху.
— Это «место» для того, чтоб сидеть! — выкрикнул я.
И тут пошло!
Наконец какая-то женщина взялась нас защищать. Она заслонила нас и громко сказала:
— А ну-ка прекратите! Вы тут целый день ездите со своим углем и картошкой, спекулируете, да ещё хотите очернить наших детей? Вас послушаешь, это они виновны и в войне, и в разрухе! Разве не наша вина, что у них такое жалкое детство? Оттого, что вы ругаетесь, лучше не будет. Надо за дело браться!
Ну и женщина, чёрт возьми! Вот кто нам понравился. Некоторые пассажиры с ней согласились.
Да! Я ведь хотел ещё рассказать об одной краже. Это было в сорок седьмом году. Мы тогда учились в третьем классе. Может, я говорю с пятого на десятое, перескакиваю? А вообще-то я мог бы целую вечность рассказывать. Чего только с нами тогда не случалось! Да, не всегда нам сладко приходилось… Но мы, берлинцы, народ упорный, как говорит моя мать.
Один раз Боксёр нечаянно открыл среди развалин какой-то подвал. Это была настоящая пещера. Только наших лучших друзей мы туда иногда с собой приводили. Да и то брали с них честное слово, что не проболтаются. Вот как-то вечером сидим мы в нашей пещере и рассказываем друг другу страшные истории. Хотели уже из нее вылезать, как вдруг видим в десяти шагах от нас Фрица Хольтхауза с толстым Кульрихом. Они нас не заметили, потому что было уже темно. Мы затаили дыхание — сидим не шелохнёмся.
Фриц шепнул:
— Вот подходящее место!
Они выломали в углу кирпичи, потом спрятали что-то в образовавшуюся пещере дыру и прикрыли кирпичами. Толстый прокряхтел:
— Я кладу сюда три целых кирпича и ещё пять половинок. Легко будет найти.
— Порядок. Теперь уходим. И главное — молчать. У тебя есть ещё деньги? Давай сюда — вдруг тебя заподозрят.
— Не заподозрят. Уж как-нибудь да выкручусь, запутаю след.
— Когда нужны деньги, бери у меня. Так будет вернее, — сказал Фриц Хольтхауз.
— Ладно! Теперь пошли в Паласт. Там новая программа. А возле метро «Вокзал Фридрихштрассе» можно купить шоколад. У спекулянтов.
Они исчезли во тьме. Мы дрожали от страха и волнения и всё ещё сидели не шевелясь. Потом выползли из своего угла.
— Они зарыли клад!
— Пошли посмотрим!
— Да ведь там кирпичи лежат!..
Мы поспешно разгребли кирпичи. И увидели ящик из-под сигар. Загородив досками вход, зажгли в пещере свечу, открыли ящик и от испуга чуть его не уронили. Он был доверху набит деньгами — бумажками по сто, по пятьдесят марок. Дитер хотел их сосчитать, но мы даже и считать не умели до такой большой цифры. Боксёр взял это дело в свои руки. Он разложил бумажки по сто марок на кучки — в каждой по десять бумажек. Это была тысяча.
Тысяча марок!
Ещё одна кучка, ещё, ещё… Девять раз по тысяче марок и ещё пятьсот. Боксёр сосчитал. Он был у нас в таких вещах самый умный. Но всё-таки и он не знал, как же быть дальше. А то бы он встал и сказал: «Пошли в полицию!»
Вместо этого он удивлённо спросил:
— Откуда у них столько денег?
— Украли, — тут же ответил я. В таких вещах самый умный был я.
— А где?
— Что нам с этим делать? — спросил Дитер.
— Оставить себе, — сказал я. Потому что в таких вещах я был тогда самый глупый.
— Да ты что! — сказал Дитер. — Так много денег нам и не истратить!
— А мы попробуем, — предложил я.
Мы глядели друг на друга, и у всех у нас текли слюнки. Мы это даже заметили, потому что все разом сглотнули. Печальный случай с лампочками как-то отдалился, зато перед самыми глазами стояла огромная плитка шоколада. Мы стали совещаться.
— Оставим себе!
— Разве мы украли?
— Мы ведь просто нашли!
— Разве мы знаем, чьё это?
— Нет, а то бы мы сразу отдали тому человеку.
Мы вырыли яму в другом углу. Когда в ней уже лежала коробка, я нагнулся и достал бумажку в сто марок:
— На шоколад.
Это было для нас волшебное слово. Дитер и Боксёр ничего не сказали, только опять сглотнули слюну.
— Нам ведь надо ещё засыпать ту, первую яму!
И тут мне пришла в голову одна мысль. Я даже громко расхохотался:
— Давайте зароем там дохлую кошку. Пусть-ка глаза вытаращат!
В этот день по дороге из школы мы как раз нашли дохлую кошку и похоронили её. Теперь мы её выкопали и положили на место ящика с деньгами. Потом выбрались из пещеры, громко рассуждая о том, что мы купим, перебивая друг друга, говоря всё громче и громче, чтобы заглушить какой-то голос, который спрашивал: «А мать? А директор Гермес? А что дальше будет? А завтра? А остальные деньги?»
Мы доехали до станции метро «Вокзал Фридрихштрассе», где на каждом углу стояли спекулянты с разными товарами, и купили плитку шоколада. Казначеем мы выбрали Боксёра — он лучше всех считал. Потом сфотографировались, и каждый получил по две марки.
От ста марок не осталось ни пфеннига.
Это пошло быстрее, чем мы думали. Похоже было, что и остальные девять тысяч марок растают так же быстро.
— Что будем делать завтра?
Дитер хотел купить авторучку, Боксёр — хотя бы три книжки, а я — разноцветную зажигалку. Мы расстались весёлые, полные планов на завтрашний день. Но как только я остался один, мне стало не по себе. Из тёмных развалин на меня глядели какие-то рожи. Сердце моё громко стучало, и это меня пугало. До сих пор я никогда не слышал, как оно бьётся.
Дома мама давно уже ждала меня и стала ругать. Я что-то соврал ей, как-то выпутался и пошёл спать. Пятеро моих сестёр рассказывали друг другу всякие страхи. Когда и меня попросили рассказать что-нибудь, я сочинил потрясающую историю про клад и дохлую кошку. Ночью я видел во сне Фрица Хольтхауза и толстого Кульриха. Они подошли ко мне, размахивая дохлой кошкой и хотели меня отколотить. Тут появился директор Гермес с ящиком из-под сигар. Он сказал:
«Всё в порядке!»
На другой день Боксёр, Дитер и я боялись взглянуть друг другу в глаза. На большой перемене, когда мы шли через двор, навстречу нам попались Фриц Хольтхауз и толстый Кульрих. Они весело вспоминали про трюки фокусника в Паласте и ели шоколад. «Вот увидят трюк, как их клад превратился в дохлую кошку…»
Мы решили один вечер пропустить: не ходить в пещеру, ничего не покупать — выждать. На душе у нас было смутно.
На другой день мы опять повстречали на большой перемене Фрица Хольтхауза и Толстяка. Вид у них был мрачный. Мы поспешно обошли их стороной.
На следующем уроке Боксёр прислал мне записку: «Я за то, чтобы всё рассказать Гермесу». Я испугался, но мне стало легче. Дитер, которому я передал записку, был тоже согласен.
На перемене мы рассказали директору Гермесу всё. Не умолчали и про сто марок, и про шоколад. Директор походил немного взад и вперёд по кабинету, потом остановился. Прямо перед нами.
«Ну вот, сейчас начнётся», — думали мы.
Гермес посмотрел на нас долгим взглядом, потом погладил Боксёра по голове — ведь это он ему всё рассказал.
— Хорошие вы ребята.
— Мы думали, вы… и ещё из-за лампочек… — пробормотал я, запинаясь.
— Да что об этом говорить, — сказал директор Гермес. — Ведь весна тоже не враз наступает. Бывают и отступления, и рецидивы. Но надеюсь, это ваше последнее отступление?
Мы дали ему честное слово.
Ничего ещё в жизни нас так до сих пор не захватило, как то, что последовало за этим. А последовал разбор дела Фрица Хольтхауза и толстого Кульриха.
На другой день все ученики с пятого до восьмого класса были созваны в актовый зал. За столом сидели трое старшеклассников из школьного совета. За другим столом — Фриц Хольтхауз и толстый Кульрих. Хольтхауз нагло ухмылялся, у Кульриха на глазах были слёзы. Родители обоих тоже были приглашены. Мать Хольтхауза взволнованно говорила о чём-то с директором Гермесом, отец Кульриха, весь красный от бешенства, бросал на своего сына угрожающие взгляды.
Директор Гермес заранее обсудил всё со старшими ребятами. Председательствовал Эрнст Фрайслер. Мы, как ученики третьего класса, вообще-то не имели права присутствовать. Но нас вызвали как свидетелей — рассказать всё, что знаем.
Директор Гермес объявил собрание открытым. Он говорил о мрачных временах, в которые мы живём, и о многом плохом, что приходится видеть нам, детям. Он обрисовал дурные последствия войны и спросил нас, собираемся ли мы стать ворами, разбойниками и бандитами или хотим быть порядочными людьми и честно строить свою жизнь.
Все ребята слушали его очень серьёзно. Фрау Хольтхауз, мать Фрица, начала плакать. Толстый Кульрих — тоже.
Эрнст Фрайслер стал теперь спрашивать Хольтхауза и Кульриха. Кульрих во всём сознался. Он часто брал дома деньги без спросу, а потом тратил их вместе с Хольтхаузом. Несколько дней тому назад он рассказал своему другу про десять тысяч марок, которые лежат в столе его отца. Хольтхауз уговорил его взять эти деньги. Подозрение пало на продавцов мясной лавки, хозяин которой отец Кульриха. Пятьсот марок они уже растратили на кино, авторучки, комиксы и — тут нас обуял страх — на шоколад и фотографии.
Фриц Хольтхауз возмущённо качал головой. Когда Кульрих сел, отец его крикнул:
— Ну погоди! Приди только домой!
Директор Гермес заступился за Кульриха. Он спросил его, не хочет ли он дать отцу обещание никогда больше не воровать. Кульрих дал обещание. Его отец после этого немного успокоился.
Фриц Хольтхауз всё отрицал. Он только зарыл вместе со своим другом эти деньги, чтобы уберечь его от глупостей и через несколько дней всё вернуть.
— Это правда. Я ещё никогда в жизни не воровал.
Спокойно, но решительно директор предложил опросить свидетелей. Он обратился к нам, ученикам. Даже некоторые ребята из банды Хольтхауза дали показания против него. Случаи воровства, о которых никто раньше не знал или больше не вспоминал, всплыли теперь на поверхность. Директор Гермес ничего не забыл. Мы и думать не думали, что он так много обо всех нас знает. Он показал нам удостоверения банды «Черная рука». Удостоверения были подписаны Фрицем Хольтхаузом.
Фриц Хольтхауз молчал. Его мать стала при всех умолять его сказать правду и стать порядочным человеком, но он всё равно признал только то, в чём его прямо уличили. Он обещал исправиться и даже произнёс речь. Да ещё при этом здорово воображал и кого-то из себя корчил.
Боксёр, Дитер и я получили от отца Кульриха по триста марок — «вознаграждение за находку». Те сто марок, которые мы «позаимствовали», нам тоже списали.
Мы отдали «вознаграждение» родителям, но каждому было разрешено купить себе что-нибудь. Мы, конечно, купили книги, авторучку и зажигалку. Но всё было как заколдовано: зажигалку я потерял уже на третий день.
Кое-что мы узнаем из письма, которое прислал издателю этой книги бывший учитель Клем. В письме было вот что:
«Многоуважаемый коллега! Я случайно узнал, что Вы пишете рассказы для детей.
Посылаю Вам двести пятьдесят страниц, написанных от руки. К сожалению, у меня нет пишущей машинки. Прочтите, пожалуйста, что я записал. Тут ничего не выдумано. Я передал всё так, как рассказали ребята, когда ко мне приходили. Из этого надо бы сделать книгу. Очень многим детям наверняка было бы интересно её прочесть.
Мои юные друзья знают про этот план и радуются ему. Сначала у нас, правда, были споры, потому что все это я записал втайне от них.
Особенно возмущался Пауль, Деревянный Глаз.
— Теперь, выводит, все узнают, какими мы были сорванцами! Как подумаю, чего я тут только наболтал, просто страшно становится.
Но Дитер сказал:
— Да ведь всё очень просто! Если изменить имена, никто и не догадается, что это мы. Тогда все ребята были сорванцами. Самого плохого мы вовсе даже и не рассказали.
Вот мы и решили, что я изменю имена.
Может быть, Вас удивит, что я так старательно записывал рассказы детей и теперь посылаю их Вам. Но я хочу хоть в какой-то мере искупить мою вину за ошибки, которые я когда-то совершил.
В нацистские времена я был учителем. Сейчас я со стыдом и гневом вспоминаю о том, как попался тогда на удочку пропаганды расовой ненависти и захватнической войны. Мы, дураки, не поняли, не сумели разглядеть сразу, что это бред и самоубийственный обман. Воспитывая в этом духе детей, мы служили дурному, лживому делу.
Тяжёлая обида для нашего народа, что генералы, которые вели нас в преступные сражения, вели нас к погибели, в пропасть, опять надевают сейчас на Западе военную форму, чтобы готовить новую войну. Я ничего не желаю так страстно, как чтобы дети наши продолжали идти по тому пути, на который они вступили в 1945 году.
За будущее моих юных друзей я спокоен. Дитер станет учителем, Пауль, Деревянный Глаз, решил сделаться архитектором, а он человек упорный, Боксёр будет учёным. Он мечтает изучать природу, открывать её тайны. Радость и свет внесли эти ребята в мою жизнь. Помогите мне, пожалуйста, их отблагодарить.
С наилучшими пожеланиями
Ваш А. Клем».Так попали в книгу эти рассказы.
КОТ МУРЛЫКА (Третий класс)
Рассказать вам про моего кота?
Захватывающая история! Ну и натерпелся же я страху в тот вечер, когда отец хотел убить куницу в нашем курятнике!
А всё из-за того, что у отца нет никакого доверия к кошкам. Потому что они охотятся на птиц. Да ведь кошки-то разные бывают! Когда я в первый раз познакомился с моим Мурлыкой, он тоже как раз подбирался к гнезду. Но из этого ничего не вышло. А теперь он про такие дела и думать забыл.
Вообще-то кошки не злые. И птиц они не со зла едят, просто это у них инстинкт такой. Так говорит наша учительница фрейлейн Никлас. Но человек ведь может многое изменить, если как следует вникнет и правильно возьмётся за дело. Теперь такого добиваются, что и поверить трудно. Вот я и думаю: почему же тогда нельзя отучить небольшого кота охотиться на птиц? А если очень постараться? Только отучать надо, конечно, с детства.
Я знаете как зверей люблю! Наша учительница даже говорит, что я наверняка стану ветеринаром или директором зоопарка. Конечно, если буду внимательно слушать на уроках и подтянусь по математике. А как я могу внимательно слушать, если всё время думаю про моего пса Гоппи, про козлёнка Рогатку, про кота Мурлыку и про сорок восемь рыбок в аквариуме. А ещё у меня есть кенар, его зовут Яшка. Моя мать тоже очень любит животных. Двор у нас перед домом маленький, но у неё там разгуливают шесть кур и петух. Все они меня знают. А недавно она ещё привела из деревни от тёти Лены белого козлёнка. Ну я и обрадовался! И вся наша улица радуется, когда я вывожу его гулять на красном поводке.
С моим Мурлыкой я познакомился весной, когда наш класс пошёл на экскурсию. Гроза только прошла. Мы с Фрицем, конечно, тащились позади всех. Я собирал насекомых, а Фриц — растения. За нами шёл ещё только Гансик Габерман — «Замыкающий». Мы его так зовем, потому что он всегда в хвосте плетётся. Он у нас вечно уж что-нибудь да жуёт — то бутерброд, то грушу, то яблоко, то кусок пирога. Иногда даже на уроке лезет за чем-нибудь таким в парту. Он у нас самый толстый. Ну так вот. Только я поймал бабочку лимонницу, вдруг вижу: впереди все остановились. Фрейлейн Никлас приложила палец к губам, и все прислушиваются. Мы с Фрицем давай догонять. Даже Гансик прибавил ходу. Слышим — две птички жалобно так пищат. Дрозды!
— Плачут, — говорю я шёпотом.
— Сбрендил, — замечает Гансик, швырнув огрызок яблока. — Птицы не плачут!
— Нет, плачут, — шёпотом говорит Аннемари, сердито взглянув на Гансика.
— А теперь ругаются, — говорю я, — да ещё как!
— Ты что, маленько того? — спрашивает Гансик, постучав себя пальцем по лбу, и впивается зубами в сочную грушу.
Мы, стараясь не рассмеяться, подкрадываемся к тому месту, откуда доносится птичий щебет. Глядим — два дрозда скачут по нижней ветке дерева. Голосят вовсю! А под ними, на земле, гнездо с птенцами. Его во время грозы ветром сдуло. И тут мы увидели самое страшное. Чёрный кот, красавец, подросткового возраста, подкрадывается к испуганно попискивающим птенцам. Они просто отданы ему на растерзание.
— Сейчас сожрёт их, — шепчет Гансик.
— А ты бы сам небось не прочь их сожрать, — отвечает Аннемари, ткнув его кулаком в бок.
Чёрный мурлыка уже нас заметил. Застыл на месте и поглядывает то на птенцов, то на их кричащих родителей, то на нас. Кое-кто из наших ребят вооружился палками и камнями, но учительница говорит:
— Погодите минутку! Не двигайтесь. Посмотрим, как поведёт себя кошка.
А я все думаю: «Ох и красив же ты, Мурлыка! Вот бы заполучить тебя домой. Уж я б тебя отучил есть птиц!»
— Можно, я с ним поговорю? — спросил я.
Гансик прыснул со смеху и опять впился в грушу.
— А ты что думаешь, звери не понимают? — шёпотом говорит Аннемари. — Этот кот поспособнее тебя. Сколько раз тебе говорили, чтобы ты не жевал на уроках, а ты никак не усвоишь!
Гансик слегка смутился, но всё жует свою грушу. Я поскорее снял кусок колбасы с моего бутерброда:
— Проголодался, Мурлыка! — Я показал ему колбасу.
Кот поглядел на птенцов, на колбасу и отступил назад. Потом сделал лёгкий прыжок в сторону и, застыв на месте, уставился на колбасу. Я поманил его и придвинулся чуть поближе. Он подпустил меня к себе и быстро подхватил кусочек колбасы, который я ему бросил.
Ай да Мурлыка! На чёрной груди белая звёздочка. Не то чтобы котёнок, но и котом тоже не назовёшь. Тут он осторожно подошёл ко мне и мяукнул. Я дал ему ещё кусочек колбасы, погладил. Он поднял хвост, выгнул спину и потёрся о мою ногу. Остаток колбасы он съел у меня с ладони. Тогда я взял его на руки. На лапах — белые тапочки. Милейший котяга!
— Пойдёшь со мной, Мурлыка? — спросил я и тут же решил взять его домой. Может, он ничей!
Я подошёл с ним к фрейлейн Никлас. Весь класс ликовал. А когда я поставил его на землю, он сел рядом со мной и никуда больше не пошёл.
— Теперь давайте позаботимся о птенцах, — сказала Аннемари. — Только их нельзя трогать, а то к ним родители не прилетят. У кого есть чистый платок?
Она пожертвовала свою круглую корзиночку для завтрака. Мы положили в неё гнездо, а Фриц влез на дерево и крепко привязал её к ветке.
Родители птенцов боязливо наблюдали за нами. И Мурлыка тоже наблюдал. Глаза у него так и сверкали. Я на всякий случай взял его на руки. Мы стояли и ждали, когда прилетят дрозды кормить птенцов. И они прилетели. Они громко щебетали от радости. И мы все тоже очень радовались. Так, радостные, и пошли дальше.
Недалеко от этого дерева стоял какой-то дом. Я показал там Мурлыку и спросил, чей он.
— Это наш котенок, — сказала женщина.
— А-а-а, — сказал я и поставил Мурлыку на землю. Он мяукнул и остался сидеть рядом со мной.
— Ты ему понравился, — рассмеялась женщина.
— Он мне тоже, — грустно сказал я.
— Может, хочешь взять его себе?
— Если разрешаете, конечно, возьму, — обрадовался я.
— Ладно, бери, у нас ещё три кошки.
Мы с Мурлыкой двинулись в путь.
Я посадил его в мою спортивную сумку. Аннемари тоже хотелось понести её хоть немного, и я ей позволил.
Теперь Мурлыка мой, только вот что дальше будет? Отец наверняка не придёт в восторг, если я заявлюсь домой с котом.
Тогда я его просто спрячу! А потом уж как-нибудь всё уладится.
По дороге домой сердце у меня так и колотилось. Только бы Мурлыка не вылез из сумки, пока я найду ему убежище!
Отец встретил меня словами:
— Вот видишь, мышеловка тоже прекрасно ловит мышей! А на птиц она не охотится!
«Бедный Мурлыка, — подумал я, — вот как нас тут приветствуют! Хорошо ещё, отец ничего про тебя не знает!» Я отогнал Гоппи — тот с любопытством обнюхивал сумку и весело лаял.
Отец дал мне мышь, чтобы я выбросил её на помойку. Но я спустился в подвал, выпустил Мурлыку из сумки и дал ему мышь.
— Так-то, Мурлыка, — сказал я. — Вот если бы мы пообещали отцу ловить одних только мышей, всё бы было в порядке. Но сперва ещё надо тебя приучить не есть птиц. (Мурлыка умыл лапой нос.) Ладно, привыкнешь мышей ловить! Будем тебя воспитывать. Если детей не воспитывать, они тоже невесть что вытворяют.
Гоппи, конечно, давно уже лаял под дверью. Он сразу смекнул, в чём дело. Он вообще-то очень любит кошек, но не раз получал от них по носу — кошки его не понимают.
Я открыл дверь и позвал Гоппи. Он тут же бросился к Мурлыке — хотел поздороваться, но тот выгнул спину и сердито зафыркал. Я взял его на руки и стал гладить. Он боязливо поглядывал на Гоппи, а тот обнюхивал его и был вне себя от радости. Ему так хотелось поиграть с котом! Потом мы оставили Мурлыку одного — надо было сперва всё объяснить Гоппи. А ещё я хотел зайти к Фрицу — попросить его помочь мне прятать Мурлыку. По дороге я рассказал Гоппи всё. Он наверняка меня понял.
Фриц тут же загорелся:
— Ясное дело, не дадим его выгнать! Где ещё найдёшь такую классную кошку? Только, чур, он и у меня гостить будет. Хоть иногда!
Я пообещал ему прямо послезавтра принести к ним Мурлыку на весь день и на всю ночь. Пока мы в школе, пусть с ним играет его сестрёнка Грета. Ей всего пять лет, но зверей она очень любит. Мы обо всём договорились, потом ещё немного погоняли вместе с Гоппи, а потом я пошёл домой.
За ужином я всё думал — сказать или не говорить? Был подходящий момент — мать рассказывала про мышей. Они, мол, уже добрались до куриного корма.
— А если бы я принёс кота? — начал я. — Роскошного, чёрного, с белой звездой на груди и в белых тапочках?
Затаив дыхание я ждал ответа.
— А если бы ты принёс четвёрку по математике? — сказал отец.
Опять он за своё. Словно тройка вообще не отметка. И почему это родителям непременно нужны примерные детки?
— Четвёрку? — сказал я. — А ты думаешь, дроби — это легко? Вон у Гансика Габермана вообще двойка!
— Так-так. Значит, у Гансика Габермана двойка. А у твоего друга Фрица? У него, если не ошибаюсь, пятёрка.
Я ничего больше не сказал. Иногда с моим отцом вообще трудно найти общий язык. Но он-то сказал ещё вот что:
— Чёрная там или зеленая, в жёлтых тапочках или босиком, а мы обойдёмся и без кошек. Наших мышей мы уж как-нибудь сами поймаем — мышеловкой.
И как нарочно, в это мгновение в передней щёлкнула мышеловка. Хлоп!
— Вот ещё одна, — обрадовался отец.
Внушив Гоппи, чтобы он не выдавал Мурлыку, я пошёл спать.
«Ав-ав-ав!» — пролаял Гоппи.
Я точно знал, что это значит: «Не беспокойся! Я не предатель!»
Только уснуть я никак не мог. Всё думал — что же мне теперь делать с Мурлыкой? Мать ещё раз подошла к моей постели. Я притворился спящим и услышал, как отец сказал:
— Вообще-то парень он подходящий, хотя у него и тройка по математике.
«Эх, если б ты знал!» — подумал я.
Всю ночь мне снилась какая-то канитель про кошек, собак, коз и ещё каких-то диковинных зверей. Я таких и в жизни-то ни разу не видел!
На другое утро я засунул часть книг под куртку, чтобы освободить в моём школьном портфеле побольше места для Мурлыки. Придётся взять его с собой в школу — дома слишком опасно. Ещё, чего доброго, обнаружат!
Мурлыка влез в портфель без сопротивления. Я накормил его и был уверен, что до конца уроков он выдержит. Только одному Фрицу я рассказал про Мурлыку. Остальные ребята и понятия не имели, что он сидит с нами в классе.
На первом уроке всё шло хорошо. Даже Гансик Габерман, мой сосед по парте, и тот ничего не заметил. Иногда я поглядывал на Фрица, и он мне подмигивал: «Порядок».
На втором уроке была математика. Я слушал очень внимательно — опозориться сейчас уж и вовсе некстати. Да и урок занятный — фрейлейн Никлас подсчитывала с нами всякие цифры про кур. Вот, оказывается, какую пропасть яиц продают!
А потом мы стали повторять дроби. Для меня это прямо беда. Я ведь правда старался слушать и всё понять. Но вдруг оказалось, что я даже не знаю, о чём говорят. Потому что всё думал про Мурлыку. Я сунул руку в парту, залез в портфель и почесал у него за ухом. Он радостно замурлыкал.
Как мне хотелось вынуть его из портфеля и погладить!
И вдруг я услышал мою фамилию.
Я вытащил руку из портфеля и вскочил. Неужели фрейлейн Никлас заметила?
— Ну? — сказала она.
Я и представления не имел, что ей от меня надо.
Я поглядел на Фрица, но тот только нахмурился.
— Ну? — повторила фрейлейн Никлас, постукивая мелом по доске. На доске было написано:
1/4+1/4=?
«А, — подумал я, — 1/4+1/4=? Ну, с этим-то мы справимся! Пустяки!» Как это считают?
1+1=2 — это над чертой.
А под чертой? 4+4= 8.
— 1/4+1/4=2/8, — быстро сказал я.
Некоторые ребята фыркнули, и все подняли руку.
Кроме Гансика Габермана — он считает ещё хуже меня. А фрейлейн Никлас покачала головой.
— Поди-ка сюда, Пауль.
Я вышел вперёд. Фрейлейн Никлас нарисовала на доске круг.
— Жаль, что ты это забыл, — сказала она с упрёком. — И сейчас ты опять не слушал.
Я покраснел, потому что вообще-то она права.
— Вот, этот круг — яичница. Ну-ка раздели её на четыре равные части!
Я разделил яичницу.
— Каждая часть — это четверть. Одна четвёртая, — установил я.
— Если ты теперь 1/4+1/4 съешь, сколько ты съел всего?
Я поглядел на класс и увидел, что теперь даже Гансик поднял руку. Услыхав про яичницу, он, конечно, сообразил.
— Две четверти — половину яичницы, — поспешно ответил я.
Мне было стыдно, ведь получалось 2/4 или 1/2.
«1/4+1/4=1/2», — быстро написал я на доске.
Ну да, фрейлейн Никлас так нам и объясняла, просто я забыл.
— Правильно, садись, — сказала фрейлейн Никлас и поставила мне в журнал двойку.
Я немного опешил — постоял, постоял и пошёл на своё место.
Ой, что это? Чёрненькая головка торчит из-за моей парты.
Ребята захихикали. Но тут Мурлыка прыгнул на парту, и весь класс начал хохотать. Фрейлейн Никлас посмотрела в нашу сторону, а Мурлыка сидит и с любопытством оглядывается.
— Ведь это вчерашний кот, — с удивлением сказала фрейлейн Никлас. — Что за ерунда! Кто это его сюда притащил? Ты, что ли, Пауль?
Я просто не знал, куда деваться. Ведь портфель был застёгнут, и как только Мурлыка вылез? Я поглядел на Гансика. Тот злорадно хихикал.
«Погоди! — подумал я. — Ты у меня не обрадуешься».
— Да, — ответил я. — Это я его принёс. Только я не нарочно…
— Зачем же ты притащил кота в школу? — строго спросила фрейлейн Никлас.
— Потому что… потому что… я… — Мне не хотелось объяснять при всём классе. — Можно, я расскажу вам потом, на перемене?
— Ладно. Но пока придётся записать тебе замечание, потому что ты помешал вести урок.
Я сел. Но Гансику так наподдал, что он крякнул. Нет, ну какая подлость!
— Что случилось? — спросила фрейлейн Никлас.
— Ничего, — ответил Гансик. Небось струсил наябедничать.
— Я отнесу Мурлыку на переменке вниз к завхозу, — сказал я. — А после уроков заберу.
— Хорошо, — сказала фрейлейн Никлас. — А пока… А ну-ка давай его сюда!
Я посадил кота к ней на стол. Мурлыка сидел очень дисциплинированно.
— Похоже, что этот кот очень умён, — сказала фрейлейн Никлас. — Мне хотелось бы задать ему один вопрос.
— Задайте, задайте! — закричали все.
Фрейлейн Никлас наклонилась к Мурлыке и спросила:
— Правда ведь, Пауль хорошо считает?
Все с нетерпением глядели на Мурлыку. И что же он сделал? Решительно покачал головой, словно хотел громко сказать:
«Э, нет!»
Класс ликовал.
— А ты о таком хозяине мечтал? Который считать не умеет?
Мурлыка покачал головой ещё решительнее.
Я просто обалдел. Оказывается, мой Мурлыка — «кот учёный».
Но тут Аннемари подняла руку и сказала:
— А я знаю, я видела! Вы ему в ухо подули, потому он и мотнул головой.
— Верно! — улыбнулась фрейлейн Никлас.
И мы все рассмеялись вместе с ней.
— Так, ну а теперь возьми своего кота, — сказала она, — и заруби себе на носу: не о таком хозяине он мечтал!
Я посадил Мурлыку обратно в портфель, и мы стали решать устные примеры. Всё шло как по маслу. Я не пропускал ни слова. И тут же находил ответ.
Когда прозвенел звонок, фрейлейн Никлас похвалила нас и спросила:
— Ну что, разве вам самим не весело, когда мы так дружно считаем и всё у нас получается?
— Весело! — закричали ребята, а громче всех я.
Она уже выходила из класса, но в дверях ещё раз обернулась и сказала:
— И мне тоже весело!
Я тут же побежал за ней и всё ей рассказал.
— Тебе надо всё-таки сказать отцу, — посоветовала она.
Я объяснил ей, что это невозможно.
— А ты пообещай ему, что получишь четвёрку по математике.
— Да нет, вы его совсем не знаете. В таких вещах его не прошибёшь! — сказал я.
Она попросила рассказывать ей, как будут разворачиваться события.
А всё равно Мурлыка останется у меня!
Ну так вот, этот день начался с двойки и с записи в дневнике. Но самое худшее было ещё впереди!
Когда я вернулся из школы, дома никого не было. Можно погонять с Мурлыкой и Гоппи! Мурлыка уже не боялся, а Гоппи вообще был на седьмом небе. Оба веселились вовсю. Потом я снял клетку с моим Яшкой и показал его Мурлыке. Глаза у него так и горели — он явно был не прочь полакомиться Яшкой. Я погладил его и прочёл ему лекцию. Он, правда, не слишком-то её слушал — всё косился на клетку. Но потом отправился на охоту за мышами и забыл про Яшку. Уж как-нибудь да приучу его. Главное, терпение.
Уроки я готовил на редкость старательно. Гоппи давно знает, как надо себя при этом вести. Но Мурлыка тогда ещё ничего не знал.
Гоппи ложится в углу и молчит, глаз с меня не спускает. Только я закрою тетрадку или книгу, он тут же вскакивает:
«Ав-ав?»
Это значит: «Ну, кончил, что ли?» Если я беру другую книгу или тетрадь, он зевает и снова ложится. А если завёртываю крышку на пузырьке с чернилами, вскакивает и начинает носиться кругами. Тут уж ему всё ясно — сейчас пойдём гулять. Но Мурлыка ведь ничего этого не знал. Он прыгнул ко мне на стол и давай охотиться за моей ручкой — она всё хвостом виляла. Подкрадётся… приготовится к прыжку… Прыг! Сперва меня это забавляло, но дело кончилось большой кляксой. Пришлось мне с ним объясняться:
— Да дашь ты мне приготовить уроки? И так мы с тобой сегодня засыпались, потому что я считать не умею. Что ж нам, опять, что ли, засыпаться?
Кляксу я слизнул так здорово, что её почти не заметишь. Но, к сожалению, только почти.
Наконец я кончил писать, и мы опять начали носиться все втроём. А уж когда пришёл Фриц, мы и вовсе развеселились. Гоппи с Мурлыкой прямо друг через друга по полу кувыркались. И мы с Фрицем тоже.
Потом вернулась мать. Мы еле успели спрятать Мурлыку в подвал. К счастью, она ничего не заметила. А Фриц пошёл домой. Завтра Мурлыка перекочует к нему на весь день и на всю ночь.
После ужина отец потребовал мою тетрадь по математике. Задачки и примеры, заданные на дом, все были решены верно. Ведь я обещал это фрейлейн Никлас, а уж если я что обещаю, то слово держу. Ну, а насчёт кляксы, конечно, дело так просто не обошлось.
— А красивая клякса, — сказал отец.
Ну разве я мог ему сказать, кто посадил кляксу? Пришлось прикусить язык. Но когда я понёс Мурлыке ужин в подвал, я его слегка побранил. Правда, как следует на него разозлиться я так и не смог.
Уже лёжа в постели, я вдруг услышал, как мать говорит отцу:
— Что это с курами случилось? Видишь, спать не идут!
— Странно, — сказал отец. — Это что-то совсем новое! Пойдём-ка посмотрим, нет ли кого в курятнике.
«Тьфу ты, — подумал я, — да ведь это, наверное, мой Мурлыка! Ну что он там натворил?» Я вскочил с постели и выбежал во двор. Ясное дело, окно подвала открыто. Мурлыка оттуда выбрался, это уж точно. В подвале-то ведь холодно. Вот он и отыскал себе, видно, тёплое местечко — в курятнике.
— Кто-нибудь уж там да сидит, — сказал отец.
— Да кто же там может сидеть? — спросила мать.
— А вдруг куница?
— Да, это возможно. У тёти Лены тоже недавно куница в курятник забралась!
Я молчал. Ну что я мог сказать? «Подождём», — думал я.
— Сейчас вот подыщу хорошую дубинку и поглажу эту куницу, — сказал отец.
Он вернулся в дом, а мать всё ходила по двору, считая кур.
«А ну-ка, не зевай!» — скомандовал я сам себе, как только она зашла за угол.
Я открыл курятник, схватил за шиворот моего Мурлыку — и бегом домой.
Быстро сунул его в одёжный шкаф и скорей обратно во двор.
Отец уже направлялся к курятнику с большой дубинкой в руках. Но мать вдруг крикнула:
— Смотри, куры сами идут в курятник!
Я вздохнул с облегчением. Отец рассмеялся:
— Ложная тревога!
Потом мы все пошли спать. И вдруг… у меня просто мурашки по спине забегали. Слышу, из спальни — тихонечко так:
«Мяу!»
Прислушиваюсь… Опять:
«Мяу!»
«Да замолчи ты, — думаю, — ну чего тебе еще надо? В шкафу ведь тепло! — И тут я сообразил: — Проклятый нафталин! Ну кто же, в самом деле, его вытерпит?»
А из шкафа опять:
«Мяу!»
— Что это с Гоппи случилось? — слышу я голос отца. — Ведь он и к дому-то вечером никого не подпускает!
И тут пошло:
«May! Мяу! Мяу!»
— Чёрт знает что! — кричит отец. — Прямо под нашим окном кошки концерт устраивают!
«Ага, — думаю, — он, значит, решил, что это под окном. Да помолчи ты хоть минутку, Мурлыка!»
Но Мурлыка не учёл моего пожелания. Вот теперь-то он разорался вовсю. Но и правда казалось, что это какая-то кошка под окном мяукает. Отец в бешенстве вскочил и давай светить карманным фонариком из окна.
— Вот я тебе сейчас покажу! — кричит он. А потом говорит: — Убежала! — И снова ложится спать.
«Мяу!»
Мурлыка продолжает свой концерт. У меня прямо душа ушла в пятки.
— Ну всё, с меня хватит! — отец вскочил и побежал к двери. И вдруг как вскрикнет: — У, чёртова мышеловка!
Он на неё наступил, а она ему большой палец на ноге прищемила.
Мать понесла ему тапочки. А я подлетел к шкафу — хвать Мурлыку и бегом с ним обратно в постель!
Слышу, отец во дворе с Гоппи ругается. А Гоппи отвечает: «Ав-ав!» и рычит. Я, мол, глаз не смыкаю, комаров и тех не подпускаю на выстрел, а ты тут скандал устраиваешь. Иди спать и оставь меня в покое. Отвяжись! «Р-р-р!»
Я-то, конечно, и без него знал, что никакой кошки во дворе нет. Родители вернулись в комнату. Отец всё потирал свой палец на ноге и бесился. Я шепнул Мурлыке на ухо:
— Вот видишь, ты ему ничего не сделал, а эта безмозглая мышеловка здорово его цапнула. Хорошо ещё, палец не откусила!
Мурлыка замурлыкал, и мы оба уснули.
На этот раз кое-как сошло.
…На следующий день я принёс Мурлыку к Фрицу. Его сестрёнка Грета сразу полюбила Мурлыку и обещала нам как следует за ним смотреть. Мы отправились в школу. По дороге я рассказал Фрицу про вчерашнее происшествие.
Сперва он хохотал, а потом говорит:
— Если твой отец это дело раскроет, вам с Мурлыкой несдобровать. Остаётся одно — продолжать конспирацию. Держи его в подполье.
В школе я только и думал, что про Мурлыку. Правда, на математике пришлось уж мне как-то собраться с мыслями. Не хотелось, чтоб все хихикали. Фрейлейн Никлас даже один раз меня похвалила. Но она ведь Гансика Габермана и то сегодня хвалила. Поняли мы эти дроби.
На переменке мы всё рассказали Аннемари. Она обещала не болтать. Нам ведь нужны союзники. Пусть тоже помогает прятать Мурлыку. Аннемари говорит — она бы вообще померла со страху, если бы у неё дома такое творилось.
А на другой перемене фрейлейн Никлас меня спросила:
— Ну, как поживает Мурлыка? Сказал отцу?
Я помялся, пробормотал что-то, да так и не ответил ни да, ни нет.
Но фрейлейн Никлас поглядела на меня повнимательней и сама всё поняла.
— Да ты скажи отцу! И пообещай ему четвёрку по математике. Вот увидишь, он тогда разрешит тебе взять Мурлыку. Ты что, боишься, на четвёрку не вытянешь?
— Кто? Я?.. Боюсь?.. Не вытяну?..
Ну, я объяснил ей, что к чему. А тут как раз Гансик Габерман — грызёт морковку, старается промелькнуть незамеченным. Но фрейлейн Никлас подозвала его — пришлось уж ему подойти. Вид у него побитый — думает, я наябедничал, что он вчера на уроке Мурлыку выпустил.
— Вот Пауль решил по математике четвёрку заработать. Не попробовать ли тебе по этому случаю получить тройку? — спросила она.
Гансик почесал в затылке.
— Тройку?.. Не пугайте так человека с самого утра!
— Обдумай это предложение, — рассмеялась фрейлейн Никлас. — И представь себе удивление ребят.
Она ушла, а я для порядка ещё разок наподдал Гансику за Мурлыку.
После школы я сперва пошёл к Фрицу — поглядеть, как там поживает мой Мурлыка. Он сразу меня узнал, подошёл и давай мурлыкать от радости. Грета отлично провела с ним время. Таких прекрасных кошек она ещё в жизни не видела.
— Ты бы нам хоть на немножко ещё Мурлыку оставил!
— Ладно уж, оставлю, но только на одну ночь. А потом опять принесу — на день и на ночь.
— Глядите за ним, чтоб не убежал, — предупредил я, уходя домой.
Дома меня ожидала не слишком приятная новость. Мать рассказывает:
— Подумай только, вчера вечером куница всё-таки забралась в курятник! Одно яйцо разбила и выпила. Придётся нам её подкараулить. Сегодня, наверное, опять наведается.
— Да нет уж, больше не наведается, — говорю я.
— А ты откуда знаешь? — спрашивает мать.
Я покраснел.
— Ну, просто я так думаю, — начинаю я выкручиваться. — Она ведь уже заметила, что её обнаружили.
— Ладно, посмотрим, — говорит мать.
Минутку я поразмышлял, не посвятить ли маму в нашу тайну. Очень уж опасная игра получается для Мурлыки. Но всё-таки я этого не сделал. А потом мне и самому смешно стало. Уж куда им поймать моего Мурлыку!
Примеры по математике я проверил два раза, ни одной кляксы не посадил. Четвёрку поставит — это уж точно. А потом мы с Гоппи отправились в гости к Фрицу. Мурлыка сам тут же подскочил к Гоппи — давай, мол, поиграем! Ну мы и хохотали, глядя на их возню!
Только рано я радовался.
Вечером мать рассказала отцу про разбитое яйцо. Когда куры сели на насест, отец загородил доской вход в курятник.
— На всякий случай, — сказал он мрачно.
Я уже лёг в постель, но никак не мог заснуть. И вдруг слышу, мать говорит:
— Куры опять вышли из курятника! Видно, куница отодвинула доску!
Я прямо похолодел. Неужели Фриц с Гретой не уследили и Мурлыка удрал? Я выскочил во двор в одной пижаме. Отец как раз загораживал доской вход да ещё камнями закладывал.
— Вот ты и попалась, голубушка, — приговаривал он, довольный своей затеей.
А куры стоят рядом и глядят на него так устало. Эх, хоть бы я точно знал, Мурлыка там сидит или кто другой?
Отец опять разыскал свою дубинку. У меня прямо сердце остановилось, когда я её увидел. А мать стала осторожно шарить рукой в гнезде — она всегда яйца через боковую дверцу вынимает. И вдруг как вскрикнет! И отдёрнула руку.
— Она меня оцарапала! — кричит и руку показывает. А на руке и правда царапина.
Ну, всё. Теперь мы с Мурлыкой попались.
— Вот погоди, я тебе поцарапаюсь! — говорит отец и подходит к боковой дверце.
Но я уже подскочил к ней сам и кричу:
— Постой, подожди, папа! — Распахиваю поскорей дверцу и хватаю Мурлыку. Он сопротивления не оказывает и вообще ведёт себя мирно. — Это ведь просто Мурлыка… — говорю я. А сам боюсь разреветься.
— Что ещё за Мурлыка такой? — спрашивает отец и глядит то на меня, то на мать.
— Мой Мурлыка, — говорю я.
Так всё и раскрылось. Никаких путей к отступлению. Да мне и самому эта морока порядком надоела. Пришлось уж всё рассказать. И стал я просить отца оставить мне Мурлыку. Уж и не знал, что ему пообещать.
— Вот увидишь, четвёрку по математике получу, — говорю я. — Вот увидишь!
— Понятно, — отвечает отец и показывает глазами на мамину царапину. — А это что такое? Мурлыка-то твой царапается!
Мне и самому было жалко мать.
— Да он ведь ещё вас не знает! Вот если пустите его в дом, будете к нему хорошо относиться, ну разве он станет царапаться? Со мной-то он очень дружит, — говорю я.
— Да нет, ты только посмотри, — отвечает мать и показывает мне свою руку.
Но я по её голосу чувствую, что она уже не всерьёз сердится. И крепко прижимаю к себе Мурлыку. Так легко я с ним не расстанусь.
— Да, — говорю я отцу, — вот Мурлыку вы ругаете за то, что он в темноте оцарапал человека, с которым вообще не знаком. А твоя безмозглая мышеловка сразу тебя за палец цапнула, только ты к ней подбежал. А ведь она-то с тобой близко знакома!
Гоппи потянул меня за пижаму. Он всё поглядывал на Мурлыку — нельзя ли с ним поиграть.
И вдруг отец как рассмеётся! Не знаю уж почему. Может, вспомнил что-то смешное? Смеётся, и всё тут! Я поглядел на мать, и она тоже смеётся. Ну что же мне оставалось делать? Я тоже рассмеялся от радости — я ведь уже сообразил, что Мурлыка у нас остаётся.
— Ладно уж, — говорит отец. — А теперь пошёл спать! И не забудь про четвёрку по математике. Вечно у тебя какие-то тайны. И всегда одинаковые. А вообще-то котяга что надо. Только смотри, чтоб на птиц не охотился, а не то живо вышвырну!
— Лучше б ты свою безмозглую мышеловку вышвырнул, — говорю я. — А с Мурлыкой я уже начал курс наук — с Яшкиной клетки.
Я объяснил ему мою методику.
Отец опять рассмеялся. Тут я понял, что он и вправду хороший человек, а не только притворяется. И теперь нам с Мурлыкой можно точно идти спать.
— Завтра оборудуешь ему ящик для спанья! — крикнул мне вдогонку отец.
— Понимаешь, Мурлыка, — объяснил я, — мой отец иногда бывает такой… Ну, в общем, не обращай внимания! Главное теперь — это мне приносить четвёрки, а тебе не гоняться за птицами. Тогда мы с ним поладим. Ты ведь сам видишь — он человек хороший. Только не всё ли ему равно — тройка у меня по математике или четвёрка? Интересно, у него-то у самого всегда одни четвёрки по математике были?
Мурлыка мурлыкал от радости. И только я начал засыпать, как слышу в передней голос Фрица.
— Мне обязательно надо с ним поговорить про одно очень важное дело, — говорит он.
— Что же это за дело? — спрашивает отец.
— Это… это тайна, — запинаясь, отвечает Фриц.
А я вот-вот прысну со смеху. Помалкиваю и слушаю, что будет дальше.
— Может, ты насчёт Мурлыки? — спрашивает отец.
— Мурлыка? Что ещё за Мурлыка такой? — растерянно говорит Фриц.
Отец смеётся. Тут я быстро выхожу с Мурлыкой на руках и сообщаю Фрицу, что мне разрешили его оставить.
Фриц здорово обрадовался. А потом рассказал, как он вечером обнаружил, что Мурлыка исчез. Весь дом обыскал — и бегом ко мне. Конечно, всё в тайне от своих. Вот какой верный друг у меня Фриц.
И вообще всё хорошо кончилось.
Фрейлейн Никлас тоже была очень рада, когда на другой день услыхала эту новость.
А вчера мы получили отметки, и я показал отцу мою четвёрку.
— Вот видишь, — сказал он мне с гордостью, словно не я, а он её получил. А на самом-то деле это ведь я старался! И тут он взял безмозглую мышеловку и, смеясь, швырнул её в помойное ведро. — Мурлыка, — говорит, — всё-таки лучше мышеловки. Особенно если он тебя ещё и считать учит!
Теперь Мурлыка ловит у нас мышей — про мышеловку мы и думать забыли. Он лакает из одной миски с Гоппи. А случается, каша в их миске придётся по вкусу Яшке, тогда и тот вместе с ними поклёвывает. Но как только козлёнок Рогатка подскочит вприпрыжку к миске, Мурлыка бросается удирать.
Правда, часто ещё, когда Мурлыка поглядывает на Яшку, глаза его загораются диким светом. Конечно, я пока не решаюсь оставлять их наедине. Не так-то просто отучить кошку охотиться на птиц. Тут требуется терпение. Да и находчивость нужна. Я, как ухожу в школу, привязываю на шею Мурлыке колокольчик. Начнёт он к птичке подкрадываться, а та услышит звон и вспорхнёт. Ведь я и сам знаю, как трудно чего-нибудь не натворить, когда остаёшься дома один.
ДРОВА (Шестой класс)
— Завтра утром начинаем, Пауль, — сказал Гансик с железной решимостью. — Последняя неделя каникул, а дрова не наколоты! Знаешь, что отец мне выдаст! Он и так не отстаёт ни на минуту. Каждый день проповеди! Значит, договорились, поможете?
Колоть дрова? Что же он раньше-то молчал? Колоть дрова! Да ведь это одно удовольствие! Мы поговорили с Фрицем и с Аннемари. Аннемари показала нам свои бицепсы.
— А нет ли там чего попилить? Я уже один раз пилила с отцом.
Гансик слушал наши восторги с таким видом, словно вдыхает запах жаркого. Его круглое лицо просто сияло.
Ах, как он был вежлив и любезен!
— Да, попилить — это можно! Отец даже новую пилу купил. Там ведь и брёвнышки попадаются.
— А топор?
— Во какой огромный! А знаешь, острый! Хлеб можно резать!
Мы почувствовали себя настоящими дровосеками.
— А колун? А пила-ножовка?
— Всё есть, — сказал Гансик. — Завтра с утра пораньше…
— В девять?
— В девять.
Огромная гора дров возвышалась за домом, возле старой каменной ограды. Здесь мы раньше часто сидели, рассказывая друг другу всякие таинственные истории про старинный соседний дом. Очень уж у него удивительные зубцы и башенки.
— Два дня — и готово! — сказал Гансик и важно поплевал на руки.
— Может, и три, — сказал я.
Мы взялись за дело горячо. Я пилил с Аннемари, Гансик раскалывал большим топором толстые чурбаки, а Фриц колол дрова. В десять мы были уже все красные, пот катил с нас градом. Но всё это нам очень нравилось. Весело смотреть, как рядом с большой горой неколотых дров вырастает маленькая!
Потом Гансик принёс из кухни кувшин морса, и тут он вдруг стал какой-то задумчивый. Аннемари подмигнула мне. Знаем мы нашего толстяка!
— Ну для чего существуют машины? — начал он бубнить. — Вот человек может полететь в космос, да? А здесь, на земле, потей, чтоб дровишек наколоть! Я лично должен сперва поесть. В наш век дрова колоть! Пусть ставят электропечи и отапливают электричеством весь город! А еще лучше атомная энергия. Пожалуйста! Не возражаю!
Мы заставили его колоть дальше, но цирк продолжался.
— Эх, рановато я на свет появился, — ворчал Гансик. — Вот если бы лет через пятьдесят…
— Только попробуй смыться!
Мы с Аннемари как раз хотели взять новое бревно, как вдруг за горой дров что-то зашуршало. Ёжик! Спешит незаметно пробежать вдоль старой ограды и улизнуть в дырку!
— Ребята, загораживай дорогу! — крикнул я.
Мы закатили колючий шар в мешок и тут же взялись за постройку небольшого домика. С двумя комнатами.
Гансик принёс краску. Я стал красить стены в зелёный. Вот красота! Скоро еж познакомится с нами поближе и тогда будет всех узнавать, думал я. Ёж привыкает быстро. И становится настоящим домашним животным. Погуляет и домой возвращается. Ему только надо пугливость преодолеть.
И тут мы стали болтать: про тайны природы, про иголки ежа, про мимикрию и про всё такое.
— Ну, ну, дальше рассказывай! — просил Гансик.
Он слушал очень внимательно. И я начал объяснять, что все живые существа за миллионы лет развились из одноклеточных… Да, поймал он меня на удочку! Ему просто работать лень было.
Дому ежа мы даже номер присвоили — № 7. И флаг на нём укрепили — зелёно-бело-зелёный. Поставили домик сохнуть на солнце, а сами пошли поесть.
— Как вернёмся, ёж будет переезжать на новую квартиру!
Когда я вернулся, мешок оказался пустым. Я взбесился, да что толку? Сам во всём виноват. Мешок-то ведь вот дырявый! Да и завязан был не так уж крепко!
— Растяпа ты, и больше никто! — ругала меня Аннемари.
К моему великому удивлению, Гансик вдруг взял мою сторону.
— Давайте ежа искать! — крикнул он. — Мы его точно найдём! А то видите, как Пауль расстраивается!
Я и в самом деле жутко расстроился.
— Да как ты его найдёшь?
— Очень просто. Вон та дорога ведёт прямо на улицу. Там его наверняка нет. А тут — старая ограда. Значит, остаётся одна возможность. Он удрал вон через тот сад!
А ведь и правда!
— Далеко уйти он не мог, — продолжал хитроумный Гансик, — все сады окружены забором.
— Пошли, ребята! — крикнул я. Мне так хотелось, чтобы у нас был свой ёж!
Ох и вкусные же росли сливы в первом саду! Хозяева, видно, всё ещё спали, а их шпиц — лучший друг нашего Гансика.
Ну, а ёж? Никаких признаков!
Во втором саду как раз поспел сорт «Добрая Луиза». И такая она была сладкая, сочная, мягкая! Сок прямо тёк у Гансика по подбородку. Кто тут устоит!
— А здесь хозяева вообще уехали, — сказал Гансик, причмокивая.
Мы влезли через окно в сарай. В углу стояли грабли и лопаты, у стены — лейки и вёдра, а на гвозде над ними висели фартуки, халаты и огромные соломенные шляпы. Нарядившись фермерами, мы стали снимать приключенческий фильм. Ух и фильм! У нас даже животы разболелись от слив и от смеха.
— А дрова? — сказал вдруг Фриц.
— Тьфу ты, дрова! — крикнул Гансик. — Побежали скорей! Надо ежа искать! Вот проклятый зверь, целый день у нас отнял!
Ну, а ёж? Да его и в помине тут не было.
Мы перелезли через забор в третий сад, и вдруг владелец его вышел из дому. Да как начал орать! Он вообще жутко мрачный тип. Гансик всегда предпочитает не попадаться ему на глаза.
— Вы не видали тут ежа? — спросил Гансик спокойно и очень вежливо. — Такого круглого, с иголками?.
Хозяин в красной пижаме стоял прямо перед нами и от злости вращал глазами.
— Ах, так, значит, это ты тут яблоки каждый день воруешь? — взревел он. Ну погоди, толстый обжора!
Нам пришлось удирать со всех ног, потому что он уже выдернул жердь из грядки и размахивал ею в воздухе.
По ту сторону забора Гансик остановился и стал грозить хозяину. Он, мол, пожалуется в «Управление по делам молодежи».
— Я тут только один раз паданцы подбирал, а вы!.. Да и то у вас нет никаких доказательств! «Толстый обжора!» Настоящее оскорбление, я…
Человек в красной пижаме бросился нас догонять, но мы куда быстрей бегаем!
Домик ежа, № 7, стоял под горою дров, пустой и одинокий.
Часы на башне пробили шесть.
— Кончай работу, — сказал Гансик и стал собирать инструменты.
Мы поспешили домой, усталые, но довольные. Это был волшебный день, настоящий день каникул.
— Ну, как идут дела? — спросил нас отец Гансика.
Мы встретили его на углу. Волшебство тут же пропало.
— Потихоньку-полегоньку, — ответил Гансик с вызовом. — Завтра к вечеру справимся.
Отец его недоверчиво покачал головой и усмехнулся:
— Всё ты откладываешь до последней минуты! На тебя вообще нельзя положиться.
— Вот видите, — простонал Гансик, когда мы свернули за угол. — Ещё и проповедь читает!.. Завтра ни секунды простоя! И всё будет тип-топ!
«Тогда уж надо браться не так, как сегодня», — подумал я.
На другое утро мы бодро и весело взялись за дело.
Бревно лежало на козлах, и мы с Аннемари уже держались за ручки пилы. Гансик высоко поднял топор. Вот-вот закипит работа.
— Знаете, кто мы? — спросил вдруг толстяк и опустил свой блестящий топор.
Я почувствовал, что всё начинается сначала.
— А ну-ка давай жми, — сказал я, — не стой тут, как памятник дровосеку!
— Ослы мы! Настоящие ослы! — Он сделал вид, что вообще меня не слышит. — Ёж-то снова сидит у стены, за дровами. Точно. Ручаюсь. Пошли, Пауль, давай разберём дрова. Это ведь одна минута!
Он подошёл к стене, а я, не выдержав такой атаки, тоже взялся ему помогать. Мы перебросали дрова. Никакого ежа там не было.
— Опять тебе что-то померещилось! Давай начинай!
Фриц продолжал колоть дрова.
— Пустой номер, — мрачно хмыкнул Гансик. — Ну ладно, за работу!
Он схватил топор и с досады трахнул им по старой стене.
Звук получился какой-то глухой. Казалось, там, внутри, пустота.
— Ребята, — с волнением сказала Аннемари, — что это? А ну-ка ударь ещё раз!
Все затаили дыхание. Гансик ударил ещё раз.
— Там пусто, — прошептал я.
Мы глядели на стену как зачарованные. Тут подбежал Фриц с колуном и тоже стукнул им по стене.
Аннемари постучала в стену поленом, а я молотком. Мы обстучали всю стену. Везде звучало нормально — высокий резкий звук. Только в том месте, где Гансик ударил в первый раз, слышался какой-то глухой глубокий отзвук в ответ на наши удары. Путём простукивания и прослушивания мы установили даже границы этой пустоты и обвели их мелом. Получился прямоугольник.
Мы стояли, онемев, перед старой замшелой стеной и глядели на прямоугольник. Что тут может быть спрятано? Страшные мысли лезли мне в голову.
— А стена эта очень древняя? — спросил я тихо.
— Почти двести лет, — прошептал Гансик. — Когда-то она относилась к старому дому адвоката.
Мы поглядели на старый серый дом. Сколько таинственных историй придумали мы тут раньше о его судьбе и жильцах!
— А вдруг сто лет назад кто-нибудь тёмной ночью замуровал в эту стену золото и бриллианты!
И в ту же минуту я снова вернулся к действительности.
«Мотоцикл! Мопед! Сегодня же покупаю мопед или мотороллер на ту часть, которая достанется мне!» Меня охватило радостное волнение.
— А может быть, тут какое-нибудь преступление? — прошептала Аннемари.
— Чепуха, — решительно сказал Гансик. — Это клад! И мы тут же покупаем механическую пилу. И все эти брёвна за полчаса превратятся в наколотые дровишки!
После короткого совещания мы начали скрести стену. Дрова были забыты. Всё на свете было забыто. Прошло немного времени, и вот уже несколько кирпичей удалось вытащить. Пустое пространство внутри теперь было видно — чёрная дыра. Мы расширяли её до тех пор, пока луч света не упал на маленький деревянный ящик в форме сундучка.
Гансик всех растолкал — он хотел сам вытащить ящик.
— Это ведь я открыл! — крикнул он хриплым от волнения голосом.
Но, схватив ящик, он чуть его не уронил… На крышке был выжжен череп…
— Там, наверно, яд, — сказал Фриц.
— А может, динамит?
Мы испуганно отступили назад и уставились друг на друга. Потом я решился. Схватив топор, я стал колотить по крышке ящика.
— Осторожнее! — крикнул Фриц.
— Смотрите только, чтобы сюда никто не пришёл, — ответил я.
После четвёртого удара Гансик подскочил к ящику и снял по кускам разбитую крышку. Все сгорали от нетерпения и любопытства.
Картина, которая предстала перед нашими глазами, когда крышка была снята, заставила нас онеметь. Мы с волнением смотрели, как из деревянного ящичка встают наши сбывшиеся мечты: чёрный пони в белых яблоках, мотороллер, огромная черепаха…
— Ох, — простонал Гансик, — сколько денег! — Он подпрыгнул, взмахнув руками. В каждой руке — пачка бумажных денег.
— Ура! Ура!
Ящик был до краёв наполнен деньгами.
Мы нагнулись над ним, и каждый схватил по пачке бумажек. Они были чистые и сухие. А на дне… мы протёрли глаза…
— Брильянты, — прошептала Аннемари, — или жемчуг! — Или что-нибудь ещё…
Она бросила бумажки и стала перебирать блестящие разноцветные камушки. Они сверкали и переливались на солнце — синий, красный, зелёный, жёлтый… Все цвета радуги таинственно мерцали в руке Аннемари.
— А вот это что?
Я сложил из кусочков разбитую крышку. Мы разобрали выжженную надпись:
«Клад Чародея и Астарты».
— Ой-ой… — еле выговорил Гансик. — Ведь такое только во сне бывает!
— Кто бы это мог быть — Чародей?
— И Астарта.
— Да богиню какую-то так звали, — сказал Фриц.
— Когда же она была, эта Астарта? — спросил Гансик.
— Да этак лет… тысячи четыре тому назад.
— А деньги так и лежат здесь с тех пор? — удивлённо спросил Гансик.
Мы были просто ошарашены такой глупостью. Никто ему даже не ответил. Мы начали сортировать пачки. Тут были всё крупные бумажки — по двадцать, по пятьдесят, по сто марок. А две — даже по тысяче.
— Это жутко много денег, — сказал я. — Но наши-то деньги как-то по-другому выглядят!
— А вдруг их никто не возьмёт?
— Вот ужас-то будет! — крикнул Гансик.
Мы стали рассматривать деньги.
— Они в нашем веке напечатаны, — сказала Аннемари. — Вот видишь, тут год стоит. Лет тридцать назад они еще точно были в ходу.
— Кто же это их в стену замуровал?
— Драгоценные камни уж во всяком случае не потеряли ценности!
Меня здорово захватила тайна замурованного клада.
— А вы давно тут живёте? — спросил я Гансика.
— Семь лет.
— А кто тут жил до вас? — Я решил всё выяснить.
— Да не знаю я этого! — Гансик был очень взволнован.
Аннемари поняла, к чему я клоню, и вмешалась в разговор:
— А может, клад замурован в стену с той стороны?
— Нужно обследовать с обеих сторон, — сказал я. — Но сперва расспросим мать Гансика.
— Да, — сказал Гансик, — эту тайну надо раскрыть!
Мы спрятали клад под дрова и побежали в дом. Мать Гансика мало что смогла рассказать, но зато дала нам адрес одной старушки. Та долгое время жила тут, за оградой, в доме адвоката. Аннемари записала ее фамилию — фрау Рифельт.
— Эх вы, горе-работники, — посмеялась над нами мать Гансика. — Ну зачем вам всё это знать? И это у вас называется колоть дрова?
— Вы даже удивитесь, как мы быстро с дровами покончим! — радостно крикнула Аннемари. — А то зачем же техника?
— Правильно, — важно сказал Гансик. — Современные люди всё делают с помощью машин!
— Да, когда у них есть деньги! — Мать Гансика нажала пальцем на кнопку его носа.
— По виду не узнаешь, у кого что есть, — сказал Гансик. — Не у всех на носу написано!
Фриц предложил попробовать что-нибудь купить на эти деньги. Он достал из-под дров ящик и вытащил из него чистенькую бумажку в двадцать марок. Если тут выйдет накладка или вообще ничего не получится, ну, значит, не повезло!
— А что купить?
— Купи вафли с кремом! — крикнул Гансик.
Но Фриц вернулся с пустыми руками и сказал, что вафли с кремом будут только после обеда.
— А деньги?
— Я их уже уплатил.
— Ну, узнал ты что-нибудь? Сдачу-то тебе дали?
— У неё сдачи не было, не смогла разменять. Сказала, отдаст деньги, когда я за вафлями приду.
Никто ничего не заметил, но мне показалось, что тут что-то не так. Но программа наша была так велика, что я перестал об этом думать. Я был захвачен общим энтузиазмом. И больше не обращал внимания на Фрица. Каждый придумывал, что бы нам такое купить.
Мы помчались к фрау Рифельт.
— Добрый день, — приветствовал Гансик старушку. — Мы исследуем историю родного края и хотели бы получить от вас некоторые сведения. Интервью. Разрешите?
Я всегда завидую Гансику — как у него язык подвешен! Мигом вотрётся в доверие.
Фрау Рифельт, как оказалось, была глуховата, и нам пришлось всё трижды прокричать в её слуховой рожок, прежде чем она поняла, в чём дело. Она очень обрадовалась нашему приходу и рассказала нам множество всяких вещей, которые нас вообще-то не так уж интересовали. Но зато мы узнали фамилии тех, кто раньше жил в этих двух домах. Аннемари их записывала.
— Теперь я спрошу про главное, — тихо сказал Фриц и заорал в слуховой рожок: — А вы никогда не слыхали про Чародея и Астарту?
— Как, как их звать? — спросила фрау Рифельт с приветливой улыбкой.
— Чародей и Астарта! — крикнули мы хором.
— Чародей?
— Да-а!
Мы напряжённо наблюдали за лицом старушки.
— Чародей и Астарта… — снова пробормотала она и задумалась. Потом будто что-то припомнила.
И вдруг её морщинистое лицо осветилось. — Вспомнила, — сказала она. — Они один раз прислали мне письмо… Да, письмо… Чародей и Астарта. Это очень давно было…
— Лет тридцать назад? — протрубили мы в слуховой рожок и затаили дыхание.
Боясь шелохнуться, мы наблюдали за её лицом.
— Пожалуй, после первой мировой войны… — Она вертела в руках свой слуховой рожок.
Ее синяя вязаная кофта соскользнула на пол. Я поднял её и осторожно набросил ей на плечи.
— Бабушка, дорогая бабушка, ну, пожалуйста, вспомните!
— Это были таинственные письма, — начала свой рассказ старушка. — Многие тут тогда получали такие письма — от Чародея и Астарты.
— А что там было написано?
Голос у нас у всех был хриплый. Гансик побледнел.
— Про разбойников и про какой-то клад. Тогда было много волнений из-за этих писем.
Вот оно! Тайна! Клад!
Мы кричали и ревели в слуховой рожок, но фрау Рифельт ничего больше не могла вспомнить.
— Вот стареешь, и память слабеет, — вздохнула она.
Голова её немножко покачивалась, она устало улыбнулась. Потом зябко укуталась в синюю шерстяную кофту.
— Эх вы, малыши, — пробормотала она. — Вот будет вам по восемьдесят, как мне…
— Теперь она начнёт клевать носом, — прошептал Гансик с несчастным видом.
Но она выпрямилась ещё раз, словно почувствовав наше отчаяние, и сказала:
— Раньше здесь неподалёку жил один мальчик. Милый мальчик, вот такой же, как вы. Может, он больше моего знает. Только как же его зовут!.. Ах да, Петер Мор. Спросите-ка у столяра Мора на Аненштрассе.
Она ещё раз приветливо нам кивнула, потом закрыла глаза и тихонько засопела.
— Милая бабушка, — сказал я, — мы купим вам из этого клада три фунта натурального кофе и огромный слуховой электророжок, потому что вы такая хорошая. Спите спокойно.
Аннемари укутала её получше. Фрау Рифельт улыбнулась во сне. Что ей снилось?
— Лично я подарю ей грелку, — сказал Фриц.
Гансик пообещал ей три кило кекса.
Мы помчались со скоростью ракеты на Аненштрассе и разыскали мастерскую столяра Мора.
«Перерыв на обед»!
Дверь заперта. Как ни странно, Гансик только сейчас вспомнил, до чего он голоден. Мы побежали домой. Потом снова с нетерпением ждали у двери столярной мастерской, пока она наконец не открылась. На пороге стоял полный человек в синем фартуке. Лысый, в очках. Он впустил нас в мастерскую.
— Это вы столяр Мор?
— Да, я.
— А вы не могли бы позвать вашего сына? Нам надо с ним поговорить!
— Нет, не могу.
Столяр посмотрел на нас поверх очков.
— А почему не можете?
— Потому что у меня нет сына. У меня только три дочки.
— А Петера Мора разве… больше нет?
Столяр сдвинул очки на лоб.
— Петер Мор имеется, и только в одном экземпляре. Это как раз я сам. Что вам угодно?
Ну конечно! Он был тогда мальчишкой, как мы, значит, теперь он должен быть взрослым!
— Мы как раз про вас и спрашиваем, — сказал я. — Вы ведь когда-то жили на Шутценштрассе?
— А-а! — весело рассмеялся столяр. — Но это, брат, давным-давно было… Ты-то уж никак этого помнить не можешь!
— Лет тридцать назад? — с надеждой прошептала Аннемари.
— Да, после первой мировой войны, когда мы переехали в этот город. Я был как раз такой же, как вы.
Он снял доску с верстака.
— Мы открыли одну тайну… Может, вы нам поможете? — пробормотал я, запинаясь. Я чувствовал, что сейчас — вот прямо сейчас! — тайна раскроется.
— Тайну? — столяр удивлённо поднял брови.
— Вы никогда не слыхали про некоего Чародея? — спросил я, запинаясь всё больше. — Мы исследуем историю родного края…
— И про Астарту, — перебила меня Аннемари.
Мы во все глаза глядели на столяра Мора.
Если бы каждый из нас был телёнком о двух головах, столяр и то не взглянул бы на нас с таким изумлением. Он снова положил доску на верстак и подошёл к нам поближе.
— Про Чародея и Астарту? — он почесал лысину и ухмыльнулся. — Да, их обоих я знавал в те времена… А вы-то как до них докопались?
— Мы нашли… — Гансик волновался всё больше и больше.
— Что вы нашли?
Мы посмотрели друг на друга.
— Клад!
— A-а, клад.
Мне стало не по себе, потому что столяр вдруг поглядел на нас с каким-то странным выражением лица — не то хитрым, не то коварным, не то озорным.
— Да, клад, — сказал Гансик, — это они его замуровали! Они, конечно, были разбойниками, вернее, он был разбойник, а Астарта его любовница. И ещё они рассылали всем загадочные письма…
— У меня есть фотокарточка Чародея и Астарты. Хотите посмотреть? — спросил столяр с таинственным видом.
Вот так вопрос! Мы только и могли, что кивнуть. Столяр достал толстый альбом в кожаном переплёте и открыл его. Мы все вдруг как-то присмирели.
— Вот. Это они, — сказал он страшным голосом.
Мы робко взглянули на фотографию.
Стройный молодой человек — во фраке, с цилиндром под мышкой. Со лба свисает кудрявая прядь. Прелестная молодая девушка стоит, прислонившись к его плечу. Вся в белом, в волосах цветы — словно невеста из сказки. Так вот они, значит, какие!
Перебивая друг друга, мы стали задавать вопросы.
— А откуда у вас эта фотография?
— Они, что же, людей убивали?
— А их потом поймали?
— Ишь красотка! — вырвалось у Гансика.
И вдруг столяр Мор начал смеяться. Он прямо трясся от смеха. Он стонал и всхлипывал. Он сел на гроб, снял очки и стал вытирать слёзы. Мы смотрели друг на друга с недоумением. Нам стало жутковато.
— Деньги? — крикнул он. Он просто задыхался от смеха.
— Да!
— И разноцветные камешки? — он раскачивался от хохота, сидя на гробу.
— Да, драгоценные камни!
— В маленьком сундучке! — Он чуть не перевернулся вместе с гробом.
— Да!
Столяр Мор встал и открыл дверь в комнату.
— Эрна, поди-ка сюда! — крикнул он.
Белокурая круглолицая женщина в переднике вошла в мастерскую, вытирая руки полотенцем. Она приветливо поздоровалась с нами и с удивлением взглянула на смеющегося столяра.
Он всё ещё сидел на гробу.
— Что случилось, Петер? — спросила она и растерянно посмотрела на нас, а потом снова на мужа. У того начался новый приступ смеха, он еле выговорил:
— Вот она!
— Кто? — спросили мы в один голос.
Я ничего не понимал.
— Астарта! — Он перестал смеяться и скорчил страшную гримасу. — А Чародей — это я сам!
Мы отскочили в испуге. Гансик покосился на дверь.
В общем, попались мы на удочку! Петер Мор и его жена Эрна, когда они были ещё мальчишкой и девчонкой, играли в жутко захватывающий фантастический роман про Чародея и Астарту. Они рассылали таинственные письма и многих лишили покоя. Вот и фрау Рифельт получила от них такое письмо. Потом, когда Петер стал учеником столяра, он смастерил небольшой сундучок, и они, сложив в него обесцененные в те годы деньги вместе с разноцветными камешками Эрны, замуровали сундучок в стену. Это было прощание с детством и с играми.
Аннемари слушала столяра Мора с раскрасневшимся лицом. Я незаметно обменялся с ней взглядом. Мы ведь тоже не раз разыгрывали подобные шутки.
Жена столяра сварила какао и рассказала нам о своих детских проделках. Она наверняка могла бы стать нашей подружкой, когда была лет на тридцать моложе. Мы бы, уж точно, взяли их обоих в свою компанию. Мы тоже рассказали им про всякие наши приключения. Только вечером мы отправились домой.
— Ничего не вышло с механической пилой, — скучным голосом сказал Гансик.
— Завтра утром возьмёмся…
— А может, когда-нибудь мы и найдём настоящий клад…
Мне было очень досадно. Мало того, что такая чепуха часто снится, а потом просыпаешься ни с чем, так ещё и наяву это вышло.
— Жалко мою машину для вязания, — грустно сказала Аннемари.
Фриц ничего не сказал.
— Ха, — Гансик вдруг даже подпрыгнул от радости, — ведь Фриц должен зайти за вафлями с кремом! Он и сдачу там получит. Тогда у нас хоть что-нибудь да будет! Эта продавщица, видно, ничего не заметила…
Фриц сплюнул сквозь зубы.
— Как бы не так! Она разорвала эту бумажку. А меня выругала!
— Так почему же ты сразу не сказал?
— А что мне было портить вам настроение? Я думал, если эти камни и вправду драгоценные, плевали мы на дурацкие бумажки!
Мы помчались со всех ног к дровам, где спрятали клад. Все мы злились. Мы выбросили всю бумагу из сундука и подожгли её. Всё сгорело. И сундук тоже. Весь обман сгорел. Мы глядели на огонь молча, один Гансик ворчал.
— Вот бы туда бросить и все дрова, чтобы они тоже сгорели! Тогда бы их хоть не было! Чародей и Астарта! Ерунда какая!.. Надо же!
Он швырнул в огонь домик № 7. Даже искры взлетели! Зелёная краска затрещала.
Рано утром мы все уже были на месте. Только Аннемари ещё не пришла. Я один взялся за пилу.
— Давай помогу тебе пилить, — сказал Фриц, отложив свой колун. — Сегодня не будем терять ни минуты.
Мы пилили и кололи молча, только опилки да щепки летели. И тут, запыхавшись, прибежала Аннемари. Сперва она вообще не могла выговорить ни слова, даже отдышаться не могла.
— Те-те-те-теве…
— Что случилось?
— Теве Шур! Ну тот, знаменитый! Велогонщик!
— А что с Теве Шуром?
— Теве Шур здесь! Я сама видела, — выговорила наконец Аннемари.
Весть, что Теве Шур где-то поблизости, конечно, взволновала нас всех. Мы со всех ног бросились за Аннемари. Гансик — с топором в руках.
— Где он?
— В «Золотом медведе». Он как раз из окна выглядывал.
— А дрова? — спросил я.
— Да мы всего минут пять потеряем! — Гансик заклинающе поднял топор.
Три минуты спустя мы уже глядели через окна «Золотого медведя» в зал. Но увидеть нам ничего не удалось.
— Подождём, — сказала Аннемари, — я хочу взять у него автограф!
— И я тоже!
— Войдём?
— А если он как раз завтракает?
— Значит, надо ждать.
Гансик переложил топор из руки в руку. Фриц вырвал из своей записной книжки несколько листочков и раздал нам всем для автографов.
Мы ждали примерно с полчаса. Гансик прислонил свой топор к стене. Кто что знал про Теве Шура, рассказал уже по три раза. Больше рассказывать было нечего.
— Надо поразведать там, в зале.
Аннемари тут же поднялась:
— Прямо вот так взять да и войти?
— А ты спроси что-нибудь, — сказал Фриц.
— Что?
— Ну спроси хоть, здесь ли остановился господин Майер, — сказал я.
— Какой ещё господин Майер? — удивился Гансик.
— Да просто первый попавшийся господин Майер. Ну, скажем, из Трептова.
Аннемари смело вошла в гостиницу. Она вообще бесстрашная. Но вышла она очень скоро.
— Да, здесь и в самом деле остановился какой-то Майер. Но Теве там не видно.
После Аннемари решился войти я. Человек в зелёном фартуке обошёлся со мной очень нелюбезно. Он предложил мне выйти на улицу.
— Господин Майер, господин Майер… Этих Майеров знаешь сколько!
Фриц и Гансик тоже вызвались пойти поразнюхать. Один вслед за другим они втирались в зал и спрашивали ещё про каких-то людей, никому из нас не знакомых.
Никакого Теве там не было.
Время от времени кто-нибудь из постояльцев выходил из гостиницы и поспешно шёл своим путём. Фриц предложил уйти и приступить к работе.
Но Аннемари настаивала на своем:
— Сперва автограф, а потом дрова!
— Теве Шур! Не так-то скоро мы его ещё раз поймаем! — сказал Гансик.
Мы попытались прокрасться по лестнице наверх, но человек в зелёном фартуке шуганул нас. Какая-то девушка в белой наколке и с подносом в руках шла по коридору нам навстречу. Она поглядела на нас вполне дружелюбно.
— Теве Шур ещё здесь? — спросили мы, чтобы выяснить положение.
— Вот его завтрак, — официантка весело подмигнула. Она поставила поднос в большой ящик рядом с лестницей и нажала на кнопку. Ящик медленно пополз вверх.
Глухой голос спросил через клетку лифта:
— В семнадцатый?
— Да, — ответила она, улыбаясь нам, — для Теве Шура!
Как только она исчезла за дверью зала, мы очутились возле лифта, поднимающего подносы с едой. Мы сгорали от любопытства. Ящик тем временем с грохотом спустился вниз. У меня вдруг словно лихорадка какая-то началась от нетерпения.
— Я еду наверх, — сказал я и бесстрашно залез в ящик. — Нажимай!
В ящике я свернулся калачиком и кое-как уместился.
— Ну давай!
— Второй этаж, — услышал я голос Аннемари.
Мой ящик тряхнуло, и я стал с грохотом подниматься ввысь. Белые стены так и мелькали. Я почувствовал что-то вроде страха. А вдруг ящик застрянет? Вдруг наверху меня кто-нибудь схватит?
Снова толчок, и мой лифт остановился. Я прислушался, потом приоткрыл крышку и поскорее выбрался из ящика. Коридор покрыт красной дорожкой — своих собственных шагов и то не услышишь. Слева и справа двери: № 13, № 15, № 17… Вот она, дверь Теве Шура! Да не выгонит он меня! Нет, Теве меня не выгонит! Я поднял руку, чтобы постучать. Но тут какой-то человек — да ведь это опять тот самый, в зелёном фартуке! — схватил меня за шиворот. Я и не слышал, как он подошёл…
— Ну-ка выметайся отсюда, голубчик! Что ты здесь потерял? А то, может, спустить тебя вниз на парашюте?
Он разглядывал меня с подозрением. На мне был старый рваный костюм, который я надел, чтобы колоть дрова, и я наверняка смахивал на главаря какой-то шайки.
— Я, я, я… ищу господина Майера, — пробормотал я в растерянности.
— Вашего господина Майера кошка съела! Смотри, как бы и тебя не съела! А ну-ка выметайся!
Я быстро сбежал вниз по лестнице. Фриц и Аннемари взволнованно махали мне, указывая на лифт:
— Он застрял!
— Кто? Гансик?
— Ну да! Он хотел за тобой подняться!
Перед дверью гостиницы остановилась машина — «Продукты и полуфабрикаты». Нам пришлось поскорее ретироваться. В дверь уже вносили подносы с печеньем, машина отъехала. Только машина отъехала, мы снова вернулись к ящику. Фриц держал топор Гансика. Мы нажимали одну кнопку за другой, что-то трещало, но Гансик всё не спускался с неба. На лестнице послышались шаги. Мы спрятались и стали прислушиваться. Появился дух дома в зелёном фартуке и направился в зал, ворча:
— Проклятый ящик! Опять объявил забастовку!
Вот страх-то! Мы бросились к ящику и стали дёргать за все тросы. Дёргали и кричали:
— Гансик!
— Что? — жалобно отзывалось в люке подъёмника.
— Потянем все вместе! Давай! — сказал я.
— Раз-два!.. Раз-два!..
Вдруг тросы сдались. Со страшным шумом лифт пошёл вниз и чуть не свалился нам на голову. Мы вытащили Гансика из ящика и бросились вон из гостиницы. Дверь вслед за нами распахнулась, но мы уже были далеко.
Я рассказал ребятам, как я подошёл к самой двери Теве. Если бы не этот зелёный дух, я бы, уж точно, вошёл в комнату. И снова мы торчали возле гостиницы и в который раз подробно рассматривали машину марки «ИФА», стоявшую перед входом.
— Может быть, это машина Теве?
— Вполне возможно!
Вышла официантка и протянула нам монету.
— Купите в киоске газету для Теве Шура, — она снова весело подмигнула.
Мы бросились бегом к киоску. Купили газету и, сложившись, приобрели на все имевшиеся у нас деньги четыре открытки с фотографией Теве Шура — для автографов. Потом помчались назад и, счастливые, взлетели вверх по лестнице. «Порядок», — подумал я. Но зелёный дух был уже тут как тут. Он остановил нас.
— Сейчас я, чёрт возьми, вызову полицию! Смотрите, не попадайтесь мне больше на глаза!
— Мы принесли газету в семнадцатый номер, — пробормотал я.
Он взял газету у меня из рук и, отогнав нас к лестнице, постучал в дверь № 17. Мы смотрели через перила — дверь приоткрылась. И через щёлку мы увидели человека, ради которого бросили дрова и всё утро топтались здесь, возле гостиницы, пережив столько злоключений.
Немного успокоившись, мы снова вернулись на свой пост перед входом. Теперь он скоро выйдет!
И наконец он вышел. Как истинный спортсмен, он прыгал через несколько ступенек, и на душе у нас стало радостно: всё-таки мы его увидели, нашего любимого чемпиона Теве!
— До свидания, Теве Шур! — крикнул ему зелёный дух дома.
Они кивнули друг другу и рассмеялись. Теве был, как видно, в отличном настроении.
Мы стояли возле машины, и Теве нас тут же заметил.
— Ты что — дровосек? — спросил он Гансика: тот держал топор на плече.
— Я… — пробормотал Гансик. — Мы уже три дня… дрова колем…
— Чёрт возьми! — рассмеялся Теве. — Небось целую гору накололи?
Мы смотрели друг на друга в растерянности. Гансик хотел было что-то ответить, но ничего такого не пришло ему в голову.
— Потихоньку-полегоньку… — пробормотал он.
Теве рывком открыл дверцу синей машины.
— Я еду в Шульценбург, к обеду вернусь. Хотите со мной? У вас ведь каникулы?
Ещё бы! Мы влезли в машину и расположились на сиденьях. Теве взялся за руль, машина тронулась. Зелёный дух дома вынырнул было из двери, но Гансик состроил ему рожу. Мы болтали, перебивая друг друга. Теве беседовал с нами про наши каникулы, а за стеклом машины мелькали улицы.
Мы подталкивали друг друга: «Ну давай, ребята!»
— Вы нам дадите автограф? — спросила Аннемари.
Каждый держал наготове фотографию. Ведь не зря же мы столько вытерпели!
— Да вы что! — хмуро сказал Теве. — Я не даю автографов.
Как же так? У Антона Байсера в нашем классе есть автограф Теве, и все ему завидуют. Почему же нам он не хочет дать автографа?
— А вот у Антона Байсера есть, — сказал Гансик, но Теве перебил его:
— Чепуха. Никаких автографов!
Мы умолкли. Машина летела вперёд.
Я поймал взгляд Аннемари, сидевшей впереди, рядом с водителем. Она делала мне какие-то странные знаки — показывала пальцем на фотографию, а головой кивала в сторону Теве, но так, чтобы он ничего не заметил.
Что бы это могло значить? Я поглядел на фотографию, которую держал в руке.
— Когда следующие велогонки? — спросил Гансик.
— Я не участвую в гонках, — ответил наш водитель. С улыбкой он глядел вперёд, на дорогу, — мы уже выехали на шоссе. Он переключил скорость на восемьдесят километров.
Мы внимательно смотрели на нашего водителя. Что хотела сказать мне Аннемари? Она и сейчас делала какие-то отчаянные знаки.
Тут Фриц толкнул меня в бок и шепнул:
— Это никакой не Теве Шур!
Мы здорово испугались. И в самом деле, Теве Шур выглядел на фотографии почти точно так же, как этот человек, только моложе. Это был не он! Гансик нагнулся за топором, лежавшим на полу машины, и показал нам на приоткрытый портфель, который стоял тут же. Бутылки с водкой!
У Теве Шура бутылки с водкой! Исключено! Может быть, этот человек обманщик, авантюрист?
Аннемари заметила, что мы наконец-то поняли её знаки.
— Стой! — крикнула она громко. — Стой!
Человек за рулём изумлённо поглядел на Аннемари и поехал медленнее.
— Что случилось? — спросил он хмуро.
— Остановитесь! — заорал Гансик, размахивая топором. — Остановитесь, а то я стёкла разобью!
Водитель резко затормозил и сердито раскрыл дверцу. Мы выпрыгнули из машины и вздохнули с облегчением.
— Вы обманщик! — крикнул я в бешенстве. — Никакой вы не Теве Шур! Сейчас же отвезите нас назад!
— Ах вы сопляки несчастные! Ещё хамят! Бегите, если хотите, домой, — ответил водитель и рванул вперёд с жуткой скоростью.
Мы с возмущением глядели ему вслед.
— Номер машины! — крикнул я. — Никто не заметил номер машины!
Нет, Гансик его запомнил: «ИА 14–56».
— Ну погоди, голубчик, — погрозила Аннемари кулаком скрывшейся из виду машине. — Скоро тебя изловят, «ИА 14–56»!
Мы стали обсуждать происшествие.
— Настоящий преступник, аферист!
— А почему он выдаёт себя за Теве Шура?
— Мошенник! Теперь он, точно, попадёт в тюрьму!
Мы стояли посреди шоссе, и нам не оставалось ничего другого, как идти пешком. Автостоп? Нет, не пойдёт. Если четверо ребят поднимут руку, чтобы остановить машину, наверняка никто не остановится. А как увидят наши лохмотья, и вообще решат, что мы бродяги с большой дороги. И мы двинулись пешком. Гансик первый начал скулить — топор отдавил ему плечо. Мы решили нести его по очереди. Трудно себе представить, каким тяжёлым становится топор, когда его тащишь десять минут. Потом стала жаловаться Аннемари. Она надела для работы старые шлёпанцы, да ещё не свои. Они болтались у неё на ногах и тёрли — она хромала.
Я тоже надел старые полуботинки, они были мне малы и жали. В кислом настроении мы плелись по дороге. Фриц попробовал было запеть «Мы, ребята, лесорубы», но все заорали, чтобы он заткнулся. Вскоре и сам он стал мрачнее тучи.
— В тюрьму! — сердито ворчал Гансик. — На каторгу — вот куда надо этого жулика! Смотрите! — он показал нам свои стёртые пятки. — Я ещё натравлю на него «Управление по делам молодёжи»! И вообще я падаю с ног от голода. А во всём проклятые дрова виноваты!..
Часа в два мы пришли на нашу улицу — усталые, голодные, злые как черти.
— Я помираю с голоду, — ворчал Гансик, — но сперва надо отправить этого бандита в тюрьму!
В участке нас встретили с удивлением. Там дядя Фрица работает — он в народной полиции.
— На кого вы похожи!
Мы рассказали, путаясь и перебивая друг друга, про наше столкновение с этим типом. А ещё выдавал себя за Теве Шура!
— Ну и дела! — сказал полицейский. — Что ж, надо в этом разобраться.
Он позвонил в «Золотой медведь» и попросил к телефону директора.
— У вас был постоялец, называвший себя Теве Шуром?
Он помолчал, слушая ответ. Потом что-то пробормотал, играя авторучкой. Мы от волнения глотали слюну.
— Эрвин Майер его настоящее имя? — спросил полицейский и поглядел на нас как-то чудно. — Спасибо!
Мы торжествовали.
Он положил трубку. На лице его играла улыбка.
— Ну, ребятки, вы промахнулись, — сказал он мягко, по-дружески. — Но такое и с нами случается. Бывает. Этого человека зовут Эрвин Майер, он разъезжает от спиртового завода, развозит образцы водки. Директор знает его давно…
— Но ведь он называет себя Теве Шуром! — перебили мы его с возмущением.
— В тюрьму его надо! — крикнул Гансик. — Поглядите вот на мои пятки!
Его пятки и в самом деле были стёрты до крови.
— Это его прозвище, — успокоил нас полицейский. — Все называют его Теве Шуром, потому что он очень похож на знаменитого велогонщика. Что он тут может поделать? А вы попались на удочку…
Гансик даже побледнел. Он не мог произнести ни слова.
— Уж придётся вам, как это говорят, делать хорошую мину при плохой игре, — посоветовал дядя Фрица. — Ничего вы такого не пропустили! У вас ведь каникулы.
— Ну да, не пропустили!.. — крикнул Гансик. — А дрова!
— Какие дрова?
Фриц рассказал своему дяде, что мы вот уже третий день подряд ввязываемся в какие-то приключения, вместо того чтобы колоть дрова. И всякий раз — пустой номер! Как заколдовано!
— А послезавтра в школу идти, — заключил Гансик. — И опять до самого рождества дома будут нудить, что на меня нельзя положиться. Отец меня вечно пилит…
— Но ведь у вас ещё целый день свободный!
— Да, а дров-то… Во-от такая гора! — простонал Гансик. — А тут ещё пятки!..
— А вы возьмите да покажите, на что вы способны!
Разочарованные, мы покинули полицейский участок.
— А если устроить ночную смену? — сказал Гансик с досадой. — Тогда, пожалуй, дровам непоздоровится!
— Золотые слова! — одобрил Фриц. — Когда начинаем?
— Прямо сегодня!
— Ладно, придём через час!
И мы захромали домой — подкрепиться.
До вечера, до самой темноты мы пилили, кололи, пилили, кололи — всё молча. Когда стемнело, большая гора дров заметно уменьшилась, а маленькая заметно увеличилась.
— Спокойной ночи, — сказали мы друг другу, когда было уже совсем темно. — До утра!
Рано утром я пришёл к Гансику во двор. Было всего несколько минут восьмого, но Гансика я застал уже за работой. В половине восьмого во дворе звенела пила и ухал топор, как на лесоповале в лесу. К полудню от большой горы осталась только маленькая горка. А маленькая гора превратилась в большую. Когда начало темнеть, мы с Аннемари подняли у стены последнее бревно, чтобы положить его на козлы.
Что это? Смотри! Ёжик!
Он быстро пробежал мимо нас. От изумления мы застыли на месте. С бревном в руках. Мы пришли в себя, только когда увидели, что он мчится вдоль забора прямо к дыре.
— Побежали за ним!
— Держи его!
Нет, слишком поздно. Ёжик нырнул в дыру. Мы глядели ему вслед. Он бежал к противоположному забору сада.
— Лови его, Пауль! — крикнула Аннемари. Но забор на той стороне сада был с колючей проволокой.
— Некогда, — сказал я, — давайте дальше!
В первый школьный день учитель Юхт объявил нам после третьего урока:
— Наш класс сегодня после занятий собирает урожай груш на пришкольном участке. Кто пойдёт?
Раздался такой шорох, словно пролетела ракета — так быстро поднял руки весь класс. Только у нас четверых не взлетели руки с парт.
— Вы не идёте? — удивился учитель Юхт. — Даже Гансик не идет?
Но Гансик печально ответил:
— Я-то и рад бы, да руки поднять не могу…
АННЕМАРИ И КАПИТАН (Восьмой класс)
— И как это вас угораздило? — сказал учитель Юхт.
Он оставил нас четверых после уроков в кабинете физики.
Мы удручённо молчали. Было ясно, что на этот раз мы влипли.
Гансик тяжело вздохнул, пожал плечами и поиграл с магнето, стоявшим на столе для опытов.
— Аннемари… — сказал он, покосившись на Аннемари.
По виду Аннемари никак нельзя было сказать, что она сильно раскаивается.
— Прекрати! — одёрнул я Гансика. — «Аннемари, Аннемари»!..
Этот трус решил всё спихнуть на Аннемари.
— Ерунда, — поддержал меня Фриц, — все мы виноваты! Ну и что же, что Аннемари… ведь мы-то…
— А ещё виноват случай! — подхватила Аннемари с лукавой улыбкой. — Почему это Фриц получил вдруг травму?
— Ну да, — обрадовался я, — конечно, случай! Почему это я как раз был в ссоре с Аннемари? Я бы наверняка вмешался.
— А больше всех виноват наш учитель Юхт. Почему это он как раз в тот день заболел? — строго спросил Гансик. — Ничего бы и не случилось, если бы он был в школе и на поле!
Мы рассмеялись, хотя нам было не до смеха. И учитель Юхт тоже рассмеялся. А ведь Гансик-то прав!
Вся эта неразбериха началась за неделю до футбольного матча с командой школы имени Гейне. Матч должен был решить, кто из нас выйдет в чемпионы района. Наши ребята просто на голове ходили от радости и здорово задирали нос. Я, капитан команды, играл центра нападения. Гансик стоял насмерть перед воротами — он был защитником. Но главный наш козырь был непревзойдённый вратарь Фриц.
Наш тренер Макс из «Динамо» показал нам несколько тонких приёмов. Удар по мячу, например, должен приходиться чуть-чуть пониже середины. Макс даже мелом черту рисовал и натаскивал нас на это. Мы чувствовали себя довольно уверенно. В общем, всё шло нормально. Но тут я, что называется, малость зарвался.
В один прекрасный день я зашёл за книгой к Аннемари и не застал её дома.
— Да ты пойди сам возьми, Пауль, — сказала мне её мать.
Я поднялся по лесенке в мансарду и взял с полки книгу. Случайно мой взгляд упал на кукол Аннемари. Они сидели на игрушечном столике — пережитки детства. У меня появилось какое-то дурацкое чувство, что слишком уж нахально они на меня глазеют. Особенно одна, в розовом платье и шляпке с цветочками. Я даже язык ей высунул. Лохматая кукла-мальчик и облезлый мишка, и маленький голышок вели себя ещё довольно прилично. Но эта дама в розовом явно глядела на меня с наглой улыбкой. Она просто насмехалась. Во всяком случае, такое у меня было впечатление.
И это уже не в первый раз. Так бывало и раньше, когда мы тут наверху играли и занимались, а Гоппи стоял караулил и лаял в случае надобности.
— Эй ты, Роземунда, Туснельда или как тебя там, — сказал я, — чего глаза вытаращила? Учти, я — капитан!
Поскольку она не удостоила меня ответом, я вынул из ящика стола цветные карандаши Аннемари и подрисовал ей коричневые усы. И синий нос. Получилось очень смешно. Я посмеялся, а потом ещё накрасил ей губы лиловым. Потом навёл брови зелёным и установил, что теперь она ведёт себя далеко не так нахально, как раньше. Ещё я добавил кружочки на щёчки, а потом отпустил её на место.
— И запомни, — сказал я, — на капитана так нагло не глазеют!
Я сбежал вниз по лестнице с мансарды весьма довольный собою и помчался домой. А дома весь вечер читал — происшествие с куклами было забыто. Утром в школе я хотел было поздороваться с Аннемари, но она повернулась ко мне спиной и стала разговаривать с Фрицем. Я стоял в сторонке один. Потом подошёл Гансик. Он, как всегда, жевал — откусывал то от яблока, то от бутерброда.
— Поссорились, — сказал я важно.
Гансик на мгновение перестал жевать.
— С Фрицем?
— С Аннемари.
— Из-за чего?
Мне вспомнилась наглая Роземунда. Я громко рассмеялся и рассказал про неё Гансику.
— Выходит, она до сих пор ещё в куклы играет? — усмехнулся он.
— Да ты что? Они просто так у неё там сидят!
Исподтишка я наблюдал за Аннемари и Фрицем.
Он то и дело посматривал на нас. А она с гордым видом глядела в потолок. Как принцесса. Видно, он был уже на её стороне. Поэтому я решил перетянуть Гансика на свою. Да это совсем и не трудно — он всегда ко мне пришвартовывается.
На первой перемене меня вдруг окружили девчонки из младших классов. И давай прыгать вокруг меня и выкрикивать:
— Кукломаз! Кукломаз! Кукломаз!
Я взбесился, а они орут ещё громче — крик стоит невероятный, народ собирается. И тут я сделал жуткую глупость — поймал двоих и каждой дал раза. А одна из них ещё оказалась младшей сестрёнкой Аннемари.
Ну, а уж это дело известное: если кого-нибудь шлёпнешь, хоть и слегка, тут-то всё и начинается! Где бы я ни появился, девчонки теперь орали:
— Кукломаз!
И при этом нагло хихикали — точь-в-точь как Роземунда на кукольном столике.
А тут ещё Фриц подходит и говорит с угрозой:
— Ты почему девчонок лупишь?
— Могу и тебя отлупить.
— Давай начинай!
Мы уже стояли друг против друга, как петухи, готовые к бою, но тут учитель Юхт услыхал наш боевой клич и вмешался:
— Что тут происходит?
— Ничего, ничего! — ухмыльнулся Гансик и сделал ему ручкой: — Так, детские шутки!
Школьный двор замелькал у меня перед глазами — такое бешенство меня охватило. Я расхохотался.
— Кукломаз! — кричали девчонки. Теперь это была у них развесёлая игра.
Когда я вошёл в класс, на доске было написано:
«Капитан Пауль размалёвывает кукол и бьёт маленьких девочек!»
Почерк Аннемари. Мне пришлось самому стирать это тряпкой, потому что я был дежурный. Не хватало ещё, чтобы учитель увидел.
На каждом уроке я принимал твёрдое решение: «На этой переменке я к ней подойду. Поговорю, как мужчина с мужчиной, и всё будет о'кей». Но с каждой переменкой дело шло всё хуже и хуже: девчонки дразнились, я подначивал Гансика, Аннемари меня не замечала.
На большой перемене мне до того было тошно — будто в горле какой-то ком застрял. Но я независимо улыбался и делал вид, что выкрики девчонок меня вообще не касаются. С Аннемари я был груб и развязен.
Сегодня же после школы напишу ей письмо, решил я и немного успокоился.
— Что это у тебя вид такой сердитый? — спросила меня мама. — Что-нибудь случилось?
— Да нет, ничего. Думаешь, у капитана футбольной команды мало забот перед финалом?
— А кто выиграет?
— Мы.
— Тогда тебе надо бы смеяться, а ты ходишь как в воду опущенный. Лицо — будто кислятины наелся.
Я сделал попытку улыбнуться, чтобы мама ничего не заметила. Но настроение у меня и вправду было весьма кислое.
Пять раз я принимался писать письмо и снова рвал его — всё в нём было не так: то слишком грубо, то слишком мягко, то вообще ерунда какая-то. Настоящее дружеское письмо никак не получалось. То, что я думал на самом деле, я написать не мог. И я злился на себя всё больше и больше. Вот тут-то и пришёл Гансик.
— У меня есть подарочек для «Принцессы», — сказал он и показал мне маленькую фарфоровую куколку — наверное, у сестры стащил. — Давай пошлём ей по почте!
Куколка была без одежды, а потому мы подрисовали ей фантастический наряд, размалевали лицо, будто она клоун, привязали на ручки и ножки разноцветные бантики и положили её в коробочку.
— Нужно ещё письмо написать, — сказал Гансик, — знаешь, такое, с подковыркой!
Я написал нахальное, глупое письмо и положил его в коробку. Сердце у меня билось сильнее обычного — я и сам понимал, как плохо поступаю. Но остановиться всё равно уже не мог.
Мы надписали адрес, потом написали кому:
«Фрейлейн Аннемари».
Уходя, Гансик взял коробку с собой, чтобы отправить бандеролью.
Как только я остался один, мне стало стыдно, что я так и не нашёл никаких хороших слов для Аннемари. Я побежал догонять Гансика, но он уже сдал бандероль в окошко почты.
— А зачем тебе опять понадобилась коробка?
— Да так. Мне ещё там кое-что смешное в голову пришло, — сказал я с кривой усмешкой. — Пусть не воображает…
Всё мне опротивело. Фриц вообще со мной не разговаривал, а с Аннемари разговаривал слишком уж весело. На тренировке на другой день она стояла за его воротами, а меня словно и вовсе не замечала. Что бы я ни делал — играл головой, отнимал мяч, забивал гол — ноль внимания. Под конец я просто не выдержал — подошёл поближе, твёрдо решив заговорить с ней. Я совершенно точно решил с ней заговорить! Но тут она повернулась ко мне спиной и протянула Фрицу большое яблоко.
— Пора тебе, капитан, извиниться перед Аннемари, — бросил мне Фриц через плечо.
Они, смеясь и болтая, покинули поле. Я готов был сам себя отлупить от злости.
«Да, — думал я, — без радости человек жить не может. Сегодня же вечером пойду к ней. Но и она могла бы держаться не так уж неприступно. Всё-таки я её старый друг и вообще капитан команды. Неужели она всё, всё забыла?»
Я бы и поверить не мог, что она умеет смотреть так презрительно и равнодушно. Словно холодным душем обдает.
— Воображала, и всё тут! — бубнил Гансик. — Девчонки — они все такие!
Но на этот раз я собрался с духом и возразил ему.
Гансик тут же со мной согласился.
— Ну да, вообще-то она, конечно, исключение, но в данном случае…
Дома мне сказали, что пришла бандероль. «Господину такому-то». Я сразу узнал прямой красивый почерк Аннемари. Гансик точно так же, как и я, умирал от нетерпения. В посылке оказалась всё та же фарфоровая куколка. Бантики на её руках и ногах были изрезаны в конфетти. Мое письмо, разорванное на мелкие кусочки, лежало тут же.
— Ну вот, сам видишь, — презрительно хмыкнул Гансик, — все они такие. Воображалы!
А ещё мы нашли там записочку:
«Не ходи надутый, как индюк, а то лопнешь!»
И тут я принял решение: играть в финале так, чтобы обо мне заговорил весь город. Уж тогда-то…
Наш «Союз четырёх» распался.
Мы с Аннемари проходили друг мимо друга, не замечая друг друга.
— Ты что, поссорился с Аннемари? — спросила меня мама. — Почему она к нам не заходит?
Мама её любит.
Я скрыл моё огорчение и сухо ответил:
— Да я её и видеть-то не хочу… Глупа, да ещё воображает!
— Нет, вы только послушайте! — сказала мама с какой-то странной улыбкой. Неужели она меня раскусила? — К девочкам надо относиться по-рыцарски!
Я готов был разреветься. Но я утешал себя мыслью о финале: вот я вам всем покажу, на что я способен! Каждое утро я ощупывал мускулы, подтягивался, прыгал… Я был в форме как никогда. Я заметил, что Фриц поглядывает на меня с удивлением. Но он не говорил ни слова. Он тренировался в прыжке за мячом, летящим в ворота, и был тоже в великолепной форме.
Наконец наступил долгожданный день.
И как раз в этот день учитель Юхт не пришёл в школу. Так что нашей команде пришлось выходить на поле без всякой моральной поддержки. Как только мы вышли, я сразу заметил, что Аннемари стоит неподалёку от Фрица за нашими воротами, а не как обычно, напротив центра, где играю я.
«После матча я с ней поговорю. По-настоящему, как друг», — поклялся я сам себе. Она не удостоила меня ни единым взглядом.
Мы сразу заметили, что у команды школы имени Гейне хороший тренер. В первые же минуты игры они трижды молниеносно пробились к воротам. Долговязый центральный нападающий был новичком у них в команде. Он играл с бешеным натиском и довольно грубо. Но Фриц ловил все мячи. Ребята и девчонки из нашей школы поддерживали его аплодисментами и выкриками. Аннемари один раз даже пожала ему руку через сетку. Она — вратарь гандбольной команды нашей школы и чуть ли не лучше Фрица защищает ворота.
На десятой минуте я забил первый гол.
Вне себя от радости мы помчались назад, к центру поля. Такое преимущество в начале игры здорово вдохновляет. Я покосился на Аннемари. Она не обращала на меня внимания.
«Ну погоди! — думал я. — После пятого гола ты изменишь своё отношение!»
Но уже через несколько минут счёт сравнялся. На табло стояло: 1:1. На этот раз ликовала команда школы имени Гейне.
Обернувшись назад, я увидел, что Фриц массирует правую ногу. Я испугался. Если сейчас он не выложится до конца, мы пропали.
Капитан должен держать в поле зрения всю команду, предвидеть все возможности.
Оказавшись поблизости от ворот, я негромко спросил:
— Эй, Фриц! Что с коленкой?
Он пожал плечами, но я видел по его лицу, что с ним творится что-то неладное.
Главное, чтобы никто из команды этого не заметил — такое может ослабить силу натиска. Я сделал знак защитнику Гансику: «Внимание!» Он понял меня, и я уже мчался дальше.
Мяч попал мне под ноги. Я погнал его вперёд, обыграл нападающего, полузащитника и защитника, обошёл вратаря и забил мяч в ворота. Зрители ревели от восторга.
Ну, а Аннемари? Её это, видно, не волновало. Но Фриц радовался.
Теперь на табло стояло: 2:1. В нашу пользу.
За пять минут до конца первого тайма Длинный, нападающий школы имени Гейне, сравнял счет: 2:2. Когда Фриц поднялся, я точно заметил, что он хромает. Он говорил с Аннемари. Выражение лица у неё было озабоченное.
За несколько секунд до конца тайма Фриц пропустил мяч, который моя кошка и то взяла бы. Фриц хромал! Молча мы отошли к центру поля, и тут раздался свисток судьи.
Фриц ковылял. Я подбежал и подставил ему плечо.
— Что с тобой, Фриц? — с тревогой спросил я.
— Колено, — сказал он. — Дело скверное — боюсь, не потяну… Но ты сегодня в блеске, Пауль!
Я покраснел от гордости.
— Ты тоже, Фриц. Но потом вдруг что-то случилось, да?
— Я в самом начале как-то неловко упал на колено, — с убитым видом сказал Фриц. — Пожалуй… — Он замолчал.
— Что «пожалуй»? — спросил я, предчувствуя самое худшее.
— Пожалуй, мне больше незачем выходить на поле. Слабак на воротах против Длинного — это потерянная игра. — Он нахмурился: не от боли — от злости, конечно, и тихо добавил: — Они уже заметили…
В раздевалке наша команда встретила нас молчанием. Кто сидел, кто лежал, отдыхая после игры, все словно пришибленные. Правильно поняли положение.
— Позови Калле Бергера! — сказал я Гейнцу Вайсману, когда он принёс нам лимонад. (Гейнц сам не играет, но знает все команды Европы и почти всех игроков.)
— Есть, капитан! — Он бросился бегом выполнять команду.
Калле Бергер, вратарь седьмого «А», проворный малый, размышлял я, только вот тренировки ему не хватает. И всё-таки он неплохо стоит на воротах. Годика через два из него выйдет вратарь не хуже Фрица. Но нам-то нужен сегодня хороший вратарь против этого Длинного. И кроме того, Калле слишком мал ростом.
— Калле Бергер? Слабоват! — вздохнул Иохен Патцер. Он вместе с Гансиком играет в защите. Да и по толщине они с Гансиком — два сапога пара.
— У кого есть лучшее предложение? — спросил я. Капитан должен не просто командовать.
Началось обсуждение. Результат был такой: Калле Бергер слаб против нападения школы имени Гейне. Однако другого решения нет. Нам придётся не отходить от наших ворот, но в какой-то момент по знаку капитана попробовать прорваться вперёд.
— Как вытащу платок из кармана — значит, пора, — объяснил я команде, — тут уж давай на всю катушку!..
— Тише! — ребята показали на дверь. — Там…
Кто-то вошёл к нам в раздевалку. Незнакомый мальчишка в спортивном костюме. Мы замолчали. Я обернулся к этому парню и спросил:
— Тебе чего?
Слова застряли у меня в горле. Передо мной стояла Аннемари, одетая в спортивную форму — трусы и свитер. На голове кепочка, под которую она спрятала косы. Щека и подбородок в грязи.
— Я стою на воротах, — спокойно сказала она, обращаясь к Фрицу; ко мне она повернулась спиной.
Все вскочили и окружили Аннемари.
У меня дух захватило — так потрясла меня эта весть.
Аннемари на воротах! Значит, мы выиграли!
Я видел по лицам ребят, что у всех только это на уме. Гансик, предатель, прямо чуть не спятил от радости.
— Та команда ничего не заметит! — ликовал он. — А наши не выдадут! Мы все «за»!
Так-то оно так. Но ведь капитан-то я. Я сделал строгое лицо, подошёл к окну и стал глядеть на улицу, словно бы принимая решение. На самом деле я был ошарашен и растерян.
— Вот и капитан не возражает! — крикнул Гансик. — Пошли ребята, продолжаем игру!
Ребята вместе с Аннемари побежали на поле. В раздевалке остались только мы с Фрицем.
— Это ведь липа, — сказал я. — А если всё раскроется?
— Не раскроется! — ответил Фриц. — Наши будут молчать, а те ничего не заметят. Но по-моему, это не дело. Аннемари ведь девочка!
— Что же ты молчал? — разгорячился я. — Я думал, я один только против!
Фриц растирал коленку.
— Ты капитан, а ты… так ничего и не сказал!
— Фриц, мы ведь будем опять с тобой дружить, правда?
В эту минуту мне стало ясно, что я не могу больше жить с ним в разладе.
— А Аннемари? — Он глядел на меня с вызовом, требуя ответа.
Я рассердился:
— «Аннемари»! Ты же видишь, как она ведёт себя со мной — в упор не видит!
— Куда ты пропал? — крикнул Гансик.
Он прибежал за мной, чтобы я поскорее выходил на поле. Мы бросились бегом. Фриц, ковыляя, шёл сзади.
— Желаю удачи! — крикнул он нам вдогонку. Не слишком весело.
— Спасибо, — ответил я.
Но думал я только об одном: если это раскроется, мы опозорены. Надо мне было протестовать…
— Теперь ничего не поделаешь, она уже на поле, — угадал мои мысли этот предатель Гансик. — Твоё дело нападать! Жмите вовсю! О воротах можешь не беспокоиться. Не пропустим!
И это говорит он. А кто всегда подначивал меня против Аннемари? Ну хитёр!
По рядам зрителей пробежал шёпот:
— Вратаря сменили!
Наши болельщики узнали Аннемари. Они шушукались. Аннемари у нас в школе все знают и любят — она вратарь гандбольной команды.
Ладно! Аннемари меня не спросила. Так пусть же она узнает, кто тут капитан! На табло стоит 3:2 — в пользу противника. Но скоро эти цифры уступят место другим!
Второй тайм начался. Я ввёл мяч в игру. Пятнадцать минут шла борьба с переменным успехом, потом наш левый нападающий сравнял счёт: 3:3. Аннемари уже дважды с блеском парировала опасный удар. Обе команды просто озверели. Мой противник Длинный вызывал у меня невольное восхищение. Он успевал везде. Но наша полузащита не раз срывала ему наступление. Остальное доделывала Аннемари. Один раз она даже забрала у него мяч, когда он уже обошёл Гансика.
За десять минут до конца игры мы забили гол с углового удара. Команда школы имени Гейне в угрюмом молчании начала с центра. Длинный подал знак своим игрокам: «Сравнять счёт!»
Я решил, что наша команда будет теперь играть в защите. Ведь 4:3 неплохой счёт — мы ведём. И, кивнув друг другу, мы стали укреплять оборону.
И тут случилось нечто невероятное. Я и теперь ещё вспоминаю об этом с ужасом. Гансик в трёх метрах от ворот сыграл рукой. Это был лёгкий мяч. Аннемари взяла бы его одной левой.
Судья дал свисток: «Одиннадцатиметровый удар!»
Я готов был разорвать Гансика.
— В последний раз играешь, — прошипел я ему. Он, пунцовый от стыда, смущённо пожал плечами.
Судья поставил мяч на одиннадцатиметровую отметку.
Команда школы имени Гейне с надеждой глядела на своего Длинного.
Пружиня на журавлиных ногах, он подошёл к мячу.
У меня мелькнула мысль: «Аннемари нельзя брать этот мяч!» Почему девчонки не играют в футбол? Они более нежные и хрупкие. В первый раз мне стало жалко Аннемари за то, что она девчонка.
— Стой! — крикнул я. — Я становлюсь на ворота!
А то, в самом деле, зачем же быть мальчишкой.
— Спятил! — прошипел Гансик, стараясь меня удержать.
— Спокойно! — сказал Фриц, стоявший позади ворот и наблюдавший за этой сценой. Он схватил меня за майку. — Хочешь, чтобы все заметили?
Аннемари сердито взглянула на меня. Её обидела моя попытка.
Длинный пнул носком бутсы землю — один раз, второй. За ним стояла вся его команда. Даже вратарь вышел на середину поля.
— Бей! — крикнул Гансик, покраснев от волнения. — Слышишь, ты, Каланча!
Но тот не дал сбить себя с толку. Он прицеливался с железным спокойствием.
Аннемари, бледная, чуть пригнувшись, стояла в воротах, готовясь к молниеносному прыжку. Я закрыл глаза. Я уже представлял себе, как мяч влетает в ворота.
Длинный ударил по мячу.
Я не видел, как летел мяч, не видел, как прыгнула навстречу ему Аннемари, но я увидел, что она уже лежит на земле возле левой штанги, обхватив мяч руками.
Раздались дружные аплодисменты зрителей. Но только два человека знали, что произойдёт на поле в следующее мгновение, — Аннемари и я.
Гансик и Фриц отпустили меня, и я бросился со всех ног — быстрее я не бегал ни разу в жизни! — к воротам противника. Аннемари умеет бросать мяч, как никто другой из её гандбольной команды. Она не упустит случая закинуть его как можно дальше. Я мчался изо всех сил.
Я рассчитал правильно.
Мяч был высоко в воздухе. И вот он уже падает вниз! Я обогнал их защитника ещё на нашей половине поля. Второй защитник отстал от нас метров на двадцать. Я нёсся к воротам. Их вратарь понял опасность. Для него оставалась только одна возможность — бежать навстречу мячу. Мгновение — и он был уже рядом. Но я обыграл его, ринулся дальше, остановился на линии ворот и сел на мяч, судорожно глотая воздух.
Зрители ревели от восторга. Я поглядел через поле на Аннемари. Она, высоко подняв руки, прыгала от радости с ноги на ногу. «Ага, вот видишь!» — подумал я. Команда школы имени Гейне бросилась ко мне — впереди всех вратарь. Когда он был ещё в полуметре от ворот, я легонько катнул мяч в сетку.
Судья дал свисток: 5:3.
Как я вернулся к центру поля, я и сам не знаю. Через несколько секунд после первого удара раздался свисток — конец игры. Поле вертелось вокруг меня волчком — так я выложился.
Подошли Фриц и Гансик, а с ними Аннемари. Она шагала посередине, они — по бокам. Я подал им знак, что Аннемари надо понести на руках в честь победы.
Ещё и теперь я готов сам себя отхлестать по щекам за эту жуткую глупость.
Аннемари от неожиданности подняла руки вверх, чтобы сохранить равновесие, и при этом задела свою кепочку. Кепка съехала — из-под неё выскользнули косы.
Длинный первый заметил, что они торчат. Он словно окаменел, потом, набрав воздуху в лёгкие, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. За ним стала свистеть вся команда. Все их болельщики тоже свистели. Наши болельщики, только что ликовавшие, сидели с постной миной.
Ну и влипли!
Так что же, выходит, провалились с треском? А может, нет? В комнате Аннемари шли горячие споры.
Учитель Юхт согласился проводить нас в школу имени Гейне для откровенного разговора.
— Расскажите им честно, как всё получилось, — посоветовал он.
— Только просить пощады мы не будем. А стоять на коленях — тем более. Если хотят подать протест — пусть.
— Тогда ещё раз получат по макушке, — мрачно заключил Гансик.
Команда школы имени Гейне ожидала нас вместе со своим учителем в классе. Они молча заняли один ряд парт, мы — другой. Длинный неотрывно глазел на Аннемари. Мне всё время хотелось наступить ему на ногу.
Разговор начал их учитель. Он мне понравился. Примерно того же сорта, что и наш Юхт.
— Что случилось, всем известно. Что вы хотите нам сказать?
Я попросил слова и рассказал, как это вышло. Несколько раз на меня находил приступ заикания.
— Вот как всё получилось, — закончил я. — Это жуткая глупость, но ничего уж такого плохого тут нет. На этом я стою. И если вы хотите подать протест…
Тут Гансик открыл было рот. Он наверняка собирался выкрикнуть что-нибудь похлеще.
Я посмотрел на него, и он промолчал.
— Тогда мы можем сыграть ещё раз, — закончил я.
— Для вас игра проиграна! — крикнул Длинный. Он даже порозовел от злости. — Вы смухлевали!
Я сделал знак своим: «Спокойствие! Не устраивайте цирка! Погодите!»
Слово взял учитель из школы имени Гейне.
— Нам надо найти справедливое решение. — Потом он обратился к Аннемари: — Ты в каком классе?
— В восьмом.
— С этими ребятами?
— Да! — крикнули мы в один голос, и учитель Юхт вместе с нами.
— Ты в первый раз играешь в футбол?
— Да.
— А почему ты раньше никогда не играла?
Аннемари ответила не задумываясь:
— Это не для нас, девочек, мы играем в гандбол.
— Ага! Значит, ты это знала, когда встала на ворота.
Она кивнула.
«Ишь как повернул! — подумал я. — Сперва притворился порядочным, а теперь вон как её обвел!»
— Правильно это было, что ты пошла на такое дело?
— Нет, у меня ведь нет законного права, я не член команды. Но вообще-то я не знаю, почему…
Тут я вскочил.
— Это было правильно, абсолютно правильно с её стороны! Она болеет за свой класс! Но нам надо было спросить согласия у вашей команды. А ещё вернее — отказаться от помощи Аннемари. — И немного потише я добавил: — В первую очередь мне надо было отказаться.
— Кто у вас капитан? — спросил их учитель.
— Я, — ответил я слегка пришибленно.
Он как-то странно покашлял и сказал:
— Ну, и что же дальше?
— А что дальше? — буркнул я хмуро, потому что Длинный глазел на нас чересчур уж нагло.
— Разве девчушка лучше, чем настоящий вратарь? — спросил их учитель, обращаясь к своей команде.
Они посовещались и объявили:
— Оба играли отлично. Вратарю в первом тайме не повезло, он получил травму.
— Мой одиннадцатиметровый он бы не взял, — выступил Длинный.
И тут мне пришла в голову спасительная мысль.
— Минутку! — крикнул я. — А если бы он взял?
— Тогда бы вы выиграли. Но по крайней мере хоть честно, — ответил Длинный.
Я поймал его на слове:
— А ну-ка забей ему одиннадцатиметровый, и если он его возьмёт — мы выиграли, а нет…
Дальше я говорить не стал — я глядел на Фрица. Он потирал руки, словно уже стоял на воротах. Он так ёрзал, что даже парта скрипела. Обе команды, все двадцать два человека, а также два учителя и Аннемари застыли в ожидании.
— Ну так как? — спросил я Длинного.
Теперь все уставились на него. Он тоже ёрзал на своём месте и всё больше заливался краской.
— Ну, как ты считаешь? — спросил Длинного их учитель.
По его голосу мне показалось, что самому ему моё предложение понравилось. Значит, он вовсе не так уж плох.
Мне захотелось поддразнить Длинного.
— Дрейфит он! — шепнул я Фрицу.
Все повернулись в нашу сторону.
— Кто дрейфит? — вскинулся Длинный.
— Ты!
— Пенальти?
— Пенальти!
— С дополнительным ударом?
— Пусть хоть с дополнительным! — с азартом крикнул Фриц.
Я испугался — это было опасно.
— Давай, Длинный, принимай! — загудели друзья Длинного.
— Длинный-длинный, да трусливый! — поддразнила Аннемари.
— Я согласен, — сказал Длинный. — Возьмёт мяч — игра считается. Опротестовывать не будем. Пропустит — вы проиграли.
— А остальные что скажут? — спросил их учитель. — Кто «за»?
Двадцать две руки взлетели вверх.
— Единогласно.
Учитель Юхт улыбнулся. Он был доволен.
Если бы речь шла об игре на первенство мира, мы и то бы, наверное, так не волновались.
Футбольное поле у них прямо перед школой. И вот мяч уже на одиннадцатиметровой отметке. Фриц стоит на воротах. Длинный пнул носком бутсы дёрн — раз, два, три. Мы застыли возле ворот, не сводя глаз с мяча.
Раз — удар!
Мяч шёл в правый угол ворот. Фриц отбил его руками под ноги Длинному. Тот снова ударил. Фриц бросился навстречу — и вот он уже прижал мяч к груди.
Все мы вздохнули с облегчением, но никто не сказал ни слова. Я пожал руку Фрицу.
И тут Длинный обернулся к Аннемари:
— Ты бы хоть извинилась!
— Извинилась? — возмущённо переспросила Аннемари. — Ты думаешь, я об этом жалею? Мы, девчонки, можем куда больше, чем вы думаете!
— Неплохо вы устроились, — не унимался Длинный. Он был теперь краснее помидора. — Где же это видано — девчонка на воротах?
И снова я пожалел, что Аннемари — девчонка. Ну и парень бы был!
Мы пригласили команду школы имени Гейне на товарищеский матч в ближайшее свободное воскресенье.
— Да, — сказал, покачав головой, учитель Юхт, когда мы все вместе возвращались домой. — Есть, конечно, вещи, которые вообще-то делать не полагается. Но… как это говорится? Смелость города берёт… если гладко все сойдёт!.. Потом-то можно и посмеяться!..
— А вы, оказывается, поэт, господин Юхт, — сказал Гансик.
Я удивился, что наш учитель говорит нам такие странные вещи. Так за кого же он? За нас, что ли?
Я проводил Аннемари до дому. У её двери я долго топтался на месте, говорил о том о сём, но в конце концов собрался с духом и сказал:
— Знаешь, Аннемари, всё время, пока мы с тобой ссорились, мне было не так уж весело.
— Мне тоже, Пауль, — сказала Аннемари, помолчав.
— Всё время я хотел помириться, но ты… ты…
Мне стало вдруг стыдно, и я замолчал.
— Что я? — нетерпеливо спросила Аннемари.
— Ну почему ты держалась так неприступно, так холодно? Мне это было очень обидно. Просто верить не хотелось, что ты… ты… что я для тебя ничего не значу… ну и вообще.
— Со мной было то же самое, — тихо сказала Аннемари. — И я про тебя тоже так думала.
— Ого! — вырвалось у меня. — Ну и здорово же ты умеешь притворяться!
— Спасибо! — сказала она. — Но уж не лучше, чем ты.
Через две недели состоялся товарищеский матч. Мы проиграли с таким счётом, что мне даже стыдно его назвать. Длинный так бомбил ворота Фрица, что нам об этом и вспоминать неохота. Я не забил ни одного гола — как заколдовано.
— Никогда ещё вы так плохо не играли! — сердито заявила Аннемари.
— Ну и молчи! — крикнул я. — А то, может, опять подрисуем усы твоим куклам?
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Книжка, которую вы сейчас прочитали, — историческая Дети в рассказах Карла Векена не ваши ровесники, они жили в Берлине, Дрездене и других городах Германии в прошлое время, и даже те из них, кто мог бы жить и теперь, давно уже не были бы детьми — это сверстники ваших бабушек и дедушек или ваших родителей.
Действие рассказа «Анна-Лиза и кайзер» происходит больше ста лет назад — в 1878 году. Германия была тогда империей, и правил в ней император Вильгельм I (в Германии он назывался «кайзер»). А всем заправлял «железный канцлер» Бисмарк — премьер-министр Германии. Детям рабочих жилось тяжело. Рабочий день на заводах и фабриках был длинный, но зарплаты отцов часто не хватало, чтобы купить картофель и хлеб, уголь для топки печей. Семьи рабочих голодали, многие болели чахоткой. Рабочие боролись за лучшие условия жизни, за свои права, вступали в партию социалистов, одним из организаторов которой был Август Бебель, самоотверженный борец за дело рабочих, человек целеустремлённый и бесстрашный. Рабочие не раз избирали его своим представителем в рейхстаг (парламент). В 1878 году, когда происходит действие рассказа, «железный канцлер» Бисмарк издал жестокий «закон о социалистах». Социалисты — члены рабочей партии социал-демократов — были объявлены «вне закона». Они считались преступниками, их можно было в любой момент арестовать, выслать.
В те же примерно времена происходят и события, описанные в рассказе «Ключ от подвала», только не в Берлине, а в промышленном городе Дрездене. «Да провались этот Бисмарк в тартарары вместе со своим законом о социалистах!» — вспоминает героиня рассказа слова отца.
А вот события, описанные в рассказе «Полиция ищет Атце Мюллера», разыгрались больше чем пятьдесят лет спустя. Многое изменилось за это время в Германии. После первой мировой войны пришли бурные революционные годы. Кайзер Вильгельм II бежал за границу. Германия стала республикой. В новое правительство вошли и представители партии социал-демократов. Но очень скоро — в том же 1918 году — они предали интересы избравших их рабочих.
Жизнь рабочих оставалась прежней, а тут ещё послевоенная разруха, голод, инфляция (обесценивание денег). Потом начался кризис, росла безработица.
Первого мая 1929 года в Берлине и во многих других городах Германии рабочие вышли на демонстрацию. Вот уже сорок лет, как они праздновали этот день — Международный день солидарности трудящихся. Даже при кайзере Вильгельме II полиции не удавалось сорвать демонстраций рабочих. Но в 1929 году начальник полиции Берлина, социал-демократ Цергибель, запретил демонстрацию. Несмотря на запрет, рабочие Берлина вышли на улицу под лозунгами Коммунистической партии. Начальник полиции приказал силой разогнать демонстрацию. Рабочие оказали сопротивление. Офицеры отдали полицейским приказ открыть огонь. Было убито девятнадцать рабочих. Через несколько дней власти издали приказ о запрещении «Союза красных фронтовиков», боевой организации немецких трудящихся. Карл Векен рисует в своём рассказе историческую обстановку того времени. Отец Вилли и Элли, безработный коммунист, выходит на демонстрацию Первого мая по призыву Коммунистической партии. Он ранен полицейской пулей. Сосед его, рабочий Атце Мюллер, как и многие другие социал-демократы, до этого дня не понимал, что правые лидеры социал-демократической партии давно уже стали предателями рабочих. Теперь у него открылись глаза.
Действие рассказа «Побег в Прагу» происходит семь лет спустя, тоже в Берлине, и начинается в рабочем революционном районе Нойкёльне. Но за эти годы в Германии произошли страшные события. В январе 1933 года власть в стране захватили фашисты. Их «фюрер» Гитлер стал канцлером. Через месяц после захвата власти фашисты подожгли здание рейхстага. Они обвинили в поджоге коммунистов, чтобы под этим предлогом начать аресты и убийства. Только за одну ночь было арестовано более десяти тысяч антифашистов. Их отправляли в каторжные тюрьмы и концентрационные лагеря. Через несколько дней, в марте 1933 года, был арестован Эрнст Тельман — председатель Коммунистической партии Германии, за которого год тому назад голосовало на выборах 5 миллионов немецких трудящихся. Одиннадцать с половиной лет гитлеровцы держали Тельмана в одиночной камере. В 1944 году, когда Советская Армия уже подходила к границам Германии, его убили.
Но борьба немецких антифашистов продолжалась. Те из них, кто уехал за границу — в Советский Союз, в Чехословакию, в Швецию, во Францию, — вели передачи по радио, обращаясь к немецкому народу, раскрывая ему глаза на истинные цели Гитлера, сражались против фашистов в Испании в рядах Интернациональной бригады, в «Батальоне Тельмана», поддерживали связь с подпольными группами антифашистов, продолжавшими борьбу в самой Германии.
В рассказе «Побег в Прагу» мы узнаём о такой подпольной группе, действующей в районе Нойкёльна. Эта группа самоотверженно борется против фашизма и разжигаемой гитлеровцами войны, несмотря на слежку и террор гестапо (государственной тайной полиции). Аресты продолжаются. По доносу гестаповского шпика арестованы родители Вальтера. И Вальтер бежит в Прагу, чтобы сообщить имя предателя эмигрировавшим туда немецким антифашистам.
Карл Векен не выдумал эту историю — он сам был среди антифашистов в Праге, был лично знаком с мужественным мальчиком, который вёл себя как герой в таких трудных условиях. Векен встречал в жизни и многих других героев своих рассказов. С ребятами, похожими на трёх друзей из повести «Берлинские сорванцы», он наверняка встретился в школе, когда сразу же после войны, освобождённый из концлагеря Советской Армией, снова стал учителем. Действие этого рассказа опять происходит в Берлине, но почти десять лет спустя, в 1945 году.
Ребята — Пауль, Фриц, Гансик и Аннемари, герои рассказов «Кот Мурлыка», «Дрова», «Аннемари и капитан» родились уже после войны. События, описанные в этих рассказах, происходят в пятидесятые годы.
Жизнь всех этих детей неотделима от жизни взрослых, от их борьбы.
А. ИсаеваПримечания
1
См. послесловие в конце книги, в котором кратко рассказывается об историческом прошлом Германии.
(обратно)2
Бумага с гербовой печатью.
(обратно)3
Марки и пфенниги — монеты в Германии.
(обратно)4
Коричневая рубашка — фашистская форма.
(обратно)5
Песенка, высмеивающая Гитлера.
(обратно)6
Геринг — приспешник Гитлера, принимавший личное участие в организации поджога рейхстага (см. послесловие).
(обратно)7
Хорошо (чешск).
(обратно)8
Да (чешск).
(обратно)










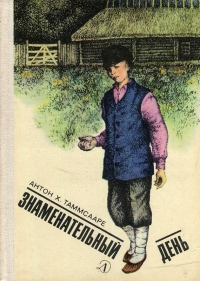
Комментарии к книге «Аннемари и капитан», Карл Фекен
Всего 0 комментариев