Агния Кузнецова МНОГО HA ЗЕМЛЕ ДОРОГ Повесть
ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ
Я очень люблю читать ваши письма, ребята. Вы никогда не высказываете свои мысли, как говорится, «между строк», ничего не утаиваете, ни о чем не умалчиваете. Чаще всего вы пишете прямо, откровенно, и почти каждое ваше письмо заставляет нас, детских писателей, задумываться о своем творчестве, о планах на будущее.
«Я еще ни разу никуда далеко не ездил на поезде и не летал на самолете, — пишет киевский школьник Миша Кривенко. — Но все-таки я путешествовал по нашей стране и даже был за границей. Это мне книжки помогли… Когда я чувствую, что писатель много где-то ездил и видел всякие неизвестные мне вещи и события, мне с ним бывает так интересно! И хочется прочитать все, что он написал… Я тогда сразу иду в библиотеку и ищу другие его книги, которых у меня нет».
Это так важно, ребята: чтобы вам было интересно[1] общаться с нашими произведениями. А интересно, как я заметил, вам лишь в том случае, если вы твердо уверены: «Писатель видел и слышал много такого, чего мы не знаем. Он сам участвовал в событиях важных, волнующих… Ему есть о чем рассказать!»
Да, юный человек любит людей бывалых. Это известная истина! «Скажи-ка, дядя…» — обращался молодой лермонтовский герой к старшему своему другу — участнику героических битв. Почти на каждой читательской конференции мне слышится: «Скажи-ка, дядя писатель… Расскажи-ка!» И писатель, которому есть что сказать вам, сразу завоевывает ваше доверие.
Чтобы учить жизни, надо самому ее знать! Как это важно, я коротко постараюсь показать на примере творчества одного из мастеров детской и юношеской литературы — Агнии Кузнецовой.
Передо мной любопытный документ. Юные читатели города Бологое составили небольшой список детских книг, которые они считают самыми любимыми и популярными у себя в городе. На одном из первых мест — повесть Агнии Александровны Кузнецовой «Свет-трава». Умная, поэтическая книжка! Но дело не только в этом. Главное, думается мне, в том, что повесть помогла читателям, не садясь на поезд или в самолет, отправиться в Сибирь, побывать в тайге, приобщиться к удивительно интересным поискам и находкам своих сверстников, живущих за тысячи километров от города Бологое. Свет-трава — растение почти волшебное: исцеляет людей, которые считались неизлечимо больными. Но есть у свет-травы еще одно не менее волшебное качество: она подарила юным читателям дальнее путешествие, дружбу с непрестанно ищущими романтиками.
«Много на земле дорог» — так называется одна из повестей А. Кузнецовой. Дорог действительно много, — все их не успеешь обойти ни за три, ни за десять жизней. А вам, ребята, очень хочется побывать всюду! Вы хотите пройти не только теми путями, которые измеряют километровые столбы, но и теми, что измерены человеческими судьбами, конфликтами, поисками и открытиями. На помощь вам приходит литература: она может провести по многим дорогам жизни. И ведет…
Я был на литературных конференциях, посвященных обсуждению повести А. Кузнецовой «Честное комсомольское». Право же, мне казалось, что участники конференции побывали в далеком сибирском селе Погорюе, что они лично участвовали в той борьбе за справедливость, за сплочение сердец человеческих, которую ведут юные герои повести. Московские школьники знали каждую улицу сибирского села и говорили о жителях его, как о своих добрых знакомых.
Юный человек всегда жаждет высокого примера. Он хочет общаться с героями, которых не назовешь «литературными», потому что они, перешагнув книжные страницы, становятся как бы живыми спутниками наших дней.
Мужественные, благородные традиции Николая Островского одухотворяют повесть А. Кузнецовой «Жизнь зовет». Читатели повести совершают путешествие в мир острых нравственных проблем, и для них, как и для юных героев книги, истинным образцом становится председатель колхоза Василий Ильич, который в борьбе за счастье живущих рядом людей забывает о своих собственных горестях и увечье.
Читатели верят тому, что происходит на страницах повести, некоторые из них даже (я это слушал в библиотеках) считают книгу документальной. Они убеждены, что писательница была в селе, о котором рассказывает, что она лично знакома со всеми персонажами книги. И это не заблуждение: она действительно была, она и в самом деле знакома!
«Наверно, она учительница?» — спросили меня в одной школе об Агнии Кузнецовой. Нет, она не учительница, но прежде чем написать повесть о школе, работала в Доме художественного воспитания детей, два года была председателем родительского — комитета, руководила школьным историческим кружком, ездила со старшеклассниками в села на уборку урожая… Вот откуда приходит в книги настоящая достоверность!
Высокая интернациональная тема окрыляет страницы последней повести А. Кузнецовой «Мы из Коршуна!». Прочитав эту повесть, вы, ребята, побываете и в прекрасном таежном краю, и в Италии; вы будете путешествовать по городам, селам, памятным местам великой титанической битвы с фашизмом. И вновь у вас не возникнет ни малейшего сомнения в том, что писательница все видела «своими глазами», во всем участвовала. Вы ведь великолепно чувствуете, где «литература с литературы», а где сама жизнь.
В этом предисловии я хочу на примере творческой работы А. Кузнецовой продемонстрировать, как необходима для писателя (а для детского и юношеского, быть может, особенно!) ежедневная, нерасторжимая связь со своими героями и с той жизнью, из которой они приходят на страницы литературных произведений.
Достоверность произведения вызывает у вас, дорогие друзья, сердечное доверие к автору. «Прошу не читать, а передать лично Кузнецовой Агнии Александровне», — прочитал я на одном из конвертов в Доме детской книги. Полюбив повесть «Честное комсомольское», девочка полюбила и автора и решилась поведать писательнице что-то самое сокровенное, о чем смогла бы рассказать только близкому человеку. Что может быть дороже такого читательского доверия!
Сергей Михалков
Птенцы оперились, научились летать и в одно раннее утро покинули гнездо.
Я видела, как с восторженным щебетом они поднялись в широкое розоватое небо и стремительно разлетелись в разные стороны, гордые своей самостоятельностью, жаждущие увидеть мир за пределами сада, где они научились летать.
Старые ласточки одиноко сидели на краю крыши, над гнездом, глядя, как птенцы исчезают в поднебесье. Они и не пытались вернуть своих детей — у каждого живого существа свои дороги…
И мне вспомнилось, как в один из весенних дней вот так же уходили в большую жизнь юноши и девушки, с которыми крепкими узами и надолго связала меня судьба…
Я расскажу вам о них, друзья. Расскажу о честном, прямом, но нелегком пути Константина Лазовникова и Надежды Молчановой; о трудной дороге к большой и ясной цели Иренсо Нцанзимана из английской колонии Уганда, что раскинулась в Экваториальной Африке; о запутанной, сложной тропе, полной ошибок, сомнений и страданий Андрея Никонова; об узенькой, извилистой тропке, которую выбрала себе Вира Вершинина. Я познакомлю вас и с другими своими молодыми друзьями.
Давайте в этот необычный для прогулок предутренний час выйдем за деревню, на простор полей и лесов.
Как здесь красиво! Как легко и свободно дышится! И если вы, мой читатель, не сибиряк, то вам особенно интересной покажется эта прогулка на рассвете, по дороге, заросшей подорожником, изрытой дождевыми струями.
Село еще спит. Старое сибирское село с новым названием «Веселая Горка». Прежде оно называлось «Господи пронеси».
В стародавние времена здесь был выселок из четырех дворов, и путь к нему вел только один: узкая тропа, вверху над нею — тяжелая скала, внизу — глубокое, кажущееся бездонным озеро. Осеняя себя крестным знамением, человек говорил: «Ну, господи пронеси!» — и со страхом ступал на эту тропу.
С годами выселок превратился в село. Через гору проложили дорогу. И назвали по-новому. А старые люди и теперь нет-нет да и обмолвятся, назовут по-прежнему: «Господи пронеси».
Веселая Горка — большое село, с новыми домами; двухэтажной школой, клубом и просторными фермами.
А поля! Смотрите, какие они широкие, безбрежные, зеленым раздольем уходящие к горизонту. И словно живой изгородью стоит вокруг тайга, темная, загадочная.
Поля и тайгу рассекает дорога. Справа от дороги — пашня, слева стройными стволами тянется к солнцу молодой кедрач. Меж стволов нежным золотом струятся полосы — посланцы утренней зорьки. Шумят деревья, поют ручьи, весело сбегая по камням.
Слышите — к этому обычному шуму примешиваются посторонние звуки!.. Они всё громче, ближе.
Это от села идет молодежь. Звучат смех, песни, громкие восклицания, серебряная россыпь баяна. В школе закончился прощальный вечер, и по традиции молодежь вышла за село.
Вот этот паренек с баяном, у которого забавной щетинкой торчат рыжеватые волосы и доброй усмешкой освещено миловидное лицо с коричневыми умными глазами, — Костя Лазовников. От него не отходит светлорусая девушка с капризным изломом великолепных бровей, с продолговатым разрезом зеленоватых глаз. Это Вира Вершинина.
Позади них легкой походкой идет Андрей Никонов. Голова его закинута назад, руки отведены, кажется — он вот-вот рванется и побежит или подобно птице взлетит в небо. У Андрея вздернутый нос, узкие, припухшие, словно заспанные глаза, на желтоватых заостренных скулах отеки, уголки губ безвольно опущены книзу.
Рядом с Андреем, чуть-чуть опережая его, — Надя Молчанова. До восьмого класса и она училась в Веселой Горке, а недавно окончила строительный техникум в городе. Надя смеется, трещит как сорока, и ее резкий и отчаянно жизнерадостный голос разносится по полю.
Андрей молчит, сомкнув ресницы, спрятав глаза.
Хотите послушать, о чем они говорят?
— …Представь себе: Москва. На ее окраине — огромный завод железобетонных конструкций. Стоит и дымит, дымит огромными трубами… — говорит Надя.
— Это плохо, что дымит. Вредно, — медленно, словно нехотя, замечает Андрей.
— Мы потомственные заводские, — говорит Надя. — Дед на заводе работал. Отец только в этом году на пенсию ушел, чуть ли не со слезами… И вот я получила назначение…
С хитроватой улыбкой на худеньком, энергичном лице Надя достает из кармана вязаной кофточки, наброшенной на белое крепдешиновое платье, телеграмму, торжественно развертывает ее. В предрассветном сумраке прочитать текст почти невозможно, но девушка помнит его наизусть:
— «Назначена мастером цеха «Полигон» завода железобетонных конструкций». Видал?
— И для этого надо было учиться одиннадцать лет? — вопросительно приподнимая припухшие веки, спрашивает Андрей.
— Ну ничегошеньки ты не понимаешь! — удивляется Надя. — Я обязательно буду учиться — заочно, в строительном институте. Чуешь, какая у меня окажется практика?!
— Сразу профессором станешь, — улыбается Андрей.
Впрочем, у него лишь чуть-чуть оживают безвольные губы, глаза становятся грустно-насмешливыми, и он опять прикрывает их.
— Ну, а ты, Андрюша?.. — задорно спрашивает Надя и сама же отвечает: — У тебя талант. Твой путь ясен. Будущий Репин, Суриков, Левитан…
— Леонардо да Винчи, — невесело усмехается Андрей.
Те, кто идут впереди Нади и Андрея, разговаривают все о том же — о будущем, о жизни, которая распахнула перед ними свои неохватные дали.
— Впереди лето. Подумаю, — легко и кокетливо улыбается Вира. — В моей душе сумбур. Все неясно. — Она кидает нежный, загадочный взгляд на Костю, такой взгляд, перед которым и камень не устоял бы, не то что горячее юношеское сердце.
— А у меня все ясно. И путь некоторых других мне тоже ясен, — многозначительно говорит Костя и равнодушно отходит от Виры. Он растягивает, мехи баяна и приятным баритоном так же многозначительно поет: — «Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня?!»
Девушки и юноши подхватывают песню, и Костин баритон теряется в хоре звонких, слаженных голосов.
А небо уже пылает зарей. Из-за скалистой горы выглядывает ослепительный край солнца — наступает новый день. Никто не знает, какой он по счету на земле, да и знать не хочет. В юности жизнь человека кажется бесконечной, как сама Вселенная.
Но вы не познакомились еще с одним юношей — он не присутствует здесь в это раннее утро.
Самолет ли, корабль ли, а вернее, просто горячая фантазия пусть унесет нас в знойную Африку.
Уганда. Страна зеленых холмов, больших, красивых озер и водопадов. Сказочные тропические леса, заросшие лианами, — пробираться среди них под силу только гориллам, шимпанзе да собаковидным павианам. Зеленеют саванны, над ними поднимаются гигантские баобабы, а в их густой тени бродят львы, носороги, леопарды.
На берегу озера Виктория — город Энтеббе. Залитый солнцем город с белыми одноэтажными домами и густыми садами. Это главный город Уганды.
Смеркается. Спадает зной. Берегом озера к Энтеббе бредет стадо рогатых зебу. Озеро спокойно и величаво.
Молчаливо и неподвижно стоит у озера человек. Он задумчиво смотрит на игру разнообразных красок: розовато-желтая, бледно-фиолетовая, лазоревая, синяя сменяют одна другую. Вот вода заколыхалась, разошлась кругами, ее прочеркнула зелено-серая полоса спины крокодила. Полоса исчезла. Круги сомкнулись.
Человек у озера встрепенулся. Он еще очень молод. Высок и строен, как молодая пальма. На нем белая рубашка навыпуск с короткими рукавами и белые шорты. Белая одежда подчеркивает его совершенно черную, с чуть лиловым оттенком кожу. Даже белки его черных блестящих глаз не совсем белы, даже губы черные. Но курчавые короткие волосы светлее кожи. Их выжгло беспощадное солнце.
Это Иренсо Нцанзимана, сын учителя. Он учился в Энтеббе в школе и сейчас заканчивает университетский колледж Макерер, близ города Кампалы.
Иренсо в глубоком смятении. Вчера утром он получил предложение от прогрессивной партии по окончании колледжа поехать учиться в Советский Союз. Ответ он должен дать через три дня.
Но легко ли дать ответ, от которого зависит вся жизнь?.. Легко ли в двадцать два года покинуть родину, мать, отца, сестру и товарищей?
Солнце зашло. Кончился второй день мучительных раздумий, а Иренсо не пришел ни к какому решению.
Сгустился сумрак. Началась вторая бессонная ночь…
Не будем спешить расставаться с Угандой, друзья мои. Давайте подойдем утром к колледжу Макерер, посмотрим, что там происходит.
У дверей колледжа толпятся белые юноши. Среди них один черный — Иренсо.
У юноши с нежным девичьим лицом, в белом берете на волнистых белокурых волосах, в руках газета «Уганда аргус». Иренсо тоже держит такую же газету. Они о чем-то спорят. Остальные с интересом прислушиваются, бросают реплики, иногда слышны дружные взрывы смеха.
О чем говорят они?
— Все это ерунда, — качает головой юноша в белом берете. — Ваш народ должен держаться Запада, иначе вам не выбраться из унижения и отсталости. Уганде не создать своей культуры. Не будь в Уганде английского колледжа, вы остались бы неучем. А теперь вы имеете образование, такое же, как у нас. Так что вы зря критикуете эту статью. — Юноша тряхнул в воздухе газетой.
Иренсо и раньше не раз слышал подобные рассуждения, но сейчас каждое слово этого белого заставляло его вздрагивать, как от удара бичом. Эти слова оскорбляли его так же, как оскорбила статья в «Уганде аргусе».
— В статье правильно говорится, — вступил в спор ярко-рыжий студент с коричневатым носом от множества веснушек, — если мы уйдем с Востока, экономические трудности дойдут до катастрофы. Западные народы духовно одарены…
— Каждый школьник знает, — дрожащим от гнева голосом ответил Иренсо на прекрасном английском языке, — что компас, порох, бумага в Европу пришли с Востока. Наш народ так же талантлив и трудолюбив, только…
Но разве согласятся с ним эти сыновья колонизаторов?
Африканская кровь загорелась. В бешенстве Иренсо выхватывает из рук белого юноши газету, мнет с нею вместе и свою и бросает тугой комок в лицо белого.
— Нет, вы вернете нам Африку! — исступленно кричит Иренсо.
— Черное животное! — взвизгивает белокурый юноша.
Мягкий, воркующий голос становится у него грубым, и снисходительная улыбка на лице сменяется злобной гримасой.
Толпа белых студентов с угрожающим гулом сомкнулась вокруг Иренсо. Еще мгновение, и его сбивают с ног точными боксерскими ударами.
— Не зря социолог Троллоп считает, что у черных нет ни малейшего приближения к цивилизации! — презрительно выкрикивает рыжий студент.
— Белым людям они подражают, как обезьяна человеку! — задыхаясь, поддерживает его юноша в белом берете.
С обидными возгласами и смехом белые студенты уходят, а черный лежит, обхватив руками землю.
…Конец третьего дня. Вечереет. Та же причудливая игра красок на поверхности озера Виктория. Так же недвижимо и задумчиво стоит на берегу Иренсо Нцанзимана. Но нет больше в его душе сомнений. И жалости к себе нет. Святой долг сына Уганды зовет его на труд и подвиг. Не прост и не легок его путь. Но что же делать? Такова жизнь.
Глава первая КОНСТАНТИН ЛАЗОВНИКОВ
1
Окончив школу, Константин Лазовников остался в Веселой Горке. Он поступил в заочный педагогический институт и стал работать в школе пионервожатым.
Надя Молчанова прислала Косте письмо. «Незабываемый школьный товарищ! — писала она. — Вот и разбросала всех нас судьба по разным углам необъятной Родины нашей. Ты один задержался в родном селе и даже в родной школе…»
И дальше, на шести страницах, Надя рассказывала о Москве, о театрах и музеях, о своем «необыкновенном железобетонном заводе». В каждой строке письма чувствовалось, что жизнь ее действительно интересна и сама она полна впечатлений.
Весь этот день Надино письмо не давало Косте покоя. Шел он по узкой улице домой обедать, замечал, что улица грязная, немощеная, а с одного конца ее виден другой конец. И он вспоминал рассказ Нади о новых московских проспектах. Сидел с ребятами в пионерской комнате — его раздражала теснота, и он представлял себе светлые, просторные здания московских школ.
Костя вздыхал и думал: «Конечно, там легко работать пионервожатому, а тут ни музеев, ни театров, ни исторических мест…» Работая над институтским заданием в библиотеке клуба, он впервые досадовал на отсутствие учебников для студентов…
Вечером Костя перечитал письмо Нади, и один абзац, который он случайно пропустил при первом чтении, сейчас изменил направление его мыслей.
Надя писала:
«Костя, ты достоин всяческого уважения за свою преданность родному селу. Ты учился в школе почти так же хорошо, как Андрей, и мог бы теперь быть студентом столичного вуза. Но ты торопишься отдать свои силы Родине. В этом твоя мечта. Ты должен быть очень счастлив, Костя!»
Костя задумался над последней фразой и вдруг почувствовал, что он действительно счастлив.
Светлая полоска, видневшаяся в щели закрытых ставен, напомнила о вечернем ясном небе за окном. Костя представил себе Веселую Горку, залитую лунным светом, и поля за селом, и леса бескрайние. Во всем этом и было то счастье, которое он теперь так ясно ощущал в себе. Но главное счастье заключалось в суматошной работе пионервожатого, в желании отдать своим пионерам все самое лучшее, что рождалось и зрело в его душе.
Костя сел за стол, намереваясь ответить на письмо. «Здравствуй, Надя», — написал он, но в это время в дверь постучали. Костя взглянул на часы. Было начало двенадцатого. Он встал и направился к двери. «Кто это в такой поздний час? Может быть, в школе случилось что-нибудь?»
— Входите! — крикнул он в темноту.
Вошла, а вернее сказать — величаво вплыла Вира Вершинина.
Вот так встреча! Уж кого он не ждал так не ждал.
— Ты откуда? — протянул Костя, пятясь от удивления.
— Из Москвы! — засмеялась Вира. — Приехала забрать свои вещи, да вот решила взглянуть на бывшего одноклассника.
— Ну, садись, рассказывай, где ты, что ты. — Костя говорил и одновременно внимательно присматривался к Вире.
Конечно, он никогда не считал ее близким товарищем, но все-таки она была его одноклассницей, а он в последнее время так часто думал о своих школьных годах.
Вира везде и всегда чувствовала себя хозяйкой.
Закинув ногу на ногу, она удобно устроилась на Костином жестком креслице возле стола. Костя сел напротив, на стул. Любопытствующие глаза ее пробежали по листу, на котором начал свое письмо Костя. Она засмеялась грудным, неестественным смехом:
— Романишко разводишь? Я еще в школе замечала, какими глазищами Надя Молчанова на тебя поглядывала! А ты и не догадывался, все философствовал. Ах, Костя, Костя!
Вира проворно скрутила бумагу трубочкой и ударила Костю по носу.
— Недотепа ты, бирюк сибирский, философ районного масштаба!
Костя знал Вирину манеру разговаривать и не обиделся.
— Ну, а чем занята твоя умная голова?
— Отдыхаю! Стараюсь не быть похожей на тех ослов, о которых существует пословица: «Работа дураков любит».
— От каких же ты трудов праведных отдыхаешь?
— Забыл! — засмеялась Вира. — А экзамены на аттестат зрелости?
— Хватилась! Так то дело год с гаком как отшумело.
— Ах, Костенька, милый, от Веселой Горки отдыхаю, а сама дрожу, как бы предки опять сюда на исправление не прислали. Представь, я вхожу сегодня с чемоданом в сени, а тетушка аж побледнела! — Вира опять закатилась смехом, на этот раз не поддельным, а по-настоящему веселым и заразительным. — «Надолго?» — спрашивает. Я решила посмеяться и говорю: «Навсегда. Папа с мамой говорят, что большой город мне противопоказан». У тетки, видно, ноги подкосились, и она села, да не на скамейку, а в кадушку с капустой… — У Виры от смеха даже слезы на глазах выступили. — Ну, что ты на меня так внимательно смотришь? Скажешь опять, что я глупая?
— Этого я не скажу, а…
— Значит, любуешься мной?
Вирой действительно можно было залюбоваться. Костя смотрел на ее пышные светлые волосы, лежавшие на плечах, на ее высокий лоб, на светло-коричневые брови с капризным, каким-то горьким изломом.
— Хочешь поцеловать меня? — неожиданно спросила Вира и потянулась к нему.
Костя отодвинулся. Глаза девушки потемнели, горячий румянец залил щеки, лицо стало капризным и злым.
— Вот сейчас ты совсем некрасивая. Похожа на белку… И что ты ко мне со своими поцелуями набиваешься? Бываешь ты серьезной хоть одну минуту или нет?
— Ах, серьезненький! — кокетливо воскликнула Вира. — Хочешь, Косточка, чтобы я к тебе по-серьезному подошла? Уж не замуж ли за тебя пойти — за пионервожатого, за будущего учителя? Оклад восемьдесят рублей, бесплатные дрова, даровой керосин и комната с кухней в старом, дырявом доме…
Костя вскочил:
— Ты перестанешь болтать? Хватит надо мной изголяться! Я… я… за это ударить могу!
Вира поняла, что он не шутит:
— Извини. Я не думала, что ты такой чувствительный. — Она поднялась и высоким, чистым голосом запела: — «Цветок душистых прерий, твой взгляд звончей свирели…» — И, потоптавшись на месте маленькими стройными ножками в розовых капроновых чулках и черных лакированных туфлях на каблучках-шпильках, ритмично играя локтями, она лягнула ножкой, боднула головкой и выпорхнула из комнаты.
Костя кинул ей вслед полный ненависти взгляд и потом долго ходил по комнате, стараясь успокоиться.
Наконец он снова сел за стол, расправил скатанную в трубочку бумагу и принялся писать.
«Твое письмо, Надя, навело меня на раздумья. Я представил тебя и Андрея в Москве, и тех ребят нашего выпуска, которые уехали на Дальний Восток, поразмышлял над своей судьбой и еще раз убедился, что дело не в том, где живет человек. Главное — как он понимает свое место в жизни…»
Писал долго, тщательно обдумывая каждую фразу, стараясь найти именно те слова, которые могли бы точнее передать все, что он думает и что он чувствует. Уже на рассвете, сраженный усталостью, он лег на кровать и уснул, забыв погасить свет.
2
Костя проснулся, бросился к патефону и поставил пластинку с маршем. Бодрая, ритмичная музыка заполнила домик Лазовниковых, полилась в открытую форточку на улицу села.
— Костя гимнастикой занимается! — крикнул сосед Лазовниковых, семилетний Тимка, своему товарищу, живущему в доме на другой стороне улицы.
Друзья подбежали к домику Лазовниковых и, приплюснув к стеклу окна побелевшие носы, с интересом стали наблюдать. Старший пионервожатый вставал на руки, ложился на пол, задирал ноги и, краснея от натуги, поднимал на вытянутых руках тяжелые гири. Потом он медленно прошелся по комнате и скрылся в кухне, унося на плече махровое полотенце.
Завтрак вместе с внуком был отрадным часом для Александры Ивановны. В другое время они почти не встречались. Днем Костя пропадал в школе, вечера проводил в библиотеке или до глубокой ночи засиживался за книгами в своей комнате, выполняя институтские задания.
Александра Ивановна положила на Костину тарелку вареного картофеля и, подперев щеку, любовно поглядывала на него:
— Ешь как следует да не торопись. Говорят, гастрит бывает у тех, кто жует впопыхах.
Костя ел всегда торопливо и не по годам мало. И сегодня он тоже спешил.
— Некогда, баба Саша, в школу спешу. Не терпится. Сегодня мы киоск на принципе честности открываем. Помнишь, я тебе говорил о письме Нади. У них в Москве люди коммунизму учатся. И не только по книгам. Быт по-новому строят. На заводах столовые и магазины без кассиров и продавцов. Транспорт без кондукторов. Все на совесть. Вот и мы тоже попробовали.
Александра Ивановна слушала внука с ласковым одобрением. Ей понятно было нетерпение Кости. Она и сама бы в такой час не усидела.
Костя отодвинул недопитую чашку чая, собрался было вскочить, но бабушка заговорила о себе, о самом сокровенном. Ей тяжко сидеть дома. Тридцать лет она стояла во главе колхоза, не знала ни покоя, ни отдыха, день с ночью путала, работала не за страх — за совесть. А сейчас…
Костя решил утешить бабушку и, сам не веря своим словам, сказал:
— Другие, баба Саша, рады, что уходят на пенсию, а ты грустишь, недовольна. Отдыхай, наслаждайся свободным временем. Да разве мало у тебя дел по дому?
— Дело делу рознь, сынок. Не к таким делам я привыкла…
Костя ушел в школу. В доме стало уныло и тихо. «И так до вечера», — подумала Александра Ивановна. Она подняла занавеску и выглянула в окно. Утро было серенькое. По широкой улице ребятишки шли то стайками, то в одиночку, размахивая самодельными сумками, папками, портфелями. У каждого было свое важное дело, даже у первоклашек. А у нее дела не было. Варить обед и прибирать в доме она привыкла «между делом», никогда не считала это работой.
Александра Ивановна отошла от окна, взяла книгу, попробовала читать, но снова подошла к окну.
По дороге то и дело двигались грузовики с зерном, овощами, картофелем.
Александра Ивановна надела старое пальто, резиновые боты, прикрыла полушалком голову и вышла на улицу. Но едва спустилась она с крыльца, как пришлось остановиться: заныла левая лопатка и мучительное удушье захватило грудь. Она опустилась на скамейку, стараясь размеренным дыханием успокоить боль, потом медленно побрела проулком за село.
За огородами встретился самосвал. На ухабах из кузова, как живые зверьки, выпрыгивали крупные картофелины.
Александра Ивановна подняла руку — самосвал остановился. Из кабины выглянул молодой шофер, по прозвищу «Шум и звон», с загорелым лицом и белой бритой головой.
— Ты что, ослеп? Пока доедешь до хранилища — центнер растеряешь!
— А тебе, Ивановна, все неймется. Два года не в председателях, а от указок не отвыкнешь.
«Шум и звон» нажал на акселератор, самосвал взревел, рванулся и, будто нарочно, еще порывистее запрыгал по ухабам, разбрасывая клубни.
— Что делается! — крикнула ему вдогонку Александра Ивановна. И подумала о молодом председателе: «Разорит колхоз… В такое время председателю место на полях да на дорогах, а он к конторе прирос».
Идти было трудно. Она села на бревно возле дороги.
Выглянуло солнце, припекло по-летнему.
Вспомнилось, как передавала дела новому председателю, совсем молодому парню. Он пришел в правление будто на танцульку: в ярком галстуке, с пестрым шарфом на шее, с кожаными перчатками в руках. Парень оказался с высшим образованием, но без опыта… Ну, да в его годы откуда взяться опыту? Поработает — мудрости от жизни наберется. А ей уже все равно не работать. Сил нет.
Никто ее не обижал, напротив — ей вынесли благодарность, дали хорошую пенсию. И все-таки было больно, обидно, словно в чем-то важном ее обошли, забыли. Выходя из дома правления, она забилась в угол в сенях и долго плакала.
Как быстро пролетели годы! Давно ли, кажется, озорная Шурка с длинной русой косой была в деревне самой развеселой плясуньей. Мускулистая, краснощекая, бегала она в широких юбках, в домотканых грубых чулках и чирках. Местные кулаки знали, какие проворные, работящие у нее руки, зазывали к себе на работу. Но вот началась коллективизация, и Александра Ивановна отдала колхозу всю свою недюжинную силу.
А сейчас сидит на бревне у дороги семидесятилетняя, совсем седая, высохшая, морщинистая старуха. На сухоньком лице светятся живым умом глаза. И думы о жизни, о людях, о колхозе не дают ей покоя. Будь у нее сердце покрепче, посильнее, многое она могла бы еще сделать…
«Ладно, на поля не пойду. Не осилить мне такой поход. Пойду в контору, скажу ему, чтоб не сидел сиднем, шел к людям. Вот-вот заненастит. А картошка еще не вырыта, конопля не повыдергана».
Александра Ивановна встала, пошатываясь, побрела назад, к селу.
А в это время ее внук, старший пионервожатый Костя, стоял в кабинете директора школы Ильи Ильича и громким радостным голосом говорил:
— Вы подумайте, Илья Ильич, копейка в копейку!.. Вот что может сделать доверие к человеку. Вы представляете, как выиграет общество, когда исчезнет подозрительность, навеки восторжествует честность?
— Ну-ну, застрочил передовую, будто своих слов у тебя нет!.. — недовольно перебил Илья Ильич и, помолчав, спросил: — А ты не рано радуешься? — Он поднял кверху маленькое сморщенное лицо с нездоровым цветом кожи и устремил на Костю усталые черные глаза.
Илья Ильич был совершенно лысый, и ребята шутили, что голова у него «босиком».
— Нет, не рано, Илья Ильич, — убежденно сказал Костя. — Вы смотрите: за два месяца ни один мешочек с тапками не потерялся, ни одна пара обуви не исчезла, ни один учебник не пропал. А ведь дежурные не караулят, только выдают и принимают вещи.
— Да, ты известный энтузиаст! — усмехнулся Илья Ильич, и в этой усмешке Костя почувствовал одобрение. — А только скажи мне, если буфет провалится, кто недоимку платить будет? — Илья Ильич сжал маленькие красные губы, и они стали похожи на аккуратный крошечный бантик.
Костя промолчал.
Илья Ильич поглядел на него и снова одобрительно усмехнулся:
— Ну хорошо, попробуем. Дело-то важное.
3
И вот в школе появился необыкновенный буфет. На столах, накрытых белой клеенкой, призывно пестрели тарелочки с винегретом, пирожками, манной кашей, котлетами. Тут же стояли стаканы с молоком, кофе, какао. На краю каждого стола поблескивала металлическая чашка от негодных весов. В нее ребята должны были класть деньги. Над столами висел самодельный плакат: «Буфет без продавцов».
Ребята устремились сюда в первую же перемену. Костя вовремя спохватился и поставил у дверей дежурных.
Все были довольны новизной, с гордостью брали завтраки, ели с аппетитом. Каждое блюдо в этом необыкновенном буфете казалось удивительно вкусным.
Возникали и трудности:
— У меня рубль, — ныл около стола толстощекий мальчишка.
— Ну, отсчитывай сдачу и не задерживай других, — отвечали ему.
— А вдруг я ошибусь?
Вокруг смеялись, подбадривали. Мальчишка положил рубль в чашку и тщательно отсчитал сдачу.
Весь день буфет осаждали ребята. Даже в последнюю перемену нашлись желающие «заморить червяка». Денег в чашках набралось с верхом.
Наконец занятия кончились, и буфетчица занялась подсчетом. Приподняв брови и вздыхая, она раскладывала серебряные и бронзовые монеты по кучкам, всем своим видом показывая, что не по душе ей затея вожатого. Костя с красными пятнами на шее, проступившими от волнения, ревниво следил за движениями ее рук. С нетерпением ожидали результатов подсчета Илья Ильич, парторг и завуч школы Елизавета Петровна… А в коридоре за дверью буфета шла своя жизнь. Тут толпились «болельщики» и среди них — лучшие Костины помощники: Намжил, Ганька и Женька. Разговор шел вполголоса.
— А вдруг не хватит?
Ганька, худенький, верткий и черный, как негритенок, попробовал заглянуть в скважину замка, но, как назло, изнутри был засунут ключ. Ганька лег на пол и, приложив щеку к грязным половицам, заглянул под дверь.
— Ну, что там? — нетерпеливо спрашивал толстый, голубоглазый Женька.
— Ноги! — вздохнул Ганька.
— Чьи?
— Костины. Ходят туда-сюда.
— Не к добру. Значит, просчет… — махнул короткопалой рукой Намжил и осуждающе посмотрел на дверь такими узкими глазками, что невозможно было разглядеть, какого они цвета.
Вдруг за дверью буфета послышались голоса и смех.
Ганька вскочил на ноги. Мальчишки едва успели отбежать от двери. Из буфета вышли Елизавета Петровна и Илья Ильич.
— Не терпится? — дружелюбно спросил директор учеников. — Интересуетесь? Все отлично! А теперь марш по домам.
Но ребята стали ждать Костю. Ганька осторожно приоткрыл дверь. Костя, веселый, вмиг преобразившийся, размахивал руками.
— Ну вот видите, тетя Поля! А вы сомневались! Великое дело — доверие к человеку. А наши ребята — это же замечательные люди! Я с ними готов хоть на Луну лететь, хоть на Северный полюс. Они никогда не подведут. Вы понимаете, тетя Поля, как выиграет человечество, когда восторжествует честность!..
Ребята облегченно вздохнули: можно идти домой. Все в порядке. Костя сел на своего любимого конька и теперь не скоро остановится.
4
В пионерской комнате редколлегия готовила очередной выпуск стенной газеты. Семиклассница Порохова, став коленями на стул и почти лежа на газете, четким, крупным почерком переписывала заметки. Девятиклассник Иван Меньшиков, по прозвищу «Алексашка Меншиков», отбирал и правил заметки. Выбирать было, как обычно, почти не из чего, и редактор, решительно отбросив заметку, сейчас же снова брался за нее.
Женька, так же как и Порохова, лежал животом на газете и, высунув кончик языка, склонив светловолосую голову набок, старательно рисовал початок кукурузы.
В комнату вошел Костя. Был он в коричневом лыжном костюме, с пионерским галстуком на шее.
— Слушай, Женька, я тебе взаймы давал? — спросил Костя.
— Давал. А что?
— «Что, что»! — рассердился Костя. — Долги возвращать надо, вот что! Я на билеты всю зарплату ахнул, а теперь хожу и собираю, как нищий.
— У меня деньги в пальто! Я мигом, Костя. — И Женька исчез за дверью.
Он вернулся через несколько минут смущенный, вспотевший и растерянный.
— Костя! У меня из кармана деньги кто-то украл.
— Что?! Этого не может быть. Ты потерял деньги или у тебя их не было!
— Честное пионерское, были! Тридцать копеек.
— Не может быть! Пойдем искать вместе.
Костя схватил за руку Женьку и почти вытолкнул его из комнаты.
— Что это он? Боится, что Женька деньги не отдаст? — удивленно спросила Порохова.
— Семиклассная наивность! — презрительно покосился на нее «Алексашка Меншиков». — Он за честь школы болеет. Ты знаешь, какой он идейный? Как Макаренко… Ты же сама его статью своими каллиграфическими каракулями переписывала. А в статье сказано, что за два месяца в нашей школе ни у кого ничего не потерялось.
На вешалке Костя собственноручно обшарил оба кармана Женькиного пальто. Денег действительно не было.
Женька предложил:
— Я сбегаю за деньгами домой.
Костя махнул рукой. Разве в этом дело?!
Все же Женька надел пальто, снял тапки и взялся за мешок, висевший на крючке вешалки, чтобы надеть ботинки. И вдруг лицо его вытянулось, голубые глаза растерянно заморгали. Мешок был пуст. Ботинки исчезли.
Костя обшарил всю раздевалку, а Женька в тапочках бросился домой за деньгами.
Он вернулся быстро, нашел в коридоре Костю, сунул в его руку тридцать копеек.
Костя отвел Женьку в сторону и строго сказал:
— Насчет пропажи никому ни слова… Может, кто подшутил. Подождем.
Женька смутился:
— Костя, я уже…
— Уже разболтал?
— Маме и Баньке с Намжилом…
— Предупреди Баньку и Намжила. А маме скажешь, что я вечером забегу.
Они направились в зал. Школьный хор репетировал свое выступление на Октябрьском празднике. Костя взялся за баян, а Женька встал впереди хора и чистым, тонким голосом запел:
Мы все хотим побывать на Луне, Эх, на Луне да на Луне! Мы там бывали лишь только во сне, Только во сне на Луне.Многоголосый хор подхватил, заглушив и Женькин голос и баян:
Луна нам светит с высоты И видит смелые мечты…Пели дружно, охотно, и Костя был доволен, забыв на время о происшествии в раздевалке.
В разгар репетиции в зал вошел незнакомый человек. Такой в Веселой Горке не жил. Был он невысок, в шляпе, в коротком пальто с поясом, в узких брюках, в модных остроносых туфлях. За дымчатыми очками прятались внимательные глаза. Приезжий переждал, пока хор закончит петь, и, когда стало тихо, спросил:
— Дети, а где я могу видеть старшего пионервожатого?
«Дети» — ученики седьмых классов, уже не считавшие себя детьми, — фыркнули, расступились, чтобы не заслонять Костю. Тот снял баян, поставил его на стул.
— Товарищ Лазовников? — осведомился приезжий и снял шляпу.
Но ребята уже заметили его промах, и кто-то довольно громко сказал:
— В помещение в шляпе заходить не полагается.
Костя увел его в пионерскую комнату. Это был корреспондент центральной газеты.
Корреспондент снял пальто, перебросил его через спинку деревянного креслица и оказался в пестрой ковбойке с разрезами по бокам и короткими рукавами. Он удобно уселся в кресле, рассчитывая, видимо, на длительную беседу.
— Мне стало известно, что у вас проводятся интересные начинания, — сказал корреспондент и устремил на Костю пристальный взгляд.
Костю бросило в жар. «Принесла тебя нелегкая!» — подумал он и опустил голову, скрывая смущение. Как поступить? Отказаться от беседы с корреспондентом? Пойти к Илье Ильичу и рассказать о случившемся? Но вдруг случай с Женькиными деньгами и ботинками действительно шутка? Шутка самих ребят?.. Если появится в газете статья о том, как в Веселой Горке средняя школа начала борьбу за навыки коммунистического быта, — такой почин подхватят другие школы. Как это важно! Пусть даже вышло не так гладко, как хотелось, — разве это такое легкое дело? «Нет, нельзя отказаться от беседы с корреспондентом», — решил Костя и стал рассказывать о том, как вначале на общем собрании ученики постановили организовать вешалку без нянечек, потом создали киоск учебных предметов без продавца, потом — буфет без кассира.
— Скажите, а были случаи пропажи? — нетерпеливо спросил корреспондент.
Костя тряхнул головой. В памяти всплыли тощий пестрый мешок из-под ботинок и Женькины широко открытые глаза. «Конечно, все это шутка. Наверняка шутка», — подумал он и облизнул сухие губы…
Беседа с корреспондентом затянулась. Когда Костя вышел из пионерской комнаты, школа уже опустела. Он заторопился в магазин, потом домой, а вечером пошел к Женьке.
Женьку Костя застал за мытьем головы. Тот тщательно следил за своими светлыми пышными волосами. Увидев Костю, Женька покраснел. Он только что тайком ото всех собрался вылить в воду прокипяченную ромашку.
— Чем это у вас пахнет? — повел носом Костя.
— Зерно на печке сушится. От него дух идет, — без особого лукавства пояснил Женька.
В доме, кроме ромашки, на самом деле пахло сушеным зерном.
— Садись, Костя, — пригласил Женька, смущенно пряча под лавку кастрюлю с ромашкой.
Но Костя не заметил его смущения. Рассеянным взглядом окинул он опрятную кухню с курятником, покрашенную в голубой цвет, русскую печь и задержал глаза на пестрой занавеске, закрывавшей полки с кухонной утварью. Из такой материи был сшит и Женькин мешок для обуви.
— А что, родителей дома нет? — спросил Костя.
Женька обеспокоенно взглянул на вожатого, перебирая в памяти все события прошедшего дня.
Костя усмехнулся:
— Вот ботинки. Нашлись. А вот и деньги.
Он подал Женьке сверток, а деньги — две монеты по пятнадцать копеек — положил на стол.
Женька намотал на голову полотенце чалмой и, убирая со лба бахрому, закрывавшую его ясные голубые глаза, расплылся в довольной улыбке:
— Вот это здорово! Где нашли, Костя?
— Тебе всё подробности подавай! Нашли, и всё! — Голос у Кости был строгий, и, ответив, он направился к двери.
Женька быстро развернул сверток.
— Да это не мои, Костя! — разочарованно протянул он. — Это новые. Видать, прямо из магазина.
— Ну, значит, кто-то перепутал. Носи, и всё. Потом разменяетесь. — И, не оглядываясь, Костя вышел.
Женька снял тапки, примерил ботинки с тупыми носами, с широким рантом и резиновой набойкой на каблуках и остался доволен. Мать теперь перестанет сердиться. А то вчера хотела к самому Илье Ильичу идти. Женька поставил ботинки на подоконник, полюбовался ими и, взяв кастрюлю с настоем ромашки, принялся процеживать его сквозь марлю.
5
В своем неизменном спортивном коричневом костюме, с пионерским галстуком на груди, высокий, длинноногий, Костя в задумчивости шел по безлюдной улице села. Изредка вслед ему из подворотни лениво тявкали собаки, но он не замечал этого.
— Старший пионервожатый! — окликнул Костю молодой женский голос.
И Костя мгновенно остановился. Но обернулся он не сразу, пытаясь побороть в себе робость и радость, унять неожиданный жар, предательски выступивший на щеках.
— Здравствуй, Лиза, — глухо произнес Костя.
И самой Елизавете Петровне, и всем, кто мог видеть его в такие моменты, становилось понятно, как сильно, бесконечно сильно нравилась ему Елизавета Петровна, Он преклонялся перед ее умом, волей, целеустремленностью. Его восхищала ее плавная, чуть торжественная походка, золотистые волосы, уложенные на голове короной, внимательные ярко-синие глаза, медленные движения, умение говорить спокойно с самыми отчаянными озорниками.
Смущение Кости при встречах с Елизаветой Петровной передавалось и ей. Она не знала, как начать разговор. Вот и теперь она некоторое время шла молча рядом, как бы давая юноше время прийти в себя.
На этот раз первым заговорил Костя:
— Как раз я о тебе думал, Лиза. Поговорить надо. Случай у меня трудный…
Они остановились на перекрестке. Можно было идти прямо — к школе, или направо — к берегу речки. Немного помедлив, Елизавета Петровна свернула в узкий, поросший травой переулок, и они скоро оказались у реки.
— «Унылая пора, очей очарованье…» — сказала Елизавета Петровна, усаживаясь на бревно и дотрагиваясь рукой до багряных листьев боярышника.
Костя сел рядом.
Вода в реке, казалось, остановилась. Только движение опавших с деревьев разноцветных листьев говорило о том, что она все же течет, но течет так медленно, что даже отражения берегов в ней не колышутся.
— Помнишь, Лиза, вон там на поляне мы проводили пионерский костер. Помнишь, какое тогда было небо — темное-темное… А языки пламени поднимались выше самых высоких деревьев… — Костя замолчал, но чувствовалось, что воспоминания захватили его.
— Ты еще тогда был семиклассником. Худенький, длинный и страшно серьезный… — улыбнулась Елизавета Петровна.
— А ты носила пионерский галстук, мечтала быть учительницей… И тогда именно мне захотелось окончить школу, остаться в ней пионервожатым и учиться заочно.
— Ну, вот и осуществились наши мечты. Ты стал вожатым, а я учительницей… Что же у тебя случилось, Костя?
Не считая бабушки, во всем белом свете не было другого человека, кроме Елизаветы Петровны, которому Костя мог бы с такой откровенностью поверять свои мысли.
Он рассказал Елизавете Петровне о пропаже, о своем разговоре с корреспондентом, о ботинках, купленных в сельпо и отнесенных Женьке.
Слушая этот сбивчивый рассказ, Елизавета Петровна с изумлением смотрела на Костю. И, когда он замолчал, заговорила она, заговорила обеспокоенно, гневно:
— Зачем ты все это сделал? Хотел поставить «галочку», что проведено важное» мероприятие? Запомни раз и навсегда: воспитательная работа не терпит никакого обмана.
— Ты меня не поняла, Лиза, — попытался остановить ее Костя.
Но Елизавета Петровна с возмущением поднялась с бревна:
— Ты понимаешь, что поступил нечестно?
— Я был убежден, что это шутка. Правда, я колебался, думал…
— «Колебался… думал»! Плохо думал!
— Я решил так, Лиза, — помолчав, заговорил Костя, — для того, кто опозорил нашу школу, новые Женькины ботинки и наше молчание будут укором. А то, что в центральной газете появится статья о честности, — пример всем школам. И этот пример сразу подхватят. У нас не получилось из-за какого-то негодяя, у других получится. Да и у нас со временем тоже получится. Я уверен в этом.
Елизавета Петровна взглянула на Костю. Он говорил убежденно и рассуждал не так уж плохо, как ей показалось вначале.
— Ты подумай, Лиза, один негодяй, один некрасивый случай, и все провалилось. Не обидно ли?.. А вдруг это все-таки шутка? А? Пожалуйста, Илье Ильичу не говори. Подождем, как будет дальше.
— Подождем, — согласилась Елизавета Петровна и неожиданно рассмеялась. — Ну и намудрил ты! — Она ласково потрепала ежик Костиных волос. — Пойдем, мне надо тетради проверять. Да и у тебя дел немало.
Костя опустил глаза и так покраснел, что даже испарина выступила на носу.
Ему не хотелось уходить. «Лиза, посидим еще над рекой. Посмотри, солнце идет к закату. Видишь, как розовеет река и небо… И все становится в тысячу раз прекраснее, когда ты здесь…» Эти слова промелькнули у него в сознании, но он не произнес их. Было великой радостью и то, что они посидели рядом на берегу и Лизина рука шутя потрепала его голову.
6
Дома Костю ждала неприятность: Александра Ивановна слегла. Пока он сидел с Елизаветой Петровной, проворная соседка сбегала за врачом, и тот запретил больной вставать.
— Так вот всегда бывает, — жаловалась Александра Ивановна внуку, — уйдет человек на пенсию, и конец! Какая жизнь без работы? День — что неделя, а дом — что тюрьма…
Утром Костя вскочил, как обычно, рано, бросился к патефону, но вспомнил, что бабушка больна, и заниматься зарядкой не стал. Он открыл форточку — свежий, почти холодный воздух вошел в комнату, приятно освежая тело.
В кухне он зажег керосинку, поставил на нее новый алюминиевый чайник и задумался: что же сделать к завтраку? На полке, завернутый в бумагу, лежал сыр, и он решил приготовить макароны с сыром. Вкусно и, главное, быстро.
— Костя! — послышался чей-то голос.
По привычке он хотел уже сказать: «Иду, баба Саша», но понял, что это был не ее голос. Костя подошел к окну, откинул тюлевую узорчатую штору и увидел своих пионеров.
Их было четверо: на завалинку взобрался Намжил и, придерживая рукой запахнутое пальто с чужого плеча звал Костю. На земле, забрав уши в кепку, нетерпеливо приплясывал худой, загорелый Ганька. Рядом с ним стоял Женька — в щегольской куртке, подпоясанной ремешком, в блестящих новых ботинках и с непокрытой головой золотистого цвета. Около мальчиков Костя увидел Липу Березову. Она стояла с равнодушным, скучающим выражением лица. Голова ее была повязана клетчатым платком, поверх пальто висел материн фартук. Одной рукой Липа держала ведро, на дне которого лежала тряпка, другой проворно бросала в рот кедровые орехи, разгрызала их и выплевывала скорлупки.
— Куда собрались? — удивился Костя, зная, что школу ребята прибирают обычно после уроков.
— К тебе. Открой дверь, Костя, — сказал Намжил, спрыгивая с завалинки.
— У меня баба Саша больна. Нельзя ее беспокоить.
— Мы не беспокоить, мы помогать, — пояснил Женька.
Ребята переступили порог и снова поздоровались.
Намжил повесил на вешалку пальто. Ганька с трудом высвободил уши из кепки, а затем снял ее с головы. Липа осторожно поставила на пол ведро, стараясь не загреметь дужкой, ладонью обтерла с губ крошки от ореховых ядер и шелухи.
— Ну, вот пришли, — сказал Намжил, и его смышленые, живые глаза выразили явное удовлетворение.
— А ты, Костя, шел бы в школу. Мы и одни управимся, — посоветовал Женька.
Костя обрадовался этим словам:
— Я и в самом деле побегу.
— А что же готовить к завтраку? — спросила Липа сильным, низким голосом с хрипотцой.
— А вы макароны с сыром сделайте. И приберите немного. Это вы молодцы, здорово придумали!
— Мы каждый день, Костя, будем так, пока баба Саша не поправится! — с торжественной ноткой в голосе сказал Ганька.
— Ну, каждый день надоест. Я-то вас знаю как облупленных.
— А мы посменно, — успокоил Ганька вожатого. — Мы для тебя, Костя, на морское дно за кораллом нырнуть можем! — Он гордо выпрямил грудь, отставил ногу и приподнял голову.
Ребята фыркнули. Костя тоже. И сам Ганька снисходительно улыбнулся своим словам.
Костя ушел в школу, а тимуровская команда приступила к работе. Липа сняла пальто и снова подвязала фартук, сбросила чулки и ботинки, подоткнула под туго затянутый платок непокорные русые прядки волос, и тряпка ее пошла гулять по крашеным половицам. Раз пройдет — смоет грязь и пыль, второй раз пройдет — пол заблестит, как зеркало. Липа постоит, полюбуется — и дальше…
Ганька с Женькой ушли во двор колоть дрова. Ганька снова забрал в кепку волосы и уши. А у Женьки кепка в кармане: пусть все любуются на светлое золото его волос, ему не жалко!
Женька выкатил из сарая толстую чурку, Ганька резко размахнулся топором:
— Хэт!
Отточенное лезвие впилось в дерево, образуя глубокую трещину. Ганька прижал чурку ногой, вытащил топор, размахнулся и опять крикнул:
— Хэт!
Топор вошел в трещину, и чурка развалилась на две половины. Ганька взял топор наперевес, как копье, откинул голову, слегка прищурился и высокопарно сказал:
— Сэр! Я уничтожил его в одну секунду. И так будет с каждым, кто посмеет посягнуть на вашу честь.
Женька склонился перед другом в глубоком поклоне, выхватил кепку из кармана и несколько раз обмел ею вытянутую вперед ногу.
Им было весело соединять дело с игрой.
Совсем другое выпало на долю Намжила. Он должен был приготовить макароны с сыром. О таком кушанье он никогда не слыхал. Намжил разломил макароны на мелкие кусочки, бросил их в кастрюлю и залил холодной водой. Положил чайную ложку соли. Потом подумал и добавил еще столовую ложку. Но что нужно было делать с куском сыра, который лежал на столе, Намжил не знал.
— Липа! — тихонько позвал Намжил.
Но Липа не слышала. Она в этот момент ползала с тряпкой под кроватью Александры Ивановны. Из-под вязаных кружев простыни выглядывали только грязные пятки девочки.
— Эх ты, Липа-береза! — со вздохом пробормотал Намжил.
Он покрутил в руках кусок сыра, прикинул его на вес и решил, что будет граммов четыреста. Если бы еще граммов сто! А то, что делать с четырьмястами граммами?
Вскоре, пятясь как рак, Липа вылезла из-под кровати и, размахивая тряпкой по двум крайним половицам, приблизилась к двери.
— Слушай, Липа-береза, — зашептал Намжил, — как соединяют макароны с сыром?
Липа выскочила в кухню, заморгала светлыми ресницами и вскинула вверх острые плечики точно так, как она это делала, когда ее врасплох вызывали к доске.
— Наверно, сыр сварить надо, — сказала она.
— Ну, а потом?
— А потом в макароны положить и с маслом…
Намжил махнул рукой и вышел на улицу, где, уже забыв о дровах, весело боролись Женька и Ганька.
— Дураки! — сердито крикнул Намжил, искренне сожалея, что не взялся за рубку дров. — Стойте! Как приготовить макароны с сыром?
— Не знаю, — честно сознался Женька.
А Ганька важно сказал:
— Это одно из сложнейших итальянских кушаний. Наш великий классик Гоголь очень любил макароны. Честное слово! Я читал в серьезной книге. Делается это так: сыр режется на куски и поджаривается на сковородке. А затем берется прибор для набивки папирос и вареные макароны набиваются сыром.
Намжил испугался.
— Каждая макаронина? — с недоверием спросил он.
— А как ты думал? Намжил вернулся в кухню, положил сыр на сковородку, но, к его ужасу, сыр молниеносно начал плавиться и превращаться в тягучую жижу.
Намжил проворно снял сковородку и стал думать, как быть дальше. Около него с тряпкой в руках громко вздыхала Липа.
— Не вздыхай! — раздраженно сказал Намжил. — Мой руки, и будем придумывать, что делать с макаронами.
Липа ополоснула руки под рукомойником, вытерла их фартуком. Но ни она, ни Намжил ничего придумать не могли, а беспокоить больную вопросами не решались. В отчаянии Намжил вытряхнул слипшиеся макароны в тарелку, сложил туда же четыреста граммов плавленого сыра, и Липа со страхом понесла больной бабе Саше «сложнейшее итальянское кушанье».
7
Вечером Александра Ивановна сказала внуку:
— Вот попробуй, Костя, что сготовили твои «помощники».
Костя взял с тарелки несколько пересоленных макарон с плотно застывшей на них желтоватой массой плавленого сыра, попробовал, но тут же незаметно от бабушки положил назад на тарелку.
— Это они по неопытности, баба Саша. Научатся.
— Липа вот, верно, прибрала на совесть, — оглядывая чистую комнату, продолжала Александра Ивановна.
— Завтра другие придут, баба Саша… — рассеянно сказал Костя.
В эту минуту он думал о своем. Было тоскливо на сердце. Не хотелось вспоминать о том, что случилось с ним час назад, но мысли упорно возвращались к одному и тому же…
В свободное время он любил ходить по школе. В этот раз он зашел в учительскую, заглянул в кабинет директора, обошел оба этажа и остановился у доски расписания уроков. Уроков у Елизаветы Петровны не было. Но так хотелось видеть ее! Костя решил пройти мимо ее дома. Он часто ходил здесь, и, случалось, Елизавета Петровна увидит его из окна, окликнет, позовет в дом. Или откроет окно, перемолвится словом, а то и сама выйдет на улицу.
Костя прошел мимо заветного дома с белыми ставнями и цветущими геранями на подоконниках. Дом безмолвствовал. Недвижимы были и шторы на окнах.
Костю неудержимо потянуло туда, где вчера над рекой сидел он с Елизаветой Петровной. Захотелось сесть на то же бревно, закрыть глаза и представить, как, смеясь, коснулась она рукой его волос.
И он пошел туда. Сел на бревно. Закрыл глаза…
Вдруг где-то совсем близко послышался мужской голос:
— Любовь бывает разная, Лиза. Моя любовь к тебе…
Шум ли ветра или стук встревоженного сердца заглушил этот голос, Костя не понял. Он знал лишь одно: мимо прошла Елизавета Петровна. Прошла не одна. Костя зажмурился, он не мог взглянуть на того, кто сказал эти страшные слова.
На сердце стало темно и пусто…
Наконец Костя открыл глаза. У ног его тихо струилась река. В прозрачной синеве были видны темные верткие тельца маленьких рыбок. Где-то в вышине, в неспокойном сером небе, гудел самолет.
Улететь бы вот так же куда-нибудь далеко-далеко и никогда не возвращаться в Веселую Горку, не встречать Елизавету Петровну!
«Кто же он?» — подумал Костя и тут же сорвался с места, побежал по тропинке к селу. Там никого не было.
Тогда он бросился назад, но не тропой, а лесом, раздвигая колючие ветви боярышника и елей, у подножия которых стелились по земле мягкие и душистые ветви пихты.
Лес кончился. Появилась поляна с желтеющим ежиком скошенной травы.
И здесь никого не было.
Костя побежал в другую сторону. Там стояли белостволые плакучие березки, грустно свесив ветви с ярко-желтой листвой. Белые-белые стволы, чистые, как молодая совесть; листья — того цвета, который принято считать изменой: и эти руки-ветки берез были трагически опущены, точно от нестерпимого горя…
Костя упал на траву и заплакал. Плакал долго, до тех пор, пока не стало легче, пока не смог рассуждать спокойно. Ей двадцать пять. Ему девятнадцать. Она учительница, которую уже называют по имени и отчеству. Его даже первоклассники зовут Костей. Но зачем же еще вчера она дотрагивалась до его головы? Зачем улыбалась ему? Зачем искала с ним встреч?..
И вдруг новая мысль успокоила Костю: тот неизвестный говорил о любви. Она молчала. Кто же может не любить ее?.. Костя поднялся и медленно пошел в школу, то успокаивая себя, то отчаиваясь.
Хороша золотая осень в суровой Восточной Сибири! Ясная и яркая голубизна неба, щедрый солнечный свет, кажется, ласково говорит: «Смотрите, как величава и прекрасна природа, как она успокаивает».
Костя шел по лесу и действительно с каждым шагом становился спокойнее.
Уже отцвели удивительные сибирские лесные цветы. Не горят в зелени трав оранжевые жарки и царские кудри. Не найти смешных, точно сделанных из розового ситца в крапинку кукушкиных сапожек. Не красуются на полянах и взгорках желтые лилии, пышные, с желтой сердцевиной пунцовые марьины коренья и пестрые саранки, клубнями которых в эту осеннюю пору любят лакомиться ребятишки.
Но зато теперь поражают взгляд многоцветные осенние краски: пурпурные рябины и боярки разнообразят оранжевые осинники, березки светлым золотом оттеняют вечнозеленые могучие кедры.
Костя вышел из леса к широкому полю. Почти у самой дороги разворачивался трактор. Костя не поверил своим глазам. За рулем сидел шалун и лентяй Митюхин.
Еще в прошлом году на педсовете Костя предложил не допускать к управлению тракторами и автомобилями тех ребят, которые получали двойки. Педсовет это предложение принял. Управлять машинами было любимым делом мальчишек. Лишиться права сидеть за рулем считалось самым тяжелым наказанием, и учиться ребята стали лучше.
— А ну-ка, остановись! — крикнул Костя.
Митюхин остановил трактор, виновато спрыгнул на землю.
— Ты почему за рулем?
— Я исправлю, Костя, честное комсомольское, исправлю! — горячо сказал Митюхин, размазывая засаленным рукавом синей рубахи пот по грязному лицу.
— Исправишь, тогда и за руль сядешь. А где Малинин? Ведь он должен работать на тракторе.
— На речку побежал пить. А руль мне передал. Разреши, Костя…
— Ну, садись пока. А Малинину я покажу речку!
Шум трактора заглушил Костины слова. Митюхин включил скорость, и трактор пополз дальше, врезаясь плугами в землю.
Костя не видел плутоватой улыбки на лице Митюхина. А тот подумал: «Ищи, ищи… Дрыхнет твой Малинин. А мы и с двойками можем за баранку держаться».
Митюхин, по-видимому, не очень хорошо знал старшего пионервожатого.
Спустя несколько минут, осмотрев речной берег, Костя приказал ребятам из школьной бригады, которые в этот день работали на полях:
— А ну-ка, обшарьте тальники. Не мог же Малинин исчезнуть бесследно.
Те бросились в кустарник. Вскоре послышались их победные крики:
— Нашли! Нашли-и!
Костя поспешил к ребятам и увидел, что они тащат Малинина — кто за ноги, кто за руки. Малинин со сна еще ничего не понимал и даже не отбивался.
— Ты почему самовольно бросил трактор? — грозно спросил Костя.
Малинин понуро молчал.
Когда Митюхин увидел Костю с Малининым, он был так поражен, что снял руки с баранки и заглушил трактор.
— Малинин — на трактор! Митюхин — к силосорезке! — не повышая голоса, распорядился Костя. — А бригадир почему ушами хлопает? — с упреком поглядел он на смущенного широколицего румяного девятиклассника.
Мальчишки переглянулись. Им очень нравилось, когда старший пионервожатый становился похожим на настоящего армейского командира.
К школе Костя подошел почти совсем успокоенный.
На крыльце стояла Елизавета Петровна. Она увидела Костю и поджидала его. В руках она держала разноцветную стопку тетрадей. Светлое расстегнутое пальто развевал ветер, открывая узкую короткую черную юбку и, может быть, чрезмерно полные, но стройные ноги. Ветер шевелил завитки волос, выбившиеся на висках из тугой косы, обвивающей голову. Лицо горело густым румянцем. А глаза и губы ласково улыбались.
Костя поднялся на ступени крыльца и неожиданно для себя сказал:
— Я сидел на бревне у реки. С кем ты была там сейчас, Лиза?
Щеки ее стали еще пунцовей. Губы задрожали от смеха.
— Костя! Что за допрос? — Она не рассердилась, но смутилась.
Легко сойдя с крыльца, слегка закинув голову, она пошла медленно и величаво. А Костя смотрел ей вслед до тех пор, пока к нему не подбежали первоклассники.
— Костя, Костя! — кричали они наперебой. — Возьми нас в поход!
— Не Костя, а Константин Павлович! — сердито оборвал их вожатый. — Сколько раз говорить вам! — И он ушел в школу, громко хлопнув дверью.
А ребята изумленно переглянулись. Никогда они не видали старшего пионервожатого таким рассерженным.
В вестибюле встретился Илья Ильич. Он шел торопливо и, казалось, раздумывал о чем-то важном, чем-то был озабочен.
— Костя, — сказал он, — что за новшество ты проповедуешь? Директор из Семиреченской восьмилетки жаловался. Говорит, ты их вожатым головы крутишь.
Илья Ильич снизу вверх с любопытством посмотрел на рослого юношу.
— Я же не настаиваю, — пожал плечами Костя, — я только свою точку зрения высказал. Так, мол, я бы поступил, если бы был вожатым восьмилетней школы…
— Отменил бы учком? — с еще большим любопытством спросил Илья Ильич, и брови его высоко поднялись.
— Отменил бы, — убежденно сказал Костя. — Я уверен, что в восьмилетней школе учком не нужен. Все должна делать пионерская дружина. Есть совет дружины — зачем же учком? Есть председатели советов в отрядах — зачем же старосты?
— А соревнования между классами? А дежурства и другие хозяйственные дела? — спросил Илья Ильич.
— Ими тоже совет дружины заниматься должен. Вы поймите, Илья Ильич, много лет назад во всем этом был смысл — пионеров тогда по пальцам считать можно было, а теперь все пионеры…
— М-м-м… — неопределенно отозвался Илья Ильич и задумался. — А знаешь, Костя, это любопытная мысль. Я посоветую директору восьмилетки попробовать упразднить учком…
— Он побоится, — усмехнулся Костя.
Илья Ильич еще выше вскинул брови. Но разве можно директору и пионервожатому так долго разговаривать в вестибюле школы? За спиной того и другого уже стояли ученики с вопросами наготове.
— Ну, что тебе? — недовольно спросил Илья Ильич вздыхающего за его спиной девятиклассника.
А Костя в окружении ребят направился в пионерскую комнату.
Ребята быстро разошлись, и он остался один. Видимо, они почувствовали, что Косте почему-то не до них. Он закрыл дверь на ключ, сел в угол и, привалившись к стене, задумался.
О своей любви Костя думал часто и много, Любовь эта наполняла его сердце, она озаряла все, чем он жил. Он знал, что никогда не осмелится сказать Елизавете Петровне о своем чувстве. Знал и то, что она никогда его не, полюбит. И, несмотря на все это, он не пытался заглушить свою любовь. Его влекло ко всему, в чем была большая душевная красота. Такая душевная красота была и в его чувстве к Елизавете Петровне, чувстве чистом и светлом.
8
В субботний день после двух уроков (остальные Елизавета Петровна разрешила отменить) Костя ушел с пионерами в поход.
День выдался сухой, ясный, чуть ветреный. По-осеннему бледное небо было безоблачным. На западе, за тайгой, пряталось большое, круглое солнце. Оно казалось нестерпимо раскаленным, но на землю падали его уже не жаркие лучи.
Длинная колонна пионеров растянулась по дороге. Ребята шли с рюкзаками и мешками за спиной, с топорами, ведрами, лопатами в руках. Шли бодро, иногда с песней, порой под четкую барабанную дробь. Веселый смех, говор, выкрики то и дело оглашали притихший лес.
Давно остались позади неуютные осенние поля, проселочные дороги с колеями, неровно схваченными заморозком, опустевшие избы полевых станов. Ребята поднимались в гору чуть заметными охотничьими тропами, перевитыми вечнозеленым стелющимся пихтовым подлеском, ступали по мягкой подстилке из кедровой хвои.
Костя шел впереди, в брезентовом плаще, в сапогах, с то́зовкой[2] за плечами.
Вдруг он остановился. Пригляделся к стволам кедров и воскликнул:
— Стойте, ребята! Сколотень!
Несколько рук дружно подхватили огромный деревянный молот-сколотень и стали бить им по стволу.
С кедра посыпались шишки. Они на мгновение задерживались на ветвях, затем падали и терялись во мху.
Многих ребят увлекла брусника. После ночных заморозков она была сладкой, и ее темно-красные, крупные грозди лежали на поблекшей зелени сплошным ярким ковром.
Пришлось сделать привал. Почти час ребята развлекались сбором брусники и шишек. Брусники набрали огромный жестяной чайник, шишками набили карманы и рюкзаки и только после этого двинулись дальше.
Надо было засветло подняться на Медвежью гору, найти в скале пещеру, защищенную от ветра, дождя и снега, ту самую, в которой тысячи лет назад жили первобытные люди. До сих пор сохранились в этой пещере рисунки древних людей и следы копоти от их костров.
Здесь ребята должны были переночевать, а на рассвете двинуться по основному маршруту.
Прежде чем повести сюда школьников, Костя один и с пионерами-разведчиками не раз прошел по этим тропам. Еще летом в пещере был сделан запас дров для костра, заготовлено сено для ночевки. Теперь старший пионервожатый уверенно вел своих пионеров, приглядываясь к затесам и заломам на деревьях, к вехам на скалах, оставленным еще в разведывательных походах.
С начала учебного года пионерская организация школы стала собирать сведения о действиях партизанского отряда в горах во время гражданской войны, о юном партизанском разведчике Володе Заречном, доставлявшем отряду из села «Господи пронеси» не только важные сведения, но и боеприпасы. Сборы исторических материалов увлекли пионеров. И сейчас они шли в поход, волнуясь и страстно желая найти партизанскую избушку, в которой был убит Володя Заречный.
Ребята знали неумолимую строгость вожатого. Он сказал им, что в поход пойдут только успевающие и дисциплинированные. Те, кто имел двойки, исправились, кто нарушал дисциплину, забыли о шалостях. И школа вышла на первое место в районе. Костя был горд.
С особым нетерпением ждали ребята ночевку в пещере. Многие говорили потом, что никогда в жизни не забудется торжественно-приподнятое состояние, которое не покидало их в часы пребывания в древнем жилище.
У подножия скалы во мраке горел костер, освещая вход в ближнюю часть пещеры. С любопытством и волнением десятки глаз разглядывали высеченные на камне чуть заметные изображения медведя и человека с копьем.
— Костя, а может, это сделал совсем не древний человек? — вдруг усомнился Ганька.
— А помнишь, что рассказал нам учитель из Семигорской школы? — спросил Костя.
— Помню, — сказал Ганька.
И, хотя рассказ учителя многие хорошо знали, ребятам захотелось вновь услышать эту волнующую историю.
— Сеня, — обратился Костя к высокому мальчику в зимней мохнатой шапке, надвинутой по самые глаза: из-под шапки выглядывал только унылый нос. Нижняя часть лица терялась в меховом воротнике. Костя сдвинул со лба Сени шапку, опустил его воротник, и пламя костра осветило живые глаза и добродушные губы мальчика.
— Закаляться надо, — сказал вожатый, легко поддавая ему подзатыльник. — Так что́ поведал тебе Павел Ефимович?
Сеня в ответ швыркнул носом; на открытом лице его нос казался меньше и жизнерадостнее.
— Простуженный, и всё, вот и прячу голову в шапку, — жалобно сказал он и помолчал. — Вот побывали мы в Семигорском. Село как село. Клуб есть, и школа не хуже нашей.
— Да ты короче!.. Что учитель-то говорил? — наперебой закричали ребята.
— Ну, вот учитель, — снова заговорил Сеня. — Старик. Весь седой. Старый-престарый. Руки дрожат. Ногу волочит. А глаза веселые, не стариковские.
— Да ты что, писатель или художник? — возмутился Ганька. — Нас не учитель, а партизаны интересуют.
— Ну, а я про что говорю? — пожал плечами Сеня. — Семигорский учитель сам эту пещеру нашел еще до революции. Он привозил ученого из города. Ученый признал, что рисунок сделан древними людьми, хотел вырезать его из скалы и в музей забрать. Ну, а тут революция началась. Не до камней. Про пещеру-то и забыли. А когда народ пошел в горы партизанить, учитель вспомнил про нее и рассказал партизанам. — Сеня обернулся, взглянул на небольшое отверстие в скале, со всех сторон прикрытое выступами и сплошь затянутое копотью от очагов первобытного человека и партизанских костров. — Вот и жили они тут. А где-то поблизости от пещеры должна быть охотничья избушка. В ней и погиб Володя Заречный. Он отстреливался от солдат карательного отряда.
— Костя, пойдем сейчас же искать избушку! Разреши побродить возле скалы! — стали просить ребята.
— Сейчас всем спать, — приказал Костя. — Дежурные — к костру. Смена через каждые два часа.
В пещере ребята зарылись в душистое сено, прижались друг к другу и, согретые теплым дыханием костра, безмятежно уснули.
Костя снял тозовку, прислонил к каменной стене, прилег на сено. Он посмотрел на светящийся циферблат часов и подумал, что ему никак нельзя проспать: через два часа предстояло разбудить новую смену дежурных.
Он лежал и смотрел на слепящее пламя костра у входа в пещеру. За костром, в непроглядном мраке, терялись тайга и небо. Потрескивали дрова, взлетало вверх пламя. И, когда освещенные огнем маленькие силуэты дежурных склонялись к костру и палками ворошили черные головни, вверх летели мелкие, яркие искры.
— Смотри, смотри, звезда покатилась! — зевая, с хрипотцой в голосе сказал дежурный. — А вон другая…
— А вон видишь звездища какая — Сириус. Первой величины, — заговорил тонким, приглушенным голосом другой дежурный, не выговаривая шипящие буквы. — Может, и там вот так же стоят люди и смотрят на Землю.
— Дурак! — перебил голос с хрипотцой. — Сириус звезда, как наше солнце. А люди могут жить только на планетах.
Костя сел, опираясь о стену пещеры и чувствуя спиной ее холодный камень. Некоторое время он посидел, прислушиваясь к потрескиванию костра и тихому говору дежурных.
Спать решительно не хотелось. Он встал и вышел из пещеры.
— Дремлете? — спросил он дежурных.
— Ничуточки, — бодро ответил тонкий голос. И у него получилось: «Ничутоски».
А другой дежурный сладко зевнул и признался:
— Залег бы — и до утра…
Можно было отправить ребят спать и не будить следующую смену. Но Косте хотелось провести поход по всем пионерским правилам. Он отошел от дежурных, присел на уступ скалы и стал смотреть в темноту. И вскоре начал различать неяркие звезды на небе, очертания деревьев на земле.
Он вспомнил слова мальчугана о жизни на Сириусе и подумал, что вот так же миллионы лет назад, может быть, на этом уступе сидел человек, одетый в шкуру… Так же пылал у входа в пещеру костер… На небе светились те же самые звезды, и вокруг шумел лес… Люди рождались, жили, умирали. Шли годы, десятилетия, века… а лес все шумел, звезды мерцали и мерцали… Косте стало тоскливо. Появилась жалость к маленьким людям, которые, прижавшись друг к другу, беззаботно спали в пещере, а двое у костра охраняли их покой. Стало жаль и себя. Промелькнет его малюсенькая жизнь, и не останется следа от этой жизни. А звезды так же будут мерцать в вышине. И деревья будут шуметь вершинами…
Вдруг в тайге затрещал сломанный валежник. Костя насторожился, подался вперед.
Дежурные ничего не слышали.
— У тебя, Тимка, какое самое-самое большое желание? — зевая так, что щелкнули челюсти, спросил в темноте все тот же голос с хрипотцой и, не дав товарищу ответить, сказал: — У меня — лесных голубей заиметь…
В лесу стало по-прежнему тихо. Костя улыбнулся.
«А чего же я хочу больше всего? — подумал он. И не нашел ответа. Желаний было так много, что он не знал, какому отдать предпочтение. — И все же жить стоит, — продолжал Костя мысль, прерванную шумом в тайге, — пусть даже она по сравнению со Вселенной — миг…»
— А может быть, стоит жить только тем, кого природа наградила талантом? Талантливые — они приносят большую пользу человечеству. Может быть, жизнь только этих исключительных людей красива и осмысленна, а жизнь остальных — лишь борьба за существование?
Костя увлекся и по привычке стал разговаривать сам с собой.
Дежурные прислушались, перемигнулись. Они давно знали эту привычку вожатого.
— Да, людям одаренным в тысячу раз легче жить на земле. Жизнь их целеустремленна. Это определено их талантом. А вот такие, как я?..
Костя задумался.
Так просидел он несколько минут.
Профессия учителя и пионервожатого сейчас больше чем когда-либо показалась Косте значительной и важной.
— Я знаю свое самое большое желание и знаю, зачем я живу. Я хочу научить их преодолевать любые трудности. Я очень хочу, чтоб они выросли честными, любознательными… — шепотом сказал Костя.
— Костя, я совсем хочу спать! — с завываниями от беспрерывной зевоты сказал мальчик с хрипловатым голосом.
Костя встрепенулся, взглянул на часы. Подошло время заступать новой смене.
— Поднимайте очередных, — сказал он и, почувствовав, что продрог, подошел к костру.
…Вот и последняя смена дежурных стала у костра, а Костя то грелся, то уходил и садился на выступ скалы.
Сумрак редел. В зеленых лесах проступили неуютные пади со снегом в ложбинках. Хмурое, неспокойное небо низко нависло над горами.
Теперь Костя думал о Елизавете Петровне, и так же неспокойны и хмуры были его мысли.
«За что я люблю ее? — мысленно спросил себя Костя и ответил: — А за что человек любит солнце? От солнца свет, тепло, жизнь, радость, красота. И она как появится — все вокруг оживает, становится светлым и радостным».
Костя так ярко представил себе Елизавету Петровну, словно стояла она рядом в своем сером распахнутом пальто — руки в карманах, голова с золотистой короной из кос приподнята. Щеки ее заливает изменчивый румянец, глаза светятся далекими, недосягаемыми звездами… Вот она дотронулась рукой до волос Кости. Он замер, ощущая нежность и тепло ее руки.
…И еще на рассвете этого дня Костя подумал о том, что, наверно, не каждому человеку дано любить. О любви он не раз разговаривал с товарищами. И все они признавали только взаимную любовь. «Ну, а если она не любит?» — с удивлением спрашивал Костя. «Тогда лучше разойтись в разные стороны и забыть». «Какая же это любовь, если ее так легко избежать?» — недоуменно спрашивал себя Костя. Нет, он не мог избежать своей неудавшейся любви. Не мог и не хотел.
…Рассвело. Костя разбудил ребят. Они долго потягивались, зевали, но затем резво вскочили, напились горячего чая и двинулись на поиски избушки.
Бродили до полудня, прочесывая тайгу, но никаких следов партизанской избушки не обнаружили.
Костя шел все время сзади пионерской цепи. Он и не надеялся на успех. Еще в разведке весной стало ясно, что избушка не сохранилась. Затерялся и взгорок, где она стояла. Годы покрыли его травой, кустарником, деревьями. Но Косте важно было пробудить в пионерах интерес к истории родного края, увлечь их поисками.
— Не пищать! — сказал Костя разочарованным ребятам. — Большим делам всегда сопутствуют неудачи, разочарования, падения и взлеты! Не найдем избушки — примемся за поиски могилы Володи Заречного.
Ребята приободрились, заговорили о том, что вот найдут они Володину могилу и назовут школьную пионерскую организацию его именем.
— Отряд имени Володи Заречного! Правда, ребята, звучит здорово! — увлеченно сказал Костя.
9
На другой день пионеры вернулись. Костя поспешил к Илье Ильичу доложить о результатах двухдневного похода.
— Жаль, жаль, что не нашли избушку, — сказал Илья Ильич. — Может быть, ориентиры неверные?
Костя опустил глаза и пожал плечами. В эти минуты впервые у него мелькнула мысль: «Нехорошо поступил я, скрывая от всех, что избушки давно уже нет!» И решил покаяться Илье Ильичу.
Тот выслушал его внимательно, подумал и с усмешкой спросил:
— А может, и Володя Заречный не в наших лесах погиб?
— Что вы, Илья Ильич, это подтверждают очевидцы!
— А ты лишнюю романтику не выдумывай. У нас ее невыдуманной достаточно, — сказал Илья Ильич и как-то по-особенному пристально посмотрел на Костю. На лбу у директора образовалась строгая морщинка, но карие живые глаза оставались добрыми и располагающими. — Звонили из города, — помолчав, сказал Илья Ильич. — Статья на днях появится.
Костя снова опустил глаза и подавил вздох. Опять подступили сомнения: не рассказать ли обо всем, пока не поздно, Илье Ильичу? Не покаяться ли и в этом? Ведь пропажа не обнаружилась до сих пор. Следовательно, это была не шутка, а кража.
— Почему ты не сказал корреспонденту, что буфет и вешалка — твоя инициатива? — продолжал Илья Ильич.
— По-моему, это неважно. Важно, что этот факт произошел и его подхватят другие школы.
Илья Ильич усмехнулся.
— Хитришь, — сказал он. — Разве не приятно прочитать в центральной газете похвальные слова о себе?
— Безразличен я к этому, — твердо ответил Костя.
— В девятнадцать-то лет? Не поверю.
— А я говорю правду, Илья Ильич. Меня это не трогает.
— Ну, если не хитришь, — молодец! На удочку дешевенького успеха попадаться не стоит. Постарайся сохранить это качество. Жить легче будет. Как Александра Ивановна, не лучше ей?
— Боюсь за нее, Илья Ильич.
10
…В самом деле, возвратившись из похода, Костя заметил, как сдала за эти дни Александра Ивановна.
— Баба Саша, что у тебя болит?
— Ничего вроде. Слабость только.
— А поесть чего-нибудь хочешь?
— Ничего не хочу.
Она закрыла глаза. Костя впервые заметил желтизну ее лица и рук, черные тени в провалившихся глазницах.
Он вышел в кухню, тихонько, на носочках. В эту минуту он почувствовал, как дорога ему Александра Ивановна — единственный кровно родной человек на всем белом свете.
Костя тоже не захотел ужинать. Он взял книгу, сел к окну. Ему показалось, что приближается грозовая туча. Она закрыла солнце, и все вокруг потемнело. Свинцовая косматая туча грозно обнимала мир со всех сторон, вот-вот разразится громом и молнией. И Костино сердце сжала щемящая тоска.
«Должно быть, это и называется предчувствием», — подумал он.
На цыпочках он подошел к двери, взглянул на Александру Ивановну. На белой подушке желтел ее профиль. Глаза были закрыты.
— Спит… — прошептал Костя и снова склонился над раскрытой книгой.
Он читал, перелистывая страницы, но думал о другом. Вспоминал свою жизнь. Вся она была связана с Александрой Ивановной.
Каждое лето Лазовниковы приезжали из города в Веселую Горку, в уютный, небольшой бабушкин домик. Машина останавливалась у ворот. Костя наспех целовал бабушку, заглядывал в кухню, в горницу, как по старинке называла Александра Ивановна просторную комнату с бревенчатыми, окрашенными желтой краской стенами. Мчался во двор, под навес, где стоял дедушкин верстак, лез на сеновал, кувыркался в прошлогоднем сене, целовал в черный мокрый нос мохнатого рыжего Степку с черными пятнами над бровями, отчего казалось, что пес все время удивляется. Затем шел на реку.
Мать осталась в памяти Кости статной черноокой красавицей Оксаной из «Ночи перед рождеством». Никто не удивился бы, если бы она пожелала черевички с государыниной ноги. Она нигде не работала, со страстью наряжалась, и в тридцать два года, когда Косте было двенадцать лет, а отцу сорок восемь, бросила мужа и сына и уехала с каким-то инженером в другой город.
Тогда-то Костя и переехал жить в Веселую Горку. Отец оставался в городе. Вскоре и он женился — на двадцатилетней девушке.
Костя очень хорошо помнил тот день, когда отец приехал за ним. Высокий, широкоплечий, с карими блестящими глазами и совершенно седыми волнистыми волосами, он показался сыну совсем чужим. Костя ухватился за бабушкину руку и не захотел поцеловать отца.
Мальчика отправили спать в кухню. Но он босой стоял на холодном полу, приложив ухо к двери, и слышал разговор бабушки с отцом.
Бабушка сказала:
— Девчонке, которая может быть тебе дочерью, я внука не доверю. На суде докажу, что права. Нет у Кости ни отца, ни матери. Такая судьба его несчастная.
Отец возражал, доказывал. Они спорили и ссорились до полуночи. А Костя все стоял у двери, поджимая то одну, то другую озябшую ногу. Он не мог отойти — за дверью решалась его судьба.
— Жена будет относиться к нему как к сыну, — говорил отец.
Костя помнит, как бабушка с горечью воскликнула:
— Жена на тридцать лет моложе мужа — не жена. Это бессовестная, расчетливая девка, которую ты купил своей хорошей зарплатой! Жена! Неужели ты поверил, что она по любви к тебе пришла? Где разум твой? Где опыт жизни?
После этих слов разговор перешел в ссору, и, возможно, эта ссора продолжалась бы до рассвета, если бы не произошло неожиданное. Костя рывком открыл дверь и босой, в нижнем белье вошел в горницу. С бьющимся сердцем, бледный, с покрасневшими от слез глазами, он остановился на середине комнаты и сказал:
— Спорить бесполезно. Сейчас не царское время. Как я скажу, так и будет.
Бабушка и отец изумленно притихли, потом подумали: «А в самом деле, мальчику-то тринадцать лет».
Неожиданно для себя Костя обхватил руками худенькое тело бабушки, прижался к ней и горько заплакал.
— Уезжай, уезжай сейчас же, — сквозь слезы крикнул он отцу, — оставь нас с бабушкой… Нам с ней хорошо без тебя…
Трясущимися руками бабушка обнимала внука, обливалась слезами и, задыхаясь, твердила:
— Куда лучше-то! Жить будем душа в душу.
И верно, эти шесть лет прожили они дружно. Отец аккуратно присылал деньги. Писал письма. Костя отвечал ему вежливыми короткими записками, терпеливо отсиживал с ним часы в его редкие приезды и провожал с облегченным сердцем.
Два года назад пришла телеграмма о смерти матери. А вскоре умер и отец. Обе смерти не потрясли Костю. Отец и мать оставались для него чужими людьми. Семью, уют, родительскую ласку — все дала ему бабушка. Недаром и звала она его «сынок».
Александру Ивановну Костя любил как мать, но, кроме того, и уважал ее. Много лет избиралась она председателем колхоза. Он помнил ее в эти годы: всегда озабоченная, энергичная, властная, крепко держала она в руках сложное колхозное хозяйство.
Он вспоминал бабушку на поле в окружении колхозников. На ней черная юбка и белая кофточка, на ногах аккуратные сапожки. Волосы гладко зачесаны на прямой пробор, и голова покрыта белым в крапинку платочком. Вот сидит она за столом в правлении, подписывает бумаги. Народ обступил ее со всех сторон. По комнате расползается едкий дым от самосада.
Вспомнилось, как однажды утром бабушка прибежала домой, проворно сбросила юбку с кофтой, надела цветастое старенькое платье и принялась за уборку. За час дом преобразился: в окнах засияли стекла, заблестели, будто покрытые лаком, желтые половицы.
Костю тоже охватило желание помочь бабушке. Он стал мыть посуду, чистить картофель. Бабушка растопила печь.
Как сейчас, слышит Костя веселое потрескивание горящих дров, теплое дыхание из чела русской печи. Прихватив ухватом чугунок, бабушка ставит его в печь. Но обед доварить не приходится.
В окно барабанит дядя Антип, член правления колхоза. Он кричит срывающимся, как у подростка, голосом:
— По радио говорили — заморозки ночью! — и сердито мигает густыми рыжими ресницами.
Бабушка поспешно переодевается, набрасывает полушалок на плечи, в руки берет черный жакет и, наказав Косте не закрывать без нее трубу, чтобы не угореть, убегает так же поспешно, как и прибежала…
Врезался в память и другой случай.
Костя просыпается ночью от жужжащего звука швейной машины. В темную горницу из кухни, где работает бабушка, из-под двери проникает скудный электрический свет. С другой стороны, в щели ставней, вползает рассвет.
— Баба Саша, иди спать! — требовательно говорит Костя.
Он знает, Александра Ивановна кончает шить ему рубашку, отделанную у ворота и на рукавах узорчатой каймой. Ему так хотелось надеть эту рубашку на школьный утренник!
Почему же раньше Костя не замечал этой самоотверженной заботы о нем бабы Саши? И почему в эти годы, когда она ушла с работы и томилась в одиночестве, он так мало уделял ей внимания? И только теперь, глядя на нее, беспомощную, Костя чувствовал и любовь к ней, и жалость, и томящие угрызения совести…
Во дворе стукнула калитка. На крыльце, затем в сенях послышались шаги, и в кухню вошла соседка Наталья Семеновна, полная шестидесятилетняя женщина. Голову ее туго повязывал белоснежный платок. Аккуратные кончики платка — сантиметр в сантиметр — торчали надо лбом. Свежевыглаженную пеструю юбку с оборкой прикрывал тоже белоснежный полукруглый фартук. Накрахмаленная белая блузочка и до блеска начищенные поскрипывающие туфли довершали ее одежду.
— Ну, как Ивановна? — прикрывая дверь, нагибаясь и поднимая с половицы соринку, спросила Наталья Семеновна.
— Все так же, — ответил Костя, и в тоне его голоса послышалась такая грусть, что Наталья Семеновна прослезилась.
— Что это твоя команда прибрала плохо? — Наталья Семеновна мазнула рукой по столу и, повернув ладонь, показала прилипшие крошки. Подошла к окну, ткнула пальцем в сухую землю горшка с цветком. — Не годится. Ты вот что, Костя, завтра присылай их к восьми утра. Я сама поруковожу…
— Я их не посылаю, Наталья Семеновна, это их добрая воля.
— Ну, коли так, без тебя все устроится. А еду Ивановне сама готовить буду.
Наталья Семеновна подошла к рукомойнику, вымыла руки и принялась хозяйничать.
С этого дня каждое утро пионеры являлись в дом своего вожатого и под началом Натальи Семеновны мыли, чистили, терли.
11
Больной становилось хуже. Она страдала от участившихся сердечных приступов.
Как-то утром Александра Ивановна сказала Косте:
— Жить мне, сынок, осталось недолго…
Костя побледнел и сел на стул возле кровати.
— Смерти я не боюсь… — Александра Ивановна говорила тихо, с трудом. Слова сливались, и казалось, это шелестит листва. Костя напряг слух. — Без дела мне все одно не жизнь, одна маета. Тебя жалко оставлять…
Она перевела дыхание, закрыла глаза. Под одной ресницей засветилась слезинка.
Костя судорожно вздохнул, дрожащей рукой расстегнул ворот рубашки.
— Самое главное, сынок, — дело. Без него нет радости… А потом — семья. Тут ты на свою семью смотри и учись. Вырос ты без родителей. Мать к другому мужу переметнулась, отец с девчонкой связался… Ладно, бабушка была. Слов нет, государство не бросило бы, а все же детство без родительской ласки — не детство… Так вот, придет тебе время невесту выбирать — на красоту не льстись, за лицом душу не прогляди, несчастья не оберешься… По себе все это ты знаешь. С разумом жизнь решай. Семь раз примерь, один раз отрежь…
Вовремя дала наказы внуку Александра Ивановна. К утру ее не стало. А еще через день похоронили ее в зеленой пади, на старом кладбище, которое старожилы называли Федотовым кладбищем, потому что первым был похоронен там Федот Стручков, основатель выселка. Дом его и сейчас стоит на окраине села — почерневший, покосившийся, похожий на старый гриб.
А жизнь шла по-прежнему. День сменяла ночь. Неделя бежала за неделей. Колхозники Веселой Горки так же трудились на полях, ребятишки бегали в школу. И только в жизни Кости закрылась страница, связывающая его с неповторимым прошлым.
В эти дни он был окружен заботой всего села. Илья Ильич старался держать старшего пионервожатого возле себя. На Ганьку и Намжила напала вдруг бессонница. Они жаловались, что дома не дают спать петухи и собаки, и бегали ночевать к Косте. Наталье Семеновне пришла охота ежедневно стряпать рыбные пироги, пельмени или шаньги, и все это она несла пробовать Косте.
И только та, забота которой могла быть самой дорогой и успокаивающей, проявила к Костиному горю полное равнодушие. Она, кажется, даже не была на похоронах Александры Ивановны. Впрочем, Костя точно не помнил этого. Он был слишком удручен смертью бабушки и на похоронах ничего не замечал.
Елизавета Петровна и всегда-то деятельная, энергичная, веселая, в эти дни находилась в особенном настроении. Она еще больше похорошела.
Звонкий смех ее то и дело звучал в учительской и на переменах, когда, окруженная влюбленными в нее старшеклассницами, она гуляла по коридору или второпях присоединялась во дворе к школьной волейбольной команде. Она умела ловко отразить два-три удара мяча и, разрумянившаяся, красивая, поправив свою золотистую корону волос, шла под укоризненными взглядами пожилых учителей заниматься делами.
Она все время куда-то спешила и теперь в школе находилась только те часы, которые были обозначены в расписании. Ей некогда было проявлять внимание к Косте. Поглощенная собой, она вдруг забыла о нем…
Но однажды Елизавета Петровна все же о Косте вспомнила.
Как-то вечером в ожидании Ганьки и Намжила Костя сидел над книгой в своем опустевшем, грустном доме и готовил институтское задание. Он услышал стук калитки, легкие, спокойные шаги на крыльце и почувствовал, что это идет она, Елизавета Петровна. Костя еще ниже склонился над книгой и поднял голову только тогда, когда Елизавета Петровна миновала кухню и вошла в горницу.
— Занимаешься? — весело спросила она.
Костя молча поднялся. Краска постепенно сходила с его щек, и лицо становилось бледным.
Елизавета Петровна вгляделась в него и ужаснулась:
— Похудел как!
Она близко подошла к Косте, с искренним участием обняла его и ласково, как ребенка, погладила по голове.
Костя порывисто отстранился.
«Только сейчас заметила и наконец пожалела», — подумал он.
Елизавета Петровна поняла его мысль.
— Друг мой, прости, — сказала она. — Ты несчастлив теперь, а я, напротив, непростительно счастлива…
Косте вспомнилось то ощущение приближения грозы, которое он пережил перед смертью Александры Ивановны. Он счел это за предчувствие… И вот опять на потемневшем небе, как мохнатое, страшное чудовище, ползла такая же туча. Она несла с собой страх, гибель надежд, мрак и отчаяние.
Костя опустился на стул.
— Друг мой, у всего есть конец, — продолжала Елизавета Петровна. Она придвинула стул поближе к Косте и тоже села. — Александра Ивановна прожила большую и очень хорошую жизнь, прожила красиво и честно. А твоя жизнь только начинается, и в ней будет еще столько хорошего!
С детства Костя привык откровенно разговаривать с Елизаветой Петровной.
— Самое страшное — потерять близкого человека, — тихо говорил Костя. — И я это теперь знаю… В жизни моей появилась странная пустота. Я привык заботиться о ней, особенно в последнее время, когда она лежала здесь… — Костя с тоской посмотрел на кровать. — Привык все время думать о ней, беспокоиться. А теперь ничего этого ей не надо. И так пусто, пусто…
Елизавета Петровна с сочувствием смотрела на Костю, и глаза ее затуманились слезами.
— Вспоминаю прошлое, — продолжал Костя, — и совесть мучает: не всегда был внимателен к ней, иногда груб…
— Но для нее ты сделал все, что мог. Ты был заботлив, ты любил ее. Не терзайся, Костя, не выдумывай, чего не было, — ласково уговаривала его Елизавета Петровна. — Тебе отвлечься нужно, даже развлечься. Вот я и пришла пригласить тебя завтра к себе… на свадьбу.
Она была жестока или недогадлива?..
Нет, она просто любила, и все, кроме ее любви, отошло в сторону. Да и Костино увлечение она всегда считала несерьезным, а теперь даже забыла о нем.
— Придешь?
Костя молчал.
— Придешь? — снова повторила Елизавета Петровна.
— Похороны и свадьба!.. Ты думаешь о том, что говоришь?! — грубо выкрикнул он.
Елизавета Петровна его не поняла:
— Я думала, ты развлечешься. Прости, пожалуйста.
Она встала.
Костя тоже встал. Лицо его было еще бледнее, чем прежде, В карих глазах стояла такая нестерпимая боль, что в них было страшно смотреть. И наконец она все поняла.
— Прости, — почти шепотом повторила она и медленно, опустив голову, пошла к двери.
12
Гроза разразилась и в третий раз. Поистине по народной пословице: «Пришла беда — отворяй ворота».
Заболела учительница четвертого класса, и Костя проводил вместо нее диктант. Он всегда с удовольствием занимался с ребятами, — с учебником в руках ходил между партами, останавливался и заглядывал в тетради учеников.
— «Около дерева лежал желудь», — медленно диктовал Костя.
Он прошелся по классу и увидел, что некоторые пишут «жёлудь», другие «жолудь», третьи «желудь». Ему захотелось подсказать, но разум взял верх над ребячеством.
— Костя, так правильно? — спросила хорошенькая пухлая девочка с тонкими белыми косичками, концы которых смешно загибались кверху. Она ткнула пухлым пальчиком в коряво написанное слово «жолудь».
Костя прошел мимо с каменным лицом, молча.
— Вредный какой! — сказала ему вслед девочка. — Тоже учитель!
— Тихо! — строго оборвал Костя. — За дверь захотела?
Девочка притихла.
Дверь открылась, и в класс вошел Илья Ильич. Ребята вскочили, радуясь тому, что можно пошуметь и расправить плечи.
Илья Ильич сделал привычный плавный жест, разрешая ученикам сесть, и обратился к Косте:
— Зайди, Константин Павлович, после урока.
Обращение по имени и отчеству не предвещало ничего доброго. Костя это знал и мысленно стал перебирать свои провинности. Ни на чем остановиться он не мог.
А директор окинул взглядом класс и чутьем опытного педагога сразу оценил обстановку: ребята работают серьезно, учитель стремится провести урок по-настоящему.
Илья Ильич ушел. Вскоре урок кончился, и Костя взял под мышку тетради, с удовольствием предвкушая, как вечером, вооружившись остро отточенным красным карандашом, он сядет за их проверку.
Не заходя в пионерскую комнату, Костя направился к директору. Тот велел закрыть дверь на ключ. И это тоже не предвещало ничего приятного.
— Я хочу знать, — без предисловий начал Илья Ильич, — что за номер выкинул ты с газетой?
Илья Ильич пододвинул к Косте развернутый на столе газетный лист.
Костя приподнялся, жадным взглядом пробежал по столбцам. На третьей полосе (как газетчики называют страницу) целый подвал под заголовком «Первые ласточки» был посвящен Веселогорской школе.
— Ласточки-то оказались липовыми! — грозно сказал Илья Ильич. — И ты это знал, пионерский вожак!
«Интересно, кто мог сказать ему? — подумал Костя. — Наверно, Лиза, больше никто не знал».
— Ты знал о пропаже денег и ботинок у Федорова и в тот же день давал ложную информацию представителю печати? Верно это?
Костя молчал.
— Молчишь — значит, верно! — еще более зло сказал Илья Ильич и ударил маленькой морщинистой рукой по столу.
Костя сидел перед директором ссутулившись, опустив голову, сжав в коленях руки.
— Ты покупал ботинки Федорову, чтобы скрыть пропажу? — снова спросил Илья Ильич, и Косте показалось, что директор с нетерпением ждал отрицательного ответа.
Но Костя молчал.
— Молчишь?
«Объяснить бы, почему я это сделал», — тоскливо подумал Костя, но пояснять ему ничего не хотелось: директор мог не поверить и посчитать все это выдумкой ради оправдания.
— Захотелось поболтать! Выдвинуться! — возмущался Илья Ильич. — Будем разбирать этот вопрос на педсовете. Можешь идти, если тебе нечего сказать в оправдание.
Костя взял под мышку свою пачку тетрадей, подошел к двери и дрожащей рукой долго не мог повернуть ключ.
Мысль о том, что его предала Елизавета Петровна, не оставляла его. Предала и даже не объяснила, для чего Костя это сделал.
Илья Ильич проводил Костю возмущенным взглядом и, когда закрылась дверь, заложив за спину руки, забегал по кабинету. Он не мог понять, почему так ошибся в Косте, ведь знал его с пятого класса. Костя всегда казался Илье Ильичу честным и прямым. И вот тебе раз! Костя — гордость, душа школы, его так любят ученики, уважают учителя и родители — и вдруг такой низкий поступок!
Илья Ильич прижал руку к сердцу, потянулся за валидолом.
13
В школе от учеников не остаются в тайне даже те события, которые происходят за директорской дверью. После разговора Ильи Ильича с Костей от одного ученика к другому поползла необычайная новость: у Кости крупные неприятности — кажется, случилась какая-то пропажа.
Ганька, Намжил и Женька во время перемен, стараясь держаться в отдалении от других ребят, строили различные предположения.
На большой перемене к ним подбежала Липа и сунула газету:
— Статью напечатали про нас!
— «Первые ласточки», — начал читать вслух Женька и вдруг на висках у него выступили капельки пота. Он все понял: история с его ботинками и деньгами стала роковой для Кости. Ведь произошла она раньше, чем в школу явился корреспондент, и Костя намеренно умолчал о пропаже. Женька почувствовал себя в какой-то мере виноватым и с неприязнью глянул на свои уже далеко не новые ботинки.
— Не мог скрыть, башка осиновая! — упрекнул его Намжил.
— Ребята, надо выручать Костю! — трагическим тоном сказал Женька.
— Пусть каждый подумает, как быть, а вечером встретимся у реки, — сказал Намжил. — Тише, Костя идет!
Ганька молчал и с глубоким сожалением смотрел вслед удаляющемуся вожатому.
Путь от учительской до пионерской комнаты был для Кости всегда длиннее, нежели от дома до школы. Вот и теперь он то и дело останавливался.
— Не тронь девочек. Только трусы обижают менее сильных, — сказал он мальчишке, дергавшему девочек за косы. — Почему галстук в таком виде? Ты что, не знаешь, как пионер должен относиться к пионерскому галстуку? — Костя задержал мальчугана, у которого концы галстука висели почти у плеча.
Пройдя несколько шагов, он увидел у окна белоголовую девочку, которая, зажав уши пальцами, склонилась над книгой.
— Опять, Соня, уроки учишь в школе? — В голосе его было скорее сочувствие, чем осуждение.
Соня повернула к вожатому худенькое веснушчатое личико, покраснела, и в глазах ее блеснули слезы.
— Не успела… — сказала она.
— Мать заставила нянчиться с сестренкой? — спросил Костя.
Девочка промолчала и, как только Костя отошел от нее, заткнула уши пальцами и снова забормотала:
Ягненок в жаркий день Пошел к ручью напиться…Костя пришел в пионерскую комнату, достал блокнот, присел к столу и записал: «1. Сходить к Наумовым (Соня учит уроки в школе)». Подумал и добавил: «Поговорить с И. И. о продленном дне. 2. Чем занять малышей во время большой перемены? 3. Стенгазета».
Последний пункт своей записи Костя подчеркнул двумя чертами.
Ему давно хотелось поговорить с Ильей Ильичом о стенной газете. Он пришел к выводу, что школьная стенная газета себя изжила. Ведь существовал школьный радиоузел, и радиогазета была гораздо оперативнее, а значит — интереснее. «Вышибать» заметки день ото дня становилось все труднее, а выступать по радио ребята соглашались охотно. Жизнь школы была многообразна, она требовала ежедневного освещения. Стенная газета не могла охватить всего, запаздывала, зачастую ее заметки, предложения, советы никого уже не интересовали.
Однажды Костя сказал об этом Елизавете Петровне. Та ужаснулась, назвала его мысли необдуманными и посоветовала с директором не разговаривать. И все равно Костя был убежден в своей правоте.
Сейчас он готов был, не откладывая, идти к Илье Ильичу, но дверь открылась, и в пионерскую комнату вошли два десятиклассника. Один цыганского типа — смуглый, с горбатым носом и черными блестящими глазами. Звали его Сергеем. Другой, Ефим, голубоглазый, с розовыми по-девичьи щеками, с неисчезающей усмешкой на ярких губах.
— Костя, мы все же решили податься в военно-морское, — сказал Ефим.
— Как ты смотришь? — живо добавил Сергей.
— Ну как можно о таких серьезных делах говорить на ходу? Заходите ко мне вечером. Обо всем и поговорим.
— Костя, мы всем классом, хорошо? — обрадованно спросил Ефим.
И не успели они выйти из комнаты, как в дверь, шурша широкой коричневой юбкой, вошла Наталья Семеновна. Недавно она стала председателем родительского комитета и решила посоветоваться с вожатым о делах.
— Я на одну минутку. — Наталья Семеновна приветливо улыбнулась. — Посмотри-ка, Костя, план работы родительского комитета.
Костя взял в руки тетрадь, пробежал глазами страничку.
— Все верно, только скучно, пожалуй. Ничего нового, все это проводится из года в год… Вы извините меня, пожалуйста.
Наталья Семеновна растерянно заморгала глазами, силясь понять смысл сказанного.
— Ну, я еще подумаю… — неуверенно сказала она и, поспешно спрятав тетрадь в пеструю хозяйственную сумку, повернулась к двери.
— Куда же вы, Наталья Семеновна? Давайте думать вместе.
Та вернулась. Они сели за стол.
Буйная фантазия у Кости не знала удержу. За двадцать минут он насоветовал Наталье Семеновне столько, что не выполнить за год. Но все дельно, толково, все со смыслом: лекторий для родителей, экскурсия на соседнюю опытно-показательную станцию, поездка в город на спектакль, расширение школьной библиотеки, обследование бытовых условий отстающих учеников и помощь им, зимний школьный бал…
В тот же день Наталья Семеновна показала набросок плана Илье Ильичу.
Тот внимательно прочитал и воскликнул:
— Наталья Семеновна! Отлично! Очень содержательно. Мы не ошиблись, избрав вас на этот пост.
— Костя помог, — отвела от себя похвалу Наталья Семеновна.
Илья Ильич болезненно поморщился.
14
Вечерело. Резкий ветер обрывал с деревьев пожелтевшие листья. Они падали на воду и, подхваченные течением, кружась, исчезали за выступом берега. Ярко-розовое небо у горизонта нежным заревом отражалось в реке, бросало светлые блики на плывущие в запани лесозавода бревна.
На берегу, закутанный в отцовское пальто и в кепке, натянутой на уши, лежал на жухлой траве Ганька. Около него, шмыгая посиневшим от холода носом, сидел Женька. Ветер трепал его золотистые волосы. Намжил, в расстегнутом пиджачке, в кепке, козырек которой был заломлен кверху, стоял, привалившись к дереву.
— Я давно приметил: Костя глаз не сводит с Елизаветы Петровны и всегда краснеет, когда она появляется. Влюблен в нее, факт.
Это говорил Намжил, и в его пренебрежительном тоне чувствовалось осуждение и недоумение.
Как может серьезный человек заниматься такими глупостями!
— Вот я и думаю, — продолжал Намжил, — надо сейчас же бежать к Елизавете Петровне. Она больна, в школе не бывает и не знает, что случилось с Костей.
— Верно! — горячо поддержал Женька. — Елизавета Петровна хоть и поженилась, а Косте обязательно поможет… А влюблен он в нее ужас! Иду как-то по коридору, а…
— Ну ладно, без воспоминаний!.. — оборвал приятеля Ганька. — Вот что, ребята, вы бегите, а я пойду потише. Нога у меня болит.
Женька и Намжил побежали.
Ганька, чуть помедлив и переждав, когда они скроются из виду, тоже припустил, но только в другую сторону.
— Ганька нарочно сказал, что нога болит, — задыхаясь от быстрого бега, говорил Намжил товарищу. — Он и смотреть на Елизавету Петровну не хочет. Подумаешь, какой-то инженер для нее лучше Кости! Я и сам ей этого не прощу. А ты?
— Я? Ни за что!
Они подождали Ганьку и, поняв, что он не придет, поднялись на крыльцо, постучали.
Послышались шаркающие шаги, и дверь открыла старая, грузная женщина, мать инженера.
— Елизавета Петровна дома? — в голос спросили Намжил и Женька.
— Елизавета Петровна больна, — придерживая дверь рукой и заслоняя собою вход, сказала женщина, давая понять, что в дом она их не пустит…
Намжил попытался проскочить у нее под рукой, но старуха оттолкнула его и сердито повторила:
— Больна Елизавета Петровна, понимаешь?
Елизавета Петровна услышала этот разговор и крикнула свекрови:
— Мама, пустите ребят!
Недовольно пожав плечами, старуха посторонилась; ребята бросились в комнату.
Елизавета Петровна лежала в постели. Она показалась мальчишкам какой-то другой, не такой, как в классе. На ней была домашняя полосатая кофточка, и коса, как у девочки, свисала с подушки. Ее полная белая рука лежала на открытой книге.
Елизавета Петровна приветливо улыбнулась ребятам, велела взять стулья и сесть поближе к ней.
— Ну, что нового в школе? — спросила она.
— У Кости большие неприятности! Его, наверно, с работы снимут! — в один голос воскликнули мальчишки.
— Костю? — изумленно спросила Елизавета Петровна и приподнялась на локте.
— Из-за меня, — грустно сказал Женька и с трудом удержался от слез.
— У него деньги и ботинки украли, — Намжил показал пальцем на Женьку, — а Костя виноватым оказался.
Елизавета Петровна задумалась. Молчали и мальчишки.
— Не волнуйтесь, ребята, — промолвила она наконец. — Я поговорю с Ильей Ильичом… Такого вожатого найти нелегко.
— Невозможно, Елизавета Петровна, найти такого! — убежденно сказал Намжил, и Женька с готовностью поддакнул.
От Елизаветы Петровны мальчишки ушли успокоенные.
К их удивлению, Ганьки возле дома не оказалось.
— Смылся! И не поинтересовался даже нашим разговором! — рассердился Женька.
— Форточки у него захлопнулись, — покрутил Намжил пальцами около висков.
Оба решили, что Ганька неизвестно почему переменился в худшую сторону.
15
После ухода ребят Елизавета Петровна долго не принималась за книгу. Глаза ее были закрыты, но по движению бровей, по сосредоточенной складке между ними можно было угадать, что она не спит.
Ее размышления прервал жизнерадостный голос мужа.
— Ну что, дружочек, поправляемся? — спросил Владимир Николаевич.
Она открыла глаза, улыбнулась, протянула руку:
— Совсем хорошо. Зря валяюсь. Завтра все равно в школу удеру.
— Я тебе удеру! — целуя ее руку, шутливо пригрозил Владимир Николаевич и, подойдя к зеркалу, причесал черные волосы с заметными залысинами на висках. Он снял пиджак, оглядел себя со всех сторон, попытался застегнуть ворот на шее.
— Опять поправился! — пошутила Елизавета Петровна.
— Что ты, Лизочка, исхудал на работе! — И, засмеявшись, он снова поглядел на себя в зеркало.
На широком, довольно правильном его лице мелькнула удовлетворенная улыбка.
Он сел на край постели.
— У меня были ребята, — сказала Елизавета Петровна, — прибежали взволнованные. Рассказывают, что Костю могут снять с работы за ту историю… помнишь, я рассказывала?
— Ну и правильно. Общественность ввел в заблуждение. Славу себе хотел заработать.
— Нет, неправильно, — приподнимаясь на локте, горячо заговорила Елизавета Петровна. — Костя сделал все это из самых лучших побуждений. Поступил, может быть, не очень обдуманно, но бескорыстно. Как ты этого не понимаешь? И, главное, как этого не понимает Илья Ильич, такой умный и справедливый!
— А он, Лизунчик, вероятно, не догадывается о высоких идейных побуждениях этого юнца, — с усмешкой в голосе сказал Владимир Николаевич.
— Но Костя же объяснил ему?
— Не знаю. А виноват во всем этом, вероятно, я. В городе я встретился с одним товарищем из той газеты… и не удержался — сказал, что в статье их корреспондента много ложного. В школе была кража. Это меняет положение.
— Сказал и не объяснил, как это случилось?! — изумленно переспросила Елизавета Петровна. — Я не понимаю тебя, Володя…
— Признаюсь, Лизочек, у меня не было желания оправдывать этого влюбленного в тебя сосунка.
— Значит, ты это сделал из ревности?! — возмутилась Елизавета Петровна и торопливо спустила с постели босые ноги. Вскочив, она стала одеваться. — Пойду к Илье Ильичу, объясню все…
— Никуда ты, больная, не пойдешь! — Владимир Николаевич поднял ее на руки, уложил в постель.
Елизавета Петровна решила схитрить: она сделала вид, что успокоилась, но, когда муж пообедал и отправился на работу, оделась и потихоньку от свекрови ушла в школу.
Войдя в кабинет директора Елизавета Петровна почувствовала такую слабость, что сразу же опустилась на диван и закрыла глаза рукой.
Илья Ильич подошел к ней, положил на плечо руку, заботливо спросил:
— Что с тобой, Лиза? Зачем пришла? Лежать тебе надо…
Елизавета Петровна отняла руку от лица и, тяжело дыша, спросила:
— Что тут случилось… с Костей?
Илья Ильич начал рассказывать, но Елизавета Петровна перебила его:
— Все это я знала, Илья Ильич. Поймите, Костя сделал это не из личных выгод. Кража произошла в тот самый день, когда в школу явился корреспондент. Костя надеялся, что ботинки и деньги кто-то спрятал просто ради шутки. А во-вторых, разве вы не знаете Костю?! Он решил, что статья эта поможет другим школам в воспитании учащихся. И теперь, я знаю, он не откажется от начатого дела. Да и как можно отказаться? Ведь плохой поступок одного ученика не должен отразиться на хороших стремлениях всего коллектива.
Илья Ильич слушал ее стоя.
Он молчал, но Елизавета Петровна догадывалась, о чем он думал.
Она помнила Илью Ильича еще с пятого класса. Бывало, вызовет Лизу к доске, она растеряется, начнет говорить невпопад, все вокруг да около. Илья Ильич хмурится, смотрит страдальческим взглядом. Но вот ученица находит главное, отвечает увереннее. Учитель успокаивается, в черных глазах, маленьких и острых, угадывается одобрение.
Вот и теперь Илья Ильич смотрит в глаза Елизавете Петровне, и на его лбу разглаживаются морщинки.
— Я рад, Лиза, очень рад, что Костя оказался честным дураком. Но вокруг этого дела подняли шум, и теперь вряд ли можно что-нибудь исправить. Знают об этой истории в редакции, в райкоме комсомола, в школе. Я убежден, что корреспонденту газеты так это не пройдет. — Илья Ильич безнадежно махнул рукой. — Ну и дурной парень! Нужно же такое придумать! Как теперь спасать его, ума не приложу. А мне — ни слова. Я его казню, а он молча голову на плаху…
Илья Ильич от волнения забегал взад-вперед по комнате, а Елизавета Петровна снова прижала ладонь к глазам, пытаясь отогнать пляшущие в глазах круги, унять головокружение.
Она вспоминала то смертельную бледность Костиного лица при встречах с ней, то его пылающие щеки. Было так много трогательного в его юношеском чувстве. И она представила себе, сколько же пришлось ему пережить за последнее время: смерть единственно близкого человека, неудачную любовь и теперь вот это…
Ее удивил поступок Владимира Николаевича. Из-за нелепой ревности он доставил столько неприятного Косте, ей, Илье Ильичу и всей школе. Но она любила мужа и сразу же простила его.
16
Ганька, сокращая путь, огородами пробрался к Костиному дому, заглянул в окно.
Костя сидел за столом и что-то писал.
Ганька открыл дверь в кухню, спросил:
— Костя, я войду?
— Входи, — отозвался Костя, отодвинув бумагу и поднявшись навстречу Ганьке.
Тот приблизился к нему, переступил с ноги на ногу и с отчаянием сказал:
— Костя! Это я взял у Женьки ботинки и деньги. Костя изумленно взглянул в лицо мальчика:
— Ты?
— Я не украл. Я пошутил. Спрятал. Я не знал, что так выйдет…
— Пошутил? Спрятал?.. Почему же ты сразу не сказал?
Ганька опустил глаза и молчал.
— Глупый ты человек! — сказал Костя с сожалением. — Такое дело из-за тебя провалили! Что мне теперь с тобой делать?
— Скажи, Костя, Илье Ильичу.
— «Скажи»! Да разве в этом дело? Где ботинки?
Ганька растерялся.
— Где ботинки, спрашиваю! — закричал Костя.
— Я… они… Я потерял их.
— Где потерял?
— Потерял, и всё. Виноват. Наказывай. Больше ничего говорить не буду. А ты Илье Ильичу сам скажи. Я боюсь.
Костя сердито глянул на Ганьку и, не удостоив его ответом, повернулся к нему спиной.
Ганька потоптался на месте и медленно пошел к двери.
— Зайдешь ко мне после девяти, — по-прежнему не глядя на Ганьку, сказал Костя и, вспомнив, что в это время у него собираются десятиклассники, добавил: — Придешь ночевать.
— Хорошо, Костя! — с готовностью ответил Ганька и закрыл за собой дверь.
Не успел Костя разобраться в том, что случилось, как под окнами раздался шум, крики, плач. Около его дома остановилась толпа мальчишек. Они держали за руки Николку Петухова, а тот бился, пытался вырваться и ревел на всю улицу.
Костя вышел из дома. Ребята побежали к нему, стали совать в руки какой-то сверток.
Костя развернул его и увидел старые, грязные ботинки.
— Женькины!.. Он украл!.. Сам сознался! Вор! — кричали мальчишки, показывая на Петухова.
— Ничего не понимаю! — искренне изумился Костя, вспомнив признания Ганьки. — Кто же украл все-таки? Скажите мне толком.
— Я больше не буду! — ревел Николка. — Костя, я никогда… Я бы сам сказал, когда узнал, что на тебя свалили…
— Что?
— Кражу этих ботинок.
Костя улыбнулся: так вот, значит, как они поняли историю с пропажей ботинок и денег.
— Ну, давай рассказывай, как все было, — строго сказал Костя Николке.
И тот, прерывая свой рассказ громким ревом и завываниями, признался во всем.
— Я не с целью грабежа. Я произвел акт мести, — сказал он, и его слова утонули в оглушительном смехе.
Оказывается, Николка Петухов давно враждовал с Женькой. Вражда эта началась с того дня, когда Николка подглядел, как Женька мыл ромашкой голову. Николка стал дразнить Женьку «ромашкой» и разболтал про его причуды своим друзьям.
— Сколько он мне крови после того перепортил! — прорыдал Николка.
И снова его слова покрыл дружный хохот.
— Дурак ваш Женька! — продолжал признания Николка. — Настоящий дурак! Он все берет на себя. «Мы с Костей буфет открываем без продавца», «Мы с Костей организуем вешалку без нянечки»! — передразнил он Женьку, удачно подражая его интонациям. — Тоже старший пионервожатый нашелся! Вот я и решил его прижать. Взял да и спрятал ботинки и деньги. Они в носке левого ботинка. Думал, вот тебе вешалка без нянечки…
Костя просунул руку в носок ботинка. Там действительно лежали деньги.
— А ты что же, Николка, против доверия человеку? Не веришь в честность?
— Не знаю, — всхлипывал Николка.
— А все же, как ты думаешь: может в нашей школе существовать вешалка без нянечки и буфет без продавца? — настаивал Костя.
— Ну, может…
— Я тоже думаю, что может. А ты из-за личной мести забыл про честь школы?
— Я… я… не буду б-больше… Костя, честное пионерское…
Делать больше было нечего. Костя отправил ребят по домам и обещал завтра на общешкольном собрании во всем разобраться.
С говором и смехом ребята двинулись по улице. А Николка все еще вертелся около Кости и ныл до тех пор, пока тот не отвесил «мстителю» легкий подзатыльник.
Костя вернулся домой и долго разглядывал старые Женькины ботинки. С боков на них красовались заплатки, каблуки стоптаны, ободранные носки смешно загнулись.
И только сейчас он разгадал поступок Ганьки.
17
Вечером у Кости собрались десятиклассники. В маленьком домике стало тесно и весело.
Ребята принесли в горницу из сеней скамейку, втащили со двора сосновую плаху, положили ее на два стула.
Когда все расселись, кто-то шутливо сострил:
— Ну вот, теперь и позаседать часок-другой можно. Для начала Костя докладик сделает: «Педагогические воззрения Макаренко и задачи молодежи Веселой Горки».
Все зашумели, засмеялись. Костя смеялся вместе с другими, но думал обеспокоенно: «Как же все-таки мне их на откровенность вызвать?»
— Ребята, — сказал он, — предлагаю вначале что-нибудь спеть. Не знаю, как другие, а я больше всего люблю «Летят перелетные птицы». Эта песня душу переворачивает. Иногда озлюсь я сам на себя, лихо от чего-нибудь станет, надоест Веселая Горка — и запою я «Летят перелетные птицы». И вдруг покажется мне, что час разлуки с родным краем наступил. Аж слеза на глаза набегает. Пою, а сам думаю: «Нет, ни за какие коврижки не променяю я родные места».
Костя взял баян, пробежал пальцами по перламутровым ладам. Серебряные, переливчатые звуки заструились из-под его быстрых пальцев и, кажется, насквозь пронзили душу.
— Слышите? — снова заговорил Костя. — Тут чувствуется и гордость за свою землю, и бескорыстная, вечная любовь к ней, и тоска по неизведанным просторам… А! Да что там говорить — хорошая песня! Бабушка моя тоже любила ее… Я, бывало, пою, а она плачет: «Что ж ты, говорю, баба Саша, плачешь? Это же песня. От песни веселее бывает». А она мне в ответ: «Не та самая дорогая песня, от которой в пляс охота пуститься, а та, которая на жизнь людей заставляет обернуться, душу в человеке пробуждает».
Костя поправил ремень баяна на плече, медленно развел мехи и негромким речитативом начал:
Летят перелетные птицы В осенней дали голубой…Ребята и девочки дружными звонкими голосами грохнули так, что стекла задрожали в старых рамах лазовниковского домика:
Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой…Десятиклассник Цыганок, прозванный так еще с тех давних времен, когда в классе изучали «Детство» Горького, вскочил и, блестя оливковыми глазами, принялся дирижировать. Он то пригибался, будто собирал что-то с половиц, то, раскинув руки, пытался взлететь.
Бессчетное количество раз пели они эту песню — пели ее дома, на вечерах в школе, на концертах в клубе, на смотрах художественной самодеятельности, — но так, как сегодня, они пели ее первый раз в жизни! Сегодня это была для них не просто песня, а песня-раздумье — раздумье о себе, о дорогах, которые открывались перед ними, о своих товарищах, о жизни беспредельной, бескрайней, как само голубое небо…
Песня кончилась, но все продолжали сидеть, охваченные раздумьем. Даже неистощимый на шутки Цыганок оставался недвижимым. В другое время он не утерпел бы и обязательно выкинул какое-нибудь коленце.
— А знаете, ребята, что я скажу? — нарушил затянувшееся молчание Костя. — Мне кажется, по песням мы на первом месте в мире. Вспомните, какие замечательные песни остались от войны! Вот, например:
Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза…Ах, какая песня! Запоешь ее, и кажется, что не кто-то другой, а именно ты, Константин Лазовников, житель безвестного в мире сибирского села Веселая Горка, сидишь во фронтовой землянке и это не до чьей-нибудь, а как раз до твоей смерти осталось четыре шага… Так мог написать только фронтовик… Споем, товарищи, еще. — И Костя тронул лады баяна.
Песню спели слаженно, задумчиво, без буйного легкомыслия, но энергично, с горячим задором.
— Скажу вам честно, — заговорил Лева Иволгин, — завидую я молодежи, которая жила в Отечественную войну. У них была цель, каждого ожидало испытание. Никто из них не думал, куда пойти завтра, после окончания школы. Все шли на фронт, защищать Родину.
— Ну, знаешь, Лева, слушать такие рассуждения даже странно! Ты поэтизируешь войну, а мы же против нее! У нас даже закон есть — за пропаганду войны судят! — гневно сверкая глазами, сказала Дина Столетова.
— Видите, как с ней разговаривать? Сразу закон припомнила! — усмехнулся Лева. — Чудачка ты! Подумай лучше, о чем я говорю! Война мне ни к чему, как и тебе. Я говорю о подвигах людей…
Костя внимательно слушал Иволгина и, хотя ему хотелось сейчас же вступить в разговор и кое в чем не согласиться с Левой, он одобрительно думал: «Давай, Лева, не страшись трудностей, лезь в глубины жизни, авось как-нибудь разберемся».
— И все-таки, Лева, у каждого времени свой героизм. Возьми наши дни, наши шестидесятые годы! Разве люди не будут завидовать нам? Правда ведь, девочки, будут?
Дина почему-то обратилась за поддержкой только к подругам. Те шумно, с визгом и объятиями выразили свое согласие. Такая бурная поддержка всех рассмешила. Но Иволгин, предостерегающе приподняв руки, сказал:
— Дослушай меня, Динка, до конца. Я не унижаю наше время. Только глупец не оценит наши дни — покорения атома и завоевания космоса. Но учти одно: новое поколение всегда сравнивает свои поступки с прежними. И не потому, что новое поколение хуже, а потому, что от одного поколения к другому переходят традиции.
Костя, как и все ребята, слушал Иволгина с интересом. Лева был парень начитанный, думающий. Недаром в школе ему дали кличку «Доктор философских наук».
— Послушайте, ребята, — после короткого молчания сказал Костя. — Иногда я закрываю глаза и мысленно переношусь в разные эпохи и исторические периоды: то представлю себя в среде декабристов или рядом с Чернышевским и Добролюбовым, то вижу себя где-нибудь на Нерчинской каторге с большевиками, то перенесу себя в Донбасс, в маленький шахтерский городок Краснодон… Для меня нет ничего выше молодогвардейцев. Какое счастье прошагать с такими по свету! Не правда ли? И часто я думаю: ну, случись такое у нас в Веселой Горке, мы бы с вами оказались способными сделать все, что они сделали, или струсили бы?
— Я убеждена: случись у нас такое, наши ребята пошли бы по стопам молодогвардейцев. Наши не хуже. Что Родине надо, то и сделают, — твердо сказала Дина.
— А интересно, как бы поступили молодогвардейцы, если бы они оказались на нашем месте, вот здесь, в Веселой Горке? — спросил Костя.
— Мне кажется, они не стали бы жить тут ни одного дня, организовали бы бригаду и уехали на целину, — опережая всех, сказал Цыганок.
— Ты, Цыганок, плохо знаешь Олежку и в особенности Ваню Земнухова, — не согласился Иволгин. — Они очень любили свой край, Донбасс. Рабочие поселки, выжженную солнцем степь, овраги, балки… Это же их родная стихия!
— По-моему, они все учились бы, — вступила в разговор Дина Столетова. — Олег пошел бы в политехнический, Уля — в педагогический, Ваня Земнухов — в литературный.
Предположения посыпались со всех сторон:
— А Туркенич — в военную академию.
— Люба Шевцова — в театральный…
— Радик Юркин — в радиотехнический.
— Сергей Левашов — в пограничную школу.
— А по-моему, ребята, всё было бы иначе, — убежденно сказал Костя. — Молодогвардейцы остались бы в Краснодоне и пошли бы работать на шахту. Учиться — учились бы, конечно. Но, будь они на нашем месте, в Веселой Горке, они создали бы свою бригаду и пошли бы на животноводческую ферму… Вот в этом, ребята, и состоит особенность сегодняшнего дня.
Цыганок вздохнул, захлопал в ладоши:
— Ай-ай, Олег Кошевой — на животноводческой ферме… Ваня Земнухов — дояр… Любка Шевцова — телятница…
— Ну, перестань ты, Цыганок, паясничать! Речь идет о нашей будущей жизни, а он, как шут, удержу не знает! — резко оборвал Цыганка Лева Иволгин.
— В самом деле, Цыганок, перестань. Свою судьбу решаем, — взмолилась Дина.
Сконфуженный Цыганок забился в угол, сомкнул тонкие губы и всем своим видом говорил: «Молчу! Будете просить — не произнесу ни слова».
Но о Цыганке тотчас забыли. Каждый думал о другом: завтра будет окончена школа, что же дальше? Уезжать? Куда? Зачем? Оставаться в Веселой Горке?.. Ну, а как же ребята? Остаться без них? Столько лет провели вместе, учились, дружили и вдруг на пороге большой жизни разбежаться в разные стороны…
— Надо выяснить главное, — нарушая молчание, сказал Лева, — есть ли среди нас такие, которые не хотят оставаться в Веселой Горке?
Ребята замерли.
— Я не хочу оставаться в Веселой Горке! — с обидой в голосе выкрикнул Цыганок.
Ребята посмотрели на него с недоумением.
— Цыганушка, милый, — с ласковой ноткой в голосе заговорил Иволгин, — мы тебя попросим остаться. Ты не обижайся на меня. Ну извини, в конце концов, если я в чем-нибудь перед тобой провинился.
18
В шуме и гаме никто не слышал, как отворилась дверь и в комнате появился Ганька. Он не ожидал увидеть здесь столько народу и растерялся.
— Костя, я войду? — робко спросил Ганька.
— Ура герою мирного времени!
Костя подскочил к нему, стянул с его головы кепку, вытряхнул его из пальто и, положив руки на его плечи, подтолкнул вперед.
— Вот, ребята, Гавриил Овечкин. Может быть, не все вы его знаете. Этот человек думает не о себе, а в первую очередь о других. Желая спасти от неприятностей старшего пионервожатого, он взял на себя вину за проступок, которого не совершал.
— Ура герою мирного времени! — крикнул Цыганок и бросился к Ганьке. — Качать его, ребята!
Все повскакали с мест, радуясь тому, что можно подвигаться, покричать, отвлечься от трудного разговора.
Десятки рук подхватили Ганьку и стали подбрасывать вверх. Костя и сам поддался азарту. А потом довольного, возбужденного Ганьку посадили за стол, и ему казалось, что все смотрят на него, как на героя.
— Костя, откуда ты обо всем узнал? — тихонько спросил Ганька.
— Вот лежат Женькины ботинки. — Костя показал на окно. — Нетрудно догадаться.
Ганька осторожно, но все-таки нетерпеливо развернул бумагу. Да, это были Женькины ботинки — с облупленными и загнутыми носками. Ганька помнил их не хуже, чем свои собственные.
— А кто же украл, Костя?
— Николка Петухов спрятал. Отомстить Женьке задумал.
— Ну и гад Петух! — возмутился Ганька. — Ты ему хоть надавал за это?
— Ну, бить я его не собирался, это, брат, непедагогично, а подзатыльник по-дружески отвесил.
Вскоре Костя заметил, что Ганька подремывает, и шепнул ему:
— Лезь на печь и спи.
Ганька забрался на печь, но, снедаемый любопытством, старался перебороть сон, чтоб посмотреть, чем занимаются старшеклассники. Он засыпал на несколько минут, просыпался, приподнимал голову и снова засыпал.
А старшеклассники после фокусов, которые показывал Цыганок, принялись снова петь, потом декламировали стихи и, наконец, так громко заспорили, что Ганька закрыл ухо ладонью.
Сквозь сон он слышал, как Лева Иволгин кричал:
— Решено! Останемся в колхозе на два года. Кто за то, чтобы наша бригада называлась именем «Молодой гвардии»? Все!
Когда, в какой ночной час разошлись ребята по домам, Ганька не слышал. Он сладко спал. Ему снился сон. Колхозное поле покрыто цветущими маками: красными, розовыми, белыми; среди маков синеют васильки. Раскинув руки, как крылья, десятиклассники летают над полем и собирают букеты из маков. Ганька стоит на краю поля и думает: какая хорошая работа! Как им весело летать! Среди десятиклассников летает Костя. Только, в отличие от других, у него на спине пропеллер. Костя стремительно взлетает вверх, потом делает пике и у самой земли снова взмывает в облака. «Ганька! Ганька!» — зовет его Костя и бросает ему красный мак. Но мак в Ганькиных руках становится облупленным ботинком с загнутым носком.
Ганька проснулся, протер глаза, не понимая, где он.
Костя и в самом деле звал его:
— Ганька! Гавриил Овечкин! Вставай, братец, в школу опоздаешь. Ишь ты как заспался!
Костя стоял босой, в одних трусиках. Солнце заливало комнату, патефон разносил по всему дому мелодию бодрого марша.
Ганька проворно соскочил с печки, несколько раз присел в такт музыке. На сердце у него стало хорошо и радостно. В эту минуту он был уверен, что Косте ничего плохого грозить не может, что он останется в школе, и вообще жизнь состоит только из добра и удач, и живут на свете только хорошие люди.
Ганька помчался домой, наскоро позавтракал, забрал учебники и рысью припустил в школу.
Возле крыльца его встретил Женька:
— Овечкин, слышал новость?! Весь десятый остается на ферме. Бригаду называют «Молодая гвардия».
Ганька презрительно сморщился: подумаешь, удивил!
— Я это все еще с вечера знал. Они сегодня всю ночь у Кости дома договаривались. А я там ночевал.
Женька от зависти только заморгал ресницами.
Днем ребят поджидала еще одна новость.
В школе появился корреспондент в дымчатых очках. Костя в это время стоял в коридоре. Корреспондент прошел мимо него и даже не кивнул головой.
Ганька пошел за корреспондентом, но тот круто повернулся и скрылся за дверью десятого класса.
19
Весь день Илья Ильич Занимался Костиными делами. Утром он побывал у секретаря райкома комсомола.
Петр Голубев, его бывший ученик, худощавый, с длинными зубами, которые выпирали наружу, из-за чего казалось, что он все время улыбается, приветливо встретил Илью Ильича, усадил на свое место, а сам, по старой школьной привычке, разговаривал с ним стоя.
Голубев считал, что Костю необходимо снять с работы и дать ему выговор, чтобы впредь неповадно было морочить голову корреспондентам газет.
Илья Ильич предлагал с выговором не торопиться и решительно требовал оставить Костю в школе.
— Ты пойми, Петя, — говорил он. — Ботинки пятиклассник не украл, а спрятал из чувства глупой мести. А Костины побуждения были самые чистые, быть может, только по-юношески необдуманные. Всего лишь в этом и заключалась его вина.
— И все же факт остается фактом, — упрямо твердил Голубев.
Илья Ильич направился к секретарю райкома партии.
— Слышал, слышал о Костиных проделках, — грустно улыбнувшись, сказал секретарь. — Только вот что именно побудило пионервожатого поступить так, а не иначе, я раньше не знал. Признаюсь.
Он долго и придирчиво расспрашивал Илью Ильича о работе школы, о жизни учителей, о Косте, припомнил, каким замечательным человеком была его бабушка, Александра Ивановна. Когда-то давно она, старая коммунистка, дала ему, Сергею Семеновичу, рекомендацию в партию, а потом не раз с особым пристрастием критиковала его на районных партконференциях.
Наконец секретарь снял трубку, покрутил ручку и сказал телефонистке:
— Дайте, Танюша, мне нашего комсомольского вожака…
Говорил он с Голубевым долго, подробно объяснял, что не наказывать, а воспитывать надо таких, как Лазовников.
— Рассуди спокойно и трезво, что произошло: информация в газете лишь частично была неточной. В целом коллектив ребят оказался стойким и убежденным. Зачем же мы будем горячку пороть? К тому же ты слышал, что Костя убедил десятиклассников остаться в Веселой Горке? Не слышал? А надо бы тебе знать. Знай о комсомольцах не только плохое, но и хорошее, иначе рука у тебя всегда будет замахиваться на выговор.
В конце разговора Сергей Семенович сердито сказал в трубку:
— О наказаниях забудь. Лучше поезжай в Веселую Горку и побеседуй с ребятами. Их почин — большое дело.
Сергей Семенович повесил трубку и, пригладив короткопалой пятерней волосы, спросил:
— Ну как, директор, доволен таким подходом к вопросу?
* * *
А утром Косте принесли повестку из райвоенкомата. Он долго смотрел на ее официальные строчки, на штамп в верхнем левом углу. Простая бумага, а какие огромные перемены несла она ему!
Было жаль школу, родное село, свою первую неудавшуюся любовь… Но зато открывалась новая страница жизни. Что она таит, что несет пионервожатому Косте Лазовникову?
В день его отъезда во дворе школы собрались все ученики и педагоги. Их было так много, что шофер, двигаясь от крыльца школы, непрерывно сигналил — трудно было ему проложить путь машине среди шумной толпы провожающих.
На крыльце стоял Илья Ильич и махал платком.
— Ребята! Я вернусь в школу! — срывающимся голосом крикнул Костя, обращаясь главным образом к малышам. А старшим своим воспитанникам он молча махнул рукой. Губы его дрогнули: с ними он прощался совсем.
Женька, Намжил и Ганька ответили Косте каждый по-своему. Женька стер с глаз предательские слезы. Ганька, нервно приплясывая, повернулся спиной к машине, а Намжил с деланным равнодушием, посапывая, уставился в землю.
Когда машина выходила из ворот школьного двора, ее встретила Елизавета Петровна. Вытянув шею и заглядывая в кузов, Елизавета Петровна грустно улыбнулась Косте, но он ее не видел и уехал с мыслью, что она проводить его не пришла.
Глава вторая АНДРЕЙ НИКОНОВ И ИРЕНСО НЦАНЗИМАНА
1
Нет, не широкой дорогой рука об руку, плечом к плечу с жизнерадостными молодыми сверстниками входил Андрей Никонов в жизнь. Ощупью, с закрытыми глазами плутал он по темным переулкам, продираясь к своей туманной цели, к своему призрачному счастью.
Дождливым осенним утром Андрей Никонов вошел в здание академии. В маленьком вестибюле с телефоном на столе, с рядами стульев, сдвинутых к стене, его встретил строгий седой привратник в черном костюме с голубой отделкой на воротнике и рукавах.
Андрей поднимался по узкой лестнице. Ноги его гулко стучали по старинным резным чугунным ступеням. Сквозь круглые оконца над лестничной клеткой скупо проникал утренний свет, затемненный разноцветными стеклами.
Второй этаж. У перил вполголоса разговаривают студенты. Большинство из них, как и Андрей, в черных брюках и куртках со стоячим воротником, некоторые в длинных черных рясах, стройные, легкие, как тени. Вот один, склонившись, целует правую руку священнику, а тот, улыбаясь, что-то говорит ему и левой рукой прикасается к большому серебряному кресту на своей груди.
В коридорах сумрачно. В углах — огромные иконы в дорогих ризах, с почерневшими от времени, но удивительно живыми и выразительными ликами святых.
Под иконами на золоченых цепях — массивные лампады. Они чуть теплятся и причудливым красноватым светом освещают нижнюю часть ризы. В полумраке освещенный край ризы приобретает форму меча.
Тишина, полумрак, мерцание золота, серебра, дорогих камней, люди в черном и колеблющееся пламя лампад — все это создавало какую-то особенную торжественность. Да, чей-то утонченный вкус и изощренный ум не зря придумали весь этот ансамбль, всю эту игру света и теней.
В прошлом году, когда Андрей впервые пришел сюда, он был поражен всем увиденным. Ему захотелось написать картину, передав в ней и эту тишину, и этот полумрак, и это розоватое пламя лампад…
Вот и сейчас Андрей с волнением всматривался во все окружающее. И вдруг он остановился. По какой-то необъяснимой причуде мысли ему неожиданно вспомнились шумные, веселые школьные перемены: смех, беготня, говор… Все это осталось в неповторимом и уже далеком-далеком прошлом. Неужели это все было в его жизни? А может быть, он, Андрей Никонов, совсем не тот Андрей Никонов — лучший ученик школы, художник, которому предсказывали большое будущее?.. Нет, это все тот же человек, и все-таки теперь он совсем другой, повзрослевший, замкнувшийся в себе. И мысли у него совсем иные — тяжкие и такие же мрачные, как эти черные, бесшумно двигающиеся люди.
К Андрею подошел преподаватель истории русского искусства, еще довольно молодой человек с добродушным широким лицом, с живыми темными глазами. Он был одет в черный гражданский костюм, ладно сидевший на его начинающей полнеть фигуре. На холеной руке блестело обручальное кольцо.
— Андрей Никонов, пройдите к отцу ректору, — сказал он и зашагал по коридору.
Андрей пошел за ним.
Кабинет ректора был большим и светлым. Посредине стоял письменный стол, вокруг него — мягкие кресла, возле стен — диван, стулья. Кабинет совершенно «мирской» — обычный кабинет ректора высшего учебного заведения.
— Разрешите? — спросил Андрей, останавливаясь у открытой двери.
Старик с седыми, спускающимися до плеч волосами, с длинной бородой-лопатой, высокий и сухой, молча кивнул ему.
Андрей шагнул вперед и склонил голову перед ректором.
На ректоре была темная ряса, на груди на массивной цепи — большой золотой крест.
Проницательные, еще молодые глаза пристально взглянули на Андрея.
— Сегодня я смотрел работы художественного кружка, — сказал ректор. — Видел и вашу картину.
Андрей вторично молча склонил голову.
Немного поодаль стоял преподаватель истории русского искусства, руководивший в академии художественным кружком. Он внимательно поглядел на Андрея и, заложив руки за спину, по привычке зашевелил пальцами, выбивая ритм не то молитвы, не то марша.
Андрей вспомнил, с какой надеждой ждал руководитель кружка завершения его работы. В ряду бездарных копий с икон его картина «Христос» была подобна звезде на темном небе. Преподаватель, обожавший живопись больше всего на свете, часами вздыхал за спиной Андрея, когда тот рисовал фигуру Христа в легкой белой одежде. Христос стоял у реки… У обычной быстротечной сибирской реки. Вдали поднималась тайга, над тайгой — горы. А на переднем плане лежала широкая, изрытая колеями дорога — возможно, та самая, по которой Андрей шел на рассвете со своими одноклассниками после выпускного вечера.
«Какой талантище! — вздыхая, думал руководитель кружка. — Какая сила в поднятой руке Христа, в его откинутой голове! Как чувствуется властная поступь его босых ног, как верно схвачены складки белоснежного одеяния, которое внизу чуть раздувает ветер. Да, не тот, не тот путь выбрал юноша…» И он осенил себя крестным знамением, чтобы отогнать неугодные богу мысли.
Последнее время Андрей писал лик Христа — молодое лицо, обрамленное рыжеватой бородкой. Но эта работа не вполне удовлетворяла преподавателя.
— Очень уж простое лицо получается, очень человеческое, не ощущается божественности, — со сдержанным неудовольствием говорил он.
Андрей то отходил подальше, то приближался к полотну, смотрел с одного боку, с другого, пожимал плечами. Лицо Христа получалось как раз таким, каким его хотел видеть Андрей. Он в раздумье смотрел на полотно, трогал кистью глаза, рот, убирал какие-то тени…
Но руководитель кружка все же оставался недовольным. Неудачу он объяснял неопытностью и молодостью художника. Картина в целом была все же хороша, и он намечал показать ее на выставке. Сейчас, видимо, по этому поводу и желает разговаривать с Андреем ректор. Сердце Андрея дрогнуло.
— У вас большой талант, Андрей Никонов. Лик Христа, правда, слишком приближен к человеческому, но в нем — кротость, всепрощение, страдание… Ныне редко кто дерзает отразить в художестве учителя и творца нашего. Да и ответственность за это на художника ложится великая. В ближайшие дни академию посетит митрополит. Я покажу ему вашу работу. А над ликом Христа советую еще потрудиться.
Ректор благословил Андрея, дал ему облобызать свою сухую руку и отпустил.
Андрей возвратился в аудиторию уже во время занятий по древнеславянскому языку. Преподаватель в черной рясе, с жидкими рыжими волосами до плеч и глубокими складками на лице, вопросительно уставился на него тяжелым взглядом. Пришлось объяснить причину опоздания.
Андрей сел за стол. Сосед его, Виталий, парень с бритой головой по случаю перенесенного психического заболевания, с расширенными зрачками, отчего серые глаза его казались черными, тихо спросил:
— А ну, не таись, скажи, о чем была речь у отца ректора?
Андрей шепотом рассказал все, что говорил ему ректор.
— Будешь ты у нас теперь не Андрей Никонов, а Андрей Рублев. Жизнь тебе в академии уготована легкая, — с завистью сказал Виталий.
2
С того дня за Андреем и утвердилось прозвище «Андрей Рублев». Однако предсказание Виталия о том, что жить Никонову будет легко, не сбылось. Начальство, преподаватели действительно выделяли Андрея из числа других воспитанников, а те и явно и тайно завидовали ему. Его недолюбливали за талант, за угрюмый характер, за отличное знание изучаемых предметов, за безупречное поведение и, наконец, за неподступное одиночество.
Но не это делало жизнь Андрея тяжелой. С нелюбовью товарищей можно было примириться. К этому он привык еще в школе. Мучило его сейчас другое. С отроческих лет Андрей верил в то, что бог существует, но доказать этого не мог. Андрей надеялся, что в духовной академии он получит научное обоснование своей веры. Но, чем больше он постигал библию и богословие, тем острее ощущал вопиющие расхождения с наукой. Один из главных предметов академии — догматическое богословие (учение о боге, его отношение к миру и человеку, о сотворении мира и его конце) не дало Андрею никаких доказательств существования бога. Авторы догматики ссылались только на библию, считали ее «священным писанием, верховным автором которой является сам бог». Андрей был потрясен запуском советской ракеты в межзвездное пространство. Да и не только он. Это событие взволновало, подняло на ноги многих студентов академии. Правда, наставники и преподаватели на уроках и в частных беседах старались пригасить это впечатление, разъясняли студентам, что и это от бога. Бог дал человеку разум и сказал: «Владычествуй над всею природой!» — и вот человек владычествует, он выполняет «предначертания божьи»… И никакие достижения в мире видимом не могут помешать «бытию мира духовного».
Но с тех пор как ракета с Земли поднялась ввысь и достигла Луны, Андрей потерял сон, аппетит, покой.
Ночами он представлял себе Вселенную — не ту, о которой рассказывали библия и преподаватели духовной академии, а ту, о которой говорила наука: пространства без начала и конца, миллионы, мириады тел в постоянном движении, возможность жизни на многих планетах… Советские ракеты вошли в эти пространства. Теперь на Луне лежит вымпел с гербом советского государства. Аппараты, сделанные земным человеком, запечатлели тайну тайн — вечно невидимую оборотную сторону Луны.
Испарина выступала на лице, на шее, на груди Андрея. Тревожно стучало сердце. Захватывало дыхание. Он садился.
«Чему же ты посвятил свою жизнь? — спрашивал себя Андрей. — Откуда взялась у тебя вера в бога, у тебя, выросшего в Советской стране в середине двадцатого века?»
И вот теперь, когда мир людей остался за каменными стенами древнего монастыря, когда Андрей оказался у цели, он хорошо понял, откуда пришла его беда, но боялся признаться в этом самому себе. Боялся потому, что не видел путей к отступлению. Библия, богословские науки часто ставили его в тупик. Разум рвался понять, именно понять, осмыслить, охватить все явления природы. Самое лучшее — поверить бы в то, что говорят на лекциях, и наступило бы душевное равновесие. Но поверить слепо, без размышлений он уже не мог…
И снова в мыслях Андрея бесконечная Вселенная, темный, непроницаемый мрак ночи. Вот этот мрак пронизывает светящаяся ракета. Он видит на ней герб с серпом и молотом. Она летит с сумасшедшей быстротой, и ее стремительное тело, созданное руками, волей, мыслью человека, рушит в небе призрачный престол господень…
Андрей хватается за голову, падает лицом в подушку и стонет.
Однажды ночью, в час такого приступа, над ним участливо склонился Виталий:
— Что ты, Андрей Рублев? Заболел? Не по моей ли дорожке собрался идти?
Он взглянул в лицо Андрея, освещенное колеблющимся светом лампады, и увидел горящие лихорадочным блеском глаза, впалые щеки, взлохмаченные волосы.
— Чего тебе страдать? — приглушенно сказал Виталий. — У тебя талант. Это, брат, самый большой дар божий. Таланту всё простят. Надоест тебе Христа рисовать — возьмешься за героев коммунистического труда… А вот у меня возврата нет. Тяни лямку, и всё.
Он вздохнул, сел в ногах у Андрея. Вокруг крепко спали товарищи. Виталий покосился на юношу, спавшего рядом с ним, сказал:
— Вот Генка всегда крепко спит. Опять выпил сегодня. — Виталий вздохнул, махнул рукой и продолжал: — А! Все пьют. Пей, Андрей Рублев! А те, кто в высоких санах ходят, думаешь, не пьют? И взятки берут. Вот после этого и попробуй верить в бога.
— При чем же тут бог? — твердо сказал Андрей. — Люди есть всякие. Грязные люди могут осквернить самую чистую, самую светлую идею. Пьяный священник, священник-взяточник для меня не омрачат веры. Если б только… — Он не договорил, опустил голову, тяжело дыша.
— Вот ты как! — с изумлением воскликнул Виталий. — А я думал, ты засомневался в избранном пути…
Андрей промолчал, недоверчиво отодвинулся от Виталия, встал и поспешно стал одеваться.
— Ты куда, Андрей? — спросил Виталий.
— В храм.
— Ночью-то?
Андрей, не проронив больше ни слова, вышел, осторожно закрыв за собой дверь.
В глубине здания духовной академии сохранился прекрасный старинный храм, — сохранился еще от тех времен, когда здание это называлось «царскими чертогами» и было предназначено для государыни. Сюда-то в ночное время и пришел Андрей.
Он любил этот храм: изумительные фрески, богатый клирос с тонкой золоченой резьбой, иконы, написанные рукой мастеров…
Особенно же любил он скульптуру распятого на кресте Христа, стоящую слева от клироса, в нише. Здесь Андрея всегда посещало какое-то особое чувство благоговения перед богом. Вот и сейчас это чувство так же захватило его.
Он принялся с жаром молиться. И вдруг со сдержанным в груди рыданием опустился на колени. Только сейчас он с ужасом понял, что благоговение его относилось не к богу, а к мастеру древнего искусства, создавшему это великолепное произведение.
Андрей поднялся, но снова упал на колени перед распятием.
Скрипнула дверь. Крадучись, в нее заглянул отец Зосима, которому были «доверены» души юношей. Он с удовлетворением увидел распростертого на полу Андрея Никонова и поспешно закрыл дверь.
3
Зимний день был ясным и теплым. Сыпал пушистый снег, покрывая пологие крыши церквей, задерживаясь на вогнутых частях куполов, на кровлях звонниц и трапезной.
Андрей стоял на монастырской площадке, тоже белой от снега, и кормил голубей.
Белый голубь взмахнул крыльями, поднялся и сел на плечо Андрея. Затем он переместился на кисть его руки. Видно, холодным лапкам птицы было приятно ощущать человеческое тепло. Андрей стоял не двигаясь, боялся спугнуть птицу и только улыбался.
Мимо него прошла группа экскурсантов. Они вышли из Музея народного творчества и теперь шли по монастырскому саду, останавливаясь у стен соборов. К ним подошел юноша-африканец. Африканец напряженно прислушивался к словам экскурсовода, но, видимо, не понимал многого. Он натягивал на затылок меховой воротник пальто, глубоко в карманы засовывал руки и слегка приплясывал от непривычного холода.
Он увидел Андрея с голубем на руке. Некоторое время разглядывал его черное пальто, длинные русые волосы. Затем подошел к Андрею.
— Пожалста, сказать мне… — неуверенно начал черный юноша.
Голубь, испуганный голосом человека, поспешно слетел с руки Андрея.
Африканец замолчал, растерянно моргая ресницами, полез в карман. Он достал маленький русско-английский словарь, поводил по нему черным пальцем с синеватым ногтем, нашел нужное слово и доверчиво улыбнулся. Улыбка удивительно скрасила его лицо. Оно стало милым, приветливым, блеснули ровные зубы. На фоне черно-лилового лица, черных губ и даже темноватых белков они казались ослепительно белыми.
С трудом подбирая слова, юноша спросил: не ошибается ли он, предполагая, что Андрей служитель церкви? И очень удивился, когда Андрей сказал, что он студент духовной академии.
— Я Уганда, Африка, — сказал африканец, — раз, два, три, четыре месяц Советский Союз.
Он полез в карман. Достал студенческий билет, показал Андрею.
«Иренсо Нцанзимана. Угандиец. Студент подготовительного курса Московского государственного университета», — прочитал Андрей и взглянул на Иренсо. Взгляды их встретились. Андрей почувствовал расположение к африканцу и поймал в его взгляде такую же симпатию к себе. Но разговаривать с новым знакомым не было времени — Андрей торопился к вечерне. И они поспешно расстались, условившись встретиться в ближайшее воскресенье.
В церкви, рассеянно шепча молитвы и осеняя себя крестным знамением, Андрей потянулся к подсвечнику и стал снимать со свечей наплывы расплавившегося воска. Ему то и дело представлялось умное, волевое лицо Иренсо. Хотелось написать его. Андрея трогала растерянность Иренсо, беспомощность и смущение, когда он не мог подобрать нужного слова. Андрей представлял себе Иренсо на улицах Москвы. Наверняка со всех сторон, где бы он ни появлялся, на него устремлялись взгляды прохожих.
Но вот он, Андрей Никонов, не был африканцем, а выходя за монастырскую стену и оказываясь среди людей, он всегда ощущал на себе взгляды. Только на Иренсо смотрят с любопытством, с уважением, с желанием во всем ему помочь — найти нужную улицу, подсказать недостающее слово, проводить, обогреть вниманием, — а на Андрея встречные смотрят отчужденно, с иронией, с недоумением и жалостью. Не раз приходилось ему слушать насмешки и колкие словечки…
…Отец Павел нараспев, сильным басом читал евангелие, артистически запрокидывая голову и встряхивая густыми длинными волосами, рассыпанными по плечам.
Андрей медленно пробрался между молящимися к распятию. Он стоял теперь лицом к лицу с Христом. Глаза Христа были закрыты, углы губ и концы бровей скорбно опущены. В спокойных линиях лица, в наклоне головы таился нечеловеческий покой и сила.
Андрей не сводил глаз с распятия. «Как же удалось скульптору осветить этим выражением лицо Христа? И кто этот гениальный мастер?»
Вечерня кончилась. Виталий коснулся плеча Андрея, приглашая идти вместе. Но Андрей не отозвался.
«Одержимый», — подумал Виталий и направился в конференц-зал, расположенный рядом с храмом.
Вскоре в зал заглянул и Андрей. В этой большой комнате с мягкими овалами на потолке, испещренными библейскими афоризмами на церковнославянском языке, когда-то была опочивальня царицы. Теперь здесь, словно в картине «Тайная вечеря», стоял длинный стол, окруженный стульями. В простенках висели картины в позолоченных рамах, написанные на библейские сюжеты. Зал украшали две изразцовые печи — одна голубая, другая серая. У стены стоял рояль, а справа, вблизи голубой печи, — старинная фисгармония. За круглой аркой шло как бы продолжение зала. Там, на деревянных подмостках, расположенных подковкой, стояли студенты и пели. Им на рояле аккомпанировал семинарист. Уныло, монотонно звучали голоса. Трудно было понять, что они пели. Только в конце тактов ясно слышались слова: «Господи помилуй…» Андрей постоял в дверях, послушал нестройное пение, окинул взглядом прохладный просторный зал, и его потянуло писать.
Он миновал анфиладу небольших комнат и вошел в крайнюю, совершенно пустую и светлую. Эта комната принадлежала художественному кружку.
На стенах висели копии икон, сделанные акварелью и масляными красками, наброски карандашом, тушью. Андрей подошел к своей работе, снял бумагу, закрывавшую полотно, и долго стоял перед ним с кистью в руках.
Его удовлетворял фон картины: тайга, широкая проселочная дорога и скалистые горы были полны первозданной чистоты, тишины и покоя. Ему нравилась фигура Христа. Христос шел. Шел целеустремленно и порывисто. Но лицо Христа хотелось переписать. И совсем не потому, что оно было мирским. Нет, лицо, особенно глаза Христа чем-то не удовлетворяли Андрея. Чем? Он еще не осознал этого и стоял с кистью в руках, не решаясь коснуться полотна.
…Стать бы на эту знакомую дорогу, повернуться спиной к тайге и пойти в Веселую Горку. Село лежит внизу, на берегу живописной реки. Пройти по широкой улице и свернуть в переулок, к небольшому побеленному домику с огородом. Здесь он родился. Отсюда впервые увидел мир и по-своему понял его.
Ни отец, ни мать Андрея в бога не верили. Мать работала кассиршей в сельпо, отец — колхозным бухгалтером. Но род Никоновых шел от протоиерея Никона, в прошлом веке прославившегося среди верующих благочестием. Никон жил вначале в миру, имел семью, а потом постригся в монахи. В конце жизни Никон ушел в горы и сделался отшельником. Старики и сейчас помнили легенды о протоиерее Никоне, в которых рассказывалось, как он излечивал больных прикосновением руки и молитвами…
У матери Андрея в старинном ящике с железными углами сохранились религиозные книги Никона и его портрет, написанный каким-то заезжим купцом, которого протоиерей якобы вылечил от слепоты.
Если верить портрету, то Андрей через век повторил лицом своего предка. Из овальной деревянной рамки внимательно и строго смотрел старец в черных одеждах, с длинными редкими волосами. Только длинные волосы да прожитые годы отличали лицо старца от лица ученика Веселогорской школы Андрея Никонова. Те же выдающиеся скулы, узкие, раскосые, будто заспанные, светлые глаза и полный рот четкой, красивой формы.
Андрей перечитал все книги, оставшиеся от Никона, и они — с ломкими, пожелтевшими и пахнущими плесенью страницами — оставили неизгладимый след в его сознании. Не раз он доставал из ящика портрет прапрадеда и с удивлением часами разглядывал его, сравнивая со своим отображением в зеркале.
Вот этот далекий предок и необыкновенное сходство с ним настолько поразили Андрея, что ему захотелось повторить жизнь старца…
Свои взгляды Андрей скрывал от товарищей. Но те все равно считали его чудаком и приписывали это чудачество его увлечению живописью.
Правда, рисунки Андрея еще ни разу не печатались в газетах и журналах, но на конкурсах и выставках он получал высшие оценки. Дважды из области приезжал руководитель изобразительного кружка Дворца пионеров, чтобы поговорить с необычайно талантливым учеником сельской школы и с его родителями. Никто не сомневался, что Андрей по окончании школы пойдет учиться в высшее художественное учебное заведение.
Через несколько дней после выпускного бала Андрей уехал в Москву — «узнать о правилах поступления». А спустя недели три родители получили письмо:
«Я выбрал путь предка своего Никона. Буду служить господу богу и людям. Поступлю в духовную академию».
Отец послал телеграмму с требованием вернуться домой и полное горечи письмо:
«Ты, Андрей, в разуме? Разве по нынешним временам почетное дело идти по такому пути?! Одумайся. Не губи талант свой и не смеши людей…»
Но отговорить Андрея не удалось.
«Так повелевает мне моя совесть», — ответил он.
Сраженный горем, отец надолго слег в больницу. Боясь за его жизнь, при нем не стали больше произносить имя сына. Мать изумленно перебирала в памяти один за другим эпизоды из детства и отрочества Андрея.
Вот он расспрашивает ее и бабушку о своем прапрадеде Никоне; вот он читает оставшиеся после него книги; вот он у зеркала сравнивает себя с портретом протоиерея. Отец и мать удивляются необыкновенному сходству, бездумно, больше шутки ради, называют его вторым Никоном… Им и невдомек, что впечатлительная, чуткая душа ребенка уже захвачена этим далеким образом…
Теперь Андрей знает, что на вопрос, где сын, мать отвечает коротко: «В академии, в Москве». И все думают, что учится Андрей в художественной академии.
Раза два в месяц Андрей получает открытку от матери, в которой она пишет коротко: «В родном селе все по-прежнему; отец еще болен. Как ты?» А отец молчит. Он до сих пор не может понять случившегося. Где, когда, в какой час он проглядел сына?.. Трудно сжиться с горем, примириться с нелегкой судьбой, но что делать? Люди свыкаются с самой большой бедой.
Вначале Андрей поступил в семинарию, но уже на следующую осень получил право сдавать экзамены в духовную академию. Ему сделали это исключение, учитывая заслуги прапрадеда перед русской православной церковью и за блестящие успехи Андрея в семинарских науках.
…Андрей думал о родных, стоя перед картиной с кистью в руке. Тоска сжимала его сердце, но в этот час он все-таки еще не понимал, какой неминуемый крах ждет его впереди…
Так и не прикоснувшись к лицу Христа, Андрей закрыл бумагой полотно, положил на мольберт кисть. Окинув взглядом работы товарищей, он остановился на одной из них. Это была шаблонная копия иконы божьей матери, сделанная масляными красками. Картина была в раме и застеклена. Но не сама картина привлекала внимание Андрея. Он задержался возле нее потому, что в стекле хорошо отражалось его лицо: широкие скулы, узкие, раскосые глаза, чуть вздернутый нос и довольно полный, резко очерченный рот.
Он вздохнул, припоминая портрет протоиерея Никона. Но вот странная вещь: сегодня мысль о предке не только не вызвала прежнего благоговения, а, скорее, Андрей чувствовал неприязнь к старцу. «Все рушится, все рушится», — прошептал Андрей, чувствуя с испугом, как его охватывает приступ отчаяния и ужаса.
4
С Иренсо Нцанзиманом Андрей встретился на уединенной скамейке в небольшом сквере. Иренсо вначале не узнал Андрея, потому что волосы его были забраны под шляпу. Он посмотрел вопросительно и прошел бы мимо, но Андрей остановил его:
— Иренсо, здравствуй!
— Здраст, Андрей!
Иренсо попробовал сесть рядом с Андреем на скамейку, но сразу же вскочил. Теплый зимний день казался ему невыносимо морозным. Иренсо был в меховой шапке, в зимнем пальто, но без перчаток и в новых модных туфлях, с узкими носами.
Андрей посмотрел на него с сожалением.
— Надо теплые ботинки и перчатки купить. У нас не Африка.
Иренсо долго не мог понять, о чем говорит Андрей. Наконец понял и с помощью словаря принялся объяснять: у него были перчатки, но он их потерял — не привык. И к пальто он тоже не может привыкнуть.
— Тяжело. Груз, — сказал он, указывая на свои прямые плечи.
Иренсо и Андрей долго гуляли по улицам — Андрей вспоминал английские слова, составлял целые фразы. Иренсо положил словарь в карман и старался обходиться без него. Иногда они не понимали друг друга и тогда начинали жестикулировать.
Иренсо рассказывал о своем тайном отъезде из Уганды. Андрей живо представлял душную африканскую ночь, черное небо с огромными звездами, похожими на расплывшиеся жирные пятна, волнение, радость и грусть, которые испытывал Иренсо, когда самолет взмыл вверх и внизу остались редкие огни Энтеббе и светящееся пятно озера Виктория… Там, внизу, за этим озером и огнями, остались детство, юность, друзья, родители, родина — все, что было дорого Иренсо.
Слушая Иренсо, Андрей не хотел думать о себе, но это ему не удавалось. Иренсо смело и безбоязненно оторвался от всего родного и бросился навстречу неизвестности, чтобы потом вернее служить своей родине. А он, Андрей, почему бежал от своей мечты стать художником? Ему вспомнилось изваяние распятия в храме академии, и в то же мгновение его мозг словно пронзили острые, как молнии, мысли: «Христос страдал во имя спасения человечества… Какого спасения? От чего? Его распяли. И кого же он спас своим страданием?»
А Иренсо говорит и говорит… Андрей помогает ему раскрыть мысль, вставляя английские слова. Андрей предлагает Иренсо пройтись по монастырскому саду, и тот готов принять любое предложение. У него большая цель. Он приехал сюда не для забавы, он должен узнать эту великую северную страну, узнать ее прошлое, настоящее, узнать ее людей. Он готов идти куда угодно…
Они шли рядом: необыкновенно высокий, длиннорукий, худой Иренсо и невзрачный, чуть сутуловатый Андрей. Теперь наступил черед рассказывать Андрею. По-русски, по-английски, с помощью жестов он рассказал Иренсо историю монастыря: как создавался его архитектурный ансамбль, какие события волновали его обитателей. Андрей поведал Иренсо о том, как в далекие времена монах Пересвет вышел на битву один на один с ханом Темир Мурзой. Это предшествовало знаменитой Куликовской битве. Тогда татары потерпели первое крупное поражение, предвещавшее освобождение Руси от татарского ига. Иренсо восторженно восклицал какие-то непонятные слова на родном языке. Но, услышав рассказ о монахе, он остановился.
— Здесь Пересвет? — округлив глаза, сверкая белками, спросил он и склонился к земле, покрытой крупным булыжником. — Интересно! Ой, как интересно!
Потом, вновь прибегая к помощи словаря, он рассказал Андрею о католической церкви в Уганде. Он хорошо знает историю своей родины, но примеров, подобных подвигу монаха Пересвета, не помнит. Другие случаи бывали: католическая церковь сдерживала борьбу за независимость страны, не раз ополчалась против людей, пытавшихся сломить английское владычество…
— Ты тоже Пересвет? Ты тоже за родину? — неожиданно спросил Иренсо Андрея.
Если бы можно было в этот миг провалиться сквозь землю, Андрей предпочел бы такой конец, чем оказаться в том положении, в каком он оказался. Он стоял перед Иренсо пунцовый, растерянный, с опущенными руками.
— Да, я хотел бы жить в то далекое время, — пробормотал Андрей и поспешил спросить: — А ты, Иренсо, верующий?
Иренсо понял его вопрос, но долго молчал, прежде чем ответить.
— Я думаю… — уклончиво сказал он и опять заговорил о том, что Пересвет дрался за родину, а католическая церковь не за Уганду.
Андрей снова почувствовал прилив жаркого огня к голове.
— Вот это — Утичья башня. Смотри сюда, — заговорил он торопливо, чтобы как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей.
Иренсо, задрав голову так, что дважды на снег падала шапка, пытался разглядеть на шпиле каменное изображение утки, напоминавшей об охотничьих забавах Петра Первого. Но утки он так и не увидел. Она была слишком высоко от земли. Он различил лишь утолщение на вершинке шпиля. И снова восторгался легким, стройным, устремленным ввысь зданием колокольни, возвышавшейся над куполами соборов.
— Это русское барокко, — объяснил Андрей.
— О! Барокко! Понимаю! Хорошо, хорошо! — то и дело повторял Иренсо, и видно было, что он восторгался от души.
Он долго разглядывал Троицкий собор — одноглавый, приземистый, с круговым орнаментальным поясом.
— Хорошо! Как джунгли, — сказал он и виновато посмотрел на Андрея.
Но Андрей понял его: архитектура монастыря-крепости казалась Иренсо такой же великолепной, как джунгли. Пятиглавый Успенский собор поразил Иренсо своим величием. Он нашел в словаре слово «подавляет» и показал на него черным пальцем. Андрей заметил, что ладонь у Иренсо почти белая.
В соборе шла служба. Иренсо очень хотелось зайти туда, но он стеснялся просить об этом Андрея, а тот не догадывался о желании Иренсо. Они постояли и двинулись вокруг величественного здания, разглядывая голубые купола, усеянные золочеными звездами и крестами. Старые ели с заснеженными макушками почти дотягивались до куполов. С неба падал мягкий, пушистый снежок, чуть-чуть подтаивая под ногами.
Иренсо продрог и стал прощаться с Андреем.
Договариваясь о будущей встрече, Андрей проводил его до ворот. Сделав несколько шагов, Иренсо оглянулся. Лицо его осветилось улыбкой. Эта улыбка тронула сердце Андрея, ему захотелось сейчас же взять альбом и по памяти сделать набросок нового друга. Он принес альбом, сел на скамейку и с увлечением стал рисовать: маленькое лицо, длинная, тонкая шея, крепкие атлетические плечи, яйцеобразная голова, невысокий лоб, нос — вначале прямой, потом сильно расширенный. Но глаза не получались, и сходство из-за этого не возникало.
«Пожалуй, без позирования ничего не выйдет», — решил Андрей и плотно сомкнул веки, чтобы снова и снова представить черты Иренсо. Но сразу же вспомнилось и другое: его слова, манера говорить, и эта фраза: «Католическая церковь Уганды не за родину… нет».
«Впрочем, а у нас какая церковь вот теперь — за родину? — подумал Андрей. — Религия учит, что земная жизнь — миг по сравнению с вечной жизнью. Земная жизнь подобна темнице, где дух человеческий томится в ожидании небесных благ. Может ли такое учение вдохновить человека на подвиг, на труд, воспламенить желание его сделать жизнь на земле прекрасной? Родина идет к коммунизму, а религия и коммунизм несовместимы». Андрей хотел переменить ход мыслей, но вопросы с неотступной назойливостью возникали один за другим.
Он положил альбом на скамейку и сжал голову холодными пальцами.
Бесшумно подошел Виталий, остановился за его спиной:
— Эскиз дьявола, не иначе? — сухо засмеялся он, будто горох по полу рассыпал.
Андрей, не оборачиваясь, узнал его, раздраженно вскочил, бросил альбом и, не взглянув, побежал прочь.
— Гордыня обуяла! Безумец! Другие молятся, а у него вдохновение! — крикнул ему вслед Виталий, взял альбом и стал рассматривать набросок африканца.
5
Иренсо жил в общежитии, в небольшой комнате, вместе со студентом четвертого курса геологического факультета Петром Сорокиным. Он сам захотел жить не с африканцем, а с белым. Ему не терпелось понять советских людей, разобраться в их быте, поскорее усвоить русский язык. Он мечтал о тех днях, когда не будет чувствовать мучительного одиночества в этой чужой, но столь привлекающей его стране. Он мечтал понять до конца, почему великий белый народ, обладатель самых мощных ракет в мире, не хочет войны, почему он протягивает братскую руку маленькому угандийскому народу, как и всем народам мира. Это еще не укладывалось в его уме.
Петр Сорокин сказал Иренсо, что он не коммунист. Но он не принадлежал ни к какой другой партии и жил точно так же, как коммунисты. Этого Иренсо тоже не понимал. Наконец, непостижимой загадкой оставался для него Андрей Никонов.
…Иренсо вошел в комнату. Петр сидел у окна, разбирал ящик с камнями. Петр был небольшого роста, широкоплечий, полноватый, с круглым русским, довольно миловидным лицом.
— Здраст, Петья! — сияя своей замечательной улыбкой, сказал Иренсо.
— Не надо, Иренсо, каждый раз здороваться. Мы же утром виделись, — сказал Петр и жестом пригласил Иренсо полюбоваться камнями. — Это из Сибири. Витимская тайга их родина. Понимаешь?
— Андрей Сибирь, — сказал Иренсо.
— Какой Андрей?
— Друг Андрей. Хороший товарищ, много знает о России. — Иренсо достал словарь и поспешно стал его листать. — Учится стать священником.
Петр засмеялся, похлопал по плечу Иренсо:
— Ну, нашел себе друга! Посмотри-ка лучше вот это. — И он протянул Иренсо темный плоский камень, напоминающий неровный кусок толстого стекла. — Это слюда. Вот, смотри. — Петр взял нож и легонько отколол прозрачную пластинку. — Из Слюдянки. Около Иркутска.
— Андрей около Иркутска! — воскликнул Иренсо.
— Опять Андрей! — с досадой махнул рукой Петр. — Плюнь ты на этого Андрея.
— Не понимаю! — покачал головой Иренсо.
— Пошли его к черту!
— Как?
— Скажи Андрею: «Иди к черту!» Повтори. Ну? «Иди к черту!»
— Идди к шорту! — неуверенно сказал Иренсо. — А это что? Переведи.
— Андрей тебе сам переведет.
Петр усмехнулся, подошел к своему столу, порылся в стопке книг, достал тонкую брошюрку, открыл ее, подчеркнул карандашом несколько фраз и подошел к Иренсо:
— Вот, Иренсо, передай эту книжку своему Андрею. Пусть почитает.
— Спасибо, Петья, — сказал Иренсо и опять повторил: — Идди к шорту!
Петр снова усмехнулся, взглянул на часы и поспешно стал собирать камни обратно в ящик.
— На вечер опоздаем, Иренсо, наряжайся. Пойдем на вечер к геологам. Ясно тебе, о чем речь идет?
Иренсо кивнул головой, развел руками.
— Ну-ну, не валяй Ваньку! Собирайся!
— Не понимаю.
— Не валяй Ваньку, говорю.
— Не валяй Ванькью, — повторил Иренсо. — Что это?
— Ну, значит, не тяни, соглашайся.
— Соглашайся? Хорошо.
Иренсо достал из шкафа серый костюм, белую рубашку. Подошел к зеркалу завязать красный, с блестящими полосками галстук.
Петр окинул взглядом товарища и залюбовался его развернутыми сильными плечами, тонкой талией, прямыми ногами.
Костюм на Иренсо сидел ловко, изящно.
Иренсо отошел от зеркала, и Петр отметил про себя его удивительную походку: осторожную, мягкую, крадущуюся, как у лесного хищника.
«Он должен нравиться девушкам», — подумал Петр и с разочарованием посмотрел в зеркало на себя: небольшой, коренастый, какой костюм ни надень — не сидит, галстук всегда набоку.
Пока Петр крутился у зеркала, Иренсо сидел за столом и, заткнув уши пальцами, шептал:
— Ноу — знать, роуд — доро́га, спик — говорить… — Он помолчал и добавил: — Не валяй Ванькью… Идди к шорту…
Петр засмеялся:
— Вот-вот, так и скажи этому молодому попику: иди к черту! Ну, пошли, пора.
Иренсо уже увлекся заучиванием слов и встал нехотя. Петр и сам любил учиться, обожал свою будущую профессию и отдавал учению много сил и времени, но настойчивость и целеустремленность Иренсо изумляли его. «Далеко пойдет парень», — думал он.
— Иренсо! Ты будешь главой освобожденной Уганды, — вполне серьезно сказал Петр.
— Буду.
— Я говорю, что ты будешь стоять во главе освобожденной Уганды, — повторил Петр, думая, что Иренсо его не понял и потому так легко с ним согласился.
— Понимаю. Я буду во главе свободной Уганды. Надо скорее учиться и назад на родину, — страстно и убежденно сказал Иренсо.
Тон, каким были произнесены эти слова, поразил Петра. Он вдруг заметил то, чего не замечал раньше: лицо Иренсо с поперечной морщинкой на лбу, с чуть выдающейся нижней челюстью и твердо сжатыми губами было волевым, сильным, упрямым.
«Да, этот парень еще покажет себя».
Иренсо просил Петра не оставлять его одного на вечере. И вот они стоят рядом у колонны в великолепном светлом зале. Оркестр играет вальс, над головами кружатся разноцветные конфетти, спускаются ленты и кольца серпантина. Иренсо очень хотелось танцевать.
— Я подойду ту девушка. Можно? — спросил он Петра, указывая на худенькую студентку, которая только что вошла в зал и остановилась у колонны.
— Конечно! Пожалуйста! — рассеянно ответил Петр.
Иренсо подошел к девушке, поклонился, заговорил на английском языке.
— Не понимаю, — смущенно улыбнулась она и отступила за колонну.
Тогда Иренсо воскликнул:
— Не валяй Ванькью! — и занес руку, чтобы взять девушку за талию.
Она вскрикнула, ближние пары перестали танцевать, а Петр поспешил на выручку товарищу.
— Она не захотела со мной танцевать… Я черный, — сказал Иренсо и хотел уйти домой.
Но Петр уговорил его остаться. Вокруг танцевали, а Иренсо грустный стоял в стороне.
— Девушки красивые. Танцуют плохо, — наконец сказал он Петру. — А вот посмотри, какая девушка, — встрепенулся он и показал на изящную блондинку в декольтированном платье из золотистой парчи. Ее пышные распущенные волосы покрывали открытые плечи. На маленьких ножках в розовых чулках видны были лишь каблучки да тонкие ремешки на подъеме.
И как только держались на ногах такие туфли!
Иренсо неотрывно следил за этой девушкой.
— Красивая! Танцует хорошо!
Девушка уже заметила, что на нее смотрят, повернулась к Иренсо, взглянула на него своими большими серыми глазами и улыбнулась. Она прошла в танце еще один круг и, выскользнув из рук своего партнера, подбежала к Иренсо.
Положив ему на плечо руку, она увлекла его на середину зала.
Петр усмехнулся, удивился дерзости девушки, но был доволен за Иренсо.
В общежитие Иренсо пришел позднее Петра. Он снял туфли у дверей и, уверенный в том, что товарищ спит, тихо возился около своей кровати, не зажигая огня.
— Я не сплю, Иренсо! Ну как, весело провел время?
Иренсо поспешно зажег свет. Лицо его было возбужденным, глаза блестели.
— Весело. Очень весело.
— А девушку проводил домой? Не знаю, как у вас, а у нас юноша обязательно должен провожать.
Иренсо рассказал все, что было: он проводил девушку до дома, ее зовут Вира Вершинина. Прошлой весной она окончила школу где-то очень далеко, жила у тетки, а теперь приехала к родителям.
— Красивая! Пальма! Лицо как снег. Волосы — золото. Ангел! — заключил свой рассказ Иренсо.
«Ну-ну! Наши девчонки мастера крутить головы парням», — про себя улыбнулся Петр. Он был уверен, что Иренсо сейчас же ляжет спать, но тот зажег настольную лампу, прикрыл ее газетой и принялся учить новые русские слова. «Железный парень!» — подумал Петр и быстро уснул.
6
У Андрея шли экзамены, и он не мог отлучиться из академии в тот день, когда у него была назначена очередная встреча с Иренсо.
Андрей думал об этом с сожалением. Теперь едва ли Иренсо найдется, а с ним интересно было беседовать, и к тому же в последнюю встречу они подошли к главному — к разговору о боге и вере…
Андрей сидел за столом. Перед ним лежала раскрытая библия в толстых, плотных корках. Он читал шепотом:
— «И создал бог два светила великие, светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды. И поставил их бог на тверди небесной, чтобы светить на Землю».
Андрей остановился. Читать он больше не мог.
Встал, зашагал из угла в угол, покосился на толстую книгу, лежавшую на столе, подумал: «Сказка! Красивая сказка! Ей может верить либо глупец, либо неуч, либо обманщик! Ну, а ты, Андрей Никонов, как ты? К какой категории отнесешь ты себя? Ты не глупец, не неуч, не обманщик. Как же ты можешь примириться с «твердью небесной», со «светилом великим», когда ты знаешь, что Солнце светило миллионы лет раньше, чем появилась Земля, а небо никакая не «твердь». Ты же отлично знаешь, что каждое слово в этой книге с золоченым крестом на переплете уже тысячу раз опровергнуто наукой!»
Он снова сел за стол и, оглянувшись на дверь, вынул из-под библии брошюру, посланную Петром через Иренсо. Это была статья Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека».
Андрей пробежал глазами подчеркнутые Петром строчки:
«Сотни тысяч лет в истории земли имеющие не большее значение, чем секунда в жизни человека — наверное протекли, прежде чем возникло человеческое общество из стада карабкающихся по деревьям обезьян».
Потом глаза его скользнули по нижним мелким строчкам, обозначавшим примечание, сделанное самим Энгельсом. Захватив длинными пальцами взъерошенные волосы, он читал шепотом:
— «Авторитет первого ранга в этой области, сэр Уильям Томсон, вычислил, что немногим более сотни миллионов лет, вероятно, прошло с тех пор, как Земля настолько остыла, что на ней могли жить растения и животные».
Что же делать? Что делать? Сможет ли он на экзамене выйти к столу, где сидят духовные пастыри в черных рясах, с большими крестами на груди, и всерьез, с видом верующего человека, говорить о том, как бог поставил «светила великие» на «тверди небесной»?
Андрей давно уже понял, что библия не откровение свыше, не слово божие, как учат богословы. Он твердо верил, что библия была написана людьми давних времен, не умеющих еще разобраться во многих явлениях жизни.
Противоречия между Ветхим и Новым заветами вначале ставили Андрея в тупик, а потом стали раздражать. В Новом завете говорилось: «Не противься злу. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую». А Ветхий завет учил христиан совсем другому: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб». И такими противоречиями была наполнена вся библия.
Андрей снова сел за стол и закрыл библию. Он испытывал острое отчаяние.
Вдруг над ним послышался смех. Андрей поднял голову и увидел возле себя Виталия.
Бритая голова товарища уже покрылась отросшими волосами, жесткими, как щетина. Теперь Виталий не был таким бледным, как прежде, исчезло выражение страдания на лице, но глаза… Глаза по-прежнему говорили о перенесенной душевной болезни.
Он сел возле Андрея и, задыхаясь от смеха, сказал:
— Слушай, Андрей Рублев, а ведь быстренько господь бог управился с созданием Земли. В шесть дней отработался. Но переутомился все же и на седьмой день отстранился от дел.
Виталий снова залился нездоровым смехом.
— Смеешься? Значит, не веришь тому, что тут написано? — тихо спросил Андрей, положив на золоченый крест библии свою руку.
— Что же я, маленький? — фыркнул Виталий. — И ты, Андрей Рублев, не веришь. Я же вижу. Все вижу. Ты только хитришь. Сам с собой хитришь…
— Ну, и что же ты будешь делать? — перебил его Андрей.
— Как — что? — не понял Виталий.
— Уйдешь? Отречешься? — пояснил Андрей.
Виталий замахал руками и прыснул от хохота.
— Учиться буду. Кончать академию. Учить буду паству истинной вере в господа бога нашего.
Виталий сделал серьезное лицо, перекрестился и отошел от Андрея.
«А как же иначе? Иного и быть ничего не может. Как ни безумен Виталий, но рассуждает по-своему мудро, — подумал Андрей. — Что же теперь делать? Путь избран, жить как-то надо».
Он склонился над библией. «И создал господь бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Сейчас надо было забыть о науке, забыть о подлинной правде возникновения мира и погрузиться в этот страшный самообман.
Так учились в академии десятки студентов, и Андрей не был исключением.
7
Дни шли за днями. Кончилась зима, ветреная, теплая, со слякотью и дождями. Не раз вспоминалась Андрею сибирская зима — суровая, морозная, но зато солнечная и белая-белая. Порой ему казалось, что на душе у него тяжко только из-за этого низкого серого неба. Вот тучи уйдут, выглянет солнце, и снова ему станет легко, спокойно и радостно, в точности так, как было когда-то в Веселой Горке.
Но наступила весна, выглянуло солнце, помчались и запели ручьи, зацвела верба, а на душе легче не стало.
Начались мучительные головные боли, бессонница. А если он засыпал, то просыпался весь в поту, с ощущением неотвратимого несчастья, происшедшего в его жизни.
Он ходил в храм, выстаивал всенощные, обедни и вечерни, учился, сдавал экзамены. И часто ему казалось, что все это делает не он, Андрей Никонов, а его двойник. Самим собой он оставался только в те минуты, когда рисовал. Но и это было не так просто.
Однажды отец Зосима увидел портрет Иренсо, который Андрей все же написал масляными красками. Так же как и Виталий, отец Зосима осведомился, не эскиз ли это лика дьявола для будущей работы Андрея.
Андрей рассказал воспитателю о своем знакомстве с Иренсо, о том, что был поражен его мужественным лицом, ясной улыбкой, широтой его интересов.
Отец Зосима выслушал Андрея внимательно, но держать «черный лик» рядом с Христом не позволил. Андрей отнес портрет Иренсо в общежитие и спрятал его за изголовье своей кровати, чтобы не видели товарищи.
К картине «Христос» Андрей не возвращался, она оставалась незаконченной. Андрей все еще никак не мог понять, что же хотелось ему передать в образе Христа.
В свободные часы он увлекался этюдами. Уходил с мольбертом в сад, писал чахлые кустики, куски голубого неба между куполами и крестами храмов. А душа все сильнее и сильнее рвалась на просторы полей, в тайгу. Хотелось где-нибудь на открытой полянке броситься в траву и вдыхать аромат полевых цветов, чувствовать горячую ласку солнца, выплакать на груди матери-земли истерзавшее душу горе…
Однажды он сидел в саду с альбомом в руках. Дорожки сада подметала уборщица Соня, пожилая женщина в стеганке, в черном платке с белыми крапинками, плотно обмотавшем голову и шею. Отодвигая сырой мусор метлой, она приблизилась к скамейке, на которой сидел Андрей.
— Ну-тка, Никонов, привстань.
Андрей встал, уронил альбом, и из него выпали на землю рисунки. Он наклонился, чтобы поднять их. И Соня тоже подняла один рисунок, упавший возле ее ног.
— Что же это, вы сами рисовали? — спросила она, рассматривая портрет девочки-подростка и незаметно для себя перейдя на «вы».
— Сам.
— На мою дочку похожа, — нерешительно сказала Соня.
— А может, ее и рисовал. С натуры. Здесь она по двору бегала…
— Нет. Она померла, Никонов. Господь прибрал… — Соня перекрестилась и села на скамейку возле Андрея.
На колокольне зазвонили колокола. Соня быстро-быстро стала креститься. Андрей встал, не торопясь осенил себя крестным знамением и снова сел.
— Умерла дочка шестнадцати лет, — тихо сказала Соня, не выпуская из рук портрета девочки. — В деревне ее лошадь зашибла. В живот ударила. Стала чахнуть. Высохла, как былинка. Я ей говорю — молись, в церковь ходи, а она заладила свое — к доктору, в город, в больницу. А ведь болезни-то, Никонов, от господа бога. Значит, воля его. Не пустила я ее в город. Ну, а господь бог по-своему рассудил — прибрал…
Соня заплакала, кончиком платка вытирая слезы.
— Учительница из школы потом пришла ко мне, кричать стала: ты, говорит, убийца дочки своей. Хотели меня судить, да я вовремя ушла. Пешком шла, почитай, месяца четыре, к мощам святого Сергия прикладывалась.
И она опять заплакала.
Андрею стало не по себе. Хотелось сказать этой женщине, что она действительно убийца своей дочери. Но он сдержал поднявшееся негодование. Разве эта неграмотная, темная женщина, запуганная религией, поймет его? Вот она-то может безоговорочно поверить и в «твердь небесную» и в «светила большие», созданные, чтобы освещать землю.
В это время Андрея кто-то окликнул. Он оглянулся. За изгородью сада стоял Иренсо.
Андрей искренне обрадовался приходу Иренсо. Он не видел его несколько месяцев и был поражен успехами, которые тот сделал в изучении русского языка. Словарь уже не нужен был Иренсо. Он хорошо понимал Андрея и отвечал ему совсем без акцента. Лишь иногда его короткие фразы были построены неверно.
— Молодец, Иренсо, молодец! — восхищенно заметил Андрей.
— А ты тоже молодец? Что ты сделал за это время?
— Я? — Андрей помрачнел. Вспомнились ежедневные службы в церкви, зубрежка церковнославянского языка, богословских наук… — Об этом потом, — сказал Андрей.
Они договорились о встрече. Теперь Андрей должен был приехать в Москву.
8
Предстояло изучить обряд отпевания усопшего. Андрей с Виталием выбрали церковь на окраине города.
Покойница лежала в простом тесовом гробу, ее внесли в церковь и поставили на деревянные подставки под висячей рогатой люстрой. Вошла молодая монашка. В черном широком одеянии, перетянутом кожаным поясом, в черном платье, она бесшумно двигалась по церкви, зажигала перед образами лампады и свечи. Лицо у нее было какое-то исступленное, бледное, она ни на кого не глядела, никого не замечала.
В изголовье гроба и по его бокам монашка поставила тяжелые серебряные ставники с лампадами. Гибкой, молодой рукой поднесла зажженную свечу к лампадам, и на отрешенном восковом лице покойницы заиграли розоватые отблески.
Монахиня накрыла гроб покрывалом с вышитым крестом, на грудь покойницы положила иконку, на лоб — венчик, в руку вложила свернутый листок бумаги — «отпуск».
Церковь быстро наполнилась народом. Андрей присматривался к людям. Здесь было много пожилых женщин и мужчин. Молодых лиц Андрей не заметил. Впрочем, двое оказались совсем юными — девушка лет девятнадцати и пятнадцатилетний мальчик, дети умершей. Лицо девушки, бледное, с сухими, измученными глазами и синими подглазницами, показалось Андрею знакомым. Он долго припоминал, где видел ее, и наконец вспомнил. Она работает продавщицей в магазине.
Высокий, угловатый мальчик походил на сестру своими серыми глазами в густых черных ресницах. В глазах его, как и у сестры, стояло неотвратимое горе, безутешная боль.
Церковь наполнилась запахом ладана. Прозрачные дымки его наплывали на лица, освещенные пламенем свечей, которые люди держали в руках.
Старый священник устало помахивал кадилом и тихо тянул прерывающимся шепотком: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже» и «Упокой, господи, душу усопшей рабы твоея». А молодой священник, словно дошколенок, разучивающий стихотворение, повторял лишь окончания слов: «ия», «же», «пшей», «ея».
Андрей и Виталий переглянулись и, хотя это было неуместно, в их глазах вспыхнула улыбка.
Священник кончил отпевание и громко, помолодевшим голосом сказал:
— Родные, перекреститесь и возьмите «отпуск» из рук покойницы.
Девушка и мальчик поглядели на священника измученными глазами. Они чувствовали, что его слова относятся к ним, но продолжали стоять не двигаясь.
— Наташа, Сергей! Перекреститесь! — зашептали со всех сторон.
Брат посмотрел на сестру и не поднял опущенной руки. Не подняла руки и сестра.
— Вы что же, в бога не верите? — свистящим шепотом строго спросил священник.
Мальчик, казалось, не слышал его, а девушка качнула головой. Да, они в бога не верили.
— Вот они какие, детки! Они и довели ее до гроба! — сказала клювоносая старуха в черной, распущенной по плечам шали. Ее слова подхватили. Церковь наполнилась ропотом.
Девушка вздрогнула, медленно повела глазами, будто силилась запомнить всех тех, кто негодовал на нее. Рука ее нашла руку брата, и они стали еще теснее друг к другу.
— Проклятие вам, недостойные! — повысил голос священник. — Запрещаю вам прощаться с матерью!
Клювоносая старуха, пристукивая палкой, подошла к гробу и вынула из руки покойницы «отпуск».
— Счастлива мать, что ушла от таких детей в другой мир, — продолжал старый священник и распорядился, чтобы гроб закрывали.
По церкви разнеслись удары молотка. Девушка вскрикнула, опустилась на руки брата. Ее вынесли из церкви.
— Батя сильно перегнул палку. Он не имел права не допустить детей проститься с матерью, — вполголоса сказал Виталий.
Но его слова утонули в ропоте, снова разнесшемся по церкви.
Андрей стоял весь в поту, не веря своим глазам. «И никто из провожающих не заступился за сирот! Какое жестокосердие!» — думал он. Вслед за Виталием он вышел на паперть. Стоявшие здесь женщины обсуждали происшествие.
— Покойница тоже не верила, и креста на ней не было. Это Макарьевна с себя сняла да на нее надела, — говорила какая-то женщина.
— Ордена, говорят, у нее были. Раньше она в совхозе дояркой работала. Потом болеть стала и в город уехала, — добавила другая. — Дочка-то, сказывали, хотела на подушечке их, ордена-то, нести, а Макарьевна не велела: в таком разе, говорит, священник отпевать не станет… Ну, и послушалась.
— Как же не послушаться — от церкви могилу выкопали, гроб купили. Сироты с горя-то растерялись. А магазинские, вишь, и носа не показали, — девчонка-то у них недавно работает.
Но тут вышел священник, и шествие двинулось на кладбище.
— А ведь ребятишки-то не перекрестились, — сказал Андрей, не без сочувствия к сиротам.
— Ну и зря. Рука не отвалилась бы, а из церковных кружек им кое-что перепало бы! — усмехнулся Виталий и, помолчав, добавил: — А что, Андрей Рублев, не пойти ли нам сейчас в одно местечко? Там нас никто не знает. Промочить бы горло, а то как-то гнусно на душе… Да только ты сильно правильный, тебя с устава не собьешь…
— Что ж, пойдем, — без колебаний согласился Андрей.
9
В одно ясное весеннее утро по улицам Москвы шел Костя Лазовников. Он был в шинели, перетянутой ремнем, в военной фуражке и начищенных сапогах. На берегу Яузы он остановился. Мутная, с блестками жирных пятен вода не понравилась ему, хотя щедрое утреннее солнце золотило ее и москвичи ею любовались. «Эх, милые, посмотрели бы вы на наши быстрые сибирские реки, чистые, как роса!» — подумал Костя, и ему вспомнилась Смородинка с ее прозрачной водой и порывистым бегом через валуны. У Зеленого лога Смородинка кидалась вниз по гладкой, отполированной скале, образуя крутой водопад. Над водопадом стоял туман. Мириады брызг взлетали от удара воды о камень и, казалось, неподвижным облачком стояли в синем воздухе.
Вот там-то около ревущего водопада Костя когда-то и сказал Елизавете Петровне свое заветное слово. Они стояли около водопада, оглушенные его страшным ревом, освеженные холодными, чуть-чуть колючими брызгами. На Елизавете Петровне было белое платье, облегавшее ее стройную фигуру. Ходьба по горной дороге разрумянила ее лицо.
«Любимая моя!» — сказал Костя.
Он знал, что услышать его было невозможно. Шум водопада заглушал его слова, а та, кому они предназначались, стояла чуть обернувшись, устремив взгляд на клубящийся, грозный поток…
Костя вздохнул: все это было уже в прошлом…
Увольнительная ему была выдана до 20.00. День был впереди, но он не знал, как лучше распределить время. Хотелось сразу осмотреть все…
Прежде всего — Мавзолей… Увидеть Ленина… Костя столько раз мечтал об этом в Сибири! Потом — Третьяковская галерея, Музей Революции… Затем… А затем надо было являться в часть. Посмотрев на часы, Костя решил утреннее время, пока Мавзолей закрыт, потратить на поиски Андрея.
Перед отъездом из Веселой Горки Костя побывал у родителей Андрея: пытался узнать адрес. Его встретила мать Андрея и почему-то смутилась, когда Костя начал расспрашивать про сына.
— Учится в академии, — кратко сказала она и показала обрывок конверта, на котором стоял номер почтового отделения.
В тот же день Костя написал Андрею письмо, но ответа не получил. Оказавшись в Москве, он снова послал письмо, и опять безрезультатно. Теперь он решил твердо: разыскать академию и обо всем узнать.
В первом же справочном бюро, в которое он обратился, ему сказали, что в Москве есть несколько высших художественных учебных заведений. Есть и Академия художеств, но в ней студенты не обучаются. Она ведет научную работу.
Костя решил, что мать Андрея перепутала академию с институтом имени Сурикова, и уверенно направился туда. Через полчаса он стоял у стола заведующей канцелярией и ждал ответа. Пожилая дама с крашеными светлыми волосами, в широкой пестрой юбке, чуть прикрывающей колени, в капроновой блузочке и белых туфлях на тончайших шпильках, извлекла из стола списки студентов.
— Никонов… Никонов, — говорила она и водила по спискам указательным пальцем с ярко-красным ногтем. — Нет, Никонов у нас не учится.
— Не может быть! — сказал Костя. — Посмотрите, пожалуйста, еще раз.
— Посмотрю еще раз, — охотно согласилась женщина, и палец с длинным красным ногтем снова прошелся по спискам. — Милый солдатик, — вежливо сказала она, — нет у нас Никонова. Совершенно точно — нет.
Костя пожал плечами, поблагодарил женщину и вышел.
«Как же все-таки найти Андрея?» — подумал он и вдруг вспомнил, что у него есть адрес Виры Вершининой. Вира, конечно, встречается с Андреем, а если и не встречается, то наверняка знает его адрес. Можно было бы еще сходить к Наде, но в одном из писем она сообщала, что попытка найти Андрея окончилась неудачей.
Костя открыл записную книжку, нашел адрес Виры. От того места, где он находился сейчас, до нее было совсем близко. Он доехал на метро до Киевского вокзала, пересек заполненную людьми и машинами привокзальную площадь и попал в переулки, похожие на деревенские улицы, с низкими деревянными домишками и палисадниками.
Вира жила в новом многоэтажном доме с балконами и большими окнами. Таких домов в этом районе становилось все больше, и они вытесняли старые, покосившиеся развалюхи.
Костя еще не привык к лифту и предпочел подняться пешком. Он прошагал на седьмой этаж, позвонил. Послышались быстрые, легкие шаги, и в открытой двери появилась Вира: волосы до плеч и челка до бровей, совсем как у героини иностранного фильма «Колдунья».
— Костя?! — изумленно приглядываясь к его солдатской форме, воскликнула Вира.
— Действительно, он. Здравствуй, Вира!
— Здравствуй, Костя! Меня в Веселой Горке выгнал, а теперь сам пожаловал. Или забыл? Ну, проходи, защитник отечества. Я зла не помню.
Вира, по-видимому, и в самом деле не сердилась. Косте показалось, что она даже рада его приходу.
Костя вошел в просторную прихожую с круглой вешалкой и большим зеркалом на стене. Снял шинель и фуражку.
— Голова босиком, — фыркнула Вира. — Ты, Костя, на цыпленка походишь. Ну-ну, не обижайся! Прошу вот сюда.
Вира пошла вперед по коридору, тонкая, легкая, играя бедрами, обтянутыми узкими серыми брюками. Костя вслед за ней вошел в комнату и вздрогнул от неожиданности. В качалке, возле торшера, сидел черный человек.
— Знакомься, — несколько торжественно объявила Вира. — Это Иренсо. Угандиец. Из Африки.
Иренсо непринужденно поднялся, приветливая улыбка осветила его лицо. Он энергично пожал большую Костину руку.
— Иренсо, это Костя. Мы вместе учились в школе, — сказала Вира.
— В школе? — переспросил Иренсо. — Это очень далеко?
— Я теперь в армии. Прибыл сюда из Сибири. — Костя сел на стул, придвинутый ему Вирой.
Иренсо опустился в тачалку и, чуть покачиваясь, с любопытством рассматривал Костю. Он еще никогда не встречался так близко с советским солдатом. Костю тоже очень интересовал африканец, но он боялся смотреть на него, чтобы не обидеть чрезмерным любопытством.
Вира залезла с ногами на диван и прилегла в красивой позе: дескать, любуйтесь мною. До чего же Костя знал все ее повадки!
— Знаешь, Вира, я к тебе забежал на минуту, — сказал Костя. — Тебе ведь наверняка известен адрес Андрея. Скажи, пожалуйста, как его найти.
— Андрея? — удивилась Вира. — Понятия, не имею. Слышала, что он в какой-то академии учится.
— Я только что был в Суриковском институте. В списках Никонова нет, а в художественной академии студенты не обучаются.
И тут произошло совершенно неожиданное. Иренсо подался вперед вместе с качалкой и, взглянув на Костю, сказал:
— Я знаю Андрея Никонова из Сибири. Он учится в академии.
Вира и Костя недоверчиво посмотрели на него.
— Какой он из себя? — спросила Вира.
— Такой… небольшой, глаза спать хотят, сонные.
— Андрей! Конечно, Андрей! Как же ты его узнал? — обрадовался Костя, не заметив даже, что назвал Иренсо на «ты».
— Я узнал его в монастыре. Он стоял в черном костюме, волосы длинные, кормил голубей.
Вира и Костя изумленно переглянулись.
— Что-то ты путаешь, Иренсо! Может быть, он в самодеятельности выступал? — спросила Вира. — Или в кино снимался?
— Нет. Я знаю Андрея Никонова из Сибири. Он учится в академии. Будет священником, — горячился Иренсо.
Вира прыснула от смеха. Затем она вскочила, замахала руками:
— Нет, нет, это не тот Андрей. Наш Андрей художник.
— Правильно! Андрей меня рисовал. Очень хорошо рисовал, — подтвердил Иренсо.
Костя насторожился. Ему вспомнились всегда опущенные глаза Андрея, его замкнутость, вечное нежелание вести в школе общественную работу, нелюбовь к спорту и гордость, постоянная затаенная гордость.
«Да, этот мог пойти на такое. Необычно, не похоже на остальных», — подумал Костя, все еще сомневаясь, а тот ли это Андрей Никонов, веселогорский ли.
— В воскресенье мы встречаемся с Андреем, — сказал Иренсо и назвал время и станцию метро, где должна была состояться встреча.
Вира опять засмеялась.
— Костя, что тебе стоит познакомиться с молодым попиком? Это так интересно! Иди, иди, Косточка. Да приведи ко мне этого Андрея, даже если это и не тот Андрей.
Костя попрощался с Иренсо, пообещав в воскресенье быть в условленном месте.
Вира пошла проводить Костю. Кокетливо прощаясь с ним, она сказала:
— Приходи!
— Вряд ли удастся. Африканцы, студенты духовных академий — это экзотика. Солдатом никого не удивишь, — глядя в глаза Вире, сказал Костя.
— Ну, как хочешь, Косточка! — Вира пожала плечами и деланно засмеялась.
10
В воскресенье Костя снова получил увольнительную. Стрелки часов показывали без пятнадцати два, когда он появился у Библиотеки имени Ленина и стал ходить в ожидании угандийца.
День был солнечный, теплый. Папы и мамы неторопливо прогуливались с ребятишками, звенел чей-то смех, за город бежали машины. На бульварах кучками сидели пенсионеры — играли в шахматы, шашки, в домино, читали газеты.
Ровно в два часа Костя увидел Иренсо. Он вышел из метро и, озираясь, остановился у колонн огромного здания библиотеки. Костя решил встретиться с ним только в том случае, если Андрей окажется Андреем из Веселой Горки, а пока затерялся в толпе на троллейбусной остановке.
Вдруг Костя увидел Андрея, именно того Андрея, которого знал. В темном пальто, с полосатым шарфом на шее, в серой шляпе, Андрей неторопливо шел по тротуару, опустив руки в карманы. В его одежде и во всем облике не было ничего такого, что говорило бы о принадлежности к духовной академии.
Костя бросился навстречу Андрею, готовый крепко обнять его.
— Привет, Андрей! Ну, брат, и запрятался ты…
Андрей остановился, глядя в упор на Костю и, видимо, не узнавая его.
— Лазовников! Откуда ты? — побледнев, холодно наконец произнес Андрей и отстранился от Костиных объятий.
— Я думал, что ты в академии…
— В академии. Однако я спешу. Извини, — перебил Андрей и отступил от Кости еще на шаг. Не спросил ни о родителях, ни о деревенских друзьях. Не предложил новой встречи. Даже не пожав протянутой Костиной руки, он повернулся и быстро пошел в сторону.
Только теперь, когда Костя увидел Андрея со спины, он заметил, что его длинные волосы заправлены под шляпу.
Все ясно, он будущий поп! Костя испытал ужасное смятение. Со всех сторон его толкали прохожие, одна разбитная девица назвала его даже «телеграфным столбом», но он продолжал стоять на самом бойком месте. «И как же ты мог допустить это, незадачливый последователь Макаренко? Просмотрел! Непоправимо прохлопал! Надеялся, что жизнь исправит этого самолюбивого, заносчивого парня. Вот и достукался. Надо было не уповать на жизнь, а работать с мальчишкой не покладая рук, воспитывать, доказывать. Ты виноват, ты! Ты был и вожатым и секретарем комсомольской организации…»
Конечно, не один Костя виноват был в том, что так случилось с Андреем, но он не любил перекладывать ответственность на других и приучился с юных лет строго спрашивать с самого себя.
Когда укоры совести немного улеглись, Костя почувствовал к Андрею нестерпимую неприязнь. Захотелось догнать Андрея и дать ему три-четыре крепкие, увесистые оплеухи. «Сволочь и негодяй! Своим дурацким эгоизмом запятнал всю Веселую Горку — партизанское, колхозное село, давшее стране немало учителей, врачей, инженеров, механизаторов, хороших бригадиров — новаторов сельского хозяйства. И вот тебе на — из этого села человек идет учиться на священника!.. Там ребята бригаду имени «Молодой гвардии» создали, на ферме работают, а он… он… предатель!»
Костя рванулся вперед, толкнув какого-то старичка.
— Нет, он мне ответит за все! — шептал Костя и бегом направился к метро.
Но там, где стоял Иренсо, не было уже ни его, ни Андрея. Костя бросился в одну сторону, в другую — Андрей словно провалился сквозь землю.
Не зная, как найти выход своим чувствам, Костя бросился на почту. Единственно, что он мог сделать, — это сообщить обо всем Елизавете Петровне и Илье Ильичу.
А между тем Иренсо и Андрей неторопливо шли по Манежной площади.
Андрей долго молчал, не в силах совладать с горьким осадком от неожиданной встречи с Костей Лазовниковым.
Иренсо тоже молчал. Он видел, как встретились Андрей с солдатом, и понял, что встреча была не из дружеских. Расспрашивать он не считал возможным.
— А портрет твой так и не получился, — наконец сказал Андрей, чувствуя, что молчать дальше просто неприлично.
— Меня рисовать трудно, — с живостью отозвался Иренсо. — Я черный.
— Ну как, ты не жалеешь, что приехал в Россию?
— Нет. Я многое понял, многое узнал, — охотно отозвался Иренсо. — Андрей, ты не сердись… Можно, я тебе все скажу? — вдруг спросил Иренсо, посмотрев Андрею в глаза.
— Зачем же сердиться? Пожалуйста, говори.
— Я хочу тебе сказать о боге, — с какой-то виноватой ноткой в голосе проговорил Иренсо. — Я знал, что в Советском Союзе люди не верят в бога. Мне было это непонятно. Страшно было. Я не знал, как можно не верить в бога. Потом я стал учиться в университете, увидел, что русские студенты не верят в бога. Я понял, что так можно. Я стал думать, Андрей, много думать. Я не боюсь сейчас сказать, что бога нет. — И, помолчав немного, спросил: — А ты, Андрей, веришь в бога?
Они шли по Александровскому саду. Андрей молчал.
— Ты не хочешь разговаривать, Андрей? — спросил Иренсо. — Ты сердишься.
— Я не сержусь, Иренсо. Только говорить мне очень трудно. — Андрей горько усмехнулся и добавил: — Хотя я и хорошо владею русским языком.
Они сели на скамью. Иренсо не сводил с Андрея умных черных глаз.
— Ну и не говори. Я понял. Ты тоже думаешь. Тебе очень трудно. Ты должен быть священником. Мне тоже трудно. Через пять лет я вернусь в Уганду. Наш народ очень религиозный. А церковь наша за Уганду колониальную. Придется бороться, рассказывать народу правду. Советские люди говорят: трудностей не надо бояться. Хорошо говорят. Я тоже не буду бояться. И ты, Андрей, не бойся…
Иренсо доверчиво положил руку на плечо Андрея, но тот сжался и молчал. Иренсо решил переменить тему разговора.
— Я знаю, Андрей, очень красивую девушку. Хочешь рисовать ее? Можно ангелом изобразить. Волосы — золото. Лицо как снег. Щеки — заря. Тонкая, как молодая пальма…
Андрей заметил, с каким восторгом Иренсо говорит о девушке, улыбнулся и спросил:
— Нравится?
— Нравится. Нравится! — с готовностью отозвался Иренсо. — Белые девушки очень нравятся африканцам.
— А ты ей нравишься?
— Я… — Иренсо стал грустным, вытянул вперед свои черные руки. — Я такой… Ультрафиолетовые лучи сделали африканцев черными. Белые девушки черных не любят.
Иренсо рассказал Андрею, как он познакомился с русской девушкой и она пригласила его к себе, познакомила с отцом и матерью. Родители, научные работники, встретили его приветливо. И ему очень приятно бывать в семейном доме. А девушка ходит с ним и в кино, и в театры, и гуляет по Москве.
— Ну вот, а ты говоришь, что белым девушкам африканцы не нравятся.
Иренсо опять помрачнел и ответил уверенно:
— Не нравятся, Андрей. И я тоже не нравлюсь. Я просто здесь необыкновенный. Люди смотрят — ей нравится. Люди говорят: вот белая-белая девушка идет с черным-черным, — ей нравится. А девушке, возможно, неприятно со мной даже поздороваться за руку.
Иренсо снова поглядел на свою черную руку и надел перчатки.
— А как зовут ее?
— Вира.
Андрей решил, что он нечетко произнес слово.
— Вера? — переспросил он.
— Да.
— Женишься на Вере и увезешь ее в Уганду?
— Нет, не женюсь. Женюсь на черной девушке, как бы ни любил эту. На белой мне жениться нельзя. Народ не станет доверять.
— А если очень полюбишь? — спросил Андрей.
— Я больше всего люблю родину! Я для нее всем пожертвую. Уганда страдает. Уганду спасать надо. Ты не знаешь, как тяжело жить угандийцу. О себе забыть надо. О людях помнить надо. Жизнь один раз бывает.
Андрей с изумлением смотрел на вдохновенное лицо Иренсо. «Написать бы картину! — мелькнула у него мысль. — В толпе, на первом плане, изобразить Иренсо в белой одежде, вот с таким страстным лицом, как сейчас, с такими же горящими глазами».
Нет, написать такую картину не просто, тем более что до сих пор не закончен «Христос» и Андрея уже снова вызывали к ректору, торопили…
Андрей вздохнул, вздохнул и Иренсо. Они встали и вышли на Красную площадь. По камням, вытертым подошвами людей и колесами автомобилей, они подошли к Лобному месту.
Андрей объяснил, каким целям служило оно в далеком прошлом. Иренсо припомнил картину «Утро стрелецкой казни», вспомнил про Степана Разина, сложившего здесь, под топором палача, голову.
— Страшный закон, — сказал Иренсо и, помолчав, добавил: — В Уганде есть страшные законы англичан. Есть и наши национальные законы — их поддерживает религия. Английские законы умрут, когда Уганда станет свободной. Национальные законы трудно отменить: угандийцы очень религиозны…
Они прошли еще раз по Красной площади и направились в магазин купить яблок.
— Бананов бы! — мечтательно сказал Иренсо. — Из бананов мы варим кашу.
И он вспомнил свой дом. Небольшой белый дом в Энтеббе, окруженный зеленеющим садом с цветами, скамейка под бананом. Вспомнились душные темные ночи, дневной зной и какой-то особенный воздух: мягкий, густой, совсем не такой, как в Москве… Перед ним встало лицо матери, ее грустные темные глаза, ласковые руки, белые одежды. Вспомнилась сестра — худенькая, босоногая, с распущенными по плечам блестящими черными кудрями.
— Из бананов мы варим кашу, — со вздохом повторил он, вдруг отчетливо почувствовав вкус каши и увидев ту круглую кастрюлю с двумя ручками, в которой ее варили.
— Иренсо Нцанзимана, — задумчиво сказал Андрей. — А что означает твоя фамилия?
— Нцанзимана — значит «идти к богу», — улыбнулся Иренсо.
— Идущий к богу, — поправил Андрей. — А ты вот перестал идти к богу… — заметил он. — Сколько же в вашей семье нцанзиманов?
— Видишь ли, — сказал Иренсо, — у нас не так, как у белых. У нас каждая сестра и брат имеют другую фамилию. У меня, Андрей, сестра и три брата. Я старший.
— Самый старший — и бросил семью. Как же они живут?
— Живут не очень хорошо. Плохо живут, — с грустью уточнил Иренсо. — Сестра учительница. Народ Уганды еще худо живет. Нет врачей. Детей рождается много. Много умирает. Дети не учатся. Угандийцы — рабы англичан. Культура — англичан. Своя культура маленькая.
— У тебя, Иренсо, ясная и благородная цель. А вот меня ты не понял, — растроганный словами африканца, заговорил Андрей. — Моя дорога вся в препятствиях: пойдешь прямо — упрешься в непроходимую гору, свернешь в сторону — болото. Кошмары меня изводят. Иногда кажется — я схожу с ума. Страшно, Иренсо, страшно мне жить. С каждым днем рушится вера. Я хватаюсь за ее обломки. Но чую — придет день и даже обломков не станет…
В порыве откровенности Андрей признался Иренсо, что возврата к прежнему у него быть не может. Никто не толкал его на этот путь, сам пошел. Теперь ему позорно и стыдно отрекаться от самого себя.
— Мой друг Петья говорит: допустил ошибку — исправь. О, Петья — очень самостоятельный человек! — с восторгом сказал Иренсо.
— Ах, оставь! — болезненно поморщился Андрей и замолчал.
Иренсо подумал, что он еще не понимает каких-то особенностей жизни советских людей и потому ему трудно представить себе логику рассуждений Андрея. Но то, чего не понимал Иренсо, не могли понять в Андрее и его товарищи по школьным годам. Это был эгоизм Андрея, его больное самолюбие. Он как бы наслаждался самим собой, своими поступками, чувствами, мыслями, он до исступления мог думать о самом себе и, даже унижая себя, не забывал, что он не такой, как все, — он особенный, сложный, утонченный.
Именно это-то и мешало ему теперь, как и прежде, внять доброму совету.
В молчании Иренсо и Андрей дошли до вокзала. Андрей вскочил в вагон, не успев даже на прощанье пожать Иренсо руку. А Иренсо направился к Вире. Вира просила сообщить, окажется ли Андрей тем самым Андреем Никоновым, который учился с ней и с Костей в Веселой Горке. Иренсо был человек обязательный. Он не мог не исполнить просьбы девушки.
11
Вира выскочила в прихожую в розовом платье, сшитом в форме цветка тюльпана, в светлых туфельках. На лице ее светилось неподдельное любопытство.
— Ну как, Иренсо? Встреча состоялась? Андрей тот самый? Ты приведешь его ко мне?
— Тот самый, — снимая пальто и вешая его на деревянный крючок круглой вешалки, сказал Иренсо.
Вира рассмеялась.
— Ой, не могу! Андрюшка Никонов — поп! Мамочка, послушай сногсшибательную новость! — Забыв об Иренсо, она со смехом кинулась в комнату матери.
Через минуту-другую Иренсо сидел в Вириной комнате и со всеми подробностями рассказывал о событиях воскресного дня.
— Андрей был очень печальный. Костя тоже печальный. Они разошлись не как друзья, — закончил свой рассказ Иренсо.
Но то, что заботило Иренсо, у Виры вызывало смех.
— Воображаю, как был огорошен последователь Макаренко — Косточка! Мечтал встретить художника, а встретил попа. А Андрюшка Никонов наверняка струсил. Вот оригинал! Вот отмочил штучку на удивление всему миру!
Когда она смеялась, она была еще красивее. Сияли ее ровные, белые зубы, коричневые брови трепетали, как крылья бабочки, яркие губы вздрагивали, прямой носик с изящной горбинкой чуть морщился, а в глазах плескалось отчаянное веселье.
Иренсо немного обижал ее смех, и все-таки ему было невыразимо приятно смотреть на Виру в эту минуту.
— Иренсо, пошли бродить по Москве! Ну их всех к богу, этих веселогорских чудаков. Правда? Пусть уж как-нибудь сами разбираются в своей жизни. А то от дум постареешь раньше времени.
Иренсо послушно вышел в прихожую и стал одеваться.
Спускаясь с лестницы, Вира шаловливо потянулась своим лицом к его лицу. Иренсо схватил ее в объятия и, забыв обо всем на свете, крепко поцеловал в губы.
Вверху хлопнула дверь. Послышался топот бегущих ног. Вира отскочила от Иренсо, и в то же мгновение мимо них, лежа на перилах, мелькнув румяной щекой и шапкой с одним вздыбленным ухом, съехал мальчишка.
Вира и Иренсо вышли на улицу. Он был взволнован, она чувствовала себя так, словно ничего и не случилось. Иренсо бережно взял Виру под руку и, приноравливаясь к ее шагу, повел по тротуару, опуская глаза под любопытными взглядами прохожих.
— Знаешь, Иренсо, твой Петр говорил мне, что ты поведешь за собой народ Уганды. Это правда?
— Кто же может это знать, Вира? Я буду со своим народом всегда, а смогу руководить им или нет, не знаю.
— Значит, может это и не случиться? — сказала Вира, и в ее голосе послышалось разочарование.
— Может и не случиться.
Они подошли к кинотеатру и взяли билеты на ближайший сеанс. В полумраке зрительного зала Вира положила свою руку на руку Иренсо. Он прижался своим плечом к ее плечу.
12
Назавтра, в двенадцать часов дня, домашняя работница Тоня с трудом разбудила Виру. Потягиваясь и зевая, Вира долго ходила по дому в ночной рубашке. Завтракать она села неумытая и непричесанная.
До вечера проскучала, валяясь на диване с книжкой в руках, глядя поверх ее страничек. Возможно, что так уныло прошел бы и весь день, но, к счастью, под вечер забежала Надя Молчанова.
— Шла мимо и решила навестить тебя, Вира! Как живешь? Что слышно о друзьях-товарищах? — громким, жизнерадостным голосом сказала Надя, не отходя от двери.
Вира обрадовалась Наде, бросилась ей на шею, взяла за руку, повела в комнату. Девушки сели на диван.
— А Костя-то здесь. В армии, бритый… Смех! — весело сообщила Вира и вдруг сделала страшные глаза. — А про Андрея Никонова ты ничего не слышала? Он же в духовной академии учится… Попом станет.
О том, что Костя служит в армии, Надя, конечно, знала и думала с огорчением: «У Виры был, а ко мне зайти не нашел времени». Об Андрее она слышала впервые. Но странно, эта новость ее не поразила.
— Ты что-нибудь знала об Андрее? — удивилась ее спокойствию Вира.
— Нет, не знала, но всегда предполагала, что он способен на пакость. Уж очень сильно любил себя. А мы все осторожничали, делали скидку на его талант.
— А, брось ты о нем печалиться, Наденька, расправь на челе морщинки. Рано их еще тебе наживать, — со смешком сказала Вира.
Надя встряхнула головой, как бы подчиняясь ее желанию, но про себя подумала: «Нет, Канареечка, печалиться о нем я не перестану. Надо срочно повидеть Костю. Может быть, еще не поздно вырвать Андрея из этой ямы».
— Знаешь, Надя, — заговорила Вира, понизив голос, чтобы в соседней комнате не слышала мать, — товарищ Иренсо, Петр, сказал мне, что Иренсо обязательно будет вождем угандийского народа. Как ты думаешь, стоит быть женой вождя?
Надя с трудом отвлеклась от мыслей об Андрее.
— Женой? — переспросила она. — А разве ты его любишь? И он тебя любит?
— Полюбит, если я этого захочу, — уверенно сказала Вира. — А я? А зачем обязательно любить? Ведь это так необыкновенно: муж африканец, вождь Уганды.
Наде захотелось оборвать ее, сказать: «Была ты дурехой набитой, такой и осталась». Но она сдержалась.
— Ну что ты, Вира, мне такие вопросы задаешь? Ты же знаешь, что я могу тебе посоветовать.
— Знаю, конечно: иди на производство, батрачь с утра до ночи и выбирай в женихи себе какого-нибудь мазилу.
— Ну и правильно! Угадала! — сердито ответила Надя и, не желая ссориться, торопливо ушла.
…Вскоре вернулся с работы отец, и Виру позвали обедать.
— Ну, чем, дочка, занималась сегодня? — спросил отец, размешивая сметану в тарелке с борщом. Он на мгновение оторвался от своего занятия, поднял голову и внимательно взглянул на Виру серыми, такими же красивыми, как у дочери, глазами. — Встала рано?
— В двенадцать еле-еле поднялась, — сказала Тоня, подавая тарелку с борщом Наталье Степановне.
— Так чем же ты занималась весь день? — повторил свой вопрос Иван Сергеевич.
— Да особенно ничем, — попыталась улыбнуться Вира. — Я не виновата, что родители, научные работники, не могли устроить любимую дочь в какой-нибудь институт! — капризно протянула она.
— Вчера ничем не занималась, третьего дня тоже ничем, — сдвигая густые брови, сказал отец. — Картина ясная.
Тоня, ожидая, что родители поговорят наконец с дочерью строго и серьезно, вышла за дверь и прислушалась. Но резкого разговора не получилось. Все молча съели первое и второе. Так же молча Иван Сергеевич поднялся из-за стола и ушел в кабинет.
Наталья Степановна встала, одернула юбку, обтягивающую ее полные бедра, ушла в спальню, села за письменный стол и занялась подготовкой к лекциям. А Вира легла на диван, сердито прошипев вошедшей Тоне:
— Ябеда-беда!
— Черномазый-то твой придет? — миролюбиво спросила Тоня.
— Конечно! Я за него замуж выйду.
— Что?! — округлив глаза, воскликнула Тоня и, прижимая к груди тряпку, плюхнулась в кресло.
Вытянув ножку, Вира поиграла висящей на пальцах красной домашней туфелькой.
— Выйду замуж. Уеду в Африку. Буду ходить в белых одеждах, босая, с браслетами на ногах. Отец еще слезы будет лить. А то пилит, как нахлебницу.
Когда вечером Иренсо пришел к Вершининым, Тоня, открывая дверь, смутила его недобрым, подозрительным взглядом. Наталья Степановна тоже встретила его холоднее обычного, а Иван Сергеевич не вышел из кабинета.
После ужина Наталья Степановна углубилась в свои бумаги. Вира и Иренсо остались вдвоем. Полушутя, полусерьезно она спросила Иренсо о том, как отнеслись бы к нему его угандийские друзья, если бы он привез с собой русскую жену. Иренсо часто разговаривал с Вирой шутливо и сейчас ответил шуткой:
— Погоревали бы и устроили свадьбу.
Но слова Виры насторожили его. Неужели она серьезно смотрит на их отношения? Или, может быть, в этой еще не совсем узнанной стране существуют какие-то законы, о которых он не знает? Может быть, он уже обязан жениться на Вире? Он решил немедленно поговорить с Петром и, несмотря на уговоры Виры, сразу же ушел домой.
13
Петра дома не оказалось. Иренсо присел за свой письменный стол и открыл учебник русского языка, намереваясь позаниматься. Вдруг он заметил на своей кровати письмо с адресом, написанным на английском и на русском языках. Он понял, что письмо из Уганды, схватил его, прижал к сердцу, стал кружиться по комнате.
В таком виде и застал его Петр. Иренсо, не обращая внимания на вошедшего, продолжал восторженно прыгать, приплясывать, петь.
— Признавайся, Иренсо, что случилось?
Иренсо остановился. Отнял руку от груди, показал письмо:
— От сестры!
— Что пишет?
— Еще не читал.
Петр улыбнулся:
— Сначала прочитай, потом уж радуйся.
Иренсо сел на диван и принялся читать. Вести были столь грустные, что он готов был заплакать.
— Ну, что пишет сестра? — спросил Петр.
— Плохо, Петья…
— Что же плохого?
— Сестру отовсюду гонят с работы из-за того, что брат учится в Советском Союзе. В селах голод… Умирают дети от болезней… Англичане закрыли еще одну школу — там учителя и дети вывесили портрет Лумумбы… Вот так, Петья.
Неожиданно Иренсо улыбнулся. Лицо его загорелось, похорошело, и он протянул Петру засушенный лист пальмы.
Петр понял состояние Иренсо и постарался отвлечь его от грустных мыслей.
— А где ты, дружище, пропадал сегодня весь вечер? Опять у Виры?..
— У Виры… Скажи, Петья, может быть, по советским законам я обязательно должен жениться на девушке, если я хожу в ее дом и поцеловал ее?
— Никаких законов на этот счет у нас нет, Иренсо. Хочешь — женись, не хочешь — не женись, дело твое. Но мой совет тебе такой: если ты знаешь, что не женишься на Вире, не ходи к ней. Девушка может влюбиться в тебя, будет надеяться, что ты женишься, ты этого не сделаешь, и она посчитает тебя обманщиком.
— Нет, Петья, Вира не влюбилась в меня. Она… ей… как тут сказать?
— Ей жених нужен. Необыкновенный жених, — подсказал Петр.
— Вот-вот! — закивал Иренсо. — Я пойду завтра и скажу правду. Мне очень больно будет… Я немножко здорово в нее влюбился, — подумав, добавил Иренсо.
14
Андрей вышел из церкви и остановился напротив трапезной. Он всегда любовался ее необыкновенной архитектурой.
Вдруг кто-то на плечо Андрея положил руку. Он неторопливо оглянулся… Рядом с ним был Костя Лазовников.
Солнце заливало землю первым по-настоящему весенним теплом. В кустах у церкви пели птицы, на куполах, на колокольнях ворковали голуби. Небо было густо-голубое, чистое, приветливое.
В этот миг в уме Андрея как-то подсознательно вырисовался сюжет картины: яркое солнце освещает монастырскую площадку, на ней стоят двое юношей — один с волосами до плеч, в черной одежде, с евангелием в руках, другой в серой шинели, перетянутой ремнем, в фуражке и грубых сапогах. Оба взволнованы встречей. Тот, что в черной одежде, потупил взгляд. Он не хочет, чтобы по глазам его были прочитаны сомнения, угаданы бессонные ночи… Он ждет, нетерпеливо ждет, чтобы тот, другой, поскорее ушел… Но юноша в шинели и не думает уходить.
— Я с трудом нашел тебя, Андрей. И знаешь, зачем я пришел? — сказал Костя. — Я познакомился с Иренсо. Он все рассказал мне. Твои сомнения справедливы. Не бойся уйти отсюда. Все будет хорошо. Ты станешь учиться. Будешь художником… Андрей, оденься и выйди. Ты уйдешь со мной сейчас же. Я буду ждать тебя здесь.
Костя не сразу решился на этот шаг. Он долго думал, все взвешивал. Негодуя на Андрея, он все же не мог не сделать попытки спасти его.
Можно было по-разному подойти к разговору с Андреем. Костя решил проявить решительность. Он помнил, что в школе ему это не раз помогало.
Андрей молча, торопливо пошел в общежитие, чувствуя на себе неотступный взгляд товарища.
Неряшливо одетая женщина провезла мимо Кости юродивого. Он оброс волосами до сверкающих злобных глаз. Тот, кто часто бывал здесь, не раз видел его на паперти. Эта отвратительная женщина с лицом бабы-яги привозила его сюда якобы для исцеления, на самом же деле она эксплуатировала юродивого, зарабатывая большие деньги на подачках прохожих.
Вот прошел молодой монах в черной рясе, в черной шапочке на длинных волосах. У него был тонкий, безупречный профиль и мягкая, женственная походка. «Что же заставило его надеть это черное одеяние и уйти из мира? Ведь это так страшно — уйти из мира!» — думал Костя.
Вот в ворота вошли три девушки. Они были одеты нарядно, держались строго, и у всех трех в облике было что-то искусственное.
«Ну, это просто любопытствующие», — подумал Костя.
Но он не знал всех подробностей жизни этого обширного двора. Девушки шли сюда искать женихов. Окончившие духовные учебные заведения обязаны были жениться и тогда получали приход, или они уходили из мира, как ушел из него монах с греческим профилем и женской походкой. Конечно, не всем хотелось заточить себя в монастырь. И тогда-то девушки обретали мужей.
Приглядываясь к лицам людей, к звону колоколов, к гнусавым голосам, доносившимся из открытых дверей храмов, Костя думал: «Нет, нет, жить здесь может заставить себя только ненормальный человек. Тут нет ничего живого, а обновить мертвое еще никому не удавалось».
Костя видел, что Андрей скрылся за дверью, и с надеждой подумал: «Может быть, вернется. Увезу его к Наде Молчановой. Поживет у нее день-другой, а потом пусть едет в Сибирь зарабатывать достойное имя и биографию».
Андрей между тем вошел в общежитие и, когда оказался в своей комнате, мучительно стал вспоминать, что ему здесь нужно.
Да, там внизу ждет его Костя Лазовников, школьный товарищ, комсомолец.
Он пришел за ним, пришел, чтобы навсегда увести его из этого темного и смрадного мира.
Андрей подошел к окну и увидел внизу Костю. Тот стоял, подняв голову, и, как показалось Андрею, смотрел прямо на него. Андрей поспешно задернул занавеску, отпрянул от окна. Но сразу же, на носках, крадучись, вернулся к окну, осторожно приподняв край занавески, стал вновь смотреть на товарища.
В памяти у него всплыло давнопрошедшее.
Это было еще в пятом классе. Ребята весной пошли в лес — нашлись смельчаки, решившие искупаться в круглом лесном озере. Среди них были Андрей и Костя. Андрей первый прыгнул в ледяную воду и сразу же почувствовал, как ноги и руки свела судорога. Закричать о помощи не позволила гордость. Но, барахтаясь в воде, он понял, что тонет, и завопил диким голосом. Костя подплыл к нему, схватил за волосы и потащил к берегу.
Его привели в чувство и всё сохранили в тайне от учителей и родителей. Андрей ясно представил себе то мгновение, когда он очнулся. Над ним сияло вот такое же, как сейчас, ясное, весеннее небо. Он открыл глаза и увидел побледневшее от волнения Костино лицо и его коричневые глаза, в которых стояла радость…
Андрей сел на кровать, схватился руками за голову. Костя снова пришел спасать его. Но разве он тонет? Нет, пусть он не думает, что и сейчас он так просто схватит Андрея за волосы. Пусть он ждет день, пусть ждет ночь, но Андрей не выйдет. Андрей Никонов не нуждается в его помощи!
Андрея обуяло его обычное упрямство. Никуда он не двинется. И шага не сделает. Не раздеваясь, не снимая даже ботинок, он лег на кровать.
А Костя продолжал стоять на том же месте и с надеждой смотрел на дверь, в которую ушел Андрей.
Наконец надо было уходить. Военная дисциплина обязывала его в 18.00 возвратиться в казарму. Расстроенный, Костя вышел из монастыря и побрел к электричке, не представляя, как же теперь быть с Андреем.
15
В электричке Костя узнал, что радио и телевизионные передачи, идущие по объявленной программе, только что были прерваны.
Передавали экстренное сообщение: Советский Союз запустил космическую ракету к планете Венера.
Костя доехал до города, в первом же киоске купил «Вечернюю Москву». Он стал читать сообщение ТАСС, и его тут же окружили незнакомые люди. Пришлось прочитать это сообщение вслух несколько раз.
— «В Советском Союзе, — громко и торжественно читал он, — усовершенствованной многоступенчатой ракетой выведен на орбиту тяжелый искусственный спутник Земли. В тот же день с этого спутника стартовала управляемая космическая ракета, которая вывела автоматическую межпланетную станцию на траекторию к планете Венера. Автоматическая межпланетная станция достигнет района планеты Венера во второй половине мая 1961 года».
Костя был потрясен прочитанным. От волнения у него дрожали губы. Его слова с горячим вниманием и волнением слушали какие-то мужчины, женщины, девушки и мальчишки. И Костя видел их просветленные лица, сияющие глаза, слышал слова восторга.
В эти минуты Костя как никогда гордился тем, что он гражданин Советского Союза. «Как бы хорошо прочитать вот так же первому это сообщение пионерам Веселой Горки!» — подумал он, и в его воображении живо всплыли Ганька, Женька, Намжил, десятиклассники, создавшие бригаду животноводов — имени «Молодой гвардии».
…В эти же минуты, потрясенный сообщением ТАСС, сидел за столом в университетской библиотеке Иренсо Нцанзимана.
— Друг, — шептал он, склоняясь к незнакомому студенту, — как понимать «усовершенствованной многоступенчатой»?
И студент, к счастью оказавшийся пятикурсником с математического факультета, стал подробно объяснять Иренсо эти слова.
— Угандийцы часто говорят: бог никого не допустит к звездам. А он допустил. Безбожников русских допустил! — засмеялся Иренсо.
Засмеялся и студент-пятикурсник.
— Товарищ, а вы про убийство Лумумбы слышали? — повернулся к Иренсо студент, сидевший за другим столом.
Иренсо вскочил, с шумом отодвигая стул:
— Какой убийство?!
— Вот прочтите. — Студент протянул газету.
Студент-математик усадил Иренсо около себя и стал вполголоса читать сообщение о том, как бесстыдно расправились бельгийские наемники с премьер-министром свободного Конго и его соратниками:
— …«Убийство Патриса Лумумбы, Мориса Мпола и Жозефа Окито было осуществлено по плану, заранее согласованному между Чомбе, кликой Мобуту — Касавубу, бельгийским правительством и бельгийскими монополиями…»
Иренсо выбежал из-за стола. Губы его стали синими, на шее вздулись желваки. В зале поднялся шум, студенты окружили Иренсо, подбежали библиотекари.
— Убийцы! Проклятие на их головы!
Иренсо протянули стакан с водой, но он не взял его, сел на диван и закрыл руками лицо. Он сидел, а возле него с молчаливым участием стояли русские студенты и студентки, так же люто ненавидевшие убийц Лумумбы. Но все понимали, что Иренсо в этот час было особенно тяжело.
Девушка-библиотекарь села рядом с Иренсо, дотронулась до его плеча:
— Все равно, товарищ Нцанзимана, скоро конец колониализму. Это они перед смертью зверствуют…
Иренсо поднял голову, с благодарностью взглянул на белое миловидное лицо девушки:
— Да, да! Я верю — колонизаторам будет конец!
— Ты и сам свои руки к этому приложишь, Иренсо! — раздался чей-то голос.
— Даю клятву! — сказал Иренсо, вставая и поднимая руки со сжатыми кулаками. — Даю клятву, товарищи! — повторил он.
И никому, кто был в эту минуту возле Иренсо, не показались этот возглас и этот жест Иренсо театральными — столько истинного горя и страсти было в словах юноши!
А за монастырской стеной, в духовной академии, в эти часы тоже обсуждали события, потрясшие мир.
К концу дня Виталий притащил Андрею «Вечернюю Москву».
Сообщение ТАСС Андрей читал с бьющимся сердцем. Потом в страшном смятении откинулся на спинку стула.
— Чуешь, брат? — хитро спросил Виталий, забирая газету. — Интересно, что говорят наши наставники-зубры. Наверняка переполошились. Думают, как бы к этому делу боженьку пристроить.
Лучше б он молчал, этот циник Виталий! Душа Андрея и так холодела от страха: вот и пришел тот день, когда обломки веры, за которые он цеплялся, окончательно ускользают из рук. Андрей закрыл глаза, безвольно опустились его плечи.
И вдруг в его потрясенной душе наступило какое-то просветление. Он весь сжался, зная уже, что произойдет дальше.
Андрей вскочил, чтобы избежать галлюцинаций. Но стены закачались и рухнули. В то же мгновение с оглушительным воем небо пронзила ракета. Она взвилась ввысь, и ее огненный хвост нестерпимым светом ударил в глаза.
Андрей закричал, падая на пол. Товарищи подняли его, понесли на кровать. Он дико озирался вокруг, по вискам его текли крупные капли пота.
Андрей очнулся поздно вечером. Виталий уже спал. Спал и второй его сосед по комнате. «Надо побывать у врача, полечить нервы», — подумал Андрей.
Он долго лежал, думал о себе, о своей болезни, которая стала мучить его все сильнее. «Не по моей ли дорожке собрался идти?» — вспомнились ему слова Виталия…
Спать больше не хотелось. Он почувствовал острое желание взяться за работу и докончить картину. Осторожно, боясь разбудить товарищей, Андрей встал и, нетвердо ступая, пошатываясь, вышел из спальни.
Незамеченным он прошел в комнату художественного кружка и зажег лампу.
Взглянул на недописанный холст. И его словно озарило.
Только сейчас он понял, какое выражение глаз должно быть у «пастыря». Теперь он нарисует их, он убежден в этом, только бы не упустить этого озарения, которое так долго к нему не приходило.
Дрожащей рукой он прикоснулся кистью к одному, другому глазу; торопливо стал накладывать краски, переписывать. В эту минуту, бледный, трясущийся, он был похож на вора — поминутно оглядывался на дверь, прислушивался к тишине и не замечал, что из глаз его катятся слезы.
Он не знал, сколько времени стоял у своего полотна. Вдруг ему почудились шаги за дверью.
«Кто же это ходит глубокой ночью?» — мелькнула беспокойная мысль. Шаги приближались, и уже слышно было, что идет не один человек.
Андрей испытал страстное желание спрятаться. Он начал озираться по сторонам. Но спрятаться было некуда. Вот широко раскрылись двери. В комнату сначала ворвались клубы ладана, и послышался знакомый терпкий запах. Затем вошел сам ректор, за ним — целая свита духовных чинов.
«Откуда они здесь взялись? — напряженно думал Андрей. — А! Да они же совещались, думали о том, как полет ракеты совместить с существованием бога!»
— Почему ты здесь в такое время, Никонов? — спросил ректор.
Но Андрей не ответил. Бледный до синевы, с запавшими глазами, он повернулся к картине.
На фоне первозданной, чистой природы стоял Христос в белой одежде, босой. Губы его затаили усмешку, а глаза — живые, выразительные — смотрели с издевкой и без слов говорили: «Люди! Неужели вы верите в меня, никогда не существовавшего? Жалкие, несчастные люди, очнитесь!»
— Мерзавец! Ты осквернил лик сына господня! — взорвав ночную тишину, закричал ректор.
— Сын дьявола!.. Анафема!.. Смерти он достоин! — завопили на разные голоса духовные чины, размахивая кадилами и крестами.
Распахнув свои широкие черные рясы, как крылья, они со всех сторон двинулись на Андрея. И вдруг превратились в черных воронов. Испуганный, трясущийся, он бросился вон из комнаты, с диким криком промчался по коридору к лестнице. На мгновение он остановился и, перекинув ногу через перила, головой вниз кинулся в зияющий пролет.
Распахнув свои широкие рясы, как крылья, они со всех сторон двинулись на Андрея.
16
В клубе Университета дружбы народов проходил траурный митинг студентов из азиатских, африканских и латиноамериканских стран.
В большом зале около сцены, с левой стороны, висел огромный портрет Патриса Лумумбы. Вождь конголезского народа был изображен в своем рабочем кабинете, на фоне книг. Правая рука его лежала на своде законов, что было символично: он не марионетка, как иные приспешники колонизаторов, — он истинный вождь народа, его совесть и закон едины. Гордая посадка головы Патриса Лумумбы, его атлетические плечи, его волевое лицо с небольшой бородкой и усами, сосредоточенный взгляд умных глаз хорошо передавали облик этого человека.
Вокруг портрета были размещены венки с траурными черно-золотистыми лентами.
Зал был не просто переполнен — забит людьми. Студенты сидели на стульях, стояли в простенках между окнами, у дверей. Черные, желтые, белые лица, темно-агатовые, коричневые, серые, синие глаза в этот час выражали одно чувство — ненависть!
Вот на трибуну поднялся Иренсо. Его, представителя борющегося угандийского народа, встретили бурными аплодисментами.
— Я — Иренсо Нцанзимана, из далекой страны Уганда, — по-русски начал он и затем перешел на английский язык. — Убийство Патриса Лумумбы, Мполо и Окито потрясло людей Уганды. Пусть знают колонизаторы, что кровь благородного сына Африки Лумумбы и его соратников не пропадет бесследно. Она еще больше сплотит народы, усилит их гнев и волю к свободе.
Иренсо, протянув к залу сжатые в кулаки руки и напрягая голос, сказал:
— Великому делу освобождения всех стран и народов от колониального гнета отдадим все наши силы, всю нашу энергию, а если потребуется, то и жизнь!
Он сошел с трибуны, а по залу долго еще разносились возгласы:
— Бороться за свободу!
— За независимость народов!
Когда митинг закончился, молодежь устремилась на улицу. Колонна участников митинга, обрастая, увеличиваясь, направилась по улицам Москвы. Двое юношей-негров несли впереди колонны портрет Патриса Лумумбы.
Вот колонна вошла в тихий переулок на Арбате и остановилась у здания Бельгийского посольства. Над головами людей колыхались наспех написанные плакаты: «Проклятье убийцам Лумумбы!», «Близится конец колониализма!»
Иренсо поднялся на крыльцо посольства, нажал звонок.
— Требуем посла! — закричал он.
— Посла! Посла! — скандировали студенты.
Звонок был слышен даже на улице, но в здании посольства не проявлялось ни малейшего признака жизни. Шторы опущены. Тишина. Безмолвие.
Иренсо стучал в дверь кулаками, ему помогали другие студенты.
— Они спрятались! — вытирая вспотевшее лицо, кричал Иренсо. — Им нечего сказать нам.
— К ответу палачей! Долой колониализм! — гневно и страстно гудела толпа.
17
В воинской части шли усиленные занятия, и только через месяц Косте удалось получить увольнительную записку. К Вире ему не хотелось идти, он позвонил ей по телефону.
— Хэлло! — услышал он в трубку звонкий голос Виры. — Костя? Опять ты? Ха! Не думаешь ли ты начать со мной легкий флирт?
— Не имею ни малейшего желания, — откровенно ответил он. — Будь добра, скажи мне адрес Иренсо. И поскорее. Я говорю из автомата. Люди ждут.
— Не спеши, Косточка, и не угождай людям, — ответила Вира. — Все равно они сделают тебе пакость. Пусть ждут. И еще…
Но Костя перебил ее:
— Вира, пожалуйста, дай мне адрес Иренсо. Мне, собственно, не он, мне Андрей нужен.
— Андрей? — Вира захохотала. — Я так ярко представляю его в черной рясе, с длинными волосами!
— Перестань болтать! Скажи адрес Иренсо.
— Иренсо? Я о нем говорить не желаю. Мы разошлись с ним как в море корабли. Целую тебя, Котик, в носик! Прощай! — И Вира положила трубку.
Половину дня потерял Костя, разыскивая Иренсо. Наконец он нашел общежитие, в котором жил угандиец, постучал в 214-ю комнату.
Дверь открылась, перед Костей предстал с газетой в руках Иренсо. Он радостно кивнул головой, нетерпеливо протянул газету, сказал:
— Товарищ! Пожалуйста, прочитайте вот это и объясните. Я не понимаю. А мне нужно знать.
Костя взял из рук Иренсо «Правду». Они сели на диван, и Костя стал читать вслух статью за статьей, разъясняя непонятные фразы. Иренсо был очень доволен.
— Спасибо, — сказал он и любовно сложил газету… — А вы к кому пришли? К Петье?
— Я к тебе, Иренсо, — улыбнулся Костя. — Ты не узнал меня? Мы встречались с тобой у Виры. Я ее школьный товарищ.
Иренсо смущенно замахал руками.
— Я не узнал! Я все еще плохо различаю белых. Они кажутся мне на одно лицо. Теперь вспомнил — тебя звали Костьей.
— И теперь так же зовут! — засмеялся Костя.
Он объяснил Иренсо цель своего прихода.
— Я знаю дом, где живет Андрей, — сказал Иренсо, — но позвать его никак нельзя. Там строго.
Иренсо постоял, подумал.
— Поедем к Андрею. Он очень расстроен. Ему друзей надо. Ты на него не сердись, что он священником захотел стать. Он думает. Он скоро перестанет быть религиозным.
И Иренсо вдруг так заторопился, точно каждая минута промедления могла иметь значение в судьбе Андрея.
…Они ходили взад-вперед мимо окон духовной академии. Накрапывал мелкий дождь.
В монастырском дворе было пусто. Изредка его пересекал то монах в черной шапочке, то священник. И один раз прошла группа семинаристов.
Вот в сад вышла Соня в ватной стеганке, в черном платке в белую крапинку, туго повязывающем голову. Она стала подметать сад, все время со страхом оглядываясь на Иренсо. Потом неуверенно приблизилась к изгороди и поманила его пальцем.
Иренсо подошел и вежливо поздоровался. Костя остановился поодаль.
— Ты к Андрею Никонову? — спросила Соня и мелко-мелко, испуганно закрестилась. — Господь прибрал его, — сказала она.
Иренсо не понял.
— Что вы сказали? — подбегая, в страшном волнении переспросил Костя.
Тогда Соня еще ближе подошла к изгороди, наклонилась и зашептала:
— Андрей Никонов руки на себя наложил. — Она боязливо оглянулась. — Лишился рассудка и с лестницы бросился. — И добавила еще тише: — Теперь в пролетах сетки натянули.
— Давно это случилось? — спросил Костя.
— Давненько. Дён пятнадцать прошло. Ночью, стало быть, он сотворил казнь над собой.
Иренсо растерянно смотрел на Костю, а тот нелюдимо уставился на мрачное здание академии.
Соня взяла в руки метлу, замахала ею:
— Идите отсюда. Идите куда знаете.
Костя непонимающими глазами посмотрел на нее и снял с головы фуражку. Иренсо взглянул на Костю и тоже снял шляпу. Они постояли еще секунду. Окинув взглядом молчаливые царские чертоги с узкими старинными оконцами, оба представили себе темную весеннюю ночь и Андрея, охваченного отчаянием…
Молча пошли к электричке. Ехали тоже молча. Только один раз, провожая взглядом группу ребятишек, мелькнувшую около насыпи, Костя сказал:
— Когда вернусь в Веселую Горку, буду работать вожатым, а потом учителем, — клянусь, ни одной души не отдам господу богу!
Иренсо пожал Костину руку и, помолчав, сказал:
— Будем дружить? У меня есть один русский друг Петья — хороший товарищ, умный, добрый, простой… А к Вире я не хожу. Мне жениться на белой девушке нельзя. Зачем Ванькью валять?
Как ни грустно было на душе у Кости, он улыбнулся и подумал: «Так вот почему Вира не хотела дать адрес Иренсо! Самолюбие заело. Ничего, это ей полезный урок».
— Будем дружить, Иренсо, — пожимая его руку, ответил Костя.
Глава третья ВИРА ВЕРШИНИНА
1
За восемнадцать лет лучший учитель — жизнь преподала Вире много поучительных уроков. Но нередко случается так: ни талант педагога, ни заботы родителей и коллектива товарищей до поры до времени не идут человеку впрок, он остается глух и нем ко всем добрым голосам.
Вира знала, что она хороша собой. Часами она крутилась у зеркала, с удовольствием разглядывая свои русалочьи глаза, загадочную усмешку ярко-красного нежного рта, неожиданный горестный взлет коричневых бровей и золотистую россыпь пушистых волос над белым блестящим лбом…
Красота ей казалась самым главным в жизни. В ее понимании это было лучшее оружие, при помощи которого она могла завоевать все, чего бы ни пожелала. Поэтому она удивленно пожимала плечами, когда математик ставил ей двойку. Ведь, стоя у доски и смотря на преподавателя скромным, просящим взглядом, она так изящно склоняла головку, что — Вира была уверена, — окажись тут художник, он несомненно запечатлел бы ее на полотне. Вира не огорчалась двойкой, не плакала, как другие девочки, она лишь мысленно называла учителя «бесчувственной деревяшкой».
Но вообще-то училась Вира неплохо. Науки давались ей легко, без усилий. Так же легко постигала она и музыку, которой с восьми лет обучал ее старый, опытный музыкант. Она училась играть на скрипке — «это оригинальнее, чем на рояле». Она с удовольствием участвовала в школьных концертах, заучивала позы перед зеркалом и, появляясь на сцене, всегда поражала зрителей каким-нибудь новым, неожиданным жестом или движением.
В семье Вершининых Вира была единственным человеком, для которого не существовало твердых правил и обязанностей. Домашняя работница убирала за ней постель, потому что она всегда опаздывала в школу. Стирала, гладила, пришивала воротничок та же работница, иначе Вира ходила бы во всем грязном.
У Виры была своя небольшая компания сверстников. В отсутствие родителей они собирались у нее дома: до исступления плясали рок-н-ролл, разучивали песенки из репертуара зарубежных ночных кабаре.
Классная руководительница, пожилая преподавательница английского языка, не раз приглашала мать Виры в школу. Она указывала Наталье Степановне на упущения в воспитании дочери: девочка является в школу то с маникюром, то с необычной, вызывающей прической, то в капроновых чулках, кокетничает, да и не только с мальчишками-одноклассниками, но даже и с преподавателями.
Иван Сергеевич об этом, разумеется, ничего не знал. Он увлеченно занимался своей работой, полностью доверив воспитание дочери жене. Наталья Степановна воевала с Вирой одна, чаще всего тайно от мужа. Вначале она не хотела отрывать его от серьезных занятий, а потом уж боялась признаться в собственной беспомощности. Так и шли дни за днями, месяц за месяцем.
«Мамочка, что же плохого в том, что я хочу наряжаться? Ты сама говоришь, что я хорошенькая!» — недоумевала Вира, когда мать, вернувшись от классной руководительницы, пробирала дочь.
И Наталье Степановне казалось, что Вира по-своему права и большой беды тут нет, а классная руководительница — «старый синий чулок, смотрит на все через увеличительное стекло».
Но однажды произошел такой случай, который заставил Вершининых по-настоящему встревожиться.
Первого мая, утром, Вира ушла со школой на демонстрацию. Она не вернулась не только к обеду, но не пришла и к ужину. Родители направились в школу. Однако там, кроме сторожа и двух дежурных десятиклассников, никого не оказалось.
Иван Сергеевич и Наталья Степановна вышли из школы и, волнуясь, недоумевая, остановились на широком крыльце, раздумывая, что же предпринять дальше.
Темнело. Невдалеке, за школьной оградой, оживленно разговаривали две девочки лет пятнадцати. Одна была коренастая, беленькая, другая — высокая, черноволосая. Наталья Степановна вдруг уловила фразу: «А Вира Вершинина…» Она поспешно подошла к девочкам:
— Вы только что упоминали Виру Вершинину. Я ее мать. Не знаете ли, где она?
Девочки растерянно переглянулись, отвели глаза в сторону.
«Знают, но не хотят сказать», — обеспокоенно подумала Наталья Степановна.
— Я очень волнуюсь, — снова заговорила она. — Вира ушла утром, и до сих пор ее нет.
— Мы не знаем… — смущенно сказала высокая и худенькая девочка и отвела от Натальи Степановны черные большие глаза.
«Видимо, они действительно ничего не знают», — подумала Наталья Степановна и вернулась к ожидавшему ее мужу.
Вершинины решили пойти домой и еще час подождать. Огорченные, шли они по праздничным улицам, разукрашенным красными флагами, разноцветными сверкающими гирляндами лампочек. Навстречу им из-за угла вывернулась оживленная толпа молодежи. Невысокий паренек в кепи с лихо заломленным козырьком играл на баяне. Сзади него, совсем по-деревенски, в обнимку, шли нарядные девушки и пританцовывали в такт музыке. Кто-то из парней пытался подпевать баянисту звенящим, срывающимся тенорком.
Окна старинного особняка, мимо которого проходили Вершинины, были открыты. На улицу вырывался шум, смех, нестройное пение:
Ой, рябина, рябинушка, Белые цветы…«У всех праздник», — подумала Наталья Степановна, подавляя вздох.
Неожиданно позади Вершининых послышался топот бегущих ног. Их нагоняли школьницы, с которыми несколько минут назад разговаривала Наталья Степановна.
— А мы знаем, где ваша Вира, — тяжело дыша, сказала крепкая, приземистая девочка.
Вершинины остановились.
— Только не пугайтесь. Теперь уже, наверно, все уладилось, — сказала черноглазая девочка.
— Где же она? — сгорая от нетерпения, в один голос спросили отец и мать.
— Она… она… в милиции, — со страхом сказала девочка-толстушка.
У Натальи Степановны подкосились ноги, она прислонилась к дому, из которого доносилась песня о белых цветах рябины. Иван Сергеевич подхватил жену, чувствуя, что кровь у него отхлынула от лица. В эту минуту он был белее стены, но сгущавшийся сумрак скрыл это от посторонних взглядов.
После демонстрации на одной из шумных улиц, пестрой от праздничных украшений и нарядных толп гуляющих, появилось десятка полтора молодых людей. Они держались кучкой и не походили на всех других гуляющих. Девушки были с распущенными волосами, в узких коротких брючках с разрезами по бокам, в декольтированных кофточках, юноши — со взбитыми коками, в ярких рубашках навыпуск, в брюках, похожих на рейтузы, так плотно они обтягивали икры, в остроносых ботинках.
На середине улицы эти молодые люди взялись за руки, стали в круг и, ударяя в ладони, начали выкрикивать какие-то непонятные слова. В кругу, отчаянно кривляясь, красная до безобразия, с прилипшей ко лбу челкой, металась как обезумевшая Вира. Она то взлетала выше головы партнера, то исчезала, пролетая между ног тупого, мордастого парня.
Люди изумленно заглядывали в этот круг.
— Смотри, как он ловко протаскивает ее. Ни разу не зашиб! Фью, Степка, сюда! Циркачи выступают! — кричал какой-то малец, даже и не подозревая, что на свете существует танец-урод, танец дураков, выдуманный каким-то идиотом.
Вдруг поблизости раздался пронзительный свисток милиционера. Круг мгновенно распался, и молодые люди, образовавшие его, растворились в толпе.
Через несколько минут, когда милиционер исчез, круг снова сомкнулся, и Вира опять начала свою пляску. На этот раз милиционер появился вместе с дружинниками. Партнер Виры затеял драку. Пытаясь помочь ему, Вира подставила дружиннику ногу. Тот упал, сильно ударился головой об асфальт, но успел цепко схватить мордастого парня.
В тот же вечер Вершинины взяли Виру из милиции. О происшествии дружинники сообщили в школу. Директор попросил родителей Виры присутствовать на заседании педагогического совета.
Первый раз за восемь лет обучения дочери Иван Сергеевич пришел в школу. Он горько раскаивался в том, что пренебрегал долгом отца, и обещал учителям сделать все, чтобы Вира изменилась.
Под строгим контролем Ивана Сергеевича Вира закончила восьмой класс, а осенью Наталья Степановна, по совету директора школы, увезла ее к своей сестре в Сибирь, в Веселую Горку. Здесь, в сибирском селе, Вира окончила девятый и десятый классы.
Два года жизни в сельской местности она считала ссылкой. Были, конечно, и там свои радости, но они ничего не значили по сравнению с мечтой о шумном, большом городе.
И вот, окончив школу, Вира снова возвратилась в родной дом. Она попыталась поступить в театральный институт, однако на первом же экзамене провалилась. Это не особенно огорчило Виру. Она считала, что для красивой девушки самое главное не учение, не работа, а замужество, удачное, выгодное замужество. Иренсо ей казался подходящей партией. Она представляла, как будут изумляться ее знакомые: «Вира-то Вершинина, подумайте, вышла замуж за угандийского вождя и уехала в Африку!»
2
Однажды Иренсо пришел к Вире, сел в качалку и торжественно сказал ей, что он намерен разговаривать с ней по очень важному вопросу.
Сдерживая дыхание и краснея, Вира подумала: «Сейчас он сделает мне предложение». И стала обдумывать, что она ответит ему.
Она села напротив Иренсо, скромно сложив руки.
Иренсо, был в черном, хорошо проутюженном костюме с разрезами на боках пиджака. Белая рубашка с белой бабочкой вместо галстука еще сильнее оттеняла черноту его кожи.
— Вира, ты очень красивая и хорошая девушка, — волнуясь, заговорил Иренсо, — и я мог бы очень сильно любить тебя. Но я обману тебя, если не скажу правду. Цель моей жизни — служить Уганде. Ради нее я живу здесь. Для нее я есть на земле. Моя жена должна быть черной, как и я. Она должна быть угандийкой. Вот что я был обязан сказать тебе…
Некоторое время Вира молча глядела на него широко открытыми глазами, затем ее брови гневно взметнулись, в глазах зажглись зеленые огни, губы побледнели. Она вскочила, со злостью засмеялась:
— И ты думал, что я пошла бы за тебя замуж? Ха, наивный черный болван! Ты думаешь, я стала бы растить черномазого ребенка? Какая дикость!
Вира бросилась к дверям, широко раскрыла их и, припоминая какую-то сцену из пьесы или кинофильма, театрально подняла голову и, протянув руку, указала на дверь.
— Спасибо, — сказал Иренсо и с достоинством вышел из комнаты своей необыкновенной крадущейся походкой.
Зарыдав, Вира бросилась на диван. Слова Иренсо были равносильны пощечине. Она ненавидела его, и — презирала себя. Она, красавица, не сумела удержать возле себя, поставить на колени какого-то недоучившегося африканца! Какой позор!
Вира успокоилась лишь на другой день.
Разговор с Костей по телефону снова всколыхнул обиду, и она отказалась сообщить ему адрес Иренсо.
А спустя еще несколько дней она окончательно забыла об угандийце.
3
Как-то вечером Вира, не зная, куда деваться от скуки, сидела возле зеркала. Она придумывала новую прическу. Готовиться к экзаменам не хотелось. Вира была уверена, что все равно не попадет в вуз, она занималась только для успокоения родителей. Включать телевизор Иван Сергеевич не разрешал — он продумывал свой предстоящий доклад.
Теперь были в моде длинные волосы, закрученные на макушке в узел. Вира скрутила свои золотистые волосы, небрежно уложила их шапкой и нашла, что такая прическа ее красит.
Она могла бы просидеть у зеркала весь вечер, но в коридоре настойчиво зазвонил телефон. Загораживая рукой трубку, чтобы не мешать отцу, Вира сказала:
— Хэлло!
— Приемная Министерства высшего образования? — спросил густой, приятный баритон.
— Ничего подобного! — сидя в креслице и помахивая ножкой, кокетливо сказала Вира. — Вы, уважаемый, попали на квартиру.
— Чья же это квартира, гражданочка? — живо осведомился баритон.
— Моя квартира…
— А какой номер? — игриво продолжал баритон.
Вира назвала номер телефона.
— Как же ваше имя, девушка?
— Алла, — не задумываясь, соврала Вира.
И вдруг ее перебил голос телефонистки междугородной станции:
— Это Г 9-14-32? Берегов Федор Павлович? Вас вызывает Ленинград.
Вира повесила трубку и машинально записала на обрывке газеты телефон, имя и отчество.
Вскоре пришла с работы Наталья Степановна. Она поцеловала дочь в открытый лоб и похвалила новую прическу.
— Так скромнее, — сказала она.
«Опять воспитывает», — вздохнула Вира. Ей стало нестерпимо скучно, и она заторопилась на кухню.
Там она уселась на ящик, сложила на коленях руки и стала смотреть, как Тоня готовила заливное. Вире тоже захотелось приготовить такое блюдо.
— Дай, Тоня, я попробую.
Тоня неохотно отдала ей морковь и нож. Вира вырезала несколько звездочек.
— На, Антонина, — зевая, сказала она домашней работнице, возвращая нож.
— Вот так тебя во всем на одну минуту хватает! — с сердцем сказала Тоня.
«Тоже воспитывает!» — подумала Вира и хотела уже покинуть кухню, но Тоню охватил педагогический запал.
— Нет, не уходи. Послушай-ка, что скажу: все-то у тебя готовое — и одевают тебя, и кормят, и нежат. Учись знай, получай специальности. Мне бы такое!..
— Ну, и что бы ты?.. — приподняла брови Вира.
— Я… инженером стала бы, строителем. А ты ничего не хочешь. Слоняешься без дела из угла в угол, и все. Шла бы хоть работать, коли не учишься.
— А я собираюсь учиться. Вот поступлю в вуз.
— Никуда ты не поступишь. Замуж выйдешь, наряжаться будешь. Небо коптить станешь. Даже детей не народишь. Пустоцвет! — Тоня снова презрительно махнула рукой.
— Завидуешь! — вызывающе сказала Вира.
Она, насмешливо прищурившись, оглядела невзрачную фигурку Тони, ее жидкие стриженые волосы, полуприкрытые белым платочком, худенькое, некрасивое лицо. «Не на чем глаза остановить, такое все обыкновенное. Трава, да и все. Осока! Потому и злится», — подумала Вира. Пожимая плечами, напевая и пританцовывая, она вышла из кухни.
Мать сидела за письменным столом, разложив перед собой бумаги и книги.
— Мамочка, мне ску-учно!.. Некуда бедную головушку приклонить, — капризно пожаловалась Вира, заглядывая в дверь.
Не отрывая глаз от книги, Наталья Степановна протянула полную, обнаженную до локтя руку с часами и золотым браслетом, пошевелила пальцами, поманила дочь к себе. Вира вошла в комнату и, словно маленькая, залезла на колени матери, прилегла к ее плечу, бездумно глядя в открытую книгу, которую читала Наталья Степановна.
— Ну ладно, беги, не мешай! — наконец сказала мать. — Займись делом. Что это твой «брюнет» перестал бывать?
Вира соскользнула с колен матери, равнодушно сказала:
— Я его выгнала.
Наталья Степановна отодвинула книгу, усталым движением руки сняла очки.
— Выгнала? За что же? — спросила она.
— Надоел! — зло усмехнулась Вира.
— Ну, а он?
— А он сказал: «Спасибо». — Вира засмеялась.
— Ну и хорошо. А то уж люди говорить стали…
— На людей, мамулечка, мне начихать.
— Как же так — начихать?.. — поучительно начала Наталья Степановна.
Но Вира перебила ее:
— Ой, мамулечка, не воспитывай! Я все знаю, что ты скажешь, но все равно, вот сюда влетит, а отсюда вылетит, — показала она сначала на правое, а потом на левое ухо. — На днях по радио говорили, что воспитывать надо не словом, а примером. А вы меня всё словами начиняете, как кишку фаршем. В Сибирь сослали, «чтобы к скромности приучить, простых людей узнать». Небось сами работать на целину не поехали…
— Какие глупости ты говоришь, Вира! — вскричала Наталья Степановна. — Научные работники в стенах вуза больше пользы принесут, чем на целине. Ты иногда совсем дурочкой становишься!
— Уж какая есть, — вздохнула Вира.
— Ну, беги, беги! Не мешай мне! — примирительно сказала Наталья Степановна.
Вира вышла, прикрыв за собой дверь. Заняться было нечем. Вспомнив разговор по телефону, она села в кресло и набрала номер Берегова. В трубке послышались протяжные гудки, треск, и затем уже знакомый голос сказал:
— У телефона.
— У вас очень красивый голос, Федор Павлович, спойте в трубку, — сказала Вира.
— Кто это говорит? — усмехнулся Берегов.
— Это говорит Алла, та самая, на квартиру которой вы неожиданно позвонили. Мне сегодня очень скучно…
— Скучно? Как это может быть скучно молодой, энергичной, здоровой и, наверное, красивой девушке?
— Мне нечем заняться.
— Вы учитесь или работаете?
— Ни то, ни другое…
— Ну-ну, понимаю. Хотите, я о вас кое-что расскажу? Вы небольшая, очаровательная блондиночка, сероглазая. Вам еще нет двадцати. Окончив школу, вы держали экзамен в театральный институт и провалились. Теперь вы снова готовитесь к экзаменам. А так как родители ваши вполне обеспечены, то вот вам и заняться нечем.
— Откуда вы все это знаете? — с изумлением спросила Вира.
Берегов весело и самодовольно засмеялся, а Вира, подумав: «Тоже сейчас воспитывать начнет», с раздражением повесила трубку.
Она, зевая, прошлась по комнате, снова приоткрыла дверь к матери.
— Ну, что еще? — недовольно спросила Наталья Степановна.
— А ты, мамулечка, работу свою нисколько не любишь. По обязанности работаешь, — лукаво сказала Вира.
— Откуда тебе это известно?
— А вот откуда: люди, любящие свою работу, пенсию считают несчастьем, а ты собираешься уходить на пенсию с радостью. Ведь правда? Ты же сама об этом говорила.
— Не мешай мне, Вира! Закрой дверь, готовься к экзаменам, — строго сказала Наталья Степановна и склонилась над книгой.
— Ухожу, ухожу… Только труд вам в тягость. И тебе и папе.
Вира захлопнула дверь.
На улице стемнело.
В открытую форточку врывался ветер, раздувал тюлевую штору, приносил шум большого города: шуршание бегущих автомобилей, звон трамваев, говор и смех людей, какой-то чуть уловимый стук, скрип, обрывки музыкальных фраз. Тишины не было ни одной минуты.
«А в Веселой Горке бывали минуты полного затишья. Выйдешь в поле в безветренный день, и кажется, что оглохла — такой молчаливый покой стоял вокруг», — подумала Вира и даже вздрогнула.
Она не любила тишину. Шум города был ей ближе деревенского безмолвия, которое всегда казалось ей страшным и зловещим.
К ужину вышел отец, молчаливый и хмурый. Голубая пижама удивительно шла к его статной фигуре, к серым глазам, к румяному лицу.
Наталья Степановна разливала чай из электрического самовара. Полная, с моложавым, свежим лицом, с густыми черными бровями, сросшимися у переносья, с блестящими карими глазами и низким, сильным голосом, она была воплощением здоровья. Ей было за сорок, но черты лица ее сохранили и поныне красоту.
Вдруг в прихожей раздался звонок. Тоня открыла дверь, и в ту же минуту послышался голос Нади Молчановой.
Энергичная, шумная, она сняла в прихожей пальто и берет и, щурясь на яркий свет, вошла в столовую.
Иван Сергеевич и Наталья Степановна встретили ее приветливо. Это была единственная подруга Виры, которая не вызывала у родителей чувства протеста. Наоборот, они всячески стремились сблизить Виру с Надей.
Вира придирчиво осмотрела скромное Надино платье, косыночку на плечах, простые туфли. Русые волосы Нади были заплетены в тугую косу и заколоты на затылке шпильками.
Молодость — могучая сестра красоты. Молодость делала Надю привлекательной живым блеском глаз, волос, зубов, выражением счастья, нетерпеливого, жадного желания жить полной жизнью.
— Какая ты стала интересная! — не удержалась Вира.
Надя не ответила, только румянец на щеках стал ярче.
Наталья Степановна, налив Наде чаю, принялась расспрашивать, как она живет, получает ли письма от родителей, что нового в Веселой Горке.
Надя с увлечением рассказывала о заводе. Работая мастером цеха, она заочно училась в строительном институте.
— Мечтаешь быть инженером? — спросил Иван Сергеевич, ласково поглядывая на девушку.
— Конечно, Иван Сергеевич. И еще мечтаю о комсомольской работе. Очень нужно сейчас это дело. За молодежь нашу по-настоящему надо взяться.
Наталья Степановна выразительно посмотрела на Виру. Та весело фыркнула:
— Ты начинаешь, мамулечка, воспитывать меня даже взглядом!
— А ты, Вира, куда поступать будешь? — приглядываясь к подруге, спросила Надя.
— Подала в медицинский.
— Ну и зря! Надо обязательно в театральный. Способности у тебя есть, и внешность подходящая, — с горячностью сказала Надя.
— Предки уговорили, — с деланным смирением сказала Вира. — Папа уверен, что закулисная жизнь совратит меня с правильного пути.
— Ой, зря, зря! — упрямо повторила Надя.
— Не зря, Надюша, — вмешался в разговор Иван Сергеевич. — Была бы наша дочь такая, как ты, мы бы и возражать не стали. А у Виры в голове ветер… Я думаю, лучше будет так: поступит в вуз, станет принимать участие в самодеятельности. Окажется талант — выйдет на большую сцену.
— А тебе, Вира, медицина нравится?
— Мне? — Вира снова пожала плечами. — Мне все равно. Я бы с удовольствием никуда не поступала. Но уж если так нужно, пожалуйста.
— Ну зачем же «нужно»? — растерянно сказала Надя. — Поступай тогда на работу.
— Что ты, Наденька, куда же ей без профессии! — запротестовала Наталья Степановна. — Да и грех в наше время неучем оставаться.
— А зачем же насильно? — недоумевала Надя. — Она поработает, столкнется с людьми, с жизнью и поймет, к чему у нее призвание.
Иван Сергеевич заметно помрачнел. Он встал и хотел уйти, но в дверях остановился и раздраженно сказал:
— Вире никто не запрещает пойти учиться туда, куда она желает. Но учиться-то она не хочет!..
Надя опустила глаза. Ей было стыдно за Виру, за отца, который так говорит о своей дочери.
А Вира сидела, чуть улыбаясь, приподняв голову и поглядывая на свое отражение в стекле серванта. Можно было подумать, что речь шла совсем не о ней.
«Зачем он завел этот разговор при посторонних?» — с неудовольствием подумала Наталья Степановна.
4
В один из вечеров Вира снова позвонила Берегову.
— Мне опять скучно, Федор Павлович, — капризным голосом пожаловалась она. — Расскажите что-нибудь интересное.
Берегов рассказал несколько не очень остроумных прибауток, пожурил девушку за безделье, просил позванивать и повесил трубку. Он куда-то торопился.
Разговоры по телефону Виры и Берегова продолжались почти ежедневно на протяжении месяца, и наконец в разгар весны была назначена встреча.
Вира уже знала, что Федор Павлович — профессор археологии, заведующий кафедрой одного из столичных институтов.
В гости к Берегову Вира собиралась с особенной тщательностью. Ей хотелось быть в этот вечер строгой и скромной. Она взбила высокую прическу, надела синий костюм, туфли на шпильках цвета беж, натянула перчатки, взяла сумочку такого же цвета, как и туфли. Прежде чем выйти из квартиры, она остановилась перед зеркалом и еще раз осмотрела себя с ног до головы.
У дверей Берегова Вира задержалась, перевела дыхание — не то от волнения, не то оттого, что быстро поднялась на третий этаж, — и решительно нажала кнопку.
Дверь открыла молодая черноволосая женщина.
— Дома Федор Павлович? — спросила Вира и подумала: «Кто это — домработница или жена?»
— Федор Павлович, к вам! — повысив голос, сказала женщина и, неприязненно взглянув на Виру, скрылась за дверью.
Из другой комнаты вышел улыбающийся Берегов. Он был среднего роста, полноватый, холеный. Лицо его было моложавое, румяное, без морщин, с правильным носом и голубыми ясными глазами. Он был без пиджака, в белой с черными клетками рубашке, заправленной в брюки, и в черном галстуке.
— А, Аллочка! Скучающая девушка! Вот я и не ошибся, такой вас и представлял! — громко заговорил Берегов, благоухая духами и помогая Вире снять пальто. — Ну, проходите, пожалуйста, проходите.
Взглядом тонкого ценителя женской красоты он осмотрел Виру и был удивлен ее безупречной внешностью.
Они вместе вошли в просторный кабинет, немного мрачноватый от темных портьер, закрывающих часть окон. У стен стояли старинные черные кожаные кресла с высокими спинками и диван. На письменном столе по бокам лежали стопки книг, а середину его занимала смятая газета с осколками глиняных горшков. Стены были увешаны фотографиями, изображающими работы на раскопках. На полу, возле дивана, белела шкура северного медведя. С нее, недоверчиво глядя на девушку, поднялся розоватый дог, но сейчас же, успокоившись, растянулся снова.
Берегов усадил Виру в кресло, положил ей на колени коробку шоколада, сказал:
— Ну, теперь, милая девушка, будем знакомиться. — И он стал расспрашивать Виру о ее родителях, школе, друзьях, о всей прошлой жизни.
Вира рассказывала откровенно, ничего не скрывая. Она даже не умолчала о злосчастном случае в день Первого мая, о двухлетней жизни в Сибири и под конец призналась в небольшой хитрости. Она вовсе не Аллочка, а Вира.
Федор Павлович еще не знал, как вести себя с Вирой. Он приготовил для встречи бутылку вина, но ограничился только шоколадом.
Подав пальто Вире, Федор Павлович все же отечески поцеловал ее в лоб, заставил взять коробку с шоколадом домой и проводил до лестницы.
В эту встречу не только он многое узнал о Вире, но и Вира немало интересного узнала о нем. Федор Павлович имеет под Москвой дачу с большим фруктовым садом. Жена его умерла около десяти лет назад. Молодая черноволосая женщина, которая так неприветливо встретила Виру, его сноха. Вместе с ним в квартире живет еще его сын, инженер, и шестилетний внук. Сын его на два года уехал на Север в командировку.
…Наталья Степановна сидела в столовой в качалке под торшером и читала книгу, когда вошла Вира с нарядной коробкой шоколада в руках.
— Мамулечка, — весело сказала Вира, обнимая мать, — я случайно познакомилась с одним профессором, сейчас была у него в гостях и хочу на днях пригласить его к нам.
Наталья Степановна в волнении приподнялась:
— Какой профессор, Вира? Где познакомились?
Вира чистосердечно рассказала все матери.
Наталья Степановна разнервничалась. Войдя в кабинет к мужу, она передала ему весь разговор с дочерью.
— Вира ведет себя последовательно, — сказал Иван Сергеевич, прохаживаясь по кабинету. — Она искала выгодного жениха и напала на него. Чему же ты удивляешься? Профессор. Большая квартира. Дача. В будущем хорошая пенсия. Чего же еще ей нужно? Вот если бы ты сказала мне, что наша дочь увлеклась наукой, или поступила на работу, или даже полюбила студента-голодранца, я бы этому удивился. А это все, к сожалению, логично. Только моего согласия на брак со стариком не будет. И в своем доме я его не приму. Так и скажи ей! — повысил голос Иван Сергеевич.
И действительно, в тот вечер, когда Берегов приехал к Вершининым, Иван Сергеевич ушел из дому.
Федор Павлович вошел в квартиру к Вершининым надушенный, самоуверенный, веселый. Он преподнес Наталье Степановне букет цветов, сказал, что она очень молодо выглядит и ее можно принять за сестру Виры, поцеловал ей руку и сразу же расположил к себе.
Вира была очень хороша в тот вечер в новом платье цвета чайной розы, с живой розой в волосах — за нею Вира все утро носилась по Москве.
За полчаса до прихода Берегова к Вершининым забежала соседка.
— Извините, — оживленно сказала она Вире. — Мне привезли из Франции два флакона духов. Могу один уступить.
Она поднесла к носу пузатый маленький флакон с зеленоватой жидкостью и восторженно подняла глаза к небу:
— Божественно!
Вира приняла флакон из ее рук, понюхала. Запах ее не поразил. Но она тоже подняла глаза к потолку и повторила:
— Божественно…
Наталья Степановна долго принюхивалась к закрытому флакону.
— Ничего особенного. Наши отечественные не хуже! — попыталась возразить она.
— Наши?! Что ты, мама! Не проявляй невежества! — воскликнула Вира. — Нет в мире лучше парижских духов.
И Вира уговорила мать купить флакон духов по баснословной цене.
Вечером Вира сидела за столом рядом с Береговым и благоухала «парижскими» духами. А соседка в эти часы дома готовила очередной флакон «парижских» духов, соединяя «Красную Москву» с «Юбилейными».
За ужином Берегов предупредительно наливал в рюмки вино, любезно подносил закуски.
Весь вечер он с увлечением рассказывал о себе, о музеях, о раскопках на берегах Иртыша.
— А за границей вы бывали, Федор Павлович? — спросила Вира.
— Не бывал, — ответил Берегов. — Я не любитель заграничного туризма. Сейчас многие как с ума посходили. Рвутся за границу, по поводу каждой заграничной тряпки готовы источать восторги.
Наталья Степановна вспомнила покупку «французских» духов и мельком взглянула на Виру.
После ужина Вира включила проигрыватель. Веселые звуки фокстрота заполнили комнату.
— У меня сами ноги ходят! — улыбнулась Вира Берегову. С пластинкой в руках она пританцовывала около проигрывателя.
— Ну что ж, — сказал Федор Павлович, — отдадим дань вашей молодости.
Он встал, подошел к Вире и чуть склонил перед ней свою седую голову, приглашая на танец. Он оказался отличным танцором.
Вечер прошел весело. Прощаясь, Федор Павлович пригласил Виру, Наталью Степановну и Ивана Сергеевича в воскресенье к себе на дачу. Он просил передать привет Ивану Сергеевичу и искреннее сожаление о том, что не познакомился с ним.
В воскресенье, в условленное время, у дома Вершининых остановилась черная «Волга». Увидев ее в окно, Вира заторопила мать.
Они вышли на улицу. Открывая заднюю дверцу «Волги», Вира спросила:
— Машина профессора Берегова?
— Пожалуйте, — ответил пожилой круглолицый шофер в берете, с любопытством посмотрев на девушку.
Машина помчала их сначала по улицам Москвы, потом по шоссе, забитому грузовыми и легковыми автомобилями, и наконец вышла на лесные просторы.
Откинувшись на спинку сиденья, Наталья Степановна поглядывала на лес, обступивший дорогу, на велосипедистов, мчавшихся им навстречу, охваченных азартом соревнования. Она рассуждала сама с собой: «Не остановить ли дочь вовремя, не удержать ли ее от встреч с этим человеком? — И в то же время подумала: — Берегов производит хорошее впечатление. А Вира, видимо, не способна любить, так что старый муж ее тяготить не будет. Нет, не стоит вмешиваться, пусть сама решает свою судьбу».
А Вира в это время тоже думала о Берегове: «Нет, упускать такого жениха нельзя. Старый, обеспеченный муж будет баловать меня, выполнять любые желания. А там видно будет…»
Машина, свернув в тенистую аллею, остановилась у ворот дачи. Шофер выскочил, побежал во двор, открыл ворота, и «Волга» по шуршащей гальке подкатила к крыльцу одноэтажной каменной дачи.
«Чудесно! — обрадованно подумала Вира. — И все это будет моим: и дача и черная «Волга»! Здесь будет собираться веселое, молодое общество. Танцы, игры… можно даже фейерверки…»
Вира представила себя во всем белом, в белых перчатках, за рулем черной «Волги»… «Произведу неотразимое впечатление!»
На крыльце появился Федор Павлович. При ярком солнечном свете в белом костюме он казался старше и полнее, чем в первые встречи. Но аллейки сада, газоны с еще не распустившимися флоксами, георгинами, пионами отвлекли внимание Виры.
В глубине сада стояла беседка. В ней за столом сидела та самая темноволосая женщина, которая так неприветливо встретила Виру в ее первый приход к Берегову. Рядом с ней разбирал засушенные листья шестилетний хорошенький мальчик.
— Это Сашенька, мой внук, — сказал Федор Павлович. — Знакомьтесь. А это Варенька, Варвара Сергеевна, моя сноха.
Варенька привстала, протянула руку Наталье Степановне и сухо кивнула Вире.
— Коллекцию собираешь, Сашенька? — спросила Наталья Степановна.
— Коллекцию, — моментально отозвался Сашенька, радуясь, что на его работу обратили внимание.
— А это от какого же дерева листочек? — показала Наталья Степановна на длинный лист с серебристыми прожилками.
— Хотите, я вам покажу это дерево? — с готовностью сказал Сашенька.
— Покажи, покажи, дружок! — согласилась Наталья Степановна и пошла вслед за Сашенькой.
— Деда, и ты тоже! — с азартом закричал мальчик, увлекая за собой Берегова.
Вира осталась с Варенькой.
— Садитесь. Мне нужно поговорить с вами, — вдруг торопливо сказала Варенька, вытирая бумагой скамейку.
Вира села.
— На Федора Павловича зарится немало девушек, вот таких же, как вы! — сказала Варенька. — И я привыкла, что они то и дело появляются в доме. Но они чем-то не устраивали Федора Павловича и уходили ни с чем. Вы интересная девушка, и он может вас приобрести в жены.
Вира вспыхнула, гордо подняла голову, но промолчала.
— Я учительница, — продолжала Варенька. — Я хорошо знаю ваших сверстников. И вас тоже вижу насквозь. Вот мне и хочется сказать вам: одумайтесь! Не продавайте себя. Не губите свою молодость. Она невозвратна. Радость общения со сверстниками, радость труда и, наконец, радость любви ничем не заменишь. Деньги, квартира, машина, дача — ничто в сравнении с подлинным счастьем. Ему шестьдесят три года. Он дедушка. А вам, наверно, восемнадцать. Что может быть общего между вами?
Вира возмущенно глядела на Вареньку. Ей хотелось как можно больнее обидеть ее.
— Вы боитесь, что Федор Павлович женится и лишит вас всех этих благ? — Она кивнула на сад и на дом. — Вы этого боитесь?
— Нет, девушка, — усмехнулась Варенька, — я деньги и удобную квартиру благами жизни не считаю. Я рабочий человек. У меня есть руки и голова. На чужих хлебах я не привыкла жить… И презираю тех, кто к этому стремится…
Она хотела что-то еще сказать, но на аллейке сада показался Сашенька, а за ним — Берегов и Наталья Степановна.
Берегов попросил Вареньку приготовить чай. Он обращался с ней просто, но уважительно и даже ласково. И в ее обращении с ним Вира тоже не заметила ни холодка, ни недоброжелательности. «Побаивается за себя, за свое место в этом царстве», — подумала Вира про Вареньку.
Варенька накрыла стол на веранде. За чаем Берегов был весел, разговорчив. Наталья Степановна тоже острила и смеялась. Варенька больше молчала или разговаривала с сыном. А расстроенная Вира потихоньку приглядывалась к ней.
Было Вареньке на вид не больше тридцати лет. Гладкие черные волосы, разнятые на прямой ряд и заплетенные в косу, она закалывала на затылке. Черты ее смуглого лица были словно отточенные: небольшой тонкий нос, острый подбородок, маленький, хорошо очерченный рот и такие же черные, как волосы, внимательные глаза.
«В общем, недурна, но какая-то неброская, такими обычно бывают старые девы», — с неприязнью отметила Вира.
— А Вирочке, видимо, не понравился мой сад, — приглядываясь к умолкшей девушке, сказал Берегов.
— Что вы, Федор Павлович! Сад у вас чудесный, — улыбнулась Вира. — И настроение у меня отличное, — добавила она и, желая, чтобы Берегов убедился в этом, предложила: — Выпьем за сад! — Она мельком взглянула на Вареньку и, прищурившись на маленькую хрустальную рюмку с золотистым вином, протянула ее к рюмке Берегова.
Мелодичный звон рассыпался над столом, и все выпили.
— Теперь — за Наталью Степановну! — снова наполнив рюмки вином, сказал Берегов.
Потом Федор Павлович предложил тост за Виру, за ее молодость и красоту. Слова Берегова неожиданно подхватила Варенька. Она поднялась. У Виры зарделись щеки и задрожала рюмка в руке.
— Я хочу добавить несколько слов к тому, что сказал Федор Павлович, — заговорила Варенька. — Я пью за Виру и за всю нашу чудесную молодежь: трудовую, скромную, честную, неподкупную, способную на большие чувства и на большие подвиги.
Она с вызовом посмотрела на Виру и протянула к ней рюмку. Вире пришлось встать и чокнуться с Варенькой. Затем Варенька повернулась к Наталье Степановне:
— И за родителей, самоотверженно воспитавших эти черты в своих детях!
Наталья Степановна взглянула в насмешливые глаза Вареньки, и кровь ударила ей в лицо. Только один Берегов ничего не заметил, ни о чем не догадался.
«Ну подожди же, придет время — отплачу я тебе с лихвой!» — подумала Вира.
Настроение у гостей было вконец испорчено, и вскоре они засобирались домой.
Федор Павлович поехал провожать их. Он вел машину сам, а Вира сидела рядом.
Как только она рассталась с Варенькой, ей стало весело, и она непринужденно разговаривала и даже пела несильным, но довольно приятным голосом. Берегов глядел на свою соседку больше, чем на дорогу.
— Вы на меня не смотрите, Федор Павлович, — сказала ему Вира, — а то машину в кювет свалите…
— Это очень трудно, Вирочка, — тихо, чтобы не слышала Наталья Степановна, ответил Берегов, — трудно не смотреть на вас, когда вы рядом.
Вира торжествовала. Наконец-то Берегов оставил наигранный отцовский покровительственный тон и заговорил искренне!
А настроение Натальи Степановны не улучшилось и в машине. У нее, что называется, кошки скребли на душе. Все как-то получалось не так: Вира настроилась на замужество, Федор Павлович не сегодня-завтра может сделать ей предложение, а Иван Сергеевич и знаться с ним не желает. А тут еще эта Варенька со своим насмешливым взглядом, с бичующими словами о трудовой, способной на большие чувства молодежи…
5
Дальнейшие события развивались, как пишут в приключенческих романах, с головокружительной быстротой.
Через несколько дней после встречи на даче Федор Павлович приехал к Вершининым. Его визит был неожиданным.
Иван Сергеевич сам открыл ему дверь, и в доме начался переполох. Вира, с непричесанными волосами, в халате и домашних туфлях, убежала в ванную. Тоня схватила веник и принялась подметать Вирину комнату. Наталья Степановна бросилась в спальню, чтобы наскоро припудриться, подкрасить губы и причесаться. А Иван Сергеевич прикинулся, что ничего не знал и не слышал о Берегове.
— Чем могу служить?.. Чем могу служить? — с невозмутимым спокойствием повторил он, после того как гость отрекомендовался.
Берегова такой прием не смутил. Он давно уже разгадал позицию отца Виры.
— Разрешите раздеться? — спросил он, расстегивая светло-серое пальто и вешая шляпу.
Иван Сергеевич, обезоруженный таким натиском, поспешно сказал:
— Пожалуйста!
В это время в прихожей появилась Наталья Степановна. Она радушно поздоровалась с Береговым, и все трое прошли в кабинет. Берегов сел на диван, а Вершинины разместились в креслах.
После короткого разговора о погоде, о здоровье, о международных событиях Берегов перешел к основной цели своего посещения.
— Уважаемые Наталья Степановна и Иван Сергеевич! — несколько торжественно начал Федор Павлович. — Я русский человек и уважаю старинные русские обычаи…
Наталья Степановна раскраснелась, а Иван Сергеевич насмешливо взглянул на гостя и отвел глаза.
— Не буду занимать вашего времени различными подходами, — продолжал Федор Павлович. — Скажу кратко: я решил жениться на вашей дочери…
— Вы решили! А она тоже решила? Или, быть может, это неважно? — перебил его Иван Сергеевич.
— Я хочу выслушать сначала слово родителей, а потом пригласить Виру и при вас поговорить с ней.
— Что-то это уж очень не по-современному! — сухо рассмеялся Иван Сергеевич и сразу стал серьезным. — Не напомнит ли такой союз картину «Неравный брак»?
— Что же делать! — с горькой наигранностью воскликнул Берегов. — Хотел бы я скинуть десятка два годков, да невозможно!
— Два мало! Вам, уважаемый, вероятно, за шестьдесят. Вы даже для Натальи Степановны староваты…
Берегов стал багровым. Он резко поднялся, но подавил гнев и спросил:
— Итак, каков же ваш ответ?
— В наше время родители не решают судьбы детей, — тоже поднимаясь, торопливо сказала Наталья Степановна, незаметно толкнув локтем мужа.
— Вира! — повысил голос Иван Сергеевич и тоже встал.
Теперь все трое стояли и напряженно поглядывали на дверь.
Дверь порывисто открылась и, шумя накрахмаленной юбкой, в комнату впорхнула душистая, разнаряженная Вира.
— Здравствуйте, Федор Павлович! Я рада, что вы наконец познакомились с папой. — Она протянула руку гостю и покосилась на отца. — Что это вы все стоите, точно память усопшего чтите?
— Почти так и есть, — с горечью сказал Иван Сергеевич.
— Что за неуместная шутка, Иван? — рассердилась Наталья Степановна.
Но Берегов сделал вид, что ничего не слышал.
— Вот профессор просит твоей руки и сердца. Как ты сама-то думаешь? — В голосе Ивана Сергеевича слышалась издевка.
Вира сделала изумленное лицо и чуть отступила к двери в нерешительности. Берегов почтительно склонился перед ней, с подчеркнутой учтивостью сказал:
— Жду вашего ответа, Вира. Надеюсь, что вы составите мое счастье.
Вира совсем не так представляла этот момент в своей жизни. Присутствие родителей было лишним. Все это казалось каким-то старомодным и немного смешным.
— Я вам отвечу через три дня, — вспыхнув, сказала Вира и, не попрощавшись, выбежала из комнаты.
— Смущена… растеряна… — сказал Берегов.
— Естественное состояние для девушки, — попыталась оправдать дочь Наталья Степановна.
Иван Сергеевич молчал.
6
Вскоре после этого разговора на городской квартире Берегова праздновали свадьбу.
В белом нейлоновом платье, в фате, с белыми цветами на распущенных волосах, Вира походила на прекрасную сказочную фею. От нее невозможно было оторвать глаз. Она сидела за столом рядом с Федором Павловичем. Он смотрел только на Виру, разговаривал только с ней, забывая про гостей. Если к нему обращались с вопросами, он отвечал нехотя, односложно.
Федор Павлович был счастлив, но в то же время мучительное беспокойство не покидало его. Не хуже окружающих он понимал то тревожное, что таила в себе разница в возрасте его и Виры.
Многие из его друзей осуждали его и даже не приняли приглашения на свадьбу. Умом он понимал, что они хотя и жестоки, но правы. Однако перебороть свои чувства к Вире, перешагнуть через них он не мог. С каждым днем он все сильнее и сильнее чувствовал, что живет, дышит, движется ради нее одной. «Ты эгоист», — говорил он сам себе и тут же отвечал: «Но скажи: где, когда любовь не бывает эгоистичной?» И без устали повторял всем известную фразу из «Евгения Онегина»: «Любви все возрасты покорны».
На свадьбе не было Ивана Сергеевича и Вареньки. Виру и Федора Павловича это не беспокоило, но гости отметили их отсутствие.
Налили первые рюмки. Тамада, пожилой худощавый инженер, товарищ Федора Павловича с юности, провозгласил тост за здоровье жениха и невесты, за их счастливую, дружную жизнь.
— Горько! Горько! — закричали гости.
Федор Павлович и Вира встали. Жених нетерпеливо потянулся к невесте, но руки его вдруг скользнули по ее фате, и он со стоном опустился на стул.
Произошло замешательство. Гости повскакали с мест, окружили Берегова. Его подняли, отнесли в спальню, уложили на кровать.
Пока дожидались приезда «скорой помощи», гости притихли, сидели в столовой и разговаривали шепотом.
О причине, вызвавшей приступ сердечной болезни, высказывались самые различные предположения.
— Выпил, наверное, сегодня больше положенного!
— Поволновался…
— Не в свои сани сел…
Сбросив фату и кое-как заколов на затылке волосы, Вира сидела у постели больного в нарядной спальне.
Прибыла «скорая помощь». В комнату уверенно, как в свой дом, вошла седоволосая полная женщина-врач и молоденькая медсестра с аппаратом для снятия электрокардиограммы. Следом за нею появилась испуганная Наталья Степановна.
Врач внимательно выслушала Берегова, задала несколько обычных вопросов. Кивнув в сторону столовой, где она заметила скопление людей, спросила:
— А что у вас происходило здесь?
— Свадьба, — одними губами сказал Берегов.
— Свадьба? — переспросила она. — Сколько же вам лет?
Услышав ответ Берегова, врач вскинула густые брови, молча покачала головой.
А медицинская сестра делала свое дело: она обернула руки и ноги больного эластичной повязкой, присоединила к ним провода аппарата и с невозмутимым лицом принялась нажимать какие-то кнопочки и рычажки. Аппарат гудел, на ленте выписывалась зигзагообразная линия работы сердца.
Тут же просмотрев ленту, врач села за новенький секретер, купленный Федором Павловичем для Виры, и долго писала рецепты. Протянув их Наталье Степановне, она объяснила, как пользоваться лекарствами, потом строго добавила:
— Электрокардиограмма не блестящая. Больному нужен полный покой.
— Может быть, увезти его в больницу? — спросила Вира.
— Ну, это как жена решит. — Врач повернулась в сторону Натальи Степановны, полагая, что именно она и была невестой на этой свадьбе.
Войдя в столовую, врач сказала:
— Придется разойтись, товарищи. Больному не до гостей. Ему нужен абсолютный покой.
7
Все получилось не так, как грезилось Вире в мечтах. Вместо легкой, веселой жизни нужно было ухаживать за больным, совершенно чужим ей пожилым человеком.
Всю ночь Вира пролежала в столовой на диване в слезах, с мокрым полотенцем на голове. Наталья Степановна бегала от дочери к Федору Павловичу, от него опять к дочери и к исходу ночи совсем сбилась с ног.
Утром Вира успокоилась, ненадолго уснула, но сейчас же вскочила и в записной книжке стала искать номер телефона Вареньки.
Незадолго до свадьбы Берегова Варенька с сыном перебралась жить к своей подруге, муж которой тоже находился в командировке. Вира с трудом разыскала нужный номер и попросила Наталью Степановну позвонить. Вира надеялась, что Варенька приедет ухаживать за Береговым. В этом одном она видела сейчас спасение для себя, хотя и боялась Вареньки больше всего на свете.
Наталья Степановна переговорила с Варенькой, и та пообещала сейчас же приехать проведать больного.
— Мама, а что, если увезти Федора Павловича в больницу?
— Дело твое, Вира, — ответила Наталья Степановна. — Я бы Ивана Сергеевича в таком случае в больницу не повезла.
— Но ты… другое дело! — пожала плечами Вира, присаживаясь к столу.
Она сдвинула немытую посуду, прислонила к чашке маленькое круглое зеркало и стала причесываться.
— Почему же я — «другое дело»? — с сердцем спросила мать, опускаясь на стул около Виры. — Я работаю, а ты совершенно свободная. Ты даже в вуз решила не держать экзаменов. Я думаю, что именно ты обязана ухаживать за больным мужем.
— Я терпеть не могу больных, — склоняясь перед зеркалом и укладывая волосы, негромко, чтобы не услышал Федор Павлович, сказала Вира.
— Какая же ты эгоистка! — воскликнула мать. — Ступай немедленно в комнату Федора Павловича, я уезжаю домой.
— Я не пойду к нему! — упрямо сказала Вира, и в глазах ее мелькнули слезы.
Наталья Степановна вышла в прихожую и стала одеваться. Она открыла дверь и столкнулась с Варенькой. Они холодно кивнули друг другу.
Вира обрадованно выбежала навстречу Вареньке, но та, не здороваясь с ней, направилась в комнату больного.
Федор Павлович лежал на широкой деревянной кровати, закрытый голубым атласным одеялом. Обычная свежесть с лица его сошла. Он был бледен, даже желтоват, в глазах стояли усталость и безразличие. Однако увидев Вареньку, он обрадовался, улыбнулся ей, но улыбка получилась какой-то виноватой. Варенька сразу же захлопотала около больного: положила под голову вторую подушку, принесла таз с водой и полотенце, умыла Федора Павловича, накормила его.
Несколько раз Вира пыталась проявить нежность к мужу. Она порывалась подойти к нему, поцеловать в лоб, но он лежал такой старый, чужой, ненужный, что прикоснуться к нему было неприятно. Вира отошла в угол, положила руки на спинку стула и молча стояла до тех пор, пока Варенька не послала ее в аптеку и в магазин.
Когда Вира вернулась с лекарствами и покупками, Варенька позвала ее на кухню, велела сесть и сама села напротив.
— Что же вы думаете делать дальше? — строго спросила она. — Такая, как вы, с больным не справится, даже если нанять медицинскую сестру. Сестру-то накормить надо. И больного тоже. А я работаю. Сумею вырваться на час, вот и вся помощь. А Федор Павлович очень болен, и, для того чтобы его выходить, нужен самоотверженный уход. Вы это понимаете?
Вира уткнулась лицом в ладони и разрыдалась.
— Я не собираюсь вас утешать, — холодно сказала Варенька. — Вы плачете о несбывшихся надеждах, от жалости к себе. А мне вас не жалко. Человек в старости всегда болеет. Это вам прекрасный урок. Давайте поговорим о том, как быть с Федором Павловичем.
Вира перестала плакать, вытерла лицо кружевным платком и, тяжело вздохнув, зажала руки в коленях.
— Федора Павловича нужно немедленно положить в больницу. Он и сам настаивает на этом, — сказала Варенька. — Вы, конечно, согласны?
Вира поспешно кивнула.
Варенька подошла к телефону, с кем-то переговорила, и вечером того же дня Федора Павловича увезли в больницу. Вира и на прощанье к нему не прикоснулась.
Прощаясь с Вирой, Варенька сказала:
— А вы будьте внимательнее к Федору Павловичу. В больнице бывайте ежедневно. Даете мне слово?
— Даю, — сказала Вира и опять чуть не заплакала от обиды и жалости к себе.
— Эх вы, курица беспомощная! — с пренебрежительным сожалением сказала Варенька и махнула рукой.
И вдруг Вире стало жалко отпускать эту деловитую, суровую женщину. Страшно было оставаться без нее.
— Варенька, не уходите! — сказала Вира, умоляюще складывая руки. — Вы жили в этой комнате и живите, как прежде. Я очень хочу, чтобы вы с Сашенькой снова вернулись…
Варенька с удивлением и любопытством посмотрела на Виру, точно заметила в ней что-то новое.
— Нет, мы с вами слишком разные люди. Вместе жить нам трудно. — И ушла.
Вира осталась одна в просторной, красиво обставленной квартире.
Она прошлась по комнатам. Чувство у нее было такое, точно она в первый раз вошла в чей-то холодный и неуютный дом. «Нужно все переделать и переставить, — подумала Вира. — Надо купить другую мебель… распределить по-другому. Непременно сделать себе отдельную комнату в светлых тонах, а все старое продать. Надо сшить себе хорошие туалеты. Для этого потребуются деньги. Ну что ж, Федор Павлович говорил, что, кроме хорошей зарплаты, у него есть деньги в сберегательной кассе». Эти мысли утешили Виру.
Она вошла в кабинет Берегова и долго стояла перед портретом его жены. Со стены на нее глядела некрасивая женщина южного типа, с длинным носом и большими черными глазами. Федор Павлович прожил с ней больше тридцати лет.
«Тридцать лет! Как много! И неужели они не надоели друг другу?» — подумала Вира и открыла сейф, где лежали деньги и документы. Она пересчитала деньги и обрадовалась. Их было немало.
О чем только не передумала Вира в часы одиночества! Только об одном не вспомнила — о здоровье Берегова. Когда на другой день позвонила Варенька и спросила, как чувствует себя Федор Павлович, Вира растерялась, но быстро нашлась.
— Ему много лучше, — сказала она.
На третий день все же пришлось поехать в больницу, надеть плохо проглаженный, пахнущий мылом халат и войти в палату, где лежал Федор Павлович.
Вира со страхом приложилась к небритой щеке Берегова и села около постели на белый табурет.
Федор Павлович лежал на спине, вытянув вдоль тела открытые до локтя волосатые руки.
— Видишь, детка, как все вышло-то… — смущенно, чуть слышно сказал он и поторопился заговорить о другом: — В сейфе лежат деньги. Ты не стесняйся, расходуй сколько надо.
Вира просидела в палате минут десять и решила уходить, оправдываясь тем, что ее присутствие утомляет больного.
К ночи Федору Павловичу стало хуже. А утром Вире позвонил дежурный врач и сообщил, что ночью у Берегова произошел двусторонний инфаркт. Состояние его не просто тяжелое, а очень опасное.
Но больной не умер, как опасались врачи. Он выжил и медленно начал поправляться.
Потянулись долгие, мучительные дни ожидания. Вира навещала Берегова через день. Эту тяжелую обязанность она выполняла утром, чтобы потом на два дня вычеркнуть из памяти неподвижное тело больного, его похудевшее, посеревшее лицо и укоризненный взгляд уставших глаз.
8
Вира вернулась из больницы домой. Не снимая перчаток и шляпки, она прошла в свою комнату и бросила на стол сумку с шелковым белым халатом. Здесь уже стояло трюмо, заполненная разнообразным хрусталем горка, стулья с укороченными ножками. Не хватало дивана. Его она целыми днями искала по магазинам.
Затем она вошла в кухню и сказала Тоне, что нужно приготовить к обеду. Тоня жила у Виры временно. С ней было не так страшно. Да и с хозяйством своим Вира справиться одна не могла.
— Тоня, ты потом вместе с Димой (она имела в виду шофера) перенеси в кабинет кровать Федора Павловича.
— Это не по-христиански, — насмешливо возразила Тоня.
Вира не ответила, подошла к телефону, набрала номер.
— Сонечка? — спросила она. — Ну как, сегодня можно на примерку? Ой, Сонечка, какой я нейлон достала, закачаешься!.. Не в магазине, конечно… Во сколько?.. Не могу, дорогуша. Я же на курсах учусь… Машину водить… Люблю ли?.. Нет, не люблю. Но что поделаешь — нужно. Женщина за рулем — своего рода экзотика… А вечером я в концерте… Завтра? Тоже не могу — плаваю в бассейне…
Снова зазвонил телефон. Юный поэт молил о свидании.
— Завтра можете встретить меня в Лужниках, около бассейна, и проводить до дому, — благосклонно разрешила Вира.
Вечером с влюбленным в нее молодым композитором она сидела в зале Консерватории на концерте.
Оркестр исполнял концерт Чайковского. Дирижировал знаменитый американский дирижер. Он вдохновенно вздымал длинные руки, движениями пловца разводил их в стороны, внезапно что-то хватал в воздухе и разъяренно кидал в грохочущий оркестр.
Вира вначале с интересом присматривалась к дирижеру, слушала музыку. Потом ей это надоело, она украдкой стала поглядывать на красивый профиль сидящего рядом с ней композитора, потом ее заинтересовало платье соседки, и она решила сшить себе такое же, изменив только рукав и отделку.
Она оживилась, когда дирижер стал приветливо раскланиваться. Зал аплодировал, и девушки побежали к сцене с букетами цветов.
Молодой композитор проводил Виру до дому, в подъезде целовал ее руки, но права зайти в дом не получил…
Как-то в ненастный день, возвращаясь из комиссионного магазина, Вира увидела Надю Молчанову. Надя шла торопливо, энергично помахивая сумочкой. Она не заметила бы элегантно одетую женщину, приоткрывшую дверку автомобиля, если бы та не окликнула ее сама.
— Ты настоящая актриса! Ну что, поступила? Трудные были экзамены? — Надя нетерпеливо расспрашивала Виру.
Вира пригласила подругу сесть в машину. Здесь они могли разговаривать сколько угодно, благо шофер Дима где-то ходил по магазинам.
Вира, как обычно, говорила только о себе, и получалось так, что в вуз она не поступила из-за внезапной болезни мужа.
Надя искренне ей посочувствовала.
— Твой муж много старше тебя? — спросила Надя.
— Ему за шестьдесят…
— За шестьдесят?! — изумилась Надя. — Значит, он совсем-совсем старый… И ты его любишь?
Вире вдруг захотелось открыть душу перед школьной подругой. Ведь она никому еще не рассказывала, как тяжко изображать привязанность и нежность к немощному чужому и старому человеку. Ни перед кем не каялась в том, что обеспеченная жизнь, наряды и вещи для нее дороже всего в жизни. Впервые у нее возникло желание поговорить о себе со всей жестокой правдой, но пришел Дима, уселся на свое место и помешал. Вира предложила Наде погулять по улице. Они шли рядом.
— Ну, ты счастлива или… — спросила Надя и не досказала фразы.
— Счастлива ли? — подхватила Вира. — Ах, Надюша, никогда не думала, что старость может быть такой ужасной!.. Он мне казался таким крепким, сильным, внушительным. И вот…
— Но что все-таки привлекло тебя в нем? Дача, машина, квартира? Ответь мне, как самой себе.
— Нет, Наденька, не только дача и машина. Но и он сам. Он как человек, профессор…
— Ты неисправима, Вира! «Профессор»… А был бы он обыкновенным, рядовым человеком, ты пошла бы за него? Скажи, пошла бы?
Вира в ответ только вздохнула. Ей очень хотелось быть с Надей откровенной, но сознаться в том, на что она уже решилась, у нее не хватило смелости. Жить с этим старым человеком она, конечно, не могла и втайне думала о новом муже.
Вирин протяжный вздох сказал Наде многое.
— Знаешь, Вирка, что я тебе хочу сказать… Хоть обижайся на меня, сердись, — Надя говорила каким-то сдавленным голосом, — но мне тошно с тобой. Вот ты и красивая и нарядная, а у меня такое ощущение, будто я прикоснулась к чему-то скользкому, противному.
— Я ведь считала тебя подругой! — растерянно кинула Вира.
Надя, не оглядываясь, резко махнула рукой, и этот жест был сильнее слов.
Вира постояла, посмотрела вслед подруге и, чувствуя неясную боль, быстро подавила ее в себе и подумала: «Завидует мне, завидует моей красоте и моему положению».
— Поедем в комиссионный на Арбате. Ну их всех к черту! — садясь в автомобиль, с нотками раздражения и отчаяния в голосе сказала Вира шоферу.
— Вероника Ивановна, а в больницу разве мы сегодня не поедем? — спросил шофер.
— В больницу? Ах, верно. Давай заедем в комиссионный, а потом в больницу.
9
— Старайтесь думать только о приятном, — то и дело твердил Федору Павловичу ординатор его палаты, пожилой опытный врач.
Но больного не покидали невеселые думы.
Тяжкая болезнь, казалось, вытравила в нем все чувства, кроме страха за жизнь. Он совсем не стремился сейчас к молодой жене. Напротив, она была для него обузой. Ему хотелось покоя, тишины, внимания. Но он знал, что ничего этого Вира ему не даст. В первые месяцы болезни он ощущал свою вину перед Вирой. Он понимал тогда, что она молода, ей хочется жить полнокровной жизнью. Теперь он ничего понимать не хотел. Он сердито брюзжал, когда она отчитывалась в истраченных деньгах, рассказывала о своих приобретениях.
Однажды Вира приехала в больницу к исходу приемного времени. Сестра с неудовольствием сказала ей:
— Скоро обед, гражданочка. Больше десяти минут я не разрешу вам пробыть у больного. В следующий раз приезжайте раньше.
Вира села у постели Федора Павловича. Больные с соседних коек глядели на нее пристально, недоброжелательно.
— Ну, что нового? — спросил Федор Павлович, отводя глаза в сторону.
— Звонили какие-то товарищи из Министерства высшего образования, справлялись о твоем здоровье.
— Хорошо. Помнят, значит, — удовлетворенно сказал Берегов и стал рассказывать Вире, как с детства мечтал стать археологом, бегал по музеям, увлекался книгами о древности.
Федор Павлович вдруг скосил глаза на Виру и заметил ее скучающий взгляд. Он осекся, замолчал. Но отделаться от нахлынувших воспоминаний не мог. Он закрыл глаза, и прошлое опять захлестнуло его. Жена, сын, личная жизнь… Личная жизнь оставалась всегда на втором плане, но никогда не была второстепенной… Потом жена умерла. Сын женился и, хотя жил с ним под одной крышей, стал от него отдаляться. А потом… Потом стала приближаться старость… И вдруг появилась Вира, принесшая столько искреннего волнения и радости. Можно было подумать, что происходит чудо: невозвратная молодость приходит к нему снова…
— Была Варенька… — тихо сказала Вира, прерывая мысли Федора Павловича, — и, представь себе, она по-прежнему не хочет жить с нами вместе.
«Варенька! — подумал Берегов. — Только ее заботу я и чувствую в эти жуткие дни своей болезни». Ему захотелось впервые ущемить самолюбие Виры своим добрым отношением к снохе.
— Варенька должна возвратиться к нам. И не в проходную комнату, нет! Отдай ей свою, а всякое барахло перетащи в кабинет.
Вира собралась было возразить, но, вспомнив строгий наказ врача, молча опустила голову.
— А насчет денег у меня такие распоряжения, — начал Федор Павлович, но не договорил, сказал о другом: — Слишком ты много тратишь, Вира…
— Но у меня были такие расходы. Мебель пришлось менять, — попыталась оправдаться Вира.
— Половину оставшихся денег положи на сберегательную книжку. Книжка у меня в письменном столе, под серой папкой, — сказал Федор Павлович.
«Ну-ну, посмотрю твою сберкнижку! И как это я не догадалась поднять серую папку?» — подумала Вира и заспешила домой.
Сбережения Берегова интересовали ее сейчас больше всего на свете.
Дома она прежде всего бросилась к письменному столу. Да, сберегательная книжка действительно лежала под серой папкой. Вира поспешно открыла ее на страничке с последней записью. «Ого! Сумма приличная, а ему, старому скряге, все еще мало», — подумала она и положила в книжку половину денег.
На другой день утром она пошла в сберегательную кассу. Впервые в жизни ей пришлось вносить деньги на хранение. Вдобавок деньги чужие, заработанные не ею. Она взяла квадратный листок приходного ордера и стала заполнять его.
В этот момент за стеклянной перегородкой зазвонил телефон. Контролер сберкассы, черноволосая женщина, с горячностью стала кому-то объяснять:
— Но послушайте, у нас нет его доверенности. Как же я могу выдать вклад? Справки тут никакие не помогут. О чем же вы думали раньше? Нужно было открыть свой лицевой счет, иметь свою книжку, и все было бы просто…
Вира прислушалась к объяснениям контролера и вдруг подумала: «Но у меня тоже нет доверенности и, если потребуется, я не смогу получить ни одной копейки».
Она переписала бумажку на свое имя и, подавая ее контролеру, сказала:
— Откройте новый лицевой счет…
Наказ мужа о том, чтобы половину денег внести в сберкассу, был выполнен, но хозяйкой денег оставалась она сама.
10
Посещение родителей Вира не считала приятной обязанностью и старалась делать это как можно реже.
Но родители оставались родителями.
Едва она вошла, как мать бросилась ее целовать. Из кабинета вышел отец и сухо приложился к ее волосам. Отец не умел кривить душой. Он разочаровался в своей дочери и охладел к ней.
— Ну, как здоровье профессора? — осведомился отец. Он всегда называл Берегова так, желая подчеркнуть этим, что брак состоялся только в связи с положением Федора Павловича.
— Лежит, — равнодушно сказала Вира.
— Лежит и будет лежать. Возраст такой. Вон твой дед тоже лежит.
— Ты надолго к нам, Вирочка? Пообедаешь с нами? — как всегда, торопилась сгладить резкость мужа Наталья Степановна.
— Я на минутку, мама…
— Ты спешишь, у тебя есть дела? — насторожился отец.
— Я учусь на курсах шоферов, — с гордостью сказала Вира.
— Это неплохо, — осторожно одобрил Иван Сергеевич.
Вире стало приятно от слов отца.
— Ну, посиди хоть минуточку, — попросила Наталья Степановна.
Она обняла Виру, новела в столовую. Туда же пришел и отец. Все трое сели за стол.
— Если торопишься, обедать не будем, а только поговорим. Хорошо?
— О чем же говорить, мамочка? Опять начнете меня воспитывать?
— Бесполезны, мать, всякие разговоры! — поднимаясь из-за стола, со вздохом сказал Иван Сергеевич. — Стыдно перед людьми. Ты трутень, Вира, понимаешь ты это или нет?
Вира вскочила, топнула ножкой, но каблучок-шпилька подозрительно треснул, и она, осторожно ступая, порывисто вышла из комнаты.
Некоторое время Иван Сергеевич и Наталья Степановна молчали, каждый по-своему расценивал разлад с дочерью. Иван Сергеевич подошел к окну, взглянул на пустынную улицу и сказал дрогнувшим голосом:
— Остались мы одни, будто и не было у нас дочери.
Наталья Степановна заплакала, пряча лицо в шелковый платок.
11
Вира вышла из раздевалки. Она остановилась у воды, от которой поднимался чуть горьковатый запах хлорки. Стройная, в белом купальном костюме, облегающем крепкие бедра и высокую грудь, Вира стояла и с удовольствием вглядывалась в свое отражение в воде.
Женщины, оказавшиеся здесь, смотрели на нее с нескрываемой завистью.
Она вытянула руки, сложила их, нырнула и появилась почти на середине бассейна.
— Плывите сюда, девушка! — весело, наперебой кричали три молодых человека.
Вира обратила внимание на одного из них, очень смуглого, черноглазого и широкоплечего, но не ответила им и поплыла в другую сторону.
Когда после купания она вышла из бассейна, то на аллейке молодого сада, у зеленеющего газона, увидела тех самых юношей, которые приглашали ее плыть к ним. Тот, которого Вира заметила в бассейне, равнодушно взглянул на нее и отвернулся, но Вире запомнился его взгляд, высокий рост и открытое, мужественное лицо.
Она думала, что молодые люди заговорят с ней, но они лишь проводили ее молчаливыми взглядами.
На следующий день Вира поехала в бассейн с большей охотой.
Она не ошиблась в своих расчетах. Три товарища опять были здесь.
Она намеренно близко подплыла к ним и, раскинув руки, лежа на воде, устремила взгляд в открытое голубое небо.
Мельком она видела, как тот, ради которого все это делалось, повернулся и поплыл от нее.
Но, когда она вышла из бассейна, юноши снова ждали ее на аллейке молодого сада.
— Простите, как вас зовут, девушка? — спросил один из них, в берете, в непомерно узких брюках и коротком пальто.
— Уделите нам минутку внимания! — сказал другой, широколицый, с васильковыми глазами.
Третий промолчал.
Знакомство состоялось. Вира узнала, что все трое были студентами пятого курса Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Тот, на кого она обратила внимание, назвал себя Йожефом, а товарищи звали его просто Ежиком. Он родился в Венгрии, в семье советских дипломатов, и родители назвали его так в честь друга своего, венгерского коммуниста.
Йожеф глядел на Виру равнодушным взглядом. Казалось, ее красота не произвела на него никакого впечатления.
А Вира упорно приглядывалась к нему. Он все больше и больше нравился ей и своим высоким ростом, и широкими плечами, и упрямым, выдающимся вперед раздвоенным подбородком. Ей почему-то становилось немного страшно, когда она смотрела в глаза Йожефа — необыкновенно черные, без блеска, в густых и длинных ресницах.
Теперь Вира встречала Йожефа в бассейне по три раза в неделю. Он был вежлив, приветлив, но равнодушен, и это равнодушие вначале удивляло ее, потом возмущало, а затем стало доставлять просто боль.
Она поняла, что пришел ее черед. Она полюбила. Вся жизнь сосредоточилась на Йожефе. Ей хотелось быть красивой только для него. Она наряжалась и думала, понравится ли ему это платье, эти туфли, эта шляпка. А он, казалось, ничего не замечал.
В те дни, когда они не встречались в бассейне, Вира подъезжала к сельскохозяйственной академии и часами сидела в машине или прогуливалась, не выпуская из виду главный вход в здание.
Однажды она встретила Йожефа. Он торопливо шел с охапкой книг под мышкой и не заметил Виру. Она загородила ему дорогу, и он невольно толкнул ее.
— Извините… Здравствуйте! — сказал он серьезно, без улыбки. — Что это вы Делаете около нашей академии?
— Вас жду, — так же серьезно сказала Вира и вызывающе добавила: — Вот соскучилась и жду…
— Шутите! — улыбнулся Йожеф, внимательно поглядев на Виру. Казалось, только сейчас он заметил и красоту ее и то, что Вира к нему расположена.
— Ежик! Ты что же не подождал меня? — послышался звонкий голос, и около Йожефа остановилась маленькая, изящная девушка, похожая на белочку, с хорошеньким хищным личиком. Она улыбнулась, обнажая мелкие острые зубки.
Вира отступила, с ненавистью взглянув на девушку.
— Я пошутила, Йожеф. Я жду подругу, — сказала Вира, пропуская мимо себя Йожефа и девушку.
Соперниц Вира не боялась. Она была уверена, что ее красота победит.
В следующий день в бассейне Вира встретила товарищей Йожефа, но самого Йожефа не было.
Вира дождалась студентов в садике, на скамейке, и, будто бы между прочим, играя яркой нейлоновой сумочкой с купальным костюмом, спросила:
— А что же нет с вами вашего третьего друга?
— У него кончился абонемент, а покупать новый нет смысла, на носу госэкзамены, — объяснил один из юношей.
Вира тут же пригласила обоих студентов к себе. Они с радостью согласились вечером быть у нее.
Широколицего студента с волнистыми волосами цвета спелой ржи и с васильковыми глазами звали Ваней. В отличие от своего товарища, Влади, Ваня не признавал последней моды. «По последней моде из века в век одеваются легкомысленные люди», — говорил он и носил широкие брюки. Владя, наоборот, яростно придерживался моды. Поэтому его прямые, давно не стриженные волосы небрежно покрывали шею, а брюки обтягивали тонкие, кривые ноги. Маленького роста, с бабочкой на шее, в оранжевом берете, он напоминал карикатуру на стиляг и вызывал улыбку у тех, кто видел его впервые.
Владя и Ваня считали Виру дочерью профессора Берегова. И Вира не разубеждала их. Оба они увлеклись Вирой, и каждый считал, что именно он покорил ее сердце.
Владя умел бойко играть на рояле различные танцы и легкие романсики. У Вани был приятный домашний тенор. Он пел чаще всего арию Вакулы из «Черевичек». Но это была слишком серьезная музыка для Влади, он не мог аккомпанировать товарищу. Поэтому Ваня садился за рояль, пел и брал странные, диссонирующие пению аккорды.
Для того чтобы не вызвать подозрений Тони, Вира приглашала на эти вечера свою новую знакомую — Олесю, продавщицу из комиссионного магазина.
Олеся всегда носила юбку и кофточку. Юбка у нее была настолько узка, что непонятно было, как она переставляет ноги. Кофточка обтягивала ее некрасивые худые плечи и впалую грудь. Олеся носила высокую прическу из взбитых волос. Внутрь прически она закладывала старый чулок, но об этом, разумеется, никто не догадывался. Огромная прическа поразительно не шла к ее затянутой червякообразной маленькой фигурке и худенькому, острому лицу. Но так требовала мода, и Олеся уродовала себя ради нее.
В течение месяца эта компания собиралась у Виры и, наконец, наступил тот долгожданный вечер, когда вместе с товарищами появился Йожеф.
12
— Вира, к тебе! — крикнула из прихожей Тоня.
И Вира со скучающим видом пошла встречать уже порядочно надоевших ей студентов. Она открыла дверь и увидела Йожефа. Вира растерялась от неожиданности и забыла поздороваться с Ваней и Владей.
Вслед за студентами пришла Олеся. Она заметила растерянность Виры и стала приглядываться к ней, удивляясь, куда исчезла ее обычная самоуверенность. Женским чутьем Олеся поняла, в чем тут дело, и следила за Вирой с наслаждением.
Ваня, как обычно, сел за рояль и запел арию Вакулы. Потом его сменил Владя и заиграл какой-то бурный фокстрот.
— Ну, что же вы не танцуете? — оглянулся он на Виру и Олесю.
Вира отрицательно замотала головой.
Потом все сели за стол. Ваня с Владей распечатали две бутылки шампанского.
Вира сидела за столом молча, прислушивалась к пошленьким и неумным остротам Влади, тут же забывая их.
Йожеф по-прежнему не обращал на нее внимания. Говорил он мало, улыбался сдержанно. Его безразличие обижало Виру. Был такой момент, когда слезы выступили у нее из глаз. Она украдкой попыталась смахнуть их, но вдруг поймала удивленный взгляд Йожефа. После ужина он подошел к ней.
— У тебя плохое настроение? Может быть, нам лучше уйти?
— Напротив, настроение отличное! — с вызовом сказала Вира. — Я хочу танцевать! — Она положила руки на плечи Йожефа и так взглянула в его глаза, что он растерялся.
Владя бросился к роялю, Ваня поспешно пригласил Олесю танцевать.
Гости разошлись после одиннадцати. Вира пошла провожать их. Но не прошли и двух кварталов, как стало заметно, что Йожеф и Вира стараются отстать от компании.
Прошло еще несколько минут, и они исчезли из виду. Олеся сказала своим спутникам:
— Теперь они просидят на бульваре до утра.
Йожеф и Вира действительно уселись на скамейке под деревом. Йожеф рассказывал о себе, о своем детстве в подмосковной деревне, где он вырос и на всю жизнь полюбил просторы полей и сельский труд. Именно поэтому он и решил пойти учиться в Тимирязевскую академию.
Вира почти не вникала в смысл его слов. Она прислушивалась к низкому голосу Йожефа, вглядывалась в темноту, в очертания его лица, ловила его взгляд. Ей хотелось придвинуться к нему поближе, положить голову на его плечо и смотреть, смотреть в звездное темное небо. Ей даже показалось в эту темную весеннюю ночь, — что она стала чище, душевно красивее.
А Йожеф с увлечением говорил о том, что скоро он защитит диплом и поедет работать на целину.
— И всю жизнь будешь в деревне?.. И тебе не будет скучно?
— Скучно? Что ты! Я буду работать.
Вира вспомнила Веселую Горку и подумала, что и там с Йожефом ей тоже, пожалуй, не было бы скучно.
— Ну что же все обо мне да обо мне? А какие планы на жизнь у тебя? Я слышал, твой отец тяжело болен и тебе не пришлось в этом году поступить в вуз?
Вира растерялась. Ей не хотелось лгать Йожефу, но сказать правду было страшно. Одно слово «муж» его могло оторвать от нее навсегда, и она решилась на ложь…
Теперь Йожеф приходил к Вире один и засиживался до утра. Тоня стала помехой этим встречам, и Вира отправила ее обратно к родителям, сказав Наталье Степановне, что Федор Павлович велел жить экономно.
— Я хочу танцевать! — Вира положила руки на плечи Йожефа…
Йожеф видел многие недостатки Виры, но он чувствовал ее искреннее отношение к себе и был уверен, что Вира станет другой.
Любовь не мешала ему работать над дипломом, наоборот, она его торопила и вдохновляла. Он мечтал получить назначение в Сибирь и уехать туда вместе с Вирой.
Однажды вечером они сидели в комнате на диване, не зажигая огня. Окно было открыто, и уличные фонари освещали блестящие спинки дивана и кресел.
— Отец твой, видимо, любит уют, — кивнул головой Йожеф на мебель.
— Возможно! — уклончиво ответила Вира, вспоминая свою беготню по магазинам и Олесю, которая за особую плату «устроила» ей некоторые покупки.
Йожеф взял Виру за руки, привлек к себе и, любуясь ею и осторожно отодвигая со лба ее волосы, сказал:
— Вира, давай поговорим по-настоящему обо всем!
— Давай поговорим! — улыбаясь, сказала Вира, прижимаясь головой к его груди.
Вдруг раздался звонок. Это пришли Варенька с Сашей.
Вира так испугалась, что не успела зажечь света.
Варенька поздоровалась с Йожефом, насмешливо улыбнулась и стала расспрашивать Виру о том, как чувствует себя Федор Павлович. Вира отвечала торопливо и попыталась прекратить этот разговор, но Варенька упорно желала говорить только о Берегове.
Затем Варенька направилась в кабинет взять какую-то книгу Федора Павловича, и Вира пошла за ней.
Сашенька в синей рубашке и в коричневых штанишках на лямочках, с розовыми, как яблоки, щеками, был очень мил. Йожеф с удовольствием начал с ним разговаривать. Он принял Вареньку за старшую сестру Виры и спросил мальчика:
— Ты часто ходишь к тете Вире?
— Нет, не часто. Редко. — Потом плутовато улыбнулся и сказал: — А тетя Вира моя бабушка. — И, помолчав, добавил: — Смешно, правда? Такая молодая — и бабушка.
Видимо, фразу эту он слышал от взрослых.
— Почему же бабушка? — засмеялся Йожеф. — Она сестра твоей мамы, значит, твоя тетя.
— Нет, — покачал головой Сашенька, — она жена моего дедушки. Она бабушка. — И Сашенька весело рассмеялся. — Все смеются, как узнают про это.
Йожеф побледнел. В словах мальчика он почувствовал правду. Вдруг многое непонятное стало ему ясным: он понял и насмешливую улыбку Вареньки, и сердитые взгляды Тони, и все поведение Виры.
Сашенька о чем-то спрашивал Йожефа, но тот уже не слышал его. Он с ужасом думал о Вириной лжи, в нем поднималось чувство возмущения, отчаяния, ненависти к ней.
Он не мог оставаться здесь, видеть ее. Он встал и решительно направился к выходу.
В дверях его остановила Вира.
— Прощайте! — сказал Йожеф. — Прощайте, бабушка Вира… — и захлопнул за собой дверь.
Не понимая, что произошло, Вира стояла не двигаясь и смотрела на дверь. «Неужели Варенька рассказала?» — подумала она, но сейчас же вспомнила, что Варенька ни на минуту не оставалась с Йожефом. В этот момент подбежал Сашенька.
— Бабушка Вира! — с веселым смехом закричал он.
Вира мгновенно поняла, кто виновник ее несчастья. Она резко отстранила мальчика и пошла в комнату.
Варенька все слышала.
— Выдал? — спросила она, останавливаясь возле Виры. — Устами младенца глаголет истина. Так, кажется, говорят.
Вира с ненавистью посмотрела на Вареньку. Она думала увидеть в ее глазах ту же насмешку, с какой она глядела на Йожефа. Но ни зла, ни насмешки в лице Вареньки не было.
13
Снова целыми днями Вира бродила около сельскохозяйственной академии, пытаясь встретить Йожефа.
И она его встретила.
Он хотел пройти мимо, но Вира загородила ему дорогу и, умоляюще соединив на груди руки, сказала:
— Ёжик, сначала выслушай меня, потом осуждай. Ведь если бы я не любила тебя, я бы не стала добиваться этой встречи…
Он не хотел ее слушать, но не слушать не мог. Она взяла его под руку и решительно повела в переулок, где было не так людно.
Долго и молча они шли мимо высокого забора, огораживающего строительную площадку, мимо распахнутых широких ворот. Оттуда доносились шум, скрип, стук.
— Да, профессор Берегов мой муж, — размазывая слезы по лицу пальцами в белых капроновых перчатках, говорила Вира. — Замуж я вышла не по любви…
— Мне совершенно ясно, что при такой разнице лет замуж выходят только по расчету, — жестко ответил Йожеф. — Но мне-то что до этого?
— Йожеф! Все это прошлое, — заговорила Вира. — Теперь я люблю тебя и рву со своим прошлым. Я стала совсем другой. Поверь мне. Ни школа, ни родители не могли перевоспитать меня, любовь переделала… Я совсем, совсем теперь другая… — Вира закрыла лицо руками и горько заплакала.
В воротах стояли девушки в запыленных комбинезонах.
Йожеф пытался загородить плачущую Виру от посторонних взглядов. Он хотел верить ей, в душе его начала просыпаться надежда.
— И ты уйдешь от него сейчас же? — взволнованно спросил Йожеф.
Вире казалось, что иначе не могло быть, и она убежденно ответила:
— Сейчас же, сегодня же уйду к родителям.
Вира возвратилась домой веселая, счастливая. Напевая, она принялась укладывать в чемоданы свои платья. Подумав, она положила на дно чемодана сберегательную книжку. Она не могла взять с собой трельяжи, горки с дорогим фарфором, диваны и ширмы из красного дерева. Ей стало жаль всего этого. Она заплакала.
Продолжая сидеть возле раскрытых чемоданов, она задумалась о своем будущем. Вместо этой роскошной комнаты ее ожидает деревенская изба. Она будет ведром доставать из колодца воду, топить печи и выгребать из них золу… Там, на этой страшной целине, нельзя будет даже надеть модные туфли и нарядное платье. Что же она будет там делать? На что будет тратить свое время? Может быть, пока не уходить из дома Берегова, а уговорить Йожефа остаться в Москве? Он ведь сам говорил, что ему предлагали поступить в аспирантуру.
Настроение Виры сразу же улучшилось. Напевая, она стала вытаскивать из чемоданов платья и убирать их в шкаф…
На другой день Йожеф и Вира встретились в парке. Они сели на скамейку под старой ветвистой липой.
— Почему же ты не ушла из дома Берегова? Почему ты не сдержала своего слова? — с горькой усмешкой спросил Йожеф.
— Меня уговорила Варенька… Федору Павловичу опять плохо, малейшее волнение его может убить, — соврала Вира, глядя правдивыми глазами в лицо Йожефа.
— Но когда-то все равно придется доставить ему это волнение. Я получил, Вира, назначение в Хакасию, в новый целинный совхоз. Нужно выезжать буквально на днях…
— Милый Ёжик! — воскликнула Вира и, пользуясь тем, что вокруг никого не было, порывисто обняла его. — Мы можем жить у моих родителей. Ты поступишь в аспирантуру. Мы останемся в Москве… Все будет так хорошо!
— Тебя пугает целина? — заглядывая Вире в глаза, спросил Йожеф.
— Очень, Ёжик, — призналась Вира. — Я, наверно, не смогу там жить и умру от тоски.
— Даже со мной?
— Даже с тобой. Ёжик, родной, пойми: я не могу без этого шума большого города. Ты же знаешь меня.
— Ты станешь там работать, Вира. Ты неверно представляешь себе целину. Там те же люди, та же жизнь. Будешь работать в клубе, организуешь самодеятельный театр. Разве это не увлекательно?
Предложение Ёжика показалось Вире заманчивым.
Это чувство отразилось на ее лице, и он снова подумал о том, что она станет другой, как только покинет Москву.
Они весь вечер провели в парке — взявшись за руки, бродили по аллеям, катались на «чертовом колесе» и с высоты любовались столицей. Потом подкрепились у киоска бутербродами и горячим кофе из бумажных стаканов.
В этот теплый, ясный вечер им так хорошо было вместе!
Они любили друг друга. Казалось, не было на свете силы, которая могла бы помешать этому чувству. Они решили через три дня уехать в Хакасию. Утром в кассе предварительных заказов Йожеф заказал два билета до неизвестной им, далекой станции Абакан.
Счастливый, с горящими глазами, Йожеф простился с Вирой около дома ее родителей и, не стыдясь, поцеловал ее при народе…
— Дорогие родители! Я уезжаю на целину! — торжественно сказала Вира, входя в комнату и обнимая отца и мать.
Она предполагала, что эти слова произведут эффект, но изумление и растерянность, отразившиеся на лицах Вершининых, превзошли все ожидания. Сообщение дочери было подобно грому среди ясного дня.
Родители не знали, верить этому или не верить. Вире пришлось подробно рассказать про Йожефа, про его назначение в Хакасию, наконец, про их мечту о самодеятельном театре.
Наталья Степановна заплакала. Какова бы ни была дочь, но она была тут, под боком. Жизнь там, в Хакасии, совсем иная, трудная жизнь. И Вира так не подходит к этой жизни…
Ивана Сергеевича эта новость поразила. Хотя он принял ее с недоверием, в сердце его все же шевельнулась надежда, что дочь его не так уж плоха. Может быть, большая любовь выведет ее на верный путь?
Все эти дни Вира находилась в состоянии крайнего нервного напряжения. Она уложила свои бесчисленные наряды в четыре больших чемодана. Но мать уговорила ее оставить самые дорогие туалеты дома.
— Там все это не понадобится, — говорила она.
Оплакивая каждое платье, Вира наполовину уменьшила багаж. Она собиралась к отъезду, скрывая свои приготовления от Федора Павловича, рассчитывая через Вареньку передать ему письмо и ключи от квартиры.
Наступила последняя ночь перед отъездом. Вира не сомкнула глаз. Она металась по квартире: то и дело подходила к окну и глядела на безлюдную улицу. За домами она видела зубчатую стену и горящие рубиновые звезды Кремля.
«Смотри, смотри, больше ты этого не увидишь», — мысленно говорила она себе.
Вот на улице появились дворники в белых передниках. Вот пробежал первый автобус, за ним другой. Улица оживилась, зашумела. Вспомнилась тишина улиц Веселой Горки…
— Снова ссылка, и теперь уже добровольная! — вслух сказала Вира.
Она легла на диван. Глаза ее напряженно скользили по розовым обоям с широкими золотыми полосами, по пестрому ковру на стене, по нарядной хрустальной люстре.
Утром она села за письменный стол и, обливаясь слезами, стала писать письмо.
В столовой ее терпеливо ожидал шофер. Вира встала, перечитала письмо, потом, не садясь, склонилась над столом, добавила:
«Прости. Может быть, я испортила тебе жизнь. Но я не могу быть с тобой. У меня другая дорога».
Вира запечатала письмо, вышла в столовую и, подавая конверт шоферу, сказала:
— Срочно отвезешь в студенческое общежитие. Адрес надписан.
Дима посмотрел на конверт.
— Йожефу? Какое странное имя! — удивился он.
Глава четвертая НАДЯ МОЛЧАНОВА
1
Надя Молчанова одна из всего выпуска строительного техникума получила назначение в Москву, на завод железобетонных конструкций.
Вначале она испугалась. Уехать из Сибири казалось ей изменой родному краю. С каждым годом в Сибирь приезжало все больше новоселов, в их числе много строителей. Народ едет в Сибирь со всей страны, очень часто — из Москвы, а она, наоборот, — в Москву. Даже странно как-то!
Взволнованная и в то же время втайне обрадованная, Надя решила поговорить с директором техникума.
— Вероятно, произошла ошибка, — сказала она. — Кому я нужна в Москве? Как я там буду жить? Да и жалко мне уезжать из Сибири.
Выслушав ее сбивчивую речь, директор возразил.
— Ошибки никакой нет, Молчанова. Вполне возможно, что ты в Москве не очень нужна, но Москва тебе нужна. Ты едешь на завод железобетонных конструкций. Это современнейшее предприятие. Новинка строительной индустрии. Поработаешь года два-три и вернешься в Сибирь. К тому времени и у нас дело шагнет вперед. Вот ты со своим столичным опытом и пригодишься. Смотри только замуж за какого-нибудь бойкого москвича не выскочи. Понятно тебе?
Слова директора были убедительны, и Надя вышла из кабинета, как бы сбросив с себя груз сомнений. А через месяц у нее началась московская жизнь.
Она полюбила Москву быстро и страстно, полюбила за широту размаха, за стремительный ритм жизни. В свободные от работы дни она без устали бродила по Красной площади, спускалась на Москворецкий мост, часами любовалась величественным ансамблем Кремля. Иногда, гуляя по узкой извилистой улице Разина, она подходила к старинному дому боярина, с петухом над крышей, с круглыми колоннами на крыльце, с узенькими продолговатыми окошками светелок, и вспоминала исторические романы, прочитанные ею.
Но особенно поражала ее Москва своими великолепными образцами строительного искусства и техники. Новые улицы и кварталы на Ленинских горах, Лужники, станции метро, похожие на сказочные дворцы, павильоны на Выставке достижений народного хозяйства — все это удивляло ее, восторгало. Все это было сделано строителями, людьми ее профессии, такими же людьми, как и она. Как могуч человек-строитель, как много он может сделать для украшения жизни!
Завод железобетонных конструкций она считала чудом из чудес. Даже проработав на нем целый год, она не переставала удивляться машинам, которые заменили сотни человеческих рук и делали за них самую тяжелую, самую грязную и изнурительную работу.
Когда впервые на мощные грузовики, оборудованные широкими металлическими площадками, погрузили продукцию завода — готовые трехкомнатные квартиры, которые оставалось лишь смонтировать на фундаменте дома, — у Нади навернулись слезы на глаза от гордости за свой завод, за его людей, за их труд.
— Счастливо людям жить в этих квартирах! — крикнул кто-то вдогонку грузовикам, увозившим с завода этот удивительный, никогда ранее не существовавший груз.
Это был памятный день в истории молодого завода. У ворот собрались рабочие и инженеры из всех цехов и смен. Пришли представители райкома, приехал председатель Моссовета.
Было это вскоре же после того, как Надя появилась на заводе. Сколько бы лет ни прожила она на белом свете, никогда не забудутся впечатления этого дня.
Ее назначили мастером цеха полигон. Она знала, что это очень трудный цех. Работа в нем летом и зимой шла под открытым небом, и, в отличие от других цехов завода, здесь в большом ходу был ручной труд. На полигоне скопилось немало людей, не имеющих специальностей, из числа тех «летунов» и «гастролеров», которые кочуют с одной стройки на другую в поискал хорошего заработка и невесть еще каких благ для себя.
Перед выходом на работу Надю вызвал к себе директор завода, седоволосый, высокий, безупречно одетый человек. Вместе с ним в кабинете находился худощавый старик в спецовке, с маленькой лысой головой и плоским морщинистым лицом. Старик-то и был начальником цеха, в котором предстояло работать Наде.
— Ну вот, Савва Капитонович, даем тебе мастера цеха. Сибирячка. Учти — сибиряки народ крепкий, волевой, трудностей не боятся. Правильно я говорю, товарищ Молчанова? — взглянув на Надю, улыбнулся директор.
Надя промолчала. Савва Капитонович посмотрел на нее, как бы оценивая, на что она способна.
— Я, конечно, ничего против товарища не имею, не знаю ее, но народ-то у нас трудный. Молодой девушке с ним не совладать.
— Что же ты, Савва Капитонович, отказываешься от нее? — спросил директор.
— Не то что отказываюсь, — замялся начальник цеха, — а совет даю: направьте товарища на другой участок. Полигон — не женское дело.
— Ну, ты свои старые замашки брось! — резко бросил директор. — Полигон — не женское дело! А ты знаешь, что Молчанова училась отлично и характеристика от комсомола у нее прекрасная?
— Ну, коли так, пусть выходит сегодня же во вторую смену, — уступил старик, почувствовав, что директор в своем решении непоколебим.
— Не бойтесь, Молчанова, — обратился директор к Наде. — Вообразите, что вы учительница и вам надлежит сегодня принять трудновоспитуемый класс. С первых же шагов изучайте людей, будьте вдумчивой и твердой. И знайте: вы не одна. На заводе большой и умный коллектив рабочих и специалистов. В добрых начинаниях вас всегда поддержат.
…Надя шла по заводскому двору с чертежами под мышкой, с небольшим чемоданчиком, в котором лежали спецодежда и бутерброды. Она была очень взволнована и разговором с директором, и недоброжелательным отношением к себе начальника цеха, и, главное, предстоящей встречей с рабочими полигона. Щеки ее пылали, но, как обычно в минуты большого волнения, мысли оставались ясными и вся она была полна нетерпением поскорее взяться за работу. Впервые она осматривала завод не спеша, с обстоятельностью человека, которому предстоит провести здесь годы. Ей нравилось, что большие корпуса завода были окружены деревьями. Как хорошо тут летом! Завод-сад! Она плохо разбиралась в породах здешних деревьев, но ей помогали таблички, висевшие на деревцах. Тут были и яблони, и груши, и сирень, и липа, и дуб. «Как жаль, что нет здесь нашего сибирского багульника!» И она представила себе высокий кустарник, ранней весной покрытый сиреневыми цветами.
С одной стороны к заводу-саду примыкали кварталы новых улиц, а с другой — пустырь, по которому тянулись железнодорожные пути. По этим путям поезда привозили необходимое сырье: гравий, песок, щебень.
Надя обошла весь завод, заглянула в каждый цех. Ее поразили широкие конвейеры, формовочные машины и машины для сварки целых конструкций.
Она с удивлением разглядывала сложные транспортеры, бункеры, бетономешалки. О некоторых машинах она знала из учебников, но попадались и такие агрегаты, которых она не видела даже на картинках.
В каждом цехе рабочие смотрели на Надю с любопытством, некоторые приветливо здоровались, угадывая по каким-то признакам, что она «свой брат» — строитель.
Надя знала уже, что, кроме полигона, почти все рабочие остальных цехов имеют среднее образование и обучаются на заочных факультетах вузов. «Вот какой теперь рабочий класс!» — думала она. Ей и самой хотелось скорее оформить поступление в заочный институт.
А вот и полигон. Надя остановилась, не доходя шагов пятидесяти до места работы. По краям полигона стояли высокие четырехугольные опорные столбы из железобетона, по которым взад-вперед двигался кран. Он грузил на машины подстропильные фермы, ловко подхватывая увесистые бетонные плиты, в боковые петли которых был пропущен крепкий стальной трос.
На всей обширной площадке полигона она заметила только трех рабочих: крановщика и двух молодых пареньков — прицепщиков. «Почему в цехе так мало рабочих?» — подумала Надя и направилась знакомой дорогой в клуб. Здесь, в просторном вестибюле, она села в уголке и развернула чертеж балок. Вечерняя смена полигона будет работать над изготовлением балок, и ей хотелось подготовиться — безошибочно знать чертеж. Время приближалось к пяти. Надя свернула чертеж и с толпой девушек вошла в тесную и темную раздевалку. Вдоль стен здесь тянулись нумерованные кабины.
— Скажите, пожалуйста, какую кабину можно мне занять? — спросила Надя хорошенькую полную девушку, которая торопливо надевала на себя комбинезон.
— А вы новенькая? Где будете работать? — с любопытством спросила девушка.
— Я назначена мастером цеха полигон, — сказала Надя.
Другая девушка, высокая, мускулистая, с васильковыми глазами, посмотрела на нее с сожалением:
— Несчастная! Як же ты туда угодила? Там же тильки парубки, да и те хулиганы!
— Сегодня с получки все пьяные! — добавила стоявшая рядом худенькая девушка со шрамом во всю щеку. Указывая на крайнюю кабину, она сказала: — Вот эта свободная. Занимайте!
Девушки и расстроили и удивили Надю.
«Неужели на красавце заводе творится такое?» — подумала Надя, вспоминая, какую борьбу с этим злом вели на сибирской стройке, где она проходила практику.
— Так надо же, девчата, бороться с пьянством, по-военному брать в штыки, — сказала Надя.
— Брали уж! Да тильки штыкы пообламывались, дюже враг хитрющий, як змий подколодный, — сказала девушка-украинка, а остальные только улыбнулись. И взгляды их словно говорили: «А ты, милая, не храбрись. Не по силам тебе эта ноша!»
В неуютном деревянном домике, где размещалась конторка полигона, никого не было. На запыленном, полуразбитом столе Надя увидела записку:
«Тов. Молчанова! Я уехал по срочным делам. Приступайте к работе без меня. Савва Капитонович».
Надя осмотрела грязную, неуютную конторку, подумала про начальника цеха: «Жизнь доживает, а к чистоте себя не приучил. И как это терпят другие?»
Из соседней комнаты, где собирались рабочие, доносилось шарканье ног, громкий разговор, смех.
Надя развернула чертеж и еще раз принялась его разбирать. Ровно в пять она поднялась из-за стола, поправила платок на голове, одернула стеганку и вошла в соседнюю комнату. Из двадцати рабочих, которые значились по штатному расписанию вечерней смены, к началу работы собралось не более половины. И вели себя они странно — кто сидел на скамейке, кто на полу около полукруглой печки, и все с пьяным азартом о чем-то спорили.
— Здравствуйте, товарищи! Я новый мастер вашего цеха, — смущенно сказала Надя, присматриваясь к рабочим и про себя отмечая, что все они совсем еще молодые.
— Будто бы еще не доросла до мастера-то! — сказал кто-то из сидящих на полу и от удивления приподнялся, чтобы рассмотреть Надю поближе.
— Смотри-ка — девчонка, а туда же — командовать! — послышался пьяный голос.
Надя взглянула на говорившего и поняла, что он не старше ее.
— Меня зовут Надежда Васильевна, — с отчаянной решимостью сказала Надя и, помолчав, добавила: — Это на работе, а после работы — как хотите.
— Ишь ты! — загоготал все тот же молодой парень.
Но его никто не поддержал, и он умолк.
— Пять часов, прошу приступать к работе, — сказала Надя.
Она круто повернулась и пошла на полигон.
За ней, бросая непогашенные папиросы на пол, неохотно двинулись двое парней, потом поднялись и остальные.
Надя остановилась, дождалась смуглого черноволосого парня, шедшего впереди других, и доверчиво, будто знала его много лет, сказала:
— И надо же было так случиться: первый день моей работы — и эта пьянка. Я же многого тут не знаю.
Откровенные слова Нади, видимо, тронули парня.
— Не горюй, мастер! Будет порядок! — воскликнул он и, повернувшись к отставшим, добавил: — Эй вы, работнички! Нельзя ли повеселее!
Когда все подошли к стенду, Надя протянула руку и преградила дорогу пьяному парню.
— Вы пойдете домой. Пьяного допустить на работу не могу. — Она сказала это громко и твердо.
— А ты что же, прогул мне запишешь? Ишь какая начальница!.. — Парень покачнулся и хотел силой убрать Надину руку.
— Работать будут только трезвые! И разговаривать буду только с трезвыми! — Надя так посмотрела на парня, что тот попятился.
Все притихли.
Черноволосый ткнул пьяного в бок и сказал:
— Вертай назад. Все равно не уступит.
Пошатываясь, пьяный поплелся к конторке.
— Я Савве Капитонычу пожалуюсь. Я найду на тебя управу…
— А характер у тебя, девушка, железный, — улыбнулся черноволосый парень.
…Ночью в общежитии, где она тоже была новенькой и никого еще не знала, Надя тихонько поплакала в подушку. Но спала она крепко и проснулась бодрая, энергичная, готовая снова идти на полигон.
Савва Капитонович встретил ее сердито:
— Ты вот что, Милая, рабочей силой не разбрасывайся, иначе мы с тобой не то что план, а половины не выполним. Нечего с рабочим человеком так поступать. Они ведь вчера почти все были выпивши.
— Я не допустила к работе самого пьяного. Пусть знает, что в таком виде в цех являться нельзя.
— Знаешь что, милая, ты в чужой монастырь со своими уставами не суйся! — Савва Капитонович рассердился уже всерьез. — Ты строитель без году неделя, а я еще при царе купцу Второву особняки строил. Строители, они всегда такие!
— Раз так — пойдемте к директору, пусть рассудит.
Директор выслушал их стоя и поддержал Надю.
— Новый мастер верно рассудила: пьяным доверять работу нельзя. Воспитывать рабочих надо, а не заигрывать с ними.
Савва Капитонович пробурчал что-то насчет того, что «вам виднее», но директор его остановил:
— Ты на других, Капитоныч, не кивай. Ты за полигон в ответе. И молодому мастеру помогай — это наша смена. А тебе, Молчанова, такой совет: помогай начальнику цеха. Он человек опытный. Если все дома, которые он построил, собрать в одно место, город будет.
…В этот день Надя вошла в деревянный дом на полигоне увереннее. Дул холодный ветер. Колючий дождь перемежался со снегом.
Все рабочие были уже в сборе. В комнате стоял шум. Табачный дым серой пеленой висел в воздухе. Рабочие с любопытством поглядывали на нового мастера. Некоторые переглядывались и усмехались. Надя поняла, что они припомнили ее вчерашнюю схватку с пьяным парнем. Тот тоже был здесь, но держался скромно и на нее не смотрел.
Надя разделила рабочих на две бригады: одну отправила на балки, другую — на столбы, слесарей послала на краны.
Она подошла к стендам и стала вместе с другими собирать арматуру. Металлическая сетка вначале слушалась плохо, и сосед, широколицый парень с пушистой бородкой и баками, поглядывал на нее с усмешкой.
Вдруг она заметила, что на втором стенде рабочие неправильно положили каркас.
— Подождите, товарищи, нужно переделать! — крикнула она и стала рукавом стеганки вытирать вспотевший лоб.
— Не мудри, мастер! — С угрозой в голосе ответил ей молодой черноглазый рабочий с чубом, нависающим на глаза. — Не знаешь, а туда же… — И он грязно выругался.
Надя подошла к стенду и потребовала от черноволосого немедленно исправить каркас. Частая сетка должна быть на середине, а не по краям. Он ведь знает это не хуже ее. Она не отошла от этого стенда, пока парни не сделали сетку как следует.
— А за ругань на полигоне, Тимофей, буду взыскивать, как за хулиганство, — сказала она.
Чубастый свистнул с наглым озорством:
— Вишь какая царевна нашлась: пить нельзя, ругаться не положено… Может быть, и курить запретишь? — И, пошарив в кармане, он вытащил коробку папирос и спички. — Эй, ребята, перекур!
Надя посмотрела на него с укоризной:
— Я не царевна, а мастер. У меня здесь не только обязанности, но и права. Это во-первых. А во-вторых, я девушка. Неужели тебе не стыдно разговаривать со мной так?
Вскоре слухи о Надиной настойчивости разнеслись по всему заводу. Приходили любопытные из других цехов, спрашивали: «Где у вас тут Надя Молчанова?»
А как-то раз сюда, на полигон, с разгрузочных бункеров явился паренек в черном комбинезоне и танкистском кожаном шлеме. На его загорелом лице с обветренными и по-детски пухлыми губами светились какие-то особенно пристальные голубые глаза. Улыбаясь Наде, он дружелюбно сказал:
— Пришел приветствовать укротительницу тигров от лица молодежи других цехов.
И протянул Наде розовый цветок бессмертника.
Надя рассмеялась, поблагодарила за цветок, заткнула его в петличку стеганки.
— Кроме шуток, Надя Молчанова, ты молодец, — серьезно сказал голубоглазый, — наставляй на ум-разум молодежь. Мы тебя поддержим!
И он ушел. Надо бы спросить, кто он, из какого цеха, как зовут, но девушка постеснялась расспрашивать, а сам он ничего о себе не сообщил.
В тот день произошел один неприятный случай.
В конце работы парни уселись на сложенных в стороне плитах, а Надя в это время обрезала электросваркой стержни. Прикрывая лицо щитком от нестерпимого, искрящегося света, она переносила держатель от одного стержня к другому и струей огня отрезала их. На мгновение она оторвалась от своего дела, крикнула ребятам:
— Надо бы площадку прибрать, товарищи, а потом уже курить!
И вдруг в ответ на ее слова чубатый Тимофей разразился бранью, да такой отборной, что стало страшно. Каждое бранное слово он произносил смачно и увесисто, словно подносил оплеухи.
Надя отключила электросварочный аппарат и торопливо ушла с полигона. Тимофей бросил ей вдогонку еще одно крепкое слово.
— А ну-ка, замолкни, Тимофей. Беру мастера под свою защиту, — раздался неожиданно голос Ивана Синицына, здоровенного парня, прозванного за свою недюжинную силу и большой рост Ильей Муромцем.
Иван погрозил Тимофею крупным, как кувалда, кулаком.
— Она и без тебя защиту найдет! — засмеялся Тимофей. — Вот подожди, сейчас с директором явится.
Надя действительно вскоре появилась на полигоне, но рядом с ней шел не директор, а милиционер. И на другой же день всему заводу стало известно, что бузотер и хулиган Тимофей Жезлов за грубое оскорбление мастера осужден на несколько суток. А Иван Синицын с тех пор стал всюду ходить за Надей. Вскоре все привыкли видеть их вместе — высоченного, широкоплечего парня и русоволосую девушку, которая была ему ниже плеча.
Как-то раз Надя села в заводской столовой за свободный столик. Иван принес поднос с двумя тарелками супа, хлебом и ложками. Надя придвинула к себе суп и принялась было за еду, как вдруг на край тарелки упал цветок бессмертника. Она вспыхнула, быстро оглянулась, и глаза ее встретились с приветливым взглядом паренька в черном комбинезоне.
— Кто это балуется? — недовольно проворчал Иван и хотел было бросить цветок на пол, но Надя взяла его и бережно приколола к пушистым волосам.
2
Директор завода стоял в неудобной позе. Приподняв плечо, он держал около уха телефонную трубку и одновременно набирал номер на другом телефоне. Он кивнул Наде, разрешая войти, и глазами показал на стул.
— Заходите, Виктор Федорович. Кстати, у меня Надя Молчанова, — сказал он в трубку.
Виктор Федорович был секретарем парткома, и Надя почему-то забеспокоилась: «Зачем я понадобилась ему?»
Потом директор поговорил по другому телефону, сказал что-то насчет сдачи готовой продукции, приветливо попрощался и вышел из-за письменного стола. Он остановился напротив Нади, деловитый и жизнерадостный, как всегда нарядно одетый, в светло-сером костюме, в белой рубашке, с белым галстуком.
— Ну как, Надежда Васильевна, идут дела? — с улыбкой спросил он.
С тех пор как он узнал, что Надя потребовала от полигонщиков называть ее в рабочие часы по имени и отчеству он иначе к ней не обращался.
— Да вы-то, Николай Павлович, зачем так? Я ведь это ребятам велела для дисциплины…
— Вот и я для дисциплины, — весело отозвался Николай Павлович, усаживаясь на стул рядом с девушкой. — На полигоне тишина и спокойствие?
— Пока тишина. Боюсь вот двадцатого числа… Получка.
Вошел секретарь парткома Виктор Федорович, пятидесятилетний невысокий, худощавый мужчина. Он был без пиджака, в мохнатом коричневом свитере, с закатанными по локоть рукавами. Вокруг ног полоскались широкие брюки. Он с удовольствием опустился в кресло и, попросив у Нади разрешения, закурил.
— А мы тут, Виктор Федорович, беседуем с Надей о воспитании полигонщиков, — сказал директор.
— Я об этом тоже много думаю, — сказал секретарь парткома и, помолчав, продолжал: — Для того чтобы воспитывать молодежь, нам нужна боевая комсомольская организация и в первую очередь хороший руководитель. Сегодня мы обсуждали этот вопрос на заседании и вот решили порекомендовать комсомольцам выбрать секретарем комитета товарища Молчанову.
Это было так неожиданно для Нади! Ей казалось, что нет на свете более нужного и благородного дела, чем воспитание молодежи. Она мечтала о комсомольской работе. Но справится ли?!
— Я постараюсь, конечно, — поспешно и чистосердечно сказала она.
— Вот и хорошо! — обрадованно откликнулся Виктор Федорович. — Когда человек старается, дело спорится.
— Совершенно верно! — подтвердил директор.
Через два дня на заводе состоялось комсомольское собрание. Надя Молчанова была избрана в комитет единогласно.
3
Знакомясь с комсомольцами, Надя наконец узнала, что голубоглазый парень, даривший ей бессмертники, механик транспортного цеха и зовут его Слава Алексеев.
Ему было двадцать три года. Он окончил семь классов школы и техникум и сейчас учился на втором курсе заочного отделения строительного института. На заводе Слава был инициатором создания бригады коммунистического труда.
Надя пригласила его в комитет комсомола, и он пришел сразу же после работы. В первый момент Надя его не узнала. Он был не в спецовке и не в танкистской шапке. Теперь на нем было светлое пальто, голубой шарф под цвет глаз, в руках он держал кепку и кожаные перчатки. Очень светлые золотистые волосы, тщательно зачесанные наверх, еще не высохли после душа.
Надя видела, что она очень нравится Славе. «Вот бы и влюбиться, парень что надо, — подумала она, но сердце не затрепетало, не замерло. — Может быть, и любви-то на свете нет, так, выдумывают только», — промелькнуло у нее в голове. И от этой мысли мир показался скучнее.
И вдруг неожиданно в памяти ожил образ Кости: волосы ежиком, внимательные коричневые глаза, милое, располагающее и всегда такое серьезное лицо. Вспомнилось, как сидели они за одной партой у окна и дружили сдержанной ребячьей дружбой… Потом они писали друг другу длинные письма, в которых спорили и философствовали. В Косте Наде нравилось все. Но она относилась к нему просто, по-товарищески, и даже не понимала того, что дружбу ее от первой любви отделяет только один шаг.
Слава снял пальто, пригладил волосы.
— Звала меня, укротительница тигров? Зачем? — весело спросил он.
Надя рассказала о намерениях нового комитета комсомола.
— Ого! — засмеялся Слава. — Значит, я на хорошем счету у комсомольского секретаря? Горжусь! — И видно было, что шутливым тоном он прикрывает искреннюю радость.
— Я вот присматриваюсь, Слава, к нашей молодежи. Хорошие ребята. Я даже не ожидала, что такие хорошие, почти все со средним образованием, вежливые, приветливые. А на полигоне парни точно из другого мира: ничто их не интересует, кроме выпивки и денег.
— Но говорят, твое слово для них теперь закон! Исправятся!
— Нет, Слава, не так это просто. — Надя покачала головой. Она откинулась на спинку стула, помолчала, как бы припоминая что-то, и снова заговорила, с еще большей горячностью: — Приглядись, Слава, к жизни… Кто портит ее? Стиляги, пьяницы, развратники, иждивенцы… Их не так мало, как кажется. И с ними нужно бороться каждую минуту. Это самые трудные враги. Ведь этих не уничтожишь, их нужно образумить, перевоспитать. А комсомол часто не обращает на это внимания, мирится и с хулиганами и с пьяницами. Разве не так?
— Не знаю, как на других заводах, а у нас комсомол смирненький. Членские взносы платим, а чтоб заявить о себе добрым делом — так этого еще надо подождать.
— Вот в том-то и беда! А мне бы так хотелось, чтобы наша комсомольская организация была настоящей, чтобы все парни с полигона поняли, в чем красота жизни…
— Один, по-моему, уже понял… — с усмешкой сказал Слава.
— Кто?
— Недогадливая! А тот, который все время возле тебя…
— А! Иван Синицын! Он действительно неплохой парень. Руки золотые!
— Значит, нравится? — с ударением на последнем слове спросил Слава.
Надя пожала плечами:
— Как товарищ — нравится. А что?
Слава внимательно посмотрел ей в глаза и точно так же, как она, пожал плечами.
— Послушай, Слава, что я придумала. Хорошо бы несколько дней, не разлучаясь, побыть полигонцам с рабочими других цехов, чтобы они почувствовали интересы других, поняли, как нужно проводить свободное время. Что, если провести экскурсию в Ленинград? Бесплатную. И чтобы обязательно поехало побольше рабочих с полигона.
— А деньги?
— Деньги на металлоломе заработаем. Устроим воскресник, очистим от лома заводскую территорию. Его у нас очень много. Как ты думаешь, а?
— В теории здорово, а как на практике?
Он все время внимательно разглядывал Надю. Внешность ее на первый взгляд казалась самой заурядной: невысокая, тоненькая, с немного удлиненной талией, узкими плечами и высокой шеей, со светлыми пышными волосами, просто заплетенными в косу и уложенными на затылке. «Но почему же хочется на нее все время смотреть? В ее лице есть что-то особенное». И он понял: лицо ее все время как бы загорается изнутри, яркий, изменчивый румянец на щеках, горячие огоньки в глазах, то меркнущие, то снова загорающиеся.
— А ты, Слава, поможешь мне? — спросила Надя.
В этот момент дверь приоткрылась и показалась крупная голова Ильи Муромца.
— Надежда Васильевна, зайти или подождать в коридоре?
— Ну, заходи, заходи, Иван!
Слава засмеялся, встал и начал торопливо одеваться.
— Я помогу тебе. Можешь на меня рассчитывать, — сказал он и захлопнул за собой дверь.
4
В воскресенье утром комсомольцы собирались во дворе завода. Стоял легкий морозец, хрустел под ногами выпавший ночью снежок. За кранами и колоннами полигона на бледно-голубом небе всходило неяркое зимнее солнце. Как сказочные гномы, стояли под шапками снега маленькие елочки, поблескивая зеркальными снежинками.
Через проходную будку Надя вбежала в заводской двор и увидела Славу. Он шел по двору и приветствовал ее, размахивая рукой в большой кожаной рукавице.
— Здравствуй, Слава! Смотри-ка, небо сегодня под цвет твоих глаз! — озорно крикнула Надя и, заметив около клуба собравшихся комсомольцев, побежала туда.
Слава пошел вслед за нею.
Не доходя до клуба, она встретила Илью Муромца. Он давно уже видел девушку и поджидал ее.
— Я хоть и не комсомол, а хочу поработать. Не прогонишь, Надежда Васильевна? — спросил он, заглядывая в лицо Наде сверху вниз.
— Очень хорошо, Иван, что пришел! Кстати, тебе бы и в комсомол пора. — И она одарила парня улыбкой.
Возле клуба их догнал Слава. Надя заметила, что Иван покосился на Славу, и в его спокойном взгляде было что-то тяжелое и нелюдимое.
Около клуба уже шумела молодежь. Три девушки в обнимку пели частушки и лихо отплясывали, выбивая каблуками дробь на расчищенной от снега асфальтовой дорожке. Молодой паренек, отделившись от толпы, метко запускал снежками в девушек. Они взвизгивали, смеялись, но со своих мест не уходили. Над заводским двором то и дело разносился смех. Всем было весело и от хорошей компании, и оттого, что на улице ясно и солнечно, а главное — от избытка молодых, нерастраченных сил.
Для работы разделились на четыре бригады. Каждая получила свое место на территории двора.
Надя, Слава, Иван, работница дозировочного управления Воробьева и еще несколько ребят пошли к разгрузочным бункерам.
Слава шел впереди, двигая верткую одноколесную тачку. Еще вчера за линией заводской железной дороги он присмотрел груду лома.
— Скажи-ка, Надя, а когда мы поедем на экскурсию в Ленинград, завод остановится? Да? Ведь у нас почти все комсомольцы, — без умолку острила белозубая хорошенькая Воробьева.
— Глупые вопросы задаешь, Воробьева, — вдруг напустился на нее Илья Муромец. — И чего ты так вырядилась? — Иван покосился на цигейковую шубку Воробьевой и пожал плечами. — На полигон бы тебя. А то сидишь у своих пультов да кнопки нажимаешь. Тоже мне работа!
— А чем не работа? Не всем тяжести ворочать! — возмутилась Воробьева.
— А как тебя зовут-то? — не обижаясь на Воробьеву, спросил Иван.
— Клеопатра.
Иван фыркнул, сказал как отрезал:
— Ну вот и имя-то несуразное. Будем Клёпкой звать.
— Что?! — взвизгнула Воробьева, презрительно на него взглянув. — Нахальная ваша внешность, молодой человек!
— Но-но, не выражайся, — добродушно ответил Иван. — А то Надежда Васильевна меры примет, да такие, что не поздоровится.
Все рассмеялись.
— А что, разве неправду говорю? — не унимался Иван. — Кнопки нажимает и думает, что работу делает. А тут под открытым небом, вручную, за ту же зарплату…
— Ну чего ты, Иван, на нее ополчился? Она автоматикой овладела, — засмеялась Надя и шутливо пригрозила: — Смотри, будешь нападать на девушку — не полюбит.
— Уж как-нибудь без нее проживу.
Подошли к захламленной невысокой горке. Из-под снега и мусора торчали ржавые рельсы, трубы, болты, старые, исковерканные газовые плиты и даже облупившаяся ванна.
— Ого, да тут целое сокровище! Молодец, Слава, что разыскал! — воскликнула Надя.
Воробьева, Слава и двое ребят кинулись сразу к горке, но взять металлический лом оказалось совсем не просто — он спрессовался намертво.
— Подождите-ка, младенцы, я ломом разок-другой, — сказал Иван и начал с такой яростью расковыривать кучу, что тяжелые металлические куски полетели во все стороны.
— Ну силен! — восторженно сказала Клеопатра.
— А вот Надежде Васильевне все равно не по нраву, — грустно усмехнулся Иван.
— А по-твоему, Ваня, что самое главное в человеке? — спросила Надя.
— У мужчин — сила, — не задумываясь, ответил Иван и, как бы в подтверждение своих слов, стал один поднимать чугунную ванну.
— А по-твоему, Слава?
— По-моему, Надя, разум. Разум способен заменить силу, а вот сила никогда не заменит разума.
— Девушки больше ценят хорошие мускулы, чем умную голову, — сказал Иван.
— Ну, не все, Ваня. Я, например, согласна со Славой.
— Ты, Надежда Васильевна, особенная. Ты себя не равняй с другими.
Слава наклонил голову, сделал вид, что занят делом.
Когда «сокровище» все, до последнего болта, было перевезено к сараю, бригада направилась в район ремонтно-механического цеха, там тоже находились изрядные залежи металлолома. Дорогой Клеопатра заигрывала со Славой, стараясь то взять его под руку, то заглянуть ему в глаза. Славе это надоело, и он сказал:
— Ты, Клеопатра, глазами в меня не стреляй. Я ведь железобетонный, не прошибешь.
Надя весело засмеялась, испытывая почему-то удовлетворение.
— Ура! Целый склад металлолома! — закричала Клеопатра, скрывая свой конфуз.
В самом деле, в тупичке между корпусами цехов был свален самый разнообразный лом.
Слава, Иван, Клеопатра и остальные ребята остались в тупичке, а Надя пошла посмотреть, как работают другие бригады.
На месте общего сбора, у сарая, уже лежали большие кучи металла, но работа была еще в полном разгаре. В разных углах заводского двора звучал смех, слышались песни, звонкоголосый говор.
В первой же бригаде Надю встретили шутками и возгласами, даже спели какой-то веселый экспромт.
Вторая бригада хозяйничала сейчас в полуразвалившемся корпусе старого цеха. В цехе, вероятно, уже давно не работали, но он все еще охранялся. Статная, высокая девушка с длинной русой косой уговаривала молодого вахтера пропустить комсомольцев в цех. Она лукаво поглядывала на него васильковыми глазами и, путая русскую речь с украинской, напевно говорила:
— Мы тильки побачим да сор соберем.
У вахтера сердце было не каменное, он поломался больше для виду и открыл закопченную, осевшую дверь цеха.
Надя направилась в третью бригаду, в самый дальний угол заводской территории.
Вдруг она услышала истошный крик в той стороне, где остались Слава с Иваном. Обернулась и увидела Клеопатру. Та бежала, что-то крича и размахивая руками. Надя бросилась ей навстречу.
— Подрались! Ой, как подрались! — хватаясь за голову, выкрикивала Клеопатра. — Славка первый полез. Да где ему против Ивана. Тот его схватил да как грохнет о землю. Он и в себя-то не сразу пришел. Ой, Надечка, как страшно!
Обгоняя запыхавшуюся Клеопатру, Надя первой прибежала в тупик. На снегу, раскинув руки, лежал Слава. Прислонившись к забору, стоял мрачный, неестественно сжавшийся Иван.
Надя опустилась на колени, осторожно взяла Славу за руку.
— Уйди! — сказал он, отнимая руку.
— Поднимись! Сейчас же поднимись! — негромко, но настойчиво сказала она.
Слава послушался. Он встал, покачнулся. Клеопатра подбежала к нему и поддержала. Они с Надей взяли Славу под руки и повели в клуб. Там его положили на диван, и Надя стала звонить в «скорую помощь».
В клуб заглянули девушки.
— Ой, что с ним? — испуганно спросила одна, увидев растянувшегося на диване Славу.
— Упал, — соврала Надя.
Клеопатра взглянула на Славу, потом на Надю и серьезно сказала:
— Поскользнулся, девочки.
Надя отправила Клеопатру на улицу ждать «скорую помощь», а сама подошла к Славе.
— Ну вот, а ты говорил, что главное в человеке разум…
Он закрыл глаза, помолчал и вдруг сказал то, чего боялась услышать Надя:
— Ты же знаешь, что драка произошла из-за тебя.
Приехала «скорая помощь». Врач осмотрел Славу, ощупал руки, ноги, грудь. Ничего страшного не обнаружил. Велел полежать несколько дней в постели, пока не заживут ушибы.
Но, как ни скрывали Надя и Клеопатра случившееся на воскреснике, слух об этом происшествии дошел до директора завода. Он попросил Надю зайти к нему в кабинет и тотчас начал:
— Ну, как воскресник? Закончился дракой и вызовом «скорой помощи»?
Она не ожидала, что директор заговорит об этом, но ответила спокойно:
— Был такой неприятный случай, Николай Павлович, но… все кончилось благополучно…
— Благополучно?! Без смертельного исхода? Все же прошу учесть, товарищ секретарь, на будущее: директор — не последнее лицо на заводе. Я должен знать решительно все, что здесь происходит. Вы узнавали, в каком состоянии Алексеев?
— Он чувствовал себя хорошо…
— Сейчас же пошлите кого-нибудь к нему и узнайте, не требуется ли какая-нибудь помощь. А из-за чего произошла драка, вы интересовались?
— Не знаю. Драчуны молчат, — сказала Надя и сильно покраснела.
— Трезвые были?
— Конечно! Разве Алексеев был когда-нибудь пьяным? Синицын тоже пришел трезвый и работал за пятерых.
— По-видимому, из-за девушки схлестнулись ребята, — сказал директор, не заметив, как Надя снова мучительно покраснела. — Итак, узнайте, как чувствует себя Алексеев, и позвоните мне. — Директор хлопнул по столу своей широкой ладонью.
Надя с трудом разыскала Савву Капитоновича в арматурном цехе. Все его дела почему-то всегда сосредоточивались не на полигоне, а в других цехах. Он стоял в замысловатой аллее сеток и каркасов, около сварочной машины, на которой сварка шла одновременно в двадцати четырех точках. Вспыхивали ослепительные голубоватые огни, с шипением разлетались золотистые искры.
Савва Капитонович сделал гримасу, точно у него заболел зуб.
— Опять уходишь? Ох, уж этот комсомол! — ворчливо сказал он. — Ну иди, иди, коли директор велел, ищи посыльного!
На снегу, раскинув руки, лежал Слава.
5
Надя так увлечена была заводом, что все остальное словно мало ее касалось. Она редко писала домой матери, отцу, младшей сестре, которые по-прежнему жили в Веселой Горке. Когда приходили от них письма, Надя упрекала себя в эгоизме и бессердечии, сразу же писала ответ, но потом опять забывала обо всем на свете.
Она получала письма и от Кости Лазовникова. Целый год они писали друг другу о смысле жизни, о месте человека на земле. Оба считали, что не место красит человека, а человек украшает землю. Писали они друг другу о книгах, о кинокартинах, о людях, которые окружали их. И часто спорили. Костины письма Надя перечитывала по нескольку раз и только его письма почему-то хранила…
Надя поступила во Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. Науки давались ей легко, но она относилась к учению без горячности. Душой ее владел завод, только он ее увлекал, заставлял радоваться или огорчаться. Радовало, что к зиме был отремонтирован дом на полигоне. В нем стало тепло, чисто, уютно. Радовало то, что бригада Ивана Синицына, работающая на балках, стала бригадой коммунистического труда и держала высокие показатели. Еще радовало Надю то, что на заводе работал механиком голубоглазый Слава. Он чем-то напоминал ей Костю, — может быть, своей собранностью и добротой в отношениях с людьми.
Были у нее и огорчения. В дни получки рабочие полигона по-прежнему напивались, и она приходила домой расстроенная, ночью плакала в подушку, чтобы подруги по общежитию не слышали. Большие надежды возлагала она на экскурсию в Ленинград и в списки экскурсантов постаралась внести большое число самых недисциплинированных рабочих полигона.
Однажды в комитет комсомола, когда она просматривала списки экскурсантов, пришел Иван Синицын.
— Можно приземлиться? — спросил он, направляясь к стулу и снимая с головы большую, как сито, круглую каракулевую кубанку.
— Садись, Ваня. Заявление принес?
— Принес заявленьице, Надежда Васильевна. — Он положил на стол мятую бумажку, разгладил ее большой рукой и беспокойно взглянул на Надю своими серыми глазами в густых черных ресницах.
«Не зря его прозвали Ильей Муромцем», — подумала Надя, приглядываясь к большим рукам Ивана, к его широким плечам.
Был он одет в широкие шаровары грузчика, в короткую на меху куртку, перетянутую ремнем. Ворот куртки, так же как и ворот рубашки, был расстегнут.
— А биографию написал? — спросила Надя.
— Биографию? Не написал. А надо?
— Конечно, надо, — ответила Надя и взяла заявление.
На бумаге было написано:
«Прошу принять меня в комсомол. Иван Синицын».
— А биография у меня короткая, Надежда Васильевна. Родился в Крыму, в Бахчисарае. Ты бывала там?
— Нет, не приходилось.
— Ну и жаль. Мне двадцать четыре года. Холост. Имею на примете невесту, да боюсь объясниться с ней. Вдруг не пойдет?
— Кто твои родители?
— Родители колхозники. На виноградниках всю жизнь. И сейчас там. Я четыре класса окончил. Не хотел учиться. А теперь жалею…
— Учись заочно. У нас почти все учатся, — сказала Надя.
— Отвык от умственного труда, Надежда Васильевна. Так вот, продолжаю. Работал в разных городах на стройках: сегодня в Омске, завтра в Кисловодске, через месяц в Москве. Все города повидал. Это и нравилось. А на железобетонном застопорило… Мастер такой попался… — Иван выразительно поглядел на Надю. — Вот и вся биография. Не шибко интересно было слушать, Надежда Васильевна?
— Почему же не интересно? Биография трудовая. Жаль, что по разным местам летал много. И еще жаль, что не учился…
— Послушай меня, Надежда Васильевна, — сказал Иван и поднялся. Он покраснел, и на лбу его выступили капельки пота. — Вот стану комсомольцем, работать буду еще лучше. Получу в общежитии комнату. Выходи за меня замуж. Буду тебя на руках носить, как королевну.
— Что ты, что ты, Иван! — испуганно вскочила Надя. — Я замуж не собираюсь…
— А ты соберись. Мне приданого не надо. Наживем.
Надя протянула вперед руки, как бы защищаясь от него, воскликнула:
— Уйди сейчас же, здесь не место говорить об этом…
Иван надел на затылок кубанку.
— Ухожу, не сердись, Надежда Васильевна.
Он шагнул к дверям и казался в этот момент таким беспомощным и растерянным, что Наде стало жалко его.
— Постой, Иван… — сказала она. — Слушай, ты и думать забудь о том, что говорил мне. Я могу быть тебе только хорошим товарищем… Пойми это. И зря не надейся… Найди себе другую девушку. Их так много, очень хороших…
— Ты меня не уговаривай, Надежда Васильевна. Раз так — значит, судьба бобылем оставаться. А в дружбу с девушкой я не верю. Запью! — вдруг горячо и громко воскликнул он. — Вот посмотришь — запью!
И, не глядя на нее, быстро вышел из комнаты.
Она была ошеломлена, в раздумье опустилась на стул, потом вскочила, побежала догонять Ивана. Надо было что-то сказать ему, объяснить, но его нигде не было. Навстречу попался только мальчишка в плохоньком пальто и старой шапке. Надя по глазам узнала его. «Да это же брат Славы!» Она обернулась и крикнула:
— Алексеев!
Мальчик остановился, сказал:
— А вы меня знаете?
— Ты к Славе пришел? — спросила Надя.
— К Славику.
— А как тебя зовут?
— Сережей.
— Ты первый раз на заводе?
— Нет. Я бывал. Славик не велит зря на завод таскаться. А я теперь не зря. Я ключ от комнаты потерял. Без Славика в дом не попаду.
— А мама? Разве она тоже во вторую смену работает?
— Мама? — Сережа удивленно взглянул на Надю. — А вы разве не знаете, что у нас мамы нет? Мы со Славиком кругом одни.
Надя со страхом и жалостью взглянула на Сережу.
— Мама у нас умерла четыре года назад. Я ее только чуть-чуть помню… А Славик хорошо помнит.
— А родные у вас есть? — спросила Надя.
— Какие родные?
— Ну, бабушка, тетка, дядя.
— Нет. Родных у нас нет, — вздохнул Сережа и повторил: — Мы со Славиком кругом одни.
— А как же ты останешься один, когда Слава уедет на экскурсию в Ленинград? — спросила Надя.
— Славик не поедет на экскурсию, — покачал головой Сережа.
— Но он у нас в списках.
— Не может быть, — уверенно сказал Сережа и вдруг побежал, оглядываясь и показывая пальцем на разгрузочные бункера, где он заметил брата.
6
Стремительно пролетели дни Октябрьского праздника. Молодежь возвратилась из Ленинграда. Казалось, на заводе все шло так же, как и прежде, и экскурсия в Ленинград не оправдала надежд.
Но на самом деле было иначе.
Как-то в перерыв Надя сидела в своей конторке. В соседней комнате за длинным столом расположились рабочие полигона.
Самсонов, самый старший по возрасту, небольшого роста, с живым, энергичным лицом и глазами, напоминающими ягоды крыжовника, читал вслух свежую газету:
— «В выходные дни молодежь устраивает походы по изучению родного края», — читал он.
— Очень глупо! — хихикнул какой-то толстяк с короткими руками. — Какой это отдых! Ноги до мозолей оттопают, а назавтра опять работать. Нет уж, меня в выходной день из дома не выманишь. До обеда посплю, потом к столу: поллитровочка, соленые огурчики, грибочки… — И он с удовольствием причмокнул губами.
— Ну и дурак! — сказал Самсонов. — Так всю жизнь, кроме завода да огурчиков с поллитровкой, ничего и не увидишь.
— Вот мы в Ленинград съездили, — заметил курносый, светлоглазый молоденький паренек. — Сколько посмотрели! Мне больше всего понравился дом Пушкина. Диван стоит, на котором он умер, и на камине часы. Их остановили в час смерти. А Петропавловская крепость! Помнишь, Самсонов, Алексеевский равелин? Страшно…
— Как не помнить! А Смольный?! А крейсер «Аврора»? Стоит себе около Петропавловской крепости.
— Теперь каждый выходной по музеям ходить буду. Интересно! — продолжал курносый паренек. — Поедемте в воскресенье в Ясную Поляну. Говорят, интересно!
— Лучше на Выставку достижений народного хозяйства. А в Ясную Поляну потом…
Надя давно уже прислушивалась к этому разговору, и лицо ее горело от радостного возбуждения.
Не осталось бесследным и участие в экскурсии маленького Сережи — ради Славы и его брали с собой. Многие поняли, как трудно Славе воспитывать брата, и решили ему помочь. Теперь для Сережи двери проходной будки всегда были открыты. Уроки он учил в заводском клубе, обедал в рабочей столовой.
А как-то к Наде прибежала возбужденная Клеопатра и затараторила еще в дверях:
— Надечка! Устроим Сереженьке именины? Пусть позовет товарищей, повеселится.
Предложение понравилось.
Именины прошли на славу. Стол накрыли в одной из гостиных клуба. Званых гостей — одноклассников Сережи — было восемь, а незваных — больше двадцати. Были здесь и инженеры, и рабочие из разных цехов, и служащие бухгалтерии, и рабочие полигона, и директор завода.
— Заводская молодежь желает имениннику хорошо учиться и дарит ему школьную форму, — торжественно сказала Клеопатра и подала счастливому, разрумянившемуся Сереже бумажный пакет, в котором лежали аккуратно сложенный серый костюм, широкий кожаный пояс и фуражка.
После чая курносый паренек с полигона заиграл на баяне. На середину комнаты, шурша накрахмаленной юбкой, выскочила Клеопатра и, помахивая кружевным платочком, пошла отплясывать русскую. Потом начались танцы. Слава пригласил Надю, но когда она занесла руку, чтобы положить на его плечо, к ней подошла уборщица клуба и сказала, что в проходной будке ее спрашивает какой-то гражданин.
— Я сейчас вернусь, Слава, — сказала Надя и, несколько озабоченная, не одеваясь, выбежала на улицу.
7
Еще издали у проходной Надя увидела человека в военной форме. Невозможно было различить его лицо, но она почувствовала, что это Костя. Сердце забилось, и Надя с удивлением подумала: «Что это со мной?»
Костя, улыбаясь, шагнул ей навстречу и протянул обе руки. И она, задыхаясь от волнения, от быстрого бега, тоже протянула ему обе руки.
— Спорщица! — сказал Костя, смотря на нее ласковым, бесконечно ласковым взглядом.
Надя с удивлением рассматривала его. Это был стройный, подтянутый молодой человек. Неужели он так похорошел? А может быть, она не замечала прежде его ясных коричневых глаз, умных и проницательных, его нежного и в то же время энергичного рта, его решительного подбородка. Может быть, он всегда был таким?
— Костя… ты… ты так изменился! — задыхаясь, сказала она.
— И ты, Надя, тоже… Ты очень похорошела, — любуясь светом ее глаз, красками лица, проговорил Костя.
— Я сейчас оденусь, и мы пойдем ко мне. Хорошо, Костя?
— До восьми часов в твоем распоряжении. Веди куда хочешь.
Надя побежала в клуб. Вот за выступом дома мелькнуло ее широкое светло-серое платье с большим белым воротником.
«И как это я мог так долго не встречаться с ней?» — подумал Костя.
В клубе все так же играл на баяне курносый паренек с полигона, танцевали пары, а в соседней комнате, подняв невообразимую возню, веселились Сережины гости.
У дверей Надю встретил Слава, и она, сияющая и веселая, сразу как-то померкла, потускнела.
— Что с тобой? — обеспокоенно спросил Слава.
— Я уйду, Слава… Ко мне приехал мой школьный товарищ.
— Но почему ты такая? Тебе неприятен этот приезд? — допытывался Слава.
— Нет, почему же… Это приехал Костя. Я тебе о нем рассказывала.
Она надела пальто, шапочку и поторопилась уйти.
Слава возвратился в зал, сел у окна и задумался. Не первый раз вот так уходила Надя, оставляя его, но почему-то сегодня ее уход причинил ему особенную боль. Он давно разобрался в своем чувстве к Наде, но не решался признаться ей, потому что не понимал Надиного отношения к себе. Иногда ему казалось, что Надя тоже любит его. Он замечал ее желание быть с ним, видел, что на заводе она отличает его от других. Но порой он ловил ее равнодушный взгляд и читал в нем какое-то к себе безразличие. Вот и теперь он не уловил в ее глазах сожаления, что она проведет вечер без него.
— Что загрустил, Слава? — спросил Самсонов, останавливаясь подле него и закуривая. — Потанцевал бы, вон сколько девушек!
— Не понимаю я девушек, Самсонов. Они для меня загадка, — вздохнув, ответил Слава и потянулся к Самсонову за папиросой.
— Не замечал, чтобы ты курил! — с удивлением воскликнул Самсонов и не без колебаний подал Славе папиросу.
8
А Надя и Костя в это время подходили к заводскому общежитию. Они шли неторопливо, вспоминая Веселую Горку, школу, ребят…
— И грусть и зло охватывают, когда я вспоминаю Андрея или Виру, — задумчиво говорила Надя.
— Думаю, что и мы виноваты. Рядом с нами росли два таких пустоцвета, а мы глазами хлопали. Я часто думаю об Андрее. Если бы я так же упорно думал о нем тогда…
— Знаешь, Костя, — перебила его Надя, — мне кажется, что основной чертой Андрея была самовлюбленная гордость, и если бы…
— …если бы мы сумели вовремя направить его по верному пути, у нас в Веселой Горке был бы незаурядный художник.
— Мы бы его спасли! — Эту фразу они сказали в один голос.
— Вот видишь, как мы одинаково думаем! — засмеялась Надя и сразу же стала серьезной. — И все же жаль Андрея. Не прожить и двадцати лет на свете… Ну, мы пришли, Костя.
Они остановились возле небольшого двухэтажного дома.
— Сами строили, — с гордостью сказала Надя. — И видишь, какой сад развели!
Надя открыла калитку, и они прошли по запорошенной редким снежком аллее фруктовых деревьев, поднялись на высокое крыльцо.
За просторной верандой оказалась небольшая комната с тремя кроватями, застланными одинаковыми шелковыми покрывалами.
— A у вас тут красиво, — снимая шинель, сказал Костя.
— А как же! — засмеялась Надя. — Ты посмотри, какой современный стиль у нашей комнаты. Видишь, какая легкая, изящная мебель? А шторы! — Надя подошла к окну и подняла рукой белую штору, на которой были изображены огромные красные кувшины.
— Что-то уж очень абстрактное, — неодобрительно усмехнулся Костя, усаживаясь в низкое кресло.
— Нет, погоди, не садись. Я хочу посмотреть на тебя. — Надя весело потянула его за руку.
Костя повернулся вправо, влево, потоптался на месте и, вспоминая свою любимую повесть «Сын полка», улыбаясь, спросил:
— Ну как, показался?
— Показался, — серьезно сказала Надя и с каким-то внутренним страхом подумала: «Что-то уж очень сильно «показался».
Надя согрела чай, нарезала сухой «многодневный» кекс.
— Больше ничего нет, Костя. Питаемся на, заводе. А так хотелось бы угостить тебя! Надоела, наверно, солдатская еда? И вина нет, а то бы выпить за встречу.
— Разве угощение мне дорого? Рад, что увидел наконец тебя. Расскажи лучше о своей работе, об учении, о новых друзьях, о Москве, на которую ты променяла Сибирь…
— Я Сибирь на Москву не меняла. А кстати, тебе писали из Веселой Горки? Редкие металлы у нас нашли, где-то рядом с селом будет строиться обогатительный комбинат. Так что мне есть куда возвращаться. Ты смотри сам к Москве не присохни.
Хотелось о многом рассказать, посоветоваться, расспросить о жизни… А часы бежали удивительно быстро, вечер оказался необыкновенно коротким, и они расстались, ни о чем толком не поговорив.
В эту ночь Надя долго не могла заснуть. «Что же это со мной случилось? — беспокойно думала она. — Учились вместе, переписывались, всегда были просто товарищами… А тут вдруг встретились через год, и началось такое, от чего голова пошла кругом… Он такой честный, искренний, хороший… и такой красивый… лучше всех…»
Утром она шла на завод и опять думала о Косте. Ей вспоминалось его лицо, его голос. Его прощание с нею на крыльце, когда он ласково назвал ее Надюшей.
Костя в эти часы тоже думал о Наде. Встреча с ней глубоко запала в его душу, и он понял каким-то неизъяснимым озарением: Надя — это его судьба.
«Давно ли ты так беззаветно любил Лизу и считал, что любовь эта будет вечной?! — рассуждал сам с собой Костя. — Значит, действительно нет на свете вечной любви…»
Нет, любовь к Лизе была ненастоящей, это была, скорее, мечта, преклонение перед недосягаемым. А Надя — жизнь… Это совсем, совсем другое.
9
Надя зашла в конторку за папкой и направилась в бухгалтерию закрывать наряды. В дверях она столкнулась с Иваном Синицыным. Он хотел посторониться, но его сильно качнуло, и он плечом задел Надю. Острый запах водки ударил ей в лицо. Надя отступила и, приглядываясь к Ивану, со страхом и с болью подумала: «Пьян!»
— Ну, вот видишь, какой я, Надежда Васильевна? Теперь и в комсомол не примешь, — невнятно сказал Иван, глядя на нее усталыми глазами; лицо его было потное и красное, сдвинутая набок кубанка еле держалась на взлохмаченной голове. — Запью! Сказал — запью, и запью!
— Эх, ты! — задыхаясь от негодования, воскликнула Надя. — Бригадир бригады коммунистического труда! Иди сейчас же домой. Понял?
Но Иван домой не пошел. Он ходил по полигону в разорванной до живота рубашке, вызывал всех на драку, хвастал своими огромными кулачищами. Рабочие с трудом увели его в общежитие и уложили в постель.
На другой день Иван Синицын пришел в комитет комсомола. Здесь уже был Слава, и Иван попросил Надю выйти на минутку в коридор.
— Ты прости меня, Надежда Васильевна. Слово даю: никогда больше такое не повторится.
Вдруг он снял с головы кубанку, трахнул ею об пол, с рыданием в голосе воскликнул:
— Эх, жизнь наша — копейка! — Помолчав, добавил: — Только на тебя я не в обиде, Надежда Васильевна. Голубые глаза тебе, видно, по нраву больше, чем серые.
— Подними шапку! — строго сказала Надя.
Иван поднял кубанку и небрежно напялил ее на голову.
— Теперь иди и работай. И помни, что для меня и голубые глаза и серые одинаковы…
А про себя подумала: «Мне карие больше по сердцу!»
Она возвратилась в комнату, где ее дожидался Слава. Он посмотрел на нее внимательно, словно спрашивал, что случилось.
— Вчера Илья Муромец был пьяный. Я пыталась отстранить его от работы. Приходил извиняться, — объяснила она.
Слава неопределенно промычал — после происшествия на воскреснике он избегал высказывать свое мнение об Иване Синицыне — и продолжал переписывать протокол комсомольского собрания.
Надя склонилась над чистым листом бумаги, по верхней кромке которого было написано: «План работы комитета ВЛКСМ». Но дело у нее подвигалось плохо. Написала три пункта, откинулась на стуле, задумалась. «Иван не преувеличивает. Он любит меня. И Слава глядит на меня преданными глазами. Скажи ему: «Слава, будем всю жизнь вместе?» — и он с радостью примет это предложение. А Костя?» Думать о Косте было почему-то страшно.
— О чем ты задумалась, Надя? — спросил Слава.
— О чем? — Надя тряхнула головой и взяла в руку карандаш. — О том, что все эти мероприятия, которые мы с тобой насочиняли тут, никуда не годятся. Нельзя же мириться вот с такими поступками, какой совершил Иван, или с этими дикими «обмываниями» получек. Надо придумать что-то такое, что захватило бы полигонцев за самое сердце. Понимаешь, Слава?
— Понимать — понимаю, но вот придумать что, не знаю.
— Кончай, Слава! Как говорится: «Утро вечера мудренее». — Она собрала бумаги и положила в стол.
Они вышли на улицу. Возле проходной к ним присоединилась Клеопатра. Решили пойти в кино, еще раз посмотреть «Балладу о солдате», но Слава заколебался:
— Сережа у меня болеет. Второй день температурит.
— Что же ты в комитете столько торчал?! — упрекнула его Надя. — Иди скорее домой! А завтра вечером, когда ты будешь на работе, я приду посижу с Сережей. Согласен?
— У тебя и без Сережи дел невпроворот.
— Я учебник с собой возьму. Готовиться к экзаменам буду. А послезавтра Клеопатра придет. Не возражаешь, Клеопатра?
— Конечно. Какие могут быть разговоры! — не без радости воскликнула Клеопатра.
Она все еще надеялась, что Слава окажется не таким уж «железобетонным»…
…Утром Сережу посетил врач, прописал таблетки от простуды и велел провести дня три в постели.
Сережа ждал Надю и очень обрадовался, когда она появилась.
— Одному скучно. Время идет медленно-медленно. Кажется, совсем не двигается.
— Ну, у нас время пролетит быстренько. Прежде всего мы с тобой приготовим обед. Потом приберем в комнате, потом почитаем книгу, потом разгадаем новый кроссворд. Ну как, здорово?
— Не очень здорово. Это совсем не весело.
— А мы еще разыграем сказку. Король поваров! — обратилась она к Сереже. — Выдайте мне на обед какие-нибудь драгоценные продукты. Что у вас имеется?
— Вон курица за окном, — оживляясь, сказал Сережа.
— Отлично! Но это не курица, а жар-птица! Я слепну от ее лучей. А оливковое масло? Где оно, король поваров?
— Масло тоже за окном! — весело засмеялся Сережа и приподнялся на локте.
— Отлично! А где у вас хранится, король поваров, золотая картошка? А жемчужный рис?
— Золотая картошка в углу, в коробке. Вчера ее король Славик с волшебного рынка принес. А жемчужный рис на полочке, в бумажном кулечке.
— Итак, король поваров, вы желаете кушать суп из жар-птицы с золотой картошкой, а на второе — жареное крыло жар-птицы с жемчужным рисом?
— Желаю! — крикнул Сережа и соскочил с кровати.
— Но позвольте вам заметить, король поваров: вы увлеклись. Ложитесь немедленно в постель. А я отправлюсь на кухню, хотя там и живет злая волшебница.
Сережа лег снова на кровать и вскоре заснул, а Надя приготовила обед и отправилась домой.
Утром Сережа со смехом рассказывал брату, как они играли с Надей.
— Славик, тебе уже пора жениться. Женись, пожалуйста, на Наде, — вдруг, озабоченно морща лоб, сказал Сережа.
В первую минуту Слава от слов братишки опешил.
— Надя может не пойти за меня, — серьезно ответил он.
— Что ты, Славик! — изумился Сережа. Ему казалось, что за его брата с радостью пойдет замуж любая девушка. — Хочешь, Славик, я с ней поговорю?
Слава засмеялся, но, помолчав, строго сказал:
— Об этом с Надей говорить нельзя.
— Почему?
— Почему? Да потому, что ты мал для таких разговоров. Ну, вот и все. Кончено. Сажусь за работу. — И Слава сел к столу, развернул перед собой огромный лист ватмана с чертежом и расчетами.
В этот же день он зашел в комитет комсомола. Дождался момента, когда Надя осталась в комнате одна.
— Мне нужно поговорить с тобой, Надя, об очень важном деле, — необычно смущаясь, сказал Слава.
«Ну вот, и этот сейчас признается в своих чувствах, и наша дружба кончится», — подумала Надя. Сердце ее тревожно заныло.
— Если ты не возражаешь, Слава, то пойдем на улицу, погуляем. У меня что-то голова разболелась, — схитрила Надя, решив, что там, на просторе, объясняться со Славой будет проще.
Они вышли из заводских ворот, пересекли площадь и запетляли по извилистому безлюдному переулку. Надя украдкой поглядывала на Славу и видела, что он волнуется и не знает, как начать разговор.
— Ну, что же у тебя случилось, Слава? О чем ты хотел поговорить? — спросила она, желая как-то прекратить затянувшееся молчание.
— Я вот о чем хочу сказать тебе, Надя, — с трудом начал Слава. — Знаешь… я придумал машину для разгрузки платформ…
С Надиного сердца словно камень свалился. Она остановилась и весело взглянула на Славу.
— Эта машина заменит труд десятков рабочих. Разгрузка полувагона будет проходить десять минут… Я еще никому не говорил, тебе первой… Меня давно занимала разгрузка… Ведь как мы мучаемся, особенно в зимнее время. Вот вчера несколько часов бились с одной платформой.
Надя слушала Славу и с усмешкой думала: «А я-то вообразила черт знает что! Подумаешь, какая неотразимая принцесса нашлась! Все перед ней падают ниц!»
— И что же ты думаешь делать дальше с этой машиной?
— Хочу рассказать директору. Пусть посмотрит, может, еще ничего не получилось… И очень мне хочется показать чертеж машины тебе… Ты ведь все-таки почти инженер. Придешь ко мне вечером?
— Конечно, Слава. Такая машина очень нужна нашему заводу! Да и только ли нашему? Ты, Слава, умница!
Слава вспыхнул. Похвала Нади была очень приятна. А Надя вспомнила Славин стол с чертежами, с расчетами, с книгами и тетрадями и жалобу Сережи на брата, запретившего даже близко подходить к его уголочку.
10
Надя перебрала свои платья и после долгих колебаний решила надеть голубой костюм. Она сидела перед зеркалом и тщательно причесывалась. Потом пристегнула к ушам голубые клипсы, но сразу же сняла их. Примерила бусы и тоже сняла.
Первый раз в жизни у нее появилось желание нравиться, и потому-то она с такой придирчивостью рассматривала себя в зеркало.
В комнате вместе с нею жили Клеопатра и широколицая, черноглазая таджичка Мамлакат. Обе девушки с удивлением наблюдали за Надей. Они знали, что Надя ждет гостей. Вчера вечером ездили в магазин покупать торт. А сегодня с утра прибирали просторную комнату, чистили, мыли, расстилали на столы и тумбочки скатерти и салфетки.
Костя приехал к вечеру и, как обещал, не один, а с товарищем. Девушки из окна увидели его еще возле автобусной остановки. Рядом с ним шел чуть крадущейся походкой молодой человек в штатском, очень подтянутый. Он был совершенно черный. Костя загребал длинными ногами, жестикулировал, что-то увлеченно рассказывал своему спутнику.
Наконец гости вошли и познакомились с девушками. Костя внимательно приглядывался к ним, шутил. Иренсо смущенно опускал глаза, прижимая к груди длинные гибкие руки. Но вот первые минуты прошли, и все почувствовали себя проще. Весело уселись за стол.
Мамлакат стала разливать чай. А Надя не сводила глаз с Кости. Он казался ей еще лучше и красивее, чем в прошлый раз. Костя чуть-чуть улыбнулся Наде, и глаза его сказали ей о чем-то большом, хорошем, чего не выскажешь словами.
— А тебя, Надя, я сразу узнал, — улыбаясь, и, к удивлению девушек, на чистом русском языке сказал Иренсо. — Я о тебе много слышал от Кости и от Виры.
— А от Андрея Никонова не слышал? — спросила Надя.
— Нет, Андрей никогда не вспоминал школьных товарищей. Чаще всего он говорил о боге… А твоя родина, наверное, на юге? — спросил Иренсо, обращаясь к Мамлакат.
— Я из Таджикистана! — ответила Мамлакат. — Прохожу на московском заводе преддипломную практику.
Когда чай был допит, Иренсо охотно согласился пойти в заводской клуб, в кино, чтобы хоть издали взглянуть на удивительный завод, выпускающий готовые квартиры.
В кино они опоздали, и Иренсо сел играть в шахматы. Клеопатра и Мамлакат побродили по пустым гостиным клуба и ушли домой.
А Надя с Костей сели в фойе на диван и вполголоса разговаривали.
— Мне казалось, что я очень любил тогда Лизу, — открывал свою душу перед Надей Костя. — Чувство к ней казалось мне сильным и красивым. Но только теперь я понял, что любовь — это нечто несравнимое с тем чувством, которое было у меня в прошлом.
Наде хотелось спросить его, почему только теперь он понял, что чувство к Лизе было не любовью, но отважиться на такой вопрос она не смогла. У нее только сильнее забилось сердце, ярче заалели щеки и в глазах загорелись звездочки.
— Надя, а ты кого-нибудь прежде любила? — спросил Костя.
— Нет, — покачала головой Надя. — Я иногда даже думала, что любви вообще не бывает, ее просто выдумывают люди для собственного успокоения.
— А теперь как ты думаешь?
— А теперь я думаю, что на свете есть любовь, Костя…
Они долго молчали, глядя друг другу в глаза.
Костя с волнением взял ее за руку и сказал:
— Какая ты у меня замечательная, Надюша! И как это я не разглядел тебя еще тогда, в Веселой Горке?
Иренсо, внимательным, умным взглядом наблюдавший за Костей, сделал неверный ход.
— Шах! — радостно и громко сказал инженер, с которым играл Иренсо.
11
Сережи не было дома, и Славе с Надей никто не мешал заниматься. Слава разложил на столе чертежи. Он старался как можно подробнее объяснить Наде свой проект механизированной разгрузки.
— Поняла, да? — спрашивал он ее каждую минуту.
Надя слушала Славу и радостно кивала головой. Возбужденными глазами она разглядывала на чертеже заостренные зубцы рыхлительной машины.
— Слава, это так здорово! Так здорово!.. — то и дело повторяла она. — Давай сейчас же позвоним Николаю Павловичу.
— Но его уже нет на заводе.
— А мы домой позвоним.
— Нет, подождем до завтра. Я так долго ждал… Я давно это придумал. И все не решался. Проверял, пересчитывал. Мне кажется, это так важно…
— Очень, очень важно, Слава! Ведь я тоже разбираюсь в этом. Рыхлительная машина так ускорит разгрузку, так облегчит труд! Это замечательное изобретение! Вот посмотришь, за него ухватятся другие заводы. Я так за тебя рада, Слава!
Слава проводил Надю до общежития. Было уже темно и безлюдно, когда они подходили к дому.
— Ты приходи, Слава, завтра пораньше. А то Николай Павлович куда-нибудь уйдет, — беспокоилась Надя.
— Я вначале тебя найду. Вместе и пойдем.
— Но я-то при чем? — удивилась Надя.
— Как — при чем? — развел руками Слава. — Ты ведь секретарь комсомольской организации. Будешь меня защищать.
— Защищать не придется. Я буду радоваться за тебя. Ну, прощай…
— Не говори «прощай», — вдруг серьезно сказал Слава. — Я боюсь этого слова. Оно означает разлуку. А мы с тобой встретимся ровно через девять часов.
Неожиданно из открытой форточки послышался удивленный голос:
— Батюшки мои! Славка Алексеев Надю провожает! Вот так номер!
Слава в ответ крикнул басом:
— У вас, гражданочка, галлюцинации!
Надя засмеялась, крепко пожала ему руку и убежала.
Дома Мамлакат спросила ее:
— Скажи по-честному, интересуется тобой Славка?
А Клеопатра, только теперь что-то сообразив, по-бабьи всплеснула руками:
— Батюшки мои! Так это он из-за тебя тогда с Иваном подрался?
Надя хотела рассердиться на девушек, но не смогла. На душе у нее было светло, радостно, и девушки со своими смешными расспросами казались ей хорошими и милыми. Вспомнились вдруг Костины внимательные глаза и его ласковое: «Надюша». Ей захотелось остаться одной и вспоминать, вспоминать каждое его слово, каждый жест. Стало чуть тоскливо оттого, что встреча их будет теперь не скоро. Через десять дней! Как долго…
Надя быстро приготовила себе постель, легла, закрыла глаза, и вся встреча с Костей — от первой до последней минуты — снова пронеслась в ее памяти.
Клеопатра и Мамлакат долго еще обсуждали поразившее их событие.
— Я давно заприметила, что тут дело нечисто. За больным Сережей ухаживала… Слава из комитета не выходит…
— Дело серьезным пахнет, Мамлакуня. Вот посмотри! Славка шутить не станет, да и Надя не любительница проводить время зря. Быть свадьбе! А уж парень-то какой, — с завистью шептала Клеопатра.
12
Трудно сказать, кто больше волновался в тот день, когда Слава понес чертежи рыхлительной машины Николаю Павловичу: он или Надя.
Надя постеснялась зайти к директору вместе со Славой, она только проводила его до кабинета и, по школьной привычке, пожелала ему: «Ни пуха ни пера!»
Дверь за Славой закрылась, но Надя все еще не уходила.
Вскоре она услышала, как пожилая близорукая секретарша, которую из-за страстной любви к кошкам прозвали на заводе «кошатницей», вызывала по телефону главного инженера.
— Николай Павлович просит вас немедленно зайти к нему по срочному делу, — говорила она в трубку.
«Это по Славиному делу», — подумала Надя, уходя на полигон. Работая там, она то и дело поглядывала на часы.
Время шло медленно.
Прошло два часа — Слава все еще не возвращался. Надя побежала к разгрузочным бункерам, но и там его не было. Тогда она снова направилась в приемную директора.
Секретарша рассказывала уборщице о своих кошках. Надя невольно выслушала часть ее рассказа.
— У Мурлышки характер гордый. Она ни за что не побежит в столовую клянчить. Я всегда приношу ей пищу сама, и кушает она только молоко. А вот Тигрик любит вареное мясо…
— Простите! — перебила ее Надя. — Слава Алексеев все еще у директора?
— Да, там идет совещание. Пришел секретарь парткома, вызвали инженеров. Знаете, Алексеев изобрел что-то очень интересное.
«Ну вот! — радостно подумала Надя, возвращаясь на полигон. — А он говорил, чтобы я его защищала. Боялся, что его встретят в штыки. Да разве на нашем заводе может быть такое?»
К концу смены весь завод знал о каком-то необыкновенном изобретении Славы Алексеева.
Надя опять зашла в приемную директора, но там уже никого не было. Кабинет был закрыт, на стуле около машинки, свесив пушистый хвост и громко мурлыкая, лежал белый кот.
Наде стало немножко обидно, что Слава не пришел к ней после встречи с директором и инженерами, но повидать его сейчас у нее не было возможности: она торопилась в институт на консультацию.
Встретилась она со Славой только вечером у себя в комнате. Клеопатра и Мамлакат заглядывали Славе в лицо и с нетерпением расспрашивали об изобретении.
— Прости, Надя, что так поздно, — поднимаясь со стула, сказал Слава, — но другого времени не было…
— Нам исчезнуть? — ехидно спросила Клеопатра.
Надя покачала головой:
— У нас секретов нет.
Клеопатра и Мамлакат всё хотели отойти от стола, но Надя их остановила:
— Куда же вы? Ну, Слава, не тяни! Если что-нибудь уже рассказал девчатам, повтори.
Слава рассказывал обо всем, что с ним произошло, и это никак не походило на то, о чем он читал в одной нашумевшей книжке об изобретателе…
— Я ждал возражений, недоверия, даже насмешек, но ничего подобного не случилось…
— Да как же иначе! — воскликнула Надя. — Еще как нужна-то нам такая машина! А ты говоришь — недоверие, насмешки! Чудак ты, Слава!
— А Николай Павлыч все смотрел на чертеж и посмеивался, — с улыбкой вспоминал Слава, — а потом сказал: «Все так просто! И почему эту машину не выдумали давно!»
К удивлению подруг, Надя не пошла провожать Славу. Она довела его только до дверей и громко и весело попрощалась. А потом вернулась в комнату, села за стол и стала писать письмо.
Сидя на кровати, Клеопатра закручивала пряди волос на бигуди и поглядывала дальнозоркими глазами на строчки Надиного письма.
Мамлакат, сидя в удобном креслице у окна, читала книгу.
«Костя! — писала Надя. — Мы с тобой не скоро встретимся. А мне хочется увидеть тебя вот сейчас, сию минуту… Я хочу сказать тебе…»
— Кому это ты пишешь, Надя? — осторожно спросила Клеопатра, вставая с постели.
— Никому, просто так, — сказала Надя и разорвала начатое письмо на мелкие клочки.
— Девчата, пора спать, — сказала Мамлакат, захлопывая книгу и потягиваясь. — Интересная книга, жаль только, что героиня просто-напросто домашняя хозяйка.
— А разве это плохо? — спросила Клеопатра. — Я бы, например, хотела быть домашней хозяйкой. Были бы у меня пятеро ребятишек. Вот такие! Обязательно бабушка или дедушка. Квартира из трех комнат. Я бы как самый хороший директор по плану все распределяла: питание, уборка, отдых, образование. Ой, какой бы у меня был образцовый порядок!
Мамлакат засмеялась:
— Значит, цель твоей жизни — выйти замуж?
— Ну да. Я хочу выйти замуж за хорошего, доброго человека. Наметила Славу, да опоздала… — Клеопатра говорила со смешком, но в тоскливых нотках ее голоса, в невеселом взгляде чувствовалось, что слова ее идут от самого сердца.
Надя заметила это, и ей стало жаль Клеопатру.
— Ты неверно представляешь мои отношения со Славой, Клеопатра, — сказала Надя. — Честное слово, я с удовольствием повеселилась бы на вашей свадьбе.
— Не врешь? — вскакивая с постели, горячо спросила Клеопатра. — Ты в Славку не влюблена нисколечко?
— Я ценю Славу как товарища, как хорошего комсомольца, а теперь — и талантливого изобретателя. И только.
Клеопатра кинулась обнимать Надю.
— Но Славка-то все равно влюблен в Надю, — упрямо сказала Мамлакат.
И Клеопатра словно под холодный душ попала.
— Не огорчайся! Выйти замуж и быть домашней хозяйкой — это так скучно… — возвратилась к прежнему разговору Мамлакат.
— А по-моему, совсем не скучно, — к удивлению подруг, сказала Надя. — Я вот удивляюсь, почему у нас все женщины, работающие на производстве, в пятьдесят пять лет получают пенсию, а домашние хозяйки пенсии не имеют. А разве то дело, которое делают они, менее важно? Труд домашней хозяйки — это государственный труд. Ведь без семьи нет и государства.
— А большинство женщин работают и детей растят, — сказала Клеопатра.
— Тем на старости лет я дала бы двойную пенсию! Как женщинам-героиням! — воскликнула Надя.
— А ты обратись в правительство со своим предложением, — звонко рассмеялась Мамлакат.
— И обращусь когда-нибудь, — сказала Надя. — Только надо ума прибавить да жизненного опыта накопить. А к тому времени, я думаю, и без меня это сделают.
— А ты хочешь быть и станешь знаменитым инженером! — сказала Клеопатра.
— Возможно — да, а возможно — и нет. Мне хочется воспитанием людей заниматься. Кончу институт, тогда видно будет.
— А я замуж, конечно, выйду, — сказала Мамлакат, — но без работы жить не буду. Не хочу быть домашней кошечкой, про которую писатель в этой книге написал.
Девушки замолчали, прислушиваясь к ветру за окном, к ночной тишине.
Надя улыбнулась и нараспев стала читать стихи Пушкина:
Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица»,— Говорит одна девица…Вот так и мы… Ну что же, спать пора!
Девушки легли, но заснули не сразу. Каждая думала о своем.
13
Ясная морозная зима в разгаре. Над Москвой высокое чистое небо. Москва-река и каналы покрылись прозрачной ледяной коркой.
В восемь часов утра по заводской железнодорожной ветке паровоз притащил на склад платформы щебня и гравия. Первый полувагон остановился около разгрузочных бункеров, окруженных кольцом народа, и под оглушительные крики «ура» в скованный морозом щебень впервые вонзились зубцы рыхлительной машины Алексеева. В несколько минут полувагон был загружен. Первыми схватили Славу и начали качать его товарищи по цеху, потом он попал в дружеские объятия рабочих склада, затем его окружила молодежь. Славе пожимали руки, награждали легкими тумаками, а растроганная Клеопатра, воспользовавшись подходящей минутой, даже поцеловала молодого изобретателя.
Вечером в клубе отмечали это большое заводское событие.
Просторный зал клуба заливал яркий свет «юпитеров» кинохроники. Около сцены на стенде «Лучшие люди нашего завода» — цветной портрет Славы Алексеева. Лицо в полупрофиль, темный румянец на худощавых щеках и глаза голубые, ясные. Здесь же, среди других фотографий, — Надя Молчанова. Она сфотографирована в нарядном светлом костюме, с комсомольским значком на груди.
Но зачем смотреть на фотографии, когда все эти люди сегодня в зале?
Здесь же и Костя Лазовников. Он сидит один, с ним только Надино сердце — самой же ей некогда даже подойти к нему.
Зал переполнен «своими» и «чужими». Здесь и представители печати и радио, гости из Центрального комитета комсомола.
Надя очень волнуется.
Сегодня, по инициативе заводского комитета комсомола, молодежь ставит инсценировку «Послушайте нас и подумайте о себе». Не тревожит ее то, как артисты сыграют свои роли и понравятся ли зрителям декорации и костюмы. А вот дойдет ли до сердца зрителей то, над чем бились авторы постановки?
Не меньше Нади волнуется и Костя. Ведь это он вместе с Надей писал инсценировку. Надя подбирала заводские факты, а Костя, недосыпая ночей, превращался то в лирического поэта, то в прозаика-сатирика.
И вот занавес взметнулся вверх. На сцене, неуверенно пристукивая каблучками, пылая будто маков цвет, появляется румяная Василиса, работница ремонтно-механического цеха; за ней, приплясывая, выходит кудрявый Сеня с разгрузочных бункеров.
За сценой бойко играет баян. Из суфлерской будки излишне громко подсказывает текст пожилой библиотекарь.
Надя от дверей наблюдает за слушателями. Вначале им просто занятно видеть своих товарищей не у машин, а на сцене.
— Василиса-то! Василиса! Как заправская артистка! — слышатся голоса.
В сценке изобличаются грубость, невоспитанность. Василиса и баянист поют частушки, и за каждой из них скрыт либо факт, либо фамилия. Кое-кто в зале примолк. Вдруг всенародно назовут?
Зрители вполголоса обмениваются мнениями.
Под бурные аплодисменты занавес закрылся, и в освещенном кругу появилась Клеопатра. Она протягивает вперед руку, останавливая аплодисменты. В зале водворяется тишина. Клеопатра говорит:
— …Вот так, к сожалению, бывает. И мы спокойно проходим мимо этого. Вспомните!
Свет постепенно меркнет. Клеопатра исчезает в темноте. Свет зажигается снова, и вдруг в зале поднимается Иван.
— Здесь, конечно, не место для выступлений. Это не собрание, но, может быть, вы мне позволите пару слов сказать? — обращается он к залу.
Зрители недоумевают: что это? Продолжение инсценировки?
— Говори! Слушаем! — кричат они.
У Нади от радости бьется сердце. Она вся подается вперед и боится пропустить хоть одно слово. Иван говорит:
— Вот я скажу, что от девушки очень многое зависит, У нас на полигоне, например, вечная брань стояла. А появилась мастер Надя Молчанова, попробовали и при ней так же — не позволила. И теперь никто не смеет грубое слово сказать.
— Что верно, то верно! — поддержал Ивана старый мастер арматурного цеха. — Женщина во все века человеческий род облагораживала. От нее многое зависит — как поставит себя, так и относиться к ней будут.
Потом на сцену выходят новые артисты. Трое всклокоченных, небрежно одетых парней изображают сценку на полигоне в день получки. Артистов провожают шумными хлопками.
Потом снова выходят Василиса и баянист. Они исполняют песенку о лучших людях завода. Слава занимает в песенке главное место. Он сидит вспотевший, красный.
Чем дальше продолжается вечер, тем горячее отзывается зал.
Хор, струнный оркестр, арии из опер — и все, все в исполнении заводских товарищей.
Когда кончилась художественная часть, Надя бросилась искать Костю.
Он стоял один у окна, в скромной солдатской форме, и с интересом разглядывал заводской народ. По его оживленному лицу чувствовалось, что ему не было скучно.
Можно было веселиться в клубе до полуночи: танцевать, играть в почту, петь хором, принимать участие в различных аттракционах. Но Косте надо было уезжать.
Надя пошла провожать его. Они вышли в вестибюль, и тот, кто видел их, подумал или сказал соседу: «Вот и Надя обрела счастье. Как светится ее лицо!»
С болью в сердце подумал об этом и Слава. В тот момент, когда Надя и Костя пересекали зал, он танцевал с Клеопатрой вальс.
— У нее эта любовь со школьной скамьи, — сказала Клеопатра, заметив взгляд Славы.
А Надя была действительно счастлива. Они с Костей быстро шли под руку по освещенным московским улицам, шумным и тесным от обилия машин и потока людей. Они шли по широким тротуарам, и черные контуры многоэтажных домов сбоку загораживали ясное темное небо, усеянное мерцающими звездами.
* * *
И снова весна. Бессчетная весна на земле… Теплый ветер треплет молодые, липкие листочки. В зарослях леса еще сыро, пахнет неповторимым запахом земли и прелых листьев. Кое-где под плотным покровом хвои, осыпавшейся зимой, еще лежит хрупкий, ноздреватый снег, обледенелый и потерявший белизну.
А хлопотливые ласточки уже лепят гнезда под крышами домов, неугомонно снуют в розоватом мареве взад-вперед с пушинками и соломинками в клюве.
Смотрю на них и дивлюсь, прошлой весной, покинув гнезда, они улетели в неведомую даль. И вот, преодолев бескрайние просторы, переборов встречные ветры и бури, вернулись на родину…
Вернулись с окрепшими крыльями, чтобы строить новые гнезда, скользить в голубом поднебесье, выводить новых птенцов. И лишь те из них не вернулись, погибли, которые сбились с пути, оторвались от стаи.
И невольно думается: сколько же разных путей разметалось по белому свету, сколько дорог подстерегает каждого, кто начинает свое шествие в будущее!
1960–1961 гг.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
По техническим причинам разрядка заменена болдом (Прим. верстальщика)
(обратно)2
То́зовка — малокалиберная винтовка.
(обратно)

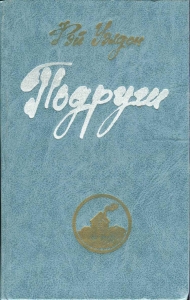

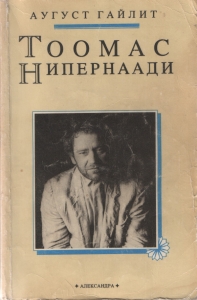





Комментарии к книге «Много на земле дорог», Агния Александровна Кузнецова (Маркова)
Всего 0 комментариев