Майкл Ондатже Военный свет
Michael Ondaatje
WARLIGHT
© Голышев В., перевод на русский язык, 2019
© Качанова О., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Эллен Селигмен, Сонни Мета и Лиз Кэлдер Колдер — через годы.
Многие великие битвы ведутся в складках топографических карт.
Часть 1. Полный стол незнакомцев
В 1945 году родители уехали, бросив нас на попечение каких-то двух преступников. Мы жили в Лондоне, на улице под названием Рувини-Гарденс, и однажды утром то ли мать, то ли отец объявили: после завтрака состоится семейный совет; так мы узнали, что они на год уезжают в Сингапур, а нас оставляют. Срок не слишком большой, сказали они, но и не малый. Разумеется, в их отсутствие о нас будут как следует заботиться. Помню, отец сообщил эту новость, сидя в одном из неудобных железных садовых кресел, а мать в летнем платье, у него за плечом, вглядывалась в наши лица. Потом взяла руку Рэчел, моей сестры, и прижала к талии, словно согревая.
Ни Рэчел, ни я не произнесли ни слова. Лишь смотрели в лицо отцу, который живописал, как они полетят на новом «Авро Тюдоре 1» — создан на базе бомбардировщика «Ланкастер», крейсерская скорость свыше трехсот миль в час. По пути придется минимум дважды приземлиться, пересесть на другой самолет, и тогда только они доберутся до места. Как выяснилось, отец получил повышение и теперь возглавит представительство «Юнилевер» в Азии. Что хорошо для всех нас. Он говорил серьезно, а мать вдруг отвернулась и посмотрела на свой августовский сад. Когда отец умолк, она, видя мою растерянность, подошла и рукой, как гребнем, провела по моим волосам.
Мне в то время было четырнадцать, Рэчел — меньше шестнадцати, и нас на время всех каникул оставляли под присмотром, как выразилась мать, опекуна. Отец называл его коллегой. Мы его уже знали — и придумали ему прозвище Мотылек. В нашей семье вообще была страсть к выдуманным именам, а значит, к маскировке. Рэчел даже успела заподозрить Мотылька в криминальных делишках.
Кандидатура казалась странной, но в те послевоенные годы по-прежнему хватало бессмыслицы и кавардака; принято было ничему не удивляться. Нам, детям, оставалось смириться; родительский выбор пал на Мотылька, тихоню, с недавних пор поселившегося у нас на третьем этаже, крупного, но пугливого в движениях, как мотылек. Видимо, они считали, что на него можно положиться. Интересно, они догадывались, что Мотылек — преступник?
Попытка сплотить нашу семью вроде даже предпринималась. Отец порой брал меня в «Юнилевер», пустынный по причине выходных или праздников, и пока он занимался делами, я, как по затерянному миру, бродил по двенадцатому этажу. Дергал ящики столов — все, как один, запертые. Пустые корзины для бумаг, голые, без единой картины, стены, лишь на одной висела большая рельефная карта с отметками заграничных форпостов компании: Момбаса, Кокосовые острова, Индонезия. А под началом отца находились, кажется, ближние города, цепочкой замыкавшие Средиземноморье: Триест, Гелиополь, Бенгази, Александрия. Именно там набивали трюмы сотни кораблей, ходившие на Восток и обратно. По выходным лампочки на карте не горели, города и порты были погружены во тьму, которая гораздо больше подходила этим далеким кордонам.
В последний момент было решено, что мать останется с нами еще на несколько недель, до конца лета — проследит, чтобы у квартиранта имелось все для нас необходимое, и поможет собраться в школы-пансионы, куда нас переводили. В субботу накануне того дня, когда отец в одиночку улетал в дальние дали, он снова взял меня в учреждение на Керзон-стрит. Следующие несколько дней он просидит закорючкой в самолете, и ему хотелось размять ноги.
Доехав на автобусе до Музея естественной истории, мы прошли пешком через Гайд-парк до самого Мейфэйра. Отец был непривычно оживлен и весел, напевал «Домотканые одежда и сердца / Износились в чужедальней стороне», — с неожиданным задором он все повторял и повторял эти строки, словно выполнял какое-то важное правило. К чему бы это? Я терялся в догадках. Чтобы попасть в здание, где его учреждение занимало весь верхний этаж, требовалось открыть ключами не одну дверь. Я подошел к большой, по-прежнему неосвещенной карте и стал по памяти отыскивать города, над которыми отец будет лететь в ближайшие несколько ночей. Уже тогда я обожал карты. Он подошел и включил подсветку; от выпуклых гор на карте пролегли тени, но на этот раз в глаза бросились не лампочки, а голубоватые гавани и громадные просторы неосвещенной суши. Никаких ясно очерченных перспектив больше не существовало, и та же ущербность ощущалась для нас с Рэчел в браке наших родителей. Они крайне редко о себе рассказывали. Так, какие-то обрывки. Отец на финальных этапах весь погрузился в войну, и на нас его уже не хватило.
Относительно их отъезда мы даже не сомневались: ей надо ехать с ним; не могут же родители, думали мы, находиться врозь, она ведь ему жена. А если нам придется жить одним, это не так ужасно, не так пагубно отразится на семье, чем если мать из-за нас останется на Рувини-Гарденс. И, объясняли они, нельзя взять и бросить школы, в которые нас с таким трудом приняли. Перед отъездом мы скомканно обняли отца, Мотылек на те выходные тактично исчез.
Так началась у нас новая жизнь. Тогда мне не слишком в это верилось. Я так до сих пор и не понял, искорежил тот период мою жизнь или придал ей импульс. Шаблоны и узы семейного уклада порушились, поселив во мне сомнения — словно в расплату за то, что я слишком быстро исчерпал свои свободы. Теперь, однако, я повзрослел и готов говорить — говорить о том, как мы росли под защитой чужих людей. Очищая зерна истины от плевел, буду рассказывать о родителях, о нас с Рэчел, о Мотыльке и о многих других людях, которые появились потом. В историях такого рода, наверное, есть устоявшиеся традиции и приемы. Дан кто-то, кому предстоит пройти испытание. На чьей стороне добро — непонятно. Каждый не тот и не там, чем и где кажется. А один из героев за всем этим исподтишка наблюдает. Помню, матери нравилось, что королевским рыцарям в легендах про Артура дают такие противоречивые задания; рассказывая эти истории, она иногда переносила их действие в конкретную деревушку на Балканах или в Италии — показывала ее на карте и заявляла, что тоже в ней бывала.
С отъездом отца мать стала проводить с нами больше времени. Родительские разговоры, которые мы имели привычку подслушивать, всегда касались взрослых тем. А теперь мать рассказывала нам о себе, о своем детстве в суффолкской глубинке. Особенно нам нравилась история о «семье на крыше». Наши бабушка и дедушка из Суффолка проживали в местности под названием Сентс, где были тишь и покой, только плескалась река да порой из соседней деревни доносился колокольный звон. Но однажды у них на крыше целый месяц жила семья; они разбрасывали вещи и так громко перекрикивались, что звук через потолок проникал в дом. Семья — это бородач и трое его сыновей. Самый младший был тихоня и в основном таскал наверх по приставной лестнице бадьи с водой. Но куда бы мать ни шла — собрать яйца в курятнике или уехать на машине, — он всегда провожал ее взглядом. Бородач и его сыновья были кровельщиками, перекрывали крышу, трудились дни напролет. На время обеда убирали лестницы и уходили. Но однажды мощный порыв ветра сшиб младшего мальчика, тот потерял равновесие и рухнул с крыши, пробив крону липы и упав на плиты возле кухни. Братья внесли его в дом. У мальчика, его звали Марш, было сломано бедро. Пришел доктор, заковал ногу в гипс и велел не трогаться с места. Так он и лежал в буфетной при кухне, пока на крыше шли работы. Матери — ей тогда было восемь — поручили приносить больному еду. Заодно она приносила книги, но Марш был застенчив и едва осмеливался с ней заговорить. Эти две недели, говорила она, наверное, показались ему целой жизнью. В конце концов, доделав работу, семья забрала мальчика, и они уехали.
Эта история всякий раз казалась мне и Рэчел частью какой-то сказки, которую нам до конца не понять. Мать не переживала и не ужасалась из-за того, что мальчик упал, — обычное дело для не раз обкатанных историй. Мы просили рассказать еще что-нибудь об упавшем мальчике, но она повторяла единственный эпизод: как в тот штормовой день он смачно, влажно шмякнулся на плиты, проделав прореху в липовых веточках и листьях. Один фрагмент из материной жизни с ее туманными подтасовками.
Мотылек, наш квартирант с третьего этажа, почти все время отсутствовал, хотя иногда ему случалось поспеть к ужину. От настойчивых приглашений к столу он для начала долго и неубедительно отмахивался. При этом почти ежевечерне отправлялся пешком на Биггз-Роу и покупал там готовую еду. Во время блица многое было разрушено, и разрозненные уличные тележки пока что съехались туда. Мы всегда ощущали приладочное присутствие Мотылька, его вылазки и возвращения. По его манере поведения не удавалось понять, робкий он или вялый. Потом, конечно, все переменится. Иногда из окна своей спальни я видел, как они с матерью о чем-то тихо беседуют в темном саду, или заставал их за чаем. Перед началом занятий в школе мать довольно долго уговаривала его подтянуть меня по математике; этот предмет мне не давался, я отставал по нему и после того, как Мотылек бросил попытки меня натаскать. В те первые дни наш опекун впечатлил меня лишь тем, как мастерски начертил трехмерные изображения, призванные помочь мне погрузиться в глубины геометрических теорем.
Если речь заходила о войне, мы с сестрой пытались вытянуть из него, где он был и что делал. Наступала пора воспоминаний, подлинных и фальшивых, и нам с Рэчел было любопытно. Между собой Мотылек и мать упоминали каких-то людей, общих знакомых с тех времен. Мать явно знала Мотылька до того, как он у нас поселился, но его участие в войне оказалось неожиданностью: слишком уж он был какой-то «не военный». О его присутствии в доме мы узнавали по звукам тихой фортепьянной музыки из радиоприемника, а работал он кем-то вроде администратора — вел в числе прочего бухгалтерию, начислял зарплату. Все же после нескольких штурмов удалось выведать, что они оба были пожарными наблюдателями в так называемом Гнезде на крыше отеля «Гровенор-Хаус». Мы, в пижамах, потягивали «Горликс» и слушали, как они предаются воспоминаниям. Истории всплывали одна за другой — и уходили в небытие. Однажды вечером, незадолго до предстоявшего отъезда в школы, мать в углу гостиной гладила нам рубашки, а Мотылек стоял у подножия лестницы, готовый уйти, почти уже не с нами. Однако не ушел, а пустился в рассказы о том, как мать мастерски вела машину в ночи, доставляя пассажиров сквозь тьму и комендантский час в какое-то Беркширское подразделение, и провалиться в сон ей не давали лишь несколько долек шоколада да холодный ветер из открытого окна. Мать так внимательно слушала все, что он говорил, так погрузилась в эту туманную историю, что забыла про утюг в руке — тот повис в воздухе и в итоге прожег воротник.
Надо было мне уже тогда догадаться.
Они намеренно избегали в рассказах привязки ко времени. Однажды мы узнали, что мать в наушниках перехватывала немецкие шифровки на секретных радиочастотах и пересылала сведения через Ла-Манш из местечка в Бедфоршире под названием Чиксэндский монастырь, после чего снова вернулась в Гнездо на крыше отеля «Гровенор-Хаус», — мы с Рэчел стали все сильнее подозревать, что там базировались отнюдь не «пожарные наблюдатели». Оказалось, мать умеет многое такое, о чем мы даже не догадывались. Неужели мать своими красивыми белыми руками с тонкими пальцами стреляла в людей — чтобы убить? Я обратил внимание, как спортивно и грациозно она взбегает по лестнице. Раньше мы за ней такого не замечали. За месяц, что прошел с отъезда отца до начала школьного семестра, когда она тоже уехала, мы узнали ее с более удивительной и отчасти более душевной стороны. А тот недолгий миг, когда она, слушая воспоминания Мотылька об их прошлом, застыла с горячим утюгом на весу, оставил неизгладимое впечатление.
В отсутствие отца в доме стало вольготнее и просторнее, и мы старались проводить с матерью все возможное время. Слушали по радио триллеры — при включенном свете, чтобы видеть выражения лиц друг друга. Матери было явно скучно, но мы упрашивали ее не уходить, пока у нас надрывались сирены, по-волчьи завывали ветра на болотах, раздавались крадущиеся шаги злоумышленника, звон разбитого окна; в разгар этих драматических моментов у меня в памяти всплывала услышанная урывками история, как мать в полной темноте вела машину к побережью. Если уж говорить о радиопрограммах, то гораздо больше матери нравилось лежать по субботам после обеда в шезлонге и, позабыв о читаемой книге, слушать по Би-би-си «Час натуралиста». Это напоминает ей о Суффолке, говорила она. И мы вполуха слушали ведущего, который пускался в бесконечные рассказы о речных насекомых или о том, как удил рыбу в реках, пробивающих себе путь в меловых породах; нам с Рэчел этот мир казался микроскопическим и далеким; мы, скрючившись, собирали пазл на ковре, складывая кусочки голубого неба.
Однажды мы втроем поехали на поезде с Ливерпуль-стрит в Суффолк, в дом, где прошло наше детство. Ранее в том году наши бабка с дедом погибли в автокатастрофе, и теперь мы смотрели, как мать молча бродит по дому. Помню, по краю прихожей мы всегда ходили с осторожностью, иначе столетние деревянные половицы принимались скрипеть и визжать.
— Это соловьиный пол, — говорила бабушка. — Предупреждает о ночных воришках.
Мы с Рэчел не упускали возможности на нем попрыгать.
Но счастливее всего нам жилось с матерью в Лондоне. Мы тянулись за ее мимолетной, дремотной лаской, которой она одаривала нас куда щедрее прежнего. Она словно превратилась в раннюю версию себя. До отцовского отъезда мать была расторопной, деловитой, уходила на работу тогда же, когда мы шли в школу, и возвращалась аккурат к совместному ужину. Возникла ли эта новая версия благодаря отсутствию отца? Или это был такой сложный способ подготовить нас к расставанию, намекнуть, какой ей хотелось бы запомниться? Мать помогала мне со школьным французским и «Галльской войной» Цезаря — и французским, и латынью она владела превосходно. Что еще удивительнее, она приветствовала в нашем отшельническом доме всякие театральные постановки: мы то одевались священниками, то шагали враскачку, как моряки, то со злодейским видом крались на цыпочках.
Другие матери тоже так делали? Падали, задыхаясь, на диван с воткнутым в спину кинжалом? При Мотыльке она ничего такого себе не позволяла. Но почему она вообще так себя вела? Может, ей скучно было изо дня в день с нами нянчиться? И переодевания позволяли ей побыть кем-то другим, не только нашей матерью? Замечательнее всего было с первыми лучами солнца по-собачьи настороженно пробираться к ней в спальню и видеть ее ненакрашенное лицо, сомкнутые веки, белоснежные плечи и руки, уже протянутые, чтобы нас обнять. Во сколько бы мы ни явились, она уже не спала, уже ждала нас. Застать ее врасплох не удавалось.
— Иди сюда, Стежок. Иди сюда, Зяблик, — звала она; эти прозвища она сама когда-то нам придумала.
Наверное, именно тогда мы с Рэчел ощущали, что у нас и вправду есть мать.
В начале сентября из цокольного этажа был извлечен большой плоский сундук, и мать у нас на глазах принялась складывать в него платья, туфли, кружева, английскую литературу, карты, а также всякие предметы и приспособления, которых, говорила она, на Востоке скорее всего не сыщешь, даже ненужные, с нашей точки зрения, шерстяные вещи — вечерами в Сингапуре, объяснила она, часто бывает «свежо». По ее указке Рэчел вслух зачитывала из «Бедекера» о ландшафте и автобусном сообщении, о том, как по-тамошнему будет «Хватит!», «Еще» и «Далеко ли отсюда до…?». Мы декламировали эти фразы с типично восточным, как нам представлялось, акцентом.
Возможно, матери казалось, что обстоятельное, медитативное складывание вещей в большой сундук не обострит в нас чувство обездоленности, а, напротив, убедит в целесообразности ее отъезда. Мы бы, наверное, не удивились, если бы она и сама улеглась в тот черный деревянный сундук с латунными уголками, похожий на гроб, и ее от нас увезли. Акт упаковывания растянулся на несколько дней — медленный процесс, зловещий и нескончаемый, как рассказ про привидения. Мать готовилась пресуществиться. Ее утягивало за собой нечто, нам невидимое. Возможно, Рэчел воспринимала это иначе. Она была на год с лишним старше. Возможно, ей это казалось слишком театральным. Но для меня акт постоянного передумывания и перекладывания символизировал необратимое исчезновение. До отъезда матери мы отсиживались в нашем доме-берлоге. Всего несколько раз вышли прогуляться по набережной. Мать сказала, что в ближайшие недели ей и так предстоит слишком много передвигаться.
И вдруг ей резко пришлось уехать, почему-то раньше, чем ожидалось. Сестра скрылась в ванной, набелила лицо и с этим ничего не выражающим лицом бухнулась на колени на верхней площадке лестницы, намертво обвив руками перила. Стоя у входной двери, я вместе с матерью призывал ее спуститься. Мать настолько хорошо все подготовила и организовала, что обошлось без слезных прощаний.
У меня есть фотография матери — черт лица на ней толком не разглядеть, но поза, положения рук и ног вполне узнаваемы, хотя карточка была сделана еще до моего рождения. Ее, семнадцати- или восемнадцатилетнюю, родители сняли на берегу речки в Суффолке. Она наплавалась, оделась и теперь стоит на одной ноге, поджав другую, чтобы натянуть туфлю; голова ее наклонена, и светлые волосы падают на лицо. Я нашел эту карточку много позже в пустой спальне, среди немногих пожитков, которые она решила не уничтожать. Это фото до сих пор со мной. Мать на нем почти анонимна — неловко балансирующая персона, сосредоточенно пытающаяся удержаться на ногах. Уже человек-невидимка.
* * *
В середине сентября мы с Рэчел разъехались по школам. До этого мы всегда были приходящими и не привыкли жить в пансионе, тогда как другие ученики уже смирились с тем, что они, по сути, брошенные. А мы смириться не смогли и сразу же, в самый первый день, настрочили в Сингапур, на адрес родительского почтового ящика письмо, умоляя нас забрать. По моим подсчетам, нашему посланию предстояло добраться на фургоне до саутгемптонских причалов, после чего продолжить путешествие по морю с неспешными остановками в дальних портах. Отмерив соответствующее расстояние и шесть недель времени, я понял: наши жалобы не достигли цели. А жаловался я, например, на то, что идти ночью до уборной приходится три лестничных марша в полной темноте. Многие пансионеры из «стареньких» справляли малую нужду в одну конкретную раковину на нашем этаже, соседнюю с той, где чистили зубы. Обычай этот держался в школе многие поколения — и десятилетиями льющаяся моча оставила отчетливый след на эмали используемого для этой цели резервуара. Но однажды ночью, когда я сонно облегчался в эту раковину, меня застукал проходивший мимо старший по пансиону. Наутро на собрании он произнес гневную речь о гадком поступке, свидетелем которого стал, и заявил, что даже за четыре года на фронте ему не приходилось видеть подобной мерзости. Среди мальчиков в зале повисла потрясенная тишина — никому, конечно, не верилось, что старший по пансиону не в курсе традиции, бытующей еще с тех времен, когда в школе учились великие Шеклтон и П. Дж. Вудхауз (хотя одного, по слухам, отчислили, а другого посвятили в рыцари лишь после долгих колебаний). Я очень рассчитывал на то, что меня отчислят, но меня просто поколотил староста — он так и покатывался со смеху. В любом случае на сочувственный ответ от родителей рассчитывать не приходилось, хотя я наспех накорябал и послал им второе письмо, с припиской насчет своего преступления. Я тешил себя надеждой, что идея поместить нас в пансион была скорее отцовская, а значит, благодаря матери у нас, возможно, есть шанс на освобождение.
Наши школы располагались в миле друг от друга, и единственным способом перекинуться словечком было взять велосипед и пересечься на пустыре. Мы с Рэчел договорились все делать сообща. И в середине второй недели, когда наши слезные письма успели добраться в лучшем случае до Европы, вслед за учениками-«дневниками» улизнули после занятий, отсиделись на вокзале Виктория и лишь вечером, когда Мотылек точно был дома и мог нас впустить, заявились на Рувини-Гарденс. Мы оба знали: Мотылек — единственный из взрослых, к кому мать прислушивается.
— Не вытерпели до выходных, да? — только и сказал он.
В кресле, которое обычно занимал отец, сидел кто-то худощавый.
— Это мистер Норман Маршалл. Он был лучшим боксером в полусреднем весе к северу от Темзы. Знаменитый «Стрелок из Пимлико» — может, слышали?
Мы помотали головами. Гораздо больше нас заботило, что Мотылек привел в отчий дом постороннего человека. Это было неожиданно. Кроме того, мы волновались из-за побега из школы и опасались того, как к этому отнесется наш непроверенный опекун. Однако Мотылек нашу самоволку в разгар учебной недели воспринял на удивление спокойно.
— Голодные, наверное? Разогрею вам фасоли из банки. На чем вы добрались?
— На поезде. А потом на автобусе.
— Хорошо.
С этими словами он отправился на кухню, оставив нас в компании Стрелка из Пимлико.
— Вы его друг? — спросила Рэчел.
— Не-а.
— Тогда почему вы здесь?
— Это отцово кресло, — сказал я.
Мои слова он пропустил мимо ушей, а Рэчел ответил:
— Он пригласил меня, дорогуша. Хочет в эти выходные поставить на собаку в Уайтчепеле. Бывали там?
Рэчел промолчала, словно не к ней обращались. Этот человек не был даже другом нашего квартиранта.
— Ты что, язык проглотила? — поинтересовался он, после чего перевел свои голубые глаза на меня. — Бывали на собачьих бегах?
Я покачал головой, и тут вернулся Мотылек.
— Вот. Две тарелки фасоли.
— Они не бывали на собачьих бегах, Уолтер.
Уолтер?
— В субботу и сходим. Во сколько там начало?
— Кубок О’Мира всегда в три пополудни.
— Этим детям можно отлучаться на выходные по моей записке.
— Вообще-то… — начала Рэчел.
Мотылек, повернувшись, ждал, что она скажет.
— Мы не хотим обратно.
— Уолтер, я сваливаю. Кажется, у тебя напряги.
— Да какие там напряги? — беззаботно откликнулся Мотылек. — Утрясем. Про сигнал не забудь. А то поставлю монеты на негодную псину.
— Лады. Лады…
Стрелок встал, зачем-то ободряюще сжал плечо сестры и вышел, оставив нас втроем.
Мы ели фасоль, а опекун смотрел на нас — без всякого осуждения.
— Позвоню в школу, предупрежу, чтобы не волновались. А то они наверняка уже в штаны наложили.
— У меня завтра прямо с утра контрольная по математике, — выложил я.
— Его чуть не отчислили за то, что он отлил в раковину, — сообщила Рэчел.
Находчиво и дипломатично пользуясь своим авторитетом, Мотылек на следующий день рано утром сопроводил нас в школу и полчаса беседовал с директором — наводящим ужас коротышкой, который имел обыкновение бесшумно скользить по коридорам в туфлях на каучуковой подошве. Меня поразило, откуда у человека, который питается с уличных лотков на Биггз-Роу, такой авторитет. Как бы то ни было, тем утром я вернулся в класс уже в статусе приходящего ученика, а Мотылек вместе с Рэчел отправился в ее школу улаживать оставшуюся часть проблемы. Так на второй неделе обучения мы снова стали «дневниками». О том, как к нашему радикальному переселению отнесутся родители, мы даже не задумывались.
Под руководством Мотылька мы постепенно приучились ужинать едой, купленной у местных уличных торговцев. Со времен блица движение на Биггз-Роу отсутствовало. За несколько лет до этого, вскоре после нашей с Рэчел эвакуации в Суффолк к бабке с дедом, бомба, предположительно целившая в мост Патни, упала и взорвалась на Хай-стрит, в четверти мили от Рувини-Гарденс. Молочный бар «Блэк-энд-Уайт» и данс-клуб «Синдерелла» были разрушены. Около сотни человек погибли. Это была ночь, как говорила бабушка, с «бомбежечной луной» — несмотря на затемнение, которое действовало везде, и в городах, больших и малых, и в деревнях, в лунном свете все они были видны как на ладони. Когда в конце войны мы вернулись на Рувини-Гарденс, многие улицы в округе до сих пор частично лежали в руинах, а на Биггз-Роу торговали три-четыре тележки — туда свозили невостребованную еду из отелей Вест-Энда в центре города. Поговаривали, будто часть этих объедков Мотылек сплавлял в соседние районы, к югу от реки.
Раньше мы с тележек никогда не ели, но теперь такая пища стала для нас привычной — опекун наш не желал ни готовить, ни держать в доме кухарку. Предпочитаю, говорил он, «жить на быстром ходу». Так что почти каждый вечер мы с ним стояли в очереди бок о бок то с оперной певицей, то с местными портными и обойщиками, которые носили инструменты за поясом, слушая их споры и обсуждения накопившихся за день новостей. На улице Мотылек несколько оживлялся, глаза его за стеклами очков цепко вглядывались в происходящее вокруг. Биггз-Роу оказалась его настоящим домом, его подмостками, где ему было привольнее всего, тогда как нас с сестрой не покидало ощущение, что мы вторглись на чужую территорию.
Несмотря на общительность во время вылазок за едой, Мотылек держался замкнуто. Почти никогда с нами не откровенничал. За вычетом редких проблесков любопытства — он постоянно расспрашивал о художественной галерее при моей школе и даже попросил нарисовать для него поэтажный план здания, — он, видимо, в силу военной привычки, предпочитал о себе помалкивать. Общение с молодежью давалось ему непросто.
— А вот послушайте-ка…
Его взгляд на миг оторвался от расстеленной на обеденном столе газеты.
— «До нас дошел слух, будто мистер Рэттиган заявил, что le vive anglais[1]— не педерастия и не флагелляция, а неспособность англичан выражать эмоции».
Тут он замолчал и стал ждать нашей реакции.
В пору своей подростковой категоричности мы были убеждены: женщин Мотылек не привлекает. Сестра составила список его характерных черт. Толстая черная линия бровей. Большой, но уютный живот. Огромный шнобель. Для скрытного человека, который любит классическую музыку и передвигается по дому преимущественно молча, слишком оглушительно чихает. Чих, казалось, не просто вырывается у него из носа, но зарождается в глубинах того самого, большого, но покладистого желудка. Тут же залпом следуют еще три-четыре сокрушительных «апчхи». Поздно ночью, различимые до единого звука, они разносились с чердака по всему дому — так шепот профессионального актера слышен со сцены в самом дальнем ряду.
Большинство вечеров он проводил, листая номера «Кантри лайф», разглядывая картинки величавых домов и одновременно потягивая из голубого, напоминающего наперсток стаканчика нечто, смахивающее по виду на молоко. Для человека, который так сетовал на засилье капитализма, он слишком уж пламенно интересовался аристократией. Наибольший интерес вызывал у него Олбани[2], куда с Пикадилли можно было попасть лишь через закрытый внутренний двор; однажды он пробурчал: «С удовольствием бы там побродил». То был редкий выплеск его криминальных желаний.
Обычно он уходил на рассвете и отсутствовал до сумерек. На второй день Рождества, когда я слонялся без дела, Мотылек взял меня с собой на Пикадилли-серкус. В семь утра я уже шагал рядом с ним по толстому ковру в вестибюле банкетного зала «Крайтирион», где он присматривал за повседневной работой персонала, преимущественно из иммигрантов. Едва закончилась война, бурной волной хлынули празднества. С полчаса Мотылек раздавал задания: кому пылесосить коридоры, кому драить и сушить ковры на лестницах, полировать перила, относить сотни грязных скатертей в подвальную прачечную. В зависимости от размаха предстоящего вечером банкета — было ли то чествование нового члена Палаты лордов, бар-мицва, бал дебютанток или же празднование напоследок дня рождения какой-нибудь гранд-дамы — он дирижировал персоналом, заполняя, словно в замедленной съемке, огромные пустые банкетные залы, пока наконец сотня столиков и шесть сотен стульев не оказывались подготовленными к вечерним торжествам.
Иногда Мотыльку приходилось присутствовать на мероприятиях, таиться молью в тенях скупо освещенного по периметру раззолоченного зала. Однако он явно предпочитал утренние часы, когда люди, никогда не попадавшиеся на глаза вечерним гостям, трудились в переполненном Большом зале длиной тридцать ярдов, словно на одном большом панно: ревели громадные пылесосы, люди на стремянках с помощью тридцатифутовых метелок смахивали паутину с люстр, а полировщики дерева маскировали запахи, оставшиеся с прошлой ночи. Ничего общего с пустынными кабинетами на работе у моего отца. Здесь все скорее напоминало вокзал, где у каждого пассажира — свое направление. Я забирался по узкой металлической лесенке наверх, где висели дуговые лампы — их зажигали для танцев, — и сверху на всех смотрел; а посреди этого огромного человеческого моря высилась фигура Мотылька — он в одиночестве восседал за каким-нибудь из сотни круглых обеденных столов и, наслаждаясь царящим вокруг хаосом, заполнял учетные ведомости, прекрасно представляя, где находится или должен находиться каждый рабочий на всех пяти этажах здания. Все утро он следил за тем, как чистят серебро и украшают торты, как смазывают колеса тележек и двери лифтов, как счищают пушинки и блевотину, как возле каждой раковины кладут по новому куску мыла, а в каждый писсуар — по хлорной таблетке, как поливают тротуар перед входом, как иммигранты выводят на праздничных тортах непривычные английские имена, как крошат кубиками лук, разделывают тесаками свиней — в общем, готовят все, что через двенадцать часов может потребоваться гостям в залах Айвора Новелло или Мигеля Инвернио.
Наружу мы вынырнули ровно в три пополудни. Мотылек исчез, и я возвращался домой один. Иногда вечером его могли срочно вызвать в «Крайтирион», однако чем мой опекун был занят с трех часов дня и до возвращения на Рувини-Гарденс, оставалось загадкой. Многогранный он был человек. Возможно, имелись и другие занятия, которым он изредка посвящал час-другой своего времени? Какая-нибудь почтенная благотворительность, организация беспорядков? Один субъект, которого мы встретили, намекнул, что два дня в неделю после обеда Мотылек работает в Семитско-радикальном международном союзе портных, швей и гладильщиц. Но скорее всего это была такая же легенда, как и про «пожарное наблюдение» во время войны. Теперь-то до меня дошло, что крыша отеля «Гровенор-Хаус» лучше всего подходила для бесперебойной радиосвязи с союзными войсками в Европе за спиной у врага. Там Мотылек с матерью и пересеклись. Однажды нам удалось ухватить обрывки историй об их деятельности на войне, но после отъезда матери Мотылек отдалился и держал язык за зубами.
Адовы муки
В конце той первой зимы, что мы жили с Мотыльком, Рэчел притащила меня в цокольный этаж и там, сдернув брезент, извлекла из составленных одна в одну коробок материн сундук. Он оказался здесь, а вовсе не в Сингапуре. Словно по волшебству, взял и вернулся домой после путешествия. Я промолчал. Вылез по лестнице из подвала. Думаю, испугался, что заодно там обнаружится ее тело, поверх столь прилежно свернутой и уложенной одежды. Грохнула входная дверь — Рэчел ушла.
Когда ближе к ночи вернулся Мотылек, я был в своей комнате. Сказал, что вечер в «Крайтирионе» не задался. Обычно, если мы сидели у себя, он нас не беспокоил. А тут постучался и вошел.
— Ты не поел.
— Поел, — сказал я.
— Не поел. Я же вижу. Я тебе что-нибудь сготовлю.
— Спасибо, не надо.
— А хочешь…
— Спасибо, не надо.
Я отводил глаза. Он постоял, помолчал. Наконец тихо окликнул:
— Натаниел.
И всё. Потом спросил:
— Рэчел где?
— Не знаю. Мы нашли ее сундук.
— Да, — тихо сказал он. — Он и вправду здесь, Натаниел.
Помню, как экономно он ронял слова, как повторял мое имя. Снова повисло молчание; да я все равно был глух к любым звукам извне. Сидел, нахохлившись. Не знаю, сколько прошло времени, когда он отвел меня вниз, в цокольный этаж, — и открыл сундук.
Внутри, сложенные, словно на веки вечные, лежали все те наряды и вещи, которые она на наших глазах так картинно собирала, сопровождая каждую пояснением, зачем ей понадобится конкретно это платье до середины икры или та шаль. Шаль она возьмет обязательно, заверяла она, ведь это наш подарок на день рождения. А та жестяная банка — без нее просто не обойтись. И без тех повседневных туфель тоже. Все было для чего-то и не просто так. И все осталось лежать здесь.
— Если ее там нет, то и он тоже не там?
— Он там.
— Почему он там, если ее там нет?
Молчание.
— Где она?
— Не знаю.
— Знаете. Вы же уладили все со школой.
— Сам справился, без ее участия.
— Вы с ней на связи, сами сказали.
— Да. Сказал. Но где она сейчас, я не знаю.
В том холодном цокольном этаже он так и держал меня за руку, пока я не выдернул ее и не убежал наверх, в темную гостиную, к газовому камину. Я слышал, как он поднимается по лестнице, проходит мимо комнаты, в которой я сижу, и уходит к себе в мансарду. Если попросить меня навскидку вспомнить какой-нибудь фрагмент из юности, это будет наш темный дом в тот вечер, в те часы, когда исчезла Рэчел. С тех пор странное выражение «адовы муки» для меня навсегда слилось с моментом, когда в доме находились только мы с Мотыльком и я сидел, прильнув к камину.
Он пытался уговорить меня поесть вместе с ним. В ответ на отказ вскрыл две банки сардин. Две тарелки — одну себе, другую мне. Мы сидели у камина. В темноте, в слабом красноватом свете газа он пришел и сел рядом со мной. Наша беседа вспоминается мне смутно, беспорядочно. Он словно бы пытался объяснить, вскрыть то, о чем я тогда еще не догадывался.
— Где мой отец?
— У меня нет с ним связи.
— Но мать поехала к нему.
— Нет.
Он на мгновение задумался, подбирая слова.
— Поверь, она сейчас не там, где он.
— Но она его жена.
— Я в курсе, Натаниел.
— Она умерла?
— Нет.
— Она в опасности? Куда ушла Рэчел?
— Рэчел я найду. Подождем еще немного.
— Мне страшно.
— Я буду здесь, с тобой.
— Пока мать не вернется?
— Да.
Молчание. Хотелось встать и уйти.
— Помнишь кота?
— Нет.
— У тебя был кот.
— Не было.
— Был.
Из вежливости я промолчал. Кота у меня никогда не было. Не люблю кошек.
— Я стараюсь держаться от них подальше, — сказал я.
— Знаю, — сказал Мотылек. — А по-твоему, почему? Почему ты их сторонишься?
Газ зашипел, и Мотылек, встав на колени, бросил в щель живительную монетку. Пламя освещало его лицо слева. Он так и замер в этом положении, словно знал: отодвинься он, и его снова поглотит темнота, а ему хотелось быть у меня на виду, поддерживать доверительный контакт.
— У тебя был кот, — снова сказал он. — Ты его очень любил. Других питомцев у тебя в детстве не водилось. Он был маленький. Ждал тебя, когда ты возвращался домой. Мы ведь помним далеко не все. Помнишь ты самую первую свою школу? Ту, еще до переезда на Рувини-Гарденс?
Я покачал головой, не сводя с него глаз.
— Ты очень любил этого кота. Ночью, когда ты засыпал, он заводил песнь. Звуки, которые он издавал, были не слишком мелодичные, зато от души. Твоего отца это раздражало. У него был чуткий сон. Из-за войны он стал бояться внезапных звуков. Завывания кота сводили его с ума. Ваша семья тогда жила на окраине Лондона. В Талс-Хилле, кажется. Где-то там.
— Откуда вы это знаете?
Он, казалось, меня не слышал.
— Да, в Талс-Хилл. Талс — что это значит? Отец не раз тебя предупреждал. Помнишь? Входил к тебе в комнату, она была рядом с их, родительской, брал кота и выставлял на остаток ночи за дверь. Но выходило только хуже. Кот орал песни еще громче. Твой отец, конечно, не знал, что кот так поет. Один ты это знал. И втолковывал отцу. Штука была в том, что кот сначала дожидался, когда ты уснешь, словно не хотел своими воплями тебе помешать. В общем, в одну из ночей твой отец его убил.
Я пристально смотрел в огонь. Мотылек еще сильнее подался вперед, к свету, и я вынужденно взглянул ему в лицо — оно было человечным, хоть и казалось охваченным огнем.
— Утром ты никак не мог найти кота, и отцу пришлось признаться. Он сказал, что сожалеет, но эти звуки были невыносимы.
— А я что?
— Убежал из дома.
— Куда? Куда я мог пойти?
— Ты отправился к другу своих родителей. И сказал ему, что теперь будешь жить у него.
Молчание.
— Твой отец, он был блестящим человеком, но с нестабильной психикой. Пойми, война сильно его подкосила. И дело было не только в неприязни к внезапным звукам. В нем была скрытность, потребность в одиночестве. Твоя мать это понимала. Возможно, ей стоило тебе об этом рассказать. Война — штука поганая.
— А вы откуда все это знаете? Откуда?
— Мне рассказали, — ответил он.
— Кто вам рассказал? Кто…
И тут я осекся.
— В тот день ты пришел жить ко мне. Ты мне и рассказал.
Мы оба притихли. Мотылек приподнялся и отодвинулся от огня, и его лицо в темноте стало почти неразличимым. Но говорить так оказалось проще.
— Долго я у вас пробыл?
— Не очень. В конце концов, пришлось отвезти тебя домой. Помнишь?
— Не знаю.
— Какое-то время после этого ты не разговаривал. Так тебе казалось безопаснее.
Сестра явилась домой поздно, сильно за полночь. Казалась равнодушной, с нами разговаривала через губу. Мотылек ее не ругал, спросил только, пила ли она. Рэчел пожала плечами. Вид у нее был усталый, руки и ноги чем-то испачканы. После той ночи Мотылек сознательно стал уделять ей больше внимания. Мне же казалось, будто она перешла некий рубеж и теперь где-то далеко, не со мной. В конце концов, именно она обнаружила чемодан, что наша мать «забыла» взять с собой в самолет, на котором ей предстояло двое с половиной суток лететь в Сингапур. Ни шаль не взяла, ни жестяные банки, ни платье длиной до середины икры, в котором следует кружиться на танцевальном вечере — с отцом или с кем она там, где она сейчас. Однако Рэчел отказывалась об этом говорить.
Малер в своих партитурах ставил над отдельными пассажами слово schwer. То есть «тяжело». «Трудно». Мотылек тоже порой употреблял это слово — в качестве предупреждения. Например: к таким моментам нужно готовиться, тогда вы сумеете достойно с ними справиться, не потерять голову. Такие времена случаются с каждым из нас, повторял он. Партитура ведь никогда не пишется с расчетом только на одну высоту звука или на усилия одного музыканта. Бывает, ставка делается на тишину. Странное это было предупреждение, своеобразный призыв не рассчитывать на безопасность.
— Schwer, — говорил он, жестом беря это слово в кавычки, и мы повторяли за ним и это слово, и что оно значит, либо просто нетерпеливо кивали в ответ.
У нас сестрой вошло в привычку вворачивать это слово где надо и не надо — schwer.
* * *
В последующие годы, когда я делал эти записи, мне часто казалось, что я пишу при свете свечи. И что за движущимся по бумаге карандашом — тьма и ничего не разглядеть. В такие моменты я казался себе отрезанным от всего. Мне рассказывали, что Пикассо в молодости рисовал исключительно при свечах — чтобы ухватить изменчивый танец теней. Я же в детстве сидел за письменным столом и чертил детальные карты, веером расходящиеся в окружающее пространство. Все дети их чертят. Но я добивался скрупулезной точности: вот наша улица в форме подковы, вот магазины на Лоуэр-Ричмонд-Роуд, пешеходные дорожки вдоль Темзы, мост Патни (длиной ровно семьсот футов), кирпичная стена кладбища Бромптон (высота — двадцать футов) и в завершение — кинотеатр «Гомон» на углу Фулхем-Роуд. Я вычерчивал ее каждую неделю, тщательно внося малейшие изменения, словно иначе могло произойти что-то страшное. Мне нужен был островок безопасности. Если бы кто поместил две такие самодельные карты рядом, получился бы эдакий газетный ребус «Найдите десять отличий» в почти идентичных с виду картинках — время на циферблате, незастегнутая куртка, тут кот есть, тут — нету.
Иногда по вечерам, в октябрьское ненастье, мне чудится в темноте моего сада, обнесенного стеной, что, когда с восточного побережья налетает ветер, стены, подрагивая от натиска, перенаправляют его вверх, в воздух над моей головой, и я знаю: ничто не вторгнется, не нарушит уединения, обретенного мной в этой согретой темноте. Я словно защищен от прошлого, от страха вновь увидеть лицо Мотылька, освещенное газовым камином, и себя, задающего вопрос за вопросом в попытке приоткрыть незнакомую дверь. От прошлого, в котором я энергично бужу любовницу, с которой имел отношения подростком. Пусть даже в те времена я возвращаюсь крайне редко.
Был период, когда архитекторы занимались не только зданиями, но и реками. Кристофер Рен возвел собор Святого Павла, а заодно преобразовал низовья реки Флит, расширив ее берега и приспособив для транспортировки угля. Со временем, однако, Флит окончила свои дни в сточных трубах. А когда даже подземные коллекторы пересыхали, их величественные, в стиле Рена, сводчатые туннели и аркады становились местом нелегальных сборищ — по ночам в сухом русле, по которому некогда бежали речные воды, скапливались горожане. Меняется всё. Ни литературная, ни художественная слава не способны защитить наш бренный мир. Пруд, который писал Констебл, засыпали — теперь там Хэмпстед-Хит. А небольшой приток реки Эфры подле Херн-Хилла, которую Рескин описал как «облюбованную головастиками канаву» и прелестно изобразил на бумаге, существует ныне лишь на архивных чертежах. Древняя деревушка Тайберн исчезла, ее потеряли даже географы и историки. Во многом по той же причине тщательно фиксируемые мной здания на Лоуэр-Ричмонд-Роуд казались мне пугающе недолговечными — так во время войны мы теряли великие строения, так теряли матерей и отцов.
Благодаря чему нам удавалось сохранять внешнее равнодушие к отсутствию родителей? Отца, которого мы видели поднимавшимся на борт «Авро Тюдор» на рейс до Сингапура, я едва знал. Но где была мать? У меня вошло в привычку забираться на второй этаж какого-нибудь медленно ползущего автобуса и ездить, всматриваясь в пустые улицы. В некоторых районах города вообще никого не было, лишь бродили стайки детей — одиноко и безучастно, как маленькие призраки. То было время призраков войны: серые здания даже с наступлением темноты стояли без огней; на разбитых окнах вместо стекол чернели куски плотной ткани. Город по-прежнему ощущал себя обессилевшим подранком. Правил больше не существовало, живи как знаешь. Худшее уже случилось. Разве нет?
Признаюсь, порой Мотылек казался мне опасным типом. Была в его поведении какая-то неровность. Он не то чтобы с нами дурно обращался, только откуда ему, холостяку, было знать, как говорить правду детям — поэтому, наверное, Мотылек частенько нарушал порядок, давно и прочно заведенный в нашем доме. Это когда, к примеру, ушей ребенка достигает сугубо взрослая шутка. Человек, которого мы считали застенчивым тихоней, оказался таинственным и угрожающим. Так что, хотя верить в сказанное им у камина не хотелось, пришлось принять это к сведению.
В первые недели после того, как мать уехала и мы остались с Мотыльком, к нам захаживали в гости лишь двое — Пимлико и оперная певица с Биггз-Роу. Возвращаясь из школы, я иногда заставал ее с Мотыльком за обеденным столом — они шуршали листками с нотами и карандашом отслеживали главную партию. Тогда наш дом еще не кишел не пойми кем. На рождественских каникулах дом заполонили знакомцы Мотылька; большинство из них засиживались допоздна, и сквозь сон мы слышали обрывки разговоров. Даже в полночь, бывало, лестница и гостиная были залиты светом. Но и в этот час разговоры велись строго по существу. Кто-нибудь непременно требовал совета — срочно, напористо, въедливо.
— Какой препарат дать собаке перед забегом, чтобы комар носу не подточил? — однажды услышал я.
Подобные обсуждения не казались нам с сестрой совсем уж необычными. Чем-то они напоминали нам тот единственный случай, когда Мотылек и наша мать пустились в воспоминания о военной деятельности.
Но кем были все эти люди? Может, они работали с Мотыльком во время войны? Словоохотливый пасечник, мистер Флоренс, из-за своих прежних скрытых прегрешений до сих пор находившийся «под колпаком», рассказывал, как во время итальянской кампании приобрел свои сомнительные таланты по части анестезии. Стрелок утверждал, что в Темзе незаконно действует столько гидролокаторов, что в Гринвичском городском совете решили, будто в устье заплыл кит. Друзья Мотылька держались левее, чем даже новая партия лейбористов, — мили на три или около того. И наш дом, такой чинный и просторный при родителях, теперь гудел, словно улей, и полнился неуспокоенными душами, которым во время войны довелось легально нарушать определенные границы, а теперь, в мирное время, нарушать их неожиданно запретили.
Среди них был, например, «кутюрье», чье имя никто никогда не произносил (все звали его Цитронеллой), который в войну бросил успешную торговлю мужской одеждой, стал шпионить на правительство, а сейчас плавно перевоплощался обратно в модельера и обслуживал младших членов королевской фамилии. Чем всех этих людей привлекала компания Мотылька, мы не имели ни малейшего представления: после школы мы садились у камина и жарили оладьи. Наш дом, похоже, находился в оппозиции к окружающему миру.
Вечерние посиделки закончились внезапным и одномоментным исчезновением всех гостей; воцарилась тишина. Теперь, если нам с Рэчел случалось засидеться допоздна, мы точно знали, что будет делать Мотылек. Несколько раз мы видели, как он бережно берет в руки пластинку, сдувает с нее пыль, аккуратно протирает рукавом. Нижние этажи постепенно наводняет крещендо. Это совсем не та спокойная музыка, которая доносилась из его комнаты, пока с нами была мать. Эта — неистовая, сумбурная, диковатая. То, что по вечерам он ставил на родительском граммофоне, напоминало скорее грозу, что-то тяжелое, обрушивающееся с большой высоты. Лишь когда эта зловещая музыка смолкала, Мотылек ставил другую пластинку — тихий голос пел соло, — и через минуту-другую мне начинало казаться, что в доме женщина, и эта женщина — моя мать. Я ждал этого, ждал и посреди этого ожидания погружался в сон.
В конце семестра, перед каникулами Мотылек предложил: если я хочу подзаработать, он готов подкинуть мне на это время кое-какую работенку. Я осторожно кивнул.
«Нечестивое человеколюбие мальчика-лифтера»
Девять гигантских барабанов бесконечно вращали белье в подвальном помещении «Крайтириона». То была серая вселенная, без окон и солнечного света. Я работал с Тимом Корнфордом и человеком по фамилии Толрой. Мы отвечали за скатерти и, когда машины останавливались, вытаскивали их оттуда и через все помещение перетаскивали в другие машины, которые разглаживали их паром. От влаги одежда становилась волглой и тяжелой, и перед тем как катить сложенные отутюженные скатерти на тележках в коридор, мы скидывали ее с себя и пропускали через отжимной каток.
В первый день я думал: приду домой и все подробно расскажу Рэчел. Но в итоге смолчал — смущала прежде всего боль в плечах и ногах, а еще острое чувство наслаждения, с которым я умял с сервировочной тележки приготовленный для гостей десерт с винной пропиткой. По возвращении домой меня хватило лишь на то, чтобы развесить на перилах так и не просохшую одежду и забраться в постель. Меня бросили в изнурительную водную жизнь, и отныне я редко видел опекуна — он, маховик с тысячей спиц, был вечно занят. А дома не желал от меня слушать не то что жалобы — намека на нее. Как мне работалось, не обижал ли кто меня, — это его не волновало.
Мне предложили место в ночную смену на полторы ставки, и я за него ухватился. Стал лифтером — скучающим невидимкой в обитой бархатом кабине, — а на другой вечер облачился в белую куртку и с важным видом нес вахту в туалетной комнате, хотя гости совершенно во мне не нуждались. Чаевые приветствовались, но те вечера оказались неурожайными, домой я возвращался не раньше полуночи, а в шесть уже надо было вставать. В итоге я предпочел прачечную. Как-то раз, за полночь, когда завершилось какое-то торжество, мне передали, что я нужен в кладовой на выгрузке предметов искусства. Во время войны важные скульптуры и картины были увезены из Лондона и спрятаны в сланцевых шахтах Уэльса. Менее ценные произведения разместили в подвалах крупных отелей и на время о них забыли, а теперь постепенно стали доставать на свет божий.
Никто из нас доподлинно не знал, как далеко простирались ходы под «Крайтирионом», может, они шли под всей Пикадилли-серкус, но там, внизу, стояла нещадная жара, и ночная обслуга работала почти голышом, с натугой выволакивая из темноты такие же обнаженные статуи. Мне поручили управлять лифтом и доставлять этих мужчин и женщин — у кого-то из них не было конечностей, кто-то лежал на боку с собаками в ногах, кто-то боролся со зверем — наверх в вестибюль, и на время у главного входа сделалась толпа, как в часы самого большого наплыва гостей: запыленные святые, иногда со стрелами под мышкой, вежливо выстроились в ряд, словно ожидая очереди на регистрацию. Протягивая руку к медной рукоятке, чтобы, вращая ее, поднять нас наверх, я, скованный тесным пространством служебного лифта, провел рукой по лону одной из богинь. Затем отворил решетку, и статуи проплыли мимо меня на платформах прямиком в Большой зал. Я и не знал, что в мире столько святых и столько героев. К рассвету они разъехались по разным городским музеям и частным коллекциям.
После тех коротких каникул я тщательно изучил в зеркале школьного туалета свое отражение — вдруг во мне что-то изменилось, прибавились новые знания и умения, — после чего продолжил знакомство с математикой и географией Бразилии.
Мы с Рэчел часто соревновались, кто лучше изобразит Стрелка. Например, его походку, вкрадчивую, словно он приберегал силы напоследок. (Может, он ждет schwer, говорила Рэчел.) Сестра, у которой всегда получалось лучше, даже ухитрялась изображать, будто уворачивается от луча прожектора. Стрелок в отличие от Мотылька был стремителен. Он прекрасно себя чувствовал в условиях ограниченного пространства. Да и прославился он впервые как Стрелок Пимлико в тесном квадрате боксерского ринга, и мы были (несправедливо) уверены, что в свое время он провел сколько-то месяцев в схожей по размеру — девять на шесть футов — тюремной камере.
К тюрьмам мы испытывали огромный интерес. За неделю-другую до отъезда матери мы с Рэчел, играя в следопытов из «Последнего из могикан», задумали проследить ее перемещения по Лондону. Дважды пересаживались на другой автобус и пришли в ужас, увидев, как мать вступила в разговор с каким-то высоченным типом, который взял ее под локоть и увел за стены тюрьмы Уормвуд-Скрабс[3]. Мы дружно отступили домой, полагая, что никогда больше не увидим мать, и засели в пустой гостиной, не зная, что делать, а потом смутились еще больше — когда она вдруг вернулась, аккурат ко времени приготовления ужина. Когда мы нашли ее сундук, я почти убедил себя в том, что она вовсе не уехала ни в какую Юго-Восточную Азию, а законопослушно вернулась к тем тюремным воротам, чтобы понести отсроченное наказание за какое-то преступное деяние или еще что-нибудь в этом роде. А если уж за решетку упрятали нашу мать, то Стрелок, которому закон вообще не писан, точно однажды должен был там очутиться. Такой человек, как он, думали мы, с легкостью совершит побег через какой-нибудь клаустрофобный лаз.
Во время следующих каникул я снова подался в «Крайтирион» — судомоем. На этот раз вокруг толклось много людей, и почти все они готовы были бесконечно слушать истории — хоть подлинные, хоть выдуманные. О том, например, как кто-то, чтобы попасть в страну, тайком спрятался в грузовом отсеке польского судна, в котором везли кур, а в Саутгемптоне, весь в перьях, выпрыгнул за борт; а кто-то оказался байстрюком англичанина, игрока в крикет, который обрюхатил его мать где-то далеко, то ли в Антигуа, то ли в Порт-оф-Спейне, — все эти признания выкрикивались, как со сцены, поверх доносящегося со всех сторон звяканья тарелок, вилок, воды, утекающей из кранов, словно само время. Меня, тогда уже пятнадцатилетнего, все это приводило в восторг.
На время обеда, который наступал, когда придется, все менялось. Получасовой перерыв проходил в тишине, одному-двум доставался жесткий стул, остальные располагались на полу. Потом наступал черед баек про секс, где встречались словечки вроде «пизды» и фигурировали сестры, братья и матери лучших друзей — они соблазняли желторотиков, парней и девушек, и преподавали им науку любви с щедростью и альтруизмом, каких в реальности мало. Весь обеденный перерыв занимали пространные, вдумчивые уроки мистера Нкомы, приметного мужчины со шрамом на щеке, по сношениям во всех возможных вариациях, и остаток дня среди тарелок и кастрюль я проводил, контуженный его откровениями. А если, к счастью, назавтра или через день мистер Нкома работал у первой раковины, рядом со мной, рассказ — словно длинный, интригующий сериал о молодости моего нового друга — продолжался ровно со следующего сексуального эпизода. В описываемой им вселенной обольщения никто никуда не спешил, мужей никогда не было дома, заодно не было и детей. В молодости мистер Нкома брал уроки игры на фортепиано у миссис Рэфферти, и однажды вечером в этой явно выдуманной истории настала кульминация: в банкетном зале, когда человек двенадцать украшали сцену к вечернему мероприятию, мистер Нкома подкатил к фортепиано стул, сел и заиграл шикарную мелодию. Длилось это минут десять, и за это время никто не шелохнулся. Он не пел, лишь перебирал клавиши умелыми пальцами, страстно и вдумчиво, и пришлось с удивлением признать: то, что мы считали байками, — чистая правда. Окончив, он с полминуты сидел, а потом опустил крышку инструмента — тихо, словно это само по себе и было концом, а может, подтверждением подлинности истории о том, как в городке Ти Роше, в четырех тысячах миль от Пикадилли-серкус, миссис Рэфферти давала ему уроки.
Как отразились его мимолетные рассказы на подростке, каким я тогда был? Когда я вспоминаю те моменты, мистер Нкома представляется мне не сорокашестилетним мужчиной, а ровесником мне тогдашнему, пареньком по имени Гарри Нкома, которому миссис Рэфферти подала в высоком бокале чай из листьев гравиолы, после чего, усадив, стала негромко расспрашивать о том, чем бы ему хотелось в жизни заниматься. Если он что и присочинил, так это красочные эпизоды секса, с такой непринужденностью живописуемые им перед маленькой обеденной аудиторией, — на впечатления невинной юности в них явно накладывался позднейший опыт умудренного взрослого мужчины. На самом же деле паренек со шрамом, а может, пока без, пришел в компании двух других мальчиков-посыльных в дом к миссис Рэфферти, и во время той первой встречи она спросила:
— Ты ведь учишься в одной школе с моим сыном, да?
И Гарри Нкома ответил:
— Да, мэм.
— А чем бы тебе хотелось в жизни заниматься?
Он поглядывал в окно, почти не обращая на нее внимания.
— Хотелось бы в группе играть. На барабанах.
— О, — сказала она, — на барабанах каждый может играть. Ты лучше научись на фортепьяно.
— Она была такая красивая…
До сих пор помню, как Гарри Нкома с мастерством заправского романиста нам ее описывал: яркое платье, узкие босые ступни, изящные смуглые пальчики и ноготки, покрытые светлым лаком.
Через все годы он пронес память о четком абрисе мышцы на ее руке. Без малейших колебаний я, как некогда Гарри Нкома, влюбился в эту женщину, которая только и умела, что находить подход к юнцу, внимательно слушать и вникать в то, что он говорил и что она сама собиралась сказать, молчать, приносить что-нибудь из холодильника — всеми этими предуготовлениями постепенно подводя, если верить взрослому Гарри, к таким сексуальным сценам, которые нас, сидевших в «Крайтирионе» на полу возле раковин, у ног возвышавшегося на одном из двух наших стульев мистера Нкомы, совершенно завораживали и ошеломляли.
Руки ее, сказал он, когда касались его тела, были словно листья. Когда он в нее кончил — о этот удивительный, потрясающий магический акт! — она отвела ему волосы со лба и гладила по голове, пока сердце у него не перестало частить. Каждый нерв, казалось, наконец замер. До него дошло, что она оставалась почти полностью одетой. В конце все произошло так быстро — не было ни неуверенности, ни угрызений совести. Затем она медленно сняла одежду, изогнулась и слизнула с него последнюю каплю. Мылись они под краном на улице. Она вылила ему на голову три-четыре ведра воды, и та заструилась по ставшему вдруг бессмысленным телу. Она подняла ведро, и вода потекла по ней, а она провожала струйки ладонью, омывая себя.
— Ты мог бы выступать с концертами в различных уголках мира, — сказала она потом, в какой-то другой день. — Хочешь?
— Да.
— Тогда я стану тебя учить.
Я тихо сидел на полу, слушая эти подлинные откровения, которые, я уже знал, не имели отношения к реальности, а были порождением мечты.
В тележечном коридоре, между кухней и служебным лифтом на банкетный этаж, мы играли в «царя горы». До какого бы захватывающего эпизода ни добрался рассказчик, как бы ни валился от усталости персонал, — за десять минут до конца перерыва все делились на две команды по пять игроков и пытались спихнуть друг друга с бетонного квадрата шесть на шесть футов. В этой игре не требовалось мастерски давать пас или бегать, главное — устойчивость и натиск, когда твоя команда скопом бросается вперед; все происходило в полной тишине, и оттого распаляло еще больше. Ни крепких словечек, ни рыка, ни вскриков боли — ничего, что выдавало бы анархию, творящуюся в тележечном коридоре, — ну прямо эпизод мятежа из какой-нибудь старой немой киноленты. Скрип туфель, звук падающих тел — вот все, что выдавало наши беззакония. А потом, полежав и отдышавшись, мы вставали и снова принимались за работу. Мы с мистером Нкомой возвращались к огромным раковинам: подставляли хрупкие бокалы под вращающиеся щетки, выдержав полсекунды, совали в кипяток, откуда, когда они выпрыгивали обратно, их выуживали вытиральщики и складывали стопками. За пятнадцать минут мы управлялись с сотней бокалов. С тарелками и приборами возни было больше, но теперь ими занимались другие, и только мы с Гарри Нкомой, весь обеденный перерыв травившим байки, единственные погружались в заслуженный — ведь эти истории и были из области сновидений — сон. В ушах стоял шум кухни, из кранов хлестала вода, жужжали перед нашим носом огромные мокрые щетки.
Почему мне до сих пор памятны те дни и ночи в «Крайтирионе» — вешняя пора моей мальчишеской юности, время, в сущности, малозначительное? Мужчины и женщины, которых я потом встречу на Рувини-Гарденс, взбаламутят меня куда сильнее, больше повлияют на мой жизненный путь. Наверное, оттого, что то был единственный раз, когда я, подросток, оказался совсем один, незнакомец среди незнакомцев, и мог сам выбирать среди тех, с кем трудился бок о бок у раковин и играл в «царя горы», союзников и врагов. Когда я случайно сломал нос Тиму Корнфорду, тот весь остаток дня после обеда это скрывал, иначе бы ему не заплатили. Тим поднялся, ошеломленный, в крови, замыл рубашку под краном и снова принялся красить облупившуюся половицу, чтобы к появлению гостей та успела высохнуть. К шести вечера почти вся «нижняя» обслуга покидала здание — так маленькие башмачники должны исчезать до возвращения настоящих хозяев.
Теперь я уже рад был тому, что Мотыльку все равно, как я уживаюсь на работе и в какие передряги попадаю. Приобретаемыми познаниями я ни с кем не делился — не только с ним, но даже с сестрой, которой раньше выкладывал всё. Дальше этого секс-байки Гарри Нкомы не заходили, но рассказы о послеполуденных часах с миссис Рэфферти продолжались, зародив между нами короткую, осторожную связь. Помню, как ходили вместе на пару футбольных матчей и наорались там до хрипоты или как после изматывающего рабочего дня разглядывали свои обваренные пальцы и сравнивали, у кого на каком больше складочек, — и даже этими натруженными руками Нкома выдавал на фортепьяно такое, что полный зал работяг «Крайтириона» замирал. Куда он в итоге подался с такими способностями? Он уже тогда был не первой молодости. Гарри и потом продолжал донимать всех своими историями — вот все, что мне было о нем известно. Но как же будущее, которое обещала ему миссис Рэфферти? Никогда я об этом не узнаю. Я потерял его из виду. Если нам случалось закончить работу в одно время, мы вместе шли до автобусной остановки. Меньше получаса — и я был дома. Он добирался двумя автобусами, полтора часа. Побывать друг у друга в гостях нам не довелось.
* * *
Мотылька время от времени кто-нибудь называл Уолтером, но мы с Рэчел считали, что то расплывчатое прозвище, которое придумали мы, подходит ему больше. Мы до сих пор не определились с нашим к нему отношением. Неужели он правда нас защищал? Мне до ужаса хотелось правды и надежного укрытия, прямо как тогда, когда я, шестилетка, прибежал к нему, спасаясь от отца-злодея.
Чем, например, руководствовался Мотылек, как отфильтровывал тех специфических индивидов, которые набивались к нам в дом? Их присутствие, хоть и казалось неуместным, приводило нас с Рэчел в восторг. Случись матери телефонировать нам из своего неизвестного далека, мы бы с легким сердцем аккуратно соврали, что все в порядке, и ни словом не упомянули бы о незнакомцах, прямо сейчас теснящихся в доме. На нормальную семью — даже на швейцарскую семью Робинзонов после кораблекрушения — все это ни в малейшей степени не походило. Скорее дом напоминал ночной зоопарк с кротами, сороками и всяческими хромоножками, которые на поверку оказывались шахматистами, садовником, умыкателем грейхаундов (предположительно), тихоходной оперной певицей. Когда я пытаюсь припомнить, кто из них чем занимался, в памяти всплывают сюрреалистические, бессвязные моменты. Вот, например, мистер Флоренс, раскуривающий дымарь, которым обычно усмиряют и одурманивают пчел, в лицо охраннику в Далиджской картинной галерее, чтобы усыпить того дымом от горящей гнилушки и снотворного угля. Через какое-то время служивый — руки ему держали за спинкой стула — уронил голову на грудь, смирный, как заснувшая пчела, а мы выбрались из галереи с двумя или тремя акварелями; напоследок мистер Флоренс выпустил в бессознательное лицо прощальный залп дыма.
— Отлично! — тихо рыкнул он, довольный, словно провел от руки безукоризненно прямую линию, и вручил мне горячий дымарь. — Неси аккуратно.
Много у меня в памяти таких разрозненных и постыдных моментов, убранных подальше и бессмысленных, как брошенные вещи из сундука моей матери. А цепочка событий в каких-то, наверное, предохранительных целях распалась.
Ежедневно мы с Рэчел садились в автобус, потом на вокзале Виктория — на поезд и ехали каждый в свою школу, где минут пятнадцать до звонка я слонялся вместе с другими мальчиками, бурно обсуждая радиошоу, которое передавали минувшим вечером, «Таинственный час» или одну из тех получасовых комедий, в которых что ни шутка, то почти всегда с «бородой». Но я теперь редко слушал передачи: только устроишься перед радио, как кто-нибудь ввалится и помешает, или Мотылек решит повести нас в город, и я вернусь таким уставшим, что уже не до «Таинственного часа». Уверен, что и Рэчел, как я, молчала о том, что теперь творится у нас дома, — о Стрелке, пасечнике, который из-за своих прошлых прегрешений до сих пор находился «под колпаком», а главное — о том, что наши родители «отчалили». Подозреваю, она, как и я, притворялась, будто слушала все эти радиошоу, и так же кивала, смеялась и делала вид, что триллер, которого ни она, ни я не слышали, до ужаса ее напугал.
Мотылек иногда исчезал на два-три дня, обычно без предупреждения. Мы ужинали сами и наутро тащились в школу. Позже он мельком сообщал, что мы были в полной безопасности: Стрелок на машине патрулировал окрестности — удостовериться, что у нас тут «пока не полыхает»; правда, при мысли о том, что Стрелок где-то рядом, нам уже делалось не по себе. В иные вечера мы слышали, как ревет мотор его «Морриса», когда он, высаживая в полночь нашего опекуна, выжимает одновременно педали газа и тормоза и, пьяно хохоча на всю улицу, уносится прочь.
Такой чуткий к музыке, Мотылек оказался глух к явственной нотке анархии в характере Стрелка. Что бы ни делал этот бывший боксер, все оказывалось с опасным креном, того и гляди опрокинется. Хуже всего были гонки в битком набитой машине: когда мы ехали в Уайтчепел, впереди сидели они с Мотыльком, а сзади сражались за место мы с Рэчел, а иногда еще и три грейхаунда. Мы даже не знали, его ли это собаки. Он почти никогда не звал их по кличкам — они сидели напряженные, дрожащие, упираясь нам в колени своими костлявыми лапами. Один все норовил шарфом обвиться вокруг моей шеи, прижимаясь теплым пузом, и где-то в районе Клапхема пустил, то ли от страха, то ли по нужде, струю мне на рубашку. А я после собачьих бегов собирался в гости к школьному приятелю и возмутился, но Стрелок в ответ так хохотал, что чуть не врезался в фонарь на пешеходном переходе. Нет, уж с ним мы точно не чувствовали себя в безопасности. Было ясно, что он просто нас терпит и вообще бы предпочел, чтобы мы оставались в «доме Уолтера», как он именовал наш отчий дом. Но машина-то хотя бы была его? Не факт, потому как, по моим наблюдениям, номерные знаки у синего «Морриса» часто менялись. Но Мотыльку нравилось держаться в кильватере Стрелка. Застенчивые люди вообще любят держаться поближе к подобным типам — для маскировки. В общем, когда Мотылек отлучался, мы тревожились, но лишь потому, что в отсутствие опекуна Стрелку разрешалось приглядывать за нами, что он и делал — нехотя, равнодушно.
Как-то раз у меня пропала книга, и мы с Рэчел подрались. Она уверяла, что ничего не брала, а потом я увидел эту книгу у нее в комнате. Она молотила меня по лицу. Я было вцепился ей в горло, а она вдруг застыла, вывернувшись, упала на пол и задергалась, стукаясь головой и пятками о доски пола. Издавая какие-то кошачьи звуки, она закатила глаза, так что остались видны одни белки, а руками продолжала молотить воздух. Распахнулась дверь, послышались звуки веселящейся внизу толпы, и в комнату шагнул Стрелок. Наверное, в тот момент он проходил мимо.
— Убирайтесь! — завопил я.
Он закрыл дверь, опустился на колени и, взяв мою книгу, ту самую, украденных «Ласточек и амазонок», втиснул Рэчел в рот, когда та открыла его, чтобы глотнуть воздуха. Стянул с кровати над ней одеяло, лег рядом и обхватил ее руками. И лежал так, пока у нее не выровнялось дыхание.
— Она стащила мою книгу, — боязливо прошептал я.
— Принеси холодной воды. Оботри ей лицо, остуди ее.
Я повиновался. Прошло двадцать минут, а мы втроем так и сидели рядышком на полу. Снизу доносились голоса Мотыльковых знакомцев.
— Такое раньше случалось?
— Нет.
— У меня был пес, — буднично сообщил он, — эпилептик. То и дело взрывался, как петарда.
Стрелок прислонился спиной к кровати, подмигнул мне и закурил сигарету. Он знал, что Рэчел ненавидит, когда он при ней курит. Но сейчас она лишь молча на него смотрела.
— Дрянь, а не книжка, — заявил он, потирая следы от зубов Рэчел на обложке. — Тебе надо заботиться о сестре, Натаниел. Я покажу, что надо будет делать.
Вот с какой неожиданной, непривычной стороны проявил себя Стрелок Пимлико. Как замечательно он вел себя в тот вечер, пока внизу, у Мотылька, продолжалась вечеринка.
В те дни последствий эпилепсии боялись куда больше, например, в числе прочего считалось, будто частые приступы плохо сказываются на памяти человека. Рэчел вычитывала об этом в библиотеке и сообщала нам. Думаю, мы выбираем себе ту жизнь, в которой чувствуем себя в наибольшей безопасности; для меня это отдаленная деревня, сад, обнесенный стеной. Но Рэчел такого рода опасения были побоку.
— Это всего лишь schwer, — твердила она мне, беря цитату в воображаемые кавычки.
* * *
В наш родительский дом стала захаживать женщина, с которой у Стрелка был роман, — они то приходили вместе, то встречались прямо у нас. В первый раз, когда она появилась, Стрелок опоздал, и нам, вернувшимся из школы, пришлось знакомиться с ней самостоятельно — в зияющей пустоте, вызванной его отсутствием. В итоге мы смогли хорошенько ее рассмотреть. Мы предусмотрительно помалкивали о других особах, которых Стрелок до этого приводил, и на ее расспросы отвечали туповато — дескать, мы не в курсе, с кем он водится, чем занимается и вообще где он сейчас. Мы знали: он всегда прикрывает свои карты.
Однако Оливия Лоуренс стала для нас неожиданностью. Стрелок, даром что был чрезвычайно однобок в своих суждениях о роли женщин в мире, проявлял почти самоубийственную склонность выбирать себе в пару сверхнезависимых дам. Он немедленно подвергал их проверке: вез на людные, шумные спортивные мероприятия в Уайтчепел и на стадион Уэмбли, где было не до тет-а-тета. Против ставки на тройной исход, по его мнению, устоять было невозможно. Тем более что других вариантов интересного публичного досуга у него все равно не имелось. В театры он категорически не ходил. Сама идея смотреть, как кто-то выдает себя за другого или декламирует со сцены заранее написанные диалоги, вызывала у него недоверие, а ему, человеку, ходящему по лезвию закона, хотелось иметь дело с такой правдой, которой можно верить. Привлекал его только кинематограф; по неведомым причинам правде с экрана он верил. И все же к скромным и сговорчивым горничным, которым можно было бы диктовать правила, его не тянуло. Одна из его пассий работала художником-монументалистом. Другая, уже после Оливии Лоуренс, была предположительно русской.
Оливия Лоуренс, которая в тот первый день явилась одна и с которой нам троим пришлось знакомиться, оказалась географом и этнографом. Мы узнали, что она часто бывает на Гебридских островах, фиксирует там воздушные течения, а случается, в одиночку путешествует по Юго-Восточной Азии. Почему-то не возникало сомнений, что не Стрелок выбирал этих женщин с интересными профессиями, а они сами отдавали ему предпочтение; похоже, Оливия Лоуренс, специалист по древним культурам, в его лице нежданно наткнулась на диковинку — образец средневековой особи, человека, пребывающего в неведении относительно основополагающих правил вежливости, введенных в обиход за последнюю сотню лет. Стрелок слыхом не слыхивал, что есть люди, которые едят только овощи, или что перед дамой следует открывать дверь и пропускать ее вперед. Воображение такой женщины, как Оливия Лоуренс, мог поразить лишь такой мужчина — словно застывший во времени, а может, сбежавший из какой-нибудь секты, о которой стало известно лишь недавно и которая вдруг чудесным образом обнаружилась в ее родном городе. И все же дальше в отношениях со Стрелком от женщин мало что зависело. Игра всегда шла по его правилам.
Весь тот час, что Оливия Лоуренс провела с нами в ожидании кавалера, она с восхищением рассказывала об их первом совместном ужине. Положив на нее глаз в компании у Мотылька, он увлек ее в греческий ресторанчик, узкое прямоугольное помещение на пять столиков, с освещением, как на подводной лодке, после чего предложил скрепить обретенную близость (которая по факту еще не случилась, но не замедлит себя ждать) совместным поеданием блюда из козлятины и бутылкой красного вина. Не мелькнуло ли тогда у нее в голове чего-то вроде штормового предупреждения и тому подобного? Однако она уступила.
— И голову нам запеките, — велел он официанту.
Эта непонятная жуткая фраза была произнесена очень буднично, словно речь шла о веточке укропа. Услышав о козлиной голове, она побледнела, а посетители вокруг нарочно принялись медлить над своими тарелками, чтобы не пропустить предстоящую семейную схватку. Может, Стрелок и не любил театр, только в тот вечер он в течение полутора часов разыгрывал для пяти-шести зрительских пар представление в духе Стриндберга. Стрелок обожал «перекусы на скорую руку»: куда бы ни заносило нас в сезон собачьих бегов, он всегда выпивал парочку сырых яиц — прямо на ходу, за рулем «Морриса», а скорлупу кидал на заднее сиденье. Но тогда, в «Звезде Аргирополуса», он не торопился. Сидя напротив нас на кухонном стуле с жесткой спинкой, Оливия Лоуренс вновь переживала те события: как он настаивал, как она отнекивалась и как в итоге ей пришлось то ли поддаться внушению, то ли дать себя уговорить, а может, загнать в угол, а может, обаять — уже непонятно, что именно подействовало, это был сущий кошмар, — и отведать тушу козла, забитого, совершенно точно, в каком-нибудь подвале недалеко от Паддингтона.
Потом настал черед головы.
Вышло так, что Стрелок выиграл. Близость, на которую он надеялся, случилась несколькими часами позже, у него в квартире. Подействовали те две бутылки вина, призналась она, все еще раздосадованная. А может, это случилось из-за его несгибаемой уверенности в своей правоте, в том, что она без пререканий станет есть козлиную голову, да еще в отместку проглотит глаз. По консистенции глаз напоминал сопли. Так она ему и сказала. А голова напоминала… напоминала… нечто неописуемое. Она съела это, потому что он не сомневался, что она это съест. Вовек ей такого не забыть.
К моменту, когда на пороге возник Стрелок с малоубедительными оправданиями, мы пришли к выводу, что она нам нравится.
Она рассказывала об Азии и других далеких местах так, словно это были окраины Лондона, до которых с легкостью можно добраться. Голос ее при этом был совсем не такой сдавленный, как когда она делилась впечатлениями от греческой трапезы. На расспросы о работе она отвечала прямо.
— Эт-но-гра-фи-я, — произносила она, растягивая слоги, словно один за другим выписывая их на бумагу.
Живописала прелести путешествий, рассказывала, как на юге Индии плавала по дельтам рек на лодке, в утробе которой скрывался чахлый двухтактный мотор. Описывала, как быстро меняется погода во время сезона дождей: стоишь весь мокрый, но проходит всего пять минут — и одежда уже высохла на солнце. Как маленькую статую какого-нибудь второстепенного божка прячут под спасительным розоватым пологом, а вокруг все плавится от зноя. Мы узнавали от нее подробности, которыми могла бы снабжать нас в письмах наша далекая мать. А на берегах реки Чилоанго в Анголе, где она тоже бывала, процветает культ предков и люди поклоняются не богам, а духам. Рассказчицей она была блестящей.
Как и Стрелок, Оливия была высокой и стройной, с сияющей копной нечесаных волос, форму которым задавала разве что погода. Независимая натура. Подозреваю, что, доведись ей где-нибудь в Турции, на лугах, собственноручно умертвить козла, она бы его съела. В Лондоне, в четырех стенах, ей явно было тесно. Сейчас-то я понимаю, что именно колоссальная их со Стрелком несхожесть и позволила их отношениям продержаться дольше, чем можно было ожидать. И все-таки, невзирая на его обожание, ей не сиделось на месте. Скорее всего у нее был перерыв в работе, и она куковала в Лондоне, писала отчеты, готовясь потом снова отправиться в путь. Надо же было навестить того божка под розовым пологом. А для этого требовалось избавиться от всяких привязанностей и разного скарба.
Но занимательнее всего оказалось отношение к ней Мотылька. Раздираемый с двух сторон Стрелком и Оливией Лоуренс, когда тем случалось в очередной раз разойтись во мнении по любому поводу и сцепиться — в нашей гостиной или, хуже того, в громыхающей утробе «Морриса», — Мотылек отказывался принимать чью-либо сторону. Стрелок был явно нужен ему для каких-то дел, а Оливия была фигурой проходной, однако мы видели: она сумела Мотылька зацепить. Мы обожали крутиться поблизости от этой троицы, наблюдать за их схватками. Образ Стрелка, в котором обнаружился изрядный изъян — готовность терпеть рядом с собой женщину с собственным мнением, — усложнился и заиграл новыми оттенками. При этом на его мнения это никак не влияло. А нам очень нравилось, что Мотылек оказался перед выбором, нравилась неловкость, которую он испытывал, когда от Стрелка и Оливии Лоуренс летели искры. Он тогда вдруг делался похож на метрдотеля, которому только и оставалось, что подметать осколки.
Из всех, кто приходил к нам в дом, Оливия Лоуренс единственная была способна здраво мыслить. Стрелка она оценивала трезво. Ее пугала его настойчивость вкупе с умением быстро и оригинально обаять даму, зато его сугубо мужской вкус, нашедший отражение в неряшливой квартире на Пеликан-Стейрс, приводил в восхищение. Что касается Мотылька, то она так и не разобралась, какую роль он играл — положительную? отрицательную? Что удерживало рядом с ним ее временного любовника, Стрелка? И точно ли он опекун-благодетель для все равно что осиротевших мальчика и девочки, как о нем говорят? Ведь в характере главное — его скрытые проявления. Она умела определить характер, выявить его по нескольким крупицам, даже если человек уклончиво помалкивал.
— Половина жизни в городе происходит по ночам, — предупреждала нас Оливия Лоуренс. — А в это время мораль хромает. Ночью встречаются те, кто в силу необходимости питается плотью — могут съесть птицу, небольшую собачку.
Когда Оливия Лоуренс говорила, казалось, будто перед тобой тасуется колода ее мыслей, будто ты слышишь ее внутренний диалог — глубинный, из темных недр познаний, присутствуешь при зарождении новой идеи. Как-то вечером она вынудила нас сесть в автобус, поехать с ней в Стретэмский общественный парк и по его пологим склонам подняться до Рукери. В темноте, на открытом пространстве Рэчел было неуютно, она просилась домой, жаловалась, что ей холодно. Но наша троица продолжала шагать вперед, покуда мы не очутились среди деревьев, а город позади не растворился в темноте.
Вокруг раздавались невообразимые звуки — что-то летало, кто-то ходил. Я слышал дыхание Рэчел, а от Оливии Лоуренс не доносилось ни звука. Потом во тьме она заговорила, расшифровывая для нас эти едва различимые шумы:
— Теплый вечер… Сверчки выводят ноту «ре»… Стрекот у них нежный и тихий, только издают они его не горлом, а трением крылышек, и когда они так дружно поют, это к дождю. Потому сейчас так темно, луна за тучами. Слышите?
И указала бледной рукой куда-то влево.
— Барсук скребется. Не роет землю, нет, просто лапами перебирает. Да, тихонько так копошится. Возможно, ему приснился кошмар. У него из головы еще не выветрился небольшой сумбурный ночной кошмар. Всем нам снятся кошмары. Тебя, дорогая Рэчел, может преследовать страх нового приступа. Но во сне бояться нечего, как нечего, стоя под деревом, бояться дождя. В этом месяце молнии бывают редко, так что нам ничего не грозит. Пойдемте. А сверчки — о, сколько их и на деревьях, и в подлеске — будут нас сопровождать своими верхними «до» и «ре». В конце лета, когда откладывают яйца, они вообще способны брать «фа». Кажется, их стрекот словно обрушивается на нас сверху, да? Похоже, сегодня ночью у них происходит что-то важное. Запомните это. Ваша история — лишь одна из многих и, может статься, не самая важная. Вы — не главное, что есть на белом свете.
У нее был самый спокойный голос из всех, которые мне доводилось слышать в юности. В нем не было желания что-либо доказать. Она тщательно вникала во все, что казалось ей интересным, а ее спокойствие порождало атмосферу близости. При свете дня, говоря или слушая, она не сводила с тебя глаз, вся внимание. А тем вечером все внимание она уделяла нам с Рэчел. Ей хотелось, чтобы поход нам запомнился. Сами бы мы ни за что не отправились затемно одни в лес. Но Оливия Лоуренс всегда знала, куда идти, — слабый огонек вдалеке или сменивший направление ветер подсказывали ей, где она находится и что ждет ее впереди.
Случалось, что верх брала беспечность иного рода, и, даже если у нас на Рувини-Гарденс в комнате было полно приятелей Мотылька, она как ни в чем не бывало засыпала, поджав ноги, в отцовском кожаном кресле; лицо ее при этом оставалось внимательным, сосредоточенным, словно она продолжала воспринимать информацию. Это была первая женщина, вообще первый человек, который на моих глазах вот так запросто спал в присутствии посторонних. Через полчаса, когда все начинали уставать, она просыпалась посвежевшая и уходила в ночь, отмахнувшись от вялого предложения Стрелка ее подвезти, — ей словно хотелось пройтись по городу одной, обдумать пришедшую в голову мысль. Я шел наверх и смотрел из окна своей спальни, как Оливия то появляется в круге фонарного света, то вновь исчезает. Издалека слабо доносилось насвистывание — она будто пыталась вспомнить какую-то неведомую мне мелодию.
Несмотря на наши ночные вылазки, работала Оливия преимущественно днем — делала на побережье замеры различных природных показателей. Ей едва сравнялось двадцать, когда в начале войны Адмиралтейство пригласило ее в качестве специалиста по морским приливам и отливам. (Этот факт она скромно подтвердила, лишь когда о нем чуть не в открытую проболтался кто-то из окружения Мотылька.) Все эти ландшафты входили в ее плоть и кровь. Шум деревьев она читала, как раскрытую книгу, наизусть знала смену приливов и отливов на слякотной полосе вдоль набережной у моста Баттерси. До сих пор интересно, почему ни Рэчел, ни я, имея перед собой такой яркий пример независимости и чуткости ко всему окружающему, побоялись пойти по ее стопам. Но тут следует напомнить, что наше знакомство с Оливией Лоуренс довольно быстро оборвалось. Хотя те вечерние прогулки — как мы вслед за ней пробирались по разминированным районам доков или в гулком Гринвичском пешеходном тоннеле дружно распевали песню, которой она нас учила, «Под замерзшими зимними звездами, под искрящейся летом луной…» — мне не забыть.
Она была высокая. Гибкая. Наверное, со Стрелком в пору их кратковременного баснословного романа без гибкости было не обойтись. Не знаю. Я не знаю. Много ли может знать подросток? Лично я всегда видел ее самодостаточной, например, когда она спала у нас в людной гостиной, полностью отстранившись от присутствующих. Что это, самоцензура или подростковая деликатность? Мне гораздо легче представить ее на полу, в обнимку с собакой — та положила ей голову на шею, перекрыв доступ воздуха, но Оливия, довольная, не шевелится, чтобы ее не спугнуть. Но Оливия, танцующая в объятиях мужчины? Мне кажется, у нее была клаустрофобия. Она обожала простор и ясные ночи, ведь в них нельзя было ни спрятаться, ни слишком себя обнаружить. А со знакомцами и незнакомцами, что крутились в доме на Рувини-Гарденс, она держалась максимально отстраненно. За нашим столом она была случайным человеком, аутсайдером, «девушкой Стрелка», на которую, увидев здесь, тот положил глаз и с которой неожиданно для всех закрутил роман.
— Я пришлю вам обоим открытку, — сказала Оливия Лоуренс, когда в один прекрасный момент решила уехать из Лондона.
И исчезла из нашей жизни.
Но откуда-то с пределов Черного моря или с почты в деревушке под Александрией она и впрямь присылала нам какую-нибудь платоническую billet-doux[4], посвященную классификации горных облаков — привет из альтернативной реальности, другой ее жизни. Эти открытки мы ценили на вес золота, тем более что со Стрелком, мы знали, они не общаются. Она откочевала из нашей жизни, не оглянувшись напоследок. Сам факт, что женщина пообещала двум детям слать открытки и присылала их, говорил об экспансивности, а еще об одиночестве — потребности, глубоко в ней спрятанной. В ней уживались два совершенно разных состояния. А может, и нет. Что мог знать подросток…
Когда я записал все эти соображения об Оливии Лоуренс, я понял, что у меня, похоже, складывается возможный двойник моей матери — далекой и занятой неведомыми делами. Обе эти женщины были неизвестно где — правда, лишь Оливия Лоуренс отовсюду заботливо и сердечно присылала нам весточки.
В треугольнике, образуемом двумя этими женщинами, имелся, как я теперь понимаю, и третий угол — Рэчел, нуждающаяся в то время в материнской близости, в той особенной защите, дать которую может только мать. В тот вечер она шла между мной и Оливией по пологому склону холма в Стретэмский парк, а мы твердили, что с нами ей в темноте бояться нечего, что и сны, и сбивающие с ног бурные приступы — все это не страшно. В воздухе над нами слышалось лишь пение сверчков, да скребся, устраиваясь поудобнее, барсук, — и вдруг в тишине послышался шум надвигающегося дождя.
Как мать представляла себе нашу жизнь в свое отсутствие? Могла ли она предположить, что мы будем жить, как в популярной тогда пьесе «Несравненный Крайтон», на которую она водила нас в Вест-Энд; это было первое, что мы посмотрели в театре, — там дворецкий (в нашем случае Мотылек) после кораблекрушения взял бразды правления на острове в свои руки и тем самым спас в перевернутом вверх тормашками мире семью аристократов? Неужели она правда думала, что скорлупка нашего мира не треснет?
Иногда, под воздействием того, что он пил, Мотылек становился забавно непоследовательным, при этом говорил (то, что, как он думал, он говорит) с апломбом, даже если каждое новое его высказывание на несколько пунктов отстояло от генеральной линии предыдущей фразы. Как-то ночью, когда Рэчел не удавалось уснуть, он снял с полки матери том под названием «Золотая чаша» и принялся читать. Предложения в абзацах там словно петляли по лабиринту и под конец выдыхались, и это напомнило нам Мотылька с его пьяными поучениями. Были и другие случаи, когда он вел себя странно. Как-то вечером по радио передавали новость о мужчине, который совершил истеричный поступок: вытряхнул пассажиров из «Хиллмана Минкса» перед «Савоем» и поджег машину. Мотылек, который вернулся всего час назад и слушал репортаж с напряженным вниманием, простонал:
— О, боже, только бы это был не я!
Уставился на свои руки, словно ища на них следы керосина, но, увидев наши вытаращенные глаза, сразу успокаивающе подмигнул. Типа вы что, шуток не понимаете? Напротив, Стрелок, способный на запредельные выходки, как и все, кто имеет сложности с законом, был лишен чувства юмора.
И все же невозмутимость Мотылька вызывала у нас своего рода доверие. Может статься, он действительно был нашим Несравненным Крайтоном, даже когда отмерял в чашечку голубого стекла, что некогда шла в комплекте со склянкой раствора для промывания глаз, мутную жидкость и залпом выпивал, словно это был херес. Эта его привычка нас не смущала. Он тогда становился беспечно отзывчивым к нашим просьбам; в такие моменты Рэчел почти всегда удавалось упросить его показать нам в городе всякие любопытные места. Мотылька тянуло к заброшенным строениям вроде госпиталя девятнадцатого века в Саутварке, который функционировал задолго до того, как люди придумали анестезию. Каким-то образом он провел нас внутрь и зажег натриевые лампы — их свет дрожал на стенах погруженной во мрак операционной. Он знал в городе много неиспользуемых объектов — при свете ламп девятнадцатого столетия они казались нам сумрачными и зловещими. Интересно, не потому ли у Рэчел возникла потом тяга к театру — из-за тех вечеров с половинчатым освещением? Ведь именно благодаря им она усвоила, что печали и опасности нашей жизни можно затуманить и сделать незаметными или хотя бы отодвинуть далеко-далеко; думаю, управление софитами и грозой по вызову помогло ей в итоге разобраться, где была истина, а где ложь, где надежная защита, а где опасность.
К тому моменту Стрелок уже крутил роман с русской, у которой оказался такой бурный темперамент, что он поскорее сделал ноги, пока она не узнала, где он живет. Это, разумеется, привело к тому, что она стала заявляться на Рувини-Гарденс в неурочное время — ходила и выслеживала его по запаху. Он стал осторожничать, парковался на другой улице.
Благодаря разнообразным пассиям Стрелка я неожиданно познакомился с женщинами ближе, чем за всю свою прежнюю жизнь, мать и сестра не в счет. В школе у нас учились только мальчики. Некогда мои помыслы и привязанности были связаны с ними. Но легкость, с какой Оливия Лоуренс вела задушевные разговоры, откровенность, с которой она говорила о своих, даже самых заветных желаниях, открыли мне вселенную, ранее мне неизвестную. Отныне меня тянуло к женщинам за пределами моего мирка — не к родственницам и пока что не к возлюбленным. Такого рода привязанности от меня не зависели, они могли оказаться временными и краткими. Они пришли на смену семейному укладу, но позволяли мне оставаться в стороне, что мне вообще, к сожалению, свойственно. Однако мне очень нравилась та правда, которой я набирался от незнакомцев. Даже в те бурные недели, когда Стрелок отверг русскую подружку, я постоянно без надобности крутился по дому, а после школы спешил назад, лишь бы только увидеть, как она с выражением неудовлетворенности входит в гостиную. Я не упускал случая пройти мимо, слегка задев ее руку. Однажды я предложил отвезти ее на собачьи бега в Уайтчепел, якобы чтобы найти там Стрелка, но она отмахнулась — видимо, решила, что я хочу ее спровадить. Она не знала, что на самом деле Стрелок был совсем рядом: отсиживался у меня в комнате и читал комиксы «Бино». В общем, мне открылась волнующая прелесть женского общества.
Агнес-стрит
Летом я устроился на работу в стремительно набирающий обороты ресторан в Уорлдз-Энде. Снова грязные тарелки, снова подмены заболевшего официанта. Я надеялся встретить мистера Нкому, пианиста и краснобая, но никого из знакомых не оказалось. Персонал в основном состоял из смышленых официанточек — частью из Северного Лондона, частью из провинции, — и я просто не мог оторвать от них глаз: смотрел, как они препираются с начальством, хохочут, как убеждают всех и вся, что им нравится работа, пусть даже порой приходится лихо. По статусу они считались выше и едва удостаивали нас вниманием. Мне это не мешало. Я наблюдал за ними издали — присматривался, изучал. Скромно трудясь в центре бурной ресторанной круговерти, я не уставал поражаться их быстрым язычкам и вечным хиханькам. Проходя мимо с тремя подносами в руках, они могли бросить игривую фразочку и, пока ты что-то мямлил, скрыться из виду. Они закатывали рукава и хвастались жилистыми руками. То сами липли, то вдруг держались отстраненно. Однажды во время обеденного перерыва на меня в закоулке набрела девушка с зеленой лентой в волосах и спросила, нельзя ли «позаимствовать» кусочек ветчины из моего сэндвича. Я не нашелся с ответом. И молча ей его протянул. Спросил, как ее зовут, но она, шокированная моей прыткостью, отбежала и позвала еще трех-четырех подружек, они окружили меня и затянули песнь на тему «бойтесь своих желаний». Передо мной открывалась не ведающая границ территория между отрочеством и взрослостью.
Через несколько недель я в присутствии этой девушки в пустом доме сбросил одежду на истертый ковер и понял, что не вижу, как протоптать к ней тропинку. О плотской страсти я имел лишь абстрактное представление — сплошь преграды и какие-то неизвестные мне правила. Что можно, что нельзя? Она лежала рядом и не собиралась уступать. Может, тоже нервничала? Однако подлинный драматизм эпизода заключался даже не в этом, а в самой ситуации: мы совершили незаконное проникновение на Агнес-стрит, в дом, ключи от которого она позаимствовала у брата, сотрудника агентства недвижимости. Снаружи висела вывеска «Продается»; внутри из обстановки оставалось только ковровое покрытие. Стояли сумерки, и увидеть ее ощущения от происходящего я мог лишь благодаря лившемуся с улицы свету да горсти спичек, которыми мы потом светили над ковром, проверяя, не осталось ли пятен крови, словно здесь совершилось убийство. Нет, это было не про любовь. Любовь — это искрящаяся энергия Оливии Лоуренс, обжигающая сексуальная ярость брошенной Стрелком русской — чем сильнее она ревновала, тем становилась прекраснее.
Снова вечер в разгар лета. Мы в доме на Агнес-стрит, моемся под холодной водой. Вытереться нечем: ни полотенец, ни даже занавески. Она отбрасывает назад свои русые волосы, встряхивает ими, и они нимбом встают вокруг головы.
— А остальные-то, наверное, коктейли дуют, — говорит она.
Чтобы обсохнуть, мы ходим по пустым комнатам. Это самое интимное, что с нами случилось с тех пор, как мы пришли сюда около шести часов. Теперь это история не про секс и устремленное желание, а про нас, голых и невидимых друг для друга в темноте. В подтверждение этого в просверке автомобильных фар вспыхивает ее улыбка. Искорка взаимопонимания, загоревшаяся между нами.
— Смотри, — говорит она и делает в темноте стойку на руках.
— Ничего не видно. Покажи еще раз.
И эта прежде высокомерная девица делает в мою сторону сальто и говорит:
— Тогда держи мне ноги.
А после, когда я плавно опускаю ее на пол:
— Спасибо.
Она остается сидеть на полу.
— Открыть бы окно. Выбежать на улицу.
— Я даже не знаю, на какой мы улице.
— Агнес-стрит. Сад! Пойдем…
Внизу, в прихожей, она подталкивает меня, чтобы шел быстрее, я перехватываю ее руку. Мы поднимаем возню на лестнице — на ощупь. Дотянувшись, она кусает меня за шею и выворачивается из моей хватки.
— Пойдем! — говорит она. — Сюда!
Впечатывается в стену. Каждый из нас словно только и жаждет, что спастись от этой близости, и только близость может нас спасти. Мы бросаемся на пол и покрываем поцелуями все, до чего можем дотянуться. Когда мы трахаемся, она молотит кулаками меня по плечам. Занятиями любовью это не назовешь.
— Нет. Не кончай.
— Нет!
Взвиваюсь в кольце ее рук и припечатываюсь обо что-то головой — о стену или о балясину, затем всей тяжестью обрушиваюсь на нее и вдруг ощущаю, до чего она маленькая. На этом месте с нас слетает стеснительность, и мы отдаемся радости самого процесса. Не всем удается ее ощутить или потом вернуть себе это ощущение. После этого мы, в темноте, засыпаем.
— Привет. Где мы? — спрашивает она.
Перекатываюсь на спину и увлекаю ее за собой, теперь она сверху. Разжимает мне губы своими миниатюрными пальчиками.
— На Хахнесс-стиф, — говорю я.
— Напомни, как тебя зовут?
Она смеется.
— Натаниел.
— Блеск! Люблю тебя, Натаниел.
Нам едва удается одеться. Медленно пробираясь в темноте к выходу, держимся за руки, словно боимся друг друга потерять.
Мотылька часто не бывало дома, но его отсутствие, равно как и присутствие, не имело особого значения. Мы с сестрой уже сами зарабатывали себе на жизнь, ни от кого финансово не зависели; по вечерам Рэчел куда-то уходила. Она не говорила, куда идет, да и я помалкивал насчет Агнес-стрит. Школа нам обоим казалась уже чем-то совсем далеким. Общаясь с другими мальчиками, с которыми мне полагалось бы водиться, я никогда не делился тем, что творится у нас дома. Дом — это одно, школа — другое. В юности мы не столько стеснялись происходящего, сколько боялись, как бы об этом не узнали и не осудили нас.
Однажды вечером мы с Рэчел отправились в «Гомон» на семичасовой сеанс и устроились в первом ряду. В какой-то момент самолет начал падать, ноги летчика застряли в педалях управления, и выбраться не удавалось. Играла тревожная музыка, сопровождаемая ревом самолетного двигателя. Захваченный моментом, я не замечал ничего вокруг.
— Что это с ней?
Я повернул голову вправо. Между мной и голосом, спросившим «Что это с ней?», сидела Рэчел — тряслась, стонала и издавала тихий звук, похожий на мычание, который потом, я знал, станет громче. Она раскачивалась из стороны в сторону. Открыв ее сумку на ремне, я выхватил деревянную линейку и хотел вставить ей меж зубов, но было поздно. Пришлось раздвигать челюсти, а она кусала меня за пальцы своими редко посаженными зубами. Чтобы втиснуть линейку, пришлось бить Рэчел по щекам, после чего я стащил ее на пол. Самолет над нашими головами врезался в землю.
Рэчел смотрела на меня потерянным взглядом, ища защиты, помощи, чтобы выбраться из этого состояния. Мы с мужчиной склонились над ней.
— Кто она?
— Моя сестра. Это припадок. Нужно дать ей чего-нибудь поесть.
Мужчина протянул мороженое, которое держал в руке. Я прижал его к губам Рэчел. Она было отдернула голову, но потом, поняв, что это, с жадностью принялась за еду. Темнота, «Гомон» и мы с ней, съежившиеся на замызганном ковре. Пытаюсь ее поднять и увести, но она виснет на мне мертвым грузом, поэтому я кладу ее обратно на пол и обнимаю, как это делал Стрелок. В свете, падающем с экрана, она смотрит так, словно у нее на глазах совершается что-то ужасное. Так оно и было: после каждого такого случая, успокоившись, она описывала мне свои видения. С экрана, заполняя зал, лились голоса, фильм шел своим чередом, а мы десять минут лежали на полу, и я укрывал ее своим пальто, чтобы ей не было страшно. Сейчас есть лекарства, которые помогают избегать подобных неприятностей, но тогда ничего такого не было. Либо мы не знали.
Мы скользнули к боковому выходу и выбрались за темную портьеру на свет божий. Я повел ее в «Лайонз Корнер Хаус». Рэчел совсем обессилела. Я упрашивал ее хоть что-нибудь съесть. Она выпила молока. После этого мы направились домой. О произошедшем она не сказала ни слова, как о чем-то уже несущественном, словно это был опасный берег, который удалось миновать. Назавтра ей захочется поговорить — не о пережитом конфузе и смятении, а чтобы попытаться нащупать тот ужас, что надвигается, нарастает, а потом — раз! — и ничего нет. Что происходит дальше, она не помнит, мозгу больше не до запоминания чего бы то ни было. Но я видел: там, в «Гомоне», на какой-то краткий миг она, сама уже охваченная ужасом, видя попытки летчика спастись, оказалась в кабине рядом с ним.
Сестра встречается в моем рассказе нечасто, но это оттого, что у нас с ней совсем разные воспоминания. Каждый подозревал о тайнах другого. Я знал, как она украдкой мазала губы, как однажды прокатилась с парнем на мотоцикле, как, заливаясь счастливым смехом, пробиралась ночью домой и как вдруг нежданно полюбила вести беседы с Мотыльком. Наверное, он стал для нее кем-то вроде наперсника, но я свои секреты хранил при себе, держался на расстоянии. В любом случае версия Рэчел о событиях на Рувини-Гарденс, хотя отчасти и совпадала бы с моей, звучала в совсем ином ключе, и акценты стояли по-другому. Близки мы были лишь в самом начале, когда нам приходилось вести общую двойную жизнь. Но позднее мы отдалились друг от друга, и каждый стал сам за себя.
На ковре, в коричневой оберточной бумаге — наша еда: хлеб с сыром, ломтики ветчины, бутылка сидра; все украдено с работы, из ресторана. Мы в другой комнате уже другого дома без мебели, с голыми стенами. В необитаемом пространстве гулко разносятся раскаты грома. Согласно расчетам ее брата, этот дом продастся не сразу, так что в конце дня, когда вряд ли нагрянут покупатели, мы теперь устраиваемся здесь.
— Может, откроем окно?
— Ни в коем случае.
Она строго соблюдает установленные братом правила. Он даже меня проинспектировал, оглядел с головы до ног и заявил, что слишком уж я юный. Странный кастинг. Макс его звали.
Там, где мы трахаемся, похоже, раньше была гостиная. На ковре под моими пальцами ощущаются вмятины от ножек некогда стоявшего там стола. Мы, видимо, расположились под столом, там, где люди раньше ели. Я говорю ей об этом, глядя в абсолютную темноту.
— Ну ты и странный. Кому еще пришло бы это в голову в такой момент?
Гроза над нами громыхает вовсю, суповые миски ходят ходуном, ложки сыплются на пол. Поврежденная бомбой задняя стена так и стоит разрушенная, и оглушительный сухой треск грома врывается внутрь, обнажая нашу наготу. Мы лежим беззащитные, на голом полу, не имея в случае чего даже оправдания, что мы делаем здесь, где только и есть что обрывок оберточной бумаги на тарелке да старая собачья миска для питья.
— На выходных мне приснилось, что мы с тобой трахаемся, а рядом с нами, в комнате, как будто что-то есть.
Говорить о сексе мне непривычно. Но Агнес — так она теперь себя называет — говорит, причем очень мило. У нее это выходит естественно. Как довести ее до оргазма, где и как к ней прикасаться — тут понежнее, там поощутимее.
— Постой, я тебе покажу. Давай сюда руку…
Моя молчаливая попытка вызывает у нее полуусмешку, моя стеснительность ее забавляет.
— Парень, у тебя впереди много-много лет, пообвыкнешься еще, научишься соблюдать правила. Их миллион.
Помолчав, она добавляет:
— Знаешь… я бы тоже хотела узнать тебя получше.
Мы уже не только желаем друг друга, но и испытываем взаимную симпатию. Она рассказывает о своем сексуальном опыте.
— На мне было коктейльное платье, которое я одолжила для свидания. Я напилась — это был мой самый первый раз. Проснулась в какой-то комнате, рядом никого нет. И платья нет. Пришлось идти до метро и ехать домой в одном плаще.
Она замолкает и ждет, что я скажу.
— А с тобой что-нибудь такое было? Можешь рассказать по-французски, если хочешь. Может, так тебе будет проще?
— Я завалил французский, — говорю я неправду.
— Да врешь ты все.
Мне нравилась не только ее дикая манера речи, меня завораживал ее голос, густой и ритмичный, — все это разительно отличалось от того, как говорили мои школьные товарищи. Но было еще кое-что, что делало ее не похожей на других. Агнес, которая была со мной тем летом, позже станет совсем другой. Я знал это с самого начала. Совпадала ли та будущая воображаемая женщина с тем, какой ей самой хотелось бы себя видеть? Верила ли она в то, что я далеко пойду? У всех остальных, кого я в ту пору знал, все было иначе. В ту эпоху подростки были стреножены своими представлениями, кем якобы мы уже были, а значит, останемся и впредь. Характерная английская черта, болезнь того времени.
В ту ночь, когда громыхала первая летняя гроза, а мы неистово вцеплялись друг в друга, я, вернувшись наконец домой, нашел в кармашке трусов подарок. Развернув обрывок мятой коричневой оберточной бумаги, что лежала у нас на тарелке, я увидел сделанный углем рисунок: мы двое лежим на спине и держимся за руки, а над нами бушует грандиозная, небывалая гроза — черные тучи, росчерки молний, злобное небо. Она обожала рисовать. Где-то на жизненном пути я потерял тот рисунок, хотя собирался хранить его вечно. До сих пор помню его до мелочей и не раз пытался найти что-то похожее, уловить в какой-нибудь галерее отголосок того давнего наброска. Ничего похожего. Долгое время я ничего о ней не знал — была лишь Агнес Стрит, по названию улицы, где находился наш самый первый дом. Все время, пока в остовах разнообразных домов продолжались наши подпольные дни и ночи, она шутливо, но упорно пряталась за этим именем.
— Псевдоним, — важно произнесла она. — Ты ведь в курсе, что это такое, да?
Мы выскользнули из дома. Рабочий день у нас начинался рано. На автобусной остановке взад-вперед ходил какой-то мужчина; когда мы появились, он уставился на нас, потом перевел взгляд на дом, словно недоумевая, как мы в нем оказались. Он тоже вошел в автобус и сел прямо за нами. Может, это просто совпадение? Может, это был призрак времен войны, который обитал в оккупированном нами здании? Мы не испугались, нет, но нам стало стыдно. Агнес забеспокоилась, не будет ли у брата из-за нас неприятностей. Но когда мы собрались выходить, мужчина встал и направился за нами. Автобус остановился. Мы стояли и не выходили. Когда автобус тронулся и стал набирать скорость, Агнес спрыгнула и, с трудом удержав равновесие, помахала мне. Я помахал в ответ и протиснулся мимо мужчины на прежнее место, а потом, когда мы проезжали где-то в центре Лондона, тоже спрыгнул, и он меня уже не догнал.
Устричный катер
В наш самый первый день на Темзе мы с Рэчел и Стрелком забрались так далеко на восток, что почти вырвались из города. Сегодня бы мне понадобилась хорошая речная карта, чтобы показать места, где мы проплывали или останавливались, — за те недели я выучил назубок их названия, а еще таблицы приливов и отливов, расположение извилистых дамб, старых застав для сбора дорожных пошлин, заливов для ремонта судов, куда мы периодически заглядывали, стройплощадок и мест гуляний, которые мы научились распознавать прямо с катера — Шип-Лейн, Баллз-Элли, Мортлейк, Харродз-Депозитори, нескольких электростанций, а также около двадцати безымянных каналов, прорытых сто-двести лет тому назад и тянувших свои щупальца к северу от Темзы. Часто, лежа в кровати, я повторял речные переходы, стараясь их все запомнить — и запомнил. И помню до сих пор. Их названия звучали как имена английских монархов — куда до них футбольным клубам и математическим таблицам. Иногда мы забирались на восток за Вулидж и Баркинг, но и в темноте могли легко сориентироваться всего лишь по плеску воды или по стадии прилива. За Баркингом шли Каспиан-Уорф, Эрит-Рич, Тилбери-Кат, Лоуэр-Хоуп-Рич, Блит-Сэндз, Айл-оф-Грейн, устье реки, а дальше начиналось море.
На Темзе имелись и другие укромные местечки, где мы делали остановку и встречались с морскими судами, — они выгружали свой удивительный груз, а дальше, связанные одной длинной веревкой, пошатываясь и спотыкаясь, шли животные. Одновременно они испражнялись, облегчаясь после четырех-пятичасового плавания из Кале, после чего мы запихивали их в наш устричный катер для нового, короткого перегона, в конце которого без лишних слов сдавали на руки каким-то безымянным типам.
Наше погружение в речную деятельность началось с того, что однажды днем Стрелок случайно услышал, как мы обсуждаем планы на грядущие выходные. И осведомился у Мотылька, словно нас с Рэчел там вообще не было, не найдется ли у нас времени кое в чем ему помочь.
— Днем, ночью?
— Когда как.
— Это не опасно?
Мотылек спросил это вполголоса, словно надеялся, что мы не услышим.
— Абсолютно, — громогласно заверил Стрелок, глядя на нас с деланой улыбкой и уверенным жестом отметая саму мысль о любых опасностях. Вопрос о законности даже не поднимался.
Мотылек пробормотал:
— Вы же умеете плавать?
Мы кивнули.
Стрелок осведомился:
— А собак они любят?
Мотылек кивнул, хотя что он об этом знал?
— Великолепно, — заявил Стрелок в тот, первый выходной — одну руку держит на руле, другой пытается вынуть сэндвич из кармана.
Катер он вел довольно рассеянно. Холодный ветер морщил воду, набрасываясь на нас и трепля со всех сторон. Но со Стрелком было не страшно. Я ничего не знал о судах, но сразу проникся безбрежными запахами, пятнами мазута на воде, солеными брызгами, срывающимся с кормы дымом, полюбил тысячу и один звук, которыми полнится река, — посреди этого суматошного мира хорошо было молчать, погрузиться в отдельную, раздумчивую вселенную. Да, это было великолепно. Мы едва не притерлись к арке моста, Стрелок в последнюю минуту откачнулся, словно это могло повлиять на ход катера. Потом чуть не врезались в четверку гребцов, и те угодили в болтанку у нас в кильватере. В ответ на их вопли Стрелок мирно развел руками — дескать, никто не виноват, так уж вышло. В тот день нам предстояло взять на борт двадцать грейхаундов с тихой баржи возле Черч-Ферри-Стэйрз и по-тихому высадить их в другом месте ниже по течению. То, что мы перевозим живой груз, нас не смущало, мы знать не знали, что британские законы строго воспрещают незаконный ввоз животных. Но Стрелок, конечно, был в курсе.
Наши теории насчет того, откуда у Стрелка манера ходить на полусогнутых, совершенно переменились, когда мы оказались с ним на устричном катере. Пока мы с Рэчел осторожно продвигались по скользкому трапу, Стрелок, следя за тем, чтобы Рэчел не оступилась, умудрился, почти не глядя, отправить сигарету в неширокий, всего четыре дюйма шириной, проем между набережной и пляшущим на волнах катером. Мы с опаской переставляли ноги — он словно танцевал на паркете, прежний сторожкий полуприсед сменился привычной легкостью, с которой он шагал вдоль футовых, в дожде и смазке, планширей. Позже он утверждал, что был зачат во время суточного шторма на реке. Его предки много поколений служили на лихтерах, и потому он, с его пластикой речника, ощущал себя на суше неуверенно. Он знал все приливные фарватеры между Тикенхемом и Лоуэр-Хоуп-Пойнтом и мог узнать любой док по запаху или звуку загружаемого товара. Про отца он хвастался, что тот был «свободным гражданином реки»; и это невзирая на то, что отец, по его рассказам, обходился с ним круто и подростком отдал в профессиональный бокс.
У Стрелка имелась также целая коллекция свистов: у каждой баржи, объяснил он, был свой позывной. Этот позывной сообщали, когда ты начинал работать с судном. Свисты имитировали голоса разных птиц, и сигналы на воде — для приветствия или предупреждения — разрешалось подавать только ими. Знакомые речники, рассказывал Стрелок, порой, гуляя по сухопутному лесу, вдруг слышали позывной своей баржи, хотя реки рядом и в помине не было. А это какая-нибудь пустельга обороняла свое гнездо — видимо, раньше, лет сто назад, эти птицы жили у реки, а речники переняли их крик и передавали из поколения в поколение.
После тех выходных я горел желанием и дальше возить со Стрелком собак, однако Рэчел все больше времени проводила с Мотыльком. Ей, наверное, хотелось взрослости. Зато я, когда Стрелок заскакивал к нам на машине, ждал наготове, в плаще-непромокайке. Поначалу, когда мы только познакомились на Рувини-Гарденс, он меня почти не замечал, я был просто мальчишка, живущий в доме, куда ему случается зайти в гости. Оказалось, Стрелок — отличный учитель. Пусть он не так трясся над тобой, как Мотылек, зато четко говорил, как поступать и что держать втайне от чужих ушей.
— Прикрывай свои карты, Натаниел, — твердил он, — всегда прикрывай свои карты.
Ему как раз был нужен кто-то вроде меня, полудоверенное лицо, чтобы два-три раза в неделю забирать грейхаундов с одного из бесшумных европейских судов, так что он уговорил меня бросить ресторан и вместе с ним на устричном катере под покровом темноты перевозить живой груз туда, где его украдкой подхватит какой-нибудь фургон и умчит дальше по назначению.
За одну поездку удавалось перевезти около двадцати этих робких туристов. Все время, пока мы плыли, а это могло тянуться до полуночи, они, дрожа, сидели на палубе и приходили в смятение от любого громкого звука или яркого фонаря на вынырнувшем сбоку катере. «Профилактических работников», как он их называл, Стрелок побаивался, поэтому мне приходилось ввинчиваться в гущу под одеялами и, дыша зловонным псиным духом, успокаивать всех, пока речная полиция не скроется из виду.
— Они ищут чего посерьезнее, — говорил Стрелок, знакомый с самым дном преступного мира.
При этом наша развозная деятельность совершенно не гарантировала финансового успеха. Не было никакой уверенности, что животные сгодятся для собачьих бегов, никто не знал, насколько быстро они бегают. Ценность их состояла исключительно в том, что они вносили «элемент неожиданности», а поскольку о собачьих способностях публика могла лишь догадываться, можно было рассчитывать на азартные ставки — их обычно делали новички, которые при выборе пса или отбраковке негодных кандидатов полагались не на проверенную родословную, а на внешний вид. Азартные ставки — это живые деньги. Ты ставишь банкноты на пса без прошлого лишь потому, что его взгляд показался тебе самым умным из всей своры, или потому, что у него особый контур ляжки, или ты подслушал перешептывания якобы знатоков, которые на самом деле тоже ничего не знают. Мы поставляли выбраковку, собак с неизвестным прошлым, которых либо украли из какого-нибудь шато, либо спасли с мясокомбината, чтобы дать второй шанс. Это были «темные лошадки».
Безлунными ночами на реке успокоить их было просто: когда они пытались залаять, я, юнец, грозно поднимал голову. Словно давал оркестру знак притихнуть; это первое ощущение власти было пленительным и приятным. Стрелок в рубке вел нас через ночь, напевая «Не для меня». Он не пел, а скорее вздыхал себе под нос, блуждая мыслями где-то далеко, почти не вдумываясь в исполняемые строки. К тому же я отлично знал, что эта грустная песня ничуть не отражает его замысловатых, двойственных взаимоотношений с женщинами. Мне не раз доводилось обеспечивать Стрелку алиби или нарочно звонить из телефона-автомата, когда ему на вечер требовался благовидный предлог для отлучки. Женщины никогда толком не знали, ни в какие часы он работает, ни в чем вообще состоит его работа.
В те дни и ночи, когда я начал погружаться в жизнь Стрелка с ее теневым расписанием, я оказался внутри междусобойчика, объединявшего в одну сеть речников-контрабандистов, ветеринарных врачей, изготовителей поддельных документов и собачьи бега в окружающих Лондон графствах. Подмазанные ветеринары ставили приезжим псам прививки от чумки. При необходимости обеспечивали временную передержку. Умельцы стряпали фальшивые кинологические свидетельства с указанием владельцев из Глостершира или Дорсета, где эти собаки, до сих пор не слыхавшие ни единого слова по-английски, якобы появились на свет.
В то первое волшебное лето моей жизни мы в разгар сезона собачьих бегов перевозили по сорок пять, а то и больше псов в неделю — в доке возле Лаймхауса перегружали их, перепуганных, на наш устричный катер и поднимались по темной реке в сердце Лондона, к Лоуэр-Темз-стрит. После чего тем же путем шли обратно — эти возвращения по реке, глубокой ночью, на пустом катере, были единственными мгновениями, когда Стрелку не нужно было никуда спешить и нам никто не мешал. Теперь мне хотелось побольше о нем узнать — чем он живет, чем дышит. И он охотно рассказывал о себе, о собачьих бегах со всеми их премудростями, а иногда сам меня о чем-нибудь спрашивал.
— Вы с Уолтером познакомились, когда ты был совсем еще маленьким? — осведомился он как-то раз.
Я посмотрел на него ошарашенными глазами, и он оборвал фразу — так отдергивают с чужого бедра чересчур обнаглевшую руку.
— А, понятно, — сказал он.
Я спросил у него, как он познакомился с Оливией Лоуренс, правда, пришлось сначала признаться, что она мне нравится.
— Да, я заметил, — ответил он.
Я удивился: обычно Стрелку мои переживания были до лампочки.
— Ну так как вы познакомились?
Он указал на ясное небо.
— Мне нужно было кое-что уточнить, а она в этом специалист, как его там… географ, эт-но-граф.
Он произнес это слово по слогам, прямо как она когда-то.
— А где таких взять? Кто в наше время способен предсказать погоду, скажем, по луне или форме облаков? Так вот, мне кое-чего у нее было нужно узнать, да и вообще я люблю женщин, которые умнее. Прикинь, она… в общем, она поразительная. Эти щиколотки! Я и не думал, что она решит со мной закрутить. Она же элита, понимаешь, о чем я? Обожает помаду, шелка. Дочь адвоката высшего ранга, только не думаю, что ее папочка кинулся бы вытаскивать меня из передряги. Так вот, она распространялась о чечевицеобразных облаках и облаках с наковальнями и о том, как читать голубой небосвод. Хотя меня больше тянуло к лодыжкам. Обожаю такие тела, поджарые, как у гончей, но тут выигрышем и не пахнет, только не с ней. Такую в лучшем случае зацепишь по касательной. Вот где она сейчас? Уехала — и ни словечка. Только все же в ту ночь, с козлом, ей, знаешь, понравилось. Не то чтобы она такое одобряла, конечно, только во время того ужина мы вроде как подписали мировую. Настоящая дама… не про мою честь только.
Я очень любил, когда Стрелок говорил со мной вот так, будто на равных, будто я и впрямь что-то понимал в прихотливых тонкостях женской души. Кроме того, знакомство с иной версией случая с козлом открывало мне дальнейшие горизонты в мире, в котором я тогда только осваивался. Я был гусеницей, которая, меняя цвет, оскальзываясь, ползла в поисках листьев все нового вида.
Мы плыли и плыли по темным недвижимым водам, чувствуя, что вся река, до самого устья принадлежит нам. Мимо нас проплывали промышленные постройки с приглушенными, тусклыми, как звезды, огнями, и мы словно переносились обратно в военные годы, когда были затемнение и комендантский час, когда лишь скупо светили синие огоньки и суда на этом отрезке реки ходили по приборам. Боксер второго полусреднего веса, некогда казавшийся мне грубым и враждебным, обернувшись, смотрел на меня и с нежностью, словно подыскивая единственно верные слова, говорил о щиколотках Оливии Лоуренс и о том, как замечательно она разбиралась в оттенках синевы на морских картах и в системах ветров. Эти данные, наверное, пригождались ему для дела, хоть и отвлекали от слабо бьющейся голубой жилки на ее шее.
Он взял меня за руку и подтолкнул к штурвалу, а сам отошел к борту облегчиться. Раздался стон. Любые свои действия он сопровождал звукорядом — подозреваю, даже в амурные моменты, когда пульсирующая жилка на шее Оливии Лоуренс покрывалась пленочкой пота. Помню, впервые я увидел, как Стрелок мочится, во время рекогносцировки в Далиджской картинной галерее: он стоял, насвистывая, зажав в правой руке разом сигарету и пенис, и целился в ободок писсуара. «Фиксация фаллоса на фаянсе», — так он это назвал. Теперь я вел катер, и до меня доносились его прочувствованные излияния: «Столько оттенков серой тоски / Даже в русских пьесах не наскрести». В этот поздний час, бездамный час, он исполнял это исключительно для себя.
Катер замедлил ход. Мы накрепко пришвартовались к отбойнику причала и выбрались на сушу. Был час ночи. Мы дошли до «Морриса» и какое-то время сидели, замерев, словно перемыкая себя на новое устройство. Потом Стрелок выжал педаль сцепления, повернул ключ, и тишину прорезал рев мотора. По перекрестьям узких неосвещенных улиц он всегда ездил быстро, почти лихачил. В тех частях города после войны почти никто не жил. Мимо проносились груды обломков, то и дело попадались пепелища. Стрелок закурил сигарету и опустил стекло. Он никогда не ехал домой напрямик — забирал вправо, влево, уверенно притормаживая, неожиданно ныряя в темный проулок, словно прощупывал пути к отступлению. А может, рискованная езда помогала ему не заснуть? Это не опасно? Этот вопрос, некогда заданный Мотыльком, беззвучным облачком вырвался в воздух за моим окном. Один или два раза, когда думал, что я не устал, Стрелок с притворным изнеможением перебирался на пассажирское кресло, а меня сажал за руль. Пока я воевал с педалью сцепления и петлял по мосту Коббинз-Брук, он глазел по сторонам. Потом мы въезжали в черту города, и разговоры прекращались.
Мне был доверен широкий круг обязанностей, которые меня выматывали. Выдумать анализы костей и крови. Вырезать поддельные печати Большой лондонской ассоциации грейхаундов, чтобы наши иммигранты могли участвовать в собачьих бегах — числом до полутора сотен, на выбор, причем с такими документами, что хоть сейчас на бал к графу Монте-Кристо. Происходило повсеместное скрещивание пород, и рынок грейхаундов от этого так и не оправился. Оливия Лоуренс, незадолго до отъезда узнавшая про махинации Стрелка, закатила глаза и осведомилась:
— А дальше что? Ввоз фоксхаундов? Кража детей из Бордо?
— Из Бордо — непременно, — не замедлил съязвить в ответ Стрелок.
Однако наши ночи на устричном катере я обожал. Некогда это был тендер[5], который потом оснастили современным дизельным мотором. Стрелок одалживал его у «одного уважаемого портового торговца», который пользовался им всего три дня в неделю; правда, внезапно объявили королевскую свадьбу, и ожидались срочные поставки дешевой керамики с портретами монархов — ее стряпали на какой-то сатанинской фабрике в Гавре. По такому случаю с перевозом собак пришлось повременить. Это было длинное серое судно, построенное в Голландии, — по словам владельца, раньше оно ходило по мелким устричным заливам. Тендер был редким и отличался от всех других на Темзе. Балластная цистерна в трюме открывалась и заполнялась соленой водой — это сохраняло выловленные устрицы свежими до прибытия в порт. Но главным достоинством была неглубокая осадка, благодаря которой мы могли проходить Темзу по всей длине, от устья и до самого Ричмонда, даже до Теддингтона, где для большинства буксиров и барж было уже мелковато. Стрелок и для других своих дел его использовал, пробираясь по большим и малым каналам на север и восток от Темзы до Ньютонского водо-хранилища и Уолтамского аббатства.
Мне до сих пор памятны эти названия… Эрит-Рич, Каспиан-Уорф — улицы, по которым мы со Стрелком, глубоко за полночь, врывались в город. Позади очередной бурный рейд, и, чтобы я не заснул, он пересказывает мне сюжеты любимых фильмов. Дело доходит до диалога из «Неприятностей в раю»[6], и в голосе рассказчика появляются аристократические интонации: «Вы помните человека, который вошел в Константинопольский банк и вышел со всем Константинопольским банком? Я и есть тот человек!» Автомобиль мчался по темным улицам, а он то поворачивался ко мне, чтобы попотчевать подробностями споров с Оливией Лоуренс, то сыпал названиями наиболее приметных улиц, которые мы пролетали — Крукед-Майл, Сьюардстон-стрит или проносившегося мимо кладбища, — и приговаривал:
— Запоминай, Натаниел, вдруг когда придется отправить тебя ночью одного.
Мы гнали на такой бешеной скорости, что обычно добирались до города меньше чем за полчаса. Стрелок постоянно что-нибудь напевал — про «молодую, что с другим пареньком балует» или про «даму, имя которой пламя». Пел он бодро, порой взмахивая рукой, словно отгоняя от себя очередной пришедший на ум случай вероломной страсти.
Вокруг собачьих бегов уже тогда было полно аферистов. Миллионы фунтов кочевали из рук в руки. Толпы людей набивались на стадионы «Уайт-Сити» и «Бридж» в Фулхеме, толкались у дорожек-времянок, сеть которых опутывала всю страну. Стрелок входил в этот бизнес постепенно. Сначала прощупал почву. Такой вид спорта считался плебейским, а значит, власти пристально за ним следили. Стерн в своих колонках в «Дейли геральд» пугал публику, что в собачьих бегах наблюдается «упадок морали, проистекающий из пассивного досуга». Только Стрелок видел: досуг у публики не пассивный. Когда, например, в Харрингее дисквалифицировали фаворита со ставками три к одному, толпа дотла сожгла стартовые боксы, и Стрелка в числе прочих сшибло с ног струей из полицейского брандспойта. Он предвидел, что вмешательство закона: лицензии на собак, родословные, секундомеры, даже официальные правила, регламентирующие скорость механического зайца, — все это вопрос времени. Не останется места риску, ставки будут делать на основании трезвого расчета. Нужно было отыскать либо придумать какую-то лазейку, что-то, до сих пор никем не замеченное, и протиснуться в зазор между уже предусмотренным и пока еще не учтенным. Наблюдая за собачьими бегами, Стрелок увидел: в своре неразличимых существ имеются неоцененные кадры.
Ввозом сомнительного поголовья неучтенных собак он начал заниматься еще до своего появления на Рувини-Гарденс. К тому времени он провел в кочевых махинаторских шатрах не один год. Отшлифовал искусство допинга — не придающего псу сил и выносливости, а погружающего в медлительный транс; делалось это с помощью люминала — транквилизатора, применяемого при эпилептических припадках. Процедура была тщательно выверена по времени. Если накачать собак слишком близко к началу забега, то животные провалятся в сон прямо у стартовых калиток, и одному из распорядителей в котелках придется их уносить. Но если дать зелье за два часа до соревнований, то псы стартанут убедительно, а затем, на поворотах, у них задурманится голова. Печенку с люминалом скармливали определенной группе собак — например, только пегим или только кобелям, — и на них ставить не следовало.
Дома с помощью различных химикатов стряпались и другие препараты. Псов, которым плеснули в корм жидкости, собранной из зараженных дурной болезнью человечьих гениталий, некстати настигала чесотка или одолевала неуместная эрекция, и на последней сотне ярдов они резко сбавляли темп. Потом Стрелок перешел на таблетки хлорэтона — затаривался оптом у одного стоматолога и растворял в кипятке. Они тоже погружали в транс. Таким способом, говорил он, инспекторы парков в Северной Америке усыпляют форель, чтобы ее пометить.
Где, когда Стрелок почерпнул эти химико-медицинские познания? Да, человеком он был любознательным и умел выудить информацию из кого угодно, хоть из невинного химика, встреченного в автобусе. Примерно так же, как набрался от Оливии Лоуренс премудростей о погодных системах. При этом сам распахивать душу не спешил. Эта черта, вероятно, осталась у него с тех времен, когда он был боксером из Пимлико и, легкий на ногу, но немногословный и загадочный, с интересом изучал язык телодвижений — работал на контратаках, подмечал чужие слабости, а затем и подлавливал соперника на них. До меня лишь гораздо позже дошло, что между его знакомством с препаратами такого рода и тем, как он вмиг распознал у сестры эпилепсию, есть прямая связь.
К тому времени, когда я вошел в дело, золотой век допинга близился к закату. Ежегодно собачьи бега посещали тридцать четыре миллиона человек. Но клубы ввели тесты слюны и мочи, и Стрелку снова пришлось искать способ сделать так, чтобы ставки не зависели от расчета и паратости собак. В итоге, чтобы вернуть на беговые дорожки элемент неожиданности и азарта, Стрелок стал использовать подсадных уток, то есть собак, а я полностью погрузился в его хлопоты и при любой возможности выходил с ним на катере — ночные приливы и отливы то вносили, то выносили нас из Лондона; я до сих пор иногда по ним скучаю.
Лето выдалось знойным. Устричным катером мы не ограничивались. Иногда мы забирали по четыре-пять собак из незаметного андерсоновского бомбоубежища в Илинг-Парк-Гарденз и вывозили на «Моррисе» из Лондона — сидя на заднем сиденье, они с царственной невозмутимостью поглядывали по сторонам. В каком-нибудь заштатном городке собак пускали в манеже наперегонки с местными барбосами, смотрели, как они, похожие на бабочек-капустниц, стремглав несутся по размеченным полям, после чего возвращались в Лондон — карман у Стрелка был набит купюрами, а псы в изнеможении валялись сзади. Они готовы были бегать всегда, причем неважно, в каком направлении.
Окажутся наши подсадные утки прирожденными спринтерами или сдохнут от чумки, этого мы никогда заранее не знали. Но другие тоже не знали, это и делало всю затею экономически привлекательной. О псах, расположившихся на заднем сиденье, пока мы мчались в Сомерсет или Чешир, мы знали одно: они прибыли прямиком с корабля. На них Стрелок не ставил. Они были просто дополнительной картой в колоде, для прикрытия козырей. Любительские дорожки для бегов обустраивались повсеместно, наводкой нам служили слухи. Сражаясь с большой раскладывающейся картой местности, я отыскивал ту деревню или лагерь для беженцев, где имелись самопальные, паршивенькие дорожки. Бывало, собаки бежали за пучком голубиных перьев, примотанных к ветке, которую в чистом поле волочил автомобиль. На одной из дорожек приманкой выступала заводная крыса.
Помню, в этих поездках Стрелок, едва мы тормозили на светофоре, оборачивался, чтобы приласкать перепуганных животных. Вряд ли он настолько любил собак, однако понимал, что они ступили на английскую почву всего день назад или около того. Может, думал, что это их успокоит, и, когда несколько часов спустя они побегут по какой-нибудь дальней дорожке, им захочется ради него постараться. Они проводили с ним совсем мало времени и к концу дня в поредевшем составе возвращались в Лондон. Некоторые так увлекались гонкой, что устремлялись в леса — только их и видели. Одну-двух Стрелок продал то ли викарию в Йовиле, то ли польскому беженцу из лагеря в Доддингтон-Парке. Ни родственные, ни имущественные отношения Стрелка не волновали. Он презирал генеалогию — и у собак, и у людей. «Беда в том, что это не твои родные, — провозглашал он, словно цитируя какие-то всеми упущенные строки из Книги Иова, — это твои проклятые родственники! Избегай их! Отыщи того, кто станет тебе настоящим отцом. Жидкую кровь полезно будоражить подменышами». Сам Стрелок не поддерживал связи с родными. Ведь те практически продали его, шестнадцатилетнего, на боксерские ринги Пимлико.
Однажды вечером он явился на Рувини-Гарденс, 13, с тяжелым томом в руках — тот был прикован цепью к стойке в местном почтовом отделении, но Стрелок справился. Этот «кирпич» выпустила Ассоциация грейхаундов с целью предупредить общественность о «незаконно устраиваемых бегах», в нем содержался перечень всех лиц, подозреваемых в уголовно наказуемых правонарушениях. Снимки в профиль и анфас — некоторые лица размытые, некоторые явно самодовольные — сопровождались списком всевозможных опасностей: поддельные документы, фальшивые ставочные купоны, а еще допинг, подтасовка результатов, карманные кражи; были там даже призывы держаться подальше от тех, кто «курсирует» в толпе и распаляет публику. Стрелок велел нам с Рэчел пролистать весь трехсотстраничный список преступников и найти его. Но, конечно, его там не оказалось.
— Ничегошеньки они обо мне не знают! — гордо воскликнул он.
К тому моменту он умел виртуозно обходить правила собачьих бегов. А однажды несколько застенчиво поведал, как нарушил правила в первый раз. Во время гонки взял да и швырнул на беговую дорожку живого кота. Собака, на которую он — в первый и последний раз в жизни — поставил, на первом же повороте случайно налетела на ограждение. Но когда у других собак перед носом очутился кот, они забыли обо всем на свете, и продолжил гонку один лишь механический заяц с моторчиком — две лошадиные силы, полторы тысячи оборотов в минуту. Гонку объявили несостоявшейся, кот исчез, а за ним, вернув свою ставку, исчез и Стрелок.
Никто из пассий Стрелка не соглашался сопровождать его в этих загородных поездках, но я, всю жизнь мечтавший о собаке, обожал сидеть с псами на заднем сиденье, чувствуя на плече их ищущие тепла морды. Такая живая шкодная компания — то, что нужно для мальчика-одиночки.
В город мы вернулись в сумерках, собаки вповалку спали на заднем сиденье. И не проснулись ни от яркого света городских фонарей, ни даже от запаха корочки от сэндвича, которую Стрелок кинул им еще полчаса назад. Выяснилось, что у Стрелка назначен ужин и он хотел бы на него пойти, поэтому он упросил меня взять «Моррис» и отвезти собак обратно в андерсоновское бомбоубежище в Илинг-Парк-Гарденз. Он мой должник навеки. Я высадил его, благоухающего псиной, у станции подземки навстречу новой даме сердца. У меня была машина, но не было прав. Я не стал отдавать собак, а покатил вместе с ними прочь из городских недр по направлению к Милл-Хиллу.
Там, в очередном пустом доме, меня ждала Агнес; уходя, я приоткрыл окна, чтобы собакам было чем дышать. На пути к дому я обернулся и увидел, что они трагически смотрят мне вслед, словно скорбные духи. Агнес открыла дверь.
— Минутку, — сказал я.
Кинулся обратно и препроводил собак в палисадник перед домом — сходить по нужде. Агнес не дала загнать их обратно в «Моррис», позвала всех в дом. Собаки стремглав промчались мимо меня и скакнули в темный дверной проем.
Оставив ключи на полу у входной двери, мы двинулись на звук восторженного лая. В этом трехэтажном здании тоже нельзя было зажигать свет. Это был большой дом — в таких ни она, ни я еще не бывали, — причем полностью уцелевший. В сфере послевоенной недвижимости ее брат явно шел в гору. На голубом кружке́ газа мы подогрели две жестянки с супом и расположились на втором этаже — там можно было разговаривать и видеть друг друга в жижице уличного света. Теперь мы ощущали себя непринужденнее, уже не так переживали насчет можно — нельзя, получится — не получится. Мы хлебали суп. Собаки забегали к нам и снова уносились прочь. С момента последнего свидания прошло какое-то время, и мы догадывались, что ночь будет страстной, но что так… О прошлом Агнес я толком не знал, в моем детстве, как я уже говорил, собак не было, и теперь, в больших полутемных комнатах одолженного дома мы возились с ними, валили на пол, и их длинные морды обдавали жаром наши обнаженные сердца. Мы бегали по комнатам, держась подальше от освещенных с улицы окон, и перекликались друг с другом свистом. Одну собаку поймали одновременно — она и я. Агнес задрала голову к потолку и прямо сквозь него завыла на луну. В тусклом свете собаки походили на белесых муравьедов. Мы гонялись за ними по дальним комнатам. Натыкались на них в строгой узкой темноте лестничных пролетов.
— Ты где?
— Сзади тебя.
В свете фар проезжавшего автомобиля я увидел Агнес, голую по пояс, с псиной у бедра — оказалось, та боится лестниц, и Агнес снесла ее вниз, на нижнюю площадку; это заветный момент моей жизни, который я берегу в неприкосновенности в числе немногих других воспоминаний из той поры — подшитых к делу, снабженных этикетками, недоразобранных. Агнес с собакой. В отличие от других воспоминаний у него есть место и дата — последние деньки того знойного лета, — и во мне живет желание узнать, помнит ли подруга моей давней отроческой поры о веренице заемных домов на востоке и севере Лондона и о трехэтажном доме в Милл-Хилле, где собаки после часов, проведенных взаперти на заднем сиденье машины, в хаотичном восторге носились, цокая когтями неутомимых лап, как каблучками, по голым ступеням, а мы бегали и в них вреза́лись. Нам ничего не хотелось, лишь только бегать вот так и бегать среди их заливистого лая и бездумного буйства. Сделавшись их прислужниками, лакеями, мы наливали в миски свежую воду, и они жадно, неряшливо ее глотали, мы подбрасывали в воздух объедки ворованных сэндвичей — собаки подпрыгивали и ловили их у нашего лица. Грянул гром — они и ухом не повели, зато, когда полил дождь, замерли и обратили склоненные набок морды к большим окнам, прислушиваясь к его многозначительному постукиванию.
— Давай останемся до утра, — сказала она.
И когда собаки свернулись и уснули, мы уснули на полу возле них — они как будто и были той жизнью, по которой мы тосковали, той компанией, о которой мы мечтали, той необузданной, нецелесообразной потребностью, важнейшей из сохранившихся у человека в Лондоне тех лет. Когда я проснулся, рядом со мной лежала узкая спящая собачья морда и, погруженная в свои сны, тихо сопела мне в лицо. Уловив, что мое дыхание изменилось, собака открыла глаза. И мягким движением — то ли участливо, то ли с осознанием своего главенства — положила лапу мне на лоб. Она показалась мне очень мудрой.
— Откуда ты? — спросил я ее. — Из какой страны? Может, скажешь?
Я обернулся: Агнес, уже почти одетая, стояла, сунув руки в карманы, и, глядя на меня, прислушивалась к моим словам.
Агнес времен окончания войны. На Агнес-стрит, в Милл-Хилле и Лаймбернерс-Ярде, где она потеряла коктейльное платье. Даже тогда я понимал: не стоит посвящать в эту часть моей жизни Стрелка с Мотыльком. С ними я жил в том мире, в котором остался без родителей. С Агнес был мир, куда я теперь сбежал сам.
* * *
Наступила осень. Дорожки для бегов и манежи постепенно закрывались. Но я уже так погряз в делах, выполнял такие важные посреднические функции, что с началом семестра Стрелку не составило труда подбить меня на прогулы. Началось все с двух дней в неделю, но вскоре я навострился отлынивать под предлогом всяческих болезней, начиная с только что вычитанной свинки и до любой, что была на слуху, благо с моими новыми знакомствами всегда мог добыть липовую справку. Рэчел кое о чем догадывалась, особенно когда дело дошло до трех пропусков в неделю, но Мотыльку Стрелок попросил не докладываться, выразив просьбу одним из своих замысловатых жестов, — к тому моменту я уже научился их интерпретировать. В любом случае это было увлекательнее, чем корпеть над подготовкой к итоговому экзамену за среднюю школу.
Устричный катер теперь ходил с новым заданием. Стрелок взялся за перевозку фарфора из Европы для «уважаемого портового торговца». Груз в ящиках был не таким непоседливым, как грейхаунды, но Стрелок, сославшись на больную спину, сказал, что ему нужна помощь, — «Секс стоя по темным стойлам…». Он пропел эту строчку, эффектно ее смакуя. В итоге он упросил Рэчел за шиллинг-другой сверху снова работать с нами по выходным, и мы очутились в узеньких каналах, ветвящихся на север от Темзы, — мы о таких раньше и не слышали. Отправные точки и пункты назначения каждый раз менялись. То нужно было подойти к черному ходу таможни в Каннинг-Тауне, то просочиться по мелким рукавам к Ротерхит-Милл. Больше не требовалось утихомиривать по двадцать собак за раз, да и шли мы днем, в безмолвии осени. Холодало.
Я проводил со Стрелком много времени и постепенно к нему привык. По воскресным утрам, пока катер шел в тени деревьев, он усаживался на один из ящиков и листал газеты в поисках великосветских скандалов и зачитывал нам выдержки:
— Натаниел… «Граф Уилтширский, будучи не совсем одетым, обвил веревку вокруг шеи, прикрепив другой ее конец к большому газонному катку, что привело к случайному его удушению…»
Как человек из высшего общества умудрился такое сотворить, Стрелок прояснить отказался. В общем, у газона оказался небольшой уклон, из-за чего каток мягко покатился вниз, увлекая за собой неодетое тело графа и в итоге его задушив. Данный газонный каток, подытоживала «Ньюс оф зе уорлд», служил уже трем поколениям графской семьи. Сестра была серьезнее меня, она пропускала подобные истории мимо ушей и сосредоточенно учила строки из «Юлия Цезаря» — ей в школьном спектакле того семестра предстояло играть Марка Антония. Я к тому времени уже приготовился провалить итоговые экзамены и забросил перечитывать «Ласточек и амазонок», эту «дрянь, а не книжку», как сказал о ней Стрелок.
Он то и дело поднимал голову и делал попытки проявить заботу о моих школьных делах.
— Все отлично, — говорил я.
— А как твоя математика — ты знаешь, что такое равнобедренный треугольник?
— Да, конечно.
— Здорово.
В молодости такие вещи, как проявления заботы, пусть даже напускные, совершенно не трогают. Но теперь, оглядываясь в прошлое, я очень ему признателен.
Мы шли по какому-то сужающемуся каналу. Здесь было совсем по-другому: свет струился сквозь тронутые желтизной кроны, с берегов тянуло запахом прелой земли. Мы загрузились ящиками на Лаймхаус-Рич — там, по словам Стрелка, столетия назад гасили известь. Прибывавшие на кораблях иммигранты из Ост-Индии сходили там на берег и, не зная местного языка, вступали в новую страну. Я рассказал, как слушал по радио детективный рассказ о Шерлоке Холмсе под названием «Человек с рассеченной губой» — действие в нем происходит аккурат в том месте, где мы утром грузились фарфором, — но Стрелок с сомнением покачал головой: его мир и мир литературы были вещами несовместными. Признавал он только вестерны и романы про соблазнение дамочек, особенно ему нравился один, под названием «Ущелье Брыкающихся шлюшек», объединявший в себе оба этих жанра.
Однажды днем потребовалось протиснуться меж сходящихся берегов канала Ромфорд, и мы с сестрой, каждый со своего борта, выкрикивали подсказки Стрелку за штурвалом. На последней сотне ярдов почти сплошь пошли заросли. Из стоявшего там грузовика вышли двое, Стрелок с ними едва поздоровался, и ящики молча перегрузили. Обратно нам пришлось с четверть мили пятиться, словно загнанному в угол псу, пока мы не вышли на широкую воду.
Ромфорд был лишь одним из многих каналов, по которым мы сплавлялись. В другой раз мы перегоняли товар мимо Ганпаудер-Миллз. В свое время там ходили лишь суда с небольшой осадкой — пороховые катера да щебеночные баржи — и перевозили боеприпасы. Этот невинный на вид канал использовался для данной цели почти двести лет, потому что вел к Уолтамскому аббатству, изящной постройке, где вплоть до двенадцатого века проживали монахи. Во время недавней войны на землях аббатства работали тысячи человек, а взрывчатку оттуда переправляли в Темзу по тем же самым ответвлениям и притокам. Всегда безопаснее перебрасывать боеприпасы по тихим водным артериям, чем по общественным трассам. Иногда связанные канатами баржи тянули вдоль берегов лошади, иногда людские артели.
Но теперь военные заводы закрыли, и заброшенные каналы забивались илом и зарастали по берегам, становясь все уже. Теперь по безмолвной глади акватории по выходным плыли мы с Рэчел, пособники Стрелка, наслаждаясь песнями другого поколения птиц. Груз, который мы везли, был якобы неопасен, только нам в это не верилось. Постоянно менявшиеся маршруты и пункты назначения заставили нас с Рэчел усомниться в уверениях Стрелка, будто мы развозим европейский фарфор — и все для того, чтобы расплатиться с торговцем за аренду катера в сезон собачьих бегов.
Как бы то ни было, пока погода не посуровела, мы пробирались по тем почти заброшенным руслам, осторожно проводя катер по сужающимся рекам. Стрелок, скинув рубашку, подставил октябрьскому солнцу торс — белый, с торчащими ребрами, сестра зубрила свои выходы и уходы в «Юлии Цезаре». А потом вдали показались бурые камни Уолтамского аббатства.
Мы боком пристали к берегу, снова раздался условный свист, снова вышли люди и перетащили ящики в стоявший поблизости грузовик. И снова все делалось без единого слова. Полуобнаженный Стрелок не поздоровался с ними, даже не кивнул — просто стоял и наблюдал за их работой. Его рука лежала у меня на плече, то есть я как бы был при нем или он при мне — и это давало мне чувство защищенности. Мужчины ушли, грузовик, ныряя под нависающими ветвями, загромыхал прочь по раскисшей дороге. Со стороны эта картина: два подростка — девочка, склонившаяся над домашним заданием, и мальчик в школьной кепке — имела, должно быть, совершенно невинный вид.
Кого мы тогда могли назвать своей семьей? Теперь я понимаю, что мы с Рэчел в своей бесприютности немногим отличались от псов с поддельными документами. Подобно им, мы тоже вырвались на свободу — минимум правил, минимум руководства. Только к чему нас это привело? Когда в молодости не знаешь, куда податься, порой так легко бывает выйти за рамки закона, и вот уже для мира ты невидимка, подпольщик. Куда подевался прежний Стежок? А прежний Зяблик? А вдруг в мое нутро проникла воровская гнильца — под влиянием Агнес или из-за школьных прогулов ради обтяпывания делишек со Стрелком? Не из-за обиды, не для удовольствия, а ради азарта и риска? Когда пришел отчет об успеваемости, я поставил чайник и вскрыл над паром казенный конверт посмотреть отметки. Комментарии учителей были настолько разгромными, что я постеснялся показать их Мотыльку, ведь он передал бы все родителям. Я сжег листки на газовой плите. В них было много лишней информации. Пропусков у меня набежало несметное количество. И почти в каждой графе повторялось что-то вроде «отстающий». Я, словно обратно в конверт, замел пепел под ковер на одной из ступенек лестницы и остаток недели возмущался, что Рэчел прислали отчет, а мне нет.
Нарушал закон я в основном по мелочи. Агнес подворовывала еду из своего ресторана, пока как-то вечером, уходя с работы, не додумалась вынести под мышкой толстый шмат мороженого окорока. Закрутилась с делами, получила переохлаждение и на выходе потеряла сознание; окорок выскользнул из-под блузки и шмякнулся на линолеум. К счастью, начальство так распереживалось за свою любимицу, что ей это сошло с рук.
Мотылек по-прежнему твердил нам о schwer и о необходимости готовиться к непростым временам. Но я уворачивался и отмахивался от всего мало-мальски сложного или трудноусвояемого. В нелегальщине я видел скорее приключение, чем опасность. Переменчивые правила Агнес, даже знакомство через Стрелка с кем-нибудь вроде великого мастера по подделке документов из Летчуорта — все это приводило меня в восторг.
Положенный родителями годовой предел миновал — и пузырек, или что там, в ватерпасе Рэчел поехал вбок. Она перешла на ночной образ жизни, Мотылек подыскал ей вечернюю подработку в Ковент-Гардене у знакомой оперной певицы. Рэчел пленяло все связанное со сценой — гибкие листы металла, изображавшие «гром», люки, сценический дым, голубые блики софитов. Так же, как я изменился под воздействием Стрелка, Рэчел стала другой в мире театра, сделавшись не суфлером, правда, не тем, кто помогает тенорам продираться сквозь итальянские и французские арии, а рабочим сцены в отделе реквизита, где то требовалось по сигналу мчаться из-за кулис с полотнищами «реки», то за минуту демонтировать в темноте городскую стену. Так что наши дни и ночи и близко не походили на schwer, которой пугал нас Мотылек. Для нас это были дивные двери в мир.
Как-то ночью, после долгого вечера с Агнес, я ехал домой на метро. До центра Лондона предстояло немало пересадок, и я клевал носом. Доехав по Пикадилли-лейн до станции Олдвич, я зашел в лифт, который, трясясь и скрежеща, поднимался из недр подземки на три уровня вверх. В часы пик в этот тихоход набивалось по пятьдесят пассажиров из пригорода, а сейчас я был один. Из плафона сверху струился тусклый свет. За мной вошел мужчина с тростью. Следом — еще один. Решетчатые двери закрылись, и лифт медленно потащился в темноте. Каждые десять секунд мы проезжали новый этаж, и тогда становилось видно, что эти двое меня разглядывают. Один из них был тот, что несколько недель назад преследовал нас с Агнес в автобусе. Он взмахнул тростью и вдребезги разнес плафон, а другой тем временем дернул за стоп-кран. Завыла сирена. Сработали тормоза. И мы зависли в воздухе, балансируя на носках и стараясь удержать равновесие в темной подвешенной кабине.
Меня спасли унылые вечера в «Крайтирионе». Благодаря им я знал, что в большинстве лифтов отключатель тормоза находится либо на уровне плеч, либо в районе лодыжки. Мужчины двинулись на меня, я попятился в угол кабины. Нащупав отключатель, я саданул по нему ногой, и тормоз отпустило. В кабине замигали красные лампочки. Лифт снова медленно поехал, и наверху решетки раздвинулись. Мужчины отступили, тот, что был с тростью, швырнул ее на пол кабины. Я метнулся в ночь.
Вернулся я напуганный, но веселый. И рассказал оказавшемуся дома Мотыльку о своем хитроумном спасении — как лифт в «Крайтирионе» кое-чему меня научил. Наверное, они думали, что у меня есть деньги, сказал я.
* * *
На следующий день в дом просочился человек по имени Артур Маккэш; Мотылек объявил, что он друг и приглашен на ужин. Маккэш был высокий и тощий. В очках. С копной каштановых волос. По нему сразу было видно: такой до старости будет выглядеть, как студент выпускного курса. Для групповых видов спорта хиловат. Максимум — сквош. Однако первое впечатление оказалось ошибочным. Помнится, в тот первый вечер он единственный из всех сидевших за столом сумел открутить присохшую крышку на старой горчице. Отвинтил ее, как нечего делать, и положил на стол. На руках с закатанными рукавами проступали мощные тяжи мускулов.
Что нам за все время удалось услышать или выяснить об Артуре Маккэше? Он знал французский, а также другие языки, хотя никогда об этом не упоминал. Возможно, думал, что его поднимут на смех. Ходил даже слух, а может, шутка, что он владел эсперанто, «универсальным» языком, на котором никто не разговаривал. Подобные знания оценила бы Оливия Лоуренс, она сама знала арамейский, но ее к тому времени с нами не было. Маккэш утверждал, что недавно вернулся из Леванта, где изучал урожаи. Позже мне говорили, что персонаж Саймон Булдерстоун в «Превратностях войны» Оливии Мэннинг списан с него. Охотно в это верю — он казался осколком другой эпохи, одним из тех англичан, что гораздо лучше чувствуют себя в засушливом климате.
В отличие от других гостей, Маккэш вел себя тихо и скромно. Всегда принимал сторону того, кто спорил громче всех, и понятно было, что встревать не станет. Кивал в ответ на сомнительные шутки, хотя сам себе их не позволял, за исключением одного поразительного случая, когда, видимо, набравшись, он прочел двусмысленный лимерик об Альфреде Ланте и Ноэле Кауарде, чем всех ошарашил. Назавтра никто, даже те, кто сидел рядом, не сумел дословно его воспроизвести.
Появление Артура Маккэша спутало все мои догадки о том, чем занимался Мотылек. Что он делает тут, среди этих людей? Он был не похож на остальных горлопанов, вел себя как человек маленький, лишенный самоуважения, а может, наоборот, он так себя уважал, что не считал нужным это демонстрировать. Держался особняком. Лишь теперь мне пришло в голову, что это могла быть просто застенчивость, за которой, возможно, пряталось другое «я». Не только мы с Рэчел были юными.
До сих пор затрудняюсь сказать, сколько лет было тем типам, что заправляли тогда в родительском доме. Молодым, в том, что касается определения возраста, нет доверия, да и война, надо думать, сбила нам возрастные и классовые ориентиры. По ощущениям, Мотылек был ровесником моим родителям. Стрелок, наверное, на несколько лет помоложе, и то он казался таким из-за своей необузданности. Оливия Лоуренс — еще моложе. Наверное, потому, что всегда высматривала, куда бы направиться дальше, отыскать то, что ее увлечет, перевернет жизнь. Она была открыта переменам. Пройдет десять лет — и у нее будет совсем другое чувство юмора, а Стрелок, хотя и полный всяких туманных сюрпризов, так и будет ходить по своей проторенной, накатанной дорожке. Он был неисправим, и это в нем подкупало. С ним мы чувствовали себя в безопасности.
Назавтра днем, когда я сошел с поезда на вокзале Виктория, мне на плечо легла чья-то рука.
— Пойдем со мной, Натаниел. Выпьем чаю. Давай-ка сюда свою сумку. Вижу, тяжелая.
Артур Маккэш взял у меня школьную сумку и направился к вокзальному кафетерию.
— Что ты сейчас читаешь? — спросил он через плечо, не сбавляя шага.
Купил две булочки и чаю. Мы сели. Прежде чем облокотиться о стол, он протер клеенку бумажной салфеткой. Я все думал о том, как он подошел сзади, как дотронулся до плеча, взял у меня сумку. Необычное поведение для, в сущности, незнакомого человека. Над нашими головами неразборчиво гремели объявления о прибытии и отправлении поездов.
— Я люблю французских авторов, — сказал он. — Ты знаешь французский?
Я покачал головой.
— Моя мать знает, — сказал я. — Только вот где она…
Я сам удивился, как легко у меня это вырвалось.
Он смотрел на свою чашку. Потом взял ее и стал медленно пить горячий еще чай, глядя на меня поверх ободка. Я тоже на него глядел. Он был знакомым Мотылька, бывал у нас дома.
— Нужно дать тебе что-нибудь про Шерлока Холмса, — сказал он. — Думаю, тебе понравится.
— Я уже слушал про него по радио.
— А еще и прочитаешь.
И, словно в трансе, он принялся цитировать громким монотонным голосом:
— Я и вправду был удивлен, увидев вас там.
— Я удивился еще больше, увидев вас.
— Я искал там друга.
— А я — врага.
В такой подаче эти строки приобрели комичность и, кажется, взбодрили невозмутимого Маккэша.
— Слышал, ты в лифте метро попал в опасную передрягу… Уолтер рассказал.
И он пустился в расспросы — где именно это случилось, как выглядели те мужчины. Затем, помолчав, сказал:
— Ты не думаешь, что твоя мать может волноваться? Гуляешь так поздно по ночам?
Я уставился на него:
— Где она?
— Далеко. Занимается очень важными делами.
— Где она? Там не опасно?
Он жестом изобразил, будто запечатывает себе рот, и встал.
Я места себе не находил.
— Сестре можно будет сказать?
— С Рэчел я побеседовал, — ответил он. — С вашей матерью все в порядке. Просто будь осторожнее.
Я смотрел, как он растворяется в вокзальной толпе.
Все это напоминало попытку разгадать сон. Однако на следующий день, явившись на Рувини-Гарденс, он сунул мне рассказы Конан Дойла в мягкой обложке, и я стал их читать. И хотя меня раздирало от вопросов, что с нами происходит, не существовало таких сочащихся туманом улиц и переулков, на которых бы я мог отыскать подсказки, где находится мать или что в нашем доме делает Артур Маккэш.
* * *
— Часто я лежала без сна всю ночь и мечтала о крупной жемчужине.
Я почти уже провалился в сон.
— Что? — спросил я.
— В книжке прочитала. Это было желание одного старика. До сих пор помню. Каждую ночь про это думаю.
Голова Агнес лежит на моем плече, она смотрит на меня сквозь темноту.
— Расскажи мне что-нибудь, — шепчет она. — Что вспомнится… из такого.
— Я… Не приходит ничего в голову.
— Ничего. Расскажи, кого ты любишь. Что ты любишь.
— Наверное, сестру.
— А что тебе в ней нравится?
Пожимаю плечами, движение сообщается ей.
— Не знаю. Мы почти не видимся в последнее время. Наверное, потому что вместе нам безопаснее.
— Хочешь сказать, ты чего-то опасаешься?
— Не знаю.
— Что тебя пугает? Только плечами не пожимай.
Я смотрел во тьму большой пустой комнаты, в которой мы спали.
— А твои родители, Натаниел, какие они, кем работают?
— Они отличные. Работают в городе.
— Может, пригласишь меня к себе?
— Ладно.
— Когда?
— Не знаю. Но вряд ли они тебе понравятся.
— Они отличные, но мне не понравятся?
Я хохотнул.
— Просто с ними неинтересно, — сказал я.
— Прямо как со мной?
— Нет. С тобой интересно.
— Чем именно?
— Трудно сказать.
Она замолчала.
Я сказал:
— Мне кажется, с тобой что хочешь может случиться.
— Я простая работяга. У меня выговор с акцентом. Тебе, наверное, не хочется знакомить меня со своими родителями.
— Ты не понимаешь, у нас дома сейчас странно. Правда, странно.
— Почему?
— Потому что к нам постоянно приходят всякие люди. Незнакомые, странные.
— Ну так и я такая же.
Помолчала, подождала:
— А ты ко мне придешь? С моими познакомишься?
— Да.
— Да?
— Да. Я только за.
— Фантастика. К тебе, значит, нельзя, а как ко мне, так пожалуйста.
Я промолчал. Потом сказал:
— У тебя красивый голос.
— Пошел ты!
И она убрала голову с моего плеча.
Где мы были в ту ночь? Что это был за дом? В какой части Лондона? Это могло быть где угодно. Из всех людей ее присутствие доставляло мне наибольшее удовольствие. При этом расстанься мы, оба испытали бы облегчение. Потому что с этой девушкой, которая таскала меня по разным домам и засыпала вполне естественными вопросами, было легко, но трудно становилось скрывать двойную жизнь. Отчасти мне даже нравилось, что ничего я о ней не знал. Как зовут родителей — не знал. Чем они занимаются — не спрашивал. Интересовала меня лишь она, пусть даже звали ее не Агнес Стрит, пусть это просто было название улицы, где располагался первый наш одолженный дом, в каком-то, не вспомню каком, районе. Однажды — мы тогда трудились бок о бок в ресторане — она буркнула мне свое настоящее имя. И заявила, что оно ей не нравится, особенно на фоне моего, и что она бы с радостью его поменяла. Сначала она смеялась над именем Натаниел, его шикарностью, претенциозностью, произнося все четыре слога нараспев, с растяжечкой. А вдоволь наиздевавшись надо мной перед всеми, однажды молча подошла во время обеденного перерыва и попросила «позаимствовать» ломтик ветчины из моего сэндвича. Я не нашелся с ответом.
Я и потом не находил слов. Она говорила за двоих, хотя не прочь была и послушать, — так ей хотелось объять все вокруг. Потому той ночью, когда я заявился на машине Стрелка, она и затащила грейхаундов в дом, — чтобы они резвились у нее под ногами, а потом, когда мы сжимали друг друга в объятиях, изгибали шеи и нацеливали узкие, стреловидные морды на звук нашего дыхания.
Однажды я все-таки поужинал с ее родителями. Чтобы она мне поверила, пришлось несколько раз заявиться к ней в ресторан и показаться на кухне. Наверное, она догадывалась, что с моей стороны это банальная вежливость. С того вечера, когда в темноте прозвучало ее предложение, мы не оставались вдвоем. Они жили в полуторакомнатной муниципальной квартирке, и спать ей приходилось в гостиной на матрасе. Я смотрел, с какой нежностью она обращается со своими скромными родителями, как сглаживает их неловкость перед гостем. Необузданной и рисковой Агнес, которую я знал по работе и нашим свиданиям, как не бывало. И до меня вдруг дошло: ей до ужаса хочется вырваться из этого мира — ради этого она и пашет по восемь часов в день, и набавляет себе возраст, чтобы при любой возможности выходить в ночные смены.
Она жадно впитывала все, что происходило вокруг. Ей хотелось всему научиться, узнать все, о чем говорят окружающие. Моя вечная молчанка была для нее, наверное, сущим кошмаром. Скорее всего она думала, что я с рождения такой — отстраненный, скрытный во всем, что касается моих страхов, моей семьи. А потом мы с ней неожиданно столкнулись, когда я шел со Стрелком, и я сказал, что это мой отец.
Из всей разношерстной компании с Рувини-Гарденс Агнес в итоге только Стрелка и видела. Пришлось притвориться, будто мать у меня постоянно в разъездах. Ко лжи я прибег не чтобы замести следы, а чтобы она не обижалась на то, что я не посвящаю ее в странности своей жизни, — да я и сам, наверное, не стремился в них вдаваться. Но знакомства со Стрелком Агнес оказалось достаточно. Моя жизнь стала ей понятней, хотя мне прибавилось хлопот.
Стрелок, нежданно облеченный ролью отца, принял с Агнес покровительственно-добродушный тон. Она удивилась его обхождению и решила, что он «потешный». А когда от него поступило приглашение посетить субботние собачьи бега, она поняла, откуда я мог взяться той ночью в Милл-Хилле в компании четырех грей-хаундов.
— Лучшая ночь в моей жизни из всех, что были, — шепнула она ему.
Она обожала с ним спорить. Теперь я вдруг понял, что находила в его компании Оливия Лоуренс. Отпустив сомнительную ремарку, он охотно подставлял Агнес шею и позволял себя мутузить. Ее застенчивые родители снова позвали меня на ужин, на этот раз с отцом, и он, чтобы произвести впечатление, принес бутылку заграничного вина. В те дни редко кто так делал. У многих даже штопора не было, так что пришлось Стрелку выйти на балкон и разбить горлышко о перила.
— Посматривайте, там могут быть осколки, — весело объявил он.
Поинтересовался, ел ли кто из присутствующих козлятину.
— Мать Натаниела ее обожает, — заявил он.
Предложил переключить радио с «Хоум сервис» на волну поживее, чтобы станцевать с матерью Агнес, та с испуганным смехом забилась в кресло. Я мысленно препарировал все, что он в тот вечер говорил: не путает ли название моей школы, имя матери и все остальное, по сценарию, — например, что мать сейчас на Гебридах, уехала по работе. Стрелок с удовольствием исполнял многословную роль главы семейства, хотя обычно предпочитал, чтобы говорили другие.
Он неплохо поладил с родителями Агнес, а ее вообще полюбил, так что в итоге ее полюбил и я. Глядя на нее глазами Стрелка, я узнавал ее с других сторон. Он умел заставить людей раскрыться. После ужина в их муниципальной квартире Агнес проводила нас по лестнице и до машины.
— Ну конечно! — воскликнула она. — Тот самый «Моррис», на котором приезжали песики!
И все мои переживания из-за того, что я выдал Стрелка за родителя, утихли. С тех пор мы с Агнес дружно подтрунивали над моим отцом и его бурными манерами. И когда мы с сестрой и нашим названым отцом вели наемный катер по реке Ли, я мысленно так о нас и думал: семья.
В один из выходных Мотылек куда-то возил Рэчел, а я взял и предложил Агнес подменить ее на катере. Стрелок поколебался, но потом идея взять с собой Зажигалку, как он ее называл, пришлась ему по душе. О профессии Стрелка у нее, наверное, сложилось превратное представление, зато место, куда мы ее привезли, ошеломило. Такой Англии она не знала. Не успели мы пройти и сотню ярдов вдоль Ньютонского водохранилища, как она, прямо в ситцевом платьице, сиганула за борт. Выкарабкалась из воды на берег, фарфорово-белая, чумазая.
— Засиделась собачка в клетке, — услышал я голос позади себя.
Я только мог, что стоять и таращиться. Она помахала, чтобы мы за ней вернулись, потом забралась на катер и стояла; холодная осень ластилась к ней солнечными лучами, под ногами натекли лужицы.
— Дай мне рубашку, — попросила она.
Пока мы чалились в Ньютонском водохранилище, она приканчивала сэндвичи, припасенные нами на обед.
Еще одна карта, которую я знал назубок и которую до сих пор отчетливо помню, — вся акватория к северу от Темзы, все тамошние реки, каналы, канальчики. Шлюзов там было три, и в каждом приходилось ждать по двадцать минут, пока река наполняла или, наоборот, освобождала сумрачные коридоры, в которых мы болтались на привязи, и наконец опускала или поднимала нас на новый уровень; старинная эта машинерия, крутящаяся, вздымающаяся, приводила Агнес в восторг. Ей, семнадцатилетней девушке, ограниченной скудными возможностями и средствами своего класса, открылся дивный неведомый мир — мир, в котором она бы с радостью, наверное, осталась и который огорчительно напоминал ей сон о жемчужине. Это была ее первая в жизни вылазка за город, и я знал: она всегда будет признательна Стрелку за то, что он взял ее на «свой» катер. В моей рубашке, все еще дрожа, она обняла меня: спасибо, что позвал в это водное путешествие. Мы плыли под сенью прибрежных деревьев, а они плыли под нами. Проходя под узким мостом, мы стихли: Стрелок утверждал, что болтать, свистеть, даже вздохнуть под мостом — плохая примета. Насаждаемые им правила — проходить под приставной лестницей — нормально, беды не будет, нашел игральную карту на улице — привалит удача, — остались со мной на всю жизнь, да и с Агнес, наверное, тоже.
Газету или программу скачек Стрелок читал так: закидывал ногу на ногу, клал на колено листки, а голову с усталым видом подпирал рукой. Неизменная поза. Однажды в послеполуденный час я заметил, как Агнес, покуда Стрелок продирается сквозь дебри воскресно-газетных интриг, быстро-быстро его рисует. Я встал и словно невзначай прошелся сзади, мельком глянув, что у нее вышло. Это останется единственным ее рисунком, который я видел, если не считать того, на обрывке оберточной бумаги, который она вручила мне ночью в грозу. Только рисовала она не Стрелка, как я подумал, а меня. Юноша на бумаге куда-то смотрел — на что-то, на кого-то. Это был я настоящий, такой, какой я есть или каким я стану — не пытающийся найти себя, а поглощенный другими. Даже тогда я уловил сходство. Портрет был не меня, а обо мне. Я постеснялся рассмотреть его поближе и понятия не имею, что с ним сталось. Скорее всего она подарила его «моему отцу», хоть и не считала себя особым талантом. С четырнадцати лет, не доучившись в школе, она работала на полную ставку, а по вечерам в среду посещала курс искусства в политехникуме — малюсенький, но шанс вырваться. Наутро на работу шла, воодушевленная соприкосновением с иным миром. Это была единственная вольность в жизни Агнес с ее всевозможными обязательствами. Во время наших вечерних встреч в заемных домах, когда ей случалось, вдруг встрепенувшись от глубокого сна, увидеть, что я на нее смотрю, она расцветала улыбкой — виноватой и прелестной. В такие моменты она была мне особенно дорога.
Наши речные вояжи той осенью стали для нее кратким соприкосновением с несбывшимся в детстве — выходные, проведенные с мальчиком и его отцом.
— Твой папа — чудо! Ты ведь тоже его обожаешь, да? — восторгалась она.
Потом ее снова потянуло на расспросы о моей матери. Стрелок, даром что в глаза мою мать не видел, пустился в подробнейшие описания ее гардероба и причесок. Когда стало понятно, что он лепит мою мать с Оливии Лоуренс, я тоже вклинился и присовокупил несколько деталей. Благодаря таким информационным ухищрениям наша жизнь на катере стала еще более семейной. Хоть катер и был весьма спартанским, с мебелью там все равно было получше, чем в домах, где мы с Агнес встречались. У нее завелись знакомые шлюзовики — проплывая, она махала им рукой. Она раздобыла брошюры про деревья и обитателей пресных водоемов, дотоле ей неведомых. Потом еще одну, про Уолтамское аббатство, и охотно сыпала сведениями о том, что там раньше производилось: в 1860-е годы — пироксилин, потом винтовки с поворотно-скользящим затвором, карабины, пистолеты-пулеметы, сигнальные ракетницы, мины для минометов — и все это в том монастыре в нескольких милях к северу от Темзы. Агнес впитывала информацию, как губка, и за одну-две поездки узнала о деятельности аббатства больше самих шлюзовиков. В тринадцатом веке один монах, рассказывала она, — монах! — писал трактат о получении пороха, но так боялся этого новшества, что взял и записал все на латыни.
Временами хочется, чтобы кто-нибудь со стороны взглянул на нас тогдашних, когда мы ходили по большим и малым каналам к северу от Темзы, и помог мне разобраться, что с нами происходило. В детстве я жил в тихой гавани. Теперь же, отправленный родителями в свободное плавание, глотал все без разбору. Как ни странно, меня не заботило, где моя мать, чем она занимается. Хотя от нас это и скрывали.
Помнится, танцевали мы с Агнес вечером в одном джаз-клубе в Бромли — «Белом олене». Танцпол был забит под завязку, и вдруг мне почудилось, что где-то в отдалении мелькнула мать. Я резко развернулся в ту сторону, но она исчезла. Только и помню, что кляксы любопытных лиц вокруг.
— Что? Что такое? — спросила Агнес.
— Ничего.
— Ну скажи.
— Мне показалось, я видел мать.
— Я думала, она в отъезде.
— Я тоже так думал.
Я стоял очень ровно, очень прямо, а танцпол у меня под ногами ходил ходуном.
Так мы и обнаруживаем, достраиваем правду? Складывая один к одному такие вот условные фрагменты? Не только о моей матери, но и об Агнес, Рэчел, мистере Нкоме (где-то он теперь?). Все оставшиеся недопроявленными, ускользнувшие — станут ли они мне понятнее, отчетливее, если вглядываться в прошлое? А как иначе нам преодолеть те сорок миль отроческого бездорожья, которое мы проходим, еще не зная доподлинно, кто мы такие. «Ты — не главное, что есть на белом свете» — такую, по-своему мудрую фразу прошептала мне когда-то Оливия Лоуренс.
Я вспоминаю те загадочные грузовики, что подкатывали к нам и молча забирали ящики без опознавательных знаков, ту женщину, что, с каким-то — или это мне сейчас чудится? — радостным любопытством, смотрела, как я танцую с Агнес. Отъезд Оливии Лоуренс, появление Артура Маккэша, Мотылек и его молчание всех оттенков… Если возвращаться в прошлое, вооружившись настоящим, рассеются самые безнадежные тени. Потому что в этот путь ты отправляешься в своей взрослой ипостаси. Не прожить его заново, нет — увидеть другими глазами. Если, конечно, ты, подобно моей сестре, не проклинаешь всех и вся и не жаждешь им отомстить.
Schwer
Мы с Рэчел сидели на заднем сиденье «Морриса», дело шло к Рождеству. Мотылек взял машину у Стрелка и вез нас в театрик под названием «Барк». Стрелок ждал нас там. Едва Мотылек припарковался в переулке неподалеку от театра, как на переднее сиденье рядом с ним ворвался человек, вцепился ему в затылок и жестко приложил о руль, о дверь, вздернул и снова припечатал, а другой сунулся к Рэчел, прижал ей к лицу какую-то тряпку, держал, пока она трепыхалась, а сам неотрывно смотрел на меня.
— Ты же Натаниел Уильямс, да?
Я узнал этого человека: это он был в автобусе, в котором ехали мы с Агнес, и в лифте той ночью. Рэчел поникла ему на колени. Он резко схватил меня за волосы, сунул под нос ту же тряпку и снова спросил:
— Ты же Натаниел Уильямс, да?
Я уже догадался, что это хлороформ, и старался не дышать, но сделать вдох все равно пришлось. Schwer, подумал бы я, если бы не потерял сознание.
Очнулся я в большой, слабо освещенной комнате. Кто-то пел. Далеко-далеко. Чтобы не забыть, я прошептал про себя: «Человек из автобуса». Где сестра? Потом, видимо, я снова провалился в сон. Кто-то потормошил меня в темноте, и я проснулся.
— Привет, Стежок.
Это был голос матери. Послышались ее удаляющиеся шаги. Я поднял голову. Она шла, волоча за собой стул. За длинным столом на другом конце комнаты сгорбился Артур Маккэш в окровавленной белой рубашке. Мать села рядом.
— Эта кровь, — спросила мать. — Чья она?
— Моя. Может, еще Уолтера. Когда я его тащил. У него голова…
— Не Рэчел?
— Нет.
— Точно? — спросила она.
— Кровь моя, Роуз.
Я удивился, откуда он знает ее имя.
— Рэчел в безопасности, она где-то в театре. Я видел, как ее вносили внутрь. А мальчик здесь, с нами.
Она оглянулась на мою кушетку. Что я не сплю, она, думаю, не знала. Снова повернувшись к Маккэшу, она понизила голос и сказала:
— Потому что, если с ней что-то случилось, я вам такое при всех устрою, никому мало не покажется. Вы за них отвечали. Таковы были условия. Как вы допустили, чтобы они добрались до моих детей?
Словно ища защиты, Маккэш запахнул полы куртки.
— Мы знали, что они следят за Натаниелом. Группа из Югославии. Возможно, итальянцы. Мы пока не выяснили.
Затем речь зашла о неизвестных мне местах. Она сняла с шеи платок и забинтовала ему запястье.
— Куда еще?
Он указал на грудь.
— В основном сюда, — ответил он.
Она придвинулась.
— Все хорошо. О, все хорошо… хорошо.
Приговаривая так, она расстегнула на нем рубашку, отлепила присохшую от крови ткань.
Взяла вазу со стола и, выбросив цветы, плеснула на обнаженную грудь — разглядеть раны.
— Опять кинжалы, — пробормотала она. — Фелон часто говорил, что они охотятся за нами. Отомстить. Даже если сами погибли, подключается родня, дети.
Она промывала раны на его животе. До меня дошло: он получил их, защищая нас с Рэчел.
— Люди не забывают. Даже дети. Да и как им…
В ее голосе слышалась горечь.
Маккэш промолчал.
— Что с Уолтером?
— Вряд ли он выкарабкается. Детей надо отсюда увозить. Могут явиться другие.
— Да… Все хорошо. Все хорошо…
Она подошла и склонилась надо мной. Прикоснулась ладонью к лицу, ненадолго прилегла рядом.
— Привет.
— Привет. Где ты была?
— Я вернулась.
— Какой удивительный сон…
Не помню уже, кто из нас это сказал, кто пробормотал это в объятиях другого.
Артур Маккэш встал:
— Пойду найду Рэчел.
Он прошел мимо нас и исчез. Позже я слышал, что он облазил каждый этаж тесного здания, разыскивая сестру, которую Стрелок где-то прятал. Он не сразу их нашел. Он проходил темными коридорами, не зная, не скрываются ли там еще опасные чужаки. Входил в комнаты и шепотом звал: «Зяблик» — как его научила моя мать. Если дверь не поддавалась, он ее вышибал. Раны снова открылись и закровоточили. Он пытался уловить дыхание, повторял, как пароль: «Зяблик, Зяблик», давая ей время ему довериться.
— Зяблик.
— Зяблик.
Наконец послышалось неуверенное «да», и она нашлась — комочек на руках у Стрелка, за прислоненным к стене задником с намалеванным пейзажем.
Через какое-то время мы с Рэчел бок о бок спустились по застланной ковром лестнице. В холле собралась небольшая группа. Мать, полдюжины мужчин в штатском — для нашей, как она объяснила, охраны, — Маккэш, Стрелок. На полу лежали двое в наручниках, а поодаль — третий, полуприкрытый одеялом, с раскровяненным до неузнаваемости лицом, обращенным к нам. Рэчел судорожно схватила меня за руку.
— Кто это там?
Полицейский нагнулся и натянул на лицо одеяло. Рэчел завизжала. Нас спрятали под пальто и неузнанными вывели на улицу. Приглушенные рыдания Рэчел доносились до меня, пока нас распихивали по разным фургонам — развезти в разные стороны.
Куда мы ехали? В другую жизнь. Часть 2. Завещание
В ноябре 1959-го, мне было тогда двадцать восемь, после череды пустынных лет я купил деревенский дом в Суффолке, в нескольких часах езды на поезде от Лондона. Это был скромный дом с садом, обнесенным стеной. С его владелицей, миссис Малакайт, я о цене не торговался. Не хотелось обижать женщину, очевидно убитую необходимостью расстаться с домом, в котором прошла бо́льшая часть ее жизни. А еще не хотелось упускать дом. Я очень его любил.
Когда я возник на пороге, она меня не узнала.
— Это я, Натаниел, — сказал я и напомнил, что у нас назначена встреча.
Помедлив у двери, мы прошли в небольшую гостиную. Я сказал:
— У вас есть сад, обнесенный стеной.
Она опешила:
— Откуда вы знаете?
Покачала головой и двинулась дальше. Скорее всего она планировала сначала показать мне скромный дом, а потом поразить красивым садом. Я смазал всю картину.
Я сразу заявил, что согласен на цену. Договорились перед ее отъездом в дом престарелых, куда она перебиралась, снова встретиться и прогуляться по саду. Она посвятит меня в его тайны и особенности, даст советы по уходу.
Через несколько дней я приехал снова, и она снова меня не узнала. Я показал ей альбом, который привез, и объяснил, что хочу зарисовать, где что здесь растет, а ныне спит под землей. Идея пришлась ей по душе. С ее точки зрения это, наверное, была первая умная вещь, которую я сказал. Совместными усилиями мы извлекли из ее памяти и составили план сада, сопроводив его беглыми заметками, когда, какие и где растения взойдут. Составили перечень овощей, посаженных по краю теплицы и по долу кирпичной стены. Она помнила все до мелочей, четко, точно. До этого участка памяти она пока дотягивалась. Кроме того, именно она после смерти мужа, мистера Малакайта, два года тому назад, явно продолжала холить сад. Лишь последние воспоминания, которые уже не с кем было разделить, начали понемногу испаряться из ее памяти.
Мы прошли между выкрашенными белой краской ульями; достав из кармана фартука клинышек, она поддела волглые деревянные планки, и мы заглянули на нижний ярус; потревоженные светом, пчелы загудели. Старую матку убили, мимоходом заметила она. Нужно новую подсадить. Я смотрел, как она засовывает в дымарь какой-то обрывок, поджигает — и уже вскоре самоуправные пчелы трепетали в клубах дыма, которым она их окуривала. Она прошлась дымарем по двум ярусам с впавшими в полутранс пчелами. Удивительно было видеть, как женщина, постепенно теряющая представление о собственной вселенной, заправляет их миром, словно божество. Было ясно: тонкости ухода за садом и тремя ульями, равно как обогрева угловой теплицы — последнее, что она позабудет.
— А далеко пчелы летают?
— О… — Она махнула в сторону холмов. — Вон до той осоки. А может, и до самого Хейлзуорта, я не удивлюсь.
Все их вкусы, все привычки и устремления были ей хорошо известны.
Я знал ее имя — Линетт, возраст — шестьдесят шесть.
— Миссис Малакайт, я хочу сказать: вы всегда можете приехать, повидаться с садом и пчелами…
Она молча ко мне повернулась. Головой не покачала, но и так было ясно: звать в гости туда, где они с мужем прожили столько лет, — дурацкая затея. Я бы еще многое мог ей рассказать, только она бы еще пуще расстроилась. А я и без того уже слишком расчувствовался.
— Вы из Америки? — нанесла она ответный удар.
— Я там жил, давно. Но вырос в Лондоне. А какое-то время был вашим соседом.
Она удивилась и, похоже, не вполне поверила:
— Чем вы занимаетесь?
— Работаю в городе. Три дня в неделю.
— В какой сфере? Что-то связанное с деньгами, наверное.
— Нет, это своего рода государственная служба.
— А что делаете-то?
— А, вот в чем вопрос. Ну, разное… — Я замялся. Прозвучало нелепо.
Я сказал:
— Меня всегда, еще подростком, пленяла надежность сада, обнесенного стеной.
Я искал и не находил ни малейшего проблеска интереса с ее стороны; напротив, чем дальше, тем больше я портил впечатление, она явно разуверялась во мне, якобы случайном парне, который купил у нее дом между делом. Я отломил с куста веточку розмарина, растер в пальцах и, вдохнув аромат, положил в карман рубашки. Она наблюдала за мной, словно силясь что-то вспомнить. Я уткнулся в наспех набросанный план сада с отмеченными на нем посадками — лук-порей, подснежники, астры и флоксы. Над стеной широко простирало ветви тутовое дерево.
Послеполуденное солнце наполняло сад за стеной, защищавшей от настойчивых ветров с восточного побережья. Я так часто вспоминал это место. О том, как за этими стенами тепло и тенисто, о чувстве защищенности, которое меня здесь охватывало. Она продолжала смотреть на меня так, словно я чужак в ее саду, а я между тем мог рассказать о ее жизни почти все. Я прекрасно знал о годах, проведенных ею с мужем в этой суффолкской деревушке. Мог прямо с порога изложить историю ее замужества — с легкостью, на какую вообще был способен в отношении тех, с кем провел юность, кто был частью автопортрета, нарисованного мной по отражению в их глазах. А теперь миссис Малакайт отражалась в моих глазах — в ухоженном саду в один из последних дней, покуда она еще оставалась там хозяйкой.
Меня часто занимало, насколько искренна и прочна была связь между Малакайтами. В конце концов, они были единственной парой, которую я регулярно наблюдал в юности, приезжая к матери на школьные каникулы. Других примеров не было. Что лежало в основе их отношений — довольство? А может, они друг друга раздражали? Определить было трудно, поскольку в основном я общался с мистером Малакайтом — работал у него на полях или на грядках во дворе, бывшем военном огородике. У него была своя земля, свои представления о почве, погоде, и в одиночку ему работалось легче и разнообразнее. Я слышал, как он разговаривает с моей матерью, — у него совершенно менялся голос. Он настойчиво предлагал убрать живую изгородь с восточной оконечности ее лужайки, часто подтрунивал над ее неискушенностью в мире природы. При этом миссис Малакайт он предоставлял самой строить планы на вечер и ладить мостки беседы.
Сэм Малакайт остался для меня загадкой. Никому не дано по-настоящему постичь жизнь или даже смерть другого. У меня была знакомая ветеринар, у которой жили два попугая. Эта парочка была неразлучна еще до того, как к ней попала. Мне очень нравилось их темно-коричневое с прозеленью оперение. Попугаев я не люблю, но эти были красавцы. А потом один сдох. Я отправил хозяйке записку с соболезнованиями. А через неделю при встрече поинтересовался, как переносит потерю второй попугай — переживает ли, грустит? О нет, ответила она, он вне себя от радости!
Как бы то ни было, через пару лет после смерти мистера Малакайта я приобрел их маленький бревенчатый дом с садом, обнесенным стеной, и его сделал местом своего обитания. Уже давно я бывал здесь лишь наездами, но прошлое, казалось бы, начисто изгладившееся из памяти, сразу нахлынуло вновь. Меня обуяла такая тяга к нему, какой не бывало прежде, когда дни мелькали — глазом моргнуть не успеешь. «Моррис» Стрелка, лето, брезентовый верх машины расправляется и медленно складывается обратно. Мы с мистером Нкомой на футбольном матче. С мистером Малакайтом на реке, едим сэндвичи.
— Слышишь? — говорит Сэм Малакайт. — Дрозд.
И голая Агнес тянет из волос зеленую ленту, довершая свою наготу.
Незабвенный дрозд. Незабвенная лента.
После нападения в Лондоне мать по-быстрому отправила Рэчел в пансион на границе с Уэльсом, а меня под предлогом безопасности сплавила в Америку, где я никого не знал. Меня выдернули из привычного мира — того, где были Стрелок, Агнес и даже таинственный Мотылек. В чем-то эта утрата была горше, чем некогда материн отъезд. Я лишился юности, утратил ориентиры. Через месяц сбежал из школы, сам не зная, куда, ведь знакомых у меня толком не было. Меня нашли и безотлагательно запулили в другую школу, на этот раз на севере Англии — там я пребывал в такой же изоляции. По окончании весеннего семестра за мной приехал какой-то здоровяк и, почти не нарушая мое недоверчивое молчание, шесть часов вез меня на машине из Нотумберленда в Суффолк. Там мне предстояло воссоединиться с матерью, которая жила в Уайт-Пейнте, родительском доме в районе под названием Сентс. Это было открытое солнечное место, примерно в миле от ближайшей деревни, где мне все лето предстояло трудиться бок о бок с тем здоровяком, что привез меня из школы; звали его Малакайт.
С матерью мы в то время не ладили. Не осталось и следа от уютной непринужденности тех нескольких недель, после которых она бросила нас с сестрой. Ее притворный отъезд породил недоверие, и справиться с ним мне не удавалось. Лишь много позже я узнал, что один или, может, два раза она, возвращаясь в Англию за новыми заданиями, выкроила время и заглянула в джаз-клуб в Бромли посмотреть на мои танцы — хаотичные, дионисийские — с неизвестной ей девушкой, которая то и дело прыгала ко мне в объятия.
Говорят, на протяжении всей жизни мы разыскиваем выпавшие звенья цепи. Однако, когда, уже почти взрослым, я гостил у матери в Уайт-Пейнте, никаких подсказок обнаружить не удавалось — вплоть до того дня, когда, вернувшись с работы пораньше, я вошел на кухню, а там она, в одежде с коротким рукавом, оттирала в раковине кастрюлю. Думала, наверное, что никто не войдет. Она, почти не снимая, носила синюю вязаную кофту. Я полагал, чтобы скрывать худобу. А тут увидел багровеющие шрамы: они тянулись рядком, как отметины на древесной коре, вырезанные садовым инструментом, — и внезапно, словно невзначай, обрывались у края резиновых перчаток, которыми мать защищала руки от моющей жидкости. Не знаю, сколько всего шрамов было у нее на теле, но эти, аспидно-красные, на внутренней стороне рук, наглядное свидетельство прошлого, я видел.
— Пустяки, — пробормотала она. — Просто улица маленьких кинжалов…
Она никогда не рассказывала, откуда взялись эти раны. Тогда я не знал, что после нападения на нас мать, Роуз Уильямс, оборвала все связи со Службой. Слухи про заварушку в театре Барк власти быстро замяли, но в газетах замелькали намеки на ее работу во время войны, принесшие ей мгновенную, но анонимную славу. Прессе был известен лишь псевдоним — Виола. В зависимости от политических пристрастий газеты то превозносили эту неизвестную женщину как героиню Англии, то приводили в качестве примера злостных внешних интриг правительства после войны. Мать при этом оставалась в стороне. Ее анонимность надежно охраняли, так что, когда она вернулась в Уайт-Пейнт, местные, как раньше, при ее отце, называли их дом адмиральским. О неведомой Виоле вскоре забыли.
* * *
Через десять лет после смерти матери меня позвали на работу в Министерство иностранных дел. Поначалу приглашение показалось мне странным. В первый день со мной провели несколько собеседований. Одно — с представителем ведомства по «сбору разведданных», другое — по «экспертной оценке»; мне сообщили, что эти представители работают независимо, но оба заседают в верхах британской разведки. Почему выбрали именно меня, не сказали, никого из тех, кто задавал мне вопросы филигранно, но внешне обыденно, я не знал. Моя позорная академическая успеваемость их, на удивление, не смутила. Я пришел к выводу, что путь в эту сферу мне проложили кумовство и родословная: здесь верили в династии и наследуемые способности к хранению тайн. А еще их впечатлило мое знание языков. Ни на одном собеседовании никто из нас о матери не обмолвился.
Мне поручили разбирать многочисленные архивные папки, охватывающие военные и послевоенные годы. Все, что я накопаю, все выводы, к которым, возможно, приду, разглашению не подлежат. Находки полагалось передавать непосредственному руководителю — на рассмотрение. У каждого руководителя на столе было по две резиновые печати. Одна со штемпелем «На доработку», другая — «Завершено». Работы с «Завершено» передавались дальше по инстанциям. Каким именно, я не знал, — моя скромная область деятельности ограничивалась муравейником-архивом на втором этаже безымянного здания неподалеку от Гайд-парка.
Не работа — тягомотина. Однако благодаря кропотливому просеиванию военных сводок я надеялся выяснить, чем занималась мать в то время, когда бросила нас на попечение Мотылька. Мы только и знали, что в начале войны она передавала радиосообщения из Гнезда на крыше отеля «Гровенор-Хаус» да однажды всю ночь гнала машину на побережье, подкрепляясь шоколадом и глотками холодного ночного воздуха. А больше — ничего. Теперь имелся шанс восстановить недостающие звенья ее жизни. Это было как обещание наследства. В общем, служба, о которой я расплывчато упомянул в саду у миссис Малакайт, где в ульях вяло копошились пчелы, а хозяйка позабыла, кто я такой, была государственная.
Ежедневно я прочитывал груды папок, которые мне приносили из архивов. Преимущественно в них содержались донесения мужчин и женщин, действовавших во время войны на периферии, — о перемещениях по всей Европе, потом по Ближнему Востоку, о всяких послевоенных стычках, особенно в период между 1945-м и началом 1947-го. Оказалось, что и после подписания мирного договора война продолжалась — неофициальная, но, как прежде, ожесточенная; пока устанавливались правила и велись переговоры, военные действия продолжались, только уже втихую. На континенте, в городах и сельской местности партизаны выходили из подполья, отказываясь сложить оружие. Люди, натерпевшиеся за пять, а то и больше лет войны, отлавливали приспешников фашизма и Германии. Жажда воздания и отмщения повсеместно выкашивала деревушки, сея новое горе. В стороне не осталась ни одна этническая группа, живущая на территории недавно освобожденной Европы.
Вместе с горсткой других сотрудников я просеивал сохранившиеся папки и личные дела, вычисляя соотношение успешных и провальных операций, чтобы что-то порекомендовать к дальнейшему хранению в архивах, а что-то — к вымарыванию. Это называлось «тихая чистка».
В действительности то была уже вторая волна «чистки». Оказывается, под занавес войны и сразу после наступления мира имела место жесткая, почти апокалиптическая цензура. Кроме того, существовало огромное количество операций, о которых общественности благоразумнее было не знать, поэтому наиболее компрометирующие свидетельства по возможности быстро уничтожались — в штаб-квартирах всех спецслужб, и стран-союзников, и стран «оси», по всему земному шару. Известный пример — вышедший из-под контроля пожар в помещениях УСО[7] на Бейкер-стрит. Подобные плановые пожарища полыхали по всему миру. Когда британцы наконец признали независимость Дели, так называемые пожарные служащие взяли на себя труд предать огню все компрометирующие записи, и день, и ночь палили костры в Красном форте, на главной площади.
В инстинктивном стремлении утаить ряд военных подробностей британцы были не одиноки. В итальянском Триесте нацисты уничтожили дымоходы Рисиеры ди Сан Сабба, концлагерь на территории бывшего рисового завода, где были замучены и убиты тысячи евреев, словенцев, хорватов и узников-антифашистов. Аналогично, не осталось сведений об общих могилах на холмах над Триестом — туда, в карстовые провалы, югославские партизаны сваливали трупы противников коммунистического переворота, а также тысяч людей, умерших в югославских лагерях для интернированных лиц. Повсюду шло поспешное, беспощадное уничтожение свидетельств. Бесчисленное множество рук сжигало и пропускало через шредеры все, что могло вызвать вопросы. Ревизия истории началась.
Однако обрывки правды сохранялись в семьях и в деревнях, практически стертых с карты. У жителей любой балканской деревни, как однажды сказала мать Артуру Маккэшу, а я услышал, имелись причины мстить соседям или другим людям, кого они причисляли к своим врагам — партизанам, фашистам или нам, союзникам. Так аукнулось наступление мира.
Эта работа позволяла нам, поколению конца 1950-х, докапываться до свидетельств о таких событиях, которые были сочтены исторически нежелательными, но могли иногда всплыть в заблудших донесениях и неофициальных бумагах. Через двенадцать лет после окончания войны кое-кому из тех, кто ежедневно склонялся над архивными папками, стало казаться: рассудить, кто был прав с моральной точки зрения, уже нереально. И многие сбегали из этого правительственного муравейника, не прослужив в нем и года.
Часть 2. Завещание
Сентс
Вступив во владение домом Малакайтов, я в первый же день отправился через поле в Уайт-Пейнт — туда, где выросла мать и где теперь жили незнакомые люди. Я стоял на склоне, обегавшем землю, что некогда была ее землей, вдалеке змеился меандр реки. И я решил записать то немногое, что знаю о времени, здесь ею проведенном, пусть даже этот дом и эта земля, некогда принадлежавшие семье матери, не отражали подлинную карту ее жизни. Для девочки, выросшей в суффолкской деревушке, она неплохо попутешествовала.
Мне говорят, что за мемуары надо браться круглым сиротой. Ибо на тебя нахлынет все разом: все то, о чем тоскуешь, чего прежде стерегся и что обходил стороной. «Мемуары — это утраченное наследство», — и на этот раз, понимаешь ты, нужно подобрать верную оптику. В получившемся автопортрете все будет отражением — рифмующимся, парным. Жест из прошлого станет достоянием ныне живущего. И я верю: что-то от моей матери нашло отражение во мне. У нее свой маленький лабиринт с зеркалами, у меня — свой.
* * *
Это была сельская семья, жившая скромной, неприметной жизнью, знакомой нам по кинолентам военных лет. С некоторых пор я так и представляю бабку, деда и мать персонажами подобных кинолент; впрочем, недавно при виде чопорной сексуальности целомудренных героинь того времени мне пришли на память статуи, что некогда, в моем отрочестве, плавно возносились и спускались на лифте «Крайтириона».
Деда угораздило родиться единственным мальчиком среди старших сестер, и общество женщин он переносил спокойно. Даже дослужившись до адмиральского чина и получив драконовский контроль над мужчинами, повиновавшимися его суровым приказам в море, он с отрадой проводил время в Суффолке и совершенно не тяготился домашними обычаями жены и дочери. Интересно, не это ли сочетание «домашней» и «разъездной» жизни привело к тому, что мать сначала задумала, а затем и в самом деле резко переменила жизненный вектор? Она всегда стремилась к большему, и в ее замужней и профессиональной жизни были явные переклички с тем двойственным миром, в котором жил ее отец.
Поскольку бурную часть своей жизни дед проводил в море, он намеренно приобрел дом в Суффолке, вдали от «бурной реки». Так что удить рыбу мать училась в широком, но спокойном потоке, который никуда не спешил. От дома к нему плавно сбегали заливные луга. Порою с нормандских церквей слышался далекий колокольный звон — все тот же, что разносился над этими полями уже многие поколения.
Местность представляла собой гроздь деревушек, рассыпанных в нескольких милях друг от друга. Между ними тянулись дороги, преимущественно безымянные, что с учетом схожести названий — Сент-Джон, Сент-Маргарет, Сент-Кросс — сбивало путешественников. По сути, скоплений топонимов на «Сент-» было два — южноэлмхемское, восемь деревень, и айлкетшелское, вдвое меньше. Мало того, расстояния на дорожных знаках в этом краю писали на глазок. По указателю от одного «Сент-» до другого — две мили, а путник отмахал три с половиной и поворачивает назад, думая, что пропустил поворот, тогда как на деле до хитроумно запрятанного селения еще полмили по прямой. Мили в Сентс длинные-длинные. География ненадежная. Для тех, кто здесь вырос, «надежный» значит «спрятанный». Я провел в этой местности несколько детских лет, и, возможно, по этой причине позже, в Лондоне, мне, чтобы почувствовать себя в безопасности, нужно было маниакально вычерчивать карты окрестностей. Что не сумел увидеть и зафиксировать, то перестает существовать, думал я, и мне часто хотелось переместить мать и отца в одну из этих деревушек, наобум рассыпанных по земле, с похожими названиями и ненадежными указателями.
Когда началась война, Сентс в силу их близости к побережью засекретились еще больше. Указатели, хоть и сбивчивые, убрали из-за риска немецкого вторжения. По ночам на местности не было ни одного опознавательного знака. Вторжения не случилось, зато американские летчики, приписанные к недавно построенным аэродромам британских ВВС, возвращаясь ночами из пивных, постоянно блуждали, и лихорадочные поиски нужного летного поля могли затянуться до утра. Переправившись на пароме «Биг Дог», пилоты брели безымянными проселочными дорогами и вновь оказывались на пароме «Биг Дог», только в обратную сторону — а нужного летного поля нет как нет. В Тетфорде возвели макет немецкого городка в натуральную величину — перед вторжением в Германию союзные войска отрабатывали на нем приемы окружения и атаки. Странный получался контраст: английские солдаты прилежно заучивали план немецкого городка, а рисковые немцы готовы были запросто высадиться в заковыристых суффолкских ландшафтах без единого дорожного знака. Прибрежные городки тайно стерли с карт. По официальным данным, никаких военных баз здесь теперь не было.
Большая часть деятельности, в которой принимали участие мать и все остальные, велась столь же скрытно, подлинные мотивы — совершенно по-детски — камуфлировались. В Суффолке чуть не за одну ночь построили тридцать два аэродрома — и это не считая ложных летных полей, призванных сбить врага с толку. Большинство реальных аэродромов так и не попали на карты, лишь промелькнули в нескольких застольных песнях-однодневках. К концу войны аэродромы, а вместе с ними четыре тысячи служащих ВВС исчезли, покинули регион, словно их и не было. Сентс вернулись к привычным будням.
Об этих на время исчезнувших городках мне, подростку, рассказывал мистер Малакайт, пока мы ехали до места работы и обратно по древним, еще римским, дорогам. На задворках заброшенного летного поля в Метфилде у него был участок под овощи, и там, на старых, заросших травой взлетных полосах, я снова, на сей раз законно, учился водить машину. Свою родную деревушку Малакайт прозвал Благодарная — за две войны ни одного убитого; именно туда, через десять лет после смерти матери, я приехал жить, в бревенчатый домик с садом, обнесенным стеной, где всегда чувствовал себя в безопасности.
Я просыпался рано и шел пешком из Уайт-Пейнта в деревню, зная, что Сэм Малакайт меня нагонит и будет, закуривая сигарету, смотреть, как я карабкаюсь в кабину. Мы доезжали до какого-нибудь городка, раскладывали на площади, например, Баттер-Кросс в Банги, товар на дощатых столах с крестовыми ножками и до полудня торговали. Летом, в жару, делали привал у эллингемской мельницы, где было мелко, и стояли по пояс в воде, поедая сэндвичи миссис Малакайт — помидоры, сыр, лук и мед со своей пасеки. Такого сочетания я нигде больше не встречал. От обеда, что, в нескольких милях от нас, утром сготовила жена мистера Малакайта, веяло домашней заботой.
Он носил очки с толстыми, как бутылочные донышки, линзами. Бычью его фигуру было видно издалека. Одевался в длинную охотничью «барсучью» куртку, сшитую из нескольких шкурок, от которой пахло папоротником, а иногда — дождевыми червями. Для меня они с женой являли пример крепкого брака. Супруге его явно не нравилось, что я вечно у них отираюсь. Она любила порядок, была аккуратисткой, он же, дикий брат кролика, куда ни шел, оставлял за собой след, как после ухватистого урагана. Он шел, и на пол за ним последовательно летели ботинки, барсучья куртка, сигаретный пепел, кухонное полотенце, журналы по садоводству, совки; в раковине после мытья картошки оставалась грязь. Всему, что попадалось ему под руку, предстояло быть съеденным, обмозгованным, прочитанным или выброшенным, а что ошметки летят, того он не замечал. Напрасно жена сетовала на этот его застарелый недостаток. Подозреваю, ей нравилось числить себя страдалицей. Хотя надо отдать должное, поля у мистера Малакайта содержались образцово. Ни один овощ не оставался на грядке и не превращался в самосев. Редиску он отмывал под тонкой струйкой из шланга. На воскресных рынках аккуратно раскладывал товар на дощатых столах.
Так протекали мои весенние и летние дни. Я работал за скромную плату, зато не приходилось все время маячить на своем конце, казалось, непреодолимой дистанции между мной и матерью. Я был растерян, она скрытничала. И средоточием моей жизни стал Сэм Малакайт. Если нам случалось допоздна заработаться, я ужинал у него. Мотылька, Оливию Лоуренс, Стрелка, заядлого курильщика, и Агнес с ее прыжками в реку вытеснил добродушный и надежный Сэм Малакайт, могучий, как дуб, так тогда говорили.
На зиму поля мистера Малакайта погружались в спячку. Переходили в режим сбережения; лишь желто цвела горчица, покровная культура, натуральное удобрение. Зимы текли тихо и покойно. К моему возвращению поля уже полнились овощами и фруктами. Начинали мы рано, в полдень обедали и, вздремнув под тутовым деревом, продолжали работать до семи-восьми часов. В двадцатилитровые ведра собирали зеленую фасоль, в тачки — свекольную ботву. Сливы из сада за домом миссис Малакайт превращала в повидло. Ранние помидоры, росшие возле моря, отличались насыщенным вкусом. Я вновь погружался в сезонную субкультуру огородников — расположившись за дощатыми столами на рынке, они бесконечно обсуждали фитофтороз и весеннюю засуху. Я молча сидел и слушал, как мистер Малакайт виртуозно убалтывает покупателей. Когда нам случалось остаться наедине, он расспрашивал, что я читаю, что прохожу по программе. Никогда надо мной не подшучивал. Видел: что бы я ни изучал, я изучаю это по велению сердца, хотя с ним о своих академических штудиях я почти не вспоминал. Хотелось стать частью его вселенной. Слепые карты из детства с ним становились достоверными и точными.
С ним я доверчиво шел куда угодно. Он знал названия всех трав под ногами. Мог тащить два тяжелых ведра с известью и глиной для сада и одновременно прислушиваться к посвисту определенной птицы. При виде ласточки, разбившейся о стекло, то ли мертвой, то ли оглушенной, он на полдня погружался в молчание. Судьба этой птицы долго его не отпускала. Он мрачнел, когда я заговаривал об этом происшествии. Выпадал из разговора, отстранялся — и на меня, даже если он сидел рядом, за рулем своего грузовика, вдруг накатывало одиночество. Ему были ведомы и затаенные горести мира, и его радости. Проходя мимо куста розмарина, он непременно отламывал веточку, нюхал ее и носил потом в нагрудном кармане рубашки. Ни одной реки не пропускал. В жару скидывал сапоги, одежду и плавал средь камышей, попыхивая дымком зажатой во рту сигареты. Он учил меня искать редкий гриб-зонтик, пятнистый, как олененок, со светлыми пластинками под шляпкой — такие растут лишь в чистом поле.
— Лишь в чистом поле, — говорил Сэм Малакайт, поднимая стакан воды, и это звучало как тост.
Много позже, узнав о том, что он умер, я поднял стакан и сказал:
— Лишь в чистом поле.
В тот момент я сидел в ресторане, один.
Тень его большого тутового дерева. Работали мы, как правило, на солнцепеке, потому на ум и приходит не дерево, а тень. Ее симметричная темная сущность, глубина и тишина — здесь он обстоятельно, неспешно рассказывал мне о прежних днях, покуда не наставало время вновь браться за тачки и мотыги. В неглубокую ложбину слетал ветерок и, ворвавшись в наше темное убежище, принимался шнырять вокруг. Сидеть бы так всегда, под тутовым деревом. Муравьи в траве карабкаются на зеленую верхотуру.
В архивах
Я ежедневно работал в уголке безымянного семиэтажного здания. Знал я там только одного человека, и тот держался отчужденно. Однажды он вошел в лифт вслед за мной и сказал: «Приветствую, Шерлок!» — так, словно имя и «приветствую» были согласованным паролем, а восклицательный знак, выраженный голосом, должен был успокоить человека, неожиданно обнаружившегося в таком месте. Высокий, по-прежнему в очках, с покатыми плечами и чем-то мальчишеским в облике, Артур Маккэш вышел на следующем этаже, и я тоже выглянул на секунду, посмотреть, как он уходит к какому-то кабинету. Я знал, как, наверное, очень немногие, что под белой рубашкой на животе у него — три или четыре глубоких шрама, вечные рытвины в белой коже.
Я приезжал в Лондон поездом и рабочую неделю жил в съемной однокомнатной квартире неподалеку от больницы Гая. Город понемногу оправлялся от разрухи, люди приводили свою жизнь в порядок. По субботам я возвращался в Суффолк. Я жил в двух мирах — и в двух эпохах. В городе я почти надеялся когда-нибудь увидеть голубой «Моррис» Стрелка. Я помнил воинственный гребешок на капоте, желтые поворотники, выпрастывавшиеся из дверей, словно уши грейхаундов на лету. Помнил, как Стрелок, словно чуткая сова, улавливал фальшивую ноту в моторе, шумы в его литровом сердце и сразу вылезал, снимал крышку клапанов, чтобы зачистить наждачной бумагой электроды свечей. «Моррис» был его порочной слабостью, и любая женщина, сидевшая с ним в машине, вынуждена была примириться с тем, что к машине он проявляет больше любви и заботы, чем к ней.
Но я не знал, по-прежнему ли у него этот «Моррис» и как самого его найти. Я зашел на Пеликан-Стэйрз, но оттуда он съехал. Единственным человеком, хорошо знавшим Стрелка, был подделыватель документов в Летчуорте, — я наведался туда, но и он исчез. На самом деле, я скучал по сборищам незнакомцев за нашим столом — они повлияли на нас с Рэчел сильнее, чем наши исчезнувшие родители. Где сейчас Агнес? Я не знал, как найти ее. Я пошел на квартиру к ее родителям, но их там уже не было. В ресторане Уордлс-Энда ее не помнили, в техникуме ее адреса не знали. Так что глаза мои постоянно были настороже — не мелькнет ли где голубой двухдверный «Моррис».
За работой проходили месяцы. Я понял, что, если и сохранились какие-то документы о матери, мне их не покажут. Либо они уничтожены, либо от меня их утаят. Будто черным колпаком накрылись военные дела моей матери, и я навсегда останусь в неведении.
Чтобы отойти от работы взаперти, я повадился ночами гулять по северному берегу Темзы, мимо старых андерсоновских бомбоубежищ, где Стрелок когда-то держал собак. Сейчас оттуда не слышалось ни лая, ни возни. Я ходил мимо причалов — Святой Екатерины, Ост-Индского, Королевских. Война давно закончилась, их не запирали, и однажды ночью я вошел, поставил таймер шлюзовых ворот на три минуты, взял ялик и поймал приливное течение.
Было два или три часа ночи, и река почти пустынна. Я один на воде. Изредка проходил буксир и тащил баржу со строительным мусором к Собачьему острову. Я чувствовал водовороты, вызванные глубинными течениями, и грести приходилось сильно, почти не продвигаясь вперед, иначе меня отнесло бы к Лаймхаусу или Ратклифф-Кроссу. Однажды ночью мне попалась лодка с мотором, я доплыл до Боу-Крика и зашел в два северных рукава реки, почти веря, что где-то в этих темных северных притоках могу найти моих прежних товарищей. Я поставил угнанную лодку на якорь, чтобы как-нибудь другой ночью пройти вверх по реке и заглянуть в другие речки и каналы. Потом пешком вернулся в город и в половине девятого, освежившийся, занял рабочее место.
Не знаю, чем изменили меня эти новые путешествия вверх и вниз по реке, где мы когда-то забирали собак. Думаю, до меня дошло, что погребено было и не оставило следов не только прошлое моей матери, но и сам я канул куда-то, исчез. Я потерял мою юность. Я ходил по привычным комнатам архива с новой целью. В первые месяцы на работе, когда мы собирали детриты еще не окончательно зацензуренной войны, я знал, что за мной наблюдают. Я ни разу не заговаривал о матери. Если кто-то из старших, случалось, обронит ее имя — я только пожимал плечами. Тогда мне не доверяли, но теперь стали доверять, и я знал, в какие часы могу остаться один в архиве. В молодости я научился ловчить — придерживать информацию из официальных источников, будь то школьные рапорты или документы на грейхаундов, которые я воровал под руководством Стрелка. У него в бумажнике лежали тонкие инструментики для входа и выхода, и один раз я с любопытством наблюдал, как он открывает собачий стартовый бокс куриной косточкой. Остатки былой анархии у меня еще не выветрились, но к шкафам с папками «Действующие», закрытым от наивных вроде меня, я до сих пор не имел доступа.
Открывать замки на шкафах научила меня ветеринар, та, у которой жили два попугая. Я познакомился с ней когда-то благодаря Стрелку, и она была единственным человеком из прежних времен, кого мне удалось отыскать. Мы подружились, когда я вернулся в Лондон. Я объяснил ей мою проблему, и она посоветовала сильный болеутоляющий спрей, употребляемый для поврежденных копыт и переломов ног у собак. Надо попрыскать им вокруг замка, пока не появится белый конденсат. Заморозка замедлит реакцию замка на незаконное вторжение и позволит приступить ко второму этапу. Для этого послужит гвоздь Штейнманна, который в легальной сфере используется для фиксации переломов, в частности у беговых грейхаундов. Тонкие гладкие интрамедуллярные спицы из нержавеющей стали почти сразу давали результат: замки на шкафах, секунду помешкав, открывали свои секреты. Я стал таскать папки и в обычно пустом картографическом кабинете, где я в одиночестве обедал, вытаскивал бумаги из-под рубашки и читал. Через час я возвращал папку на место, под замок. Если мать существует в этом здании, я ее обнаружу.
О своих новых изысканиях я молчал, только Рэчел сказал по телефону. Но у нее не было желания возвращаться к нашей молодости. Рэчел по-своему отстранилась от нас, не хотела вспоминать то, что было для нее опасным и недостоверным временем.
Когда мать привезли посмотреть на Рэчел после нападения, меня с ними не было, — Рэчел уже была в безопасности, на руках у Стрелка за задником в театре «Барк». Я еще не совсем отошел после хлороформа. Но, по-видимому, когда появилась мать, Рэчел продолжала держаться за Стрелка и повернулась к матери спиной. После нападения с ней сделался припадок. Подробностей я не знал. Большую часть того, что происходило вечером, от меня скрывали. Может быть, не хотели травмировать, но от их молчания было еще хуже, еще жутче. После Рэчел ничего не говорила, только: «Ненавижу мать!» Словом, когда Стрелок поднялся с ней на руках и хотел передать ее матери, сестра заплакала, словно рядом был демон.
Конечно, она была не в себе. Обессилена. Нападение спровоцировало припадок, и она, наверное, даже не помнила подробностей случившегося. Я такое часто наблюдал: бывало, после припадка она смотрела на меня так, словно я дьявол. Как будто волшебным зельем из «Сна в летнюю ночь» капнули ей в глаза — только первым делом при пробуждении ты видишь не предмет любви, а источник страха, причину муки, стихшей минуту назад.
Но в этот раз с Рэчел было не так. Потому что первым она увидела Стрелка, державшего ее на руках, успокаивавшего, всячески старавшегося показать, что она в безопасности, как в тот раз в ее спальне, когда он рассказал мне сомнительную историю о своей собаке-эпилептичке.
И еще одно. Как бы ни реагировала на меня сестра сразу после припадка — с подозрительностью ли, со страхом, — через час-другой она уже могла играть со мной в карты или помогать с уроком по математике. С матерью вышло иначе. Суровое мнение о ней у Рэчел никогда не смягчалось. Рэчел отсекла ее. Чтобы быть подальше от матери, она перевелась в другой пансион, хотя он ей не нравился. «Ненавижу мать», — повторяла она с жаром. Я воображал, что вот мать приедет и снова примет нас в свои объятия. Но сестра была непримирима в своей обиде. А когда увидела тело Мотылька в вестибюле театра «Барк», закричала на мать и, кажется, так до сих пор и продолжает кричать. Расколовшаяся наша семья раскололась еще глубже. С тех пор сестре было спокойнее с чужими. Ее спасли чужие.
Так покинул нас в ту ночь Мотылек. Когда-то при свете газового камина на Рувини-Гарденс он пообещал, что останется со мной, пока не вернется мать. И сдержал обещание. В ту ночь мать вернулась, и он нас покинул.
* * *
Однажды я ушел из архива пораньше, чтобы посмотреть представление в театре, где работала Рэчел. Мы с ней давно не виделись. Я чувствовал, что она меня избегает, и не хотел вторгаться в ее жизнь. Я знал, что она работает в маленьком кукольном театре, слышал, что с кем-то живет, но мне она об этом не говорила. А сейчас я получил от нее краткое уклончивое приглашение на спектакль, в котором она занята. Она сказала, что я не должен чувствовать себя обязанным, а выступают они три вечера в бывшей бочарной фабрике. Смирение ее тронуло меня до боли.
Зал был заполнен только на треть, и зрителей стали пересаживать в передние ряды. Я всегда сажусь сзади, особенно если на сцене фокусник или родственник, — поэтому остался на месте. Долго сидели в темноте, наконец, спектакль начался.
Когда представление закончилось, я подождал сестру у выхода. Она не появилась, и я пошел обратно через разные двери и временные занавески. На расчищенной площадке курили два рабочих сцены и разговаривали на непонятном языке. Я назвал имя сестры, и они показали на дверь. Рэчел смотрелась в ручное зеркальце и стирала с лица белый грим. Рядом с ней в корзинке лежал грудной ребенок.
— Привет, Зяблик.
Я подошел и посмотрел на ребенка. Рэчел наблюдала за мной. Это был не обычный ее взгляд: сейчас она смотрела на меня с неопределенным чувством, ждала моих слов.
— Девочка?
— Нет, мальчик. Его зовут Уолтер.
Мы смотрели друг другу в глаза. Молчать было безопаснее. Мы росли в атмосфере умолчаний и недосказанностей. Многое оставалось невыясненным, и приходилось только гадать: как объяснить, например, оставленный дома сундук с одеждой? В этих умолчаниях и темнотах мы давно потеряли друг друга. Но сейчас около младенца мы сблизились, как бывало после припадка, когда лицо Рэчел покрывалось потом и я прижимал ее к себе. Когда молчать было лучше всего.
— Уолтер, — тихо повторил я.
— Да, милый Уолтер.
Я спросил, как ей жилось под чарами Мотылька, — сам я при нем чувствовал какую-то неопределенность.
— Чарами? Он о нас заботился. Ты понятия не имеешь, что происходило вокруг тебя. Он нас охранял. Сколько раз он отвозил меня в больницу. Ты умудрился не замечать того, что сделали с нами родители.
Она принялась собирать вещи.
— Мне надо идти. За мной заедут.
Я спросил, что там была за музыка, когда она осталась одна на сцене и обнимала большую куклу. Я чуть не заплакал. Это было не так уж важно, но мне о стольком хотелось спросить сестру, и я знал, что ответа не получу. Она тронула меня за плечо и сказала:
— Шуман. Mein Herz ist schwer[8]. Ты ее знаешь, Натаниел. Мы ее слушали дома каждую неделю по разу или по два, ночью, и рояль был как тонкая нить в темноте. Ты еще мне говорил, что воображаешь, как мать подпевает. Вот это было schwer. Мы были травмированы, Натаниел. Признай это. — Она легонько подтолкнула меня к двери. — Что стало с девушкой, про которую ты мне никогда не рассказывал?
Я отвернулся:
— Не знаю.
— Можешь на меня смотреть. Тебя зовут Натаниел, а не Стежок. И я не Зяблик. Стежка и Зяблика больше нет. Выбери себе жизнь. Тебе это даже друг твой Стрелок говорил.
Она несла ребенка и слабенько махнула мне его крохотной ручкой. Ей надо было не поговорить со мной, а чтобы я увидел ее ребенка. Я вышел из комнаты и снова очутился в темноте. Только тонкая полоска света под дверью, которую я за собой закрыл.
Артур Маккэш
Раньше всего я наткнулся на документы о работе матери радисткой во время войны — вначале под видом пожарного наблюдателя на крыше отеля «Гровенор-Хаус», потом в монастыре в Чиксэндсе, где она по распоряжению «лондонских обманщиков» перехватывала немецкие шифровки и отсылала в Блетчли-Парк для декодирования. Она ездила в Дувр, где стояли гигантские антенны, чтобы определять по почерку, по индивидуальным ритмам немецких радистов, — в бумагах особо отмечалось это ее умение.
Только из более поздних документов, запрятанных глубже и мудренее, выяснилось, что после войны она работала и за границей. Ее имя обнаружилось, например, в расследовании по взрыву в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме и в рапортах, связанных с Италией, Югославией и другими местами на Балканах. В одном говорилось, что она была направлена в составе маленькой группы — с двумя мужчинами и женщиной — под Неаполь, «устранить» — как было прямо сказано — «головку» отряда, все еще действовавшего там подпольно. Кто-то из ее группы был захвачен или убит. Не исключалась возможность предательства.
Но по большей части я находил только названия городов, нечетко пропечатанные в ее паспортах, и ее вымышленные имена со стертыми или заштрихованными датами, так что оставил все попытки разобраться, где именно она была и когда. Понял, что единственный достоверный факт, которым я располагаю, — это шрамы на ее руке.
С Артуром Маккэшем я столкнулся второй раз. Он вернулся из-за границы, и после осторожного разговора мы пошли с ним обедать. Он не спрашивал меня, чем я занимаюсь, а я не спрашивал, куда его командировали. Правила поведения в Конторе я хорошо усвоил и понимал, что в нашем разговоре за обедом следует избегать упоминаний об известных горах. В какой-то момент, решив, что границ допустимого не нарушу, я поинтересовался ролью Мотылька в нашей жизни. Маккэш отмахнулся от вопроса. Мы сидели в ресторане далеко от нашей Конторы, но он сразу оглянулся:
— Не могу об этом говорить, Натаниел.
Наши дни и ночи на Рувини-Гарденс протекали вдали от Уайтхолла, но Маккэш считал, что он не вправе обсуждать человека, наверное, не имевшего отношения к государственным секретам. К нам же с Рэчел он имел отношение самое непосредственное. Какое-то время мы сидели молча. Я не хотел отступать, менять тему — и досадно было, что мы вынуждены вести себя друг с другом официально, как незнакомые. Отчасти чтобы подразнить его, я спросил, не помнит ли он пчеловода, часто бывавшего у нас в доме, — мистера Флоренса. Мне надо бы его найти. Я теперь в Суффолке держу пчел, мне нужен его совет. Нет ли его координат?
Молчание.
— Он же просто пасечник! У меня матка погибла, нужна новая. Не будьте смешным.
Маккэш пожал плечами:
— Наверное, мне не следовало бы даже трапезничать с вами, сидеть здесь. — Он придвинул вилку к тарелке, помолчал, пока нам ставили еду, и заговорил, только когда официант отошел: — Но кое-что хочу вам сказать, Натаниел… Когда ваша мать уволилась из Службы, она устранила все следы за собой — и по одной-единственной причине. Чтобы больше никто не явился за вами и Рэчел. И вас опекали, все время. Я, в частности, раза два в неделю являлся на Рувини-Гарденс, приглядывал за вами. Это я привел вашу мать, когда она ненадолго вернулась в Лондон, чтобы посмотрела, как вы танцуете в том клубе, в Бромли, увидела вас хотя бы издали. Так же вам надо знать, что люди, с которыми она работала даже после того, как война официально закончилась, — такие люди, как Фелон, Конноли, — были для нас важнейшими защитниками и копьеносцами.
Жестикуляцию Артура Маккэша я охарактеризовал бы как «английская нервная». Во время разговора он несколько раз передвигал свой стакан с водой, вилку, пустую пепельницу и масленку. Я угадывал по этому, как лихорадочно работает его ум, и понимал, что перемещением этих препятствий он хочет его притормозить.
Я ничего не ответил. Не хотел ему рассказывать, до чего докопался самостоятельно. Он был дисциплинированный чиновник и жил по уставу.
— Она держалась от вас в стороне, боялась, что, узнав о ее связи с вами, они нанесут удар через вас. Как оказалось, была права. Она редко приезжала в Лондон, но тогда ее как раз вызвали.
— А отец? — тихо спросил я.
Паузы почти не было. Он отвел вопрос ладонью, что означало: судьба.
Он заплатил по счету, и в дверях мы пожали руки. В его рукопожатии была подчеркнутость, как будто это прощание — последнее и больше мы так не встретимся. Когда-то на вокзале Виктория он вдруг возник, свалился, как снег на голову, и угостил меня чаем в кафетерии. Я тогда не знал, что он коллега моей матери. Сейчас он быстро пошел прочь, как будто с облегчением. У меня по-прежнему не было ни малейшего представления о его жизни. Мы долго ходили кругами друг около друга. Этот человек предпочитал молчать о своей храбрости в ту ночь, когда спас нас, а мать вернулась в нашу жизнь, тронула меня за плечо и назвала старым прозвищем: «Здравствуй, Стежок». Потом она быстро подошла к нему, распахнула его окровавленную белую рубашку и стала спрашивать:
Это чья кровь?
Моя. Не Рэчел.
Под ослепительно-белыми рубашками Маккэша всегда будут шрамы — напоминание о той ночи, когда он защитил нас с сестрой. А теперь я узнал, что он информировал мать о нашей жизни, был ее скрытой камерой на Рувини-Гарденс. Так же, как Мотылек, по словам Рэчел, опекал нас плотнее, чем я думал.
Я вспомнил выходной день, когда мы с Мотыльком стояли на берегу Серпантина и смотрели, как Рэчел, подняв юбку, зашла в воду, чтобы кого-то или что-то вытащить, и голые ноги ее соединились с ее же опрокинутой фигурой. Что там было? Листок бумаги? Птица со сломанным крылом? Неважно. Главное было вот что: я посмотрел на Мотылька и увидел, что он наблюдает за ней — не просто за тем, какая она, а наблюдает с напряженной озабоченностью. Помню, что весь тот день Уолтер — теперь будем звать его Уолтером — пристально смотрел на каждого приближавшегося к нам, словно от него могла исходить опасность. Наверное, бывали дни — в мое отсутствие, во время наших со Стрелком занятий, — когда Мотылек так же вот не спускал глаз с Рэчел.
Но теперь я знал, что Артур Маккэш тоже был нашим опекуном, раз или два в неделю приходил проведать нас. И сейчас, после обеда, когда он пошел прочь, я смотрел на него с чувством, что мне опять пятнадцать лет. А он — все та же одинокая персона, недавно из Оксфорда, с его скабрезным лимериком и отсутствием биографического фона. Хотя, если бы я спросил его об университете, он, не сомневаюсь, описал бы расцветку факультетского шарфа или пансион, названный в честь какого-нибудь английского путешественника. Вообще Рувини-Гарденс все еще представлялся мне чем-то вроде любительской театральной труппы, где человек по имени Артур заводит принужденные разговоры, а закончив, уходит — куда? Такая была ему прописана роль — второстепенного персонажа, — и завершилась она за сценой театра «Барк», на диване, где он лежал в крови, пропитавшей его белую рубашку и пояс брюк. Этому эпизоду надлежало остаться секретным, скрытым от чужих глаз.
Но я эту картину вспоминаю постоянно: мать подходит к нему, волоча за собой стул, комната освещена одной маловаттной лампочкой, красивая шея и лицо матери нагибаются к нему, и она коротко целует его в щеку.
— Как вам помочь, Артур? — слышу ее слова. — Врач придет…
— Я цел, Роуз.
Она оглядывается на меня через плечо, расстегивает на нем рубашку и вытаскивает из брюк, чтобы посмотреть, глубоки ли ножевые порезы; стягивает с шеи платок и промокает сочащуюся кровь. Протягивает руку к вазе.
— Он не пырнул меня.
— Полоснул, я вижу. Где сейчас Рэчел?
— Она не пострадала, — говорит он. — С ней Норман Маршалл.
— Кто это?
— Стрелок, — говорю я из другого конца комнаты.
Она оборачивается, словно удивившись, что я знаю что-то, чего она не знает.
Рабочая мать
Я проследил за быстрым уходом матери из разведки после возвращения в Англию. Она оборвала все связи и без лишнего шума переехала в Суффолк. Рэчел и я тем временем вдалеке друг от друга закончили школу. Прожив без матери то время, что она работала в Европе, мы опять остались без нее, когда она сделалась незаметной гражданкой, стерев все свои вымышленные имена.
Мне попались служебные записки — уже после ее ухода из разведки, предупреждавшие ее, что в одном недавнем документе всплыло имя Виола и не исключено, что те, кто разыскивал ее, не оставили своих попыток. От предложения выделить ей для защиты «людей из Лондона» она отказалась и решила вместо этого найти кого-нибудь вне своего профессионального круга — и чтобы оберегал не ее, а ее сына. Ничего мне не сказав, она уговорила местного овощевода Сэма Малакайта зайти к нам и предложить мне работу. Никого из ее прежнего мира она в наши края не приглашала.
Я не подозревал, что кто-то еще разыскивает Роуз Уильямс, и не знал, что она позаботилась о моей охране. Только после ее смерти выяснилось, что она окружала своих детей — даже Рэчел в далеком Уэльсе — разными стражами. Так Артура Маккэша сменил Сэм Малакайт, овощевод, никогда не носивший оружия, если не считать таковым вилы и секатор.
Помню, однажды спросил мать, чем ее привлек Сэм Малакайт, — видно было, как он ей нравится. Она стояла на коленях, ухаживала за настурциями, и тут выпрямилась, глядя не на меня, а вдаль. «Должна признаться, это случилось, когда он прервал наш разговор и сказал: «Мне кажется, пахнуло кордитом». Может быть, это неожиданное, между делом произнесенное слово меня и обрадовало так. Или взбодрило. Это была знакомая мне область».
А для меня, вчерашнего школьника, Сэм Малакайт был просто представитель того мира, где он обитал. С миром поджогов и взрывчатки он у меня никак не связывался. Более добродушного и уравновешенного человека я не встречал. Для развлечения по средам, по дороге на работу, мы подбирали четырехстраничную газетку, которую издавал частным образом его преподобие пастор Минт, видевший себя местным Килвертом[9]. Большой роли в местной общине он не играл, раз в неделю читал проповедь пастве, насчитывавшей десятка два людей. Но была его газета. Его проповеди и газеты энергично упаковывали любое местное происшествие в моральную притчу. У кого-то случился обморок в пекарне, на углу Адамсон-Роуд беспрерывно звонит телефон, в кондитерской украли коробку мармелада, по радио неправильно употребляют слово «вздрючить» — всё это попадало в проповедь, а затем в «Зеленый свет» с намертво приколоченным духовным толкованием.
Вторжение марсиан в «Зеленом свете» не отразилось бы. Такова была линия газеты в 1939–1945 годах, когда она занималась по большей части местными жалобами, например, присутствием кроликов на городских огородиках. Вторник, 00:01: полицейский ощутил нервное напряжение во время грозы, совершая последний ночной обход. Воскресенье, 16:00: женщину за рулем остановил человек со стремянкой. Во время воскресной проповеди взятая без разрешения стремянка или школьник, светивший фонариком в глаза соседской кошке, «пытаясь загипнотизировать ее колебательными и круговыми движениями», обретали глубоко библейские обертоны — гипнотизируемая кошка легко ассоциировалась со святым Павлом, ослепленным лучами по дороге в Дамаск. Мы покупали «Зеленый свет» и читали вслух зловещими голосами, торжественно кивая и одновременно закатывая глаза. Мистер Малакайт полагал, что его смерть как городского овощевода будет увязана с насыщением пяти тысяч. Внимательнее нас никто не читал «Зеленый свет». Кроме, как ни странно, моей матери. По средам, когда Сэм привозил меня домой, она неизменно угощала его чаем и сэндвичами с рыбным паштетом, забирала у него газету и читала у себя за письменным столом. Читала без смеха, и теперь я понимаю, что искала не абсурдные духовные метафоры, а какое-нибудь упоминание о чужаке, появившемся в окрестностях. Она старалась ни с кем не видеться, кроме мистера Малакайта и изредка почтальона. Даже не заводила домашних животных. Так что имелся дикий кот, живший на улице, и крыса, живущая в доме.
Кочевая школьная жизнь сделала меня тактичным и самодостаточным, научила избегать конфронтаций. Избегать schwer. Я уклонялся от споров так, словно у меня, как у птиц и рыб, была в глазу мигательная перепонка, позволявшая молча и почти вежливо отстраниться от компании. Как и мать, я предпочитал уединение. Комната без споров и спартанский стол были нам обоим по душе.
Только в одежде у нас расходились вкусы. Мои переезды с места на место приучили меня заботиться об опрятности. Глажение одежды, например, рождало ощущение, что я владею своими обстоятельствами. Даже для работы в поле с мистером Малакайтом я стирал и гладил свои вещи. Мать же вешала выстиранную блузку на ближайший куст и высохшую сразу надевала. Если и презирала она мой педантизм, то ничего не говорила; а может, и не замечала его. Когда мы садились за стол друг против друга, по ее худому лицу и ясному взгляду понятно было, что состояние блузки, как вечернего наряда, ее устраивает.
Она окружала себя тишиной. Радио почти не слушала, только радиопостановки вроде «Лили Уиллоуз»[10] или «Драгоценной отравы»[11] — классики, которую прочла в ранней юности. Новости — никогда. Политические комментарии — никогда. Она могла бы находиться в мире, существовавшем двадцать лет назад, когда ее родители жили в Уайт-Пейнте. Эта вакуумная тишина подчеркивала дистанцию между нами. В одном из немногих запальчивых споров с матерью, когда я стал упрекать ее в том, что она нас бросила, она ответила мгновенно:
— Ну, какое-то время при вас была Оливия. Она держала меня в курсе.
— Подожди, Оливия? Ты знала Оливию Лоуренс?
Она отодвинулась назад, как будто что-то выболтала.
— Эт-но-графа? Ты ее знала?
— Стежок, она была не этнографом.
— Кем же она была?
Мать не ответила.
— Кем? И кого еще ты знала?
— Я поддерживала связь.
— Замечательно. Поддерживала связь. Интересовалась! Как я рад! Бросила нас, ни слова не сказав. Оба вы.
— У меня была работа. Обязанности.
— Не перед нами! Рэчел так тебя ненавидит, что даже со мной не хочет разговаривать. Я здесь с тобой — за это и меня ненавидит.
— Да. Прокляла меня дочь.
Я схватил свою тарелку и с яростью швырнул в стену, словно это могло стать точкой в разговоре. Тарелка ударилась об угол буфета и разбилась, а осколок отлетел рикошетом и угодил матери в лоб над глазом. Мы оба замерли, по щеке ее текла кровь. Я было двинулся к ней, но она остановила меня поднятой ладонью, как будто с презрением. Она стояла невозмутимо, строгая, и даже руку ко лбу не поднесла, потрогать рану. Все так же держала ладонь, не подпуская меня, не позволяя проявить заботу, как будто это пустяк. Бывало и хуже. В той же самой кухне — когда я увидел шрамы на ее руке.
— Куда ты делась? Скажи хоть что-нибудь!
— Все изменилось в ту ночь, здесь, в Уайт-Пейнте, когда я была с тобой и Рэчел и мы слушали, как падают бомбы. Я не могла остаться в стороне. Должна была защищать вас. Я считала — для вашей безопасности.
— С кем ты была? Откуда ты знаешь Оливию?
— Она тебе нравилась, да?.. В общем, она была не только этнографом. Помню, она работала с группой метеорологов на побережье Ла-Манша, они целую неделю летали на планерах, регистрировали скорость ветра и воздушные течения, и Оливия тоже поднималась в небо. Они составляли прогноз погоды, вероятен ли дождь — утвердить или отложить высадку в Нормандии. Занималась и другими делами. Но хватит об этом.
Ладонь ее все еще была поднята, как будто она давала показания, хотя и против воли. Потом мать отвернулась, наклонилась над раковиной и смыла кровь.
Она стала подкладывать мне книги, большей частью романы, которые прочла в колледже, до замужества.
— Да, ваш отец был книгочей… Может, на этом мы и сошлись… поначалу.
В доме оказалось множество романов Бальзака на французском, в бумажных обложках, — ее страсть. Сюжеты внешнего мира ее уже, кажется, не интересовали. Интересовал только какой-нибудь вымышленный персонаж вроде бальзаковского Растиньяка. Не думаю, что я ее интересовал. Хотя, возможно, она считала, что должна влиять на меня. Но сомневаюсь, что ей нужна была моя любовь.
Шахматы предложила она — полагаю, в качестве метафоры нашей подспудной борьбы. Я только пожал плечами в знак согласия. Она оказалась на удивление хорошим учителем: четко объясняла правила и ходы фигур. Переходила к следующему, только убедившись, что я все понял. Если я проявлял нетерпение, она объясняла еще раз — ее нельзя было обмануть фальшивым кивком. Скучно было до бесконечности. Меня тянуло в поля. А по ночам не мог уснуть — лезли в голову стратагемы, рождавшиеся в темноте.
После первых уроков мы начали играть; она громила меня безжалостно, а потом восстанавливала позицию, показывая, как я мог избежать угрозы. Вдруг находилось пятьдесят семь путей, чтобы пройти по свободному пространству, как кошке с настороженными ушами, входящей в незнакомый проулок. Мать беспрерывно говорила во время игры — то ли чтобы отвлечь меня, то ли чтобы напомнить о сосредоточенности: образцом для нее была знаменитая партия 1858 года, прозванная «Оперой», поскольку проходила в ложе парижской оперы во время исполнения «Нормы» Беллини. Мать любила музыку, и американский шахматист, сам любитель оперы, игравший против немецкого герцога и французского графа, время от времени оглядывался на сцену, пока соперники громко обсуждали свой ход. Смысл ее рассказа был: не отвлекаться. На сцене жрецов подкупали и убивали, двоим героям предстояло взойти на костер, но американский игрок, любитель оперы, был сосредоточен на своем стратегическом замысле, и роскошная музыка не могла его отвлечь. Мать привела его в пример непревзойденной целеустремленности.
Однажды ночью, когда мы сидели друг напротив друга за столом в оранжерее, нашу долину оседлала гроза. Около нас горела натриевая лампа. Гроза накатывала на нас, мать расставляла пешки и ладьи на исходные места. Под тонкой стеклянной скорлупой мы чувствовали себя не защищенными от грома и молний. Снаружи могла быть опера Беллини, а внутри — пьяный от растений воздух и два электрических нагревателя, старавшихся согреть помещение. Мы двигали фигуры при тусклом ровном желтом свете натриевой лампы. Несмотря на разгул снаружи, я сопротивлялся хорошо. Мать в синей вязаной кофте курила, почти не глядя на меня. Весь август бушевали грозы, а после — ясное утро, свежий свет, словно новый век. Сосредоточься, шептала она мне, и под небесную канонаду и всполохи продолжалось наше маленькое состязание воль. В долю секунды при вспышке молнии я увидел, что она заняла не ту траншею на поле боя. Я увидел, что мне предоставлен очевидный ход — или же другой, может быть, неправильный, а может быть, даже лучше того. Его я сразу и сделал, и мать мой ход оценила. Кругом стоял грохот, но теперь мы просто слушали его. Оранжерею затопил свет, и я увидел ее лицо, выражение… чего? Удивления? Какой-то радости?
Ну вот, наконец — мать и сын.
* * *
Если растешь в неопределенности, то в отношениях с людьми живешь одним днем, а еще надежнее — одним часом. Не заморачиваешься тем, чтó ты должен или чтó тебе надо о них помнить. Ты сам по себе. Так что я очень не скоро поладил с прошлым, научился объяснять его себе. В том, как я вспоминал свое поведение, не было последовательности. Бóльшую часть отрочества я балансировал, старался удержаться на плаву. И вот теперь, когда дело шло к двадцати, Роуз Уильямс сидела в оранжерее и в искусственном тепле сражалась в шахматы с сыном, единственным из двоих ее детей, кто согласился с ней жить. Иногда она была в халате, открывавшем ее хрупкую шею. Иногда в синей вязаной кофте. Она опускала голову к доске, и я видел только ее недоверчивые глаза и рыжеватые волосы.
— Защита — это нападение, — говорила она не раз. — Первое, что должен знать хороший военачальник, — искусство отступления. Важно, как ты вступаешь в бой и как из него выходишь без ущерба. Геракл был великий воин, но умер дома, мучительно, в отравленном хитоне — в расплату за прошлый его героизм. Это старая история. Например, сохранность обоих твоих слонов, даже если пожертвуешь ферзя. Нет, не так! Всё, сыграно, теперь делаю так. Противник накажет тебя за маленькие оплошности. Теперь тебе мат в три хода.
И прежде чем пойти конем, она наклонилась и взъерошила мне волосы.
Я уже не помнил, когда мать дотрагивалась до меня последний раз. И не понимал, хочет она научить меня во время этих матчей или проучить. Временами она казалась неуверенной в себе женщиной какого-то прошлого десятилетия, смертной. Все это напоминало декорацию. Такими вечерами я имел возможность сосредоточиться только на ней, за доской, в полумраке — хотя понимал, что отвлекаюсь от сражения. Видел, как быстро движутся ее руки, как ее глаза оценивают мои замыслы. У нас обоих было ощущение, что больше никого на свете нет.
После этой партии, перед тем как уйти к себе — хотя знал, что еще несколько часов она не ляжет, побудет одна, — мать снова расставила фигуры.
— Натаниел, это первая партия, которую я запомнила. Игралась в Опере, я тебе говорила. — Она стояла над доской и разыгрывала за обоих: одной рукой — за белых, другой — за черных. Раза два задержалась, чтобы я предложил ход. — Нет, так! — говорила она, с досадой на мое решение и с удивлением перед выбором мастера. — Понимаешь, он пошел слоном сюда.
Она переставляла фигуры все быстрее, и, наконец, черные были побеждены.
Я далеко не сразу осознал, что мне все же надо будет полюбить мать, чтобы понять, что она за человек теперь и кем она была в действительности. Это было трудно. Я заметил, например, что она не любит оставлять меня одного в доме. Если я хотел остаться, она тоже не уходила, как будто подозревала, что буду рыться в вещах, которые она не желает показывать. И это мать! Я ей как-то сказал об этом, и она так смутилась, что я сразу пошел на попятный, не дожидаясь объяснений. Позже я обнаружил, что она искушена в военной тактике, но эта ее реакция была непритворной. Один только раз она как-то раскрылась передо мной: показала несколько фотографий из коричневого конверта, который ее родители хранили у себя в спальне. Серьезная школьница — моя семнадцатилетняя мать под нашей липой; ее фотографии рядом с волевой матерью и высоким мужчиной, иногда у него на плече — попугай. У него внушительная внешность, и он присутствует на нескольких более поздних снимках с матерью, которая здесь немного старше, и ее родителями в венском кабаре «Казанова» — название я сумел прочесть на большой пепельнице. Рядом с ней на столе — больше десятка пустых бокалов. Но кроме этого, никаких других следов ее взрослой жизни не было в Уайт-Пейнте. Будь я Телемахом, я ничего бы не узнал о делах исчезнувшей родительницы, не имел бы никаких свидетельств о ее плаваниях по синим морям.
Мы слонялись по дому, стараясь не путаться друг у друга под ногами. Я с облегчением отправлялся на работу по утрам, даже в субботу. Но как-то вечером, после легкого, по обыкновению, ужина я почувствовал, что мать беспокойна, ей явно хотелось выйти из дома, несмотря даже на собиравшийся дождь. Весь день над нами клубились серые тучи.
— Давай пройдешься со мной?
Я не хотел и мог бы упереться, но согласился и был вознагражден настоящей улыбкой.
— Расскажу тебе об этой партии в Опере, — сказала она. — Возьми пальто. Дождь будет. Не хочу, чтобы он нас вернул. — Она заперла дверь, и мы направились на запад, к холму.
Сколько ей было тогда? Сорок? Мне было уже восемнадцать. Она вышла замуж молодой, по обыкновению и моде того времени, хотя еще изучала языки в университете и, как сказала мне однажды, хотела получить степень по праву. Но отказалась и вместо этого растила двоих детей. Ей было тридцать с небольшим — совсем молодая, — когда началась война, и она поступила в службу связи. Сейчас она шла рядом со мной в желтом дождевике.
— Его звали Пол Морфи. Это происходило двадцать первого октября тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года…
— Ясно, Пол Морфи, — сказал я, приготовившись ко второй ее подаче.
— Хорошо. — Она усмехнулась. — Рассказываю один раз. Он родился в Новом Орлеане, вундеркинд. В двенадцать лет обыграл венгерского гроссмейстера, гастролировавшего в Луизиане. Родители хотели, чтобы он стал адвокатом, но он бросил занятия и стал шахматистом. Самую знаменитую свою партию он сыграл в Парижском оперном театре против герцога Брауншвейгского и графа Изуара, о которых помнят по единственной причине — что их обыграл этот юноша.
Я улыбался про себя. Какие титулы! Вспомнил, как Агнес назвала собаку, съевшую ее обед в Милл-Хилле, «Графом Сэндвичем».
— Но знаменитыми всех их сделали ситуация и место игры — как будто это была сцена из австро-венгерского романа или приключенческого, вроде «Скарамуша». Трое игроков сидели в личной ложе герцога Брауншвейгского, практически над сценой. Можно было наклониться и поцеловать примадонну. А было это на премьере оперы Беллини «Норма, или Детоубийство».
Морфи еще не видел «Норму», и ему очень хотелось смотреть и слушать, он обожал музыку. Он сидел спиной к сцене, быстро делал ход и поворачивался к сцене. Может быть, поэтому и получился шедевр: каждый ход как росчерк в небе, едва касавшийся земли. Его противники обсуждали ответ и делали осторожный ход. Морфи оборачивался и, взглянув на доску, двигал пешку или коня и снова обращался к сцене. За всю партию на его часах не набежало, наверное, и минуты. Он играл вдохновенно, вдохновение и сейчас ощутимо, партия и сейчас считается замечательной. Он играл белыми.
Начинается защитой Филидора, пассивное начало для черных. Морфи не хочет брать черные пешки и фигуры на ранней стадии — предпочитает сконцентрировать силы для быстрой матовой атаки, чтобы поскорее вернуться к опере. Тем временем совещания противников становятся все громче и громче, это раздражает публику и героиню. Мадам Розина Пенко, исполнявшая партию верховной жрицы Нормы, метала взгляды на ложу герцога. Морфи выдвигает ферзя и слона, они держат под ударом центр доски и вынуждают черных перейти к глухой обороне.
Мать повернулась в темноте и посмотрела на меня.
— Следишь за ходами?
— Слежу.
— Черные близки к разгрому. Сейчас антракт. На сцене творилось бог весть что: романтическая любовь, ревность, намерение убить, знаменитые арии. Норма брошена и решает убить своих детей. А публика все это время наблюдала за ложей герцога!
Во втором акте — продолжение сюжета. Черные бездействуют, прикованы к своему королю, кони связаны слонами Морфи. Следишь?
— Да, да.
— Теперь Морфи атакует ладьей по центру. Он делает эффектные жертвы и загоняет черных в безнадежную позицию. Затем элегантно жертвует ферзя — я показала тебе на днях, как это немедленно приводит к мату. Тем временем в опере кульминация: консул и Норма решают умереть на костре. Теперь Морфи может полностью сосредоточиться на музыке.
— Вау, — говорю я.
— Пожалуйста, не надо «Вау». Ты прожил в Америке считаные месяцы.
— Это выразительное слово.
— С этим дебютом, защитой Филидора, Морфи под притяжением оперы как будто достиг большой философской глубины. Такое бывает, конечно, когда ты не очень занят собой. Так и случилось тем вечером. Почти сто лет прошло, а эта маленькая партия в полумраке, вблизи сцены, до сих пор считается гениальной.
— Что с ним стало?
— Он ушел из шахмат и стал юристом, но неудачно, жил на родительские деньги и умер, не дожив до сорока четырех лет. Под конец жизни уже не играл, а та партия под замечательную музыку осталась ярким пятном.
Мы посмотрели друг на друга, оба мокрые с головы до ног. Поначалу я замечал дождь, а потом забыл о нем. Мы стояли перед рощицей, а далеко внизу виднелись освещенные окна нашего беленого дома. Я чувствовал, что здесь ей веселее, чем было бы там, в тепле. Здесь мы больше не прикованы к дому; в ней появились энергия и легкость, которые мне редко случалось видеть. Мы шли в холодной темноте под деревьями. Она не хотела повернуть назад, и мы пробыли там довольно долго, почти не разговаривая, и каждый был погружен в себя. Такой, я думал, была она среди тех, с кем работала во время бесшумных войн, неведомых мне сражений.
* * *
От мистера Малакайта мать услышала, что за несколько миль от Уайт-Пейнта поселился в доме чужой; откуда он и кто по профессии, не рассказывает.
Она проходит вдоль Рамберского леса, минует окруженные рвами фермы к юго-западу от деревни Сент-Джеймс и наконец видит дом этого человека. Ранний вечер. Она ждет, пока не погаснут все огни, а потом еще час. В темноте возвращается домой. На следующий день снова стоит в четверти мили от дома — там по-прежнему никакого движения. Но ближе к концу дня появляется худой мужчина. Она скрытно следует за ним. Он обходит кругом бывший аэродром. Он ходит без определенной цели, ей это понятно: просто бродит. Но она не оставляет его, пока он не возвращается в дом. Она опять ждет на том же поле, пока у него не погаснут почти все окна. Тогда она подходит ближе к дому, но, передумав, отправляется домой, снова в темноте, без фонарика.
На другой день она проводит осторожную беседу с почтальоном.
— Вы с ним разговариваете, когда приносите почту?
— Да нет. Он не охотник до разговоров. Даже к двери не подходит.
— А почта у него какая? Много почты?
— Мне не положено рассказывать.
— Неужели? — Она чуть не смеется над ним.
— Ну. Книги часто. Пару раз пакеты с Карибов.
— А еще?
— Кроме книг? Не знаю.
— Собака есть у него?
— Нет.
— Интересно.
— А у вас? — спрашивает он.
— Нет.
Расспросы большой пользы не дали, и она заканчивает разговор, хотя почтальон теперь не прочь продолжить. Позже через официальные каналы она выясняет, что именно доставляют новому жителю и что отправляет он. Он прибыл с Карибов, где его дед и бабка были слугами в британской колонии на плантации сахарного тростника. Он, оказывается, какой-то писатель, и довольно известный, даже в других странах.
Она учится произносить и повторяет про себя его имя, словно название редкого и ценного цветка.
* * *
«Когда он придет, он будет как англичанин».
Роуз написала это в одном из своих тощих дневников, которые я нашел после ее смерти. Как будто даже в своем уединенном доме, даже в тайном блокноте она остерегалась впрямую говорить о своих предположениях. Может быть, даже повторяла это про себя как мантру: «Когда он придет, он будет как англичанин».
Прошлое — мать понимала это лучше всех — никогда не остается в прошлом. И наедине со своим дневником, в своем доме, у себя в стране, мать отдавала себе отчет, что по-прежнему остается мишенью. Наверное, задумывалась, какое обличье должен принять мститель, чтобы проникнуть в глушь Суффолка, не вызвав подозрений. Единственным объяснением его прихода может быть то, что явится он из какой-нибудь области Европы, где она работала и где принимались сомнительные военные решения. «Кто, ты думаешь, придет по твою душу? — спросил бы я, если б знал. — Что ты такого страшного сделала?» И она, думаю, сказала бы: «Много за мной грехов».
Однажды она сказала мне, что призрачный мой отец умел, как никто, возводить дамбы и брандмауэры от прошлого.
— Где он теперь? — спросил я.
— Может, в Азии? — уклончивый ответ. — Он был травмированный человек. Наши пути разошлись.
Она провела ладонью горизонтально, словно сметая крошки со стола. Отца мы не видели с того давнего вечера, когда он сел в «Авро Тюдор».
Подкидыш узнает свою родословную. Я так и не узнал его как следует — как Стрелка или Мотылька. Эти двое были словно книгой, и я читал за отсутствием отца и от них учился. Я желал беспрерывных приключений с ними или даже романа с девушкой из кафетерия, которая могла бы испариться из моей жизни, если бы я бездействовал, не проявил настойчивости. Потому что это и есть судьба.
Несколько дней я пытался залезть в другие архивы, надеясь обнаружить там присутствие отца. Но никаких свидетельств о его существовании — ни у нас в стране, ни за границей. Либо документов о нем не было, либо личность его была глубоко засекречена. Здесь все решала высота: верхние этажи семиэтажного здания терялись в тумане, давно оборвав связи с повседневным миром. Мне хотелось верить, что там отец еще существует, если существует вообще. Не где-то на краю империи, чтобы следить за капитуляцией японских сил и дуреть от жары, насекомых и сложностей послевоенной жизни в Азии. А может, все это было вымыслом, как перевод его на Дальний Восток, хотя приятнее было воображать его поближе к Англии — не осязаемого, как дым, персонажа, нигде не упоминаемого, не существующего даже на бумаге.
Отец до отъезда несколько раз приводил меня к себе на работу и показывал карту, на которой были отмечены места его деловых контактов — порты, скромно притаившиеся островные империи, — и, вспоминая об этом, я думал, что в войну те конторы могли служить разведывательными центрами. Отец рассказывал, как его компания импортирует чай и каучук из колоний, и на подсвеченной карте я видел с высоты птичьего полета экономический и политический рельеф его вселенной. Что это было за здание? Как знать, может быть, то самое, где я теперь сижу, а может, какое-нибудь другое, откуда велись тайные операции. Какова была на самом деле роль отца в учреждении, куда он приводил меня тогда? В таких учреждениях, как я со временем выяснил, чем выше этаж, тем больше власти. И то здание напоминает мне скорее всего «Крайтирион», где мы работали в подвальной прачечной и в парных кухнях, а на верхние горизонты не допускались, паслись, как рыбы, перед дверями и лестницами, и выше банкетного зала никому ходу не было — да и то лишь в лакейском обмундировании. Бывал ли я с отцом в заоблачных кабинетах?
Однажды то ли в шутку, то ли чтобы развлечь сестру, я послал ей список предположений о судьбе отца.
Задушен в Джохоре.
Задушен на корабле по пути в Судан.
В перманентной самовольной отлучке.
Глубоко законспирирован, но действует.
Помещен в заведение в Уимблдоне, страдает паранойей, раздражают звуки из соседней ветеринарной лечебницы.
По-прежнему на верхнем этаже здания «Юнилевер».
Ответа я не получил.
Сколько же немаркированных осколков в моей памяти. В спальне деда и бабки я видел парадные снимки матери в студенческие годы, но ни одной отцовской карточки. Даже после смерти матери, когда я кружил по окрестностям Уайт-Пейнта в поисках хоть каких-то сведений о ее жизни и смерти, ни одной фотографии отца, ни упоминаний о нем не нашлось. Одно я знал: политические карты его эпохи были обширными и приморскими, и мне никогда не выяснить, близко он был от нас или канул вдали — человек, как было сказано, мог много где жить и повсюду умереть.
Соловьиный пол
О кончине моей матери не писали газеты. В широком мире, к которому принадлежала в прошлом Роуз Уильямс, ее смерть осталась почти незамеченной. В кратком некрологе было сказано только, что она дочь адмирала; о месте похорон не сообщалось. К сожалению, «Зеленый свет» на ее смерть откликнулся.
Рэчел на похороны не приехала. Когда мне сообщили о смерти, я дал ей телеграмму, но она не отозвалась. Людей собралось на удивление много — не местных, а, видимо, тех, с кем мать в прежние дни работала. Хотя о своем местожительстве она не распространялась.
Похоронили ее не в ближней деревне, а милях в пятнадцати, в приходе Бенакр округа Уэйвени. Там и проходила служба. Мать не была религиозна, но ей нравилась тамошняя простая церковь. Тот, кто устроил похороны, наверное, это знал.
Хоронили во второй половине дня. Это позволяло тем, кто ехал из Лондона, выехать в девять утра с вокзала Ливерпуль-стрит и вернуться в город вечерним поездом. Кто же это все спланировал, думал я, глядя на собравшихся у могилы. Кто выбрал надпись для могильного камня: «Я ходил среди опасностей и тьмы, подобно победителю»[12]? Я спросил об этом у Малакайтов, они ответили, что не знают, а миссис Малакайт сказала, что все организовано разумно и со вкусом. Журналистов среди провожавших не было; те, кто приехал на машинах, оставили их поодаль от входа на кладбище, чтобы не привлекать к ним внимания. Я, наверное, выглядел отчужденным в своем горе. Меня известили в колледже только накануне, и этим безымянным людям восемнадцатилетний парень у могилы, конечно, представлялся растерянным сиротой. В конце один из них подошел и молча пожал мне руку, словно это было надлежащим утешением, а затем медленно и задумчиво проследовал с кладбища.
Я ни с кем не разговаривал. Другой джентльмен подошел ко мне и сказал: «Ваша мать была замечательной женщиной», — а я даже не посмотрел на него. Задним числом понимаю, что это было грубо, но я смотрел тогда в могилу, на узкий ее гроб в вырытой по размеру яме. Я думал, что гробовщик и тот, кто заказывал гроб, знали, до чего мать худа. И он знал, что ей понравился бы темный вишневый гроб, знал, что слова заупокойной службы не шокировали бы ее и не показались бы ей ироничными; может быть, он же и выбрал слова Блейка для памятника. Вот, я думал обо всем этом, глядя на то, что лежало подо мной на глубине трех-четырех футов, и услышал тихий, почти робкий голос: «Ваша мать была замечательной женщиной». А когда опомнился, чтобы как-то отреагировать на вежливые слова, высокий мужчина, не желая меня отвлекать, уже уходил, и я увидел только его спину.
Вскоре кладбище опустело, остались только Малакайты и я. Лондонцы и несколько местных, пришедшие почтить покойную, ушли. Малакайты ждали меня. Я не видел их после того, как узнал о ее смерти, только поговорил с Сэмом по телефону. Я подошел к нему, и вот что он сделал. Он распахнул мокрую барсучью куртку — руки у него были в карманах, и укутал меня в нее, вплотную к своему теплому телу, вплотную к сердцу. За все время, что мы были знакомы, вряд ли он хоть раз ко мне прикоснулся. Он редко спрашивал меня, как у меня дела, хотя я видел: ему интересно, что из меня получится, а сам я еще вряд ли знаю. Ночь я провел у них, в свободной спальне с окном на обнесенный стеной сад. На другой день Сэм отвез меня в Уайт-Пейнт. Я хотел пойти пешком, но он сказал, что нам надо поговорить. Тогда он и рассказал мне о ее смерти.
В деревне никто не знал, как это произошло, он даже жене не сказал. Мать погибла ранним вечером, и мистер Малакайт нашел ее на другой день, в полдень. Ясно было, что она умерла мгновенно. Он перенес Роуз Уильямс — сейчас он называл ее полным именем, как будто их близкое знакомство закончилось, — в гостиную. Потом набрал номер, который она когда-то дала ему на случай, если с ней что-нибудь случится. И только потом позвонил мне.
Голос на том конце провода попросил его назваться и сказать, где он находится. Попросил подтвердить, что она умерла. Велел подождать. Была пауза. Затем голос вернулся; мистеру Малакайту было сказано ничего не предпринимать и уйти из дома. Не рассказывать о случившемся и о том, что он сейчас делал. Сэм Малакайт залез в карман и вручил мне записку, которую мать дала ему два года назад, — ту, с номером телефона. Записка была простенькая, и слова подобраны тщательно, не эмоциональные, но при всей ее точности и ясности я мог бы прочесть в ней невысказанное чувство, даже страх. Он высадил меня на склоне, обращенном к нашему дому. «Отсюда можете дойти», — сказал он. И я пошел к дому матери.
Меня встретило ее молчание. Я вынес еду одичалому коту. И по примеру матери постучал перед кухней в кастрюлю, чтобы прогнать мерзкую крысу.
Кто-то здесь, конечно, побывал. На диване, куда ее положил мистер Малакайт, не осталось вмятин. Все следы произошедшего были убраны. Я догадывался, что расследование будет быстрым и энергичным, а возмездие правительства — наверняка невидимым. Меня не оповестят. И все, что сочли нужным удалить из дома, удалили. Оставлен матерью, может быть, какой-нибудь пустяк, чтобы я подобрал его и приобщил к какой-нибудь песчинке из наших разговоров[13]. «Мистер Малакайт напоминает мне одного моего друга, — однажды сказала она. — Хотя мистер Малакайт невиннее». Только слово было не «невиннее», а «милосерднее». Так ли? Кажется, «милосерднее». Почему-то это существенно. Есть разница.
Какое-то время я ничего не делал, только ходил кругами по саду, и по случайному как будто совпадению так же кругами перемещалась кукушка со своей протокольной песней. Когда мы были маленькими, мать говорила: если кукует на востоке — это утешение, на западе — удача, на севере — печаль, на юге — смерть. Я поискал кукушку по голосу, потом вошел в оранжерею, где мать умерла. Разбитые стекла оранжереи были заменены. Я вспоминал, как неохотно она позволяла мне оставаться одному в доме. Как посматривала на меня, когда я подбирал что-то, меня заинтересовавшее. Теперь, когда я освободился от ее бдительного взгляда, комнаты как будто прибавили в значительности. На дворе стемнело. Я снял с полки несколько немецких книжек, посмотреть, не надписала ли она какую-нибудь; но она никогда не оставляла за собой следов. Там была книжка о пожилом Казанове писателя по фамилии Шницлер. Я взял ее наверх и лег в постель.
Было около восьми вечера, и я сразу погрузился в странную сжатую историю о возвращении постаревшего Казановы в Венецию. Действие разворачивалось на протяжении нескольких дней, и все укладывалось в рамки короткой новеллы. Неожиданно для себя я испытывал острое сочувствие к Казанове. Новелла была на немецком, и я забыл о времени. В конце Казанова засыпает. Я тоже уснул, не выключив лампу, с книжкой в руках.
Я проснулся на своей кровати, в своей комнате и выключил лампу; было темно, три часа ночи, сна ни в одном глазу. Мне захотелось пройти по дому в другом расположении духа, увидеть его более европейским глазом после Шницлера. Кроме того, в этот час всегда просыпалась мать.
Я медленно прошелся по всем комнатам с фонарем, открывая шкафы, комоды. Первым делом обыскал свою спальню. Когда мать была школьницей, она спала здесь, но никаких свидетельств о том времени стены не хранили. Затем — спальню ее родителей, застывшую в их эпохе, не тронутую с того дня, когда они погибли в автомобильной аварии. Потом — третью комнату среднего размера, материнскую, с кроватью узкой, как ее гроб. Тут был ампирный ореховый письменный стол, доставшийся ей от матери, и она часто сидела за ним по ночам, стирая — а не записывая — свое прошлое. Здесь же стоял почти не используемый телефон: сюда и должен был прийти мистер Малакайт, чтобы позвонить по номеру, который она ему дала, — в Лондон или еще куда-то.
В этом ореховом столе я нашел завернутый в мятую рубашку матери снимок Рэчел в рамке — прежде я его не видел. Я стал разглядывать его и понял, что он сделан в то время, когда матери с нами не было и она, как мы думали, ничего не знала о нашей жизни. Кто его мог сделать? Мотылек? И что о нас знала мать, когда мы о ней ничего не знали? Удивило меня в снимке то, что Рэчел была одета как взрослая и держалась по-взрослому, а не как подросток, каким она была в то время. Я никогда не видел ее в таком наряде.
До конца моего ночного обхода я не нашел больше ничего нового, даже мелочи какой-нибудь на верхней полке шкафа в моей спальне. Ясно, что мать вычистила комнату перед тем, как предложить мне ее в первые каникулы. Единственной моей находкой была фотография сестры в аккуратной рамке. Я сообразил, что не видел Рэчел больше года. Было уже пять утра, спать не хотелось, и я решил сойти вниз. Я спустился по лестнице в холодную тишину, и, как только ступил на пол, в темноте запели соловьи.
Неожиданно громкий скрип разбудил бы кого угодно — так он в прошлом году разбудил мать, когда я ночью спустился на кухню. Мне просто захотелось сыра и молока, и, когда я пошел обратно под этот всеобъемлющий скрип, на верху лестницы уже появился ее силуэт с чем-то в руке — непонятно чем. Увидев меня, она спрятала эту вещь за спину. В следующие несколько секунд, куда бы я ни ступил — под ее взглядом, уже не настороженным, но слегка презрительным, половицы в полутьме объявляли, где я нахожусь. Тихо пройти можно было только по узкой доске с края. Но сейчас я был один и шел по передней с шумом, пока не очутился в застланной ковром маленькой гостиной с камином: тут соловьиная тревога смолкла.
Я сел. Мысли, как ни странно, были заняты не тем, что я и сестра потеряли со смертью матери, а давним ее отъездом, когда чувство потери было гораздо острее. Я думал о том, как она любила называть нас другими именами. Натаниелом меня назвали по настоянию отца, но для матери это было слишком длинно. Поэтому Стежок. А Рэчел стала Зябликом. Куда подевался Зяблик? Даже взрослым своим друзьям мать придумывала имена интереснее тех, что даны были при крещении. Имена она брала из ландшафтов, называла людей по месту их рождения или даже месту, где с ними познакомилась. «Это Чизвик», — могла сказать она, услышав по радио выговор женщины. Такими любопытными наблюдениями она всегда делилась с нами, детьми. И все это отняла у нас, когда исчезла, на прощанье помахав рукой. Я подумал о том, как она стирала себя, и сейчас, впервые один в Уайт-Пейнте, почувствовал, как мне не хватает ее живого голоса. Всё в прошлом — и сметливость ее в молодые годы, и тайная, неведомая нам ее жизнь потом.
Дом она очистила догола. Свою спальню, кухню, маленькую гостиную с камином, короткий коридорчик в оранжерею, уставленный книгами. Здесь проходила ее жизнь в последние годы. Дом, когда-то полнившийся соседями и внуками, был опустошен, и за те два дня, что я оставался там после похорон, следов от матери нашлось меньше, чем от ее родителей. Несколько написанных ею листков я все-таки обнаружил в шкафу. На одном были странные размышления о домашней крысе, словно это была вечная гостья, к которой она со временем привыкла. Был рисунок ее сада в масштабе, возможно, сделанный мистером Малакайтом. Несколько раз исправлявшаяся карта причерноморских стран. Но большинство шкафов были пусты, словно все существенные свидетельства о ее жизни кто-то убрал.
Я стоял перед ее книжной полкой — небогатой для деревенского жителя, редко слушавшего радио, — да и то в тех только случаях, когда мистер Малакайт сообщал о штормовом предупреждении. Наверное, к тому времени она устала от голосов, не считая тех, что слышались ей в романах, где бурный сюжет благополучно утихомиривается в последних двух-трех главах. В безмолвном вычищенном доме не тикали часы. Телефон в спальне никогда не звонил. Единственным внятным и потому поразительным источником звуков был соловьиный пол. Мать говорила, что он ее успокаивает, создает ощущение безопасности. В остальном — тишина. На каникулах я мог расслышать ее вздох в соседней комнате или звук закрытой книги.
Часто ли обращалась она к полке с книгами в бумажных обложках — чтобы побыть с бальзаковскими Растиньяком, Фелиси Кардо и Вотреном? «Где сейчас Вотрен?» — однажды спросила она со сна и, наверное, не понимая, к кому обращается. Артур Конан Дойл утверждал, что не читал Бальзака, — не знал, с чего начать, слишком трудно было понять, откуда взялся и где впервые появился тот или иной главный персонаж. А мать знала всю «Человеческую комедию»; я задумался, в какой из книг она могла найти подобие своей незаписанной жизни. Чью биографию, разбросанную по этим романам, отслеживала она, чтобы яснее понять себя? Конечно, она знала, что «На балу» — единственная книга «Человеческой комедии», где не появляется Растиньяк, хотя его постоянно поминают. Мне захотелось снять с полки именно эту книгу, я ее полистал и между сто двадцать второй и сто двадцать третьей страницами нашел нарисованную на четвертушке листа карту, по виду — мелового холма. Названий на листке никаких не было. Возможно, рисунок ничего не значил.
Я снова поднялся наверх и открыл старый коричневый конверт с фотографиями. Он по-прежнему лежал в комнате деда и бабки. Но фотографий в нем стало меньше. Не осталось более веселых, невинных, которые мать показывала мне как-то летом. Я снова увидел серьезное лицо молодой матери под липой возле кухни, но более поздних, тех, которые я больше всего любил, уже не было. Возможно, они не были такими уж невинными. Те, где мать с родителями и высоким мужчиной, знакомым по другим фотографиям, в частности, на одной они — в заграничном декоре кабаре и бара «Казанова» в Вене. Там моя мать лет восемнадцати сидит в сигаретном дыму среди взрослых, и к ней склонился пылкий скрипач. И еще несколько снимков, сделанных как будто чуть-чуть позже, может быть, через час — трое теснятся на заднем сиденье такси и смеются.
— Он был другом моего отца. Наш сосед, вся семья — кровельщики, — сказала мать, показывая мне снимки, которых теперь не было.
Я показал на постороннего мужчину и спросил, кто он.
— Это тот, который мальчиком упал с крыши.
— Как его звали?
— Не помню.
Теперь я, конечно, знал, кто он такой.
Это он был на похоронах матери, стоял около могилы, человек с тихим, вежливым голосом, которым попытался заговорить со мной. Он постарел, но я узнал его по тем случайным снимкам — тот же рост, та же осанка. Несколько раз я видел его в коридорах нашего здания — местную легенду, — когда он дожидался синего лифта для избранных, чтобы вознестись на неизвестный высокий этаж, на территорию, которую только воображать могли мы, большинство здесь работавших.
Последнюю из двух ночей после похорон в Уайт-Пейнте я провел в спальне матери и, лежа в темноте на узкой ее кровати, как, наверное, лежала она, смотрел в потолок.
— Расскажи мне о нем, — сказал я.
— О ком?
— О том, про которого ты мне солгала. Сказала, что не помнишь его имени. Который заговорил со мной на твоих похоронах.
Подросток на крыше
Когда кто-нибудь из семьи Роуз выходил из дома, чтобы собрать яйца или уехать на машине, он смотрел на них с крутой тростниковой крыши. Шестнадцатилетний Марш Фелон возник в детской жизни моей матери потому, что пора было перекрыть кровлю в Уайт-Пейнте. Он с двумя братьями и отцом сидели там все начало лета, иногда балдея от солнца, иной раз под хлещущим ветром, и работали споро, беспрерывно разговаривая, ни в чем не сомневаясь — мифический унисон. Марш был младший — слушатель. Зимой он резал тростник на ближних болотах и складывал, чтобы к весне просох, а потом уже с отцом и братьями укладывал в кровлю, закрепляя ивовыми ветвями, согнутыми, как шпильки.
Внезапный порыв штормового ветра сбросил Марша с крыши, и он, хватаясь за ветви липы, чтобы задержать падение, рухнул с двадцатифутовой высоты на плиты. Остальные спустились под вой ветра и перенесли его в горизонтальном положении в буфетную при кухне. Мать Роуз постелила ему кушетку. Ему нельзя было двигаться, и нельзя было его перевозить. Так Марш Фелон стал жильцом в чужом доме.
Г-образная комната освещалась только окнами. Там была дровяная печка, карта района Сентс со всеми дорожками и речными переправами. Эта комната стала его миром на все то время, пока его братья работали на крыше. Он слышал их, когда они уходили на закате, и их громкие утренние разговоры, когда они влезали по лестницам. Через несколько минут разговоры становились почти не слышны, с крыши долетал только смех и раздраженные выкрики. Через два часа начиналось движение в доме, слышались приглушенные голоса. Мир казался близким и в то же время далеким. То же он ощущал, работая на крыше, — большой деятельный мир был далек, и жизнь его проходила стороной.
Восьмилетняя девочка приносила ему еду и тут же уходила. Чаще всего она была единственной его гостьей. Просто стояла в двери. За ней он видел внутренность дома. Ее звали Роуз. Его семья уже давно жила без матери и без женщин. Однажды девочка принесла ему книгу из домашней библиотеки. Он проглотил ее и попросил другую.
— Это что? — Она увидела на последней чистой странице книги несколько набросков.
— Ох, прости… — Марш помертвел. Он забыл про свой рисунок.
— Ничего. А что это?
— Муха.
— Чудная муха. Ты где ее видел?
— Нет. Я их делаю, мух для рыбалки. Тебе могу сделать.
— Как? Из чего?
— Может, бабочку с синими крыльями… Мне нужны нитки. Краска, чтобы не боялась воды.
— Могу достать. — Она хотела уйти.
— Нет, еще… — Он попросил бумаги. — Дам тебе маленький список.
Она смотрела, как он пишет.
— Что тут написано? У тебя ужасный почерк. Лучше скажи.
— Ладно. Маленькие гусиные перья. Медную проволоку, тоненькую, почти как волос. Такая бывает в маленьких трансформаторах…
— Не так быстро.
— …или динамо-машинах. Иголку можешь найти? И немного фольги, чтобы блестела.
Список продолжался. Пробка, золы немного. Кое-чем из этого он раньше не пользовался. Маленький блокнот можешь принести? Что-то он заказывал на всякий случай, как будто попал в незнакомую библиотеку. Она спросила, какая нужна нитка, какого размера крючки. И заметила, что в отличие от почерка рисунки у него были тщательные. Как будто сделаны другой рукой. Ему казалось, что он разговаривает с человеком впервые за много лет. На другой день он услышал, что от дома отъехала машина — девочка с матерью.
День он просидел у солнечного окна, делал мушку по своему эскизу, только цветную. Иногда с трудом подходил к карте, искал на ней знакомые места и те, которых раньше не знал — дубы вдоль прямой римской дороги, длинная излучина реки. Ночью вставал в темноте и пытался перемещать свое непослушное тело. Важно было не видеть себя. Если бедро не выдерживало, приваливался к стене или к кровати. Он двигался, сколько мог, потом ложился, весь в поту. Ни его семья, ни семья девочки ничего об этом не знали.
В последнюю неделю работы братья обвязывались страховочной веревкой и, перевесившись через край, длинными ножами подрезали щипцы и свесы кровли. Марш смотрел в окно и видел, как ходят взад-вперед ножи и обрезки падают на землю, точно скошенный ячмень.
Потом отец и братья перенесли его на повозку, опять в горизонтальном положении, и уехали. В доме снова стало тихо. Несколько месяцев до девочки и ее родителей доходили слухи о том, что Фелоны стелют кровлю в той или иной отдаленной деревне — как семейство ворон где-то на новом гнездовье в рощице. А младший сын Марш, когда выдавалось свободное время, пытался одолеть свою хромоту. Он просыпался затемно, шел мимо домов, где они когда-то перекрывали крыши, или спускался в речные долины, когда ночь уже таяла под птичью песню. Марш Фелон стал искать в книгах этот переломный час с зарождением света — там, где автор описывал его, отвлекшись от фабулы и, может быть, вспоминая свою юность. Марш стал читать каждый вечер. Тогда он мог не слышать разговоры братьев. Он тоже знал ремесло кровельщика, но теперь отделялся от них.
Изобилие. Что оно означает, это слово? Избыток вещей? Состояние полноты? Доступность желаемого? Человек по имени Марш Фелон хотел учиться и заглатывать окружающий мир. Спустя два года, когда Роуз и ее родители снова встретились с ним, они поначалу едва узнали молодого человека. Он по-прежнему был внимательным, но стал другим, у него появился серьезный интерес к механике большого мира. Родители Роуз взяли его к себе, как тогда, одинокого подростка, после падения с крыши. Они оценили его ум и содержали его, пока он учился в университете. Он, по существу, расстался с семьей.
* * *
Фелон угнездился на карнизе, потом в темноте полез на башню колледжа, в ста пятидесяти футах над невидимым двором. Три ночи в неделю, часа за два до рассвета, когда обозначатся здания и лужайки внизу, он испытывал себя на вылизанной дождями черепице. Ему никогда не хотелось испытать себя на публике — в гребле или в регби; только по ободранным пальцам и быстроте движений можно было угадать его силу. В букинистическом магазине он нашел анархическую книгу «Путеводитель по крышам Тринити для верхолазов» и сначала подумал, что одержимость автора притворная — неизжитая детская мечта о приключениях. Стал лазать сам, сначала как бы проверяя, правдива ли книга, или чтобы найти, например, аккуратное гнездо ворона на колокольне. Ночами он никого на крышах не видел, но однажды вечером нашел два имени, нацарапанных гвоздем, и год: 1912. Он ходил по крышам аркад, карабкался по шершавым стенам. И сам себя ощущал чем-то вроде призрака.
Потом ему стали встречаться другие лунатики. Оказалось, что здесь целая школа верхолазов, и начало ей дала эта книга, найденная Маршем. Напечатал ее за свой счет Уинтроп Янг, скалолаз, в Кембридже соскучившийся по приключениям и превративший то, что он называл «малонаселенными и в большинстве безымянными зданиями», в свои университетские Альпы. Вот уже два десятка лет «Путеводитель по крышам Тринити» с замысловатыми рисунками и дотошными описаниями лучших маршрутов для восхождения вдохновлял все новые поколения «стегофилистов» карабкаться по водосточным трубам «Пчелиного подъема» и ползти по ненадежной черепице Лекционного зала Бэббиджа. Так что где-то недалеко от Фелона тем же самым занимались другие верхолазы. Однажды под штормовым ветром он протянул руку, ухватил за одежду падающее тело, втащил к себе и обнял; на него смотрело ошеломленное лицо незнакомого первокурсника. Фелон оставил его на безопасном карнизе и полез выше.
В декабре, спускаясь с церкви, он поравнялся с женщиной — она тронула его за руку и задержала.
— Здравствуйте, я Рут Хауард, математик, Гертон-колледж.
— Марш Фелон, — механически отозвался он. — Лингвистика.
Она продолжала:
— Это, должно быть, вы поймали моего брата. Вы скрытный, я вас еще раньше заметила.
Марш едва различал ее лицо.
— А что еще вы изучаете? — спросил он. В темноте собственный голос показался ему громким.
— Большей частью Балканы, там еще хаос. — Она помолчала, глядя неизвестно на что. — Знаете… конечно, знаете, есть такие места на крышах, куда нельзя забраться в одиночку. Хотите попробовать в паре?
Он нерешительно покачал головой. Она спустилась на землю.
Летом, в Лондоне, он поддерживал форму, взбираясь по ночам на городские здания, в том числе на недавние пристройки к универмагу «Селфриджес». Кто-то отметил на схеме запасные выходы, когда здание еще только строилось, так что Марш мог упражняться там и в ясную погоду, и в дождь. «Марш Фелон», — произнесла женщина, словно с удивлением узнав его, хотя в этот момент он держался рукой за медленно отгибавшуюся водосточную трубу.
— Подождите минуту.
— Хорошо. Я, между прочим, Рут Хауард.
— Знаю. Недавно ночью видел вас на восточной стене, на Дьюк-стрит.
— Пойдемте выпьем, — сказала она.
В «Сторк-Клубе» она рассказала ему о других интересных для восхождения зданиях — о нескольких католических церквях и об Аделаид-Хаусе у реки, по ее словам, самом увлекательном. Рассказала еще кое-что об Уинтропе Янге; его книга «Путеводитель по крышам Тринити» стала для нее чем-то вроде Нового Завета.
— Он был не просто альпинистом, он получил Медаль ректора за поэзию и на Первой мировой войне, будучи отказником, вступил в санитарный отряд квакеров. Мои родители жили по соседству и знали его. Он мой герой.
— И вы отказались от воинской службы?
— Нет.
— Почему?
— Сложный вопрос.
— Вы были студенткой Тринити?
— На самом деле, нет. Я искала подходящих людей.
— И кого нашли?
— Человека, за которым я наблюдала и подобрала его на стене «Селфриджеса». Он угостил меня в клубе.
Фелон почувствовал, что краснеет.
— Потому что я поймал вашего брата?
— Потому что никому об этом не рассказали.
— И поэтому я — подходящий?
— Еще не уверена. Когда узнаю, дам вам знать. Как вы упали?
— Я никогда не падаю.
— Вы прихрамываете.
— Это мальчик упал, когда я был мальчиком.
— Еще хуже. Значит, это более стойкое — страх. Вы из Суффолка.
Фелон кивнул. Он перестал гадать, откуда и сколько она о нем знает.
— Когда вы упали — почему упали?
— Мы были кровельщики.
— Занятно.
Он промолчал.
— Я хочу сказать — романтично.
— Я сломал бедро.
— Занятно, — повторила она, теперь уже в насмешку над собой. И продолжала: — Кстати, нам нужен человек на восточном побережье. В тех краях, где вы жили.
— Нужен для чего?
Он готов был услышать от нее самый неожиданный ответ.
— Присматривать за определенными людьми. Одну войну мы закончили, но, возможно, приближается другая.
Он изучил карты восточного побережья, которые она ему дала — карты всех дорог между прибрежными городами, от Коувхита до Данвича. Потом — более детальные карты ферм, принадлежащих людям из ее списка. Ничего плохого они не сделали, просто были подозрительны.
— Надо за ними присматривать — на случай вторжения, — сказала она. — Они симпатизируют Германии. Вы можете незаметно проникнуть туда и не оставить следов — бей и беги, как выразился Лоуренс. А этот инструмент… как он называется?
— Длинный карнизный нож.
— Хорошее название.
Он больше никогда не видел женщину по имени Рут Хауард, но через много лет это имя встретилось ему в секретном правительственном докладе о неутихающих беспорядках и вражде в Европе — на записке, прикрепленной к чьим-то сердитым каракулям: «Мы очутились в «коллаже», где ничто не ушло в прошлое, время не залечило ни одной раны, и взаимное ожесточение продолжается в открытую…»
Это была суровая записка.
И все же именно Рут Хауард пробудила его к тайным войнам. Объяснила ему «технику снятой крыши» на высотах Тринити-колледжа — выражение, по ее словам, позаимствованное у японской живописи, когда перспектива с высокой точки, например, с колокольни или крыши галереи, позволяет тебе смотреть поверх стен на то, что обычно скрыто, как бы заглядывать в чужие жизни и страны и узнавать, что в них происходит, — широтное зрение, даруемое высотой.
И Рут Хауард не ошиблась: он был скрытен. Очень немногим доводилось узнать, где и как участвовал Фелон в разных конфликтах, продолжавших тлеть десятилетиями.
Охота на дичь
Марш подъехал к Уайт-Пейнту в темноте и вместе с собакой наблюдал за тем, как Роуз идет к тускло освещенной машине и влезает на заднее сиденье. Фелон дал задний ход и поехал в направлении берега. Ехали почти час. Она спала, прислонившись к коричневому псу. Время от времени Марш оглядывался на них. Его пес. Четырнадцатилетняя девочка.
Перед устьем реки он выпустил собаку и выложил камуфляжный скрадок. Потом вынул из багажника ружья в твердых клеенчатых чехлах и перенес туда, где стоял пес, уже настороженный, словно нацелившийся на что-то за безводным илистым устьем. Марш Фелон больше всего любил этот неопределенный, межеумочный час начала прилива, когда вода поднялась на какой-нибудь дюйм. Он слышал ее в темноте. Единственным пятнышком света в окрестности была кабина автомобиля с открытой дверью, крошечный желтый ориентир. Он час выжидал, когда прилив наполнит устье, и тогда вернулся, взял девочку за плечо и держал, пока она не проснулась. Роуз потянулась, уперев руки в фетровый потолок, потом посидела еще, глядя в темноту. Где они? Где собака Фелона?
Он повел ее по густой траве к берегу. Время все еще отмерялось только подъемом воды. Когда забрезжил свет, воды в устье было на фут, и местность почти обозначилась. Вдруг все пробудилось: птицы вылезали из гнезд, исполнительная собака отступала от реки, где вода поднялась еще на фут и сильно крутило. Неместного, если он слабый пловец, могло бы утащить даже сейчас, в начале прилива, а еще недавно он мог пройти сотню шагов по пояс в воде до дальнего временного островка.
Фелон выстрелил, гильза выпала из ружья. Птица беззвучно упала в воду. Пес поплыл туда, повозился с птицей, повернул и поплыл обратно. Роуз заметила, что он держит птицу за ноги, чтобы не мешала дышать. Птицы над ними выписывали беспорядочные шестерки, и Фелон снова выстрелил. Посветлело. Он взял второе ружье, объяснил, как его переломить и вставить патроны в оба ствола. Он не показывал, а тихо объяснял словами, следя за выражением ее лица, понимает ли. Ему всегда нравилось, с каким неподдельным вниманием она слушала, даже в детстве — подняв к нему лицо и глядя в рот. Собаки так слушают. Она выстрелила в небо. Он заставил ее стрелять еще, чтобы она привыкла к звуку и отдаче.
Иногда они ездили к устью Блайта, иногда к Олди. После той первой ночной поездки, когда ехали охотиться на приливной берег, она садилась впереди и не спала, хотя они почти не разговаривали. Она смотрела в бледнеющую тьму, на серые деревья, которые неслись навстречу и пролетали мимо, словно убегая от ловца. А она уже думала о том, что впереди: о тяжести ружья у нее в руках, о холоде ложа, о подъеме ствола на правильную высоту, об отдаче и эхе выстрела в безмолвии поймы. Чтобы заранее привыкнуть ко всему этому, пока они втроем едут к месту в темной машине. Пес сидел между ними, положив теплую морду ей на правое плечо, а она, наклонясь, клала голову сверху.
* * *
Лицо и поджарое тело Роуз почти не изменились с годами, она осталась такой же сухощавой. И всегда в ней чувствовалась настороженность. Марш не мог объяснить себе откуда: выросла Роуз в мирном краю, нетребовательном, удовлетворенном собой. Ее отцу, адмиралу, передалась эта безмятежность. Казалось, его мало заботит происходящее вокруг, но в этом был не весь он. Марш знал, что у адмирала, как и у него, есть другая жизнь — служебная — в Лондоне. По воскресеньям они прогуливались вдвоем, и Марш, натуралист-любитель, рассказывал о загадке меловых холмов, «где возникают и умирают целые фауны, а слои мела создавались мельчайшими существами, трудившимися бесконечно долгое время». Для отца Роуз Суффолк был такой же медленной, размеренной вселенной, покойным плато. Он знал, что настоящий, требовательный мир — море.
Третьей в спокойной дружбе отца и Фелона была девочка. Ни тот, ни другой не казались ей деспотичными или грозными. Отец мог выглядеть чопорным, когда его спрашивали что-нибудь о политических партиях, но их собаке Петунье он позволял влезать на диван, а оттуда — к нему на руки. Жена и дочь наблюдали за такими вольностями, зная, что в море он ничего подобного не потерпит и даже какой-нибудь разлохматившийся трос будет наказуемым упущением. Музыка делала его сентиментальным: когда по радио звучала любимая мелодия, он просил домашних помолчать. В его отсутствие материнские строгие правила начинали порой тяготить, и дочери не хватало спокойного мужского тепла. Может быть, поэтому Роуз искала тогда общества Фелона и с раскрытым ртом слушала его рассказы об упрямых повадках ежей, о том, что отелившаяся корова съедает послед, чтобы поддержать силы. Ее влекли сложные законы взрослых и природы. Даже в детстве ее Фелон разговаривал с ней как со взрослой.
Когда Фелон возвращался после долгих пребываний за границей, их дружба возобновлялась. Но теперь Роуз уже не девочка, которую он учил рыбачить и охотиться на птиц. Она замужем, с ребенком, моей сестрой Рэчел.
Фелон наблюдает за Роуз, которая несет дочь под мышкой. Она кладет Рэчел на траву, поднимает удилище — его подарок. Он знает, что прежде всего она попробует его на вес, держа в пальцах, потом улыбнется. Он долго отсутствовал. И хочет только одного: увидеть ее улыбку. Она проводит ладонью по импрегнированному дереву удилища, потом подбирает девочку и идет обнять Фелона, неловко — девочка между ними.
Но теперь он наблюдает за ней по-другому: она уже не любознательный подросток, и это его немного огорчает. Она же, приехав в родительский дом и встретившись с ним снова, видит в нем только друга детства. Для Роуз нет новизны в их отношениях, не до того ей: то и дело надо давать ребенку грудь, просыпаться в три, в четыре часа ночи. Если есть у нее какие-то задние мысли, то не о Фелоне, любимом соседе из прошлого, а о работе, к которой она продвигалась и была остановлена замужеством. Ребенок и беременна еще одним — на карьере лингвиста можно поставить крест. Она останется молодой матерью. Она чувствует, что утратила живость ума. Даже думает пожаловаться на это Фелону во время прогулки, когда освободится на час от ребенка.
Оказывается, Фелон бо́льшую часть времени проводит в Лондоне, и она с мужем живет неподалеку, в районе Талс-Хилл; но в городе они не сталкивались. И жизнь они ведут очень разную. Фелон работает на Би-би-си, но, кроме того, у него есть другие дела, о них он мало рассказывает. Он популярный ведущий-натуралист на радио, но, кроме этого, многим известен как дамский угодник; «бульвардье», называет его отец Роуз.
И вот в этот день, на лужайке родительской усадьбы Уайт-Пейнт, она видит его впервые за много лет. Интересно, где он был, думает она. Сегодня день ее рождения, и он неожиданно явился к обеду с подарком для нее — удочкой. Встретившись, они пообещали друг другу, что урвут час для прогулки вдвоем. «У меня до сих пор синяя бабочка, которую вы сделали», — говорит она. Это звучит как признание.
Но для него она незнакомая женщина — подтянутая фигура изменилась, и неотлучно при ней грудной ребенок. Она не такая закрытая, не такая настороженная, он не понимает, что именно в ней изменилось, но чувствует: от чего-то в себе она отказалась. Стремительность, наскок, которые ему нравились в ней, — их больше нет. А потом она взмахом руки отводит кедровую ветку с дороги, он видит едва заметную линию позвонков у нее под шеей, и в нем просыпается теплое чувство к тому, что, он думал, осталось в прошлом.
И он предлагает работу этой необыкновенно понятливой женщине, которую он обучал когда-то всему на свете: перечислял горные породы в порядке древности, рассказывал, какое дерево лучше всего годится для стрел, для удочек, — сейчас она узнала это дерево по запаху, когда поднесла его подарок к лицу, и он снова увидел ее обаятельную улыбку. Ясень. Он хочет ее в своем мире. Он ничего не знает о ее взрослой жизни, не знает, что она склонна колебаться и медлить с решением дольше обычного, но, решившись, устремляется к желаемому, и тогда никто не может ее отвратить. Это качество у нее сохранится: колебания сначала, а затем полная включенность; в последующие годы ничто не заставит ее отказаться от Фелона — ни логика мужа, ни ответственность перед двумя детьми.
Фелон ее выбрал или сама Роуз всегда стремилась к чему-то такому? Становимся ли мы в итоге тем, чем нам предназначено стать? Может быть, вовсе не Марш Фелон прочертил ей путь. Может быть, такой жизни она всегда желала — и знала, что когда-нибудь прыгнет на эту дорогу.
Он покупает и не спеша перестраивает брошенный коттедж в неближнем соседстве с Уайт-Пейнтом. Но большую часть времени маленький коттедж необитаем, а когда он приезжает туда, всегда живет один. Его воскресная передача «Час натуралиста» на радио Би-би-си — монологи о тритонах, речных течениях, о семи возможных названиях речного берега, о мушках на хариуса, описанных Роджером Вулли, о вариациях размаха крыла у стрекоз — наверное, лучше всего отражала его истинный характер. Примерно так же он разговаривал с Роуз, когда они гуляли по полям, переходили высохшие русла. Мальчик Марш Фелон носил в пальцах ящериц, подкидывал ладонью сверчков, чтобы они взлетели. Детство было сокровенным и безоблачным. Таким, возможно, он и хотел бы остаться — влюбленным в природу натуралистом; к природе и возвращался он при любой возможности.
Но теперь он «закрытый» человек с неизвестной должностью в государственном учреждении и разъезжает по неспокойным зонам Европы; так что в его жизнеописании будут белые страницы. Некоторые полагают, что умелым разведчиком Фелону помогло стать знание повадок животных. Один человек вспоминал, как Фелон объяснял ему искусство войны на берегу реки, пока удил рыбу. В здешних речках это — искусство улещивания — чисто выжидательная тактика. В другой раз, осторожно разламывая старое осиное гнездо, он заметил: «Надо знать, не только когда войти в район боевых действий, но и как из него выйти. Войны не кончаются. Никогда не остаются в прошлом. «Севилья ранит, Кордова хоронит»[14]. Это важный урок».
Иногда, возвращаясь в Сентс, он видит, как братья с отцом собирают тростник на топком берегу, чем и он занимался в отрочестве. Два поколения назад их дед посадил тростник на берегах, и внуки теперь его собирают. По-прежнему говорят без умолку, но теперь их громкие голоса до него не доходят, он не услышит об их разочарованиях в браке, о радости рождения ребенка. Он был самым близким для матери — тугоухость защищала ее от их бесконечных разговоров, а для Марша таким же удобством, как глухота, было чтение книги. Теперь братья держались с ним отчужденно, сочиняли какие-то свои истории — например, о неизвестном кровельщике, который взял себе прозвище «Карнизный нож» и якобы готовился убивать пособников немцев в случае вторжения. Эту легенду местные пересказывали друг другу шепотом. Говорили, что кто-то был убит здесь таким ножом в результате случайной ссоры. С крыши одноэтажного дома братья смотрели в сторону побережья и толковали об этом; название инструмента кровельщиков вдруг стало известно во всех деревнях.
Нет, Марш потерял их давно, еще до того, как уехал из Сентса.
Но как он стал тем, кем стал, — этот деревенский парень, интересовавшийся далеким миром? Как пробился в дворянство войны? Двенадцатилетним мальчишкой он умел запустить по воде приманку и провести ее поперек течения туда, где гуляет форель; в шестнадцать лет изменил свой неразборчивый почерк, чтобы четко описать конструкцию и крепление мушки к крючку. Страсть его требовала точности. Вырезывание, наматывание нитки защитного цвета заполняло его молчаливые дни, и он мог сделать мушку на хариуса с завязанными глазами, даже больной, даже под крепким ветром. Годам к двадцати пяти он знал назубок топографию балканских стран и прекрасно разбирался в старых картах с местами битв и время от времени посещал эти идиллические равнины и долины. От тех, кто захлопывал перед ним дверь, он узнавал не меньше, чем от тех, кто его впускал, и постепенно набирался будничных сведений о женщинах: они были для него чем-то вроде робких лисят, которых он в детстве нежно и ненадолго брал на руки. И когда в Европе снова разгорелась война, он уже был «Собирателем» и «Отправителем» молодых мужчин и женщин, которых сумел заманить на тайную политическую службу… Как? Может быть, находил в них анархическую жилку, потребность в независимости… И выпускал их в теневой мир новой войны. В их числе оказалась (неведомо для родителей) Роуз Уильямс, дочь его суффолкских соседей, моя мать.
Ночь бомбардировщиков
На выходные Роуз приезжает в Суффолк повидаться с детьми — они живут здесь с ее матерью вдали от бомбежек, терроризирующих Лондон. В один из приездов, во вторую ночь, они слышат бомбардировщики, летящие со стороны Северного моря. Все ночуют в гостиной темного дома, дети спят на диване, а ее усталая мать сидит у камина — ей не дает уснуть гудение самолетов. Дом, земля вокруг него непрерывно содрогаются, и Роуз представляет себе, как встревожены все маленькие животные, полевки, червяки, даже совы и мелкие птицы, поднятые в воздух лавиной звуков с неба… и даже рыб в речных водоворотах пугает гул нескончаемой армады немецких самолетов, низко летящих в ночи. Она думает сейчас как Фелон. «Я должен тебя научить, как оберегать себя», — сказал он ей однажды. Он наблюдал, как она забрасывает удочку. «Вот рыба: она увидит, как легла твоя леска, и сообразит, откуда она тянется. Она научилась оберегать себя». Но в эту ночь бомбардировщиков Фелона здесь нет; она, и мать, и дети — одни в темном доме, только светится шкала приемника, тихо рассказывающего о том, что Марилебон и части Набережной Виктории уже в развалинах. Рядом с Домом радиовещания упала бомба. Количество жертв трудно вообразить. Мать не знает, где ее муж. Здесь только дети, Рэчел и Натаниел, ее мать и она, в как будто безопасной сельской местности — ждут, когда Би-би-си расскажет им что-нибудь, хоть что-то. Мать задремывает, потом вскидывает голову, когда проходит новая волна самолетов. Перед этим они говорили о том, где может быть Фелон и где отец. Оба где-то в Лондоне. Но Роуз знает, о чем хочет поговорить мать. Когда утихает гул, мать спрашивает:
— Где твой муж?
Роуз молчит. Самолеты ушли в темноту, летят на запад.
— Роуз? Я спросила…
— Да не знаю, ей-богу. Где-то за морем.
— В Азии, да?
— Азия — это карьера, как говорится.
— Не надо тебе было выходить замуж такой молодой. Могла чем угодно заняться после университета. В мундир влюбилась.
— Как и ты. И я считала его талантливым. Я не знала тогда, через что он прошел.
— Талант часто разрушителен.
— Даже Фелон?
— Нет, Марш — нет.
— Но он талантлив.
— Да, и притом он Марш. Он рожден не для этого мира. Он — случайность природы. С сотней профессий — кровельщик, натуралист, специалист по историческим битвам, не знаю, кто он еще теперь.
Снова повисает молчание матери, Роуз, подождав, встает, подходит к ней и при свете камина видит, что мать мирно спит. У каждой замужем свое, думает она. Стих гул последней волны бомбардировщиков, беззащитные дети спят на диване. Тонкие бледные руки матери лежат на подлокотниках кресла. К северо-востоку от них — Лоустофт, к юго-востоку — Саутуолд. Армия заминировала берега, чтобы не допустить десанта. Дома, конюшни, надворные постройки реквизированы. Ночью все исчезают; пятисотфунтовые фугаски и зажигательные бомбы с воем падают на малонаселенные дома и улицы, и становится светло, как днем. Семьи спят в подвалах, перетащив туда мебель. Большинство детей эвакуированы с побережья. По пути домой немецкие самолеты сбрасывают неистраченные бомбы. Население обнаруживает себя, только когда смолкнут сирены; люди выходят на торговую улицу и смотрят вслед улетевшим самолетам.
Рэчел просыпается перед рассветом. Роуз берет ее за руку, и они идут на тихое поле, спускаются к реке. В этот раз бомбардировщики пролетели стороной. Вода спокойна, не потревожена. Держась за руки, они идут в темноте вдоль берега, потом садятся и ждут рассвета. Все живое как будто попряталось. «Мне важно научить тебя защищать тех, кого любишь». Какие-то давние слова Марша до сих пор с ней. Потеплело, и она снимает свитер. Ничто не движется в контуженой воде. Ей хочется по-маленькому, но она сдерживает себя — это что-то вроде молитвы. Если не присядет сейчас, не пописает, все они будут целы, и в Лондоне, и здесь. Ей хочется как-то участвовать, влиять на происходящее. В это опасное время.
«Рыба, приняв защитную окраску в тени, уже не рыба, а частица ландшафта, она как будто знает другой язык — так же и нам иногда надо стать неизвестными. Например, ты знаешь меня как одного человека, но не знаешь как другого. Понимаешь?»
«Нет. Не совсем».
И Фелон объясняет ей еще раз; он доволен, что она не отделалась простым «Да».
Часом позже Роуз и Рэчел возвращаются к смутно обозначившемуся вдалеке дому. Роуз пытается представить себе другие жизни Фелона. Порой кажется, что легче всего ему быть самим собой, когда в руках у него животное или на плече попугай. Этот его попугай, сказал он ей, повторяет все, что слышит, поэтому ни о чем важном при нем говорить нельзя.
Она понимает, что хочет приобщиться к этому неизвестному, несказуемому миру.
Дрожь
Когда знакомые Фелона по Службе говорили о нем между делом, годилась любая отсылка к миру животных. Круг существ, пригодных для сравнения, был до комичности обширен. Американский дикобраз, гремучник, горностай — все, что ни придет в эту минуту на ум, не имело значения: все — только камуфляж. Сам диапазон существ, которым уподобляли Фелона, свидетельствовал об одном: насколько он непостижим.
Так, его могли сфотографировать в баре венского кабаре «Казанова» за ужином в обществе красивой молоденькой девушки и ее родителей. А затем, отправив всех спутников на такси в отель, он через два часа оказывался совсем в другом месте — в обществе курьера или неизвестного. И если несколькими годами позже его видели в том же венском баре с той же Роуз, но уже не юной девушкой, а красивой молодой женщиной, цель их свидания, как будто очевидная, на самом деле была иной. Они переходили с одного языка на другой в зависимости от того, кто был рядом или появлялся у кого-то из них за спиной. Они вели себя как дядя с племянницей, без иронии. Выглядело правдоподобно, даже в их собственных глазах. Потому что ему часто приходилось отправлять ее одну в новой роли, раздев догола и нарядив до неузнаваемости. Она могла работать в каком-нибудь европейском городе вместе с ним, а потом на время вернуться к своим двум детям. А потом — снова с ним, в другом городе, где агенты союзников и немецкие агенты натыкались друг на друга. Но для него роль дяди была прикрытием не только рабочим, позволявшим быть рядом с ней, но и прикрытием растущей страсти.
Его работа как Собирателя заключалась в отыскании способных людей и в полукриминальном мире, и среди специалистов — например, известного зоолога, который полжизни провел в лаборатории, взвешивая органы рыб, и потому мог гарантированно соорудить двухунциевую бомбочку для уничтожения маленького препятствия. Только с Роуз, когда она сидела напротив в придорожной закусочной или ехала рядом из Лондона в Суффолк и бледными руками при свете спидометра зажигала для него сигарету, — только с ней куда-то ускальзывала от него цель его работы. Он желал ее. Каждый дюйм ее. Ее рот, ее ухо, ее голубые глаза, подрагивание ее ляжек, ее юбку, поднятую и скомканную на коленях — чтобы его удовлетворить? Все вылетало из головы, кроме этого трепета.
Одного он себе не позволял: думать, каким она его видит. Обычно он мог соблазнить женщину своим умом, личностью или чем там еще можно было привлечь. Но не просто как мужчина. Он ощущал себя старым. Только глубоким взглядом он мог поглощать ее без робости и дозволения.
А она? Моя мать? Она что чувствовала? И чья, ее или его, была инициатива? Я до сих пор не знаю. Хочется думать, что они погрузились в этот трепетный мир как учитель и ученица. Потому что там была не только физическая любовь и желание; этот мир включал в себя профессиональные навыки и рабочие задачи. Умение отступить, когда связь с другим потеряна. Где спрятать в вагоне поезда оружие, чтобы другой знал, как его найти. Какую кость в руке сломать, какое сделать лицо, чтобы человек повел себя иррационально. Все это. И вместе с этим — желание момента, когда она пробудится, словно по сигналу азбуки Морзе в темноте. И куда он хотел бы ее поцеловать. И как она повернется на живот. Весь лексикон любви, работы, обучения, взросления, старения.
«Недалеко от Равенны есть город, обнесенный стеной, — прошептал Фелон, как будто его местоположение должно остаться в секрете. — И в городе среди узких улиц есть маленький уютный театр девятнадцатого века, жемчужина, и выглядит так, как будто спроектирован по заветам миниатюристов. Когда-нибудь побываем в нем». Он говорил это не раз, но они там так и не побывали. Он знал много разных тайн: пути отхода из Неаполя или из Софии, позиции трех армий — тысячи палаток на равнинах перед второй осадой Вены в 1683 году — он видел карту, сделанную по памяти спустя долгое время после осады. Он рассказывал, как большие художники, например, Брейгель, нанимали картографов для помощи в изображении массовых сцен. И о замечательных библиотеках, где стоило побывать, — например, библиотеке Мазарини в Париже. «Когда-нибудь мы сможем там оказаться», — обронил он. Еще одна мифическая экскурсия, подумала Роуз.
А что она могла противопоставить его жизненному опыту? Это было будто объятие гиганта, ощущение, что ее возносят на милю, чтобы видеть оттуда всю широту его познаний. Хотя и замужняя, и лингвист, понаторевший в спорах, она чувствовала, что горизонт ее незначителен, что она всего лишь девочка, вдевающая нитку в иглу при свече.
Она с удивлением обнаружила, что он человек сложный и скрытный не по-джентльменски, почти до невежливости. Реакции у него были живее, она же оказалась сообразительнее в общих вопросах, поэтому ей был поручен сбор данных о маневрах противника — этим, только в меньшем масштабе, она занималась раньше на крыше отеля под руководством необычного человека, которого мы с сестрой прозвали Мотыльком. На четвертый год войны она сама стала вести передачи на Европу. Если раньше она прислушивалась к каждому слову Фелона, то теперь перестала быть ученицей. Ее использовали все активнее: сбрасывали с парашютом в Нидерланды, когда там погиб радист, отправляли в Софию, в Анкару и другие, не такие крупные форпосты вокруг Средиземного моря или туда, где происходили волнения. Ее позывной «Виола» стал широко известен в эфире. Мать нашла свою дорогу в большой мир, как нашел ее раньше юный кровельщик.
Звездный Ковш
Задолго до того, как я поступил на работу в Архив, сразу после похорон матери, я снял с полки книжку и нашел в ней листок с нарисованной от руки картой, по-видимому, мелового холма с горизонталями. Почему-то я сохранил этот безымянный рисунок. Спустя годы, работая в Архиве, я узнал, что все, что должно быть написано или напечатано, пишется или печатается на бумаге формата ин-кварто с одинарным интервалом. Это правило должны были соблюдать все служащие — от «Колуна» Милмо до временной стенографистки. Это правило соблюдалось почти во всех подразделениях Секретной службы, от Блетчли-Парка[15] до Уормвуд-Скрабс[16], часть которой была занята службой разведки, — когда мать отправилась туда, я, в ту пору мальчик, думал, что она идет отбывать срок. Бумагу других форматов использовать не разрешалось. Я понял, что эта сохранившаяся у матери карта как-то связана с разведкой.
В нашем здании была центральная картографическая комната; громадные карты висели на валиках, их можно было стянуть вниз и собрать руками, как пейзаж. Я приходил туда каждый день в обеденный перерыв, садился на пол, ел, и полотнища едва шевелились надо мной — в комнате почти не было движения воздуха. Почему-то мне было покойно там. Может быть, вспоминались те давние обеды с мистером Нкомой и другими и его зажигательные рассказы. Листок с холмом я скопировал на слайд и стал проецировать его на разные карты. Это заняло два дня, и в результате я нашел на карте полный аналог рисунка, с теми же горизонталями. Теперь меловой холм обрел конкретное географическое место, обозначенное на карте. А я уже знал, что мать была ненадолго отправлена туда с маленькой группой — судя по отчету, чтобы нейтрализовать ключевые фигуры в послевоенном партизанском отряде. Один из группы был убит, двое захвачены.
Рисованная карта означала близкое знакомство; мне было интересно понять — чье знакомство, поскольку рисунок, нужный в свое время, хранился в любимой книжке Бальзака. Мать уничтожила почти все, относившееся к тому периоду, когда они занимались бог знает чем, «нейтрализовывали ключевые фигуры». В нашем муравейнике нам часто попадались случаи, когда выжившие в схватках брали на себя бремя мести, иногда передававшееся следующим поколениям. «Какого они были возраста?» — насколько помню, спросила Маккэша мать в ночь нашего похищения.
«Люди иногда ведут себя постыдно», — сказала мать, когда меня и еще троих пятиклассников временно исключили из школы за кражу книг из магазина «Фойлс» на Чаринг-Кросс-Роуд. Теперь, много лет спустя, читая обрывочные документы о тайных политических убийствах, совершавшихся в других странах, я ужасался не только деятельности матери, но и тому, что она приравняла к ней мою кражу. Может быть, не столько осуждая меня, сколько адресуя это себе.
«Что ты такого страшного сделала?»
«Много за мной грехов».
* * *
Как-то днем в мою кабинку постучался человек.
— Вы говорите по-итальянски? В вашем деле так сказано.
Я кивнул.
— Пойдемте со мной. Наш человек с итальянским заболел.
Я поднялся с ним по лестнице в отдел, где сидели сотрудники, владевшие языками. Я не знал его должности, но понятно было, что по статусу он выше меня.
Мы вошли в комнату без окон, и он дал мне тяжелые наушники.
— Кто он? — спросил я.
— Неважно. Просто переводите. — Он включил магнитофон.
Я послушал итальянский голос, поначалу забыв переводить; пригласивший меня замахал руками. Это был допрос — допрашивала женщина. Запись была неважная, гулкая, как будто в пещере. Допрашиваемый был не итальянец и отвечал неохотно. Запись то включали, то выключали, в беседе были пропуски. Допрос явно находился на ранней стадии. Я таких уже наслушался и знал, что его потом прижмут. А пока человек защищался тем, что изображал безразличие. Отвечал расплывчато. Стал говорить о крикете, жаловался на неточности в «Уиздене»[17]. Его сбили с этой темы прямым вопросом об истреблении гражданских под Триестом и связях англичан с партизанами Тито.
Я наклонился, остановил магнитофон и спросил:
— Кто он? Хорошо бы знать контекст.
— Вам это не нужно — просто скажите мне, что говорит англичанин. Он работает с нами, нам надо знать, не выдал ли он чего-то важного.
— Когда это?..
— Начало сорок шестого. Формально война закончилась, но…
— Где это происходит?
— Эту запись мы захватили после войны, у одного деятеля из марионеточного правительства Муссолини: дуче уже повешен, но кое-кто из последышей все еще цел. Пленку взяли в окрестностях Неаполя.
Он дал мне знак надеть наушники и включил магнитофон.
Постепенно, после нескольких перерывов в записи англичанин разговорился, но говорил он о женщинах, с которыми знакомился там и сям, о том, в каких кафе с ними бывал, о том, как они были одеты. И удавалось ли провести с ними ночь. Эти сведения он давал свободно, сообщал явно несущественные данные: час прибытия поезда в Лондон, и так далее и тому подобное. Я выключил магнитофон.
— В чем дело?
— Это бесполезная информация, — сказал я. — Он рассказывает о своих романах. Если его взяли за политику, то ничего политического он не раскрыл. Только что ему особенно нравится в женщинах. Кажется, не любит неотесанных.
— А кто любит? Ведет себя умно. Он у нас один из лучших. Интересно это может быть только жене или мужу. — Он снова включил запись.
Теперь англичанин рассказывал о попугае, которого нашли на Дальнем Востоке, птица десятки лет жила в племени, которое вымерло и язык его исчез. Но попугай попал в зоопарк, и оказалось, что он все еще помнит слова. Тогда рассказчик и один лингвист попытались восстановить язык с помощью птицы. Рассказчик явно устал, но продолжал говорить, как будто этим мог отсрочить конкретные вопросы. До сих пор он не сообщил ничего полезного. Допрашивавшая определенно хотела кого-то опознать, выяснить характерные особенности, названия мест, которые можно привязать к карте, город, обстоятельства убийства, сорванной боевой операции. Но потом он заговорил о «печати одиночества» в облике какой-то женщины и еще о какой-то никчемной подробности — расположении родинок на ее плече и шее. И я вдруг сообразил, что видел это ребенком. И рядом с этим спал.
Так, переводя запись допроса, где описывалась, возможно, выдуманная женщина и ученый попугай — все это, поданное пленником как бесполезная информация, — я услышал о расположении родинок на плече матери.
Я вернулся на рабочее место. Но допрос еще звучал у меня в ушах. Я почти не сомневался, что слышал голос мужчины раньше. И даже подумал, что это может быть голос моего отца. Кто еще мог знать этот отличительный признак — необычное расположение родинок, которое пленник шутливо уподобил созвездию Ковша в Большой Медведице?
* * *
По пятницам я садился в шестичасовой поезд на вокзале Ливерпуль-стрит и отдыхал: просто смотрел на ленту пейзажа, бегущую мимо. Это был час сортировки всего, накопившегося за неделю. Факты, даты, мои официальные и неофициальные изыскания отпадали, на их место приходила полуфантазия о матери и Марше Фелоне. Как они шли навстречу друг другу вдали от своих семей, их короткая связь и отступление, а потом стойкая, необычайная верность друг другу. У меня почти не было сведений об их осторожной взаимной тяге, о поездках к темным аэродромам и портам и возвращениях оттуда. Были у меня, в сущности, не сведения, а всего-навсего отрывки какой-то незаконченной старинной баллады. Но я был сыном без родителей и не знал того, чего не дано знать такому сыну, я натыкался только на фрагменты их истории.
* * *
Это была ночная поездка домой из Суффолка после похорон ее родителей. Свет от спидометра падал на ее платье, закрывавшее колени. Черт.
Они выехали в темноте. Всю вторую половину дня она наблюдала за его скромным поведением у могилы и на поминках слушала его застенчивую и душевную речь. Подходили соседи, которых она знала с детства, выражали соболезнования, спрашивали о детях, оставленных дома в Лондоне, — она не хотела везти их на похороны. Приходилось снова и снова объяснять, что муж все еще за морем. «Благополучного возвращения ему». Роуз наклоняла голову.
Позже она видела, как Фелон под громкий смех гостей переносил полную до краев чашу с пуншем с шаткого столика на более устойчивый. Почему-то ей было покойно как никогда. Часов в восемь вечера, когда все разошлись, она поехала с Фелоном в Лондон. Ей не хотелось ночевать в пустом доме. Они сразу же въехали в туман.
Пять миль они ползли, останавливаясь перед каждым перекрестком, и почти пять минут простояли на железнодорожном переезде: ей почудился гудок поезда вдалеке. Если поезд и гудел, то далеко, тоже из предосторожности.
— Марш?
— Что?
— Хотите, я сяду за руль? — Она повернулась к нему, платье натянулось на бедрах.
— До Лондона три часа. Можем остановиться.
Она включила лампочку.
— Я могу повести. Илкетшолл. Где это на карте?
— Где-то в тумане, наверное.
— Ладно, — сказала она.
— Что ладно?
— Давайте остановимся. Они разбились… я не в силах вести машину.
— Я понимаю.
— Можем вернуться в Уайт-Пейнт.
— Я покажу вам мой дом. Вы давно его не видели.
— А. — Она покачала головой, но ей было любопытно.
Он развернулся в три приема — дорога была узкая, к тому же туман — и поехал к дому, давно перестроенному.
— Заходите.
В доме было холодно. «Свежо», — сказала бы она, если бы дело было утром, но была глухая ночь, нигде ни проблеска света. Электричества в доме не было, только дровяная печка, на которой он готовил, она же и отапливала дом. Фелон развел огонь. Потом приволок матрас из невидимой комнаты — там не прогреется, сказал он. Все это было сделано за пять минут. Она не произнесла ни слова, только наблюдала за ним — сколько позволит себе этот всегда осторожный человек, всегда осторожный с ней. Ей самой не верилось в то, что происходит с ними сейчас. В комнате уже было слишком тесно. Она привыкла видеться с Фелоном вне стен.
— Марш, я замужняя женщина.
— В вас ничего нет от замужней женщины.
— А вы, конечно, знаете замужних женщин.
— Да. Но в вашей жизни он не занимает никакого места.
— Это кончилось давно.
— Вы можете спать здесь у печки. Мне необязательно.
Долгое молчание. В голове у нее сумбур.
— Кажется, вам тоже не помешает в тепле.
— Тогда я хочу, чтобы вас было видно.
Он подошел к печке, приоткрыл дверцу, и комната осветилась.
Она подняла голову и посмотрела ему в лицо:
— Тогда и вы останьтесь.
— Нет. Я неинтересен.
Она представила себе, как выглядит сейчас при неверном свете из топки, в платье с длинными рукавами, оставшемся на ней с похорон. Чувство было странное. Что-то заползло под рассудок. И ночь к тому же — сплошной туман, мир невидим, безымянен.
Она проснулась окутанной. Под шеей — его ладонь.
— Где я?
— Вы вот здесь.
— Да. Кажется, я здесь. Неожиданно.
Она уснула и снова проснулась.
— А как же похороны? — спросила она.
Ее голова касалась его плеча. Она знала, что в комнате будет холодно.
— Я их любил, — сказал он. — Как и вы.
— Я, наверное, не об этом. А спать с их дочерью. И после похорон?
— Думаете, они вертятся в гробах?
— Да! И, кроме того, что теперь? Я знаю о ваших женщинах. Отец называл вас бульвардье.
— Ваш отец был сплетник.
— Думаю, после сегодняшней ночи мне надо держаться от вас в стороне. Вы слишком важны для меня.
Даже в этой осторожной, отфильтрованной версии происходившего между ними есть сомнение и даже неопределенность в отношении того, как это на самом деле могло быть, о чем мог быть разговор; как-то слабо это рифмуется с их биографиями. Кто из них и почему разорвал отношения, начавшиеся той ночью у печки?
Она давно не была с мужчиной так, как в ту ночь. Что это будет значить для него — оставить ее теперь, думала она. Будет это как пустячный исторический эпизод из его рассказов, когда маленькое войско отошло от каролингского пограничного города учтиво и в молчании, или все вокруг них посыплется с треском и долгим эхом? Ей надо оставить его раньше, поставить караул на мосту через реку, чтобы ни он, ни она не могли пройти; показать, что после этого неожиданного явления друг другу продолжения не будет. Она должна жить своей жизнью.
Она повернулась к Фелону. Она редко звала его Маршем. Почти всегда Фелоном. Но ей очень нравилось имя Марш. Оно звучало так, словно он будет идти и идти вперед, и остановить его и до конца понять трудно, и она промочит ноги, на нее налипнет грязь и репьи. Думаю, тогда, после ночи у печки, она решила для надежности вернуться к себе такой, какой еще была, отделиться от него — словно боль всегда часть желания. Нельзя давать себе волю. Но она подождет еще немного, когда окончательно рассветет, и он, радостный любовник, снова станет непонятным для нее, загадкой. На заре она услышала сверчка. Стоял сентябрь. Она будет помнить сентябрь.
* * *
Во время допроса Фелона итальянкой есть момент, когда допрашивающие отворачивают слепящую лампу, свет проскальзывает по ее лицу, и он, человек, мгновенно схватывающий обстановку, успевает отчетливо увидеть женщину. Кто-то сказал о нем: «Этот странный рассеянный взгляд ничего не упускает». Он замечает оспины на ее лице и сразу понимает, что она не красавица.
Нарочно они показали ему допрашивающую? Догадались ли, что у него есть слабость к женскому полу и можно спровоцировать его на легкий флирт? И мелькнувшее женское лицо — как на него подействует? Как он отреагирует? Умерит ли это его игривость? Смягчит ли его или добавит уверенности? И если столько уже о нем знают, что посадили в темноте напротив него женщину, то это перемещение яркой лампы было намеренным или же случайным? «Исторические исследования неизбежно игнорируют роль случайностей в жизни», — так нам говорят.
Но Фелон всегда готов столкнуться со случайностью — будь то новая стрекоза или неожиданное проявление характера — и отреагировать на нее, правильно или неправильно. Он открыт новому, он широкоплеч, шумен в обществе незнакомых — и все, чтобы побороть свою скрытность. Экспансивность его — пережиток юности, когда он познавал мир. В энергии его больше от любознательности, чем от беспощадности. Поэтому ему нужен был рядом безжалостный исполнитель, тактик — и эти качества он нашел в Роуз. Он понимает, что нужен им не он, а она, невидимая, но регулярно слышимая Виола — женщина, которая перехватывает их секретные радиосообщения, голос, докладывающий об их передвижениях и стоянках.
И, однако, Фелон — тоже полупрозрачное зеркало. Тысячи людей слушают по радио добродушного ведущего передачи «Час натуралиста», рассуждающего о весе орла или происхождении термина «салат пошел в стрелку» так, словно он разговаривает через забор с соседом, не думая, что его могут слышать где-нибудь в далеком Дербишире. Всем он знаком, хотя и невидим. В «Радио-Таймс» его фотографии не было, только карандашный рисунок мужчины, идущего в отдалении, так что опознать его невозможно. Время от времени он приглашает в подвальную студию Би-би-си специалиста по полевкам или конструктора искусственных мушек, чтобы быть при них скромным слушателем. Но аудитория предпочитает слушать его самого. Она привыкла к его лирическим отступлениям, когда он откапывает строку Джона Клэра «Вдруг рябинника свист и терновника шорох» или декламирует стихотворение Томаса Гарди о гибели мелких животных на семидесяти полях, где происходила битва при Ватерлоо.
Ходы кротов раздавлены колесами, Жаворонков яйца разбросаны, их владельцы разлетелись, И дом ежа раскрыт траншеей, Улитка спряталась от страшного копыта, Но все равно раздавлена железным ободом. Червяк спросил, что там наверху, И зарывается поглубже от этой жути, И думает, что будет цел.Это его любимое стихотворение. Он читает его медленно и без нажима, словно в ритме животных.
* * *
Женщина за слепящей лампой все время меняет направление вопросов, чтобы поймать его врасплох. Он держится своей линии — ни в чем не признаваться, кроме неверности и обмана женщин, может быть, рассчитывая, что раздражение сделает ее близорукой. На протяжении всего разговора он отделывался шутками, но я подозревал, что они посадили за лампой искушенную женщину, и она задает простые вопросы, позволяя ему думать, что он сбивает ее со следа подробностями интимного свойства. Но сколько выцеживала она из его выдумок? Ей нужен портрет женщины, которую они считают виновницей. Иногда вопросы слишком очевидны, и оба смеются: он — над ее хитростями, она — скорее задумчиво. Он утомлен, но по большей части угадывает, что прячется за ее вопросом.
— Виола, — повторяет он, когда она впервые произносит ее имя.
И поскольку Виола — имя вымышленное, он пытается представить следователям вымышленный портрет.
— Виола скромная, — говорит он.
— Из каких она мест?
— Думаю, из сельской местности.
— Откуда?
— Трудно сказать. — Будто спохватившись, что проговорился, он идет на попятный: — Юг Лондона?
— Но вы сказали, из сельской местности? Эссекс, Уэссекс?
— А, вы читали Гарди?.. Кого еще вы знаете? — спрашивает он.
— Мы знаем ее почерк. Но один раз перехватили ее голос, показалось, что выговор прибрежный, но конкретнее не можем определить.
— Думаю, юг Лондона, — повторяет он.
— Нет, мы знаем, что нет. У нас есть специалисты. Когда вы приобрели свой выговор?
— Да о чем это вы?
— Вы всегда так говорили? Самоучка? Разница между ее выговором и вашим не в социальном ли происхождении? Ведь она говорит не так, как вы, правда?
— Слушайте, я почти незнаком с этой женщиной.
— Красивая?
Он смеется.
— Наверное, да. Родинки на шее.
— На сколько она моложе вас, как думаете?
— Я не знаю, сколько ей лет.
— Денмарк-Хилл знаете? Некоего Оливера Стрэйчи? Длинный карнизный нож?
Он молчит. Удивлен.
— Знаете, сколько людей убито коммунистическими партизанами — вашими новыми союзниками — под Триестом? Сколько сотен там погибло… сброшены в карстовые провалы… сколько, думаете?
Он не отвечает.
— Или в деревне моего дяди?
Жарко; он рад, когда они ненадолго выключают весь свет. Женщина продолжает говорить в темноте:
— Так вы не знаете, что было в той деревне? В деревне моего дяди. Четыреста жителей. Теперь — девяносто. Почти все убиты за одну ночь. Девочка все видела, она не спала — и, когда заговорила об этом на другой день, партизаны увели ее и убили.
— Откуда мне знать?
— Женщина, которая называет себя Виолой, была радисткой, передаточным звеном между вашими людьми и партизанами. Это она направила их в ту ночь. И в другие места — в Раину, Суму и Гаково. Она передала им информацию: расстояние от моря, заблокированные пути отхода, дорогу к цели.
— Кто бы она ни была, — говорит Фелон, — она всего лишь передавала инструкции. Она не знала, что за этим последует. И, может быть, не знала даже, что произошло.
— Может быть — но известно нам только ее имя. Не генерала, не командира — только ее позывной. Виола. Больше никаких имен.
— Что произошло в тех деревнях? — спрашивает в темноте Фелон. Хотя знает ответ.
Прожектор снова включили.
— Знаете, как мы это называем теперь? Кровавая осень. Когда вы стали поддерживать партизан, чтобы ускорить разгром Германии, всех нас — хорватов, сербов, венгров, итальянцев — вы зачислили в фашисты, в союзники немцев. Простые люди стали военными преступниками. Многие из нас были вашими сторонниками, теперь стали врагами. Поменялся ветер в Лондоне, какие-то политические шепотки — и все перевернулось. Наши деревни сровняли с землей. От них следов не осталось. Людей связывали проволокой, чтобы не сбежали, и выстраивали перед рвом. Старые распри стали оправданием казни. Уничтожены и другие деревни. Сивац. Адорян. Партизаны стягиваются к Триесту, чтобы загнать нас в город и там истребить. Итальянцев. Словенцев. Югославов. Всех. Всех нас.
Фелон спрашивает:
— Как называлась та первая деревня? Деревня вашего дяди.
— У нее больше нет названия.
* * *
Роуз и солдат быстро двигались по пересеченной местности, мокрые, потому что то и дело переходили вброд речки, спешили, чтобы успеть к пункту назначения до темноты, не зная точно, где он. Еще несколько лощин, подумала она — и сказала солдату. Шли почти наобум. Они не могли взять коротковолновую рацию, им выдали только наспех приготовленные фальшивые удостоверения. У сопровождающего был пистолет. Они искали холм с хижиной у подножья и через час, наконец, ее увидели.
Те, кто был там, удивились их появлению. Когда Роуз с солдатом, мокрые, дрожащие, вошли, их встретил Фелон, опрятный и совершенно сухой. Несколько секунд он молчал, а потом сказал с досадой:
— Что вы тут делаете?
Роуз отмахнулась от вопроса — потом. Она увидела еще двоих, мужчину и женщину, знакомых, они подошли к ней. В ногах у Фелона лежал вещевой мешок, и Фелон кивнул на него с почти комической индифферентностью, как будто единственной его задачей здесь было предоставить им одежду.
— Берите все, что вам надо, — сказал он. — Обсохните. — И вышел.
Они поделили одежду. Солдат взял плотную рубашку. Роуз — пижаму и твидовый пиджак Фелона. Она часто видела на нем этот пиджак в Лондоне.
— За каким чертом вы здесь? — спросил он, когда она вышла наружу.
— Нашу волну прослушивают — поэтому мы ушли из эфира. С вами нельзя было связаться. Поэтому я пришла сама. Они прослушивали наши сообщения. Знают, где вы находитесь. Меня послали сказать вам, чтобы вы уходили.
— Роуз, здесь вам опасно оставаться.
— Вам всем здесь опасно оставаться. Вот в чем дело. Им известны ваши имена, известно, куда вы направлялись. Они захватили Конноли и Джейкобса. Утверждают, что им известно, кто такая Виола. — Она говорила о себе в третьем лице, как будто их могли подслушивать.
— Мы заночуем здесь, — сказал он.
— Зачем? Потому что у вас здесь девушка?
Он засмеялся:
— Нет. Потому что мы сами только что пришли.
Они сидят у печи. Разговор у них был осторожный: каждый не знает, что известно другим. Каждый постоянно соблюдает границу между собой и остальными: если кого-то из них схватят, он не сможет выдать задачи и маршруты других. Больше никто не знает, что она — Виола. Что ее спутник — ее телохранитель. Солдат был недоверчив; два дня в пути она пыталась разговорить его, но он не сказал даже, где вырос. Цели их похода он не знал. Только что должен охранять эту женщину.
После еды они с Фелоном вышли из дома, чтобы поговорить; солдат тоже вышел, и она попросила его отойти, оставить ее с Фелоном наедине. Он отошел, закурил сигарету, и она смотрела, как за плечом у Фелона разгорается и гаснет розовый огонек. Из домика доносился смех.
— Зачем? — произнес Фелон с усталым вздохом недоумения. Это даже не прозвучало как вопрос. — Вас зачем посылать?
— Никого другого вы бы не стали слушать. И вы слишком много знаете. Если вас схватят, под ударом все. Правила войны больше не действуют. Вас будут допрашивать как шпиона, а потом вы исчезнете. Сегодня мы немногим лучше террористов. — Она сказала это с горечью.
Фелон не отозвался, он искал аргумент, зацепку, чтобы вернуться к спору. Роуз положила руку ему на плечо, и они стояли в темноте совсем неподвижно. На его плечах мерцал слабый отсвет от печи. Покой вокруг, затишье, как давним, давним вечером в Суффолке; сипуха, белая, с громадной головой, бесшумно спустилась на землю рядом с ними, схватила мелкое животное — мышь? землеройку? — словно соринку с травы, и плавно взлетела на темное дерево, не прервав дугу полета.
— Если вы наткнетесь на ее гнездо, увидите: они едят кого угодно. Там будет голова кролика, останки летучей мыши, жаворонка. Они могучие. Размах крыла у них — вы видели — сколько… почти четыре фута? А берешь в руки… ничего не весит при такой силе.
— Как вам удалось взять ее в руки?
— Один мой брат нашел убитую электричеством. Дал мне подержать. Она была большая, с роскошным оперением, будто рубчатым по краю, и ничего не весила, совсем ничего. Когда он дал мне ее подержать, руки сами собой поднялись — я приготовился принять тяжесть… Вам не холодно, Роуз? Может быть, войдем? — Когда он вдруг перешел к настоящему, она вспомнила, где находится: хижина, где-то недалеко от Неаполя.
Огонь в печи почти погас. Она завернулась в одеяло и легла. Слышно было, как возятся, устраиваясь поудобнее, другие. Раньше она сказала Фелону, что плохо представляет себе их местоположение; тогда он быстро набросал карту на листке бумаги. Теперь она мысленно пробежала взглядом по наброску — от дома к двум возможным местам эвакуации. Одним из них была гавань, где в случае осложнений надо было найти женщину по имени Кармен. Пахло их распаренной одеждой у печи; шерстяной пиджак Фелона колол голое тело. Слышался шепот. В прошлом году, работая с Фелоном, она заподозрила, что он в отношениях с Хардвик, женщиной, которая сейчас была в доме. Роуз слышала приглушенные голоса и шевеление в том углу, где лег Фелон. Она заставила себя мысленно вернуться к карте и проделать предстоящий путь с телохранителем. Проснулась она с рассветом.
Привычка рано вставать сохранилась у нее с тех времен, когда они с Фелоном ходили охотиться на птицу и рыбачили на реке. Она села, посмотрела в темный угол комнаты и увидела, что Фелон смотрит на нее, а женщина спит рядом. Она вылезла из одеяла, собрала высохшую одежду и вышла, чтобы не переодеваться у всех на глазах. Через минуту следом за ней вышел тактичный телохранитель.
Когда она вернулась в дом, Фелон уже встал, проснулись и остальные. Она отдала ему пиджак. Тяжелую, плотную ткань его она ощущала телом всю ночь. Во время короткого завтрака Фелон был почтителен с ней, словно она, а не он была главой группы. Началось это раньше, когда он смотрел на нее из своего угла, а она представляла себе, чем он занимался там, в темноте, с другой женщиной.
Через несколько дней Фелона схватят и будут допрашивать, как она и предупреждала.
* * *
— Вы ведь женаты?
— Да, — лжет он.
— Кажется, вам легко с женщинами. Она была вашей любовницей?
— Всего раз ее видел.
— Она была замужем? Дети?
— В самом деле, не знаю.
— Чем она вас привлекла? Своей молодостью?
— Не знаю чем. — Он пожимает плечами. — Может быть, походкой.
— Что такое «походка»?
— Это как человек ходит, его движения. Людей узнаешь по походке.
— Вам нравится «походка» у женщин?
— Да. Да. Нравится. Вообще это единственное, что я о ней помню.
— Должно быть, что-нибудь еще… ее волосы?
— Рыжие. — Он доволен своей быстрой выдумкой. Хотя, может быть, слишком быстрой.
— Когда вы сказали недавно «родинка», я поняла, что это какая-то местность?
— Ха!
— Вы меня сбили. Что это такое?
— Ну… знаете, это такие… на коже.
— А! Одна или две родинки?
— Я их не считал, — спокойно говорит он.
— В рыжие волосы не верю, — говорит она.
Сейчас Роуз уже должна быть в Неаполе. В безопасности, думает Фелон.
— И думаю, что она очень привлекательна. — Женщина смеется. — Иначе вы не старались бы это скрывать.
И его, к удивлению, отпускают. Им нужен не он, а к этому времени они уже обнаружили и опознали Виолу. Не без его помощи.
Улица маленьких кинжалов
Она проснулась лицом к слову ACQUEDOTTO; в руке — жгучая боль, ум заметался в усилии понять, где она, который час. Но вспоминает другое время, слышит цикаду. Тогда было шесть часов вечера, и она проснулась, лежа на траве, почти в такой же позе, щекой на руке. Тогда в сознании был порядок. Единственное, что мешало тогда, — усталость. Она прошла много миль, чтобы встретиться в городе с Фелоном; его надо было ожидать через несколько часов, она нашла маленький парк около тропинки, уснула и проснулась вдруг под печальный голос цикад. Поначалу тоже не могла сообразить, зачем она там. Она ждала его в маленьком парке.
Сейчас ее смущает слово acquedotto, означающее водопровод. Она поднимает голову с крышки люка. Надо, чтобы в голове прояснилось, надо понять, почему она здесь, надо думать. Она видит свежие порезы у себя на руке, один над другим, один над другим. Если что-то подает сейчас печальный голос, то это что-то у нее внутри. Она приподнимает руку, стирает кровь с разбитых часов — звездочкой разбежались трещины по стеклу — на часах пять или шесть… раннее утро. Она смотрит на небо. Начинает медленно вспоминать. Надо дойти до явки. Там женщина по имени Кармен, надо найти ее, если понадобится помощь. Роуз встает, поднимает подол темной юбки, берет в зубы, здоровой рукой отрывает нижнюю треть, чтобы туго перевязать раненую руку. Стало чуть легче; Роуз согнулась, тяжело дыша. Теперь вниз, к гавани, найти какую-то Кармен… и на судно. Здесь всегда чудеса, говорят в Неаполе.
Она уходит с улицы маленьких кинжалов и припоминает карту. Позилиппо — так называется богатая часть города, «утоление боли». Греческое слово, еще в ходу у итальянцев. Ей надо попасть на Спакканаполи, улицу, которая делит город надвое. Она идет вниз по склону и повторяет названия. Спакканаполи, Позилиппо. Крики чаек, значит, близко вода. Найти Кармен, потом гавань. Небо посветлело. Но вся жизнь сейчас сосредоточилась в руке: там боль, повязка пропитана кровью. Она вспомнила: резали маленькими ножами. Ее и солдата взяли после того, как группа разделилась, чтобы выходить разными путями. Почему? Кто-то выдал? Когда они вошли на окраину города, их опознали, солдата убили. Он был совсем мальчик. В каком-то здании стали резать ей руку с каждым вопросом. Через час прекратили, оставили ее. Она, наверное, как-то выбралась, выползла на улицу. Наверное, будут ее искать. Или с ней закончили? Она идет вниз по склону, думает, сознание проясняется. «Утоление боли». «Забыть печаль». Что значит tombiro? Нога за ногу, добралась до угла и оказалась на ярко освещенной площади.
Вот почему все время был свет в небе. Не рассвет. Это вечер; семьи и другие группы вокруг кафе, едят, пьют, среди них поет десятилетняя девочка. Песня знакомая, когда-то она пела ее сыну на другом языке. Сцена перед ней могла происходить в любой час вечера, но не ранним утром. Ее часы, должно быть, остановились во время допроса, на них пять или шесть, значит, ранним вечером, а не за час до рассвета. Но, наверное, сейчас еще не ночь. А чайки? Их просто свет привлек на людной площади?
Она прислонилась к столу, чужая, смотрит, как они разговаривают, смеются, и девочка у матери на коленях поет. В сцене — что-то средневековое, наподобие картины, которую любил разбирать Фелон, объясняя принцип композиции: как множество народа заполняет холст по силовым линиям, исходящим из маленькой детали — хлеба, и хлеб сцепляет все воедино. Так все взаимодействует в мире, говорил Фелон. Здесь для нее хлеб — эта девочка, поющая от радости. Такое же чувство испытывает и она, попав на это шумное собрание по дороге к месту, где надо найти Кармен. Можно сделать еще шаг и стать заметной, но она подтягивает стул, садится и кладет раненую руку на стол перед этой текучей фреской. Давным-давно не было у нее такой жизни — семейной, общинной. Она приняла мир скрытности, где действуют другие силы, где нет места великодушию.
Женщина позади ласково кладет руки ей на плечи.
— Здесь всегда чудеса, — говорит ей женщина.
* * *
Несколькими месяцами позже, как и обещал Фелон, Роуз входит с ним в библиотеку Мазарини. Они долго обедали в «Ля Куполь», глядя друг на друга — ели устриц, пили шампанское из узких бокалов и закончили одной порцией блинчиков на двоих. Когда она протягивает руку за вилкой, он видит шрам у нее над запястьем.
— Тост, — говорит она. — Наша война окончена.
Фелон не поднимает бокал.
— А следующая война? Вы вернетесь в Англию, а я останусь здесь. Войны никогда не кончаются. «Севилья ранит, Кордова хоронит». Помните?
В такси у нее кружится голова, она прислоняется к нему. Куда они едут? Они выезжают на бульвар Распай, потом на набережную Конти. Чувства у нее смутны, она пристегнута к этому человеку, ведома им. Прошедшие часы перетекали один в другой безотчетно. Она проснулась одна на своей кровати, такой широкой, что показалось, плывет на плоту; и так же днем в «Ля Куполь» сотня незанятых столиков простерлась перед ней, как покинутый город.
Он кладет ей руку на плечо, и они входят в коричневое здание — большую библиотеку Мазарини, по словам Фелона, «незадачливого» правителя Франции после кончины Ришелье. Только Фелон, думает она, употребит «кончину» походя — человек, до шестнадцати лет совсем необразованный. Это торжественное слово он запомнил так же, как переделал свой почерк — каракули, которые ей случалось видеть в его детских блокнотах рядом с точнейшими зарисовками моллюсков и ящериц с натуры. Самоучка. Карьерист. Поэтому его подлинности не доверяет кое-кто из коллег и даже он сам.
Войдя в библиотеку, Роуз осознает, что слегка пьяна. Ум не задерживается на том, что говорит Фелон. Три бокала шампанского в середине дня и тяжесть девяти устриц. Они входят в пятнадцатый век с тысячей вещей, конфискованных у монастырей, отобранных у поверженной аристократии, с инкунабулами зари книгопечатания. Все это собрано и хранится здесь после того, как было разорено когда-то и отнято у нескольких поколений. «Вот замечательная вторая жизнь», — говорит ей Фелон.
На верхнем этаже он наблюдает, как движется ее силуэт мимо светлых окон, впечатление такое, будто мимо нее проезжает пассажирский поезд. Потом она стоит перед большой картой Франции с тысячью церквей — когда-то он воображал подобную картину, так что это казалось репликой давнего желания. Такие карты всегда перегружены верой, словно единственная цель жизни — переезжать от одного алтаря к другому, а не пересекать тонко выписанную голубизну рек, чтобы навестить далекого друга. Он предпочитает более старые карты, без городов, размеченные только контурными линиями, — они даже теперь хорошо годятся для разведки.
Фелон стоит перед собранием мраморных ученых и философов и быстро поворачивается, словно это позволит ему перехватить взгляд или мысль кого-то из них. Он любит вечную рассудительность в их лицах, их явную слабость или отстраненность. В Неаполе он стоял перед жестоким императором и до сих пор помнит его уклончивый взгляд: с какой стороны ни подойти, статуя не желала встретиться с ним глазами. Временами ему кажется, что сам стал таким же. Роуз касается его пальцами, и он оборачивается к ней. Они идут мимо старинных столов, каждый освещен желтой лампой. На одном — скоропись святого, на соседнем — записи другого, казненного молодым. На кресле — сложенный камзол Монтеня.
Роуз вбирает в себя всё. Ощущение такое, что продолжается их обед, вкус устриц вдруг смешивается с запахом лакированных столов и старой бумаги, пропитавшим воздух. С тех пор как они вошли сюда, она не произнесла и десятка слов. Когда он указывает на какую-то вещь, она не отзывается: ей важно только, что значит эта вещь для нее самой. Она всю жизнь преклонялась перед этим человеком, но сейчас она вся — только в этом столкновении с древностью. «Вот замечательная вторая жизнь». Быть может, то же самое — и она для него. Всегда ли он так ее видел? Ее пьянит это маленькое допущение.
Освободившись от его поводка, она идет по городу, не обращая внимания на моросящий дождь. Заблудилась, но не спрашивает дороги, неопределенность ей нравится, она смеется, второй раз проходя мимо того же фонтана. Ей хочется случайности, свободы. В этот город ее привезли, чтобы соблазнить. Она может представить себе, как это будет. Как прислонится головой к его обозначившимся ребрам. Свою ладонь на его волосатом животе, приподнявшемся от щекотки. Свои благодарно раскрывшиеся губы, когда он поворачивается и входит в нее. Она идет по мосту. Входит в свою комнату в четыре часа ночи.
Она просыпается с рассветом, идет в соседнюю комнату. Фелон спит, кровать его скромнее ее кровати. Он настоял, чтобы она разместилась в комнате побольше. Он лежит на спине, глаза закрыты, руки вытянуты вдоль тела, словно молится или привязан к мачте. Она раздвигает высокие, тяжелые шторы, комната наполняется холодным светом и мебелью, но он продолжает спать. Она наблюдает за ним, представляет себе его в каком-то другом мире, может быть, неуверенным подростком. Она никогда не видела Фелона неуверенным в себе: знает его только как человека, переделавшего себя. За годы их знакомства он открыл ей широкие горизонты — она желала этого, но теперь думает, что лежащее перед тобой ясно видно только тем, у кого нет уверенности.
Она ходит по парчовой комнате отеля. Она не сводит с него глаз, словно между ними — немой разговор, какого никогда не было. У них была долгая спаренная история, но она уже не понимает, как сохранить союз с ним. Парижский отель. Она навсегда запомнит его название — а может быть, понадобится его забыть. В ванной она умывается, чтобы прояснилось в голове. Она садится на бортик ванны. Если вообразила, что он ухаживал за ней, то и вообразила, что сама за ним ухаживает.
Она возвращается в его комнату, смотрит, не шевельнется ли, если притворился спящим. Ждет минуту, понимает, что если уйдет сейчас, то никогда уже этого не узнает. Сбрасывает туфли и подходит к кровати. Ложится рядом с ним, вытягивает ноги. Мой союзник, думает она. Она вспоминает маленькие подробности их общей истории, те, что навсегда останутся с ней, — слово, сказанное доверительным шепотом, пожатие руки, взгляд, брошенный через всю комнату, его танец с животным на поле, как он учился говорить внятно и медленно в «Часе натуралиста», чтобы его могла расслышать по субботам полуглухая мать, как он связал и откусил нейлоновую нитку, сделав мушку с синими крыльями. Когда ей было восемь лет. Когда ему было шестнадцать. Это был только первый слой. А дальше — более глубокое, интимное. Как он растапливает печку в холодном темном доме. Почти беззвучный стрекот сверчка. Потом, позже, в хижине, в Европе, он встает около спящей на полу Хардвик. Всех шрамов на ее руке он не видел. Она поворачивается на бок, чтобы посмотреть на его лицо. И тогда она уйдет. Вот тебе и всё, думает она.
* * *
Столько всего осталось непогребенным после войны. Моя мать вернулась в дом, построенный в прошлом веке и по-прежнему стоявший особняком среди полей. Он никогда не был укромным жилищем. Белизну его ты мог увидеть почти за милю, слушая шелест сосен над головой. Но сам дом всегда был беззвучен за складкой долины. Место одиночества среди заливных лугов, спускавшихся к реке, и в воскресенье, если выйти на воздух, услышишь за несколько миль колокол нормандской церкви.
Малозначительное признание матери в наши последние дни вместе, возможно, явилось для меня самым большим откровением. Касалось оно дома, полученного ею в наследство. Надо было подыскать себе другой пейзаж, сказала она. Желание отказаться от наследства или стать изгнанницей обнаружилось давно, когда отгородилась от родителей, скрыла от них, чем занималась во время войны, и стала неизвестной даже для своих детей. Теперь же, я думаю, она вернулась в Уайт-Пейнт охотно. Но дом был старый. Она знала каждую маленькую неровность пола в прихожей, каждую тугую оконную раму, звук ветра в разные времена года. Она могла с завязанными глазами пройти по всем комнатам, выйти в сад и уверенно остановиться в дюйме от куста сирени. Она знала, где будет стоять луна в каждом месяце и из какого окна на нее смотреть. Это была ее биография с рождения, ее биология. Думаю, это сводило ее с ума.
Она приняла это не просто как место надежное и безопасное, а как судьбу — даже громкий скрип половиц; мне тяжело было об этом думать. Дом был построен в 1830-х годах. Она открывала дверь и оказывалась в мире своей бабушки. Ей виделись поколения рожавших женщин, изредка навещаемых мужьями, ребенок за ребенком, крик за криком, огонь в камине, перила, за сто лет отполированные ладонями. Спустя годы о похожем чувстве я прочел у одного французского писателя. «Иные ночи я думала об этом почти до боли… видела всех этих женщин, моих предшественниц в этих же спальнях, в таких же сумерках». Роуз видела свою мать в такой роли, когда отец был в море или в Лондоне и приезжал только по выходным. Вот к какому наследию она вернулась — к прошлой жизни, от которой когда-то сбежала. Вернулась в укромную повторяющуюся вселенную, где было мало посторонних: семейство кровельщиков на крыше, почтальон да мистер Малакайт с чертежами оранжереи, которую он ей строил.
Я спросил у матери — возможно, это был самый интимный вопрос за все время:
— Видишь ли ты во мне хоть что-то от себя?
— Нет.
— А не думаешь, что я на тебя похож?
— Это, конечно, другой вопрос.
— Не уверен. Может быть, тот же самый.
— Нет. Подозреваю, что между нами может быть сходство. Я недоверчивая, не открытая. Может быть, и ты такой же. Теперь.
В этом отношении она зашла дальше, чем я полагал. Я думал, что говорю о чем-то таком, как вежливость или умение вести себя за столом. Хотя ее нынешняя одинокая жизнь не способствовала вежливости. Ее мало интересовали дела других людей, пока они ее не трогали. Что до умения вести себя за столом, то она урезала потребление до аэродинамического минимума: одно блюдо, один стакан, стол вытерт через десять секунд после приема пищи, длившегося минут шесть. Ежедневный маршрут по дому был для нее настолько привычен, что она сама его не замечала, пока что-то не прерывало его. Разговор с Сэмом Малакайтом. Прогулка по холмам, когда я работал с Сэмом. Она чувствовала себя защищенной своей, как она считала, анонимностью, полной незначительностью в глазах жителей деревни, а внутри дома был соловьиный пол — шумовая мина предупредит о незваном госте.
Но чужой так и не переступил порог дома.
— А почему вообще вопрос? — Она решила продолжить нашу короткую беседу. — Что, по-твоему, у нас с тобой могло бы быть одинаковым?
— Ничего, — сказал я с улыбкой. — Разве что умение вести себя за столом или какая-то заметная привычка?
Она удивилась:
— Мои родители, наверное, как всякие родители, говорили: «Следи за своими манерами — может случиться так, что однажды ты будешь ужинать с королем».
Почему моя мать вспорхнула на две тонкие веточки — на то, что считала своими сомнительными качествами или слабостями? «Недоверчивая» и «не открытая». Теперь я понимаю: ей пришлось развить в себе эти качества, чтобы уберечь себя на работе и в браке с мужчиной-разрушителем, в итоге исчезнувшим. Она выбралась из своего кокона и ускользнула, чтобы стать сотрудницей Марша Фелона, который заронил по радио эти семена искушения в ее юности. В качестве Собирателя он провел безупречную кампанию. Он выждал и вовлек ее в секретную службу так же, как сам был вовлечен, почти по наивности. А ей, я думаю, хотелось в мир, который занял бы ее целиком, пусть даже она не найдет там настоящей, надежной любви. «А я и не хочу, чтобы мне поклонялись!» — как объявила однажды нам с Рэчел Оливия Лоуренс.
Мы можем знать только поверхностный слой любых отношений после определенной стадии, так же как верхние слои мела, сложенного трудами мельчайших существ за бесконечно долгое время. Легче понять переменчивые, непостоянные отношения между Роуз и Маршем Фелоном. Что до истории матери и ее мужа, этого призрака в ее биографии, у меня сохранился только образ его, сидящего в неудобном плетеном железном кресле у нас в саду и лгущего, почему он оставляет нас.
Мне хотелось спросить у нее, видела ли во мне что-то от отца, думала ли, что я чем-то похож на него.
* * *
Это было мое последнее лето с Сэмом Малакайтом. Мы смеялись; стоя, он чуть отклонился назад и оглядел меня.
— Да, ты изменился. В первое лето, когда ты работал со мной, ты почти не разговаривал.
— Я был застенчивым, — сказал я.
— Нет, ты был тихим, — ответил он, лучше меня поняв, каким я был. — У тебя мягкое сердце.
Изредка и без интереса мать спрашивала, как мне работается с мистером Малакайтом, не тяжело ли.
— Ну, не schwer, — ответил я и увидел на ее лице печальную улыбку.
— Уолтер, — сказала она вполголоса.
Наверное, она часто это говорила, даже про себя. Я вздохнул.
— Что случилось с Уолтером?
Молчание. Потом:
— Как, говоришь, вы его звали между собой? — Она бросила свою книгу на стол.
— Мотыльком.
Сухая улыбка сошла с ее лица.
— А кот хоть был? — спросил я.
В ее глазах — удивление.
— Да. Уолтер рассказал мне о вашем разговоре. Почему ты не помнил про кота?
— Я хороню события. Что все-таки случилось с Уолтером?
— Он умер, защищая вас в тот вечер в «Барке». Как защищал тебя, когда ты был маленьким и убежал из-за того, что отец убил твоего кота.
— Почему нам не сказали, что он нас охраняет?
— Твоя сестра это понимала. Вот почему она не простит мне его смерть. Мне кажется, что он ей был настоящим отцом. И он любил ее.
— Ты хочешь сказать, он был в нее влюблен?
— Нет. Просто он был бездетным мужчиной, который любил детей. Он хотел, чтобы вы были в безопасности.
— Я не чувствовал себя в безопасности. Ты это знала?
Она покачала головой.
— Думаю, твоей сестре было с ним спокойно. Знаю, что и тебе, когда ты был маленьким…
Я встал.
— Но почему нам не сказали, что он нас оберегает?
— Римская история, Натаниел. Тебе надо почитать ее. Там полно императоров, которые даже детям не могут сказать о грядущей катастрофе. Чтобы дети как-то защитились. Иногда есть необходимость в молчании.
— Я рос в твоем молчании… Знаешь, скоро я уеду и не увижу тебя до Рождества. Может, это наш последний разговор до поры.
— Знаю, милый Натаниел.
Занятия в колледже начались в сентябре. До свидания, до свидания. Не обнялись. Я знал, что каждый день она будет гулять по холмам и, поднявшись на вершину, оглянется на свой дом, приютившийся в складке земли. В полумиле будет деревня Благодарная. Она будет смотреть с большой высоты, как учил Фелон. Высокая худая женщина бродит по холмам. Почти уверена в своей крепости.
* * *
Когда он придет, он будет как англичанин, написала она. Но пришла за Роуз молодая женщина, наследница чья-то. То есть так я рассказываю себе о произошедшем. Мать никогда не заходила в деревню, но местные знали, где живет Роуз Уильямс, и женщина побежала прямо к Уайт-Пейнту, в тренировочном костюме, никакого камуфляжа, никакого маскарада. Даже это не обмануло бы мою мать, но был темный октябрьский вечер, и когда она увидела бледный овал лица за запотевшим стеклом оранжереи, было уже поздно. Женщина стояла там неподвижно. Потом разбила стекло правым локтем. Левша, наверное, подумала мать.
— Ты Виола?
— Меня зовут Роуз, дорогая.
— Виола? Ты Виола?
— Да.
Этот, наверное, оказался не худшим из вариантов смерти, которые мать представляла себе или видела в снах. Быстрый конец. Как если бы это было завершением усобиц, завершением войны. Возможно, актом искупления. Так я думаю теперь. В оранжерее было влажно, и в разбитое окно подул ветерок. Молодая женщина выстрелила еще раз для верности. А потом бежала, как гончая, по полям или как если бы она была душой матери, покинувшей тело, — так же, как сама мать бежала из дома, чтобы поступить в университет и изучать языки, а на второй год познакомилась с моим отцом и отказалась от мысли о юридическом, родила двоих детей и от нас сбежала тоже.
Сад, обнесенный стеной
Год назад в местном магазине мне попалась книга Оливии Лоуренс, и днем, натягивая гудящий шнур для отпугивания надоедливых птиц в саду, я ждал вечера, чтобы почитать без помех. По-видимому, эта книга легла в основу обещанного документального телефильма, так что на следующий день я пошел и купил телевизор. Такого предмета в моей жизни не было, и, когда его привезли, он показался мне фантасмагорическим гостем в маленькой гостиной Малакайтов. Словно я ни с того ни с сего решил купить лодку или льняной костюм в полоску.
Я смотрел передачу и поначалу не мог сопоставить Оливию Лоуренс на экране с той, кого знал в ранней юности. По правде говоря, я уже не помнил, как она выглядела. Она присутствовала в моей памяти абстрактно. Я помнил, как она двигалась, помнил, что одевалась без выкрутасов, даже отправляясь вечером в город со Стрелком. Что до лица, говорившего сейчас со мной, я узнал прежний энтузиазм, и оно быстро стало тем лицом, которое совместилось с давними воспоминаниями о ней. Вот она карабкается по скале в Иордании, вот спускается по веревке, не переставая говорить в камеру. И вновь делится со мной конкретными знаниями о горизонтах грунтовых вод, о разновидностях града на Европейском континенте, о том, как муравьи-листорезы уничтожают целые леса, — все эти сведения легко и понятно подносились нам на маленькой женской ладони. Я был прав. Она могла бы разумно связать мою жизнь, не избегая сложных далеких соперничеств или утрат, мне неизвестных, — примерно так же, как могла распознать назревающую бурю или как угадала эпилепсию Рэчел по какому-то жесту или тихой ее отстраненности. Притом что близости между нами не было, ее ясный женский взгляд на вещи открыл мне многое. Мы недолго были знакомы, но я верил, что Оливия Лоуренс на моей стороне. Я стоял, и меня понимали.
Я прочел ее книгу и смотрел документальный фильм, где она шла по разоренным оливковым рощам Палестины, садилась в монгольские поезда и выходила из них, наклонялась на пыльной улице и демонстрировала петли орбит в лунном небе при помощи апельсина и грецких орехов. Она не изменилась — по-прежнему все время новая. Через много лет после того, как мать рассказала мне о работе Оливии во время войны, я прочел сжатые официальные рапорты о том, как ученые регистрировали скорость ветра в преддверии высадки в Нормандии, как она и другие поднимались в темное небо, оккупированное другими планерами, сотрясавшимися и хрупкими, как стекло, чтобы определить воздушные потоки, вероятность бездождевого рассвета и, в зависимости от этого, подтвердить или отложить день высадки. Метеорологические журналы, которые она показывала нам с Рэчел, со средневековыми гравюрами разного вида градов, рисунки соссюровского цианометра, определяющего оттенки голубого в небе, для нее не были только теорией. Она и ее сотрудники, должно быть, чувствовали себя в то время волшебниками, вызывавшими к жизни то, чему научили их поколения ученых.
* * *
Оливия первой возникла из полупогребенных времен, когда все мы собирались на Рувини-Гарденс. Где сейчас Стрелок, я по-прежнему не имел понятия. С тех пор, когда я видел его в последний раз, прошли годы, и я не помнил даже его настоящего имени. Он, Мотылек и другие существовали только в ущелье детства. А взрослая моя жизнь прошла большей частью в правительственном здании, с попытками проследить жизненный путь, избранный матерью.
Бывали дни в архивах, когда мне попадалась информация о далеких событиях, совпадавших по времени с определенными делами матери. Таким образом я мог получить представление о какой-то другой операции в другом месте. И однажды, отслеживая операцию, косвенно ее касавшуюся, я наткнулся на сообщения о транспортировке нитроглицерина во время войны. Его везли по Лондону, и, поскольку груз был опасный, делалось это ночью, втайне от жителей. Это продолжалось даже во время блица, при затемнении; над черной рекой — лишь тусклый оранжевый огонек, показывающий высоту мостового пролета, скрытный сигнал под бомбежкой, горящие баржи, осколки шлепаются в воду, а на темных дорогах по три-четыре раза за ночь тайно ползут грузовики. Тридцать миль пути от Уолтам-Эбби, где Большой нитратор производил нитроглицерин для безымянного подземного хранилища в центре города — как выяснилось, под Лоуэр-Темз-стрит.
Иногда почва проваливается, и туннель приводит к старому месту назначения. Я тут же перешел в большую комнату, увешанную картами. Я разворачивал одну за другой, отыскивая возможные маршруты грузовиков с нитроглицерином. Еще до того, как мой палец доходил до них, я знал засевшие в памяти имена: Сьюардстоун-стрит, Коббинс-Брук, к западу от кладбища, затем на юг и, наконец, Лоуэр-Темз-стрит. Этим ночным маршрутом я ездил со Стрелком после войны, когда был подростком.
Мой давно забытый Стрелок, контрабандист, мелкий преступник, возможно, был героем в своем роде, потому что работа его была опасной. То, чем он занялся после войны, было следствием мира. Обычная ложная скромность англичан, с ее нелепой скрытностью или маской наивного ученого, чем-то напоминала тщательно написанные диорамы, маскирующие правду, прячущие за собой ход к подлинной личности. В каком-то смысле это — самое замечательное театральное представление среди европейских народов. Наряду с тайными агентами под личиной двоюродных бабушек, малоспособных романистов, светского кутюрье, шпионившего в Европе, были проектировщики и строители ложных мостов через Темзу, чтобы вводить в заблуждение немецкие бомбардировщики, прорвавшиеся в Лондон; химики, ставшие специалистами по ядам, фермеры на восточном побережье, которым были выданы списки сочувствующих немцам, — их надлежало убить в случае вторжения; орнитологи и пасечники из Кью, вечные холостяки — знатоки Леванта и полиглоты; одним из них был Артур Маккэш, проработавший в секретной службе бóльшую часть жизни. Все они соблюдали секретность своих ролей даже после войны и только спустя годы удостаивались тихой фразы в некрологе о своей «достойной службе в Министерстве иностранных дел».
Мир почти всегда был мокрым, черным, как сажа, когда Стрелок гнал свои громоздкие грузовики с нитроглицерином мимо садиков с андерсоновскими бомбоубежищами, — левая рука на рычаге скоростей, переключает их во тьме, правая нацеливает автомобиль-снаряд на склад в Лондоне. Два часа ночи, в голове у него карта, и он может ехать сквозь тьму с противоестественной быстротой.
Я провел за обнаруженными досье вторую половину дня. Выяснил марки грузовиков, вес перевозимой за один рейс взрывчатки, узнал о тусклых синих фонарях, освещавших неожиданные повороты. Бóльшую часть жизни деятельность Стрелка была замаскированной, скрытой. Подпольные боксерские ринги в Пимлико, собачьи бега, контрабанда. Но во время войны его деятельность отслеживалась и была полностью известна. Он должен был отметиться при выезде и отметиться по прибытии на Лоуэр-Темз-стрит. Каждый его рейс регистрировался. Первый и единственный раз в жизни Стрелок был «в списках». Он, так гордившийся тем, что его нет в энциклопедическом справочнике преступников, связанных с собачьими бегами. Три ездки за ночь от Порохового завода туда и обратно, когда почти весь Ист-Энд спал, не ведая о том страшном, что творилось на ночных улицах. Но всегда регистрировалось. Так что теперь, спустя годы, в комнате висящих карт я смог найти отмеченные маршруты и увидеть, насколько схожи эти его рейсы с теми, что мы совершали от Ист-Энда, от окрестностей Лаймхаус-Бейсина до Сити.
Я стоял в комнате с картами один, и полотнища чуть колыхались, словно от внезапного сквозняка. Я знал, что где-то будет досье на шоферов. Я помнил его только как Стрелка из Пимлико, но знал, что при фотокарточке паспортного размера должно быть его настоящее имя. В соседней комнате я выдвигал ящики картотечных шкафов и перебирал черно-белые фотографии худых мужчин в молодости. И, наконец — имя, которого я не помнил, и фото знакомого лица. Норман Маршалл. Мой Стрелок. «Норман!» — вспомнился выкрик Мотылька в нашей заполненной людьми гостиной на Рувини-Гарденс. Это была фотокарточка Стрелка пятнадцатилетней давности и как-то навязчиво рядом с ней — его нынешний адрес.
Вот и Стрелок.
Левая рука с зажженной сигаретой на руле перед крутым поворотом, правый локоть в окне под хлещущим дождем, чтобы не заснуть. Поговорить было не с кем в те ночи, и он, наверное, взбадривал себя старой песенкой про даму, имя которой пламя.
* * *
После определенного возраста наши герои обычно перестают быть для нас учителями и вожатыми. Теперь они предпочитают охранять территорию, где очутились в итоге. Тягу к приключениям сменили почти невидимые нужды. Тот, кто прежде насмехался над традициями, боролся с ними смехом, теперь только смеется, без насмешки. Так я воспринял Стрелка, когда последний раз с ним увиделся. Когда сам был уже взрослым. Не знаю. Сейчас у меня был его адрес, и я отправился к нему.
Но в эту последнюю нашу встречу я так и не понял: я ему просто не интересен или там есть обида на меня и злость. Тогда, в прошлом, я вдруг взял и ушел из его мира. А тут опять возник, уже не мальчик. И когда я вспоминал наши с ним приключения в путаном и ярком сне моей юности, Стрелок не желал говорить о прошлом. Я хотел узнать обо всех остальных, но он сворачивал разговор на настоящее. Чем я теперь занимаюсь? Где живу? Есть ли у меня?.. Единственное, что мне оставалось, — истолковывать нашу встречу с учетом барьеров, которые он поставил в беседе. Также я заметил его одержимость порядком: где находится и должна оставаться каждая вещь на кухне — если я что-то брал, например, стакан или блюдце, он помнил, куда их надо вернуть.
Он не ожидал увидеть меня на пороге в тот день, в тот час — да вообще не ожидал меня увидеть. Так что порядок в квартире явно был привычный и повседневный, тогда как в моих воспоминаниях, возможно, разросшихся с годами, вещи у этого человека терялись или распадались на части. Но здесь был коврик для вытирания ног перед входом, аккуратно сложенное чайное полотенце и в коридоре две двери, которые он аккуратно закрыл, когда мы шли на кухню, чтобы поставить чайник.
Я жил один, так что мог опознать жилье одиночки и мелкие признаки порядка, характерные для его жилья. Стрелок жил не один. Теперь у него была семья, жена Софи, он сказал, и дочь. Это меня удивило. Я попытался угадать, какая из былых подруг сумела зацепить его, или какую из них он сам зацепил. Точно — не бурную спорщицу русскую. Так или иначе, он был в квартире один, и с Софи я не познакомился.
Дальше того, что он женат и у них есть ребенок, Стрелок в разговоре о прошлом идти не желал. О войне говорить отказывался, мои веселые вопросы о торговле собаками отметал. Сказал, что мало помнит о том времени. Я спросил, видел ли он программу Оливии Лоуренс на Би-би-си. «Нет, — спокойно сказал он, — пропустил».
Я не хотел ему верить. Надеялся, что это обычная его уклончивость. Это я мог простить — что он не забыл, а вырезал ее из своей жизни; труднее было поверить, что он не потрудился включить телевизор. А может, я остался единственным, кто помнил то время, те жизни. И так он ставил рогатки на пути к нашему прошлому, не пускал меня туда, хотя понимал, что я за этим пришел. А еще он как будто нервничал; я даже подумал, что ему кажется, будто я оцениваю, преуспел ли он в жизни или сделал неудачный выбор.
Я смотрел, как он наливает чай нам в чашки.
— Я слышал от кого-то, что Агнес туго пришлось. Пытался ее отыскать, но не смог.
— Думаю, каждый из нас пошел своим путем, — сказал он. — Я на время перебрался в Центральные графства. Новое лицо — если понимаете, о чем я. Человек без прошлого.
— Я вспоминаю наши с вами ночи на баржах; с собаками. Больше всего.
— В самом деле? Это больше всего вспоминаете?
Он молча поднял чашку — иронический тост. Он не желал возвращаться к тем годам.
— И что, давно вы здесь? Что поделываете?
Я почувствовал, что оба вопроса, один за другим, говорят об отсутствии интереса. Поэтому, не вдаваясь в подробности, сказал, где живу и что делаю. Придумал что-то о Рэчел. Почему я лгал? Может быть, из-за того, как он меня спросил. Как будто все вопросы не имели значения. Он вел себя так, как будто я ему ни с какого боку не нужен.
— По-прежнему занимаетесь импортом? — спросил я.
Он отмахнулся от вопроса:
— Да так… раз в неделю езжу в Бирмингем. Постарел, мало разъезжаю. А Софи работает в Лондоне. — На этом он остановился.
Он разглаживал ладонью скатерть, и, когда его молчание слишком затянулось, я встал. Раньше я обожал общество этого человека, хотя поначалу он мне не нравился, а потом стал пугать. Я подумал, что узнал его со всех сторон — его грубость, а позже его щедрость. Поэтому трудно было сейчас видеть его таким инертным, когда каждую мою фразу он ловко сметает в тупик.
— Мне пора.
— Хорошо, Натаниел.
Я спросил разрешения воспользоваться его туалетом и прошел туда по узкому коридору. Посмотрел в зеркало на свое лицо — уже не того мальчика, который ездил с ним по ночным дорогам и сестру которого он однажды спас от убийц. Я повернулся кругом в тесном пространстве, как будто опечатанном и потому могущем что-то еще сообщить мне о моем непостоянном, сумасбродном герое из прошлого, моем учителе. Попробовал представить себе, на какой женщине он мог жениться. Я взял три зубные щетки, лежавшие на краю раковины, и взвесил на ладони. Потрогал и понюхал его мыло для бритья на полке. Посмотрел на три сложенных полотенца. Софи, не знаю, кто она, внесла в его жизнь порядок.
Все это было для меня неожиданно. И грустно. Он был авантюристом, а сейчас я стоял, испытывая клаустрофобию, внутри его жизни. Каким же спокойным и удовлетворенным выглядел он, когда разливал чай и гладил ладонью скатерть. И это — человек, который откусывал от чужих сэндвичей, мчась на какую-то сомнительную встречу, возбужденно хватал с земли оброненную кем-то на улице или на набережной игральную карту, бросал через плечо банановую кожуру на заднее сиденье «Морриса», где ехали Рэчел и я с собаками.
Я вышел в узкий коридор и постоял перед рамкой с куском ткани и вышитыми на ней словами. Не знаю, сколько времени я стоял там, глядя на нее, читая и перечитывая слова. Я тронул ткань пальцами, заставил себя оторваться и очень медленно пошел на кухню. Как бы в твердой уверенности, что я здесь в последний раз.
В дверях, уже уходя, я обернулся и сказал:
— Спасибо за чай…
Я так и не решил, как к нему обращаться. Я никогда не называл его настоящим именем. Стрелок кивнул с экономной улыбкой — достаточной для того, чтобы не казаться невежливым или рассерженным из-за моего вторжения в его частную жизнь, — и закрыл за мной дверь.
Только за много миль от Лондона в шуме поезда, везшего меня в Суффолк, я позволил себе посмотреть на наши жизни через призму сегодняшнего визита. Там не было желания простить меня или наказать. Хуже. Он вообще не желал объяснять мне, что я наделал, исчезнув когда-то внезапно и без предупреждения.
Понял я происходившее в его квартире, когда вспомнил, каким вруном был Стрелок. Будучи остановлен полицейским или охранником на складе или в музее, он запускал такую импровизацию, такую мудреную и даже нелепую, что сам над ней смеялся. Обычно люди не смеются над своими выдумками, когда лгут, — и это было его маскировкой. «Никогда не планируй свое вранье, — сказал он как-то во время нашей ночной поездки. — Придумывай на ходу. Так легче поверят». Отработанный встречный удар — кросс. И карты всегда держал близко к груди. Стрелок наливал чай так спокойно, а ум его и сердце, наверное, были в огне. Он почти не смотрел на меня, когда говорил. Следил только за охряной струйкой чая.
Агнес всегда заботилась о тех, кто рядом. Это мне запомнилось в ней ярче всего. Она бывала резкой, спорщицей. Нежной с родителями. Она за все хваталась в жизни, но была в ней и щепетильность. Она нарисовала наш портрет за едой, потом сложила пергамент, так что получилось как бы в рамке, и положила мне в карман. Так она вручала подарок, даже такой пустячный, такой забавный, и говорила: «На, это тебе, Натаниел». И я, еще наивный, неотесанный, пятнадцатилетний, принял его молча и сохранил.
В этом возрасте мы глуповаты. Мы говорим не то, мы не умеем быть скромными или менее застенчивыми. Мы легко судим. Но единственная наша надежда — и понимаем это только задним числом — в том, что мы меняемся. Мы учимся, развиваемся. Тот, кто я теперь, сформирован всем, что со мной происходило, не тем, чего я достиг, но тем, как я шел к себе нынешнему. Но кому я причинил боль, чтобы к этому прийти? Кто направлял меня к чему-то лучшему? Или отнесся благосклонно к тем небольшим умениям, которыми я обладал? Кто научил меня смеяться, когда я лгу? И кто научил сомневаться в том, что я думал о Мотыльке? Кто заставил меня перенести интерес с «персонажей» на то, как они поступают с другими? И прежде всего, самое главное, — сколько я причинил вреда?
Когда я вышел из туалета в квартире Стрелка, передо мной была закрытая дверь. Рядом с ней на стене, в рамке, — квадратик ткани с вышитой синими нитками фразой:
Часто я лежала без сна всю ночь и мечтала о большой жемчужине.Под этим, ниткой другого цвета — дата рождения: число, месяц, год. Тринадцать лет назад. Откуда было знать Стрелку, что кусочек ткани с вышивкой все мне скажет. «Софи», его жена, вышила это для себя и для ребенка. Эти слова она бормотала перед тем, как уснуть. Я помню. А она, наверное, даже не помнит, как однажды сказала их мне, да и помнит ли до сих пор ту ночь, когда мы разговаривали в темноте необитаемого дома. Я и сам забыл — до этой минуты. Кроме того, ей в голову не могло прийти, что я вдруг возникну снова, да в ее доме, и на стене прочту о ее мечте.
А теперь — лавина, от одной вышитой фразы. Я не знал, что делать. За ее биографией я и не думал следить. Как мне вернуться сквозь время к Агнес из Баттерси, к Агнес из Лаймбернерс-Ярда, где она потеряла коктейльное платье? К Агнес и Жемчужине Милл-Хилла.
Если рана глубока, ее нельзя превратить в предмет разговора, да и писать о ней едва ли можно. Теперь я знаю, где они живут, — на улице без деревьев. Мне нужно быть там ночью и кричать ее имя, чтобы она услышала, чтобы молча открыла глаза со сна и села в темноте.
Что такое? — скажет он ей.
Мне послышалось…
Что?
Не знаю.
Ложись, спи.
Хорошо. Нет. Вот опять.
Я зову и жду отклика.
Мне ничего не было сказано, но, подобно сестре с ее театральными выдумками или Оливии Лоуренс, я знаю, как достроить историю из одной песчинки или осколка обнаруженной истины. Задним числом понимаешь, что песчинки всегда были: то, что никто не заговаривал со мной об Агнес, хотя, я полагал, могли бы, и теперешнее холодное молчание Стрелка у него в квартире. И сложенные полотенца — она как-никак была официанткой, судомойкой, уборщицей на разных кухнях, как и я, и жила в маленькой муниципальной квартире, где без опрятности — никак. Стрелка, наверное, удивляли такие правила и убеждения беременной семнадцатилетней девочки, умело поставившей заслон дурным привычкам его жизни.
Я представляю себе их двоих… с чем? С завистью? Облегчением? Чувством вины оттого, что не знал до сих пор о своей ответственности? Я думал о том, как они, наверное, осуждали меня. Или я вообще был необсуждаемой темой наподобие того, как Стрелок отреагировал на телепрограмму Оливии Лоуренс и не пожелал читать ее книгу. Отрезал нас всех… не до того ему было: раз в неделю ехать в Центральные графства, растить ребенка, времена были скудные, трудные.
Через несколько недель после того, как Агнес обнаружила, что беременна, а поговорить об этом было не с кем, она села в один автобус, потом пересела в другой и вышла около Пеликан-Стэйрз, где жил Стрелок. Она не виделась со мной больше месяца и подумала, что я там. Время было обеденное. На дверной звонок никто не отозвался, и она села на ступеньках. На улице темнело. Когда он вернулся домой, она спала. Он тронул ее, разбудил, она не понимала, где находится, потом узнала моего отца. Так что наверху, когда сказала ему, что она в положении и не знает, где я или куда уехал, Стрелку пришлось открыть ей правду о том, кто он на самом деле, и какая между нами связь, и куда я мог деться или меня дели.
Они просидели всю ночь в тесной квартирке перед газовым камином — как в исповедальне. И во время или после вращавшихся по кругу разговоров рассказал ли он ей, чтобы рассеять ее сомнения, чем занимается, какова его профессия?
Недавно я посмотрел вернувшийся на экраны старый фильм, где герой, ни в чем не повинный человек, осужден по ошибке и его жизнь погублена. Он бежит с каторги, но обречен всю жизнь скрываться. В последней сцене он встречается с любимой женщиной из прошлой жизни, но пробыть с ней может совсем недолго — того и гляди его схватят. Он отступает от нее назад, в темноту, и она кричит ему: «Как ты живешь?» А наш герой, которого играет Пол Муни, отвечает: «Я ворую». И на этих словах фильм кончается, затемнением на его лице. Я смотрел фильм и думал об Агнес и о Стрелке, думал, когда и как признался он ей в незаконности своих занятий. Как она обошлась с этим знанием о шатких его отношениях с законом, обеспечивавших им жизнь. Я до сих пор любил все, что помнил об Агнес. Она вытащила меня из моего юношеского одиночества, полностью открыв мне себя. И я не знал более правдивого человека. Мы с ней забирались в чужие дома, крали еду в ресторанах, где работали, но мы были безвредными. Она не терпела нечестности и несправедливости. Она была правдивой. Ты не вредишь другим. Какой изумительный принцип для человека в таком возрасте.
Так я думал об Агнес и об этом мужчине, который ей всегда нравился, которого она считала моим отцом. Когда и как объяснил он ей, чем занимается? На столько вопросов хотелось бы получить правдоподобную версию ответа.
Как ты живешь?
Я ворую.
Или он скрывал это от нее до следующей встречи, до следующей ночи в тесной квартире около Пеликан-Стэйрз? По одному решению, одному разъяснению за раз. Сначала это. Потом то. И только потом он скажет ей, что хочет сделать, и это уже не будет как в той любовной песне, которую он напевал про себя, где все происходит вдруг, по быстро возникшей причине со следствием — влюбился, и у берега играет оркестр. Уже не простое совпадение, стечение обстоятельств. Я знал, что между ними была сильная взаимная симпатия. С этого им пришлось двигаться дальше, при всей разнице в возрасте и неожиданно изменившихся ролях. Во всяком случае, больше никого там не было.
Он полагал, что всегда будет независимым, неприступным. Считал, что разбирается в тонкостях женской души. Может быть, даже сказал мне когда-то, что его многочисленные подозрительные профессии нужны для того, чтобы утвердить свою независимость и отсутствие наивности. Так что теперь, когда он пытался успокоить ее и в то же время открыть ей глаза на менее невинный, менее правдивый способ жизни, ему нужно было как-то ее извлечь из саморазрушительного внутреннего мирка. Много ли было у них разговоров, прежде чем он предложил ей пожениться? Он понимал, что она должна узнать о его делах до того, как примет решение. Наверное, это было для нее потрясением — не из-за того, что он, возможно, пользуется ее безвыходностью, а из-за чего-то более неожиданного. Он предлагал ей надежный выход из ее смыкающегося мира.
Она перебралась в его маленькую квартиру. На что-то большее не было денег. Нет, подозреваю, что обо мне они не думали. Не судили меня и не сбрасывали со счетов. Это мои переживания издалека. Не до того им было. Каждый фартинг на счету, каждый тюбик зубной пасты покупался со скидкой. То, что с ними происходило, было реальной историей, тогда как я бродил в лабиринте материной жизни.
Они поженились в церкви. Агнес-София захотела в церкви. В свидетелях — кучка людей: ее родители, ее брат — агент по продаже недвижимости, одна девушка с работы, пара «летунов» — пособников Стрелка. Подделыватель документов из Летчуорта, он был шафером, и еще торговец, владелец баржи. Его потребовала Агнес. Словом, родители и еще шестеро или семеро.
Ей надо было найти другую работу. Девушки из ресторана не знали, что она ждет ребенка. Она покупала газеты и просматривала объявления. Через старого знакомого Стрелка нашла работу в Уолтам-Эбби, теперь, в послевоенные годы, снова превращавшемся в исследовательский центр. Здесь она когда-то была счастлива. Она знала его историю, читала разные брошюры на нашей одолженной барже, пока мы бесшумно спускались под громкие крики птиц или медленно поднимались по шлюзам каналов, вырытых в прошлом веке, чтобы соединить оружейные мастерские аббатства с арсеналами в Вулидже и Перфлите на Темзе. Автобус вез ее мимо Холлоуэйской тюрьмы по Сэвен-Систерс-Роуд и выпускал на территории аббатства. Снова обступал ее сельский пейзаж, где она бывала когда-то со Стрелком и со мной. Жизнь описала круг.
Она работала за одним из длинных столов в душном, похожем на пещеру зале в Восточном крыле А: двести женщин сосредоточены на том, что лежит перед ними, ни на минуту не останавливаются. Никто не разговаривал; они сидели на табуретах далеко друг от дружки — словом не перекинуться. Тишина, только звуки их ручного труда. Каково это было ей, прежде смеявшейся и спорившей за работой? Она скучала по кухонному хаосу — ни поговорить, ни встать, ни в окно заглянуть, привязана к ритму конвейерной ленты, не знающей сбоев. Через день меняли рабочее место. Сегодня в Восточном крыле, завтра в Западном, и все время в защитных очках, отмеряют унции взрывчатки на весах, высыпают ее в проезжающие контейнеры. Зернышки взрывчатки застревали под ногтями, пропадали в карманах, в волосах. В Западном крыле было хуже — там работали с желтым кристаллическим тетрилом, упаковывали его в таблетки. Липкая взрывчатка приставала к рукам, руки желтели. Тех, кто работал с тетрилом, называли «канарейками».
В обед можно было поговорить в столовой, но столовая тоже была закрытым помещением. Агнес приносила еду из дома и уходила на юг, в знакомый лес, съедала свой сэндвич на берегу реки. Ложилась на спину, подставив солнцу живот — она и ребенок одни во Вселенной. Слушала, не запоет ли птица, не зашуршит ли ветер в кустах — какой еще сигнал подаст жизнь. Возвращалась в Западное крыло, желтые руки в карманах.
Она не знала толком, что делается в странных строениях, мимо которых шла: лестницы вели под землю к климатическим камерам, где испытывали новое оружие в условиях пустынной жары и арктического мороза. Наверху почти не было признаков человеческой деятельности. Вдалеке на холме был Большой нитратор, где уже два века производили нитроглицерин. Рядом с ним под землей громадные промывочные бассейны. Из старых досье в Архивах я узнал о полуподземных сооружениях, мимо которых шла беременная дочерью Агнес. Узнал, для чего служили эти объекты в Уолтамском аббатстве. Узнал, что мирное водохранилище в лесу, куда нырнула семнадцатилетняя Агнес, было оборудовано подводными камерами и там проверяли силу и эффективность взрывчатых веществ, которые обрушатся потом бомбами на плотины в долине Рура. Из этого сорокафутовой глубины водохранилища, где Барнс Уоллис и Э.Р. Коллинз испытывали свою прыгающую бомбу, она, дрожа и задыхаясь, выскочила на поверхность, взобралась на палубу катера и курила самокрутку в очередь со Стрелком.
В шесть часов вечера она выходит из ворот Уолтамского аббатства и садится в автобус до города. Она прислоняется головой к окну, глядит на Тоттенхемские марши, на лицо ее ложится тень, когда автобус проезжает под мостом на Сент-Эннс-Роуд.
Норман Маршалл дома; ее тяжелое тело налилось усталостью, и она проходит мимо него, не позволяя к себе прикоснуться.
— Я грязная. Дай сначала помоюсь.
Она наклоняется над раковиной и льет себе на голову воду из лоханки, смывает зерна пороха; потом яростно оттирает руки до локтей. Тетрил и резинистая масса, которой перекладывают патроны в ящике, пристали к рукам, как смола. Снова и снова Агнес трет руки и все места тела, до каких может достать.
Нынче я ем в одно время с грейхаундом.
А вечером, когда ему хочется спать, он тихо подходит к столу, за которым я работаю, и кладет усталую голову мне на ладонь, чтобы я перестал. Я знаю, это — для успокоения, ему нужно что-то теплое, человеческое, надежное, вера в другого. Он тянется ко мне, несмотря на мою замкнутость и переменчивость. Но я и сам жду этого. Будто ему хочется рассказать о случайностях своей жизни, о прошлом, которого я не знаю. Обо всех своих нуждах, не находящих выражения.
Итак, рядом со мной собака, которой нужна моя ладонь. Я сижу в своем саду, обнесенном стеной, во всех отношениях это до сих пор сад Малакайтов с неожиданными цветами, о которых мне не говорили. Затянулась их жизнь. Когда у Генделя случился удар, он, по словам моей матери, любительницы оперы, был в этом состоянии «идеалом человека», почитаемым, любящим мир, в котором не мог быть деятельным участником, пусть даже этот мир был местом беспрерывных войн.
Недавно я читал статью одного из моих суффолкских соседей о Lathyrus maritimus, чине приморской — о том, как ей помогла выжить война. Наши берега были заминированы, чтобы защитить страну от вторжения, и в отсутствие людской деятельности образовался плотный зеленый ковер из мясистых крепких листьев чины. Новая жизнь почти вымершего растения — «счастливый овощ мира». Меня занимают такие неожиданные сцепления, сутры причин и следствий. Так когда-то связалась у меня комедия «Неприятности в раю» с секретными перевозками нитроглицерина в Лондон во время войны или девушка, моя хорошая знакомая, снимавшая ленту с волос, чтобы нырнуть в лесное водохранилище, где испытывали прыгающую бомбу. Мы жили во времена, когда события, как будто далеко разнесенные, оказывались соседними. Так, я до сих пор не знаю, чувствовала ли Оливия Лоуренс, впоследствии научившая меня и мою сестру входить без страха в ночной лес, ощущала ли она, что те военные дни и ночи в небе над Ла-Маншем были ярчайшими в ее жизни. О том периоде ее работы знали немногие; она не упоминала о нем ни в книге, ни в телефильме, который я посмотрел взрослым. Много было таких, как она, скромно молчавших о своих военных трудах. Она была не просто этнографом… Стежок! — с насмешкой оборвала меня мать: она предпочитала говорить о делах Оливии, а не о своих.
Виола? Ты Виола? Я шепотом повторял эти слова на втором этаже здания, где работал, постепенно открывая для себя, кем была моя мать.
Мы упорядочиваем нашу жизнь с помощью сшитых на живую нитку историй. Словно заблудились в непонятной местности и пытаемся ухватить то, что было невидимым и невысказанным, — Рэчел, Зяблик, и я, Стежок, — сметываем все это кое-как, чтобы жить дальше, незавершенное, нехоженое, как чина на военном заминированном берегу.
Грейхаунд — со мной рядом. Он кладет тяжелую костяную голову мне на ладонь. Как будто я все еще тот, пятнадцатилетний. Но где сестра, не пожелавшая попрощаться со мной прямо, а помахавшая напоследок кукольной ручкой ребенка? Или однажды увижу девочку, подбирающую на улице игральную карту, и побегу к ней: «Перл? Ты Перл? Это папа с мамой тебя научили так делать? Для удачи?»
Перед тем как Сэм Малакайт забрал меня из Уайт-Пейнта в последний мой день там, я постирал кое-что из вещей матери и разложил сушиться на траве; некоторые развесил на кустах. То, в чем ее убили, было увезено. Я вынес гладильную доску и отутюжил ее любимую клетчатую рубашку, воротник и манжеты, которые она всегда подворачивала. Эта рубашка никогда не подвергалась такому давлению и жару. Потом остальные рубашки. Синюю шерстяную кофту, скрывавшую ее худобу, я прогладил через тряпку негорячим утюгом. Я отнес рубашки и кофту в ее комнату, повесил в шкаф и спустился. Шумно прошел по соловьиному полу, закрыл за собой дверь и уехал.
Примечания
1
Порок англичан (фр.).
(обратно)2
Олбани — престижный жилой дом на улице Пикадилли (построен в 1770-х годах).
(обратно)3
Уормвуд-Скрабс — мужская тюрьма в Лондоне.
(обратно)4
Любовная записка (фр.).
(обратно)5
Тендер — тип одномачтового парусного судна.
(обратно)6
«Неприятности в раю» (1932) — фильм режиссера Эрнста Любича.
(обратно)7
УСО — Управление специальных операций, британская разведывательная служба времен Второй мировой войны (1940–1946).
(обратно)8
«У меня на сердце тяжесть» (нем.). Романс Роберта Шумана на стихи Байрона, в русской традиции — «Болит душа».
(обратно)9
Фрэнсис Килверт (1840–1879) — английский священник, автор дневников, описывавших провинциальную жизнь.
(обратно)10
«Лили Уиллоуз» (1926) — роман английской писательницы Сильвии Таунсенд Уорнер.
(обратно)11
«Драгоценная отрава» (1924) — роман английской писательницы Мэри Уэбб.
(обратно)12
Уильям Блейк (1757–1827), из письма Томасу Бату.
(обратно)13
«Увидеть мир в одной песчинке…» Уильям Блейк. Изречения невинности.
(обратно)14
Федерико Гарсиа Лорка. «Севилья».
(обратно)15
Блетчли-Парк — поместье в г. Милтон-Кинс, графство Бакингемшир. Во время войны там располагалась главная шифровальная служба Британии.
(обратно)16
Уормвуд-Скрабс — мужская тюрьма в Лондоне.
(обратно)17
«Уизден» — ежегодный справочник по крикету.
(обратно)







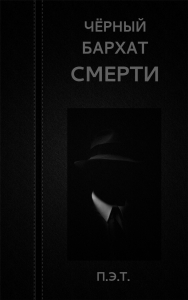
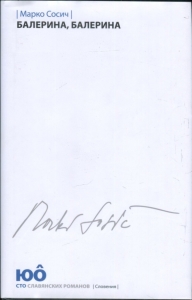
Комментарии к книге «Военный свет», Майкл Ондатже
Всего 0 комментариев