Борис Могильнер БЕРЕЗОНЬКА повести рассказы
ПОВЕСТИ
КАЗАНСКИЙ МАЙ
1
В путь Давид Исаевич отправился налегке, с одним полупорожним чемоданишком. Взял лишь пижаму, бритву да туалетную мелочь. Уже перед самим уходом из дому хватился, что впопыхах забыл поесть, и быстренько наскреб полный целлофановый кулек снеди из холодильника, казалось бы, дочиста опустошенного утром на проводах к морю жены и младшего сына. Лучше б, конечно, с таким грузом расправиться дома, но подгоняло время: до поезда оставалось минут сорок — как раз дойти до вокзала.
Давид Исаевич быстро шагал по тропе вдоль края выемки железной дороги. Внизу весело поблескивали рельсы, пригвожденные костылями к чернеющим шпалам на перине из щебня. Склоны рукотворного оврага щетинились нежной муравой.
Был канун Первомая. Приближение праздника ощущалось даже здесь, на задворках города. За высокими, глухими заборами, ограждавшими всевозможные склады, элеватор, хлебзавод с его дразнящим ситным духом, развевались флаги, привлекали внимание красочные полотнища плакатов.
Целый день сегодня у Давида Исаевича стойко держалось приподнятое настроение. Наверно, оттого, что заря начиналась изумительными, несказанными красками, или потому, что это великолепие в природе прежде всех заметил сын и, волнуясь, дрожащим голоском заставил старших обратить внимание на открытое им потрясающее диво, а возможно, тут сработала и другая причина: прощаясь с женой, Давид Исаевич снова, в который уже раз и опять словно впервые, увидел, как она мила, привлекательна, молодо выглядит, хотя позади у них серебряная свадьба.
Он с воодушевлением прочитал в институте лекцию, потом консультировал курсовые работы, вместе с редколлегией доделывал стенную газету индустриально-педагогического факультета, развернутую на четырех ватманских листах.
— Кажется, удалась, — тихо произнес он, обласкав ее напоследок взором и ставя свою подпись ответственного редактора в нижнем правом углу.
Радости, как и беды, редко приходят в одиночку. Высшая аттестационная комиссия утвердила жену доцентом. Старший сын поступил учиться, на сей раз, надо думать, основательно. У младшего вырезали миндалины, он перестал хворать и вот укатил на юг, закрепить здоровье. А недавно случилось то, чего Давид Исаевич ждал долго, почти безнадежно. Из Москвы пришла бумага о реабилитации, с уведомлением военкомата о восстановлении офицерского звания, и, наконец, самое знаменательное событие — прием в партию.
Всегда можно найти предлог для веселья, как и для уныния, впрочем, все зависит от настроя. Руки целы, ноги есть, чем не повод? И сердце имеется. Давид Исаевич точно знал, где оно у него находится: пошаливало изредка. Но все равно ему хотелось верить, что он еще крепок, силен, молод и многое впереди — промчалось ведь только сорок пять…
Он шел и, вытянув губы, насвистывал разные мелодии.
Вдали замаячили в солнечной позолоте крыши башен вокзала, походившего на древнюю крепость. Немного спустя обнажились зубцы стен с зияющими щелями бойниц. А когда Давид Исаевич достиг поворота дороги, меж двумя островерхими теремами вспыхнуло название станции — Мирославль, — выведенное крупной старославянской вязью.
Сюда чаще всего тащил его гулять сынишка. Поскребыш обожал встречать эшелоны, шумно вырывавшиеся из выемки, и провожать, прислушиваясь, как они с замирающим грохотом скрываются в глубине, точно в туннеле. Ему нравились прогулки и в метель, и в тихие морозы со скрипом снега под валенками, и в паутинную пору бабьего лета, и в зной. Он любил следить, как вешние воды, сперва лишь с колдовскими шорохами, потом с журчанием и пеной, буйно обрушиваются по скатам оврага вниз, грозя растерзать русло рельсов.
Вместе с малышом Давид Исаевич зяб и блаженствовал, мок под дождем и ликовал, заражаясь веселым вдохновением. Разное вспоминалось ему здесь в такие минуты: тут грустил и мечтал, оставлял следы подошв, отправляясь заочником — с грузом трех десятков лет за плечами — на сессии, сдавать зачеты и экзамены. Однажды бежал вот по этой дороге, встревоженный телеграммой мамы: «Немедленно приезжай — серьезно болен папа». После выяснилось, мать сознательно скрыла скорбную весть и телеграфировала, когда отец был уже мертв. «Как ты могла врать?» — произнес оглушенный горем Давид Исаевич. И в ответ услышал: «Боялась, что инфаркт и тебя сразит, если сразу — всю правду».
Милая мама… В такую минуту берегла, старалась заслонить собою.
Она всегда держалась молодцом. Даже в феврале, когда Давид Исаевич нежданно нагрянул к ней на день рождения, он не сразу приметил, что притаившийся застарелый недуг ее распоясался, что ей очень плохо. Она впустила его сама.
Давида Исаевича насторожило прерывистое, частое дыхание матери да еще то, что не удержала в руках длинный запорный крюк и тот загрохотал о дощатую перегородку сеней.
Вернувшись с занятий в техникуме, сын Леонтий все-таки разрешил себя поцеловать, хотя считал эту процедуру излишней. Что делать — традиция. Он очень удивился, что бабушка не в постели, а на стуле и командует приготовлением ужина.
— Ух, вкусно пахнет, — произнес он, с опаской косясь на нее и раздувая ноздри. — Тебе лучше?
— Замнем для ясности, — улыбаясь ответила она его же присловьем.
Леонтий свел брови.
— Папа ведь приехал, принц! — объяснила, точно оправдываясь, бабушка.
— Он всегда вовремя является, — сказал Леонтий с намеком, должно быть, понятным ей.
Она вспыхнула:
— Твоя работа? Ты вызвал?
— Нет. Я обещал тебе и молчал безобразно.
— Вот и ладно, принц. Готовься лакомиться. Под моим руководством папа приготовил ужин — пальчики оближешь.
К приходу сына Давид Исаевич уже понял, что у матери не случайное недомогание, а обострение болезни.
— Выкладывайте-ка, граждане, что тут происходит, — потребовал он.
— А ровным счетом ничего, — возразила мать.
— Хватит юлить, давай начистоту.
— Вот пристал, воспитала на свою голову. Ну, занемогла немножко, сил не хватает в один присест буханку съесть — горбушка от нее остается. Ну, воюю с койкой — стараюсь подниматься на ноги каждый день, а она не пускает.
— Шуткой прикрываешься.
Давид Исаевич настойчиво попросил ее лечь в кровать, и она, покорно опершись на ловко подставленную руку Леонтика, сдерживая дрожь в губах, побрела в спальню. Спустя несколько минут Леонтик, хмурый, вышел на кухню умываться, а Давид Исаевич присел на низенький табурет рядом с кроватью и озабоченно посмотрел на мать.
— Думаю, у меня осложнение от простуды, — сказала она как бы в ответ на этот взгляд своим певучим, ясным голосом. — Пошла за дровами в сарайчик и оступилась, черпнула полный ботик воды. Порожняком скорей наутек домой, согрела ноги в теплых валенках. Но что-то ломит сильнее, чем полагается при простуде.
Давид Исаевич погладил маленькую ладонь матери.
— А так у нас все в порядке, — тихонько вздохнула она, пошевелив пальцами. — Втянулись в хомуты: Леонтик в учебу, я — в безделье. Все кинофильмы смотрела, приемник преданно слушала, гуляла, читала. Что еще полагается старому пенсионеру? Тепло, покой, сытость. Питались мы неплохо, можно б, конечно, больше расходовать денег на еду, да полнеть начали, Леонтик запротестовал, и я рада — тяжело дышать толстухе.
Помолчала, прислушалась к чему-то в себе и добавила с грустью:
— Живу хорошо. Хотя радости мало, что доплелась до сего дня без папы. Вот если бы он был рядом…
В дверь постучали, и мама встрепенулась:
— Ведь это меня пришли поздравлять.
Открыв дверь, Давид Исаевич увидел маминых бывших сотрудников из поликлиники, где она работала фельдшером, и из школы. Они принесли именные торты, разукрашенные разноцветным кремом, бутылки шампанского, кагора, рислинга, коробки конфет.
Нарядилась мать в темное шелковое платье, надела туфельки, спрыснула духами седую, коротко остриженную голову и показалась товарищам подтянутая, бодрая. На щеках появился румянец, попрятались морщины. Такой Давид Исаевич давно ее не видал. Поздоровалась со всеми громко, выслушала добрые слова и пожелания. Улыбка озаряла ее лицо, а в глазах застыла боль.
Взглянув на разнокалиберное хмельное зелье, всплеснула руками:
— Справимся ли?
— Всенепременно! — дружно ответили гости.
— Верьте нашим талантам.
— Добавки попросим, Клара Борисовна.
Она мигнула Леонтику, подозвала его и что-то шепнула на ухо. Через минуту к батарее, выставленной гостями, пристроилась бутыль знаменитой настойки из чернослива, которую Давид Исаевич ценил превыше всех хваленых вин.
Хозяева принялись заставлять стол закусками.
Все одобряли холодную фаршированную рыбу и особенно кисло-сладкое: говядину в густом горячем, бордовом соусе. Наперебой превозносили уменье матери.
Она отбивалась:
— Жизнь всякое стряпала. И студено было, и кисло, и сладко. Вот и научила.
— Раскройте тайны мастерства.
— Секретов не держим, пожалуйста.
Мать молодцом была весь вечер, а ночь провели без сна. Пришлось вызвать «скорую помощь». У мамы резко подскочило давление, начал заплетаться язык, она теряла сознание, один раз — надолго.
Тревога продолжалась и утром. Участковый врач смущенно поднимал брови. Известный в городе терапевт, лечивший мать раньше, тоже воздерживался обещать что-либо отрадное.
Долго в спальне смотрел Давид Исаевич, как мама дремлет, как вздрагивают ее ресницы и шевелится чуть заметно одеяло на ее груди.
Вдруг она раскрыла глаза, глотнула воздух, приподнялась, насупленно сдвинула брови:
— Ну что встал, как поп на молебне?
Давид Исаевич повел плечами.
— Шум поднял на весь мир, — с укоризной сказала мать. — Всю медицину переполошил. Перестраховщик ты, оказывается. Подумаешь, вышла из колеи. Возьму да и войду в нее.
Но мать так и не оклемалась до сих пор, хотя с того дня минуло уже много дней.
Мысли Давида Исаевича обрели мрачноватый оттенок. Шагал он, как и прежде, быстро, но насвистывать перестал и размахивать чемоданчиком тоже — прижал его к бедру.
Чем ближе он подходил к станции, тем чаще встречались ему переводные стрелки, приземистые светофоры. Рельсы, словно поссорившись, то разбегались, то сходились.
В очереди у вокзальной кассы толстый Давид Исаевич вспотел, не столько от духоты, сколько оттого, что пришлось одернуть, осадить хама, который бессовестно, толкаясь локтями, рвался к окошку за билетом.
Тепловоз, сипло гудя, осторожно, ощупью, точно слепой, подбирался к перрону, таща за собой состав. Давид Исаевич хлопнул вокзальными дверями, выбежал на перрон, оглянулся и отыскал взглядом свой вагон. Тот, приблизившись, проплыл мимо. Давид Исаевич почему-то побежал за ним, догнал и на ходу неловко прыгнул.
Купе попалось плохое: крайнее, двухместное, узкое — шевельнись, наверняка за что-нибудь заденешь.
Нижняя полка была застелена, на ней, прильнув щекой к окну, сидела женщина.
Давид Исаевич попросил разрешения войти.
Незнакомка обернулась, и он увидел, что спутницей его в этой поездке будет старуха: тонкогубая, с черными усиками. «Соседей в поезде не выбирают. Кого бог пошлет», — подумал он, уткнувшись глазами в ее худое, смуглое лицо.
— Располагайтесь, — произнесла женщина суховато. — Далече собрались?
Давид Исаевич объяснил.
— Есть у вас там кто?
— Мать и сын.
Спутница тяжело вздохнула:
— У меня в Казани тоже сын. Хорошо, что не забываете родительницу.
Она кивнула в сторону перрона:
— Своеобразный здесь вокзал. Сказочный. Всегда поражает.
— Городу под стать, — согласился Давид Исаевич. — Былинный.
— Стариной пахнет, верно.
— Тысячу сто лет исполнилось Мирославлю.
— Вот как! Древней Москвы.
Любопытной оказалась спутница. Когда поезд тронулся, ей уже многое удалось узнать о Мирославле, но она с жадностью продолжала выспрашивать.
Вагон мерно качался на рессорах, радостно стучали колеса, за окном мелькали телеграфные столбы, а старуха продолжала свой пристрастный допрос, она должна знать все: есть ли в городе театр, почем мясо, зеленый ли Мирославль, чистый ли и сколько, к слову сказать, в нем живет евреев.
За окном раскинулась Ока, виднелись теплоходы, пришвартованные к двухпалубной пристани, рыбачьи лодки возле наплавного моста, открылся необыкновенный вид на город, живописно раскинувшийся на высоком берегу.
Давид Исаевич выскользнул переодеться. Вернулся в пижаме. Деловито шлепнул на столик целлофановый куль со снедью, достал складную лестничку и сел на нее. Ел охотно, с шумом утоляя голод. Скудость сервировки не смущала, не умаляла аппетита.
— Вредно всухомятку. Скоро понесут чай. Потерпели б, — легонечко попеняла соседка. — И как вас жена натощак отпустила?
— Да ведь и она сейчас в дороге.
— Что же вы, голубчик, вроде николаевских орлов на царском гербе, в разные стороны поворотились — она туда, вы сюда?
— Пришлось. Младшего парня на море повезли.
— О, да вы богачи: двух богатырей имеете! Берегите свое богатство, — с грустью произнесла спутница. — Не разлучайтесь без большой нужды.
— Обстоятельства иногда сильнее нас.
Встрепенувшись, старуха уцепилась за это признание Давида Исаевича, и опять посыпались вопросы.
— Сколько лет матушке вашей?
— Семьдесят.
— Да, солидный возраст.
— Такие вспышки болезни у нее и прежде бывали, — задумчиво сказал Давид Исаевич. — Печень увеличивалась чуть ли не вдвое. Но до сих пор мама с капризами этими справлялась успешно. Лимонами лечилась. Творогом. Сейчас что-то ничего не помогает. Боюсь омертвения ткани — цирроза. Тогда оперативное вмешательство почти невозможно.
— Да, тут шутки плохи, — проговорила старуха. — Крепитесь. В священном писании сказано: век человека — семьдесят лет, а если сила есть — восемьдесят. Тут, к сожалению, все точно, без вранья.
Слушая спутницу, Давид Исаевич вспомнил, как об этом такими же словами писал ему в Тагил ныне покойный отец Дуси, и почему-то подумал, что сам он в этом священном писании — ни в зуб ногой. Как же это могло случиться?
А спутница настойчиво продолжала:
— Цифры подтверждены статистикой. Маловато, черт возьми, неразбериха какая-то, дикая ошибка. После бурь, глупостей, суетни только и пожить. И жаловаться некому. Старикам умирать не страшно. Молодым-то каково?! — помолчав, сказала она, словно укоряя кого-то невидимого.
Волна удушья накатила на Давида Исаевича. Он встал, попытался приоткрыть окно.
А старуха продолжала, прикрыв глаза:
— Маме вашей посчастливилось — ее будут хоронить свои сыновья, свои внуки, не чужая родня. Хорошо, когда дети идут за гробом родителя. Хуже, если наоборот…
2
В Казань прибыли спозаранку. Давид Исаевич помог соседке донести баул и, прощаясь с ней у зала ожидания, почувствовал облегчение от того, что лишается ее общества, ее назойливой дотошности. Посеяла в нем смуту спутница, и теперь он словно бы сваливал камень с сердца. Но какая-то тяжесть все-таки осталась. Давид Исаевич понял это, очутившись на пустынной привокзальной площади с сырым, видимо от ночного дождя, асфальтом и одинокой витриной «Союзпечати». Томило ощущение, очень сходное с тем, какое он испытывал в такой же рассветный час двенадцать лет тому назад, примчавшись сюда на тревожный зов мамы: «Немедленно приезжай — серьезно болен папа». Тогда Давид Исаевич внезапно застыл здесь возле трамвайной остановки, у этой же витрины. Костеневшие губы многократно повторяли имя отца в черной рамке газеты. Рука сама по себе комкала мамину телеграмму.
Нынче не то, нет как будто безысходности, беда еще, возможно, повернет вспять, а в груди между тем ныло не меньше. Упорно старался Давид Исаевич взбодриться, но переспорить себя не так-то легко. До сих пор неосознанная прелесть каждого приезда сюда состояла в том, что всегда и неизменно в отчем доме на Привольном переулке Калугиной горы его ждала мама. Переступив порог, он тут же окунался в забытый мир детских ощущений. В этом доме можно расслабиться и позволить вести себя иногда по-детски. Теперь она в больнице. И что ее там ждет?
Из-за крутого поворота, предостерегающе звеня, стуча колесами, вырвался трамвай. Второй номер. Мамин. На нем она до пенсии ездила в свою поликлинику, на колхозный рынок. Ей нравился плавный, убаюкивающий ход двойки, привлекали обтянутые дерматином кресла с чуть откинутыми назад спинками, на которых очень удобно сидеть.
До появления трамвая Давид Исаевич, обремененный грустными думами, почти не замечал утренней прохлады. Подкативший вагон заставил его очнуться.
Весь маршрут вдоль наримановского и кировского бульваров, по мосту через Булак, сквозь Кольцо, мимо кинотеатра «Вузовец» Давид Исаевич ехал один. Он согрелся и с любопытством разглядывал празднично расцвеченные улицы. Сойдя на своей остановке, Давид Исаевич направился к Привольному переулку.
У перекрестка он взглянул на электрические часы, прикрепленные к кронштейну свежевыкрашенного столба. Засомневался Давид Исаевич: стоит ли будить сына в такое раннее время? Потом у него целый день будет болеть голова. В больницу тоже пока не пустят, да и не хотелось предстать перед мамой с пустыми руками. Припасенная для нее путевка в санаторий — это на будущее, а сейчас главное принести ей что-нибудь вкусненькое. Он потрогал пальцами колючий подбородок и решительно повернул в противоположную сторону, навестить могилу отца.
Безмолвствовало кладбище на Арском поле. По едва заметной, заросшей стежке, осторожно огибая безвестные, запущенные холмики, Давид Исаевич пробрался к родной могиле.
Вокруг поднималась зелень, мягкая, ласковая. Даже лопухи и крапива, не то в дождевых каплях, не то в спящей росе, казались привлекательными и нежными.
Давид Исаевич постоял немного, облокотившись об ограду, которая опять посерела от ветров и ненастья, затем перелез через нее и принялся прибирать вокруг надгробной плиты.
Каждую весну мама сама убирала могилу. Однажды, случайно оказавшись в Казани весной, Давид Исаевич проводил ее сюда. Шла она по погосту, словно по своей усадьбе, — хозяйкой. Деловито расплела проволоку, державшую калитку взаперти, привычно потянула на себя створку, протиснулась вовнутрь и прежде всего, присев на корточки серьезно, обстоятельно доложила отцу о делах своих, о детях, внуках. «Сегодня и Додик к тебе пришел. Вот он со мною рядом», — сказала напоследок, оглянувшись через плечо.
Вспомнив ее тогдашний напряженно испытующий взгляд — понимает ли сын ее и принимает ли такой? — Давид Исаевич сжал зубы. Он с трудом удерживался от желания опуститься на колени и прошептать: «Возле тебя я, папа…» Старался думать о земном. Хорошо бы подремонтировать плиту, цемент начал крошиться, а времени в обрез. Через день-два возвращаться, завершать работу в институте.
Достав носовой платок, Давид Исаевич потер холодную доску с надгробной надписью: «Лучший памятник тебе — наши жизни. Пусть они будут достойными твоей — чистой, честной, благородной». Долго не соглашалась мама ставить гранит на могиле:
— Посадили деревца вокруг, растут. Чего еще надо? Плохая разве память? А лишняя копейка завелась, используйте с толком, для живых.
Но в тот раз ее не послушали.
До сих пор Давиду Исаевичу казалось, будто он хорошо знал отца, его характер, помыслы, чувства, но сейчас, словно впервые и как посторонний перечитывая на мраморе надпись, которую сам же сочинил, он поймал себя на мысли, что осведомлен о родителе очень даже неполно. Тихий, скромный работяга-бухгалтер, воевал с хапугами и стяжателями, стерег народное добро. Разве это все? Давид Исаевич попытался представить отца рядом, под трепетной листвой березок. Понравилось бы ему здесь? Любил ли он мир с его разноцветьем, запахами, звуками, ликованием? Неизвестно. Опустил голову Давид Исаевич. Все было как-то недосуг поглубже заглянуть в душу отца. Теперь поздно, не наверстать.
Где-то за спиной, проснувшись, застрекотала синичка, ей ответила другая, третья…
Давид Исаевич поискал их глазами и увидел одну взъерошенную птаху на качающейся березовой ветке.
3
От погоста до чеховского рынка — рукой подать. Прежде почему-то Давид Исаевич этого не замечал. Они словно находились в разных измерениях. Сегодня что-то сдвинулось в сознании, почудилось, будто они вовсе не взаимоисключающие — эти священные места. Жизнь и смерть всегда рядом.
Но ярмарка только-только пробуждалась.
За прилавками молочного ряда возились колхозницы, ловко расставляя тяжелые фляги внизу, у ног, а бидоны полегче, кастрюли, ведра — наверху, на прилавке. Более расторопные бабы уже размещали перед собою весы.
Наблюдая за ними, Давид Исаевич прикидывал, у кого же лучше купить. Вспомнил, как приглядывалась к торговкам мама.
— У здоровой хозяйки и харчи добротные, — объясняла убежденно сыну, когда он помогал нести с базара покупки. — Ты не смейся. Кое-что ведь крестьянка и себе в рот кладет, не все людям вывозит. От хворой коровы сама бы маялась. На лице у людей все написано. Так-то.
— Чудачка ты, мама. Были бы единоличницами все, тогда, конечно, все логично. Сюда же, согласись, многие молочницы привозят продукты с ферм, которые они получают за трудодни.
— Зоотехники-то на что? — возражала мама. — Разве допустят бруцеллез или иную какую-нибудь напасть?
Не сразу Давид Исаевич выбрал продукты. Из десятка ведер и кастрюль пробовал он творог, пока нашел подходящий. Сметану тоже подбирал долго, но взял отменную, холодную и свежую. Зелень купил с ходу, не торгуясь, хотя, как и всегда в праздничные дни, была она очень дорогой. Позволил себе чуточку понаслаждаться роскошным натюрмортом молодых овощей на прилавках. Пяток тепличных огурчиков, лук муравчатый, пучок алой редиски — заманчивые деликатесы этой поры года — Давид Исаевич осторожно, чтоб не смять, сунул, обернув газетой, в авоську. Яблоки выбирал придирчиво. Выбрал молдавские. Опустил в авоську и пяток лимонов. Купил сушеных фруктов — изюму, кураги, абрикосов с кислинкой. Компот в больнице незаменим. Оставалось найти что-нибудь мясное. В мясном павильоне на крюках висели ляжки говядины, бараньи туши, свинина, оплывшая салом.
Мама всегда старалась покупать первосортное мясо. Прилавки обходила два-три раза, приценится, отойдет — издали посмотрит. Самое удивительное, никто на нее за это не сердился, колхозницы почти всегда незлобиво уступали ей:
— Рядись — не ленись, плати — не скупись.
Дома, раскладывая на столе приобретенную снедь, мама взыскательно проверяла себя. Случалось, поворчит на себя или же на продавца обрушится:
— Обманула! Вокруг пальца обвела. Надо же, подсунула черт-те знает что. Кто бы мог подумать. Глаза-то у нее какие хорошие, а?
И, подняв густые, черные брови, сжимала губы.
На оцинкованном лотке лежали филейные кусочки телятины. Давид Исаевич решил, что возьмет именно это мясо. Маме всегда такое нравилось.
— После жирного трудно посуду мыть, — с лукавинкой говаривала она.
Исключение делалось только для отца, и то изредка — любил полакомиться гусиными выжарками в прокаленном докрасна луке.
Содрали с Давида Исаевича втридорога — он не упирался.
Выбравшись из мясного павильона, шагнул за угол и в рыбном ряду из-под вафельного, в блестках чешуи полотенца выудил судачка.
Удалось заполучить и цыпленка, выпотрошенного, голенького, для бульона.
Довольный, нагруженный продовольствием, Давид Исаевич направился к Привольному переулку.
Леонтий увидел его с террасы, где делал утреннюю зарядку, заулыбался, приветливо замахал руками и метнулся вниз, встречать.
— Как ты дотащил все это добро? — удивленно спросил он отца, забирая у него чемодан и переполненную авоську.
— Для коня овес не ноша, — отозвался Давид Исаевич. — У тебя, поди, в кладовке шаром покати?
— Угадал. Пока бабушка в больнице, у меня разгрузочный рацион.
— Хитер. Моментом пользуешься.
— А как же? Вернется, не допустит вольницы. Сразу загремит ее боевой клич: «Иди кушать, принц!»
Губы Давида Исаевича растянулись в улыбке.
— Держится? — поинтересовался он.
— Одолевают боли и тошнота, — ответил сын поскучнев. — Чувствует себя пока неважно. Верит, что врачи подлечат, но залеживаться у них не намерена.
Тень пробежала по лицу Давида Исаевича.
— Это хорошо, — проговорил он почему-то с хрипотцой. — Ну а ты, парень, завтракать сегодня собирался?
— В общем, да, — отозвался Леонтий смущенно.
— А что на завтрак?
— Чай.
— Негусто.
— Стоит ли из еды делать культ?
— О, у тебя вопрос поднят на философскую высоту.
— Куда там. Просто просчитался.
Леонтий поднимался по лестнице впереди отца. Топая следом, Давид Исаевич любовался красивой, крепко сколоченной фигурой сына и с удовлетворением думал, что природа милосердно поступила — создала похожим на мать, по крайней мере сложением. Ведь мог походить на отца — низкорослого толстяка.
В квартире было чисто, вымыты полы, постели прибраны, распахнуты форточки, в окна светило солнце, но, едва переступив порог, Давид Исаевич ощутил тягостное чувство одиночества. Он постоял немного в раздумье и принялся за дела.
4
Давид Исаевич рьяно принялся за стряпню. Леонтик ловко подхватил с кухонной лавки ведра и, звеня ими, помчался за водой к колонке, а вернувшись, с легкостью поставил их на место полнехонькими, не пролив ни капельки. Видя, как сын неуклюже, но с охотою чистит картошку и лук, выслушав его рассказ о своем житье-бытье, одобренный изрядной долей юмора, Давид Исаевич почувствовал, что настроение немного улучшилось. В нынешний свой приезд он застал Леонтия именно таким, каким всегда хотел видеть: бодрым, сильным, целеустремленным, несмотря на невзгоды и трудности, обрушившиеся на него с болезнью бабушки. А скорее всего, благодаря им он и переменился, подтянулся. Испытания закаляют.
Умилило Давида Исаевича и то, как брился сын. Щеки и подбородок Леонтия отполированы до блеска, а он все не унимался, вылизывал их жужжащими, шумными лезвиями электробритвы. «Наверно, у парня свидание», — подумал Давид Исаевич. Эта мысль его обрадовала. Пора. В его возрасте сам он уже был отцом с солидным стажем.
Четверть века тому назад он впервые привел сюда домой Дусю — представить родителям. Жутко хотелось, чтоб она им понравилась, его избранница. Мама тогда подала на стол деликатес — темные медовые пряники и какао в татарских пиалах с золочеными ободками. Полакомившись и простодушно похвалив угощение, Дуся вызвалась прибрать чашки. Мама рассердилась поначалу, но уступила. А вечером, перед сном, осторожно взгрустнула:
— Гостья-то, между прочим, нечисто вымыла посуду.
Чудачка, разве имело это для Давида Исаевича какое-то значение?
— Крупная очень, — выждав немного, вздохнула мама. — Руки большие.
Отвечал Давид, что милее рук не может быть на свете. А рост? В нем ли дело? Главное — душа. Впрочем, все равно он уже не в состоянии отказаться от Дуси.
— Может, хватит дискутировать? — вмешался отец. — Давайте спать.
— Все пустить на произвол судьбы? — с некоторым удивлением возразила мама.
— Оставь его, Хайчик, — так он ласково называл жену. — Видишь, жених слушает тебя, как завыванье позавчерашнего ветра. Зачем напрасная трата времени? Наследник глух к твоим речам.
— Нет, он внимательно слушает и все слышит. Он ведь упрямый.
— Все влюбленные — упрямцы. Спасибо на том, что хоть показал нам свою невесту.
— С бедой надо переночевать, тогда станет легче, — едва слышно проговорила мать. — Поди знай, кто тебе оплеуху даст. Вот тебе, Егудо, первая русская невестка в нашей семье…
— Первая — не последняя.
Давид сжал зубы и залез под байковое одеяло. Он понял, что не обрадовал родителей. Он долго не мог заснуть в эту ночь. Вдруг неожиданно раздался голос мамы.
— А знаешь, это даже великолепно, что она на голову выше тебя, Додик, — произнесла мать, не называя Дусю по имени. — Есть тут один большой плюс: дети не будут карликами.
— Нашла все же рациональное зерно, — сказал сын.
— Не смейся, кто же отрицает наследственность? — возразила мать, взглянув ему прямо в лицо. — Когда мне сватали женихов, я мелкоту с ходу браковала. Ради вас, будущих. Достаточно, что сама лилипутка.
— Вокруг тебя что — ухажеры табунами ходили?
— Во всяком случае, хватало. Папа тебе подтвердит.
Отец снял очки, кашлянул и приподнялся на кровати. Давиду стало ясно, как сильно был потрясен отец появлением в их доме Дуси.
— Подводишь меня, — упрекнула его мама. — Сын еще подумает, что хвастаю. Пророни словечко.
Потрогав маленькие усы, отец произнес:
— Верь, Додя. Мама никогда не врет. Мне просто ужасно повезло. А то, как и прочим, могла б устроить от ворот поворот.
«Обстановка вроде разрядилась. Может, с Дусей еще все образуется», — подумал юноша.
Давид ощутил, как разом ему стало тепло и тиски, сжимавшие его до сей минуты, отпустили. Он повернулся на правый бок и прикрыл глаза. Нет, никогда после он не будет кусать ногти, не проклянет судьбу за то, что свела его с Дусей. Но минуты, когда ему было больно за родителей, за их преждевременные морщины, у него впоследствии появлялись, хотя мать его каждый раз утешала: «Не жалей, ни о чем не жалей». Такое было завещание деда, имя которого Давид унаследовал. Тот дед, резник Борух-Давид-Айзик с прозвищем Мятежник, ибо в нем действительно вечно кипела кровь, упорно толковал дочери, что лучше сожалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Много воды утекло с тех пор, пока Давид смог осмыслить истинную цену страданий, которые он причинил родителям после их первого знакомства с будущей невесткой. Но пока он был доволен. Ему, Давиду, хорошо, значит, и всем должно быть хорошо. Не может быть худо отцу и матери, если ему, Давиду, хорошо. Что же касается предрассудков, то он, Давид, знает лишь одно: от них надо отказаться. Так, как это делает он. Давиду показалось, что родители задремали, но вдруг вновь услышал голос мамы.
— Додик, слышишь? Была в нашем местечке у богатея дочь. Красавица писаная — на всем белом свете такой не сыщешь. Но дура ужасная. Кожевник ни в коем разе не хотел верить, что его голубка, его ангелочек — пень пеньком. Себя уговорить можно в чем хочешь, сладить с самим собою, в общем, не проблема. Но ты себе представляешь, что произошло, когда отец увидел у своей подросшей единственной наследницы огромные ослиные уши? Закручинился богач, загоревал: толста мошна, да некому завещать. По ветру пустит капиталы распрекрасное чадо. Внуков бы башковитых. Но как их заполучить? Надо непременно найти зятя, хоть из-под земли достать. В прежние времена деньги могли все. Если они есть, можно было и на небо влезть. Разослал во все концы сватов неугомонных. Заказ они выполнили. Нашли-таки. Родословная — лучше не придумаешь. Правда, голь. Зато умница — высший сорт. Единственная загвоздка: уродлив, хуже смерти безобразен. Жуть. Посмотришь на него, в обморок свалишься. Призадумался денежный мешок. Ладно, невесту как-нибудь уломает, приневолит. А дальше? Допустим, дети пойдут в дочь — это нежелательно. А если в него? Это терпимо. Было бы идеально, если бы от нее дети унаследовали обличье, а от него — ум. Не дай бог наоборот, — мать вытерла ладошкой уголки губ. — Иди знай, что тебя впереди ждет. Внуки получились все как на подбор, умом — в мамашу, внешностью — в отца. Так-то. Слушайся, Додя, сердца и никогда не хитри. Перемелется, мука будет.
Вот что вспомнил Давид Исаевич, глядя на бреющегося сына.
— Надолго уходишь? — спросил он сына.
— Нет, прямо с демонстрации домой, — отозвался Леонтий, как показалось отцу, немного в замешательстве.
— Отчего же? Гуляй.
— Бабушку надо навестить.
Не стал Давид Исаевич его смущать. Взглянул на будильник и, морща лоб, направился к керогазу, взглянуть на судака, варившегося на медленном огне.
Из дому отец и сын вышли вместе. Сумку с продуктами для передачи в больницу нес Леонтий. Ему можно было воспользоваться кратчайшей дорогой, чтобы дойти до места сбора студентов, — прямо с Привольного переулка пересечь улицу Калинина, свернуть на Кирпично-заводскую, взять немного влево, а дальше прямиком до самого здания техникума, — но он пошел по Вишневской, чтобы помочь папе. Давид Исаевич набил снедью до отказа старенькую, видавшую виды, но очень удобную кошелку, с которой мама не расставалась долгие годы и таскала ее с собою повсюду — и на работу, и в магазины.
День был ясный, веселый. Улицы нарядные, оживленные. Такими они бывают только в большие праздники.
Сверху послышались какие-то странные звуки. Леонтий задрал голову, прислушался и вдруг взволнованно произнес:
— Журавли[1]!
Давид Исаевич тоже посмотрел в небо. В чистом бледном небе тремя огромными угольниками, нежно гогоча, передвигалась стая птиц. Откуда они в это время? Куда устремились? Своя судьба у них, цели свои, и нет им дела до нас, до наших радостей и наших бед. А может, есть?
— Красиво! — произнес Леонтий.
— Да. Прелесть, — тихо отозвался отец.
Они проводили птиц глазами, кивнули друг другу и расстались.
Движение трамваев, троллейбусов, автобусов, даже такси по обычным маршрутам в этот час, в этой части города уже прекратилось, поскольку проспекты, по которым пролегали их трассы, были запружены демонстрантами. Действовала лишь объездная дорога. Ее-то и выбрал Давид Исаевич. Изредка его обгоняли грузовые автомобили. Давид Исаевич решил поднять руку — может, немного подвезут. Он проголосовал разок, другой, пока огромный самосвал не притормозил вблизи от него. Шофер резко распахнул дверцу кабины. «МАЗ» домчал его почти до больницы.
Возле проходной будки Давид Исаевич заглянул в корзину цветочницы: нет ли ландышей, любимых маминых цветов. Всегда весь май на Привольном у нее пахнет ими. Ландышей не было. Давид Исаевич купил букет запоздалых нежно-голубых подснежников. Купил и поймал себя на мысли, что давно уж не дарил цветов никому — ни чужим, ни своим. Непорядок. И как это Дуся терпит? Пока не поздно, от дурной манеры надо избавляться. Вот вернется, он обязательно встретит ее с цветами. Непременно…
5
В просторной приемной больницы, отделанной под мрамор, ему не пришлось долго ждать. Коротенькая очередь за пропусками растаяла быстро, он едва успел оглядеться. От Давида Исаевича потребовали назвать фамилию лечащейся, больше ничего не спросили — ни паспорта, ни каких-либо иных удостоверений.
В обмен на пальто гардеробщица выдала Давиду Исаевичу белый халат.
— Нынче благодать. Ко всем пускают, — произнесла она певуче. — Ради праздника. В будни — ого, строго у нас.
Остановившись на шестом этаже, Давид Исаевич услышал гулкий стук своего сердца. Колотилось оно часто и сильно, должно быть, оттого, что приближался миг встречи с мамой.
Разобравшись в нумерации комнат, Давид Исаевич пошел вправо по мягкому, точно огромная орденская лента, ковру, радуясь чистоте, свету, зелени. Ему понравилась обстановка, в которую попала мама. Прав Леонтик — хороша железнодорожная больница, пожалуй, действительно самая лучшая в городе.
Давид Исаевич чуть слышно тронул дверь маминой палаты. Она бесшумно отворилась, и перед ним предстала молодая смуглая женщина в распахнутом пеньюаре.
— Ой! — воскликнула она приглушенно и тут же запахнула полы халата. — Кого вам?
Объяснился Давид Исаевич шепотом.
— Здесь она, — сказала женщина и отступила от порога, взглядом приглашая его войти.
Пожилая грузная женщина, стоявшая спиной к окну, кивком ответила на его приветствие.
Мама лежала на койке слева, отвернувшись к стене. Спит? Нет, похоже, задумалась. Он поставил у ног сумку, опустился на корточки перед кроватью, нечаянно сдвинув локтем стул. Мама не спала и даже не дремала — пальцы правой руки комкали одеяло.
Давид Исаевич легонько коснулся их ладонью. Мать вздрогнула, приподнялась на локте, но что-то мешало ей заговорить сразу.
Сердце у Давида Исаевича упало. Всего лишь полтора месяца минуло после последней встречи с нею, а лица ее не узнать — исхудало, заострилось, резко обозначились скулы. Только глаза остались прежними. Давид Исаевич хотел скрыть свою растерянность и не смог.
В обоюдном молчании тянулись минуты. Какие мысли тревожили при этом маму, Давид Исаевич лишь догадывался. Себя же он с горечью спрашивал: «Неужели придется теперь лгать?»
Первой заговорила мама.
— Такой гость! Дорогой гость!
Она силилась сесть в постели.
Давид Исаевич кинулся помогать ей.
— Я сама! — отстранила она его руки, но тут же протянула к нему свои, обняла, прижалась сморщенными губами к склоненной голове сына. — Думала, уж бросили меня все. — Перевела дыхание, спросила: — Без хозяйки управляетесь?
— Плохо. Поднимайся скорее на ноги.
— А я сейчас встану, — с хитринкой сказала мать. — Пусти, пожалуйста.
Увидев, как она проворно спустила ноги с кровати и нащупала шлепанцы, Давид Исаевич несколько успокоился и произнес:
— Что говорят врачи?
— Помалкивают, — ответила мать, надевая халат и морщась. — Пальпируют. Бария противного наглоталась уйму. Нужные анализы сдала. Профессор вот еще должен посмотреть.
— Все будет хорошо.
— Не знаю. Может, помогут.
— Непременно!
— Духом не падаю. Убеждена: любой напасти надо сопротивляться всеми силами, ни в коем случае не сдаваться.
— Этот твой завет я усвоил. Ты мне об этом и на фронт, и в Тагил писала не раз.
— Перезимуем как-нибудь. Перемелется — мука будет.
6
В окно заглядывало солнце.
Причесывая пушистые с сединой волосы, мать на какое-то мгновение задержала взгляд на веселых бликах на подоконнике. Улыбка тронула ее шершавые, потрескавшиеся губы.
Давид Исаевич смотрел на нее, и сердце его оттаивало.
— На воле-то как хорошо! — произнесла она со вздохом и скосила глаз на сумку, доверху наполненную снедью. Затем воткнула подковоподобный гребешок в волосы на затылке, потерла бледные ладошки:
— Дал бог хорошего гостя, то и мы поживимся.
Она осторожно поднялась.
И опять горький ком подступил к горлу Давида Исаевича. Он привык к тому, что мать намного меньше его ростом, и никогда до сих пор не огорчался этим, возможно, потому, что обладала она внушительной, вызывавшей почтение полнотой. А сейчас она стояла рядом, словно чужая старушка, — худая до неузнаваемости. Просторный больничный халат, особенно подчеркивал ее худобу. «Истаяла, — ужасался сын. — Былинка сухая». Бывало, когда он перелистывал старинный семейный альбом и рассматривал фотографии мамы в юности, он с трудом верил, что стройная, изящная девушка с черными локонами — его мать. Давид Исаевич никак не мог представить маму тоненькой. И вот она оказалась такой наяву — маленькой, хрупкой.
— Пойду руки ополосну, — произнесла она, пошатнувшись.
Давид Исаевич поддержал ее:
— Проводить?
— Нет. Я сама! — сказала мать и вышла из палаты.
Пожилая соседка покачала головой:
— Мается, сердешная.
— И где терпенье берет? — вторила ей смуглянка.
Неужели стряслось самое худшее?
Вернулась мать и подозрительно, с укоризной поглядела на своих соседок.
— Нажаловались? Успели? Эх вы, — пожурила она их и села на кровать. — Ну-ка исследуем, что ты приволок, Додик. Подвинь-ка сюда поближе сумку.
Облизывая украдкой губы, мать наклонилась над ней и принялась вытаскивать содержимое. Прикроватной тумбы не хватило, чтоб расставить всю принесенную снедь. Она приоткрыла дверцу тумбы, обшарила верхнюю и нижнюю полки, что-то переставила, сдвинула, улыбнулась мимоходом сыну, решая, куда девать принесенное им добро. Блюда одно другого привлекательней. Она повертела в руке банку с куриным бульоном. Очень аппетитный вид. Лучше всего съесть сейчас. Длинным, чуть искривленным, сильно заострившимся носом уткнулась в сковородку с судачком, понюхала его, перевернула с боку на бок — не подгорел ли? Творог, размятый в сметане, обильно припорошенный сахарной пудрой, тоже дразняще манил. Желание насытить себя всем этим немедля все увеличивалось. Доставая компот, мать снова благодарно, с надеждою взглянула на сына: приезд его, возможно, прекратит ее великий пост?
— Подвели меня больничные повара, поголодать заставили, — произнесла она дрожащими губами. — Ихнюю пищу едва в рот протолкнуть могу. Теперь оживу. Раз ты тут, я скорехонько оклемаюсь.
В этот миг и Давид Исаевич верил, что исцеление мамы не за горами, что здоровье ее пойдет на поправку. Он с таким же радостным чувством, какое всегда навевала на него добротно сделанная работа, ждал той минуты, когда она начнет наконец пробовать его стряпню, традиционно восторгаясь ею и громко расхваливая. Но мать вдруг, спохватившись, резко обернулась к своим соседкам по палате:
— Выручайте, голубоньки. Налетайте!
Ни молодая смуглянка, ни толстогубая пожилая соседка не вняли призыву матери, каждая из них, оправдываясь, распахивала дверку своей тумбы и показывала Давиду Исаевичу собственные нескончаемые припасы. Все же мать заставила их взять у нее по отборному яблоку и выпить компот. Лишь после этого она сама принялась за еду.
Получилось именно так, как Давид Исаевич ожидал: мать громко выражала свое изумление всем, что подносила ко рту, прежде даже, чем клала на язык. Наверно, один лишь вид своей, домашней, наполненной до краев посуды производил волшебное воздействие на нее.
— И когда ты успел все приготовить? Ловкач! Салфетки принес? Нет? Принеси обязательно, — приказала она, вытирая губу кончиком полотенца и придвигая к себе солонку: салат показался ей пресноватым.
Удовольствие ее, однако, длилось недолго.
— Больше не могу, — жалобно произнесла она. — Видит око, да зуб неймет.
— Невкусный получился салат? Недосмотрел, — растерянно сказал сын. — Я ведь не мастер, а дилетант. Проморгал.
— Нет, Додик, ты тут не виноват. Тогда ешь, когда рот свеж, — уголки губ матери скорбно опустились. — Может, еще захочу. Наверное, еще захочу.
Это уж она старалась убаюкать тревогу сына.
Съежился Давид Исаевич, похолодел. Превозмогая подавленность, вновь подкравшуюся к ней, она легонечко потрепала его волосы, как в детстве.
— Не бойся, — сказала она, едва сдерживая слезы. Заплакать теперь ей никак нельзя было. — Десять лет тому назад я с печенью хорошо справилась. Победим и сейчас. Неужели оплошаю. Делать-то мне больше нечего — полеживай и воюй с хворью.
— Чтобы драться — сила нужна.
— В том-то и загвоздка вся. Нельзя слабеть, а отрыжки удручают. Знаешь, почему меня тошнит? Вчера рентген показал — пища в желудке задерживается. Целые сутки до того не ела, а пища там. Понимаешь? Отсюда и спазмы, и рвота, и все прочее.
— Врачи тебе это сказали?
— Я, правда, только фельдшер, но кое в чем сама разбираюсь. Будем биться до последней возможности.
Эти заверения матери ничуть не обрадовали Давида Исаевича. Напротив. Если она начинала выражаться воинственно, он всегда настораживался. Значит, невмоготу ей. Давид Исаевич поскучнел. Успокаивало лишь одно: обнаружен главный очаг недуга. Когда знаешь, чего надо опасаться, можно, по крайней мере, что-то предпринять. Неизвестность гораздо хуже. То, что заболевание весьма грозное и ничего хорошего не предвещает, Давид Исаевич не знал. Не осознавала, должно быть, этого и мать.
— Без тебя тут случались денечки, когда я совсем хорошо себя чувствовала, — стала докладывать мать. — Сначала решила не ложиться в больницу — тоска. Дома на крылечко выйдешь или на террасу, какое-никакое разнообразие. За домашними делами волей-неволей отвлечешься. Я ведь привыкла все всегда делать сама. Твой Леонтик хоть и норовил помочь мне, тем не менее либо то у него не так выходит, либо это, показывать надо, уж лучше сама.
Давид Исаевич напряженно вслушивался в слова матери, но они не приносили успокоения.
— В больницу меня вынудили лечь сильные боли, спасу от них не было, — продолжала мать. — Поначалу считала, что появляются они от усталости. Чуть притомлюсь, они тут как тут. Хотела перехитрить их отдыхом. Леонтик в техникум, я — на боковую, спать. Дудки. Приходят, черти полосатые, когда им заблаговолится. Никакой вроде причины. Лимоны мне очень помогали, есть в них что-то целительное. Надоели, поверишь ли, оскомину набила, да и портятся быстро, плесневеют, а вы шлете и шлете. Я волнуюсь, а Леонтик посмеивается, говорит, чтоб я не расстраивалась — он их съест.
Представил себе Давид Исаевич наследника, подтрунивающего над бабушкой, и ее — сконфуженную, озадаченную. Вздохнул. Как же быстро летят годы! Ведь, кажется, совсем недавно был он таким же юным, как Леонтик, и тоже порою подшучивал над ней.
Давид Исаевич легко представил себе, как Леонтик собирается в техникум. Будучи молодым, Давид Исаевич почему-то досадовал на мать за чрезмерную заботливость. Почти каждое утро она без устали доказывала необходимость сытного разнообразного завтрака для тех, кто занят умственным трудом, тем более для растущих, не окрепших еще людей, которые учатся. Он наедался раньше, чем матери хотелось, и ему приходилось всяческими хитростями усыплять ее бдительность. Она ни за что бы не выпустила его из-за стола, если б заметила, что съедает он не все, что поставлено перед ним.
Мама и Леонтика провожала, так же как и его когда-то, — стоя на террасе, глядя вслед до тех пор, пока он не скроется в переулке за соседским забором, и трижды шепча ему вослед:
— Еворехихо!
Это древнееврейское напутствие Давид Исаевич слышал за своей спиной каждый раз, когда уходил или уезжал из дому. Он не расспрашивал, что означает это, видимо, магическое для нее слово, и до сих пор не знал точного смысла, но догадывался: выражало оно, несомненно, пожелание добра, успеха, счастливого пути.
Мысленно представил Давид Исаевич, как мама, проводив внука, возвращалась в комнату и забиралась на деревянную раскладушку с высокими ножками, которая старчески скрипела. Хорошей, никелированной широкой кровати — на ней она спала с отцом — мать суеверно избегала.
— Ты нагрянул как гром с чистого неба, — произнесла мать, прервав мысли Давида Исаевича. — Я Леонтика ждала сегодня. Не тебя.
— Придет и он. Сейчас ведь демонстрация.
— Сказать тебе, кто твой наследник? Поросенок. Вот кто. Вчера не пришел, а ведь обещал. Слово, надо сказать, он держать умеет. Один у него недостаток — о еде не вспомнит до тех пор, пока не пристану с ножом к горлу. Сегодня он позавтракал?
Давид Исаевич пожал плечами:
— Боюсь соврать. Сегодня, если б не я, убежал бы из дому без завтрака.
— На него это похоже, — заметила мать. Она помолчала, пристально вглядываясь в сына.
Давид Исаевич пытался угадать ее мысли, иногда ему это удавалось, но в тот раз не смог.
— Знаешь, как у нас в старину говорили? Когда рождается сын, счастье вдвое увеличивается. У меня и у тебя по два сына.
«Так вот что ее тревожит, — наконец понял Давид Исаевич. — Подводит итоги. Не столько для себя, сколько для меня. Утешает: двух сыновей на ноги ставишь, значит, землю не зря топчешь».
— Если бы еще научиться экономней расходовать свои силы, — вполголоса продолжала мать. — Мечемся в хлопотах друг о дружке, волнуемся, устаем, выручая друг друга, а потом падаем посреди улицы. Слишком много зряшного беспокойства. Сколько я тебя предупреждала: не шли телеграмм! А ты свое, чуть что в голову взбрело — сразу телеграмму посылаешь. Тебе-то хорошо, пробил депешу и ждешь. Мне же надо отвечать, и немедленно, не дожидаясь, пока Леонтик вернется, а то ты там с ума сойдешь, — я ведь тебя хорошо знаю. На улице дождь хлещет или стужа, трещит ли спина — я же должна бежать на телеграф.
— Обещаю учесть твою критику. Обязательно.
— То-то же.
Мать, опершись на руку, приподнялась повыше.
— Я тебе так и не досказала, как я попала в эту больницу. Так слушай же — Полина Наумовна сосватала. Ты не забыл еще Полиньку? Девушку твоего друга? Узнала, что я захворала, и тут же примчалась. Несколько раз приходила к нам на Привольный. Щупала, слушала меня. И уговорила-таки лечь сюда. Койки добилась для меня.
— Где она сейчас работает? — осведомился Давид Исаевич.
— Здесь, — кратко ответила мать. — Ведущий хирург.
В голосе ее явно прозвучало восхищение.
Давид Исаевич очень хорошо помнил Полину Наумовну. В войну мать длительное время работала вместе с нею в госпитале и всегда очень хвалила ее и как хирурга и как человека. Полина Наумовна дружила с товарищем Давида. В их студенческом кругу она обращала на себя внимание необычной красотою, крупным, но ладно скроенным, натренированным телом, прямотою суждений. С ней всегда было интересно. Она не торопилась с созданием семьи — откладывала до завершения учебы. Потом война. После окончания войны Полина Наумовна не сразу вернулась домой. Парень, с кем она дружила, возвратился в Казань намного раньше, сильно искалеченный. В то время горькая доля Давида Исаевича прочно приковала его к окрестностям Тагила, сделала лесорубом. Когда в положении Давида Исаевича произошел крутой поворот, и он, освобожденный из заключения, вернулся в Казань, его товарища уже не было в живых. Утверждали, что тот так и не согласился жениться на Полине Наумовне — не хотел обременять. С тех пор минуло почти два десятилетия, но в судьбе ее ничто не изменилось.
— Так-то, Додик, — вновь заговорила мать, немного помолчав. — Беда, как правило, не ходит одна. Я уже перестала было верить в свое излечение. Думала, не избавлюсь от этой проклятой болезни, но Полина Наумовна говорит, что все будет хорошо, иначе меня бы здесь не держали. Ведь правда, Додик? Им ведь не интересно кормить меня и чтоб я койку занимала.
— Безусловно, правда, — Давид Исаевич сунул руку в боковой карман, достал добытую в нелегких хлопотах путевку. — Возьми, мама, тебе привез. Поправишься немного и сразу же на южный берег.
— Куда это?
— В Крым. В Алушту.
Мать протянула подрагивающие ладони:
— Достань мне очки. В тумбе они. Лишний раз нагнуться ленюсь. Разве не ясно тебе?
Посмотрев путевку, мать положила ее себе на колени и сделала затяжной глоток воздуха.
— Крым лучше Кавказа. Жары меньше. Как раз для меня, — произнесла она мечтательно. — Хорошо бы махнуть к морю, да вряд ли удастся. Не знаю, смогу ли.
— А почему нет?
— Прошло, видно, мое время. Посмотрим. Чем черт не шутит, еще возьму вот и выздоровею, — озорно сказала мать и повернулась всем телом к своим соседкам: — Как вы думаете, девчата?
— От вас самой зависит, Клара Борисовна, — отозвалась тотчас же молодуха подчеркнуто бодро после некоторого замешательства. — Вы же сами меня убеждали, что человек все может: и судьбу вершить, и хворь победить. Выкарабкаетесь! Точно вам говорю. Тем более с таким сыном, — она подняла глаза на Давида Исаевича. — Завидую его жене. Везет же людям.
— На чужой каравай рот не разевай. Сыновей мы тоже сами себе делаем, — глухо проговорила пожилая соседка, шлепая выпяченными губами.
— Зато мужей готовыми берем, к сожалению, со всеми потрохами.
— Очи в твоем распоряжении — гляди в оба, выбираючи. Никто не неволит.
— Легче на поворотах, голубоньки, — вмешалась мать. — Вам позволь, сразу начнете щипаться, как петушки. — И обернулась к сыну: — Скучно, вот и цапаются. Лежать здесь никому не сладко. Додя, покажи мне лучше свою партийную книжку.
— Билета еще нет — кандидатская карточка.
— Ну и что? Приняли в партию? Приняли ведь?
Давид Исаевич подтвердил кивком головы.
— Эта самая большая победа твоя.
— Наша, мама.
— Жаль, папа не дожил до этого часа. Вот был бы для него праздник! И вообще мог бы еще жить да жить. Зачем он так рано ушел от нас?
— Уходить всегда рано! — с горечью произнес Давид Исаевич.
— Опять кипятишься? Сейчас тем паче не к лицу тебе быть вспыльчивым, ты — коммунист теперь, держись, надо умерить свой характер. Не прав ты, Додя. Жить можно пока ни себе, ни другим не в тягость, пока хоть какая-никакая польза от тебя. А когда невмоготу стало, зачем зря небо коптить? Собирайся в путь, не тяни волынку.
Раздосадованный Давид Исаевич втянул голову в плечи. Опять язык подвел его. Не сумел обуздать чувство. Промолчал бы лучше, и печальные думы матери не повернули б в опасное русло. То, что она говорила ему, было как раз тем, чего он не хотел, что боялся услышать от нее. Но она поняла его, она всегда понимала его и ответила именно на те мысли, какие он пытался приглушить, ответила с обычной своею прямотою, которую он, Давид Исаевич, сполна унаследовал от нее, но которая, к сожалению, как ни странно, редко помогала в жизни, гораздо чаще — мешала.
— Не спеши нос вешать, сынок, — ласково произнесла мать. — Горе еще впереди. Успеешь. А я покуда лягу, что-то притомилась.
Крепко держа в одной руке алуштинскую путевку, другою взбила подушку, поставила ее торчком и привалилась к ней боком. Ноги поднять на постель помог ей Давид Исаевич.
— Ничего, помучаюсь еще немножко, и победа будет за мною, — пообещала она. — Не робей. Наше дело правое.
Уложив мать, Давид Исаевич опустился перед нею на колени, взял своими полными, пухлыми ладонями ее исхудавшую, всю в сизоватом кружеве прожилок руку, поднес к губам и поцеловал. Безмолвно. Многое надо было сказать матери. Добрые, нужные слова теснились, рвались наружу, но он молчал, мысленно ругая за сдержанность, обретенную не ко времени, и молчал. Не принято признаваться в любви матерям. И напрасно. Внимание, помощь, заботы, которые им перепадают, — это далеко не все, что им полагается. Они должны знать, видеть, получать, слышать подтверждения того, что их любят, ценят, уважают, благодарят. Девушкам — можно? Невестам полагается? Жены — удостаиваются? Почему же матери лишены этого? Давид Исаевич внушал себе, что он обязательно должен их произнести вслух, непременно, но подобрать для этого подходящий миг так и не смог.
7
Когда дверь в палату приоткрылась и между нею и косяком показался букетик ландышей, зажатый в кулаке, а затем лицо Леонтика со сжатыми губами, бабушка уже успела отдохнуть.
— А, принц, приветик, — встретила она его с оживлением. — Как хвост — пистолетом?
— Здравствуй, — тихо произнес внук, протягивая бабушке букет.
— Какая прелесть! Пахнут-то как! Роскошь!
— У тебя что, опять были приступы?
— Неправда! Чувствую себя гораздо лучше, — воскликнула бабушка в ответ. — Лыхэ нэ загинэ! — подкрепила она свое заявление любимой поговоркой. Леонтик знал, что в переводе с украинского это означает что-то вроде: «Живы будем, не помрем», — во всяком случае, он понял, что бабушка именно это имела в виду. — Ты вовремя пришел, принц, у меня тут всякая всячина появилась, целый кузов с прицепом. Не осилила я. Пропадет добро. Садись кушай.
— Спасибо. Сыт.
— Вполне возможно. У батьки твоего хватка моя, с ним и нехотя поешь, — бабушка сделала повелительный жест рукой. — Поверни-ка затылок ко мне. Постригли тебя ладненько, — заметила она с одобрением. — Лучше, чем папу. Ему такая стрижка не идет. Слишком высоко обкорнали.
Поискав глазами посуду для ландышей и не найдя подходящей, бабушка наклонилась, вытащила из тумбы пустую стеклянную банку:
— Вот куда определим их. Вода на твоей совести, принц. Цветы твои и вода — тоже.
— Сейчас.
— Крепким для меня оказался орешком, — вздохнула бабушка, глядя вслед Леонтику. — Покрошила я с ним зубы всласть. Кое-чего, правда, добилась. Без хвастовства скажу. Многого, однако, не смогла. И когда в университете учился, и когда рабочим был, и потом. Никак не удавалось, к примеру, волосы его укоротить. Отрастил длиннющие, поди разберись, девка ли, парень? Ладно, на заводе помогли. Каким манером? Вот возвращается твой принц. Пусть сам расскажет.
Узнав, о чем бабушка хлопочет, Леонтик усмехнулся:
— Дела давно минувших дней…
— Давай, давай. Папе это будет интересно.
— Пожалуйста, — Леонтик пожал плечами. — Было у нас как-то цеховое собрание. Принимали предмайские обязательства. Я исправно солидаризировался со всеми, как и полагается, мечтал уже о столовой — тогда я общественное питание здорово поддерживал: съедал по три, а то и четыре обеда за раз. Бабушка одобряла…
— Конечно, одобряла. Завтракал и ужинал дома, обедал — там. Пусть, думаю, наслаждается. Брюхо не лопнет. Денег, которые вы нам слали, по крайней мере, хватало на подобный кутеж.
Намек этот несколько смутил Леонтика.
— Прения как будто заканчивались, — продолжал он глуше. — Монеты в кармане прощупывались. Перспектива радужная. Но вот слышу, за спиной, один слесарь просит слова. Со скрипом, но дали. Убедительно просил. И точно обухом по башке — предложил дополнительным пунктом: «Постричь товарища, сидящего на первой скамье». Меня то есть. Реплика эта вызвала восторг и ликование, проголосовали единогласно за, хотя председатель и не спрашивал мнения присутствовавших. Мне пришлось подчиниться. Не попрешь ведь против коллектива.
— Вот бы всегда так все вопросы воспитания решать: руки вверх, и дело в шляпе, — с улыбкой проговорил Давид Исаевич, взглянув на мать.
— Чего уж лучше? Никакой маеты, — отозвалась она грустно. — Огромная экономия сил для жизни…
Эти слова остро задели отца и сына, резанули по сердцу. Низко опустил голову Леонтик, зарделся. Даже соседки по палате насторожились, не догадываясь, однако, о чем вдруг запечалилась страдавшая на их глазах старая женщина. Тишина обрушилась на палату. Слышалось лишь дыхание.
Тишина, ворвавшаяся в палату, давила на Давида Исаевича, но он не спешил разрушить ее. Ему казалось, что он догадывался, чем заняты сейчас мысли матери и какой червяк точит сына.
Случается порою, что родные люди вдруг, одновременно настраивают свою память на одну и ту же волну, не сговариваясь, перебирают в памяти одни и те же события и оценивают их по-разному, все же сосредоточены все на одном. Вовсе не удивительно, что и бабушка, и внук разом мысленно вернулись в то жаркое лето, когда Леонтик после окончания школы приехал в Казань. Родители нацелили его на поступление в университет, хотя продолжать учебу Леонтик не желал. Ему хотелось до призыва в армию поработать. Но родня настаивала, и он согласился. Какое-то ослепление нашло тогда на Давида Исаевича и на Евдокию Петровну. Не хотели они считаться с настроением сына, с его желаниями. Квалифицированные учителя, они должны были сознавать, что так поступать с молодым человеком на пороге его самостоятельной жизни, по крайней мере, неразумно. Если б кто-нибудь обратился к ним как к педагогам за советом, что делать с парнем, который хочет пойти на завод после окончания школы, они бы, безусловно, порекомендовали не становиться поперек дороги своему чаду — пусть сам выбирает свой путь. Если даже парень ошибется и будет болезненно переживать — в конце концов это не смертельно. Для собственного сына такое решение казалось неприемлемым. Да разве можно допустить, чтобы такой способный юноша, как Леонтий, не продолжал совершенствовать свои знания?! Это же явный грабеж и себя, и государства. Они пошли на все, чтобы убедить сына поступать в университет. И уговорили его. В Казань поехали все вместе.
Экзамены в университет он сдал блестяще. Родители были счастливы. Леонтик, правда, мог намеренно провалить экзамены, но самолюбие не позволило. Студентом он стал.
Довольные родители вернулись домой. Бабушка и Леонтик остались вдвоем. Месяца через полтора после начала занятий Леонтик как-то пришел из университета изможденный, истомленный, тяжело опустился на стул и еще до того, как бабушка заметила его замешательство, тихо произнес:
— Я, наверно, долго не протяну.
Ужас пронзил Клару Борисовну. Она застыла на месте и растерянно смотрела на внука. Но, быстро оправившись от неожиданного испуга и подавив мутный страх, она тотчас же подошла к Леонтику, положила руку на его плечо и ласково осведомилась:
— Что произошло, принц?
— Ровным счетом ничего. Напрасно меня в университет пихнули.
Должно быть, потому, что бабушка стояла рядом с внуком и слышала, как стучит его сердце, она почувствовала, что защищать его родителей сейчас не стоит, время настанет, и они с сыном сами разберутся, что к чему, а теперь парню надо помочь выйти из этого состояния.
— Ты попросту устал, дорогой мой, — принялась она утешать. — Отдохнешь, и все встанет на свои места.
— Нет, ты ничегошеньки-то не знаешь. Я всегда был слабак. С младенчества. Товарищи меня всегда поэтому и били. Отец с матерью тоже ничего не знают. Я скрывал от них. А способностями моими нечего кичиться — так себе, средненькие. Если я и добился чего-либо, так это только благодаря своему упорству. Где кому-нибудь достаточно часа, я трачу три. На черта он мне нужен, этот университет?
У Клары Борисовны затряслись руки. Очевидно, Леонтик не просто устал. Мало ли испытаний пришлось ему испытать за короткую жизнь? Беременная Дуся совсем не считалась со своим положением. Ей везде надо было поспеть: на лекции, в библиотеку, занять место в столовке, отстоять очереди в магазинах. Разве все это не действовало, не влияло на будущего человечка? Студенткам нельзя беременеть. Но уж коль так случилось, Дусе следовало б сразу перебраться на Привольный переулок. Здорово проморгали мы. Ну а потом, эти четыре полуголодных военных года? А годы, долгие годы безотцовщины? А потом это клеймо — «сын врага народа». Одному только богу ведомо, как Леонтик справлялся с такими перегрузками…
На другое утро Клара Борисовна не будила Леонтика, позволила спать, сколько хочет. В университет он не пошел — послушно побрел вместе с бабушкой в поликлинику. Неделю целую врачи исследовали его, пока не выяснили, что у него сердце намного меньше по размерам, чем оно должно быть в его возрасте, — в медицине такое называется капельным, оно не справляется со своими обязанностями. Состояние парня неопасное, однако перерыв в учебе сделать придется.
Леонтик получил годичный академический отпуск.
В Мирославле, у родителей, он с наслаждением отсыпался несколько недель. Но вскоре это ему надоело. Он стал подыскивать себе работу. Однако желание потрудиться повисло в воздухе. Леонтику разъяснили, что по состоянию здоровья работа ему противопоказана. Сейчас самое главное для него — лечение, и лучшее лекарство — покой. Вся возня вокруг него вызвала у Леонтика глухое внутреннее сопротивление.
Состояние у парня было подавленное, а это могло плохо отразиться на психике. Родители понимали это, но все же надеялись, что все будет хорошо. Они продолжали настаивать на дальнейшей учебе, хотя и сознавали, что в этом случае возможны серьезные осложнения. И они обнаружились. Правда, некоторое время спустя, когда Леонтик вернулся в Казань, к занятиям он приступил охотно. Телеграммы в Мирославль шли лаконичные. Первая: «Встретили меня очень хорошо». Вторая: «К ректору идти не надо — декан все сделает сам». Третья: «Завтра будет приказ». Четвертая: «В списки зачислен». Последняя с восклицательным знаком: «Студенческий билет получил!»
В письмах бабушки родителям сквозила тревога. Ее беспокоило, как Леонтик ест — урывками, наспех и в тетрадки заглядывает лишь перед сном, минут за пятнадцать — двадцать, не более.
Клара Борисовна была уверена, что внук ее вполне доволен жизнью. Занимаясь хозяйством, отдавая ему все свое время и силы, бабушка не замечала, как внук начал отбиваться от рук.
В конце третьей недели сентября, после обеда, Леонтик вдруг заявил бабушке:
— Мне нужно сходить к товарищу за учебником. Через час ты получишь меня обратно.
Пожалуйста. Бабушка проводила его своим непременным напутственным словом «Еворехихо!» и прилегла покуда вздремнуть. Проснулась она часов в одиннадцать — Леонтика еще нет. Половина двенадцатого, двенадцать — его нет. Из театра, размышляла она, возвращаются не позже двенадцати, с последнего сеанса кино — в половине первого. Но вот уже час — а Леонтика нет! Каждая минута казалась часом.
Бабушка принялась будить соседей, чтобы кто-нибудь пошел с нею в милицию. Из милиции позвонила в «скорую помощь». Она всех подняла на ноги, но внука так и не нашла. Обессиленная бабушка осталась сидеть в милиции. Соседи ушли, пообещав позвонить, если Леонтика нет дома.
Горькие мысли одолевали бабушку, щемило сердце… Как об этом известить родителей? И что станет с невесткой? Не перенесет она этого…
Примерно без пяти минут два на пороге милиции показались бабушкины соседи вместе с Леонтием — встретили его возле дома.
Бабушка разрыдалась, принялась целовать внука, не жаловалась. Объяснение его выслушала молча: у товарища задержался, тому туго дается французский, вместе, дескать, учили — не заметили, как время пролетело.
На другой день после обеда, словно ничего вчера и не произошло, Леонтик вновь собрался к товарищу: подзаняться латинским языком. С опущенными глазами пообещал вернуться к девяти. Однако пришел он только в полночь. На третий день — то же самое.
Он совсем перестал открывать учебники и тетради.
Так продолжалась неделя за неделей. День ото дня все трудней становилось бабушке поднимать Леонтия с постели. Долго терпеть такое она не могла: хватит, больше она его будить не будет, пусть просыпает всё на свете — и университет, и завтрак. Шляться до полночи черт-те знает где, а потом вставать с больной головой… Занимается с товарищем. Но ведь можно это делать здесь, у себя, на Привольном переулке…
Но Леонтик не согласился и заявил, что ни у себя, ни в другом месте он заниматься не будет. И вообще напрасно послушался родителей. Ему очень трудно, и он ничего не усваивает.
Выслушав внука, бабушка поняла, что повторяется прошлогодняя история. Она решила не горячиться и спокойно поговорить, но Леонтик даже слушать не стал и твердил одно: что учеба для него бессмысленна и все равно из этой затеи ничего не получится. Преподаватели университетские уже поняли это и махнули на него рукой…
Бабушка весь вечер мягко, но настойчиво убеждала внука продолжать учебу хотя бы на тройки, лишь бы не отчислили, и в конце концов ей это удалось.
Леонтик снова каждое утро стал обтираться холодной водой и делать зарядку. Клара Борисовна, как могла, подбадривала парня и часто повторяла: если без устали говорить, что ничего не получится, действительно ничего не выйдет, надо верить в свои силы. Хандра у Леонтика вроде отступила, но тревога не покидала бабушку. Внук продолжал приходить домой поздно, порою за полночь, и она ждала его, не смыкая глаз. А иногда Леонтик вдруг около полуночи поднимается и исчезает, черт его знает куда. Вот уж несколько раз так было: сидит он за столом, читает что-то, мурлыча себе под нос, и ей от этого становится тепло и уютно. Она сладко засыпает под звуки приглушенного голоса, а когда наступает тишина, не сразу открывает глаза, думает — задремал, наверно. На всякий случай бабушка окликает тихонько Леонтика, но он не отвечает. Тогда она слезает, покряхтывая, скрипя раскладушкой, на пол, топает осторожно по половицам босыми ногами и, обойдя всю квартиру, не находит ни Леонтика, ни его пальто. Страх охватывает старушку, и когда становится невмоготу, набрасывает на плечи старую овчинную шубку, но ветра в поле не поймать. Куда в темень побежишь? Или опять в милиции поднимать шум? Так и ждет перепуганная бабушка возвращения Леонтика. И надо еще, чтобы не накалять обстановку, делать вид, что ты ничего не заметила, что спала непробудно, — избегать излишних неприятных объяснений.
Никому не рассказывала Клара Борисовна, сколько здоровья отняли у нее ночные хождения внука. Но это не помогло. То, чего она опасалась, все-таки случилось. Чудо еще, что так хорошо кончилось.
Стряслось все накануне экзаменов. Для подготовки к ним у него в распоряжении имелась целая неделя. В ту пору как раз Клара Борисовна тяжело простудилась и лежала с высокой температурой. Ни вздохом, ни стоном бабушка его не тревожила. Ладушки, пусть учит, лишь бы сдал экзамены. Но огонь в бумагу не завернешь. Однажды утром Клара Борисовна открыла глаза и увидела, что Леонтик домой не вернулся. Свет померк в ее глазах. Долго раздумывать нельзя. Здорово она намучилась, в поисках Леонтика. Удивительно, как это сердце выдержало. Наверно, все же оно у нее железное.
Отыскала Клара Борисовна Леонтика у товарища, которого прежде никогда не видела. Леонтик сидел на заснеженном крыльце без пальто, без шапки, без рукавиц и потухшим взглядом смотрел на бабушку, не узнавая ее. Стужа уже успела сделать свое дело. Он, однако, ничего не чувствовал, крутил головой и не давал бабушке натереть снегом отмороженные щеки. Подняться он не мог. Бабушка из последних сил поставила его на ноги и повела домой. Он упирался, но шел. Она не отпускала его от себя.
— Что же такое ты вытворяешь? — не выдержала бабушка. — С кого только пример берешь? Батька не употребляет, мать и подавно. Видно, хороши друзья у тебя, нечего сказать!
Леонтий дернулся и хотел было что-то возразить, но язык его не послушался, и Клара Борисовна услышала только нечленораздельные звуки.
Поразмыслив, бабушка приняла решение поближе познакомиться с другом внука и пригласила его на обед.
Лакомясь тертой редькой в гусином жире, запивая кушанье настойкой бабушкиного производства, дружок Леонтия чувствовал себя как дома. Этого Клара Борисовна и добивалась. Она хотела, чтобы у него развязался язык, и тогда он все расскажет.
Ничего удивительного нет в том, что Леонтий прилип к этому молодцу. В двадцать семь лет его, офицера, комиссовали из армии по болезни, но привычка командовать осталась у него. В нем чувствовалась властность — особо притягательное качество для Леонтика. Он показался бабушке обаятельным и чистосердечным, а вдруг это все показуха! Был бы он честным человеком, тогда стоило бы приветствовать такую дружбу. Но разве можно за один вечер распознать человека, что у него за душой. Многое настораживало бабушку в этом человеке — и излишняя самоуверенность, и цинизм, с каким говорил о взаимоотношении сокурсника с какой-то девушкой. Леонтий же восторженно внимал каждому слову гостя.
Долго бабушка не могла забыть эту вечеринку, хотя внук и уверял ее, что его окружают хорошие ребята, благородные и честные. Они и в политике разбираются, и музыкой увлекаются, интересуются серьезной литературой. А что выпили, так в этом нет, мол, ничего особенного — обыкновенная студенческая пирушка. Но бабушка твердила, что если бы не она, он бы замерз и отдал богу душу.
Писать в Мирославль бабушка воздерживалась, надеясь, что, может быть, все кончится хорошо. Но когда Леонтий привел в дом парня с огромной гривой, она не выдержала и написала родителям. Космы этого патлатого юнца свисали на плечи, Леонтик попросил у бабушки ножницы. Та, не отрываясь от печи, ответила им и продолжала заниматься своим делом. Она решила, что внук хочет немного подровнять кудри сокурсника. Иди знай, что он задумал… Когда она вошла в комнату, то окаменела: волосы, повсюду — волосы. На полу, на стуле, на одежде ребят, на окне, возле которого парни возились… А рядом — продукты, еда. К тому же Леонтик еще принялся отряхивать тут же полотенце, которым вместо простыни накрывал плечи своего пациента. Клара Борисовна рассердилась, выгнала ребят на балкон — приводить себя в порядок, и принялась выметать сор. Когда она выпрямила спину, мальчиков и след простыл — к еде даже не притронулись. Для кого же она старалась, обед готовила? Это, должно быть, и огорчило ее больше всего.
Грустным получилось письмо в Мирославль. Клара Борисовна не жаловалась, просто сообщала: чувствует она себя не так хорошо, как хотелось бы, видимо, полениваться стала на старости. Делать ничего не хочется. Иногда целый день в постели пролежит. Но, слава богу, такое случается не часто. Бывает, что самочувствие меняется в течение дня — то хуже становится, а то — совсем отлично. Она уразумела, как вести себя: помаленечку, не торопясь возиться, а главное — не волноваться.
Она долго искала причину, вызвавшую ее нынешнее состояние, пока не уяснила себе — страх! Беда стряслась с нею оттого, что она перепугалась. Да разве можно остаться равнодушным, если человек твердит изо дня в день, что учеба ему невыносима и он с ума сойдет? Много раз ей казалось: да, у Леонтика действительно не все в порядке. Однажды приходит он и говорит: «Посмотри-ка, бабушка, в мои глаза — они как у безумца, видишь?» Поначалу она, струхнув, потеряла дар речи, но быстро придя в себя, приложила все силы, чтобы отвлечь его от этих мыслей. Правда, через несколько дней Леонтий вновь заговорил о том, что все ему надоело и ради чего, мол, городить огород, все равно долго жить он не будет. Несколько месяцев, не больше. Опять у бабушки дух захватило, голова пошла кругом, но она заставила себя улыбнуться и превратить все в шутку. О, сколько здоровья это отняло у нее! И что же, это подействовало, внук развеселился и завел разговор совсем на другую тему. Все вроде пошло на лад. Бабушка было совсем успокоилась. И вдруг: Леонтий пропал. Всю ночь не сомкнула глаз и утром побежала в университет — но и здесь его не было!
Вечером объявился. На лице играла самодовольная улыбка, и ни капли раскаяния в глазах. Ничего не сказала бабушка, лишь отвернулась.
Письмо она все же отослала, пусть родители знают все. Клара Борисовна лишь просила, чтоб Давид и Дуся не шпыняли сына, не дергали, а постарались найти подход к нему.
После зимних каникул Леонтий до мая месяца охотно посещал занятия в университете, но сердце у бабушки было неспокойно: круг друзей остался прежним.
За два дня до первого мая четверо парней в половине двенадцатого вышли из ресторана: Леонтий, его товарищи, у которого устраивалась злополучная пирушка, где Леонтий утверждал, что лично он вина не пил, товарищ же для храбрости принял сто пятьдесят граммов. Вчетвером они направились к какой-то девушке. Длинноволосый постучал в дверь. Вышла не она, а ее брат. Слово за слово, и завязалась драчка. Старший товарищ Леонтика и татарин тут же скрылись. Леонтий же остался, считая, что его долг — помочь товарищу.
Возле них мгновенно оказался милиционер, словно из-под земли. Ребят отвели в милицию, составили протокол, и свидетели отыскались — пара старичков.
На следующий день документы ребятам вернули, но протокол был переслан в университет, и там колесо завертелось. Кончилось тем, что Леонтия исключили и из комсомола, и из университета.
Когда Леонтий стал слесарем на компрессорном заводе, бабушка часто говорила, что все к лучшему, поскольку прервалась его дружба с этими друзьями, и дай бог, навсегда.
Только через четыре года Леонтий вновь поступил в университет. Бабушка была счастлива — ее усилия не прошли даром: Леонтик сознательно вышел на верный путь.
Давид Исаевич угадал-таки, о чем думали мать и сын.
Тишину нарушил грустный вздох матери:
— Рановато я базар кончаю. Я ему еще нужна буду, Леонтию. Как ты думаешь, а, утешеньице мое?
Внук не смог подыскать подходящий ответ, такой, чтоб согрел и обнадежил бабушку, — и промолчал.
С чуть прикрытыми глазами она протянула внуку руку — широкий рукав халата беспощадно подчеркивал ее худобу. Тонкие пальчики бабушки спрятались в сильных ладонях Леонтия.
— Ты у меня преданный… — Повернув голову к сыну, она убежденно заметила: — Видишь, Давид, кто сажает деревья и ухаживает за ними, тот рано или поздно получает зрелые плоды. — И вдруг, без видимой связи, осведомилась: — У папы был?
— А как же. На рассвете еще.
— Я так и думала. Иначе и быть не могло. — Глаза Клары Борисовны тихонечко закрылись. — Отцу твоему хорошо, Додик, ничего-то у него уже не болит…
Услышав собственные слова, она сама испугалась. Воцарилась напряженная тишина. Давид Исаевич, покашливая, тихо сказал:
— Убрал я вокруг памятника. Теперь там полный порядок. Не волнуйся.
Она лежала молча со сморщенным побледневшим лицом, напряженно и тихо. Сделав над собой усилие, произнесла едва слышно:
— Подождите немного…
Торопиться им было некуда. Сын специально к матери приехал, внук тоже так время распланировал, чтоб провести праздник с бабушкой. Но сидеть рядом с нею, знать, что ее истязают боли и не иметь возможности помочь облегчить ее муки, — это было невыносимо.
Тишина тянулась до тех пор, пока мать не нарушила ее. Соседки по палате тоже безмолвствовали, словно и не было их здесь.
Давид Исаевич вздрогнул, когда мать сказала ему:
— Что ты такой кислый, Додик? Не тужи. Надо смотреть прямо в глаза беде. Роптать стоит ли? Хорошо так, как есть, и то, что есть. — Голос ее звучал несколько глуховато, наверно, боли не совсем отступились. — Не думай, что я учу вас походить на тех червей, которые, лежа в навозе, считают, что слаще места нет нигде на свете. Недовольство приемлемо лишь тогда, когда оно толкает вперед. Ежели оно повисает камнем на ногах, то превращается в путы. — Клара Борисовна помолчала немного, отдыхая, и продолжила: — Когда я маленькой была, мне рассказывали сказочку. Будто в некотором государстве с зелеными виноградниками, много-много лет тому назад, у работяг-крестьян, бедняков, в глинобитной хижине родилась девочка необыкновенная — с чудинкой: как только появилась на свет, сразу стала на ноги и как взрослая начала говорить, упрекая: зачем ее сюда доставили, не предупредили, не спросили — без ее воли. Ей это ни к чему, она этого не желает… Родители ее не знали, что делать — радоваться или рыдать? Они из пеленок, заблаговременно приготовленных для ребенка, сшили платьице, одели дочку и сказали ей: «Не жалуйся никогда, дорогушенька-душенька, тот, кто обитает там, наверху, над нами, знает, что делает. Будь умницей и помалкивай». — «Э нет, такое не по мне, — отвечает девочка. — Чтоб со мною выделывали всяческие пакости, а я чтоб дурочкой прикидывалась, будто я — не я и хата не моя, набрать полон рот воды и терпеть то, что мне не по душе? Чтобы я не почесалась, когда кусается?! Нет, большей беды на свете нет». Все в ней бурлило и кипело, обычаи и обряды ее племени вызывали в ней отвращение. Трудная была у нее житуха, ее мучила нужда, бедность донимала, к тому же она вышла замуж за жениха безродного, короче — чувствовала себя несчастной горемыкой… Сколько родители ни старались перевоспитать ее, им это не удавалось. Должно быть, всевышнему надоело выслушивать ее жалобы, и он задумался, чем таким наградить ее, чтоб она в конце концов умолкла. Сутки думал, вторые, лишь на третьи позволил себе улыбнуться, и то лишь уголками губ — все же нашел-таки: жадного человечка — обезьянку сотворил и на плечо неутехи посадил. Как только та пыталась что-нито в рот положить, человечек тут как тут протягивал живо руку и вырывал кусок у нее изо рта. Она спервоначалу попыталась было выкрикнуть, что-де хуже этого ничего не может быть, но воздержалась — впервые: не с богом игру ведет, с дьяволом… Нетушки, хватит, хоть на старости чуток поумнеет…
— Она потом не жалела? — спросил Леонтик.
Бабушка внимательно посмотрела на внука и сказала:
— Кто знает? Может, и жалела, но было уже поздно, после драки кулаками не машут. Стоит только один раз спасовать, и пропало навечно, по крайней мере, надолго…
— Что же ты себе противоречишь, бабушка? Ты ведь утверждаешь, что злу надо сопротивляться всегда, так?
— Ну да, — растерянно ответила Клара Борисовна.
— Почему же сейчас, когда плохо, ты не велишь жаловаться и говоришь, что хорошо так, как есть?
— Конечно, ведь жаловаться бессмысленно. Нельзя поддаваться.
— Очень хорошо понимаю тебя, мама, — вмешался Давид Исаевич. — Бабушка права, Леонтий. Драться надо, сжав губы.
Кивком бабушка подозвала внука поближе к себе, погладила его волосы:
— Ты ведь, парень, уже немножко знаешь, что означает драться. Слава богу, несколько сражений выиграл.
— Ты имеешь в виду, бабушка, драчки?
— Нет, почему же. Именно — битв. Правда, без орудийных залпов.
— У тебя все военные сравнения.
— Четыре года службы в армии не шуточка тебе. Я имею звание военфельдшера, правда, запаса. — Клара Борисовна показала пальцем на Давида Исаевича: — Твой батька не на много раньше меня стал солдатом, хотя побежал в военкомат на другой же день после нападения фашистов на нашу страну. Когда он добровольцем ушел на фронт с четвертого курса пединститута, тебя, крохотного, оставив на маминых руках, мы с твоим дедушкой места себе не находили. Дедушка держался, а я втихомолку слезами умывалась. Ты не в состоянии это прочувствовать.
— Почему ты так думаешь?
— Ибо для этого надо быть матерью.
Провожая эшелон, который увозил ее сына на войну, она беспрерывно шептала: «Хуже быть не может». В тот миг она, очевидно, забыла про сказочку, которую ей рассказывали в детстве, она явно забыла о том, что хуже может стать в любую минуту…
Хуже стало не тогда, когда ее саму вызвали в военкомат и послали работать в казанский военный госпиталь. Больше всего ей пришлось пережить позже, в сорок третьем, когда Давид вдруг замолк на целых четыре месяца, словно в пропасть провалился. Мысленно его уже не раз хоронили, поминки справляли по нем, сидя по еврейскому обычаю на земле, надрывая возле ворота рубашки, и все же, справляя этот обычай — шивэ, — надеялись, верили, что он будет спасен, что-то выручит его, защитит от всех напастей. В конце концов дождались его треугольника, прилетела весточка от него, пусть не с запада, а с востока, из Тагила…
8
Удивительное все-таки дело: сколько времени прошло с тех пор, как нет среди живых ее Шаи-Иегуды, которого она, отбросив первую половину его двойного имени, звала ласково Егудо, а она не перестает тосковать по нем — томиться, словно молодушка, влюбленная невеста.
Любовь? Да что же это такое? Век свой прожила, но попробуй ответь. Где взять слова, чтобы рассказать об этом. Любовь — это жизнь, вот что, вся — от колыбели и до гроба. Дурой была, глупой осталась — о чем думает, а? Любовь? Но почему — глупой? Женщина остается женщиной до конца… Если и любовь — так что? Если бы не любовь, разве она смогла бы выстоять, преодолеть все свои невзгоды? Разве не любовь повела ее из родного местечка аж в город Винницу, где служил в солдатах ее жених? Если не любовь, то что же помогло ей отыскать своего милого, прорваться к нему сквозь железные ворота казармы, утешить его, вдохнуть мужество?
Вернуть его в Словечно ей, разумеется, не удалось. Любовь, однако, научила ее другому — ждать. Долгие годы ждала, пока царь Николай воевал с кайзером Вильгельмом.
Приходилось довольствоваться письмами. «Дорогой Егудо», «Хайчик, сердечко мое» — утешали друг друга на четырех языках: на древнееврейском, идише, потом на украинском языке и, наконец, по-русски.
После февраля девятьсот семнадцатого к ней в Словечно пришло письмецо в конверте, на котором стоял штамп Петрограда. Оказывается, ее жених лечился в одном из тамошних госпиталей. Ее терпение лопнуло: «Туда, и больше ничего». Сколько ни отговаривали ее — мол, у бати мешка с деньгами нет, да и дорога небезопасная, особенно для девицы, ничего не могло удержать ее. Кое-какие сбережения она сделала из платы, которую она получала за уроки. Она организовала единственную в округе школу для девочек. А страха не ведала она, знала одно: как можно скорее в путь!
Увидев невесту на крыльце госпиталя, Егудо оторопел, не мог сдвинуться с места, ее появление здесь явно граничило с фантастикой, в первый миг ему показалось, что это просто галлюцинации. Он закрыл глаза, но тут же распахнул вновь.
— Хайчик?! — шептали чуть слышно его губы.
Несколько мгновений оба казались окаменевшими. Когда Егудо очнулся, он, не чуя под собою ног, прыгнул прямо в объятия любимой.
— Как ты попала сюда, дорогая моя?
— Сейчас получишь полный отчет. Ты как себя чувствуешь! Как твое здоровье?
— Слава всевышнему. Я уже на ногах. Только вот глаза…
— С ними-то что?
— Теперь — не страшно. Что-то покалывает там, как малюсенькими иголками. Мой эскадрон немец обрызгал новыми «духами» — газ на нас пустил. Поняла или нет?
Не все было ясно, но ежели ее Егудо стоит возле нее живой, все будет хорошо.
И она не ошиблась.
Потом они долгие годы вспоминали дни, проведенные вместе в послефевральском Петрограде. То были самые лучшие дни их жизни. Да и неудивительно, они были молоды, а разлука длилась так долго.
Однажды вечером, оглядывая свою невесту, Егудо молча, про себя отметил, что одета она все же не по-городскому, и шапочка на голове старомодна, и воротник из овчины на ее длинном, почти до пят пальто линяет, и носы полусапожек протерты, и широкий, с толстой медной пряжкой пояс выглядит здесь, в столице, нелепо, но все это мелочь по сравнению с небесными глазами невесты, ее милым лицом, ее душой.
— Мы сегодня пойдем к Финляндскому вокзалу, — сказал он.
Хайчик была согласна на все. Если надо, она с ним, своим суженым, на край света пойдет. Зачем, по какому случаю — она не спрашивала. Но Егудо объяснил сам:
— Приезжает Ленин…
Кто такой Ленин, она уже слышала. И представляла она себе этого человека великаном с большущими кулаками, мощным, широкоплечим, которому по силам перевернуть нынешнюю жизнь вверх тормашками. Хайчик довольно слабо разбиралась в политике, но жениху она верила: если он говорит, что Ленин прав и надо идти за ним, она пойдет не задумываясь.
Как произошло, что он, скромный паренек еврейского местечка, затерянного в Полесье, смог разобраться что к чему и куда ведет Ленин. Трудно объяснить. Егудо полагал, что все началось с газет, с тех многоликих, бесчисленных изданий — белых, черных, желтых, красных, — разномастных, которые ему приходилось читать для себя и вслух для товарищей-солдат, с которыми он служил. Частенько к нему обращались с просьбой громко прочесть ту или иную статью или сообщение в газетах, а то и какую-нибудь шальную листовку, и Егудо никогда не отказывался. Читал все подряд статьи: кадетские, эсеровские, большевистские, — и размышлял, что кадеты говорят, куда эсеры ведут? Как коммунисты относятся к евреям? Мозг его работал без устали — хотелось докопаться до сути. В конце концов Егудо начал понимать, что ни с кем, кроме большевиков, евреям в России не по пути. Только с большевиками могут евреи — голодранцы, бедняки, перекати-поле — стать людьми со всеми наравне.
Когда Егудо и Хайчик приблизились к Финляндскому вокзалу, вся привокзальная площадь была переполнена рабочими, матросами, солдатами, женщинами. Даже детишки были в толпе. Попытка протиснуться вперед не удалась. Остались на месте. Оттуда просматривались лишь верхние ступени лестницы, но что делать?
Пока они, торопясь на вокзал, шагали незнакомыми переулками, морозец не ощущался, но, когда остановились, он тут же дал себя знать. Пальцы Хайчик, даже в шерстяных рукавичках, замерзли. На щеку словечанки опустилась снежинка. Хайчик подняла лицо. Небо было темное, облачное.
Вдруг толпа колыхнулась. Площадь озарилась ярким светом, какого Хайчик еще никогда не видела.
— Это — прожектора, — объяснил Егудо. — Лампы такие громадные.
Могло показаться, что именно этот яркий свет растормошил пришедших сюда людей, притягивая к себе как магнит. Послышались гулкие возгласы, приветствия. Где-то впереди широко распахнулась вокзальная дверь, и на пороге показался человек в расстегнутом темном пальто. На миг человек задержался в проеме дверей — видимо, не ожидал увидеть людское море. Он повернул голову к провожатым, те сказали что-то, после чего он стремительно, в одно мгновение оторвался, отделился от сопровождавших и окунулся прямо в толпу. Он быстро сорвал фуражку с головы и взмахнул рукой. Его окружили десяток-другой мужчин — рабочих, солдат, матросов.
«Вот те, пожалуйста, и диво дивное, — подумала Хайчик с удивлением. — И вовсе он не великан». Она уже догадалась, что это Ленин. Обыкновенный человек, может, чуть-чуть выше ее Егудо.
Хайчик видела, как он взобрался на башню броневика и прикрыл ладонью глаза, защищаясь от слепящих прожекторов. Это длилось недолго, всего несколько секунд. После первых слов, произнесенных Лениным, огромная толпа мгновенно затихла.
Хайчик мало что поняла из речи Владимира Ильича, но всеобщее настроение людей передалось и ей. Она почувствовала радостное возбуждение и желание что-нибудь сейчас же предпринять. Впечатление было огромным.
Последние слова Ленина Хайчик и Егудо услышали внятно потому, что, произнося их, Владимир Ильич повернулся лицом к ним.
— Да здравствует социалистическая революция! — провозгласил он.
— Вот в чем суть, поняла? — пояснял Егудо невесте. — Лишь революция социалистическая может дать нам равноправие.
Хайчик все же спросила:
— Ну а с Палестиной как?
Егудо отозвался решительно:
— Здесь, дорогая, наше небо и наша земля, Родина наша.
9
В последнее время воспоминания неотрывно преследовали ее, словно преданные стражи. Среди воспоминаний все чаще стала подкрадываться нелепая, неуклюжая мысль. Она не засекла, откуда та подкатилась, не знала, как оттолкнуть ее от себя. Мыслишка эта сулила конец мытарствам, обещала, что ее, Клару Борисовну, тотчас же перестанут терзать боли и страдания, пусть только она в одночасье перестанет помнить, пусть все забудет разом — и добро, и зло. Как только она навсегда закроет глаза, мучения ее исчезнут… Почему говорят «уйти навеки»? Тут что-то не так. Нет, не уйти — навеки остаться. Память потерять? Ничего себе желаньице! Оставить Егуду одного? Покуда она, Хайчик, жива, и он, ее Егудо, будет жив. Потом он останется жить в сыне, во внуках, но сейчас, пока она жива, он рядом с ней, в ее памяти. Ради одного этого стоит терпеть. Хотя, если честно, муки ее невыносимы.
— Тебе что-то приснилось? — Давид Исаевич положил ладонь на пальцы матери.
— Ничего. Я разве что-нибудь сказала? Жаловалась? Нет? Мне почудилось, что папа идет сюда…
В это мгновение неожиданно распахнулась дверь палаты и на пороге появилась стройная, высокая женщина в накрахмаленном до голубизны халате и белой шапочке на голове, из-под которой выбивались белокурые, должно быть, крашеные волосы, уложенные узлом на затылке. Мать и ее соседки поспешили поздороваться с нею. Она поздравила всех с праздником и пожелала скорейшего выздоровления.
Давид Исаевич от неожиданности растерялся и не ответил на приветствие. Оправившись, он сделал было к ней шаг, но она опередила его и молча протянула руку. Он пожал ее:
— Полинька?
— Как видишь.
— Твердая рука у тебя.
— Как-никак я ведь хирург.
Время добросовестно изменило внешность Полины Наумовны. Но лишь лицо. Фигура осталась прежней, юной. Это Давид Исаевич сразу отметил про себя. Она даже стала тоньше и изящней. Руку ее Давид Исаевич задержал немного дольше, чем подобает при встрече старых друзей, даже если разлука тянулась несколько десятилетий.
Высвободив ладонь, Полина Наумовна повернулась к Кларе Борисовне и присела на койке. Давид Исаевич пристально следил за врачом. Полина Наумовна явно была встревожена. Озабоченность ее почувствовала и мать. Давид Исаевич с нетерпением ждал, чем все это кончится.
— После рентгена вы уже беседовали с лечащим врачом, Клара Борисовна? — спокойно спросила Полина Наумовна, но Давид, не сводя с нее глаз, понял, что спокойствие напускное.
— Нет, — тихо ответила мать.
— Великолепно.
Давид Исаевич вновь почувствовал в ее голосе тревогу.
— Праздник — так праздник для всех, — замечает Полина Наумовна.
— У меня он двойной, — откликается мать.
— Понимаю: приехал Давид.
— Теперь-то уж вы обязательно меня на ноги поставите — все вместе…
Клара Борисовна попыталась заглянуть в глаза доктора, но это ей не удалось. Полина Наумовна опустила голову вниз, обеими руками поправляя скрутку волос на затылке. Колючий холод сжал сердце Давида, и он резко побледнел. Мать непостижимым образом почувствовала состояние сына и, взглянув на него, продолжала:
— Сызмала привыкла я к невзгодам, закалилась. Заставим болячки отступить. В первый раз, что ли? Одолеем их. Не тужить! Перемелется, мука будет. — Повернув лицо к внуку, бодро сказала: — А ежели мука будет, я на твоей свадьбе такой торт сотворю — пальчики оближешь. Самый лучший в моей жизни. Ты знаешь, какие торты я пекла? Ты папу спроси. Ты еще не знаешь, на что я способна…
— А вдруг я не женюсь.
— От тебя всего ожидать можно.
— До сих пор считаешь, что я — хорошее вино в плохой бочке?
— Поглядите-ка на него! Еще не забыл? Нет, ты молодец, честное небесное.
Полина Наумовна скользнула глазами по лицу Давида и торопливо отвела глаза. Это для него было красноречивей всяких слов. Теплись хоть маленькая надежда, она бы так себя не вела.
Тишина, которая вновь, как удушающий туман, вползла в палату, не понравилась матери. Она оглядела всех и скупо улыбнулась.
— Давайте смотреть на все бодрей. Порою небо кажется намного мрачней, чем оно на самом деле. Сегодня надо веселиться. Зачем отдавать концы прежде, чем Ягишна с косой поприветствует тебя. Ежели она упрямо прет на тебя, надо стать нахалом и отчаянно сопротивляться. Я еще не совсем выдохлась… Твой дед, Давид, в таких случаях говаривал: «Огл веесмах» — буду радоваться и наслаждаться…
— Завидую вашему мужеству, Клара Борисовна.
Лишь теперь мать получила возможность заглянуть прямо в глаза Полине Наумовне, и ей показалось, что глаза докторши влажны от слез. Словно ничего не заметив, она продолжала:
— Меня, дорогая моя Полина Наумовна, жизнь, как бог Иова в Библии, всяческими бедами испытывала. Иного выбора, как преодолеть их, у меня не было. Так вот и закаляются, становятся стойкими. Сначала трудно, невыносимо даже, потом привыкают, хорошо это или плохо, не знаю, но мою семью и меня, разумеется, не миновала ни одна беда нашего времени.
Она медленно наклонилась к тумбочке и сказала своим певучим голосом:
— Вина, дорогие мои, у меня нет, компот имеется, и я хочу, чтоб вы выпили по рюмочке.
— Господи, чуть было не забыла, — всплеснула руками Полина Наумовна. — Я же ваш любимый зефир в шоколаде принесла. Возьмите, пожалуйста, и не обижайтесь.
— Большое спасибо, голубушка. Мы сейчас все его и отведаем. Надеюсь, никто не откажется.
Соседки матери попытались возразить, но Клара Борисовна и слушать не стала:
— Ай, не валяйте дурака, девчата. Хватайте, пока я не передумала. Не стесняйтесь. Вот так. Жаль, что ты, Давид, водочки не принес. Кстати, Полина Наумовна, вино мне запрещено?
— Вам разрешается все, что вам хочется.
— Хоть бы на старости стать пьяницей, — мигнула мать соседкам.
В палате стало оживленно. Завязался общий разговор. Компот давно был выпит.
— У меня ведь тоже гость, Клара Борисовна, — вдруг виновато произнесла Полина Наумовна. — Свекровь.
— Что же вы тут время транжирите? Бегите скорее отсюда. Давид, проводи, пожалуйста.
В тихом, пустом коридоре, шагая рядом с нею по мягкой бесконечной дорожке, Давид шепотом произнес:
— Ты как будто сердишься, Полинька?
— Откуда ты это взял?
— Мне так показалось.
— Ошибаешься, Давид, мне приятна встреча с тобою.
— Скажи, у мамы действительно все так плохо?
Полина Наумовна на секунду задумалась и сказала:
— Пока я тебе ничего не скажу.
— Бедная мама, — еле слышно произнес Давид.
— Пока я ничего не могу тебе сказать определенно, но и утешать не стану.
— Но я же вижу, что ты очень расстроена.
— У меня есть заботы, и немалые, — как бы Оправдываясь, сказала Полина Наумовна. — У свекрови много проблем, и вовсе они не простые. Голова идет кругом.
— Ну ладно. Всего тебе хорошего.
— Я не прощаюсь, Давид. Жду тебя вечером. Приходи с сыном. Он знает, где я живу.
Давид оцепенело посмотрел вслед Полине Наумовне. Он вдруг внезапно ощутил, как велика беда, надвинувшаяся на маму. И хотя он пытался успокоить себя, уговорить, что окончательного приговора нет, однако сердце подсказывало: стряслось наихудшее.
10
Давид Исаевич тихонечко вернулся в палату. Он чувствовал себя постаревшим лет на десять. Скрыть свое состояние Давид не в силах, но и дольше задерживаться в коридоре, не вызвав подозрений у матери, уже нельзя. Надо было вернуться.
Клара Борисовна смерила его взглядом с ног до головы и заглянула в глаза.
— Знаешь, что мы сейчас предпримем? — сказала она, когда он с опущенной головой остановился подле нее. — Возьми Леонтика — и марш отсюдова. Ты, наверно, всю дорогу из Мирославля до Казани, как обычно, и глаз не сомкнул. Тебе выспаться надо.
— Никуда я не пойду. Буду здесь, возле тебя.
— Сделай мне одолжение, Давид. И соседок моих пожалей.
— Мне, например, ребята ни капельки не мешают, — отозвалась одна из женщин.
— Гражданка, я вам слова не давала, — строго сказала мать, и лишь озорная искорка в ее глазах подсказала, что эта суровость напускная.
— Не портите нам праздничное настроение, — взмолилась вторая соседка. — Не гоните их, Клара Борисовна, с ними чувствуешь праздник.
— Вот тебе еще одна защитница на мою голову. Помалкивайте, девчата. Без вашей помощи с молодежью справляюсь. Ступайте, парни, домой.
— Наш дом там, мама, где находишься ты.
— Красиво говоришь. Но какой пример сыну подаешь? Если приказ дан, его выполняют без возражений. Ты это должен знать, как-никак офицер.
— Поймал нагоняй? — улыбается Леонтий. — Тягаться с бабушкой опасно.
Давид Исаевич широко развел руками, прикрыл веки.
Клара Борисовна не спускала глаз с ребят: все равно выпроводит их из больницы на свежий воздух. Задание для них она уже продумала. Клара Борисовна давно собиралась покрасить ограду вокруг памятника, но все откладывала. Теперь неизвестно, сможет ли она этим заняться. А вот они и сделают это сегодня, Давид и Леонтик. Лучшего случая не найти. У нее все готово: краски — бронзовая и серебристая, масло, кисти…
Альтернативы нет. Надо — сделают. Давид и сам утром подумал, что было бы хорошо обновить ограду…
Отец и сын добирались сначала на трамвае, потом пересели на автобус, который доставил их как раз на Привольный переулок. Перекусив немного, они переоделись и пешком отправились на кладбище. Шли той же тропой, по которой Давид Исаевич шагал сегодня утром. Расположившись с противоположных сторон, они стали тщательно зачищать ограду наждачной бумагой. Давид Исаевич замечает, что сын его очень повзрослел и возмужал.
— Что тебе Полина Наумовна сказала? — спросил Леонтий отца как бы между прочим.
— Ничего особенного.
— Прошу тебя, не крути волу хвост. Ты вышел из бабушкиной палаты провожать докторшу веселым, а вернулся помрачневший.
Впервые Давид Исаевич пожалел, что у него, как и у всей его родни, по лицу можно узнать все, что творится в душе.
— Ничего определенного она не сказала, — произнес отец, продолжая очищать ржавчину. — Не надо прежде времени волноваться.
— Когда, по-твоему, я должен стать мужчиной?
Давид Исаевич взглянул на сына, и глаза их встретились.
— К бабушке, Леонтий, подкрадывается ангел смерти, — тихо сказал Давид Исаевич. — У нас, у евреев, его называют Малхамовес.
— Так сказала Полина Наумовна? — Лицо Леонтия стало напряженным.
— Нет.
— Почему же ты так говоришь?
Слова не нужны, это и так ясно. Он и сам видит, что бабушка опасно больна, но ужасные слова отца трудно осмыслить. Не хочется, очень не хочется верить, что состояние бабушки безнадежное.
Чтобы не видеть отцовских слез, он отвернулся и принялся усиленно полировать железные прутья ограды. Вдруг неожиданно ему пришла в голову мысль, что в бабушкиной болезни есть немалая доля и его вины. Чем дольше он думал об этом, тем яснее сознавал, что его запоздалое раскаяние бессильно что-либо изменить и помочь.
Он почувствовал, что жизнь довольно хрупкая вещь и в любой миг может оборваться. Но солнце все равно светит и жизнь продолжается, как и миллионы лет назад. Думать о том, что бабушка умирает, он не может. Сколько он ее знает, ему не удалось припомнить ее жалкой. Строгой, требовательной, сердитой, взволнованной и гневной, насмешливой — это да. По малодушной, расслабленной бабушку ни разу не видел.
Почему-то вдруг в памяти всплыло далекое зимнее утро с замороженными, словно вспухшими, темными окнами. Вполне допустимо, что память неустанно записывает все события на невидимые ленты, а потом нежданно включает кадр за кадром. Но как ей удается включить именно ту часть, какая необходима в данное мгновение? Впрочем, ничего достоверно объяснить не может. Частенько высвечиваются такие места, которые не мешало бы раз и навсегда стереть. Порою случается… Память не всегда бывает благом, подчас она превращается в мучителя. Перед Леонтиком вновь мысленно всплыла бабушкина спаленка на Привольном переулке с ее замерзшими окнами и бабушкины седые волосы у репродуктора, из которого доносится голос диктора. Диктор два раза объявил, что уроки во всех десяти классах отменяются в связи с морозом. Леонтик недовольно высунул нос из-под темного одеяла и, вздыхая, сказал, что есть же на свете люди, которым подваливает счастье, вот ему, Леонтику, не везет, к сожалению, надо идти вкалывать, хотя на улице свирепствует ужасная стужа. Бабушка возражала, что не так страшен черт, как его малюют, кроме того, он, Леонтий, будет, наверно, не единственный на улице, хотя бы потому, что рядом с ним будет шагать по меньшей мере еще одна душа — она, его бабушка. Леонтий широко раскрывает глаза и замечает, прося заранее прощения, что дуракам закон не писан. Чего бабушка, забыла в школе вчерашний день? Там, в школе, никого ведь не будет.
— Ты уверен? — ответила бабушка внуку с беспокойством в голосе. — А может, кто-нибудь проспал и не услышал радио? Может, кто-нибудь прибежал в школу с отмороженными щеками? Кто тогда окажет первую помощь?
Они спускались по ступенькам в пальто, застегнутыми на все пуговицы, с заблаговременно приподнятыми воротниками, в которых почти полностью утопали меховые шапки. Открыть наружную дверь было не очень-то легко: снег, который сыпался всю ночь из неведомых кладовых, завалил ее почти наполовину. Леонтию пришлось хорошенько напрячься, несколько раз изо всех сил толкнуть ее, чтобы приотворить и просунуться наружу.
Привольный переулок весь, от начала до конца, тоже был укрыт снегом. Недолго думая, бабушка принялась было протаптывать тропу.
— Подожди, я сам! — остановил ее Леонтий. — Пахать снег не твое дело.
Бабушка попыталась возразить:
— Мои ноги лучше защищены.
— Разумеется, твои валенки на километр выше моих ботинок, эх ты… Разве так внука воспитывают?
— Ладно, ладно, сдаюсь. Один — ноль в твою пользу. Считай, что победил. Только, пожалуйста, сунь штанины в теплые носки.
Когда они выбрались из проулка на большую улицу, стало гораздо легче шагать и дышать. Снег под ногами заскрипел веселее, однако бабушка еще долго не могла успокоиться, волнуясь, как бы внук, весь потный от проделанной работы, не простудился. Она поминутно заставляла его поправить шарф.
Как часто бывает, когда ждешь с нетерпением трамвая, он непременно задерживается и на остановке собирается порядочная толпа. У бабушки не было привычки расталкивать локтями и лезть вперед. Леонтик хотел продвинуться поближе к рельсам, чтобы наверняка попасть в вагон, но как быть с бабушкой… И вдруг, когда уже издали донесся грохот трамвая, послышался возглас:
— Клара Борисовна, здравствуйте! Я вам помогу, айн момент.
Бабушка и Леонтий не сразу разобрались, кто окликнул, оглянувшись, они увидели высокого лейтенанта, который энергично пробирался к ним.
— Вы не узнали меня, Клара Борисовна? — улыбаясь спросил офицер с погонами летчика. — Я ваш пациент, в вашей школе учился, вашу — нашу школу окончил.
Шумно подкатил трамвай, лейтенант подхватил Клару Борисовну под мышки, приподнял и ловко поставил на верхнюю ступеньку. Леонтий тоже заскочил в вагон и протиснулся к ним.
— Ты же совсем недавно был вдвое меньше меня, — удивлялась бабушка, — как же тебе удалось так вымахать? На дрожжах, видимо, растешь?
— Возможно, Клара Борисовна, и не без помощи ваших уколов. И странное дело, вы нас кололи, нам бывало больно, и даже очень, а мы вас любили. И отчего это так?
И почему именно это воспоминание всплыло в памяти, непостижимо…
Довольно долго возились Давид Исаевич и Леонтий с железной оградой. Они почти не разговаривали, но одни и те же мысли одолевали обоих. Очень уж трудно привыкнуть к жестокой мысли.
— А может, опасность преувеличена?
— Дай бог, чтобы оказалось так. Но чувствую, что положение серьезное.
— Ну а бабушка? Понимает ли она, что с нею происходит?
— Боюсь, что да.
— Мужественная она, — произнес Леонтий с дрожью в голосе.
«Вырос сын», — подумал Давид Исаевич.
С боковой аллеи нежданно послышался голос Полины Наумовны:
— Тут, оказывается, бездельников нет.
Отец и сын одновременно повернули головы. Давид Исаевич ошеломлен: рядом с Полиной Наумовной стояла та самая старуха, с которой он ехал в одном купе.
— Мы, кажется, знакомы с вами, молодой человек, — произнесла она, обращаясь к нему.
— Даже так?! — удивилась Полина Наумовна.
— А этот парень, — старуха показала на Леонтия, — очевидно, ваш старший? Как ваша матушка поживает?
— Не мешало бы, чтоб лучше…
Женщины подошли поближе. Старуха, наклонившись, прочитала надпись на дедушкином надгробии.
— Хорошо, — заметила она, — только длинновато.
— Моя свекровь мало знакома с тобою, Давид, — произнесла Полина Наумовна, поглядев на него, и, переведя взгляд на старуху, пояснила: — Давид был другом вашего сына.
Старуха нахмурилась:
— Не тот ли, что долгое время молчал, не давая о себе знать, весточки не присылал?
Полина Наумовна кивнула головой: дескать, да, тот.
— Ежели так, пойдемте, — приказала старуха и пошла вперед.
На черной мраморной глыбе, к которой они подошли, гравер красиво вывел золотой вязью: «Единственному». Точно и многозначно. Один сын у старухи — один сын, у Полины Наумовны — тоже только он, один.
— Так-то, дорогуши. Когда-никогда с каждым это случается, — сказала старуха строго. — Захлопнуть перед собою дверь туда еще пока никому не удалось.
Старуха перевела дыхание и посмотрела на Полину Наумовну.
— Кто знает, когда я вновь приду сюда?
— Это исключительно от вас зависит, — ответила Полина Наумовна.
— Я решила твердо.
— Это ошибка. Роковая.
— Еще позавидуешь мне.
— Никогда! За море-океан, на чужбину, никакими посулами не заманят меня.
11
Всю свою жизнь Клара Борисовна следовала отцовскому завету: не жаловаться на судьбу. Что бы ни стряслось, она повторяла: это к лучшему… Даже сегодня, выпроводив сына и внука из больничной палаты, она была довольна, хотя боли почти не прекращались. Эти злые собаки, очевидно, только и ждали, когда она останется одна, чтобы напасть на нее. Пока возле нее на страже стояли двое мужчин, у хворобы не хватало мужества и дерзости накинуться на нее. Зато теперь можно поиздеваться над старым, больным существом.
В чистом больничном коридоре с мягкими коврами-дорожками стояла Клара Борисовна, одна-одинешенька. Так лучше — она не желает, чтоб кто-нибудь видел искусанные до крови губы. Ей тяжко, но ноги еще держат ее, и пока это еще возможно, она заставляет себя не поддаваться. Во всяком случае, размышляет она, кровать ее из палаты никуда не убежит.
За окном виднеются молодые клены. Клара Борисовна заметила, что они обрамляют лишь низенькую голубую ограду больницы. Дальше тянутся уже опушенные зеленью сады. За ними просматривается железная дорога. По ней ползет, выгибаясь змеей, бесконечный товарный эшелон. Гулкий перестук колес товарняка докатывается аж сюда, к больнице.
Возле железнодорожного полотна в холодной воде отражались лучи первомайского солнца и навевали грусть: кто знает, удастся ли ей выбраться когда-нибудь на пляж реки Казанки.
На противоположном берегу раскинулся заводской район города с новыми кварталами высотных домов и заводских труб.
«Это уже не мой мир», — подумала Клара Борисовна. Возможно, эти слова она произнесла вслух. Во всяком случае, в ушах ее, как в пустой бочке, звучало:
— Это уже не мой мир!
Клара Борисовна растерялась и вдруг почувствовала, как на нее надвигается темная тень, которая обожгла ее, словно кипятком. Пожила? И будет. Хватит! Так нет же, жалко, неохота уходить из этого мира.
Из затаенных уголков памяти вдруг всплыли последние дни ее отца — мучительные дни. Видимо, и с ней сейчас происходит то же самое. Лишь сию минуту Клара Борисовна в полной мере постигла, что пришлось пережить отцу, какие муки испытать.
Затерянный среди лесов, родной городок Клары Борисовны никак не мог оправиться от погромов. Долгое время не только судьба отца и ее собственная, но и судьба не родившегося еще тогда Давида висели на волоске. До сих пор Клара Борисовна помнит блеск отцовских глаз, когда он, очень походивший на Льва Толстого — с такой же бородой, как у этого великого русского человека, с таким же высоким лбом и даже с такими же морщинами, с копной седых волос под черной ермолкой, — говорил не очень громко, но внятно и четко. Невозможно было установить, жалуется он или разгневан:
— Ну ладно, человек кричит, когда только-только рождается, это объяснимо. Все невзгоды, все несчастья еще впереди и ждут его. Но ежели подоспел конец, можно ведь позволить страдальцу тихо заснуть. И все!
Порою некоторые слова отца сплетались в сказочный венок. Хотя Клара Борисовна была уже взрослой замужней женщиной, смысл отцовских речей не всегда достигал ее разума. Лишь теперь, так, по крайней мере, ей кажется, она постигла их:
— Гору рушит железо, однако железо плавит огонь. Огонь гасит вода, а воду выпивают облака. Облака разгоняет ветер, но ветер разбивается о тело. Тело же ломит страх, хотя страх унимает вино. Вино убаюкивает сон, но сон гонят жуткие боли. Боль, пожалуй, может прервать лишь смерть…
Табакерка отца всегда лежала под подушкой. Чтобы достать ее, ему достаточно было протянуть руку. Наверно, до конца дней своих Клара Борисовна не забудет, как отец осторожно открывал обеими руками коробку, всовывал в нее толстый и указательный пальцы и извлекал щепотку табака. Он подносил табак к ноздрям и всасывал в себя.
— Мы как-то недавно беседовали о счастье, — однажды сказал отец, оглядывая дочь. — Что это — счастье? Старый вопрос. Каждое время дает на него свой ответ. Теперь бы я ответил на него так: человек счастлив тогда, когда не ощущает никакой боли. И это правильно и неправильно. Понимаешь, курам снится просо. Разумеешь или нет? То, что человек порою считает счастьем, на самом деле временное удовольствие. Счастливый по-настоящему свое счастье не ощущает и ощутить не может, ибо секрет счастья состоит в том, что у него, у настоящего, нет ни вкуса, ни запаха.
Теперь-то Клара Борисовна до конца прочувствовала слова отца. Всему свое время, как говорится.
Он был резником-скотобоем, и это ко многому обязывало его. Борух-Давид-Айзик, или как его в местечке звали Борихайзик, был добросердечным человеком.
О жизни родителя своего, пока она получила возможность сама ее наблюдать, Клара Борисовна слышала многое, но больше всех событий в память врезались два.
Еще будучи юнцом, Борихайзик решил, что уедет в Палестину. Привыкший с самого детства к чистосердечности, он прежде всего обратился к своему отцу, к дедушке Клары Борисовны, чтобы тот благословил его на такое дело. Однако вместо желанного разрешения и доброго напутствия получил как пощечину неожиданный запрет.
— Почему? Неужто это грех?
— Каждый плод в свое время созревает, — был ответ деда Клары Борисовны, который не любил повторять дважды. Сказал — и конец. Он тоже был резником-скотобоем. Слово деда считалось законом. Больше ни о чем с наследником толковать он не стал.
Борихайзик, как говорится, был настоящим сыном своего отца — яблоко от яблони недалеко падает. Паренек решил, что плод уже созрел. Без гроша в кармане, налегке, Борихайзик убежал из дому. Лишь под Овручем отец догнал его.
Дед Клары Борисовны мог бы, конечно, стянуть с сына штаны и наподдать как следует взбунтовавшемуся чаду, но у него достало ума понять, что отпрыск его во всем походит на него, что парень таки вырос из пеленок и березовый прут для него не самое страшное наказание.
— Голова учит задницу, а не наоборот. Хотя следовало бы хорошенько погладить это самое место пониже спины.
Он не был уверен, что слова в эту минуту могут помочь, и все же, глядя в глаза Борихайзику, строго сказал:
— Славненько, ничего не скажешь. Ищешь добро только для самого себя. Стало быть, здесь, в изгнании, ты покидаешь меня, свою мать, друзей… Значит, нам можно здесь быть, а тебе нельзя. Нет, дружок, так не поступают. Если бы все могли вернуться туда, тогда — пожалуйста. Когда настанет время, мы все уедем. Покуда же сиди тут… Вот что я тебе хотел сказать. Теперь поступай, как знаешь. Шагай. Держать не стану…
Борихайзик задумчиво стоял, опустив голову. «Может, и прав отец?» — спрашивал он самого себя. Скорей всего, да. И впрямь некрасиво. Если не все могут пока перебраться туда, значит, и он, Борихайзик, должен подождать. Он не лучше других, он — простой смертный…
Домой они вернулись вместе.
И тем не менее для Борихайзика это не прошло даром — отец женил его, тем самым привязав к дому, чтобы и мечтать не смел вновь рвануться из гнезда.
Наверно, оттого Борихайзик и возненавидел свою жену еще до того, как провел с ней первую ночь.
Привыкнуть к этой женщине Борихайзику так и не удалось.
Борихайзик, однако, не был бы самим собой, если б поддался обстоятельствам. Он дал себе обет — избавиться от супруги. В конце концов терпение лопнуло. Совершить задуманное было несложным делом. По религиозным законам еврей имел право дать развод жене даже по пустячным причинам — пересолила супруга суп, и это могло стать поводом к разрыву брачных отношений. Как же поступил Борихайзик? На лоскуте пергамента он написал слово «разведена», прикрепил к лоскуту веревочку и прикрепил к одежде жены. В один миг она перестала быть его женой. Просто и грубо.
Это произошло, когда Борихайзик взял в свои руки отцово ремесло — хазоке, то есть преимущественное право на аренду отцовского дела. Вторая жена Борихайзика, Малке, мать Клары Борисовны, была почти вдвое моложе мужа и имела все достоинства. Впрочем, один недостаток у нее все же был — длинный язык. Неустанной болтушкой оказалась она, даже заснуть молча не могла.
Богачом Борихайзик не был, но и не бедствовал. Как-то удавалось ему сводить концы с концами. От каждой зарезанной коровы и вообще от каждой скотины ему перепадала селезенка, кончик печени и порядочный кусок двенадцатиперстной кишки, кроме того, он получал еженедельно от общины трешку за работу. Этого, конечно, было маловато, но у него были кое-какие приработки. Он покупал ягнят, обрабатывал их шкурки, продавал и оставался с прибылью. Борихайзик вкалывал до соленого пота, не жалея сил. Он также занимался обучением местечковых парней, которые уже закончили начальную школу. Разумеется, гимназией учебное заведение Борихайзика не назовешь, но религиозное учение ребята познавали у него хорошо. Он был к тому же одаренным наставником. Репутация «вуза» Борихайзика в местечке была высока, все стремились попасть на его занятия. Конечно, кое-какую плату он имел с этого дела. Вот так, по крупицам, семья и собирала свои средства к существованию.
Борихайзик дружил с местечковым водовозом, которого любил, потому что был тот таким же тружеником, как и он сам. Водовоз любил задавать всевозможные вопросы, порою очень даже обидные. Однажды водовоз спросил, сощурив один глаз:
— Реб Борихайзик, вы когда-нибудь пробовали знаменитую запеканку или удовлетворяетесь коровьими кишками?
Борихайзик не рассердился и гордо ответил:
— Тот, кто благословил Авраама и Йицхока, научил и меня есть кугл из мяса…
Водовоз был не дурак и понял Борихайзика. Намек водовоза все же задел гордость резника. Мясо, мясо, всегда мясо… Грешить нечего, в народе правду говорят: от излишнего пользы не бывает. Его порою тошнит, когда его маленькая жена Малка возится на кухне с этим мясом. Сначала вымачивает его, потом густо солит, оставляя на доске на целый час, потом моет в семи водах и лишь затем начинает крошить. А когда это кушанье начинает издавать осточертевший запах, тогда, бедный Борихайзик, держись стоически, пока голод не пересилит отвращение. Пост, однако же, длится недолго — хочешь работать, уважай жратву. Именно ради этого Борихайзик отправлялся в синагогу на рассвете, чтобы обрести право поесть спозаранку — до молитвы еврею запрещалось кушать. Все местечковые думали: чуть свет, а он уже на ногах, на пути к молельному дому. Вот это набожность! Молиться Борихайзику приходилось с местечковыми ремесленниками, с портными, с шапочниками, с сапожниками — рядом с теми, кто начинает свой рабочий день рано утром. Среди них был его всегдашний спутник — водовоз. С ним-то Борихайзик и возвращался из синагоги домой, с удовольствием слушая его болтовню. Всякий раз балагур извлекал из своих запасников свежую прибаутку, выдумывал небылицы, а Борихайзик покатывался со смеху.
— Реб Борихайзик, будьте добры, объясните мне, пожалуйста, для чего благоверному еврею надо ежедневно высказывать сто благословений господу своему, и научите меня, прошу вас, где взять столько молитв? — спросил серьезно водовоз, и лишь в уголках губ притаилась улыбочка. — А легко ли из себя столько выдавить? Шестьдесят грехов легче отыскать. Моя супружница ругает меня на чем свет стоит, ей времени не хватает пришивать пуговицы к передку моих штанов, хоть оставляй это деликатное место на произвол — открытым, незастегнутым… Если бы я был богом, я бы все молитвы отменил. Но пустые надежды, пустые мечты.
Борихайзик молча поглаживал бороду и не возражал водовозу. Ладно, это останется между ними.
— У каждого свои беды имеются, реб Борихайзик, — продолжал болтовню водовоз. — Вот я иду и боюсь, что моя благоверная вновь встретит меня таким поздравлением, что ежели даже захочешь, ни за что не сочинишь. Так слушайте, реб Борихайзик, и отнюдь не завидуйте мне. Вчера, после молитвы, после омовения рук, говорю жене: «Покажи-ка, богом данная, какой завтрак ты приготовила». Молчит. Повторяю вопрос. Тогда она загорается гневом, стреляет своими фонарищами так, что, будь я другим человеком, я бы, наверно, околел на месте. «Интересуешься, разбойник, какой завтрак изготовлен тебе? Малярия в маленьком горшке, ешь на здоровье!» Я, конечно, не воздерживаюсь, возвращаю оплеуху. «Почему в маленьком горшке? Не могла уж взять горшок побольше, чтобы и тебе от этого варева немного осталось…»
Неприятностей у Борихайзика было вдосталь своих собственных. Нет, со своей супругой Малкой он не ссорился, как водовоз, во всяком случае, весьма редко — он любил ее, да и она не позволяла себе глупостей. Спорить ему приходилось частенько с раввином, с шамесом, даже с властью.
Почему раввин озлился на местечковых жителей, никто не ведал, но однажды он забраковал всю снедь, которую они впрок заготовили на пасху, объявив эту еду трефной, не кошерной, то есть не соответствующей религиозным стандартам. Придрался к тому, что-де перец, который использовали при подготовке пищи, не обладает качествами пасхального продукта. Приказ раввина грозил разорить местечковую бедноту. Борихайзик отважно заступился за нее.
— Беру грех на себя! — объявил он раввину.
Раввин был упрямым, но и Борихайзик не уступал. И завязалась схватка. Раввин тыкал в книгу законов и указывал на параграф, оправдывающий его требование. Борихайзик нашел на той же странице другое место, в котором утверждалось противоположное. Раввин долго не сдавался, но наконец не выдержал и согласился с Борихайзиком.
Захотелось как-то приставу, чтобы евреи носили резать своих кур не домой к Борихайзику, а на бойню, которая находилась в трех километрах от местечка. Борихайзик не послушался пристава и продолжал резать птицу у себя в сарайчике. Однажды урядник застукал Борихайзика за этим занятием и попытался отнять у него халэф — острый нож, однако вместо него заполучил толстый, красный шиш — известную комбинацию из трех пальцев. Борихайзик рассвирепел и в гневе так двинул урядника кулаком, что тот не удержался на ногах. Урядник озлобленно поднялся и молча ушел. Все это произошло на глазах Клары Борисовны. Когда выяснилось, что урядник составил протокол, перепуганный отец помчался к богатейшему в местечке человеку за советом.
Чего только не сделаешь, чтобы спасти резника. Золотая пятерка перекочевала из руки богача в карман пристава, и протокол, составленный урядником, исчез бесследно. Когда урядник попытался было узнать у пристава, почему он не наказывает дерзкого жида, пристав объяснил своему подчиненному:
— Ты глупец, ничего не понимаешь. Без свидетелей твой протокол пустая бумажка, потому-то я и порвал его.
Обиженный урядник направился в Овруч к исправнику — искать справедливости. Исправник прислал комиссию для расследования дела.
Борихайзика немедленно вызвали на допрос.
— Приставу взятку давал?
Вопрос для Борихайзика не был обескураживающим.
— Нет, — отвечал он решительно. — Я пристава и в глаза не видывал.
Все это была правда, ибо золотая пятерка не из рук резника, а из рук богача скользнула в карман пристава.
О том, что Борихайзик опрокинул урядника на землю, речи не было — стыдно было жаловаться: чтобы его, урядника, жидяра пархатый на землю свалил — срам.
Главный следователь комиссии попытался обмануть Борихайзика:
— У меня свидетели есть, что ты давал взятку приставу.
Борихайзик упрямо стоял на своем:
— Я ничего не давал.
— За ложные показания можно попасть в тюрьму. Это знаешь?
— Могу присягнуть чем только хотите.
Борихайзика все-таки заперли в кутузку:
— Вспомни. Подумай. Тебя отсюда не выпустят, пока не скажешь правду.
Борихайзик переночевал в холодной, темной камере. «Первая ночь в тюрьме, как первая ночь в гробу», — к такому выводу пришел он.
Утром — то же самое:
— Подумал? Чистую правду говори!
— Вы принуждаете меня, чтоб я солгал?
— Тебя сгноят на каторге в Сибири! — попытались нагнать страх на резника, но опять никакого результата.
— Так, значит? Сгноить?! Хорошо. Тогда я вновь объясняю: пристава в глаза не видел, взятку ему не давал.
Когда следственная комиссия уехала, пристав просил передать резнику, что, сколько будет жив, будет ему благодарен.
Многие события отцовской жизни разворачивались в присутствии Клары Борисовны, но не все она была в силах понять и осмыслить.
Однажды водовоз, как всегда весело болтая, привел к нему свою корову — резать. Что произошло в тот день, Клара Борисовна узнала много позже. Только лишь на своем смертном одре Борихайзик признался в своем грехе.
Когда Борихайзик опытною рукою мастера сделал то, что обязан делать резник, он неожиданно обнаружил в потрохах коровы иголку. Борихайзик впал в замешательство.
Борихайзику надлежало, как только он обнаружил иголку, сразу же объявить, что корова водовоза порченая, что евреям запрещается потреблять в пищу мясо от этой коровы. Борихайзик и поступил так бы, если б у него не было сердца. Мясо от такой коровы в шесть раз дешевле обычного. А коль так, водовоз потерпит страшный убыток и может попросту пойти по миру. И лишь Борихайзик мог спасти его. Альтернатива причиняла ему невыносимые муки. Резник несет ответственность прежде всего перед богом, а затем уже и перед общиной. А община резнику доверяет. Можно, конечно, сделать вид, что ничего не произошло, не было иголки, и все тут. В конечном счете, никто не узнает, была она или нет. Но как быть со всевышним? Бога не обманешь. С недосягаемой высоты он видит все, что творится на этом свете.
— Реб Борихайзик, что-нибудь случилось? — перебил его мысли водовоз. — Вы страшно побледнели…
Борихайзик пристально посмотрел на водовоза:
— Вполне возможно…
Резник мысленно листал талмуд, ища подходящий закон для случая с иглой, которая вонзилась острием в его душу. Ведь многие заветы можно толковать и так и эдак, и Борихайзик силился отыскать щелочку, через которую удалось бы протащить разрешение объявить здоровой корову водовоза. Вдруг он хлопнул ладонью себя по лбу: недотепа ты, Борихайзик, есть же такой закон, пикуах нэфеш, и он позволяет ради спасения души человеческой пойти на такие шаги, принимать такие решения, которые обычно считаются недозволенными. Ибо что, в сущности, он означает? А смысл его в том, что для спасения человека разрешается преступить законы, и самые святые в том числе. Он, Борихайзик, обязан спасти водовоза от разорения — а стало быть, он, резник, имеет право и нарушить закон. Конечно, он чувствует, что путь, каким он собирается это сделать, оспорим, но другого выхода для него, резника, нет. Корова водовоза должна быть объявлена здоровой…
Бог не покарал Борихайзика, возможно, потому, что он, Борихайзик, чтобы умилостивить всевышнего, после того случая с иголкой два месяца подряд каждый день до глубокой ночи засиживался у стола — переписывал книгу священного писания. Каждый раз перед началом этой работы Борихайзик старательно мыл руки, не просто омовение совершал, как обычно, а хорошенько тер мылом ладони и выше, до самых локтей. Он также переодевался в чистые одежды и причесывался. Каждый вечер он переписывал главу и, переписывая, думал, что вот он передаст написанное синагоге и каждую субботу, в течение года это будут читать, отрывок за отрывком, а затем до праздника торы, когда выслушивается последняя глава, а затем начинают читать сызнова, с первой ее части. И может быть, кто-нибудь вспомнит его при этом: «Сограждане, а знаете ли вы, кто эту священную книгу переписывал? Ее переписывал наш резник, реб Борихайзик».
Две подглавки резник переписать не успел: в местечке разразился пожар.
Клара Борисовна помнит, как вся семья торопливо выносила пожитки во двор, подальше от огня, но священную книгу отец велел не трогать и оставил в комоде в маленькой комнатушке.
— Бог свою тору сбережет от огня, — говорил он. — И вместе с торой наше жилище.
Он преданно, искренне верил во всемогущество бога, но надежда его оказалась напрасной: и дом сгорел, и недописанная священная книга тоже, она даже переночевать в синагоге в шкафу для священных книг не успела. Вот тогда-то Борихайзик и впал в отчаяние. Его привычка мыслить логически подсказала ему, что, может быть, это — знак всевышнего ему, резнику: бог недоволен, сердится… Но воинственный дух в Борихайзике все равно не погас. Резник вызывал гнев у многих евреев тем, что проводил ритуальное омовение посуды не в микве — яме с, мягко говоря, не очень чистой водой, как этого требуют обряды, а в реке. Они не могли простить ему, что Борихайзик воспитывает дочь не так, как все евреи воспитывают своих дочерей. Неслыханное дело, резник, человек, который обязан являть пример другим, позволяет своей дочери такое, чего ни в коем случае позволять нельзя.
Теперь, когда Клара Борисовна оглядывается назад, всматриваясь в свое детство и юность, она с удивлением спрашивает себя: почему это местечковые законодатели так пеняли ее отцу за нее? Он ведь просто был здравомыслящим человеком, не более.
Играл ли когда-нибудь отец с нею, маленькой, она припомнить не могла, но оказалась не в состоянии забыть, как он ее однажды выпорол. За что — выпало из памяти. А вот однажды он ее напугал, и здорово. Это случилось в канун пасхи. После того как в доме вымыли и выскребли все столы и топчаны, прокипятили всю посуду, готовя все к празднику, отец неожиданно обнял ее и подмигнул маме:
— Ну, Малка, теперь нам надо очистить к пасхальному обеду рот Хайчик…
— Нет, нет, — и по сей час звенит в ушах Клары Борисовны ее тогдашний вопль.
Никогда больше отец не пугал ее, не заставлял делать такое, что ей было противно. Росла она свободно. В доме Борихайзика собиралась местечковая молодежь, весело проводила там время. Именно этого святоши более всего и не могли простить резнику. Как это можно допустить, чтоб парни и девки — вместе?! Неслыханное дело! Однажды в бане чуть было не избили Борихайзика за это…
Клара Борисовна вдруг ощутила, что боли отступили. Она вновь стала пристально всматриваться в пейзаж за окном: окрашенный в голубой цвет забор, зеленые клены, утонувшие в зелени сады, железная дорога — словно видела все это в первый раз. «Может, это еще мой мир?» — с надеждой подумала Клара Борисовна, и воспоминания опять нахлынули на нее. Она вдруг вспомнила, как стала учительницей.
Произошло это, когда ей было без малого пятнадцать лет, а виновен в этом был местечковый меламед. Отправляясь на заработки в имение богатого арендатора на длительное время — учить ребят богача, меламед желал, чтоб жена его писала ему письма. Но та даже подписаться не умела. Тогда меламед обратился к дочери резника. Если не она, то кто научит его жену писать?! Борихайзик разрешил, и Хайчик согласилась. Вскоре жена местечкового учителя послала своему мужу первое письмецо.
Вернувшись с заработков, меламед привел к дочери резника своих двоих дочерей — старшую и младшую. Эти девочки стали первыми ученицами хейдэра Клары Борисовны.
До этого в тех краях не существовали хейдэры для девочек. Для мальчиков — пожалуйста, в каждом местечке были. Но чтоб для девочек? Нет, этого не бывало в округе. Гром с молнией посреди зимы так не взбудоражили бы местечко, как хейдэр Хайчик. Святоши подняли невообразимый шум, но ее хейдэр, возможно, единственный в Полесье, закрыть не смогли…
12
Клара Борисовна услышала чьи-то шаги и обернулась: к ней, улыбаясь, приближалась молодая соседка по палате.
— Где это вы были? — спросила девица, притронувшись ладонью к исхудавшему плечу Клары Борисовны и заглядывая в глаза.
— Очень далеко отсюда…
— Понимаю. Воспоминания. Хорошо, когда есть что вспоминать.
— Еще лучше, когда все впереди, а не в прошлом, — возразила Клара Борисовна и направилась в палату. — Извините, мне надо прилечь.
— Я вам помогу, — женщина подставила ладонь под локоть Клары Борисовны.
— Спасибо, ноги еще носят меня пока.
Сидя на койке, достала дрожащими пальцами стеклянную баночку с компотом, который принес Давид, и сделала несколько глотков.
— Клара Борисовна вернулась издалека, устала, — заметила молодая соседка. — Она побывала в гостях у своей юности.
— А я уже и не припомню, когда девушкой была, — вздыхает старшая. — Мне кажется, я так и родилась замужней. Муж стрелочником работал на железной дороге. Ох и осточертели мне роды, зыбки, пеленки. Родила я дюжину ребятишек. Попробуй такую ватагу воспитать, вскормить! Каждому по одной лепешке — не менее двенадцати за раз требуется! От постирушек и от выпечки хлеба до сих пор руки болят. Хлеба я через день по шесть буханок выпекала. А знаешь, что означает кадушку теста вымесить?! И стирать тоже частенько приходилось — лишнего белья и одежки не было — с тела да в корыто! Жили! Не то что моя сношенька — села на шею сына, ноги спустила и погоняет…
Старшая соседка, немного помолчав, пристально взглянула на молодую женщину.
— Ты незамужняя. Почему? Мужа надо иметь. Тем более любовь…
— Имела. Предостаточно. И мужа. И любовь.
— Женщина без мужа и без любви не женщина.
— Вы тоже так считаете, Клара Борисовна?
— А как же?! Любовь — это жизнь.
— Гляжу я на вас и думаю, что вы сюда явились с чужой планеты, — заявила вдруг молодая соседка. — В нынешнее время любовь мало ценится. Люди сходятся и расходятся, когда это необходимо, без стыда, без зазрения совести, без возвышенных чувств.
— Кто же это тебя так оскорбил? — приподнялась на локтях Клара Борисовна. — Кому это ты простить не можешь?
— Прежде всего себе самой.
— Ты клевещешь на себя.
— Кто знает? Хрен редьки не слаще. Любовь и ненависть из одной бочки черпают.
— Каждый волен быть человеком либо не быть им.
— Эх, это не так-то просто, Клара Борисовна. Да ладно, давайте поговорим о более веселых делах.
— Все же мне трудно понять, почему человек обкрадывает самого себя.
— Если вы думаете, что мне все ясно, вы ошибаетесь…
— Не огорчайся, дорогая моя, ты свое получишь. Только с условием: не мешай самой себе, не будь себе врагом.
— У кого спросить, где кончается враг, а где начинается друг?
— Если будешь верить, что все будет хорошо, тогда так и будет, — Клара Борисовна решительно поднялась и села. — Когда я еще невестой была, моя будущая свекровь выказывала мне свое недовольство. В чем дело? Ей казалось, что от такой крохотной, как я, внуков не дождешься. Если правду, то я и сама трусила, но никому не признавалась. Я верила и убеждала себя, что все будет хорошо.
— Вы свою свадьбу помните, Клара Борисовна?
— Такое не забывается.
— Расскажите, прошу вас.
— Есть у нас песня одна: «Вспомнила бабушка, ко сну отходя, как ей дедушку сватали в мужья». Это как раз мой случай.
Свадьба та, должно быть, происходила в другом мире, на другой планете, с которой, как считает молодая соседка, Клара Борисовна и опустилась на землю.
С нею происходило это, или с кем-нибудь другим, или Клара Борисовна просто видит сон? С нею, да, именно с нею все и стряслось.
В Петрограде она с Егудо договорилась, что, как только он вернется из армии, они поженятся. Отмахнуться от установленных обычаев и обрядов, преступить их у них не хватило дерзости. В тот же день, когда Егудо пришел домой с винтовкой, обернутой в холстину, он послал свата к Борихайзику.
Сговор происходил, как и положено. Хайчик и Егудо он был не нужен, отцу и матери — тоже, но все правила были соблюдены. Все слова, какие говорятся в таких случаях, были сказаны, все пожелания высказаны, тарелки разбили — на счастье…
В последнюю неделю перед свадьбой в печи не угасал огонь, пекли разнообразные печенья с корицей, вареньем, изюмом, треугольники с медовыми и фруктовыми начинками, бисквиты, разные иные сладости — пусть у молодых будет вся жизнь сладкая. Мясные блюда, запеканки, фаршированную рыбу — ее полагается готовить за день до веселья, чтоб не испортилась.
Заготовить для гостей посуду — глубокие тарелки, мелкие, ложки, вилки, ножи, стаканы и блюдца, рюмки, бокалы — тоже непростое дело.
Хайчик от всех тех забот была освобождена. У нее в девичьей комнатушке сидел портной — шил подвенечный наряд. Здесь-то уж она была хозяйкой.
Поздно вечером накануне свадьбы мать вошла к ней с вкусным ужином. По обычаю молодые обязаны поголодать в день свадьбы. Но кусок не лез в горло невесте.
Музыканты начинают играть в полдень, тотчас же после того как подруги подводят невесту, облаченную в белые одежды, к широкому креслу, которое с трех сторон занавешено сверкающими занавесями, и оставляют ее стоять у этого стула возле стены.
— Мазлтов! Мазлтов! Мазлтов! — провозглашают троекратно подруги, предрекая счастливую судьбу своей товарке.
Мужчины в это время находятся в доме у родителей жениха.
Но всему приходит конец. Настает минута, и бадхн, своеобразный тамада, всплескивает руками и гулко выкрикивает:
— Высокочтимый народ, хватит шататься вразброд, кончайте тарарам — вставайте по сторонам!
В один миг все стихают. Бадхн приказывает:
— Усадить невесту!
Пожилые женщины из родни невесты и родни жениха выдвигают занавешенное кресло на середину комнаты. Потом берут невесту под руки, родня невесты — справа, родня жениха — слева, и ведут молодую медленно, осторожно вперед.
Кларе Борисовне казалось, что это происходило совсем недавно, только что, так свежо все в памяти.
Клара Борисовна вдруг отвернулась от соседки по палате. Она силилась что-то выговорить, но не могла, всхлипнула, зарыдала, как тогда, в юности, много-много лет тому назад, когда женщины распустили ее волосы и каждая подходила к ней, чтобы прикоснуться к ее распущенным кудрям, прощалась — завтра их уже не будет. Завтра их остригут, как и у всякой замужней женщины. И, как тогда гости на свадьбе, теперь соседки Клары Борисовны по палате расплакались вместе с нею.
13
Когда раввин подал Егудо большой шелковый платок, которым жених должен покрыть голову невесты, Егудо словно окаменел. Потом он признался: не узнал ее. Его тогдашний испуг навеки засел в сердце. Сама она тоже была изрядно растеряна. Как проходят свадьбы, для нее секретом не было. Но самой пережить — это совсем иное дело. Со стороны-то интересно смотреть, как женщины целуются с невестой, как они расплетают у нее косу, вытаскивают из волос шпильки, слушать, как они шепчут всевозможные пожелания:
— Чтоб ты порядочная жена была!
— Набожная и честная!
— Сколько пальцев на руке, столько детей народи…
И вот бадхн встает на стуле и, возвышаясь над гостями, декламирует:
Плачь, невестушка, плачь, Нет уж возврата к тому, что было. Юные годы твои безвозвратно уходят — Приплываешь уже к чужому берегу…Невеста вслушивается в печальную песню бадхна, и все вокруг плывет, словно в тумане. Она не должна, не имеет права наблюдать, как усаживают жениха. Шелковый платок, который только что вложил в его руки раввин, ослепил ее. Словно ей предстоит с этого мгновения вслепую жить, слепо быть преданной и верной мужу, слепо верить ему, слепо терпеть… Вполне возможно, что еврейские семьи потому и слыли такими прочными, что еврейские женщины слепо верили своим мужчинам.
— Мне думается, что и нынче еврейские семьи прочные, — глубоко вздохнула молодая соседка.
— Ох, не знаю, — говорит Клара Борисовна задумчиво. — Все перемешалось. Сын мой свадьбу не справлял и разрешения на брак не испрашивал…
— Почему так?
— Наверно, моя вина.
— Вы злая свекровь?
— Упаси бог. Дура я. Не более того. И это не могу простить себе.
Много лет Клара Борисовна думала, а иногда и вслух говорила меж своих родных, что на ее свадьбе все ей пожелали, кроме хорошей невестки. Поздно она поняла, как была не права. Никаких грехов на Дусю не повесишь, хоть лезь из кожи вон. За одно лишь то, что она всю войну ждала Давида и потом — пока он валил лес, ее надо носить на руках.
Старшая соседка, не сдержавшись, вмешалась в рассуждения Клары Борисовны.
— Редко когда невестка нравится свекрови.
Тишина вновь вползла в палату. И в этой тишине каждая из трех женщин вдруг ощутила, как, в сущности, они одиноки.
Но на земле полного одиночества нет. Все, что с человеком происходило, остается с ним, и каждый раз, желает он того или нет, вырываются изнутри гулкие звуки тех водоворотов, которые несли его когда-то.
Клара Борисовна почувствовала приближение очередного приступа боли, но не в силах была вырваться из плена воспоминаний. Она сызнова ощутила себя ослепленной, как тогда, когда Егудо, преодолевая смущение, накинул на ее голову шелковый платок. Хайчик успела заметить, что на Егудо обрушился снегопад из цветных бумажных лепестков, мелких-мелких, как хмель. До ее слуха донесся сипловатый голос:
— Женщины, благословите жениха!
И бабы отвечают хором, многоголосо:
— Пусть господь благословит дни его, чтоб он не брал взаймы…
Весь путь под гору от отцовского дома до синагоги, где уже была сооружена хупэ — четыре высокие палки и плюшевый балдахин над ними, — весь этот долгий путь ее, Хайчик, вели под руки. За правый локоть ее держал товарищ отца — водовоз. Пока музыканты играли медленные грустные мелодии — скрипач на свой лад, кларнетист — особенно жалостливо, контрабасист — вздыхая, а трубач — пронзительно, — пока звучала музыка, водовоз шагал возле невесты молча. Но в небольшие перерывы, когда музыканты умолкали, он шептал невесте одно и то же: пусть она запомнит, если ей хочется верховодить в семье, пусть непременно под плюшевым балдахином хупэ наступит ногой на штиблет жениха — это старый верный способ, все невесты стараются так сделать.
Но Хайчик была так возбуждена, так заворожена тем, что происходит с нею и вокруг нее, что, дойдя до синагоги, начисто забыла про дружелюбный совет водовоза. А может быть, оттого она не воспользовалась рекомендацией водовоза, что во дворе синагоги, когда места по правую и левую руку невесты заняли, как это опять же предписывают обычаи, отец с матерью, платок на голове Хайчик немного приспустился и она увидела растерянное, красное лицо своего жениха. Верхняя губа его дрожала, большие капли пота катились по черным, коротко остриженным усикам. Застав своего Егудо в таком замешательстве, Хайчик осердилась на водовоза: нет и нет, Егудо она плохого никогда не сделает — на ногу не наступит ему ни в коем случае. Потом она никогда не жалела об этом. Верховодить в семье Егудо не стремился, хозяйничать ей не мешал. Правда, за пасхальным праздничным столом главное место занимал он и правил пасхальной трапезой — сейдэром — он.
Клара Борисовна обняла тонкими руками свои исхудавшие плечи и несколько мгновений сидела с опущенной головой. Потом спросила:
— Девочки, моя проповедь вам еще не надоела?
— Нет-нет.
— Рассказывайте дальше, пожалуйста.
— Я думала, что уж опротивело вам. Если нет, продолжу. Петух поет даже в руках резника.
А соседки Клары Борисовны и на самом деле слушали с любопытством. Ее воспоминания приоткрывали занавес неведомого им религиозного свадебного обряда, который всегда притягателен для женщины. Обе соседки не пропускали ни одного слова, все-то им интересно: в каком наряде шла Клара Борисовна к венцу — к этой самой хупэ, и как был одет ее благоверный, и вообще как она, Клара Борисовна, чувствовала себя, стоя под плюшевым балдахином, раскинутым над четырьмя высокими палками…
Чувствовала себя она не совсем удобно. Грустно ей стало, когда бадхн все тем же своим жалобным голоском стал читать свадебный контракт, в котором было сказано, что Шая-Егудо-Зейв береб Арие-Йосеф берет на себя добровольно все обязанности мужа, и прежде всего обязанность кормить и содержать ее, Итэ-Хаю, и если он, Шая-Егудо-Зейв, захочет ей дать развод, он вынужден будет выплатить ей определенную сумму… Еще целый ряд условий был записан в контракте, лишь одно — всего-то малость! — махонькую малость забыли в этот контракт включить: про любовь, про верность, преданность. А это, как она понимала, должно было быть основным в контракте, ибо в этом-то вся суть. Егудо стоял лицом к лицу к ней с обручальным кольцом, которое подал ему раввин, и с радостью повторял за ним на древнееврейском языке: ты ли принадлежишь мне с колечком этим?
Она лишь одобрительно кивнула головой, хотя знала древнееврейский язык в совершенстве и могла внятно ответить.
Егудо ловко надел ей на палец кольцо. Грустное настроение невесты передалось и ему. Они печально стояли, пока раввин с бокалом вина в руке говорил благословение: «Благодарю тебя, кто живет в небесах, что ты соединил этих молодых людей, да пусть гремит глас радости, голос жениха и голос невесты, да будет праздник!»
Возможно, что благословение раввина развеселило Хайчик, или она повеселела оттого, что раввин, отпив глоток вина из бокала, замочил курчавую бороду и при этом с наслаждением чмокнул, или потому, что и Егудо (так велит обряд) и ей раввин поднес в рюмочках напиток, только что им опробованный, а они тоже, как и раввин, зачмокали. Так ли, иначе ли, но когда раввин с какой-то молодецкой удалью швырнул к ее ногам бокал, Хайчик, как и полагается в таком случае, весело и радостно, стала топтать каблучком этот бокал и раздробила на мелкие осколки.
Домой невесту ведут еще с закрытыми глазами. Теперь рядом с нею шагал Егудо, уже не жених, а муж. Шли они через все местечко, и все поздравляли и желали всевозможных благ, главное — счастливой жизни! Впереди шли музыканты. Теперь они играли не грустные мелодии, а бодрые, веселые, чаще всего повторяли «Марш путеевский», который на всю жизнь запомнился Егудо. Он его часто напевал потом. Впоследствии Егудо узнал, что этот марш сочинил Иоганн Штраус и назвал «Персидским маршем». Но тогда, на их свадьбе, в интерпретации еврейских музыкантов марш назывался почему-то «Путеевским». Накануне смерти Егудо, глядя на жену влажными, блестящими глазами, в последний раз печально мурлыкал этот марш. Она, его Хайчик, подтянула мелодию, и они вновь почувствовали себя молодыми.
Когда она неожиданно запела, соседки Клары Борисовны не удивились. Мелодия им показалась как будто знакомой, хотя они и не знали, что это «Персидский марш». Эта мелодия всегда вдохновляла Клару Борисовну в трудную минуту.
«Марш путеевский» музыканты прервали на полуноте при входе во двор дома Борихайзика, где отныне предстояло жить молодым. Прервали, очевидно, специально, чтобы невеста могла услышать, как ей подсказывают:
— Правой ступай, правой…
Вот так же музыканты оборвали мелодию возле синагоги, когда со всех сторон до Хайчик доносилось:
— Правой ногой! Правой…
«Все шагают левой, мы — правой», — подумала Клара Борисовна, но ничего не сказала своим соседкам.
А соседки даже внимания не обратили на эту подробность церемониала свадьбы Клары Борисовны. Их интересовало, какое угощение ждало гостей, как были накрыты столы.
Разумеется, присутствовали традиционные блюда: мясо в кисло-сладком соусе, которое мать Хайчик, Малка, великолепно готовила, фаршированная рыба с перцем и другими полагающимися специями, золотой бульон, гусиные шкварки, шейки, наполненные фаршем из рубленого мяса, риса, чеснока, муки, корицы. На столах стояли тарелки с тертой редькой, голубоватый хрен подавался в закрытых горшочках — чтоб не выдохся. И конечно, морковный цимес. Всевозможные запеканки, кугель, печенье разной формы — и сладкое, и с кислинкой. Вино лилось рекой. Большим спросом пользовалось пиво. Его привез на свадьбу внучки отец матери Хайчик. Подавались и сладкие компоты — для женщин: пейте, наслаждайтесь…
Пока гости, восседая вокруг стола, трудились ложками да вилками, бадхн не дремал:
— Подарок преподносит родня жениха!
И родня жениха показывала, на что она способна.
— Родня невесты! — торжественно произнес бадхн.
И раскошеливаются родичи невесты.
Музыканты принимались играть всякий раз, когда на подарочном столике показывался презент.
В очередной раз бадхн объявил:
— Друзья жениха и невесты преподносят общий подарок — дубовый гарнитур, две кровати, шкаф, стол, самоварный столик, шесть резных стульев.
Клара Борисовна улыбнулась, подумав о том, что еще до сих пор на Привольном переулке, здесь, в Казани, стоят эти стулья из темного мореного дуба, которые они с Егудо не ленились возить с собою повсюду, куда их забрасывала судьба.
Танцевать с невестой было особой честью, не каждому это удавалось, лишь почетным гостям. Прикасаться к невесте, даже к ее ладошке, запрещается. Поэтому мужчины, танцующие с невестой, и сама невеста держались за носовой платок.
Каждый гость мог заказать у музыкантов любимую мелодию. Плясали все — от мала до велика, всю ночь до утра, юнцы и старичье. На другой день тоже танцевали на обеде у родителей жениха.
Кларе Борисовне хотелось рассказать своим соседкам, что родители невесты во времена ее юности брали жениха дочери на длительное содержание, кормили его, пока он не станет на ноги. Это называлось — брать на кест. Ее же отцу, Борихайзику, не пришлось этого делать потому, что ее Егудо к женитьбе был уже самостоятельным добытчиком — счетоводом у богатого полесского лесоторговца. Но вновь возникли невыносимые боли у Клары Борисовны, она, сжав зубы, закрыла глаза, прислонившись к подушке.
14
Дремота наваливалась на Клару Борисовну всего лишь на несколько минут, но и за это короткое время она успела сильно устать. Ей снилось, будто у себя в огороде около ограды, где росли кусты малины, она копала землю. На одной из веток висит крупная ягода. Клара Борисовна срывает ягоду, но сорванная ягода выскальзывает из рук. «Это дурной знак. Если что-либо падает из рук — жди неприятностей…» — подумалось ей. Открыв глаза, она медленно приподнялась на койке, вытащила из-под одеяла ноги и нащупала тапочки.
— Глаза мои, глазыньки, почему вы не спите? Я не сплю, потому что боль никак не превозмогу. Ну а вы-то?!
Клара Борисовна встала и вышла из палаты.
В коридоре Клара Борисовна заметила молодого человека, который показался ей знакомым. Ей не сразу удалось узнать его, но когда она поняла, кто перед ней стоит, вздрогнула. Если б этот дьявол появился сейчас у нее дома на Привольном переулке, Клара Борисовна с удовольствием бы, собрав последние силы, спустила его по ступенькам лестницы. Но здесь, в больнице, она не хозяйка, хотя смотреть на него с презрением она может себе позволить и никто ей этого не может запретить. И Клара Борисовна посмотрела на чисто выбритого, коротко постриженного человека с такой ненавистью, что парень не выдержал.
— Простите, что потревожил вас, — произнес он, вытирая вдруг вспотевшие ладони о полы такого же, как у Клары Борисовны, выцветшего халата. — Не пугайтесь меня, ради Христа. Я узнал в приемной, где вы лежите, и вот пришел. Не прогоняйте меня, прошу вас. Не бойтесь меня.
Не по себе стало Кларе Борисовне. Ведь это из-за него, этого негодяя, Леонтий вылетел из университета и четыре года потерял, у него на крыльце чуть было не замерз. Она-то думала, что этот пакостник навечно исчез, так на тебе — объявился, не поленился — такая напасть.
Клара Борисовна строго спросила:
— Зачем пришли?
— Это непросто объяснить. Хочу, чтоб вы знали: что я отношусь к вам с большим уважением.
— Мои предки в таких случаях говорили: не будь мне дядей и не шей мне сапоги.
— Поймите меня правильно. Знаю, в ваших глазах я подлец. Вы считаете, что я плохо повлиял на Леонтия. Всегда все ищут, кого бы обвинить в своих невзгодах. Уверяю вас, я не виновен. Вашего внука на плохие дела не толкал. Он никогда не совершал дурных поступков. Нелепый случай вмешался. Да и, кроме того, еще очень проблематично, испорчена ли участь Леонтия. Ваш внук парень думающий, честный. Честным нельзя быть больше или меньше — либо честен, либо нет. Одно из двух. Леонтий честный человек. Именно за это он и поплатился местом в университете. Я был для него оселком, не более. Мой недуг не дал мне возможности вовремя учиться. Мои болезни и сейчас не дают мне покоя, как видите, вновь меня в больницу загнали, и не в последний раз, наверно. Плохого я вашему внуку не причинял. И впредь не причиню. Вашего презрения я не заслужил. Не думайте, что такой камень легко на сердце нести. Пожалуйста, снимите его.
— Он слишком тяжек для моих слабых рук, — решительно ответила Клара Борисовна и оперлась локтями о подоконник. Она чувствует, что очень возбуждена, но сил для препирательства у нее нет. И потому тихо произносит: — Прошлое переиначить невозможно, молодой человек. Что произошло, не исправишь. Забудьте нас, отойдите прочь. Я не могу вас принудить поступить так, но если вы человек… Оставьте Леонтия в покое. Впрочем, в писании говорится, когда верблюд пришел просить рога, чтоб иметь чем защищаться, у него еще и уши отрезали. Теперь я понимаю почему: просил беспомощный… Мы, к счастью, уже не беспомощные…
После неожиданной встречи Клара Борисовна, обессиленная, вернулась в палату и, не взглянув на соседок, сразу же опустилась на койку. Слишком сильным было для нее все это переживание. Лежа отвернувшись к стене, она напряженно размышляла. Все ее мысли вертелись вокруг возможной опасности. Надо быть начеку и если потребуется — сопротивляться.
Она вдруг почувствовала, что опасность вновь надвигается на Леонтия. Его бывший товарищ не из тех людей, чьим словам можно доверять. Раз он есть, и здесь, уже беда. Ибо он — змея. Опасность не в том, что змея — пресмыкающееся. Гусеница тоже пресмыкающееся. Несчастье в том, что змея-то ядовитая, ее зуб наполнен ядом. Она бы, может, и не хотела кусать, но это уж от нее не зависит, иначе ей нельзя. Змее надо отрубить голову!
Должно быть, Клара Борисовна действительно была очень уставшей, потому как неожиданно уснула.
Когда же она проснулась, возле нее сидел Леонтий. Бабушка изумленно спросила:
— Где же ты потерял папу?
— На почте. Он пишет маме письмо, — серьезно ответил Леонтий. — Она прислала телеграмму, что доехала хорошо, все в порядке. Папа все равно беспокоится. Тревожиться — его хобби.
— Откровенно говоря, это не самый плохой недостаток, ей-богу, — заметила бабушка. — Как ты думаешь, может, следует тебе его унаследовать?
— Слишком тяжкое ярмо.
— Да, нелегкое.
Бабушка расчесала волосы и собрала их под гребешок. Укладывая волосы, Клара Борисовна не спускала глаз с внука. Она хотела и в то же время боялась рассказать ему, что его бывший дружок здесь, в больнице. «Когда черт спит, лучше не будить его», — думала Клара Борисовна, хорошо зная цену этим словам, она все же не торопилась выложить эту новость.
— Знаешь, что мне сейчас приснилось? — спросила она, поворачиваясь в постели и устраиваясь поудобней. — Мне снилось, что все мои боли лежат отдельно от меня — на тарелке с мукой, а врач мой обходит вокруг этой тарелки восемнадцать раз. Восемнадцать! Это же счастливое число! Хай!! Вот увидишь, все мои хвори исчезнут. Почему я так истолковываю свой сон? Потому что читала на древнееврейском языке, в котором цифрам соответствуют буквы, а число восемнадцать это — хай, а это слово означает в древнееврейском языке жизнь. Понимаешь? Или нет? Жизнь! Я избавлюсь от своих болей, я буду жить! Мне приснился хороший сон.
Клара Борисовна собралась уж было рассказать о его дружке, но решила не торопиться, сначала она расскажет сказочку, которую слышала от отца.
В полесской глуши, средь лесов и болот, было когда-то местечко, необыкновенное местечко, удивительное: все его жители доживали до семидесяти лет, не меньше. Почему? Среди жителей не было лгунов. Никто никогда не сказал неправды. Однажды приходит в это местечко незнакомый еврей с красивой окладистой бородой, чистыми, правдивыми глазами и просит, чтоб ему разрешили поселиться в этом местечке. Такой милый человек, как ему не поверить? Ладно, пусть поселяется, но с условием — никогда не врать, всегда говорить лишь правду. Чужак согласился. Через некоторое время внезапно умирает девочка. Как это могло случиться? В местечке начался переполох. Оказывается, виноват пришелец, не сдержал слова и сам признался в этом.
Леонтий знал, что бабушка зря сказки говорить не станет.
— Я в чем-нибудь провинился, бабушка?
Она откликнулась по еврейскому обычаю вопросом на вопрос:
— Не обманешь меня, если я тебя о чем-то попрошу?
— Я ведь житель честного местечка, а не пришелец со стороны.
Бабушка положила ладонь на колено Леонтия:
— Когда ты в последний раз видел дружка, на крыльце у которого чуть было не замерз?
— Года четыре тому назад.
— Он сейчас здесь, в больнице.
— Ну и что?
— Он опять может тебя в свою паутину втянуть.
— Вот что тебя беспокоит! Напрасно.
— Он злодей, жестокий.
— А разве от меня ничего не зависит? У меня есть опыт. Не бойся.
— Обещай мне, что ты перед ним захлопнешь свою дверь.
— Пожалуйста.
— Надо сопротивляться, слышишь? Это мое завещание.
Холод пробегает по спине Леонтия.
— Не беспокойся обо мне, дорогая моя, — произносит он тихо. — Я ведь уже взрослый.
Она согласно кивнула. Конечно, он уже не беспомощный птенец, он мужчина, ему можно доверять.
— Ты прав. — Она взяла исхудавшими пальцами его руку и сжала. — Вот и ладненько.
«Нет, не очень-то ладненько», — подумал Леонтий. Хоть он и находится в одной комнате с бабушкой, но они уже в различных мирах. Он едет на ярмарку, она — с ярмарки. Разумеется, разменять восьмой десяток — это не шутка, хотя до ста двадцати еще путь долгохонек.
— Бабушка, ты лучше вспомни свой девиз, что беда с бульоном лучше, чем беда без бульона, — мягко, но настойчиво сказал Леонтий. — Ты очень похудела, дорогая.
— Ничего, лишь бы душу не растерять, — откликнулась Клара Борисовна. — Мясо на костях нарастим. — Она приподнялась на постели и достала из тумбы зеркало. — Рожа, всем моим врагам бы такую, — покачала она головою. — Иди знай, в чем корень моей беды. Во всяком случае, если б выяснилось, откуда она взялась, можно было б дудеть в победную дуду, «ура!» кричать, во всяком случае, предпринять что-то реальное. — Она протянула руку и приподняла его голову за подбородок. — Не страшись, Леонтий, — потребовала она. — Страх из беды не выручает. Если уж мы появились на этом свете, надо жить с удовольствием, даже когда это становится невыносимым. Мир иной — это выдумка. Полжизни я уговаривала себя, что и на том свете есть жизнь, мечтала о рае. Да не я одна так. Жизнь твоих предков, Леонтий, проходила неимоверно тихо, медлительно, как гнилая река, которая еле-еле течет, хотя были и водовороты, и глубокие омуты… Тебе, парень, хорошо, у тебя нет предрассудков. Маленький, ты всегда говорил, когда я кормила тебя вкусными блюдами: «Бог послал!» Это наследство твоего деда — священника. Ты не забыл его? До семилетнего возраста ты рос возле его рясы. Понимаешь, парень, — продолжала она свою мысль. — Ежели ты в бога веруешь, он есть, а ежели не веруешь — значит, его нет. Странные вещи случаются порою. Мать моя, твоя прабабушка, возвращалась однажды из синагоги, где вдоволь набеседовалась с господом. Шла она в гору, мимо церкви. Вдруг остановилась против паперти, наклонилась и стала креститься. «Ой, что это с вами, Малкелэ, душа моя, вы в своем ли уме?» — растерянно спросила ее другая еврейка, которая тоже возвращалась из синагоги. «Я кость бросила, — ответила моя мама. — Может, не только в синагоге, а и тут, в церкви, что-то есть?» Счастливый ты человек, Леонтий, предрассудки не довлеют над тобой. А ведь всего каких-нибудь три поколения отделяют тебя от твоей прабабушки. Понимаешь ли ты это?!
А как же? Леонтий понимал, очень хорошо понимал, что бабушка хотела сказать.
А она продолжала:
— Еврейский бог строгий. У него ничего не выпросишь, хоть на колени стань, хоть лоб расшиби, хоть делай ему поклоны до самого пола — лоб, может, и заживет, но всевышнего все равно не убедишь, не уговоришь, он сам знает, что творит. Бог не забывает и не отпускает грехи, ничего не прощает, кайся не кайся.
Клара Борисовна перевернулась на правую сторону и подложила сжатую в кулачок руку под щеку.
— Между прочим, если ты хочешь знать мое мнение, я тебе скажу. Не так уж это плохо — бояться грешить. Но тут, мне кажется, можно обойтись и без веры в бога. А вот избавиться от предрассудков, по-моему, очень сложно, почти невозможно. Во всяком случае, у меня их сколько хочешь. Сама удивляюсь, как сильны могут быть в человеке пережитки. Ты, поди, не замечал, ибо я старалась делать незаметно от тебя, но до сих пор перед Новым годом все уголки нашей квартиры на Привольном смазываю медом, чтоб предстоящий год сладким был, не горьким. А сколько раз я постилась? Не перечесть. Если две недели не получаю с фронта письма от твоего отца, устраиваю великий пост. Потом еще какая-нибудь беда — и поститься вновь — святое дело. А ради тебя, думаешь, я мало постилась? Все твои экзамены постами сопровождались. Лучше меня, наверное, никто не знает, что никакого бога нет, но, как видишь, жертвы ему приношу исправно. Ведь пост, в сущности, и есть жертвоприношение. В чем же дело? Обыкновенная привычка? Сомнительно. Короче, парень, ставь богу свечку, что ты неверующий.
Приподнявшись на локте, Клара Борисовна оглядела Леонтия оценивающим взглядом, точно решала для себя, годится ли он в набожные. Может, и годен? Кто знает? На всякий случай предупредила:
— Ты бы треснул от одних только молитв, которые мужчина должен за день богу выдать.
Леонтий деланно вздохнул:
— Знаю, тяжко быть верующим евреем.
Она поспешила успокоить его:
— Тебе-то, во всяком случае, эта беда не грозит.
Он осведомляется:
— Интересно, а как в Израиле?
— Черт их знает, — отозвалась Клара Борисовна и умолкла.
В памяти всплыла первая ночь после смерти Егудо, когда он лежал на полу в спаленке и черепки прикрывали его веки. Возле него на низком стульчике сидел старый-престарый еврей из местной общины и читал псалмы. Она сама этого старика пригласила, и не только потому, что ее Егудо до последнего вздоха был верующим. Молился он дома, а в религиозные праздники посещал молельный дом. На косяке входной двери в доме на Привольном переулке Егудо приладил мезузу — свернутый пергамент с текстом писания и не единожды наказывал, чтоб, когда он скончается, его похоронили по еврейскому обряду. Глубоко в сердце запали картины детства и юности, до сих пор помнит она, как ранними рассветами по субботам водовоз стучался к отцу в окошко и плаксивым голосом звал: «Реб Борихайзик, вставайте, пора идти молиться».
— Странная жизнь у меня, — задумчиво произнесла Клара Борисовна, — одна нога — в прошлом, другая — в настоящем.
— Это хорошо или плохо, бабушка? — осведомился Леонтий.
— Сама не знаю. Есть в прошлом незыблемые ценности. Отрекаться от них и жаль, и несправедливо. Но еще больше в старине этой — ветоши, лишнего, вредного, опасного даже. Еще в Коростене, где прошло детство твоего папы, приходит однажды ко мне в поликлинику, где я работала, еврейка и просит, чтоб я дала справку о том, что она больна и ей нельзя поститься. Вот как причудливо может переплестись прошлое с настоящим.
— Справку ты ей дала?
— Разумеется.
И бабушка и Леонтий громко рассмеялись.
Немного передохнув, Клара Борисовна продолжала:
— У предков есть что унаследовать. Старого деда однажды спрашивают, как ему удалось дотянуть до сотни с гаком лет. Он и объяснил. Во-первых, сказал он, никогда не брал подарков, то есть не был лодырем, всегда трудился в поте лица, лишь собственными руками кормил себя; во-вторых, никогда не был твердолобым упрямцем — спокойно воспринимал критику в свой адрес; и в-третьих, был щедрым. Возможно, все это басня. Но несколько заветов, наказов моего отца, запомни, принц. Мне они в жизни ох как пригодились. Главный завет — не бояться тяжкой, черновой работы. Дальше — никому не завидовать и не зазнаваться. И последнее, может наиважнейшее, — избегать обмана, фальши и лжи.
Леонтий внимательно слушал бабушку. В другое время он, может быть, сердился бы, но сейчас — нет, не в состоянии гневаться на нее и послушно внимал ее речам.
Вдруг ему в голову пришла простая и страшная мысль о том, что, хотя он и является внуком священника, попа, ему бы не удалось избежать гитлеровского крематория. Он оказался бы среди миллионов безвинно уничтоженных, попадись он в военное лихолетье в руки фашистам. Все, о ком рассказывала ему бабушка, ведь тоже его прямые предки.
15
Эта мысль настолько захватила Леонтия, что он не сразу заметил, как в палату открылась дверь и на пороге появилась сперва свекровь Полины Наумовны, потом она сама, а за ними и отец. Леонтий поднялся со стула лишь после того, как Клара Борисовна, на свой манер, шумно приветствовала всех:
— Благословляю пришедших! Чтобы все здоровы были! Ах, какие гости! Дорогие гостюшки!
Бабушки соседки ловко придвинули свои стулья к койке Клары Борисовны и тихонечко, оправдываясь тем, что им пора гулять, глотнуть свежего воздуха, выскользнули в коридор.
Сидя на стуле, с которого только что поднялся Леонтий, свекровь Полины Наумовны, по обыкновению своему недовольно прищурясь, приоткрыла свои тонкие, с черными усиками, губы:
— День добрый зам, Клара Борисовна! Я к сыну приехала и вот к вам зашла, проведать. Как чувствуете себя?
— Не лучшим образом, не про вас будь сказано. И раньше меня недуги трепали предостаточно, но с такой хворью, как сейчас, столкнулась впервые, — услышал Леонтий ответ бабушки, и все его черные мысли моментально исчезли. Давид Исаевич вздрогнул — откровенность матери для него открытие, сильно, видно, ослабела, если уже не в состоянии скрывать свое состояние. — Я привыкла, что все удары судьбы и боли приходят и уходят. Эти же, очевидно, навеки пришли. Мне от них не отделаться.
— Когда-нибудь и они исчезнут, — пообещала свекровь Полины Наумовны.
— Из ваших бы уст да в уши всевышнего.
— В Израиле и тяжкие недуги вылечивают, — намекнула гостья.
— За морем телушка полушка, да рубль перевоз, — возразила Клара Борисовна. — Это не для меня.
— Почему же? Там все евреи в долю принимаются.
— Пустые разговоры.
— Я вас заверяю, что вы ошибаетесь, Клара Борисовна. Там бы вас скорехонько на ноги поставили. Там бы вас быстро вылечили. Подумайте. А денежки на дорогу как-нибудь соберем.
Полина Наумовна вдруг побледнела:
— Не обессудьте, мама, но от ваших советов становится не по себе.
— Полинька у нас мастер осаживать. Люблю, когда она меня ругает. Один хвалит так, что страх берет, другой пеняет тебе, а ты испытываешь удовольствие.
Клара Борисовна наморщила лоб.
— Ваша Полинька права, — обратилась она к свекрови Полины Наумовны. — Не ссорьтесь, прошу вас. Не хочу, чтобы из-за меня вы волновались. Пока я еще могу терпеть. Мой ангел-прокурор прилежно занимается своим делом, однако и мой ангел-хранитель тоже свои обязанности защитника не забывает.
— Я бы на вашем месте не торопилась с выводами, Клара Борисовна.
Давид Исаевич и Леонтий беспокойно переглянулись. Полина Наумовна, глядя на свекровь, твердо произнесла:
— Воздержитесь…
Старуха гостья, видимо поняв, что хочет от нее невестка, произнесла:
— Ладно, как хотите… — И вновь, обернувшись к Кларе Борисовне, добавила: — Что касается меня, то я таки собираюсь эмигрировать.
Клара Борисовна резко приподнялась в постели:
— Вы шутите!
— Это не детская игра. У меня намерения серьезные.
— Но как же сын?! Как вы можете бросить могилу сына?!
— Я уверена, что он, светлая память ему, согласился бы со мной.
— Могилы — часть нашей жизни. Их предавать нельзя.
— Могила сына в моем сердце, она всегда со мною.
— Не понимаю вас. Что вы там, в Израиле, потеряли?
— Я тоже задаю этот вопрос свекрови, — взволнованно произнесла Полина Наумовна. — Но как об стенку горох.
— Что, дорогуша, ты бы хотела? Чтоб я душу свою наизнанку вывернула? Пророк сказал: «Придет время, и я вас соберу, и поведу, и приведу». Это ведь сам господь бог предрекал устами пророка, обещал. Теперь время настало.
— Настало время? Слишком долго ждали мы его. В начальных школах Петлюры и в университетах Гитлера мы сделались безбожниками. Господи, боже мой… Где он был во время их погромов на Украине и в Белоруссии, когда разнузданные злодеи убили, искалечили, ранили тысячи евреев? Почему не заступился, когда фашисты уничтожали в душегубках наших братьев и сестер? Нет бога! Если б даже и был, его б следовало стащить с насеста, — не прячься черт знает где в тяжкое время, не будь трусом… Один из великих как-то сказал: «Живые закрывают глаза мертвым, а ушедшие открывают глаза у тех, кто остался жить…»
— Такое впечатление, Клара Борисовна, что вы никогда тору не целовали.
— Почему же? Раз в году целовала. Как и все девушки, я ходила в синагогу. До сей поры ощущаю на своих губах привкус пергамента.
— А помните ли вы, как вкусен по возвращении из синагоги бульон, пусть и без мяса, ибо матери вынимали его, чтоб делать из него пельмени? Помните? Вот видите! И вам не жаль, что все это исчезнет? Я хочу остаться еврейкой…
— Кто же вам не разрешает? Пожалуйста, оставайтесь.
— Все евреи хотят уехать, весь народ.
— Кто вам сказал, что весь народ? Откуда у вас такая информация? Спросите свою Полиньку, она стремится в Израиль? Моего сына спросите, внука моего.
— Тоже мне евреи. Они разве евреи? Они даже языка еврейского не знают.
— Почему вы считаете, что я не знаю идиш? — вмешался Давид Исаевич. — Я окончил еврейскую среднюю школу…
— Свекровь, перестаньте травить душу…
— Не мешай мне, Полинька, досказать то, что хочу. Если я это не сделаю, никто из вас не отважится.
Поняв, что свекровь Полины Наумовны собирается начать атаку, Давид Исаевич и Леонтий встали между нею и Кларой Борисовной. Ни мольбы Полины Наумовны, ни нахмуренные, предупреждающие лица мужчин не в силах были остановить заупрямившуюся старуху:
— Вы тонете, Клара Борисовна, у вас злокачественная опухоль. Рак у вас.
Клара Борисовна качнулась, но сын и внук удержали ее. Совладав с собой, она вопросительно посмотрела в глаза Полине Наумовне.
— Пока еще ничего не ясно, — сказала докторша надломленным голосом. — Моя свекровь просто не знает меры. Простите ее великодушно…
16
Откуда-то налетели черные облака, принесшие с собой громы и молнии. Клара Борисовна стояла у окна между сыном и внуком. Она попросила распахнуть его, ибо в палате было нестерпимо душно.
— Только, пожалуйста, головы не опускать, — строго сказала она. — Что человеку надо? Очень немного — раскрыть окно и вдохнуть свежего воздуха. Не надо вешать нос… Выше голову, ребята! Достаточно было у меня встрясок, бед, страхов. Ничего, преодолела. И нынешнее несчастье тоже преодолеем. Не обижайтесь на свекровь Полины Наумовны. Держать в неведении хуже, чем встречать опасность лицом к лицу. Что, собственно, произошло? Дождались, что рак свистнул?
— Можешь, мама, шутить сколько тебе вздумается, но согласись, что всерьез принимать слова женщины, не имеющей никакого отношения к медицине, просто смешно.
— Папа прав, бабушка. Твоя болезнь еще не установлена. Ведь так сказала Полина Наумовна? Так или не так?! Почему же ты веришь не ей, а злой ведьме?!
— Дорогие мои губошлепы, я понимаю кое-что в медицине. Или вы считаете, что я вообще профан?
Давид Исаевич и Леонтий, боясь взглянуть в глаза Кларе Борисовне, смотрели в окно на больничный двор.
Клара Борисовна хорошо понимала, что творится с ее мужчинами, и это причинило ей больше страдания. Мало она на своем веку испытала? Вот еще один погром, наверное, уже последний, тоже необходимо как-то выдюжить. Вот житуха-то у нее — сплошные погромы, один за другим. Больше всех Клара Борисовна запомнила погром в Словечно.
Однажды сосед, запыхавшись, вбежал к ним в дом и с порога крикнул:
— Вы еще тут? Уходите отседова, покуда еще можно…
Он перевел дыхание и предложил соседям, если они хотят, доверить ему их добро. Пока бандиты будут орудовать, он все сохранит и вернет в добрый час. Вознаграждения ему не надо.
— Рассчитываю только на взаимную дружбу, — улыбнулся он.
Егудо вышел на кухню к Хайчик — она кипятила воду купать сына. Совещались недолго, говорили на древнееврейском языке, ибо идиш их сосед-украинец знал вполне удовлетворительно. Егудо и Хайчик решили: хорошо. Предложение соседа принимают.
— Пускай вас бережет бог. Как я понимаю, очень скоро начнут евреев потрошить…
Эти слова ударили, словно обух по голове. Испуганная Хайчик опрокинула кастрюлю и ошпарилась кипятком. Целую неделю после этого случая саднило руку.
Каждая весть о передвижении петлюровцев приводила ее в трепет. Егудо достал свою винтовку, готовясь сопротивляться насильникам.
Хайчик совсем пала духом, когда из Овруча, самого ближайшего к местечку городка, вернулся друг отца, водовоз, и рассказал, как тамошние евреи вышли встречать Петлюру, да не с пустыми руками — несли тору — свиток священного писания и добрый подарок. Подношение Петлюра принял и тут же велел открыть огонь — триста евреев из пулемета расстрелял.
— Свежо предание, да верится с трудом. Это же безумие, — сказал Егудо, выслушав водовоза.
— Своими собственными глазами видел, — ответил водовоз. — Остается одно: бежать, куда глаза глядят.
Но бежать было уже поздно. Ночью разбойники напали на Словечно. Грабили все, что можно. Награбленное грузили на подводы и увозили.
Утром все стихло. Высунувшись в окно, Хайчик вдруг увидела, как один из бандитов гонится за дочерью водовоза и вот-вот ухватится за ее длинную косу. Водовоз бежал почти рядом и выкрикивал проклятья. Неожиданно он подставил бандиту подножку, и оба грохнулись на землю. Пока они возились, мешая друг другу подняться, Хайчик раскрыла дверь и впустила девушку в дом.
Ночевать водовоз остался в доме умершего резника: казалось бы, какая разница, где отдать богу душу, и все же на людях веселее. Ни она, Клара Борисовна, со своими, ни семья водовоза не раздевались. Перед сном, как обычно, просили бога, чтоб он их защитил, чтоб выказал милосердие.
Вот тогда-то мать Клары Борисовны, Малка, не удержалась, высказала всевышнему свою обиду:
— Всемогущий в состоянии услышать миньен — десять человек, мезумен трех, даже одного. Почему он не слышит мольбы целого местечка? Почему не отводит руку злодея?
— Не дразните, прошу вас, бога — хозяин знает, что кобыле делает, — сказал водовоз. — Бог карает нас, за то карает, что мы добро его забываем, запакостили тропу к нему. Не грешите хоть вы, чтоб, упаси боже, еще хуже не стало.
Вдруг откуда-то издалека раздался пронзительный крик, тут же следом — еще один, затем послышались выстрелы. Стало очевидно, что из местечка надо бежать. Обе семьи, Егудо и водовоза, посоветовавшись, решили уходить в Лохницу, где проживал знакомый смотритель леса. Если лесник их не примет, пойдут дальше, в Петраши.
Но тихонько ретироваться не удалось. Во дворе послышался шум.
— Погоди-ка, что там за возня? — испуганно спросила Хайчик мужа, держа на руках Давида.
Егудо приподнял занавеску на окне: в брезжущем далеком зареве он увидел соседа, приближающегося к его дому. В руках у него была палка, а из-под кушака виднелся топор.
— Что, дождались? Глупцы! Болваны! Дурни! — донеслось до Егудо.
«Действительно, конец света, если уж сосед, с которым они всегда жили в мире, лезет как разбойник, — подумал Егудо, беря в руки винтовку. — Выхода нет, надо защищаться».
— Ну? — нетерпеливо спросила Хайчик. — Ты кого-нибудь видишь?
Егудо кивнул головой и решительно сказал:
— Будем сопротивляться. Иначе не спасемся.
Через несколько секунд Егудо стоял уже на крыльце.
— Поворачивай отсюда, — попытался он остановить соседа. — Иначе худо будет.
Но тот как будто не слышал.
— Стой! — закричал Егудо. — Стрелять буду!
Сосед заметил винтовку в руках у Егудо, остановился в изумлении:
— Вот болван! Трижды истукан! Черт побери! Еще успеешь пострелять по врагам. Эх, Юдко, Юдко! Стыдись! Как ты мог подумать, что я собрался грабить вас… Я?! Фе, не ждал такого. Ну да ладно. Некогда ругаться. Почему не ушли?! Я же вас предупреждал!
— Не успели. Сейчас мы исчезнем…
— Опоздали. Петлюровцы орудуют на нашей улице. Слушай меня внимательно. Чуешь? Все твои — ко мне в подпол. В погреб! Понятно? Ну? Марш! Ружье не потеряй, еще пригодится…
К дому резника подъехал петлюровец на доверху нагруженной подводе. Бандит спрыгнул на землю, оглянулся, по-хозяйски подошел к окну передней и так стукнул кулаком, что полетели стекла.
— Эй, не трусьте, я сейчас добрый, — пьяно похвалялся разбойник. — Вон сколько у меня добра — целый воз. Можете убедиться. Только соли нет у меня. Мне ничего больше не надо. Лишь соли. Вы мне дадите соль, я вам — жизнь.
Петлюровец несколько мгновений прислушивался. Никто не ответил.
— Вот жидяры проклятые, забились в свои щели и молчат. Обмен их не устраивает. Жизнь для них — цена неподходящая.
Он недовольно забрался на крыльцо, ткнул сапогом в дверь и вошел в дом. Какое-то время из дома доносился стук и грохот. Выйдя на крыльцо с пустыми руками и с недовольным лицом, бандит увидел соседа Егудо.
— Эй, человече, — крикнул он. — Не знаешь ли ты, куда яврейчики подевались?
— Черт их знает.
— Может, они у тебя под полою сидят?
— Пощупай.
— Охоты нема. В другой раз, — махнул рукой грабитель и медленно направился к возу. Забравшись на него, потянул вожжи, и сытые кони весело сорвались с места.
Изломанная молния на миг разрезала небо. Чуть позже, где-то рядом с больницей, прогремел гром.
Клара Борисовна тяжело дыша посмотрела на сына:
— Отцу твоему все-таки пришлось выстрелить из того ружья. Потом…
— Что ты сказала?
— Так себе. Старая история припомнилась. Чудо, что ты остался живым.
— Когда, мама?
— Во время Петлюры. Ты был еще совсем малюсеньким, но крикун большущий. Прячась от бандитов, я все время ладонью прикрывала тебе рот, чтоб ты нас не выдал. Я была в таком состоянии, что могла запросто задушить тебя. Потом меня свалил тиф. Моя мама Малка вытащила нас с тобой с того света. Вечная незаметная титаническая работа матерей — жизнь давать, жизнь сохранять. Вижу как в тумане: вот она тебя подносит, твоя бабушка Малка, ко мне — сосать, а я — в жару, почти без памяти, отталкиваю тебя изо всех сил. Она плачет и уговаривает меня, чтоб я не была злой змеей, и что ты думаешь — я слушаю и от этого счастлива. В те бессонные ночи она, моя мама, твоя бабушка Малка, наполовину потеряла зрение. У нее воспалился глаз и полностью вытек. Ей некогда было думать о себе — она боролась за наши с тобой жизни.
17
Стоять между сыном и внуком у окна, ощущать их, слышать их голоса, их дыхание, вместе с ними глотать свежий воздух — что может быть лучше? Клара Борисовна провела бы всю оставшуюся жизнь вот так, беседуя с дорогими ей людьми. Она знала, что и они довольны, чувствовала, что им хорошо с нею. Так же как и боли, которые то возникали, то исчезали, мысль о неизлечимом недуге не давала покоя. Привыкнуть к ней, очевидно, невозможно. Клара Борисовна очень опасалась, как бы ее парни сызнова не коснулись этой темы. Клара Борисовна вовсе не уверена в том, что при этом она не разрыдается. Как при этом поведут себя мужчины, она не знала. На сегодня для них переживаний более чем достаточно, поэтому она строго, даже сердито, заглушая дрожь в голосе, произнесла:
— Теперь, ребята, домой…
— Ты что, бабушка, в грозу, в дождину и — домой?!
— Не сахар, не растаешь.
— Но ведь рано еще, мама.
— Я выдохлась. Приходите завтра.
— Напрасно, бабушка, ты нас гонишь.
— Ничего, принц. Держись. Если тебе очень хорошо, не хвастай, не гордись. Не вечно так будет. Если тебе худо, не горюй, не волнуйся. Не вечно так будет.
Мужчины не очень упорно сопротивлялись.
Клара Борисовна осталась наедине с собою, со своими болями и сомнениями. Тревога овладела бедной женщиной. «Должно быть, велика опасность. Свекровь Полины Наумовны, видимо, права. Точно знать, конечно, никто не может. Но скоро все станет ясным», — размышляла она. Сколько же все-таки человек в состоянии выдержать? Диковинная мысль, которая сегодня днем во сне прокралась в ее сознание, обещая, что ее тотчас же перестанут терзать боли, пусть только все забудет — и добро и зло, пусть только перестанет отличать голубое небо от серого, чернозем от песка, снег в поле от цветущих яблонь, преданные души от замороженных сердец, пусть только она избавится от своих чувств, как тут же, немедля, наступит конец мучениям, вновь тихонько подкралась к ней, только уже не во сне, а наяву. Клара Борисовна глядела на распахнутое окно: один лишь шаг, одно только движение, прыжок — и конец… Все хорошо, что случается вовремя…
— Уже проводили ребят, Клара Борисовна? — неожиданно раздался голос одной из соседок.
— Да, немного поторопила их, ибо очень устала. Радость порою так же тяжела, как и страдания.
Клара Борисовна очень обрадовалась возвращению женщин.
— Выглядите вы совсем не плохо.
— Я как ветряк, крыльями машу, но летать не могу. Попалась в капкан.
— Не волнуйтесь. Все будет хорошо.
— Из вареного яйца птенца не жди. Должно быть, рак у меня.
— Убедить себя можно во всем, даже что беременны…
— Рентген не лжет…
Соседки понимали, что Кларе Борисовне нужна поддержка, что ей надо помочь развеять грусть, хоть как-нибудь, хоть немножко. Они затеяли разговор, зная, что их болтовня действительно отвлекла Клару Борисовну от тяжких дум.
— Он не любил меня даже в первые дни после свадьбы, — рассказывала молодая соседка о своем муже. — Не выпив, к работе не приступал, а напьется — работать не хочет. Он здорово выпивал. Его норма — бутылка с прицепом да пара кружек пива.
— Господи, тут сто грамм пригубишь, потом три дня хвораешь…
— Даже расстались мы глупо. Ему почудилось, что в тарелке со щами червяк плавает. Слово за слово, разругались, почти подрались, и капут. Разошлись, как в море корабли. Болван, он не знает, что червяки — не те, кого мы едим, а те, которые едят нас. Жаль, что выкладывалась ради него.
— Женщина, у которой тяжелая работа, подобна корове в упряжке.
Клара Борисовна слушала соседок, а думала о себе. О том, что и она всегда была подобна корове в упряжке, и что вообще на свете почти нет женщин, какие не напоминали бы коров в упряжке, и невозможно отыскать хоть одну супружескую пару, которая смогла жизнь прожить без раздоров. Зачем, например, она воевала с Егудо, добиваясь, чтоб он не курил? Все равно не помогло. Зря в душу ему лезла, царапала ее. Чего она добилась? Он вынужден был прятаться от нее, собирать окурки в карманах, ненамеренно прожигая в них дыры. Однажды, когда он, прячась от нее, курил на веранде, заслоняя, как обычно в таких случаях, папиросу руками, искорка незаметно ушла на подкладку, тлела-тлела, пока сухая вата не воспламенилась и не обожгла локоть. И смех и грех. Все минуло. Нет ни Егудо, ни его цигарок, но до сих пор Клара Борисовна не может понять, как это человек, съев великолепно приготовленное блюдо, запив божественным компотом, ускользает потом на веранду, чтобы там, втихаря, закусывать горьким табачищем, дымом, черт-те знает чем…
Клара Борисовна чувствует, что на нее надвигается то гадкое воспоминание, которому давно пора навечно провалиться в тартарары. Но не все получается, как хочется. Как оказалось, ревность не менее жизнеспособна, чем любовь. Клара Борисовна силится не допустить, чтобы в ней ожили переживания, отнявшие у нее много душевных сил, высосали много здоровья, но удушить их не так-то просто.
И все-таки на другой день утром, когда Давид Исаевич принес ей теплый завтрак и между прочим осведомился, почему ее окно было темным вчера весь вечер, горькие раздумья вновь всплыли и даже боли не смогли их заглушить. Лежала Клара Борисовна со сведенными бровями, смеясь и улыбаясь. О своих мучениях — сыну ни слова, лишь намек на тяжкое воспоминание, но этого было достаточно, чтоб он догадался, что же ее печалило.
Давид Исаевич вспомнил, как он, тринадцатилетний мальчик, в середине зимы, после полуночи, вышел из дому на поиски отца, который впервые не вернулся с работы вовремя и не предупредил, что задержится. Давид тотчас же попал в объятия ветра. Снежная пыль завихрилась вокруг него, колючая вьюга задрала полы его коротенького пальтишка, пыталась повалить его, он, однако, не поддался, крепко держась на ногах в высоких подшитых валенках. Дорога к отцовскому учреждению куда-то исчезла во вьюге и кромешной тьме. Давид протаптывал свою собственную тропу, держась поближе к высокому забору, который служил ему ориентиром. И пока Давид шел, проваливаясь в бессчетное множество сугробов, он все время видел перед собою опухшие, заплаканные глаза матери, ее неприбранные волосы, растерянное лицо. Поначалу Давид ничего не понял. Но когда он пришел в бухгалтерию и увидел отца вдвоем с молодой женщиной, ему все стало ясно, хотя был он, в сущности, ребенком. Вернувшись домой, Давид сказал матери, что отец на работе, у него срочное задание и почти все сослуживцы на местах и пусть мама не беспокоится. Во имя чего он впервые в своей жизни соврал, он четко не представлял, но интуитивно чувствовал, что так будет лучше. Однако его вид и выражение глаз многое сказали матери.
Долго терпеть, не выдавая своих чувств, Клара Борисовна не могла. Это было немыслимо. Что предпринимала Клара Борисовна, Давид не знал. Лишь однажды, будучи дома, слышал, как они препираются. Он, конечно, и предположить не мог, что после этого разговора мама резко изменит свою жизнь. Она объявила отцу, что спускать на него собак с цепи не собирается, к раввину на судилище его не потащит, но зависеть от него она больше не желает, по-доброму — пожалуйста, в любви — с удовольствием, но если ничего этого нет, она как-нибудь обойдется: хватит, домашней хозяйкой быть больше не желает, пойдет учиться. И она действительно пошла учиться — в медицинский техникум.
Занималась Клара Борисовна с охотой, удовольствием, техникум окончила отлично. Председатель экзаменационной комиссии, доцент Киевского медицинского института, предложил ей продолжить учебу в вузе. Клара Борисовна согласилась, наскоро собрала необходимые документы, отослала, их, потом блестяще сдала вступительные экзамены — но в институт не приняли. Почему? Она не понимала, пока не встретила того самого доцента, который ей советовал продолжить учебу.
— Ваш батько був ризнык, — объявил он.
Да, действительно, отец ее был резником. Она призналась в этом. За отцовские грехи приходилось расплачиваться ей…
Пускай не врачом, но фельдшером Клара Борисовна стала. Если б не тот случай, Клара Борисовна на всю жизнь осталась бы просто супругой Егудо, управляющей кухней. Егудо, разумеется, просил у нее прощения, клялся, что никакого греха на нем нет, но все равно прощения просил. Два десятка лет после этого Хайчик и Егудо прожили вместе как голуби, но воспоминания все-таки терзали иногда, причиняя страдания.
Спозаранок Давид Исаевич вновь пришел в больницу:
— Мой руки, мама, и поешь что-нибудь.
Но Клара Борисовна не торопилась и вдруг неожиданно стала напевать мелодию веселого портняжки: «Праздничные дни кончаются уже, батюшка мой сердечный».
— Когда ты, Давид, должен возвратиться в Мирославль?
— Посмотрим. Я позвоню в институт.
— Было бы прелестно, если б ты остался со мною еще на несколько дней. Кто знает, что может произойти…
В это мгновение зашла Полина Наумовна. Сегодняшний свой внеочередной обход она начала с палаты Клары Борисовны. Она успела сделать лишь один шаг к Кларе Борисовне и услышала:
— Я обижена на вас, капитан. Вы же всегда были искренни со мной, как же вам не совестно обманывать военфельдшера, протопавшего с вами всю войну?!
Этот упрек ударил Полину Наумовну, словно хлыст. На нее словно тяжелый груз навалился. Полина Наумовна подошла к койке Клары Борисовны и осторожно присела на краешек постели.
— Если б я знала наверняка, я бы от вас ничего не скрыла, дорогая моя, — она положила свою руку на дрожащие пальцы Клары Борисовны. — Правда на острие скальпеля. Это как раз тот случай, когда только нож может ответить, что у вас. Надо резать…
Клара Борисовна задумалась. Она молчала, пока Полина Наумовна внимательно выслушивала ее стетоскопом, щупала желудок и печень. Она не раскрывала рта и когда Полина Наумовна осматривала ее соседок. Лишь после того, как врач покинула палату, тихонько прикрыв за собою дверь, Клара Борисовна заметила:
— Вырезать то, что гниет и отравляет тело, некоторым хирургам удается мастерски. Поличка хорошо режет…
Давид Исаевич не спускал с матери глаз. Такой возбужденной и измученной он никогда не видел ее. Она не спала всю ночь напролет, кусая губы и борясь с горестными мыслями.
Давид Исаевич подумал о Леонтии, хорошо, что его сейчас здесь нет и он не видит, как мучается бабушка. Внук тоже собирался идти рано утром, но Давиду Исаевичу жаль было будить его. Вчера она им сказала: «Пока я жива, хочу, чтоб вы меня запомнили веселой. Жить следует радостно, черпать полными пригоршнями. Чтобы потом не искать, где прошли они, твои дни».
Давид Исаевич хотел, чтоб мать что-либо подобное сказала и сейчас, но услышал он совсем иной псалом:
— Кто погибнет от огня, а кто от воды, кто от других болячек — каждый по-своему, на свой собственный манер. Твой отец, Давид, ушел как святой, только святые так умирают, в одночасье. Мне, очевидно, не суждено умереть легко.
Слышать такие слова невыносимо, но еще невыносимее искать причину и вникать в суть сказанного, — все равно Давид Исаевич не может помочь матери, он лишь бессильный свидетель.
— Надо решиться на операцию, — говорит он.
— Пожалуй. Хотя ночью я решила просить тебя, чтоб ты взял меня домой, лучше дома… нежели в больнице… мучиться… Все-таки дома… Долгие годы я там царствовала, как королева… Но нет, вижу, это — не выход… Может, действительно, резать? И немедленно. А может, иное что-нибудь…
Клара Борисовна отвела взгляд в сторону, ибо почувствовала, что мерзкий голос вновь нашептывает покончить все разом и обрести покой. У Клары Борисовны еще хватило сил, чтобы скрыть от сына свое состояние.
Не так уж это и плохо — семьдесят лет прожить, ах, если б Егудо столько прожил! Многие люди ее поколения уже давно ушли в небытие, а она вот все мается.
Почему еще вчера она так решительно сопротивлялась этому мерзкому голосу, а теперь ей все равно? Какой порог перешагнула? Она ведь и раньше предполагала, что у нее рак, хотя Полина Наумовна до сих пор, по ее словам, наверняка утверждать не может. А вот Клара Борисовна теперь уже почти не сомневается, что у нее злокачественная опухоль. Поди, уж и метастазы пошли, ведь она давненько прихварывает. Не страшна смерть, быть мучеником — вот что тошно, противно. Терпеть почти невозможно. Всюду боль. Тошнота беспрестанная. Хватит. Зачем мучиться?
Когда мать начала тихо, но твердо отдавать распоряжения, как ему поступать, если она уйдет туда, откуда не возвращаются, Давид Исаевич не возражал, как раньше, не просил, чтоб она прекратила этот разговор. Он молча выслушал все указания. Она имеет право изложить завещание, когда ей заблагорассудится, если впереди осталось полжизни.
— Путевку, которую я тебе привез, мама, Леонтию отдавать не надо будет, ты ее сама используешь. После операции, бог даст, ты сама к морю поедешь.
— Я уже, Давид, поеду с кочергой на печь, а с вилкой — обратно. Неужто тебе не ясно? Ну, кажется, все. Все? А теперь иди-ка корми своего парня. Леонтий, пожалуй, уже поднимается.
Прощаясь, Клара Борисовна крепко обняла сына, долго не отпускала его, целовала, как маленького, но слезы сдержала и была этим очень довольна. Давид Исаевич услышал, как она шепчет ему вослед самое важное свое напутствие.
После ухода сына Клара Борисовна поспешно убрала постель, подошла к распахнутому окну и кое-как взобралась на подоконник. Слава богу, соседки ушли умываться.
Увидев с улицы мать в проеме окна, Давид Исаевич сразу догадался, что происходит. Бежать обратно в палату к ней бессмысленно, не успеть, одно может выручить — крик, его крик, она увидит, может, и услышит.
— Нет!! — ревет он нечеловеческим голосом. — Нет!!!
Этот душераздирающий крик отрезвил ее. Она тотчас же слезла с подоконника на пол.
Одним прыжком развязать узел — это слишком большое счастье для нее. Со скрытым презрением к самой себе Клара Борисовна подумала: «Вот так-то ты учишь умирать Давида и Леонтия? Ну и что, если мной овладело отчаяние? Пока есть хоть один шанс из тысячи — терпи!» Окончательно придя в себя, она помахала сыну иссохшей рукой, дескать, отправляйся спокойно выполнять свой долг. Свой крест она понесет до конца, чего бы это ни стоило…
К операции Клару Борисовну готовили несколько дней. Давид Исаевич все время был возле нее. Он звонил в Мирославль на работу и договорился, что задержится. Его декан по этому поводу сказал:
— Мать умирает только один раз…
Накануне операции Давид Исаевич написал жене и младшему сыну:
«Дорогие мои!
Мама согласилась оперироваться. Выбора нет… Я не уверен, что операция поможет, но жить так, как сейчас, мама уже больше не в состоянии. Надо рискнуть. Это дает хоть какой-то шанс на ее спасение. Боюсь, однако, что самое страшное еще впереди. Все может окончиться трагично. Это угнетает меня больше всего. Если бы удалось хоть немного облегчить муки матери…
Ни одно из прежних переживаний не похоже на нынешние. Я не в силах привыкнуть к мысли, что мама, живая мама, к которой я хожу ежедневно два-три раза в больницу, что моя мама обречена. Тяжело мне. Но я благодарю судьбу, что она позволила мне в эти дни быть рядом с мамой, помогать ей, видеть ее, говорить с нею.
У Леонтия все в порядке. Трудности есть, но ничего, как их преодолеть, он знает.
Мама посылает вам свои лучшие пожелания. Мучения ее невыносимы, но она вас помнит.
Будьте осторожны на море…»
18
Всю ночь накануне операции Давид Исаевич не спал. На рассвете убрал в квартире — мама всегда содержала свои комнаты в идеальной чистоте. Что произойдет в больнице сегодня, что и как будет дальше, он себе представить не мог.
Сама она еще пыталась как-то шутить.
— Положить заплату на живые ткани для хирурга так же просто, как мне, к примеру, пришить заплату к твоим штанам, Давид, даже на самых деликатных местах, — успокаивала Клара Борисовна сына. — Не самая красивая гравюра, но лучше безобразная заплата, нежели прекрасная дыра.
Его брюки здорово досаждали Кларе Борисовне, это он хорошо помнит. Пока выучился следить за своей одеждой сам, без ее догляда, ему не единожды приходилось выслушивать ее упреки:
— Как только где-нибудь появляется грязь, она вся тут же оседает на твоих штанинах. И что с тобой делать?
Беспокоить мать спозаранок Давид Исаевич не хотел, ждать на Привольном переулке тягостно, лучше всего посидеть на большом больничном дворе в тени разросшихся кленов.
Сидя, укрытый свежей зеленью деревьев, он представлял себе, что сейчас происходит с мамой. Она теперь, наверно, на операционном столе. Полина Наумовна сказала ему, что мама должна выдержать операцию. Ее сердце позволяет на это надеяться. В памяти Давида Исаевича поминутно всплывали сценки, связанные с мамой.
Вчера, лежа на левой стороне лицом вниз, Клара Борисовна увидела его ботинки.
— Шнурки непомерно длинные у тебя, — заметила она и приказала: — Купи себе покороче, так некрасиво. — Потом добавила, качая головой: — Чем моя голова занята? Ведь ангел с косой за плечами…
Вдруг ему вспомнилось, как во время поездки в Евпаторию надо было перебраться в Москве с одного вокзала на другой. Вся семья вошла в метро и смело зашагала по мраморным ступеням. Но у эскалатора мать остановилась как вкопанная — никак не могла отважиться ступить на эскалатор. Только лишь после того, как Леонтий подхватил ее под локоть сильной рукою, она шагнула на ступеньку движущейся лестницы. Потом, покрасневшая от стыда, она произнесла:
— Когда мы переезжали с Украины в Татарию, с Киевского на Казанский вокзал нас перевозил извозчик. Красивый фаэтон у него был и кобылка стройная. Кажется, совсем мало времени прошло, но попробуй-ка отыщи сейчас в Москве извозчика…
В голову лезли все новые и новые подробности. Вдруг вспомнил, как мама с гордостью рассказывала ему об отце, который приобрел все знания и умения, кроме священного писания, самостоятельно, самоучкой. Его наставник, знаток Библии и пятикнижия, оказался не в состоянии как следует обучить его счету. Что он, Егудо, сделал? Он выпросил у имущих учебник математики на древнееврейском языке и самостоятельно проштудировал его. Несколько позже, окрыленный удачей, Егудо достал задачник Верещагина и решил все его задачи. Понравилась эта работа отцу…
Взгляд Давида Исаевича прикован к зданию больницы. Много разных воспоминаний пронеслось в его мозгу. Вдруг Давиду Исаевичу представилось, как мама лежит, изрезанная и обессиленная, но тут же мысли перенеслись в прошлое. Летом мама в качестве фельдшера выезжала с детсадом на дачу. Однажды мальчик проглотил нечаянно канцелярскую кнопку с острым штифтиком. Ох и переживала тогда мама, пока беду отвели! Давид Исаевич как раз в то время приезжал в отпуск, чтоб проведать мать, и вместе с ней возил несколько раз малыша в город, в поликлинику и на рентген, — надо было проследить движение кнопки… А вот опять перед взором Давида Исаевича операционная, Полина Наумовна орудует скальпелем, зажатым в руке, капля пота на переносице… Но тут мысль перескочила на другое: несколько дней тому назад, когда Давид Исаевич сказал матери, что он собирается сделать на могиле отца, она отозвалась:
— В чести нуждаются живые, мертвым она ни к чему.
Возможно. Давид Исаевич знал, что мало внимания уделял и отцу и матери, а получал от них гораздо больше. Они не жалели ничего. И почему так несправедливо заведено, что дети всегда столько получают от родителей, что расплачиваться никогда не успевают? Матери всегда прощают долги.
Давид Исаевич перевел взгляд на часы: время и спешит, и тянется страшно медленно.
Через два часа Полина Наумовна, словно в чем-то виноватая, подошла к Давиду Исаевичу:
— Я сделала все, что было возможно.
— Благодарю тебя, Полинька.
— Я сделала Кларе Борисовне анастомоз — напрямик соединила пищевод и кишечник, минуя желудок. Его стенки уже сожрал рак. Это единственное, что имело смысл сделать. Облегчение продлится не очень долго. Полгода Клара Борисовна еще потянет, может, чуть поболее…
Когда Леонтий примчался в больницу, он застал отца сидящим на каменных ступеньках крыльца.
— Все самое худшее подтвердилось, — ответил Давид Исаевич на молчаливый вопрос сына. — Из-за наших ран умирают наши матери…
— Порою случается наоборот, — отзывается Леонтий. — Раны родителей преждевременно сводят в могилы детей.
Давид Исаевич спрятал лицо в ладони.
19
Наркоз не скоро выпустил из своих объятий Клару Борисовну. Она спала двое суток, Давид Исаевич с нетерпением ждал, когда же она проснется.
Первое, что она сказала, открыв глаза, это:
— Песок… На ресницах — песок…
— Держись, дорогая.
— Воды…
— Пока нельзя. Потерпи.
Давид Исаевич обтер влажным полотенцем губы матери.
Он в замешательстве. Он взбудоражен. Его терзал вопрос: для чего? Вытерпеть такие мучения, чтобы вскоре обрести еще более страшные? Очень хотелось, чтоб мама жила как можно дольше. Но чем больше она будет жить, тем дольше будет страдать.
Через несколько дней, однако, Давид Исаевич забыл про эти свои размышления. Мать пришла в себя и впервые после операции улыбнулась:
— Может, еще подержусь на ногах? — Кусочком марли потерла губы и взглянула в круглое зеркальце: — Не узнаю себя, господи. — Немного помолчав, словно что-то вспоминая, сказала: — Зуб куда-то девался. Спереди золотая коронка была — и нет ее. Чувствую, что-то не так, как должно быть. Либо проглотила, либо выхаркала с рвотой. Как муха стала, муха — и все тут. Но сейчас мне намного лучше, чем прежде. — Немного подождав, жалобно добавила: — Есть хочу.
Через недельку она завела разговор о Привольном переулке:
— Пора домой! Где Макар телят гонял, видела, хватит, здоровье, тьфу-тьфу, не сглазить бы, возвращается, теперь уж никакой дьявол не возьмет меня, пока душа не выйдет вон. Домой! В гостях хорошо, да дома лучше. Самый лучший курорт — дома…
Боли, правда, не такие, как раньше, иногда появлялись, но ее это не тревожило — хорошенького понемножку. Что-то в ее сознании перевернулось. Возможно, она действительно спасена — Полинька ее из рук ангела смерти вырвала…
Выписать домой свою старую подругу Полина Наумовна согласилась с одним условием: чтоб она честно выполняла ее требования.
Пожалуйста, почему бы нет?
Последнюю ночь в больнице Клара Борисовна не могла заснуть. Волнение не покидало ее. Давид Исаевич сидел возле нее, ждал, пока она сомкнет глаза, чтоб и самому вздремнуть немного. Он, однако, не дождался — что-то да стоит бессонная неделя. Разбудила его знакомая, грустная мелодия. Пела мама. Ее голос! Сомневаться не приходится. Мотив и слова песни Давид Исаевич знал очень хорошо с самого раннего детства. Песню эту ему очень часто пела бабушка Малка. И мама потом пела эту песню. Давид Исаевич любил эту песню о музыканте, о его скрипке с живыми струнами, о любви и страданиях. Конец песни Клара Борисовна напевала неожиданно бодро, хотя финал далеко не веселый: «Одна-единственная струна осталась — но музыкант жив, ах, как хочется, как жаждет он играть. Он берет скрипочку в руки — настраивает ее, но нет, напрасны его старания… Струна всхлипывает, рыдает, вздыхает и… лопается… Порваны струны — лежит на земле старая, сломанная скрипка. Нет больше скрипки, нет струн. Кончилась глупая песенка».
Глаза Клары Борисовны слипались, она еле слышно прошептала:
— Домой! Домой…
ЗАРЯ МОЯ ВЕЧЕРНЯЯ
1
Давид Исаевич стоял возле широкого окна кабинета графики и смотрел во двор. Там, возле старого грузовика, возились с мотором студенты. Они о чем-то спорили. Голосов не было слышно, но, судя по резким и угрожающим жестам, страсти накалялись. Один из студентов, высокого роста, одной рукой указывал на мотор, а другой отталкивал от машины двух своих приятелей.
«Порою и сила служит доказательством», — усмехнулся Давид Исаевич, но тут же помрачнел, вспомнив утренний скандал у себя дома. Он, педагог, сам едва не выпорол своего сына, упорно не желавшего делать зарядку. Жена успела выхватить малыша из его рук, но при этом сама едва не упала. И не подставь он руки, его Евдокия Петровна сильно бы разбилась. До сих пор досадно — зачем вспылил?
Тревожное чувство, притупленное деловой суетой, вновь охватило Давида Исаевича. Удручали не слова, какие жена высказала ему после происшедшего, — они были вполне справедливы. То, о чем она промолчала, угнетало больше: глаза ее излучали презрение.
«Трудно ей со мной, — думал Давид Исаевич, пытаясь подавить нахлынувшую тоску. — В прошлом намаялась. И теперь тоже мало радости. А я даже не извинился перед ней…»
Возня у грузовика во дворе начала раздражать Давида Исаевича. Выйти, что ли, разобраться, в чем там дело? Все-таки он декан ФОП — факультета общественных профессий, куда входит и отделение автодела, которому принадлежит эта развалюха.
Давид Исаевич шагнул было к двери, но тут взгляд его упал на телефон… Да, года все-таки дают себя знать… Совсем было забыл, что предместкома института Норшейн просила ей позвонить. Телефон — на тумбе у окна, но Давиду Исаевичу не хотелось даже прикасаться к нему. Хотя звонить все же необходимо — Анна Арнольдовна Норшейн не любила, когда пренебрегали ее просьбами. И Давид Исаевич осторожно подошел к телефону, снял трубку. Тотчас же послышался протяжный гудок. Ну вот, пожалуйста, можно набирать номер телефона Норшейн. Отыскивая глазами нужные цифры, Давид Исаевич принялся крутить диск телефона.
Норшейн что-то говорила ему, но Давид Исаевич не сразу понял сказанное. И потому переспросил Норшейн. Оказалось, Анна Арнольдовна приглашала его к себе в кабинет.
— Иду, — отозвался Давид Исаевич, положил трубку, однако не спешил снять с нее свою пухлую волосатую руку.
2
Ничего, Норшейн подождет, пусть немного подождет. Минутой раньше, минутой позже — какая разница? Давид Исаевич тупо глядел на телефон, и ему казалось, он явственно слышит ноющий, с глуховатым привыванием зуммер полевого телефона. «Откуда взялся этот сигнал?» — напряженно думал Давид Исаевич, но тут же утешил себя: это от переутомления, от постоянных мыслей о книге, которую он пишет и никак не может закончить…
Книга эта о прошедшей войне, о фронтовых путях-дорогах. Ее следует, скорее всего, начать сызнова, а написанные страницы просто выбросить в корзину как очередной брак. Да и как может быть иначе, если садишься к письменному столу лишь после рабочего дня, ночью, уставший до отупения? А ведь рассказать есть о чем…
Например, про бои у села Самбек, что в Приазовье, где он, молоденький лейтенант, командовал батареей, прикрывавшей отход наших войск…
Рано утром его наблюдатели засекли скопление вражеских танков в глубокой лощине, неподалеку от села. Видимо, танки скрытно заняли позицию ночью. Что задумал противник? Скорее всего, внезапную атаку. Ждать распоряжений было нельзя. Надо было нанести упреждающий удар.
Казалось, поединок с противником длился бесконечно, хотя с момента первого залпа прошло не более получаса. Но за это время снаряды сделали свое дело: в лощине черным коптящим пламенем горели три танка.
Атака фашистов была сорвана, батарея Давида Исаевича спутала их планы, и лейтенант был доволен — получилось то, что задумал, хотя день только начинался…
Тишина после орудийных залпов давила на уши. Зной жег степь, опаленная солнцем, никла к земле вянущая сурепица. Желтые цветы ее были разбрызганы повсюду. Отчаянно пахло мятой и полынью.
Давид Исаевич стоял в окопе, прислонившись затылком к брустверу. Высоко в небе, прямо над окопом, кружил ворон. В ослепительном сиянии дня резко выделялась его чернота. Ворон опускался все ниже, но вдруг, чего-то испугавшись, стремительно взмыл вверх. Давид Исаевич погрозил ему кулаком:
— Всего только и хотел — глаза выклевать. Рановато, сам еще ими попользуюсь…
Давид Исаевич снял затекшую руку с телефона, устало вытер ею вспотевший лоб, посмотрел на часы — Норшейн, наверное, заждалась его. Пора идти.
3
В уютном кабинете профсоюзного комитета института сидела у стола Норшейн — одна ладонь под локтем, другая у подбородка — ждала Коростенского. Как только послышались знакомые шаркающие шаги, Анна Арнольдовна поудобнее уселась на стуле, пригладила на груди кофточку, видневшуюся из-под жакета, и изобразила на лице приветливую улыбку.
Отворив дверь кабинета, Давид Исаевич постучался в нее изнутри, искоса взглянул на женщину и переступил порог.
Эта преподавательница литературы, работавшая на одной кафедре с его женой, почему-то вызывала у Коростенского тревожное чувство.
— Отдел культуры горисполкома концерта нашего требует, — бархатно объявила Анна Арнольдовна. — Велено вас предупредить и помочь вам.
Коростенский вспыхнул:
— Чуть ли не каждый день — праздник, пой, играй, пляши… Нельзя же так, надо сопротивляться!
— Да ведь отказывались наши, — Норшейн развела руками. — Юбилей на носу, людям нужны зрелища, а филармонии в городе нет.
— Ну и мы не филармония, а институт, — возмутился Давид Исаевич. — Оседлали нас и едут, как будто так и надо!
— Спокойно возмущаться умеете? Без спиралей?
— Не умею, не обучен. Моя беда.
— Если бы только ваша, — вздохнула Норшейн.
Веки Коростенского за большими квадратными очками сузились, толстые, слегка изогнутые губы под усами крепко сомкнулись. Норшейн поняла, что надо смягчить тон.
— Конечно, институт замучили, а вас, Давид Исаевич, в первую очередь. Вы и жнец, и швец, и на дуде игрец. И пожалеть вас некому.
— Каждый должен сам уметь защищаться!
— Личные интересы отстаивать не всегда удобно, — возразила Анна Арнольдовна.
— А кто может точно сказать, где кончается свое и начинается общее? — отозвался Коростенский.
— Вы, дорогой мой, человек увлекающийся, — мягко проговорила Анна Арнольдовна. — Весь в углах, и все они острые. Но ведь мы с вами отлично знаем, что с начальством надо ладить.
Давид Исаевич насупился:
— Все равно, нельзя превращать факультет общественных профессий в гастрольное бюро. У него иные цели.
— Вопрос спорный, и боюсь, что сейчас мы с вами не решим его, — откликнулась Анна Арнольдовна. — Давайте-ка лучше наметим программу выступления.
— Своим ли мы делом заняты? — с горечью произнес Давид Исаевич, стараясь погасить свое возбуждение.
Анна Арнольдовна вопросительно взглянула на него:
— Чем расстроены, Давид Исаевич? Только прямо, без спиралей.
Губы Коростенского скривились. Он мог бы ответить двумя словами: «Живу тяжело». Но этими словами сути дела не объяснишь. А по полочкам все раскладывать не хочется.
— От сегодняшнего сабантуя надо избавиться, — поморщился Давид Исаевич.
— Вы чудак старомодный, Давид Исаевич, — покачала головой Анна Арнольдовна.
— Однажды осмелимся, в дальнейшем будут нас уважать, считаться с нами, — настаивал Давид Исаевич. Уши у него побагровели. Он чувствовал это и еще больше горячился. — Безобразие ведь, узнаем днем, что вечером выступаем. Неужели раньше не могли оповестить?
— Кто-то подвел городской отдел культуры, срывается вечер, — оправдывалась Анна Арнольдовна своим бархатным вкрадчивым голосом. — Вот нас и просят выступить. Ну, будет вам волынить, время терять. — Тонкими длинными пальцами Анна Арнольдовна изящно стряхнула какую-то соринку с пиджака Коростенского.
— Для какой аудитории концерт? — недовольно покосился на Анну Арнольдовну Коростенский.
— Ткачихи. В основном — молодежь, и нужно что-нибудь легкое, эстрадное, — поспешила высказать свое мнение Анна Арнольдовна. — И я что-нибудь спою, если позволите.
Давид Исаевич кашлянул.
— А если использовать режиссерское отделение вашего факультета? Дать пару сцен из «Любови Яровой»?
— Не желаете вы, чтобы я сегодня пела, — обворожительно улыбнулась Норшейн. — Я вам это припомню когда-нибудь. Берегитесь!
— А! Чем хуже, тем лучше, как говорят китайцы.
— Я ведь не только председатель профкома, — игриво напомнила Анна Арнольдовна. — И художественный совет под моим началом. Вы всецело в моих руках…
Коростенский стал протирать стеклышки очков. Как тут разобраться, шутит женщина или надсмехается. А Анна Арнольдовна настойчиво продолжала:
— Есть древняя истина: не враг предает, а соратник, друг. Оттого-то оно так невыносимо — предательство.
Лицо Давида Исаевича без очков сделалось растерянным и печальным.
— Трудность состоит в том, что я хлопочу за себя, — доносились до него бархатные слова. — Это всегда уязвимо.
И вновь Давид Исаевич в недоумении: о чем это она что ей надо?
Словно бы отвечая на его немой вопрос, Анна Арнольдовна допытывалась:
— Что делать будем, Давид Исаевич?
— Пьесу дадим, что мы еще можем? — И Давид Исаевич решительно водрузил очки на свое место.
Норшейн свела брови:
— Упорный вы, однако. Не щадите ни себя, ни других.
Когда за Коростенским закрылась дверь, Анна Арнольдовна в сердцах хлопнула ладонью по столу: «Как всегда, упрям до фанатизма, и так — во всем!» Смуглое лицо ее, с выразительными черными глазами, стало напряженным и злым, а потому — некрасивым. Она встала из-за стола, резко отодвинула ногой стул, усиленно потерла ладонями лоб: «Э, ну его… Если не я для себя, то кто же для меня? Концерт лишь эпизод, пустячок. Есть проблемы поважнее. Например, место заведующего кафедрой литературы. Не проморгать его — вот что существенно. Вот где проигрыша допустить никак нельзя. Потому что есть и другие претенденты».
Анна Арнольдовна подошла к зеркалу, поправила прическу, одновременно согнав с лица печальные думы, и вышла в коридор.
В дальнем конце коридора она вновь увидела Давида Исаевича в окружении нескольких студентов. Он показывал им какой-то лист бумаги. Все они вместе с Давидом Исаевичем рассматривали этот лист, как военную карту, и Норшейн поймала себя на мысли, что военное прошлое давит на Давида Исаевича, что он был и остался грубым солдафоном. Везде и во всем. И в том, что он делает, и в том, что он чувствует, и в том, как говорит.
И здесь Анна Арнольдовна не ошибалась, потому что, рассылая своих помощников за участниками спектакля, который надо сегодня показать ткачихам, Давид Исаевич вновь возвращался к своим мыслям о южном фронте в далеком тысяча девятьсот сорок втором году…
4
После утреннего боя несколько часов подряд было тихо, все уже думали, что так продлится до конца дня. Но случилось иначе. Внезапно налетел двухфюзеляжный самолет-разведчик, который наши солдаты прозвали «рамой». Строча своими пулеметами, он сделал несколько кругов над позициями батареи и сбросил несколько небольших бомб.
Поведение врага Давиду Исаевичу было знакомо. «Рама», должно быть, засекла огневые позиции батареи, замаскированные не лучшим образом. Конечно же вражеский воздушный разведчик отметил на своей карте координаты огневых позиций батареи и сообщил эти сведения своей артиллерии.
Тогда, в траншее под Самбеком, ожидая удара гитлеровцев, Давид Исаевич пытался глубоко в душе запрятать чувство жалости к своим товарищам и к самому себе. Мозг трезво оценивал положение и подсказывал, что ждать какого-то чуда глупо. Единственное, что оставалось, — не робеть, драться до последнего вздоха. И пусть враг дорого заплатит за гибель батареи.
Немецкий стервятник висел над батареей Давида Исаевича, собираясь, видимо, корректировать огонь своих орудий. Но выполнить эту миссию ему так и не удалось. Как раз в тот миг, когда фашистская артиллерия обрушила шквальный огонь на батарею Давида Исаевича, чудо все-таки свершилось: в небе появились наши бомбардировщики и штурмовики. «Рама» сразу же исчезла, поработать ей не удалось. А через несколько минут над позициями врага взметнулись клубы дыма и огня. Фашистские орудия были уничтожены.
Давид Исаевич от радости плясал. «Отличную костоломку устроили гадам! — кричал он, задрав голову. — Молодцы!»
Имел он в виду не только пилотов, которые так решительно и вовремя разгромили врага. Он был благодарен командованию фронта, которое изыскало возможность предпринять налет на Самбек, чтобы помочь артиллеристам, держащим трудную оборону.
Однако ночью пришел приказ сменить позиции. Где-то около полуночи батарея начала отход. Двигались беспрерывно до самого рассвета по полевым дорогам, по долинам и балкам. Лишь при восходе солнца машина, в которой Давид Исаевич ехал во главе колонны, выползла наконец из очередной балки. Лобовое стекло кабины, продырявленное пулей, казалось затянутым тоненькой паутиной. И все, что Давиду Исаевичу удавалось наблюдать, дрожало и покачивалось в этой паутине.
Навстречу бежала степь. Утренняя, свежая, она сверкала тысячами золотистых росинок. Нежная теплота обволакивала Давида Исаевича. Еще немного, и из синеватого утреннего туманца покажется широкая дорога, ведущая прямо на Ростов. Немножечко терпения, чуть-чуть везения, и — конец одиночеству его батареи. Давид Исаевич почувствовал, как его охватывает сладкая дрема. Не спавший всю ночь, Давид Исаевич совсем не противился ей и прислонился затылком к стенке кабины.
От сильного толчка Давид Исаевич проснулся. Ехали медленно, по ухабистой дороге. Мотор грузовика тихо бормотал, и сквозь это бормотание Давид Исаевич слышал, как лязгают траками тягачи, тянущие тяжелые орудия. Давид Исаевич оглянулся. Через заднее стекло кабины, в кузове, он увидел немудреное артиллерийское имущество и бойцов взвода управления. По лицам солдат Давид Исаевич определил, что они чем-то взволнованы, что они знают такое, что им отнюдь не нравится.
— Что происходит? — спросил Давид Исаевич, не отворачиваясь от окошка.
— Поднимитесь в кузов, увидите, — хмуро отозвался шофер, потянув к себе рукоять тормоза.
Он был прав. Одно мгновение — и Давиду Исаевичу все стало ясно. Над дорогой, ведущей в Ростов, висело облако дыма и пыли. Его пронизывали лучи восходящего солнца. А в южном направлении двигались бесконечные колонны войск. Так вот, оказывается, что стряслось: наши отступают? Сызнова?!
Так или иначе, но его батареи это не касается, во всяком случае, сейчас не должно касаться. Ему, Давиду Исаевичу, приказано к концу дня дойти до реки Тузловки и занять там боевые позиции. Так оно и будет. Хотя на сердце было муторно.
Продвигаться на север, когда все двигаются в противоположном направлении, идти против течения — совсем не простое дело. Но выхода нет. Приказ есть приказ, пока его никто не отменил. Давид Исаевич стоял на ступеньке грузовика, держась обеими руками за открытую дверцу кабины, и просил:
— Дайте дорогу! Товарищи! Пропустите, пожалуйста…
Добрались к новым огневым позициям еще при дневном свете, со всеми орудиями въехали в зреющее кукурузное поле. Пока маскировали технику — накидывали стебли кукурузы на орудия, тягачи, Давид Исаевич оценил участок фронта, который приходилось защищать, выбрал основные и запасные огневые позиции, определил месторасположение наблюдательных пунктов.
Его офицеры уже ждали его, внимательно выслушали. Получив конкретные задания, сразу же бросились их выполнять.
Было ясно, что оборона будет тяжелой, поэтому Давид Исаевич приказал рыть окопы полного профиля. На вопрос, где сейчас враг, Давид Исаевич отвечал, что рядом, что в любую минуту может показаться на другом берегу Тузловки. А раз так, надо торопиться быстрее зарыться в землю.
Огневики и весь состав взвода управления, солдаты и командиры вкалывали так, что ему, Давиду Исаевичу, никого не приходилось подгонять. Но и он ни на секунду не присел. Он все время был на ногах. Он контролировал, как его товарищи вгрызаются в землю, помогал укрывать ящики со снарядами, испытывал линии связи, протянутые в нескольких направлениях от его наблюдательного пункта к огневым позициям, к пехоте, которая закрепилась впереди, почти на самом берегу реки. Давид Исаевич нарочно спустился в окопы пехотинцев, чтобы лично познакомиться с командиром роты, которую батарее придется поддерживать в предстоящих боях. На флангах огневых позиций, в узких щелях, устраивались бронебойщики с противотанковыми ружьями.
И все это время Давида Исаевича не покидала мысль о пыльной, пронизанной солнечными лучами дороге на Ростов и о наших, отходящих по ней войсках. Что происходит, было не так-то просто понять. Выходит, фашисты сильнее нас? Неужели мы так слабы? Или воюем не так умело, как они? Давиду Исаевичу было ясно, что успешно сопротивляться врагу можно лишь в том случае, если перед ним нет страха в душе. Трусом он, Давид Исаевич, по крайней мере до сего момента, не был. Он и сейчас готов был встретить врага достойно.
На наблюдательном пункте Давид Исаевич пробыл до поздней ночи. Он предполагал, что гитлеровцы вот-вот покажутся на противоположном берегу Тузловки и попытаются с ходу форсировать реку. Однако же было тихо. На огневые позиции батареи Давид Исаевич ушел за полночь, еще раз проконтролировал глубину траншей, проверил правильность установки орудий.
Великолепными получились траншеи около первого орудия. Первое орудие — любимое Давида Исаевича. Всегда первое орудие нравилось ему больше других — и стреляет оно быстрее, и попадает в цель чаще…
Много воспоминаний связано с этим орудием. Стоя у его панорамы, Давид Исаевич ранней весной громил немецкие танки под Матвеевым курганом… Фугасным снарядом из этого орудия он, Давид Исаевич, взорвал лично склад боеприпасов врага у села Самбек. Из этого орудия им было уничтожено три пулеметных расчета. Становился к гаубице Давид Исаевич не потому, что нельзя было положиться на наводчика, и не потому, что на наблюдательном пункте делать было нечего. Просто у Давида Исаевича порою возникала настоятельная потребность самому, своими руками прикоснуться к панораме орудия, ощутить его живой удар после выстрела, услышать, как звенят пустые гильзы снарядов…
Устав, Давид Исаевич садился на лафет первого орудия, блаженно расслабляя свои ноги. Они ныли, и Давид Исаевич легонечко гладил их, словно просил прощения за то, что так их утомил. К нему доносились короткие фразы солдата:
— Интересно, что фашисты сейчас делают?
— Как и все, дрыхнут, наверное…
— А завтра начнут переть.
— Ничего, встретим как полагается.
— Далековато все ж таки заползли они к нам…
Высоко в небе гудели ночные бомбардировщики, прозванные «кукурузниками». Их зажженные бортовые огни казались блуждающими звездами.
До войны Давид Исаевич мечтал стать учителем литературы. О том, что началась война, он узнал в трамвае, по дороге в общежитие института, студентом последнего курса которого он был. Давид Исаевич был уверен, что врага быстро разгромят, что война продлится не более месяца да и воевать будут на чужой территории.
Поэтому Давид Исаевич сразу же обратился в военкомат, который послал недоучившегося студента в артиллерийское училище. Каких-нибудь пять месяцев учебы, и Давид Исаевич — лейтенант, командир огневого взвода на Южном фронте.
Еще студентом он никогда и нигде не позволял себе быть небрежным, поэтому и на войне не мог выполнять свои обязанности плохо.
Ничтожны его военные познания? Стало быть, их надо совершенствовать, наращивать в боях. В первую очередь Давид Исаевич принялся изучать правила стрельбы — не очень-то простые в артиллерийском искусстве. Мастерство он добывал в ходе сражений.
Вот о чем думал Давид Исаевич, сидя на лафете своего первого орудия. Но долго размышлять не дали — вспыхнула вражеская осветительная ракета на противоположном берегу Тузловки. Давид Исаевич мгновенно вскочил на ноги. Сполохи немецких ракет появлялись то справа, то слева.
— Вот и все, кончился отдых, — невесело сказал самому себе Давид Исаевич. Он повернул голову к телефонисту, который все еще продолжал орудовать своей саперной лопатой неподалеку от орудия. — Передай по линии: приготовиться к бою!
Раздвигая кукурузные стебли, Давид Исаевич устремился к своему наблюдательному пункту. Рядом, часто дыша, шагал его связной, топая тяжелыми сапожищами. Через несколько минут связной обратился к лейтенанту:
— Товарищ командир, как вы думаете, устоим?
— Это зависит и от нас тоже. Врага пропускать нельзя!
— А те, на ростовской дороге, разве этого не знают? Почему же они отступают?
Уверенно ответить на этот вопрос Давид Исаевич был не в состоянии, голову морочить солдату не хотел, поэтому пожал плечами.
— Пока не знаю. Наверно, приказ они такой получили.
— Это само собою, — отозвался связной, вздохнув. — Такое без приказа не делается, а все же неприятно…
На рассвете гитлеровцы начали строить понтонный мост. Командир подшефной роты, окопавшейся у реки, беспокойно стоя у себя в траншее, глядел, как споро немцы работали, и ждал, что вот-вот наши артиллеристы закидают их фугасами. Не дождавшись, он позвонил Давиду Исаевичу.
— Вижу, — успокаивающе отвечал Давид Исаевич. — Огонь открою, не опоздаю.
Противник сумел дотянуть свои понтоны лишь до середины реки: несколькими залпами своих орудий Давид Исаевич разрушил понтоны и уничтожил солдат, орудовавших возле них.
Некоторое время было тихо. Потом на наш берег реки налетели фашистские бомбардировщики. Бомбы рвались со страшным грохотом, но никого не задели — ни пехотинцев, ни артиллеристов Давида Исаевича. Вот что значат окопы в полный профиль!
Фашисты вновь принялись возводить понтонную переправу. Но и на сей раз Давид Исаевич несколькими залпами свел на нуль их старания.
— Ага! Хлебнули?! — кричал Давид Исаевич, разглядывая в бинокль разбитые понтоны, хотя он великолепно знал, что от наблюдательного пункта до врага далековато и немцы слышать его не могут.
Снова и снова бомбили фашисты наш берег, забрасывали минами и снарядами. Все кругом окутал дым.
Перешагнуть Тузловку не удалось врагу и на другой день. Уже три раза Давид Исаевич огнем своих орудий крушил вражеские понтоны. Он был счастлив и с восторгом говорил связному, который пытался напоить его чаем:
— Видишь или нет? Фашиста бить можно! Фашиста бить надо!
Но тут пришло распоряжение: снова отойти, занять позиции на северной окраине Ростова — немцы прорвали нашу оборону где-то слева и рвались к городу.
В долину Тузловки темнота вползла незаметно. Над рекою поднялся легкий туман и медленно поплыл между берегов.
Оглохший от нежданного приказа и наступившей тишины, Давид Исаевич стоял на наблюдательном пункте. Он никак не мог заставить себя передать на батарею распоряжение штаба. Снова отступать? Почему? Давид Исаевич с грустью думал о своем доме и родителях в Казани, о жене, которую судьба забросила в татарское село Аксубаево… Если вот так — шаг за шагом назад, можно и до них допятиться… Что же это означает? И сколько можно? Непостижимо…
Утром, однако, батарея Давида Исаевича уже сражалась в северном предместье Ростова. Кругом были заблаговременно выкопаны противотанковые рвы. Фашистские танки, которые генерал фон Клейст беспрерывно выталкивал на наши рубежи, не сумели, как планировал генерал, с ходу преодолеть их.
Неприязненно, с омерзением смотрел Давид Исаевич на вражеские машины, издали похожие на клопов. Был как раз тот случай, когда у панорамы гаубицы стоял сам Давид Исаевич. Снарядов он не жалел. Ветер пригонял на батарею смрад и вонь горелого железа.
Казалось, все — враг остановлен, сломлен, он уже выдохся. Но резервы фон Клейста были поистине неисчерпаемы.
Рассвет батарея Давида Исаевича встретила в станице Аксайская, уже по другую сторону Ростова. За плечами мирно плескался Дон. Мост через него был взорван, и в чистое небо диковинно задрались черные изломанные ребра ферм.
Присев у песчаного берега на корточки, Давид Исаевич зачерпнул ладонью воды. Была она горьковатой. А может, это просто показалось ему. Давид Исаевич перевел взгляд на другой берег реки. Вдалеке фашистские «юнкерсы» бомбили Батайск. Оттуда наплывали теплые волны воздуха. И понял Давид Исаевич, что дело принимает печальный оборот: уж коль не удалось остановить гадов у противотанковых рвов, вряд ли теперь можно будет задержать их здесь, на этом берегу, который вовсе не был укреплен. Придется переправлять орудия через Дон. Но как это сделать? Понтонов нет.
Через некоторое время Давид Исаевич обнаружил на берегу бочки. Пустые, они навалом, в беспорядке валялись вдоль берега. Это был настоящий клад! Из бочек вполне можно соорудить плот.
У гаубиц Давид Исаевич оставил по два солдата. Остальные были отправлены на сооружение плота. Пустили в ход все: доски, бревна, тросы, веревки…
И вот первый тягач, волоча за собой гаубицу, с радостным бормотанием, словно осчастливленный тем, что найден выход, осторожно въехал на плот. Плот опасно закачался, окунулся в воду, но всплыл — выдержал нагрузку. Его оттолкнули от берега, и он поплыл.
Возможно, потому, что солдаты спешили и плохо закрепили на плоту тягач с орудием, на быстрине плот вдруг резко накренился. Крепление не выдержало, тягач вместе с орудием плюхнулся в воду, и река мгновенно поглотила их.
Пока искупавшиеся в реке рулевые приплыли к берегу на пустом плоту, пока плот укрепили — подвели под него еще с десяток пустых бочек, удалось на другом, меньшем плотике переправить на противоположный берег имущество взвода управления. Когда основной плот был подготовлен к очередному рейсу, на него взгромоздился грузовик. На сей раз рулевые были внимательны и осторожны. И этот рейс окончился успешно.
Уже второй тягач начал въезжать на плот, и Давиду Исаевичу подумалось, что все будет хорошо, как неожиданно вспыхнула стрельба. С пригорка во весь рост спускалась цепь немецких автоматчиков.
Бойцы открыли ответный огонь. Вскоре, однако, стало ясно, что возникла ситуация, при которой возможен захват противником орудий, а такого допустить было нельзя. К тому же кончались боеприпасы.
Поняв это, Давид Исаевич мертвецки побледнел. Остался один выход — своими руками уничтожить оставшиеся орудия.
Печальные взрывы потрясли берег возле тихого Дона.
5
Опустив голову, Евдокия Петровна медленно поднималась в учительскую. Осторожно переступала она со ступени на ступень по старинной чугунной лестнице — узорчатой, широченной, с ажурным ограждением и отполированным до черного блеска поручнем из мореного дуба.
Не торопилась Евдокия Петровна. Хорошо бы убежать от своих мыслей, да как? Это конь несется во всю прыть, когда ездок нахлестывает его, — бедняга надеется ускакать от кнута хозяина. Кнут, которым она стегала себя, тоже при ней: куда она — туда и он, нет избавления от него. Со стороны могло показаться, что Евдокия Петровна внимательно рассматривала тупые кончики своих новых лакированных туфель.
Утренняя размолвка с мужем разбередила в ней разное — жалость, обиду, негодование. Сердилась она не столько на него, сколько на себя: и оттого, что давным-давно, глупой девчонкой, мечтая выкарабкаться из трясины одиночества, вышла замуж, и оттого, что со многим в жизни малодушно соглашалась. Непосильный груз вывалила судьба на хрупкие плечи растерявшейся поповны, отца которой безжалостно раскулачили в год великого перелома…
Еще на лестничной площадке Коростенский понял, что жена где-то поблизости. Он обычно безошибочно ощущал ее присутствие. Перегнувшись через перила, Давид Исаевич увидел супругу. Больно екнуло сердце. Сверху видна была седая прядь волос в прическе Евдокии Петровны. Щемящее чувство вины резануло Давида Исаевича. Он стремительно, рывком кинулся навстречу жене, перепрыгивая через несколько ступенек. Остановился он на той же ступеньке, где стояла жена.
— Не обижайся, прошу тебя, — произнес он.
Она холодно посмотрела на него:
— Здесь не место и не время для такого разговора. Куда это ты опять опрометью?
— В театр. Выклянчивать реквизит для спектакля. Вечером даем представление.
— Хлебом тебя не корми, только позволь похвастать каким-нибудь отделением твоего факультета.
Давид Исаевич переминался с ноги на ногу.
— Хожу козырями.
— Да не той масти, — усмехнулась Евдокия Петровна. Взгляд ее скользнул по лицу мужа. «Какой все-таки некрасивый нос у него», — мысленно вздохнула она, но вслух заговорила совсем о другом, заметила, что галстук у Давида Исаевича совсем съехал набок.
Давид Исаевич торопливо поправил галстук.
— Илюшу уж тебе придется накормить, — произнес он тихо. — Очередь моя, да, как видишь, не получается. Не успею вернуться вовремя.
— Илюше давно пора самому управляться с едой.
— Он и так плохо ест.
— Потому что ухаживаем за ним, как за барчуком! Портим мальчика.
В учительской была лишь одна Норшейн. Анна Арнольдовна старалась, но не в силах была оторваться от простенького веселого платья Евдокии Петровны, которое с таким изяществом, так ловко охватывало ее фигуру, что совершенно скрадывало, облагораживая, и высокий бюст, и живот, и полнеющие бедра.
— Где вы такую прелесть достали, — проворковала Анна Арнольдовна.
— Сшила.
— Отличный вкус у вашей портнихи. Познакомьте меня с ней!
— Пожалуйста, — поклонилась Коростенская. — Вот она, перед вами.
— Что же вы таланты свои скрываете? Может, примете заказ у меня?
— Вот уж когда из института выгонят…
— Долго ждать, — взмахнула рукой Норшейн и подумала: «А ведь ее могут назначить заведующей кафедрой. У ректора она в фаворе. Верно говорят, что самые страшные враги вырастают из прежних лучших друзей». По спине побежали мурашки.
Но долго терзать себя Норшейн не умела. Прежде всего старалась освободиться от изнуряющих переживаний. Страдать некогда и неумно. Жизнь так хороша и так коротка, что тратить ее бесценные мгновения на разного рода муки — преступление.
— Что бы такое натворить? — неожиданно для себя произнесла Анна Арнольдовна.
Блеск ее глаз не понравился Евдокии Петровне:
— Что-то вы колючая сегодня, прямо вас не узнаешь.
— Ошибаетесь. Не колючая, а решительная. Мне бы капельку вашего счастья, Евдокия Петровна, и была бы я тише воды, ниже травы.
Коростенская ладонями погладила брови, одновременно и правую и левую:
— Чужой каравай всегда кажется толще.
— Ага, значит, правда, что у вас нелады с мужем! Давно поговаривают. Шила в мешке не утаишь!
— Сплетня обыкновеннейшая. Стоит ли ее повторять?
— Умные женщины, Евдокия Петровна, сплетни не повторяют. Они их выдумывают.
Быстрыми шажками Норшейн прошлась по учительской, у зеркала задержалась, повертелась, с наслаждением погладила бока:
— Ужасно полнею. Некоторые умеют держать брюхо в голоде, а я не могу.
Прикрыв руками порозовевшие щеки, зевнула, отыскала в зеркале глаза Евдокии Петровны и улыбнулась.
Вынырнувшее из облаков солнце позолотило пушистые черные волосы Анны Арнольдовны. Глядя на нее сбоку, Евдокия Петровна вдруг обнаружила в ее профиле что-то от хищной птицы. Виноват ли в этом был нос с горбинкой, или неожиданный поворот головы, или еще что-то смутное, неосознанное, но сходство, несомненно, существовало. Коростенской стало неприятно, и она отвернулась.
Между тем в самом низу лестницы, у доски объявлений, Давида Исаевича остановил плакат, который жирным шрифтом извещал, что репетиция хора отменена. Почему? Это Давид Исаевич узнал тут же. Парни индустриально-педагогического факультета и девчата с факультета учителей начальных классов на спевку не явились. Отчего бастуют они, тоже выяснилось. Ребята контрольную пишут: высшая алгебра. А у девушек — коллоквиум по естествознанию.
Давид Исаевич сжал кулаки: на каждом шагу помехи, и все — неожиданные. Осточертело такое отношение. Совсем не считаются основные деканаты с факультетом общественных профессий. Можно ведь было посоветоваться, в расписание заглянуть — не вторгаться агрессорами. А теперь что придумаешь? И почему непременно работать вразброд? Такое впечатление, будто многим в институте факультет общественных профессий кажется ненужной, даже вредной выдумкой. Впрочем, и Давид Исаевич на первых порах так думал. Педагогический институт готовит учителей, ну и пусть это делает подобру-поздорову. На кой черт учителю вторая профессия?! Ан нет, оказывается, нужна. Большинство молодых учителей посылают работать в деревню, а деревня ждет, что молодые специалисты — учителя, врачи, агрономы, механизаторы привнесут в деревенскую жизнь и духовные начала, высокую культуру. Во всяком случае, что касается учителя, то вовсе не лишне, если он, помимо прочего, еще и режиссер, и хореограф или музыкант. Нет, факультет общественных профессий — не пятое колесо в телеге. Он очень даже здорово помогает всестороннему развитию будущего специалиста.
Все это пронеслось в голове Давида Исаевича, пока он рассматривал объявление об отмене спевки хора. «Провалимся мы на городском смотре самодеятельности, — думал Давид Исаевич. — Хороший хор — половина успеха. А тут — свои же палки в колеса часто ставят». Он смотрит на часы: ничего, в театр успеет еще, не опоздает. Прежде всего надо добиться, чтобы ректорат что-нибудь предпринял для укрепления авторитета факультета общественных профессий.
Дверь приемной ректората, обитая черным, словно бы изъеденным оспой, дерматином, сверкала яркими строчками головок гвоздей по краям и диагоналям. Без стука открыл ее Давид Исаевич. Нарушая субординацию, он шел прямо к ректору. Он знал наперед, что проректор ему не простит такого небрежения к его персоне. Было бы лучше сначала толкнуться к проректору, но с ним Давид Исаевич уже несколько раз обсуждал вопрос, но так и не решил ничего. А хотел Давид Исаевич немного: чтобы выделили один день в неделю всецело в распоряжение его факультета. Не полный, разумеется, а его вторую половину, после окончания академических занятий, чтобы в эти считанные часы никому не позволяли, кроме отделений факультета общественных профессий, занимать аудитории, учебные кабинеты, актовый зал. Просьба Давида Исаевича всегда вызывала снисходительные улыбки. Горячась, как обычно в таких случаях, и не замечая, что он преувеличивает, Давид Исаевич старался сейчас доказать ректору, что это единственный выход из создавшейся ситуации. Молодой ректор почувствовал, что самолично не преодолеет упорства Давида Исаевича, и пригласил на подмогу проректора.
К концу разговора рубашка Давида Исаевича была мокрая от пота. В кожаных креслах Давид Исаевич каждый раз, приходя сюда, чувствовал себя неуютно. Нынешний же, экспромтный визит в ректорат оказался труднее всех. Хотя начальники и пообещали пойти ему навстречу и по возможности удовлетворить его требования. Давид Исаевич вдруг задумался: может, в самом деле факультет общественных профессий слишком много места занял в институте?..
…У стенда своего факультета Давид Исаевич немного задержался: его теперь интересовал учебный план этого необычного факультета, в разработке которого он, Давид Исаевич, принимал самое деятельное участие. Теперь, после сражения в кабинете у ректора, Давид Исаевич каждый пунктик в плане разглядывал придирчиво. Но план все равно выглядел притягательно, как всегда — и внешне, и по сути дела. На самом деле хороший план, густой. Работы вдоволь. Прежде Давид Исаевич не так явно замечал это — действительно, пожалуй, много отделений на факультете. Да ведь все нужно. Тут тебе и студия рисования, и студия художественного чтения, и хореографическое отделение, и автомобиль изучают, и техническое моделирование, и подготовка руководителей всевозможных спортивных секций, пионервожатых… Каждое из отделений факультета работает два раза в неделю. Много это или мало? Кстати, все предусмотрено: лекции, лабораторные занятия, практика. Иначе и быть не может. Человек ведь получает вторую профессию! Специальность! Хорошо это или нет? Наверно, все же это целесообразно, если в школу придет не только специалист-предметник, физик, математик или словесник, но и профессионал, который в состояний быть организатором пионерской или иной внеклассной работы. Наверно, все-таки не очень велика плата за все это.
За спиной Давида Исаевича послышался вкрадчивый шепоток:
— Хорошо вас подкармливают, однако. Растет брюшко-то.
Резко обернувшись, Давид Исаевич убедился: да, это она, Анна Арнольдовна. И он попытался неуклюже отбиться:
— Что вы, доброкачественная опухоль.
— Кабы не переродилась. Бойтесь! — Анна Арнольдовна ласково погрозила пальчиком. — А почему вы здесь, не в театре? Или за нос супругу водите, фальшивые координаты даете ей?
— Зачем? — возразил недоуменно Давид Исаевич. — В ректорате задержался.
— Злоупотребляете горячностью своей, друг мой, — ворковала Анна Арнольдовна. — В первую очередь такт и еще раз такт. Мудрые люди даже, извиняюсь, гадости делают вежливо.
— Позлить меня хотите?
— Пока нет. Но нельзя же требовать, чтобы все во всем соглашались с вами. Недруг поддакивает, доброжелатель — возражает.
— Все равно драку затевать придется.
— Значит, опять атакуют вас? — насторожилась Норшейн. — Разные столоначальники?
— Начхальники, — поправил Давид Исаевич.
— Осторожнее со словами, на всякий случай. И не думайте, что это оппозиция вам. Просто — позиция. Будьте спокойней. Если всякую еду к сердцу принимать станете, вас ненадолго хватит.
— Откровенно говоря, надоело против ветра плевать. Утираться не успеваешь, даже широким полотенцем. У меня никаких прав, только обязанности.
Давид Исаевич недовольно поморщился.
— Постараюсь вам подсобить, — Анна Арнольдовна слегка прикоснулась рукой к плечу Давида Исаевича.
— Это уж кое-что значит. Одним сочувствующим больше.
— Ликовать рановато. Я ведь только председатель месткома, да и художественного совета, правда…
— Но не менее того…
«Вот человек делает полезное дело, — убеждала себя Анна Арнольдовна. — Как же это не замечать, не поощрять, не помогать ему? Разве это по-хозяйски?» Она взглянула в лицо Давида Исаевича, очень нерусское, асимметричное, с большим кривым носом и обиженно выгнутыми губами. Каждый раз она находила в нем те или другие привлекательные черты. И это приятно волновало ее. «Бессребреник, — думала она. — Такую махину тащит, сколько сил на факультет общественных профессий кладет и ни копейки за это не получает. Вот это — коммунист! Почему же к нему некоторые относятся с предубеждением, порою даже пренебрежительно, во всяком случае, не с той долей уважения, какую он заслуживает? Почему? Ведь и преподаватель он неплохой».
— Смотрите, не провалитесь сегодня. Без меня, — произнесла кокетливо Анна Арнольдовна.
— Все еще сердитесь?
— Смирилась. Ничего не попишешь: схватка — кто наверху оказался, тот и прав.
С крыльца спустились вместе. И вперед пошли рядом.
Погода портилась. Солнце прочно скрылось за густеющими облаками, которые старались непременно взгромоздиться друг на дружку: видимо, на чужом хребте плыть легче, даже в небе. Подул свежий ветерок. Под ногами асфальт покрылся крупными крапинками — срывался дождик.
— Вы как критику переносите, Давид Исаевич? — неожиданно поинтересовалась Анна Арнольдовна.
— Не люблю ее, окаянную, — рассмеялся Давид Исаевич.
— Жаль. Собираюсь кое-что сказать вам.
Слова ее грозили, а глаза не обещали ничего злого. Они выражали полную преданность.
Немного погодя Анна Арнольдовна, как бы размышляя вслух, значительно произносит:
— Кулаками камень не раздолбишь.
— Вы наотмашь, — подсказал Коростенский в тон ей. — С оглядкой да с опаской ничего не добьешься.
— А отношения с вами? Их омрачать нельзя. Они должны быть на высшем уровне!
— Я еще в состоянии переварить правду.
— Вот и ладненько, — ворковала Анна Арнольдовна. — Стиль ваш не нравится мне, Давид Исаевич. Ну что это за работа — все сам да сам. Как будто если не вы, так никто. Вот сейчас, например, послали бы кого-нибудь в театр.
— Времени в обрез.
— Я и говорю — только себе доверяете.
Давид Исаевич свел брови, отчего лоб покрылся морщинами. «А иначе пока не получается. Пошли кого-нибудь за реквизитом в театр — разве толк будет? Вот и приходится самому шастать…»
— И как вас хватает и на основную работу и на этот факультет общественных профессий, — сказала Норшейн.
— Разумеется, этот факультет — ноша не из легких. Но кому-то ее тащить надо.
Понимала Анна Арнольдовна, что факультет общественных профессий — это эксперимент, поиск. Вполне вероятно, что от него откажутся. Пока факультет терпят. Глядят на него, как хлебопашец на дождь: нужен — для смотра художественной самодеятельности или концерта, — благословляют, а нет — так проваливай ко всем чертям. Какие приводные ремни, какие механизмы поддерживали его дух здесь, в институте, Анна Арнольдовна не очень видела, однако факультет жил. Без штатных работников, без своих аудиторий, в суете бесконечных концертов самодеятельности, изготовления фотовитрин, различных стендов факультет общественных профессий держался, действовал по стабильному расписанию, как и остальные факультеты. Наверно, все же нужен он, если в сложнейших условиях существования не угасал. Правда, Анна Арнольдовна отдавала себе ясный отчет в том, что у них, в провинциальном институте, факультет общественных профессий держится главным образом на энтузиазме, а скорей всего — на упорстве его декана. Об этом Анна Арнольдовна и сказала своему спутнику:
— Великомученик вы…
И поплотнее укрыла шарфом шею.
Давид Исаевич шагал плечом к плечу с ней, шаркая по асфальту толстыми подошвами ботинок, стараясь осмыслить ее слова. Видимо, она жалеет его и как будто искренне. Значит, есть за что. Со стороны видней. Давид Исаевич ссутулился и как-то сразу постарел.
«Хорошему человеку жить всегда трудно», — думала Анна Арнольдовна, искоса поглядывая на Давида Исаевича. Возникло желание приласкать, приголубить спутника, сунуть руку куда-нибудь под мышку ему, прижаться к его бедру, шепнуть на ухо что-нибудь доброе, теплое, но она не решалась. Почему? Поди знай. Тяжело вздохнула Анна Арнольдовна, думая о своем. Все дело в том, что он вряд ли счастлив в семейной жизни. У нее мало оснований так считать, почти никаких поводов, но все же так думалось. И она произнесла нарочито громко:
— Кто с чертом привык, тому с богом мука.
Давид Исаевич даже остановился.
— Кто бог, кто черт?
Анна Арнольдовна не ответила, ушла вперед, а Коростенский терялся в догадках, что с ней.
6
И вновь вспомнилось прошлое.
Давид Исаевич, сразу же после того как переправился через Дон, на секунду оглянулся. Увидел на оставленном берегу реки осиротевшую станицу Аксайскую и остро, всем существом ощутил горький запах дыма горящей степи. Одна мысль долбила мозг: «Надо сопротивляться!» И зудила нестерпимая боль — нет его батареи, грозной боевой силы, нет. Но солдатское братство ведь не рассыпалось и командиром оставался он, Коростенский.
Прежде всего Давид Исаевич распорядился занять окопы, подготовленные еще прошлой осенью. Карабины, автоматы и несколько противотанковых ружей удалось переправить, и они были в целости и сохранности. Имелся запас, довольно значительный, ручных гранат.
Не исключено, что Давид Исаевич и его товарищи по оружию со временем стали бы заправскими пехотинцами. Но на вторые сутки вместе с прибывшей на фронт свежей дивизией примчалось несколько автомашин артиллерийской бригады, в которой служил Коростенский, с приказом комбрига всем артиллеристам срочно прибыть на сборный пункт бригады.
Новые орудия удалось заполучить не сразу. Артиллеристы Давида Исаевича благополучно и вовремя добрались до сборного пункта бригады, но буквально на следующий день им пришлось отступать еще дальше в донскую степь. Бригада почти не участвовала в боях, лишь несколько раз ее оставшиеся в строю орудия отражали попытки вражеских танков прорваться через наши фланги.
И то, что артиллерийская бригада отходила без серьезного сопротивления, доставляло Давиду Исаевичу глубокое страдание. Прежде батарейцы частенько слышали его заразительный смех. Теперь же на его хмуром лице и улыбки не замечали.
Шагал по жаркой степи Давид Исаевич рядом со своими товарищами. Он мог бы сесть в кабину грузовика, который удалось переправить через Дон, но ему не хотелось отделяться от своих боевых друзей. Он шагал и шагал, а в голове роились горькие мысли. И он, Давид Исаевич, тоже несет вину за то, что приходится так позорно отступать. Если бы удалось переправить в целости гаубицы через Дон, если бы воевали получше, может, и удалось бы остановить немца. Эти раздумья прервались истошным криком:
— Возду-ух!
«Мессершмитт» коршуном снижался над степью, со звенящим ревом, на бреющем пролетел низко-низко над городом и поливал пулеметным огнем машины, повозки, гонялся даже за отдельными людьми. Бойцы открыли беспорядочный огонь из винтовок, пулеметов, пистолетов. Сделав несколько кругов, самолет исчез так же неожиданно, как и появился. Такое происходило несколько раз в день.
А дороге, казалось, нет конца. Идти становилось труднее — открылась рана на ноге. Прежде он ее за рану-то не считал, подумаешь, осколок мины царапнул лодыжку. Давид Исаевич стал заметно прихрамывать на больную ногу.
Однако все имеет свой конец, и через несколько суток изматывающего пути Давид Исаевич входил в небольшой осетинский городок Назрань, где должен был получить орудия для своей батареи.
7
На этот раз не приходилось долго объяснять руководителям театра, зачем у них просят декорации, и Давид Исаевич сразу же выслал за ними институтскую автомашину.
Руководителя режиссерского отделения факультета общественных профессий уже известили о вечернем спектакле. И был он занят сбором участников представления. Одна забота, одно бремя — с плеч долой!
Теперь можно позволить себе перевести дыхание. Расстегнув все пуговицы кителя, Давид Исаевич направился в библиотеку — перелистать свежие газеты и отдохнуть от суеты дел.
В читальном зале библиотеки, в дальнем углу, Давид Исаевич с изумлением увидел свою жену. Да, но она сейчас должна быть дома, а не здесь, ведь Илюшу надо накормить. Он не успел высказать своих претензий. Евдокия Петровна смотрела на него ласково, как в лучшие времена их жизни, широко улыбаясь, взяла со стола и протянула Давиду Исаевичу не очень объемистый распечатанный пакет со штампом Академии наук.
Давид Исаевич жадно сунул волосатые пальцы в конверт, вытащил оттуда журнал «Вестник отделения филологических наук»:
— Авторский экземпляр?
— Да, — кивком подтвердила Евдокия Петровна, продолжая улыбаться. Лицо ее — откровенно счастливое, скрыть ликования она и не пыталась. — Приятно вся же, честное слово, — добавила она, ласково поглаживая журнал.
Давид Исаевич раскрыл журнал, сел на стул рядом с женой, достал очки из кармана. Сообщение Евдокии Петровны, напечатанное четким шрифтом, благоухало тем неповторимым пьянящим запахом типографской краски, от которого у Давида Исаевича всегда немного кружилась голова.
— Поздравляю тебя! Попасть в академическое издание — настоящий успех!
Евдокия Петровна откликнулась размягченно:
— Год работаешь, месяцы ждешь напечатания, а на чтение миг уходит.
— Вечность складывается из мгновений.
— Если бы только из подобных!
— Ну, теперь твоя душенька довольна? — прошептал Давид Исаевич на ухо жене.
— Сию минуту — конечно, — тихо ответила она. — Все сквозь розовые очки вижу. Даже в твоем факультете начинаю различать рациональное зерно. Что-то в этом ФОПе все же есть…
Евдокия Петровна пыталась забыть утреннюю ссору. Это Давид Исаевич явно ощущал, слушая ее. А она говорила о том, что до сих пор считала ФОП попросту модой. Были раньше в вузах кружки всякие, перекрестили их в отделения — вот тебе и ФОП. Тех же щей погуще влей. Но, оказывается, не совсем так. Пусть даже ФОП и вырос из кружков, но это качественно новая ступень по сравнению с ними. Факультет общественных профессий давал студентам систему знаний, прививал навыки работы с людьми, а значит, не противоречил главному делу пединститута, помогал формировать специалиста — учителя.
Ушам своим не верил Давид Исаевич. До недавнего времени жена только ругала и пилила его из-за ФОПа. Вот как преображает человека собственный успех.
— Заметила я любопытную особенность, — продолжала тихонько Евдокия Петровна. — Во время педагогической практики внеклассные мероприятия лучше удаются тем студентам, которые занимаются на твоем ФОПе. Пожалуй, это закономерно.
Ничего не возразишь. Точное наблюдение. Но какое это нелегкое дело — создавать с помощью ФОПа общественника, воспитывать у студентов вкус к общественной работе. Ведь существует факультет общественных профессий исключительно на общественных началах. И те, кто обучается на факультете, делают это по своему желанию, могут учиться, могут не учиться, принуждать их никто не имеет права. И те, кто обучает, в большинстве своем тоже по собственной охоте работают, безвозмездно. Тем не менее на факультете постоянно происходит отсев слушателей, и как ни старался он, Давид Исаевич, как ни старались старосты отделений, уменьшить эту текучку не удалось.
— Принцип добровольности занятий на ФОПе — сомнительный, — заметил Давид Исаевич.
— А мне кажется, что в этом принципе не беда, а преимущество факультета, — возразила Евдокия Петровна. — У наших студентов значительные перегрузки — бич всех небольших институтов. Ребята должны поспеть и здесь и там. Мероприятий много, а студенты одни и те же. Будет у вас интересно — они сами к вам прибегут. Принуждение в данном случае может лишь навредить.
— Тоже верно, — с неожиданной, озадачившей Евдокию Петровну легкостью согласился Давид Исаевич. — У студента не только нет времени, но ему нет и смысла подчас тратить время на ФОП. Единственным правом, какое есть у нас — правом работать только интересно, — мы не всегда пользуемся.
— Ого, самокритика началась!
— А что? Считаешь меня неспособным?
— Грешна. Сознаюсь.
— А себя? — с лукавинкой произнес Давид Исаевич. — Может, и ты пересмотришь некоторые свои позиции?
Сказал и тут же понял, что напрасно. Что-то в лице Евдокии Петровны дрогнуло, и он почувствовал холод отчуждения.
После спектакля у текстильщиц Давид Исаевич возвращался домой поздно, шел, ссутулясь от усталости и непогоды, прижимал ладонями к шее приподнятые отвороты пиджака. В лицо бил ветер с дождиком. Давид Исаевич шел навстречу ветру и думал о делах ФОПа. А они, как ему казалось, были весьма плачевные. Пьесу ребята сыграли не лучшим образом. Да и без этого на сердце было муторно. Бумага в отделении рисования на исходе — ватмана нигде нет, на то и провинция. Вопят хореографы — на парней дефицит. В педагогических институтах мальчишек вообще мало, а танцоры тем более на вес золота. Огорчало и отделение художественного слова. Готовятся девчонки читать вроде бы и современные стихи со сцены, а стихи эти — пустышки слезливые. А с замечаниями не подходи — зубы покажут. Задумка провести вечер, посвященный БАМу, пока буксовала.
Шагал Давид Исаевич, расстроенный, не обращая внимания на лужи, на грязные брызги. Его немного знобило, и, похоже, не только из-за холода.
Подойдя к дому, поднялся Давид Исаевич на свою площадку по тускло освещенной лестнице, остановился возле двери и принялся нащупывать замок, но повернуть ключ не успел — дверь отворилась, и он увидел жену. Она озабоченно глядела на него.
— До нитки промок?
Отстранилась, пропуская его:
— Раздевайся. Марш в ванную!
— Слушаюсь, ваше величество. Илюша где?
— У соседей телевизор смотрит.
На ужин Давид Исаевич получил пельмени, те самые, которые он сварил еще спозаранку, только разогретые. Ел не спеша, стараясь не чавкать, не шмыгать носом — этого особенно не терпела жена, чинно подносил ко рту ложку.
Ощутив на себе изучающий взгляд супруги, поднял глаза:
— Скучно одному расправляться с пельменями. Илюши нет, а ты свидетелем по делу проходишь. Пристраивайся, а?
— Переем, спать не смогу. Завтра подниматься рано, — сухо ответила Евдокия Петровна.
У Давида Исаевича что-то запершило в горле. Он откашлялся и произнес:
— Вот житуха пошла. Спим отдельно, жрем врозь. А еще завидуют нам.
Евдокия Петровна нахмурилась:
— Опять тагильские штучки, весьма выразительно.
— В семье у нас свобода слова или нет? Я же не ругаюсь, — защищался Давид Исаевич. — Говорю не для служебного пользования!
— По твоей милости сорняки и в мою речь проникают. Срам.
— Не страшись. Этой заразы надо пять пудов без соли проглотить, тогда уж действительно опасно будет.
Но жена досадливо отмахнулась:
— Гадко во всех случаях!
Давид Исаевич наклонился над тарелкой. Он стремился избежать нового столкновения с женой. Каждая перепалка — лишняя боль. Чего ради? Было же все хорошо, просто прекрасно было. Было ведь? Или с самого начала шло так, а ему и невдомек было? Но кто же тогда, если не Дуся, оберегал его от всяческих напастей?! Кто же, если не она, ждал его долгие, тяжкие годы?! Или это все происходило с кем-нибудь другим, не с ним?!
Кто знает, как оно получилось, но вот шевельнулась струнка, и Давид Исаевич не с закрытыми — с открытыми глазами очутился в прошлом. Видит: Дуся достает из старенького шифоньера скатерть, купленную еще накануне нашествия фашистов, развертывает ее с плохо скрываемой радостью: узнаешь, мол, зареклась вынуть лишь тогда, когда вернешься, вот пролежала взаперти все долгих семь лет разлуки, с тех пор как ты в июле сорок первого ушел в армию…
«Ну, наберись смелости и обвини ее, тогдашнюю, что была она неискренна, что радость ее была искусственной», — пробовал подстегнуть самого себя Давид Исаевич.
Тогда Дуся взволнованно поглядела на него и просияла — оценил. И засновали руки подруги, накрывая стол для обеда, первого общего обеда семьи после его возвращения. Неважно, что на скатерти маловато хлеба — его пока выдавали по карточкам. Зато пьяняще дымились щи в тарелках, сводил с ума запах, идущий от картошки. Отец Дуси, бывший священник, вынужденный в конце двадцатых годов, в канун года великого перелома, отречься от сана, придвинул поближе к столу высокий стульчик, на котором сидел их первенец Леонтик. Потом присел рядом, поглядел в пустой угол, где полагалось висеть иконе, и перекрестился, погрустневший. Леонтик с недоумением спросил: «Почему ты не крестишься, мама?» Дуся махнула рукой: «Я — неверующая». — «Па, а ты почему не молишься?» — поинтересовался Леонтик. «Бога нет. Вот почему. На кого же молиться?» Леонтик оглянулся в сторону смущенного деда, словно бы ища помощи, но, не дождавшись поддержки, выпалил:
— А ты на маму молись!
— Не мешало бы, — засмеялась Дуся.
Совсем еще молода была она тогда.
— Первый наш обед после разлуки помнишь? — взметнул брови Давид Исаевич, возвращаясь из прошлого.
— Еще бы. И совет Леонтика — тоже.
— А я с тех пор только тем и занят, что молюсь на тебя.
Давид Исаевич не лгал, не хитрил. Он на самом деле был поклонником ее. Еще с того самого дня, когда он, наивный студентик, первокурсник, заметил и выделил ее среди девушек своей группы.
Привлекла его Дуся своими трезвыми суждениями, отвагой и простотой. Да и внешне Дуся была привлекательней других. Ему особенно нравились ее пушистые косы, которые, словно корона, дважды опоясывали ее голову. Необычными казались ему и ее нос, прямой, заурядный, но с махонькой точечкой-родинкой на самом кончике, и ее полные, чуть влажные губы, словно смазанные свежим соком. Одевалась Дуся более чем скромно, во всяком случае, бедней, чем все остальные студентки. Это бросалось в глаза. Но Давиду на это было наплевать. Он не обращал внимания ни на свою, ни на ее, ни на чью одежду. Он равнодушно приходил в институт на занятия в одних и тех же брюках, толстовке и рубахе со стоячим воротником, правда, всегда чистой, ибо мать его стирала эту рубаху не реже чем через день, высушивая и проглаживая ее ночью. Лишь в первую, лютую, неслыханную даже в северных краях зиму свою в Казани Давид напялил на себя шерстяную фуфайку. Да и то он сделал это после того, как отморозил себе уши и Дуся подсказала ему, что было бы разумным надеть более теплую одежку, чем рубаха со стоячим воротничком. Дуся вообще взяла шефство над Давидом, как только выяснилось, что он, парнишка, окончивший еврейскую школу, плохо владеет русским языком и допускает в разговоре такие жемчужины, которые приводят окружающих в веселое настроение. Она принялась ему помогать. С этого, собственно, и начался их союз.
Дальше Давид открыл, что Дуся не только добра — она красива, она желанна. А старая линялая юбка не была в состоянии скрыть ее грацию, притягательность стана с тонкой талией и крепкими, стройными ногами.
Потом, как ни ломала его жестоко судьба, как ни искушали обстоятельства, он никогда не предавал Дусю.
Евдокия Петровна беспрестанно, хотя и различным образом, ощущала любовь к ней Давида Исаевича. Бывало, что наслаждалась случайно обретенной женской властью. Но чаще всего она просто радовалась. Правда, временами поклонение мужа превращалось в тяжкое бремя для нее и она жаждала высвободиться из этого ярма.
«Молится, а кулаки утром мне показал», — встретила Евдокия Петровна горькой усмешкой заверение Давида Исаевича, что он всю жизнь на нее молится.
Давид Исаевич догадался, о чем думает жена. Он был зол на самого себя. Впервые в жизни пришлось ему просить прощения у Дуси. Но такое — не по его характеру, к такому он не привык. Давид Исаевич нахмурился. Он опасался, что Дуся превратно истолкует его недовольство. Сможет подумать, что он сердится на нее. Нечто подобное прежде уже происходило, и они днями не разговаривали друг с другом. Теперь такого ни в коем случае допускать нельзя. Свободной рукой он попытался привлечь к себе жену:
— Не сердись. Хорошо? Утром с Илюшей я погорячился.
Евдокия Петровна высвободилась из его рук, отступила на шаг, прислонилась спиной к голубоватому висячему кухонному шкафчику.
— Ни тебе, ни себе простить этого не могу, — смотрела она сверху вниз на сидящего, сгорбленного и потому, наверное, выглядящего несуразно Давида Исаевича.
Точно холодным сквозняком пронизывает его голос жены. Напрасно, конечно, он ждал чего-то иного от обиженной женщины. И именно потому, что она самый близкий ему человек, она не могла и не должна была обещать ему милость. И все-таки жаль. Дуся стояла рядом, но Давиду Исаевичу казалось, что она далеко-далеко, как в перевернутом бинокле, который не сокращает, а увеличивает расстояние. Удручена ли она? Что-то незаметно. Наоборот. Интуиция редко подводит его. Но вдруг на этот раз он ошибается? А как это проверить?
Дуся же помалкивала. Она прислушивалась к самой себе, прислушивалась с удивлением. Может быть, утренняя выходка Давида лишь повод для ссоры, а не причина? Постепенно Дуся добирается до понимания того, что в последнее время муж слишком часто ее раздражает. И не только тем, что толст, несобран, нецелеустремлен, но и всяческими мелочами, хотя бы тем, что не курит, не пьет, что заблудился в лабиринтах своего факультета. Чего она хочет? Развестись с мужем? После тридцати лет совместной жизни?! Нет-нет. Потерять его ей совсем не хочется. Не желала этого Евдокия Петровна, но она дошла до опасной черты, стояла на краю пропасти, один лишь неверный шаг — полетишь головой вниз.
— Ну а дальше как? — приглушенно спросил Давид Исаевич.
Евдокия Петровна ответила — не на вопрос мужа, а на свои мысли:
— Впустую тратишь себя. Кончай свою пачкотню, бумагомарание. Это каприз для первоклассника. Да и твое деканство на этом ФОПе? Бегаешь, высунув язык, суетишься, вертишься как белка в колесе, а какой в том толк?
Давид Исаевич почувствовал, как начинает гореть его лицо. Удар пришелся по самому больному месту. Резко отодвинув миску с недоеденными пельменями, Давид Исаевич поднялся, взял с полки пустую кастрюлю, налил в нее воды и со стуком поставил на плиту.
— Хлеб свой я должен отрабатывать честно, — чеканя каждое слово, произнес он.
«Неужели я переоценила его? И он способен лишь на роль чернорабочего?» — упрекнула себя Евдокия Петровна, а вслух сказала:
— Горе все в том, что разбрасываешься. Почему кандидатский минимум не сдаешь?
— А! Вот ты какой камешек приберегла! Обыкновенный смертный уже тебя не устраивает. Тебе кандидат, а то и доктор нужен. Куда уж мне с моими талантами!
— Этого я не сказала.
— Но подумала…
Давид Исаевич сузил веки, снял с плиты теплую воду, принялся мыть посуду над раковиной. Разговор грозил крупными осложнениями. Главное — не давать волю эмоциям. Ведь одно дело считать себя правым, другое — быть им. Она могла бы предъявить к нему массу претензий. Вот и думай: что даешь, что берешь? Как все печально! Без передышки всю дорогу сдавай и сдавай экзамены: на мужество, на стойкость, на выдержку, на право быть гражданином и отцом — на право быть человеком. Сталь и та устает. Все дело в том, видимо, что он дилетант. Во всем — дилетант. Ну, занялся бы он наукой, все равно толку было бы не более чем от козла молока. Давид Исаевич вытирал посуду тонким, сразу же взмокшим полотенцем. Ведь факт, что он топчется на месте. Вперед не идешь — значит, назад пятишься. Так-то, дорогой товарищ. А может, все проще, может, они с Дусей слишком долго живут вместе и надоели друг другу?
Евдокия Петровна не выдержала грустного взгляда мужа и отвела глаза.
Давид Исаевич повесил полотенце, вытер руки и направился к своему рабочему месту — столу.
8
Отодвинув в левый верхний угол столешницы эскизы задач на пересечение тел, вычерченные к завтрашней лекции, Давид Исаевич смел в ящик остро отточенные цветные карандаши и покосился на правый край стола: там лежала папка с начатыми воспоминаниями. Окунуться бы в них, испытать блаженные минуты встречи с прошлым, но нельзя, сейчас рука не поднималась подвинуть к себе рукопись.
За дверью, в большой комнате, жена ворчала на Илюшу, который никак не хотел лечь спать прежде, чем не проиграет на пианино песню неуловимых мстителей. Сердито доказывала мать сыну, что уже почти полночь, соседи спят, а он упорно настаивал на своем, должно быть, тянулся к инструменту и нотам.
Чутко прислушивался к этим препирательствам Давид Исаевич, силясь убедить себя, что именно они отвлекают его внимание, не дают сосредоточиться, хотя отлично знал, что раскрыть свою рукопись и взять в руку ручку не позволяет ему иная, более веская причина — кажется, правду, злую, ранящую, однако же правду сказала ему в лицо Дуся: изредка получаются у него приятные рассказики, но до сих пор ничего значительного он не создал и впредь вряд ли напишет что-нибудь стоящее. Нужен талант, черт возьми, а его-то и нет.
Но жажда писать мучила его неодолимо. При любых обстоятельствах — писать. И наедине с собою, и когда тебе мешают, все равно, свои ли, чужие ли, записывать слово или строку в записную книжку и заполнять страницу за страницей у письменного стола. Страсть эта доставляла ему удовольствие горькое: печатали его изредка, редакции возвращали ему его произведения с доброжелательными рецензиями, в которых всегда писалось одно: доработать и переработать… А бросить сочинительство — выше сил. Пока ничто не могло заставить Давида Исаевича распрощаться с этой пагубной страстью, ничто не охлаждало его пыл, даже убийственная мысль о том, что он самый заурядный бумагомаратель — графоман.
Неуловимые мстители наконец-то прорвались — приглушенно, на полутонах. Все-таки оседлал Илюша пианино.
Звуки пианино неожиданно успокоили Давида Исаевича, и он вновь очутился в своей военной юности.
Вместо гаубиц, взорванных на берегу Дона, вместо этих больших орудий калибром в сто двадцать два миллиметра Давиду Исаевичу пришлось в Назрани довольствоваться дивизионными пушками, извлеченными из старых арсеналов. Их калибр был почти вдвое меньше. Так или иначе, но обратно из Назрани Давид Исаевич ехал, вооруженный до зубов. Кроме орудий для своей батареи он вез с собою в артиллерийскую бригаду противотанковые пушки для целого дивизиона — легкие, сорокапятимиллиметровые. Правда, во время этого путешествия случилась беда, из-за которой чуть было не оказался Давид Исаевич перед военным трибуналом. Дело в том, что среди этих противотанковых пушек, обутых в добротную резину, мягко подпрыгивавших даже на глубоких выбоинах дороги, затесалась пушка, такая древняя, что колеса для нее, наверное, были сделаны в деревенской кузнице, а резины для этих колес в округе найти не смогли. Поначалу Давид Исаевич на это не обратил внимания. И в этом состояла его ошибка. Эта пушка в самом начале пути дала знать о себе неимоверным грохотом — ни одного орудия не было слышно, слышали только ее. Злосчастную пушку тащил «студебеккер». Естественно, неровная дорога сделала свое дело — где-то что-то выпало у пушки, и тогда Давид Исаевич остановил колонну. Пушку осмотрели, подняли в кузов «студебеккера» и закрепили там.
Если бы это орудие оставалось в распоряжении Давида Исаевича, никто бы и не знал о случившемся. Но получилось иначе. И начальник артиллерийских мастерских, и командир дивизиона противотанковых пушек сразу же, одновременно обратились к Давиду Исаевичу с претензией. Хорошо еще, что до большого начальства дело не дошло — за порчу материальной части по головке не погладили бы. В батарее Давида Исаевича нашлись способные, опытные мастера — быстро привели в порядок эту пушку, даже резину для нее нашли.
Однако для Давида Исаевича история эта была поучительной. Он раз и навсегда понял, что внимательным надо быть всегда, во всех случаях, что мелочей в жизни не бывает.
Через пару дней в штабе бригады Давиду Исаевичу показали на топографической карте-двухверстке, где его батарея должна занять позиции. Лишнего времени для сборов в путь не было.
Тогда стояли жаркие летние дни. Редкие облака, которые время от времени показывались на небе, хотя и выглядели издали грозными, но не спасали от духоты.
Давид Исаевич, как мог, поддерживал настроение своих товарищей. Положение было весьма тяжелое, и командование не скрывало, что войска отступают, но теперь уже Давид Исаевич своими глазами видел и всем существом своим ощущал, что близок час, когда враг будет остановлен.
Еще до того как был получен приказ о подготовке огневых позиций его батареи и о выборе наблюдательных пунктов — основного и запасных, — Давид Исаевич установил в подразделении строгий порядок, может быть, даже более строгий, чем ожидали его солдаты. Теперь у батареи была конная тяга — семидесятимиллиметровые орудия были под силу недавно мобилизованным колхозным лошадкам. Тащили они пушки без шума, словно у себя дома пахали поле, и все тут.
Наблюдательных пунктов Давид Исаевич наметил несколько: два на высотках за аулом и один посреди чеченской деревни, а еще один на берегу Терека. Связисты тут же протянули телефонный кабель от одной точки к другой, к огневым позициям, к командиру дивизиона. Развернули и две рации.
Батарея заняла позиции спозаранку. Сделано все было так искусно, что командир бригады, проверявший дислокацию части, не удержался и похвалил:
— Молодцы батарейцы!
Вместе с другими командирами Давид Исаевич сопровождал комбрига будучи верхом на лошадке, которая еще пороха не нюхала. Сидел в седле красиво — в артиллерийском училище вышколили.
С грустью рассматривал Давид Исаевич издали раскинувшуюся на противоположном берегу Терека станицу Галюгаевскую и думал о том, что ему, наверное, очень скоро придется обстреливать эту станицу с ее красивыми садами и виноградниками, с ее улицами и домами, если враг придет туда. Он думал о том, что надо бы перебраться на другой берег, поговорить с оставшимися людьми, может быть, посоветовать им временно оставить родные гнезда, ибо предстояли бои страшные, кровавые.
Проведать станицу Галюгаевскую командир дивизиона разрешил Давиду Исаевичу с условием, что его заместитель за это время завершит все недоведенные до конца работы. Давиду Исаевичу он приказал также взять с собой офицера разведслужбы.
Утром четверо — два командира и два бойца взвода управления батареи залезли в узкую, но довольно устойчивую лодку. Двух весел поначалу, казалось, хватало, чтобы спокойно переправиться на галюгаевский берег. Но когда оттолкнулись от берега и лодку вынесло на середину реки, затянуло в стремительный бурный поток, все поняли, что Терек — река коварная. С грехом пополам они переплыли через нее, но их отнесло куда как ниже того места, где они предполагали пристать.
Вылезли они против гигантского виноградника, левее станицы. Густые кусты были обвешаны темными кистями винограда. Но виноград еще не созрел. Это Давид Исаевич сразу же понял: сорвал виноградинку с ветки, попробовал на вкус, оказалась кислая, как уксус. С этим-то жгучим, едким привкусом на губах Давид Исаевич и вошел в станицу.
Только через три с лишним дня над ночной Галюгаевской вспыхнули вражеские осветительные ракеты.
9
На пороге кухни, которую Давид Исаевич называл «мой кабинет», неожиданно выросла Евдокия Петровна, скользнула взглядом по воодушевленному лицу мужа, потом по папке с рукописью на столе. Скривившиеся губы ее дрогнули.
— Творишь все, забавляешься, — произнесла Евдокия Петровна, усмехаясь.
Такой оплеухи Давид Исаевич не ожидал. Под ее горькой тяжестью он как-то весь сгорбился, согнулся. Но тут всплыло в памяти, как Илюша препирался с матерью, убеждая ее, что не она, а он прав. Хорошо, сынок! Прекрасно, парень! Может ведь и она быть неправой, может ведь! Наверное, Илюша унаследовал его характер, упорно отстаивая убеждение, что то, что он делает, это как раз то, что надо делать.
Вот и сейчас Илюша настоял на своем и из большой комнаты тихо неслись мелодичные звуки. Давид Исаевич поднял голову, распрямился. Да, именно так. Надо делать то, что считаешь нужным, что бы кругом ни говорили. И пускай у Дуси свое мнение, он не свернет со своей дороги.
Однако Евдокия Петровна зашла на кухню вовсе не для того, чтобы ругать мужа. Она принесла густо исписанные листки бумаги с перечеркнутыми, вымаранными строчками. Давид Исаевич знал, что после удачной работы за письменным столом Дуся обычно бывает приветливой, должно быть, поэтому на него так сильно подействовали ее хлесткие, обидные слова о его литературных забавах. Все равно он ждал, что она заговорит иначе, добрее. Так и получилось.
— Все ладно в учительском деле, — прошептала она, оглядываясь на дверь, за которой ничего уже не было слышно, кроме тишины. — Понимаешь, все хорошо. Одно грустно: после работы опять начинается работа. И что любопытно, чем человек опытнее, тем трудней ему — больше требовательности к самому себе. Вчерашняя победа — только на минуту.
Благодушие жены успокаивало, хотя вполне вероятно, что оно призрачное и в любой миг можно ждать взрыва.
— Чем занята? — поинтересовался Давид Исаевич.
— «Разгромом» Фадеева.
— Никак не разгромишь его?
— Надо же до конца постигнуть секреты свежести и обаяния этого романа. Что делает его неувядаемым? То, что в нем каждое лицо — тип, а вместе с тем емко очерченный характер? Или безыскусность сюжета? Лаконизм? А может, все дело в композиции? Там ведь нет ни одной лишней детали, ни одного пустого слова. Поэтическая ткань настолько проста и естественна, что высокого мастерства не замечаешь. Вот так писать стоит…
Давид Исаевич делает вид, что намека не понял. Слушал он жену, борясь с желанием прикоснуться губами к ее лицу с чуть приподнятыми бровями и сухими уставшими глазами. А она увлеченно заговорила об одном из героев «Разгрома», подрывнике Гончаренко, без которого не было бы романа. Левинсон ничего не сделал бы с Морозко, не перевоспитал бы его и вообще не стал бы победителем, если бы не опирался на Гончаренко, рабочего с развитым интеллектом и даром педагога. Когда Морозко понял, какое место в его жизни занимает этот подрывник, то задумался, как это он раньше не обращал внимания на такого замечательного человека. Но в том-то и все дело. Настоящий воспитатель всегда действует незаметно, хотя и неотразимо.
Давид Исаевич кивал головой, он уже забыл о размолвке с женой, о том, что она может быть отчужденно-холодной, колючей, неприступной. Рука его потянулась к ее талии — ему захотелось обнять жену, но он воздержался и произнес чуть слышно:
— Работать тебе помешать?
Распрямив со сладким зевком плечи, Евдокия Петровна сказала:
— Бабий век — сорок лет.
— А в полсотню время вспять, баба ягодка опять! Настоящая жена — точно вино, чем старее, тем слаще, — возразил Давид Исаевич, намереваясь все же обнять супругу, посмотреть ей в глаза. — Никак не привыкну к тебе. Каждый раз — новая. Просто чудо!
За окном чиркнула безмолвная молния. Другая вспыхнула минуту спустя, приглушенно прогремел гром.
— Возвращается гроза, — произнес Давид Исаевич. — Как бы нашего поздняка не разбудила.
— Странно: осенняя гроза. Поразительно! — певуче откликнулась Евдокия Петровна.
Еще несколько молний скользнули по небу. В распахнувшееся от порыва ветра окно хлынула прохлада. Евдокия Петровна поежилась, потерла ладонь о ладонь.
— Согреть? — потянулся к жене Давид Исаевич.
Она отрицательно покачала головой, вздохнула: «Что посеяла, то и жну». И опять те гнетущие чувства, которые в последнее время все чаще непрошено вспыхивали в ней, ожили с новой силой. «За все человек платит, — думала Евдокия Петровна. — Раньше или позже, но платит». А вслух сказала:
— Ну так как с кандидатскими? Надумал?
— Куешь железо, пока горячо? — ухмыльнулся в ответ Давид Исаевич.
Евдокия Петровна помрачнела:
— Знаешь что? Заведи-ка мне часы и мучай себе свою рукопись. У меня еще хлопот невпроворот.
«Плохо мое дело», — расстроился Давид Исаевич, но носа не вешал.
— Будешь ложиться спать, зайди на кухню, — осторожно предложил он.
Проснулся Давид Исаевич с мыслью, что многое надо успеть сделать сегодня. А вставать не очень-то хотелось. «Подъем!» — скомандовал себе, резко приподнялся, спустил ноги, нащупал тапки и тихонько, чтобы не заскрипели половицы, направился умываться. Взбодренный холодной водой, Давид Исаевич наскоро вытерся мохнатым полотенцем, взял гантели, несколько раз взмахнул ими, что должно было означать зарядку, и возвратился крадучись к себе.
Одеваясь, он поглядывал то на раскладушку Илюши, то на кровать, где похрапывала Дуся. Сын разметал руки, выпростанные из-под одеяла, в полутьме они чуть заметно поднимались и опускались в такт дыханию. Этими руками Илья, совсем еще воробышек (ох, сколько лет назад это было), мешая маме, которая торопилась на работу, пытался впервые сам надеть махонькие оранжевые ползунки, но почему-то упрямо пялил их на голову. Дуся поправляла его:
— Не туда, не туда же, капля!
А он делал по-своему.
Пролетело время. Теперь на спинке стула возле раскладушки Ильи висят длинные, спортивного типа брюки с накладными карманами, отороченные поблескивающими в потемках шляпками кнопок.
Илья улыбнулся во сне. А старший Коростенский нежно взъерошил его вихорок и отправился готовить еду.
Заря не спешила рассеять темноту на кухне, пришлось зажечь свет. Ярко вспыхнул шар плафона, ослепляя Давида Исаевича, он сожмурился, соображая, что будет варить сегодня.
Меню в семье не планировалось, возникало экспромтом, ни холодильник, ни кухонный шкаф не ломились от запасов, и это сильно ограничивало возможность вариаций. Попытки устранить здесь стихию успеха не приносили. Страдал главным образом Илья. Жена же ворчала редко: то ли притерпелась, то ли ее вкусам Давид Исаевич все-таки приловчился угождать. Сын же роптал. Он вслух завидовал своим товарищам, которые без ограничения поедали пироги и пышки, испеченные недипломированными бабушками и мамами. Давид Исаевич признавал, что парень прав, хотя мог бы чуть умеренней выражать недовольство. Виновным Давид Исаевич себя не чувствовал. С талантом надо родиться. С любым. Разве каждому под силу постигнуть тайны кулинарного мастерства? Главное — искренне выполнять свои обязанности и по возможности восполнять отсутствие дара приобретенными навыками. Поварские произведения — не литературные, а попробуй сработай их. Даже обычную манную кашу, единственное блюдо, которое Илья ел с охотой, непросто сварить: и чтобы крутая не получилась, и не слишком жидкая, чтобы без комков и пленки, и сладкая в меру. Но, как говорится, нужда всему научит. Используя литературу, Давид Исаевич освоил кулинарный минимум, тем более что брюхо как злодей, старого добра не помнит, каждый день угождай ему сызнова. Особых восторгов кулинарная деятельность у Давида Исаевича не вызывала, но ведь кому-то надо и черную домашнюю работу делать. А куда денешься? Илья мал, жена и так завалена разными хозяйственными заботами, да и наука требует времени. Некому больше. Раз надо, так надо. Кто сказал, что кулинария — это чисто женское дело? Трудное — значит мужское.
К завтраку Давид Исаевич задумал салат и кофе с бутербродами; на обед — овощной суп и кисло-сладкое по маминым рецептам. Ужин — молочный. Решил и принялся орудовать. Ополоснул вымытые с вечера кастрюли, воды налил — и вот уже горят все конфорки на плите.
Ловко разделал пару луковиц Давид Исаевич. Рядом положил ветку укропа, несколько лавровых листочков, корешок петрушки, зубок чеснока. Мелко нарезал картошку, почистил морковь, натер свеклу. Потом выгреб из плетенки вилок капусты и тоже быстро нашинковал. Все сотворенное им крошево Давид Исаевич разом запустил в кастрюлю. Соли не забыл и перцу на кончике ножа — тоже. Кажется, ничего не упустил.
Теперь можно было приступать к самой неприятной процедуре: строгать луковую стружку для кисло-сладкого. Сложность операции состояла в том, что измельченный лук щипал глаза, выжимая слезы, которые в три ручья текли по щекам. Давид Исаевич пытался мысленно увидеть себя со стороны, лицо свое, искаженное невольными слезами, противное, в морщинах. Неужели этот старик — он?! Невольно Давид Исаевич обернулся к окну, где сиротливо лежала папка с его рукописью, и вздрогнул: ему почудилось, что папка раскрывается. Давид Исаевич крепче сжал в руке рукоятку ножа. Нынче ночью, впервые за годы сочинительства, он столкнулся с дивным явлением: его герои перестали безропотно ему подчиняться. Он навязывал им свое, а они упирались, не желали делать того, что он им предписывал. Может, на самом деле что-то происходит с рукописью? Он даже услышал какие-то шорохи, звуки, топот ног. Неужели кто-то из персонажей вырвался на волю и удирает от него? Давид Исаевич встряхнул головой, избавляясь от наваждения; нет, все в порядке. Жена проснулась и делала зарядку, бегая вокруг стола. Давид Исаевич со спокойной душой вернулся к своему кисло-сладкому.
Мясо, нарезанное впрок ломтиками, слегка заиндевелое, он взял из морозильника лишь после того, как с плиты потянуло разными дразнящими вкусными запахами.
Когда все было сделано, он вдруг вспомнил, что сын заказывал кисель. Банки пастеризованной клюквы с сахаром имелись у него в запасе всегда. Нужен был крахмал, и заказ Ильи можно было исполнить. Давид Исаевич опустился на колени возле раскрытых створок кухонного шкафа и начал переставлять в нем с места на место различные пакеты, банки, коробки. Вот наконец что-то похожее, не то сода, не то крахмал. Надо было проверить.
За этим занятием его и застала Евдокия Петровна.
— Господи, сколько пару напустил! Стекла все запотели! — воскликнула она, шагнув к окну. — Не мог пошире распахнуть?
Обернулась к плите, пригнулась и убавила огонь в конфорках:
— Почему кастрюля не прикрыта? Пена не снята? — Объяснений она не ждала и продолжала: — Рубаху измазал — сплошь в жирных пятнах каких-то!
— На белом особенно выделяются, — насмешливо отозвался Давид Исаевич. — Нарочно светлую сюда надеваю, чтобы менять почаще.
— Болтовней неряшество не прикроешь, — строго возразила Евдокия Петровна. — И плита грязная у тебя. Неужели трудно чистоту навести?!
— Можно. Только это, наверное, и твоя забота, — заметил Давид Исаевич, раздувая ноздри.
Евдокия Петровна замерла. «Что это я с утра? Ведь это он мою работу делает, ради меня собой жертвует, — молча согласилась она, опустив руки. — Да, но я тоже многое ради него делаю», — пыталась она оправдать себя.
Убедить себя не удалось. Побуждения у них разные, и она это, к сожалению, знала очень хорошо. «Нам за круглый стол сесть давно пора, поговорить с толком, с расстановкой. До сих пор не получалось как-то: то он занят, то я спешу».
— Сегодня после моей первой пары ты свободен?
— Нет, после твоей лекции идет моя.
10
В семье Давида Исаевича все не как у людей: даже завтракали все порознь. Первым к столу садился Илья, и тогда никто не смей крутиться на кухне: он любит есть в одиночестве. Но мыть после себя посуду — это нет. Давиду Исаевичу подчас приходится напоминать сыну, что с ним ничего не случится, если он вымоет пару тарелок.
После Ильи кухонный стол занимала Евдокия Петровна. Она тоже желает, чтобы ей никто не мешал, ибо как раз тогда, когда она ест, ей удобно обдумывать свои лекции. Давид Исаевич не возражает, хотя не согласен с этим: если человек ест, он должен есть и ничем другим не заниматься.
Сам же Давид Исаевич завтракал стоя или на ходу. Видимо, это вредно для здоровья, но так большей частью получается. Кроме того, он терпеть не мог, когда накапливалась немытая посуда. Возле раковины с журчащей водой хорошо думается. Вот и сейчас он думал о том, что фашисты летом сорок второго года все же форсировать Терек на его участке обороны не смогли.
Гитлеровцы не прошли и на остальных участках северокавказского фронта, который растянулся на сотни километров — с гор до Каспийского моря. Свыше недели немцы топтались у наших свежих траншей и дзотов, и поначалу врагу удалось достичь своего — неожиданным мощным ударом он в конце августа стремительно придвинулся к городу Нальчик. Еще несколько таких скачков — и он добрался бы до большой дороги через горные перевалы. Но нальчикская операция оказалась одной из последних удачных операций немцев на этом фронте.
Когда Давид Исаевич поздно вечером получил приказ оставить свои обжитые позиции и срочно перебраться со всем своим хозяйством к Эльхотовским воротам, он несколько растерялся. Это его замешательство произошло не только из-за того, что не хотелось оставлять хорошо подготовленные окопы, ходы сообщений, огневые позиции. Давид Исаевич как-то сразу не мог понять, почему оставляют без артиллерийской поддержки такой большой плацдарм — берег Терека напротив станицы Галюгаевской. Ведь в этом месте были сосредоточены, по данным разведчиков его взвода управления, немалые силы фашистов. Он, Давид Исаевич, не мог понять, почему его батарею никто не сменяет. Но приказ есть приказ, и его надо выполнять.
К месту новой дислокации тащились всю ночь, прежде всего потому, что дорога была забита войсками. Тем не менее ко времени, указанному в приказе, Давид Исаевич со своим подразделением был на месте. В Эльхотове сосредоточилась большая часть десятой гвардейской бригады — бывшей авиадесантной, преобразованной в обычную пехотную бригаду с противотанковыми пушками и противотанковыми ружьями. На дальних подступах к Эльхотову заняли свои рубежи несколько артиллерийских полков резерва Главного командования, а две танковые бригады были готовы в нужную минуту предпринять контрнаступление.
Первый бой у Эльхотова батарея Давида Исаевича провела не лучшим образом. Батарейцы не успели еще как следует закрепиться, как налетели десятки вражеских бомбардировщиков, а внизу, в щели между горами, в Эльхотовской долине, показались немецкие танки. Разразился такой огонь, который даже Давиду Исаевичу не приходилось видеть.
Наши войска отбили и первую, и вторую, и третью атаки фашистов. Бой длился целый день. Немцы лезли и лезли, не понимая, что случилось. Впервые здесь, на северокавказском направлении, они получили столь решительный отпор.
Теперь, вспоминая тот первый день на передовой у Эльхотова, Давид Исаевич понимал, что главную роль в отражении натиска гитлеровцев сыграли знаменитые «катюши». Кто знает, как бы закончился тот бой, если бы не они.
Лишь после изнурительного дня непрерывных боев батарея Давида Исаевича получила возможность капитально укрепить свои позиции. Спали мало. Всю ночь работали почти без перерыва. Но утром Давид Исаевич уже стоял в узком окопчике своего наблюдательного пункта, слегка пригнувшись, возле знакомой своей стереотрубы, свежий, даже очень тщательно выбритый. Это был его принцип. Командира люди должны всегда видеть бодрым, энергичным, деятельным. Появляясь перед ними хмурый и вялый, ты, может, и не нарушаешь устава, но много теряешь в их глазах.
Туман осторожно поднимался над окопами, седой, с сизоватым, как дым махорки, оттенком, он клубился и набухал, словно начиненный дрожжами. Туман тянулся вверх, обнажая Терек, который здесь был шумный, но не такой глубокий и дикий, как у станицы Галюгаевская. Терек затаенно ворчал и шипел, швыряя свои волны на каменистые берега. Снизу тянуло холодом — горы есть горы.
Давид Исаевич думал, что фашисты не атакуют наши позиции потому, что им мешает туман. Хотя кто знает? Туман рассеется еще не скоро, и все же каждую минуту надо быть начеку. Давид Исаевич знал, что на той стороне, там, где сейчас затаился враг, тоже не спят, хотя внешне вражеский наблюдательный пункт выглядел очень мирно.
Из-под земли к Давиду Исаевичу доносились приглушенные рваные фразы, обрывки разговоров, из которых можно было понять, что там мечтают о завтраке, который должны скоро принести на наблюдательный пункт. Давид Исаевич не думал об этом. Он шпынял себя за то, что ночью, подготавливая батарею к новым боям, он не смог присутствовать при похоронах павших… Между прочим, среди погибших был один из братьев Остапенко, известных в бригаде своими подвигами. Эти солдаты своими противотанковыми ружьями уничтожили полтора десятка вражеских танков. Братья были близнецами и так походили друг на друга, что, наверное, мать родная не могла их различить. Одного звали Дмитрием, другого — Иваном. Дмитрий был убит. Но в ходе боя Давид Исаевич не сразу узнал, кто из братьев погиб, и, увидев издали Остапенко, воскликнул: «Слава богу, что ты жив, Дмитрий. Понимаешь, мне сказали, что тебя уж нет в живых». На это бронебойщик хрипло отозвался: «Я — Иван. Вас правильно информировали». Этот свой промах Давид Исаевич не мог себе простить до сих пор. Вот так-то обознался, перепутал…
В землянке между тем шел разговор о каком-то старшине-ловкаче. Побасенка о нем уже имела длинную бороду, но тот, кто ее пересказывал, имел в виду двух вновь прибывших телефонистов — пусть и они узнают о проделках бравого старшины, который сумел накануне Нового года накормить всю батарею куриными котлетами. Давид Исаевич уже не раз слышал эту сказочку. Этот старшина был родом якобы из Ростова, и когда Ростов освободили от фашистов, он решил это отметить хорошим обедом в кругу своих товарищей-батарейцев. В клетке у него содержался небольших размеров петушок. Вот старшина и пообещал батарейцам куриные котлеты. Но как можно одним петушком насытить всю батарею?! Допытываются у старшины, с издевочкой, разумеется: ну как там котлеты? А он отвечает: все будет, как обещал, надо лишь найти небольшое дополнение к птичьему мясу, тогда на всех хватит. Батарейцы разрешили: пусть будет добавок. Старшина спрашивает: а если пополам? «Ничего, согласны!» — отвечают батарейцы. Иного выхода все равно нет. Тот, кто думает, что старшина оставил батарею без котлет к празднику, ошибается. К Новому году батарея уминала вкусные котлеты с перчиком и чесночком. Старшину превозносят до небес, а он усмехается. Оказывается, пополам, как старшина выразился, у него означало один петушок на одного жеребенка. Смешали мясо петушка с мясом жеребенка — и пожалуйста, вот вам куриные котлеты, ешьте на здоровье…
Откуда-то с вражеской стороны доносился гул танковых моторов, ухал шестиствольный «ванюша» — немецкий миномет, раздавались то там, то тут взрывы. К Давиду Исаевичу долетела еще одна фраза из землянки: «Сегодня, видать, не скоро позавтракаем — облизнемся только».
11
За несколько минут до лекции к Евдокии Петровне подошла Норшейн.
— Я к вам, — предупредила она. — Если не возражаете.
— От такой чести разве отказываются?
Войдя в свою аудиторию, Евдокия Петровна прежде всего отыскала глазами Норшейн. Та сидела за последним столом, положив локоть на подоконник.
Через окно видны неподвижные серые облака. К стеклу меньшей створки окна прилип почерневший кленовый лист, от которого вниз сползает точно привязанная за нитку дождевая капля.
Все идет у Евдокии Петровны нормально, на уровне. Так говорила сама себе Норшейн. Но чувствовала она себя почему-то обворованной. Вчера, когда она сама работала в этой же аудитории, с этими же студентами, все было иначе. Вчера ребята вроде бы везли воз. Тяжелый. С чужой поклажей. Сегодня они увлечены, спорят, тонко направляемые преподавательницей, горячо спорят, со страстью, с какой-то личной заинтересованностью. Анне Арнольдовне стоит некоторого труда сдержаться, не выскочить со своим мнением. Конечно, эти юнцы, распаленные, возбужденные, тут же ринутся ей возражать, отстаивать себя. И пусть бы. Неважно, что она гость, что старше их, ведь это радость несказанная — ощутить себя сверстником юных, сопричастным к общему их делу. Она вовремя спохватилась. Ей показалось, будто она вот-вот задохнется. Но длилось это не дольше минуты. «Завидую. Жгуче. Гадость какая-то», — упрекнула она себя.
В любом другом месте — на заводе, на фабрике, в колхозе — везде удается всесторонне, с большой долей объективности оценить труд людей. И по качеству, и по количеству. В педагогическом деле эта аттестация всегда осложняется различными сопутствующими обстоятельствами. Пока еще не найдены точные критерии, которыми можно было бы руководствоваться, определяя значимость работы преподавателя. Об одном и том же факте или явлении подчас выносятся совершенно противоположные суждения. Может быть, так и надо. Ведь деятельность педагога многогранна, поистине необъятна. И надо учесть еще, что друг большей частью утверждает одно, противник сознательно — иное, равнодушный — третье. И так без конца. Сколько горя причиняет это учителям, сколько невидимых миру мучений знают только они. И как эти одержимые святые люди все выносят, совершая ежедневные, скрытые от чужих глаз, безвестные подвиги свои, наверное, навеки останется тайной.
Подавленная, досидела Анна Арнольдовна до звонка. Лишь под конец взяла себя в руки. Выходя вслед за Коростенской из аудитории, словно бы между прочим, небрежно бросила:
— Как там наш шеф? Не просит еще отменить отставку?
— Нет вроде.
— Вот бы вам взойти на престол, — закинула на всякий случай удочку Анна Арнольдовна.
— У меня иные планы.
— Кто не поп, тот батька, — веселея, произнесла Норшейн.
После такой беседы Евдокии Петровне хочется немного постоять возле мужа. Ждала она Давида Исаевича возле его аудитории. И вот он рядом — с большим деревянным циркулем, с широкой, покрытой лаком линейкой. Раскрасневшаяся Евдокия Петровна шепнула ему:
— Норшейн была у меня.
— И как? — тоже чуть слышно, с тревогой осведомился Давид Исаевич.
— Я уже не страшусь студентов, — туманно ответила Евдокия Петровна. — Без робости вхожу к ним и на практические занятия. С ними удивительно интересно, но много надо знать, ох много…
— Зачем она приходила? Как полагаешь?
Евдокия Петровна пожала плечами.
Лекцию свою Давид Исаевич читал с наслаждением, уверенно наносил цветными мелками на просторной, во всю стену, доске линии эпюров, стремился объяснить позиции чертежа предельно ясно. Вопросы разрешал задавать по ходу изложения материала, не боясь, что порвется нить рассуждений. Он словно бы вел сражение. Бросал в бой, по мере надобности, известные, доказанные на предыдущих занятиях теоремы. В подходящий момент вызывал из резерва и вводил в дело наглядность — собственноручно сработанную модель: пирамида трехгранная стремительно пронзала насквозь толстую четырехгранную пирамиду.
Делал он все как обычно, но одновременно, параллельно со всем этим, его не покидали мысли о жене.
Он не знал, разумеется, что Евдокия Петровна в это время топталась возле двери месткома, куда ее пригласила Норшейн. Что-то мешало ей переступить порог. А удерживал, должно быть, неожиданно раздавшийся колокольный звон. Давно Евдокия Петровна не слышала этих звуков из-за каменной ограды храма. На старой квартире изредка, по утрам, малиновый звон нарушал привычную тишину, а нынче, переехав в другое место, Евдокия Петровна совсем отвыкла от него. Перед ним она трепетала всегда, сколько себя помнит, с раннего детства. С этим звоном у Евдокии Петровны связывались все беды юности — и то, что ей, дочери священника, не давали учиться в школе вместе со сверстниками, крестьянскими ребятишками, и то, что ее в комсомол не принимали, и многое другое… Большой колокол пел, а мелкие колокольца отзывались мелкими брызгами — в церкви шел молебен за мир. Вот что остановило Евдокию Петровну.
Вряд ли студенты обратили внимание на некоторую взволнованность Давида Исаевича. Все корпели над своими форматками, отыскивая на чертежах точки встречи ребер с гранями.
После первого часа своей лекции Давид Исаевич кинулся разыскивать жену. И быстро нашел ее.
Увидев в приоткрытую дверь лицо Коростенского, Анна Арнольдовна понимающе кивнула:
— Слежка?
— А как же? — в тон ей отвечал Давид Исаевич. — Тут глаз да глаз нужен.
На что Норшейн бросила замысловато:
— Беспокоится о своем авторитете тот, кто в нем сомневается…
12
Давид Исаевич прикрыл дверь месткома спокойно, не руками, а прислонился к ней спиной и выждал несколько мгновений, чтобы убедиться, что дверь не отошла. Давид Исаевич уверен, что там, в кабинете, ничего плохого с его супругой не случится. Он ощущал это тем неосязаемым инструментом, который называют предчувствием, но в действительности у языка нет адекватного для него слова.
Подобное предчувствие было у Давида Исаевича и тогда, много лет тому назад, у Эльхотовских ворот, когда загудели вражеские танковые моторы и в долине в очередной раз разбушевался огненный смерч.
Хотя до этого мгновения Давид Исаевич не единожды проверял, как действуют средства связи батареи — нервы всего его боевого кулака, — он просит своих телефонистов еще разок прощупать кабельные линии, а радистов — проверить рации командиров дивизиона и бригады.
Связной Давида Исаевича, артиллерийский разведчик, стоял возле него, посматривал со стороны на поджарую, маленькую фигурку своего командира и думал: откуда в таком хилом теле такая мощная воля? Особенно нравились связному руки командира, быстрые и подвижные, которые ловко орудовали стереотрубой. Изредка командир поправлял пилотку, из-под которой вырывался клок волос, напоминающий по цвету сталь командирского пистолета. Связной не влюблен в своего командира, но предан ему всем своим существом.
Облака поднимались все выше и выше, начинали походить на огромные журавлиные перья, которые разматывались веером, отделялись одно от другого, в результате чего между ними появлялись голубоватые просветы неба — значит, скоро можно было ждать налета вражеских бомбардировщиков. В окопах огневых позиций, в ходах сообщения к пехоте, которыми Давид Исаевич ночью пробирался, подыскивая место для запасного наблюдательного пункта, — везде ему приятно было вдыхать запах свежего терпкого сока, выступавшего на светлеющих повсюду пнях срубленных накануне деревьев.
Кажется, только что облака лежали неподвижно на бруствере его наблюдательного пункта, увлажняя лицо, — и вот они уже цеплялись за вершины деревьев, ветви которых раздирали их, отрывали с их мохнатых шуб куски, которые тут же исчезали в вышине.
Предчувствие, что все будет хорошо, что они победят и в предстоящем сражении, было не просто предчувствием, но убеждением, и не только умозрительным — Давид Исаевич на своем опыте уже видел, что врага можно бить, что врага можно остановить. Именно это необходимо сделать во что бы то ни стало.
Внизу, справа, освободившаяся от тумана, лежала долина и ждала грозы. Терек, с его мутными водами, рассекал ее надвое. Вдоль берега реки горбатились огромные ивы. На правом берегу, впритык к этим деревьям, тянулась железнодорожная линия. Между рельсами дремали черные шпалы, казалось, будто на земле плашмя лежала огромная лестница с просмоленными ступенями, похожими на огромные костяшки домино.
Сейчас, когда связной Давида Исаевича косился на него одним глазом, ему казалось, что командир вовсе не такой уж и молоденький: слишком тяжкая усталость таилась в его сузившихся глазах, неумолимая жестокость вырисовывалась на сжатых, чуть сморщенных губах. Гул фашистских танков и самолетов, пушечная пальба, а потом, через некоторое время, взрывы бомб и посвист мин и вообще обычный набор звуков большого боя весьма скоро донесся до Давида Исаевича, но слышалось все это слева, из дальней части долины, что прилепилась к видневшимся вдалеке черным горам. Бой разворачивался далеко от направления, о котором думал Давид Исаевич. Несколько раз он оглядывался на своего радиста — не передаст ли тот ему что-либо важное, такое, что сразу прояснит обстановку. Но в рации бушевала словесная гроза, которая ничего общего не имела с тем, что жаждал услышать Давид Исаевич.
Но он ждал и верил, что вот-вот и здесь, у Эльхотовских ворот, наши начнут наступать. Однако ни командир его дивизиона, ни командир бригады никаких дополнительных приказов не передавали. Был общий приказ, один-единственный: не пропустить противника. Этот приказ надо выполнять, и всё. Если нет других. Нет — стало быть, затаись и жди. И Давид Исаевич не уходил со своего наблюдательного пункта. Он понимал, что как раз теперь надо быть готовым ко всяким неожиданностям.
Полевая кухня, тарахтя по дороге высокими колесами, двигалась к огневым позициям. Вдруг раздался испуганный голос радиста.
— Так и знал… Чувствовал я, — взвизгивает он, срывая с себя наушники, подбегает к Давиду Исаевичу: — Получил… Только что… Приказано отступить… Что ж это такое, а?
Давид Исаевич строго посмотрел на радиста:
— Смирно! Разве забыли, как надо докладывать? Оправьте пилотку, она съехала у вас на затылок! Я слушаю вас.
— Командир бригады срочно приказал перейти на другой берег Терека и создать там линию обороны!
Радист старался все высказать ясно и понятно, но язык плохо его слушался, он словно бы примерз к небу, и думал радист о Давиде Исаевиче очень нехорошо: «Ему нипочем то, что отступаем, служаке несчастному. Вон побрился, чистенький. Лишь бы форма соблюдалась, пилотка набекрень — в такую минуту…»
Давид Исаевич приказал радисту продолжать исполнение своих обязанностей и заметил:
— Ремень! Ремень подтяните!
Начал накрапывать дождик — откуда он взялся? Облаков-то вроде и не видно. Но приказ получен — надо выполнять. Эмоции эмоциями, а командир не имеет права поддаваться чувствам. Надо выполнять свой долг с холодным рассудком. Давид Исаевич напялил на себя плащ-палатку, задержался на мосту через Терек, — батарея уже начала передислокацию.
— Опять отходим, товарищ командир? — боец посмотрел на Давида Исаевича.
— Зачем же? Позиции меняем.
— Слишком часто меняем мы их.
— Сверху виднее.
— Новые позиции, значит, лучше?
— Непременно!
И снова, ругая при этом дождь и ветер, каменистый грунт и твердые корневища, не забывая и помянуть проклятых фрицев, батарейцы к рассвету заняли указанные рубежи.
Подремать себе Давид Исаевич разрешил совсем немного — около часа. Потом он присел к свежевыструганному столику в своей новой землянке и задумался. Орудия нацелены на основное направление, откуда, вероятнее всего, немцы могут появиться. Исходные данные для ведения огня определены. Все-таки стоит приготовить дополнительные ориентиры. Война в горах особая по своим трудностям, метеорологическим условиям. Да еще в таких высоких горах, как Кавказские.
Давид Исаевич стремительно приподнялся.
— Батарея — внимание! — приказал он телефонисту передать указания во все взводы.
Давид Исаевич работал минут десять — пятнадцать, пока не выяснил все ориентиры, какие необходимы для ведения уничтожающего огня.
Но все равно большой радости это Давиду Исаевичу не принесло, ощущение тяжести на сердце не покинуло его. Конечно, эмоции — обязательная принадлежность человеческого характера. Но позволить им взять верх над разумом — значит обречь дело на неудачу. Он оглянулся со своей вышины в направлении города Орджоникидзе, где время от времени вспыхивали осветительные ракеты. «Ну ладно, сюда нас переставили, — размышлял он. — Чтобы хоть дальше ползти не пришлось…»
Утром на батарею пришло известие, что всей армии, действующей на этом участке фронта, присвоено звание гвардейской. Новость обогнала вражеское наступление минут на десять, не более, потому-то артиллеристы не успели даже порадоваться как следует своему празднику.
Немецкие мотоциклисты подъехали к берегу Терека с пулеметной трескотней, но сопротивления не получили. Мост через Терек стоял невредимый — таково было распоряжение: ни в коем случае не рушить его, оставить целым. Возможно, командование хотело этим подчеркнуть, что отступление чисто тактическое, что приобрели лучшие, на высотах, позиции. Вражеские разведчики остались у берега — на мост не въезжали и назад не откатывались. «Принюхиваются», — злорадно думал Давид Исаевич, рассматривая в бинокль непрошеных гостей.
Наш берег молчит. Нет приказа стрелять. Давид Исаевич думал: одно слово, один приказ — и от этих мотоциклистов останется мокрое место. Давид Исаевич вдруг вспомнил, как он и Дуся, молодые наивные студенты, прислонившись друг к другу, сидели на верхней галерке в Казанском оперном театре и восторженно смотрели в оркестровую яму, где на каком-то пьедесталике стоял дирижер во фраке — волосы взъерошены, в руках палочка. И все зависело от этого мага: взмахнет палочкой — оркестр оживет, встрепенется арфа, нежно отзовутся скрипки, заголосят фаготы и флейты, барабан заслонит тихий говор виолончели и все насквозь пронзит звонкая молния трубы… Но дирижер не спешил, чего-то ждал… Чего он ждал? Давид Исаевич сейчас, как тот дирижер, тоже стоял на своем наблюдательном пункте, но не во фраке, а в шинели. Казанский тот дирижер властвовал над звуками, он же, Давид Исаевич, облечен более высокими полномочиями — он имел дело не со звуками, в его руках человеческие жизни.
Давид Исаевич видел: немецкие мотоциклисты спускаются к мосту. У Давида Исаевича исчезли морщинки на лице: задумается, пожалуй, господин фон Клейст, когда ему доложат, что мост через Терек цел и невредим и даже не заминирован… И наши солдаты довольны: мост на своем месте — стало быть, по нему можно будет вернуться на свои вчерашние позиции…
Удар фашистов был намного сильнее, чем ожидал Давид Исаевич. Как обычно, они наступали и в воздухе, и на земле. Сначала налетели бомбардировщики, потом ринулись танки, целое стадо танков, за ними моторизованная пехота.
Выстоять было непросто, но батарейцы выстояли, подтвердив свое гвардейское звание.
Давид Исаевич и не заметил, что ранен. Правда, рана была легкая: осколок пронзил сапог и добрался-таки до кости, однако боли Давид Исаевич сначала не ощутил. А потому и не пошел в санбат.
13
Осторожно, как всегда в официальных кабинетах, Евдокия Петровна присела на краешек кресла.
Норшейн объясняла ей:
— Хотела сразу же после занятий сказать вам пару слов и отпустить ко щам. Испарились вы куда-то.
— Поругать в любое время можно.
— Зачем же ругать? Я испытывала удовольствие на вашем занятии. И студенты, по-моему, тоже. Это я ценю превыше всего. Что не радует, не может быть полезным.
— Щедро хвалите, — смутилась Евдокия Петровна. — К такому не привыкла.
— Будет и критика, — пообещала Анна Арнольдовна.
То, что удача Евдокии Петровны не случайна, — факт, и с ним нельзя не считаться. Здесь всякая подделка исключена. На практическом занятии всего не рассчитать, не предусмотреть всех неожиданностей. А их тут — тьма. Провести такое занятие — умение требуется немалое. И знания нужны, и вдохновение… Если они есть, то они есть и ничего не может их заменить. Но Анна Арнольдовна все же нашла некоторые огрехи.
— Нянькой ходите вокруг студентов, — помолчав, сказала она.
— Разве плохо видеть в группе всех сразу и каждого в отдельности? — возразила Евдокия Петровна. — Кому надо — помочь, кто заслужил — того поощрить. Третьего — пожурить. То есть тащить воз вместе с ними.
Норшейн сказала мягко, но убежденно:
— Студента надо меньше учить, необходимо, чтобы он сам, понимаете, сам побольше учился. Вот ваша сверхзадача.
— Мысль интересная, хотя и парадоксальная.
— В ней вся суть вузовской педагогики.
— Чтобы так работать, нужен особенный дар, умение зажигать сердца, призвание художественное, поэтическое…
— Голубушка, совершенно верно. Педагогика — это искусство прежде всего, и если она не искусство, то и не педагогика.
Евдокия Петровна вдруг перестала ощущать себя стесненной. Переменила положение в кресле, прислонилась к его спинке. Незаметно для себя, отвечая Анне Арнольдовне, увлеклась, поведала ей о своей юности, о стремлении учиться, которое невозможно было вовремя осуществить — отторгали ее, дочь священника, и из школы, и из техникума. С огромным трудом прорвалась она наконец на рабфак.
Норшейн не прерывала ее, хотела знать все. Она должна была знать все.
А Евдокия Петровна вслух вспоминала о себе, двадцатилетней, отважно перебирая давние события: вступительные экзамены в казанский пединститут, распутье — на какой факультет податься? Литераторы в приемной комиссии тянули к себе, математики — в свою сторону. И то, и другое манило. Гуманитарные науки все же пересилили. И привели к Давиду. Этот большеглазый однокурсник не сразу привлек ее внимание. Ей, к тому времени уже много пережившей, он поначалу показался мальчиком, может быть, младшим братом, хотя была она старше его лишь на два года. Но он оказался настойчивым мальчиком. Не устояла она. Появился Леонтик. Учебу так и не удалось завершить тогда. Не из-за сынишки, нет. С ним было ужасно тяжело, но он бы не помешал закончить институт. Война началась. Давид ушел в армию. Нужды хлебнули вдосталь. Пришлось бросить город, уехать в деревню. Хотя и там манна с небес не сыпалась: приходилось разрываться между школой и огородом.
Переведя дыхание, Евдокия Петровна, как-то вся расслабясь, неспешно продолжала:
— Тогда-то я и увидела, что природа явно не доработала, по крайней мере, нас, женщин, обделила: вместо четырех рук дала две…
Слушая Евдокию Петровну, Норшейн представляла себе глухую татарскую деревушку Узеево, вросшую в снег по брюхо избенку с единственным разбитым оконцем, заткнутым рукавом овчинного полушубка. Видела Анна Арнольдовна и растерянность учительницы, которой надо работать, русский язык преподавать, а ребятишки в классе не понимали ее, хоть реви, и она их тоже. Семью кормить надо — ни магазина, ни базара, да и денег не густо, а барахла, чтобы на продукты менять, и вовсе нет. Это потом Евдокия Петровна овладела татарским, а ее ученики по-русски заговорили, это после был огород, была картошка, было тепло, были письма от Давида и деньги по его аттестату. Несколько месяцев боялась Дуся почтальона — не несет ли похоронки. Весть от Давида пришла. Однако не с Запада, а с Востока. Оказывается, он где-то в Ясьве, за Тагилом — в лагере заключенных. Он — осужден. Замешательства хватило только на одно коротенькое письмецо: «Нет, нет! Быть не может. Не должно быть! Ты — преступник? Репрессирован?! Как же это? Растолкуй немедля. Мы в смятении…» Вслед за ним полетело другое: «Ничего не растолковывай. Я люблю тебя. Я твоя навеки. Сколько бы ни длилась наша разлука, буду ждать тебя. И Леонтик. Твоя беда — наша беда, твое горе — наше горе. Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы хоть на миг усомниться в твоей честности. Я всегда гордилась тобой, воином, и сейчас уверена: невиновен ты. Крепись, мой милый, дорогой. Да минуют тебя все невзгоды, да сохранит тебя любовь моя…»
Пять лет чуть ли не каждый день Дуся посылала свои письма в лесной поселок на Урале, где Давид валил лес. Из Узеева ее перевели в Аксубаево — в педучилище. Она заочно окончила свой педагогический институт, поступила в аспирантуру, растила сына и ждала мужа. Кто знает, может быть, без ее писем Давид Исаевич и не сумел бы продержаться все эти трудные годы. Он считал, что ее письма спасли его. Дуся ликовала: «Последнее письмо твое вызвало во мне бурю чувств. Ты утверждаешь, что я помогаю тебе переносить те невзгоды, которые судьба взвалила на твои плечи, пишешь, что моя дружба, моя любовь совершили чудо — заставили бороться с судьбой… Если это действительно так — моя теплота, моя преданность помогли тебе пройти через это тяжкое время, — то большей награды мне не надо. Я и впредь буду с тобой — до конца. Верю, люблю, жду…»
Многое узнала Анна Арнольдовна о своей коллеге по кафедре, о Давиде Исаевиче. И то, что Анна Арнольдовна узнала, было одновременно приятным, грустным и болезненным для нее. Норшейн чувствовала: то, что она сегодня выслушала от Евдокии Петровны, сделало Давида Исаевича намного ближе и милей ей, чем до сих пор.
Второй час практического занятия прошел у Давида Исаевича не хуже и не лучше, чем первый. Он успел сделать все, что наметил, что полагалось по программе, и потому со спокойной совестью покинул кабинет математики, где работал.
Сосредоточенная Евдокия Петровна уже ждала его в конце коридора у окна.
— Если меня хвалят, я настораживаюсь, — сказала она, счищая мел с рукава пиджака мужа. — Нормальное, естественное состояние — когда ругают.
— Сильно поругала? — волнуясь спросил Давид Исаевич.
— Критика не такая уж плохая штука, в конце концов, — лизнула кончиком языка пересохшие губы Евдокия Петровна. — Когда к тебе предъявляют разумные требования, это полезно. Хуже, если их нет. Даже когда критикуют несправедливо — все равно есть польза. Заставляет такая критика задуматься. Что-то, значит, не в порядке. Или у тебя, или у других, у тех, кто критикует. Сама работаешь и влюбляешься в свою работу, а критика со стороны заставляет лучше обосновать все то хорошее, положительное, что есть в твоей работе.
— Короче, — предложил Давид Исаевич, — можно? Хочу знать, как оценено твое занятие. Конкретно.
— Пятерку поставила, — усмехнулась Евдокия Петровна. — Доволен?
«Кажется, он снова грубит, — думала она при этом. — Или мне так лишь кажется?» Но настроение ее испортилось, хотя она на мгновение прильнула к мужу.
Они спустились в институтский сад. На взгляд Давида Исаевича, здесь было сейчас не очень уютно. Дорожки потерялись, запорошенные опавшими листьями и лепестками позднего цвета деревьев. Ветви яблонь казались обезображенными, наверное, оттого, что вчерашняя гроза оголила корявые сучки, наплывы, коросту. Вместо кустов крыжовника торчали какие-то нахохленные прутки. Евдокии Петровне, напротив, все нравилось, всем она восторгалась, во всем находила необычайную прелесть, даже в том, что моросил дождик.
— Такой ералаш в природе бывает только в эту пору, — говорила она с возбуждением. — Это ценить надо. А небо? Погляди, какое над нами небо! Видишь? Сияющее, многоцветное, как весной! Великолепие какое!
Задрал голову и Давид Исаевич, посмотрел — ничего особенного не увидел. Небо как небо. Бегут облака, где-то прорываются лучи солнца, и все.
— Да открой же глаза, — посоветовала Евдокия Петровна. — Ну как тебя научить видеть красоту? Как ты можешь писать, если не ощущаешь ее, эту красоту? Не смей тогда браться за перо, раз нет в тебе чутья художника…
Давид Исаевич пропустил мимо ушей тираду жены, взял ее за локоть.
— Мы отвлекаемся, — сказал он полушепотом. — Сейчас меня занимает не небо, не его красота, а Норшейн. Точнее: чего она добивается?
— Почему ты так тревожишься? — подняла брови Евдокия Петровна.
— Хочу понять мотивы внезапного ее посещения твоих занятий, — отозвался Давид Исаевич поспешно. — Со студентами все в порядке у тебя? Может, кто-нибудь нажаловался?
— Я уже давно забыла, что с ними возможны конфликты.
— Полагаю, что ее визит вызвало нечто из ряда вон выходящее.
— А по-моему, нет ничего удивительного, если председатель месткома посещает занятие рядового доцента. Неуверенность твоя тоже, между прочим, показательна.
— Анна Арнольдовна страшно занята сейчас — с головой окунулась в подготовку к смотру художественной самодеятельности, к праздничному концерту. И вряд ли она стала бы тратить время без срочной необходимости. Что-то здесь не так.
— Ты меня заинтриговал! Постой-ка!
Евдокия Петровна уперлась взглядом в мужа, наморщила лоб. «Пожалуй, прав Давид, — думала она. — Престол заведующего кафедрой интересует Анну Арнольдовну. Уходит ведь наш босс, так или иначе, а свято место пусто не бывает. Не зря намекала Норшейн, что в институте мало женщин на руководящих постах. Неужели она меня подозревает в стремлении занять это место? И вот почему она осталась довольна, когда я ей сказала, что женщине нечего в руководители лезть, для нее кроме работы в жизни есть еще важнейшее дело — рожать и растить детей. Нет для нее обязанности более радостной, необходимой и полезной. С тех, которые прут в начальники, брать бы подписку об отказе от потомства следовало бы».
Евдокия Петровна покачала головой.
— Ты что? — осведомился Давид Исаевич у жены.
— Я приняла бы на себя грех, — отозвалась она озорно. — Согласилась бы заведовать кафедрой нашей.
Озадаченный Давид Исаевич почесал заросший затылок:
— Зачем это тебе? Таланту должность не нужна, ему достаточно иметь рабочее место.
Издали донесся зовущий юный голосок:
— Давид Исаевич! Давид Исаевич!
В вестибюле института тоненькая длинноногая студентка в мини-юбке шепнула что-то Давиду Исаевичу на ухо. Проходящая мимо случайно ли, нарочно ли Норшейн ухмыльнулась: «Кофту напялила — юбку забыла надеть». Но остановила себя, посмотрев на свои не прикрытые подолом платья колени.
Уши Коростенского покраснели. Он поймал себя на том, что с излишним вниманием смотрел на стройные крепкие ноги Анны Арнольдовны.
Вернулась из сада и Евдокия Петровна.
Норшейн окликнула ее:
— Супруга потеряли?
— Представьте себе, из-под носа увели, — пыталась поддержать шутливый тон Евдокия Петровна. — Очередной аврал на ФОПе.
— Видела, как Давид Исаевич бежал от вас.
— Это что же получается — публичный скандал?
— Похоже. Без спиралей. А если серьезно, почему вы такая пасмурная, Евдокия Петровна?
— Сию минуту потому, что муж разбазаривает себя бог весть на что. Воду в ступе толчет. Целыми днями суетится, пыхтит как паровоз, а коэффициент полезного действия — мизерный. Твержу ему, твержу…
— Уж больно вы строги к Давиду Исаевичу. Его же беду ему же в вину. По-моему, он человек исключительно совестливый. Свои обязанности выполняет на высоком уровне. А то, что не все получается у него, так ведь какую махину тащит на себе! Радуйтесь ему такому, какой он есть, со всеми его лохмотьями. Умели же вы это делать до сего времени!
Что-то в Анне Арнольдовне незнакомо настораживало, таило неведомое, — Евдокия Петровна напряглась. Все в ней посуровело: лицо, открытое, широкое, с толстоватыми губами, глаза, прямо и вопросительно устремленные на Норшейн.
— Допускаю, пожалуй, промах, — произнесла Евдокия Петровна. — Сержусь на мужа, а надо — на себя.
— Есть за что?
— Всегда найдется.
Они шептались, спорили и соглашались друг с другом, болтали до тех пор, пока не заметили Давида Исаевича, появившегося из-за угла коридора.
— Сюда, сюда, — окликнула его Норшейн.
Он послушно подошел к женщинам.
— Теперь уж начальство наверняка намылит мне голову, — грустно сообщил он. — Повод есть весомый. Увел из-под носа преподавателя целую группу физмата. Танцоров. Устроили им обязательную консультацию, а у них как раз в это время должно быть занятие отделения хореографии моего факультета. Надо ведь — консультация в принудительном порядке. С одного вола две шкуры драть.
— Самовольничаете? — сверкнула глазами Норшейн.
— Сейчас главное — мы, — слабо защищается Давид Исаевич. — К смотру надо готовиться? Или ухнем и все пойдет само собою?
— Я вас должна оградить от гнева ректора? — осведомилась Анна Арнольдовна.
— Сам набедокурил, сам же и отвечу, — покачал тот головой. — От вас другое требуется. Дать лозунг: «Все для смотра!» Поддержите просьбу в приказном порядке отпускать студентов на репетиции!
— Какая же это будет самодеятельность, если силком загонять людей на ваши подмостки? — вмешалась Евдокия Петровна.
— Очень ты всегда правильная. Хоть бы разок ошиблась, — глухо проворчал Давид Исаевич.
— Не будем ссориться. Я думаю, проблему решим, — обнадежила Норшейн. — Престиж института всем дорог.
«Послушал бы кто-нибудь нас со стороны, ужаснулся бы, не поверил бы, что мы, преподаватели института, кандидаты наук, доценты, не учебой заняты, не наукой, а подготовкой концертов, — подумала Евдокия Петровна. — Смешно и дико».
— Мне посылочку прислали, дорогая, — бархатным, вкрадчивым голосом начала Норшейн, прижимаясь боком к Евдокии Петровне. — Хочу вас угостить. Приходите с супругом ко мне.
— Я сейчас должен переписать на магнитную ленту пластинку с песнями гражданской войны. Меня ждут. — Давид Исаевич развел руками.
— Предупредите, и вся недолга. Это ваше право.
— Да и Илюша, наверно, домой вернулся, — продолжил Давид Исаевич.
— Ничего, сам поухаживает за собой, — поторопилась заверить Евдокия Петровна.
— Он уже у вас большой, — подтвердила Норшейн. — Предоставьте ему побольше свободы, самостоятельности.
14
Давид Исаевич расстается с женщинами без особого сожаления, ему хочется остаться одному, наедине со своими воспоминаниями. Но прежде всего он думает о том, что Анна Арнольдовна правильно заметила: Илюше надо дать больше свободы. Да и Дуся с этим тоже согласна.
Свобода, свобода… Давид Исаевич немало сил отдал ради нее.
Эта свобода висела на волоске в начале ноября тысяча девятьсот сорок второго года, когда фашисты рванулись к городу Орджоникидзе, который раньше называли Владикавказом из-за его географического положения. Ибо кто являлся хозяином города, тот может владеть всем Кавказом, всем этим горным краем с его нефтеносными источниками, с его главной дорогой, которая идет через горы на Ближний Восток и в Индию.
Уже давно Давид Исаевич не вставлял в свой дневник, заведенный еще в Пензе, в артиллерийском училище, ни одной грустной мысли о том, что происходит с ним и вокруг него. Но сегодня, увидев слева от себя, очень далеко от его позиций, вражеские осветительные ракеты, он не выдержал. Рука сама потянулась к карандашу. Давид Исаевич прижался спиной к влажной стенке окопа, вынул из полевой сумки свой дневник — толстую книжку, составленную из десятка школьных тетрадок в клетку и одетую плотным картонным переплетом. Давид Исаевич раскрыл дневник и вписал туда: «К сожалению, мы еще до сих пор деремся хуже, чем враг, и в первую очередь — мы, командиры». Чуть погодя, когда к нему подошел его заместитель, который еще в начале лета носил звание комиссара, Давид Исаевич высказал эту мысль ему.
Комиссар посмотрел на своего командира хмуро, потом положил ладонь на плечо Давида Исаевича и сказал тихо:
— Кто лучше, кто хуже — не знаю. Во всяком случае, советую тебе попридержать язык за зубами. Не все правильно поймут тебя. Могут найтись и такие, которые твои слова истолкуют превратно…
— Может быть, ты и прав, комиссар, — вздохнул Давид Исаевич. — Самое страшное не бой, страшно ожидание, и нет ничего хуже для солдата, когда откладывают назначенное наступление…
Везде, вдоль берега реки в Эльхотовской долине, куда ни совались фашисты, они получали достойный отпор. Видимо, из-за этого, а еще и потому, что на орджоникидзевском направлении враг наступал удачно и беспрерывно вводил все новые и новые силы туда, здесь, на эльхотовском плацдарме, его атаки вскоре заглохли.
Но Давиду Исаевичу легче не стало. Действительно, стоять и ждать гораздо сложнее, чем драться врукопашную, когда многое зависит от тебя, от твоих сил и умения, от твоего ума. Напрасно, разумеется, Давид Исаевич вписал в свой дневник жесткое обвинение себе и своим товарищам. Пытались же изо всех сил фашисты прорваться в долину Алхан-Чурт, из кожи лезли вон, чтобы достичь Малгобека, а ничего ведь из этого у них не получилось.
Давид Исаевич не мог знать, что происходит в штабе северной группы кавказского фронта. Но он верил, что там знают обстановку, знают, что делается на любом отрезке обороны. Он не ошибался. Но он забыл, что в нашем штабе знают все, что происходит на нашей стороне, однако что делается у противника, штабу не все и не всегда ясно, хотя разведслужба ни днем ни ночью не дремлет.
Не только Давид Исаевич, большинство командиров не знало в начале ноября, как сложно будет исправлять ошибку, допущенную в начале осени. А состояла она в том, что штаб предвидел только один-единственный путь вражеского наступления — по дороге на Моздок, мотивируя это тем, что сами Кавказские горы являются мощной преградой для врага и танки через них не пройдут…
В штабе были довольны тем, что врага к Моздоку не подпустили, но не заметили, что враг начал скрытно, тихонечко концентрировать свои силы на нальчикском направлении — готовить наступление как раз в том горном районе, где оно меньше всего ожидалось. Удар врага по Нальчику был неожиданным, и теперь приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы поправить создавшуюся ситуацию.
К Давиду Исаевичу подошел комиссар с какой-то бумажкой в руках.
— Вот, бойцы нашли листовку фашистскую.
Давид Исаевич взял немецкую листовку, рассматривая распростертого орла и большие расплывчатые буквы. Полного текста не было, слева не хватало части листовки, но смысл понять можно было.
«…Немецкому командованию точно известно, что Красная Армия разбита, а большевистские комиссары гонят вас в горы на верную смерть… Население обязано вернуться на свои рабочие места и помочь великой армии рейха строить новую жизнь…»
— Ловко сочинили этот, как его?
— Ауфруф, — подсказал комиссар.
Давид Исаевич задумался. Потом поднял глаза, усмешка сошла с его лица.
— Ну и благодетели! Думают, советские люди так и поверят этому вранью и встретят их хлебом-солью. Ничего, скоро фрицы поумнеют… И начнут соображать, куда их Гитлер затянул, — Давид Исаевич аккуратно разорвал немецкую листовку на клочки и бросил по ветру.
Между тем немецкие дальнобойные орудия уже обрушили первые свои снаряды на предместья Орджоникидзе. Одновременно вражеская авиация начала бомбардировки городских кварталов. Почти сотня фашистских танков уже кружилась у внешнего кольца орджоникидзевского укрепленного района и в конце концов прорвала его у селения Фиагдон. Враг потерял в воздушных боях восемнадцать самолетов, тридцать танков наши солдаты уничтожили на земле. Но фашисты напирали и напирали, им удалось захватить Гизель. Еще несколько таких ударов — и Орджоникидзе падет. Это вынудило штаб северной группы войск закавказского фронта начать контрнаступление раньше, чем это было запланировано.
Уставший от ожидания Давид Исаевич с радостью воспринял приказ включиться в эту операцию со своей батареей. Вот теперь-то, в последних ожесточенных боях, он понял, что пришлось испытать защитникам Орджоникидзе при отражении вражеского прорыва.
Немецкая группировка войск, прорвавшаяся к Гизелю, была прижата к подножию гор — окружить ее полностью не удалось. Она сумела удержать узкий коридор и старалась его расширить всеми силами. Особенно тяжелые бои происходили в селении Майрамадаг, у входа в Суарское ущелье. Через него гитлеровцы смогли бы просочиться к Военно-Грузинской дороге, которая была главной артерией снабжения наших войск. Мало того, через Майрамадаг враг получил бы возможность вводить подкрепления своим силам, прорвавшимся в Гизель.
Сражение под Майрамадагом было неравным: враг обладал здесь силой, во много раз превосходившей наши. Защищали Майрамадаг курсанты военно-морских училищ, сведенные в стрелковую бригаду. А противостояли им не только отборный фашистский полк «Бранденбург», но и румынская горнострелковая дивизия. Обладали они большой огневой артиллерийской поддержкой. Кроме того, в их распоряжении были танковые части.
Курсанты оказали упорное сопротивление противнику, но силы их таяли, и штаб северной группы решил послать в Майрамадаг десятую гвардейскую бригаду, а заодно и дивизион, приданный бригаде как самостоятельная артиллерийская часть.
Давиду Исаевичу вновь крупно повезло.
15
На столе стояла хрустальная, в малиновых подтеках ваза с фруктами. Здесь и груши восковой желтизны, матовые, словно подернутые изморозью, сливы, крупные антоновки, источающие острый и волнующий запах, сочный виноград, в котором просматривались темные косточки зерен.
Вызывающе яркий натюрморт дразнил Евдокию Петровну. Она протягивала руку то к гранату, то к хурме. Разрезала плоды на части, осторожно, с какой-то опаской отправляла в рот мясистую хурму и пурпурную шрапнель граната. Потом косточки сложила в пепельницу с русалкой на дне, под которой темнела надпись — «Элегия».
Все стены и простенки жилья Норшейн занимали книги. Лишь в гостиной их вытеснил ковер — многоцветный, видимо тяжелый, он стремительно несся вниз от самого потолка, водопадом перехлестывал через диван и разливался по полу так, что вся мебель, будто на плаву, зыбилась и покачивалась на волнах его разноцветья.
Сама хозяйка в платке зябко жалась к валику дивана — не поймешь, рада она гостье или нет, стучала пальцем по коробке с папиросами.
— Как же мы с вами, Евдокия Петровна, две бабы с одним мужиком не совладали, — удивлялась она. — Не сумели заарканить сюда Давида Исаевича.
— Упрямый он, — засмеялась Коростенская, наслаждаясь кислинкой гранатового зерна. — На все хватает у него времени. Только не на себя.
— А не ваше ли это упущение? Вы должны беречь его. — Не дождавшись возражения, Анна Арнольдовна продолжала: — Критикуете вы супруга на самом высоком уровне, — слова свои она смягчила улыбкой. — Не боитесь, что ему это может надоесть и он тю-тю, дверью хлопнет?
— А, скатертью дорожка!
— Однако. Что вы такое говорите? Муж он ведь вам…
— Впрочем, я о таком варианте не думала, — спохватилась Коростенская. — Никогда. Просто в голову не приходило.
— Это хорошо, что вы так уверены в себе, — констатировала Анна Арнольдовна и сызнова прикрылась улыбкой, да так — дурак подумает, рада, ну а умный поймет, что смеется. — Мужики, в общем-то, порода гордая и обидчивая, от них всего можно ждать.
Коростенская положила на стол нож, которым четвертовала фрукты.
— У Давида Исаевича совсем нет самолюбия, — вздохнула она.
— Вам видней, — переменила позу Анна Арнольдовна.
— Много у меня доказательств. Всяческих. Последнее — его диссертация. И не собирается защищаться.
— Зачем вам его диссертация? — в упор спросила Норшейн.
— Да не мне, ему она нужна, — объяснила Евдокия Петровна. — Иначе чувствовал бы себя. Прочнее, уверенней. Да и свой ФОП бросил бы. Избавился бы от этого беличьего колеса.
— Вы, оказывается, ярый фопофоб, — сказала Норшейн.
Раздувать спор ей не хочется, но и уступать она не любит. Пусть Давид Исаевич остепеняется. И пусть ФОП процветает. Этот факультет, как на него ни посмотри, штука полезная. Не только потому, что дает студентам дополнительный запас духовных богатств. ФОП помогает заполнить свободное время — эту ахиллесову пяту нашего общества. Плясать, петь, музицировать — все это лучше, чем водку хлебать, развратничать по углам и хулиганить.
— Вы слишком мрачно оцениваете положение, — запротестовала Евдокия Петровна. — Я располагаю более ободряющими сведениями — студенты учатся.
— Ну да, зубрят накануне экзаменов, — Анна Арнольдовна снова начала возиться на диване, стараясь принять удобное положение, поджала под себя ноги. — Извините, я закурю.
— Имела бы право, не разрешила бы, — заметила Евдокия Петровна.
— Хочу бросить, да все времени не хватает.
— Трусите потерять стаж курца, если снова начнете?
— Да нет. Просто дурная привычка. Всю жизнь страдаю из-за нее. От кого только не попадало. Вся в синяках. Мама намучилась со мною. Чуть ли не каждую неделю в школу вызывали. Отчаялась она. Вернется, бывало, лица на ней нет, ворчит: «Говорила ведь тебе, не кури хоть в школе. Ну зачем же в школе куришь? Кури дома, никто не ругал бы…»
— Теперь кое-что проясняется. Это ваше увлечение голосу не вредит?
— В оперные певцы не собираюсь, — помрачнела Анна Арнольдовна.
Она надеялась, что гостья похвалит ее. И действительно, Евдокия Петровна совершенно искренне сказала:
— Пение ваше великолепно. Завидки берут.
— Что мне завидовать? Вот вам позавидовать можно. Вы любимы. А это кое-что да стоит на земле.
— Возможно. Наверное. В мои-то годы разве такими вопросами мучаются?
— Женщина есть женщина и остается ею до конца.
Анна Арнольдовна поднялась с дивана, прошлась по ковру, остановилась около гостьи. «Давид Исаевич в разладе с самим собою, — думала она. — И другим возле него нелегко. Нет ему, видимо, покоя дома. Не понимают его, не холят…»
Шевельнув виноградную кисть в вазе, Евдокия Петровна отщипнула ягоду, покачала ее на ладони, словно взвешивала, но ко рту не поднесла. Ей почему-то вдруг стало трудно думать о муже. Не хочется думать о нем в присутствии Норшейн, и она перевела разговор в другое русло.
— Вы верно заметили, что я студентами любуюсь, — сказала она. — А ведь вы еще хотели добавить, что и собою тоже. Так?
— Если такое любование дополняется требовательностью к себе, не вижу в этом ничего плохого.
— Ах, как хочется быть талантливой, — вздохнула Евдокия Петровна. — Иногда все тебе удается, но порою бываешь такой тупицей, страх берет.
Она переплела пальцы рук и говорила о том, до чего это тяжело — к занятиям готовиться. Всякий раз словно гору сворачиваешь. И не только потому, что у требовательного преподавателя всегда будут нерешенные вопросы. Сегодняшняя удача — на миг. Завтра надо завоевывать новую. Иначе ты в своих глазах и в глазах студентов — ничтожество, повторяющее азбучные истины. Собраться еще половина дела. Как подать готовое, подать интересно? Читаешь вроде бы горячо, из кожи вон лезешь, а у слушателей холодок какой-то, сидят, ладошкой рты прикрывают. Поневоле вспомнишь Ушинского: «Воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою принуждения, убивает в ученике охоту к ученью, без которой он далеко не уйдет…» Ну а как быть, если видишь, что, как ни стараешься вызвать эту самую охоту к ученью, не удается?
Норшейн заволновалась: «Вот и Ушинского вспомнила. Зачем это? А ведь могут Евдокию Петровну назначить заведовать кафедрой — волевая, по-настоящему интересуется наукой да и за дело свое болеет. И что делать? Как сорвать эту возможность? Все-таки дружба дружбой, а табачок свой».
— Часто кажется мне, студенты знают больше меня, — сказала Евдокия Петровна. — Вам знакомо такое чувство?
«Мягкая какая. Мягкие — самые опасные, — отметила Норшейн. — Нельзя допустить, чтобы она обскакала меня», — твердо решила она, а вслух произнесла:
— Мне сегодня приснилось, будто я взяла проверять студенческие конспекты моих лекций. И что я вижу на полях? Замечания вроде: «Ерунда!», «Вот чепуху лепит!», «Этого еще нам не хватало!» Привидится же такое.
— Сложно со студентами стало, — кивнула головой Евдокия Петровна.
— Наладить нормальные отношения с ними — мука. Постоянно у них вопросы, да с подковырками, подвохами. Можно ждать самого неожиданного. А что мне от них надо? — Анна Арнольдовна приложила руку к груди. — Да ничего особенного, чтобы не были негодниками.
— А стали бы угодниками, — врастяжку произнесла Евдокия Петровна.
Анна Арнольдовна нахохлилась:
— Однако опасный язычок у вас. — И сникла: — Вам не навязывают лекций для населения?
— Я читаю. Отказаться — совестно как-то.
— А меня уже не хватает на популяризаторство, оно у меня вот где, — Анна Арнольдовна показала на шею.
Хотя Евдокия Петровна и не уклонялась от вопросов, выставленных Норшейн, однако не поддержала их в той мере, какой та добивалась. Анна Арнольдовна мысленно решила, что гостья хитрит, неискренна с нею. Но она ошибалась. Коростенская ничего не скрывала — просто сдерживалась. Что-то неосознанное заставляло поступать именно таким образом. Наверное, по той же причине и распрощались приятельницы без особого радушия, суше, чем хотелось бы.
Заглушить противное ощущение скованности Коростенской не удалось и на улице. Разбередила душу Анна Арнольдовна. Какой неожиданный заступник у Давида нашелся!
Солнце вырвалось на минуту из рваных туч, просияло — и все вокруг, пусть на миг, пусть на мгновение, волшебно преобразилось. И осенняя хмурь, обласканная теплыми лучами, казалась не такой уж гнетущей, и слякоть не такой уж непролазной.
Коростенскую потянуло в свои любимые места за Окой.
Порозовевшая от ходьбы, Евдокия Петровна перешла по понтонному мосту через реку, окунулась в поредевшую по-осеннему рощу. Шагает она по бездорожью, сжимает кулаки в карманах укороченного по моде пальто и изредка облизывает кончиком языка толстоватые губы. Высокая и статная, она даже здесь, в лесу, не горбится, держится прямо. Горделивая посадка головы, суровое лицо могли бы придать ей надменный вид, но этого не происходит: она не кажется ни злой, ни жестокой. Ветви деревьев, вздрагивая, цепляются то за рукав, то за плечо, задевают соболью шапочку, брызжут дождевыми каплями. Тучи вновь грузно повисают над землей, с неба сеется мга, низовой ветер холодит колени.
Плотно легла на душу тяжесть. И сбросить нельзя, и нести невмоготу. Евдокия Петровна остро ощутила, что очаг, который она всю жизнь лепила в муках и радостях, домашний мир с его тревогами, с его заботами, злом и добром, очаг этот зыбится, рушится. Такого можно было ожидать с самого начала. Строила дом на песке. Для чего? Сама себя поработила. Она прислонилась плечом к тоненькой березке, прикрыла рукой глаза. И видит Давида на кухне — с засученными рукавами рубахи, небрежно запущенной в широкие полосатые пижамные штаны, у которых ослабла поясная резинка. Скользит взглядом по его подбородку, густо обросшему вперемежку рыжей и седой щетиной, по красным, со вздувшимися венами рукам, по кустикам волос в ушах. И этот человек, ее муж, с его участившимися склеротическими вспышками грубости, мог обжигать шепотом: «Никак не привыкну к тебе. Каждый раз — новая! Чудо!» Да, не остыл, не выдохся, не испепелил себя своими повестями и злосчастным ФОПом, не обомшел. Способен еще удивляться.
Прислонившись к березке, стоит Дуся и думает, советуется сама с собою.
«Отвечать обыкновенной преданностью на любовь — печально. Но что же делать? Пусть не любила, как он, но ведь всю жизнь прошла рядом. Труден был его путь, тяжел. Но разве он перестал быть интересным? Нет, не оскудел душой на своих перепутьях. Конечно, грубее стал. Я в этом виновата. И когда это началось? То ли когда на войну ушел, то ли когда вернулся домой, пришибленный, через Тагил, а не из Берлина? Или его доконали последующие десятилетия до реабилитации, пока он нес клеймо неполноценности, клеймо, ложившееся на всю семью. Да разве важно — когда? Гораздо опаснее, что и теперь он срывается. Упреками это не уймешь. Ясно солнышко нужно, теплые и нежные лучи… А где их взять? Но кто обещал, кто клялся: «С тобой навеки, до конца…» Или то с кем-то другим было? Или ошиблась и надо все исправлять? Никогда не поздно ведь? Этого ли она желает? И как бьют по сердцу эти внезапные вспышки гнева у Давида…»
Годы под гору катятся, а жизнь продолжается. Из последней командировки, куда ее приглашали официальным оппонентом на защиту диссертации, Евдокия Петровна привезла книгу профессора, который при встречах на различных научных конференциях бывал как-то особенно внимателен к ней. Дарственную надпись на своем объемистом труде профессор начинал так: «Дорогой Евдокии Петровне…» Мужу она подарком не похвалилась. Сунула его подальше в толчею стеллажа. Давид Исаевич случайно наткнулся на этот дар. Ни ему, ни себе Евдокия Петровна не смогла толком объяснить, почему скрыла этот подарок. А ведь он ничего не спрашивал, лишь поднял недоуменно брови. Она же обрушила на него обидные обвинения, и все об одном и том же — что он не умеет быть счастливым, что он хронический неудачник во всем. И это отражается на всех — на ней, на сыновьях. Безо всего можно — без диссертации, без повестей. Без счастья — нельзя, невозможно. Все таланты стоят одного — дара быть счастливым.
Погладив шершавый ствол березки, Евдокия Петровна укоряла себя: «Сама виновата, сама виновата во всем!» Медленно пошла в глубь леса. Мимо полунагих осин в тусклой позолоте листьев, мимо пышной оливковой ольхи с кривым стволом. С нее сорвались разом два скворца. И впервые за всю прогулку Евдокия Петровна услышала птичьи голоса. Грустью повеяло от них. Она на ходу проводила их глазами и споткнулась о корягу, чуть не упала и, подавшись вперед, неожиданно заметила гриб. Молодой опенок на тонкой ножке прятался под ржавым дубовым листом. Евдокия Петровна присела на корточки, подломила гриб, подняла, понюхала, раздувая ноздри. Сразу вспомнилось раннее, голодное детство с его частыми набегами в лес за божьим пропитанием. Перед глазами встала как живая сухонькая мама, печально машущая с большака потемневшим берестяным лукошком…
Вздохнув, Евдокия Петровна поднялась с корточек, отряхнулась и, легонько покачивая в ладони опенок, пошла к извивающейся вдоль реки черной тропе.
16
Домой, к Илюше, Давид Исаевич все-таки сразу не идет — пожалуй, женщины правы: пусть парень привыкает к самостоятельности — пригодится в жизни. К ребятам с физико-технического факультета он тоже не торопится. Они и без него справятся с записью на магнитофонную ленту, сами мастера в этом деле.
Давид Исаевич шел медленно, дышал свежим воздухом и вновь возвращался к своим далеким видениям. Он вспомнил, как ему повезло в сорок втором году, накануне Октябрьского праздника.
Приказ, который ему предстояло выполнить, внешне выглядел просто: поддержать огнем своей батареи боевую операцию, предпринимаемую третьим батальоном десятой гвардейской бригады. Операция была достаточно сложной — батальон должен через горы пройти в тыл к фашистам ко входу в Суарское ущелье и неожиданным ударом приостановить их натиск на Майрамадаг, где героически держали оборону курсанты военно-морских училищ. Третьему батальону ставилась задача оттянуть на себя силы противника, держать его в напряжении до тех пор, пока остальные силы десятой гвардейской бригады не прорвут рубежи врага и не выйдут лицом к лицу с гитлеровцами, рвущимися захватить Майрамадаг.
Поддерживать огнем третий батальон в создавшейся ситуации было непросто: тропою, где еле-еле проходит человек, протащить орудие невозможно, а других путей здесь, в горах, не было. Но приказ есть приказ, и его надо выполнять.
Решение Давид Исаевич нашел: орудия оставить на занимаемых позициях, а огонь вести по рации. В батарее есть две рации — одна во взводе управления, другая непосредственно на огневой позиции. Он, Давид Исаевич, радист и разведчик вместе с третьим батальоном пойдут в тыл к врагу. Управляя огнем, Давид Исаевич должен будет учитывать необычность своего расположения — помнить, что не он на своем наблюдательном пункте находится между его орудиями и врагом, а противник, и соответственно этому корректировать стрельбу.
Когда командование утвердило его предложение, Давид Исаевич радовался как дитя. И вообще его товарищам казалось порою, что в нем живут два различных человека. Один из них ведет точные специальные артиллерийские расчеты, не допуская малейших погрешностей, а главное — любую опасность встречает хладнокровно, спокойно, а другой — увлекающийся, горячий: при попадании снаряда в цель он бурно радуется, если же снаряд летит мимо, он выходит из себя, в ярости стучит кулаками по брустверу окопа. Но мало что кому кажется. Давид Исаевич просто человек непосредственный, уж таким создала его природа.
Третий батальон вместе с артиллеристами отправился в путь еще до рассвета. Утро застало их уже высоко в горах — посреди дороги.
День был красивый. Такие, наверное, встречаются лишь здесь, в горах, и лишь глубокой осенью. Вершина Казбека дымилась голубоватым дымком, небо казалось просто продолжением этого дымка.
Но, может быть, Давид Исаевич хмелеет оттого, что на душе прекрасно, что камень сомнения снят с сердца. Он шел, чуть наклонившись вперед, как обычно идут, когда поднимаются в гору. Он невысок ростом, но худоба делала его стройным, даже шинель выглядела будто на него сшитой, грубоватая солдатская шинель, подпоясанная простым, солдатским же, ремнем. На правой стороне ремня висела кобура с трофейным парабеллумом. Планшет прикреплен на тонком ремешке возле кобуры. На левой стороне — толстая полевая сумка. Сапоги Давида Исаевича начищены до блеска, просто сияют. Одно только не успел он сделать — побриться. Это, конечно, непорядок, но радость от этого не становится меньше. И странное дело: Давид Исаевич хорошо знал, что идет в бой, каким он окажется — никто предсказать не может, а настроение такое, будто он шел на праздник.
Атаковать врага третьему батальону приказано рано утром, поэтому устраивают привал в бараках бывшей рабочей колонии. Об этом командир батальона уведомил комбрига.
Неожиданно выясняется, что часть бараков занята — в них расположились беженцы.
В деревянном домике, куда Давид Исаевич зашел, его приветливо встретила молодая женщина с ребенком на руках. Мальчик крепко зажал в свои махонькие кулачки ее черные волосы и радостно стучал ножками по ее животу.
— Хочу еще! Ну, мам! Еще хочу! — просил настойчиво малыш.
Давид Исаевич стоял на пороге, не зная, что предпринять.
— Поедем, ма! — не унимался малыш.
И вдруг Давиду Исаевичу почудилось, что это звучит голосок Леонтика, издалека, из глухой татарской деревушки, тот взывал к нему: «Поехали, па!» И сразу же послышался ответ Дуси: «Тише, утешеньице мое, нельзя никому мешать, люди устали».
Давид Исаевич пошарил рукой в кармане, утром там еще лежали завернутые в платок несколько кусочков сахара. Больше нечем угостить ребенка.
Мальчишка рад гостинцу.
— Спасибо вам! — сказала женщина.
А малыш повторял как эхо:
— Пасибо!
«Забыл, как надо обходиться с женщинами и детьми», — размышлял Давид Исаевич растерянно.
— Что же вы стоите у порога? — воскликнула хозяйка. — Раздевайтесь-ка. Шинельку можно вон на том гвоздочке повесить, — указала она кивком на стену.
Долго отдыхать, однако, не пришлось. Возможно, резко обострилась обстановка под Майрамадагом, потому что командир бригады шифрованной радиограммой приказал третьему батальону начать наступление не утром, как предусматривалось первоначальным планом, а немедленно. Сигналом для начала операции послужат три залпа «катюш».
Сообщая об этом Давиду Исаевичу, командир батальона осведомился:
— В темноте трудно вести прицельный огонь, хотя бы попугать фрицев сможешь?
— Мы выпустим в небо осветительные ракеты, верю, что все будет хорошо, все будет в порядке, — ответил Давид Исаевич.
Тени мелькали в темноте. Скрытые шорохи будоражили тишину. Так, поди, шуршат ранней весной новорожденные ручейки под спокойным снежным покровом. Так затаенно поднимается к вершинам деревьев, к ветвям, к распускающимся почкам сок земли. Неба нет, только горы с обеих сторон. Давид Исаевич крался с автоматом в руках, за ним следом — его сопровождающие. Справа и слева, спереди и сзади — бойцы третьего батальона.
Вот наконец исходный рубеж. Отсюда будет предпринята атака на врага. Вспыхнули немецкие осветительные ракеты. В их мигающем желтоватом свете видны позиции врага.
Давид Исаевич просит радиста включить рацию.
Батарея отзывается тут же, очевидно, там уже давно ждут весточки от них.
Все с нетерпением ждут сигнала. Но залп «катюш» все равно раздался неожиданно. Ярко-красные костры расцвели на переднем крае противника. Гудит и сотрясается земля. Совсем рядом приподнялись и побежали вперед, гулко топая ногами, солдаты третьего батальона.
Давид Исаевич передает команды на огневые позиции батареи.
Напряженно всматривались в темноту артиллеристы. Вот он! Осветительный снаряд расколол ночное небо. Теперь можно действовать уверенней.
Ночью взрывы вообще звучат громче, чем днем. Кажется, что снаряды рвутся совсем рядом, у подножия гор.
Шквальный огонь батареи Давида Исаевича хорошо помогает бойцам атаковать фашистов, но настает момент, когда наши солдаты так близко подбираются к противнику, что огневая завеса грозит причинить урон не только ему. И Давид Исаевич вынужден прекратить огонь. Проходит миг, второй, бой продолжался. Давид Исаевич здесь теперь вроде лишний. Куда себя девать?
— Надо пойти вперед, узнать, как там дела, — сказал Давид Исаевич. Он пристально посмотрел на своих помощников.
Те не ответили.
— Только бы не потерять связь с батареей, — продолжил Давид Исаевич.
— Есть не потерять!
— Если станет возможным возобновить огонь батареи, я позвоню в штаб батальона и вы уже сами передадите мои команды на батарею.
— Есть!
— Сколько гранат у вас? Одолжите парочку…
— Товарищ командир, кто-то из нас пойдет с вами.
— Оставайтесь здесь вдвоем. Так будет лучше.
Давид Исаевич сделал шаг в темноту и исчез.
Все ближе и ближе визжат мины. Пули стучат в стволы деревьев. Воя, проносится мимо уха осколок. В эти звуки вплетается тяжкий вздох. Кто — то стонет. Слышится утешающий женский голос:
— Целы ноги твои, миленький. Ну, немножечко потерпеть надо, ты ведь мужик…
Давид Исаевич спросил у санитарки, которая тащила на себе молоденького бойца:
— Помочь?
— Как-нибудь сама справлюсь. Помочь надо тем, кто впереди. Тоже мне помощник нашелся, — в голосе ее явно пробилось раздражение.
Лишь теперь Давид Исаевич понял, что он, видимо, не прав. Надо было оставаться на своем месте. Но что-то толкает его вперед, может быть, резкое замечание санитарки.
— О, артиллерия! Хорошо, что ты здесь, — воскликнул радостно командир второй роты, увидев рядом с собой Давида Исаевича. — Понимаешь, потерял я связь с комбатом. Видишь трассирующие? Пулемет не дает поднять головы. Может, поможешь, бог войны, а?
Что ответить товарищу? Что он, Давид Исаевич, бессилен? Зачем же он пришел сюда? Поговорить? Думает Давид Исаевич лишь одну секунду.
— Пулемет уничтожу, — твердо сказал он.
— Очень обязан буду, — повторил командир роты. — Дай пару залпов.
«А я-то на твою линию связи рассчитывал», — горько усмехнулся Давид Исаевич.
И вот он уже ползет навстречу летящим огонькам. Эти светлячки — трассирующие пули. Кажется, что кто-то вблизи зажигает спички и искры сыплются на землю. Давид Исаевич держал в ладонях две гранаты. Немного мешает ему ползти автомат, болтающийся на шее. Сколько времени прошло? Минута? Вечность?
Когда Давид Исаевич подполз к вражескому пулеметному гнезду и приподнялся, чтобы швырнуть гранату, один из фашистских пулеметчиков заметил его, что-то крикнул, но поздно: раздались подряд два взрыва, и в то же время что-то невидимое со страшной силой ударило Давида Исаевича в плечо.
17
Возле красного уголка с двумя связками книг стояла Анна Арнольдовна. Она не спешила зайти туда, потому что видела в полутьме коридора Коростенского. Двигался он что-то слишком медленно, едва переставлял ноги. Издалека могло показаться, что он пьяненький. Однако Норшейн знала, что он не пьет. Потому-то и смотрела на него с изумлением.
Поравнявшись с Норшейн, Давид Исаевич остановился, встряхнул головой, чтобы вернуться из своих воспоминаний и прийти в себя. После этого он наклонился и прочитал надписи на корешках томов в связках Анны Арнольдовны.
— Изнемогаете под тяжестью науки? — произнес он.
— Коню овес не ноша, — засмеялась Анна Арнольдовна. — Изводишь единого слова ради тысячу тонн словесной руды.
— А я-то думаю-гадаю: где литературоведы набирают для своих трактатов столько словес? — улыбнулся Коростенский. — Весьма просто, оказывается: друг у дружки занимают.
— А как же иначе? — парировала Анна Арнольдовна. — Однако с толком, умеючи делают это. По бородатой аспирантской заповеди: «Не занимай у одного автора — это называется плагиат, и у двоих — не одалживайся, такое назовут компиляцией». Тащить — так не менее чем у трех сразу — тогда и сочтут диссертацией. Не менее чем у троих, Давид Исаевич. — Она опустила связки книг на пол, элегантно поправила обеими ладонями коротко подстриженные волосы: — Набрала уйму беллетристики и ума не приложу, как домой доставлю — льет, будто из ведра.
И опять Коростенский почувствовал, что эта женщина с переменчивыми глазами заставляет его держаться настороже. Давид Исаевич погладил усы.
Любопытно, что разные стихии могут уживаться в одном человеке. На днях жена познакомила его со статьей Норшейн, которую кафедра рекомендовала опубликовать. Статья была небольшая, около печатного листа. Перевернув последнюю страницу и прихлопнув ее машинально ладонью, Давид Исаевич понял, что ему хочется еще раз побередить рукопись. «Незаурядно!» — с удивлением подумал он. Труд Норшейн был полон оригинальных мыслей. Красиво сделала его Анна Арнольдовна. Почему он до сих пор не сказал ей об этом своем впечатлении, Давид Исаевич не мог себе объяснить. Значит, скажет сейчас:
— Прочитал недавно ваш манускрипт о взаимоотношениях Флобера и Толстого. Впечатляющая работа!
— А меня что-то в статье не удовлетворяет, — покраснела от удовольствия Анна Арнольдовна. — Что именно, не пойму. Когда пишешь, все кажется великолепным. Начнешь править — половину вычеркнешь. Я написала статью быстро и сразу же отдала на кафедру — торопили. Оттого и недовольство. От статьи отдохнуть надо было, отойти. Потом вернуться и опять по ней пером, да пешочком, без спешки. Незавидная доля мучить себя до мастерства, а никуда не денешься.
С любопытством посмотрел на нее Коростенский.
— Если вы репетировать, то начинайте, а то скоро студенты подойдут, — сказал он, немного помолчав.
— Э, этого опасаться не стоит. Времени мне хватит. Ваши любимцы, извините, не торопятся никуда, ни на лекции, ни на занятия вашего факультета — вообще не спешат учиться. Я сегодня зашла в общежитие, к студенткам второго филологического, и лишь одну, понимаете, одну, видела с книгой. Тогда я специально уж заглянула к ребятам с индустриально-педагогического факультета — двое потеют у чертежных досок, остальные — гуляют где-то. Не лучше и на первом курсе факультета учителей начальных классов. Я беседовала с этими первокурсниками. «Как у вас обстоят дела с наукой, девочки?» Смеются: «Грызем!» «Слишком много заданий получаем, — отвечают. — Столько надо сделать, что ничего не делаем». Я удивляюсь: «Так-таки и ничего?» «Боже упаси! — хохочут. — Если нас заставляют, вынуждены поворачиваться. Студент найдет всегда время, если на него как следует нажать». Вот так. Как вам это нравится?
— Совсем не нравится. Но я думаю, вы сильно преувеличиваете, — возразил Давид Исаевич. — Каждый думает, что его поколение было лучше…
— Люблю оптимистов, — улыбнулась Норшейн.
— Не буду вас больше отвлекать, — шаркнул ногой Давид Исаевич.
Но Анна Арнольдовна задержала его:
— Могу вам сообщить хорошую весть. Пришло приглашение на совещание деканов факультетов общественных профессий. Так что готовьтесь ехать в Ленинград.
Давид Исаевич просиял:
— Великолепно! Моя мечта!
— На ловца и зверь бежит. Как раз уточните: своим делом мы заняты или нет?
— Непременно.
— Намнут вам там, надеюсь, бока за ваши безбожные речи.
— Ничего! Выдюжу… Поспорим, подеремся за свои принципы. Они стоят того.
— Ах какой вы неуемный! Ну что вам еще надобно? Есть ФОП, и слава богу. Требуют сверху, чтобы он был, — он и есть. Не хуже, чем у людей. От каждого по способностям. Довольствуйтесь тем, что есть, — уговаривает Норшейн Давида Исаевича. — Пока что самое ценное на вашем ФОПе — художественная самодеятельность. Напрасно вы стараетесь отлучить ее от себя.
— Учить студентов умению организовать — наше дело, — убежденно сказал Давид Исаевич. — Организовывать! А не фабриковать для самодеятельности номера. Нельзя превращать ФОП в какого-то поставщика программ ее величеству худсамодеятельности. Руководителей для нее готовить — наша задача.
— Предположим, — усмехнулась Норшейн. — Но руководители, которых вы создаете, обязаны сами уметь танцевать, петь, играть или нет? Так пусть они и пляшут на концертах, смотрах, пусть поют, пусть играют. Чем плохо?
— Да совсем не плохо. Но не это главное на ФОПе. А у нас именно с концертной, потребительской точки зрения оценивают работу ФОПа.
Раззадоренный Давид Исаевич увлекся, Норшейн не перебивала его, внимательно слушала.
— Сложная задача стоит перед студентом педагогического вуза — приспособиться к школе. Привыкание к ней — дело непростое. Требует педагогических способностей и педагогической направленности. Если этот процесс совершится благополучно, то потом школа сумеет абсорбировать, впитать в себя молодого учителя — не надо будет опасаться педагогической несовместимости. Основная трудность здесь — разрыв между желанием и умением студента действовать в школьной среде. Прививая ему навыки работы с детьми, ФОП разрыв этот в состоянии заблаговременно сократить — не только вторую профессию дать, но и утвердить в выборе первой, главной, то есть стать хорошим учителем, — закончил Давид Исаевич.
Норшейн слушала и думала о том, что Коростенский мог бы при желании интересно обобщить свой опыт. Не лежит у него душа к исследовательской деятельности. А жаль, многое теряет. Правильно сокрушается Евдокия Петровна.
— Отважусь подбросить вам идею, — сказала Норшейн. — Писать вы умеете, мысли у вас есть. Изложите свои идеи о формировании навыков общественной работы студентов на ФОПе в виде реферата. Чем не тема? А главное — нужная, актуальная и безусловно диссертабельная. Того, кто возьмется за нее, ждет успех. Вас — тем более. Вы все можете. Не святые диссертации защищают, дорогой мой…
Давид Исаевич грустно взглянул на раскрасневшуюся Норшейн:
— И вы о том же… И вам не нравится, что нет у меня научной степени. Из одних офицеров армия состоять не может. Без рядовых никак нельзя. Или я и в солдаты уже не гожусь?
— Солдат вы надежный. Пора вас повышать, другое звание давать, — пошутила Анна Арнольдовна.
— Не до жиру, — махнул рукой Давид Исаевич.
Нынче весной кафедра основ производства слушала его сообщение о развитии пространственных представлений на занятиях по начертательной геометрии. Похвалили единогласно: углубить рукопись, вот тебе и основа диссертации. С таким, мол, добротным сочетанием высшего образования, как у него — инженерное и педагогическое, — прямой путь к защите, значительное всегда вырастает на стыке интересов, вдруг свежее слово в вузовской методике прозвучит. Скорее всего все правы — и жена, и товарищи по кафедре, и Норшейн. Человеку следует предъявлять самые большие требования. Но ведь и он пощады заслуживает. Бесчеловечно толкать его на подвиг, который он совершить не в силах. Разве он виноват, что такой у него характер? Ну, человек он не без способностей. Допустим. Поэтому и сумел стать инженером. Вот теперь деканом назначили. Неужели этого мало? Вполне достаточно для него, если он делом своим доволен и выполняет его добросовестно. Неважно, что оно самое махонькое. Важно, что оно нужное людям.
Сквозь квадраты роговых очков глаза Коростенского, увеличенные линзами, казались неправдоподобно большими и печальными.
— Вам поесть пора, Давид Исаевич, — вдруг весело заявила Норшейн. — Вы целехонький день в институте крутитесь, на ногах, без маковой росинки во рту!
— У меня своя система питания, — пошутил Давид Исаевич. — С рассветом завтракаю, обедаю и ужинаю сразу, заодно все. Рекомендуется еще при этом для стойкости наливка из-под бодливой козы. Но от этого молочка у меня очи лопаются.
— Тогда пожалуйста ко мне на репетицию. А?
В красном уголке Коростенский помог Анне Арнольдовне взгромоздить связки книг на подоконник широченного окна. Она сняла и повесила кофточку на спинку стула, оставшись в прозрачной розовой блузе, стянутой на шее щегольски тоненьким шнурком.
Программа Анны Арнольдовны была весьма разнообразной. Упорно отрабатывала ее Норшейн. Много раз возвращалась к одним и тем же местам. Не давала себе отдыха. Но для Давида Исаевича работала легко, весело, стараясь понравиться. Сначала шли лирические песни, потом начались шуточные. Будто от испуга вздрагивает у ней плечо, круто изгибается бровь, и Анна Арнольдовна лукаво начинает рассказывать, какая она бедовая. Глаза ее бесовски загораются. Аккомпанирует она сама себе великолепно.
«Молодчина! — наслаждается Коростенский. — Все прощаю ей, когда она поет. Даже ее ехидство».
Внезапно Норшейн умолкла, свела брови и в упор спросила Коростенского:
— Материнский язык еще помните?
— Давно не употреблял, — усмехнулся Давид Исаевич.
— Ну что же, тогда послушайте.
Норшейн извлекла из пианино несколько беспокойных аккордов, и Давид Исаевич замер. Незнакомые, но в то же время близкие и дорогие звуки буравили душу. Он изумлен. Оказывается, он помнил все слова песни. Затаившись в глубинных далях памяти, еврейские слова выскакивали одно за другим, словно и не было долгой разлуки с ними:
Эх ты, глупый парень, Дурья голова, Где ж ты это видел — Дым да без огня?Анна Арнольдовна выводила низким голосом:
Не слыви богатой И не будь красивой, Умной не родися — А родись счастливой.Давид Исаевич молчит. И Норшейн не может разжать губы. Руки ее неподвижно лежат на клавиатуре.
Наконец Коростенский слышит невнятное:
— Давид Исаевич, оставьте меня одну, прошу вас.
Давид Исаевич тихо выходит.
Анна Арнольдовна подняла голову, раскрыла нотную тетрадь и начала резкими штрихами выводить строчки нот, перебирать замысловатую вязь нотных значков — внесла поправки в нотную запись старой комсомольской песни об умирающем бойце. Мелодия грустной и трогательной баллады о сыновней верности родной земле, до мельчайших тонов знакомая и в то же время какая-то обновленная, накатывалась современными ритмами. Именно их-то Анна Арнольдовна и добивалась. Ей нравилось ощущать себя умельцем, чувствовать, как созвучия покорно подчиняются. Сознание того, что работа удается, радовало вдвойне. Песня, пожалуй, увлечет ребят, они ее с охотой запоют. Доволен будет и Давид Исаевич, ради которого она, в сущности, эту песню и обрабатывает…
Песни Давид Исаевич любил сызмала. Память сберегла картину, как курчавый толстоногий мальчуган в выцветшем костюмчике вышагивает по желтым широким доскам, громко напевая:
Смело, товарищи, в ногу, Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу Грудью проложим себе.Малыш пел для хозяйки дома, где его семья снимает крохотную комнату, честно зарабатывая себе кусок пирога. Этим куском и поманила его хозяйка, толстая, с большим сытым лицом:
— Споешь хорошо — получишь целый кусок, Додик! Хочешь?
Еще бы не хотеть. У мамы с папой таких чудес не бывает. И он маршировал — суровый, решительный, размахивая руками в такт песне. Он очарован ею, но знает только одно четверостишие и повторяет его трижды. Ему кажется, что он потрудился достаточно, он замолкает, останавливается перед ухмыляющейся хозяйкой.
— Что же ты замолк, бушевик? — с ударением на последнем слоге, насмешливо спросила хозяйка. Он не догадывается, что хозяйка бушевиками называет большевиков, не чувствует в ее голосе подвох и настораживается:
— Еще надо?
— А как же, я за свое беру сполна, с барышом. Ну пошел, ать-два…
И малыш начал сначала: «Смело, товарищи, в ногу…»
— Махлюешь, бушевик, горькое семя. Ничего тебе не дам. Кыш!
Ошеломленно молчит Давидка. Слезы капают из глаз.
Потом он весело распевал свои песни на школьных утренниках и в «Синей блузе» — агитбригаде, которую райком комсомола посылал в создаваемые колхозы. Много лет спустя, в артиллерийском училище, Давид по команде: «Запевалы, вперед!» — выбегал в голову колонны и заводил эти песни на строевой подготовке, по пути из казармы к конюшням, где курсанты скребли да чистили мобилизованных колхозных лошадок, готовя их в орудийные упряжки. Голос у него был не ахти какой сильный, но он старался, вроде бы получалось что-то подходящее, курсанты поддерживали его, подтягивали, и особенно лихо, когда шагали в столовую. Так что песня всегда была с Давидом Исаевичем рядом.
Давид Исаевич осторожно вытащил из целлофановой обертки любимую пластинку и мягко поставил ее на проигрыватель. Вот и зазвучала старая мелодия, которая будит давние, негасимые чувства. Давид Исаевич прикрывает глаза.
А в прихожей очарованно слушал сын. Он только что вернулся с улицы и не успел еще переобуться.
Ощутив его присутствие, Давид Исаевич повернул голову, улыбнулся из-за плеча. Восхищение Ильи радовало. Не забыл, значит, пахнущие порохом мелодии, которыми его когда-то убаюкивали. Может быть, поэтому, когда ребенок просит повторить песню, Давид Исаевич без колебаний разрешил ему самому второй и третий раз крутить заветную пластинку. Он лишь предупредил:
— Смотри аккуратно орудуй. — Потом вспомнил: — А кто ведро мусорное вынесет?
Сгоряча Илья уже было собрался крикнуть свое обычное:
— Вот еще. Не буду. Я вам не раб!
Он ужасно не любит, если что-то неожиданно путает его планы. Но, однако, спохватился и взмахнул рукой:
— Счас, па! — Бросился выполнять просьбу.
До проигрывателя Илья еще не достает — приемник стоит на высокой тумбе. Мальчик придвинул к ней стул, взобрался на него, нажал клавиши. От блаженства потер ладони, затем присел рядышком на стол, уткнув ноги в полумягкое сиденье стула.
Пришла мама, прошла к стеллажу за нужной книжкой и недовольно покосилась на тапки, которые валяются около кресла вверх подошвами.
— Не тряси! — выкрикнул свою мольбу Илья. — Игла прыгает. И тут же спросил: — Ма, мужчина женится, да? А женщина что, мужчинится?
К подобным вопросам Евдокия Петровна давно привыкла. Отвечала всегда искренне, с обстоятельностью настоящей учительницы. Одним ухом Илья слушает мать, другим — пластинку.
— Не пора ли нам музыку заканчивать, — сказала Евдокия Петровна. — Мне работать надо, да и поздно уже.
— Вот ты всегда так, только о себе думаешь, — захныкал Илья, оглянувшись на отца, который появился из кухни.
— Все мало тебе? — произнес отец, ласково положив руку на плечо сына.
— Еще один разочек.
Губы Давида Исаевича раздвинулись в улыбке, он вопрошающе посмотрел на жену:
— Позволим еще разок прокрутить?
Евдокия Петровна молча уходит к себе в комнату. Давид Исаевич поплелся за ней.
— Сколько раз я тебя просила, — шепотом набросилась она на него, когда он прикрыл дверь к Илье. — У нас должно быть единство требований.
— Но ведь парень прав. Иногда кое-чем надо поступаться.
— Опостылело мне жертвовать, — нахмурилась Евдокия Петровна. — Не приносит это ни радости, ни пользы.
Сердилась Евдокия Петровна на сына, обидевшего ее, скорее всего невзначай, но все же упрек Ильи сильно задел ее. Она пыталась подавить в себе раздражение, но рядом стоял муж, и она не сдержалась. А если в семье что-либо не ладилось, как правило, всегда был виноват Давид Исаевич. А он все упреки принимал как должное.
— Ну и специалист же ты по делам, которые ни богу свечка, ни черту кочерга, — процедила Евдокия Петровна сквозь зубы. — Зачем пошел на поводу у Ильи?
— Я поддержал его потому, что желание ребенка было разумно.
— Значит, мое желание было неразумно и грубость его позволительна?
Давид Исаевич вздохнул:
— Правда вещь нелегкая.
— Она должна помогать жить, а не вредить, — отрезала Евдокия Петровна. — Это, между прочим, и к твоей писанине относится. Пишешь черт знает что, неведомо для кого. Зачем ворошишь тагильские воспоминания? Кому они нужны, эти мемуары времен не столь отдаленных? Жизнь давно отвергла эту тему.
— Запретных тем у нас нет, по крайней мере, официально.
Возражал Давид Исаевич вполголоса, сдерживая себя. Если он сумеет вылепить образ молодого человека на трагическом изломе его судьбы, живым, деятельным, не сломленным, сохранившим человеческое достоинство, может быть, кое-какую пользу воспоминания принесут. Никогда не лишне показать, что в самых сложных, самых тяжелых ситуациях люди могут оставаться людьми в самом высоком смысле этого слова. Давид Исаевич видел много искореженных несправедливостью жизней и верил, что книга в тагильском лагере будет нужна людям.
С раздражением покосилась на мужа Евдокия Петровна:
— Мало битый, да? Забыл, до чего довела тебя писанина? Дополнительным пунктиком в приговоре военного трибунала обернулась. Другой бы на твоем месте раз и навсегда плюнул бы на нее, ни за что не брался бы за перо больше. И вообще эти твои литературные забавы — уродливый горб на тебе.
Давид Исаевич что-то говорил, но жена уже не слушала его — она понимала, что несправедлива к мужу, и поэтому прислушивалась к себе. Что же все-таки происходит? Почему она так взвинчивается? Почему не может сдержать себя? Ведь сколько лет мирно, спокойно жила. И радости были, и взаимная нежность была… Жила — не притворялась. А может быть, просто обманывала себя… Вот и прорвалось теперь все наружу.
18
Пулемет врага Давиду Исаевичу удалось уничтожить, но и сам он был ранен — вражеская пуля пробила плечо. К счастью, рана оказалась легкая, пуля кость не задела, и Давид Исаевич остался на поле боя.
Увидев вновь возле себя Давида Исаевича, командир второй роты хлопнул его по плечу, и именно по раненому, так что Давид Исаевич слегка присел.
— Спасибо тебе. Стреляешь ты хорошо. Комбат тебя ищет. Моя телефонная линия уже заработала. Сейчас тебя соединю.
Давид Исаевич кивнул и спросил:
— Индивидуальный санитарный пакет есть у тебя?
— Зачем тебе?
— Мне кажется, не мешало бы перевязать плечо.
Только тут ротный заметил, что плечо у Давида Исаевича мокрое от крови. Вызвали санитарку. Пока она расстегнула его гимнастерку и стащила ее через голову, ротный поднес Давиду Исаевичу трубку полевого телефона.
— Командир батареи на проводе, — хрипло сказал в трубку Давид Исаевич.
Комбат сообщил, что первая рота срочно нуждается в помощи. Давид Исаевич спросил, нет ли поблизости от КП артиллерийских радистов. Комбат ответил, что они ждут приказаний Давида Исаевича. И Давид Исаевич, наскоро оценив обстановку, скомандовал:
— Ориентир номер три. Один осветительный снаряд, батарея — огонь!
Вскоре четырехламповая осветительная люстра вспыхнула над вражескими позициями против первой роты, прижатой к земле. Теперь-то Давид Исаевич превосходно видел опорные гнезда фашистов, которые необходимо уничтожить, чтобы рота могла подняться и атаковать. Давид Исаевич насчитал шесть таких целей. В первый миг он подумал, что следует открыть огонь сразу по всем гнездам противника, для чего каждому орудию дать свою цель. Но интуиция подсказала ему другое решение: каждое опорное гнездо давить всей огневой мощью батареи. Первый удар Давид Исаевич нанес по центру вражеских позиций. Это был удачный залп — загорелось сразу два фашистских танка, составлявших как бы основу опорного гнезда.
— Ага! Горят гады! — не выдержал Давид Исаевич, взмахнул больной рукой и тут же поморщился от боли.
Теперь, после первой удачи, он уверенно перенес массированный огонь своей батареи на второй опорный пункт, на третий, пока командир батальона не попросил его прервать обстрел: первая рота поднимается в атаку и снаряды могут задеть своих…
Утром выясняется, что десятая гвардейская бригада двойным ударом с фронта и тыла выполнила свое боевое задание — помогла защитникам Майрамадага отстоять вход в Суарское ущелье. Давид Исаевич был счастлив — есть и его доля, причем немалая, в успехе бригады.
19
К Коростенским Анна Арнольдовна зашла без предупреждения, какая-то взбудораженная, возбужденная. Узнав, что хозяйка дома назначила студентам консультацию, поскучнела.
— Опять в упряжку. Жаль, не предполагала, — произнесла она разочарованно и пристально посмотрела на Евдокию Петровну, поправлявшую прическу.
— Девочки просили, — отозвалась Коростенская.
— Возитесь вы с ними много. От этого насквозь отупеть можно.
— Есть и хорошие студентки.
— Находите? Мне еще не удалось среди серятины выудить яркую личность. Кто к нам идет? Отсевы, цыплята хилые, в рот им знания клади, да еще и в глотку протолкни, иначе не проглотят, — Анна Арнольдовна пожала плечами. — Поэтому не храм науки у нас — кустарная мастерская. Жаль, что вечер не получился у нас. Очень хочется чего-то такого, как бы это сказать?
— Большого и чистого? — насмешливо буркнула Евдокия Петровна.
— Да, хочется. Хочется мне сейчас пройтись по свежему воздуху. Не настроены с дамами прогуляться? — бросила она кокетливо через плечо Давиду Исаевичу.
— И верно. Пойдем, Давид, — поддержала ее Евдокия Петровна и с намеком добавила: — Тебе почаще надо проветривать мозги свежим воздухом.
Спускаясь по лестнице, Анна Арнольдовна споткнулась, вскрикнула, ухватилась рукой за пальцы Давида Исаевича, крепко сжала их и держала так в своей руке до последней ступеньки.
— Хоть бы какую-нибудь лампешку повесили здесь, — пожурила она его. — Тут сам дьявол ногу сломает.
Во дворе тоже темно — свет уличных фонарей еще не зажжен. Подхватив Коростенских под руки, Анна Арнольдовна пожаловалась:
— Придется вечерок погрустить. Милое наше захолустье. Приятно мне бывает только у вас.
Поравнявшись с институтским зданием, Анна Арнольдовна выпустила ладонь лишь из-под руки Евдокии Петровны. Давида Исаевича слегка придержала.
— Проводите меня, пожалуйста. Никогда сами не додумаетесь до этого, — сказала Анна Арнольдовна осуждающе. — Евдокия Петровна, прикажите мужу проводить меня, темно ведь.
— С условием, чтобы остался цел и невредим, — улыбнулась Коростенская.
— Это обещаю.
Анна Арнольдовна подождала до тех пор, пока Коростенская не скрылась за остекленными дверями вестибюля. Какое-то непостижимое беспокойство охватило ее. «Становлюсь какой-то жадиной. Должно быть, потому, что достигла того женского возраста, когда все, чем дорожит живой человек, еще доступно, еще возможно, но дальше, — торопливо упрекнула она себя, — дальше на что надеяться? Перестала нравиться сама себе».
До самого своего дома Анна Арнольдовна не проронила больше ни слова, шла быстро, отрывисто дышала, прижимаясь к своему провожатому и увлекая его за собой. Лишь в подъезде, раскрыв сумочку, чтобы достать ключ, тихо произнесла:
— С вами и молчать — удовольствие. — И тут же, словно только что вспомнив об этом, сообщила: — Мне надо вернуть Евдокии Петровне рукопись ее брошюры. Прочитать мне давала. Зайдемте, вручу ее вам.
Не сразу смогла Анна Арнольдовна попасть ключом в замочную скважину.
Пропустив вперед Давида Исаевича, она с грохотом прихлопнула за собой дверь, быстро закрыла ее на замок. Шагнув в темноте к гостю, охватила ладонями его голову, жадно поцеловала его прямо в губы. Очень близко, в полумраке, Давид Исаевич увидел ее горящие глаза, полные страсти.
— Ну?! — просила, ждала и требовала действий Анна Арнольдовна.
Мгновение Давид Исаевич боролся с собою. Но только мгновение.
— Спокойной ночи, — прохрипел он, освободившись из сразу похолодевших рук Анны Арнольдовны и неловко попятившись к выходу.
Анна Арнольдовна резко опустила руки.
— Удивляюсь, как вас могли обвинить в предательстве Родины, — кинула она вслед Давиду Исаевичу. — Трус вы, а не отступник. Вы даже жене не решаетесь изменить…
Когда Евдокия Петровна вернулась с консультации, Давид Исаевич осторожно посоветовал ей:
— Ты Норшейн не очень-то привечай. Кабы чего… этого самого…
Опешив, Евдокия Петровна долго с удивлением смотрела в лицо мужа. «Кара за малодушие? — с горечью спрашивала она себя. — Возмездие в облике соблазнительной женщины? Чепуха! Исключено! Не таков Давид». И все же спросила своим тихим, ласковым, но дрогнувшим голосом:
— Неужто мне еще и об этом надо беспокоиться? Разве ты можешь себе позволить что-либо подобное?
Имея в виду не будущее, а прошлое, Давид Исаевич проговорил:
— Конь о четырех ногах и то спотыкается…
20
Был случай, казалось, прочно забытый. Но вот дрогнул Дусин голос и невольно напомнил Давиду Исаевичу то, что стряслось с ним давным-давно, во вьюжную февральскую ночь…
В тот день гвардейскую стрелковую бригаду, первой ворвавшуюся в кубанскую станицу Дядьковскую и поредевшую в боях, вывели во второй эшелон вместе с отдельным артиллерийским дивизионом, который ее поддерживал.
Батарея Давида Исаевича расположилась на горбатой окраинной улице, поставив и замаскировав орудия так, чтобы в любую минуту можно было открыть огонь, — немцы, огрызаясь, частенько контратаковали.
Квартиру для Давида Исаевича связной подобрал чистенькую, тихую, светлую, рядом с хатой, которую занял взвод управления. Мельком оглядев ее, Давид Исаевич остался доволен. Можно будет отоспаться — в доме одна хозяйка, мешать некому. Да и хозяйка, видать, нелюдима, прячется где-то. Тем лучше. Он жаждал тишины и надеялся получить ее.
Весь день отняли нужды батареи. К себе он пришел поздно. Обедал у командира дивизиона, ужинать не хотелось, мечтал об одном — поскорее растянуться на койке. Не так уж и много просил он у судьбы, но и этой малости взять не удалось.
Хозяйка встретила его на пороге прихожей, освещенной небольшой керосиновой лампой. Принимая от него шинель, она улыбнулась, и этого оказалось достаточным, чтобы он оживился и как-то сразу, напрочь забыл об усталости. Неведомо по какой причине, но ему хозяйка представлялась сморщенной седой старухой, а увидел он перед собой светловолосую тонкую красавицу в простеньком платье, с большими грустными глазами.
На обеде у командира дивизиона он выпил больше, чем обычно, а водка штука коварная: то толкает драться, то — целоваться.
Впрочем, хозяюшка не случайно очаровала Давида Исаевича. Она и впрямь была привлекательна, ладно сложена, действительно красива.
После ужина Давид Исаевич уже знал, что хочет от нее. Это открытие окончательно утвердилось в нем, когда они вдвоем выпили спирт, припасенный связным, а потом опустошили еще одну фляжку самогона, которую она извлекла из своих тайников и подала на стол.
Поначалу Давид Исаевич не собирался прикасаться ни к спиртному, ни к еде.
— А я выпью, — озорно объявила женщина. — И закушу.
Подняла стакан, без упрека, скорее даже с одобрением взглянула на постояльца, добавила звенящим голосом:
— За возвращение ваше! Чтобы николи больше не оставляли нас ворогу.
Сама потянулась рука Давида Исаевича к стакану, который был налит ему. Такой тост поддержать не грех. Чокнулись. И поплыл. Пил, ел, хвалил закуски, хозяйку. Во хмелю он всегда всем восторгался. О себе женщина говорила скупо: экономист, замужем побывала, и ребенок был, да помер. Давид Исаевич слушал, смотрел ей в глаза, тоски в них вроде бы не замечал. Он вконец опьянел — от всего: и от спиртного, и от того, что рядом сидела красивая женщина, и от того, что жизнь все-таки хорошая штука!
Постелила ему хозяйка на кровати с пружинной сеткой. Веки тотчас же смежились, как только он положил голову на холодную подушку и натянул на себя одеяло. Сколько дремалось, Давид Исаевич не знал. Разбудил его какой-то внутренний толчок. Он прислушался: хозяйка еще возилась на кухне. Глаза закрывались, но он уже не позволил им этого сделать. Лежал мечтал.
Женщина не спешила. Он определил это по звукам, доносившимся до него. И представил ее себе: в фартуке, волосы подвязаны косынкой, маленькие руки моют тарелки, стаканы, вилки… Он повернулся в постели. Одну подушку положила только. Неужели больше нет? Забеспокоился.
Раздались ее шаги. Вошла. Остановилась.
Давид Исаевич замер, затаился, предвкушая то, что должно вот-вот свершиться. Как оно будет?! Сладостный озноб пронзил его.
Хозяйка вздохнула, подумала, видно, что он спит, и полезла на печку. Вот, кажется, платье сняла, утихла.
Нетерпеливо ждал Давид Исаевич, но она не шевелилась. Тогда он подумал, что она жалеет его, не решается будить. И позвал ее.
В ответ послышалось всхлипывание.
Он соскочил с постели, одним махом взлетел к ней:
— Что случилось?
Не ответила.
Обнял ее — теплую, желанную.
— К чему это? — упрекнула сквозь слезы.
— Люблю.
— Хватит врать-то, знаю, что надо, — сдавленно отрезала она. — Впервые, видишь, выпимши… Все вы на одну колодку сделаны.
— Что с тобой?
— Ничегосеньки.
— Объясни все же, — попросил Давид Исаевич, ощущая, как холодеет голова и улетучивается хмель.
— Ну как я к тебе пойду, — чуть слышно простонала она. — Как… Если… Вчера еще…
Женщина шептала, рыдая, но уж лучше бы она криком кричала:
— Сволочи, фрицы проклятые, все растоптали, душу испоганили…
Сжав челюсти, Давид Исаевич гладил ее оголенное плечо, пока она не утихла.
— Радовались мы вам, спасители идут. Вот пришли. И что же это?
Все оборвалось неожиданно: прибежал связной Давида Исаевича и сообщил, что дивизион поднимают по тревоге.
Прощались они на крыльце, Ветер швырял им в лица охапки мокроватого снега. Он протянул ей руку:
— Страшно виноват перед тобой. Прости, если можешь.
— Храни тебя бог, — уткнулась она головой в его грудь.
Долго потом жило в нем презрение к самому себе за эту ночь: за слабость свою, за срам и боль, которые приняла она, за то, что чуть не предал Дусю, да что там — в сущности, обманул ее. Не так уж это, в конечном счете, важно, что не переспал он в ту ночь с чужой женщиной. Ведь по чистой случайности не сделал он того, что хотел и собирался сделать…
21
С осунувшимся лицом и опухшими веками Давид Исаевич подходил к деканату филологов, где его дожидалась Анна Арнольдовна. Несколько минут назад она позвонила ему по внутреннему телефону, позвала сухо:
— Я в институте. Собираюсь девочек натаскивать к смотру. Надо увидеться.
Ничего приятного свидание с ней принести не может — лишь разбередит вчерашнюю досаду. И все же Давид Исаевич решился пойти.
Встретила его Анна Арнольдовна уничтожающим взглядом, словно предупреждала: происшедшее между ними накануне вечером у нее дома не забыто, острота непрощенной обиды ничуть не сгладилась. Смотрела она расширенными глазами, но ненависть в них упрямо оттенялась болью, он был одновременно и противен, и дорог ей, она знала, что сейчас улыбнется ему, осуждала себя за это и ничего поделать с собой не могла.
И Давид Исаевич испытывал какое-то неловкое чувство к Норшейн, однако не мог не признаться себе, что в ней все-таки есть та прелесть, которая все время пленяла и его и Дусю. Обаяние Норшейн было такого рода, что невольно подчиняло себе. Однажды жена пожаловалась ему: «Норшейн растлевает меня. Когда она приходит, я становлюсь неискренней — не желаю, а стараюсь ей понравиться, поддакиваю ей». Подобное чудилось Давиду Исаевичу и сейчас.
— Не удивляйтесь, что пригласила вас сюда, — произнесла Анна Арнольдовна сухо, в упор глядя на Давида Исаевича. — Возле вашего стола всегда толпится много людей. А мне необходимо сказать вам пару слов без свидетелей.
Давид Исаевич нахмурился.
— В проекте праздничного приказа вашего имени нет, — продолжала с тревогой Анна Арнольдовна. — Нам, то есть мне и супруге вашей, и еще многим, в основном тем, кто сумел в свое время запастись степенью и званием, — всем полагается благодарность, а вам — ничего. Хотя я лично от имени месткома вас представляла…
— И шут с ней, с благодарностью, — скривил рот Коростенский. — Обойдется. Не ради нее работаю.
— Вы комик, Давид Исаевич, если не больше, — возмутилась Анна Арнольдовна. — Так нельзя. Надо себя уважать, отстаивать свою честь.
— Поощрения разве выпрашивают?
— Вы не меньше нас заслуживаете его.
— Начальству видней.
— Как хотите, я это дело так не оставлю. Сейчас разыщу Евдокию Петровну, на ноги партбюро подниму…
Свое намерение Норшейн осуществила. Прежде всего нашла Евдокию Петровну, напустила на Давида Исаевича.
— Вот, пожалуйста, добился, — шепотом, с плохо скрытым злорадством, попрекнула Коростенская мужа. — Тебе даже спасибо не говорят. Ты бы хоть теперь задумался.
— Это — потом, — вмешалась Анна Арнольдовна. Ресницы ее дрожат от напряжения. — Действовать надо. Нечего ждать милостей, заставим себя уважать!
— Меня оскорбить трудно, практически невозможно. Я стану презирать себя, если вы мне выхлопочете позолоченную пилюлю, — наотрез объявил Давид Исаевич.
— Нечего его слушать, — бесцеремонно прожурчала Норшейн. — Подождите меня где-нибудь здесь, Евдокия Петровна. Я — в партком.
«Все проходит — пройдет и эта боль, — думал Давид Исаевич, поглядев потускневшими глазами на жену. — Каждому свое. Кто я? Обыкновенный преподаватель, с которым никто не считается. Неужели и впрямь не так живу, как надо, не то делаю? И ФОП лишний в институте — пятое колесо в телеге? И усилия, потраченные на него, никому не нужны? А ведь ФОП беспощадно отвлекает и от преподавания, и от семьи, писать не дает, наконец. И все-таки беда не в факультете общественных профессий. Сам виноват, так поставил себя, что не ценят. Да и многовато взвалил себе на плечи, три воза даже двужильные тащить не берутся — только дураки…»
— Не огорчайся, Давид, — вклинилась во взъерошенные чувства мужа Евдокия Петровна. — Сделай правильные выводы из всего этого.
— Из чего этого? Что, собственно, произошло? — прищурился Давид Исаевич. — Благодарностью обошли. Так это еще вопрос: заслужил ли я ее? И уж если злиться, то только на то, что всё это меня огорчает.
— Не утешай себя. Тебя унизили. Факт. Но и поделом. Ты убежден, что творишь важное дело, ищешь новые пути активизации воспитания студентов, уверен, что выполняешь лучше других свои обязанности представителя старшего поколения — заботишься о молодежи, о ее будущем. Какое заблуждение! Барахтаешься в мелочах. Песни распеваешь, а надо все силы положить на то, чтобы учить будущего учителя быть учителем, дать ему профессию — единственную, цельную, монолитную, не разбавленную самодеятельностью, наподобие сопутствующих товаров в обувном магазине. Твои потуги — пустоцветы. Умные люди так и оценили их.
Вернулась Норшейн. Пригласила зайти в партком.
— Сейчас мне там делать нечего, — отказался Давид Исаевич.
— Тем более мне, — поддержала его жена, повернулась и ушла прочь.
— Прошу вас без этих, как их, спиралей, — заметила спокойно Норшейн. — Ждут ведь вас.
— Я занят, — уши Давида Исаевича побагровели.
— Ну-ка, ни с места. Стойте здесь. Я — быстро.
Она действительно вскоре пришла и протянула плотный лист грамоты:
— Вот, Давид Исаевич, смотрите. Это вручат вам на торжественном собрании. Справедливость взяла свое.
Давид Исаевич протянул руку, взял красиво оформленный похрустывающий лист, наклонился над ним. Каллиграфическим почерком в нем удостоверялось, что коммунист Коростенский Давид Исаевич в день всенародного праздника награждается партийным бюро грамотой за успехи в организации художественной самодеятельности института и руководство ФОПом.
Вдруг разрумянившаяся Норшейн ахает: Коростенский неторопливо порвал грамоту сначала на две части, потом на четыре и бросил клочья в мусорную корзину.
Несколькими минутами позже, когда они шли рядом по коридору, Норшейн выговаривала ему:
— Зачем вы так безобразничаете?
Он тяжело сопел.
— Вместо того чтобы я на вас сердилась, вы дуетесь на меня.
По глазам Норшейн было видно, что в ней происходила внутренняя работа мысли.
— Все может легко простить женщина, — шепнула Анна Арнольдовна. — Только не того, кто пренебрег ее любовью. А я здесь, с вами. Вы что-нибудь понимаете? Ничего-то вы не петрите. Но это к лучшему, наверное. Мне жаль вас. Несчастный вы человек, вас не любят.
— Начальство не должно любить своих подчиненных, — вяло ответил Давид Исаевич.
— Дурачком прикидываетесь? Вы же отлично знаете, о чем я говорю.
Давид Исаевич пожал плечами:
— Надо же, какой я все-таки тупица. Но теперь дошло. Ваше предположение злое. Однако упрощенное мышление здесь не подходит.
— Какой вы слепец!
— Прожитая жизнь что-то значит или нет? О чем-то свидетельствует?
— Господи, какой вы младенец! Кумиру вашему, если хотите знать, к сожалению, не встретился тот, кто увлек бы ее и освободил бы от вас.
— Возможно, — согласился Давид Исаевич, с поразившим Норшейн смирением. Он понимает, Дусе крепко не повезло. Судьба могла бы связать ее не с ним, а с кем-нибудь более удачливым. Хотя кто мог предвидеть, что все его планы, все его надежды ветер жизни развеет как мякину? Видно, наступает момент, когда женщина задумывается над тем, что дал ей муж. И судит без уступок. Вольна оправдать, вольна отречься. Все же собачий нюх у этой Норшейн, все увидела, все раскусила.
Глядя впереди себя, Давид Исаевич произнес, скорее для себя, чем для Норшейн:
— Но меня-то зачем со счетов сбрасывать? Вы напрямик со мной, Анка Арнольдовна, отвечу вам тем же. Я — люблю. Вот что для меня важно. И пусть безответно. Добро ее помню, все помню. Когда тонул, трясина засасывала, погибал — издали неизменно, настойчиво светил огонек, манил и звал, обещал и грел. И вытащил! Не дал мне пасть. Такая вот окрошка.
— Да, на подобный героизм способна лишь женщина. Вы, мужики, эдакого не можете, кишка тонка.
И вдруг перескочила на совсем другое, свое.
— Понимаете, чем дальше, тем больше я боюсь остаться одной, — призналась она. — Но одиночество вдвоем еще более тягостно.
Давид Исаевич на это признание не ответил. Ему стало неуютно, какая-то тяжесть легла на душу.
Навстречу шла Евдокия Петровна. В руках у нее трепыхалась газета.
Сунув руки в карманы и сжав там кулаки, Давид Исаевич весь напрягся. Он уговаривал себя: «Разве мыслимо прожить жизнь не любя. Давно могла бы порвать. Сгрести в охапку Леонтика и уйти, еще до войны, во время учебы. И потом было сколько поводов! Когда воевал. Тем более когда в Тагил загремел. Кто бы упрекнул? Не сделала этого. Ждала. Молодая. Красивая. И после — тоже. Кто мешал ей взять Илюшку за руку — поминай как звали. Одним терпением тут не обойдешься».
Норшейн с ходу швырнула Евдокии Петровне:
— Ваш супруг из породы тех коней, вернее лошадей, которые в борозде умирают. И овса им не надо, была бы пашня да сбруя. Изодрал в клочья благодарность партийного бюро. Как вам такое понравится?
— Что же ты натворил? — всплеснула руками Евдокия Петровна.
Давид Исаевич сжал челюсти.
— Грамоту уничтожил, — доложила Норшейн. — Ему дали, а он в клочки ее и — в корзину!
— Когда же перестанешь горячку пороть? — недовольно сказала Евдокия Петровна.
— Мне показалось, что сделал это Давид Исаевич с полной верой в то, что хорошо выполняет свой долг, — уточнила Норшейн.
Коростенскому больше не хотелось их слушать, но как освободиться от них, он не знал. Вдруг Анна Арнольдовна взмахнула руками:
— Ой, что же я здесь стою? Меня же ждут!
Евдокия Петровна тоже порывалась уйти, но Давид Исаевич задержал ее:
— Куда нацелилась?
— В читальный зал.
— Погоди. Можешь мне объяснить, что с тобой?
Евдокия Петровна низко опустила голову:
— Ну а с тобой — что?
Давид Исаевич потер пухлой волосатой ладонью за ухом.
— Мне трудно, сложно, но хорошо, — ответил он. — Даже в самые тяжкие годы было хорошо, потому что ты была. И сейчас не ропщу. Нервничаешь ты. Недовольна — ты.
— Да, я. — Евдокия Петровна сложила обе ладони в один кулак. — Но стремлюсь все поправить. Так помоги мне.
— С какого же времени я вызываю у тебя недовольство?
— Если начистоту, то с самого начала.
— Зачем же ты столько мучилась со мной? Никто ведь не неволил. Ну, вцепился я в тебя душою, не отпускал. Как же иначе? Дрался за тебя. Оторвать от себя не мог. И сейчас не могу. Но уж коль тебе стало невмоготу, прямо скажи. Что-нибудь придумаем. Прикажешь с глаз сгинуть, подчинюсь безропотно…
Устало смежила веки Евдокия Петровна. Таким муж был всегда — упрется, не сдвинешь с места ничем. Не стал ничуть другим, хуже не стал. Евдокия Петровна вспомнила, как он добивался ее, как обхаживал, вился вокруг нее… И день, когда уступила ему, припомнила…
…Они стояли в узком проходе между книжными стеллажами, лицом к лицу, молча, напряженно. Дуся ощущала на себе его дыхание. Прижимаясь локтями к чуть прогнутой под грузом книг полке, она глядела на него своими повлажневшими глазами, в которых проступало больше мольбы, чем решимости, и не могла разомкнуть рта. Признаний его она и желала и боялась. Пока не были произнесены те стертые с виду, однако самые наиважнейшие слова, какие каждый вправе получить, по крайней мере, раз на своем веку, можно было избегать тягостного объяснения. Теперь оно, кажется, неминуемо. Дольше тянуть невозможно. И все-таки Дуся пыталась отдалить неизбежное. Не хотелось причинять горечь хорошему человеку, а лукавить она не умела.
Насупленная, с закушенными губами, Дуся обескуражила Давида, он растерянно моргал веками, плечи его опустились.
«Как уязвим!» — подумала Дуся. Ничем не защищенное смятение Давида почему-то вновь напомнило ей, что он моложе ее годами.
Дуся знала, что мешает ей не прошлое. Тот, кто дал ей первую радость и первое зло причинил, уже ничуть не властвовал над нею, но тень его холодила сердце. Он был намного старше ее. Опытен. Пресыщен. Вовсю извелась Дуся, пока не возненавидела его. Должно быть, отсвет той, подспудно забурлившей ненависти еще больше придавил Давида.
Чутье, скорее материнское, нежели женщины, озабоченной своим будущим, подсказывало Дусе осторожность. «Прищеми язык!» — мысленно шпыняла она себя. И все же с невольной, смутившей ее саму холодностью попросила:
— Не надо… Ничего бы не надо. Пожалуйста.
— Почему?
Давид выслушал ее исповедь, совсем побелев лицом. Отозвался тихо:
— Ничего ты мне не говорила, а я ничего не слышал… Ладно?
Дуся глубоко задышала, порозовев. Минуту спустя, точно очнувшись, отрывисто позвала:
— Пойдем!
И с какой-то отчаянной решимостью метнулась вперед.
Привела его Дуся к себе. В прихожей молча приняла у него пальтишко. Сунула под ноги ему узорчатые татарские тапки.
— Подойдут, наверно, — проговорила она, не поднимая глаз. — Я переоденусь.
В опрятной, оклеенной обоями комнате, куда Дуся его легонечко втолкнула, Давиду прежде всего бросилась в глаза односпальная кровать с потертым в нескольких местах никелем. Неловкость не покидала его.
Вернулась Дуся, приблизилась к нему вплотную, потрепала давно не стриженные, напущенные на уши волосы.
— Приготовлю что-нибудь покушать, — сказала она.
В кухню Давид вошел тотчас же за ней. Достав с полки коробок спичек, она опустилась на колени и начала разжигать огонь в плите. Лучины не хотели загораться. Дуся чиркала одну спичку за другой, обжигая пальцы и смешливо морщась от запаха серы. Наконец язычок огня в топке лизнул лучину, прыгнул на другую, быстро-быстро пополз по ней, скользнул вниз, и вдруг вспыхнуло алое пламя, да так ярко и буйно, что все внутри плиты загудело.
Давид любовался легкими, плавными движениями Дуси, ее оголенными руками, пушком на шее. Он тоже присел рядом, начал совать в, топку березовые полешки, лежащие аккуратной стопкой возле плиты. Близость огня и близость Дуси раздувают в Давиде волнение. Дуся заметила это, пытается его отвлечь, но это плохо ей удается…
Среди ночи она проснулась, то ли от духоты, то ли от тесноты. Все-таки кровать была маловата для двоих. Она повернула голову к Давиду, который почему-то постанывал во сне. Ей не было радостно. И любви не чувствовала она. Только усталость. И удивление своей смелостью. А дальше что? Если бы она могла знать…
«Лучше жалеть о том, что случилось, чем о том, что не произошло», — подумала тогда Дуся. Но долгие годы потом ни о чем не жалела Евдокия Петровна. Даже в самые трудные времена. И старалась быть счастливой. Разлука с мужем из-за войны и заключения тоже пошла на пользу: не расшатала, напротив, укрепила ее привязанность к нему. Тем более обрадовало его возвращение из мест не столь отдаленных. Ведь многие ее подруги вообще не дождались своих мужей, погибших на фронте и за колючей проволокой — павших геройски и павших от человеческой несправедливости…
Евдокия Петровна уговаривала себя, что Давид — человек необыкновенный. Свидетельств этому было вполне достаточно. Он был одним из лучших студентов на факультете. Писал довольно удачные стихи, а когда вернулся в семью после всех злоключений и бед, нашел в себе силы и мужество в тридцать лет поступить на заочное отделение технического вуза и окончить его, получив второй диплом. Евдокия Петровна гордилась своим мужем, который ничего не растранжирил на тернистом пути к ней, напротив, мудрость в страданиях обрел…
Так что же происходит сейчас?
Евдокия Петровна спокойно складывала книги, засовывала не спеша, аккуратненько рукопись в портфель. Вышла из читального зала первая, Давид Исаевич — за ней. Он говорил, точно читал ее мысли:
— Ты меня ругаешь, но я никогда лодырем не был.
— Да, разумеется, — тут же согласилась Евдокия Петровна. — Но что из этого следует?
— Ты сильно изменила отношение ко мне.
— Давай уточним: не к тебе — к себе. Мне нужно немного отступить от тебя, хотя бы на шаг, издали посмотреть на тебя, саму себя проверить.
Давид Исаевич не решился больше тревожить жену словесами. Ясно, она не любит его, по крайней мере, так, как он ее. И никогда не любила. Но ведь она и не скрывала этого. Не отрицала в самом начале, среди стеллажей с книгами, с глазу на глаз, всю правду выложила. А то, что на фронт писала ему и в Тагил, за колючую проволоку, тоже было честно. Лгать она не умеет. Не так все просто. Конечно, Дуся права, что кто не идет вперед, назад откатывается. Да, ушла она вперед, может вообще уйти. Исчезнуть. Навсегда. Впервые Давид Исаевич ощущает это очень остро, шагая рядом с нею. Ему стало холодно. Сквозняки с того света подули. В сущности, жизнь уже пролетела. Закат виден. Ему самому бы отстраниться, но кишка тонка. Слабак, значит. А может, он сам себя всю жизнь обманывал, пусть невольно, но обманывал? Когда в четырнадцать лет пионерская газета печатает твое стихотворение, прочит тебе будущее поэта, а в семнадцать толстый журнал помещает подборку твоих стихов — голова может закружиться. Сам поверишь, что у тебя талант. А потом оказывается — ошибочка вышла, нет таланта, есть способности, и только. И что же? Ложиться подыхать? Либо все, либо ничего? А если хоть что-нибудь есть? Если то, что можешь, а не то, что хочешь? Почему здесь трагедия? Для чего тогда вся эта карусель, называемая жизнью?! Но нет, неправда, что все проходит, что нет вечных ценностей. Есть то, что никогда не исчезает, есть то, ради чего стоит жить!
В крохотной прихожей своей квартиры Коростенские разделись бесшумно — старались не вспугнуть Илью, вернувшегося из школы. Мальчик крутил папину пластинку, сидя возле проигрывателя. Через остекленную дверь родители видели его, развалившегося в кресле, — и фуражечка на нем, и ботинки не сняты. Оба родителя смотрели на радостную улыбку сына и молчали, хотя побранить его ох как стоило бы. Раздевались Коростенские неторопливо. Касаясь плечом плеча жены, Давид Исаевич стянул с себя болоньевый плащ с такой осторожностью, будто опасался разбудить спящего. Принял из рук жены ее шуршащее пальто и примостил на крючок вешалки рядом со своим плащом. При этом он думал, что обиды и заботы, хотя и причиняют достаточно боли, не в состоянии окончательно вышибить его из колеи. Вид Ильи, упивающегося песнями, разом опрокинул в небытие мрачные мысли: вот то, ради чего живешь, трудишься и существуешь. Обернувшись к жене, он шепнул:
— Приятно, что с детства у него вырабатывается хороший вкус.
— Ну, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, — возразила Евдокия Петровна. — И потом, откуда ты взял, что у тебя хороший вкус?
Давид Исаевич не ответил на выпад, взялся за дверную ручку:
— Пальто с парня стащи.
— Сам додумается. Я убедилась, чем больше ему разрешаешь, тем легче с него требовать. А ты с ним то не в меру строг, то слишком ласков. Это сильно портит ребенка.
Приложив палец к губам, Давид Исаевич попросил:
— А вот эту критику потом, без Илюшиных ушей.
Толкнул дверь и тихонечко, на носках преодолел те несколько шагов, которые отделяли прихожую от кухни.
Евдокия Петровна пришла туда позже, лишь после того как дразнящие запахи ударили в ноздри. Румяный, сосредоточенный Давид Исаевич, в фартуке, священнодействовал с ложкой у газовой плиты над сковородой и открытой кастрюлей, из которой вился вкусный парок.
— Илья стал такой покладистый, — проговорила Евдокия Петровна. — Неужели твоя пластинка влияет?
— Погоди, не отвлекай. Я ведь не только разогреваю — до кондиции довожу, проверяю, все ли утром в еду положил. Это же ответственное дело.
Евдокия Петровна усмехнулась: «Маловато ему, однако, для счастья надо».
— Так и знал, — нахмурился Давид Исаевич. — Соли не положил.
— Спасибо, что не пересолил, — заметила Евдокия Петровна. — Ни в кого, стало быть, не влюблен.
Давид Исаевич обернулся к ней:
— А ты?
— Разве не видишь? Очень хотелось бы увлечься, — она делает паузу, — еще раз — тобою. Не получается пока…
Он попытался обнять ее, поцеловать. Губ его Евдокия Петровна все-таки избежала, — скрипит дверь и на пороге показывается Илья:
— Есть хочу.
— Мой руки, — смущенно откликнулась Евдокия Петровна.
22
Большой стенд с портретами Героев Советского Союза — мирославльцев, подготовленный к вечеру песен военных лет, отделение изобразительного искусства ФОПа вывесило у входа в актовый зал. Еще разок посмотрев описания подвигов своих земляков, Коростенский остался доволен. «Ну, вроде бы все готово, — сказал он себе. — Можно бриться и переодеваться».
Пока отец переодевался, Илюша вертелся возле него, засыпал различными вопросами. Давид Исаевич отвечал внимательно, искренне, серьезно.
— Почему говорят артИллерия, а не артЕллерия? Неправильно — артиллерия.
— Ты убежден?
— Конечно. Пушки обслуживают много людей, ты же мне сам рассказывал. Целая артель. Поэтому и — артЕллерия. Так правильно.
На вечер в институт отправились втроем с мамой — согласилась Евдокия Петровна по настоянию Ильи. И то после того только, как на ее отговорки и отнекивания он отозвался:
— Свою науку ты будешь двигать вперед после вечера, мы с папой тебе поможем.
Перед уходом Давид Исаевич незаметно для жены положил себе под язык таблетку нитроглицерина — неприятно щемило сердце, а таблетка всегда выручала.
У вешалки Коростенские застали Анну Арнольдовну. Она в новом вечернем платье: голубоватый плюш, обрызганный перламутровыми блестками. Из-под подола платья выглядывают туфельки на высоких каблуках. Анна Арнольдовна посмотрела в зеркало, поправила платье.
— Вечер веду я? Не передумали? — играла глазами она, глядя через зеркало прямо на Давида Исаевича. Тот кивнул и объяснил, что все остается так, как договорились, — хозяйкой вечера будет она, Анна Арнольдовна. Тогда Норшейн перевела взгляд на Евдокию Петровну: — Мы уже в такой поре, когда надо за собой следить и следить. Я бы и вас несколько модернизовала, если позволите.
Она сделала шаг к Коростенской. Прильнув к ней и дыша теплом в ее лицо, начала поправлять отвороты блузы.
— Ослепляете грудью, — кинула она мимоходом Давиду Исаевичу. — Сколько металла на вас!
Давид Исаевич не обиделся. Ответил, показав рукою в сторону вестибюля, где шумела молодежь:
— От того, как выглядим мы, немного все-таки зависит то, какими станут они.
Анна Арнольдовна не возразила. Она заметила Илюшу.
— Ага, ты здесь, с родителями, замечательно!
— Мы всегда вместе, — с дерзинкой выпалил Илья.
— И правильно делаете. Ты пришел слушать песни или петь?
— А я еще не решил.
Норшейн перевела взгляд с Ильи на его родителей.
— Вы молодцы. Свой малышок, — сказала она, подавив вздох. — Значит, есть еще порох в пороховницах.
— Я всегда не вовремя, — усмехнулся Давид Исаевич. — То слишком рано, то слишком поздно. Такой я уж парень.
— Родительский стаж у него солидный, — уточнила замечание мужа Евдокия Петровна, легонечко погладив голову Илюши. — В двадцать лет стал отцом, все говорили — ведь мальчик еще сам, а через год этот юнец обернулся солдатом и жег фашистские танки.
Норшейн переключила свое внимание на публику. Студентов намного больше, чем она ожидала увидеть. И сотрудников вполне достаточно, почти весь преподавательский корпус здесь. С искренним уважением смотрят студенты на своих старших товарищей, прихорошенных и одновременно возвышенно-серьезных. И столько орденов и медалей на отворотах пиджаков, кителей, кофт. Вот теперь только Анна Арнольдовна в полную меру оценила затею Коростенского, его задумку. Она ощутила в себе глубинное понимание того, что старается делать ее коллега, безусловную солидарность с ним и многократно возросшее желание активно содействовать ему. С этим-то чувством преданности Анна Арнольдовна и вышла на подмостки актового зала. В своем новом платье, бледная от волнения, она была неузнаваема. Даже строгой Евдокии Петровне показалось, что на сцене стоит не ее знакомая до мелочей коллега, а какая-то неведомая никому красавица.
— Она и не она, — прошептал на ухо жене Давид Исаевич.
— Во всяком случае, на своем месте, — ответила Евдокия Петровна. — Вот где ее кафедра!
— Вполне возможно, — согласился Давид Исаевич.
Те несколько слов, которые Норшейн сказала о песнях революции и войны, были уже сами по себе песней.
Без запевал грянуло «Смело, товарищи, в ногу». Вторую песню, «Комсомольскую прощальную», начала Анна Арнольдовна. Зал отозвался охотно: «Уходили комсомольцы на гражданскую войну…»
Потом пошло и пошло.
Оказывается, студенты знали слова многих песен наизусть. Одно только не ладилось — зал то перегонял, то отставал от темпа записи магнитофона. Поэтому Анна Арнольдовна попросила ребят отключить его и сама села за пианино.
Одну за другой она извлекала из вороненого инструмента мелодии, зал отзывался восторженно, радостно. Вспомнила Анна Арнольдовна и «Землянку». Пели ее одни преподаватели-фронтовики. Весь зал, все студенты замерли напряженно, слушая ее.
— Это же самая-самая наша! — радостно воскликнул Илья, наклонясь к материнскому уху.
А мощный хор звучал:
Мне дойти до тебя нелегко, А до смерти четыре шага…Анна Арнольдовна посмотрела на Коростенского в первом ряду. Давид Исаевич стоял вполоборота к студентам среди своих друзей и самозабвенно пел. Анна Арнольдовна силилась поймать взгляд Коростенского, хотела внушить ему глазами, что смешно робеть, надо быть смелым, дерзким до безрассудства. И то, что выглядит порою несбыточно запретным, может вдруг оказаться возможным и достижимым. Надо только хотеть.
23
Перед традиционной воскресной прогулкой семья села за стол пить чай. Несколько больших кусков сотового меда лежало на блюде посреди стола. Давид Исаевич знал, чем потчевать жену и сына.
— Хорошо, — вздохнула Евдокия Петровна, облизывая пальцы, по которым текли ручейки сладкой живицы. — Самая лучшая пища. Ни варить, ни жарить не надо. Спасибо, Давид.
Она наслаждалась медом и совсем не удивлялась тому, что у мужа расстроенный вид. Может быть, потому, что у него причин для этого всегда хватает.
После чая Евдокия Петровна подошла к зеркалу.
— Решайте, мужчины, — говорила она, слегка касаясь пальцами шеи. — Этот воротничок я уберу?
— Правильно! — согласился не глядя Илья.
— В таких вопросах на мой авторитет не полагайся, — негромко пробурчал Давид Исаевич.
И опять Евдокию Петровну не насторожила какая-то печаль в его глазах и голосе.
Гулять отправились обычным маршрутом. Шли медленно, привычными улочками, до самого приокского оврага. Когда уже начали спускаться к реке, Евдокию Петровну словно кто-то толкнул в плечо. Она повернула голову. На дальнем гребне оврага одиноко стояла Норшейн. Ветер шаловливо трепал платье Анны Арнольдовны, но та смотрела не вниз, на Коростенских, а куда-то вдаль, на другой берег реки. Ничего не сказала Евдокия Петровна мужу, лишь молча посмотрела на него. «Все-таки неравнодушна Норшейн к Давиду», — пронеслось у нее в голове.
Закатное солнце показалось в небе, очищавшемся от облаков, и высветлило деревья в овраге. Их мало, поэтому каждое выделяется по-своему. Издали весело горит яркой желтизной липа. У клена блеск чистой меди, он еще не весь закоричневел. Тополь в светлые тона окрасил лишь вершину, а снизу не посмел. Всех прежде сбросил оперение вяз. Зубчатые листья его путались под ногами. И только ольха радовала своей зеленью, словно ее и не касается осенняя пора…
— Что же ты помалкиваешь? — спохватилась наконец Евдокия Петровна, взяла мужа под локоть, пристально заглянула ему в лицо.
— Видимо, переутомился, неважно мне что-то, — устало отвел глаза в сторону Давид Исаевич.
— Может быть, домой вернемся?
— Еще немного пройдем и повернем, — машет вяло рукой Давид Исаевич.
— Ничего, отдохнешь — пройдет, — утешила его жена.
Притихший, смиренный какой-то, поплелся Давид Исаевич за нею. Горько было на душе у него — в кармане лежало письмо издательства, которое он еще не решился показать жене. Рукопись его рассказов забраковали, хотя некоторые предлагали напечатать. «Неудача многих рассказов кажется нам очевидной, — писал рецензент. — И констатируешь ее с тем большим огорчением, что по некоторым признакам угадываешь: автор не бесталанен, не понаслышке знаком с тем, о чем пишет. Он, по-видимому, человек с достаточно разнообразным и достаточно трудным жизненным опытом. Именно уважение к этому жизненному опыту и обязывает нас к прямоте критического анализа…»
Тут никто не мог помочь Давиду Исаевичу. Безутешным было его горе, хотя он четко осознавал, что рецензия не совсем справедлива. «К прямоте критического анализа…» — всплыли снова строки рецензии.
В груди пронзительно резануло, жгутом скрутило сердце. Давид Исаевич остановился, ноги подкосились, все завертелось в глазах, он пошатнулся.
Жена успела подхватить его.
— Гвоздь в сердце, — виновато пытается улыбнуться он.
— Надо «скорую» вызывать!
— Надо бы, пожалуй, — еле слышно шепчет Давид Исаевич.
— Илья, беги скорей!
Евдокия Петровна усадила мужа на узловатый, вылезший из земли корень ольхи, спиной к стволу. «Неужели инфаркт?» — с ужасом подумала она.
Евдокия Петровна опустилась на колени, расстегнула ворот рубахи супруга.
— Сыновей береги, — запрокинул голову Давид Исаевич и остался один на один со своей режущей, все заслонившей болью.
РАССКАЗЫ
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
1
Направляясь на завод, всю дорогу толстый Давид Исаевич простоял у щели неплотно прихлопнутых дверей автобуса — здесь хоть можно было глотнуть свежего воздуха и не чувствовать на время тошнотворной вони бензина и жары. На каждой остановке он спускался на землю, жадно дышал, пропускал вперед новых пассажиров и последним забирался обратно в салон автобуса. Пешком идти — и далеко, и чего доброго угодишь под дождь. Над головой уже висели грозовые тучи, издали доносились раскаты грома.
Ливень хлынул в то время, когда Давид Исаевич вбегал в проходную, выскочив из автобуса. Дождь барабанил по стенам, крышам. Пока в бюро пропусков выясняли у юрисконсульта Соловейчика, примет ли он товарища из педагогического института, пока выписывали документ, небо начало светлеть, запахло свежестью, проглянуло солнце и засверкали росинки в траве, гром гремел теперь где-то далеко, у Оки.
В кабинете Соловейчика, расположенного на втором этаже механического цеха, было душно, хотя всю наружную стену занимало окно с раскрытой нижней фрамугой. Комната казалась приплюснутой и оттого тесной.
Давид Исаевич назвал себя.
Пожимая ему руку, Соловейчик вглядывался в него с любопытством.
— Нашли все же мою голубятню, — произнес он голосом, в котором явно звучало удовлетворение.
— Язык, говорят, до Киева доведет.
— Язык может довести, а может и подвести…
Мнительный Давид Исаевич насторожился. Соловейчик усмехнулся, и ухмылка его вполрта напомнила о прошлом, о событиях далекого утра, когда впервые Давид Исаевич встретился с этим человеком.
— Вы садитесь, садитесь. Смелее, — пробасил Соловейчик.
Давид Исаевич провел платком по вспотевшей шее и присел в кресло, сгорбившись и сразу превратившись в угрюмого старика. «Ну что произошло, — укорял он себя. — Ничего особенного не произошло, ровным счетом ничего. Просто старая рана, вроде бы вполне зарубцевавшаяся, дала о себе знать». А другой голос говорил: «Надо же, где встретились. Надо же».
Соловейчик пристально посмотрел на него и, как показалось Давиду Исаевичу, вздохнул:
— Однако стали инженером, Коростенский…
«Узнал и он меня», — понял Давид Исаевич.
— Времени утекло немало, — отозвался он, пожал плечами и неожиданно, против воли усмехнулся.
Именно эта усмешка и доконала Соловейчика. Он поднялся из-за стола, шагнул к распахнутой фрамуге окна, извлек из кармана кителя портсигар, соря табаком, набил трубку, чиркнул спичкой. Та, вспыхнув, тут же погасла. Соловейчик резко обернулся:
— Говорите!
Очевидно, ему было сложнее, чем Давиду Исаевичу, вспоминать их первую встречу.
2
В тот день на рассвете Давид Исаевич проводил жену в институт. Не на занятия. Никто не читает лекций в такую рань. Член избирательной комиссии, Евдокия Петровна получила наказ явиться на свой участок до того, как придут первые голосующие.
Ступив на нижнюю ступеньку институтского крыльца, она обернулась, помахала мужу рукой в перчатке и торжествующе промолвила:
— Буду тебя ждать…
— И все?
— Разве этого мало?!
Вместо ответа Давид Исаевич обнял жену, приник губами к ее холодному лицу.
— Пусти. Увидят.
— Имею право! — озорно сказал Давид Исаевич. — Даже имею право голоса!
Молод был он тогда еще — и тридцати не стукнуло. Мнил, что только-только начинает жить.
— Смотри не забудь напоить чаем Леонтия, — произнесла Евдокия Петровна, высвободилась из его объятий и легонько оттолкнула от себя.
Входная дверь тяжело захлопнулась за нею, и через мгновение он увидел жену, проходящую по коридору к лестнице. Проводил Евдокию Петровну, постоял немного, улыбнулся, почесал подбородок и отправился в обратный путь.
Неожиданно повалил снег. Кругом стало белым-бело и тихо. Март был неровным. Несколько дней припекало солнце, снег было почернел и начал оседать, и вдруг зима принялась напоминать о себе. Ручьи покрывались снегом прямо на глазах. С Оки подул холодный ветер. Капризная была весна.
И все-таки это весна, несмотря на вьюги, непогоду.
Дома, раздевшись, Давид Исаевич прежде всего заглянул в крохотную комнату, в которой спал первенец, и в слабом свете зарождающегося утра увидел, что одеяло сбилось, а стриженая курчавая головка сына лежит рядом с подушкой, которую он обхватил руками.
Бесшумно ступая, Давид Исаевич пробрался к постели сына, поправил одеяло. Менять положение мальчика не решился — боялся разбудить его. Постоял немного над ним, прислушиваясь к его дыханию. Он испытывал чувство блаженства, к которому никак не мог привыкнуть.
Вдруг Леонтий приподнялся на локтях, открыл глаза, но тут же вновь опустил голову. Давид Исаевич, поправив подушку, погладил головку сына.
— Спи, малыш, рано еще.
И принялся готовить завтрак.
Чистить картошку он умел, снимал кожуру тонюсенькую, почти не глядя на клубень. И крошил ее быстро, стуча по разделочной дощечке из толстой фанеры проворным ножом. Без упрямства разгорелся керогаз — нисколечко не начадил. И хозяйка дома — они жили на частной квартире — не ворчала за тонкой перегородкой.
Когда сын проснулся, еда была готова.
Леонтию сразу же передалось праздничное настроение отца. Он так быстро сумел привести в порядок постель, умылся, оделся, что сам удивился этому.
— Ай да я! — воскликнул он, усаживаясь за стол и блестя глазенками. — На пятерочку с плюсом!
Поели весело. Со стола убирали вместе. Переоделись в лучшие свои костюмы. Давид Исаевич подошел к висячему зеркалу, чтобы причесаться. И тут Леонтий, внимательно поглядев на отца, присмирев, спросил:
— Па, ты воевал, сражался?
— Да, сынок.
— А где же твои медали и ордена?
Это был один из тех вопросов, которых Давид Исаевич ждал давно и которых боялся: не могли они не возникнуть в голове мальчика. Надо было дать ясный ответ. Он помрачнел. Несколько лет назад, когда его под конвоем увозили с фронта в уральские леса, Давид Исаевич впервые с ужасом подумал, что, наверное, настанет день — придется все объяснять сыну. А как, какими словами? Где их возьмешь? И вот этот день наступил. Тут не слукавить, не солгать.
По-своему расценил Леонтий заминку отца.
— В Праздники все надевают свои наряды и свои награды, — сказал он. — Правда же?
— Да, мой мальчик, — ответил Давид Исаевич, взглянул в обеспокоенные, ставшие большими глаза маленького человека. — Но у меня нет наград.
— Почему?
Часто задышал Давид Исаевич. Очень хотелось в этот миг приласкать сына, но чувствовал, что такого делать сейчас нельзя. Сдерживая волнение, он произнес:
— Лишили их меня…
— Очень было обидно, па?
И Давид Исаевич понял, что недетский этот вопрос не раз сын задавал себе и, по-видимому, по-своему ответил на него.
Они вышли из дому молча.
Начинал таять выпавший снежок: солнце грело по-весеннему. Леонтий вышагивал рядом с отцом, то задирая нос к небу, жмурясь, то поглядывая себе под ноги. Но он переживал услышанное от отца, что Давид Исаевич чувствовал.
И тогда ему показалось, что застарелые страхи его напрасны, что все, возможно, обойдется без потрясений, сын сумеет по-своему и правильно оценить происшедшее с отцом. Вряд ли, конечно, ребенок сможет постичь действительные размеры поразившего его в разгар военного лихолетья бедствия. А когда подрастет, все это будет уже для него не новым и потому не столь болезненным. Надо лишь стараться не омрачать дни его жизни новыми несчастьями и быть веселыми, а если это не всегда возможно, то, по крайней мере, бодрыми.
Шел Давид Исаевич, перешагивая через проталины, и Леонтий, следуя за ним, повторял движения отца. Изредка он попадал сапожками в новорожденные лужицы. Брызги мокрого снега разлетались по сторонам. Вскоре они повернули на институтскую улицу.
— Мама! — изумленно воскликнул Леонтий. — Гляди, вон же она…
И стремительно рванулся вперед.
Походка жены не предвещала добра. Увидев издали, как неласково она отстранила сына от себя, Давид Исаевич похолодел. Он не обманулся в своем предчувствии.
— Тебя исключили, — произнесла, задыхаясь, Евдокия Петровна, подбежав к нему и уронив на его плечо голову. — Из списков изъяли.
— Каких?
— Для голосования, боже мой…
— Чушь.
Горестный взгляд был у Евдокии Петровны.
— Непостижимо, — съежился Давид Исаевич.
— Все продолжается, — произнесла жена.
— За что? И сколько можно? — прошептал Давид Исаевич, сжав зубы и взглянув на сникшего Леонтия. Выражение лица сына задело и словно подхлестнуло его. Обняв Леонтия за плечи, Давид Исаевич произнес: — Не унывать, парень. Все в жизни случается. Добьемся правды. Или мы не мужчины с тобой? Выше голову.
Не только для того чтобы подбодрить мальчишку, сказал он это — просто верил в свою правоту. Однако доказать ее было не так-то просто.
В участковой избирательной комиссии к Давиду Исаевичу отнеслись с участием, объяснили, что недоразумение может исправить только городской Совет. Он помчался туда. Но из исполкома горсовета его послали в городскую избирательную комиссию. Долго держали его здесь, уточняли, звонили куда-то, наводя справки, и — ничего не решили. Намекнули лишь: дело упирается в органы. Стоит заглянуть туда.
При таких-то обстоятельствах Давид Исаевич впервые столкнулся с Соловейчиком.
Ошпаренный сбивчивой речью Коростенского, капитан потер ладонью помрачневшее лицо:
— Да, указание о вас дадено нами.
— Случилась ошибка, — горячо, с убеждением сказал Давид Исаевич.
— Мы промашек не допускаем. Никогда! — резко возразил Соловейчик. Пот крупными каплями выступил на его бритой голове.
— Прошу вас, пожалуйста, проверьте.
— Незачем. Все предельно ясно.
Сжав кулаки, Давид Исаевич засопел.
— У вас ведь лишение прав. По суду.
— Было.
— И есть.
— Кончилось!
Офицер посуровел:
— Не станем открывать дискуссий.
Но Давид Исаевич словно прилип к полу, мял в ладонях фуражку.
— Как же быть? Что же теперь делать? — произнес он, будто спрашивал не Соловейчика, а себя.
Капитан поерзал на стуле, ловко поправил погон на плече, произнес с ухмылкой:
— Что? Во всяком случае — не качать права.
Давид Исаевич весь сжался.
— Вот ведь как приперло. Непременно голосовать ему надо, — усмехнулся вновь Соловейчик. «Настырно лезет, куда ему заказано, — думал он между тем. — С какой целью?» И сам же себе объяснил вслух: — Рветесь подать голос против?
— Зачем охаиваете меня? Это бесчеловечно.
— Вести разговоры антисоветского характера человечно? Клеветать на командный состав Красной Армии человечно? Хранить контрреволюционную литературу человечно? Так вроде в вашем приговоре записано?
— В приговоре так.
— Оспариваете, стало быть, истину до сих пор?
— Таковскую? До гробовой доски.
— Мы подобных правдоискателей обычно отправляем обратно в места не столь отдаленные.
— Для этого много ума не требуется.
— Болтун! — вскипел Соловейчик. — Ничему в тюрьме не научился.
Потемнев, Давид Исаевич глухо спросил:
— Долго еще мне предстоит казниться?
Улыбочка вполрта вновь возникла у Соловейчика.
— Ваш приговор содержится в папке с надписью «Хранить вечно», — ответил он. — Мотайте на ус. Мы ничего не забываем. У нас память отличная.
Давид Исаевич зло взглянул на Соловейчика.
Это потом, лет через десять, ему в Москве, в здании Верховного суда на улице Воровского, вручат справку о полной реабилитации, это после много раз он будет снова и снова перечитывать постановление об этом, первое время так часто, что волей-неволей запомнит его наизусть, оно даже снилось, бывало, ему во сне: не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой, затаив дыхание Давид Исаевич воочию видел, как над судейским столом, покрытым красным сукном, держа в руках чуть подрагивающий лист бумаги, поднимается во весь свой рост тогдашний заместитель председателя Верховного суда СССР Куликов, взглядывает направо — на заместителя Генерального прокурора СССР Мишутина, потом косится на секретаря суда Кузнецова и начинает читать внятно, каждое слово в отдельности, будто протягивает его через вальцы прокатного стана, того огромного блюминга, который Давид Исаевич после осуждения строил в Тагиле. Голос Куликова напоминает Давиду Исаевичу голос генерала Петрова, кого он неоднократно встречал, будучи офицером связи при его штабе на Кавказе. Сильный был голос. Начинал тихо, чуть слышно: «Постановление № 845-63…» Потом резче: «Протест Генерального прокурора СССР… по делу Коростенского Давида Исаевича…» А дальше уж неторопливо, с некоторой натугой, так, будто ему мешала застарелая одышка, но все-таки с толком, с расстановкой, внятно.
«По приговору военного трибунала 10-й гвардейской Краснознаменной стрелковой бригады от 30 апреля 1943 года Коростенский Давид Исаевич, 1920 года рождения, уроженец села Рудня, Олевского района, Житомирской области, осужден на основании статьи 58–10, часть вторая УК РСФСР, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.
Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 17 июня 1944 года наказание Коростенскому снижено на 6 месяцев.
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 19 апреля 1947 года наказание Коростенскому снижено до 5 лет лишения свободы.
Коростенский признан виновным в том, что среди военнослужащих своей части проводил антисоветские разговоры пораженческого характера, клеветал на командование Советской Армии, хранил и распространял антисоветскую литературу.
Рассмотрев материалы дела и обсудив протест Генерального прокурора СССР о прекращении дела в отношении Коростенского за отсутствием в его действиях состава преступления, пленум Верховного суда СССР находит протест подлежащим удовлетворению.
Из материалов дела усматривается, что Коростенский в разговорах с сослуживцами критически отзывался о методах руководства войсками со стороны командования Советской Армии, заявлял, что Советская Армия слабее немецкой, возмущался тем, что иногда орденами награждаются военнослужащие, не участвовавшие в боях.
Приведенные высказывания Коростенского по своему содержанию состава преступления, предусмотренного статьей 58–10, часть вторая УК РСФСР, не образуют.
При аресте Коростенского был обнаружен его дневник, в котором он записывал свои впечатления о событиях на фронте. В дневнике, в частности, говорится о больших потерях советских войск от авиации противника, о том, что наши войска еще не научились хорошо воевать, что в выступлениях Сталина нет уверенности.
У Коростенского был изъят лист газеты «Кубань», издававшейся немцами на оккупированной территории. Содержание этого листа неизвестно. По объяснению Коростенского, он нашел его в одном из домов после освобождения от немцев населенного пункта, прочитал сам и дал прочитать товарищам. В газете говорилось о казачьем съезде, проведенном немцами на оккупированной территории. Этот лист он положил в полевую сумку, полагая, что он пригодится при написании им литературного произведения, для которого он собирал материал.
При изложенных обстоятельствах обвинение Коростенского в хранении и распространении антисоветской литературы также является необоснованным.
На основании изложенного пленум Верховного суда СССР, соглашаясь с протестом и руководствуясь статьей 9 пункт «а» Положения о Верховном суде СССР, постановляет:
Приговор военного трибунала 10-й гвардейской Краснознаменной стрелковой бригады от 30 апреля 1943 года, определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 19 апреля 1947 года и постановление Особого совещания при НКВД СССР от 17 июня 1944 года в отношении Коростенского Давида Исаевича отменить и дело о нем производством прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления».
Это было потом. А сейчас, глядя на высокого, стройного, строгого и непреклонного офицера, Давид Исаевич каким-то чудом преодолел все же оцепенение.
— Как же вы проморгали, что срок поражения в правах мне сокращен с трех до двух лет? И эти два года уже минули?! — в сердцах воскликнул он.
— Приходите завтра, разберемся, — поднял на него глаза Соловейчик, в которых виделись досада и презрение.
— Дорога ложка к обеду, — мрачно отозвался Давид Исаевич.
— Доступа к сейфам нет у меня. Воскресенье сегодня, ничего не поделаешь. Без документального обоснования подтвердить ваше право избирать и быть избранным не могу.
— Уйти?! Несолоно хлебавши? Вы-то лично считаете, приемлем такой вариант? — произнес Давид Исаевич, хотя знал, что задает глупый вопрос.
— По-видимому — разумный, ибо не задерживаю вас… пока, — ухмыльнулся Соловейчик.
Неуклюже топтался Давид Исаевич возле стола капитана. Смириться он не мог. Не для того с таким нетерпением ждал дня выборов. Слишком много связывал он с этим днем. Он должен был почувствовать себя раскованным, равноправным, как и все сограждане. Может быть, оковы тяжкие не спадут и после этого дня, наверное, прав капитан, беда останется с ним навсегда, но день — этот день — его! Ради Евдокии Петровны, ради сына он обязан добиться успеха здесь, сейчас, всеми силами.
— Уходя уходи, — с издевочкой произнес Соловейчик.
— Погодите. Вам официальная бумажка нужна, — громко сказал Давид Исаевич, чувствуя, что больше не в состоянии сдерживать себя. — А это что? Не документ? — он протягивал капитану свою справку об освобождении из лагеря. Листок дрожал в руке Коростенского, а он кричал: — Не смейте не доверять ей! На ней штамп МВД! И печать тоже…
Что тут сыграло решающую роль: то ли ярость просителя, то ли упоминание о штампе и печати Министерства внутренних дел, его министерства, которому он привык беспрекословно подчиняться, или в нем невесть как проснулось обыкновенное человеческое чувство жалости, но Соловейчик принял документ из дрожавшей руки Давида Исаевича, приговаривая:
— Дай-ка сюда, поглядим. Чем черт не шутит…
Он долго, придирчиво изучал справку. Но все было в ней на месте. В правом верхнем углу лицевой стороны ее значилось: «Видом на жительство не служит». В левом нижнем закутке, пришлепнутый печатью, чернел дактилоскопический оттиск указательного пальца правой руки. Была и форма, было и содержание. Соловейчик убедился: срок поражения в правах Давиду Исаевичу действительно сокращен до двух лет и время это уже прошло. Он имеет право голосовать. Бумага свидетельствовала. Против нее не попрешь. Настырная штука бумага.
— Меняется картина, — произнес наконец Соловейчик, не поднимая головы. — Впрочем, это еще ничего не значит. Если каждый начнет ходить сюда со своими справками…
— Не Христа ради прошу я у вас, — перебил его Давид Исаевич. — Свое требую…
— Молчать! — Соловейчик гаркнул не столько сердито, сколько с удивлением.
Но Давид Исаевич уже потерял власть над собой.
— Что вы мне сделаете? Расстреляете? Бейте! Арестуете? Нате, вот я…
— Ого, какой вы, Коростенский! — неожиданно засмеялся Соловейчик. — Не знал. Любопытно. Здесь у нас ведут себя поскромнее…
В городскую избирательную комиссию он все же сообщил, что полагалось.
Уже вечерело, когда Давид Исаевич добрался домой. Евдокия Петровна с сыном ждали его на улице. Жена поняла все по глазам Давида Исаевича. Леонтик же напряженно спросил:
— Голосовал?
— Нет, сынок, — ответил отец, коснувшись ладонью его плеча. — С тобою вместе пойдем. Бюллетени в урну опустишь ты…
3
Первое свидание с Соловейчиком оказалось не единственным.
Приехав после выборов в школу, где он замещал ушедшую в декретный отпуск учительницу, Давид Исаевич не узнал товарищей по работе. Здоровались ласково, мягко, предупредительно, но с каким-то подчеркнутым сочувствием, с жалостью и состраданием, как с безнадежно больным, как с человеком, которого крушит несчастье. Он растерялся, ничего не понимая.
А произошло вот что. Рано утром в понедельник, после визита Коростенского, в городском отделе народного образования Соловейчик поднял переполох. О нем Давиду Исаевичу рассказали много позже.
— Кого за пазухой пригрели? — шумел там капитан. — Так нас учат подбирать и расставлять кадры?
На работу гороно назначило Давида Исаевича временно. Школа его была за городом, добираться туда и проводить там четыре урока значило тратить целый день: уходить надо было с зарею, чтобы поспеть на рабочий поезд, а возвращался он поздно вечером — охотников на такое в Мирославле не было, для гороно Давид Исаевич оказался находкой. Но сам он радовался работе, не замечал неудобств, тягот — все неприятности, вместе взятые, по его мнению, ничего не стоили в сравнении с тем счастьем, которое он испытывал от труда.
Смущало лишь одно. Посылая его в школу, руководители гороно почти не интересовались его биографией. Внимательно посмотрели они свидетельство об окончании трех курсов педагогического института и приложение к нему — выписку из зачетной книжки, в которой среди пятерок была всего-навсего лишь одна посредственная отметка: ее Давид Исаевич подцепил, когда фашисты уже топтали нашу землю и он принял решение уйти с последнего курса на фронт. Видимо, то, что в гороно знали его супругу — новенькую преподавательницу института и то обстоятельство, что учитель для школы в Подболотске был нужен позарез, сыграло свою роль: Давид Исаевич был принят на работу. Правда, они все же поинтересовались, был ли он на войне. Давид Исаевич ответил утвердительно. Спросили, попадал ли он в плен. Ответил, что нет. Больше вопросов не задавали.
Давид Исаевич сам хотел сказать о своей судимости, как он это делал обычно, когда приходил наниматься на работу, но почему-то в этот раз промолчал. Какой-то внутренний тормоз помешал это сделать. Что-то запротестовало в нем. Он-то себя никогда не признавал виновным, не считал преступником, врагом своей Родины. Почему он должен всегда и всем наперед объявлять о большой несправедливости в своей жизни: «Осторожно! Я — чумной!» Нет, нет и нет. Не обязан он делать этого. Он ничего не собирался скрывать и не врал. Потребуют — сообщит, решил он. Давид Исаевич знал, что рассуждения эти зыбкие, и все-таки пытался убедить самого себя в их правомерности. Он боялся отказа гороно, а так хотелось, так мечталось попасть в школу, получить работу учителя, о которой мечтал до войны.
Школа захлопнула двери перед Давидом Исаевичем. Он сунулся было с запросом в Министерство просвещения. Оттуда туманно ответили, что, поскольку у него учительское образование, ему рано или поздно педагогическую работу предоставят, но по данному вопросу необходимо обратиться непосредственно в отдел народного образования по месту жительства: министерство-де распределением учителей на работу не занимается. Круг замкнулся.
И прежде Давид Исаевич испытывал на себе гнет судимости. Еще в первый после освобождения день, выйдя из лагерной зоны не через ворота, как всегда, и не строем, не под окрики конвоя, а через калитку и один, он понял, что отныне хоть и не арестант больше, но клеймо осужденного, само прошлое будет давать знать о себе. И особая отметка — безобидная на вид цифра тридцать девять на заглавной странице годичного паспорта, означающая тридцать девятую статью Положения о паспортизации, еще не раз напомнит о себе. Так оно и случилось.
Освободившись, Давид Исаевич собирался поехать в Казань к сыну и жене, которая к тому времени поступила в аспирантуру, в город, где прошли его студенческие годы, однако отметка в паспорте, та самая цифра «тридцать девять», сыграла роль. В родном городе нельзя было прописаться ему. Пришлось искать убежище вне городской черты, за много километров от нее.
Да, было непросто прописаться, но еще сложней оказалось найти работу. В отделах кадров плотно закрывали обитые черной жестью окошечки в окованных железом дверях, едва только замечали зловещую отметку в паспорте Давида Исаевича. Порою ему мнилось, будто наметанные глаза кадровиков, даже не глядя в паспорт, видят, кто он такой, клеймо будто уже было обозначено на лбу…
Иногда он получал нечто вроде подачки — то неожиданно подворачивалась сезонная работа десятника на предприятии, и он добывал торф для котельной стеклозавода, то на короткое время приглашали мастером на лесной бирже фанерного комбината.
Мирославль, куда Евдокия Петровна получила назначение после аспирантуры, поначалу встретил их семью без притязаний. Этот зеленый, утопающий в зелени садов город на Оке расположен достаточно далеко от Казани, и от Москвы, и от прочих многолюдных городов, что позволило паспортному столу в городской милиции снисходительно отнестись к прошлому Давида Исаевича, и именно поэтому в паспорте бывшего зека появился штамп о прописке.
Вовсе неожиданной и убаюкавшей всех удачей оказалась предоставленная работа в школе в Подболотске. Но ликовала семья всего одну учебную четверть. Наступила пора отрезвления. Досталось и Евдокии Петровне, и Леонтию. Тревоги, муки унижения оглушили всех.
Коростенские не роптали. Не смирились, но и не ожесточились. Наверно, оттого, что немало пришлось пережить и передумать в годы разлуки, а может, еще и потому, что их не смогли испугать особо ни голод, ни нужда. Задевало другое — случайная работа. Хлеб, который Давид Исаевич ел, был для него черствым и горьким. Поблажек он для себя не искал. Разгружал уголь, дрова, перекатывал бочки в трюмы пароходов, таскал ящики и тюки, рыл траншеи, месил глину, варил асфальт в закопченных чанах, но и все это была работа непостоянная, получаемая от случая к случаю. И все же, если бы ему в то время предложили постоянно заниматься самой тяжелой работой, он бы согласился. Так, во всяком случае, ему казалось тогда.
В один из самых трудных дней мрачный Давид Исаевич развернул городскую газету и на последней странице прочитал объявление, что прядильному комбинату срочно требуются истопники. Он тут же помчался туда.
— Берем рабочих печки топить в общежитиях, — ответила начальница отдела кадров на вопрос Давида Исаевича и скользнула придирчивым взглядом по его обросшему лицу. Буйная щетина с бронзовым отливом не испугала ее. Каменным голосом она потребовала: — Документы!
Коростенский протянул ей паспорт и трудовую книжку.
— Побудьте немного в коридоре, — сказала начальница, и окошко в двери захлопнулось.
От нетерпения Давид Исаевич не мог усидеть на жесткой скамье, поднялся, зашагал из угла в угол полутемной прихожей отдела кадров. Склонный к мечтаниям, он уже видел себя в роли истопника. Кругом стужа, ветер завывает, метет снег, а он шурует в печи, поправляя головешки, потрескивают поленья, раскаленные угольки сыплются вместе с пеплом в щели поддувал.
— Зайдите денька через два, — услышал вдруг Давид Исаевич. Словно голос раздался издалека, и он не сразу сообразил, что говорит начальница отдела кадров, обращаясь к нему. — Вам говорят, гражданин Коростенский, — повторила она.
Он словно очнулся. Из окошка на него смотрели ледяные глаза.
Молча спрятав свои бумаги в карман пиджака, побрел он домой.
В следующий приход начальница сухо сказала Давиду Исаевичу:
— У нас штаты заполнены.
— Но ваше объявление о наборе истопников и в сегодняшнем номере газеты напечатано, — проговорил Давид Исаевич, ощущая, как холодеют ноги.
— Это к делу не относится, — возразили ему из-за обшитой железом двери.
— Брать не желаете меня, сказали бы напрямик. Не заставляли б бегать сюда двадцать раз, — возвысил голос Давид Исаевич.
— Работать мешаете, гражданин…
Окошко с треском захлопнулось перед его носом.
Подавленный, спустился он по лестнице конторы фабрики во двор, пересек его, пошатываясь и спотыкаясь, выбрался на улицу, взглянул мутными глазами на проходящую мимо женщину.
— Налакался уже, — проговорила та осуждающе, уступая ему дорогу. — Люди добрые делом заняты, а эти знают одно свое. И где только, окаянные, средства берут.
Давид Исаевич весь встрепенулся, сжался. Направился он не в город, а вниз, к реке.
Словно бы замершая — течения не было видно, — Ока притаилась рядом. Стужей тянуло от нее. Навигация давно кончилась. Кое-где бороздили воду рыбачьи лодки, у пристани, устроившись на зимнюю спячку, прикорнули катера и пароходы, бессильно поникла стрела плавучего крана.
Тут иногда удавалось подработать в артелях коренных грузчиков — когда прибывали нежданные срочные фрахты.
Берег опустел. Сохранились лишь запахи, не такие сильные, как прежде, однако вполне уловимые: рогожи, сельдяных бочек, яблок, нефти, гнилой картошки, ила… Этот дух обретался, должно быть, в пакгаузах, складах на высоких фундаментах, в трюмах теплоходов и барж, жавшихся к красивому, стоящему на плаву зданию речного вокзала.
На берегу в непросохшем болотце торчал остов старой баржи, пущенной в распил — на дрова. Посудина уже была наполовину разобрана, от палубы осталось всего несколько лагов, пильщики с тягучим скрипом отдирали толстые пластины от обуглившегося брюха — она, наверно, на своем долгом веку успела и погореть. С завистью следил Давид Исаевич за точными сильными движениями рук рабочих. Грустные мысли одолевали его.
Другой на его месте давно бы послал ко всем чертям подальше свои мытарства, укатил бы куда-нибудь в лес на север или восток, в тайгу, где всегда найдется, что делать, где не избалованное на рабочие руки начальство не очень-то присматривается к твоему прошлому, без придирок заглядывает в паспорта. Но от Леонтия, от Дуси оторваться Давиду Исаевичу не хватало сил. Сколько лет, еще в заточении, рвался он к ним, мечтал о них, жил ими… Тащить семью с собою не имело смысла — как срывать их с насиженного места в края неизвестные, дикие? Но и без них он не мог уехать. Бессильным, бесполезным, потерянным чувствовал себя Давид Исаевич. С детства он был приучен к мысли: человек ценен тем, что может помочь людям и в нем нуждаются другие, но жить отшельником — какой толк? Если б у него не было семьи, стоило ли вообще жить? Ради семьи, начавшей помаленьку подниматься на ноги, собравшейся воедино после столь долгой разлуки, надо было терпеть, надо было все вытерпеть… Конечно, мирок, доступный ему, узок, тесен, ограничен, но другого ему, видимо, не суждено пока иметь, и он должен принимать безоговорочно, безропотно то, что судьба давала ему. Неприятно? Да. Но что делать? Через стену, воздвигнутую временем, не перепрыгнуть. Согнись, браток, испей до дна, что судьбой уготовано.
Давид Исаевич шагал вдоль берега, по тропе, ныряющей частенько в кустарник, а то исчезающей в густой зелени травы, залитой родниковой водой. Он перепрыгивал через ручейки, перешагивал грязь по камням, если бывала возможность, а если таковой не было — ступал не глядя, прямо в нее. Так добрался он до понтонного моста, постоял, передохнул, прищуриваясь, огляделся. Ничего не стоило дойти до середины моста и бултыхнуться в воду — в Оку, — все бы кончилось разом. Лишь на какую-то долю секунды подумалось об этом, и то словно бы не в связи с собою. Он резко отвернулся от воды.
На высоком берегу, вдали, за поредевшими липами приокского парка, светлел особняк городского отдела Министерства внутренних дел. Увидев его, Давид Исаевич внезапно понял, что должен предпринять…
Ждать пришлось недолго. Встретил его Соловейчик настороженно, руки не подал, кивком указал на стул.
Давид Исаевич сел. В горле пересохло. Пальцы судорожно мяли полы пиджака.
— Теперь что вас привело сюда? — произнес капитан с нетерпением и откинулся на спинку кресла, словно отстраняясь от неприятного, обросшего щетиной посетителя.
Давиду Исаевичу потребовалось несколько минут, чтобы привести мысли в порядок и нарушить зловещую тишину.
— С-сейчас… Сейчас…
Капитан прищурился, во взгляде угадывалось любопытство.
— Помогите мне наняться… В истопники…
Капитан вздохнул:
— Высокая, однако же, должность…
Оторвался от спинки кресла, прильнул грудью к краю стола, подвинул к себе пепельницу, поправил без нужды ее и посмотрел пристально на Коростенского, испытывая к нему противоречивые чувства. Ему почему-то вдруг ужасно захотелось помочь человеку, сидевшему напротив, тем более что удовлетворить его просьбу не стоило особого труда.
— Итак, вы намерены испробовать еще работу кочегара? — спросил он.
— Да.
— Что ж, попытаюсь вам подсобить.
В переговоры капитана с отделом кадров комбината Давид Исаевич вслушивался напряженно. Резкий голос начальницы слышался из трубки.
— У меня молодежное общежитие. Одни фабричные девчонки!
— Вы, следовательно, опасаетесь за их нравственность? — Соловейчик покосился на Коростенского, словно силясь оценить его моральные устои.
— Мне не до шуток, — сердито проговорила начальница. — Не имею права засылать к юнцам, несмышленышам, матерого агитатора-антисоветчика. Сами же после будете честить меня, зачем допустила такое.
На миг капитан закрыл глаза, тяжело вздохнул.
— Беру ответственность на себя, — сухо проговорил он в трубку.
— Кабы к делу пришить ее, — отозвалась начальница.
Некоторое время трубка молчала, но Соловейчик не отнимал ее от уха. Женщина размышляла.
— Дерзнем, ладно, — проворчала она наконец. — Пусть приходит.
Прощаясь, капитан сказал с грустью:
— Будь вы врачом или инженером, вас быстро пристроили б к делу по специальности. А вы учитель, да еще словесник к тому же, литератор. Сами понимаете, что вас к идеологической работе допустить нельзя…
Жестокость, скрытую за этими словами, Давид Исаевич принимал умом, но не сердцем, душа его всеми силами сопротивлялась ей, при иных обстоятельствах он стал бы возражать, вспылил бы, наверное, однако теперь он был тронут действиями капитана, пожимающего ему руку, и потому низко склонил голову.
— Вам нужна цель, Коростенский. Больше той, с какой вы пришли сюда, — дружески произнес капитан. — Я бы посоветовал вам подумать об учебе. Заочной, разумеется. С техническим уклоном.
Вечером, после семейного совета, Давид Исаевич отправил сразу с десяток писем в разные города — во все отделения Всесоюзного заочного лесотехнического института. Через неделю на его запрос откликнулось Поволжское отделение. Там был недобор. Предлагали прислать заявление.
4
Не зря огрызался гром за Окой, когда Давид Исаевич миновал заводскую проходную и увидел над высокой кирпичной трубой темную тучу. Жди дождя. В кабинете Соловейчика быстро потемнело, в воздухе повеяло свежестью.
Обернувшись к приподнятой нижней фрамуге окна, Давид Исаевич шумно вздохнул. Платком вытер лицо, смахнул каплю пота, дрожавшую на кончике носа.
Первым его побуждением было, ничего не объясняя, тут же покинуть этот кабинет, спуститься по крутой железной лестнице в цех, наполненный гулом машин, пройти по длинному пролету мимо расставленных в елочку справа и слева токарных станков, толкнуть калитку в воротах и — домой, подальше отсюда, от неприятных призраков минувшего. Но он не поднялся и не ушел. «Дело, — сказал он себе, — прежде всего дело». Вцепившись пальцами в поручни кресла, Давид Исаевич покосился на Соловейчика и суховато произнес:
— Не рассчитывал увидеть вас здесь…
— Страшная штука — колесо счастья, — отозвался Соловейчик мрачно. — Никогда не знаешь, куда повернется, где притормозит. Я, кажется, тоже не в восторге от вашего визита.
Тень набежала на его лицо, он потер мундштуком трубки губу, горестно, с жалкой ухмылкой, добавил:
— Сегодня-то почему пожаловали ко мне? Вроде бы незачем…
— Видите ли, — взволнованный Давид Исаевич растерял те строгие, продуманные слова, какие намеревался сказать юристу, на языке его вертелись лишь витиеватые фразы, и потому он, сердясь на себя, засопел: — Предлагаем… Просим вас свой опыт положить на алтарь отечества…
Недоуменно поднял Соловейчик брови — густые с проседью, сросшиеся на переносье:
— Яснее нельзя ли?
— Ну всякие так кодексы, законы, уголовное и гражданское право знаете ведь… Хорошо знаете.
— Вполне возможно.
— Нам нужен куратор юридического отделения ФОП.
— ФОП — это что?
— Аббревиатура: факультет общественных профессий.
— Впервые слышу.
— Неудивительно. Явление в вузах новое. У нас в Мирославле ФОП всего два года существует.
— Стало быть, ваш институт будет выпускать теперь кроме педагогов еще и правоведов высшей квалификации. Так понимать прикажете?
— Не совсем. Главная наша задача остается прежней — готовить учителей. Окончившим институт будем, как и раньше, вручать дипломы учителей. Но мы рассчитываем дать студентам вторую профессию. Вспомогательную.
— Думаю, не дураки устанавливали программы пединститута и часы для усвоения этих программ. Учебные планы юридических вузов тоже не болваны писали. И тут и там в основном четырехлетнее обучение. Чтобы получить диплом, изрядно попотеть надо, от сессии к сессии работать. Так было всегда. Как же сейчас получается, в те же четыре года — два диплома вместо одного? Одним махом — двоих загребахом! За счет чего?
— Разумеется, они неравноценные, — силился объяснить Давид Исаевич. — Первый, учительский, — полнокровен. Все лучшее, что имеем, вкладываем в него.
— На долю второго, стало быть, остаются поскребыши, — перебил его Соловейчик. — Значит, вовсе не диплом это, так себе — малозначащая филькина грамота! Зачем тогда она?
— Человек, знакомый с законами, может не только выполнять их сам, пользоваться ими, но и сможет разъяснять их другим. Не так ли? Представьте себе, что наш выпускник, учитель, которого мы вместе с вами снабдили определенным запасом правовых сведений, приезжает в сельскую школу. В состоянии он передать школьникам эти сведения? А родителям своих учеников? Я не уверен, что деревенский житель знаком с законами в том объеме, какой необходим каждому человеку. И убежден: просвещать его следует. Нечего ждать, пока случай столкнет его с районной юридической консультацией. Да и пока еще государство не в каждом селе держит юрисконсульта.
Привалившись к спинке кресла, Давид Исаевич склонил голову так, чтоб легче было смотреть прямо в глаза Соловейчику.
— А разве лишь юридические знания нужны деревне? — продолжал он оживленно. — Иной стала она, крестьянин новый, не только к достатку тянется — к прекрасному, к искусству, к высокой культуре. А много ли на селе квалифицированных специалистов, которые могут удовлетворять его духовные запросы, лекции читать, организовать досуг, художественную самодеятельность? Поглядывает деревня на своего интеллигента — агронома, механизатора, медика, учителя, — надеется. А чем он может порадовать, если сам подчас мало что смыслит в физкультуре, музыке, живописи, поэзии, хореографии. Его самого прежде надо приобщать ко всему этому. Очень нелегко поддерживать души прекрасные порывы своих земляков, непросто самому находиться непременно хоть немножечко впереди других, вести за собой односельчан — и старших по возрасту, и особенно молодежь. Надо обладать, по крайней мере, минимумом навыков и умений. ФОП и пытается дать его студентам. Спасибо скажет та деревня школе, где один учитель может быть еще и режиссером — спектакль поставит, другой — хореографом, танцам обучит, а третий — художником, четвертый создаст хор, потому что сам великолепно поет, а тот — музыкант, эти — знатоки законов, инструкторы по различным видам спорта. Нет, второй диплом не такое уж пустое дело.
Прикусив трубку зубами, Соловейчик кашлянул:
— Сложно задумано. Не многовато ли от своих людей хотите? — Потом прищурился на Давида Исаевича: — Интересно, как вы все же попали ко мне?
— Товарищи посоветовали.
— Так. Виноват, а кадры для факультета общественных профессий вы как подбираете — как и меня? Кто под руку подвернется?
— Существуем на общественных началах, — пожал плечами Давид Исаевич.
— Простите, вы лично какое отношение имеете к этому делу?
— Я — декан ФОП.
— И тоже — на общественных началах?
— Да, мое партийное поручение.
— Вот как! — изумился Соловейчик.
— В крайнем случае мы в состоянии оплатить ваши труды. По рублю за час.
Горестно поморщился Соловейчик: «Значит, реабилитирован». В офицерском кителе, широкоплечий, он стоял, устало опустив руки по швам, и все равно не терял военной выправки. Приглашение манило его, но не очень радовало. Такого он мог ждать от кого угодно, только не от Давида Исаевича. Он понимал, что обижаться здесь бессмысленно. И все же в глубине души, боясь признаться даже самому себе, Соловейчик таил убеждение, что в те минувшие, бурные годы все было безупречным, так и только так, как жили и поступали, надо было и можно было жить и поступать, иначе мы бы не победили, рассуждал он, нас раздавил бы фашизм. Воскрешение Коростенского и свои невзгоды он так и не мог объяснить себе до конца.
Внизу, за окном, свистя, пыхтя, отдуваясь клубами дыма, заводской паровозик с натугою тащил платформы, груженные металлическим ломом.
— Важней всего, чтоб груз, который взвален на тебя, был по сердцу, — произнес Соловейчик сипло. — Тогда и надорваться не жаль…
Утешать Давид Исаевич не умел и все-таки чувствовал себя почему-то виноватым перед Соловейчиком.
— Были бы рады работать с вами в институте, — произнес он тихо.
— О своем решении сообщу попозже, — отозвался Соловейчик после недолгого молчания. — Позвоню. Телефон оставьте…
В голосе его Давид Исаевич ощутил холодок, может быть, даже враждебность.
БЕРЕЗОНЬКА
Семен — худощавый, широкоскулый, немного нахмуренный, прислонясь острыми лопатками, выпиравшими из-под спецовки, к спинке замусоленного сиденья в насквозь пропахшей бензином кабине экскаватора, ловко орудовал рычагами управления.
Всякий раз, когда ковш касался земли и начинал вгрызаться в нее, мотор, будто задохнувшись, переставал рычать. Но так только казалось. Стоило лишь Семену дотронуться до какой-то кнопки на приборной доске и потянуть на себя рычаг, как двигатель вновь начинал реветь и ковш наполнялся землей, тащил её к краю котлована.
Через прозрачные, хорошо вычищенные стекла кабины просматривалось соседнее заасфальтированное шоссе, обсаженное по обеим сторонам березами. Одна из них росла у самой кромки, далеко оторвавшись от соседних деревьев, и потому привлекала внимание. Семену иногда казалось, что выступила она робко вперед, намереваясь узнать, что же такое творит неподалеку от нее грохочущее чудище и где скрывается тот самый молодой человек, который каждое утро подходит к ней, прислоняется щекой к стволу, гладит его, приговаривая при этом: «Здравствуй, березонька!» А вечером, прощаясь, произносит: «Ну, до свидания, милая».
Теснота в кабине не огорчала Семена. Неудобств он не испытывал. Может быть, потому что вот так, ладони на рычагах, подошвы сапог — на педалях, он прошел военную службу танкистом в Германии, в тех дальних краях, где много лет тому назад, вот так же, ладони — на рычагах, сапоги — на педалях, отец его своим танком проламывал путь нашей наступавшей пехоте. С войны он не вернулся. Ему тогда не было и тридцати. Институт не успел окончить, и может, оттого и хотелось матери, чтобы Семен, вернувшись из армии, поступил в тот же институт, в котором учился отец, дабы продолжить его дело. Когда сын демобилизовался, мать сказала ему:
— Тебе надо учиться, и обязательно на дневном. Я помогу. Как-нибудь выдюжим.
Ответ Семена несколько озадачил ее.
— Спасибо, родная, — ответил он, — но такого подарка я принять не могу.
Вместо института Семен поступил в строительный трест. Потом, однако, принялся за учебу — стал студентом-заочником. В институт завлекла его одна хорошенькая бойкая девчонка.
Кроме Семена, на строительной площадке никто в этот воскресный день не работал. Выходной полагался и экскаваторщику, но накануне к нему подошел прораб и попросил выручить.
— Да мне же к экзамену готовиться, — возразил Семен. — Послезавтра сдавать.
— Выручай, — повторил тот. — Срочно в главке все переиграли и сроки сдачи котлована под строительные работы сократили на две недели. В тресте за глотку берут, послезавтра собираются плиты укладывать. Надо, понимаешь, ох как надо работы завершить.
— Да день до экзамена. Я же провалюсь с треском.
— Это ты-то провалишься? Что ты говоришь? У тебя же светлая голова. С твоей головой только в министерстве работать. Попомни мои слова, я еще буду ходить у тебя в подчиненных.
— По закону заочник имеет право на свободный день перед экзаменом. А тут воскресенье харакирят средь бела дня.
— Ну надо, понимаешь? Есть такое слово, помнить его ты должен.
— А если стану в институте должником? Тогда как?
Долгонько препирался Семен с прорабом, но кончилось тем, что уступил ему, согласился работать в выходной.
Мать, узнав о случившемся, поворчала, но и только. Бой дала ему ясноглазая подружка. Семен отбивался, хотя и понимал ее: ведь и впрямь есть опасность провалиться на экзамене. Недаром студенты шутят, что, сколько ни учи начертательную геометрию, все остается в пространстве — и ничего в голове…
Неожиданно совсем рядом прогремел гром. Семен поморщился, оценивающим взглядом окинул котлован. Не так уж много осталось выбрать грунта, успеть бы до дождя.
Небо заметно почернело. Подул ветер, поднимая пыль по дороге. Зашумели березы. Закачались ветки. Досталось и любимице Семеновой, ветер срывал с ветвей ее листья, гнул ее верхушку.
Семен прибавил в работе и, занятый делом, не сразу заметил полного мужчину и мальчика, подходивших к экскаватору. Увидел их лишь тогда, когда те оказались вблизи от опасной зоны.
— Стой! — закричал он и едва не выругался. Выключил двигатель и неожиданно узнал в одном из незваных гостей своего преподавателя, кому собирался сдавать злосчастную «начерталку». Разумеется, это он, его не спутаешь ни с кем — толстого коротыша. Семен с силой распахнул дверцу кабины:
— Какими судьбами, Давид Исаевич?
— Вот с товарищем прогуливаемся, — ответил тот, кивнув на малыша, который держался за его руку. — Мороженого нам не надо, дай только на машину посмотреть. Увидел экскаватор и загорелся: пойдем да пойдем ближе.
— Мужчина, — уважительно сказал Семен и доброжелательно взглянул на мальчишку.
Вновь прогремел гром, прямо над головой.
— Далеко, однако, забрались, — сказал Семен. — Дождя не боитесь?
— Мы живем рядом, — пояснил Давид Исаевич. — Вы-то как здесь очутились сегодня? Будней не хватает вам?
Семен развел руками.
— Прораб специально для меня работенку выдумал. Начхать ему на мой экзамен, — проговорил он и тут же умолк, подумав, что, пожалуй, напрасно сказал так: чего доброго, Давид Исаевич еще может подумать, будто у него заранее испрашивают снисхождения.
Но преподаватель только заметил с лукавинкой:
— Ваш начальник разве забыл, что для успешной сдачи экзамена студенту всегда не хватает одного дня?
Семен пожал плечами и, извинившись, принялся за работу. Включил двигатель, повернул стрелу, сбросил ковш на дно котлована и принялся забирать землю. Сосредоточенно работал он, нажимая то на одну, то на другую педаль и трогая поочередно рычаги руками, а мальчишка неотрывно следил за ним, его движениями.
Начал накрапывать дождь. Березы отражались в мокром асфальте. Деревья потемнели. Одна лишь Семенова березонька не сникла под дождем, даже стала красивей и стройней.
Малыш не уходил. Не уходил он и тогда, когда дождь начал прибавлять и отец настойчиво принялся звать его домой.
— Нет, — упирался мальчик, — если ты испугался дождя, уходи. Я останусь.
— Давайте его сюда, Давид Исаевич, — крикнул Семен, приостановив работу.
— Мы домой.
— Нет! Не-ет!! — рванулся мальчик к машине.
Отец вовремя подсадил его. Едва малыш успел забраться в кабину, как разразился настоящий ливень. Давид Исаевич юркнул под экскаватор.
— Поднимайтесь к нам, — позвал Семен. — Как-нибудь втроем уместимся.
— Спасибо. Может, не растаю и здесь.
Возбужденный и счастливый, мальчик держался за рычаги, прижимаясь к новому другу. Семен понимал его. Сам, кажется, совсем недавно был таким же сорванцом.
— Как тебя зовут? — спросил он у мальчика.
— Илья, — отозвался тот и тут же радостно воскликнул: — Эх, настоящая река потекла по дороге!
— Да, брат, силища! — вырвалось у Семена, и неожиданно для себя он ласково провел рукой по волосам мальчика.
— А ту березку, что одна, вода не снесет? — спросил Илья.
— У нее крепкие корни, не снесет, — успокоил его Семен…
На другой день утром, гладко выбритый, но невыспавшийся и озабоченный, Семен стоял у чертежной доски и остро отточенным карандашом строил на листе ватмана эпюр — отвечал на первый вопрос экзаменационного билета. Время от времени он косился на Давида Исаевича, который здесь, в аудитории, не казался коротышкой и толстяком. Удивительно. Однажды их взгляды встретились, но Семен поспешил отвести глаза, чтобы не выдали: из трех вопросов в билете он знал ответ твердо только на первый. Потому-то и торопился ответить на него, чтобы выиграть время и иметь возможность подумать над остальными. Что-то да вспомнит за это время. Все же начертательную геометрию он любил, неплохо в ней разбирался.
В аудиторию заглянуло солнце. Небо было ясным, чистым. Воздух свежий после вчерашней грозы.
Вместе с Семеном экзамен сдавали еще пятеро ребят. Давид Исаевич, протискиваясь по узкому проходу между чертежными столами, подходил к каждому, молча просматривал эпюры.
У стола Семена он задержался, любуясь из-за плеча студента красивыми линиями. Сочетание их передавало сложную мысль, читать ее доставляло наслаждение, какое испытываешь при чтении стихов. Такое сравнение возникло у Давида Исаевича, очевидно, потому, что он вспомнил вчерашние события: ливень, грозу, молнии, кабину экскаватора и примолкшего вдруг сына, когда Семен прочитал известные каждому с детства стихи о майской грозе. Этот парень нравился ему. «Вот кому со спокойной совестью поставлю отличную отметку», — подумал преподаватель, а вслух сказал:
— Рука уверенная. Тяга к графике есть.
Семен стиснул зубы: погодите вы с похвалами…
Отвечать он не выходил долго — третий вопрос не пускал. Со вторым более или менее разобрался, а вот с третьим — тут все как в тумане. Товарищи Семена успели все побывать у экзаменационного стола, и только троим Давид Исаевич поставил хорошие отметки. Двоим назначил переэкзаменовку. Не многовато ли? Что-то свирепствует… Семен потер нос. Страшновато? Наверно! Неужели он так и не одолеет третий вопрос? Был миг, когда и ему казалось, что он уловил за хвост жар-птицу, нащупал путь к решению задачи. Он ослабил узел галстука, который не давал ему свободно дышать, начал стремительно чертить эпюр, да так ретиво, что сломался грифель. Семен заточил карандаш, но нет — задача так и не далась.
С надутыми губами вытащил Семен кнопки, которыми в четырех углах ватман был прикреплен к чертежной доске. Лист бумаги тотчас же свернулся в рулон. Осторожно нес Семен его к преподавателю.
Выслушав ответ на первый вопрос и еще раз насладившись эпюром, Давид Исаевич произнес:
— Пространственные представления вам даются. Это хорошо. Продолжайте.
Он похвалил Семена и после ответа на второй вопрос, но после третьего заскучал. Он боролся с собой. Другого непременно прогнал бы, но Семена — не мог, никак не поворачивался язык сказать, чтобы пришел на переэкзаменовку.
— В общем там, — сказал он наконец и пододвинул ближе к себе зачетную книжку Семена. — Троечку я вам поставлю. Среднеарифметическую.
Несколько секунд экскаваторщик колебался, следя за тем, как преподаватель вытирает промокашкой кончик пера авторучки. И вдруг молнией сверкнула мысль: «Неужели плата за то, Что я мальчишку развлекал?»
Вздохнув и внутренне собравшись, он произнес тихо:
— Отдайте, пожалуйста.
Он даже начинал испытывать неприязнь к этому человеку, сидящему за широким двухтумбовым столом. Начинал испытывать неприязнь потому, что чувствовал: его жалеют и потому снисходительны.
— Что? — не расслышал Давид Исаевич.
— Зачетку верните.
— Иероглифы нарисую, распишусь, получите ее целехонькую.
— Не стою я тройки. Не заработал. А милостыни мне не надо, Давид Исаевич.
Семен ловко, почти неуловимым движением крепкой руки схватил зачетную книжку, пихнул в карман пиджака, поднялся. Он хотел сказать еще что-то вроде того, что больше всего на свете не терпит жалости к себе, что он не беспомощный петушок, в нем что-то все-таки от отца осталось. Но вместо этого лишь хрипло проговорил:
— На второй заход — когда?
— В любое время, — с облегчением отозвался Давид Исаевич.
Он смотрел вслед уходящему парню и думал: «Все правильно. Будет инженером. А я старею, становлюсь сентиментальным».
Семен бесшумно прикрыл за собой дверь. «Ушел на цыпочках», — решил было Давид Исаевич. Но через некоторое время из коридора до него донеслись гулкие, твердые шаги экскаваторщика. И он отчего-то тяжело вздохнул.
КЛЕНЫ
Хозяйка, у которой мы сняли нашу первую в Муроме квартиру, была с причудами, и целый год мы жили как на вулкане, каждый миг ожидая извержения. Такая зависимость утомительна. Но в конце концов нам помог педагогический институт, в котором мы преподавали: моя жена — русскую литературу, а я — начертательную геометрию. В одном из общежитий нам выделили две узенькие продолговатые комнатушки, без удобств, без кухни, но все равно мы были счастливы.
Вещи на новую квартиру перевозил нам дядя Самат, институтский возчик и будущий наш сосед. Я помогал ему носить и укладывать наши скудные пожитки на телегу, а потом разгружать их. Во время переезда я наблюдал за ним, стараясь по скупым его словам, манере работать угадать, что он за человек.
Дядя Сережа — возчик просил звать его именно так — все делал медленно, но с обстоятельной аккуратностью. Работал он большей частью молча, посапывая и покряхтывая, и лишь изредка поглядывал на меня своими добрыми раскосыми глазами. Первое впечатление редко обманывает. Дядя Сережа всем своим видом внушал доверие, и я подумал, что с ним можно будет поладить.
Еще было достаточно светло, когда мы, более или менее устроившись на новом месте, вышли во двор. Нас троих — меня, жену и сына Леву — сразу же окружила стайка черноглазых ребятишек, удивительно похожих на дядю Сережу. Старшему мальчишке я бы дал лет двенадцать, остальных мальчуганов я не успел как следует рассмотреть: меня отвлекла маленькая девочка с пухлыми, измазанными чем-то щеками и большими блестящими, словно крупная спелая черешня, глазами.
— Как тебя зовут?
— Люба.
Я погладил ее растрепанные волосы.
— А меня — Фарук!
— А я — Джаудат!
Дети кричали, перебивая друг друга, пихались, пуская в ход руки. Пузан чуть постарше этих двоих, расталкивая братьев, лепившихся ко мне, бойко горланил:
— Меня спроси! Я хочу, я скажу. Я — Ахмед.
Фарук разревелся. Поднялся невероятный галдеж. Лишь старший мальчик — худой, смуглый, большелобый — стоял молча. Но когда я спросил, как его зовут, чинно ответил:
— Генка.
Жена улыбалась, но глаза ее смотрели на меня с укором. Поди догадайся, что ее тревожит.
Вдруг откуда-то сверху раздался пронзительный крик. Мы обернулись все разом. Дети притихли. Из окна на втором этаже высунулась их мать, тетя Марьям, и что-то кричала неистово по-татарски, размахивая руками. Ее лоб был перевязан полотенцем, очевидно, от головной боли.
— Ужинать зовет детей, — сказала жена, выучившая татарский язык во время войны, работая учительницей в сельской школе.
Ребятишки нехотя стали уходить. Первым, схватив Любу за руку, пошел Генка. За ним потянулись и другие. Воспользовавшись тем, что никто не видит, Джаудат пнул ногой Фарука, и тот опять захныкал.
Дети ушли, а мы сели на лавку возле забора. По тому, как жена начала кутаться, запахивать полы своей разлетайки, я понял, что она хочет что-то мне сказать, но не решается. Обняв Леву, я сидел молча и ждал, догадываясь о причинах ее грусти. И точно. Вздохнув, она проговорила:
— Когда видишь тебя с детьми, с кучей ребятишек, понимаешь, что мы с тобой, в сущности, нищие…
Возразить было нечего. Долго, притихшие, сидели мы, прижавшись друг к другу, и смотрели, как догорает закат над нашим большим пустоватым двором.
— Хорошо бы здесь развести сад, — почему-то шепотом произнесла жена. — И цветы тоже.
Я засомневался:
— Фруктовому дереву против оравы дяди Сережи не устоять. А с цветами куры прекрасно разделаются.
Лева заметил:
— Есть сорта — куры не клюют.
— Слушай, Лева, — заговорил я громко, почувствовав себя на миг первооткрывателем. — Это идея! Ведь не обязательно фруктовые. Существуют же на свете и другие деревья.
На следующий же день мы начали готовить почву под саженцы. Это оказалось делом сложным. Давно, еще до революции, наш двор был постоялым. Хозяин для удобства вымостил его булыжником. Со временем над камнями наслоился пласт земли. Трава росла, но древесные корни пробиться сквозь плотно слежавшиеся камни не могли. Семейный совет постановил: булыжник убрать.
В разгар работы к нам, потным и возбужденным, подошла Люба и по-простецки, как старая знакомая, протянув ручку, тоненьким голоском произнесла:
— Здорово! Что делаете?
— Камни вынимаем, — объяснил я и протянул ей испачканную в земле руку. Девочка вложила в нее свою.
— Зачем тебе камни?
Мой ответ, видимо, удовлетворил маленькую соседку, и она принялась нам помогать. Девчушка старательно возилась с увесистым голышом, кряхтя перекатывала его. Не без помощи Левы взгромоздила камень на общую кучу и оглянулась — оценили ли ее усилия?
— Герой, — похвалил ее Лева. — Без тебя совсем мало было, а с тобой вот какая гора выросла.
Облегченно вздохнув, Люба опустилась на камень. Свой долг она выполнила честно, а устать каждый может.
Вскоре наше занятие заметили и мальчишки. Один из них, приоткрыв калитку, бочком протиснулся с улицы во двор, подошел к Леве и, дернув его за рукав, поинтересовался:
— Ты чего?
— О, Фарук явился, — произнес Лева, выпрямляясь.
— Я не Фарук, — сердито возразил мальчик. — Я Гумер.
— Если ты Гумер, бери с меня пример.
Бутуз шмыгнул носом, тронул ногой камень:
— Мне можно?
— Отчего же нет? Давай помогай.
Но мальчишка неожиданно повернулся и умчался прочь. Через несколько минут он вернулся вместе со своими братьями.
Ребята оказались на редкость работящими — от малолеток, конечно, толку было мало, но они очень старались, а старшие, особенно Генка, работали как следует. Не обошлось, правда, и на этот раз без скандала. Гумер и Ахмед подрались из-за камня, а Фарук разревелся без причины, хотя, может, кто-нибудь и обидел его незаметно.
Неделю спустя дядя Сережа привез саженцы. Он заехал во двор и, нисколько не заботясь о деревцах, приподнял плечом телегу с одного бока, и тоненькие кленики, шурша, разом сползли на траву.
Увидев отца, Люба опрометью понеслась к нему. Дядя Сережа, улыбаясь, смотрел на нее. Девочка подбежала, обследовала карман отца, вытащила конфетку-подушечку, подняла ее над головой и, вертя в руке, стала показывать приближавшимся братьям. Гостинцев хватило на всех. Я наблюдал за ними из окна.
Потом дети стали просить отца прокатить их. Дядя Сережа кивнул и тут же, подхватив под мышки Любу, посадил ее на телегу. Генка подсаживал малышей. С веселыми криками и под громкий рев Фарука, которого опять кто-то обидел, телега выкатила на улицу.
Работа была в самом разгаре, когда дети вернулись обратно. Несколько клеников были уже посажены.
— Опаздываете, помощники, — с притворной суровостью произнес Лева.
Дети молча топтались на месте.
До сумерек с помощью ребят мы высадили все деревца. Теперь нам оставалось только ждать, примутся они или нет.
Полили дожди. Вода затопила посадки. Мы очень переживали, не вымокли бы корни. Зимой пришла новая беда: снега почти не было, а морозы грянули лютые, превратились беззащитные деревца в ледяные сосульки.
Но, к счастью, наши опасения не сбылись.
Как-то ранней весной в институте меня срочно позвали к телефону.
— Почки набухают! — услышал я голос жены и, не поняв ее, заволновался.
— Что случилось?! — закричал я.
— Живые! Клены! Скоро листья распустятся…
Деревья росли быстро. Не знаю почему. Наверное, нам просто повезло — попался такой быстрорастущий сорт. Уже к середине лета даже мы, взрослые, могли прятаться в их тени от солнца, а детвора в жару вообще из-под их шатра не вылезала.
Однажды, в конце июня, я встал спозаранок и спустился во двор поразмяться на свежем воздухе. И тут я увидел Генку. Он как-то странно рассматривал клены.
— Нравятся? — спросил я его.
— Очень! — ответил он дрожащим, чужим каким-то голосом и, помолчав, добавил: — Гибкие…
Я с удовольствием подумал, что у мальчика развито чувство красоты. Это было приятно. Радовало и то, что Генка, как мне казалось, гордится плодами своего труда. Он действительно хорошо поработал при посадке деревьев. Но почему он смутился, встретив мой взгляд?
Через два дня, возвращаясь с работы, я столкнулся у калитки с Генкой. У него в руках был лук с туго натянутой тетивой и пачка стрел. Съежившись, он быстро прошмыгнул мимо меня. Ничего не подозревая, я вошел во двор. И опешил. Наших кленов не было. Вместо них из земли торчали голые жалкие рогатки.
Так вот из чего сделан Генкин лук!
В гневе я кинулся к соседям, но их не было. Жену и сына я тоже не застал дома. Прошло с полчаса. Обида во мне перекипела. Тут-то и появилась тетя Марьям. Она вошла с улицы, ведя за ручку Любу. Вся голова девочки была забинтована голубоватой марлей. И лишь ее глаза, как две крупные черешни, сверкали из-под бинтов.
— В больница ходили, — громко и сердито сказала тетя Марьям, как будто я был в этом виноват, однако на ее простом озабоченном лице было столько доброты, что сердиться на нее было невозможно. Она кивнула на дочурку. — На перевязка ходили. Стрелом Генка ранил.
Заплаканная Люба грустно улыбнулась.
Я ничего не сказал тете Марусе — так я мысленно называл нашу соседку Марьям — о погубленных деревцах. С нее достаточно и своих бед. Генку же я решил подкараулить. Но он упорно избегал меня. Встретились мы с ним случайно, у родника. Генка тащил в гору на коромысле два огромных, полных до краев ведра со студеной и, как все думали, целебной водой. Заметив меня, он покраснел и опустил голову, а мне при виде сгорбленной от натуги спины Генки стало неудобно. Ну что я ему буду выговаривать. Дети — всегда дети. Не могли же они остаться без луков, если ребята со всей улицы ими обзавелись. Я сделал вид, что не замечаю его, и молча прошел мимо. Огорченный, сердясь на себя, спустился я к роднику, нагнулся и погрузил свой бидончик в неутомимо бьющий ключ.
Все были убеждены, что деревья погибли.
Но случилось иначе. Обломанные ветки с еще большим упрямством, чем вначале, потянулись ввысь, к солнцу. Спящие почки на уцелевших ветках проснулись и с какой-то удалью пошли в рост. Так что к осени в нашем дворе вновь появилась кленовая рощица. Теперь она была лучше, чем прежде, двухцветная — нижние листья были темно-зеленые, а на новых побегах листья были нежно-зеленые с сизоватым отливом.
И все-таки мне надо было отругать Генку, сурово поговорить с остальными ребятами. Почувствовав себя безнаказанными, мальчишки во главе с ним совершили еще один страшный опустошительный набег на наши деревья — им понадобились палочки с замысловатой резьбой и вензелями.
Теперь от нашей рощицы остались одни пеньки. Больше молчать я не мог. Поднялась суматоха. Смешалось все: крик тети Марьям, вопли оправдывающихся малышей, угрозы дяди Сережи запороть Генку вожжами до смерти…
Лене стоило большого труда утихомирить всех.
Несколько месяцев подряд Генка старался не попадаться мне на глаза.
Наступила зима, метельная и мягкая, с частыми оттепелями, и укрыла снегом останки наших посадок. И мы постепенно стали забывать о них.
А весной свершилось чудо. Клены ожили и вновь пошли в рост.
Я глядел на них и думал, что, в сущности, удивительного ничего не произошло. Так и должно быть. Ведь корни не погибли.
А рубцы и шрамы? Что ж, без них, видимо, не обойтись…
ЧУЖОЕ МОРЕ
У моря на раскладном стульчике сидит молодой человек в легкой белой, распахнутой на груди рубахе. Его глаза, слегка прикрытые припухшими веками, печальны. И даже уголки его губ скорбно опущены вниз. Перед ним стоит мольберт с загрунтованным холстом, на котором виден лишь набросок какого-то стройного кудрявого дерева. Может быть, это эшель, который растет на ближнем холме и хорошо виден с берега голого и неуютного. В тех, дальних теперь краях, откуда приехал молодой человек, он часто рисовал на зеленом, усеянном цветами берегу Хопра. И люди, проходившие мимо, всегда с любопытством останавливались посмотреть, как он рисует. Правда, и здесь много людей, прогуливающихся по берегу. Но здесь толпа совсем иная — она не хочет замечать неизвестного художника. Гуляющие бездельники, новые эмигранты, отъевшиеся на дармовых пока хлебах, озабоченно приспосабливающиеся к обетованной земле, высоко ценили только общепризнанное.
Художника, однако, мало заботило, обращают на него внимание или нет. В этот момент он был далек и от этого чужого моря, и от этих незнакомых, гуляющих с напряженными лицами ротозеев. Тяжелые мысли о том, что он потерял, приехав сюда, точили его сердце. Особенно тяжело было думать об Ае.
Впервые он увидел ее на крутом берегу Хопра. Генэх не обратил бы внимания на незнакомку, если бы она случайно не взглянула на него необыкновенно ясными голубыми глазами.
Неброская красота девушки поразила Генэха. На мгновение он закрыл глаза, и в его воображении она превратилась в Музу.
Очнувшись, Генэх обнаружил, что девушка исчезла. Припадая на левую ногу, он бросился искать ее; обшарил ближайшие улочки и переулки — бесполезно, незнакомка как сквозь землю провалилась.
Весь остаток дня Генэх прослонялся без дела по притихшему от жары городку. Он не мог понять, что с ним творится. Знал лишь одно: очень хочется еще раз увидеть девушку, посмотреть в ее удивительные глаза. Вечером он вновь встретил ее на том же самом месте — на поросшей кустами акации круче, которая дугой выдавалась в Хопер. Незнакомка была со своею подругой. Они стояли обнявшись и смотрели вдаль на догорающий закат.
Генэх долго неуклюже топтался на месте, не решаясь подойти, а они, посматривая на него, весело перешептывались. Наконец он пересилил себя и подошел к ним, но тотчас с ужасом почувствовал, что язык не ворочается. Генэх стоял, грузный, смущенный, ничего не видя, кроме ясных голубых глаз, так поразивших его.
Тогда Ая, обращаясь к подружке, насмешливо произнесла:
— На мне узоров вроде нет. И что этот парень так уставился на меня?
— Не сердитесь, прошу вас. Я… Вы… Простите, — залепетал Генэх, побагровев. — Я должен вас написать…
Ая опустила ресницы, вспыхнув от смущения и гордости, и уже без озорства сказала:
— Может, сначала познакомимся?
Домой Генэх возвратился окрыленный: Ая обещала завтра прийти на берег Хопра, к той березке, что стоит, наклонившись над рекой.
Ая не обманула. Еще до ее появления Генэх установил мольберт, закрепил холст, аккуратно разложил кисти, краски. Как только Ая показалась, он бросился навстречу, взял ее за руку и так, за руку, подвел к скамейке, вросшей в землю на самом краю обрыва.
Усадив Аю, Генэх несколько минут пристально вглядывался в ее лицо и лишь после этого стал рисовать.
Ая понимала, что она нравится художнику, ей это было приятно, но не более… А Генэх ликовал. На него одного смотрели сейчас ее глаза, он один мог любоваться ее черными бровями, ее длинными, чуть изогнутыми ресницами, для него одного вздрагивал ее маленький подбородок. Рисуя Аю, Генэх испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение художника, когда к нему приходит вдохновение.
— Спасибо, Ая Васильевна, — сказал он добрым мягким голосом, окончив работу.
— За что? — игриво удивилась она.
Генэх ответил возвышенно:
— За радость, которую вы мне подарили.
— Все художники изъясняются так старомодно или только вы?
Генэх с грустью посмотрел на Аю.
Потом в одиночестве, в часы мечтаний и сомнений, вспоминала она его именно таким, каким запомнила в этот миг — немного растерянного, отчужденного, беспомощного, с высоким лбом и пушистыми бровями.
Каникулы кончились, и они больше не виделись.
Но однажды, случайно, они все же встретились. Генэх стоял возле заветной березки и смотрел на водяные блики. Уйти незамеченной Ая не захотела и поздоровалась.
— Долго еще я буду ждать своего портрета? — спросила она.
— Извините, но мне он нужней, чем вам, — поспешно возразил Генэх и стиснул в ладони пеструю от красок кисточку так, что она хрустнула. — Не хотел вас беспокоить, сама судьба вмешалась. Потому и скажу. Не знаю, как можно назвать то, что меня тянет к вам…
«Вот оно! — подумала Ая. — Но чем я смогу ответить?» И все-таки замерла, ожидая его признания.
— Красота — это дар, — произнес Генэх. Сказать о своем чувстве напрямик он не решался. — Я поклонник вашей красоты.
Ая слушала его молча.
Генэх наконец решился.
— Можете не слушать меня, можете презирать, но знайте: я люблю вас…
«Как приятно, когда тебе говорят такое», — подумала девушка.
Целый год она ничего не знала о Генэхе. Но прощальные слова его помнила, и они очень помогали ей. Ая чувствовала себя сильной и уверенной, намного уверенней и сильней, чем была в действительности: она знала, что любима, а для женщины это очень много значит.
Она окончила институт и собиралась ехать по распределению в сельскую школу. Накануне отъезда она пошла попрощаться с заветной березкой на высоком берегу Хопра. Все-таки немножечко Ая думала о Генэхе.
Еще не видя его, она почувствовала, что он где-то здесь, неподалеку. Она оглянулась и увидела Генэха; он радостно смотрел на нее своими большими глазами и молчал. Теперь он окончательно убедился, что разлука ничего не смогла сделать с его чувством.
Но в глазах Аи, в ее необыкновенных голубых глазах он, кроме тревоги, ничего не смог прочесть.
— Вы очень хороший, очень славный, — чуть слышно, волнуясь, сказала Ая. — Я боюсь вас сделать несчастным…
— Это-то вы как раз и делаете. И вы, в общем-то, правы, я недостоин счастья. Я уезжаю. Навсегда. Лечу в пропасть. Одно лишь ваше слово, и я останусь здесь, без родителей. Только одна вы можете меня спасти. А вы не хотите, отказываетесь сделать это.
Но Ая его не поняла.
Сам себя он тоже не смог понять.
Потому-то и сидит он сейчас на раскладном стульчике на берегу чужого моря и рисует не радующий глаз пейзаж. Рука его сама собой набирает краски и кладет на холст мазок за мазком, проворно, умело, упорно.
С моря дует ласковый ветерок. Генэх старается, работает усердно, творит свое привычное чудо, но набирает не те краски, какие сияют вокруг, а берет из палитры совсем иные: дорогие, далекие, милые цвета своей покинутой родины.
Вдруг за спиной Генэха громко заговорили праздные зеваки. С изумлением смотрели они на его картину. Не море, не эшель-дерево видели они, а сияющую в лучах восходящего солнца юную березку на берегу Хопра.
Кто-то вдруг тихо всхлипнул, а затем разрыдался в полный голос.
Генэх сидел, боясь оглянуться.
ПРУЖИНЫ
На крыльце звонко заскрипел снег.
Узнав шаги сына, Хава впопыхах накрыла голову фуфайкой и опрометью кинулась открывать дверь.
Даня ворвался в дом весь заиндевелый: белые брови, ресницы голубоватые, седой воротник пальто. Бросив в угол возле окна распухший портфель, он зубами стащил с рук заледенелые варежки и, швырнув их вслед за портфелем, стал дышать на окоченевшие пальцы.
— А здорово жжет! Мороз да еще ветер. Ох и есть хочу! Как волчина…
— Сейчас горяченького дам, — засуетилась мать. — Мигом.
Даня лукаво посмотрел на нее, разделся и сел за стол.
— Руки мыть! Эх ты, пятиклассник! Все напоминать надо.
— Ну, мам…
— Поговори еще. Живо! Не то отцу скажу.
Отца Дани звали Дойвбер. Он работал столяром на мебельной фабрике и слыл хорошим мастером. Укоряли его лишь за медлительность. Но Дойвбер в ответ ухмылялся, шевеля жесткими, с проседью усами:
— Нет дерева без сучка, а человека — без изъяна…
Платили ему за труды немного, рублей сто с хвостиком в месяц, по выработке. Иные получали втрое больше, и то порою ворчали. От него же никогда худого слова не слышали.
Никто не догадывался, что работает он вполнакала, бережет свои силы для других, не фабричных дел.
По вечерам Дойвбер спускался в полуподвал, где у него стоял верстак, закрывал фанерой оконце, выходившее во двор, приспосабливал яркую лампочку, включал плитку — разогревать клей, и начинал работать — для себя. В эти часы он преображался. И следа не оставалось от его медлительности.
Ел Даня быстро. Он вообще все делал быстро. Говорят, как человек ест, так он и работает. Дане эта поговорка нравилась, словно о нем сказано.
После ужина Даня спустился к отцу. Дойвбер встретил сына ласково.
— А, помогать пришел? Лады! Впрягайся давай. Отпили-ка брусок вот здесь, — показал он Дане на планку, расчерченную карандашом. — И вот тут. Смотри, торцы чтоб ровные были.
Когда Даня, умело орудуя пилой, сделал все, что надо, и показал брусок отцу, тот похвалил его.
— Молодец. За сервант сотнягу выручим. Думаешь, каждый может купить гарнитуры, сработанные в Праге или Риге? У меня получается не намного хуже. И за диван мы получим не меньше, он тоже — модерн, раскладной, может служить широкой кроватью. Правда, не хватает пружин. А как говорится, без пальцев фиги не покажешь…
— Надо достать, — озабоченно сказал Даня. Он прежде никогда не вникал в дела родителей и не знал, откуда все берется, где покупается. Но он неоднократно слышал, как отец говорил матери: «Надо достать», — и теперь он просто повторил эти слова.
— Да, браток, надо достать, — вздохнул Дойвбер. Вдруг он пристально, с угрюмой решительностью глянул на сына: — Кривой овраг знаешь?
— Еще бы! Весь излазил — вдоль и поперек.
— Великолепно. Ты вот что… Завтра приди ко мне на фабрику, — горячо и нервно заговорил Дойвбер. — Овражком. Там тропа есть. Лады?
— Понял, — отвечал Даня охотно. — Раз надо, приду.
Весь вечер Дойвбер старался угодить сыну. Он даже позволил ему немножко построгать зензубелем, чего прежде никогда не разрешал — берег редкую старинную железку.
Даня счастливыми глазами смотрел на отца. Он очень устал, но наверх, в комнаты, поднялся бодро и зубы почистил без указки, чем весьма удивил мать. В постель, однако, Даня уже свалился, а не лег. Была полночь. Засыпая, мальчик неожиданно услышал шепот:
— Зачем ты это?
— Пусть потрудится.
— Не впутывай его, не бери греха на душу.
— Молчи, корова.
— О господи…
Под тяжкий вздох матери и огорченный тем, что такой хороший человек, как отец, бранится, Даня уснул с улыбкой на губах. Он так и не понял, о чем шептались за перегородкой.
Проснулся он от холода. Утром стужа забралась к нему даже под пухлое одеяло. Даня нарочно не открывал глаза. Зажав ладони коленками, он притаился в постели. Несколько раз подходила к нему мать, осторожно поправляла одеяло, тяжко вздыхала.
«Что это с нею?» — думал Даня.
Когда он встал, Хава первым делом объявила, что в школу ему сегодня идти не надо.
— По радио сказали…
— Вот и хорошо. Мне как раз к папе надо.
— Сиди-ка, сынок, лучше дома, — просящим шепотом произнесла Хава. — Люто на улице.
— А я не боюсь. Буду закаливаться.
— Твоя воля, — вздохнула Хава, бессильно опустив руки. Лицо ее страдальчески сморщилось.
Одевшись, Даня побежал на фабрику.
В чистом небе ярко сияло солнце, но мороз нещадно щипал щеки. Мальчик закрывал лицо материнскими большими рукавицами на меху, щурил глаза и упрямо несся кружным путем к Кривому оврагу.
Еще издали Даня приметил мелькнувшую за забором высокую фигуру отца. Когда он подошел к пролому в заборе, Дойвбер, озираясь, подал ему туго набитую кирзовую сумку.
— Здесь что? — сдержанно спросил мальчик.
— Что? Что?! — рассердился Дойвбер. — Марш отсюдова! Понятно?!
И скрылся.
Даня пощупал сумку, расстегнул ее. Она была полна пружин.
«Почему он сердится? — подумал мальчик об отце. — И почему велел прийти сюда задами? Разве к проходной не мог он мне вынести эти пружины?»
И вдруг Даня сделал страшное открытие: «Украл! На фабрике украл!»
В первое мгновение он хотел спрятать сумку куда-нибудь подальше, закопать в снег. Даня сделал шаг в сторону, в сугроб, но в это время Дойвбер показался за забором и погрозил сыну здоровенным кулаком.
Растерянный мальчик побрел домой. Он не почувствовал, как с ресницы соскользнула слеза и, пока ползла к подбородку, превратилась в льдинку. Он шел спотыкаясь, с трудом неся тяжелую сумку.
Ветер, дувший прежде в спину, сек сейчас лицо. Но Даня теперь не закрывал щеки рукавицами. Он думал об отце. «Как же это? — недоуменно спрашивал он себя. — Значит, папа ворует и вот таким способом в нашем подвале все появляется. Там все ворованное».
С этой мыслью Даня примириться не мог. То, что он узнал, было ужасно.
Какая-то встречная женщина, взглянув на него, ахнула:
— Быстрее потри нос! Отморозил! — и стала ему помогать. — В такую стужу ребенка на улицу пускают, — возмущалась она. И шла с Даней до тех пор, пока тот не сказал, что он пришел домой.
Увидев сына, Хава всплеснула руками:
— Что с тобой, Данюшка?!
Мальчик грустными глазами посмотрел на мать и отвернулся. Он боялся зареветь.
До самого вечера Даня не проронил ни слова.
— Радуйся, — сквозь зубы процедила Хава, когда муж переступил порог, возвратясь с работы. — Говорила тебе… Просила.
— Смирно! — произнес Дойвбер, тревожно косясь на жену, которая стояла с утюгом в руках у кучи белья. Из-за белоснежной простыни столяр заметил высунувшиеся концы красного галстука сына и поморщился. — Данька где?
Поджав губы, Хава кивнула на перегородку.
Несколько мгновений отец и сын хмуро стояли друг перед другом.
— Ничего, заживет, — сказал Дойвбер, осмотрев пятна на лице сына.
— Я завтра обратно отнесу, — отчетливо проговорил Даня. Губы его дрожали.
— Щенок! — взвизгнул столяр. — Погубить хочешь? Я те отнесу, молокосос!
До этой минуты мальчик в глубине души надеялся, что все будет хорошо, что все, все объяснится, уладится. Но его надежда не оправдалась.
— Как сказал, так и сделаю! — с упрямой решительностью подтвердил он.
С перекошенным от злобы лицом Дойвбер шагнул к сыну.
Хава мгновенно выросла между ними.
— Дойвбер, опомнись! — закричала она, расставив руки.
— Все равно отнесу! — отчаянно произнес Даня.
Дойвбер грубо отстранил жену, сделал еще один шаг и оторопел: большие глаза сына теперь были стального цвета и смотрели твердо и решительно.
СТАРУХИНА КОМАНДИРОВКА
Жена столяра Матвея Гринмана, которую он при народе величал Басей Наумовной, а наедине с грубоватой лаской звал просто старая, задумала приобрести поросенка. Страсть держать в хозяйстве живность засела в ней с тех самых лет, когда она, еще молодая, вместе со всей семьей — отцом, матерью да девятью братьями и сестрами — работала на земле. Это было в Крыму, близ Джанкоя.
Бася Наумовна шныряла по всему базару, металась между торговыми рядами… Нелегко ей угодить. Сами судите: тот дорог, этот беспородный, третий вроде и по цене подходит, и породой вышел, да уж больно худ. Вот тут кто-то и надоумил ее съездить в Ставищи. Колхоз-де продает. Лучше, говорят, не сыщешь нигде. И дешево, и выгодно.
На подъем Бася Наумовна была уже, увы, тяжеловата. Путешествие бог весть куда пугало бедную женщину. Подумала-подумала, да и перепоручила она это дело мужу. Вместе с деньгами Матвею, само собой, были даны и строжайшие инструкции.
Поездка та долго откладывалась, никак не удавалось заполучить отпуск. Тормозил начальник цеха. У того каждый раз находилось для Матвея какое-то спешное задание. Но однажды он сам взял да и подошел к мастеру.
— Собирайся, — бросил тот. — В деревню строители едут. Прихватят тебя. Обратись к технику. Живо.
Мебельный комбинат, где столярничал Матвей, строил в тех самых Ставищах птицеферму. Шефский подарок фабрики. Кое-что сделал для новостройки и Матвей: связал оконные рамы, дверные полотна сколотил. Было дело. Было, да забылось. С верстака долой — из головы вон. Об этом и напомнил техник-смотритель.
В грузовик набилась бригада плотников. Матвей успел сбегать домой, к своей Басе Наумовне, и вовремя вернуться. Тяжело дыша, он подошел к кабине.
— Мое почтение гвардейцу! — бойко окликнул техник. — Узнаю! Как же! Спасибо за окна-двери. В помощь нам? Милости просим.
Матвей нахмурился, зажал крепко под мышкой мешок, впопыхах сунутый ему женой, обронил:
— Я к вам не касаемый. Вы — особо. Я — сам по себе.
— Пассажир, значит? — усмехнулся техник. — И такое бывает.
Выехали в поле — и остановились: на обочине дороги стояли женщины, нагруженные котомками, корзинами, ведрами. Их было человек десять. Перекрикиваясь, они дружно замахали руками, платками, сумками. Техник, наполовину высунувшись из кабины, с интересом наблюдал, как те, задирая юбки, перебирались через борт кузова. Матвею показалось, что тому в сутолоке удалось ущипнуть зазевавшуюся молодуху. Все это проделывалось с хохотом, визгом, перебранкой.
— По полтинничку, подруги! — весело предупреждал техник.
Не проехали и двадцати минут, как машину резко качнуло, подбросило вверх, мотор принялся кашлять, отплевываться, пока не захлебнулся вовсе. Стало тихо. Остро запахло бензином.
— Слезай, приехали! — грустно пошутил кто-то из молодых.
Шофер, похоже, безуспешно нажимал на стартер. Из-под капота доносились звуки, словно куры закудахтали. Но двигатель не заводился. Водитель вылез из кабины, поднял капот, завозился внутри мотора.
Первыми спустились на землю плотники, женщины остались в кузове.
— Потерпите, лапушки, потерпите, дорогуши, — улещивал их техник. — Айн момент.
Но и его терпению пришел конец.
— Протух, — подытожил он, презрительно покосившись на шофера. — Может ему кто-нибудь помочь? Эй, народ! Ну а если нет, так ножками пойдем. — И зло добавил сквозь зубы: — Наладит, догонит. А не наладит, пусть загорает…
Матвей смотрел на техника с тоской и некоторым недоумением. Чего добивается? Что человеку надо? А тот говорил и говорил, и трудно было понять: ругается он, шутит или оправдывается…
— Ведь как руки устроены? Куда загребают? К себе! Не от себя! Думаешь, случайно? — обратился техник к Матвею.
До Ставищ отшагали порядочно. Матвей устал. Поравнялись с недостроенной фермой. Плотники, не дожидаясь приказа, принялись каждый за свое дело. Матвей смущенно присел на бревно, тут же рядом; решил малость отдохнуть, да и сам не заметил, как задремал, медленно съехав на траву. Разбудил его глухой стук. Он встал, поежился, с виноватой улыбкой попросил топор у мальчишки, обтесывавшего толстенную балку.
Работа увлекла его. Он разогрелся, но топор отдавать не спешил. Усталости не чувствовалось. Даже шумного техника, появившегося с незнакомой седой женщиной, он встретил почти дружески, примирительно погладив усы.
— Сама видишь, работа кипит, а ты туда же — ругаться… — горячился тот, энергично размахивая рукавицами перед самым лицом женщины. — Выпиши, не тяни.
Матвей насторожился.
— Обещала или нет? — наседал техник. — Где же твое слово? Козе под хвост…
— За работу можно и центнер, и десять, — отбивалась женщина. — Есть у нас в закромах. Не обеднеем. А тебе, болтуну, бесстыжие твои глаза, и килограмм картошки жалко дать. Сколько денег израсходовал, а что понастроил? В чайной наряды закрываешь…
— Мое дело. Где хочу, там и расписываюсь. У меня кабинетов нету, как у некоторых. Я в твои председательские дела не лезу. И ты мне не указ…
Матвей крепко взял техника за рукав и оттащил в сторону:
— Прищеми язык, сынок. Не позорь фабрику.
— Отставить, батя! Кругом марш!
Матвей схватил техника за отвороты куртки, притянул к себе. В нем было, наверное, что-то страшное — техник как-то вдруг обмяк.
— Ладно, отпустите, — тихо попросил он.
До самого вечера Матвей помогал плотникам и лишь к сумеркам, увидев фабричный грузовик, не без шика подкативший к птицеферме, спохватился:
— Поросенок!
Работу все равно надо было кончать, и плотники всей бригадой направились к правлению колхоза.
— Помогу вашему горю, — сказала седая председательша, выслушав рассказ о поросенке. — Жена пилить не станет. Удовлетворим тебя, мил человек, — добавила она, обернувшись уже к Матвею. Улыбка изменила эту женщину. Перед Матвеем стоял добрый, умный человек.
Действительно, инструкции Баси Наумовны не пригодились. Матвею выбрали отличного порося. Недаром Ставищи славились своими породистыми свиньями по всему Мирославльскому району.
Сунув приобретение в мешок, Матвей поблагодарил председательшу, низко поклонился ей.
— Вы ему командировку отметьте, — весело кто-то бросил председательше.
— Давайте, — серьезно отозвалась женщина и недоуменно подняла глаза на плотников, когда в ответ грянул хохот.
Техник с напускным равнодушием кивнул Матвею:
— Залезайте к шоферу, я — к ребятам, в кузов. Воздухом подышу.
Рука техника тоскливо скользнула по дверке кабины. Без желанной картошки, нехотя взобрался он в кузов. Чувствовалось, что место он уступал Матвею без особого желания. Вспомнилось утро, самодовольный вид этого парня, его фраза: «Как-нибудь дотрясусь в кабине…» Матвей глянул на ребят и почувствовал: они поняли и одобряют его.
ПОДАРОК
В лавку с вывеской «Вино» Акива вошел с твердым намерением купить чего покрепче. Это для себя. Для жены — бутылку шампанского. Как раз сегодня она возвращается из санатория. Как говорится, дорога ложка к обеду. Вообще-то он выпивал редко, от случая к случаю. Такой случай представился: командир части, в которой служил его сын Арон, прислал родителям благодарственное письмо. Их, родителей, благодарили за воспитание хорошего гражданина и воина, доблестно выполняющего свой интернациональный долг. У Акивы имелись особые причины гордиться таким известием. Потому он и подумал, что не грех пропустить по стаканчику.
В заставленной тарой лавке не оказалось ни чекушек, ни шампанского.
Продавщица равнодушно уставилась на Акиву:
— Вы что, гражданин, с луны свалились? Чего захотели.
Она лениво кивнула на бутылку коньяка:
— Берите. Роскошный коньяк. Дороговат, но не дороже денег.
Акива замешкался.
— На двоих сообразим, батя? — услышал он у самого уха и обернулся.
Молодой человек с худым, небритым лицом, с черными мешками под глазами мрачно глядел на него в упор.
Акива не стал бы составлять компанию этому неопрятному парню. Вид у него был не из приятных. Случайных собутыльников Акива не терпел. Но в лице незнакомца он уловил какую-то беспомощность. Это было неожиданно. То ли растерянность, то ли отчаяние… Показалось даже, что тот просит о помощи, а отказывать в таких ситуациях Акива не умел. Он согласно кивнул головой.
— За угол завернем, — нетерпеливо произнес незнакомец, зажав горлышко бутылки мясистой ладонью.
— Э нет, брат, — возразил Акива твердо. — Я так не могу. Мы с тобой сейчас сядем за столик в какой-нибудь приличной столовой, а может быть, и в ресторане, закуски спросим. Все чин чином. Так-то лучше будет. Повестку дня утверждаем?
Парень махнул рукой:
— Мне все едино. Против — нет, воздержавшихся — нет. Принято единогласно.
По тому, как парень небрежно, даже с некоторым равнодушием разливал коньяк, нисколько не заботясь, чтобы рюмки были наполнены на одинаковом уровне, Акива понял, что его случайный знакомый такой же питух, как он сам. Что-то необычное было в этом человеке. Так слово за слово и парня потянуло на откровенность. В семье нелады, с молодой женой никак язык общий не найдет, по ночам досаждает дите. Словом, карусель такая, что спасу нет.
— Характерами не сошлись, — хмуро говорил парень, поглядывая на коньяк, схожий по цвету с круто заваренным чаем. — Бежать надо куда глаза глядят.
— Да, брат, скрутила тебя беда, — с пониманием отозвался Акива. — А ты того, не робей. Ко всякому она дорогу найдет. Как говорится, чужую беду руками разведу. Так и с тобой… Встревать в твои дела чужому человеку никак нельзя. Тут каждый сам перед собой ответчик. Только знай, из любого горя всегда есть два выхода. Либо туда, либо сюда. Я тебе про себя расскажу.
Акива начал издалека, не торопясь, не скупясь на подробности. Но незаметно разволновался, стал перескакивать с одного на другое, забегать вперед… Словом, горячился.
Парень же поначалу слушал рассеянно, думал о собственных обидах, невысказанных словах. Однако постепенно до него стал доходить смысл Акивиного рассказа. Свои беды как-то отступили, их вытеснили чужие. Странное дело, но история Акивы, человека неизвестного, случайного, воспринималась как своя собственная. Он будто сроднился с ней. Хотя какая это история… Обыкновенная, у каждого такое может случиться.
— Не знаю, брат, что тебе поможет, а меня из беды выручила сама же беда, — улыбнулся Акива.
Рассказывал он не очень гладко, словно пробуксовывал. Временами ему самому казалось, что он будто тесто месит в кадке, как когда-то это делала мать. Ну что ж, пусть тесто… Зато Акива видел, как его рассказ увлекал парня, задевал за живое. Не исключено, что этот странный парень даже все это довольно хорошо себе представлял. Может, он все это видел…
Например, видел, как на гребне широкого оврага, где стоит мебельная фабрика Акивы, еще совсем светло, но чуть пониже снег уже подернут голубизной. Видел нагую старую березу, что бесстыдно раскинула ветви. Одиночество и невзгоды сделали свое дело — ствол ее почернел и огрубел. Видел он и Акиву в закатных сумерках.
Сидя за рабочим столом, не поднимаясь, мастер протянул руку и привычно нащупал на стене выключатель. Свет залил тесную конторку — словно раздвинул ее стены. За небольшим окном сразу стало как-то темно. Только между ветвями рябины, на смерзшихся красных гроздьях вспыхнул отраженный свет.
Мастер минуту глядел на рябину, на снег, тяжело вздохнул, отвернулся от окна. Ему, мастеру Акиве, надо было срочно выписать наряды на следующий день. Это для столяров. Машинально он придвинул к себе бланк, щелкнул ручкой, вывел фамилию — Аронов. Эта фамилия как раз и заставила его вспомнить о сыне: Арику исполнилось тринадцать лет. В суматохе дня чуть не забыл о дне рождения наследника.
Через распахнутую дверь конторки из цеха врываются точно охрипшие за день голоса лучковых пил. Сердито, устало ворчали рубанки. Ожесточенно ухали деревянные молотки. Рабочий день вообще-то закончился, но все оставались на своих местах. Это всегда так в последние дни месяца — всеми правдами и неправдами план должен быть выполнен. В такой спешке, в такой напряженке забудешь, как тебя зовут, не то что день рождения.
И все же он испытал горькое чувство то ли вины, то ли досады. На какое-то мгновение мастер задумался, подперев по привычке тяжелый подбородок шершавой рукой. Красным шнуром обозначился кривой шрам — от виска до нижней губы. Рывком выхватил он бумажник из бокового кармана, пересчитал деньги и, на ходу натягивая на себя полушубок, бросился к выходу.
Вдоль оврага, потом резко вверх… Так быстрее, хотя и опасно.
Ноги скользили по обледенелой тропе, расползались в стороны. Акива спешил к торговой площади. Три пота с него сошло, пока добрался он до магазина. Да еще этот ветер ноябрьский, колючий — тяжело дышать.
«Спорттовары» были переполнены, к прилавку пришлось проталкиваться локтями.
— Коньки. И ботинки к ним, — выдохнул Акива и добавил: — Сыну.
— Какой размер?
Размер? Да он понятия не имеет, какой размер. Бледнолицая продавщица уныло замечает:
— Мужчины… Ничего не знают. За все жена отвечай!
Растерянный, он виновато произносит:
— Мне бы какой-нибудь подарок, на день рождения.
— Лыжи возьмите, — снисходительно роняет бледнолицая. — Подойдет?
Господи! Конечно, подойдет! Зажав покупку под мышкой, он зашагал по скупо освещенной улице. Из тьмы выплыл дом с занавешенными, знакомыми до горечи окнами. Акива словно споткнулся. «Да, пронеслась, отшумела наша юность… А может, и не шумела она вовсе?» Вопрос этот возник как-то вдруг. Будто освобождаясь от мрачных предчувствий, от собственной нерешительности, он упрямо мотнул головой и затем твердой поступью зашагал к дому, в котором больше года прожил хозяином, качал на руках сына… Отсюда ушел в армию, сюда вернулся после службы. Вернулся — и вновь оставил его осиротелым…
Семья распалась внезапно, в первую же неделю после его возвращения из армии. Соседка шепнула, что Эстэр в его отсутствие не скучала. Он тут же устроил ей допрос. Эстэр отрицала все, отвечала ему зло и резко. Разгоряченный Акива грозил, говорил что-то обидное. Скандал кончился его уходом. Дня через три он вернулся. Теплилась надежда, что соседка попросту наврала. У бабы был злой язык. Но Эстэр… она во всем призналась.
Молодой человек с худым небритым лицом внимательно слушал Акиву. Его сжатые кулаки припечатались к столу. Акива вроде бы и не замечал его. Внезапно он ощутил свое сиротство, свою бездомность. Эстэр… Как это она тогда сказала?.. Рука с силой сжимала рюмку. Коньяк нагрелся, его мягкая влага успокаивающе разлилась в растревоженной душе Акивы.
…В смятении покинул он тогда свой дом, пил-гулял с дружками месяца два. Эстэр звала, совестила его, просила простить. Но, видно, слишком сильной казалась тогда обида. Однажды, пьяного, его подобрала давнишняя знакомая. Так и завязался нехитрый узел, разрубить который не хватило сил.
Жил Акива с новой женой без радости. Весь день проводил на фабрике, дома чувствовал себя одиноким. Встретил как-то Эстэр и понял, что без нее не жизнь, а мука. Но ничего не сказал ей Акива, промолчал.
Да и Эстэр не стала ворошить старое. Один раз уже обожглась. Всю себя без остатка отдала сыну. Много раз пытался Акива пробиться к Арику, достучаться до него. Но между ним и сыном стояла Эстэр. Скрывала она от сына его существование.
Густые, блестящие, точно подкрашенные брови Акивы сошлись у глубокой морщины на переносице. Глаза его равнодушно смотрели на остатки коньяка.
— Мать Арика была работягой, на хлеб зарабатывала, и на молочко оставалось. С пацаном она вроде бы справлялась. Ей стало трудно, когда он подрос. Арик упрямо ускользал из-под ее власти. Но гордая… — меня на помощь не позвала. В одном, правда, уступила: ежегодно, в день рождения сына, позволяла посылать ему безымянные подарки. В тот зимний вечер я опоздал с пересылкой и принес подарок сам. «Как-то меня встретят? — тревожно думал я, подходя к крыльцу. Это крыльцо я сам ремонтировал полтора десятка лет назад. — Поди, в дом не пустит…» Поднялся по заснеженным ступеням, постучался, но так робко, что сам еле услышал стук. Ждал долго. С реки ветер дул, зябко было, но не от этого внутри все захолонуло. С упавшим сердцем дернул ручку двери. Просунул лыжи в сени, потом сам прошел, жмурясь от яркого света, задвинул щеколду — она была на старом, привычном месте. «Арик дома?» — спросил почему-то шепотом. Эстэр молчала. Она стояла, прислонясь к косяку двери, маленькая, полная, как прежде, и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Такая мука была в этих глазах… А еще волосы… У нее из-под шали выбились волосы. Они серебрились! Это было новостью для меня. «Опоздал я… с этим, — пролепетал я, кивнув на лыжи. — Вот и… Извини». Голосом злым, надтреснутым она произнесла: «Зря старался. — И вдруг, словно ее прорвало, заголосила громко, по-бабьи: — Нет Арика! Не уберегла…» Круглые плечи ее тяжело затряслись. Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица, и шагнул к Эстэр: «Умер?» Она мотнула головой, простонала сквозь слезы: «Все равно что умер. В милиции он. С хулиганами спутался. О господи!» Рыдания сотрясали ее. Я неуклюже потянулся к ней, и она, позабыв обо всем, что случилось между нами, бессильно прильнула ко мне.
Акива перевел дух. Допил коньяк, вытер рот тыльной стороной ладони.
— Так-то, брат. Горячиться в семейном деле строго воспрещается. Тут нельзя думать только о себе. Сто раз прикинь, а уж тогда, если иначе невмоготу, делать нечего — оторви… А то вся житуха наперекосяк поплывет. Не каждого, как меня, оплошка выручает. Семья — это дело святое. Тут и забывать, и прощать надо уметь. Если, конечно, все настоящее — чувства и прочее… Знаешь, сколько мы с Эстэркой натерпелись, пока Арика нашего до ума довели.
Молодой человек молча смотрел прямо перед собой. Потом чокнулся рюмкой о пустую рюмку Акивы и рывком, запрокинув голову, вылил весь коньяк в рот. Он равнодушно посмотрел на недопитую бутылку, поднялся:
— Ну, будь, батя. Спасибо на добром слове.
Ссутулясь, он шел прочь от Акивы, и вскоре тот уже не смог различить его в толпе.
НЕЖДАННЫЙ
Рано поутру Степан Фомич и его жена Симочка поливали цветы. Симочка, с подогнутыми выше локтей рукавами яркого халатика, осторожно колдовала над какими-то нездешними кустиками в ящиках, плошках, крынках, банках. Все подоконники в доме Степана Фомича были заставлены этими цветами. Горшки с этой экзотической красотой стояли и на полу, и на тумбах, и даже на телевизоре. Муж следовал за Симочкой по пятам. В одной руке он держал ведро, в другой — кружку. Не оборачиваясь, она протягивала руку, получала от Степана Фомича полную кружку воды и уже пустую возвращала ее назад. Степан Фомич подавал кружку осторожно, тихонько, старался не расплескать воду. Выполнял он свои нехитрые обязанности смиренно, словно подсмеиваясь над собой. Более того, они доставляли ему удовольствие — он любовался женой.
Они прожили вместе двадцать лет, но в их отношениях не было ощущения привычки: она влекла его к себе, как прежде. Смотреть на нее, следить за ее изящными и сильными движениями, вдыхать нежный, такой неповторимый запах ее волос, затянутых в тугой узел на затылке, он мог бесконечно.
Симочка растворила окно. В комнате грустно запахло розами.
— Мы тут священнодействуем, стараемся, ждем чуда, а оно — вот оно, пожалуйста: пришла пора — и цветет. Дыши, наслаждайся, лови мгновения — они прекрасны! — произнес Степан Фомич так, словно продолжал старый спор и нашел еще один довод в свою пользу.
— Тише. Маленькую разбудишь, — отозвалась Симочка.
Выражение досады на ее лице неприятно задело Степана Фомича. С ней такое порой случалось. То вспыхнет пламенем… словно опалит. То станет чужой, холодной. Резкие перемены в ее настроении пугали мужа, будили тревогу, которую он старался заглушить. Зачем лишний раз травить себя? Степан Фомич уважал жену, даже ценил, гордился ею и потому сколько мог берег от житейских невзгод. Он любил ее и этим был счастлив.
С минуту Симочка жадно глотала медовый воздух и затем прошептала:
— Удивительно, как разрослись наши розы. Вот буйство-то! Кто бы мог подумать…
— Всему свой черед.
— Тебе разве не хочется, чтобы так благоухало круглый год?
— Роскошь, — улыбнулся Степан Фомич. Он заглянул в смуглое лицо жены, в ее серые глаза, скрытые сейчас ресницами. — Зачем? Излишество — это то, что могут себе позволить лишь люди.
Ненакрашенные губы Симочки вздрогнули. И его улыбка, и смысл сказанного — все вызывало в ней протест:
— Такой праздник… Пусть! Не хочу обкрадывать ни себя, ни все, что меня окружает. Представь, осень в цветах… или зима… Что может быть прекраснее?
Она начинала хмуриться, и Степан Фомич поднял руки вверх.
— Сдаюсь, — улыбался он, не подозревая, что именно этой своей улыбкой раздражал жену. — Сдаюсь, но и беру в плен, — тихо добавил, обнимая жену.
Симочка, морщась, высвободилась из его крепких объятий сталевара и проронила небрежно:
— Отстань. Некогда.
Степан Фомич вздохнул. И огонь, и металл были послушны ему, как дети. Перед нею, такой маленькой, такой хрупкой, он робел — и не только потому, что считал себя неровней ей, доценту, математику божьей милостью, имя которой было известно в нашей и зарубежной науке. Он робел перед ней как перед любимой женщиной.
Кто-то постучал в дверь, неуверенно, будто украдкой.
— Должно, опять заочники к тебе, — угрюмо произнес Степан Фомич. — И в воскресенье покоя не дадут. Стыда нет.
Он направился открывать дверь, подтягивая на ходу штаны пижамы. «Давно следовало сменить резинку. Ослабла, — ворчал он, прислушиваясь к возне за дверью. — Принесла нелегкая. Ведь знают, что нехорошо, а прутся…»
Степан Фомич рванул на себя дверь, скользнул взглядом по пришельцу — сверху вниз, от пожелтевшей соломенной шляпы до сандалет — и почему-то еще больше нахмурился. То ли оттого, что мужчина, переминавшийся с ноги на ногу у порога, был уже далеко не молодым человеком и должен был понимать, когда можно, а когда и нельзя беспокоить чужих людей. То ли оттого, что неевропейское лицо незнакомца выражало нечто общее для всех заочников, а Степану Фомичу осточертели такие одинаковые виноватые и потому какие-то неестественные, деланные лица. То ли по иному какому-нибудь неосознанному тревожному предостережению, закравшемуся внутрь, но Степан Фомич ощутил в себе странное нерасположение к гостю.
Тот потоптался еще немного на месте и, не спуская глаз со Степана Фомича, робко произнес:
— Таблички на двери нет. Простите. Возможно, я не туда попал. — Он тихо вздохнул. — Серафима Ильинична проживает здесь?
Возможно, незнакомцу показалось, что Степан Фомич медлил с ответом или не понял вопрос, и он добавил:
— Доцент Левина здесь живет?
— Проходите, — сухо ответил Степан Фомич. Он проводил гостя в комнату, предложил присесть. «На пенсию давно пора, а он на экзамены», — жестко подумал хозяин, отметив про себя, что и гость, теребя на коленях края шляпы, украдкой разглядывает его. Что-то незнакомое было в этом взгляде. Никто из заочников так на него не смотрел. Степан Фомич почувствовал, как нарастало в нем недоброе отношение к этому человеку. Быстрее бы уйти. Но жена не спешила выйти к гостю.
— У вас здесь райский уголок, — произнес тот.
— Не жалуемся.
— Позавидуешь вам.
Глаза мужчин встретились. Не выдержав тяжелого взгляда Степана Фомича, незнакомец опустил веки.
Он поднял их только тогда, когда из спальни показалась Серафима Ильинична в светло-сером костюме, который так резко подчеркивал ее широкие плечи и девически тонкую талию. Он резко поднялся, стремительно подался вперед и — словно споткнулся.
Замерла и Серафима Ильинична.
Степан Фомич заметил, как, мгновенно побледнев, она слегка пошатнулась. Он проворно поддержал ее под локоть.
— Ничего… Сейчас, — глубоко вздохнула она и прислонилась к мужу.
Он слышал, как отрывисто, короткими толчками билось сердце жены. Вдруг ему показалось, что оно остановилось — только на миг — и потом вновь ожило, уже ровнее, тише отбивая свой такт. Но теперь уже Степан Фомич услышал перебои собственного сердца. Что-то подсказывало ему, что этого гостя с чужим, непривычным лицом следует выгнать вон, вытолкать взашей. Даже если он заочник. Одно только слово жены — но она молчала. В ее взгляде Степан Фомич различил и гнев, и досаду, и жалость, и еще что-то такое, что не поддавалось определению.
Серафима Ильинична медленно подняла руки и, сжав виски, произнесла:
— Это Григорий… Семенович. Ты знаешь…
Степан Фомич действительно знал. О прошлом жены он знал все. Она не скрыла от него ничего. И не жалела об этом. За их долгую жизнь ему ни разу не приходилось упрекнуть ее в чем-либо, сделать ей больно. У него просто-напросто не было такого желания. В чем упрекать? Что была молода? Что встретился с ней не на заре юности? Или что другой трусливо обманул ее?
Но вот этот другой, незваный, теперь здесь, и Степан Фомич вдруг понял, что где-то в глубине сердца, в каких-то его тайниках все-таки жила обида. Он с неприязнью обернулся к пришельцу. «Сразу узнала, — с укором подумал он. — Сколько времени прошло, а узнала».
Серафима Ильинична коснулась подбородка мужа холодными пальцами. Она всегда так делала, когда пыталась успокоить его.
— Вас надо оставить? — спросил Степан Фомич напряженно.
Жена неопределенно пожала плечами.
— Тогда я кое-чем займусь, по хозяйству.
Проводив его взглядом, Серафима Ильинична оперлась о спинку стула.
— Не ждали? — заговорил гость.
— Нет. Сейчас нет, — Серафима Ильинична подняла глаза. — Тогда… все бы отдала, чтобы вы пришли.
Григорий Семенович потупился. Тогда не хватило воли.
— Боже мой, какими дурочками бывают девочки, — горько усмехнулась Серафима Ильинична.
Гость молчал. Что он мог сказать? Сказать, что вмешалась другая женщина? Что оказалась сильней его, что не пустила к юной сопернице? Это полуправда. Все было и проще и сложней. Воли у него было достаточно. Не хватило другого — любви.
Потом, много позже, он понял, что уже никто и никогда не заменит ему Симу. Понял, что главное — быть любимым, что остальное придет. Но он опоздал.
— Я уж вас покойником считала, — усмехнулась Серафима Ильинична.
Покойником… Он и в самом деле не раз был покойником — подо Ржевом, в Освенциме. Да и потом — тоже. Это уж когда прорвался на Родину, когда был обвинен в измене и угасал в лагере Ясьва под Тагилом. Но вот выдюжил, воскрес. В глазах Симы, Серафимы Ильиничны, он, конечно, живой труп. А может, грабитель… Ее ограбил. И себя заодно.
«Ладно, все. Увидел — и конец», — подумал Григорий Семенович. Но он был не в силах оторвать взгляд от Симы, такой чужой.
Ему виделась прежняя, юная Сима, покорная, жадная в своих чувствах к нему. То была Сима, которой он владел. Не спугнуть бы это видение, не шелохнуться…
И Серафима Ильинична не шелохнулась. Многое перебрала она в памяти в недолгие минуты молчания. На судьбу свою она не роптала. Ей не было плохо с мужем. Ни одного часа. Но могло быть лучше во сто крат… Пришла-то она к нему с выпотрошенной душой. Потому и чувствовала себя виноватой.
— Как вы… тут? — вдруг прозвучал голос Григория Семеновича. Точно мина разорвалась.
Серафима Ильинична словно очнулась:
— Вам этого все равно не дано понять.
— Я достаточно наказан.
Его тихий голос воспринимался Симой как крик. До нее донеслось:
— Под пеплом огонь таится-таится, а потом и вспыхивает. Это случается, Сима…
— У меня есть полное имя. И отчество тоже.
— Простите, ради бога.
Злости в себе Серафима Ильинична не услышала. Ее не было. Но угнетала неведомо откуда взявшаяся слабость.
— Зачем вы пришли? — устало спросила она.
Григорий Семенович ответил не сразу. На лице предательски проступил пот. Он достал легкий платок, поднес его ко лбу.
— Я должен был вас увидеть, — чуть слышно произнес он. — Не спрашивайте, почему. Не знаю. Меня перевели сюда работать. Я узнал, что и вы тут. И меня потянуло. Это свидание я представлял несколько иначе.
Губы Серафимы Ильиничны дрогнули, исказив и состарив ее лицо.
— Вы думали увидеть молодую женщину, а застали старуху.
Его рука протестующе рванулась вперед:
— Нет. Это не так.
Мог ли он знать, как неудержимо захотелось ей, испугавшейся собственного чувства, погладить его серебристые волосы, произнести, как давным-давно, на уже забытом языке молодости: «Где же ты бродил так долго, милый?» Она старалась отбросить от себя эту нежданную волну чувств.
«Дурочками, оказывается, бывают не только девочки», — подумала Серафима Ильинична, подходя к раскрытому окну. Грустный запах роз с прежней силой хлынул на нее. Она жадно глотала медовый воздух.
Немного успокоившись, Серафима Ильинична окликнула мужа.
— Проводи, пожалуйста, гостя, — устало сказала она ему.
Степан Фомич раскраснелся, на лбу выступили капли пота, рубашка прилипла к телу — только что он колол дрова.
— Руки я вам не подам, — жестко сказал он гостю.
Когда Степан Фомич вернулся в дом, он застал жену у двери. Облизнув пересохшие губы, она произнесла:
— Пронесло. И слава богу.
Он спешно отыскал своей ладонью тонкие пальчики жены, нежно погладил их.
«Ну что же ты? Ну, накричи, вспыли… Иногда у тебя это получается», — с горечью подумала она. В комнату донесся плач — в спальне плакала их маленькая дочь. Вместе они кинулись к двери спальни. С удивлением Серафима Ильинична отметила, что слезы дочери не тревожат ее; наоборот, они все приводили на круги своя, возвращали ее к привычной жизни. Но муж, что стоял тут же, у кроватки, не стал ни дороже, ни ближе. Скорее, наоборот.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Как всегда перед важным делом, Илюша забеспокоился задолго до назначенного времени. Перво-наперво подошел к серванту, выдвинул на край зеркальной ниши часы с крупным матовым циферблатом и стал внимательно вглядываться в стрелки. Тонкие, легкие, позолоченные, они почему-то были страшно ленивы. Мальчик приложил к механизму ухо, прислушался. Тикают, не придерешься. Он насупил брови, уперся взглядом в окно. Дождь лизал стекла. Делал он это ласково и как-то тоже лениво. Не то что рано утром, когда ливень обрушился вдруг, с ревом, с ветром, с шумом деревьев в соседском саду.
Приоткрыв дверь балкона, Илья прежде всего высунул нос, потом, вытянув шею, — голову и, наконец, подставил под дождь спину, но при первых же каплях, ознобом пробежавших по спине, нырнул назад. Тучи обложили небо кругом. Низкие, тяжелые, они навалились на город огромным медведем. Пузыри вздувались на перилах балконной ограды, плавали по половику, лопались в ящике с черноземом, где был посажен лук.
— Дребузень! — протяжно произнес Илья, надул губы и вновь поднял глаза на облака, на косые линейки дождя. Он подумал о том, что ливень этот не угомонишь, а папу заставить поторопиться вполне можно. Покосившись на отца, он пробубнил:
— Брейся давай, что ли. В школу с бородой не пустят.
— А у тебя шея чистая? — спросил Давид Исаевич и, сняв очки, положил на спинку громоздкого кресла газету, которую, по обычаю, просматривал после обеда.
— Ох ты, горе мое, — вздохнул Илюша. — Не дадут старику покоя.
Давид Исаевич прикрыл улыбку ладонью.
Попасть в школу Ильи было не так-то просто даже в тихий погожий день. Этот уголок Мирославля застраивался новыми домами, повсюду зияли траншеи, высились бугры вывороченной жирной земли, груды кирпича, штабеля плит междуэтажных перекрытий, краны. В дождь, как сейчас, дорога и вовсе раскисала. Пока Давид Исаевич и Илья, прикрываясь зонтом, добрались до школы, их только что вычищенная обувь обросла тяжелой грязью.
Илья вприпрыжку, с ходу забрался на крыльцо школы.
— Куда? — воскликнул Давид Исаевич. — На ногах пуд грязи.
Мальчик с досадой обернулся. В его зеленовато-коричневых глазах вспыхнула досада. Оттого, что один из них косил, казалось, будто выражение упрека вырастало до гнева.
Гинда Семеновна, учительница Илюши, не заставила себя ждать. Это расположило Давида Исаевича, приятно удивило его: юная, сверкающая глазами под высоко поднятыми выщипанными бровями, с высоко закрученной прической, поначалу она производила впечатление существа легкомысленного, в школе — случайного, вызывала какое-то смутное опасение.
Сидеть за партой Ильи Давиду Исаевичу было неудобно, пришлось сильно подтянуться, ноги некуда было девать, и одну волей-неволей пришлось выставить в проход. Ему казалось, что Гинда Семеновна укоризненно щурится на его облепленную грязью туфлю. Своим локтем он ощущал локоть сына. Илюша, как зверек, прижался к нему.
Слушать Гинду Семеновну, ее рассказы о детях было приятно. Единственное, чего опасался Давид Исаевич, это упоминания о руках Ильи — вечно в цыпках, никогда не отмоет как следует; да и под ушами черноты хватает. Но учительница промолчала об этом. Видно, пощадила. Остаться без матери не так-то просто, даже на полгода. Эта девушка, должно быть, деликатный человек: скользнула мягким взглядом по ладоням мальчика, подняла глаза на Давида Исаевича, и в них он почувствовал утешение — ничего, мол, справитесь, преодолеете…
Класс внимательно слушал Гинду Семеновну, следил за ее руками, выражением лица, интонацией. И взрослые, и малыши. Изредка тишина нарушалась вздохом, случайным покашливанием. Загудели лишь после раздачи табелей.
Илья положил свой на откидную крышку парты, тихо пододвинул к отцу.
— Последнюю четверть я отличник, — полушепотом произнес он. Он то ли оправдывался, то ли спорил. — Всего одна четверка. По письму. Это за год.
— Тоже неплохо, — успокоил его Давид Исаевич.
— Перья у меня дребузень потому что, — упрямо бубнил Илья, прибегая к любимому словечку. — А то бы и по письму пять!
— Еще заработаешь. Какие твои годы! Все у тебя впереди.
— Как же — все… А первый класс — тю-тю, проехали.
Самолюбие сына, его старание были приятны Давиду Исаевичу. Он положил руку на ладошку сына, мягко сжал ее в знак одобрения. Он поймал себя на мысли, что вот только сейчас, по подписи в табеле, узнал фамилию его учительницы. Он украдкой взглянул на Гинду Семеновну. Тонкие выщипанные, крашеные брови, длинные ресницы, тоже подкрашенные… Она отчаянно молода, эта Гинда… Гинда Семеновна. Не только слушать ее было приятно, но и смотреть — одно удовольствие. Что-то непрошеное вкрадывалось в душу Давида Исаевича, тянуло его к ней, влекло ко всем чертям… Ах, Давид, Давид…
Первашей, теперь уже второклашек, можно было бы отпустить на летние каникулы, но завуч приказал держать их в городе до особого распоряжения: пусть приходят в школу без учебников, дело найдется, скучать не будут.
— Знаешь что, пойдем в кино! — сразу же затараторил Илья, как только они с отцом вышли на крыльцо школы. Он ловким щелчком раскрыл над головой купол зонта. — Сам говорил: кончил дело, гуляй смело. Только не сегодня. Завтра. Приду из школы — и двинем.
— Хорошо. Постараюсь не задерживаться в институте.
Он действительно не задержался, дома был вовремя. Хотя старался он напрасно. Илья встретил его у входа:
— Мы отправляемся в лес!
— Кто это — мы? — осведомился у сына Давид Исаевич, не очень довольный таким оборотом событий.
— Наш класс, — горячо ответил Илья, но тут же добавил: — Не весь. Добровольцы.
Отец внимательно посмотрел в его блестевшие от возбуждения глаза.
— Будем собирать цветы, — поспешил объяснить Илья свой добровольный выбор.
Жена, она бы обрадовалась: как же, малыш весь день проведет в лесу, среди зелени, будет дышать свежим воздухом и так далее. А вот он, Давид Исаевич, ощутил в себе какое-то необъяснимое недовольство. Ему почему-то стало грустно. Может, оттого, что рушились планы. Может, оттого, что Евдокии Петровны нет с ними — она в Ленинграде, завершает свою докторскую диссертацию.
Илья выжидающе смотрел на отца. Малышам поручили подготовить подарки для выпускников школы. К последнему звонку завуч велел запастись букетами — ничего, родители купят. Но Гинда Семеновна решила по-своему: пусть идут в лес и сами собирают цветы. Среди добровольцев был и Илья.
— Как же наш культпоход? — произнес Давид Исаевич.
Нахмурившись, Илья переступал с ноги на ногу. Про неуловимых мстителей он забыл напрочь. Отец, напомнив про кино, зародил в нем сомнение.
— Сбегай-ка к Гинде Семеновне. Может, она тебя освободит, — с надеждой подсказал Давид Исаевич.
Он был уверен, что учительница отпустит сына, удовлетворит его просьбу. И ошибся. Тот примчался и как-то даже весело отрапортовал:
— Нельзя!
Давид Исаевич потрепал сына по голове. Пускать Илью в лес не хотелось. Упрямство учительницы вызвало раздражение. Он сердился и на нее, и на себя — за то, что не удавалось скрыть раздражение.
— Ладно, собирайся, — коротко бросил он, стараясь заглушить свою тревогу.
— Я готов, — облегченно отозвался Илья.
Грустно смотрел отец вслед уходящему сыну. На душе было тяжело. Он еще не забыл, да и не забудет никогда тот поединок с гадюкой во время недавней прогулки за город. Очевидно, змея приплыла с другого берега, и возможно, у нее не было злого умысла. Вообще-то змеи стараются не показываться на глаза, а эта — просто блаженствовала в лучах весеннего солнца. Но ее упругое тело чернело на желтом песке зловеще, предостерегающе. Невдалеке играли дети… Она не хотела подыхать. Легким алюминиевым веслом Давид Исаевич уже четвертовал змею, но ее тело все еще упрямо извивалось, нервно корчилось всеми своими позвонками. Надо было обрубить голову, обезвредить жало, но этого-то как раз и не удавалось сделать…
Случись что, кто поможет? Учительница? Может и растеряться. Подождав, пока Илья скрылся за поворотом, отец подошел к письменному столу, удобно расположился в кресле. Но сосредоточиться над работой ему не удалось. В дверь требовательно застучали. Давид Исаевич бросился открывать — на пороге стоял Илья.
— Газеты у нас есть?
— В тумбочке, под радиолой.
— Много?
— Зачем тебе?
Торопясь, глотая слова, Илья объяснял, что из газеты получаются прекрасные кепки, что ребята пришли без головных уборов, что в лесу солнце такое же, как здесь, что Гинда Семеновна сказала…
— Сумеешь смастерить? — спросил Давид Исаевич.
— А то! Смотри!
Быстро развернув газету, он ловко складывал ее уголки, подгибал края и наконец напялил на себя готовую бумажную шапку:
— Буденовка!
— Отлично! Первоклассное произведение!
— У нас все первоклассное, — согласился Илья и, как показалось Давиду Исаевичу, лукаво выпалил: — И учительница первоклассная!
— Она-то почему? — с интересом спросил отец.
— Потому что она учительница первого класса. Ясно?
Улыбнувшись, Давид Исаевич подумал, что Гинда Семеновна действительно первоклассная учительница. Он почувствовал, что совсем успокоился. Хватит дрожать над каждым шагом Ильи…
Сын вернулся из лесу усталый, голодный и беззастенчиво счастливый. Можно было ни о чем не спрашивать. Ясно, что прогулка удалась. Это прочитывалось в его глазах, в улыбающихся обветренных губах, в румянце щек. И двигался малыш как-то легко, словно на крыльях. А руки, как им и полагалось, в цыпках, руки, которые надо немедленно отмывать горячей водой да еще и щеткой, приобрели какую-то мягкость, утратили резкость движений. Они словно хранили ласку цветов. Однако Давид Семенович промолвил:
— Ну как?
Подняв большой палец, Илья отчитался:
— Во! Пять с плюсом! Мы сорок букетов собрали. А комары кусачие — страх! Но они ландыши охраняют. Мы мазью от них натерлись — Гинда Семеновна дала, — но они все равно кусают. У них иглы в клюве.
Фыркая водой, сквозь шум воды, он рассказывал отцу о том, какая толстая, вся в сучьях, была палка у Гинды Семеновны — чтоб змеи пугались, как ехал в автобусе и курица смешно перебегала дорогу, а ее чуть не задавили, как аукались в дубовой роще, какие там пышные папоротники — им уже тыщу лет, если не больше, а земляника еще не скоро поспеет…
— Знаешь, я такую законную тропу в лесу нашел. Первоклассная! Я пошел и пошел, и так далеко ушел, так далеко, что меня все потеряли, а потом сам же и вернулся, по этой тропе, меня и нашли…
Давид Исаевич оторвался от плиты и с беспокойством взглянул на сына, а Илья, уже не в силах ждать, захныкал:
— Есть хочу, па. Быстрее…
Утром Давид Исаевич добудился сына с большим трудом. Малыш никак не мог сообразить, что от него требуется. Он ворчал, упорно натягивал на себя одеяло, а когда отец убрал с постели подушки, одеяло, вытащил из-под него простыню, сделал попытку забраться под матрац. Но, очевидно, вспомнив, какой наступил день, зачем накануне ездили в лес, Илья нехотя приподнялся с кровати. С минуту он растирал кулаками заспанные глаза и затем, стремительно соскочив с кровати, босиком пошлепал в ванную — на поиски тапочек уже не хватало терпения. Да, день был особенный, и потому было принято решение залезть под душ. Илья блаженствовал.
— С мылом, — проговорил он. Давид Исаевич уловил интонацию жены. — Мыло съедает все микробы.
Потом со всей серьезностью решали, во что одеться. Подобрали рубашку, натянули отглаженные штаны. Октябрятскую звездочку прикалывали, уже спускаясь с лестницы.
— На какую сторону? — смущенно спросил отец, держа значок.
— На левую. Ближе к сердцу.
Давид Исаевич удивленно поднял на него свои глаза.
— Да-да. Гинда Семеновна так говорит, — подтвердил Илья.
Когда звездочка была прикреплена на груди мальчика и они, свернув за угол, вышли на тротуар, Давид Исаевич произнес:
— Пожалуй, я с тобой пойду. На лекцию мне к двенадцати, время есть. Посмотрю-ка я на проводы ваших десятиклассников. А?
— Вольному воля, — ответил Илья без особого восторга.
Давид Исаевич привычно взял сына за руку, но почувствовал какую-то тяжесть — сын осторожно высвобождал свою руку из пятерни отца. Давид Исаевич вздохнул: сын взрослел.
Во дворе школы были построены ребята, в глубине стоял духовой оркестр мальчиков, на трибуну поднимались именитые гости, шефы, директор, завучи. Галдеж, суета напомнили Давиду Исаевичу прошлую осень, когда он впервые привел сюда Илью. Отыскав однокашников, мальчик ловко улизнул от отца. Давид Исаевич внимательно рассматривал детвору, искал беглеца глазами, пока не поймал его взгляд на себе. Сын был предельно серьезен, в кулачке были зажаты ландыши.
Гул стих с первыми тактами гимна, после которого браво грянул боевой походный марш. Знаменосец в сопровождении ассистентов обошел строй, застыл у трибуны. Все шло по апробированному канону: речи, поздравления, напутствия, подарки, торжественное шествие малышей и десятиклассников. Все это Давид Исаевич уже видел осенью. Только первый звонок сменился последним.
Предательский ком подкатил к горлу. Сентиментальным Давид Исаевич себя не считал, но сдерживать волнение становилось все трудней. Он вспоминал свои школьные годы. Тогда так же маршировали, так же рапортовали… И оркестр ученический был, первый в городе, и знамена, и даже карнавалы были — с факельными шествиями, с чучелом Чемберлена. Давид Исаевич улыбнулся: вспомнилось, как у Чемберлена дергались фанерные руки и ноги; всем хотелось потянуть за шпагатики, дернешь один — зашевелится рука, дернешь другой — дрыгнет нога. Запомнился и монокль в сморщенном глазу чучела. А митинги?.. И Днепрогэс, и Магнитка, и челюскинцы, и Испания…
Но… Тогда еще арестовали маминых братьев. Сначала одного, а через неделю — другого.
— Знаешь, я свой букет отдал прошлогоднему парню, — прервал его мысли Илья. Давид Исаевич недоуменно посмотрел на сына.
— Ну, кто осенью мне букет дарил, — нетерпеливо объяснял мальчик.
— А… понял, — кивнул Давид Исаевич и добавил: — Тот, кому ты в десятом классе будешь дарить цветы, еще не родился.
Илья не поддержал размышления отца. Он был слишком взволнован. В ту минуту его занимало иное:
— Почему знамя целовали? Ну почему, когда клялись, целовали знамя?
— В знак верности. И любви, — тихо объяснил Давид Исаевич. — Тому, кто любит, кто верен, позволено целовать…
— А ты? Ну, ты клялся? Ты знамя целовал?
— Целовал… На фронте, в Отечественную, когда нашему артиллерийскому полку присвоили гвардейское звание.
— Что значит гвардейское?..
Илья осекся. Мимо них, окруженная девочками в белых фартучках, проходила Гинда Семеновна. Папа низко поклонился… Почему он так поклонился? Почему?.. Давид Исаевич не смог бы ответить сыну. На этот вопрос он не ответил бы и себе.
СВОБОДНЫЙ ДИПЛОМ
Мерл тихонько подсела к отдыхавшему после обеда мужу, положила ему на грудь голые, полные локти, глубоко вздохнула. Он наморщил лоб и кряхтя отодвинулся к спинке канапе, заскрипевшего старыми пружинами. Аба знал все вздохи супруги: ничего приятного на сей раз не предвиделось.
Сквозь опущенные веки он выжидающе глядел на ее смуглое лицо, узкий гладкий лоб, выщипанные брови, тонкие некрашеные губы. Его тянуло вздремнуть, она же озабоченно перебирала его курчавые, тронутые сединой волосы, настырно напоминая о своем существовании: я здесь, не спать… Дрема приятно расслабила его мышцы, глаза слипались, но вот откуда-то издалека, совсем как в блаженные и уже забытые дни молодости, он услышал ее вкрадчивый голос:
— Захрапел, шалунишка.
— Га? Что? — Аба попытался повернуться на бок. — Кто?
— Ты о чем-нибудь думаешь в этой жизни? — настаивала на своем жена.
— Нет. То есть…
— Ясненько, — серые глаза Мерл налились свинцом. — Думать — это мой удел.
Помогая себе руками, Аба медленно слез с дивана.
— Распределение на работу выпускников в институте Тани через три дня, — многозначительно произнесла Мерл.
— Вот и прекрасно. Дождались, слава богу, и этого часа.
— Все у тебя вызывает телячий восторг, — оттолкнула Мерл круглое плечо мужа. — Ты разве не слышал, куда их собираются заслать?
— Ну что ты всполошилась? Туда пошлют, где люди живут, где есть дети, которых надо обучать. Ничего страшного.
— Поглядите-ка на него! Какое спокойствие! Это Якутия — ничего страшного? Бурятия?!
— Не Крым, не Сочи, конечно, но жить можно.
— Чтоб все черные сны приснились моим врагам!
Мерл вслед за мужем соскочила с дивана на пол, энергично заходила по комнате.
— Тебе все равно, куда наша Тайбелэ угодит. Тебя это мало трогает. Ты, несчастный, видимо, забыл, что являешься отцом дочери. Отец ты или нет?
— Это ты должна знать лучше меня…
— Он безумец или сумасшедший, не иначе. Слышишь, что твой язык болтает?
— Короче, что же ты хочешь?
Мерл замешкалась на минуту, стрельнула глазами на мужа:
— Ты лучше меня спроси, чего я не хочу, тогда я тебе отвечу, что мне не надо ни Бурятии, ни Магадана.
— Красивенькая история, да жаль, что коротка: учили, воспитывали, а работает пусть кто-то.
Слова Абы вызывают новый приступ возмущения:
— Мы обязаны вытащить девочку из огня. Да за какие такие грехи наша Тайбелэ должна ехать в глушь? — Мягкими, по-кошачьи плавными шажками Мерл подходит к мужу: — Может, все-таки обратиться к Петру Сергеевичу?
— У тебя безудержная фантазия.
— Утопающий и за соломинку хватается. Петр Сергеевич человек основательный, надежный. Настоящий мужчина.
— Насколько я понимаю, ты уже сейчас готова забыть, кто он, какого, так сказать, роду-племени.
— Когда нуждаешься в разбойнике, вытаскиваешь его даже из петли. Петр же Сергеевич честный человек…
— Да? Это ты только сейчас узнала? А раньше…
— Ай, перестань мозги пудрить. Я и без твоих подначек голову потеряла. Одного боюсь: Таня заартачится.
— Не трогай их, — в голосе Абы слышна досада. — Мало мы вторгались в их отношения? Пусть сами разбираются. Это дела интимные. Может быть, Тайбл его уже не любит.
— Зато он к ней прикипел. Как раз то, что нужно.
— Женская логика.
— Какое мне дело до твоей логики-шмогики. — Глаза Мерл буравили мужа. Сейчас она ненавидела его. — Ты о материнском сердце когда-нибудь что-нибудь слышал? Это тебе все едино, куда нашу дочь загонят. Я этого не перенесу! Своими глазами видеть, как надвигается эта вечная мерзлота или черт его знает что, и молчать? Не будет этого! Если б можно было поехать вместо нее.
— Вечная песня. Всю жизнь «вместо нее» нельзя, пойми ты это.
Аба еле сдерживался. Он понимал, что возражать сейчас не было никакого смысла. Но также он знал, что Мерл не отстанет. На него обрушивались потоки упреков:
— Значит, пусть мается твое дитя, да? Пусть мучается, пусть страдает, да? Пусть отправляется к черту на кулички, да?
— Ей пора стоять на своих ногах. На своих двух ногах! А сейчас благодаря тебе у нее четыре ноги. Она человек, а не домашнее животное.
— С нее хватит целины, хватит стройотрядов. Свой гражданский долг она выполнила. А из пионервожатых бедная девочка не вылезает. Сполна расплатилась за все, что государство на нее потратило. Потом — она же такая беспомощная.
Мерл была неиссякаема в своих аргументах. Она была неутомима. Аба знал, что скоро в ход будут пущены слезы. Аба сердито заметил:
— Беспомощная… Это твоя работа.
Лучше бы ему этого не говорить. У Мерл великолепная реакция. Она моментально возвращает ему это обвинение:
— Везде моя вина! А ты-то? Ты где был?
— У тебя в услужении, вот под этим каблуком. В посыльного меня превратила. Найди то, принеси это. Сказка эта без конца. Блюдце с неба достань! Тайбелэ должна пить козье молоко — пожалуйста, получайте, дорогуши! Но птичье молоко — нет уж, увольте. Чтоб я так знал про болячки под мышкой, как я знаю о технологии дойки птиц…
— Ты камень! — Мерл внезапно замолкает.
Аба видит, как жена вдруг прислоняется к раме окна, закрывает лицо руками. Да, пришел черед слезам. Он не выносит ее слез.
— Извини, — тихо говорит он.
Мерл поспешно вытирает лицо, ресницы мгновенно просыхают. Всхлипывая, она требует:
— Ребенка надо срочно спасать. И чтоб комар носа не подточил! Чтоб петух не пропел, как говаривала бабушка. Словом, сейчас придет Петр Сергеевич. Я его уже пригласила, дорогой.
Мерл — прекрасная мать. Мерл — неугомонная женщина. Внутри Мерл бьет неиссякаемый фонтан предприимчивости. Она готова выдержать любые возражения Абы. Она готова ответить ему на любой вопрос, но он безмолвствует.
— Торчишь тут как пень, — уже успокоенно произнесла она. Две морщинки, итог борьбы, предательски выступают около губ, делают ее старше на десяток лет. — Пришли сюда дочь. Сам можешь не возвращаться.
Она уперлась взглядом в спину удалявшегося мужа.
Высокая, статная, в коротеньком халатике и тапках на босу ногу, Таня порывисто влетела в комнату, остановилась напротив матери, устремив на нее свой кроткий взгляд.
Мерл положила пухлые руки на плечи дочери, привлекла ее к себе.
— В чем дело? Папа не в себе…
— Ты мне веришь, доченька? Скажи, веришь?
— Ну, мама…
Мерл обняла дочь за талию, крепко сцепила пальцы, внимательно посмотрела в ее тихие, всегда спокойные, как у отца, глаза:
— Страшно — туда?
— Немного боязно. Начинать, наверное, всегда нелегко. Не волнуйся, мама. Другие едут, и я не пропаду.
— Ты у меня одна-единственная, Тайбелэ.
Девушка старалась не смотреть на мать. Мерл расценила это по-своему.
— Можно остаться дома. Я все узнала. Нам нужен свободный диплом, — Мерл перешла на шепот, словно раскрывала дочери великую тайну. — Получи его и гуляй на все четыре стороны. Ни тебе тайги, ни тебе вечной мерзлоты.
Уголки Таниных губ дрогнули. Казалось, она улыбается.
— У меня нет оснований на свободное распределение.
— Основания не ждут, основания завоевывают. Как милости от природы. У тебя есть прекрасный шанс. Ты понимаешь, о чем я говорю? Мужа с женой не разлучают. Выйди замуж.
Таня упрямо молчала. В этом молчании Мерл почувствовала непривычную для девочки решительность, отказ.
— Конечно, — Мерл выпустила дочь из своих объятий, — ты получила хорошее воспитание, можешь и покапризничать. Вот радости-то! Спасибо родному институту за доверие! Шалеешь от собственного героизма. А я так скажу: нет в тебе воли.
Таня медленно произнесла:
— Может, ее, этой воли, нет сейчас, оттого что у тебя всегда ее слишком много. И на меня хватало, и на папу.
Мерл изумленно наблюдала за дочерью. Она с трудом подавляла раздражение, прекрасно понимая, что сейчас не время для ссор: сгоряча девочка могла наломать дров.
— Я, наверное, большая дура, — смиренно произнесла она. — Но кто еще в этом мире желает тебе большего добра, чем родная мать? — Она ласково приподняла подбородок дочери, нежно гладила мягкими пальцами ее черные блестящие брови. Голос Мерл был тих и доброжелателен: — Не обижайся на меня. Я виновата в том, что Петр Сергеевич перестал приходить к нам. Я отвадила его. Ты знаешь, меня пугала разница лет. Думала, что он староват для моей красавицы. Но муж и должен быть старше жены. Вот я старше твоего папы, а что в этом хорошего? Конечно, Петр Сергеевич не иудей… Но в наше время все так смешалось. Словом, и это не препятствие. У него масса достоинств, а главное — тебя любит…
— Хватит, мама.
— Почему ты так? Когда-то все равно замуж надо выходить. Он в тебе души не чает. И с положением человек, не мальчишка какой-нибудь. Авторитетный специалист, хороший инженер. Ведь сама мечтала о нем.
Таня нетерпеливо передернула плечами, устало спросила:
— Чего ты от меня добиваешься?
— Согласись — и будешь счастлива. Это судьба. Сегодня он сделает тебе предложение. Ну, не согласна на настоящий брак, устроим фиктивный. Получишь свободный диплом, и все вновь встанет на свои места. Порази гром всех врагов этого дома…
Мерл заметила, как щеки Тани заливает румянец. Дочь еще не могла владеть собой, она все еще была очень наивна. О какой Якутии может идти речь!
Таня была в нерешительности. Она испытывала неловкость, смущение: Петра Сергеевича она обидела незаслуженно, зря. Она причинила ему боль. Вряд ли он придет…
Он пришел. Его скуластое, толстогубое лицо выражало состояние смятения и незащищенности. Она чувствовала, как ее захлестывает жалость. «За что его казнить? За то, что любит? И полюбит ли еще кто-нибудь меня так, как он?..» — рассуждала девушка. Ей было жаль и его, и себя.
— Твоя мама… Мама ваша, Татьяна Абовна, пригласила меня…
Лицо ее казалось ему враждебным. Не сразу дошла до него оброненная Таней фраза: «Дышать нечем». А когда понял смысл сказанного, бросился отворять окно. Надвигалась гроза. Низко над землей нависла туча. Свежий ветерок играл Таниными волосами. Петр Сергеевич подошел сзади, робко коснулся губами кончика ее уха. Она не шелохнулась.
— Поверьте мне, Таня, доверьтесь, — тихо произнес Петр Сергеевич. — Я не подведу вас, Таня. Мне трудно без вас…
Она молчала. Гость выпрямился, одернул модный, с иголочки пиджак, отступил шаг назад.
— Что ж, — выдохнул он. — Знал, что будет именно так. Сам себя обманул. Свистнули, и я, как ничейный пес, прибежал…
— Не надо, перестаньте.
В голосе Тани он услышал и твердость, и мольбу. Он не мог понять ее. Ему не дано было судьбой разгадать эту девушку. Он словно оглох от навалившейся на него пустоты.
— Сейчас уйду. Один вопрос: вам нужна моя помощь? Нет… Мне показалось… Вашу мать вполне устроил бы брак фиктивный.
В его интонации Таня уловила брезгливость.
— Моя мама — чудачка. И, как это ни странно, совершенно не знает меня.
— У каждого ядрышка своя скорлупа.
— Это как? Ей хочется, чтобы я черпала мед большой ложкой. А получается наоборот. Ей горько, но что ж делать. Помните притчу о курице, которая высидела утят? Когда те залезли в реку, она перепуганно кудахтала на берегу: «Караул! Тонут!» Нельзя защитить кого-то от самого себя.
Мерл нетерпеливо следила за часами. Стол в гостиной был накрыт по-праздничному. По ее мнению, объяснение жениха и невесты затягивалось.
— Хотела бы я знать, как там дела, — шепнула она Абе, молча раскладывавшему салфетки. — Что-то долго торгуются…
— Много дров наломали в свое время. Есть что вспомнить.
— Господи, как я старалась. Знаешь, она заупрямилась. Столько трудов стоило переубедить ее. Долго…
— Может, он не хочет, — Аба неопределенно пожал плечами.
Мерл выстрелила в него полным ехидства взглядом:
— Да он сохнет по ней, этот недотепа.
— Может, ей это все осточертело, — предположил Аба.
— Прикуси себе язык!
Ей не удалось дать Абе еще один совет: из комнаты Тани появился гость.
— Ну?! — ринулась к нему Мерл.
— Ваша дочь не нуждается в свободном дипломе, — подчеркнуто вежливо ответил Петр Сергеевич.
Гнев охватил Мерл. Глаза ее лихорадочно блестели, губы застыли в неопределенной улыбке.
— Татьяна! — Крик Мерл заполнил гостиную.
Дочь показалась в дверях своей комнаты.
— Ты что натворила?
— Все в порядке…
— В каком порядке?
— Петр Сергеевич едет со мной.
Мерл медленно перевела взгляд на гостя.
— Это так, — подтвердил он. — Куда Татьяна, туда и я.
Мелкими осколками брызнула хрустальная рюмка — руки не слушались Абу. «К счастью», — утешил он себя, тяжело опускаясь на колени. Острые осколки впивались в пальцы.
Мерл растерянно наблюдала за его стараниями, потом перевела взгляд на дочь, на гостя. «Связалась с псом, да еще с ослиными ушами, — подумала она, но тут же ее посетила спасительная мысль: — Не падать духом. Не таковская я. Ничего, разберусь. До отъезда еще далеко. Еще посмотрим, что такое топорище, а что — обух».
Аба с любопытством снизу вверх смотрел на жену. В его глазах она увидела сочувствие, но и насмешку тоже.
ОБЫСК
Жена застала Даниэля за мольбертом. Он неподвижно сидел на высоком стуле спиной к двери. Между тонкими пальцами застыла кисть. Даниэль не почувствовал, что кто-то замер в настежь раскрытых дверях.
Фаина не двигалась. С полотна на нее грустно глядела осиновая рощица под низким хмурым небом. Вот-вот обрушится дождь, студеный, с градом. Холодок пробежал по спине женщины. Ей почудилось, будто она сама стоит на опушке этой рощицы и ливень вот-вот захлестнет эти осины и ее вместе с ними. Она поежилась. Скрипнула половица.
— А, это ты, — сказал художник. Он повернул к ней свое полное тело. Застонал стул. — Проходи.
— Чудо, — тихо проговорила она.
Даниэль смущенно отозвался:
— Одобряешь? Весьма рад. Весьма. Присаживайся.
Фаина придвинула к его стулу низенькую скамеечку. Даниэль ласково наблюдал за тем, как возится жена, ждал, поглаживая прикрывшие всю верхнюю губу усы. Когда Фаина наконец примостилась рядом, положив локоть на его колено, он глубоко вздохнул:
— Я ведь вырос в лесу, среди деревьев. Осины люблю больше всех. Они так благородны, так нежны. Я и сейчас слышу, как они шумят.
— Ты скрываешь свои таланты даже от меня, — лукаво улыбнулась Фаина. — Сколько живу с тобой, а не подозревала в тебе дар пейзажиста. Думала, твоя стихия — портреты.
Даниэль посмотрел на жену. Зрачки его, большие, жадные, в эту минуту были необычайно выразительны.
— Каждый живописец обязан ощущать природу, — проговорил он. — Она вечна и неколебима. Она — это все, это бог, если хочешь.
Даниэль словно пытался убедить самого себя.
— Природа неповторима, уникальна. И в конечном счете — покойна.
— Твои осины… Не очень-то они покойны. Они дрожат, — возразила Фаина, усмехаясь лишь уголками губ.
— Подрожат — и перестанут. Ненастье кончится, и на землю снизойдет покой.
— И все-таки сейчас у твоих осин скверное настроение. Никуда это не спрячешь. Эх, Даниэлке, твоя стихия — человек. Ты всю жизнь писал людей. Хороша роща, но лица — это твоя синяя птица. Роща, которую ты написал, — не более чем попытка убежать от человека. Кого ты обманываешь?
— Неважно, что у меня сейчас лучше получается… Кому нужны и мои портреты, и мои пейзажи?.. Никому.
Фаина вздохнула, зябко пряча под фартук руки.
— Бросать надо. Давно пора покончить со всем этим, — глухо говорил Даниэль.
— Успокойся, ради бога, — шепотом произнесла Фаина.
В ее голосе была слышна просьба, но именно просьба в ту минуту вызвала в Даниэле новую вспышку раздражения. Он чувствовал бессилие перед волной собственной неудовлетворенности. Досада, волнение, протест звучали в каждом его слове:
— Кто нынче искусством интересуется? Никто. Перевелись любители, исчезли знатоки и… и покупатели тоже. Который месяц советской власти, а ей, этой власти, наплевать на все это, — он энергично обвел рукой мастерскую. — Хоть бы кто из них, из нынешних начальников, зашел сюда. Не на картины, на меня хоть поглядеть. Может, я с голоду пухну?
Взгляд его прошелся по полотнам, которыми были увешаны стены мастерской.
— Не в том суть. На хлеб, дорогая моя, мы заработаем. В жестянщики подамся. В маляры возьмут, на худой конец. Конечно, государство большевистское не теленок… Это теленок, как на свет божий появится, так сразу — на ноги. Потерпеть можно. Но что, если при новой власти вообще живопись со счетов долой? Кому она нужна? Кто ее теперь сможет понять?
— Ты-то понимаешь? — Фаина улыбнулась своей мягкой, открытой улыбкой, такой знакомой, такой родной ему. — Даниэль, вспомни Шолом Алейхема. Ведь ты его маленький человечек. Ты такой, как тысячи других. Совсем недавно ты сбросил с себя рваную капоту и засаленную ермолку. Не мне тебе об этом говорить… Ты слишком легко от себя отказываешься.
Раздражение не затихало. Даниэль резко поднялся со стула. Еще купеческая дочка будет учить его уму-разуму, его, сына местечкового бедняка! Здесь, в Мирославле, в самой середке России, на берегу реки Оки предки Фаины свили себе гнездо еще в прошлом веке. Она общалась с передовыми людьми, была знакома с идеями народничества, легко шла на контакт с народом. В душе Даниэль понимал, что Фаина может многое дать, от нее есть чему поучиться.
— На нашей земле много таких, в ком красота пока еще спит, — ласково говорила женщина. — Разбуди ее…
— К черту! К черту эту пачкотню!
Фаина видела, что этот разговор ни к чему не приведет. Она встала со своей скамейки и, заглядывая Даниэлю в глаза снизу вверх, положила ладони ему на плечи.
— Завтракать, — приказала она просительно. — Я ведь пришла пригласить тебя к столу.
После завтрака Даниэль любил побродить между цветочными клумбами. Зной все-таки опалил лепестки роз. Невообразимые оттенки, цветовые гаммы были слизаны палящими лучами солнца. Даниэль наклонялся к цветам, пристально всматривался в лепестки, недовольно морщился. Одни лишь циннии стояли свежо и гордо, смело подставляя свои головки солнцу. Но сейчас и они не радовали взор художника.
— Ты бы прилег, — посоветовала ему Фаина, появившись на крыльце с полотенцем через плечо.
— Розы-то, розы ведь гибнут.
— Ничего не поделаешь. Мы с мамой и так поливаем их без конца. Каждый день по три ушата.
Даниэль бросил взгляд на ушастую посудину возле сарая. Сквозь ее щели просачивалась вода. Он шагнул к сараю и, присев возле кадушки, потрогал обручи. В нем никогда не утихала страсть мастерового. Долго, с наслаждением, с приятным упрямством возился он с кадкой, но, когда закончил свою работу, с удивлением обнаружил, что и рукам, и душе требуется новое дело. Чувство ненужности, которое он испытывал в последнее время, утомило, опустошило его. Возня по хозяйству, жажда дела, умение работать — все это утешало его, говорило об обратном: он еще пригодится.
— Какие у тебя там ведра прохудились? — крикнул он Фаине. — Неси сюда.
Оказывается, он не растерял накопленное, не забыл старое ремесло, железо поддается рукам, как и прежде. Он может потягаться с любым жестянщиком.
А ночью был обыск. В дверь вошли трое красноармейцев из караульной роты. Один из них, видимо старший, поднял к его лицу фонарь с мигающим язычком пламени. Свет от фонаря был неярок, но неприятен. Даниэль отвел от него глаза, попутно скользнув взглядом по огромной бородавке над левой бровью красноармейца. Поправляя отвороты наспех надетого халата, прикрывая ночную рубашку, он попятился в глубь комнаты. Бородавка как магнит необъяснимо притягивала внимание художника, Красноармеец, по-своему оценивший взгляд Даниэля, произнес:
— Прошу не пужаться.
Даниэль кашлянул, стараясь скрыть неловкость. Он слышал, что в городе происходят обыски. Что ж, никаких грехов за ним нет, подозревать его не в чем. Хотя, пожалуй, для них, для этих грубых, со следами бессонницы на лицах людей, он — конечно же чужак.
«Буржуй недорезанный», — в сердцах решил красноармеец, кивком головы отдавая приказ приступить к обыску. В подвале, куда, бесцеремонно стуча коваными сапогами по каменным ступенькам, спустились все трое, их поразило обилие рабочего инструмента — столярного, бондарного, кровельного. Не сговариваясь, словно по команде, они вопросительно посмотрели на хозяина. Его внешний вид никак не вязался с обликом мастерового.
Тот, что с бородавкой, бросил своим товарищам:
— Сплутатор, видать.
— Известно, — охотно согласился боец, стоявший рядом с Даниэлем, легким, привычным движением поправляя ремень винтовки. — Ихнее дело пот выжимать с нашего брата. Как тут не сплутовать.
Даниэль, плотно сжав губы, руководствуясь непонятным упрямством, не стал объяснять этим непрошеным ночным гостям, которые самовольно пришли вершить свой классовый суд, что сам, и только сам, пользуется всеми сложенными здесь инструментами.
Наверху всполошились женщины. Держа перед собой закопченную лампу, мать Даниэля, простоволосая, бледная, стремительно вошла в спальню Фаины.
— Пришла беда — отворяй ворота, — жестко произнесла старуха.
Застегивая на ходу пеньюар, испуганная Фаина бросилась к свекрови. По бревенчатой стене прихожей плыли, словно большие черные птицы, их тени. Навстречу им, гулко стуча каблуками, вышли мужчины.
— Почему вы не спите, мама? — как можно спокойней произнес Даниэль.
— До сна ли, когда в твоем собственном доме разгуливают с ружьями, как тати ночные? — вскинулась старуха.
Бойцы замешкались, несколько смущенно потоптались перед женщинами. Удивляло то, что у этого буржуя оказалась вовсе не буржуйского вида мать. Она ничем не отличалась от их собственных матерей. И ругала она их так же, как собственные матери.
— Что же вы, сыночки, людей по ночам беспокоите? — настойчиво добивалась она ответа. — Не стыдно вам?
Конечно, отвечать ей никто не обязан. Не ее это дело, чем занят солдат революции. Беспокоят — значит, так надо. Но перед ними стояла старая женщина с простым добрым лицом, с натруженными руками. Старший почесал небритый подбородок и, словно извиняясь, проговорил:
— Большого удовольствия нам это не доставляет, мать. Не шуми. Есть, которые хотели бы все назад повернуть. То есть сызнова пролетария да мужика в купецкий кулак зажать и чтоб без роздыху. Вот мы, значится, и того… ищем их. Эсеров этих.
Даниэль показывал солдатам одну за другой все комнаты дома. В его душе не было ропота против этих малограмотных людей, которые называют себя солдатами революции. Он следил за тем, как добросовестно выполняли они дело, ради которого пришли, он только не понимал, почему они такие спокойные. Откуда ему было знать, что вокруг дома, на улице таилось с десяток таких же суровых, таких же уставших, неразговорчивых людей, вчерашних рабочих, сегодняшних солдат.
У входа в мастерскую Даниэль посторонился, пропуская бойцов вперед. Фонарь рассеял темноту, осветив стены. Молчание длилось долго, слишком долго.
— Иконы не иконы, — тихо произнес наконец один из ночных гостей. — Ты чем занимаешься, гражданин? — добавил он, обернувшись к Даниэлю.
— Пишу, — ответил он и с удивлением услышал в своем голосе добрые нотки. — Рисую вот…
— Она! Она! — неожиданно вскрикнул тот, что с бородавкой. — Гляньте сюда.
Товарищи его повернули головы и увидели в большой раме портрет женщины. Сидит вся в синем, на коленях покоятся натруженные руки, горькая дума омрачила лицо, глубокие морщины легли под глазами… Бойцы тихо сняли фуражки. Перед ними был портрет матери художника. Вот только что она упрекала их, эта женщина, что строго глядит с холста. Та и не та, живая, но безмолвная. Близкая, словно родительница…
— Ну и чудеса.
Даниэль не успел заметить, кто произнес эти слова. Его картинами восхищались не раз, к этому он привык. Но то, что происходило сейчас, было не похоже ни на какой вернисаж, ни на какой творческий экзамен перед гурманами живописи. Он был растроган. Перед его картинами сняли шапки те, кому судьбой доселе не дано было постичь прекрасное. Ему захотелось сделать для этих людей праздник:
— Фаина, свечи! Лампы! Живо!
Мастерская тонула в волнах света, свечи бросали на потолок яркие блики, рисовали на стенах причудливые силуэты, погружая и комнату, и картины, и самих людей в ирреальный мир. Краски, эмоции, линии сплетались в безумном танце, заклиная души людей, шагнувших сюда из жестокого, беспощадного, яростного бытия. Даниэль торопливо рассказывал им о самом затаенном, спешно водил их от картины к картине. Они слушали жадно, удивленно. По мастерской поплыл дымок: один вытащил кисет, другой, третий экономно сыплет махорку в обрывок газеты. Да, раньше, еще вчера, это вызвало бы в нем гнев, приступ негодования, сейчас он прощал им все. Права Фаина, как всегда, права! Не иссякла красота в России.
Утром в Мирославле вспыхнул эсеровский мятеж. В неравном бою полегла почти вся караульная рота. Когда эта весть докатилась до Даниэля, он почувствовал, что из жизни ушло что-то для него очень важное, родное. Через несколько дней рабочие отряды Выксы, Навашина, Нижнего Новгорода разбили эсеров, освободили Мирославль.
Некая сила тянула Даниэля на улицы города. Захватив с собой все для работы, он отправился бродить по площадям и переулкам отдыхавшего после боев Мирославля. Запруженная народом ярмарочная площадь будила в нем ностальгию по портрету, в нем просыпалось желание писать эти лица, эти глаза, он всматривался в людей, угадывая темы своих будущих портретов.
Ярмарочный гул затих как-то вдруг. Даниэль видел, как на огромную пивную бочку возле каменных ворот взбирался незнакомец в кожаной куртке. Он сорвал с головы картуз и помахал им над головой.
— Товарищи, в Москве произошло покушение на нашего вождя. — В глухих звуках этого голоса послышалось что-то знакомое. Работая локтями, Даниэль протиснулся ближе к воротам. — Ленин тяжело ранен…
По бородавке над бровью художник узнал ночного гостя. Он быстро раскрыл свой ящик с палитрой и кистями. Сейчас этот человек казался Даниэлю тем звеном, которое свяжет его, художника Мирославля, и того, о ком он слышит, в единую цепь судьбы. Через красноармейца к Ленину… На холсте проступает набросок человека в кожаной куртке, с маузером на боку. Лицо его в гневе, брови плотно сжаты, над одной из них различима бородавка…
ВЕЧНО СВЕЖИЕ СЛОВА
Она не спала уже четвертую ночь.
Профессор, все трое суток не выходивший из квартиры, с удивлением посмотрел на Надежду Константиновну, вглядывался в ее припухшие, незнакомые без очков глаза.
— Теперь можете отдохнуть, — вздохнул он. — Опасность миновала.
Она не шелохнулась. Слова профессора словно не дошли до нее. Конечно, она их слышала, но трудно было поверить в то, что угроза действительно миновала. Оставить Владимира Ильича в затемненном кабинете Надежда Константиновна не решалась. Правда, кроме нее здесь, у стола, освещенного тусклым светом лампы, сидела фельдшерица.
Если б он был здоров, если б он знал, что она пренебрегает распоряжением врача, непременно бы сказал ей: «Спать! Немедленно спать!»
Она вспомнила, как пять лет назад Володе удалось уговорить ее согласиться на операцию, хотя она порядком трусила, под нож идти не хотела ни в коем случае. Помнится, как брат Володи, Дмитрий Ильич, врач опытный и знающий, не советовал ей оперироваться.
Тогда, в июле девятьсот тринадцатого, понимая, что иного спасения от базедовой болезни нет, Владимир Ильич привез жену в Берн, к швейцарскому хирургу Кохеру и сам много дней высидел у ее постели в клинике профессора, пока она не поднялась после операции. Вспомнилось, как легко лежала его ладонь на ее руке. Ей было трудно говорить. Но он все понимал. Он внимательно всматривался в ее лицо.
Сейчас ей хотелось положить свою ладонь на его руку, гладить его неподвижные пальцы. Но она боится разбудить его. Она прислушалась к его дыханию. Да, дышит он легче, чем раньше. Что же, случилось чудо? Это после двух отравленных пуль… Профессор сказал, что болезнь миновала… Что завтра сообщит бюллетень о состоянии его здоровья?.. На лбу почти нет пота. Профессор, должно быть, прав. Эта мысль успокаивает ее, ресницы слипаются, сон ласковой лапой закрывает ее глаза и отбрасывает далеко-далеко… может, в Шушенское…
Она молода, стройна и не знает, что делать со своей длинной толстой косой, то и дело перекладывает с одного плеча на другое. Деревенские девушки, собравшись вокруг избы Зиновьева, с интересом разглядывают невесту ссыльного Ульянова: такая тоненькая, как былинка, а косу такую и подавно не сыщешь. На улице слышен рев полицейского: «Выходи замуж за Ульянова немедленно. Или сейчас же отправлю в Уфу…»
Она смеется. Ей весело. Ну скажите, ради чего она тащилась в эту глушь? Конечно, чтоб стать женой Ульянова. Да, священник не обвенчал их. Что ж делать, раз нет свидетельства о том, что ссыльному Ульянову разрешено жениться?.. Бумажка эта застряла где-то в Красноярске. Ее не могут отыскать ни в Шушенском, ни в Минусинске.
Зато Надежда Константиновна показывает скандальному полицейскому другой документ. Для него он вовсе не документ, а так себе, письмо Ульянова, сугубо личное, в котором государственный преступник просит ее приехать в Шушенское и стать его женой. Она сует это письмо под самый нос полицейского и не перестает улыбаться: наверное, сейчас Володя предъявит ему и ее ответ. Как она там написала? «Ладно, согласна. Женой — так женой».
Чувствуется, что полицейский поставлен в тупик, для него это сложный случай, такого он еще не припомнит. Тяжелым взглядом он уставился в пол, сосредоточенно рассматривает свои сапожищи. До него доносятся слова Ульянова: «Даю вам честное слово, что мы поженимся».
Еще она вспоминает, как хочет поднять саквояж и переступить порог дома, но Володя отстраняет ее, отбирает поклажу:
— Я сам…
Налетает рой комаров, Володя принимается их отгонять. Она уже знает, как злы местные комары, как больно и жадно кусают. Они спешат войти в дом…
Через окно виден вскопанный огород. Володя говорит, что это он вскопал его. Огород маленький, но для них хватит — картофелем себя обеспечат, народятся свекла, лук, чеснок, морковь, даже огурцы будут. Словом, с голоду не помрут. К тому же кругом растет щавель, водятся в этих местах и грибы. В конце концов, он охотник, его щенок вскоре станет отличной охотничьей собакой.
А лес… Вот они идут по лесу. В сумке Володи уже несколько глухарей. Он меткий стрелок. Заяц! Навстречу им несется большой заяц. Володя в восторге, он целится, стреляет… Заяц приподнимается на задних лапах и оборачивается в медведя, который грозно надвигается на Володю. Надежда Константиновна выбегает вперед, прикрывает мужа и наотмашь бьет медведя по морде:
— Не трогай!
Неожиданно она понимает, что из пасти зверя несет водкой… Это вовсе не медведь, а шушенский полицейский…
И просыпается.
Снится же такое! Откуда этот медведь взялся? На медведя Володя никогда не ходил, хотя охотником стал в Шушенском отменным.
И все-таки там она была счастлива. Такого больше не повторится. Все было сообща, все делали вместе. Вместе переводили с разных языков на русский, вместе переписывали работы Володи. Там же она написала свою первую брошюру «Женщина — работница». Никогда после они не гуляли столько на свежем морозном воздухе.
Когда он заявил, что каждое утро необходимо заниматься физическими упражнениями, она, помнится, громко рассмеялась. Он настойчиво и серьезно объяснял ей, что крепость должна быть не только духовная, но и физическая. Революционер обязан быть закаленным, у него должно хватить сил сопротивляться любым обстоятельствам. Сказано — сделано. Он катался на коньках, плавал, охотился. Может быть, именно это и помогло ему позже…
Кажется, Владимир Ильич просыпается. Если бы можно было, она б не задумываясь приняла на себя его болезнь, взяла себе все его страдания. Но приходит же такой час, когда все испытания человек должен вынести сам. И ничего тут не придумаешь. Единственное, что остается, — сострадание. Да разве ж только она… Миллионы людей взяли б на себя его муки. Сколько уже предложили свою кровь! Сколько посылок с едой приходит в Кремль! Ничего не жалеют для Ленина.
Как это профессор сказал? Угроза миновала… Хорошо бы. Ресницы дрогнули, на нее взглянули живые, может быть, лукавые глаза.
— Я люблю тебя, Володя, — зашептала она. — Ты даже не знаешь, как я тебя люблю.
— Почему же? Я это знаю, — ответил он тихо, и его запекшиеся губы растянулись в мягкой улыбке.
Она ощущает на своей руке тепло его ладони.
— Это архиважно, что я не ушел на тот свет, — говорит он.
— Знаешь, мы получаем множество писем и телеграмм. Рабочие требуют, чтоб ты жил.
Владимир Ильич пытается приподняться, но тут же звучит голос фельдшерицы:
— Нельзя, товарищ Ленин. Такая гимнастика вам еще противопоказана.
— Лежи спокойно, — просит Надежда Константиновна.
— Ладно, — успокаивает женщин Ленин. Обращаясь к Надежде Константиновне, он продолжает: — Мой принцип ты знаешь. На письма надо отвечать. Ни одно письмо не должно остаться без ответа.
Он помолчал немного, и затем в комнате вновь раздался его голос:
— Говоришь, Надюша, что мне приказано выжить?
— Непременно!
— Как тут ослушаться. Нельзя же быть наглецом…
Он прикрывает глаза. Надежда Константиновна успевает подметить в них знакомый ей огонек упорства. Теперь-то уж он непременно победит.
— Спасибо тебе, Надюша, большое спасибо, — слышит она его голос, ощущая прикосновенье его ладони к своей. — Кажется, выхолощенные слова, а какие свежие… Я тоже люблю тебя, дорогая. Люблю…
Такие же слова Владимир Ильич написал ей симпатическими чернилами в тюрьму свыше двадцати лет тому назад. Надежда Константиновна хорошо помнит тот петербургский рассвет, когда она в одиночной камере читала признание Володи.
Вечно свежие слова. И тогда трогали, и сейчас трогают душу. Теперь, пожалуй, ещё сильнее, чем тогда…
_____
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
По техническим причинам разрядка заменена болдом (Прим. верстальщика)
(обратно)


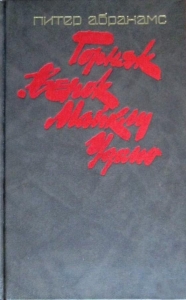
Комментарии к книге «Березонька», Борис Юрьевич Могильнер
Всего 0 комментариев