Издательство благодарит фирму «Ситко» за помощь в осуществлении выпуска книги.
МАРИАНА ФРИДЖЕНИ Лудовико по прозванию Мавр РОМАН ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРЦОГА МИЛАНСКОГО
ПАТРИОТ МИЛАНА И ГОСУДАРЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Роман-хроника Марианы Фриджени — одно из многочисленных свидетельств интереса современников к великим событиям эпохи Возрождения. В последние десятилетия ученых и художников особенно занимает тип ренессансной личности, потому вполне логично для итальянской писательницы, уроженки Бергамо, стремление сказать свое слово о характере выдающегося ее земляка, жившего и правившего в Италии XV века.
А Италия XV века — это конгломерат больших и малых государств, борющихся друг с другом за главенство на Апеннинах. Самым крупным из этих государств было Неаполитанское королевство, перешедшее в 1443 году из рук французско-анжуйской династии к испанско-арагонской. Первым правителем этого королевского дома стал Альфонсо, отличавшийся прозорливостью и великодушием. За годы его правления Неаполь превратился в богатый и современный город. Были снесены старые кварталы, возведены новые дома и палаццо, построены дороги, заложены широкие площади. Город украсили великолепные храмы и роскошные дворцы. Королевский двор приобрел многочисленные произведения искусства — картины, гобелены, ковры. При дворе появилось значительное число поэтов, художников, философов, литераторов. Однако все это требовало огромных денег. Королевство в конце концов оказалось на грани разорения.
Северные рубежи Неаполитанского королевства проходили по границе Ватикана. В 1377 году папа, вернувшись из авиньонского пленения, увидел, что раздор между знатными римскими родами вспыхнул с новой силой; не утихала междоусобная борьба и в сельской местности. Рим казался запущенным и грязным, прославленные римские акведуки были забиты грязью, дома обветшали. Знаменитый римский Форум превратился в зловонную городскую свалку. Колизей и Капитолий были окружены наспех построенными лачугами. Среди античных руин бродили в поисках пиподверг нет щи коровы, овцы, козы, свиньи и бездомные собаки. Ночью Рим был во власти разбойников, которые грабили и убивали запоздалых прохожих. Простолюдины жили за счет милостыни и жалких подачек, знать злоупотребляла привилегиями, церковники приторговывали индульгенциями, собирали подати, втихомолку занимались ростовщичеством.
Когда папа Григорий XI восстановил в Риме папский престол, церковные финансы находились в плачевном состоянии. Обширные области папского государства — Лацио, Умбрия, Марке, Романья — пришли в запустение. Буквально за несколько десятилетий, благодаря разумному правлению трех пап, это государство вернуло себе былую славу, мощь, богатство. Папа Николай V занялся реставрацией храмов, монастырей, построил новые великолепные здания, восстановил акведуки, замостил улицы и площади. На службе у папы появились знаменитые зодчие, художники, ваятели. Среди них — великий гуманист Леон Баттиста Альберти, живописцы Андреа дель Кастаньо, Беато Анджелико.
Новый римский первосвященник, Пий II, следовал благородному примеру своего предшественника. Он окружил себя литераторами, художниками и философами. Сикст IV сделал все возможное, чтобы усилить папское государство и расширить его границы. Он истратил огромные суммы на строительство новых церквей, восстановил госпиталь Святого Духа, смело реформировал университетское образование. При нем архитектором Джованнино де Дольчи была воздвигнута Сикстинская капелла, своды которой расписывали Перуджино, Пинтуриккьо, Гирландайо, Боттичелли.
Другим важнейшим центром Италии того времени была Флоренция. Она достигла своего экономического, финансового и политического расцвета под эгидой Козимо Медичи. Не занимая во Флорентийской республике никаких официальных постов, Козимо Медичи благодаря своим несметным богатствам, необычайно острому и проницательному уму, безграничному тщеславию определял и пути развития, и политику Флоренции. Племянник Медичи — Лоренцо — тоже предпочитал оставаться частным лицом, не занимать высоких должностей в городе. Но вплоть до последнего дня своей жизни (Лоренцо умер в 1492 году) его власть была неоспоримой. При жизни Лоренцо Флоренция познала счастье художественного взлета и превратилась в законодателя европейской культурной жизни. В знаменитой Академии собиралась итальянская, французская, английская и немецкая интеллектуальная элита. Сам Лоренцо часто бывал на собраниях Академии. В его личности страсть к высокой культуре странным образом сочеталась с языческой жаждой наслаждений. Он щедро одаривал самых прославленных живописцев своего времени только за то, что они брались расписывать красками кареты, в которых окружавшая Лоренцо золотая молодежь в экстравагантных одеяниях устремлялась на Соборную площадь, где бурные пирушки завершались народными увеселениями по сценарию, заранее написанному Лоренцо.
На Севере Италии господствовала Светлейшая республика Венеция. Своеобразная конституция республики предполагала олигархическое правление — власть немногих могущественных людей. Это обеспечивало Венеции прочную политическую стабильность. Основой экономического могущества Венеции был современный, прекрасно оснащенный флот под водительством бесстрашных и предприимчивых купцов-мореплавателей. До 1453 года Светлейшая господствовала на Адриатике и в Восточном Средиземноморье. Но когда под натиском оттоманских завоевателей пал Константинополь, Венеция потеряла значительную часть рынков сбыта на Балканах и в Азии. Это заставило венецианских правителей обратить свои взоры на Апеннины. Здесь они неизбежно должны были столкнуться с другими итальянскими государствами. Прежде всего с Миланом.
Милан, пережив краткий и бурный период республиканского правления, в 1450 году перешел от Висконти к могущественному роду Сфорца. Первым правителем новой династии стал герцог Франческо из Кремоны. Взяв в жены единственную наследницу Филиппо Марии Висконти, Франческо Сфорца правил Миланом до 1466 года. Неслыханная благотворительность Франческо быстро привела герцогство на грань финансового краха. Только благодаря щедрым кредитам, предоставленным флорентийскими банкирами, Франческо удалось избежать окончательного разорения. Миланский герцог в поисках выхода из трудного экономического положения запретил вывоз из Милана рабочей силы, поощрял иммиграцию, премировал многодетных матерей. При нем Милан превратился в пышную столицу, о которой говорила вся Европа. К концу столетия это был один из самых многолюдных городов Европы. В Милане процветали ремесла, торговля. Строительная лихорадка, охватившая ломбардскую столицу, значительно расширила городские границы. В городе насчитывалось более 15 тысяч домов, сотни таверн, тысячи лавок. Миланские городские рынки ломились от изобилия местных и привозных товаров. В город устремились английские, французские, немецкие, венецианские, флорентийские дельцы и торговцы, просто предприимчивые люди. Еще одной чертой жизни тогдашнего Милана были праздники, народные и великосветские балы, карнавалы, рыцарские турниры.
Наряду с этими пятью самыми могущественными итальянскими государствами в Италии насчитывалось огромное число небольших государственных образований, жаждущих расширить свои пределы, натравливающих друг на друга своих беспокойных соседей, поставляющих своих наемников, солдат и полководцев то одному, то другому сильному государю. На протяжении всего XV столетия Апеннинский полуостров являлся театром военных стычек между отдельными итальянскими городами. Этот обычай на несколько столетий затормозил объединение страны. И, естественно, в раздробленную Италию спешили за наживой полчища иноземных завоевателей. Первым проложил этот путь в 1494 году король Франции Карл VIII. Он вторгся в Италию по просьбе Лудовико Мавра.
Лудовико был четвертым сыном Франческо Сфорца. Мавром его прозвали за смуглое лицо, черные как смоль волосы и глубоко посаженные темные глаза. Лудовико был рад этому прозвищу. Желая попасть в тон, Лудовико обзавелся даже эфиопской прислугой и щеголял в мавританских одеяниях. Его никак нельзя было назвать красавцем мужчиной, хотя он и выделялся среди других Сфорца высоким ростом и крепким телосложением. Мужественный его облик сразу же запоминался окружающим. Мать Бьянка выбрала ему в воспитатели известнейшего итальянского гуманиста Филельфо. Под его руководством Лудовико прошел курс классической филологии. Филельфо, как это было в обычае времени, делал особый упор на латинских классиков. Но Лудовико предпочитал более веселые занятия — охоту, рыбную ловлю, стрельбу из лука. Его слабостью были женщины и дружеские пирушки, на которых, однако, он вел себя достаточно сдержанно, не позволяя излишеств.
Став регентом своего десятилетнего племянника Джана Галеаццо, Мавр позаботился о том, чтобы сохранить за ним все атрибуты герцогского трона. Действительную же власть прочно сосредоточил в своих руках. Ему удалось снискать популярность среди миланцев. С ужасом вспоминали они о крутом нраве прежних синьоров — Висконти. Лудовико же был человеком общительным и довольно демократичным. Прежде всего в круг его забот входили дела государства, процветание экономики. Численность населения в Милане за период правления Мавра возросла до 130 тысяч человек. Милан превратился в богатейший, красивейший город мира. При герцогском дворе прочно обосновались роскошь и веселье. На пышные празднества съезжался, как правило, весь цвет европейской аристократии.
Но, как и все праздники жизни, этот тоже длился недолго. Причиной тому — болезненный Джан Галеаццо, от имени которого управлял герцогством Лудовико. Вернее, даже не сам Джан Галеаццо, а его жена Изабелла Арагонская, внучка неаполитанского короля Фердинанда. Тщеславная Изабелла не собиралась довольствоваться ролью герцогини второго сорта и обратилась за помощью к своим неаполитанским родственникам.
Фердинанд прекрасно понимал, что было бы гораздо лучше оставить Джана Галеаццо в покое: пусть живет себе в своем павийском замке, окруженный кошками, собаками и дорогими побрякушками. Но отец Изабеллы Альфонсо, который и сам был обойден при дележе наследства, прислушивался к жалобам дочери. Изабелла была уверена, что по приказу Мавра ей и ее супругу потихоньку подсыпают в пищу яд. Скорее всего, ее обвинения были ложны, хотя надо признать, что Мавр был на такое вполне способен.
Лоренцо Великолепный постоянно пытался сглаживать трения между Миланом и Неаполем, справедливо полагая, что только добрососедские отношения между пятью могущественными городами-государствами являются единственной надежной гарантией итальянской независимости. Но наследник Лоренцо, Пьеро Медичи, увы, не пошел по стопам отца. Он недвусмысленно принял сторону Неаполя. Римский папа Александр VI тоже заигрывал с Альфонсо. Обострились отношения Милана и с Венецией. Опасаясь, как бы не оказаться в изоляции, Лудовико был принужден пойти по проторенному в течение столетий пути: призвал на помощь в борьбе с такими же, как он, итальянцами иностранное государство.
Самой сильной из приграничных стран в то время была Франция. Король Людовик XI завершил объединение Франции, сломив сопротивление многочисленных маркизов, графов и баронов. Смирившись с поражением, они благополучно заняли различные придворные и правительственные должности или пошли на военную службу. Французская армия стала лучшей во всей Европе, ее отличали особая храбрость солдат и полководцев, прекрасная оснащенность, строжайшая дисциплина. Людовик XI никогда не растрачивал сил своей армии на далекие походы в чужие страны. Он занимался только внутренними проблемами, сосредоточив все усилия и энергию на создании мощного и централизованного государства. Однако сын его Карл VIII, унаследовавший трон и отлаженную административно-военную машину, не перенял ни отцовский ум, ни его здравый смысл.
Учитывая недалекость и непомерные амбиции Карла VIII, Мавр постарался отвлечь от себя внимание Франции, предложив ей заманчивый Неаполь. Последний из анжуйских правителей Неаполя, Ренато, завещал все свои права, а вернее, свои притязания на Неаполь Людовику XI. Мавру было не трудно убедить Карла в том, что Неаполитанское королевство принадлежит французскому королю по праву наследования. К тому же Неаполь мог явиться прекрасной базой для организации крестовых походов в Святую Землю. Призывая в Италию захватчиков, коварный миланский герцог решал двойную задачу: обезопасить себя, свой троп, и подставить под удар соперника.
Однако было бы исторически неверно взваливать только на Лудовико Мавра всю полноту ответственности за дальнейшее катастрофическое развитие событий. В истории активно участвовали и другие итальянские города, вечно стремившиеся извлечь особую корысть из беды, в которую попадал сосед.
Флорентийскому послу, который уговаривал Мавра ни в коем случае не обращаться за помощью к королю Франции, отказаться от нее во имя Италии, герцог Миланский ответил: «О чем вы говорите, посол? Италия — что это такое?» И, по мнению посла, был прав, поскольку прежде всего заботился о себе самом. Быть может, и флорентийцам не мешало бы последовать «хорошему примеру»? Ведь, коль скоро Флоренция будет вынуждена оказать Карлу сопротивление, тот обязательно подвергнет гонениям флорентийских купцов во Франции. Папа римский тоже выжидал и старался не раздражать французского короля, чтобы не испытывать лишний раз судьбу.
Париж кишмя кишел выходцами из Италии, которые не оставляли короля, требуя совершить итальянский поход. В основном это были неаполитанцы, преданные анжуйской династии, и флорентийцы, во главе которых стоял Пьеро Каппони, мечтавший свергнуть ненавистных ему Медичи. В Париже объявился также кардинал делла Ровере, вынашивавший план занять престол римского первосвященника вместо папы Александра Борджа. Представители французской знати решительно противостояли парижским итальянцам. С одной стороны, они по традиции все еще полагали неприемлемыми военные авантюры за пределами Франции, с другой — вовсе не доверяли своему королю. Направление армии за границу, рассуждали они, сделает Францию беззащитной перед другими соседями — Германией и Испанией. Пусть даже военный поход в Италию обойдется малой кровью, все равно деньги на такое предприятие пойдут огромные. Не лучше ли следовать разумной политической традиции Франции и не лезть в чужие дела? Ведь именно эта политика, политика невмешательства, позволила Франции стать тем, чем она являлась в XV веке, — единым и мощным государством.
Но было поздно. Карлом уже овладела идея итальянского похода. Король был готов пойти на любые жертвы, лишь бы сбылась его мечта. Карл наделал долгов, заняв крупные суммы у Мавра и генуэзских банкиров. Когда же и этого оказалось недостаточно, он заложил королевские драгоценности. Желая обезопасить Францию от грозных соседей, Карл уступил Испании в территориальном споре. Германскому императору Максимилиану он отдал Артуа. Даже среди близких к Карлу лиц стало расти недовольство его слишком вольным обращением с французскими землями. Но все вынуждены были смириться, ознакомившись с донесениями французских послов из Италии. Послы утверждали, что только Неаполитанское королевство готово дать отпор французам, однако, по их мнению, неаполитанское сопротивление могло быть легко сломлено. Других военных формирований, которые были бы в силах сколь-нибудь серьезно противостоять Франции, в Италии не имелось. Апеннины к моменту нашествия оказались практически безоружны. Кроме того, итальянские государи рассматривали появление вооруженных иностранцев как возможность отомстить соседу и пограбить его имущество.
Таково было положение дел в Италии. Дальнейшее развитие событий подтвердило самые худшие прогнозы современников. Но только некоторые просвещенные умы, такие, как Макьявелли и Гвиччардини, понимали всю катастрофичность создавшегося положения, хотя и считали такой поворот истории неизбежностью. Италия — жертва самой себя. Лишь спустя много веков она стала единым государством.
В марте 1494 года король Франции Карл во главе армии, состоявшей из 18 тысяч всадников и 22 тысяч пехотинцев, двинулся из Лиона в Италию. Он перешел через Альпы и добрался до Асти, где его уже ждал Мавр. Карлу были оказаны все почести и вручена значительная сумма денег. Но внезапно вспыхнувшая эпидемия оспы приковала французского короля к постели. Лишь через несколько недель смог он возобновить свой поход и через Миланское герцогство двинуться на Флоренцию.
Пьеро Медичи вышел ему навстречу, сдал несколько важных крепостей, устроил торжественный прием.
Следующий этап похода Карла VIII — Рим. Карл дошел до Вечного города лишь в декабре, после того как французские корабли бросили якорь в порту Остии. При известии о приближении французов папа Борджа укрылся в замке Святого Ангела и выслал навстречу Карлу гонца с предложением о перемирии. Карл и Борджа не очень-то друг друга жаловали, но король остро нуждался в поддержке или нейтралитете папы, желая успешно завершить свою экспедицию.
Встреча между папой и королем состоялась в Ватикане. Король Франции трижды преклонил колени перед римским первосвященником, что обеспечило свободный проход армии через папское государство. 22 февраля, не встретив никакого сопротивления, французы вошли в Неаполь. Неаполитанцы радостно приветствовали французов. Карла внесли в город через празднично украшенные городские ворота четверо представителей знати. Над королевскими носилками возвышался балдахин, сверкавший золотом и драгоценными камнями. Желая расположить к себе простых неаполитанцев, король организовал раздачу милостыни, уменьшил размер городских податей, а по просьбе баронов ввел крепостную зависимость для крестьян.
Бескровный поход увенчался успехом. Карлу не терпелось поскорее насладиться его плодами. Король Франции предавался пиршествам и любовным утехам. Тому благоприятствовала прекрасная весенняя погода, теплый неаполитанский климат. Время от времени, отвлекаясь от наслаждения жизнью, Карл пополнял свою казну при помощи грабежей и разбоя. Он вывез из монастырей самые драгоценные реликвии, оголил стены неаполитанских церквей, присвоил наиболее известные произведения искусства, разграбил богатые дома и, погрузив добро на корабли, отправил его в Париж.
Мародерство и грабежи вызвали гнев неаполитанцев. Вдохновителем антифранцузских настроений стал римский папа, обеспокоенный беспардонностью и алчностью Карла. В марте 1495 года Александр VI создал Священный союз, направленный против французского короля. В него вступили Венеция, Милан, король Испании, император Максимилиан. После того как герцог Орлеанский предпринял неудачный набег на Ломбардию, изменил свое отношение к Франции и Лудовико.
В мае Карл передал Неаполитанское королевство своему кузену и во главе армии пустился в обратный путь. Приблизившись к Парме в пригороде Форново, он столкнулся с численно превосходящими его отряд войсками Священного союза. Правда, отряды союзников были плохо вооружены. Французам удалось прорвать заграждение и уйти за Альпы. В Неаполитанском королевстве последствия французского отступления не заставили себя ждать. Французский гарнизон был тут же изгнан из города, и арагонцы вновь заняли трон.
Несмотря на неудачу, Франция не отказалась от дальнейших походов в Италию. В 1498 году герцог Орлеанский, став королем Людовиком XII, возродил мечту о возвращении Милана Франции. Лудовико Мавр спешно попросил помощи у Венеции. Но гордая Светлейшая республика не простила ему заигрываний с Карлом. Венецианцы и не подумали удовлетворить просьбу миланского герцога. Мавру ничего не оставалось, как броситься с призывом о помощи ко двору императора Максимилиана. Император предоставил в распоряжение Мавра наспех собранных швейцарских и немецких наемников. С их помощью Лудовико удалось возвратиться в Милан, который в его отсутствие захватили французы. В замке Сфорца они обосновались прочно, с артиллерией, и при появлении Мавра начали обстрел города. Перепуганные миланцы заставили своего герцога перенести столицу в Павию. Французы воспрянули духом. Лудовико поручил кондотьеру Гонзага изгнать завоевателей из Миланского герцогства. Но Гонзага вошел с оккупантами в сговор, а швейцарские наемники последовали его примеру и выдали Мавра французам.
Под гулкими сводами лионского замка, где миланского герцога поместили в качестве пленника, прежде времени состарившийся Мавр проводил дни за чтением Библии, молитвами, беседами с любимым шутом, который последовал за своим господином в далекую Францию. Правда, однажды он, переодевшись в крестьянское платье, пытался бежать из Франции. Но его настигла погоня. Мавра бросили в подземелье, где он и скончался 18 мая 1508 года в возрасте пятидесяти семи лет.
Историки расходятся в мнениях относительно жизни и деятельности Лудовико Сфорца. Одни считают его предателем, другие — хитрым и просвещенным тираном, третьи — капризным, тщеславным, беззастенчивым авантюристом. На самом деле он, вероятно, является воплощением всех этих черт, как и прочие государи эпохи Возрождения, о чем убедительно повествует в своей книге Мариана Фриджени.
Виктор Гайдук
ГЛАВА I Поцелуй невесты
В генуэзском порту с нетерпением ждут корабль, на котором в Италию должна прибыть Бона Савойская, жена Галеаццо Сфорца, миланского герцога. Среди встречающих — юноша; у него смуглое лицо и тонкие, решительно изогнутые губы. Взгляд его острый и пронзающий. Это Лудовико Сфорца, по прозванию Мавр; на темно-бронзовом от природы лице выделяются черные с желтоватым отливом глаза.
В то летнее утро 1468 года всякий наблюдавший его мог заметить смятение чувств, искажавших тонкие черты. Честолюбие и гнев можно было прочитать в изломе его губ. Он изо всех сил сдерживал себя, как человек, приготовившийся к долгому ожиданию. Главное — он до конца понимал свое предназначение. Ему помогало стремление выстоять под ударами судьбы. Именно это качество превратит его в первого среди итальянских государей. Но сейчас перед нами взволнованный шестнадцатилетний юноша, к которому, казалось бы, фортуна повернулась спиной. И, кажется, уже ничто не в состоянии переломить серость его существования, бесцельной придворной жизни, протекающей среди мелких интриг, измен, гнусного соперничества. Все это для Мавра мышиная возня.
Отец его, Франческо Сфорца, возвысивший и сделавший могущественным свой род, умер два года назад — 8 марта 1466 года. Старший сын, Галеаццо, не преклонил колена у смертного одра своего отца. В это время он развлекался при французском дворе. Дни его были заняты охотой, балами, покорением прекрасных дам, рыцарскими турнирами. Отец послал его на помощь королю Людовику XI, но сын не спешил возвращаться домой. Мятежные феодалы были разгромлены, и Галеаццо полагал, что имеет право отдохнуть от ратных подвигов.
Только Бьянка Мария, жена Франческо, женщина, обладавшая незаурядным политическим чутьем, поняла, что в этот скорбный час решается судьба герцогства. Именно она повелела своему сыну немедленно возвратиться в Милан.
На трудных альпийских дорогах, преодолевая вброд бурные горные реки, вспучившиеся из-за раннего таяния снегов, медленно продвигалась к Милану горстка рыцарей. Во главе отряда шел сам Галеаццо, рядом с ним были верный советник Гаспаре да Вимеркате и несколько человек вооруженной гвардии. Опасаясь засады на землях графа Савойского, заклятого врага всех Сфорца, они переоделись паломниками. Над этим отрядом не развевались гордые герцогские хоругви, не сверкали в лучах весеннего солнца родовые гербы. Однако предосторожности не помогли избежать коварной засады. В Новалезе близ Сузы на них напали вооруженные люди графа. Но Галеаццо удалось укрыться в одной из ближних церквей. Здесь они и были взяты в окружение.
Бьянка немедленно отрядила своих послов — протестовать у савойского графа, потребовать, чтобы он раскаялся в своем предательском поступке. К вечеру в церковь, где укрывались новый герцог Сфорца и верные ему люди, проник никем не замеченный гонец. Он представился: Антонио да Романьяно, доверенный человек герцогини. Он выручит Галеаццо. С наступлением ночи пленникам удалось вырваться на свободу. В условленных местах их уже ожидали отдохнувшие кони. Меняя их на ходу, Галеаццо вскоре достиг безопасной ломбардийской равнины.
20 марта 1466 года в Милане, казалось, повторяются события шестнадцатилетней давности, когда весь город радостно приветствовал Франческо Сфорца. Галеаццо вступает в Милан через Тисинские ворота. Шествие открыли придворные и солдаты, прокладывавшие путь в плотной толпе простолюдинов, с ликованием приветствовавших нового герцога, радостно восклицавших и присягавших ему на верность. Небо над городом святого Амвросия огласили возгласы и здравицы в честь нового герцога, с колоколен грянул праздничный перезвон, улицы, по которым следовал торжественный кортеж, были расцвечены многочисленными флагами с гербом Сфорца. В глазах рябило от ярких, кричащих красок.
Бьянка Мария ожидала прибытия сына в замке. У нее еще было время поразмыслить, что же принес ей этот знаменательный день. Бьянка Мария могла быть вполне довольна собой. Задуманный ею торжественный въезд нового герцога в Милан удался на славу. Она желала, чтобы все дворы Италии и Европы узнали из донесений своих послов, что Галеаццо стал герцогом Миланским не только потому, что он должен быть им по праву первородства, но и потому, что его любит народ. Опытная и мудрая женщина испытывает чувство усталости и облегчения. С тех пор как она закрыла глаза своего покойного мужа, герцогиня ни одной минуты не потеряла даром. Она написала письма всем сыновьям и синьорам своего герцогства, убеждая их присягнуть на верность Галеаццо, своему сыну. Она обратилась к знати крупнейших дворов, дабы и они благосклонно отнеслись к преемнику Франческо.
Галеаццо, в отличие от своего отца, человека весьма расчетливого и холодного, импульсивен. Он не знает меры своим чувствам. Во Флоренции союзник его, Пьеро де Медичи, переживает сейчас трудный момент. Итальянские государи плетут против него нить заговора, который Медичи сможет разрушить только благодаря поддержке флорентийского народа 27 августа. Однако новый герцог Миланский готовится к походу на Флоренцию — для того якобы, чтобы оказать Пьеро помощь. Он так и написал в своем письме к Медичи. Пьеро возмущен. Какие тайные планы пытается осуществить новый герцог Миланский? Уж не желает ли он воспользоваться его трудностями, чтобы прибрать Флоренцию к рукам? Пьеро де Медичи сухо ответил на послание Галеаццо. Помощь Милана — излишнее дело.
Лудовико, обладавший ясным и трезвым умом, был прирожденный интриган. С огромным любопытством наблюдал он за дипломатическими маневрами своего брата. О, тот не брезгует ничем, чтобы под прикрытием дипломатической интриги ввести Милан в крупную игру, в которой участвуют все мало-мальски крупные государства того времени.
4 января 1467 года между Миланом, Флоренцией и Неаполем был заключен союз сроком на двадцать пять лет. К союзу могли присоединиться Мантуя, Лукка, Сьена и Венеция. Но в действительности этот сговор был направлен против Венеции. Именно ее взяли под прицел участники коалиции.
Светлейшая республика, испытывая вполне обоснованные опасения, поручила командование своей армией прославленному капитану Бартоломео Коллеони. Ему вменялось напасть на Флоренцию, прежде чем угроза Венеции со стороны коалиции обретет реальные очертания.
Правда, у самого Коллеони планы были иные. Он был намерен атаковать Милан — в надежде, что по причине молодых лет нового герцога и его неопытности в военных делах успех этого предприятия обеспечен. Не без труда, но венецианцам все-таки удалось отговорить Коллеони от его затеи. Ловкий и хитрый наемник, собрав армию в 6 тысяч пехоты и 8 тысяч кавалерии, перешел через По, угрожая Романье и Тоскане.
В стане Галеаццо смятение. Герцог желает доказать, что похвалы его смелости, которыми он обязан французскому походу, — заслуженное признание его ратных талантов. Галеаццо не терпится как можно скорее проучить этого наглеца Коллеони. В июне 1467 года армия коалиции под водительством Галеаццо, Федерико да Монтефельтро, герцога Урбинского, и Фердинанда Арагонского, сына неаполитанского короля, с одной стороны, и армия Венеции — с другой, сошлись между Фаэнцей и Форли́. Коллеони решил захватить противника врасплох. Впервые в истории Италии он вывел на передовую линию 30 единиц полевой артиллерии. Сюрприз оказался более чем удачным. Герцог Эрколе д’Эсте, горячий поклонник классической кавалерийской атаки, был вне себя от возмущения дьявольским маневром Коллеони — тот обрушил на солдат «ужасающую бурю» пушечных ядер и картечи, — протестуя против такого применения артиллерии, «сеющей панику и уничтожающей доблестных рыцарей», которые, «как и подобает, вышли на поле брани с мечом и копьем, ища доблести и славы».
Что же, пушки Коллеони наделали немало шума, однако принесли противнику мало ущерба. Более того, Галеаццо стал замечать, что его противник как бы избегает решительного столкновения. Прославленный капитан повел себя подобно уличному забияке, который изрыгает страшные проклятия и даже готов засучить рукава, но в решительную минуту пасует и не принимает вызова. Герцог Миланский даже написал матери о том, что неприятель «отступил, не протрубив в трубы». Галеаццо не скрывал своего возмущения «малодушием неприятеля, который так и не сумел доказать на деле своей смелости».
Точно так же осторожничал, проявляя военную хитрость, герцог Урбинский. «Федерико, — негодовал Галеаццо, — ведет себя чересчур осторожно. Он все время оттягивает решительное столкновение с противником. Все выжидает, пока тот не получит явного преимущества».
Тем временем во Флоренции улицы и площади были украшены штандартами, а флорентийские лилии были вплетены в герб Сфорца — Пьеро де Медичи чествовал Галеаццо. Они съехались сюда, чтобы обсудить ход войны. Галеаццо, раздраженный медлительностью развития событий, тем не менее охотно согласился провести какое-то время в городе, который был ему столь приятен. Правда, перед самым возвращением на поле брани он получил известие, приведшее его в некоторое уныние. Решительное столкновение все-таки произошло 25 июля под Риккардиной близ Медзолары в Романье. То было крупное сражение, в ходе которого Коллеони был разбит и унижен. Галеаццо, привыкший действовать под влиянием минуты, убедился в собственной наивности. Кондотьеры коалиции решили дать сражение в его отсутствие и воспользовались его удалением во Флоренцию, чтобы перейти в наступление, о котором он, Галеаццо, мечтал на протяжении нескольких месяцев.
Герцог был в замешательстве: упущен такой случай! Нет, он на деле докажет свою воинскую доблесть. Галеаццо принял решение бросить войска против Филиппа Савойского, вторгшегося в Монферрато. Таким образом, Флоренция получила повод еще раз возмутиться поведением герцога, ибо снятие миланских войск с линии фронта было как бы приглашением Коллеони напасть на город.
Бьянка Мария была крайне удручена непоследовательностью поведения своего сына. При жизни мужа, Франческо, она привыкла, что ход военной кампании тщательно прорабатывается в тиши кабинета. Успех же ее может быть обеспечен крупной дипломатической игрой. Бьянка Мария не могла согласиться со столь бессмысленной агрессивностью сына. Желая хоть как-то успокоить флорентийцев, она решила написать властям города о том, что их подозрения напрасны: Галеаццо не замедлит прийти на помощь Флоренции в момент нужды. Однако она и сама понимает тщетность своих надежд. Одиночество — вот ее горький удел.
Павел II, папа римский, полагая себя в полной безопасности, с презрением следил за выходками итальянских синьоров. Рано или поздно они будут вынуждены подчиниться его авторитету. 2 февраля 1468 года он в одностороннем порядке провозгласил мир, угрожая отлучением от церкви всякому, кто не последует его призыву. Галеаццо был раздосадован, и не скрывал этого. Папа желает навязать ненавистного Коллеони в качестве верховного главнокомандующего всего итальянского государства в войне с турками. Синьоры должны обложить себя добровольной податью, чтобы оплачивать услуги Коллеони. Вы только подумайте, 100 тысяч флоринов ежегодно! В раздражении герцог Миланский пишет в Неаполь Фердинанду: безумием было бы поощрять авантюриста, каких свет не видывал. Король устал от бесконечных войн и намерен прислушаться к совету римского первосвященника — таков был ответ Фердинанда. Галеаццо вынужден пойти на попятную, сделав вид, будто и он согласен с предложением папы, правда, потому только, что деньги Коллеони выплачивать будет Венеция. Итак, 25 апреля мир, по настоянию папы, был провозглашен.
Всего несколько дней спустя Галеаццо Сфорца отпраздновал свою свадьбу. В течение десяти лет он был связан словом с маркизом Мантуи — обещанием жениться на его дочери. Но жизнь причудлива. Сначала предполагалось, что в жены он возьмет Сузанну Гонзага. Однако эта дурнушка, войдя в возраст, оказалась к тому же горбуньей. Галеаццо пришлось переправить брачный контракт на сестру Сузанны — Доротею, правда снабдив его примечанием, что брачный контракт станет недействительным в случае, если и сестра Сузанны с возрастом тоже окажется горбуньей. Галеаццо пришлось немало постараться, чтобы отсрочить этот брак. Все более высокое его положение давало ему основание надеяться на гораздо более выгодную партию. 21 апреля 1467 года несчастная Доротея умерла. Бьянка Мария оплакала ее как собственную дочь. Таким образом, Галеаццо избежал возможных неприятностей, связанных с разрывом очередного брачного контракта.
К тому времени Галеаццо уже был наслышан о красоте Боны Савойской, свояченицы французского короля. Подобная партия имела бы огромное стратегическое значение. Кроме того, речь шла об известной красавице. Галеаццо, сжигаемый плотскими страстями, свойственными всем мужчинам рода Сфорца, думал не столько о Политическом смысле этого брака, сколько о красоте невесты. Желая обеспечить брак, он направил ко французскому двору, где находилась невеста, своего побочного брата Тристана и придворного художника Дзанетто Бугатти. Последнему было дано поручение запечатлеть на портрете красоту юной девы.
В начале марта 1468 года Бугатти возвратился в Милан с готовым портретом. Не без трепета снял Галеаццо с картины покров. И вот взрыв радостных чувств. Галеаццо в восторге от ясного чела невесты, от живого взора ее светлых глаз, от шаловливой улыбки, спрятанной где-то в уголках коралловых губ, от пышной высокой груди. Матери, которой Галеаццо поклялся, что в том случае, если портрет ему не понравится, он попросит ее вынести окончательное суждение, он пишет радостное письмо: «На мой вкус, она не просто хороша — она великолепна!»
Тристан, которому исполнилось сорок восемь лет, так же как и все Сфорца, пребывал в плену плотских чувств. Хотя многие давно обратили внимание на то, что особой благосклонностью этого Сфорца пользуются молодые пажи. Тристан тоже в восторге от знакомства с невестой Галеаццо. 23 марта, уже дважды встретившись с принцессой, он сообщил своему сводному брату: «Мне представляется, что эта девица не только хороша собой, но и самою природой предназначена для рождения потомства. Черты ее лица пропорциональны, глаза ничем не замутнены и широко глядят на мир, нос правильной формы, рот изящен, шея великолепна, зубы белы и крепки, кожа рук нежна. К тому же она обладает приятнейшими манерами и умеет вести себя в свете».
Итак, суждения насчет невесты, которой выпала судьба стать первой синьорой Милана, были единодушными и благосклонными: девушка хороша собой. Она обладает той чувственностью, которая заставляет трепетать всех мужчин Сфорца.
Ликующее эхо праздничных фанфар разносится в гулком дворе замка Амбуаз во Франции, где 10 мая 1468 года с огромной пышностью празднуется помолвка. В этой заочной свадьбе Тристан исполняет роль жениха. Радость его неописуема. Вот Бона на пороге церкви. На ней роскошный подвенечный наряд, весь усыпанный драгоценными камнями. Золотые волосы, струясь, ниспадают на точеные плечи, пламенеют щеки. Вся она олицетворение юности, пышущей здоровьем красоты. Вот Бона перешагнула через порог. Под руку ведет ее сам король Франции — Людовик XI. Они шагнули навстречу Тристану, и заочное венчание, по правилам того времени, началось. Бона должна поцеловать человека, играющего роль жениха. Она поцеловала его «с превеликим удовольствием», как позднее вспоминал Тристан. По тем же правилам, мужчина в роли жениха должен был коснуться обнаженной ногой ноги невесты и возлежать с нею на брачном ложе — правда, на известном расстоянии и поверх покрывала. Тристан во всех подробностях описал этот эпизод в своем письме к брату. Тот не замедлил ответить ему в саркастическом тоне: «Не сомневаемся, что Вы повели бы себя столь же добропорядочно, как, впрочем, и подобает брату, даже если бы оказались с невестой под покрывалом». При этом Галеаццо не преминул съязвить, что вряд ли сводный брат повел бы себя так же целомудренно, окажись под покрывалом какой-нибудь юный эфеб.
По завершении обряда венчания Бона села на корабль в одном из портов Прованса. Путь ее лежал в Геную, оттуда — в Милан.
Прибытие в Италию новой герцогини было подготовлено с особенной тщательностью. Представители дома Сфорца встретили ее на пристани. Прием был оказан самый достойный. В обычаи ломбардийского двора входило гостеприимство — предлог, чтобы продемонстрировать свое собственное великолепие. В порту гостью ждала огромная галера. Пятнадцать роскошных кают, триста человек свиты — «малый двор», который должен был препроводить Бону в Милан. Кроме того, восемь других кораблей сопровождали адмиральскую галеру, на борту которой совершала свое путешествие герцогиня.
Ожидание в порту продолжалось несколько дней. Бурное море воспрепятствовало своевременному прибытию Боны, задержавшейся в Сан-Ремо — правда, ненадолго. Море успокоилось, и Бона продолжила путешествие.
В Генуе среди встречавших был также Лудовико Мавр. Он с трудом переносил свое подчиненное положение, которое было предписано ему протоколом. В глубине души он испытывал сильную зависть к своему брату: предстоящий брак обещал был счастливым. Еще бы, в жены Галеаццо досталась благородная и красивая женщина; Мавр воспринял это как личное оскорбление. Сам он был вынужден довольствоваться объятиями служанок, пойманных в темных коридорах. Сжав зубы, ждал он прибытия корабля, притворившись, что, как и все, несказанно рад предстоящему событию. Лудовико обладал силой воли.
Наконец огромный французский корабль причалил. Вот и сама герцогиня спускается по трапу на генуэзский берег. Копна золотых волос сияет в лучах италийского солнца. Пышную грудь плотно обтягивает богатое шелковое платье. На лице блуждает счастливая улыбка. На правах родственника Лудовико первым горячо обнял герцогиню, страстно поцеловал ее в горячие, пламенеющие уста.
Куртизаны понимающе переглянулись: кровь мужчин из рода Сфорца дает о себе знать при любых обстоятельствах.
Летописец в восторженных словах описал невесту: «Шея и грудь ее прелесть как хороши! Талия ее узка и перехвачена поясом, пряжки которого не застегнуты наглухо, как принято у нас, а полураскрыты».
Впечатление, произведенное новой герцогиней на своих подданных, было сильным. Джованни Борромео написал герцогу: «Она столь хороша, что не хватает слов, чтобы передать чувство, которое охватывает всякого, кто сподобился лицезреть ее. Среди прочих неподражаемых ее достоинств следует упомянуть прежде всего четыре самые привлекательные черты, превосходящие всякое ожидание: это рот, очертание которого невозможно с чем бы то ни было сравнить, это овал и черты ее лица, это ее точеная шея и, наконец, нежные руки».
Галеаццо не в силах ждать. Подобные описания возбудили его вожделение до предела. Образ суженой волнует его; и герцог дает волю самым необузданным фантазиям. Как человек порывистый, он не в состоянии удержать себя в рамках приличия.
Не дожидаясь прибытия кортежа в Милан, он бросился невесте навстречу. 2 июля в Нови он наконец увидел ее… Самый удобный и красивый из окрестных замков — замок Виджевано. Именно здесь задумал он вкусить прелестей своей жены: «Замок столь удобен и расположен столь близко от дороги, что именно там нам было суждено соединиться с Боной, чтобы испытать все наслаждения супружеской жизни».
На Соборной площади были воздвигнуты огромные подмостки. В присутствии духовенства и двора в торжественной обстановке был повторен обряд венчания. Бьянка Мария, как обычно, позаботилась о всех подробностях церемонии. 4 июля молодожены въехали в Милан. Народное ликование было обеспечено. Со всех концов Италии на торжества съехались государи и великолепные придворные дамы. Милан становится одним из самых престижных европейских дворов. Сфорца по праву гордятся своими прекрасными дамами, обладающими скромной, но изысканной красотой, неуловимые и неповторимые черты которой идеализирует в своих портретах Леонардо. По случаю бракосочетания Галеаццо в Милан прибыли самые известные и самые прекрасные представительницы аристократических семейств Ломбардии. Их было бы еще больше, если бы в последний момент празднику не помешала чума.
Среди приглашенных были Друзиана, сестра Галеаццо и Мавра, Беатриче д’Эсте, дочь Никколо III и жена Тристана Сфорца, «королева праздника», Антония даль Верме, жена другого брата герцога Сфорца, Маргерита Коллеони, жена Джанджакомо Тривульцио, Элизабетта Висконти, жена первого министра двора Сфорца — Чикко Симонетты, Маргерита Бусти, жена Фацио Галлерани и мать блистательной Чечилии, ставшей впоследствии самой известной возлюбленной Лудовико Мавра.
Весь Милан собрался на Соборной площади, чтобы принять участие в церемонии, происходившей на великолепно украшенных подмостках. 7 июля — кульминация торжеств. От жадных, любопытных глаз толпы не ускользнула ни одна подробность. Все любовались радостно возбужденным лицом невесты Галеаццо. Он повелел, чтобы празднества были ослепительно пышным зрелищем. Головной убор Боны вызвал бы удивление и восхищение даже при дворе великого турецкого султана: тончайший шелк был унизан 544 изумительными жемчужинами. Слезы брызнули из глаз Боны, когда она, склонившись над блюдом и чашей — даром жениха, — увидела драгоценную яшмовую шкатулку, украшенную тончайшей позолотой, с дорогой реликвией — частицей жезла Моисеева. Драгоценности, принесенные ей в дар женихом, были оценены в колоссальную сумму. Миланские ювелиры Кастелло Таверна и Луиджи да Сесто предположили, что эти сокровища стоят как минимум 200 дукатов. После венчания жених и невеста, сопровождаемые благословением народа, прибыли в замок Павии. Здесь они намеревались провести свой медовый месяц. Известнейшие живописцы Бонифачо Бембо и Костантино Ваприо украсили замок фресками, на которых были изображены сцены достопамятного венчания. (К сожалению, время не сохранило их работу.)
Галеаццо, как мы знаем, уже успел насладиться прелестями Боны в замке Виджевано. Но этот первый опыт не только не утолил его жажды, но и заставил желать большего. Образ юной женщины, очаровательные часы, проведенные с ней наедине, остались у него навсегда в памяти.
Наконец в Павии Галеаццо провел первую подлинную ночь любви с прекрасной Боной. Никогда прежде не испытывал он такого глубокого наслаждения. Желание его постоянно возрастало. В огромной опочивальне, украшенной фресками, изображавшими мифологические сцены, Галеаццо замер, залюбовавшись Боной. Глубоко потрясенный нежными и тонкими чертами ее лица в обрамлении золотых локонов, ее светлым и лучистым взглядом, ее тонкой, как бы излучавшей свет кожей, Галеаццо снял с суженой последнее покрывало из тончайшего шелка. Бона инстинктивно отшатнулась, защищая свое целомудрие.
Галеаццо заключил ее в нежные объятия.
— Бона, наконец ты моя!
— Ты мой господин! — слетело с ее губ покорное признание.
В ее словах не было и намека на стыдливое лицемерие. Смежив ресницы, она искренне любовалась величественным торсом рыцаря, мужественной и вызывавшей ответное желание красотой естества, которой обладали все Сфорца. Бона приняла его в себя.
20 июня 1469 года замок Аббьятеграссо был оглашен пронзительными криками новорожденного Джана Галеаццо. Отец был вне себя от радости. Он желал продемонстрировать Боне свою безграничную благодарность и принес ей в дар город Новарру. Мальчик должен получить самое высокое покровительство, и Галеаццо обратился к тому итальянскому государю, с которым был в наиболее близких отношениях, — Лоренцо Великолепному, синьору Флоренции, — с просьбой оказать честь и стать новорожденному крестным отцом.
В то время как миланский двор преисполнен великой радости в связи с рождением наследника, завершается жестокая драма жизни герцогини-матери. Бьянка Мария страдала от того презрения, с каким сын отнесся к ее опыту государственного управления. Она все еще не могла забыть того времени, когда муж, занятый военными походами, вверял ей правление наиболее важными городами герцогства.
Упрямство и агрессивность Галеаццо не позволяли матери проводить свою собственную политику. Отношения между матерью и сыном становились все более напряженными. Антонио Фоленго, посол герцога Мантуанского, так объяснял своему государю Лудовико Гонзага причины скверных отношений Галеаццо с матерью: «Прославленная мадонна не может не огорчаться поведением герцога Галеаццо. Действуя тихой сапой, в глубочайшей тайне от нее, он попытался заполучить несколько крепостей в окрестностях Кремоны. Подобный поступок не по вкусу его матери. Однако ей пришлось сделать вид, что она ни о чем не знает и даже не догадывается. Он же скверно обращается со своими братьями. Недавно Филиппо Мария чуть было не покинул пределы Ломбардии и не отправился к венецианцам. Только предусмотрительность матери помешала осуществлению этого плана. Желая выколотить как можно больше средств из своих подданных, Галеаццо укрыл в секретном месте список сорока четырех самых богатых своих дворян, которых решил обложить жесточайшей податью».
Если бы не преждевременная смерть, Бьянка, скорее всего, встала бы во главе мятежа, направленного против ее сына. Она была в полном отчаянии от его безрассудных жестокостей. Бьянка была готова выйти на площадь Милана и обратиться к народу с воззванием о поддержке. Народ, который ее любил, вряд ли остался бы глух к этому призыву.
Прежде чем отважиться на непоправимое, Бьянка решила укрыться в Кремоне, чтобы там обдумать свое новое положение. Сначала она отправила в Геную свою дочь Ипполиту, намеревавшуюся возвратиться в Неаполь. Затем Бьянка из Серравалле отправилась в Тортону, где неожиданно заболела лихорадкой. Шесть дней провела она в постели. Полагая, что уже выздоровела, Бьянка направилась в Мелиньяно, но там снова почувствовала себя нездоровой. Болезнь ее быстро прогрессировала.
И вот она одна в огромной опочивальне, вдали от своего Милана. Бьянка поняла, что судьбе угодно прекратить ее жизнь в сорок три года. Что ж, жизнь она прожила наполненную, ей удалось раскрыть свой талант глубокого понимания того, к чему она была призвана в мир. Исповедник, брат Микеле Каркано, не скрывал от нее, что час пробил. Бледный отсвет улыбки на мгновение осветил мертвенное лицо Бьянки. Она попросила соборовать ее и воскликнула: «Господь призывает меня к себе, следует повиноваться!»
Неожиданно над умирающей Бьянкой склонилась тень. Это дерзкий сын пришел проститься с матерью. Под влиянием чувства он, узнав о неминуемой кончине Бьянки, прибыл сюда. Это их последняя встреча.
— Прошу тебя, позаботься о моих миланцах, о всех благородных подданных наших. Кремонцев же, вверенных моему попечению по воле твоего отца, вручаю тебе, возьми их как мой дар.
В последний раз подняла руку, чтобы благословить герцога и других своих сыновей, «и отошла она в мир иной, словно заснула», написал летописец.
Это произошло 28 октября 1468 года. Бьянка оставила этот мир так же, как и пришла в него, — на правах главного действующего лица эпохи. Народ, нутром понимающий подлинное величие своих государей, два дня прощался со своей любимицей в церкви Сан-Готтардо.
Похороны, состоявшиеся в Миланском соборе, были величественны, как и подобает, когда прощаются с великими мира сего. Все государи Италии, с почтением внимавшие голосу Бьянки, прислали своих представителей, чтобы произнести у ее гроба слова последнего прощания. Речь Филельфо, произнесшего надгробное слово, была проникнута чувством уважения к столь достопочтенной синьоре. Тело герцогини было помещено в саркофаг и замуровано меж двух колонн, рядом с гробом мужа.
Рассматривая миниатюры, темперы, написанные Бембо, изобразившим Бьянку Марию, испытываешь смешанные чувства: красота ее величественна, но в то же время надменна. Герцогиня запечатлелась в памяти современников как «нежная, но и величественная представительница ломбардийской аристократии». Современники восхищались ее энергичностью, мудростью ее дипломатии в те годы, когда она имела возможность действовать самостоятельно, когда она еще была окружена уважением и почтительным послушанием. Величие ее с особой силой проявилось в момент кризиса и отстранения от власти, когда в силу превратностей судьбы и неблагодарности сына она была ввергнута в полосу страданий.
«Она проиграла, но проиграла с достоинством, — писал о ней Гуидо Лопес, — ей не удалось перебороть упрямство сына, ею же и воспитанное в нем как в законном наследнике. Она сама воспитала в нем чувство самостоятельности, стремление к поступкам пусть и ошибочным, зато совершаемым всегда самостоятельно на правах государя».
Тяжкое подозрение тяготело над неблагодарным сыном. По слухам, распространившимся в народе, он был отравителем своей матери. Он пошел на это, чтобы избавиться от ее опеки. «Правда, поговаривают, что причиной смерти был не столько яд, сколько черная неблагодарность сына».
Бьянка обладала весьма решительным характером. В молодые годы она немало времени провела в солдатских лагерях: «Доблестная женщина-рыцарь, верхом на коне, среди вооруженных мужчин». Бьянка была идеальной женой кондотьера. Она смело следовала за ним повсюду, проводя вечера у солдатских костров во время привала. Как простой солдат, не гнушалась ничем, переходила вместе со всеми реки вброд, овладела всеми тонкостями искусства правления государством и по смерти своего мужа сумела заменить его. В час наивысшей опасности она всегда появлялась на поле брани. Умение общаться с людьми, тонкий вкус, глубокая человечность — вот те качества, которыми она прославилась в истории как одно из главных действующих лиц эпохи. Бьянка Мария Висконти была достойной супругой Франческо Сфорца. Она первая в плеяде великих женщин итальянской истории кануна эпохи Возрождения.
ГЛАВА II Жестокосердный брат
Взгляд его пронзает насквозь, губы сжаты в презрительную усмешку, все тело напряжено, как пружина. Галеаццо Мария, герцог Миланский, решил поделиться с ближайшим окружением своими планами. Терпению его пришел конец. Единственный человек, способный выдержать приступы его гнева, — Чикко Симонетта, верный калабриец герцога. Чикко суждено стать самым блистательным министром миланской синьории. Вот Галеаццо и Чикко в одном из многочисленных залов замка — на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Чикко внимательно всматривается в лицо своего господина: да, он действительно потерял терпение.
— Народ не любит меня, Чикко, — поморщился Сфорца, — только ты можешь сказать мне всю правду. Неужели я самый ненавистный человек в Милане?
Всемогущий секретарь в отчаянии развел руками.
— Государь, мнение народа переменчиво. Есть немало способов, чтобы заставить народ изменить свое мнение. Например, военные победы, устройство зрелищ, сытный стол.
— Я должен стать другом народа! — воскликнул Галеаццо. — Подготовь указ. Пусть народ узнает, что, в каком бы уголке своих владений я ни находился, всякий, кто пожелает ко мне обратиться, неважно, беден он или богат, получит аудиенцию. Для этого отводятся два дня в неделю — понедельник и четверг. Если в один из назначенных дней я не буду в состоянии принять его лично, то его примет кто-нибудь из моих братьев. Но и это еще не все. Всякий, кто обратится ко мне с какой бы то ни было просьбой в течение недели, уже в субботу получит от одного из моих секретарей ответ. Как бы безнадежно ни оказалось дело, всем будет сообщаться причина отказа. Как ты думаешь, Чикко, этого достаточно, чтобы изменить настроение народа в мою пользу?
— Подобрать ключ к его сердцу непросто, — подвел итог Чикко, — но эти твои распоряжения — шаг в правильном направлении. Однако тебе следует помнить, сколь извилист этот путь, сколь он непредсказуем. Например, твой отец никогда ничего не предпринимал, чтобы заручиться благорасположением народа, и тем не менее народ его боготворил.
Галеаццо ничего не ответил. Только морщина на лбу его обозначилась еще резче.
Скверное настроение миланского герцога еще более усугубилось к исходу 1468 года. Послы при его дворе сообщили о скором прибытии в Италию Фридриха III, римского императора. По слухам, становившимся с каждым днем все более назойливыми, этот император «вознамерился решить раз и навсегда вопрос о миланских владениях».
Галеаццо опасался, что будет вынужден отстаивать право на владение Миланом силой оружия. Правда, императору было достаточно ознакомиться с подлинным положением дел в Италии, чтобы понять: государи, властвующие на Апеннинском полуострове, не имеют никакого желания ставить под сомнение титулы и права, которыми пользуется сын Франческо Сфорца. Итальянская прогулка императора закончилась безрезультатно.
Итальянское равновесие тем не менее чрезвычайно хрупко. Малейший кризис может спровоцировать стычки, грозящие перерасти во всеобщую войну. В 1469 году умер синьор Римини Сиджизмондо Малатеста. Его сын Роберто является препятствием на пути осуществления планов папы Павла II, который, будучи в сговоре с Венецией, намерен прибрать к рукам его земли. Ничуть не опасаясь угрозы отлучения от церкви, которым запугивал его папа, Малатеста заручился поддержкой Милана, Флоренции и Неаполя. Италия, состоявшая из карликовых государств, раздроблена как никогда. Над полуостровом нависла тень двух новых противоборствующих коалиций. 8 июня 1469 года папские солдаты оккупировали Сан-Фредиано близ Римини. Галеаццо усмотрел в этом предательском жесте папы попытку восстановить свой престиж силой оружия. 30 августа, в один из самых знойных дней года, войска Павла II потерпели жесточайшее поражение у ворот Римини. Милан, Флоренция и Неаполь, однако, воздержались от того, чтобы развить успех. Напротив, они обратились с прочувствованным призывом к папе, прося его восстановить в Италии «всеобщий мир». Тройная коалиция была одним из основополагающих элементов итальянского равновесия, но постоянно подвергалась испытаниям. Интриги сменяли одна другую вполне в духе и стиле итальянского Возрождения.
Галеаццо Мария был крайне обеспокоен тем, что флорентийцы в любой удобный для себя момент могут его предать. Впрочем, точно так же подозревал он и неаполитанцев. Вот почему Галеаццо счел за лучшее сблизиться с королем Франции Людовиком XI. Этот политический кризис и составляет содержание первой половины 1470 года. Однако уже в июле неожиданное событие взрывает изнутри хитроумную сеть интриг, которую итальянские государи плели в тиши своих замков.
Халкис — крепость на острове Эвбея в Эгейском море, самое крупное венецианское владение в Восточном Средиземноморье. Флот турецкого султана взял крепость в осаду и принудил к капитуляции.
Весь христианский мир был охвачен паникой. Удручены даже те из государей, которым, казалось, следует ликовать в связи с поражением своего врага — Венеции. Даже они не могли не задуматься над тем, что турецкая угроза приобретает отныне пугающие размеры и вполне реальные очертания. Политический обозреватель эпохи, Доменико Малипьеро, в таких словах выразил ощущение страха, охватившее вдруг Италию: «Все италийские земли со страхом пережили это известие. Нет слов, чтобы передать, сколь громкими были стенания и вздохи, раздавшиеся отовсюду по этому поводу. Всем стало ясно, что теперь, когда начался закат величия Венеции, спесь и гордыня других государей не стоят и ломаного гроша».
Халкис был последним бастионом Средиземноморья, сдерживавшим турецкую агрессию. Теперь Венеция, оказавшись беззащитной и ослабленной, переживала самый драматический период своей истории. Единственный, кто мог бы воспользоваться ее незавидным положением, был Галеаццо Сфорца. Он меньше других был склонен придерживаться правил дипломатической игры. Действуя под влиянием настроения, он ежечасно был готов взорвать сложный механизм равновесия, сложившегося между итальянскими государствами.
— Итак, настал час, — не скрывая своего восторга, обратился Галеаццо к советникам, — возвратить в наши пределы Крему, Бергамо, Брешию, все территории, которые Венеция сумела умыкнуть у моего отца, вынудив его подписать мир в Лоди.
Министры герцога были несколько напуганы столь масштабными планами. Однако никто не осмелился возражать. Разве что послы Людовика XI и Фердинанда несколько остудили пыл Галеаццо. Французский и неаполитанский монархи воззвали к нему с просьбой подумать, следует ли унижать Венецию именно сейчас, когда она переживает столь сложный период своей истории, когда чувствует у себя за спиной тяжелое дыхание заклятого врага христиан — турка. Если же на Венецию сейчас попытаются напасть итальянские синьоры, то от нее ничего не останется. Турок, который очень силен, не преминет воспользоваться случаем, чтобы прикончить ее. Исчезновение Венеции создало бы невыносимый вакуум и сделало бы невозможным равновесие военно-политических сил на полуострове. Более того, оказавшись в столь отчаянном положении, Венеция могла бы сама вступить с турком в союз, что неизмеримо увеличило бы мощь султана. Даже столь воинственный папа, каким был Павел II, осознавал, что нынче не время настаивать на осуществлении своих планов, и отказался от захвата Романьи. Таким образом, он открыл путь к миру. Галеаццо надеялся на поддержку неаполитанского короля. Но, увидев в январе 1471 года, что король вступил с Венецией в союз, понял наконец, что время упущено. Галеаццо не оставалось ничего другого, как смириться.
Нежные ароматы весны наполняли улицы Флоренции. Все ее жители замерли у окон. Они были потрясены невероятной, сказочной роскошью миланского кортежа, вступавшего в город. Легендарная Флоренция эпохи Лоренцо Великолепного, город, озвученный поэзией, дворцы которого украшены гобеленами потрясающей красоты, город, культура которого отмечена гениальностью Пульчи и Полициано, никогда прежде не видел столь великолепного зрелища. Роскошь миланского герцога превосходит все, на что только способно богатейшее воображение флорентийских живописцев. Шествие волхвов, изображенное флорентийскими мастерами, знаменитые флорентийские фрески и картины, наполненные светом и блеском, бледнеют в сравнении с увиденным сейчас. Желая произвести впечатление на могущественного союзника, Галеаццо вступил во Флоренцию, взяв в качестве редчайшего и ценнейшего украшения свою жену, Бону Савойскую, и двух дочерей, Анну и Катерину. От великолепия его свиты перехватывало дух.
Народ, высыпавший на улицы, заполнивший площади, замерший у окон, был потрясен. Восхищение граничило с экстазом. Советники герцога предстали перед флорентийцами в богатых, изукрашенных золотом и серебром бархатных камзолах, их свита была одета с достойной синьоров роскошью. Сам герцог шествовал в окружении ста вооруженных гвардейцев. Их военная выправка, блестящее снаряжение столь великолепны, как если бы они были капитанами. К собору подошел отряд в две тысячи коней и двести мулов, которых Галеаццо приказал покрыть драгоценными дамасскими коврами. Двенадцать карет везли дары, предназначавшиеся Лоренцо. Кареты тоже были украшены златоткаными покрывалами. Следом — пятьсот пар охотничьих собак, поодаль сокольничие герцога демонстрировали народу грозных ястребов и соколов. Завершала парад пестрая и шумная толпа музыкантов, трубачей, шутов, которые будут услаждать слух и зрение синьоров в перерывах между переговорами.
— Так что Великолепный, оказывается, вовсе не наш Лоренцо, — судачили приунывшие флорентийцы. — Великолепным по праву следует называть миланского герцога.
Лоренцо тоже подготовил пышный прием для своего миланского союзника. Улицы и площади Флоренции оглашала праздничная музыка. В соборах были устроены праздничные представления. Гордые, высокомерные миланцы не могли не вызывать зависть.
— Креста на них нет! — ворчали флорентийцы. — Великий пост, а они едят мясо. Видать, нет в них уважения ни к Святой Церкви, ни к Господу Богу. Как бы все это плохо не кончилось.
Галеаццо был преисполнен решимости продемонстрировать Лоренцо Великолепному всю свою мощь, решающий вес Милана в итальянских делах. Пусть флорентийцы наконец поймут, что выгода их — во все более тесном союзе с Миланом.
— Нам следует показать Лоренцо, что мы его подлинные друзья, — наставлял своих советников Галеаццо. — Наверняка мы произведем на него хорошее впечатление, если поможем ему возвратить крепость в Пьомбино. Это был бы достойный подарок для государя такого города, как Флоренция.
Авантюра под Пьомбино лишь подчеркнула характерные особенности всех начинаний миланского герцога: импульсивность, необдуманность поступков, отсутствие оценки возможных последствий, полное небрежение советами, от какой бы стороны они ни исходили. Атака на Пьомбино провалилась. Итальянские государи имели полное основание предполагать, что эта эскапада была согласована во время пышного визита Галеаццо во Флоренцию. Король Неаполя выразил свое гневное возмущение подобным оборотом дел при личной встрече с Лоренцо Великолепным. Галеаццо был вынужден принести свои извинения, пообещав Лоренцо вести себя впредь более осмотрительно. Однако темперамент Галеаццо был слишком пылким, так что и впредь он будет вести себя так, как прежде, импровизируя на грани провала.
Амбициозность миланского герцога подталкивала его на вмешательство в любой кризис, где бы он ни случился на полуострове. Его непредсказуемость, недостаточная продуманность в оценке дипломатических и военных факторов заставляли Милан вмешиваться во многие события — как правило, без особой от этого выгоды для себя.
20 августа 1471 года умер Борсо д’Эсте, синьор Феррары. Галеаццо поспешил в Мантую, куда его пригласили Гонзага, чтобы обменяться мнениями насчет преемника, но главное — помешать продвижению кандидатуры венецианцев, сделавших ставку на брата покойного, Эрколе д’Эсте. Положение в Италии осложнилось также и по той причине, что в июле умер папа Павел И. Галеаццо блефует, делая вид, что у него на руках козырная карта. Однако, когда Венеция послала Эрколе д’Эсте вооруженное подкрепление и ее ставленник был избран синьором Феррары, Галеаццо хватило ума понять, что дело проиграно. Это было еще одним дипломатическим поражением Милана. Его усугублял тот факт, что оно последовало непосредственно вслед за поражением военным под Пьомбино. Итальянские государи имели случай еще раз убедиться в том, что миланский герцог весьма далек от политики своего отца, обладавшего трезвым талантом ловкого дипломата.
Советники Галеаццо не знали, что и делать: выдерживать приступы дурного настроения, участившиеся истерики и резкие перемены намерений своего синьора становилось все более затруднительно. Так, в течение нескольких месяцев Галеаццо требовал от них восхвалять таланты и достоинства Лоренцо Великолепного, изображать его в качестве самого желанного из своих союзников. Теперь же герцог не хочет и слышать имени флорентийца.
— Лжец и предатель — вот он кто, ваш Лоренцо. Следует держаться от него подальше. С подданными он деспот, с союзниками он предатель!
Вообще Галеаццо считает, что лучше бы ему никогда и не знакомиться с Лоренцо.
Что же произошло?
К концу 1471 года Сфорца вознамерился захватить Имолу, но Медичи дал ему понять, что подобная экспансия Милана противоречит его интересам, интересам дома Медичи. Лоренцо обратился к Галеаццо с просьбой — а на самом деле потребовал — остановиться. Галеаццо удручен очередной неудачей. Он поклялся отомстить флорентийцу.
Случай вскоре представился. Вольтерра владела значительными залежами глинозема. В прошлом она сдавала их флорентийским купцам. Но теперь Вольтерра передумала и пожелала взять все права на глинозем обратно.
— Возьмем Вольтерру в осаду и принудим ее капитулировать, — пообещал своим купцам Лоренцо. За поддержкой он обратился к Галеаццо.
— Не могу, — ответил Сфорца, довольный удобной возможностью уязвить флорентийца. — Ныне все помыслы мои заняты тем, как удержать самого заклятого из моих врагов, Бартоломео Коллеони, от нападения.
Неудачливый сын Франческо Сфорца и дерзкий кондотьер из Бергамо давно и глубоко ненавидят друг друга. Гениальный солдат уже не раз давал понять, что вопреки вызывающему поведению преемника Миланской державы он все равно считает Галеаццо никчемной пустышкой. Галеаццо не может смириться с этим. Коллеони — блестящий кондотьер, чьи намерения всегда для других тайна. Коллеони привык делать только то, что может его развлечь или позабавить. В 1451 году он был нанят Франческо Сфорца и служил при его дворе в качестве капитана. Он отплатил за унижение, возбудив мятеж в Бергамо. Он выступил против миланского герцога и перешел на содержание Венецианской республики. Галеаццо по смерти отца решил расквитаться с этим ловким наемником за совершенное предательство. Тем более что Коллеони предоставил Галеаццо немало поводов, чтобы укрепиться в желании мести. Так, Коллеони обещал герцогине Бьянке Марии, когда между ней и Галеаццо обнаружились разногласия, укротить ее сына-тирана. В случае успеха Коллеони требовал в награду два города — Бергамо и Брешию. Закаленному солдату-наемнику льстила сама мысль, что он станет защитником Миланского герцогства от тирании. В качестве залога своей верности Коллеони предлагал выдать свою дочь Медею за одного из сыновей Бьянки. Смерть герцогини разрушила эти планы. Но Галеаццо поклялся отомстить Коллеони. Герцог глубоко переживал свои неудачи. Особенно его огорчало, что он не был под Риккардиной, где его заклятый враг потерпел тяжелое поражение.
Коллеони забился в свой замок Мальпага, зализывая раны. В замке собрался весь его двор. Оттуда, из Мальпаги, плетет Коллеони сеть интриг против миланского герцога.
— Вам надлежит взять в плен этого человека и привести его ко мне! — отдал Галеаццо приказ своим капитанам.
Но гвардейцы Коллеони не дремлют. Единственное, что удалось миланцам, так это учинить пожар в конюшнях замка.
Так началась война без правил между Галеаццо и Коллеони. Кондотьер сумел подкупить золотом охрану замка Сфорца. Охрана бежала и перешла на его сторону. Но и Галеаццо удалось внедрить немало своих шпионов и соглядатаев, орудовавших при дворе бергамского кондотьера.
— О Коллеони мне известно все, — сокрушался Галеаццо, — мне до малейших подробностей известен каждый его шаг, все интимные подробности его жизни, все его связи, все его друзья. Но мне так и не удалось захватить его в плен.
Галеаццо в отчаянии. Доносчики обманывают его, внушая синьору мысль, будто лагерь Коллеони на грани мятежа. Но главное предательство, в результате которого Коллеони оказался бы в руках Галеаццо, так и не осуществилось.
Уже в Кремоне Галеаццо задумал план расправы над Коллеони, который, по расчетам герцога, не мог не увенчаться успехом. Галеаццо призвал к себе Феррачино Ангуиссолу, одного из капитанов Коллеони, вручив ему письмо.
— Доставишь это письмо своему хозяину. Здесь вызов на дуэль. В поединке с обеих сторон примут участие вооруженные отряды по восемьсот человек в каждом. Тот, кто проиграет, переходит в полное подчинение того, кто одержит победу. Если побежденный окажется жив, то он должен будет поклясться не вредить победителю.
Коллеони чуть было не согласился принять вызов. Однако, поразмыслив, решил повести дело хитрее. Он объяснил Галеаццо, что не может взять на себя единоличной ответственности, не испросив разрешения на поединок у Венецианской республики. Судя по всему, Коллеони заранее был уверен, что Венеция запретит ему участвовать в дуэли. Так и произошло на самом деле. Галеаццо был потрясен отказом.
— Лжец и обманщик, — бесновался он перед лицом смущенных советников. — Знает ведь, что близок его конец. Пытается оттянуть решительный бой! Подлец и трус!
Новоизбранный папа Сикст IV также высказался против дуэли. Папа повелел Коллеони не принимать вызова. В противном случае — отлучение от церкви.
— Нет, не могу, не вправе отказаться! — притворно протестовал кондотьер, предварительно обезопасив себя столь авторитетными запретами. — Я не могу отступить.
Римский первосвященник был вынужден непосредственно обратиться к Галеаццо, чтобы поставить на место зарвавшегося герцога.
— Не дело государей драться на дуэлях с человеком ниже себя. Слава имени твоего пострадает, если ты ввяжешься в столь недостойную драку, — увещевал его папа.
К уговорам присоединился также и Фердинанд, король Неаполя. Галеаццо был вынужден объявить о своем отказе от дуэли при условии, что его противник не станет использовать его великодушие в своих корыстных целях, ибо Коллеони, подчеркивал миланский герцог, способен на все.
И в самом деле, кондотьер из Бергамо, поняв, что поединок ему более не грозит, перешел в наступление. Он во всеуслышание обвинил Галеаццо, что тот будто бы нанял наемных убийц, которые готовы Отправить его, Коллеони, на тот свет. Правители Венеции были вынуждены вмешаться, чтобы прекратить нараставший поток оскорблений. Наконец, «во имя мира в Италии», поединок был отменен вполне официально.
На гневном лице Галеаццо появились новые морщины: тайная ненависть терзала его душу. Потерпев поражение в несостоявшейся дуэли, он решил, что никто его более не уважает. Тем не менее в его распоряжении по-прежнему были две самые сильные армии Италии. В каждой было 42814 кавалеристов, 1384 вооруженных пехотинца, 140 отрядов. Расходы на содержание армий составляли 800 тысяч дукатов в год. Самые блестящие кондотьеры были на жалованье у Галеаццо: Пьер Франческо Висконти, Джованни Паллавичино, Джанджакомо Тривульцио. Итальянские синьоры, пусть и интригуя друг против друга, тем не менее поддерживали Галеаццо. Он всегда мог положиться на дружбу маркизов Монферрато и Мантуи, Галеотто Манфреди из Фаэнцы, герцога Феррарского, Джованни Бентивольо, синьора Болоньи, Костанцо Сфорца, синьора Пезаро, графа Пьетро даль Верме, герцога Урбинского, Ренато Тривульцио, Пандольфо Малатесты из Римини, Марко да Карпи, Гвидо Торелло, Галеаццо да Корреджо.
Но Галеаццо Сфорца отдавался во власть мечтаний о достижении абсолютной власти. Он оснастил свою армию необычным по тем временам вооружением — бомбардой, «пушкой Галеаццо», ядро которой весило целых 640 фунтов. Галеаццо предполагал применить это оружие в войне с Коллеони. План его был следующий: разрушить боевой порядок войск противника, запугать его огромной огневой мощью, не могущей не вызвать к себе самого почтительного уважения. Именно так отнесся к этому виду оружия тридцатилетний Леонардо.
«Я невеста тебе, а не рабыня» — с таким увещеванием обратилась Генуя к Галеаццо, после того как он обрушил на город угрозу направить туда свои армии, ибо «предпочитает видеть Геную в руинах и запустении», нежели во владении неприятеля. В июне 1472 года обстановка катастрофически изменилась. Венеция заключила союз с герцогом Бургундским, угрожая Франции и Галеаццо. Мятеж в Генуе против миланского герцога становился, таким образом, козырной картой в руках врагов Галеаццо. Город действительно был неспокоен. В генуэзских дворцах усердно плели нити заговора, но Галеаццо был непреклонен. В беседе с вице-губернатором Генуи Галеаццо нарисовал картину ужасающих разрушений, которые ждут Геную в том случае, если она не подчинится его воле.
Герцог сознавал, что нажил себе слишком опасных врагов, проводя политику непрерывных агрессий. Желая спасти положение, он принялся за поиск союзников. Самый ценный, разумеется, Фердинанд Арагонский, король Неаполя. Добиваясь его расположения, 26 сентября 1472 года Галеаццо пошел на подписание брачного контракта между своим сыном Джаном Галеаццо, которому едва исполнилось три года, и двухлетней Изабеллой, дочерью герцога Калабрийского и внучкой неаполитанского короля. В документе было оговорено, что Изабелла будет вверена жениху немедленно по достижении десятилетнего возраста. Однако, гласил документ, бракосочетание состоится только после того, как невеста вступит в «законный возраст».
Галеаццо был вынужден искать восстановления союза и с Лоренцо Великолепным. Милан уступил Флоренции свои права на Имолу. Правда, папа не замедлил заявить о своем «глубочайшем огорчении» по этому поводу. Но Галеаццо снова повел себя как авантюрист, не считаясь с реальным соотношением сил. Он обратился к Флоренции с покорнейшей просьбой отказаться от Имолы и передать «город и окрестности» 28 октября 1473 года всего за сорок тысяч дукатов любимому племяннику Сикста IV, Пьетро Риарио, кардиналу курии.
Папский племянник повел себя крайне самоуверенно. В Милане он был принят с большими почестями. Пьетро Риарио сделал Галеаццо ряд предложений, в случае осуществления которых можно было рассчитывать на весьма важные последствия. Казалось, папский ставленник в силах вынудить Галеаццо заключить союз с Венецией.
— Ты станешь королем Ломбардии, соглашайся, — уговаривал он Галеаццо, — при условии, что окажешь мне свою помощь в тот момент, когда я сам буду избираться на папский престол.
В июле 1473 года Галеаццо, по свидетельствам современников, мог еще восстановить свой престиж и влияние, подорванные целой серией дипломатических провалов. Стало известно о смерти короля Кипра Якова И. Права на владение островом были предложены миланскому герцогу. Галеаццо это льстило, но он все-таки был вынужден отказаться от такого выгодного предложения, заметив, что Венеция обладает гораздо более сильными позициями, чем он, в сложившейся ситуации. Фердинанд Арагонский был глубоко разочарован нерешительностью своего союзника и его неспособностью маневрировать на дипломатическом фронте. «Король настолько огорчен и обескуражен, что не может более даже слышать об этом деле».
Ипполита Сфорца, герцогиня Калабрийская, вынуждена присутствовать при произнесении весьма нелицеприятных суждений, которые изволил выразить король Неаполя насчет ее брата Галеаццо. Так, Малетте, миланскому послу при неаполитанском дворе, король заявил, например, следующее: «От отца своего и матери своей синьор твой унаследовал все, кроме таланта правителя».
Иными словами, все, кроме искусства дипломатической игры.
В поиске союзников Галеаццо пытался установить отношения и с герцогами Савойскими. Он обещал свою младшенькую, Бьянку, которой не исполнилось еще и двух лет, в жены герцогу Филиберту. Галеаццо, как мог, старался смягчить напряженность, угрожавшую ему свержением с трона. Опасаясь, что папа восстановит коалицию, миланский герцог попытался нанести упреждающий удар: 2 ноября 1474 года Милан заключил союз с Венецией и Флоренцией сроком на 25 лет.
Людовик XI, король Франции, не скрывал своего раздражения в связи с таким неожиданным поворотом в итальянских делах. По этой причине Галеаццо, желая не допустить союза между Францией и Неаполем, установил дипломатические отношения с соперником Людовика XI — герцогом Карлом Бургундским. Подобная чехарда в политике союзов, договоров, заключавшихся от случая к случаю, лишь бы обеспечить себе продвижение на пути к безграничной власти, была отличительной особенностью дипломатии герцога. Он вел себя беспринципно во имя осуществления одного, но страстного своего желания: нападать прежде, чем противник успеет собрать силы для отпора. 1474 год начался весьма тревожно для Галеаццо, он как никогда был изолирован от подспудных течений итальянской политики.
Людовик XI занял Прованс и был намерен вторгнуться в Италию. Галеаццо был не на шутку обеспокоен возможностью удара со стороны бургундского герцога по Пьемонту. Несколько месяцев прошло в ожидании катастрофического развития событий. В ноябре Галеаццо возглавил армию, начав кампанию в Савойе и захватив несколько замков. Однако наступление зимних холодов заставило его 9 декабря приостановить продвижение.
Галеаццо уже был на пути в Ломбардию, но в Аббьятеграссо его нагнал Джованни ди Кандида, неаполитанский дворянин и посланник бургундского герцога. Он явился к Галеаццо затем, чтобы предложить Милану союз со своим синьором, своего рода пролог «сердечного согласия» с императором.
Но Галеаццо, как это ни странно, уже устал воевать. С некоторых пор душу его глодал червь сомнения: он усомнился в своих талантах политика и кондотьера. Единственное, что еще оставалось у него за душой, — безумная и болезненная страсть прожигать жизнь, пока есть время и силы. Жизнь в понимании Галеаццо — это прежде всего красивые женщины. С деланной радостью сообщает он послу Мантуи при своем дворе, Дзаккари Саджи: «Вы спрашиваете о моих грехах? Отвечу: у меня их мало, совсем немного. Чужого мне не надобно. Лишнего у других я не беру. Роскошь мне по нраву, это верно. Но это, известно, грех невеликий. Коль скоро я синьор, то должен быть высокомерен. Единственный грех мой — сластолюбие. О, в этом я преуспел и достиг мастерства. Грех этот я практикую во всех возможных вариантах и формах, какие только мне доступны».
Во всем Милане лишь «герцогский расходчик», счетовод, мог знать досконально, на какие безумства был способен герцог, лишь бы удовлетворить свою греховную страсть и тщеславие. Этот придворный счетовод, которому вменялось в обязанность приобретать все необходимое для миланского герцога и его семейства, известен историкам с 1470 года. Звали его Готтардо Панигарола. Был он человек честный и педантичный. Галеаццо доверял ему крупные приобретения, в особенности для своей фаворитки Лючии Марлиани, которую в письмах своих он именует не иначе как «графиня Лючия».
Нередко герцог жаловался на своего «расходчика»: «Мы повелели тебе приобрести четыре покрывала для графини, ты же приобрел только два. Посему тебе надлежит приобрести еще два покрывала, причем без промедления, и доставить их на место также без промедления». Панигарола тем не менее крайне неохотно потворствовал капризам своего синьора. Особенно возмущался он немыслимыми расходами герцога, стремившегося доставить удовольствие своим фавориткам. Но Галеаццо, когда речь шла о его прелестнице Марлиани, плечи которой были словно выточены из слоновой кости, не желал слушать никаких доводов. Он ни перед чем не останавливался. Главное — угодить «моей любимой женщине, любовь к которой растет во мне день ото дня; мысли же мои только о том, как доставить ей удовольствие, на какое в этом подлунном мире способен только я, Галеаццо».
Удивительная черта характера Галеаццо его способность сочетать величайшую нежность в отношениях со своими любовницами, стремление угождать их малейшим капризам с желанием удержать в тайне эти амурные связи, хотя дождь драгоценных подарков, которыми он их осыпал, казалось бы, должен был свидетельствовать о противоположном. Галеаццо, однако, гораздо скрытнее своего отца в любовных похождениях. Быть может, причиной тому жена — Бона Савойская, женщина гораздо более требовательная, чем мать Галеаццо, Бьянка Мария. Жена Франческо Сфорца не возражала, что при дворе живут побочные дети мужа. К ним она относилась почти с таким же материнским чувством, как к собственным детям. Бона же разрешила находиться во дворце только одной незаконнорожденной дочери Галеаццо, той самой Катерине, которую Сфорца прижил с Лукрецией Ландреани прежде, чем женился на Боне. Впоследствии Катерина станет одной из самых великолепных и энергичных женщин эпохи Возрождения — воительницей Катериной Риарио Сфорца, синьорой Форли.
В 1474 году, когда Галеаццо исполнилось тридцать лет, он познакомился с Лючией Марлиани, едва достигшей девятнадцатилетнего возраста. Галеаццо был без ума от этой женщины. Она считалась первой красавицей в Милане. Первое знакомство произошло на балу в замке. Лючия была невысокого роста, зато стройна и хороша лицом. Светло-каштановые волосы с золотистым отливом обрамляли чистый высокий лоб.
— Кто эта красавица? — поинтересовался герцог у своих приближенных.
— Известная в городе проказница, — был отвержена Амброджо Раверти. Замужем недавно. Девушка, как говорится, с характером. Метит высоко. На мужа не очень-то обращает внимание. Нрава честного, ведет себя вполне достойно и разумно, хотя больше всего на свете ей хотелось бы блистать при дворе.
Когда мать Лючии и муж узнали, что герцог страдает от бессонницы из-за приглянувшейся ему на балу молодой красавицы, то у них не было сомнений. Они постарались, чтобы она как можно скорее попала в объятия Галеаццо. Герцог оценил догадливость родственников Лючии. Он не замедлил продемонстрировать им свою признательность. Несмотря на несколько деревенскую поспешность, с какой действовали родственники возлюбленной, он был им благодарен. Правда, чувство неприязни ко всему человеческому роду у него после этого только окрепло. Синьору пришлось раскошелиться за свой каприз. Он послал 400 дукатов дворянину Раверти, дав при этом понять, что речь идет о цене «за добродетель жены». Раверти для приличия немного поупрямился, но сдался, получив назначение на пост старосты города Комо.
Что же касается матери Лючии, она тоже не удовольствовалась малым: за согласие на внебрачную связь своей дочери она потребовала от герцога подыскать мужей с подобающим положением для двух своих дочерей, да еще в приданое запросила по две тысячи дукатов каждой. Таким образом, миланский синьор получил наконец доступ в белоснежную постель Лючии.
Да и сама Лючия вряд ли раскаивалась в содеянном. Она была буквально осыпана многочисленными и дорогими подарками: получила дорогую мебель, изящные гобелены, расшитые золотом бальные наряды, редкие и драгоценные украшения. В период между 20 декабря 1474 и 3 августа 1476 годов эта страстная любовь герцога происходила под аккомпанемент двадцати дарений, причем одно было дороже другого. Самым значительным считается дар 1474 года, когда герцог подарил своей фаворитке земельные владения с замком Мельцо, приходские земли Горгонцолы, титул графини и право пользоваться фамилией и гербом матери Галеаццо, принадлежавшей к знаменитейшему патрицианскому роду Висконти. Это дарение сопровождалось совершенно невероятной записью в документе: «Вышеупомянутая Лючия с мужем своим в плотском сожительстве не имеет права впредь находиться, разве что по Нашему на то особому разрешению, равно как не имеет права вступать в связь с другими мужчинами, за исключением Нашей особы».
Таким образом, Лючия, соблюдая правила контракта, брала на себя обязательство не иметь никаких связей ни с собственным мужем, ни с другими мужчинами. Ее прекрасное девятнадцатилетнее тело переходило в исключительную собственность синьора Милана.
То, каким образом был заключен этот контракт, само по себе событие историческое и неповторимое. Однажды Галеаццо явился в дом Лючии по улице Сан-Джованни-суль-Муро с многочисленной свитой дворян, среди которых был и секретарь герцога, Чикко Симонетта. В свите были наготове также нотариус и канцлеры. Раверти, муж Лючии, был, правда, несколько озадачен визитом, но наблюдал за тем, как развивались события, с видом понимающего человека. Лючия, вышедшая навстречу гостям вместе с матерью, вовсе не казалась удивленной или напуганной, скорее наоборот — она от души развлекалась происходящим. В душе она все еще оставалась шаловливым подростком. Галеаццо приказал нотариусу огласить контракт. В документе говорилось о том, что герцог назначает содержание размером не менее ста цехинов из доходов Навильо Мартесана дражайшей Лючии Висконти, графине Мельцо, «чья непосредственность и величайшее целомудрие, равно как честность и добропорядочность», завоевали сердце и душу страстного герцога. Разумеется, «величайшее целомудрие», о котором сказано в преамбуле документа, в следующем параграфе было истолковано более подробно: отныне Лючии дозволено вступать в половую связь только с синьором и вменяется отказывать в этом своему законному мужу. Правда, по свидетельствам очевидцев, он не возражал.
Галеаццо не знал, какие еще знаки благосклонности оказать своей прекрасной даме, как еще осчастливить Лючию. Так, герцог позаботился о том, чтобы Лючии не досаждал впредь шум бурного горного потока Нероне, протекавшего подле окон ее дома. Герцог повелел заключить речку в трубу. Правда, герцога постоянно беспокоило, как бы весть об этой его любовной связи не дошла до ушей жены. Когда же Бона наконец поняла, каким особым влиянием пользуется при дворе надменная красавица Лючия, и потребовала у Галеаццо объяснений, тот сразу нашел что сказать.
— Марлиани, заявил он, — любовница Лудовико.
Да, Лудовико Мавра, брата Галеаццо, того самого юноши, который, пребывая в стороне от бурных событий, разыгрывавшихся при дворе, с возраставшим презрением наблюдал за похождениями Галеаццо.
Кроме того, миланский герцог все более проявлял тиранические и жестокие черты своего характера. Так, выведав наконец, кто из придворных наушничает жене о его любовных похождениях, он вынес приговор: смертная казнь предателю.
Лудовико был вынужден принять на себя перед лицом жены своего брата несовершенную вину. Правда, сделал он это признание не моргнув глазом. Двадцатитрехлетний Сфорца в тиши своего уединения давно привык вести счет обидам. Что ж, тем больше будет спрос, когда придет время. Ненависть к брату накапливалась изо дня в день. В свое время он обвинит брата в поведении, недостойном правителя Милана. Больше всего покоробила Лудовико любовная интрига Галеаццо с Марлиани.
«Хитрая и двусмысленная тварь!» — не раз скажет он о Марлиани своим друзьям. День озлобления пробегала при этом по его смуглому лицу, ядовитая ухмылка застывала на губах. Однако высказываться столь откровенно он позволял себе разве что в узком кругу. Лудовико был весьма высокого мнения о предназначении рода Сфорца. Он не терпел, чтобы имя Сфорца служило предметом досужих сплетен посторонних лиц, хотя и знал, сколь правы те, кто подвергают Галеаццо осуждению. Достоинство великого рода, полагал Лудовико, следует отстаивать особым способом — молчанием. Так, Лудовико даже и не пытался протестовать, когда ему донесли о хамском хвастовстве прекрасной фаворитки. Дорогие подарки любовника-герцога вскружили ей голову. Лючия потеряла всякую осторожность. Она утверждала, что когда она выходила замуж, то за ней якобы было баснословно богатое приданое, опись которого была составлена нотариусом Дзунико. Будучи одним из самых известных миланских нотариусов и желая угодить влиятельной фаворитке, Дзунико поддерживал россказни Лючии. Более того, он способствовал распространению слухов о несметных богатствах Марлиани. Лудовико, разумеется, был прекрасно осведомлен о том, что Лючия родом из более чем скромной семьи, а богатое приданое ей было принесено в дар самим Галеаццо. Но Лудовико принужден был молчать и заставлял молчать других.
«Настоящая пиявка! Она доведет Галеаццо до разорения. Ты, его брат, человек трезвомыслящий, должен сказать ему об этом!» — настаивали друзья, граф Скалеа и маркиз Порро. Лудовико отмалчивался, не желая вмешиваться в эти дрязги. Он полагал это ниже своего достоинства.
Однако в один прекрасный день он не выдержал. Когда Дзунико в очередной раз стал живописать великолепие приданого обольстительной Лючии, Лудовико выкрикнул:
— Приданое?! Да у нее не было даже ночной рубашки! Все, что у нее есть, ей дал Галеаццо. Какой позор! Ни слова больше!
Стены в замке Сфорца имели тысячи ушей. Через какой-нибудь час сказанное Лудовико повторяли на все лады тысячи уст. Весь двор поднял на смех Марлиани, явившуюся к трону герцога в одной-единственной ночной рубашке.
Лудовико обвинял Лючию и в другом прегрешении. В его представлении, именно она была виновата не только в излишней фривольности нравов, установившейся при дворе, но и в распространении тщеславия среди придворных и в безнаказанности лжи. Эта женщина знала, точно так же как знал Лудовико, что народ Милана ненавидит Галеаццо. Она могла бы без особого труда, добрым советом и разумным словом, сдерживать абсурдную гневливость Галеаццо, могла бы подсказать ему, как вести себя более достойно, не выставляя себя перед народом безумным тираном. Однако Лючия, женщина расчетливая и эгоистичная, стремилась к удовлетворению своих личных прихотей. Поэтому ей было, по сути дела, наплевать на дурную славу, которой пользовался ее любовник. С нее было достаточно, что он по-королевски одаривает ее виллами, дворцами, землями. Именно по этой причине Лудовико ненавидел ее, он не упускал случая, чтобы засвидетельствовать ей свое глубочайшее презрение. Однажды во время прогулки в саду своей виллы Лючия неудачно упала. Прекрасные глаза ее были полны гнева. Она утверждала, что какой-то неизвестный подкрался сзади и повалил ее на землю. Правда, дамы, сопровождавшие ее во время прогулки, отрицали этот факт. Если бы и в самом деле был в саду какой-то неизвестный, покушавшийся на синьору, то они непременно бы его заметили.
— Мерзкие жабы! — процедила сквозь зубы разгневанная Лючия.
Участь дам из ее свиты была бы ужасна, не вступись за них сам Лудовико Мавр.
Лудовико мог утешать себя только тем, что в Милане ненавидели Галеаццо все от мала до велика. Такова участь всех тиранов, удушающих свой народ ярмом налогов и податей ради того, чтобы поддерживать пышность и роскошь своего двора, заставляющих народ нести бремя чрезмерных военных расходов и, не в последнюю очередь, оплачивать дорогие подарки герцогским фавориткам.
Герцог понимал, что он непопулярен в народе. Почти инстинктивно он попытался было выправить положение, прибегая к мерам, которые могли бы выставить его перед народом в хорошем свете. Галеаццо ввел рисосеяние — сначала на своих герцогских землях, затем распространив культуру риса на всю Ломбардию. До того как благодаря Галеаццо рис распространился по всей Ломбардии, в Милане его считали пищей богатых. Как драгоценность рис продавали в лавках, где можно было купить специи, другой колониальный товар. Рис можно было приобрести и в аптеках города. Его отпускали в крошечных пакетиках за безумно высокую цену — наравне с ароматическими специями, доставлявшимися в Италию из далеких азиатских стран. В 1475 году Галеаццо послал Эрколе д’Эсте в Феррару двадцать два мешка риса в качестве драгоценного дара «для возделывания в Ферраре». В то время экспорт риса наравне с другими редкими товарами был запрещен. Галеаццо понимал также и значение шелкопрядения. Он издал ряд эдиктов, согласно которым крестьянам вменялось в обязанность «сажать тутовые деревья» с целью разведения и прокормления «червей, производящих шелковую нить».
Образ правления Галеаццо, казалось бы, не должен был вызывать огульного осуждения со стороны подданных, несмотря на невротический характер синьора. В 1471 году Галеаццо сделал судоходным канал Мартесано, способствуя тем самым орошению земель. Он провел до Павии канал, соединивший Милан с Бинаско. Галеаццо был чрезвычайно строг в том, что касалось соблюдения мер, воспрещавших азартные игры и сквернословие. Декретом от 6 июня 1475 года он запретил, например, употребление слова «рогоносец». Согласно декрету, строго наказывался всякий, кто прибегал к оскорбительным жестам.
Во времена Галеаццо Милан стал красивым и чистым городом. Герцог предпринял ряд мер для того, чтобы все дороги, ведущие в город, и улицы были вымощены. Известно, что он жестоко наказал одного из подрядчиков, ответственного за мощение миланских улиц и площадей, обвинив его в том, что, как было сказано, «тот работает с прохладцей».
Заботясь о благоустройстве города, Галеаццо не забывал и о том, чтобы жизнь в замке шла с подобающей роскошью. Обосновавшись в 1469 году в замке при Порта-Джовия с сыном Джаном Галеаццо и побочными детьми — Карло, Катериной и Кларой, — Галеаццо постарался, чтобы его двор жил в роскоши, подобавшей эпохе Возрождения. Правда, по нынешним вкусам, его замок лишен каких бы то ни было удобств. Огромные залы соединялись друг с другом узкими и мрачными переходами. Окна закрывались на ночь парусиной, пропитанной смолой. Туалетные комнаты были примитивны даже по тем временам. Кухни отделялись от трапезной дощатым простенком. Несмотря на столь незатейливый интерьер, Галеаццо дал волю своим капризам. Так, он приказал обить потолки драгоценным красным бархатом. Зеленым бархатом были обиты стены залов, предназначенных для содержания придворной соколиной охоты. Для лошадей герцогини заказывались седла с золотым шитьем, позлащенные стремена и шелковые хлысты.
Двор Галеаццо стал изысканным центром музыкальной культуры. Райнерио ди Павия, придворный кантор, был направлен во Францию, а затем в Англию для того, чтобы подыскать музыкантов для придворного оркестра. Из Фландрии в Милан был приглашен композитор, пользовавшийся тогда необычайной известностью, Гаспарре фон Вербекке. Ему было суждено стать основателем прославленной капеллы замка Сфорца. Галеаццо стремился привлечь в Милан лучшие голоса Турина, Рима, Неаполя, Бургундии и Испании. Он распорядился, чтобы в день Святого Георгия, когда в Миланском соборе совершается освящение боевых знамен, народ Милана слушал самую лучшую музыку и лучших певцов и музыкантов Европы. В самом деле в соборе пел лучший из существовавших в то время хоров.
Не обладая, в отличие от брата Лудовико, разносторонними художественными талантами, миланский герцог тем не менее задумывал и осуществлял фантастические зрелища. Так, он собрался было подарить городу Милану конную статую своего отца, самую большую конную статую из когда-либо воздвигнутых на европейской земле. Герцог хотел, чтобы статую было видно издалека. «Мы желаем возвеличить и увековечить память светлейшего синьора, нашего почившего в бозе отца, в бронзе и верхом на коне, поместив оную статую в виду нашего замка в Милане или на площади для всеобщего обозрения». Однако герцогу не удалось найти скульптора, который был бы в состоянии удовлетворить замыслы миланского синьора. Галеаццо пришлось довольствоваться помещением на всеобщее обозрение перед входом в замок шкуры убитого им собственноручно медведя в горах Варезе в начале октября 1476 года.
Однако миланцы менее всего запомнили Галеаццо как своего мецената. Прежде всего он запомнился им как злобный и надменный, кровожадный тиран. Лудовико уже не стеснялся в выражениях, называя брата человеком, который способен довести город до катастрофы. В беседах с братом он пытался ему втолковать, что с народом подобает вести себя на правах доброго отца. Всякий раз, когда Галеаццо приходилось выслушивать подобные поучения, на лице его блуждала гримаса недовольства, ирония постепенно уступала место в лучшем случае брезгливому выражению.
Однажды в Павии герцог приказал казнить пятерых молодых людей, обвинявшихся в краже. Судебный процесс был сфальсифицирован. Лудовико решительно осудил брата.
— Мошенник! — бросил он ему в лицо. — Жестокость и беспардонность приведут тебя к погибели! Запомни: кто сеет ветер — пожнет бурю. — И чуть слышно добавил: — И эта буря сметет тебя с лица земли.
Галеаццо действительно не ведал меры в своих выходках. Желая насладиться выражением ужаса на физиономии несчастной жертвы, он часто натравливал своих псов на посла Венеции Джерардо Колли. Галеаццо прекрасно знал о том, что венецианский посол великий ханжа. Именно поэтому он и настаивал, чтобы посол непременно передал венецианскому дожу, например, послание следующего содержания: «Миланский герцог намерен отправиться в Венецию, чтобы посетить там синьорию и обзавестись новой наложницей». Посол Колли, разумеется, был потрясен. В своем сопроводительном письме он пытался хоть как-то объяснить своему синьору, что, мол, таким причудливым образом миланский герцог выражает мысль о своей любви к Венеции. Однако дож, Кристофоро Моро, известный острослов, прекрасно разгадал намерение Галеаццо. «Прекрасных дам в Венеции предостаточно, — повелел он ответить Галеаццо через своего посла, — так что миланский герцог может прибыть к нам и получить все, что ему причитается».
Жестокость Галеаццо лишь изредка находила выход в такого вот рода невинных шутках. Но когда в руки Галеаццо попал памфлет, сочиненный священником Лудовико да Тоссиньяно, проклинавшим тираническое правление миланского герцога и высказывавшим пожелание, чтобы Господь Бог поскорее прибрал к рукам столь злобное и гнусное существо, то он был вне себя от ярости. Заручившись разрешением папы римского, он послал своего человека, Роберто Сансеверино, в Имолу, для того чтобы арестовать памфлетиста. Сансеверино, правда, был в замешательстве. Он попытался было спасти несчастного священника. Однако герцог был неумолим. Он приказал бросить священника и его друга в тюрьму, где и уморил их обоих голодом.
Лудовико Мавр был также человеком непреклонным. Но он обладал гораздо более развитым чувством справедливости и был возмущен подобным произволом.
— Герцог, брат мой, и ведать не ведает, что такое милосердие. Нет, прощать он не умеет. Даже лица духовного звания имеют право и возможность в любой момент обратиться в духовный суд и искать там справедливости и милосердия. Галеаццо Мария по-прежнему сеет ветер. Горе ему…
Юный Сфорца сформировался как разумный государь, тонкий знаток человеческой души. Он обладал политическим чутьем и искусством правления.
Пройдет всего несколько лет, и он достигнет полной зрелости. Особенно ему помог опыт, накопленный в качестве герцога Бари на Юге полуострова. Именно здесь удалось ему установить контакт с населением. Он интересовался его нуждами. Он нашел применение своему особому таланту — примирять противоположные интересы. Он находил время также и для развлечений. В сопровождении двух неразлучных друзей — Мелито и Рандо — он по ночам посещал бедную деревенскую хижину на берегу моря. Там он встречался с прекрасной и влюбленной в него девушкой по имени Бернардина. Не проходит и дня, чтобы они не виделись. Оставшись сиротой в раннем возрасте, Бернардина поселилась в скромной рыбачьей хижине со своим дедом. Любовь синьора для нее возможность войти в высшее общество. О, об этом она всегда мечтала. Но даже в мыслях не могла допустить, что мечта когда-нибудь сбудется.
Тайные свидания завершились рождением девочки. Чудный ребенок! Назвали ее Бьянка Джованна. Государь с восхищением всматривался в младенческие черты. Горячо целовал пухлые ручонки. Брал на руки. Родное беззащитное существо! Когда же обязанности правителя вновь позвали его в Милан, он сумел убедить Бернардину передать ему ребенка на попечение. Пусть девочку воспитывает кормилица. Бернардина со слезами на глазах прощалась с ребенком, которого отец увез с собой в Милан. Проходили день за днем. Бернардина по-прежнему жила в мечтах о прекрасном рыцаре — единственной усладе своей жизни и боялась, что ей не суждено вновь увидеть дочь. Прекрасная сирота-рыбачка была вынуждена склонить голову перед лицом страданий, уготованных ей судьбой.
Рождество — самый большой праздник в Милане. Со времен Висконти Рождество отмечалось в этом городе с особенной торжественностью и пышностью. Один из самых важных моментов праздника при дворе — церемония «чокко», то есть по-милански «полено». В ночь перед Рождеством это ”чокко”, рождественское полено, украшенное гирляндами из вечнозеленой хвои и фруктов, с величайшей торжественностью доставлялось в нетопленый центральный зал замка, тот самый, где потолок по приказу Галеаццо был обит кроваво-красным бархатом. По прибытии государей полено сбрасывали с пьедестала и отправляли в камин под радостные возгласы присутствующих. Полено предавали очистительному огню. Как только вспыхивал жертвенный огонь, начинался рождественский ужин. Было в обычае, чтобы рождественская трапеза продолжалась всю ночь напролет под аккомпанемент праздничной музыки, игр и танцев.
Точно таким образом праздновали Рождество в замке и 24 декабря 1476 года. Галеаццо прибыл в замок под звуки праздничных фанфар и радостные восклицания придворных. Подле герцога — его брат Филиппо и сестра Оттавиана. Другие брат и сестра Лудовико Сфорца — Мария и Асканио — находились в это самое время с визитом при дворе французского короля.
Полено, зажженное в ночь перед Рождеством, сгорело дотла только на второй день. Утром 26 декабря герцог, как обычно, готовился торжественно отбыть в церковь Святого Стефана. В залах замка уже собрались придворные, послы, весь герцогский Совет и приближенные дворяне. Утро было морозное. Придворные рассуждали вслух, стоит ли вообще тащиться к мессе через весь город в такой мороз, да еще верхом. Тогда уж лучше пройтись пешком.
— Если меня не будет на мессе — поползут слухи, будто я струсил, — отрезал Галеаццо.
Сев верхом на своего любимого коня, он возглавил шествие своего двора. Вход церкви был празднично украшен.
Народ, несмотря на холодное утро, уже собрался на площади, чтобы приветствовать своего синьора, жестокого, но всегда блистательного Сфорца. Герцог вступил в пределы храма первым, ведя под руку посла Феррары.
Навстречу им из глубины мрака выступили трое вооруженных воинов. Глаза их поблескивали в темноте. Движения были резки и порывисты. Они решительным шагом направились к герцогу. Один из них, Джованни Андреа Лампоньяно, приблизился и ударил Галеаццо в грудь острым кинжалом. О, сколько раз в своей жизни он пытался вообразить этот момент! И теперь, когда час пробил, кажется, даже не поверил в то, что непоправимое произошло. Он всматривался в лицо убийцы, но глаза уже затуманила смертная пелена. Кровь брызнула изо рта. Он едва выдавил из себя:
— Убит… — и рухнул как подкошенный.
Двое других заговорщиков в приступе ярости, прежде чем кто-нибудь успел их остановить, набросились на бездыханное тело герцога. Они изо всех сил пронзали кинжалом его шею, терзали грудь, резали руки, вскрывая вены.
Все случилось молниеносно. Вооруженная гвардия герцога не успела среагировать. Мгновение спустя заговорщики — Карло Висконти и Джероламо Ольджати — с воплями бросились в толпу, оцепеневшую от ужаса, прокладывая себе путь на свободу. Им удалось скрыться.
Лампоньяно попытался было отогнать от себя окруживших его женщин. Он размахивал окровавленным кинжалом, разбрызгивая вокруг себя кровь. Но кто-то исхитрился повалить его наземь. Солдаты тут же набросились на него, и под ударами мечей грудь его стала огромной зияющей раной. Расправа свершилась.
Церковь обезлюдела, и «несчастный герцог остался один», мертвый. Позже тело было доставлено в замок, где было устроено прощание народа с герцогом. Смерть разгладила жестокую складку в уголках его рта. Тиран перестал гримасничать. На лице странным образом не было печати страдания: оно предстало спокойным и умиротворенным. Глядя на него, никто бы и представить себе не смог, скольких дипломатических провалов и бесполезных сражений стоило Милану безрассудство этого человека.
И теперь народный гнев обрушился против убийц. Труп Лампоньяно протащили через весь город. Толпа бесчинствовала, пинала мертвеца. Каждый почел бы за честь всадить в бездыханное тело кинжал. Наконец бренные останки были отданы на съедение свиньям. Отсеченную правую руку пригвоздили к колонне в качестве трагического предостережения гражданам Милана. Отец Карло Висконти, видя его отчаяние и неспособность сопротивляться, без промедления выдал сына стражникам, которые лишили его жизни. Мать Джероламо Ольджати, напротив, пыталась устроить сыну побег.
Но злополучного беглеца, переодетого в рясу священника, выследили и бросили в тюрьму. В перерывах между пытками он написал трогательное прощальное письмо, объясняя, как сложился заговор, в котором ему посчастливилось принять участие. Бона распорядилась четвертовать упрямца. Единственная милость, которую она соизволила оказать преступнику, — исповедаться, перед тем как взойти на эшафот.
Побудительной причиной, запустившей в действие механизм заговора, нельзя назвать что-то одно. Так, Лампоньяно поклялся отомстить тирану. Дело в том, что этот достойный дворянин в течение долгого времени был вынужден прозябать в приходе Сан-Микеле Кьюза. Ему было отказано в дровах, круглый год он мучился от недоедания. Он обращался к Галеаццо за помощью, но в ответ наткнулся на презрительное высокомерие. Лампоньяно не вынес унижения и поклялся смыть позор кровью. Карло Висконти стал на защиту своей попранной чести. Герцог сделал его младшую сестру одной из своих наложниц, а натешившись, бросил на произвол судьбы. Ольджати действовал по политическим причинам. Он — убежденный тираноборец. При дворе Ольджати был весьма заметной фигурой: поэт и философ-гуманист, ученик Колы Монтано, прославленного ученого, сеявшего в народе ненависть к тирании и взращивавшего любовь к гражданским свободам. В Милане мало кто сомневался, что заговорщики действовали, подражая древним римлянам. Они пожелали стать освободителями отечества от тирании. Они повели себя как воспреемники Брута и Кассия. Однако, несмотря на это оправдание, народ Милана в трагические часы и дни 1476 года продемонстрировал верность герцогскому роду Сфорца.
Итак, Галеаццо погиб в возрасте тридцати двух лет. 14 января следующего года ему исполнилось бы тридцать три. Правил он Миланом в течение десяти лет, прославившись своей жестокостью. Однако жуткая смерть превратила тирана в героя, причем народного героя. В народе вдруг стали вспоминать, как герцог вставал ни свет ни заря, как легок был он на подъем, подвижен и ловок, как любил новое, терпеть не мог рутины и никогда не довольствовался достигнутым. «С наступлением зари я преобразую природу», — повторял он. Галеаццо был гневлив, жестокосерден, вел себя вызывающе, не знал меры в своих любовных похождениях. Но вспоминался он миланцам как человек, стремящийся к новизне, озабоченный тем, чтобы понравиться своим подданным, думавший о каждом отдельном человеке. В Милане, например, не забыли, как Галеаццо распорядился, чтобы всем трудившимся на рисовых чеках была выдана бесплатно широкополая соломенная шляпа, спасшая множество жизней от солнечного удара. Пусть Галеаццо и не обладал государственными талантами своего отца, в его характере миланцы все равно усмотрели главное: он был типичным государем эпохи Возрождения. И не могли не уважать в нем активное отношение к жизни, нежелание довольствоваться малым, изобретательность и энергическую силу, передававшуюся окружающим. Как бы там ни было, Галеаццо удавалось на протяжении всего периода своего правления оказывать на итальянскую жизнь отрезвляющее воздействие. Так, он сумел затормозить осуществление амбициозных планов папы, короля Неаполя, венецианцев. Вот почему Сикст IV, получив известие о гибели Галеаццо, воскликнул: «Сегодня погиб мир в Италии!»
Своим наследником Галеаццо Мария оставил малолетнего герцога Джана Галеаццо. Бремя регентства, таким образом, пало на плечи энергичной, но захваченной врасплох чередой драматических событий женщины — Боны Савойской, которая должна была опасаться многих, слишком многих мнимых друзей.
Наступили трудные времена. Верным знаком было появление призрака Галеаццо, вступавшего в беседы со многими людьми. Некто по имени Дзеа дельи Орки поклялся под присягой, что разговаривал с герцогом поздним вечером на берегу реки Адда. Герцог, по его словам, был одет в костюм простого крестьянина. Он говорил языком древней народной мудрости, был весел и улыбчив, чего никак нельзя было сказать о нем при жизни. Прежде чем исчезнуть, призрак открыл свое имя.
Крестьянке Савине герцог назвал себя возле городского фонтана. Сначала она увидела как бы его тень, затем услышала голос, звучавший с металлическим оттенком: «Я тот, кто был герцогом Милана…»
Некто по имени Мартино, по профессии бродячий торговец, видел призрак герцога в Вальтеллине.
Лудовико Мавр был удивлен столь назойливым присутствием своего брата даже после смерти. Галеаццо был столь жесток, что и за гробом, никак не желал покинуть ристалище. Как только молодому герцогу стало известно об убийстве, он перекрестился и прошептал:
— Этого следовало ожидать.
Потрясенный столь частым появлением призрака своего брата, Лудовико пытался найти этому объяснение. В чем тайный смысл этих народных видений? Он обратился за советом к великому астрологу Амброджо ди Розате.
— Твой брат не нашел успокоения, — был ответ. — Он обезличен, а потому пытается обрести свою личину, вступая в разговор с простыми людьми. Немало святых месс придется отслужить, прежде чем душа его найдет покой. В противном случае он еще долго будет тревожить наши земли, не находя мира в загробном существовании.
Лудовико мучил вопрос, который он так и не решился задать астрологу: «Почему брат не приходит ко мне?»
Смерть ненавистного брата ввергла Лудовико в оцепенение. Он пытался уединиться. Неожиданно ему открылось, что беспощадное дело своего брата теперь суждено продолжить ему. Судьба рода Сфорца должна остаться в его руках. И Лудовико приступил к плетению тонкой и хитроумной интриги. Цель — взять власть в свои руки. Окружающие еще и не догадывались, сколь огромной волей обладает молодой герцог.
ГЛАВА III Восхождение к власти
Бона Савойская, вдовствующая герцогиня, нервно сжимает в руке тонкое перо. Она часами просиживает за письменным столом в одном из залов дворца. Ей уже тридцать лет. Она еще хороша собой. Она энергична. Она умеет повелевать и внушать трепет подданным. Однако над ней тяготеет тень человека, который в течение многих лет господствовал при миланском дворе. Это всемогущий первый министр, калабриец Чикко Симонетта, канцлер покойного герцога.
— Неужели ты полагаешь, что все эти письма принесут хоть какую-то пользу? — спрашивает Бона, обводя невидящим взглядом кипу приготовленных к отправке писем. На каждом герб Сфорца.
— Да, ваша светлость. Да, моя госпожа, — ласково нашептывает Чикко. — Необходимо, — продолжает он увещевание, — чтобы государи всего мира, властелины всех итальянских государств и иноземных держав, ведали, что по смерти вашего мужа; только сын его — Джан Галеаццо — является новым господином Милана. Если не внушить им всем без промедления, что власть перешла в законные руки, они вправе будут поставить вопрос о том, кому должна принадлежать власть в герцогстве. У них наверняка возникнет соблазн оказать поддержку претенденту на трон герцога.
Герцогиня, словно прилежная ученица, снова склоняет голову над письмами, которые самыми быстрыми гонцами будут доставлены по указанным адресам. Она просит синьоров Италии о помощи и поддержке во имя сохранения государственной власти в руках ее сына Джана Галеаццо. Никто не осмелится воспротивиться ее просьбе, ибо хрупкое итальянское равновесие, позволяющее итальянским государствам сосуществовать, зависит от преемственности власти в Милане после гибели Сфорца.
Бона пишет письмо также папе. Это своего рода шедевр, так как обращение к Сиксту IV содержит одновременно и мольбу о помощи малолетнему герцогу, и просьбу умолить Господа, дабы спас он душу ее покойного мужа. Обращаясь к римскому первосвященнику с просьбой вознести молитву за упокой Галеаццо, погибшего от руки заговорщиков, вдова все-таки сумела нарисовать леденящий душу, безжалостный по своему реализму портрет тирана. В самых резких выражениях описала она его жестокосердие и беспринципность. Она полагалась на милосердие Господа в том, что касается души Галеаццо, несмотря на все то зло, которое он успел причинить людям при жизни, вопреки «его праведным и неправедным войнам, разорению городов, ограблению мирных жителей, оставленным после себя дымящимся руинам сел и деревень, вопреки пренебрежению юстицией и произволу, чинимому им вполне сознательно, вопреки введению несправедливых грабительских налогов, в том числе и на деятельность Святой Церкви, вопреки грехам и прелюбодеяниям, откровенному и наглому святокупству и прочим многочисленным смертным грехам». Одним словом — портрет кровожадного и сладострастного чудовища. Однако Бона молила небесные силы помочь душе грешника обрести место в раю.
Нет, не зря Бона написала все эти письма. Она вознаграждена за свой труд. Итальянские и чужеземные государи, опасаясь худшего, постарались не вмешиваться в миланские дела, никто даже и не попытался воспользоваться общей растерянностью. Все как один заявили о намерении признать правителем Милана малолетнего герцога. Государи подтвердили заверения в своей дружбе, оставив прежних послов при миланском дворе. Папа тоже заявил о своем полном согласии с тем, что власть в герцогстве должна быть сохранена за Джаном Галеаццо. Флоренция сделала весьма щедрый жест: 29 декабря, всего три дня спустя после убийства Галеаццо, флорентийцы направили в миланский замок для аккредитации у Боны и малолетнего преемника двух послов, являющихся выдающимися и наиболее значительными гражданами своего города. Это Томмазо Содерини и Луиджи Гвиччардини. Таким образом, Флоренция продемонстрировала, что город Лилии без промедления подтверждает свои союзнические обязательства роду Сфорца, признав одновременно преемственность власти в герцогстве.
Тому есть еще одна, более веская причина. Флорентийская синьория полагала, что гарантом продолжения политики дружбы и союза со стороны Милана должен быть человек, руководящий малолетним герцогом, политик, который всегда поддерживал добрые отношения с Флоренцией. Речь шла, разумеется, о Чикко Симонетте. Флорентийские правители горячо советовали Боне сохранить подле себя этого великого дипломата. Герцогиня, женщина проницательная и склонная к интриге, приняла весьма охотно этот совет, хотя и отдавала себе отчет в том, что с течением времени позиции Чикко при ее дворе не могут не осложниться.
Чикко, политический деятель авторитарного склада, всегда говорит только то, что думает на самом деле. По этой причине у него немало врагов. Плотной стеной окружила его ненависть придворных. Как часто бывает в политике, он от нее и погибнет. Канцлеру герцога стоило бы почаще оглядываться и примечать, кто притаился за углом.
В дни беспорядков и неопределенности, последовавших вслед за злодейским убийством брата, Лудовико успел проявить острые и не во всем приемлемые для окружающих черты своего характера. Ему двадцать четыре года. Он скрытен. Надменен. У него прирожденная способность обманывать, интриговать. Он обладает быстрым умом. Он не успокаивается до тех пор, пока до конца не поймет, какая линия поведения сулит ему наибольшую выгоду. Быстрая смена событий выбила его из колеи, поставив перед необходимостью трудного выбора.
— Жестокость своего брата я всегда подвергал осуждению. Говорил ему об этом прямо в лицо. Даже тогда, когда это могло поставить мою жизнь под угрозу, — обратился Лудовико к узкому кругу своих преданных друзей. — Однако отныне ужас, вызванный его злодейским убийством, заставляет меня встать на его сторону, желать отмщения за его погубленную жизнь. Заговорщики вышли из того же народа, возросли в том же Милане, который неизменно приветствовал аплодисментами своего Галеаццо. Теперь же, после его падения, тот самый народ осмелился поносить его как тирана. Вот почему этот народ должен ощутить на себе всю тяжесть моего железного кулака. Именно этой безликой массе я и желаю отомстить за брата.
Дзунико, нотариус герцога, один из наиболее преданных куртизанов, потрясен резкостью этих слов.
— Ведаете ли вы, синьор, что говорите сейчас? Если вы противопоставите себя народу, опубликовав подобные заявления, то миланцы не станут проводить различия между вами и вашим братом. Вас возненавидят точно так же, как ненавидели вашего брата при жизни.
Преданный слуга Сфорца был не на шутку напуган. Он обратился за поддержкой к сестрам Лудовико, Анджеле и Ипполите. Он знал, что молодой Мавр весьма привязан к своим сестрам, а по особому складу своего сердца склонен воспринимать советы, исходящие от женщин.
— Постараемся переубедить его. И правда, надобно действовать поосторожнее, — пообещали Анджела и Ипполита.
Правда, одна из сестер была не вполне искренна. Ипполита, встретившись с братом, не только не стала его успокаивать, а, наоборот, постаралась еще больше раззадорить:
— Ты прав, брат, мы в руках злобной собачьей стаи. Народ следует потчевать палкой. Тогда он научится уважать власти предержащие. Да, Галеаццо был чудовищем, но его убийство — это страшное коллективное преступление. И Милан за это заплатит!
Лудовико получил поддержку в своем стремлении перейти к репрессиям. Анджела, напротив, старалась внушить ему умеренность. Она увещевала брата действовать более осмотрительно:
— Наступил самый сложный момент в жизни герцогства. С тех пор как умер наш отец, тяжелее времени не было. Стоит перегнуть палку, проявить жестокость более, чем следует, и мы потеряем все. Прежде чем действовать, позволь, чтобы власть нашего племянника окрепла.
К счастью, Ипполита была занята собственными неурядицами. Ей было некогда произносить поджигательские речи. И Лудовико прислушивается к словам Дзунико и Анджелы. Он обещает проявить необходимую жестокость в более подходящее время. Он и сам достаточно разумен, чтобы понимать все превратности подлунного мира, где все зиждется на зыбком равновесии сил.
Холодно, очень холодно в залах миланского замка. В самом большом из них — зале Коломбины — мороз пробирает до костей. Жестокая зима 1477 года, самая суровая из известных по летописям Ломбардии зим, сковала жизнь Милана. За длинным деревянным столом ежились вершители судеб герцогства. Ранним сереньким утром 9 января Бона созвала Тайный совет герцогства, с тем чтобы принять важные решения о будущем правительстве Милана. Рядом с невесткой, правда, не все братья Галеаццо. Были приглашены: Тристан, всегда пользовавшийся большой симпатией Боны, ведь именно он венчался с ней во Франции «по доверенности», Филиппо Мария, ленивый малый, любитель спокойной жизни, главная забота которого — собственные вирши, к тому же он, пожалуй, единственный из Сфорца, кого не сжигает страсть прибрать власть к своим рукам, и Оттавиано, еще подросток, резвый и обидчивый мальчуган.
Тайные советники почти все в сборе. Среди них три эксперта в области гражданского права и три канцлера. Выслушав доклад советников и заручившись поддержкой юристов, Бона взяла на себя бремя регентства и опекунства над малолетним Джаном Галеаццо, которому исполнилось шесть лет. Таким образом, эта женщина, быть может натура менее энергичная, чем ее теща, Бьянка Мария, но не менее жаждущая власти, стремящаяся повелевать среди столь многих властолюбивых мужчин, становится синьорой Милана. Она отдает себе отчет, что жизнь ее будет нелегка. С одной стороны за ней по пятам следует Чикко Симонетта, прототип всех «железных канцлеров» новой истории Европы. С другой — братья покойного мужа. Бона прекрасно понимает, что без союзников ей не обойтись. Во второй половине дня в том же зале она вверила миланскую армию Роберто Сансеверино, назначив его «командующим всеми вооруженными людьми». Роберто Сансеверино талантливый кондотьер. Вот уже тридцать лет служит он миланским герцогам. Бона надеется, что он займет ее сторону. Увы, она ошибается. Сансеверино всегда на стороне того, кто больше заплатит. Он на стороне того, кто поманит его призраком власти.
Бона старалась как можно скорее избавиться от своих деверей. Она прекрасно знала об их хитростях и о желании вырвать власть из ее рук. Вот почему она вынуждена предпринять целый ряд весьма утомительных путешествий. Она лично посетила многие города герцогства, чтобы объявить о своем регентстве, предстать перед подданными в качестве государыни Милана. Таким образом Бона пыталась восстановить хоть какой-нибудь диалог с народом, которому, по правде говоря, давно опротивела жестокость Галеаццо. Бона заигрывала с народом, связанным с династией только старыми предрассудками и преданием. Основатель рода — Франческо Сфорца давно стал легендарной личностью.
Из всех городов герцогства Бона предпочла Павию. Жители этого города неизменно свидетельствовали ей свою любовь и преданность. Верность павийцев укрепила надежды Боны на успешный исход предпринятых ею начинаний. Именно по этой причине к павийцам и обратилась герцогиня, начиная свою политическую кампанию доброй воли. Она рассчитывала, что найдет в душе павийцев соответствующий отклик. Быть может, и другие итальянцы последуют примеру Павии. В самом деле, ее первые дипломатические начинания получили положительный резонанс. Джованни Аттендоло, кастелян Павии, в свое время обещал Галеаццо, что вручит управление городом только его законному наследнику. Но когда он услышал речи Боны, то был покорен добротой ее намерений и присягнул ей на верность.
Герцогиня укрепилась в своих намерениях. Однако доносчики и соглядатаи, каковых всегда хватало при дворе Сфорца, сообщили герцогине, что ее враги тоже не дремлют: ей следует опасаться нападения на Милан в самом скором времени. Бона приказала незамедлительно приступить к укреплению фортификационных сооружений вокруг города. В скором времени Милан был окружен оборонительным валом. Началось строительство главного оборонительного сооружения города — башни высотой сорок три метра, господствующей над замком. И по сей день она известна как Башня Боны Савойской.
Самые зловещие слухи, которым герцогиня не может не поверить, относились к заговору, составленному деверями, желавшими лишить Бону власти. Она решилась нанести упреждающий удар. 3 февраля в замке собрался еще один Тайный совет, еще более важный, чем предыдущий.
В нем приняли участие в качестве привилегированных наблюдателей послы Неаполя, Флоренции, Феррары, Мантуи и маркиза Монферрато. Все внимание Боны было обращено на родственников покойного мужа, на то, как они исподлобья поглядывают на нее. О, сколь непроницаемы и немилосердны их лица, сколь вызывающи жесты, грозны интонации произносимых ими речей! На Совете взяли слово Асканий, апостольский протонотариус, один из рода Сфорца, избравший церковную карьеру, Сфорца Мария, герцог Бари, самый жестокий из всех Сфорца, Лудовико Мавр, который всегда скрывает свои тайные помыслы и всегда готов переменить свое решение, и, наконец, побочный сын Франческо Сфорца — Сфорца Второй. В полутьме зала, едва освещенного массивными канделябрами, Бону пугает хищный профиль Роберто Сансеверино, грозного кондотьера; рядом с ним — Чикко Симонетта и его брат Джованни Бартоломео Калько.
Родственники Боны не скрывали своего намерения осуществить ползучий государственный переворот, чтобы лишить ее власти. Общение с этими людьми давалось Боне с трудом. Единственная страсть этих людей, думала она, — восстановить престиж и влияние отца, Франческо Сфорца. Более других взволнован, похоже, Сфорца Мария. Миролюбивее и сговорчивее прочих, кажется, настроен Филиппо Мария. Именно ему поручили братья позаботиться о том, чтобы не потускнел блеск родового гнезда. Он вступал в союз с представительницами самых великолепных дворов Европы. Однако все помолвки Филиппо, неизменно вызывавшие сенсацию, дававшие пищу для многих разговоров, впоследствии, как правило, оканчивались ничем. Так, провалом завершилась помолвка с обольстительной Марией, дочерью герцога Савойского. Ничем окончилась и помолвка с дочерью Карла, герцога Орлеанского. Сфорца Мария мечтал избавиться от малолетнего племянника и разделить власть с братьями, Лудовико и Оттавиано. Он пытался убедить Бону добровольно уступить правление герцогством троим братьям Сфорца. Но против подобного решения выступил Чикко Симонетта. Разгадав маневр братьев, он прекрасно понял, что, окажись власть в их руках, ему при дворе будет нечего делать.
Чтобы найти выход из сложного положения, Бона обратилась за помощью к Лудовико Гонзага, старому маркизу Мантуи. 24 февраля он подготовил решение третейского суда, своего рода схему компромисса, который, хотя и не удовлетворил никого, все-таки мог послужить основой для сохранения спокойствия в пределах герцогства. Цель решения, по меньшей мере в данный момент, — успокоить молодых Сфорца. Они были вынуждены признать за Боной право на регентство и опеку над малолетним Джаном Галеаццо. Они подписали обязательство не подрывать основ ее власти. Со своей стороны герцогиня обязалась гарантировать каждому из деверей ежегодную ренту в двенадцать с половиной тысяч дукатов, разрешив каждому содержать собственное частное войско в 100 вооруженных солдат, кроме того, она возвратила им право на владение замками и прилегающими землями, которые братья прежде имели в своей собственности и которых лишил их Галеаццо. Каждому из братьев был передан дворец в самом Милане для постоянного проживания. Лудовико достался самый красивый дворец — Сан-Джованни Конка, который в прежние времена был резиденцией Бернабо́ Висконти.
Однако в скором времени пламя мятежа стало вспыхивать то в одном, то в другом уголке герцогства. Самый беспокойный и мятежный город во владении Милана — Парма. Миланский представитель в Парме, дворянин Франческо Камбьяго, был глубоко встревожен сложившимся положением и обратился к герцогине с просьбой поскорее пресечь уже начавшиеся в городе волнения. По его словам, взрыв народного негодования, «беспорядков, могущих причинить непоправимый ущерб, не за горами». Ситуация действительно сложилась взрывоопасная. В обычае жителей Пармы — «выходить на улицу во всеоружии». Анархия, захлестнувшая город по смерти миланского герцога, возбудила «непослушный и мятежный люд Пармы». Теперь он был готов на все, лишь бы отвоевать независимость от Милана, Недовольство и мятежные настроения среди подданных, искусно направлявшиеся против Милана, были делом рук местных феодалов, которые опубликовали свои указы, воспрещавшие гражданам города приобретать хлеб в ближайшем пригороде. Таким образом в Парме были спровоцированы перебои со снабжением продовольствием. Городские рынки опустели. Нищета усугубилась и в пригороде. 25 января 1477 года Пьетро Мария Росси ди Сан-Секондо, напуганный ходом событий чиновник, написал в адрес миланского двора о том, что народ Пармы готов начать «погромы и грабежи под предлогом голода». Не имея возможности покинуть Милан, Бона попыталась успокоить население Пармы. Она распорядилась снизить налоги, упразднив «пятую часть дохода, взимаемую в казну», а также упразднив «прочие новые тяготы». Однако Бона прекрасно понимала, что заговор, составленный синьорией Пармы, грозит ей утратой города. Она была вынуждена поступить более решительно и жестоко. Она распорядилась о высылке наиболее мятежных дворян, заставив синьорию отменить указы, ограничивавшие приток продовольствия в город из окрестных деревень.
— И все-таки главная моя забота — Генуя! — жаловалась Бона Симонетте, верному своему канцлеру.
Действительно, обстановка, сложившаяся в лигурийской столице, была намного опаснее. Народ Генуи уже не был согласен выносить господство Милана. Вот-вот должен был произойти всесокрушающий взрыв. Губернатор Генуи Франческо Паллавичини арестовал двух выдающихся генуэзцев, «дабы на их примере заткнуть глотку всем, кто положил себе за правило слишком много разглагольствовать о свободе».
Огромная толпа собралась в генуэзском порту на встречу одного из своих сограждан, возвращавшегося на родину после долгого отсутствия. На глазах прибывшего — слезы умиления. Он внимательно всматривается в дома, улицы города, лица запрудивших тротуары генуэзцев, краски генуэзских знамен. В Геную возвратился Убьетто дей Фьески, один из предводителей антимиланской партии. Ему удалось спастись бегством из Рима, где он был узником папы. Под покровом ночи он тайком сел на корабль, и вот он снова в родном городе, в своей любимой Генуе! Он — глава мятежа.
— Герцогиня, — заявили генуэзские дворяне, сохранившие верность дому Сфорца, — есть только одна возможность спасти положение: освободи Просперо Адорно!
Просперо Адорно — генуэзский синьор, готовый пойти на компромисс с властями, ставленниками Сфорца. Однако он в тюрьме в Кремоне. Бона призвала его к себе и вверила ему командование армией, которой было поручено «усмирить мятежный город». Герцогиня даже приняла парад отправлявшихся на усмирение Генуи войск — 8000 солдат, 1000 лучников, 100 немецких наемников с мушкетами, 200 пехотинцев-головорезов. Бона довольна. С трудом сдерживает она радостную улыбку: наконец-то перед ней настоящие воины. Лица их обожжены солнцем. Закаленное тело привыкло к ветрам, продувающим насквозь Паданскую низменность. Холодный взгляд серо-стальных глаз — вот лучшая гарантия спасения герцогства! Кроме того, в армию, отправлявшуюся на покорение Генуи, герцогине удалось привлечь всех недовольных, всех заговорщиков, конспираторов, безумцев — опасных ей людей. В Геную отправлены: Лудовико Мавр и его брат Оттавиано, Роберто Сансеверино, Донато дель Конте и другие кондотьеры.
Адорно не сомневался в успехе предприятия. На его стороне было генуэзское дворянство, сохранившее верность Сфорца, граждане города, простой люд, наконец, купцы и ремесленники. Все они должны быть счастливы, что во главе огромной армии их земляк. Адорно скрывал от генуэзцев, что он командует, по сути дела, оккупационными войсками. Как только его солдаты оказались в виду Генуи, он поспешил в город в гордом одиночестве, чтобы предстать перед генуэзцами-земляками в качестве губернатора по поручению миланских герцогов. Но не это было главным в его миссии.
— Важно другое, сограждане, — заявил он, — перед вами генуэзец, желающий своей родине только добра!
11 апреля 1477 года на подступах к Генуе произошло генеральное сражение. Солдаты миланских герцогов и две тысячи сторонников Адорно, прибывших из самой Генуи, опрокинули мятежников, обратив в бегство вооруженную толпу, последовавшую за Убьетто Фьески и архиепископом Фрегозо. К исходу месяца генуэзский мятеж был подавлен. И великий морской город снова стал превозносить необычайную доброту правления миланской синьории. Однако Просперо Адорно по-прежнему утверждал, что «пришел в город, дабы сохранить его благополучие». Он и правда изо всех сил сдерживал мстительность своих миланских хозяев. Ему удалось избежать кровавой вендетты. Побежденным он поспешил предоставить равные права в ведении городских дел. Его уравновешенная и справедливая политика снискала ему большую симпатию горожан.
Лудовико был вне себя от гнева. Как загнанный зверь метался он в залах своего дворца Сан-Джованни. Оттавиано, брат его, еще совсем подросток, смотрит на старшего Сфорца с восхищением.
— Бона и Симонетта пытаются нас перехитрить, — процедил сквозь зубы Лудовико, обращаясь к брату. — Если мы не выступим немедленно, то не останется ничего иного, как признать: сила за ними.
Симонетта, после того как были подавлены мятежи в Парме и Генуе, принял решение: пора расправиться и с потенциальными заговорщиками. 25 мая по его приказу были посланы солдаты, чтобы осадить дом одного из капитанов герцогини — Донато дель Конте. Захватив его в плен, Чикко приказал бросить капитана в тайный застенок в городе Монца.
Оттавиано со всех ног бросился к Мавру. В голосе его паника:
— Они арестовали Донато! Скоро и наш черед!
Лудовико отдал приказ перейти в контрнаступление. Вместе с братьями, до глубины души возмущенными господством Боны, Асканио, Сфорца Марией и Оттавиано, Лудовико удалось собрать под своим знаменем тысячу вооруженных дворян, на которых еще можно было положиться. Они выбили герцогских гвардейцев из замка при Порта-Тоза, основав там свой штаб.
— Герцог Бари, мой брат Сфорца Мария, ранен, — заявил, обращаясь к народу Милана, Лудовико Мавр. Он лгал, но то была ложь во спасение. — Чикко Симонетта замыслил сесть на трон и сделаться властелином! Вы должны взять нашу сторону. Не допустим осуществления столь коварного замысла!
Но народ Милана не поверил ни единому слову Лудовико. Народ нутром почувствовал, что этот новый раздор может стать началом бесконечной гражданской войны, в которой он отказывался участвовать. Бона поняла, что фортуна ей улыбнулась и на этот раз. Она выслала к мятежникам своих гонцов. Ее приказ — сложить оружие и возвратить ей ту часть Милана, в которой они разбойничают.
Лудовико, Асканио и Сфорца Марии не оставалось ничего другого, как явиться с повинной к своей разгневанной невестке. Роберто Сансеверино, кондотьер, который, пожалуй, впервые в своей жизни совершил ошибку, встав не на сторону заведомого победителя, убежал, скрывшись в Асти. Убьетто дей Фьески, генуэзский мятежник, который попытался воспользоваться заговором братьев Сфорца, чтобы взять реванш за свое поражение в Генуе, был заточен в одну из башен миланского замка.
Оттавиано, младший из братьев, повел себя неосторожно:
— Как же так, братья? Неужели мы сдадимся на милость этой злобной шлюхи?! Ни за что на свете! Разве голос крови Сфорца не звучит больше в вас? Но я слышу его! Я предпочитаю пуститься в бега, как можно дальше от места позора. Составлю войско, с ним и вернусь. Умру, но герцогство отвоюю!
Напрасно Лудовико пытался внушить юноше, что в Италии эпохи Возрождения в гораздо большей цене терпение, настойчивость, интрига, нежели сила оружия. Оттавиано во главе небольшого отряда верных ему людей вскоре достиг берегов Адды. Как всегда весной, река вышла из своих скромных берегов.
— Я не боюсь воды! — прокричал Оттавиано, обращаясь к оробевшим солдатам.
Он изо всех сил пытался сыграть с достоинством роль юного бесстрашного кондотьера. Оттавиано начал переправляться через Адду вброд. Но бурный поток подхватил его. Пучина поглотила Оттавиано. Вместе с ним угасло и питавшее его чувство презрения к миру лжи и лицемерия. Он был, пожалуй, единственным из Сфорца, кто действительно презирал этот мир.
Казалось, уже никто не сможет противостоять всесильному Чикко Симонетте. Регентство Боны представлялось прочным как никогда. Народ показал, что не желает поддерживать мятежи. Внешние силы под воздействием целого ряда обстоятельств не обладали достаточным могуществом, чтобы подорвать режим власти в Миланском герцогстве. Все попытки подорвать господство Боны поддерживались исподтишка самой Венецией. Действительно, на границах с герцогством — в Бергамо и Брешии — венецианцы сконцентрировали свои войска. Но Венеция была чересчур обеспокоена шаткостью своего собственного внешнеполитического положения. Об этом свидетельствовал, в частности, отказ Венеции поддержать мятежи в герцогстве. Враги Венеции слишком сильны. Турки, уничтожив последний средиземноморский бастион Венеции, изматывают теперь ее силы в Албании и во Фриули. Король Франции Людовик XI, одержав победу над своим соперником Карлом Дерзким, судя по всему, вознамерился захватить итальянские житницы. Венеция осторожно приступила к подготовке обороны. Венеция сообщила миланскому послу следующее: «Необходимо, чтобы все мы проявили большую мудрость. В целях сохранения мира в Италии в том виде, как он уже сложился, следует памятовать о том, что нет больше с нами герцога Бургундского, а король Франции чересчур возвысился. Так что теперь на Италию наседают два дракона — турки и вышеупомянутый король. Они только и ждут, чтобы небеса преподнесли им удобный случай удовлетворить аппетит. Посему следовало бы держать их от Италии как можно дальше. Мы должны подражать природе, которая труднопроходимыми горами отделила их от нас».
Флорентийская синьория придерживалась аналогичных взглядов. На первых порах, когда во Флоренции заметили, что молодые герцоги Сфорца пытаются вырвать власть из рук Боны, синьория подумывала вмешаться в схватку, с тем чтобы расширить свои владения в Ломбардии. Таково было давнее чаяние города Лилии. Однако вскоре Флоренции пришлось пересмотреть свои планы ввиду угрозы аналогичной интервенции короля Неаполя. Фердинанд Арагонский тоже мечтал о том, как бы прибрать к рукам великое герцогство, чтобы вручить его в качестве дара своему сыну Федерико. Однако если бы ему это удалось, то было бы поставлено под сомнение само понимание эпохой Возрождения того, что такое свобода итальянских государств. Равновесие сил — вот та главная свобода. Его следовало тщательнейшим образом охранять и предоставлять равную безопасность малым отечествам Италии. Вот почему Флоренция, не желая рисковать и потворствовать планам неаполитанского монарха, отказалась от вмешательства во внутренние дела Милана на стороне враждебных Боне группировок. Во Флоренции были уверены, что миланский узел рано или поздно развяжется сам собой.
Вряд ли кто-либо видел Бону прежде столь уверенной в себе, спокойной и величавой, но ужасно прямолинейной в простоте своих суждений. 1 июня 1477 года в одном из многочисленных залов замка она обратилась к миланским магнатам. То была речь победителя, политика, полностью овладевшего обстановкой. Бона не брезговала и угрозами. Естественно, главная тема ее выступления — мятежные родственники. Бона подчеркнула, что ее покойный муж Галеаццо всегда относился к ним «не только как к родным братьям, но и как к возлюбленным чадам». Бона тоже относилась к ним «с сестринской любовью». Но они не ответили взаимностью. Молодые Сфорца за ее любовь отплатили черной неблагодарностью. Долго, слишком долго плели они сеть интриг. Сначала замыслив убить брата, затем предприняв попытку захватить власть в герцогстве, лишив этой власти малолетнего сына Галеаццо и его вдову, узурпаторы действовали по заранее продуманному плану. Но теперь Господь пожелал их покарать. Заговорщики побеждены. Судьба их на милости победителя — миланской герцогини. Бона окинула зал торжествующим взглядом.
— Я прекрасно знаю о том, что мои девери заслуживают примерного и сурового наказания. Но государь всегда должен думать о милосердии. Вот почему я ограничусь только изгнанием их из пределов герцогства…
Сыновья Франческо Сфорца превратились в изгнанников. Галеаццо, тиран, и Оттавиано, мятежник, погибли. Сфорца Мария, самый необузданный из всех братьев, томился под домашним арестом в своем собственном герцогстве в Бари. Лудовико пришлось выбирать: отправляться ли ему в изгнание во Флоренцию или же предпочесть Пизу. Асканио, как духовное лицо, должен был оставаться в Сьене или Перудже. Только Филиппо Мария, существо совершенно безобидное, мог продолжать жить в родном Милане.
Примерное и суровое наказание, которое в силу обстоятельств не могло коснуться родственников герцогини, обрушилось со всей тяжестью только на одного из заговорщиков — кондотьера Донато дель Конте. В Милане был устроен показательный процесс над сообщником братьев. О ходе судилища в мельчайших подробностях были тотчас информированы послы Милана в Венеции, Савойи и Франции. Цель — пусть как можно больше рассказывают, передают с упоением подробности и таким образом, быть может, внушат тамошним государям, что ждет врагов герцогини. Донато был сражен тяжелой болезнью и умер в тайном застенке тюрьмы Монцы. Однако рассказывают, вполне в духе того времени, причем, как водится, наперекор официальной версии, что обстоятельства гибели Донато были иными. Мятежник попытался бежать из тюрьмы, спустившись по веревке в глубокий ров, окружающий замок. Но веревка была гнилой. Донато сорвался в пропасть и разбил голову об острые камни, специально подсыпанные в ров. Итак, Донато дель Конте было суждено стать козлом отпущения и очистительной жертвой одновременно. Братья Сфорца пребывали в изгнании. Бона могла торжествовать победу.
Однако радость ее длилась недолго. Генуя еще раз подвела систему ее власти на край пропасти. Род Фьески снова поставил под вопрос женское властолюбие, столь характерное для Италии эпохи Возрождения. Джан Луиджи Фьески потребовал от Боны освободить своего брата Убьетто. Роберто Сансеверино, заклятый враг герцогини, обещал свою помощь и поддержку Фьески. Желая доказать свой выбор на деле, он предал огню и мечу окрестности Генуи. Обстановка становилась все более взрывоопасной. Один из наиболее преданных Боне кондотьеров, Джанджакомо Тривульцио, попытался встретиться с Фьески и уговорить его отказаться от мятежных замыслов в отношении Генуи.
— Сначала освободите моего брата, — был лаконичный ответ.
— Да, но прежде нам необходимо располагать свидетельством доброй воли с твоей стороны. Как только прекратятся мятежные выступления, твой брат будет свободен, — поставил жесткое условие Тривульцио.
— Не бывать этому! Освободите брата!
И война вспыхнула с новой силой. Перевес был на стороне Сфорца. Генуэзские мятежники оказались не в силах подорвать державную мощь герцогини.
Солнце ярко осветило фасад главного Миланского собора. 2 апреля 1478 года — праздник Святого Георгия. Перед епископом на коленях подросток. Джан Галеаццо Сфорца отныне герцог Милана. Ему вручены символы герцогской власти, принадлежавшие еще деду, основателю династии, затем злодейски убиенному отцу. В роскошном одеянии, соответствующем торжественности момента, рядом его мать — Бона Савойская. На губах ее блуждает счастливая улыбка. Как и Бьянка Мария, возведшая на трон Галеаццо, Бона тоже позаботилась о том, чтобы коронация запомнилась миланцам, врезалась в память. Задолго до торжественной церемонии собирала она ежедневно своих советников: обсуждались детали церемонии. Еще и еще раз обдумывали маршрут кортежа, униформу солдат, расположение знамен и хоругвей, священнослужителей, продолжительность крестного хода — ничто не ускользнуло от ее цепкого внимания. Монахи-бенедиктинцы из прихода Сан-Пьетро попытались было уклониться от участия в шествии, но герцогиня тотчас дала им понять, что в случае их неучастия в торжествах орден Св. Бенедикта будет лишен всех городских привилегий. Итак, Джан Галеаццо стал герцогом. Казалось, теперь судьба Милана прочно в его руках. Думалось, ничто не сможет подорвать его положение, упрочившееся благодаря хитросплетению военно-политических равновесий, реализму и политике твердой руки. Чикко Симонетта по праву торжествовал. Всего за каких-то два года ему удалось возвратить герцогству былое величие и былую славу времен Франческо Сфорца.
Мир в Италии, однако, держался на острие ножа. Флоренция навлекла на себя ненависть всех государей. Король Неаполя был до крайности раздражен поведением флорентийцев, потому что они воспрепятствовали осуществлению его планов по захвату миланского наследства. Разгневан и папа, потому что Флоренция расстроила его хитроумный замысел насчет Романьи и Умбрии. Флоренция, ничтоже сумняшеся, отказалась признать Франческо Сальвати архиепископом Пизы. Франческо Сальвати был заклятым врагом дома Медичи. Именно по этой причине Сикст IV и назначил его в Пизу, чтобы досадить флорентийской синьории. Флоренция могла процветать до той поры, пока благодаря господству Сфорца прикрытие ей было обеспечено. Теперь же Флоренция стала выглядеть как добыча, на которую с вожделением взирали неаполитанский король и римский папа. Объединившись, эти мощные враги взялись разжигать угли гражданской войны в самом сердце Флоренции. Фердинанд Арагонский, желая, по свидетельству Гвиччардини, установить во Флоренции новое государственное устройство, подстрекал ненависть, снедавшую семейство Пацци, главных врагов Медичи. И все же Якопо дей Пацци терзали сомнения. Кому-кому, а ему было известно, что враги его, Медичи, пользовались симпатией большинства флорентийского народа. Он знал также, что его собственное имя достаточно престижно и значительно, чтобы собрать под этим знаменем многочисленную рать мятежников.
Молодые Медичи, подобно набожным богомольцам, творят молитву пред алтарем церкви Святой Заступницы. Богатство украшений, великолепие картин, на которых флорентийские мастера запечатлели религиозный порыв Медичи, не ускользают от внимания братьев. 26 апреля 1478 года, в тот самый момент, когда Лоренцо и Джульяно Медичи были на святой мессе, в храм ворвалась горстка заговорщиков и набросилась на братьев с кинжалами. Джульяно, портрет которого кисти Боттичелли ныне хранится в Берлинском музее (всякий видевший его не мог не запомнить тонкие поджатые губы, короткую сильную шею, темные вьющиеся волосы, аристократический, как бы вылепленный из чистого воска профиль), был в тот день нездоров, движения его были медлительны. Он тут же упал наземь, захлебнувшись собственной кровью. Лоренцо удалось спастись. Он забаррикадировался в церковной ризнице. Заговор Пацци, таким образом, провалился.
Флоренцию всколыхнула волна народного гнева. В городе началась резня. В те дни на мостовых флорентийских улиц валялись неубранными отсеченные руки врагов народа — врагов Медичи. Лоренцо Великолепный справлял пир победы. Простонародье от души повеселилось на этой кровавой оргии. Тайные симпатии городской буржуазии, однако, по-прежнему были на стороне Пацци. Провал заговора Пацци вверил город в полную и безоговорочную власть Медичи. Лоренцо отныне стал абсолютным монархом.
Подобный исход мятежа чрезвычайно раздосадовал папу.
— Лоренцо — кровавый тиран! — провозгласил с амвона римский первосвященник. — Флорентийцы, выдайте его в мои руки. В противном случае ваш синьор будет отлучен от церкви! На Флоренцию падет интердикт!
Срок установленного Сикстом IV ультиматума — Флоренция должна была объявить о своей капитуляции не позднее 20 июня — истекал. Флорентийцы, разумеется, еще теснее сомкнули ряды вокруг партии Медичи и отвергли ультиматум. Папе не осталось иного выхода, как, заручившись поддержкой короля Неаполя, произнести торжественную анафему Флоренции.
Флорентийцы лихорадочно искали союзников где только можно. Взоры их обратились к Венеции. Но главная забота венецианцев — оборона от турок, которые предприняли ряд опасных демаршей во Фриули. Венеция не в состоянии выслать флорентийцам подкрепление. Милан же был обеспокоен возможностью нового восстания в Генуе. Король Франции направил к Сиксту IV своего посла. Он пытался убедить папу умерить свой гнев в отношении Флоренции. Папа же упрямо твердил одно и то же: Лоренцо должен совершить великое покаяние, только после этого он может рассчитывать на великодушное прощение.
Сикст IV и король Неаполя приняли решение оказать давление на Милан. Главная их надежда — Адорно, губернатор Генуи, управляющий городом по мандату герцогини. Укрепив свою власть благодаря союзу с миланцами, Адорно вынашивал планы обретения Генуей независимости. Он мечтал сделаться дожем Генуи. Вскоре планы его увенчались успехом. Он поднял над городом республиканское знамя. Миланский гарнизон был заперт в Кастеллетто. Уже было объявлено о прибытии экспедиционного корпуса, посланного Боной на усмирение Генуи.
В этот момент к Просперо Адорно и явился Сансеверино, кондотьер, изгнанный герцогиней. Милан он люто ненавидел. В кратчайшие сроки ему удалось сколотить вооруженный отряд, способный противостоять Сфорца. Король Фердинанд выслал подкрепление — тяжеловооруженные галеры. Итак, новая система союзов вполне определилась.
В гневе Бона обрушила град упреков на неаполитанского короля.
— Передайте ему, пусть знает, что я скорее отдам Геную любому из его заклятых врагов, чем ему самому! — выкрикнула она, постаравшись вложить в эту тираду все свое негодование.
По ее приказу Сфорца Второй, внебрачный сын Франческо Сфорца, к которому Бона относилась с большой симпатией, стал во главе армии Милана. Поставленная цель — примерно и жестоко наказать непокорных генуэзцев.
Однако Сфорца Второй недооценил хитроумие Сансеверино. Он попал в чудовищную ловушку. 7 августа 1478 года миланцы, забыв о предосторожности, вступили в узкую горную долину, известную по названию скал — Два Близнеца. Неприятель захватил миланцев врасплох в самый ответственный момент похода. Началась кровавая баня. Это жуткое поражение Милана ознаменовало собой конец господства Сфорца над Генуей. Бона, желая изничтожить Просперо Адорно, срочно пересмотрела систему своих союзов. Правда, ей удалось повести дело так, что в конце концов Убьетто Фьески и Баттиста Кампо Фрегозо опрокинули правительство Адорно, который, спасая жизнь, бросился в море и достиг вплавь борта галеры неаполитанского короля, но изменить новое соотношение сил она не была в состоянии. Генуэзцы уже вкусили запретных плодов независимости. Они были готовы на все, даже на временное унижение, угождая то Милану, то Неаполю, лишь бы сохранить отвоеванную свободу.
— Эта женщина должна покинуть сцену вместе со своим дьявольским советником, — постановили римский папа и неаполитанский король.
Они ненавидели Бону и Чикко Симонетту, изо всех сил пытались разжечь неприязнь итальянских и чужеземных государей к Милану.
Среди наиболее верных союзников Миланского герцогства были швейцарские конфедераты. С Миланом их связывал вечный союз, заключенный в 1477 году.
— Папа одарит вас сорока тысячами дукатов при условии, что вы поможете свергнуть правительство Боны Савойской, — пообещал удивленным швейцарцам Гвидо д’Ананьи, епископ Сполето.
Сикст IV направил его своим послом в Люцерн, желая заручиться поддержкой конфедератов. Швейцарцам совсем не с руки было вмешиваться в итальянские дела. Они ссылались на то, что швейцарцы всегда верны присяге. В данном случае они обязаны сохранить верность миланской регентше. Папский легат тотчас предъявил буллу первосвященника, снимавшую со швейцарцев позор клятвопреступления.
Внушительные силы швейцарских конфедератов в ноябре 1478 года подошли к Милану, угрожая своему бывшему союзнику. Миланцы в свою очередь взяли в осаду Лугано. Правда, в крепости было довольно продовольствия и амуниции, так что она могла выдержать осаду продолжительное время. Миланцам так и не удалось принудить Лугано к капитуляции. В середине декабря швейцарцы тем не менее были вынуждены отступить. Тщеславие Сфорца, недовольных мирным исходом противостояния, довело Милан до сокрушительного поражения.
Отступавшие конфедераты расположились лагерем на берегу Тисина. Мороз превратил реку в огромное ледяное пространство. Правда, швейцарцы без особого труда передвигались по льду. Все они были обуты в прочные тяжелые ботинки на шипах. Миланцы же нашли на этой ледяной пустыне свое последнее пристанище. Марсилио Торелли, возглавлявший по указанию Боны кампанию против швейцарцев, вознамерился любой ценой наказать вероломных швейцарцев. Но в результате по его вине на льду Тисина погибла вся миланская армия.
«Миланцы ретировались самым постыдным и трусливым образом» — такое высказывание современника сохранилось в летописи Беллинцоны.
28 декабря 1478 года Бона оказалась окруженной врагами со всех сторон. Круг замкнулся. Роберто Сансеверино, до конца используя свои военные таланты, обрушился с превосходящими силами на войска флорентийцев под Сарцано. Однако мощь, которой располагали Сикст IV и неаполитанский король, была несокрушимой. Перевес по-прежнему был на их стороне. Миланцы были вынуждены перейти в отступление по всем фронтам. Единственный политический маневр, который они все еще были в состоянии себе позволить, — крайняя осмотрительность и осторожность. Однако врагам Боны было известно, что падение ее правительства может быть спровоцировано только благодаря активизации внутренних врагов. Ферранте Неаполитанский направил Сфорца Второму письмо, призывая его отказать в поддержке ненавистной герцогине: «Зачем ты поддерживаешь миланскую госпожу своим войском? Не достойнее ли помогать собственным братьям-изгнанникам?»
Однако Сфорца Второй и Филиппо Мария, человек малодушный, единственный в роду Сфорца не испытывавший никакой неприязни к Боне, отказались повернуть свой меч против герцогини. В связи с этим король Неаполя решил следовать иным путем. Он посоветовал братьям-изгнанникам вступить в союз с Сансеверино, вместе с ним можно было бы попробовать осуществить реконкисту герцогства.
Наступил март 1479 года. Солдаты Сансеверино предприняли наступление на Пизу. Окрестности города были преданы огню и мечу. Повсюду пылали пожары, солдаты бесчинствовали, убивая правых и неправых. Впечатление, произведенное этой карательной экспедицией, было чрезвычайно сильным. В Милане началась даже паника, когда стало известно, что молодые Сфорца покинули изгнание и присоединились к войскам мятежного кондотьера.
Бона вне себя от гнева.
— Я не могу допустить, чтобы эти недоросли — Лудовико и Сфорца Мария — лишили меня власти. Или нет у меня войск, или нет союзников? У меня герцогство, у меня власть! Им не добиться своих целей!
Лудовико, наиболее проницательный из государей Италии того времени, провел ужасные полтора года в пизанском изгнании. Скука, тоска, бессильный гнев оттого, что он удален из Милана. Некем повелевать. Вынужденное безделье. Сердце его было истерзано. По иронии судьбы, единственным развлечением в изгнании было пребывание в Прато, поскольку в Пизе вспыхнула эпидемия чумы. «В гнусном заточении проходят мои лучшие дни», — жаловался Мавр в одном из писем. Ему только что исполнилось двадцать семь лет. Тем не менее натура брала свое. Он по-прежнему с азартом интриговал, нити заговора сходились к нему. Ни на минуту не прерывал он своей деятельности, лишь бы досадить невестке, нажить ей новых врагов.
«Странно, разве ты не знал, что Бона всегда тебя ненавидела? Помоги мне свергнуть ее, завоевать герцогство, я в долгу не останусь», — обращался он к Лоренцо Медичи. Тот же, обеспокоенный прежде всего судьбой своей собственной синьории, не прислушивался к увещеваниям интригана.
«Чикко — человек лживый, прирожденный предатель, его надобно раздавить, как червя», — обращался Лудовико к королю Неаполя. Фердинанд, в отличие от Лоренцо, щедро снабжал Лудовико оружием и людьми, деньгами и советами, не забывая при этом подкармливать и братьев-изгнанников. Когда Лудовико стало известно, что его брат герцог Бари, Сфорца Мария, оставил свою резиденцию и присоединился к Сансеверино, готовясь к нападению на миланские крепости, расположенные между Сарцано и Восточной генуэзской ривьерой, он принял решение прервать вынужденное ожидание. Лудовико покинул Пизу в ночь на 22 января 1479 года.
— Сюда я больше никогда не возвращусь, — сказал он, покидая изгнание. — Или я погибну, или стану господином Милана.
Молодые Сфорца заявили о себе открыто как о единственных законных наследниках миланской династии. Продвигаясь по территории полуострова с войсками своего кондотьера, они распространили прокламацию, обращенную к подданным герцогства. «При помощи папы римского и неаполитанского короля, — говорилось в листовке, — Сфорца вознамерились наконец возвратиться на родину под отеческий кров». Но сверх необходимого враги. Сфорца были не нужны, поэтому в прокламации братья утверждали, что с симпатией и даже любовью относятся к синьоре Боне и ее сыну. Единственная цель, говорилось в листке, — освободить Милан от тирании ненавистного Чикко Симонетты.
В лагере, над которым развевались хоругви герцогини Миланской, началась лихорадочная подготовительная работа. Армией Милана командуют трое лучших кондотьеров эпохи — Джованни Конте, Джамбаттиста Ангуиллар и Джанджакомо Тривульцио.
— Девери уже осадили крепость Монтанаро, — обратилась Бона к своим капитанам. — Освободите же эту крепость!
Движение миланских войск на первых порах увенчалось успехом. Верные герцогине армии успешно наступали в долине Таро. Мятежные Сфорца были вынуждены отступить к Варезе-Лигуре.
В отчаянии взирал Лудовико на неподвижное лицо одного из немногих, к кому он был по-настоящему и сильно привязан. На смертном одре — тело его брата Сфорца Марии, герцога Бари, скончавшегося в Варезе 29 июля 1479 года. Утверждают, что тиран, Чикко Симонетта, сумел отравить его, воспользовавшись услугами наемного убийцы. Правда, подобные разговоры возникали тогда всякий раз, когда умирал кто-либо из государей. Наследство брата принял на себя Лудовико. Неаполитанский король, сделавший ставку на Лудовико, желая тем самым унизить Бону, 14 августа 1479 года опубликовал привилегию, которой герцогство Бари по закону отходило Лудовико Мавру. Итак, в двадцать семь лет Лудовико стал наконец одним из самых могущественных государей полуострова.
Смерть брата, однако, вынудила Лудовико как можно скорее отыскать точки соприкосновения с Боной. Он понял: более всего Бону беспокоит, что в этот решительный час она очутилась в кольце окружения. В подобной ситуации, сделал вывод Лудовико, герцогиня готова к тому, чтобы пойти на любое соглашение, лишь бы прорвать блокаду, обрекшую ее на медленную гибель. Лудовико уже дал знать своей невестке, что намерен покаяться в своих прегрешениях и готов искупить их. Мавр был чрезвычайно хитрым политиком. Его совершенно не занимала мысль, что на какое-то время он, как говорится, потеряет лицо. Главное, полагал он, — сделать решительный шаг в достижении своей долгосрочной цели.
Мавр брезгливо повертел в руках письмо, которое Бона с сыном написали 6 августа. Письмо дошло до него через верного кондотьера Тривульцио.
«Мы огорчены уходом из жизни герцога Бари, хотя по отношению к нашим особам он не вел себя подобающим образом. Мы рады тому, что ты наконец одумался, и готовы принять твои уверения в почтении. Однако в знак доброй с твоей стороны воли тебе надлежит немедленно возвратиться по месту ссылки в Пизу».
Лудовико саркастически ухмыльнулся. Он прекрасно понимал, что Боне не терпится поскорее обо всем с ним договориться. В воздухе уже носится аромат предательства. Впрочем, кое-кто из предателей действует ему на пользу. Сансеверино, уставший сражаться против герцогства за интересы неаполитанского короля, уже заигрывает с венецианскими синьорами. Он задумал поступить на службу Венецианской республики. Убьетто Фьески уже перешел на сторону регентши. Бона пыталась внушить Лудовико, будто она готова принять его под свое милостивое покровительство. Именно она поведала ему обо всех этих предательствах.
«Отныне я готов подчиниться тебе, — ядовито ухмыляясь, пишет Лудовико, — однако при двух условиях: мне должны быть возвращены владения и я должен быть допущен к участию в управлении государством».
Бона колебалась. Мятеж тем временем развивался в решительном направлении. Сансеверино атаковал Тортону и 22 августа занял крепость, приказав спустить на башнях флаги Сфорца.
— Я овладел этой крепостью во имя племянника Джана Галеаццо, — провозгласил Лудовико, — такова победа, одержанная мною над узурпатором Чикко Симонеттой.
Игра пошла в открытую. Лудовико постоянно подчеркивал свою преданность невестке и племяннику и свою враждебную неприязнь к первому министру двора. Несмотря на значительные подкрепления, отправленные из Милана, один за другим города попадали в руки врагов герцогини. Бона не знала, что предпринять, чтобы помочь Тривульцио, который засыпал ее отчаянными посланиями.
— Игра проиграна, — сообщил Лудовико, обратившись к Тривульцио, — пора присоединиться к нам! Мы вознаградим тебя по-королевски. Но главное — ты будешь на стороне победителей!
Но кондотьер упрямо хранил верность герцогине. Он с негодованием отверг предложение предать свою госпожу.
Чикко чувствовал, как почва буквально уходит у него из-под ног. Тривульцио уже сообщил ему, что в Милане сложилась значительная партия противников его политики, поддерживающая молодых Сфорца.
И в самом деле игра близилась к логической развязке. Лудовико Мавр и Сансеверино известили герцогиню о том, что они приняли решение приостановить в одностороннем порядке боевые действия. Они обратились к ней с предложением предпринять ответный шаг. Бона не могла отказать им в этом.
Настроения Боны с течением лет резко переменились. Прежде всего, в отличие от прошлых времен, герцогиня с большим трудом переносила наглость Чикко.
— Этот человек всегда был мне верен, но ныне он стал совершенно невыносим!
Кроме того, Бона потеряла всякую охоту вникать в дела герцогства. Ей надоел надсмотрщик, который ежеминутно напоминает о том, что она глава государства. У Боны была своя, женская тайна! Ей еще только тридцать лет. Она еще очень хороша собой. По правде говоря, она устала проводить ночи в мыслях о тактике и стратегии, необходимых для дальнейшего возвышения Милана. Она тайно влюблена в юного феррарийца, своего придворного Антонио Тассино. Ей уже представляется, будто главным препятствием на пути к достижению полного женского счастья является ненавистный старик — Чикко! К тому же Бона и не помнит этого настырного Лудовико, разве что мимолетно. Она полагает, что кто-кто, а она сумеет заставить деверя поступать по ее воле. Недаром ей это удавалось даже с мужем. Утешившись этим сладким обманом, Бона послала к Мавру гонца с подписанным ею пропускным билетом. Она повелевала ему прибыть в миланский замок.
Лудовико казалось, что он грезит. В ночь на 7 сентября 1479 года он верхом на коне, следуя за гонцом, въехал в один из дворов замка. Неожиданно для него старые крепостные стены, до боли знакомые родные тени, с детства любимые уголки переполнили его чувства — на глаза навернулись слезы умиления.
Но чей-то таинственный голос возвратил его к реальности:
— Прошу следовать за мной, синьор. Герцогиня вас заждалась!
Бона по-прежнему хороша собой. Она мало изменилась с тех пор, как весь Милан приветствовал ее ангельскую красоту. Лудовико всматривался в до боли знакомое лицо. Он не скрывал хищного восхищения этой женщиной.
— Так ты полагаешь, что мы подпишем это соглашение? — обратилась к нему Бона.
— Убежден в этом. Я уже отдал приказание своим войскам сложить оружие, — ответил самоуверенный Мавр.
На следующий день Бона призвала своих капитанов, мужественных, закаленных в сражениях ветеранов — Никодемо Транкидини, Франческо Малетту, Чезаре Порро. Они уже слышали, что мятежные Сфорца возвращаются. Эта весть возмутила их честные сердца. Они поспешили поднять по тревоге всю армию, находившуюся в пределах городских стен. Герцогиня гневно сдвинула брови. Она готова подавить любую попытку сопротивления.
— Я заключила с Лудовико соглашение. Вскоре он прибудет сюда — в Милан.
Бедная наивная женщина! Она доверилась ужасному хитрецу. Она полагает, что дружба с ним откроет перед ней двери благополучия и власть ее укрепится. Она настолько убеждена в этом, что даже написала письмо с просьбой разделить ее успех человеку, который более других верен ей. Этот человек — Висконти Саграморо, миланский посол во Флоренции. «Лудовико заверил меня, что намерения его самые лучшие. Он действительно желает возвратить себе нашу благосклонность. Когда мы выслушали его покорнейшую просьбу, то нам доставило удовольствие ее выполнить. Мавр уверяет нас в том, что впредь будет послушным и верным исполнителем всех наших повелений и намерений. Мы, заранее зная по многим свидетельствам о том, что он говорит и обещает от доброго сердца, соизволили принять его под наше благосклонное покровительство».
Лицо Чикко Симонетты выражает смятение ума и чувств. Не без труда переступил он порог кабинета герцогини. Как опытный дипломат, обладавший огромной интуицией, он сразу же понял и оценил весь грандиозный масштаб своего поражения. Бона попыталась было объясниться с ним, растолковать причины своего поступка. Впрочем, в тех же самых словах, с которыми она приструнила своих кондотьеров. Но Чикко резко оборвал ее, бросив в лицо горестный упрек:
— Ваша светлость, мне отрубят голову. Но вы потеряете государство!
Старый слуга дома Сфорца Чикко Симонетта предсказал свою судьбу и участь Боны. Лудовико среди прочих бумаг, составлявших договор с герцогиней, предложил ей на подпись текст публичного заявления, речь в котором шла о прощении и возвращении в Милан всех изгнанников. Таким образом, в миланский двор возвращались все те, на кого мог в дальнейшем опереться Лудовико. Речь шла о потенциальных заговорщиках. Разумеется, это массовое возвращение изгнанников было преподнесено народу как безусловная победа партии мятежников. Вполне логичным было предположить, что первый силовой прием этой партии — устранение Чикко. Однако вначале Лудовико сам попросил невестку, чтобы первый министр двора был всего-навсего удален от дел. Бона с радостью согласилась. Конечно, вендетта, так хорошо начавшаяся, не могла этим ограничиться.
10 сентября, всего три дня спустя по возвращении Мавра в Милан, Бона, забыв о всех своих прошлых заверениях, подписала декрет об аресте Чикко, его брата Джованни и их доверенного лица Орфео да Рикаво.
Принимая послов, пытавшихся осмыслить происходящее, Бона на вопрос о причинах опалы Чикко Симонетты, ответила с холодным лицемерием:
— Дурную траву, как говорится в народе, с поля вон. Следует устранить семя раздора!
Чикко и брат его 11 сентября были заточены в тюрьму Павии. Против них началась разнузданная кампания клеветы. Как всегда бывало в истории Италии, свергнутый диктатор побиваем камнями. В первых рядах всегда те, кто еще минуту назад были в числе самых льстивых куртизан. Катарина Сфорца, авантюристка, дочь Галеаццо, написала Боне письмо, в котором рассыпала перед ней похвалы за устранение тирана, «самого гнусного врага нашего дома». Гнев герцогов с неотвратимостью рока обрушился на всю семью опального первого министра. Дети и родственники — все были брошены в темницу. Они потеряли свое положение в обществе и все нажитое за многие годы. Имя, которое еще вчера внушало трепет, стало предметом насмешек и проклятий.
Суды синьории денно и нощно подвергали старика пыточным допросам. Несчастный, страдавший от подагры старик хранил достойное молчание перед лицом угроз и оскорблений. Теперь, когда он пал на самое дно, его обвинили во всех преступлениях и неблаговидных поступках, которые когда-либо случались в пределах герцогства.
— Признавайся! Хотел узурпировать власть в Ломбардии и стать властелином? — орали на него судьи.
— Я и был им — правда, по-своему. Для этого мне не нужно было узурпировать власть! — гордо отвечал Чикко.
Его обвинили в том, что он умертвил молодых Сфорца — Оттавиано и Сфорца Марию, в том, что он злонамеренно развязал череду бесконечных и дорогостоящих войн; затем в качестве главного доказательства обвинения ему предъявили для опознания толстую черную книгу — его дневник, — в которой Чикко осмелился обвинить Сфорца в чудовищных преступлениях, в политической слепоте. Симонетте вменялись в вину следующие строки в дневнике: «По смерти отца, основателя рода, Франческо, в Милане нет больше никого из этого рода, кто мог бы считаться достойным быть синьором этого города». Чикко писал о своем понимании того непреложного факта, что только благодаря его огромному государственному таланту стало возможным сохранить былое величие Милана вопреки никчемности всех его синьоров.
Именно за это понимание Чикко и отрубили голову 30 октября 1480 года на равелине павийского замка. На эшафоте он вел себя со спокойным достоинством. Отсеченная его голова скатилась с плахи только потому, что он не сумел скрыть своего глубочайшего презрения к герцогам, которым служил всю свою сознательную жизнь. Хотя всю жизнь презирал и ненавидел род Сфорца за его гнусное вероломство.
Вся семья Чикко была ввергнута в пучину бедствий: его жена, Элизабетта, от стыда, горя и отчаяния сошла с ума, брат его, выйдя из тюремного заключения, был отправлен в позорную ссылку.
Падение Чикко итальянские и чужеземные государи приветствовали с радостным энтузиазмом. Правда, они побаивались, как бы исчезновение с арены политика подобного калибра не подорвало зыбкое итальянское равновесие. Король Франции, в частности, был обеспокоен известиями о том, что Бона, действуя по наущению Лудовико Мавра, намерена заключить союз с неаполитанским королем Фердинандом. Людовик XI поспешил предупредить герцогиню, что ей следовало бы сохранять верность старым испытанным союзникам, Лоренцо Великолепному и венецианцам. В случае если Бона отойдет от своих союзников, предупреждал ее французский монарх, ему не останется ничего иного, как самому вступить в союз и с венецианцами, и флорентийцами, а также снарядить в итальянский поход герцога Орлеанского, который и не скрывает своих захватнических намерений насчет Милана. Опасения короля Франции разделили также Венеция и Флоренция, встревоженные сближением между Миланом и Неаполем. В попытке помешать ему они были готовы заключить союз даже с турками или же обратиться за помощью к анжуйской династии, приглашая ее совершить экспедицию в Италию. Можно было и договориться со швейцарскими наемниками, заплатив им за нападение на Милан.
Но у Боны уже был исчерпан запас времени, чтобы успеть провернуть все эти и подобные интриги. Она лишилась своего верного помощника Чикко Симонетты. И все это ради сближения с прекрасным юношей — Тассино. Однако Лудовико не преминул воспользоваться упрочением своих позиций и нанес ей удар в самое сердце, расправившись с ее фаворитом. Воспользовавшись ликвидацией Тассино с политической арены, Лудовико поставил под удар также и молодого Джана Галеаццо.
Лудовико обвинил Тассино в том, что он будто бы возглавляет антиправительственный заговор в самом Милане. Фаворит герцогини якобы собирался захватить замок штурмом, в то время как его отец будто бы уже договорился с врагами народа о дележе добычи. 7 октября 1480 года по наущению Лудовико Мавра гувернеры, приглядывавшие за молодым герцогом, — маркиз Паллавичино и Франкино Каими, — а также комендант замка Филиппо Эустаки изолировали Джана Галеаццо от матери, заточив его в башню под предлогом спасения его драгоценной жизни от кинжала конспираторов.
Бона наконец поняла, в какую адскую ловушку она угодила по своему легкомыслию. Лудовико принес ей на подпись письмо, будто бы составленное по поручению миланского герцога. Как регентше, Боне вменялось в обязанность визировать подобные письма. Подпись Боны под этим письмом, однако, означала, что отныне ее сын — узник, находящийся под охраной не солдат, назначенных Тассино, а гвардейцев Лудовико.
Антонио Тассино и сын Боны были, таким образом, изгнаны на десять долгих лет из политической жизни. Мавр оказался теперь в состоянии наглухо изолировать Бону от тех немногих лиц, которые все еще сохраняли ей верность.
Несчастный Тассино последовал в ссылку, не успев даже прихватить с собой необходимые в дороге вещи. 14 октября 1480 года он обратился с письмом к своему другу в Ферраре, попросив его собрать оставленные дома вещи и выслать их по указанному адресу. В постскриптуме он обращался к герцогине, укоряя ее за легкомыслие, по причине которого она потеряла всех верных ей людей.
«Прошу тебя передать низкий поклон Ее Светлости, — писал Тассино, — утешьте нашу госпожу по мере возможности».
Бона была не в силах скрыть свою любовь. Она знала, что своими руками разрушила все, что было ей так дорого. Она сама теперь оказалась на грани катастрофы. Несколько раз в отчаянии она писала Тассино, возмущаясь обманом и оплакивая свою участь.
Лудовико по прошествии всего лишь четырех лет борьбы, страданий, заговоров и интриг стал властелином герцогства. Теперь он могущественный, хитроумный, гениальный правитель — подлинный государь эпохи Возрождения.
Овладеть наследством, выпавшим из рук злополучного Джана Галеаццо, недоросля племянника, было делом техники. Однако Лудовико намерен упрочить свою власть благодаря тонкой интриге и ошеломляющей жестокости. Вполне в духе какого-нибудь шекспировского злодея. Лудовико плел нити интриг, чтобы затем явиться миру герцогом, облик которого должен быть окутан тайной и загадкой.
ГЛАВА IV Чехарда союзов
Лудовико изложил свои планы советникам. Со страхом, смешанным с восхищением, всматривались они в его смуглое лицо. Становилось все более очевидным, что наконец перед ними вождь, настоящий синьор Милана. По лицу его трудно догадаться, о чем он думает на самом деле. Глубоко посаженные быстрые глаза выражают постоянно одно чувство — волю к победе. Ему не исполнилось еще и тридцати, но в звонком голосе уже отчетливо слышна холодная металлическая нота. Это голос человека, привыкшего повелевать. Только что он отдал приказание обезглавить своего соперника на политическом поприще — Чикко Симонетту. Только что отстранил от власти свою невестку. Но он уже вполне готов приступить к перекраиванию карты союзов, служивших основой внешней политики Милана.
К Венецианской республике он не испытывает ничего, кроме отвращения. В последнее время итальянское равновесие зиждилось на союзе между Миланом Сфорца, Флоренцией Медичи и Светлейшей Республикой. Лудовико без колебания отверг этот шаблон. С трепетом и наслаждением вслушивается он в гулкую тишину, установившуюся в зале после его программного заявления. Таков его стиль. Он великий искусник. Умеет выдержать паузу. Впоследствии, в ходе беседы с флорентийским послом, глядя прямо ему в глаза, он поставил вопрос:
— Что случилось бы, останься Венеция в одиночестве?
О, сам-то Лудовико прекрасно знает, что случилось бы, именно этого он и желает: Милан сблизился бы с папой и неаполитанским королем. Именно с ними ведет Лудовико переговоры во имя «справедливого и прочного мира». Желая доказать королю Фердинанду серьезность своих намерений, Лудовико сделал своим кондотьером Сансеверино.
Лоренцо Великолепный весьма встревожен. Рушится система союзов. В этом и состоит цель беспринципной политики, проводимой Лудовико Мавром. С тех пор как Лоренцо удалось утопить в крови заговор Пацци, повесив трупы своих противников в оконных проемах в назидание флорентийцам, он повел себя как полновластный хозяин города. В то же время Лоренцо как никогда остро ощущал свое одиночество. Он попытался было повлиять на ход событий итальянской политики эпохи Возрождения, однако изо дня в день ему приходилось убеждаться в том, что опрометчивые шаги Лудовико Мавра и его самого опасного врага папы Сикста IV и неаполитанского арагонца опрокидывают все его начинания.
— Я не желал бы отказываться от союза с Венецией, — заявил Лоренцо, обращаясь к Совету, и в голосе зазвучала искренняя тревога.
Тем не менее он был вынужден предъявить Совету письмо, которое Лудовико написал ему 7 ноября 1479 года. В своем послании Лудовико предупреждал Лоренцо о превратностях пути, который, по его мнению, неизбежно привел бы Флоренцию к гибели, а других итальянских государей поставил бы на грань катастрофы. При этом Мавр лицемерно подчеркнул, что сам он весьма сожалел бы, обернись дело таким зловещим образом. Итак, синьор Милана потребовал от Лоренцо оставить всякую мысль о союзе с Венецией.
Однако Лоренцо был политиком слишком искушенным в интригах, чтобы не понять: кое-что и в самом деле изменилось в системе итальянского равновесия. Венеция переживала полосу трудностей, и было бы бесполезно закрывать на это глаза.
— Война слишком затянулась, и в этом главная опасность, — продолжал Лоренцо свое обращение к Совету. — Если война еще продлится, то я не берусь удержать в повиновении флорентийцев. Желая жить наконец спокойно, они пойдут на все, чтобы прекратить войну, и выбьют государство из моих рук.
Посол короля Франции в Неаполе Пальмье, тонкий и ловкий политик, ощущавший себя в обстановке интриг как рыба в воде, писал Лоренцо: «Король Неаполя готов подписать мир. В отношении Флоренции он настроен положительно и ожидает вашего визита с нетерпением, чтобы обсудить условия продолжительного и взаимовыгодного сосуществования».
Лоренцо и не мечтал, что ему представится случай воспользоваться столь щедрым подарком благосклонной фортуны. Теперь он мог сыграть роль арбитра судеб Италии. 6 декабря 1479 года в сопровождении пышной свиты Медичи оставил Флоренцию. В порту Пизы его уже ждали неаполитанские галеры, посланные Фердинандом. Неаполитанцы со всеми почестями встретили государя Флоренции. Прием был настолько великолепен, что даже привыкший к изыскам Медичи, сам умевший устраивать великолепные празднества и обеспечивать ликование народных толп, человек, воспитанный на Полициано и Пульчи, был потрясен и растроган.
Король Фердинанд встретил Лоренцо самым сердечным образом. Неаполитанский монарх повел себя по всем правилам дипломатического искусства. Внешне чрезвычайно, быть может, чуть-чуть сверх меры дружелюбный, он умел, когда надо, быть жестоким и неуступчивым.
— Мы не намерены отступать с территорий, занятых нашими войсками, — заявил он Лоренцо. — Бывшие флорентийские владения, занятые моими войсками, отныне считаются моими владениями и собственностью сьенцев — моих союзников. Кроме того, Неаполь сохраняет за собой свободу действий в том, что касается государей Романьи. Генуя же должна быть основным членом новой лиги.
Медичи потрясен, но вынужден признать, что иного выхода у него нет. Папа Сикст IV по-прежнему его заклятый враг и предпримет все что угодно для того, чтобы сбросить Медичи с трона. Единственный способ нейтрализовать его враждебные выпады — пойти на соглашение с Неаполем. Кроме того, Лоренцо прекрасно осведомлен о том, что флорентийцы устали от войны. Последние поражения, а главное — потеря Поджи-Бонзи и Коль-Валь-Д’Эльса, ввергли народ в отчаяние. Флорентийцы уже во весь голос требуют мира. Вернуться во Флоренцию с пустыми руками, не оправдав народные чаяния, было бы крайне опасно. Вот почему Лоренцо согласился на тяжелый компромисс.
На этот раз, однако, о своем несогласии заявил Лудовико Мавр. Его послы-соглядатаи в самых тонких подробностях разъяснили ему, каким образом проходят переговоры при неаполитанском дворе. Лудовико дал волю своему гневу:
— Нет, я не могу одобрить сговор, который эти люди задумали в ущерб Милану! Не мне отказываться от основных завоеваний миланской политики, от достигнутого за последние пятьдесят лет. Генуя всегда была в сфере влияния миланских герцогов. Если она войдет в новую лигу на правах полноправного члена, то, таким образом, генуэзцы еще возомнят, что они и в самом деле имеют право на независимость. Нельзя также и предоставлять неаполитанскому королю свободу действий в Романье. Милан неизменно имел свои собственные интересы, чтобы оставить эту область такой, какая она есть, — разъединенной, расчлененной, ослабленной. Главное — сохранить наш контроль.
В большой тревоге Мавр писал письма своим послам в Неаполь — Пьетро да Калларате и Анджело Таленги. Он потребовал, чтобы послы настаивали на соблюдении интересов романьольских синьоров, препятствовали вступлению Генуи в новую лигу. Кроме того, Лудовико был вынужден также считаться с пожеланием папы. Сикст IV понимал, что Лоренцо еще слишком силен в своих пределах. Весьма неохотно он снял свое требование об удалении Великолепного из Флоренции. Однако в одном пункте папа проявил неуступчивость. Если Медичи желает мира, то пусть совершит покаяние. Он должен понести наказание за свое высокомерие. Пусть придет в Рим пешком!
Сложное переплетение итальянских интересов побуждало всех, за исключением Мавра, искать мира. Даже воинственный король Неаполя осознал, что ситуация сложилась взрывоопасная. Он хотел бы избежать обострения. Мир был необходим как воздух!
— По всему видно, — утверждал он, — что мы скользим по наклонной плоскости к войне.
Действительно, Лудовико 25 января 1480 года приказал своим послам в Неаполе выждать еще дней десять, а затем оставить город: пусть переговорщики обсуждают свои проблемы без него. Фердинанд имел немало причин к беспокойству. 17 февраля стало известно, что герцог Луары, претендент анжуйской династии на неаполитанский трон, уже на пути в Венецию.
— Даю еще восемь дней послам до окончательного отъезда из Неаполя, — распорядился Лудовико, — затем я буду вынужден согласиться с теми предложениями, которые выдвигает Флоренция. Мы возобновим наш с ней союз и направим войска в Тоскану.
Все понимали, что продолжение войны невозможно, и предпочли подписать соглашение. Тот же Сикст IV отказался от своей жесткой и непреклонной линии. Он уже не требовал сатисфакции от Медичи. Достаточно, чтобы на совещании итальянских послов, призванных подписать договор о мире, его представитель дал развернутое объяснение причин, которые вынудили римского первосвященника бросить перчатку. Лоренцо выехал из Неаполя 27 февраля, пробыв там почти три месяца. Соглашение было подписано. Послы Лудовико сделали все возможное, чтобы возобладала точка зрения их синьора. И отчасти им это удалось. Генуя не была допущена в новую лигу, а это означало, что она по-прежнему в сфере влияния миланского дома. Неаполитанцы тоже не остались внакладе. Они не должны были возвращать оккупированные тосканские территории и сохранили свое влияние в Романье. Договор был подписан 13 марта 1480 года. Мир был «опубликован» 25 марта при великом ликовании народов.
Леонардо Ботта, посол Милана в Венеции, взволнован и расстроен. Лицо его приобрело какой-то землистый оттенок. Казалось, этот опытнейший дипломат испытывает приступ лихорадки. Дрожащей рукой взялся он за перо, чтобы написать свой отчет, который самый быстрый курьер должен доставить в замок Сфорца. Волнение представителя миланского герцога в Венеции вполне обоснованно. Произошло событие весьма неприятное: 26 апреля 1480 года — но послу об этом стало известно только сегодня, десять дней спустя, — был заключен союз между римским первосвященником и Венецианской республикой.
С невероятным трудом Ботте удалось восстановить ход событий. Сикст IV с большой неохотой был вынужден согласиться на мартовский мир, да и то только потому, что не желал выслушивать обвинения в недостаточном миролюбии. Папа был крайне раздражен новым политическим укладом, возникавшим на полуострове.
Более всего раздосадовало его то, что он, папа, вынужден оставить безнаказанным наглеца Медичи, спустить Великолепному его спесь. Папа полагал, что новый «универсальный союз» вреден сам по себе, так как в нем участвуют и Милан, и Флоренция, и Неаполь. В результате ловкого маневра папа решил переориентироваться на венецианцев, которые были исключены из лиги. Переговоры о союзе с венецианцами велись в обстановке строгой секретности. Даже внимательный Ботта ни о чум не догадался. И сын короля Неаполя, Альфонсо Арагонский, на которого Лудовико несколько дней спустя обрушил град вопросов, тоже, как это ни странно, ничего не знал. Лудовико Мавр был взбешен из-за столь неожиданного развития ситуации.
Джульяно делла Ровере, родственник папы, был политиком, обладавшим колоссальной энергией. Пламенный взор, прямая нервная поступь — все источало силу и уверенность. Будущий папа Юлиан II был направлен Сикстом IV с «информационной миссией» — объяснить дипломатическую ситуацию королю Франции Людовику XI. Король выслушал папского легата с известной долей скептицизма, сдобренного изрядной долей иронии: французский король давно, правда отстраненно, следил за развитием положения на Апеннинах. Король вел себя как осторожный хищник в засаде, зная, что в любой момент он должен успеть броситься на жертву. В Италии давно пора навести порядок. Но в данный момент король заинтересован только в одном: никто из соперничающих итальянских государей не должен обладать властью в таком объеме, чтобы попытаться подчинить себе других. Вот почему авансы неаполитанцев встревожили его, а эта новая выходка папы, желавшего поставить неаполитанцев на место, вполне пришлась ему по вкусу.
— Сир, — обратился к королю Джульяно делла Ровере, — Милан и Флоренция соединились в союз с Фердинандом, так как намерены объявить его королем Италии. Его Святейшество искал соглашения с Венецией, дабы воспрепятствовать господству новой лиги на Апеннинах, да еще под эгидой неаполитанского монарха.
Людовик удовлетворился этим объяснением. Неважно, по предварительному ли сговору или по той причине, что маневр папы застиг участников лиги врасплох, но три государства — Милан, Флоренция и Неаполь — заключили новый союз, подписанный 25 июля 1480 года. За всем этим дипломатическим хитросплетением стоял, разумеется, Лудовико Мавр, внимательный и осторожный поборник равновесия, политик, пытавшийся создать такую политическую ситуацию, которая способствовала бы утолению его жажды власти.
Посольство Джульяно делла Ровере оказалось на редкость удачным. Король Франции отказался ратифицировать новый мирный договор и выразил открытую неприязнь королю Фердинанду.
— Куда заведет папу его непомерный аппетит! — воскликнул Мавр в приступе дурного настроения.
Сикст IV действительно повел себя как существо алчное и ненасытное. У него свой протеже — Джероламо Риарио. Любой ценой папа намерен выкроить ему хоть какое-нибудь государство в Романье или в Марке. На первых порах Риарио пытался отвоевать себе Пезаро, намереваясь изгнать оттуда Костанцо Сфорца, сына Алессандро. Но твердая позиция Милана и Неаполя заставила его отказаться от этой затеи. Тогда Риарио повернул на Форли. Этот факт уже можно было рассматривать в качестве генеральной репетиции действенности только что подписанного союза между папой и Венецией. 9 августа 1480 года они ратифицировали «водворение» Риарио в качестве синьора этих земель. Подобное событие вполне могло считаться прелюдией к войне. Механизм нового военно-политического союза вот-вот должен был заработать. Однако Риарио и папе повезло, так как именно в этот тревожный момент вся Европа была охвачена волной паники. Турецкий султан перешел в наступление, и неаполитанский король, потерпевший жесточайшее поражение в Апулии, не имел достаточного времени, чтобы во всеоружии встретить провокационные стычки между итальянскими государями.
Магомет II Завоеватель, великий оттоманский султан, бросил свои войска на Апеннины. 28 июля на южном побережье под командованием Ахмет-паши, орудовавшего до сих пор в албанской Валлоне, высадились турки. После непродолжительной осады 11 августа они захватили Отранто. Вся Италия оказалась в опасности. Однако было весьма сомнительно, что итальянские государи сумеют объединиться для отпора нашествию. Именно сейчас они были в ссоре, готовя друг другу ловушки, расставляя западни, подсиживая один другого. Им было некогда помышлять о борьбе с общим врагом.
Фердинанд Арагонский был обескуражен двурушничеством и предательством флорентийской синьории, формально числившейся в его союзниках.
— Мне стало известно, — имел случай сказать неаполитанский монарх, — что Лоренцо Медичи приказал отчеканить медаль в честь Магомета Завоевателя. И знаете, кому он поручил заказ? Одному из самых достойных своих мастеров — Бертольдо ди Джованни! Медаль была вручена турку в качестве памятного дара в честь великого события — высадки в Италии! В моих владениях! Еще вчера Лоренцо льстиво уверял меня в своей дружбе. Медалью же он пожелал увековечить турецкую победу на итальянской земле!
Быть может, Фердинанд и преувеличивал значение этого поступка Медичи, но вне сомнения тот факт, что Лоренцо, равно как и другие итальянские государи, действовал с полным цинизмом. Многие в то время полагали, что именно он, Лоренцо, накликал турок в Италию. Поводом для таких предположений была особая стилистика памятной медали, на лицевой стороне которой был отчеканен профиль Магомета II, на оборотной же стороне — символическая фигура триумфатора, стоящего на колеснице, влекомой двумя конями. Триумфатор — бог войны Марс, вожжи в его руках. За спиной военные трофеи, символизируемые обнаженными женскими фигурами, скованными одной цепью, — три завоеванные империи. Их названия четко и точно обозначены на медали: Азия, Трапезунд, Греция. Надпись вокруг медали гласила: «Магомет — император Азии, Трапезунда и Великой Греции». Весь этот символический ряд должен был, судя по всему, означать, что Лоренцо Великолепный, даритель медали, с великой симпатией взирает на турецкую кампанию в Апулии. В самом деле, взгляд триумфатора был обращен на юношу, которого он поддерживал левой рукой. Юноша символизировал гения доброй удачи. Юноша в вытянутой левой руке держал кубок, наполненный вином. Все было предельно ясно: Лоренцо желал турку успехов на поле брани. Он считал его воителем, готовым одержать новые победы.
Ничего, кроме страха, не могли вызвать подобные аллегории при арагонском дворе. В Неаполе сложилось убеждение, что любой итальянский государь вступит в союз с турками, лишь бы подорвать влияние своего соперника.
Двенадцать самых известных и славных флорентийских граждан были снаряжены в посольство, значение которого трудно было переоценить. С робкой почтительностью переступили они порог папского дворца. Оказанный им прием, казалось, не сулил ничего хорошего. Папа повел себя угрожающе. Однако со временем сменил гнев на милость. В ноябре 1480 года Сикст IV, опасаясь дальнейшего продвижения турецких войск в глубь Италии, поспешил заверить послов Флоренции в своем намерении примириться с Лоренцо Великолепным.
Панические настроения в Италии улетучиваются так же быстро и бесследно, как и появляются. В четверг 3 мая 1481 года в час полуденной молитвы, ближе к четырем часам, сорокадевятилетний Магомет Завоеватель испустил дух. То был час, находившийся под влиянием Марса, отметили в своих хрониках оттоманские историки. Ушел из жизни прославленный воин. Известно, что всего лишь через два года после восшествия на престол, в 1453 году, ему удалось завоевать Константинополь, последний оплот Восточной Римской империи. Усовершенствовав свое военное искусство, Магомет расширил свои владения за счет Греции, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, вторгся в пределы Венгрии и, действуя при помощи передовых отрядов в самом сердце Фриули, вышел на побережье Апулии. Ему удалось создать в своей империи такую организационную и административную структуру, которая практически без изменений смогла просуществовать на протяжении почти четырех столетий, будучи постоянным кошмаром пап и императоров, государей-тиранов и демократических республик. В час, когда Завоевателя подстерегла смерть, правители всего мира и Италии в особенности — почувствовали невыразимое облегчение. 10 сентября неаполитанская корона вновь установила контроль над Отранто.
В то время как итальянские государства были вовлечены в перекройку системы союзов, сопровождавшуюся беспрецедентной по тем временам пропагандистской шумихой, горестная судьба Боны Савойской, миланской герцогини и матери Джана Галеаццо, близилась к своему завершению.
21 февраля 1480 года, наивно доверившись Лудовико Мавру и позволив ему уничтожить всех своих близких друзей, Бона наконец осознала, что она в западне. Король Фердинанд сообщил ей, что, по его мнению, герцогиня «живет по воле других», иными словами — она стала марионеткой в руках опытного кукловода.
Прекрасные черты Боны исказило страдание. Попытки оправдаться, чувство бессильного гнева и сожаления об упущенных возможностях теснили ей грудь. Бона попыталась было объяснить неаполитанскому королю причины, вынудившие ее поступать так, а не иначе: «Вы не правы, я вовсе не марионетка. Я всегда желала и по-прежнему преисполнена желания оставаться миланской герцогиней. Самая главная моя забота — управление ходом государственной жизни. Мое стремление — заботиться наилучшим образом о том, что, по внушению Господню, является благом как для меня, так и для моих подданных».
Бона обеспокоена тем, чтобы отвести от себя обвинения в том, что она превратилась в бессловесную игрушку в руках деверя, в человека, с которым уже никто не считается. Но, увы, в глубине души она сознает, что подобные обвинения небезосновательны. «Я не позволю другим командовать мной. Если и складывается впечатление, будто я действую по чьему-то наущению, будто кто-то управляет мной, то это, возможно, только оттого, что все мои поступки предпринимаются при соучастии тех, в ком я ценю разум, обдуманность поведения, долголетнюю преданную службу и верность мне и герцогству».
Обходя затихшие гулкие залы на своей половине замка, Бона все чаще замечала, как мало осталось рядом с ней верных людей: один за другим исчезали они из поля ее зрения согласно приказам Лудовико Мавра. Свою политику он проводил с неукоснительным постоянством. Он преднамеренно, изо дня в день окружал Бону пустотой. Где последние из преданных ей людей? Где Джорджо дель Маино, Луиджи Беккетто, Амброджо Грифоло? В молодости к ней жестоко и без должного уважения относился муж, предпочитавший проводить свободную минуту в окружении наложниц, заполонивших двор. Бона пережила и это, и его убийство. Она исстрадалась, видя, как сын стал пленником в своем герцогстве. Она потеряла всех друзей. Ей казалось, что она вот-вот сойдет с ума.
— Милый синьор, ваша мать слишком взволнована, она находится под влиянием интриганов, — обратился к своему племяннику Лудовико. — Постарайтесь уговорить ее отказаться от их услуг. Нужно сделать так, чтобы вокруг нее оставались только по-настоящему преданные ей люди.
Молодой герцог направился в апартаменты матери, чтобы сообщить ей о последнем решении Мавра. Джан Галеаццо тоже был крайне встревожен, не в его правилах было бросать вызов герцогине-матери. Он знал, что, несмотря на многочисленные унижения, которые она претерпела, у нее еще достаточно сил и энергии, чтобы поставить в трудное положение своих врагов.
— Синьора, верные тебе люди слишком вовлечены в заговоры, которые на протяжении ряда лет терзают наше герцогство. Следует, чтобы ты отказалась от их услуг. Мы сами предложим тебе доверенных лиц, на которых ты сможешь положиться.
Лицо герцогини вспыхнуло от гнева. Она поняла: вокруг нее одни предатели, люди, которые ее ненавидят. Но она не ожидала, что даже родной сын присоединится к своре ее врагов.
— Как вы осмелились?! Ведь я все еще синьора Милана, на мне регентство! Я не девчонка какая-нибудь, за которой нужен глаз да глаз. Я уже давно в одиночестве. Вы убили, отправили в ссылку людей, которые были мне всего дороже. Всякий раз я была вынуждена соглашаться. А теперь хватит! Это уж слишком! Глава правительства — я! Назначаю и увольняю министров тоже я! На этом стою и буду стоять!
Взрыв сильного чувства. Дальше — пустота. Не успел сын выскользнуть за дверь, как ноги ее подкосились. Мать не выдержала ужасного нервного напряжения. Губы ее мелко дрожали. Голова словно скована стальным обручем. Она не знала, как ей быть. И это незнание лишило ее воли сопротивляться. Чем меньше она сознавала себя как личность, тем выше поднималась в ее груди волна страстного желания забиться в угол, покинуть эту проклятую страну, в которую она попала по воле судьбы. О, как желала она возвратиться к себе на родину, туда, где счастливо и безоблачно протекли годы ее детства и отрочества, — в Савойю, в Пьемонт! Стоит только попросить французского короля оказать ей гостеприимство…
— Нет, синьора, вы не вправе покинуть нас. Что скажут итальянские государи? Ваш отъезд нанес бы непоправимый ущерб государству.
Мавр, видевший в Боне последнее серьезное препятствие на пути к абсолютной власти, вполне искренне уговаривал ее остаться, хотя бы на время. В его интересы не входило, чтобы Бона стала изгнанницей. Гораздо полезнее подержать ее при дворе на правах марионетки, полностью лишенной какой бы то ни было власти и неспособной навредить ему. Ее присутствие к тому же было бы своего рода фасадом, за которым Мавр мог бы в полной безопасности продолжить плетение своих интриг.
Но Бона, выслушав лицемерные заверения и откровенные угрозы своего деверя, выплеснула прямо в лицо ему весь свой гнев, всю свою горечь и слезы, все свое негодование. Она умоляла проявить к ней милосердие. Она проклинала его. Но она была всего лишь тенью той великолепной и неприступной синьоры, которая еще так недавно была гордостью миланских простолюдинов.
— Прекратите, наконец, истязать меня, иначе я закричу! Да, подойду к окну и призову на помощь народ. Пусть он освободит меня. Народ еще не разлюбил меня. Он откликнется на мой призыв. Он восстанет против врагов своей любимой госпожи. Но если и это мне не удастся, то, клянусь, я выброшусь из этого же окна. Брошусь головой вниз с самой высокой миланской башни! Я убью себя, и тогда синьоры Италии узнают, кто мой мучитель, кто совершил надо мной самую гнусную пытку!
Мавр спокойно выслушал ее. Он был до крайности удовлетворен сценой. Ни один мускул не дрогнул на его смуглом лице. Единственное, что еще беспокоило его, так это куртизаны. Наверняка подслушивали под дверью и каждое слово запомнили!
— Ну вот видите, — обратился он к советникам, — эта женщина совсем обезумела. Она невменяема и не несет ответственности за свои поступки. Следовало бы позаботиться, чтобы, не дай Бог, она не совершила чего-нибудь ужасного. Что бы она ни сделала, во всем будем виноваты мы — герцогство.
Наконец Лудовико счел возможным представить в качестве последнего решения Боны то, что, собственно говоря, и входило в его планы:
— Что же, если вам так не терпится покинуть нас, на то ваша воля. Но помните, что вы покидаете нас по собственному хотению, вас никто не гнал отсюда.
Лудовико распорядился, чтобы Джан Галеаццо сам предложил матери поселиться в замке Аббьятеграссо в качестве пленницы, окруженной неслыханной роскошью, имевшей право на ренту в 25 миллионов дукатов в год. Он разрешил ей взять с собой драгоценностей на 50 тысяч дукатов. Более того, Мавр сделал герцогине подарок в 10 тысяч дукатов.
— Я бы хотела укрыться в Пьемонте, — все еще настаивала Бона, опасаясь, что Мавр вынашивает планы ее убийства.
Но в конце концов ей пришлось уступить. Герцогский нотариус почтительно вошел в ее опочивальню 2 ноября 1480 года и предложил вниманию герцогини аккуратный свиток. В документе был сформулирован ее отказ от регентства и от опеки над сыном. Росчерк пера — и Бона превратилась из герцогини в простую гражданку. В сопровождении небольшой свиты Бона удалилась в Аббьятеграссо. Покидая город, она оглянулась: в глазах ее стояли слезы. Прощай, дорогой Милан! В душе еще теплилась надежда, что когда-нибудь она возвратится в эти пределы. Но умом Бона понимала, что ошибки, совершенные ею после смерти мужа, сделали возвращение в Милан маловероятным.
Ведь она, Бона, не проронила ни слова в защиту Симонетты, не выступила против его смертной казни. Она смирилась с тем, что отправили в ссылку ее возлюбленного Тассино. Она сама позволила отнять у себя сына. Она оказалась не в состоянии выпутаться из цепкой паутины, в которую заманил ее Мавр! Единственное, что оставалось ей теперь, — сожалеть о безвозвратно ушедших годах, доживать дни в окружении предательниц приживалок и шпионов, расставленных на каждом шагу. Бона замуровала себя заживо, и одиночество ее будет гораздо страшнее того кошмара, который она пережила в замке среди заговоров и интриг.
Герцогские советники испытывали сострадание, глядя на молодого белокурого герцога, созвавшего их в одном из самых больших залов замка. Зловещая тень дяди Лудовико нависла над ним.
— Я пригласил вас сюда, — выдавил из себя Джан Галеаццо, — чтобы рассмотреть вопрос о правлении нашим герцогством.
Последовала долгая и мучительная пауза. Все чувствовали себя как-то неловко, ибо знали, зачем они собрались сегодня.
— Мать моя удалилась от двора. По причине моего малолетства мне необходимо назначить опекуна. Перед нами важные решения, а принять их возможно только при должном руководстве.
Нотариус огласил завещание Галеаццо Марии. Покойный герцог распорядился таким образом, чтобы регентство до достижения его сыном совершеннолетия пребывало в руках матери. В случае препятствий или ее отказа регентом должен быть назначен один из братьев Галеаццо. Все внимательно посмотрели на человека, неподвижно стоящего за герцогским троном. На лице его — всегдашнее загадочное выражение. Лудовико знал, что выбор падет на него, и, не мешкая, заявил о своем согласии, едва племянник взглянул на него вопросительно. Нотариус записал скрипучим пером необходимую формулировку, в силу которой Мавр обретал полноту власти: «В связи с отъездом моей достопочтенной матери желаю, чтобы синьор Лудовико, мой дядя, стал мне опекуном».
Члены герцогского Совета, мягко говоря, испытывали замешательство, пытаясь объяснить удаление Боны троим послам савойского герцога, срочно прибывшим в Милан.
— Наш синьор Филиберт Савойский воспринял данное решение герцога Миланского как личное оскорбление. Вы должны предоставить нам возможность встретиться с герцогиней.
— Синьоры, вы рассуждаете в неподобающем тоне, — заявил один из наиболее авторитетных членов Совета. — Мадонна Бона приняла решение по своей воле. Мы с уважением отнеслись к ее желанию, хотя и весьма сожалели о нем. Герцог и монсиньор Лудовико сделали все, что было в их силах, чтобы удержать ее, однако, не преуспев в этом, назначили ей значительное содержание. Никто не вправе препятствовать герцогине в осуществлении добровольно принятого решения.
Савойские послы поклонились в знак согласия. Разумеется, они не поверили ни одному слову, но объяснение было принято.
— Твой мать слишком одинока, синьор мой, тебе следовало бы писать к ней как можно чаще.
Лудовико держал себя как заботливый родственник, старавшийся окружить отеческим теплом своего племянника. В Милане все должны знать, что он относится к детям своего брата как к своим собственным. Мавр вежлив и почтителен не только в отношении к Джану Галеаццо, он не обделил вниманием также других своих племянников: прекраснейшую Бьянку, цветущую отроковицу Анну, резвого и подвижного Эрмете. У Боны сохранились соглядатаи в Милане, так что, пребывая в изгнании, она прекрасно знала о том, как деверь относится к ее детям. Ей даже показалось, будто она ошиблась, считая Лудовико злодеем. Судите сами: когда она заболела и попросила прислать к ней придворного врача Джованни Марлиано, просьба ее была исполнена без промедления. Теперь она чувствует себя даже свободнее, да и настроение улучшилось. Нет той нервозности, когда она была вынуждена заниматься сложными делами государства. Разве что одна неприятность — досаждают финансовые инспекторы, насылаемые из Милана. Они почему-то убеждены, что она замыслила перевести в Пьемонт все свои деньги и драгоценности. Вот и следят за каждым ее шагом.
Что ж, пленение оказалось не таким страшным, как ей представлялось накануне. Чтобы немного рассеяться, Бона совершала продолжительные прогулки в окружении немногих доверенных лиц. Дважды в течение 1481 года Лудовико без предупреждения посетил Аббьятеграссо. Предлог — посоветоваться о ведении дел. Правда, влияние Боны было столь незначительно, что могущественный деверь даже разрешил ей посещать изредка Милан. Разумеется, ненадолго, всего на несколько дней. Но ей и того было довольно, чтобы обновить гардероб, пополнить свою коллекцию редких шелков. И тем не менее Бона чувствовала себя все более одинокой. Она беспричинно грустила. Главное, что угнетало ее, — чувство собственной беспомощности и никчемности.
Избавившись от Боны, Мавр приступил к ликвидации еще одного препятствия на пути своего восхождения к вершинам власти. Речь идет о привычке капитанов-наемников действовать по своей прихоти и произволу. С потрясающей непринужденностью переходили они от одного синьора к другому, развязывали войны по своему усмотрению. Правда, в этих войнах, скорее похожих на стычки, бывало очень мало убитых, но зато ущерб, причиняемый грабежом и насилиями, был непомерно велик.
— Среди прочих кондотьеров самый невыносимый — Сансеверино, — повторял в раздражении Лудовико.
Роберто Сансеверино, полагая, что его таланты недостаточно высоко оценены, 13 сентября 1481 года оставил службу при миланском дворе и предложил свои услуги Венеции. Непосредственная цель этой выходки — навлечь на своего бывшего хозяина как можно больше неприятностей. Для начала Роберто занялся натравливанием Пармы на своего бывшего герцога. Всем было известно, что всесильный феодал Пьер Мария дей Росси, хозяин Пармы, мечтал освободиться от миланского засилья.
— Одумайся, возвратись к нам, — обратился Лудовико к Роберто, — и ты станешь самым уважаемым капитаном нашей синьории. Ты получишь сказочное жалованье!
В ответ раздраженный кондотьер приказал арестовать послов Мавра.
— Этот Лудовико сумел справиться с бабой, своей невесткой. Но, можете не сомневаться, со мной ему не совладать! — заявил он, ехидно ухмыляясь.
Мавр рассвирепел как дикий зверь. Он созвал своих лучших капитанов — Костанцо Сфорца, синьора Пезаро, и Джанджакомо Тривульцио. Был отдан приказ — доставить Сансеверино в кандалах.
Решительность, с какой Лудовико парировал атаку Венеции, поставила Сансеверино в затруднительное положение. Он только ввел свои войска в Кастельново, а сам отправился за подкреплением. Однако акция Сфорца была столь молниеносной, что солдаты Роберто сдались на милость победителя, а жена кондотьера была взята в плен.
— Милостивый синьор, — обратился к Мавру секретарь, — нам следовало бы воспользоваться благоприятным случаем — проучить заодно и Пьера Марию Росси, покарать гордыню жителей Пармы.
— Вы правы, никак не удается добиться от них послушания, — нехотя согласился Мавр. — Тривульцио — великий кондотьер, но слишком тщеславен, из-за того и спорит со Сфорцо Вторым. Если они не достигнут согласия, то мы вскоре утратим преимущества своей победы. Кроме того, заметьте, Росси получает растущую поддержку со стороны Венеции. Воздух Италии пропитан войной.
В самом деле обстановка на полуострове утратила стабильность. Споры и разногласия среди государей вызывали обеспокоенность. Венеция, действуя в согласии с папой, начала войну против Эрколе I д’Эсте, герцога Феррары. План венецианцев хитроумен и циничен: приступить к разделу герцогства таким образом, чтобы венецианской синьории достались Модена и Реджо, а Сиксту IV — желанная Феррара. Причина столкновения на первый взгляд, казалось бы, самая незначительная.
— Вы не имели права взимать пошлину с наших судов, доставляющих по реке По товары в Ломбардию! — возмущались венецианцы.
Этот конфликт вызвал изменения в системе союзов итальянских государств. В защиту герцога Феррары высказались Милан, Флоренция и Неаполь. Их поддержали маркиз Мантуи и другие государи. На стороне агрессора, Венеции, выступили папа, Генуя, синьор Римини и Сьены. Во главе венецианской армии стоял Сансеверино, который горел желанием использовать эту войну, чтобы отплатить за личные обиды Лудовико Мавру. Роберто мечтал нанести Милану такую рану, от которой бы он не оправился. Федерико II Урбинский командовал войсками лиги. 2 мая 1482 года вся Паданская равнина превратилась в театр военных действий. Война была в самом начале.
Мавр был прав, предсказывая возможные последствия приватной неприязни, угрожавшей перерасти в широкий вооруженный конфликт. Сансеверино, разумеется, считал эту войну своим личным делом. Он с такой страстью принялся за осуществление своих планов, что без труда одержал первые победы в битве под Фикароло — замком на берегах По. Путь на Феррару был частично открыт, и венецианские войска подошли к стенам неприятельской крепости.
Несмотря на успехи своего союзника, папа переживал период серьезных трудностей. Угрожающее наступление армии Альфонсо Арагонского, сына неаполитанского короля, заставило его тревожиться за судьбы Рима. Тем временем Костанцо Сфорца и Никколо Вителли уже были у стен Читта-дель-Кастелло. Судьба папской власти оказалась в опасности. Сикст IV был спасен только благодаря вмешательству в конфликт одного из самых блестящих кондотьеров эпохи — Роберто Малатесты, синьора Римини. Вступив на территорию папского государства, он нанес поражение арагонцам в результате жестокой и кровопролитной битвы под Кампо-Морто на полпути между Анцио и Веллетри.
— Кажется, сам Господь вмешался в войну, — высказался Мавр в свойственной ему фаталистической манере. — Иначе трудно объяснить, отчего со сцены вдруг сошли двое из наиболее выдающихся капитанов.
И в самом деле случилось невероятное. 10 сентября в Болонье неожиданно умер герцог Урбино, командовавший войсками лиги. На следующий день ушел из жизни, погрузив римского папу в глубочайший траур, бравый вояка Роберто Малатеста. Разумеется, в народе стали поговаривать, что он-де был отравлен.
Сикст IV созвал свой Совет, чтобы выразить глубокую обеспокоенность неожиданным поворотом дел.
— Венецианцы уже на пути в Феррару. Из всех документов явствует, что этот город должен быть верен нашему попечительству. Однако оккупация Феррары венецианскими войсками практически неизбежна, и будущее этого города ужасно. Необходимо договориться с противником, прежде чем свершится непоправимое.
Перемирие, подписанное папой с королем Неаполя 12 декабря 1482 года, стало мирным договором.
Последние месяцы Лудовико Мавр был вынужден заниматься как внутриполитическими вопросами герцогства, так и проблемами, связанными с войной. Судьба Боны все еще вызывала немало кривотолков. 1 сентября 1482 года Людовик XI, король Франции, направил в Аббьятеграссо своего опытного дипломата де Виньи с поручением заявить герцогине, что в случае ее желания возвратиться в Милан она может сделать это без промедления. При этом Бона будет находиться под покровительством трона и оружия Франции. Мавр был в замешательстве. Бона возвратилась в столицу герцогства и потребовала назад драгоценности и деньги, которые были у нее отобраны.
— Правильно ли я поняла, — спрашивала Бона в опасении за свою жизнь, — что никто не вправе посягать на мой двор и я могу окружить себя теми людьми, какими пожелаю?
Де Виньи не только обещал это Боне, но и потребовал от Мавра, чтобы во всех официальных документах Бона по-прежнему именовалась «герцогиней Миланской». Однако в этом вопросе упрямый деверь не желал уступить.
— Я вовсе не требую возвратить мне регентство, — горячилась Бона. — Мне довольно и того, чтобы меня просто уважали.
По общему впечатлению итальянских государей, Мавр сосредоточил в своих руках огромную власть. Естественная реакция окружающих в подобных случаях та же, что и у своры охотничьих собак. В охоте на кабана именно они окружают загнанного зверя, доводя его своим лаем до изнеможения. В дележе добычи венецианцы уговаривали принять участие Тривульцио, бывшего самым любимым кондотьером Мавра. В то же время они науськивали семейство Росси из Пармы на миланского государя.
— До тех пор, пока я могу положиться на Тривульцио, мне нечего бояться, — гордо заявлял Мавр.
И действительно, блестящий военный талант прославленного капитана, а также выучка Марсилио Торелли пока удерживали всех врагов в стороне от границ герцогства. Все было бы хорошо, если бы не меделянская собака — Сансеверино, который не желал признать себя побежденным. Он по-прежнему совершал предательские набеги на земли герцогства.
— Только бы удалось подмять Сансеверино, — доверительно говорил своему послу Лудовико, — и дело сделано.
Внушительная армия под водительством герцога Калабрийского, Джанджакомо Тривульцио и самого Лудовико перешла в наступление на позиции ловкого и удачливого кондотьера в окрестностях Брешии. Пали Мартиненго, Палаццуоло, Кальчинато и Азоло. Одно время казалось, что Бергамо и Брешия вот-вот окажутся в руках Лудовико Мавра. В результате мощь и влияние Венеции пошли бы на убыль.
Милан, как представлялось, должен был одержать в этой схватке безусловную победу. Уже весь полуостров был так или иначе в нее вовлечен. Союзники съехались в ломбардийскую столицу 21 января 1484 года, чтобы обсудить и без того вполне очевидную ситуацию. Среди итальянских государей царил разброд. Король Фердинанд стремился заполучить как можно большую сумму на поддержание боеготовности своего флота. Ему было выгодно, чтобы война велась на море. Лудовико и другие государи полагали, напротив, что войну следует продолжать на суше.
— Неаполитанцы, — утверждал Лудовико, — желали бы, чтобы мы из своего кармана платили за их флот под предлогом поддержания его боеготовности ввиду возможных атак со стороны турок. Таков их эгоистичный и близорукий расчет.
Неожиданно к Мавру явился начальник придворной стражи. Он задыхался от волнения и никак не мог начать говорить. Тогда сам Мавр спросил его:
— Ты с вестью о заговоре против моей особы?
— Да, мой синьор, — пролепетал начальник придворной стражи. — Участники заговора — Луиджи да Вимеркате и исповедник мадонны Боны монах Уго. Они замыслили погубить тебя в храме Сант-Амброджо в день праздника нашего святого покровителя…
— Под пытку этого негодяя! Пусть сознается во всем!
Разумеется, признание вскоре было получено, как и всегда в подобных случаях. Раскрытие заговора было на руку Лудовико. Французы уже не могли протестовать. Без особого труда Лудовико отправил Бону в Аббьятеграссо. Все подозрения в связи с раскрытым заговором пали на эту коварную женщину, а также на Карла I Савойского, дядю Боны, и в конечном итоге на Венецию.
— Все указывает на то, что меня замыслили отправить на тот свет, — сетовал Лудовико на заседании Тайного совета герцогства. — Главное — мне стало известно, что Карл, герцог Орлеанский, намерен вторгнуться в наши пределы. Он давно уже претендует на Милан, равно как и калабрийский герцог Альфонсо Арагонский. Теперь, когда наш государь Джан Галеаццо готов взять в жены его дочь Изабеллу, он возомнил, будто я намерен отобрать трон его будущего зятя. Вот почему ему понадобилось убрать меня с пути. Только так он смог бы захватить герцогство. В подобных обстоятельствах мы не в состоянии вести войну. Венеция устала воевать. Голод и холод сковали ее силы. Мне уже дали знать, что венецианцы не прочь заключить с нами мир. Я решил согласиться на их предложения.
Не только миланские советники, но и все итальянские государи были потрясены этим неожиданным демаршем Лудовико. Неаполитанский король вообще пришел в ужас. Но Лудовико Мавр не слушал никаких советов. 7 августа 1484 года он подписал мир в Баньоло.
— Я подписал договор о мире, который осчастливит, и надолго, всех итальянцев, — заявил Мавр на церемонии. — Хотя не все чувствуют себя удовлетворенными…
Венеция получила Полезине и Ровиго, сохранив древние привилегии, которыми она пользовалась в Ферраре. Неаполь приобрел Галлиполи и земли, которые венецианцы оккупировали в Апулии и Калабрии. Разумеется, папа жаловался, что ему так и не удалось сколотить свое государство в Романье, дабы посадить там своего любимца Риарио.
Папа не просто жаловался, он даже умер в приступе гнева. Это случилось 13 августа, всего несколько дней спустя после подписания мирного договора, который он проклял. 20 августа на папском престоле его сменил генуэзец Джованни Баттиста Чибо — Иннокентий VIII.
Италия эпохи Возрождения не жила ни одного дня в мире. Лудовико был вынужден теперь противостоять троим могущественным противникам. Он угрожал Флоренции, которая желала занять Сарцано. Он подтверждал миланские права на Геную, должную, по представлениям папы, обрести независимость, ибо это была его родина. Он послал Тривульцио на переговоры с синьорами «серой лиги», возмущавшимися миланским засильем.
Неаполитанские бароны тем временем подняли мятеж против своего монарха, создав тем самым серьезную угрозу всему королевству.
— Зачем мы станем помогать неаполитанскому королю, столь ненадежному союзнику? — поставил вопрос Лудовико.
Немало времени прошло, прежде чем он решил направить в Неаполь войска, которые, соединившись с армией герцога Калабрийского, оказались под командованием графа Калаччио, Марсилио Торелли и Тривульцио.
В поддержку баронов, побуждаемый ненавистью к неаполитанскому королю, тотчас выступил папа. Вот почему самое первое столкновение, где должны были участвовать пришедшие в поддержку арагонской династии армии, предполагалось с папскими войсками. Именно по этой причине между военачальниками вспыхнули острые разногласия. Герцог Калабрийский был полон решимости атаковать Перуджу, город, дорогой сердцу папы римского. Герцог, таким образом, намеревался сосредоточить силу главного удара в этом направлении. В то же время Тривульцио настаивал, что следует двинуться на Рим и там дать решительный бой папским войскам. Тривульцио предполагал соединиться с корпусом Орсини, который уже вел вооруженную борьбу с папой, желая воспрепятствовать его планам послать на неаполитанский фронт своего кондотьера — кого бы вы думали? — Сансеверино!
В Монторио 2 мая 1486 года произошло сражение между неаполитанско-миланскими и папскими войсками. Правда, сражение это продемонстрировало отчетливое нежелание воевать как с той, так и с другой стороны, и в результате — факт, пожалуй, беспрецедентный в истории итальянских войн — не было ни убитых, ни раненых, были только синяки с обеих сторон и общая неясность: на чьей же стороне победа? Наблюдатели, случившиеся в то время на месте «сражения», полагали, что известным преимуществом в потасовке пользовались солдаты Тривульцио и калабрийского герцога. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы насмерть перепугать папу и вынудить его запросить мира. Тривульцио, получив пропускной билет, незамедлительно отправился в Рим и вечером 6 августа 1486 года уже был в папских апартаментах. Всю ночь напролет доказывал он правоту своего дела. Ему очень хотелось, чтобы новый папа признал его заслуги как великого дипломата. Задача эта ему удалась. Были приняты его условия мира, который и был подписан спустя пять дней.
Таким образом, сменявшие друг друга с головокружительной быстротой события привели к возникновению весьма хрупкой и ненадежной системы союзов. Главный побежденный — Сансеверино, которого римский папа приказал уволить со двора. Фердинанд сделал вид, что простил мятежных баронов. Но, по обычаям того времени, едва просохли чернила на мирном договоре, приказал казнить почти всех заговорщиков. Лудовико Мавр был встречен праздничным ликованием, как подлинный спаситель герцогства. Арагонский монарх преподнес ему в дар княжество Россано и устроил в его честь великолепное празднество, в котором участвовала сестра Лудовико — Ипполита Сфорца, герцогиня Калабрийская, жена Альфонсо Арагонского. В скором времени он выдал свою дочь замуж за Джана Галеаццо, несовершеннолетнего герцога-пленника.
В то время как Джан Галеаццо готовился стать счастливым супругом, Лудовико пожинал плоды своей хитроумной политики. С некоторых пор генуэзцы желали возвратиться «под сень покровительства герцога Миланского». Более всех этим возмущался Лоренцо Великолепный, который даже не скрывал, что предпочел бы восстановлению миланского господства над Генуей нападение на Италию короля Франции.
— Синьор, тебе следовало бы лучше обдумывать последствия своих начинаний. Не твое это дело — призывать в Италию великого короля и варварские народы. — Так в открытую епископ Асколи предупредил Лоренцо Медичи от имени папы.
Рим не желал, чтобы Медичи призвали французов на территорию Италии. Всем было прекрасно известно, что Карл VIII не задумываясь согласился бы стать синьором Генуи. Генуэзцы же, более всего опасавшиеся быть вовлеченными в подобное развитие ситуации, обратились к Лудовико Мавру, дабы он «распростер над ними свое покровительство». Король Неаполя был весьма доволен таким оборотом дела. Его симпатии к Мавру тем более возросли, что именно Милану он был обязан сохранением своего королевства, а «распростертое покровительство» Милана над Генуей воспрепятствовало бы вторжению французов.
Джан Галеаццо Сфорца имел от роду всего девятнадцать лет и к тому же был влюблен. Правда, он давно страдал оттого, что оказался марионеткой в руках всемогущего дяди. Его куртизаны настойчиво демонстрировали Джану Галеаццо портрет прекрасной девушки. Черты лица ее были загадочны и овеяны грустью. Это его кузина Изабелла, дочь Альфонсо Арагонского, калабрийского герцога, и его тетки. В мечтах об этом браке юноша нашел некоторое успокоение и на время забыл о своих огорчениях. Молодые обменивались наивными любовными посланиями. В отличие от принятых в то время династических браков помолвка между этими двумя юными и любящими сердцами соответствовала обоюдному желанию.
«Посылаю тебе этого прекрасного коня. Знаю, что ты страстный любитель верховой езды, — писала Изабелла в Милан своему суженому, восседавшему на злополучном герцогском троне. — Прошу тебя, Галеаццо, прими его в подарок и устремись на нем вскачь навстречу моей любви!»
Герцог, мысли которого были заняты лошадьми и охотой, бережно хранил эти любовные письма в драгоценной шкатулке. Долгое время шкатулка оставалась единственным спутником его жизни.
Джан Галеаццо был привлекательным юношей. Вьющиеся белокурые локоны обрамляли открытое честное лицо. В общении он был вежлив и предупредителен. Он вдохновлял музу поэта Бернардо Беллинчони.
В ноябре 1488 года в Неаполь из Милана прибыла пестрая толпа придворных, с тем чтобы доставить желанную невесту Джану Галеаццо. Среди придворных были Эрмете, младший брат герцога, Джованни Франческо Сансеверино, кондотьер, и четыреста пятьдесят дворян. На своем пути в Неаполь караван останавливался в Генуе, Ливорно, Остии, вызывая изрядное любопытство толпы. Посланники миланского двора имели лишь одно поручение: передать невесте, когда они встретятся с ней в Неаполе, что герцог сгорает от радостного нетерпения поскорее ее увидеть, ибо, как выразился сам Джан Галеаццо, «в любовь я вложил всю свою душу».
— Мы сделали все, что в человеческих силах, лишь бы это бракосочетание принесло молодым счастье, — гордо высказался о предстоящем событии Лудовико Мавр.
В самом деле, брачный контракт, подписанный 22 декабря, был чрезвычайно удачным. Неаполитанский король давал за Изабеллой 100 тысяч золотых дукатов — 80 тысяч наличными и 20 тысяч с рассрочкой платежа в течение следующего года. Великолепные бальные платья, золотые украшения, слитки драгоценных металлов, самоцветы были отправлены в Милан вместе с очаровательной представительницей арагонского дома. Изобилие даров поразило воображение современников. То была, пожалуй, самая пышная свадьба даже по меркам эпохи расточительства.
Внушительная свита сопровождала прекрасную Изабеллу на пути в Милан. Правда, невеста чуть-чуть осунулась, «выплакав все глаза», горюя о смерти недавно скончавшейся матери. В Генуе 7 февраля 1489 года она наконец встретилась с нетерпеливым женихом и его дядей, Лудовико.
— Поистине сказочная красота! — воскликнул Мавр, протянув ей навстречу руки.
Свадебный кортеж ненадолго задержался в Аббьятеграссо, где Бона обняла невестку. Но сердце этой женщины сжималось от горьких предчувствий. Затем на особом, празднично украшенном корабле — бучинторо — молодожены прибыли в Милан. Народ с ликованием приветствовал их на улицах и площадях города. Бучинторо медленно причалил к набережной Сан-Кристофоро близ Тисинских ворот. Весь город был пышно украшен. Замок напоминал жилище сказочных королей. Из окон и с балконов свешивались ярко-голубые полотнища, увитые причудливыми гирляндами из лавра и мирта.
Бьянка Мария, блистательная сестра герцога, обняла невестку и препроводила ее в апартаменты, специально подготовленные для новобрачной. На следующий день весь Милан с раннего утра уже был на Соборной площади, чтобы засвидетельствовать свою любовь и преданность жениху и невесте, получившим благословение епископа и совершившим обмен обручальными кольцами.
Но вскоре мрачные тучи застлали горизонт семейного счастья молодоженов. Герцог все более нервничал, неожиданно лицо его покрывала мертвенная бледность. Он почувствовал себя в опасности. Здоровье его было хрупким. Язвенная болезнь, подорвавшая его силы в 1483 году, не проходила. Он был приговорен соблюдать строжайшую диету. Два дня продолжался свадебный пир при дворе Сфорца. Герцог почувствовал себя скверно к исходу второго дня. Лудовико пришлось прекратить балы и банкеты. И было ему ужасно больно и грустно видеть своего любимого племянника, сидевшего за столом со страдальческим выражением лица. Невеста тоже с каждым часом чувствовала себя все хуже.
Многие полагали, что счастливо исполняемый супружеский долг придаст сил герцогу. Однако куртизаны заметили, что с каждым днем он страдал все больше. В поведении герцога обозначилась какая-то нотка неуверенности. Он бесцельно бродил по опустевшим залам замка и к месту и не к месту осыпал своего дядю благодарностями за то, что тот взвалил на себя тяжкое бремя власти.
— Обязанности правителя угнетают меня, — повторял он, виновато оглядывая окружающих.
Скорее всего, однако, причина была в другом. 31 декабря 1489 года посол Феррары в срочном донесении сообщил своему государю о слухах, распространившихся в Милане: молодые все так же невинны и непорочны, какими были до брака. Посол добавил, что, «как это ни странно, брак до сих пор не может считаться свершившимся фактом».
Вся в слезах, Изабелла отправила полное горечи письмо своему отцу. Ее жених, жаловалась она, который уверял, что любит ее до самозабвения, вот уже десять месяцев отказывается приходить к ней в опочивальню. «Он не ищет моей близости, не возжелал меня как женщину, не знаю, что и делать!» — писала расстроенная Изабелла.
— Ты ведешь себя недостойно мужчины. Я еще мог представить, что ты будешь слабым государственным деятелем. Но мне и в голову не могло прийти, что ты не в силах справиться с девственницей! — возмутился Лудовико Мавр.
Он только что получил возмущенное письмо от неаполитанского короля. Джан Галеаццо был тотчас вызван к дяде, и от герцога потребовали ответа в присутствии наиболее авторитетных лиц города.
— Или ты не знаешь, что отказ исполнять супружеский долг — это смертный грех? Ты отказываешься лечь в постель со столь прекрасной девушкой, как Изабелла? Как же ты до сих пор еще не сгорел со стыда? Если не исполнишь своего долга, то мы будем вынуждены отправить Изабеллу к отцу, а вместе с ней и сто тысяч золотых дукатов!
Вся Европа обсуждала тогда этот ужасный скандал. Все только и говорили об отсутствии мужской силы у миланского герцога. Все жалели униженную юную Изабеллу. Мавр был вне себя от бешенства, потому что альковная история обросла чудовищными слухами. Болтали, будто он сам, Лудовико, потерял голову от прелестей невесты герцога и стал домогаться ее любви. Иные утверждали, что Изабелла уже стала наложницей Мавра. Вот почему, объясняли они непонятливым, Джан Галеаццо не пожелал прикоснуться к невесте. По другим слухам, Изабелла отказала Мавру и будто бы даже угрожала покончить с собой, если, не приведи Господь, он войдет к ней в опочивальню.
«Я сама слышала, — передавали будто бы сказанные Изабеллой слова, — как при въезде в Милан толпа выкрикивала здравицы в честь тебя, Мавр, и никто не воскликнул: «Да здравствует Галеаццо!», никто не осмелился крикнуть: «Да здравствует Изабелла!» Но я тебя не боюсь и не подчинюсь твоим домогательствам. Я не такая, как все, и не уступлю тебе!»
Обстановка, надо сказать, сложилась странная при миланском дворе. На грани гротеска, чуть ли не в стиле Боккаччо. Во дворец стали даже приглашать миланских гетер, чтобы они пробудили чувства молодого герцога. Опытные наложницы как могли соблазняли юношу. Добившись своего и разгорячив его как следует, подталкивали на супружеское ложе. Но пламя тотчас же угасало. Тогда было решено, что следует отвлечь герцога от мрачных мыслей. В замке чуть ли не ежедневно стали устраивать зрелища одно великолепнее другого. Более других современникам врезалось в память представление под соблазнительным названием «Райская жизнь». Это была «музыкальная опера», исполненная 13 января 1490 года в самом просторном, Зеленом, зале замка. Сценография, декорации и режиссура принадлежали Леонардо да Винчи. Сцена изображала библейский Рай, семь планет олицетворяли самые прекрасные юноши и девушки герцогства. Герцог был одет в драгоценный парчовый костюм с изысканным золотым шитьем. Берет его украшал алмаз величиной с орех. На молодой герцогине тоже было бальное платье из парчи, и ожерелье из самых крупных жемчужин украшало ее голову. Лудовико исподтишка внимательно наблюдал за тем, как менялось выражение лица молодых. Кажется, они наконец улыбнулись друг другу. Опера удалась на славу. Но и в эту ночь Изабелла не потеряла своей девственности.
4 мая 1490 года Леонора д’Эсте написала королеве Венгрии: «И наконец, Ваше величество, думаю, что Вам следовало бы знать, что вышеупомянутая герцогиня по-прежнему пребывает в Милане на правах девственницы. Она все так же чиста и невинна, какой была ребенком в Неаполе. Насколько можно судить, она останется нетронутой очень долгое время».
Наконец, когда невеста и приданое ее уже должны были возвратиться в Неаполь, Изабелла сама решила добиться своего. Она предприняла атаку на своего незадачливого супруга по всем правилам древнего любовного искусства. Бесцеремонно явилась она в его апартаменты и стала медленно раздеваться, как опытная гетера. Безо всякого стеснения она прибегла к самым вызывающим ласкам, на которые мужчины всегда так отзывчивы, и, представьте себе, добилась своего! Пламя его мужского естества воспрянуло и больше не угасало при малейшем дуновении. После десяти бесконечных месяцев унижений и напрасных ожиданий Изабелла обрела наконец свое женское счастье. Супружеское рвение юного герцога уже не знало удержу. Казалось, ничто не в силах остановить его страсти, с таким усердием взялся он за возделывание супружеской нивы. Проходили недели, а его мужская сила не ослабевала. «Супружеский долг исполняют они до самозабвения», — сообщил в Рим папский легат. Теперь молодые супруги постоянно искали уединения. Робкий прежде Джан Галеаццо с неистовым жаром трудился на сладком поприще, иногда по нескольку раз в день. Всерьез опасаясь за его здоровье, Изабелла была вынуждена даже умерить его пыл.
30 января 1491 года на свет появился мальчик — Джованни Франческо, прозванный тут же «маленьким герцогом». Изабелла окружила ребенка горячей материнской заботой. Бедняжка словно догадывалась: у этого беззащитного существа, «розового комочка», нет будущего. Галеаццо впал в черную меланхолию. Приступы язвы участились. Будто адское пламя гложет его изнутри! Отвлечься от страданий, забыться он мог только на охоте и в многочисленных письмах, которые писал своей матери: ей, и только ей, мог он поверить свои невеселые мысли. Прекрасная Изабелла всю, без остатка, отдавала себя ребенку. Тихо и безотчетно ненавидела она Лудовико Мавра, ибо понимала: он — корень всех зол. Он виноват в страданиях ее мужа. Прошло два года, и она родила дочь, названную Боной — как бы в напоминание о судьбе несчастной миланской герцогини. Бона Сфорца, когда вошла в возраст, сочеталась браком с Сигизмундом I, польским королем. Блеском и остротой ума, твердостью характера — всем напоминала она славную свою бабку. И ни в чем не была похожа на незадачливого страдальца отца. Именно ей было суждено занять одно из самых достойных мест в плеяде великих женщин, несших в Европу изысканную культуру итальянского Возрождения.
ГЛАВА V Беатриче и другие
— Так что же, магистр, вы уже определили благоприятный день для моей свадьбы?
Лудовико Мавр, не скрывая иронии, глянул искоса на астролога, склонившегося перед ним в почтительной позе. Это один из самых уважаемых людей при дворе. Все заискивают перед ним, ищут его дружбы, нарасхват приглашают на званые вечера. Ему платят невероятно высокое жалованье. По слухам, 1472 лиры и 10 сольди! Придворный астроном Амброджо Варезе да Розате умеет читать судьбы по звездам. Всякий раз, когда необходимо принять важное решение, например о начале войны, прежде всего спрашивают его совета.
— Ваша милость, — не смутившись, ответил Амброджо каким-то утробным, скрипучим голосом, — мне удалось интерпретировать позиции семи планет, солнца, луны и созвездий. Сопоставив эти данные со знаками зодиака и датами рождения — вашего и вашей очаровательной Беатриче д’Эсте. Получается, что благоприятный период для бракосочетания приходится на январь. Однако брак должен состояться не позднее восемнадцатого числа.
Мавр удовлетворенно рассмеялся.
— Язык звезд и мои расчеты странным образом совпадают. Что скажешь на это, звездочет? Так знай, я сам собирался назначить свадьбу на семнадцатое января, в день Марса. Известно, что эта планета приносит мне счастье как военачальнику. Ты укрепил меня в моих намерениях. Действительно, мы выбрали самый подходящий день.
Мавр был настолько обрадован предсказанию старого вопрошателя небес, что тотчас увесистый мешочек, туго набитый золотыми, перекочевал в глубокий карман астролога.
— Синьора, верьте мне! — воскликнула фрейлина Беатриче де Контрари, совсем еще молодая и быстрая умом женщина, обладавшая немалой властью при дворе герцогов Феррары — прежде всего благодаря тому, что аккуратно исполняла самые деликатные их поручения, но не в последнюю очередь и по той причине, что, как говорили злые языки, никогда ни в чем не отказывала мужчинам, особенно если они были княжеского рода и в первом цветении своих сил. — Синьора, — продолжала Контрари убедительным тоном, — вы напрасно настаиваете на поездке в Милан. От верных людей, находящихся при этом дворе, мне известно, что Лудовико Мавр совсем не будет рад вашему визиту…
Леонора д’Эсте, жена государя Феррары, дочь неаполитанского короля и мать невесты — Беатриче д’Эсте, — все еще очень хороша собой; вкусы ее необычайно изысканны, но главное — она обладает твердым характером.
— Неужели ты думаешь, что я отправлю в Милан свою пятнадцатилетнюю девочку, беззащитную и неопытную в светских делах, одну в это змеиное гнездо?! Сама посуди, голубушка, ее будущий муж — хитрая бестия, сластолюбец, каких свет не видывал. Он на двадцать три года старше моей дочери. Но не в этом дело. В Милане есть три женщины, которых я опасаюсь больше всего: жена герцога, баба скрытная и злобная, говорят, она на последнем месяце, скоро родит наследника и потому чувствует свою силу… потом Чечилия Галлерани, фаворитка Лудовико, при дворе всем известно, что и эта тоже на сносях… да герцогиня-мать, которую упекли в Аббьятеграссо, — о, эта самая злобная из всех трех! Нет, нельзя мне не ехать в Милан. Я воочию должна убедиться, что девочке моей ничто не угрожает. Я сама должна переговорить с теми, кто будет рядом с моей Беатриче. Важно предостеречь Изабеллу, чтобы попридержала свои коготки и не обижала мою бедняжку Беатриче, ведь она еще совсем ребенок.
— Подумайте, госпожа, в январе дороги из Феррары до Милана опасные. Снег, лед, грязь… Колдобины! На улице холодно, мороз! До костей пробирает.
— Я своих решений не отменяю.
Мавр не скрывал своего раздражения и досады. Нервным, тревожным шагом мерял он узкое пространство своего кабинета, время от времени исподлобья поглядывая на феррарского посла Джакомо Тротти. Взгляд его не сулил ничего доброго.
— Так вы объяснили своей синьоре, что ехать в Милан среди зимы безумие? Она что, не понимает, дорога в это время года особенно опасна?
Бедняга Тротти только развел руками.
— Ваша милость, я тысячу раз твердил одно и то же. Но герцогиня настаивает. В Милан она снарядила не одного, а двоих своих отпрысков — невесту твою, Беатриче, и молодого Альфонсо, который берет в жены твою племянницу Анну Сфорца. Вот отчего герцогиня сочла, что мать при обстоятельствах столь необыкновенных должна собственными глазами увидеть, как устроятся ее дети.
Лудовико уже и не рад предстоящему венчанию. А ведь он так страстно желал этого брака, с таким трудом добился его. Беатриче приедет в Милан в момент, прямо скажем, не самый подходящий. Миланский двор сейчас как никогда напоминает потревоженный улей. Слухи и сплетни возмутили его спокойствие. Лудовико прекрасно известно, что все кругом только и твердят, будто Изабелла, прежде чем беременность заставила ее образумиться, не без удовольствия коротала свое одиночество в объятиях Мавра, а не своего мужа-неудачника. К тому же его скрючила язва. Лучшие ночные часы он проводил, запершись в туалете. Да и кожа его приобрела какой-то неприятный красноватый оттенок, что-то вроде сыпи. Искать доказательств типичного для всех мужчин Сфорца сластолюбия не приходилось. В противоположном крыле замка Лудовико сам поселил Галлерани, свою любовницу. Она, кстати, тоже на последнем месяце беременности. Через несколько недель она родит ему сына, третьего по счету бастарда, о котором Лудовико известно. Других никто не знает сколько он прижил от разных женщин, и нет им числа. Не исключено, что немало детей его семени — по разным углам Апеннинского полуострова. Лудовико известно, что герцогиня д’Эсте — женщина темпераментная. Такая способна публично упрекнуть его во внебрачных похождениях, устроить какую-нибудь душераздирающую сцену в присутствии всего двора. Подобного рода инциденты совсем не ко времени. Лудовико, холодному и расчетливому политикану, на протяжении нескольких лет фактически полновластному хозяину города, самого многолюдного на Западе, владельцу несметных сокровищ, государственному деятелю среди наиболее уважаемых и авторитетных в городе, скандалы ни к чему.
Переговоры о том, чтобы заполучить в жены Беатриче, заняли едва ли не целое десятилетие. В 1480 году Лудовико начал с того, что попросил руку сестры Беатриче — Изабеллы, которой тогда только-только исполнилось шесть лет. Но герцог Феррары в вежливой форме отказал претенденту: девочка на днях была обручена с Франческо Гонзагой, старшим сыном маркиза Мантуи. Но, мол, при дворе есть еще одна дочь — прехорошенькая, словно тугой бутон нераскрывшейся розы, резвенькая и обещающая стать красавицей не меньшей, а может, и большей, чем та, которая уже просватана за Гонзага. Звали это чадо Беатриче, она была пятилетним ребенком, родившимся в Ферраре 29 июня 1475 года. Лудовико принял это предложение с трепетной благодарностью. Тогда же было условлено, что он возьмет младшую д’Эсте, как только она войдет в возраст, допускающий ей сблизиться с мужчиной. И вот в течение целых десяти лет, несмотря на бурные приключения с другими женщинами, Мавр ни на минуту не забывал, что в Ферраре для него подрастает суженая.
В августе 1490 года, за несколько месяцев до бракосочетания, один из его послов, Франческо да Казате, явился к Беатриче с драгоценным подношением. Он передал ей от Мавра жемчужное колье, украшенное цветами из золотой нити, огромным мерцающим изумрудом, светло-красными рубинами… Одна из жемчужин была правильной грушевидной формы и не могла не вызвать всеобщего восторга. Юная д’Эсте, получив в подарок это сказочное украшение, сиявшее подобно яркому весеннему солнцу, радостно захлопала в ладоши и побежала вприпрыжку по гулким залам замка.
Беатриче д’Эсте и в пятнадцать лет оставалась прехорошенькой девочкой. Красавицей ее вряд ли можно было бы назвать — во всяком случае, в обычном понимании этого слова. Изящный вздернутый носик, пухлые розовые щеки, кудряшки на висках, темно-каштановая коса обвита вокруг головы, красиво обрамляет умную головку. Все, однако, в строгом соответствии с тогдашней модой. Именно такой запечатлел ее в скульптурном портрете Кристофоро Романо. Ныне этот портрет хранится в Лувре.
Перспектива столкновения с враждебно настроенными по отношению к ней дамами дома Сфорца вовсе не испортила настроения Беатриче. Несмотря на свою молодость, она достаточно уверенно держала себя — отчасти потому, что получила образование основательное и разностороннее, превосходившее, пожалуй, на целый порядок общепринятый уровень. Впрочем, и общепринятый тогда уровень был достаточно высок — во всяком случае, в том, что касалось детей ведущих аристократических семейств. При неаполитанском дворе, откуда родом была ее мать, Беатриче обучили всему тому, что было необходимо знать в области искусств, музыки и беллетристики. Умная и понятливая девочка без особого труда впитала знания, преподносимые ей учителями. К тому же она вела весьма активный образ жизни, по многу часов проводя в занятиях верховой ездой, с удовольствием участвовала в придворной охоте на оленя. Танцевать на балах она была готова всю ночь напролет. Со своими ровесницами фрейлинами она изобретала новые моды, предпочитала традиционной элегантности юношескую смелость линий и цветосочетаний. При дворе д’Эсте, где в это время гостил Маттео Мария Боярдо, изящный рыцарь, автор «Влюбленного Орланда», она проводила счастливое послеполуденное время, примостившись где-нибудь на вышитой скамеечке и подперев голову руками. Она старалась не пропустить ни одного драгоценного поэтического слова, вслушиваясь в тонкоструйное течение златых октав прославленного поэта.
Итак, решение о том, кто поедет в свадебном поезде в Милан, было принято. Леонора д’Эсте настояла на своем — она будет сопровождать свою дочь. Ее старшенькая, бывшая замужем за маркизом Гонзага, должна была, выехав из Мантуи, присоединиться к поезду в условленном месте на берегу По. Мантуанский двор был в восторге от нее, восхищаясь широтой ее культуры, неутомимым стремлением к новизне — неважно, шла ли речь о ремеслах, искусствах или других видах творческой деятельности человека. Черта эта была весьма характерна для людей Возрождения. Среди прочих в Милан отправился и брат Беатриче, Альфонсо д’Эсте, четырнадцатилетний безусый подросток. Ему предстояло сочетаться браком с Анной Сфорца, с которой он был обручен в соответствии с брачным контрактом, подписанным в мае 1477 года. Сам Альфонсо в тот год еще посапывал в пеленках, а невесте было годика четыре. В компании с ними — дядя жениха и невесты, кардинал Сиджизмондо д’Эсте. Он взял с собой сына Эрколе, который тоже должен был сыграть свадьбу с одной из девушек дома Сфорца — Анджелой. Итак, в Милане им предстояло справить сразу три свадьбы. Кардинал ехал в Милан с большой охотой. Ему предстояло освятить своим присутствием один из самых курьезных обычаев того времени. Дело в том, что по правилам лица наиболее авторитетные и влиятельные при дворе должны были присутствовать, находясь за символической ширмой, на первой брачной ночи молодоженов. Во исполнение этого обычая требовалось присутствие среди гостей жениха и невесты человека духовного звания. Кардиналы, как правило, весьма охотно исполняли эту феодальную повинность. И, к слову сказать, лучше какого-нибудь кардинала никто не мог сопроводить ядреным комментарием пылкие действия новоиспеченного супруга, обычно еще в подростковом возрасте. Юноши обычно старались изо всех сил, лишь бы не ударить лицом в грязь в присутствии столь важных гостей. Их аристократические невесты, нимало не смущаясь присутствием болельщиков и древностью своего родового герба, требовали от юношей исполнения супружеского долга согласно всем тонкостям любовного искусства и неоднократных доказательств мужской доблести. Судя по всему, Беатриче вряд ли предстояло испытать приключение такого рода. Но вот Альфонсо радовался грядущему экзамену, по успешном завершении которого он станет настоящим мужчиной. Он бравировал своей опытностью. Предстоящее супружеское состязание его веселило. По его настоянию в брачном контракте было особо оговорено, что после первой же брачной ночи и исполнения им супружеского долга он будет освобожден от обязательного посещения школы. Альфонсо мечтал о той минуте, когда он публично докажет свое мужское достоинство, свою четырнадцатилетнюю мужскую силу в любовном состязании с невестой, которой уже исполнилось семнадцать лет. Итак, с Альфонсо все было ясно. Но невозможно было вообразить, чтобы Лудовико Мавр, один из самых могущественных государей эпохи, предстал перед любопытствующими свидетелями в качестве Адониса, срывающего цветок любви пятнадцатилетней Беатриче. Что ни говори, а он, уже зрелый мужчина, сильно рисковал оказаться не на высоте положения в решительную минуту.
Посол Тротти в письме от 21 ноября 1940 года, отправленном из Виджевано, горячо рекомендовал Леоноре д’Эсте прибыть в Павию днем 16 января и не позже, ибо, подчеркивал он, венчание назначено на 17 января в герцогской часовне. Измученный бесплодными переговорами, продолжавшимися в течение нескольких месяцев, посол просил об одном, обращаясь на этот раз к герцогу Эрколе: «Не присылать слишком много дам». Посол не чаял, чтобы бракосочетание свершилось как можно скорее. Дело в том, что переменчивость намерений, также и в том, что касалось соблюдения брачных контрактов, была явлением в ту эпоху весьма заурядным. Вот отчего посол просил своего герцога: «Действуйте без промедления!» Речь шла о товаре скоропортящемся. Посол был прав. Амор и власть — основные расчетные единицы эпохи — предопределяли систему союзов, были золотым эквивалентом Возрождения.
По этой причине Эрколе д’Эсте неожиданно предложил Лудовико заключить сделку: не обмениваться приданым (Анна Сфорца должна была принести своему мужу 150 тысяч дукатов золотом, тогда как Беатриче д’Эсте — 40 тысяч, хотя до сих пор неизвестно, чем была обусловлена столь значительная разница в суммах), а передать ему, герцогу Феррары, Парму, и ни дукатом больше. Ответ Лудовико был незамедлительно получен и выдержан вполне в стиле миланского герцога: «Я не поступлюсь ни одним зубцом сторожевой башни замка, стоящего на рубежах Миланского государства. И впредь намерен я заботиться о собирании земель». Таким образом, герцогу д’Эсте пришлось удовлетвориться приданым. Пармы он так и не увидел.
Браки всегда порождают новые проблемы, и нет им числа. Анна Сфорца, семнадцатилетняя невеста, дочь злодейски убитого Галеаццо Марии и сестра Джана Галеаццо, заявила вдруг, что она не сделает и шагу из Милана, если ей не позволят взять с собой в Феррару четверых камер-юнкеров и четырех фрейлин, с которыми она была дружна с детства. Без них в Ферраре, заявила она без обиняков, ей не жить. Изабелла Гонзага, которая должна была сыграть роль свидетельницы при бракосочетаниях своих брата и сестры, намеревалась явиться в Милан со свитой столь многочисленной, будто это она сама собиралась выходить замуж. В ее свите насчитывалось сто сорок четыре человека, девяносто лошадей и такое количество прислуги, что никто и не брался ее пересчитать. Мавр был вынужден потребовать, чтобы она сократила свою свиту хотя бы наполовину. Наконец свадебный поезд, самый необычный и красочный в истории Италии праздничный караван, был готов отправиться в рискованное путешествие. Лудовико не лгал, когда ему пришлось живописать в самых трагических красках риск передвижения через скованную морозами Италию. Зима 1490 года вошла в историю страны как самая лютая и жестокая зима, какая была когда-либо на Апеннинском полуострове. Дороги были заметены сугробами, спуски в долину обледенели. Вдоль По даже особые повозки, в которые впрягали по нескольку волов сразу, не были в состоянии преодолевать ледяные торосы. Первоначальный замысел — подняться вверх по реке на барже — оказался неисполнимым, так как воды По были скованы ледяным панцирем. Пришлось передвигаться на особых санях — тех же повозках, поставленных вместо колес на особые гигантские коньки. Леонора, Беатриче, Альфонсо, Сиджизмондо и многочисленная свита, состоявшая из хорошеньких камер-юнкеров и фрейлин, отправились в путь на этих импровизированных санях в среду утром 29 декабря. Почти в тот же ранний час из Мантуи пустился в дорогу поезд Изабеллы д’Эсте. Оба поезда, как было условлено, должны были встретиться на берегу По, на полпути между Виенной и Брешелло. Именно в этом месте река становилась судоходной. Гости, спешившие в Милан из Феррары и Мантуи, могли пересесть здесь на три бучинторо, специально присланные для них из ломбардской столицы. Предполагалось, что свита будет доставлена на восемнадцати баржах. Мавр рассчитал, что таким образом гости в целости и сохранности прибудут в Пьяченцу, ну а оттуда до Павии, где их и ждал Мавр, было рукой подать.
Наспех устроенные сани весело скользили среди хрустальной безлюдной пустыни. Чуть дрожал мертвый стеклянный воздух. Недвижная наледь поблескивала равнодушно в ветвях сосен и елей. Окрестные дороги были заметены ровным белым, словно саван, снежным покрывалом. Озера превратились в безжизненные ледяные зеркала. Беатриче наконец приумолкла. Бескрайняя снежная пустыня напоминала ей слышанные в детстве сказки о гномах и эльфах, живших где-то недосягаемо далеко, на Севере. Но Леонора, будучи женщиной мужественной и упрямой, не растерялась. Она командовала оробевшей свитой и челядью. Наконец показался какой-то городок — Брешелло! В этом месте По еще была свободна ото льда, что обещало быстрое завершение пути. Изабелла д’Эсте Гонзага прибыла со своим поездом к вечеру 2 января 1491 года. Новый год ей пришлось встретить в скрипучих санях. Морозный воздух огласили радостные выкрики. Мать и сестры весело обнялись.
Изабелла знала себе цену. Она привыкла всегда говорить то, что думает. Трудности путешествия вызвали горячий поток жалоб. Только Беатриче, пораженная новизной увиденного, была в восторге от путешествия в сказку. Герцогский поезд погрузился на корабли и начал подъем вверх по течению По. Ломбардский январь как раз в этот день ударил жестоким морозным залпом. Такой стужи в здешних местах не знали десятилетиями. К сожалению, бучинторо, на котором следовала Изабелла, и даже устроенная на нем роскошная каюта для дам не могли выдержать такого мороза. Со страхом ждала герцогская свита наступления ночи. Все боялись лечь спать, потому что тонкая дощатая обшивка бучинторо не могла сдержать волн леденящего душу мороза. Колючий ветер больно щипал лицо, перехватывал дыхание.
Изабелла д’Эсте жалобным голосом искала сочувствия у своей фрейлины. Говорила о тяготах пути. Она не знала, что фрейлине только того и надо. Ведь каждый день она должна была писать отчет мужу-герцогу, в подробностях информируя его обо всех превратностях дня.
— Беатриче, голубушка, иди ко мне, не то я умру от холода. Нет больше сил терпеть. Я укутала по твоему совету ноги плащом. Но все напрасно. Никак не могу согреться. Иди ко мне, забирайся под одеяло. Давай согреемся вместе, обнимемся покрепче. Вот так… Боже, как холодно…
Беатриче де Контрари, хорошенькая и хитроумная особа, одна из наиболее влиятельных фрейлин при дворе д’Эсте, не могла ослушаться. Она ласково обняла свою госпожу, пытаясь передать ей тепло своего тела. Изабелла стала постепенно успокаиваться. Она покрепче прижалась к своей сверстнице. Горячее ее дыхание не только согревало, но и успокаивало взволнованное сердце. Наконец можно забыться. Заснуть.
Беатриче де Контрари почувствовала, что герцогиня как бы невзначай все теснее прижимается к ней, и пошутила лукаво:
— Мадонна, я вижу, ты уже совсем отогрелась. Дальше — мужское дело. Увы, нет у меня того пламени, которым смог бы возжечь твой костер герцог. — Потом помолчала и с любопытством взглянула на столь прекрасное вблизи лицо герцогини. Она и в самом деле мирно задремала у нее на груди. Счастливая детская улыбка блуждала в уголках губ.
Бесприютная ветреная ночь на реке. Странная ночь. Колючие волны холода иглами пронзали нутро корабля. Изо всех щелей дуло ледяным сквозняком. Предприимчивая компаньонка Изабеллы д’Эсте привлекла к себе герцогиню, видевшую первые сны, и сжала ее в страстном объятии.
— Боже, как она хороша! — пробормотала фрейлина, задыхаясь от жаркого волнения, и еще крепче обняла ее.
Ветер выл, хлюпал ледяными волнами. Мороз хозяином гулял по промозглым каютам. Только два человеческих существа нашли успокоение в объятии, длящемся целую вечность. Так фрейлина и герцогиня провели всю ночь, пока не засинел над рекой тяжелый зимний рассвет. Ночь, прошедшая в самозабвении, растаяла.
Лудовико нетерпеливо всматривался в даль. На горизонте наконец появился празднично украшенный бучинторо. Лудовико взволнован: что сулит ему встреча с пятнадцатилетней Беатриче д’Эсте? Вскоре корабль, над которым развевались вымпелы Милана и Феррары, причалил к пристани. Сильный холодный ветер, выхолаживающий душу, дул над рекой. В воскресенье 16 января 1491 года Беатриче, резвый, любопытный подросток, первой сошла, нет, сбежала на берег Ломбардии. Отныне эта земля должна была стать ее второй родиной.
— Мне говорили — ты само очарование! — приветствовал невесту восхищенный Мавр. — Но слова бледнеют перед яркой действительностью!
Леонора д’Эсте с нескрываемым удовольствием рассматривала своего зятя. Его хищный орлиный профиль, повадки пирата, в общем-то, ей импонировали. Известно, рыбак рыбака видит издалека. Лудовико покорил ее с первого взгляда. Легкий и непринужденный поклон — настоящий государь великого герцогства!
— Надеюсь, путешествие не очень вас утомило, мадонна. Правда, я вас предупреждал. — Нотка иронии прозвучала в этом элегантном упреке герцога. Он дал понять Леоноре д’Эсте, что прибытие ее в общем было неуместно.
Щеки Беатриче пылали пунцовым огнем. Со всех сторон на нее были направлены изучающие взгляды. Сколько любопытных глаз оценивали ее фигуру, лицо, манеру держать себя. Но замешательство Беатриче длилось не дольше мгновения. Она радостно вскрикнула, завидев прекрасного коня, которого слуги подводили к ней.
— Мадонна, — обратился к ней Лудовико, — в замке Павии вас заждались. Нам следует торопиться. Стол уже накрыт.
— Я предпочитаю, как это ни странно, путешествовать в покойной карете, — вступила в разговор мать, Леонора д’Эсте. — Верховая езда, знаете ли, для молодых, — закончила она свою тираду. В ее словах явственно звучала лукавая ирония. При этом Леонора д’Эсте выразительно взглянула на свою пятнадцатилетнюю дочь, а затем на тридцативосьмилетнего жениха.
Беатриче, Изабелла и двенадцать фрейлин с удовольствием совершили легкую верховую прогулку до Павии. Вокруг расстилались сжатые ледяной зимой опустевшие поля. У ворот замка их встретили две девушки, которым было поручено оказывать прибывшим гостеприимство. На их лицах расцвели белозубые улыбки. Одну звали Гризельдой, другую — Беатриче Сфорца. Они должны были препроводить невесту Беатриче в ее апартаменты. Горячая ароматная ванна уже ждала ее. Невесту следовало хорошенько отогреть после восемнадцати дней утомительного путешествия среди зимы.
Альфонсо торопил события. Ему не терпелось поскорее прибыть в Милан, познакомиться со своей суженой. Но широкие, просторные дворы павийского замка, которые только что были очищены от свежевыпавшего снега, манили его. Известно, в четырнадцать лет трудно устоять перед соблазном погонять упругий мяч на просторе.
— Дядя Лудовико, — предложил он герцогу, — давай поиграем, ну хоть немного, в мяч. Все равно женщины еще не готовы к ужину.
Часовня была со вкусом и празднично украшена. Сердце Лудовико сжалось в комок от умиления. Это у него-то, человека, который, казалось, давно привык ко всяким неожиданностям. Гул восхищения волной прокатился в толпе собравшихся гостей. В сопровождении своей гордой матери Беатриче уверенным шагом направилась к алтарю. Единственное ее украшение — последний подарок, полученный совсем недавно от жениха. Жемчужное колье, сто двадцать крупных жемчужин, перевитых золотой нитью и оттененных сверкающими рубинами. Ее белый подвенечный наряд был ослепительно богат и торжествен.
Дамы и кавалеры, приехавшие из Феррары и Мантуи, были столь многочисленны, что за их спинами почти не было видно миланцев. В момент, когда Лудовико стал надевать обручальное кольцо на палец невесты, он заметил — она вдруг побледнела. По завершении церемонии он решил показать ей сокровища замка. Лудовико очень хотелось показать ей фрески, воспроизводившие исторические сцены и драматические эпизоды герцогской охоты. В этом способе художественного осмысления жизни, казалось ему, был выражен весь ее смысл. Беатриче непременно должна увидеть эти фрески!
— Видишь, это великий поэт — Петрарка. Произносит свою знаменитую речь, — объяснял Лудовико молодой жене, — а вот и оружие, принадлежавшее Висконти и Сфорца, — мечи, алебарды, острые кинжалы… А вот, взгляни, какие изумительные часы! Их построил для нас Джованни Донди. С тех пор знаешь как его прозвали? Джованни-часовщик! Он шестнадцать лет собирал механизм. Смотри, смотри! Часы отмечают движение всех планет, Солнца, указывают время дня и ночи, смену месяца, года.
Бал продолжался, несмотря на то что на башне замка уже давно пробило полночь. Затем молодые удалились в опочивальню…
Лудовико пережил в своей жизни немало любовных приключений. Но в этот момент он как бы предощущал, что эта брачная ночь будет необычной. Он с нежностью глядел на юное существо, прикорнувшее на огромном супружеском ложе. Лудовико был не в силах оторвать глаз от ее красоты. Но какое-то смятение поселилось в его душе.
— Беатриче… Беатриче… шептали его пересохшие губы чуть слышно, призывно. — Теперь ты моя… моя…
Он попытался было привлечь ее к себе, овладеть ею… Из ее больших открытых глаз будто брызнули искры. Она нежно прильнула к его могучей, мускулистой груди. Но вдруг, словно чего-то испугавшись, отпрянула.
— Милый, милый… К чему спешить… Не сейчас… Потом…
Шли часы первой брачной ночи. Беатриче по-прежнему была такой же невинной и девственной, какой и вошла под эти своды. Но с опытностью гетеры она не давала прекратиться любовной прелюдии. Она искусной рукой поддерживала сжигавшее мужа пламя желания. На губах ее играла чарующая, колдовская улыбка. Иногда ее полные, сочные губы вдруг вздрагивали, словно ища чего-то и не находя. Словно невзначай, она угадывала его самые сокровенные, распаленные фантазией Эроса желания.
Снова и снова просил Лудовико о пощаде:
— Беатриче… ну же… будь моей… Иди ко мне!..
Острое, пронзительное желание испепеляло его. Но он понимал: Беатриче — необыкновенная женщина. Скоро, очень скоро она, да, она, будет принадлежать ему вся, без остатка. Правда, в эту первую брачную ночь ему пришлось удовольствоваться только ее жаркими поцелуями и обжигавшими его до содрогания смелыми ласками.
Тем не менее на следующее утро было объявлено, что брак совершился. Лудовико и Беатриче стали супругами. Собравшаяся по этому поводу праздничная толпа рукоплескала его мужской доблести. Весь двор радостно принял этот счастливый исход первой брачной ночи к сведению.
Для участия в праздничных торжествах в столице герцогства — Милане молодая жена герцога прибыла в город 22 января. Для совершения святой молитвы она остановилась в церкви Сант-Эусторджио близ Тисинских ворот.
За час до объявленного прибытия Беатриче герцогиня Изабелла Арагонская выехала верхом из своего замка в направлении Сант-Эусторджио, сопровождаемая блистательной свитой фрейлин и камер-юнкеров. Народ, собравшийся по пути ее следования, комментировал:
— Видишь, не терпится взглянуть на соперницу. Представляю, какой фейерверк будет сегодня при дворе. Только искры посыплются!
Лудовико, отправившийся в Милан загодя, чтобы лично проследить за всеми приготовлениями к празднику, скакал верхом рядом со своим племянником Галеаццо. У Тисинских ворот они встретили Беатриче. Лудовико в парчовом плаще, щегольски накинутом на широкие плечи, весело пришпорил своего скакуна и занял место рядом с молодой женой. Вознеся молитву в Сант-Эусторджио, они решили объехать город. Беатриче сгорала от любопытства, так ей хотелось увидеть праздничное приветствие миланцев. Сорок шесть пар музыкантов сопровождали их торжественный въезд в город. Сто фанфаристов-трубачей возвещали об их прибытии на ту или иную улицу или площадь города. Миланцы, а тогда в городе было 150 тысяч жителей, были на улицах и площадях, кому не хватило места — высыпали к распахнутым окнам. С подоконников и балконных перил свешивались драгоценные ковры и хоругви в цветах дома Сфорца. Гирлянды были свиты из неувядаемого плюща. Однако самым сильным впечатлением были оружейники. Они устроили показ своего изумительного по красоте оружия, выставив его на тротуары. Сверкала на солнце ослепительная вороненая сталь. Дети оружейников, те, что постарше, облачились в рыцарские доспехи. Герцогиня шествовала, таким образом, мимо выстроившихся по обе стороны улиц вооруженных юношей-рыцарей, которые приветствовали ее, подняв забрало.
В замке у парадных ворот — Ворот Филарета — невестку встретила герцогиня-мать, Бона, поспешившая из Аббьятеграссо в Милан специально для этого торжественного случая. Рядом с ней другая невестка — маленькая Анна со своей сестрой, очаровательной Бьянкой Марией. Никогда прежде не видел Милан празднества столь пышного. В конце января впервые выглянуло солнце — праздник весны. Под его вешними лучами оттаивала и оживала еще недавно мертвая земля. Приветное лучезарное солнце, высокое небо — все радовало сердце праздничной, ликующей толпы. Приветствуя этот брак от души, миланское простонародье понимало, что таким образом отдает дань уважения своему подлинному господину — Лудовико, и делало оно это с огромным воодушевлением. Мавр, хотя и не пользовался всеобщей слащавой любовью, был уважаемым государем.
Беатриче, как это ни странно, держала себя более скованно. Ее непосредственность девочки-подростка словно куда-то улетучилась. Важность уготованного ей предназначения, казалось, ее обескуражила. Только юный Альфонсо вел себя просто и естественно. Несколько беззаботных дней, проведенных в Павии, он посвятил играм и развлечениям. Альфонсо успел даже поохотиться в горах. Теперь он мог похвастать настоящим охотничьим трофеем. На его счету, вы только представьте, четыре оленя! Он уложил их собственноручно подаренным ему палашом. Его свадьба с Анной состоялась 23 января. Невеста явилась к алтарю в подвенечном наряде, сплошь усыпанном драгоценными самоцветами. Анна была нежна и покорна. Вела себя она просто, не смущаясь — быть может, оттого, что понимала: место, уготованное ей, гораздо скромнее, чем то, которое по праву принадлежит теперь Беатриче.
С понедельника 24 января в Милане начались торжества по случаю двойного бракосочетания. Мавр повелел украсить к этой дате новыми фресками зал для игры в мяч. Художники справились с заказом с неслыханной, головокружительной быстротой. Мастера кисти сделали за месяц с небольшим то, на что обычно требовалось три года! Балы продолжались целый день напролет. Но и ночь не была помехой желавшим танцевать. Пары кружились в танце при свете многосвечных канделябров. Тристано Калько, лучший светский хроникер того времени, был потрясен великолепием дам, явившихся тогда впервые на бал в платьях с необычно глубоким декольте, как того требовала новая мода, только что пришедшая в Италию из знойной Испании. На балу присутствовало более трехсот синьоров, были все послы, аккредитованные при миланском дворе, двести великосветских дам и фрейлин. Герцогиня Изабелла, несмотря на то что была на последнем месяце беременности — все перешептывались, не начнет ли она рожать тут же, прямо на балу, — тоже участвовала в общем празднике и танцевала со своей любимой фрейлиной.
Миланцы и многочисленные иностранцы, поселившиеся в городе и не желавшие из него никуда уезжать, были приглашены 26 января на рыцарский турнир — бой на копьях в большом дворе замка. Предполагалось, что состязание рыцарей пройдет в три тура в течение трех дней.
Рыцарский турнир должен был ознаменовать тот факт, что Мавр достиг абсолютной власти. 50 тысяч зрителей собрались полюбоваться мастерством великолепных рыцарей. Никто не делал вид, что интересуется судьбой законного герцога Миланского. Все были на стороне того, кто сосредоточил в своих руках действительную власть. Многотысячная толпа, как один человек, выкрикивала: «Мавр! Мавр! Мавр!» Большинство бойцов, желая засвидетельствовать свое почтение Лудовико Мавру, украсили свои знамена, шлемы и щиты изображением малыша-мавра.
Самый прекрасный из рыцарей, с изобилием подробностей описанный неутомимым Калько, по общему мнению, — Галеаццо ди Сансеверино. Сам Леонардо счел за честь подарить ему эскиз боевого облачения. В мельчайших подробностях проинструктировал его Леонардо, как выехать на ристалище, как поприветствовать зрителей. Когда Галеаццо-рыцарь въехал во двор замка, толпа зрителей разразилась ревом восторга. Конь Галеаццо-рыцаря с ног до головы был покрыт сверкавшей на солнце чешуйчатой золотой кольчугой. Головной шлем боевого коня украшали огромные витые турьи рога. Щит рыцаря был в виде головы бородатого воина. Шлем Галеаццо-рыцаря был увенчан шишаком, тыльная часть которого изображала дракона с длинным витым хвостом.
Галеаццо стал победителем всех трех видов турнира. Ему удалось сломать двенадцать копий своих незадачливых противников в двенадцати попытках. Герцогиня Беатриче сама пожелала вручить ему заслуженный приз — отрез алого бархата длиной в тридцать два локтя! Народ был несколько озадачен, видя, что на лице герцога Джана Галеаццо как бы застыло выражение какого-то тупоумного блаженства. Но дядя позаботился, чтобы избавить его от тяжкого бремени правления таким великим государством, каким был Милан. Его посредственная душа не могла не порадоваться этому факту. Но жена его, Изабелла, вовсе не чувствовала себя столь же благостно, умиротворенно. Время от времени она бросала на молодую счастливую жену Мавра злобный взгляд. Она не скрывала чувства досады.
Но именно Изабелле было суждено поставить последнюю радостную точку в праздниках, длившихся три дня и три ночи. 30 января, когда балы и рыцарские турниры наскучили утомленным миланцам, герцогиня разрешилась от бремени и родила Джованни Франческо, «маленького герцога», как тотчас прозвал его народ, оттого что существовало немало сомнений относительно подлинного отцовства мальчика.
С момента первой встречи Мавр был очарован излучавшим жизненную энергию личиком своей невесты. Совершая верховые прогулки в окрестностях Павии, они не прерывали ни на минуту веселого, непринужденного разговора, обменивались ласками, постоянно держались за руки, как дети. Но шли дни. Беатриче погрузилась в какую-то неизъяснимую печаль. Она с каждым днем становилась все немногословнее. В ней появилось какое-то детское упрямство, которое даже ее мать была не в состоянии перебороть. Самый неприятный случай произошел, однако, как раз в день их приезда в Милан. Оставив молодую жену в Сант-Эусторджио, чтобы загодя прибыть в замок и распорядиться о встрече, Лудовико весело попрощался с ней:
— Прощай, женушка!
Но Беатриче не удостоила его ответом. Вместо этого она нахмурила брови. На лице ее не скользнуло и тени улыбки. А ведь он уже так привык, чтобы улыбка трогала ее нежные губы… Лудовико не сумел скрыть досаду. Поэтому теперь при всяком удобном случае он старался лишний раз подчеркнуть свое восхищение красотой жены, капризного подростка. Он пытался чем-нибудь рассмешить ее, шутил беспрерывно, как студент. Все время он стремился как-то приласкать ее, утешить, попросить прощения.
Супружеская жизнь Мавра никак не налаживалась. Он уже раскаивался в том, что был слишком жесток с Джаном Галеаццо, упрекнув его в неисполнении супружеского долга — долга чести. Прошел уже месяц со дня венчания, но жена его по-прежнему была девственницей, такой же нетронутой девушкой, какой она прибыла к нему из Павии. Против своего обыкновения Мавр решил даже пожаловаться Тротти, послу своего свекра. Лудовико, несмотря на все усилия, так и не удалось взять мужской верх над этой девчонкой, сделать ее женщиной. Первая ночь любви, закончившаяся для него как для мужчины ничем, положила начало какой-то странной и мучительной для всякого мужчины игре. Вместо того чтобы овладеть женщиной как подобает, он был вынужден довольствоваться любовной прелюдией, сладострастной игрой, наслаждаться упругим и нежным телом подростка, не достигая минуты наивысшего наслаждения. Он мог сколько угодно ласкать ее в своих объятиях. Она же только того и добивалась, чтобы желание его иссякло, натянутая струна оборвалась. Но и в этой игре Беатриче сумела навязать ему свою волю. Словно капризный ребенок, настояла она на том, чтобы их любовная игра происходила в абсолютной темноте. Только тогда, когда были погашены факелы, могла она себе позволить подарить ему тот самый страстный и горячий поцелуй, которого желает мужчина и которому обучили ее опытные фрейлины феррарского двора.
Мавру, которому скоро должно было исполниться сорок лет, было трудно удовольствоваться только этим, пусть и самым прекрасным в жизни мужчины, поцелуем. Несколько ночей, проведенных им в бесплодных утехах, вконец изнурили его. Игра наскучила ему. Он снова принялся посещать свою любовницу Галлерани, жившую, кстати, в замке. Всякий раз, когда феррарская девственница доводила его до безумия, ему приходилось искать успокоения в опочивальне более благосклонной к его мужскому достоинству фаворитки. Галлерани, правда, была на последних днях беременности. Правда и то, что он сам торжественно клялся, что после вступления в брак больше не прикоснется к ней. Но целомудрие и безумные игры, которые с ним затеяла капризная Беатриче, заставили его искать счастья в постели другой женщины.
С первого же дня опытные куртизаны стали демонстративно оказывать большее уважение Беатриче, нежели Изабелле. Они как бы подчеркивали своим поведением то, что знают, кто является подлинной госпожой Милана. Все видели, с каким пренебрежением дядя относился к своему племяннику Джану Галеаццо. Через несколько недель после рождения «маленького герцога» Джан Галеаццо со своей женой был отправлен «на отдых» в замок Виджевано. Оттуда Джан Галеаццо обратился к Лудовико за разрешением посетить Милан, где был его новорожденный с кормилицей. Нелепым был уже сам факт, что миланский герцог просит разрешения приехать в свою собственную столицу. Но самое невероятное то, что Лудовико запретил ему приезжать в Милан. Таким образом, наметившаяся было дружба между двумя герцогинями, неважно, подлинная или поддельная, тотчас прекратилась.
Три месяца спустя после рождения «маленького герцога» Изабелла и Беатриче держали себя словно неразлучные подруги. Вместе они делали покупки на миланских рынках и, чтобы остаться неузнанными, повязывали голову платком, по обычаю простых горожанок.
— Смотрите-ка, вот бабы! И платка повязать как следует не научились! Вот чучела! — хохотали им в лицо настоящие горожанки.
— Молчать, дуры! Прекратить зубоскальство! — пыталась урезонить торговок Беатриче.
Но в ответ те только смеялись им в лицо. Благородным дамам оставалось ретироваться в замок. Взглянув друг на друга, они понимающе хохотали. Но вскоре неприязнь разлучила их навсегда.
Беатриче обладала характером твердым. Она не позволяла никому помыкать собой. Она не могла удержаться, чтобы не потребовать от своего Мавра прекратить связь с Галлерани. Напрасно куртизаны умоляли ее не делать этого. Любой разговор с Лудовико на подобную тему, полагали они, мог привести к катастрофе.
— Мне известно, что ты все еще держишь эту шлюху в нашем замке. Не хватало еще, чтобы ты положил ее прямо в мою постель, — обрушилась Беатриче на застигнутого врасплох Мавра. Жестокие искры вспыхивали в ее глазах, в голосе звенел металл. Подобная твердость характера у пятнадцатилетней девушки удивляла и озадачивала. — Знай, что я не надену платье, которое ты подарил. И догадываешься — почему? Наверняка точно такое же ты преподнес своей суке! Если ты не вышвырнешь ее из замка, я возвращусь в Феррару! Пусть все знают, отчего я не могла ни минуты дольше оставаться в Милане.
Мавр верно оценил обстановку. Он понял, что ему не следует бросать вызов своей жене. Лудовико капитулировал.
Так началась политическая карьера Беатриче, блистательной синьоры Милана. Те шесть лет, которые ей было суждено прожить, превратили Беатриче в одно из главных действующих лиц своего времени. Она стала женщиной, которой восхищалось Возрождение. Беатриче вошла в историю как женщина высокообразованная, обладавшая легендарным, безукоризненным вкусом, покровительница искусств и литературы. Бальдассар Кастильоне говорил о ней, обращаясь к своим собеседникам:
— О, как жаль мне, что вы не успели познакомиться и узнать поближе герцогиню Беатриче Миланскую. Мне жаль также, что и я не смогу больше насладиться умом этой женщины.
В самом деле, Беатриче — необыкновенное явление в истории. Девушка, которой было суждено переступить порог взрослой жизни в пятнадцатилетием возрасте, прожить только до двадцати двух лет, оставила после себя столь глубокий след, который не пришлось оставить даже умам более зрелым. Беатриче только прибыла в Милан, а слава о ней как о фанатичной поклоннице новой моды, способной протанцевать всю ночь напролет, уже гремела в городе. Беатриче покорила миланцев тем, что смело использовала новые цветосочетания, новые краски в своих смелых одеяниях. Денно и нощно предавалась она развлечениям на балах. Но в замужестве Беатриче прославилась как безупречная хозяйка дома, вдохновительница рафинированной, интеллектуальной жизни, законодательница мод. Правда, среди ее современников было немало таких, кто, подобно Паоло Джовио, запечатлел ее в своих анналах как злобную интриганку, надменную и капризную особу, не ведавшую никакой меры в своем стремлении к роскоши.
Следует подчеркнуть, что человек, с которым Беатриче жила в Милане, во многом сформировал ее личность. Разумеется, Лудовико был и интриган, и распутник. Однако главной чертой его характера были все-таки качества великого государя. Многие женщины, подпавшие под его влияние, усвоили и переняли чувство государственной ответственности.
Галлерани, возлюбленная Мавра, от природы обладала особой, неповторимой красотой. Но при дворе Лудовико Мавра она приобрела нечто большее — благородство и ту таинственную царственную возвышенность духа, которыми человечество восхищается до сих пор, совершая паломничества к ее портрету кисти великого Леонардо. «Дама с горностаем», ныне хранящаяся в музее Кракова, — это Галлерани. Лудовико познакомился с ней, когда девушке только исполнилось шестнадцать лет. Великие женщины Возрождения словно торопились чувствовать и жить — в делах любви и в делах власти. В 1481 году Лудовико подарил ей поместье в Саронно и дворец в Милане. Именно с этих пор Галлерани стала утверждать, будто она дама благородного происхождения. На самом деле род ее был не так уж и знатен.
Когда Лудовико должен был жениться на Беатриче д’Эсте, Галлерани, которой только что сровнялось двадцать шесть лет, ждала рождения ребенка. Она по-прежнему жила в замке в особых апартаментах, предоставленных ей гостеприимным любовником.
— Клянусь, я не прикоснулся к ней с тех пор, как завершился Великий пост, — спешил уверить Лудовико посла Тротти, которому было поручено выяснить все подробности интимной жизни герцога. — Как только она разрешится от бремени, я вышлю ее вместе с ребенком за пределы Милана.
Беатриче д’Эсте и на этот раз решила укрепить свое политическое положение при миланском дворе. Обстоятельства складывались для нее как нельзя более удачно. Она дала понять мужу, что, прежде чем начнется их совместная супружеская жизнь, она не возражает, чтобы он нашел применение своей мужской силе в постели «старухи» Галлерани. Разумеется, для пятнадцатилетнего подростка двадцатишестилетняя опытная наложница не существовала как достойная соперница. Беатриче не возражала против сожительства Лудовико с Галлерани. Более того — она готова воспитать вместе со своими детьми незаконнорожденного ребенка. Но при одном условии: после родов любовница должна немедленно покинуть замок. Таково последнее слово Беатриче. Она верно рассчитала. Главное — с пониманием отнестись к той ситуации, в какой оказался Лудовико. Тогда сцена ревности, которую она устроила ему так удачно накануне, принесет искомый результат. Так Беатриче добилась от мужа изгнания Галлерани из замка.
Мавр понимал, что рисковать ему при подобных обстоятельствах не следует. Беатриче была готова на все, на любой скандал, лишь бы настоять на своем. Ему следовало как можно скорее распрощаться с прекрасной Галлерани. Правда, чтобы не лишать себя приятной возможности видеть ее хотя бы изредка, наслаждаться ее женскими прелестями, ему пришлось потрудиться: он уговорил Галлерани выйти замуж за графа Лудовико Пергамино, кремонского синьора, преданного и покорного своего вассала. Так Мавр пристроил любовницу, найдя ей достойного мужа, готового в любой момент уступить свое место в опочивальне настоящему хозяину, которому тот по гроб жизни был благодарен за щедрое вознаграждение: еще бы, Пергамино стал считаться мужем одной из самых красивых женщин не только Италии, но и Европы! Галлерани тоже суждено было стать одним из главных действующих лиц Возрождения. Навеки прославит ее Маттео Банделло, говоря о ней как о самой образованной женщине Европы. Кстати, впоследствии Лудовико попытался устроить и судьбу Чезаре, незаконнорожденного сына Галлерани. В 1497 году, когда почил в бозе архиепископ Миланский, Лудовико попробовал закрепить архиепископство за своим отпрыском, которому в то время не исполнилось и семи лет. Миланский клир, однако, возмутился подобным обращением с церковными должностями. Мавр был вынужден извиниться за неслыханное попрание и оскорбление церковных прав.
Беатриче и Чечилия — всего лишь две из наиболее известных женщин Лудовико. Как только его страсть к постаревшей Чечилии остыла и он получил полное супружеское удовлетворение от своей жены-подростка, Лудовико нашел себе другую блистательную любовницу — Лукрецию Кривелли, жену камер-юнкера Боны Савойской. К тому времени, как Беатриче в январе 1497 года умерла, Лукреция уже прочно обосновалась на позициях влиятельной фаворитки Мавра. Почувствовав свою силу и незаменимость, она без какого-либо стеснения потребовала от герцога засвидетельствовать свою любовь при помощи благодеяний в пользу ее многочисленных родственников. Вероятно, именно ее видим мы на портретах кисти Леонардо, хранящихся ныне в Лувре, однако не исключено, что это все та же Галлерани.
Мимолетным видением была в истории жизни Лудовико другая возлюбленная — очаровательная Коломбина. Она изображена на портрете, написанном одним из учеников Леонардо, Франческо Мельци. Коломбина была фрейлиной Беатриче д’Эсте. О ней, увы, мало что известно историкам. Но всякий, кому хоть один раз посчастливилось увидеть ее портрет, не может забыть свежесть розовых ланит, лукавую нежную улыбку, трепетно вздымающуюся грудь и — какая неожиданность! — кроткие глаза, которыми смотрит она на цветок, застывший в ее прекрасных руках. Мимолетное видение, которому было суждено продлиться в веках! Разумеется, Лудовико не мог обойти своим вниманием такую красоту. Кто осудит его?
Однако самое горячее и постоянное чувство Лудовико испытывал не к той или иной из своих многочисленных любовниц, а к своей незаконнорожденной дочери Бьянке Джованне, которую он прижил от бедной девушки-рыбачки. Он, как помнит читатель, тайно встречался с ней в хижине на берегу моря в те юные годы, когда он был еще герцогом Бари. Девушку-рыбачку звали, кажется, Бернардина де Коррадис. Именно к своей бедной дочери, Бьянке, Лудовико и испытывал самые нежные и глубокие чувства.
Бьянка постоянно была при нем. Он обручил ее с Галеаццо ди Сансеверино, блистательным красавцем рыцарем, победителем турнира, устроенного в честь свадьбы Лудовико и Беатриче. Галеаццо ди Сансеверино! О, как гремело тогда это имя! Смелость, бесстрашие, элегантность стиля, мужественная красота, обширная культура, к тому же ловкий и удачливый охотник! Вот кто такой был Галеаццо ди Сансеверино! Мавр покровительствовал ему с удовольствием. Правда, когда стало понятно, что Лудовико Мавр обречен на поражение, Сансеверино был первым, кто поспешил на сторону французов. 20 июня 1496 года тот синьор, чье копье было непобедимо, женился на Бьянке, которой едва исполнилось четырнадцать лет. Но несчастная умерла в ноябре «по причине заворота кишок», как написал тогдашний хроникер. Девочке прочили блестящую будущность при дворе Сфорца. Она сдружилась с Беатриче. Вместе принимали они гостей замка. Но весьма скоро жена Сансеверино была вынуждена отказаться от великосветской жизни. Мучительные боли в желудке не оставляли ее ни на минуту. В один из редких дней, когда она вдруг почувствовала себя лучше, вместе с герцогом она посетила Бормео, где встретилась с «королем римлян» — императором Максимилианом. Но болезнь возобновилась с новой силой, и она окончательно слегла в постель. Положение ее было безнадежным. Незадолго до кончины она, почувствовав прилив сил, потребовала отнести себя в церковь, чтобы возблагодарить Господа за дарованную жизнь. Но болезнь так и не выпустила ее из своих цепких лап. Врачи уже понимали, что все старания напрасны и только продлевают мучения. Бьянка умерла 23 ноября 1496 года. «Наша Бьянка умерла. Знай, что я, как и прежде, люблю только тебя. Пусть между нами все останется так, как было», — писал Мавр своей первой любви Бернардине де Коррадис. Странное письмо, нелепый язык — ведь их связь прекратилась с тех пор, как родилась Бьянка. Скорее всего, это проявление мужского эгоизма Лудовико. Он желал, чтобы его вчерашние, нынешние и будущие возлюбленные постоянно и неизменно сознавали, что они все как бы состоят на его герцогской службе, являются частью его семьи, которой суждено разрастаться и свидетельствовать о славе миланского государя.
Дети, которых Беатриче д’Эсте родила от Лудовико, укрепили его положение в качестве подлинного герцога Милана. Теперь, когда у Лудовико появились наследники, никто не мог поставить под сомнение его право занимать трон.
Эрколе Массимилиано родился 25 января 1493 года. В честь его появления на свет Лудовико устроил грандиозное празднество. В том деле была одна особенная тонкость. Когда Мавр взял в жены Беатриче, он чувствовал себя далеко не уверенно на троне. Вот почему они и венчались, и справляли свадьбу в Павии, а не в Милане. Никто не должен был сравнивать его свадебный пир с торжествами, подобавшими Джану Галеаццо и Изабелле Арагонской. Теперь же, когда у него родился наследник, ликования своего он не смог сдержать. Торжества по случаю рождения его сына затмили своей роскошью и масштабом те, которые состоялись в январе, два года тому назад, в честь рождения «маленького герцога». Из тюрем по амнистии были освобождены узники, городские колокола неумолчно оглашали окрестности в течение нескольких дней, длинные дубовые столы во всех залах замка ломились от подарков, присланных от всех государей Европы. Изабелла, разумеется, не могла не обратить внимания на то, сколь отличался праздник, устроенный в честь рождения ее сына, от торжеств, сопровождавших появление на свет наследника Лудовико Мавра. Ее бледное, вытянутое лицо красноречивее иных слов свидетельствовало о том, что она переживала. Когда у Мавра в Виджевано 4 февраля 1495 года родился еще один сын, при крещении нареченный именем Сфорца и еще четырнадцатью именами, призванными принести мальчику счастье, празднества повторились с не меньшим размахом. Но на этот раз расходы, понесенные герцогской казной, вряд ли были оправданны. Дело в том, что герцог Джан Галеаццо, удаленный по приказу Лудовико из Милана, к этому времени уже переселился в мир иной.
— Меня не тяготит тот факт, что я отстранен от власти, — повторял равнодушно Джан Галеаццо своей жене, которая не переставая сетовала на злоупотребления его дяди. — Будь на мне бремя власти, мы не смогли бы уделить столь много времени нашему с тобой отдыху в этом прекрасном замке, в милой нашему сердцу Павии. Вряд ли я смог бы вкусить радость дружбы и общения с милыми людьми, насладиться верховыми прогулками, охотой в чудных окрестных лесах, ужинами на открытом воздухе в деревне, балами на природе с нашими пейзанами.
В самом деле, крестьянские балы стали одним из самых любимых времяпрепровождений герцога. Ему нравилось неожиданно нагрянуть вместе с женой и свитой в какую-нибудь богом забытую деревеньку, где крестьяне на вечерней заре устраивали танцы. Герцог приказывал им продолжать веселье, сам же с нескрываемым удовольствием наблюдал за скромным праздником. Нередко тоже пускался в пляс, подхватив под руки какую-нибудь цветущую деревенскую красавицу. Правда, крестьяне не всегда были рады подобным знакам герцогского внимания. Вел себя Джан Галеаццо иногда очень грубо и вызывающе. Когда же праздник, по его мнению, был неудачным, он жестоко наказывал деревенское начальство.
Так, в верховых прогулках, соколиных охотах, облавах на благородного оленя и свирепого кабана, бесполезно пролетели юные дни герцога. Джан Галеаццо жестоко страдал от участившихся приступов язвенной болезни, которые неожиданно прихватывали его, выводя из строя на много дней. Он сильно страдал от своего нездоровья, невозможности вести активный образ жизни, постоянных унижений. Ему казалось, что счастье, отнятое у него судьбой, можно вернуть насильно. Правда, жизнеутверждение он понимал по-своему. Он начинал и тут же обрывал бесчисленные любовные связи с придворными дамами, с простолюдинками, просто с городскими шлюхами. Но жизненные соки, ток которых давно пресекла смертельная болезнь, в конце концов иссякли. Джан Галеаццо пал жертвой чувственного темперамента Сфорца. Привитый на больной организм, этот темперамент медленно, но верно убивал его.
После рождения «маленького герцога» жизнь Джана Галеаццо превратилась в беспрерывную цепь страданий. Мучения, переносимые им, не только свели его в могилу, но и подорвали здоровье несчастной Изабеллы. Она давно уже была заброшена своим мужем и обделена его вниманием. Изабелла занималась только его здоровьем. Она хотела, но так и не сумела его возненавидеть. Джан Галеаццо знал, что ему необходимо соблюдать строжайшую диету. Всякое излишество за столом для него было гибельно. Но он не отказывал себе в удовольствиях богатого пиршественного стола. Врачи запретили вино. Он же подкупил шинкаря: главное — чтобы в укромном месте у него всегда была полная бутылка вина.
ГЛАВА VI Златой Милан Лудовико
— Глядите, глядите, как он переменился! Сразу видно, что теперь он герцог Миланский! Какой гордый взгляд! Власть его теперь безгранична! Только бы не было войны!
Миланский люд, который за полстолетия господства Сфорца уже привык к парадам и зрелищам, к торжественным выездам новых властителей, собрался на Соборной площади в ожидании торжественной инвеституры нового миланского герцога. Был день 26 мая 1495 года. У входа в собор герольды императора Максимилиана наблюдали за тем, как Мавр вступает на площадь в окружении оруженосцев и прелатов церкви. Они прогладывали путь в ликующей плотной толпе миланцев. Трон миланского герцога наконец по праву принадлежит Лудовико. Он теперь не только фактически, но и юридически миланский герцог. Такова награда за двадцать лет терпения, беспрерывных интриг, комбинационных ходов, дипломатической игры, союзов и столкновений. Мавр облачен в мантию, увенчан короной, в руку его вложен герцогский скипетр. Лудовико с удовольствием разглядывал праздничную толпу. Джан Галеаццо не стоял более на его пути к власти. Его свели в могилу неизлечимая болезнь и беспрерывная череда унижений. Лудовико отныне полностью контролирует герцогство. Пока у него нет соперников, сегодня ему нечего опасаться. Хотя Лудовико и знал, что среди итальянских государей друзей у него тоже нет.
В соборе Сант-Амброджо, где была совершена торжественная месса, и в замке, где нового герцога приветствовали как одного из величайших триумфаторов столетия, Лудовико сполна насладился опьянением власти. Но он уже настолько привык к победам, что сумел сохранить внешнее хладнокровие. В минуту наивысшего торжества он обдумывал конкретные возможности реализации проекта, который вынашивал в течение многих лет. Ведь недаром он посвятил все годы ожидания тому, чтобы постепенно прибрать к рукам наследие Сфорца. Лудовико мечтал о том, как он превратит Милан в самую блистательную столицу эпохи Возрождения. Он мечтал о том дне, когда его любимый Милан станет важнейшим культурным и художественным центром Европы. Милан станет Афинами будущего, XVI столетия. Лудовико был убежден в этом.
— Кто мог предположить, что этот синьор проявит способности столь незаурядные, да еще в столь короткий срок? Ему удалось совершить то, на что иному понадобились десятилетия, — развивал свою мысль Джакомо Герарди, папский нунций при миланском дворе. Его рукой были написаны самые подробные и проницательные отчеты, которых ждал римский папа. Первосвященник требовал от своего посланника ежедневной и полной информации обо всем, что происходило в Милане. Джакомо Герарди любил побеседовать о Лудовико Мавре и его делах с Джакомо Тротти, послом Феррары, сыгравшим заметную роль в «устройстве» брака Лудовико с Беатриче д’Эсте.
— Полагаю, что секрет успеха этого герцога — в его необычайной способности, если угодно, в его редком таланте сосредоточиваться на главном направлении своей деятельности. Он непременно все делает сам, любое дело доводит до конца, никогда не забывает проследить весь ход исполнения своих мудрых приказов. Он полностью овладел ситуацией в своем государстве. При этом память у него — железная. Один его день стоит двенадцати обычного человека.
— Вы правы, но есть у него еще одно немаловажное качество, — заметил Герарди, — тоже весьма редкое по нынешним временам, особенно у государственных деятелей: Лудовико не падок на лесть. Все, кто вошли в его окружение, так и стараются, едва ли не наперегонки, польстить ему. Превозносят до небес и его интуицию военачальника, и высокое искусство дипломатической игры, и способность сохранить равновесие между итальянскими государствами, не допускать ни малейшего нарушения мира. Герцог же только иронично поглядывает на льстецов. Правда, он не допускает таких эксцессов, которыми грешил Магомет Завоеватель. Помните, тот отправлял в мир иной всякого, кто осмелится пропеть ему дифирамб. Мавр очень чувствует опасность, а раболепие льстивых куртизанов в его обстоятельствах — главная опасность.
— Важно, однако, — продолжил Тротти после некоторой паузы, — что благодаря Лудовико всего за несколько лет Милан совершил невероятный рывок по пути прогресса. Теперь, наряду с Венецией, Милан — самое богатое государство Италии. О нет, для достижения своих целей он не брезговал средствами. Кажется, он не видит разницы между тем, что есть благо герцогства, и тем, что есть благо Сфорца.
— И все-таки, согласитесь, есть в нем нечто, что не может не вызывать удивления, — заметил Герарди. — Обратите внимание, сколь он легковерен и даже наивен в общении с астрологами. Меня, например, крайне удивил один факт. Его посол Маттео Пировано, только что прибывший из Франции, попросил срочной аудиенции. Он должен был доложить герцогу о делах весьма важных, не терпящих отлагательства. От них зависело благополучие государства. Но Мавр, представьте себе, даже не пожелал его видеть! Посол, видите ли, прибыл в Милан в тот день, когда луна все еще пребывала в неблагоприятной конъюнкции. По мнению астрологов, подобное расположение светил грозит неприятными последствиями.
— Ну, меня это нисколько не удивляет. Астрология заняла столь прочные позиции при дворе Мавра, что даже присяга военачальника не может быть принесена, если предварительно не будет определен час, назначаемый официальным астрологом, могущественным магистром Амброджо да Розате. Неважно, идет ли речь о войне, или о посольстве, или, скажем, о строительных работах, — без консультации с магистром нельзя предпринять ничего! Но, согласитесь, таков странный, обычай нашего времени. Мне даже говорили, что в Риме и кардиналы держат на службе магов и астрологов, не предпринимают ничего сколь-нибудь важного, не посоветовавшись предварительно с ними. К примеру, при том же флорентийском дворе Марсилио Фичино составил гороскопы детей Лоренцо Великолепного. Он, кстати, предсказывал, что одному из них суждено стать папой!
— Ну, что касается Амброджо да Розате, — прервал нунция Герарди, — то, говорят, его авторитет несколько поколеблен, с тех пор как астролог ошибся в предсказании насчет побочной дочери, Бьянки.
— Ничего не слышал об этом, расскажите!
— Лудовико, знаете ли, был убежден, что магистр Амброджо научился улавливать голоса светил и планет, что его видения внушены ему по воле Всевышнего. Так вот, Амброджо однажды поведал герцогу, что некая крестьянка, которую он страстно любил в молодые годы, но с которой тем не менее расстался, родит ему девочку. Этому ребенку, по словам астролога, суждена блестящая будущность. Она станет великим поэтом… Поверив астрологу, — продолжал свой рассказ Герарди, — герцог тотчас приобрел великолепную виллу в Брианце. Более того, он отказался бросить эту женщину. Он даже распорядился, чтобы мать с дочерью поселились на этой чудесной вилле. Потом, тайком от двора, в сопровождении только двух верных слуг, он часто посещал этот дом. У него не было и тени сомнения: предсказание астролога сбудется и дочь его станет великим поэтом! Герцог мечтал о том дне, когда будет в кругу друзей читать ее стихи. Разумеется, он скроет подлинное имя автора. Но как хотелось ему увидеть на лицах понимающих слушателей удивление, восхищение этой поэзией! Шло время, девочка подросла, но сколь-нибудь заметного интереса к поэтическому творчеству не проявляла. Чтение стихов вообще мало ее привлекало. Наставница же ее уверяла, что этот ребенок вообще ни к каким наукам не способен! Мавр стал все реже бывать на вилле. Тем не менее надежда его не покидала. Он по-прежнему верил, что предсказание магистра Амброджо так или иначе сбудется. Поэтический дар, утешал себя герцог, рано или поздно разовьется в душе ребенка. В один прекрасный день она проснется поэтом, станет писать стихи, достойные Катулла и Овидия. Герцогу было известно немало случаев, когда, дожив до двадцати лет, молодые люди, не блиставшие прежде никакими талантами, вдруг обнаруживали необычайный художественный дар. Но, увы, внебрачная дочь нашего Лудовико скончалась, как известно, от несварения желудка прежде, чем в ней обнаружился поэтический талант.
Герцог, разумеется, до сих пор относится к магистру Амброджо с уважением, — перевел дух Герарди, — но уже нет в нем того прежнего преклонения перед его наукой.
— Необыкновенный человек этот Мавр, — заключил посол Феррары. — Странным образом соединились в нем изысканность ума и предрассудки, уравновешенность характера и приступы гнева. Но что ни говори, а человек он необычайно даровитый! Настоящий государь!
Изабелла д’Эсте спустилась с Лудовико в подземелье, где были спрятаны от посторонних глаз сокровища миланского замка. Любопытству ее не было предела.
— Сейчас твоему взору предстанет нечто, что в Европе можно узреть только в двух или трех дворах… — предупредил ее Мавр и загадочно улыбнулся.
Маркиза Мантуи была женщиной весьма образованной, но при виде золота и драгоценностей в таком невероятном количестве она не могла скрыть своего потрясения. Лудовико веселился от души, наблюдая за тем, как маркиза пыталась, но не могла не обнаружить своего смущения. Они спустились еще ниже. В подвалах замковой башни глазам их предстало зрелище необычайное. На коврах, которыми были устланы полы огромного зала, в отсветах факела поблескивали горы золота! Монеты достоинством в два, три, десять, двадцать пять дукатов громоздились холмами! Стены были украшены десятью медальонами по десять тысяч дукатов каждый… В художественном беспорядке в этой сокровищнице было собрано не менее восьмисот тысяч дукатов.
— Ты удивлена, не скрывай! — расхохотался герцог. — С такими сокровищами можно и войны вести, и мир сохранять. Можно делать все что угодно.
Изабелла не могла оторвать глаз от длинных столов, на которых были разложены украшения неописуемой, сказочной красоты — драгоценные броши, золотые колье, ожерелья из жемчуга. Все то великолепие, которое может разве что присниться.
— Царство тысячи и одной ночи! — воскликнула она.
— Не торопись. У меня найдется кое-что получше. Украшения уникальные, вещицы такие, каких нет ни у одного из владык мира. Для церемоний есть из чего выбирать, не так ли? Вот, например, булавка с красным рубином. Двадцать пять тысяч дукатов, не меньше. А вот и наш знаменитый брильянт, прозванный «Волком», при нем три жемчужины для контраста. А вот, взгляни, хорош рубин? Какой цвет — густой, наполненный! Двадцать два карата… А эту жемчужину в двадцать девять карат оценивают в двадцать пять тысяч дукатов. Помнишь, племяннице Изабелле я подарил рубин стоимостью пятнадцать тысяч золотых дукатов. Увы, точно такой же надо было преподнести и жене… Правда, похожего все никак не находилось. Так что поневоле пришлось остановить выбор на алмазе. Он дивно хорош в сочетании с изумрудом и самоцветами, которые ювелир собрал в изумительной красоты виноградную гроздь. Миланское герцогство, конечно, не империя великого турецкого султана, но моя сокровищница вряд ли уступит кладам, которыми забиты исламские мечети.
Изабелла любовалась сказочной роскошью, скрытой от людских глаз в подземелье миланского замка. Вдоль стен стояли в ряд шестьдесят шесть серебряных статуй почитаемых в городе святых. Четыре великолепных распятия, усыпанные в изобилии драгоценными камнями, «Благовещение» и «Увенчание» Богородицы… В одном из дальних углов прямо на пол были ссыпаны серебряные монеты. Вряд ли их кто-либо считал.
— Через эту гору серебра не перешагнуть и не перепрыгнуть, — пошутила Изабелла.
— Найдется и кое-что поинтереснее, — подзадоривал ее Лудовико.
Еще раз у прекрасной дочери д’Эсте перехватило дыхание. Казалось, она уже была готова ко всему, но, когда они вошли в расположенную под лестницей особую камеру с низким потолком, Изабелла была ошеломлена статуей, изображавшей стоокого Аргуса. Работа Браманте, одного из самых великих художников, которые «трудятся при нашем дворе», удовлетворенно пояснил Лудовико. Изабелла еще шире раскрыла глаза в этой личной сокровищнице миланских герцогов. Те же золотые горы дукатов, ювелирных шедевров, разложенных на дубовых столах, громоздящихся в шкатулках и ящиках на полу. Сундуки до того были набиты золотыми слитками, что оставались полуоткрытыми. А еще произведения искусства, принадлежащие самым великим и прославленным мастерам, бесчисленные украшения…
— Не слишком ли много богатства для столь малого количества владельцев? — промолвила, справившись с потрясением, Изабелла.
— Быть может, ты и права. Мне тоже хочется, чтобы эти сокровища когда-нибудь увидели свет дня, принадлежали всем достойным того людям. Я превращу Милан в град златой. Мечтаю о том дне, когда он воссияет в этом бренном мире. Пройдут столетия, но все будут помнить: был когда-то наяву, а не во сне златой град Милан. Вспомнив об этом, всякий произнесет в восхищении: «А ведь это заслуга Лудовико по прозванию Мавр. Он поступил подобно Периклу, прославившему свои Афины».
Изабелла радостно захлопала в ладоши.
Маркиза Мантуи не желала покидать Милан. Город, устроивший такой триумф ее сестре, не переставал ее восхищать, она была очарована самим его воздухом, в котором царила атмосфера подъема творческих сил и человеческого благополучия.
«Милан Лудовико Мавра, — писала Изабелла своему мужу Франческо Гонзага, — столь великолепно устроен, что, доведись тебе побывать в этом городе сейчас, ты не узнал бы прежнего, виденного тобой Милана. Мы все еще не уехали отсюда. Каждый день для нас новый праздник, радость, новое открытие».
Женщина, обладавшая острым и глубоким умом, испытывавшая наслаждение от общения с миром культуры, привыкшая к изыскам высокой аристократической жизни, не переставала удивляться тому, что такой человек, как Лудовико, казалось бы полностью погруженный в проблемы государственной и международной жизни, находит время для устройства роскошных праздников, славящих искусство и красоту, театральных и оперных спектаклей, бывших не просто одним из способов развлечения, но и инструментом познания мира. Изабелла иногда целые дни проводила за игрой, только что вошедшей в моду благодаря Лудовико; все были увлечены шахматами! Изабелла заказала шахматную доску и шахматные фигуры у лучшего миланского мастера Клеофаса Донати. Вся Европа обзаводилась шахматами только у него. Особенно удачно изображал он фигурку коня. Какая тонкая, восхитительная, одухотворенная работа!
В минуты досуга Лудовико любил неожиданно появиться в каком-нибудь укромном уголке замка, где дамы обычно играли в шахматы или, когда им это наскучит, в одну из подвижных игр. Больше всего в те годы была в замке в ходу игра «в оплеуху». Одна из фрейлин, которой выпадал несчастливый фант, должна была зарыться с головой в подол пышных юбок подруги, держа при этом за спиной раскрытую ладонь. Кто-нибудь из участников веселой игры должен был что есть мочи ударить фрейлину по ладони, а той предстояло угадать «обидчика». Мавр, как правило, являлся, когда игра была уже в самом разгаре. Со смаком шлепал он бедняжку фрейлину и прятался за колонной. Изабелла хохотала до слез.
— Вы только подумайте, — захлебывалась она, — все итальянское равновесие зависит от этого скомороха! Кто бы мог себе представить!
Но мысли Лудовико уже далеко. Его гложут государственные заботы. Он размышляет о короле Франции, о доже Венеции, о римском папе.
Охотничий рог разбудил лес. Звуки его гармонично слились с жизнью природы. Из-за деревьев показались всадницы. Беатриче д’Эсте и ее подруга Изабелла Арагонская впереди празднично одетой кавалькады. Обе в костюмах амазонок. Обе — страстные поклонницы охоты, любимого времяпрепровождения аристократии. Беатриче весьма преуспела в искусстве охоты, даже сам Мавр однажды заметил Изабелле д’Эсте, что молодая жена превзошла его в этом мастерстве.
Верховой поезд, кавалькада на герцогской охоте — это бесподобное зрелище, драматический спектакль, картина, написанная сочными масляными красками рукой опытного художника, и только во вторую очередь — обычная сценка из тогдашней жизни. Сотни мастеров своего дела трудились задолго до открытия сезона, для того чтобы герцогская охота была столь же роскошна и прекрасна, как и праздник жизни, изображенный в стансах Полициано. За день до вступления в лес блистательной кавалькады герцогский егерь объезжал место будущей охоты, чтобы удостовериться в том, что в зарослях кустарника и глухой чащобе есть и кабаны, и олени, и другие дикие животные, достойные стать жертвой Дианы-охотницы. Затем к работе приступали объездчики, которые окружали лес сетями и веревочными заграждениями, оставляя открытой только одну сторону — один свободный проход, через который въезжали в лес охотники.
Ко времени, когда охотничий рог протрубит начало действа, егеря, увлекаемые в чащу нетерпеливой сворой легавых и борзых собак, и крестьяне, подзадоривающие своих меделянских псов, уже в заповедной зоне. Собаки подняли кабана, яростно мечущегося в кустарнике, они набрасываются на него, выгоняя на открытое пространство. Во главе вооруженных всадников — Беатриче. Она жаждет первой заметить кабана, сразить его своей меткой стрелой. Изредка напряжение охоты прерывается каким-нибудь неожиданным и веселым интермеццо. Однажды Изабелла Арагонская, вообще-то небольшая любительница буффонад, решила проучить придворного шута, Джованни Антонио Мариоло. Тот старался показать, что является опытным охотником. Изабелла распорядилась, чтобы крестьяне спрятали в кустах обыкновенную свинью. Собаки, естественно, тотчас обложили обезумевшее животное. Мариоло, ничего не подозревавший придворный шут, бросился за ошалевшей свиньей и еще долго преследовал ее верхом на своем хромом скакуне. Он так и не заметил, что над ним посмеялись. Когда же Наконец понял, что стал предметом насмешек, охотники вдоволь насладились его замешательством. И то правда, шут, да еще и тщеславный, кичливый неудачник. Что может быть смешнее!
Слава о городе, жизнь в котором бьет ключом, о новом Милане, созданном трудами Мавра, вышла далеко за пределы Ломбардии, заставила говорить о себе всю Европу. Милан в период между 1490 и 1500 годами — светоч культуры, искусства, роскоши. Таких городов тогда, увы, было слишком мало у человечества. Придворный поэт Бернардо Беллинчони выразил радость и гордость миланцев своим златым городом в следующих словах:
Знайте, о музы, вечные странницы, кончилось ваше изгнание, нет больше горя. Ваши Афины — отныне Милан. К нам на Парнас, к Лудовико!Льстивые речи, обращенные к синьору, слились с чувством искренней законной радости всех людей искусства, всех творческих умов Италии и Европы. Оттого что они наконец стали свидетелями и участниками поворота истории к празднику творческой жизни, сердца их трепетали. В одной из своих поэм Гаспаре Висконти вложил в уста сирийских паломников, прибывших в Ломбардию, слова, являющиеся по сути обращением к согражданам Милана:
Громче нет славы, Чем слава Милана!Вступив в соперничество с двором Лоренцо Великолепного, поэты Сфорца воспевали славу Милана, давая понять своему читателю, что благодаря покровительству благосклонных муз и чудодейственной силе богов в этом граде отныне призваны собираться все выдающиеся умы современности. Рисунки и портреты Леонардо вызывали ожесточенные споры среди тогдашних сторонников современного искусства и традиционалистов. Джорджо Мерула, прославленный ученик Филельфо, воспитанник «александрийского солнца» итальянской поэзии, обогрел теплом своих лучей ниву литературного творчества. Изабелла д’Эсте, будучи одной из наиболее образованных женщин эпохи, привыкшая к богатству и насыщенности интеллектуальной жизни дворов д’Эсте и Гонзага, — даже она была потрясена столь огромным и могучим скоплением талантов и творческих сил в Милане, с которыми ей довелось соприкоснуться во дворце своей сестры. Даже на должности секретаря у Беатриче состоял Винченцо Кальмета, человек, обладавший талантом необычайной выразительности, славный переводчик Овидия, приветствуемый всеми как наиболее одаренный гений современности, имя которого обессмертил Кастильоне, введший поэта в круг действующих лиц своего «Придворного». Но жизнь при дворе не давала никому из творческих людей права на пожизненную ренту. Игра ума была самым драгоценным капиталом. Растратить это качество означало потерять уважение современников. Поэт из Бергамо, Гвидотто Престинари, пытался снискать к себе уважение тем, что развлекал салонную публику, сделав великого Леонардо мишенью своих сатирических стрел. Он к месту и не к месту нападал на человека, чей причудливый гений не переставал ввергать двор Лудовико в священный трепет. Очень скоро кто-то при дворе высказался в том смысле, что поэт из Бергамо напрасно желает добиться бессмертия за столь дешевую цену, напрасно посягнул он на такого гиганта, каким, несомненно, является Леонардо. Престинари высмеивал Леонардо, поселившегося на летние месяцы в Априо ди Адда, за то, что тот целые дни проводит, выкапывая червяков и ловя сачком по окрестным холмам бабочек, понадобившихся невесть для чего. Леонардо, которому не замедлили сообщить о выпадах Престинари, не обратил на них ровно никакого внимания. На уколы жаждущего славы поэта он ответил молчанием.
Мавр жил наполненной жизнью, какой еще не ведали его современники. Он был уверен в том, что создает нечто великое. Главное чтобы слава о его свершениях донеслась до потомков. Вот отчего он призвал к себе эрудита Джорджо Мерулу, который сегодня уже почти забыт, но в те времена пользовался громкой славой великого литератора, глубочайшего знатока творчества Плавта, Марциала и Ювенала.
— Я хотел бы, чтобы ты написал для нас большую историю Милана. В ней ты мог бы поведать историю Висконти и Сфорца. Кульминацией всего повествования могло бы стать великолепие и расцвет нашего герцогства. Нам хотелось бы, чтобы труд твой был достоин твоего таланта, чтобы ты сравнялся с великими образцами, оставленными нам Фукидидом и Титом Ливием.
Прошел год, и Мерула показал своему синьору несколько первых глав из своего будущего труда. Хотя и было написано всего несколько страниц, Лудовико остался весьма доволен. Он прокомментировал: «Серьезность и элегантность стиля ни в чем не уступят величию поставленной задачи».
Получив высочайшее одобрение, Мерула продолжил свой исторический труд. Но его постигла творческая неудача. Прошло десять лет, и Лудовико был вынужден с огорчением заметить, что до завершения труда еще очень далеко. Мерула не приступал еще даже к разделу, посвященному истории рода Висконти! Разгневанный Мавр лишил своего придворного эрудита столь почетного заказа. Написание истории было поручено известному светскому хроникеру Тристану Калько, обладавшему блистательным и легким пером. Естественно, Калько, испытывая законную гордость оттого, что именно ему достался столь почетный заказ, раскритиковал труд своего предшественника. Он высказался о нем как о весьма поверхностном и построенном на неправильных основаниях сочинении. Калько скрупулезно переработал начатое своим предшественником. Но и его исторический труд, как выяснилось через некоторое время, тоже был далек от завершенности. Лудовико пришлось и на этот раз отказаться от услуг модного литератора. Наконец он нашел способного и трудолюбивого историка, работавшего по источникам, обладавшего способностью к историческому анализу. Это был Бернардино Корио, который и написал «Всеобъемлющую историю Милана», напечатанную в типографии Минунциано в 1503 году. Известно, что граф Пьетро Верри дал весьма нелестную оценку трудам Корио, назвав его «писателем, лишенным даже намека на изящество, доверчивым и наивным компилятором, собравшим на своих страницах старые сплетни, хотя и вполне достоверным излагателем событий более близких к нему по времени». Но, говоря по правде, Корио, скромный и серьезный ремесленник от истории, имеет ту заслугу, что предоставил в наше распоряжение весьма тщательно обработанный и ценный материал, благодаря которому сегодня все еще возможно реконструировать «златой век Милана».
Лудовико был глубоко убежден в том, что искусства и культура являются основанием политического могущества его двора. Вот почему еще до того, как стал он абсолютным государем Милана, Лудовико немало сил и средств отдавал меценатству. Он заранее позаботился о том, чтобы в его окружении всегда были выдающиеся музыканты, художники, литераторы. Он привлекал их к себе, где бы они ни находились. В 1485 году ему стало известно о той славе, какой пользуются два музыканта и певца, обладатели необычайно красивого голоса. Эти музыканты были украшением двора Медичи. Популярность Франческо Милеко и Гульельмо ди Стеймеля была во Флоренции необычайной. Лудовико поручил своему придворному кантору Джованни Кордье пригласить певцов в Милан.
— Потратишь столько, сколько сочтешь необходимым. Но отныне они должны петь у меня, в Милане.
Секретная миссия Кордье во Флоренцию увенчалась успехом. Великолепные музыканты поселились в роскошных апартаментах замка Сфорца. Правда, их бегство из Флоренции послужило началом дипломатическому инциденту. Лоренцо Великолепный, от ярости бледный как полотно, вызвал к себе миланского посла, который, однако, побожился, что синьор его в этом деле не замешан. Переезд музыкантов произошел по их собственной воле. Они, видите ли, узнали, что миланский климат гораздо более укрепляет голосовые связки, чем флорентийский.
— Если Мавр действительно ни при чем, — сухо ответил Лоренцо, — то пусть без промедления вышлет обратно во Флоренцию моих музыкантов!
Однако Лудовико правдами и неправдами удалось затянуть окончательное решение о возвращении музыкантов. Он отстоял их право остаться при своем дворе в Милане. Он, видите ли, ничего не может поделать, растолковывал Лудовико великому флорентийцу, кто-то действительно заплатил им неслыханные деньги, но в этом повинны его придворные маэстро, которые принимают на службу кого им заблагорассудится. Прошло время, и музыканты не поддаются никаким уговорам, не хотят уезжать из Милана.
Таким образом, музыкальная капелла Сфорца, одно из величайших созданий Галеаццо Марии, процветала и благодаря стараниям Мавра. Не проходило дня, чтобы не заблистал в ней новый талант. В 1490 году, желая отметить апогей своей власти, Лудовико похитил у папы римского самого его знаменитого кантора — Гаспаре Вербекке. Однажды этот композитор и музыкант уже имел честь служить при миланском дворе. Вербекке на этот раз задержался в Милане на целых десять лет. Его творчество — вершина музыкального могущества эпохи Сфорца. Имя его неразрывно связано с расцветом композиторского творчества в Европе. Он взял на себя труд собирания лучших музыкантов под покровительственную длань Мавра. Вербекке объездил с этой целью практически все европейские дворы, оплачивая труд музыкантов чистым золотом, даря им при поступлении на службу к миланскому герцогу полный гардероб, шелковые и драгоценные ткани. С затратами не считались, лишь бы привлечь в Милан самых талантливых, самых неординарных, самых независимых. Почва оказалась столь плодородной, что вскоре Лудовико учредил кафедру «лектора музыкальной культуры», которая была вверена великому музыканту Франкино Гаффурио. Беатриче обладала глубочайшими познаниями в музыке. Она желала, чтобы в Милане систематически проводились состязания трех господствовавших в то время в Европе оперных школ — итальянской, франко-бургундской и испанской. Музыка, зазвучавшая под сводами миланского замка, отозвалась по всей Европе.
В своем неутомимом поиске талантливых людей Лудовико преуспевал. Так, ему удалось заполучить в Милан двух выдающихся гениев эпохи Возрождения — Браманте да Урбино и Леонардо да Винчи.
Браманте начал свою деятельность в Милане где-то около 1480 года, когда ломбардская столица стала превращаться в колыбель гениев.
— Мне нужен храм, который по красоте мог бы соревноваться с самыми прекрасными творениями христианского зодчества, — повелел Лудовико.
И Браманте выполнил с честью этот заказ. Благодаря его фантазии в Милане мечта человека эпохи Возрождения стала явью. Милан украсился церковью Санта-Мария делле Грацие с монастырем, конвентуалом, ризницей и трапезной, которую Леонардо обессмертил «Тайной вечерей». Браманте работал и в замке Виджевано, который окончательно был, однако, построен Гульельмо да Камино. Именно здесь Лудовико удалось осуществить мечту о создании бессмертного шедевра, воплотить в материале свой собственный архитектурный замысел. Мавр задумал, а его мастера-зодчие талантливо перевели мысль в пространство и объемы. Просторная вилла органически слилась с окружающим ее ландшафтом; состояла она из четырех зданий, упроченных по углам мощными башнями, центральное здание виллы — вершина элегантности эпохи Возрождения.
Браманте сумел придать Милану облик своей личности, своего понимания классического искусства, гармонии, широты архитектурного дыхания. Даже те проекты, над которыми он лично не работал, свидетельствуют о влиянии его художественной стилистики. О том, что именно Браманте был властителем дум своей эпохи, сохранилось немало свидетельств. Так, в подражание Браманте дома и палаццо Милана приобрели высокий аристократический тон. Классическая элегантность стиля и блистательность линий были забыты со времен Афин и Рима, теперь же благодаря Браманте пространство невероятно расширилось, архитектурные элементы слились в неповторимую гармонию музыкального произведения. Использовались и новые строительные материалы, декор был продуман до мелочей. Были созданы высочайшие образцы нового европейского архитектурного творчества. До Лудовико Мавра замок был лишен надлежащего декора: кухни, например, ютились по углам залов и были отделены от жилого пространства дощатыми перегородками. Теперь же благодаря Браманте и Леонардо жилые комнаты и дворцы обрели роскошные интерьеры. Появились пышные украшения. Бал правили балдахины из броката и расшитых цветных шелков. Парча, украшенная золотыми цветами, шелка и бархат воцарились в интерьерах палаццо. Даже домашняя повседневная жизнь стала как-то богаче: в буфетных шкафах появилась серебряная посуда, чеканка и резьба украсили солонки и хлебницы, чаши, тарелки с тончайшими узорами, подносы, столовое серебро. Джакомо Тротти, посол Феррары, один из наиболее наблюдательных людей своего времени, обращаясь к Беатриче д’Эсте, сказал однажды:
— Вы сумели превратить Милан в Олимп! Ваш город — это царство благосостояния, изысканного вкуса и блистательного ума!
Памятники, которыми украсился город, были преисполнены особой величественности. Они выразили дух своей эпохи, прославлявшей человека и его триумф во вселенной. Со временем церковь Мадонны ди Сан-Чельсо, фасад архиепископства, купол церкви делле Грацие, соборы делла Роза и делла Пассьоне засвидетельствовали великолепие художественного расцвета в мире, который потрясали непрекращавшиеся войны, столкновения между враждовавшими и рвавшимися любой ценой к власти политиканами, в мире, который весь был погружен в неуверенность за свое будущее, испытывал перед этим будущим страх. Казалось, Италия в момент наивысшей политической нестабильности и наперекор ей выразила уверенно и ясно весь энергетический запас художественной и культурной талантливости. Апеннинский полуостров, раздробленный на бесчисленное количество карликовых государств, политика которых была крайне двусмысленной, а сила отталкивания превосходила силы притяжения, тем не менее не жил за свою историю более плодотворной, счастливой, насыщенной интеллектуальной жизнью. Лудовико Мавр даровал этой Италии звездный час.
Беатриче д’Эсте была до глубины души потрясена изобилием художественных талантов, творческих личностей, сгруппировавшихся в столь короткое время вокруг трона миланского герцога. Среди художников блистали такие, как Винченцо Фоппа, Амброджо Боргоньоне, которые вместе с Дзанетто Бугато были, пожалуй, самыми яркими представителями фламандских течений в миланской живописи. В школе великого Леонардо сформировались такие мастера, как Полидоро да Караваджо, Чезаре да Сесто, Бернардино Луини, Паоло Ломаццо, Антонио Болтаффио.
Наибольшую зависть всех дворов Европы возбуждали, однако, миланские миниатюристы — счастливая плеяда мастеров, нашедших в Милане благодатную почву. Наряду с непревзойденным Амброджо да Кремона создавали тогда свои шедевры Кристофоро де Предис и его брат Амброджо, художник из школы Леонардо. Лудовико особенно любил и ценил Джованни Пьетро Бираго, создавшего такие шедевры, как «Мподучать олитвенник» для мадонны Боны Савойской и «Иисусову книгу» для юного Массимилиано. В этом последнем кодексе были изложены основы интеллектуального воспитания юного государя. Украшением этого кодекса была миниатюра, изображавшая белокурого, пухлого и веселого мальчугана — Массимилиано в возрасте семи лет. Художник дал волю своей фантазии, ибо, когда ему была заказана эта миниатюра, Массимилиано не исполнилось еще и трех лет.
Еще интереснее, быть может, другой кодекс, вышедший из мастерской Пьетро Бираго. В нем мастер миниатюры проиллюстрировал знаменитую грамматику Элио Донато, книгу воистину драгоценную, новую, написанную в виде вопросов и ответов, то есть еще так, как было принято в средневековье. Однако не все миниатюры в этом кодексе принадлежат кисти прославленного Бираго. Амброджо де Предис, один из величайших продолжателей дела Леонардо, создал свои шедевры, украсившие кодекс в его начале и окончании. Художник изобразил в манускрипте малолетнего герцога вместе с отцом.
Изображение Массимилиано должно рассматривать как прототип всех последующих представлений о юном государе эпохи Возрождения. Мальчик показан художником в профиль. Волна белокурых локонов ниспадает волной на хрупкие плечи. Яркое цветовое пятно — красный герцогский берет — на затылке. Мальчик облачен в элегантные доспехи с позлащенными краями.
Мавр был представлен поясным портретом на ярко-лазурном фоне в профиль. Он также облачен в рыцарские доспехи. Кроме того, в кодексе грамматики Донато прекрасно показан Милан того времени. Массимилиано, сидя верхом на коне, скачет по широким улицам города. Отовсюду приветствуют его белокурые девушки, многие стоят у раскрытых настежь окон. Очарование мечтаний молодости — в другой миниатюре, на которой изображен юноша, повернувшийся спиной к Пороку и стремящийся заключить в объятия Добродетель. Сцена эта дана на фоне волшебного гористого пейзажа, который постепенно сменяют городские стены и палаццо. Кисть художника словно невесома, воздух хрустально прозрачен, цветовая гамма нарочито изящна, природа — скромна и целомудренна, как сон младенца.
Лудовико Мавр был не только могущественным государственным деятелем, автором хитроумных интриг, но и щедрым меценатом, который пытался увидеть наяву свою мечту о величии Милана Сфорца. Он привнес в облик города неизгладимый отпечаток своей сильной личности. Правда, Мавр запятнал свою деятельность тем, что накликал на Италию нашествие иноземных захватчиков, положив тем самым конец ее независимости как в области политики, так и морали. И все же Лудовико обладал всеми чертами идеального итальянского государя, как они были сформулированы Макьявелли. Лудовико принадлежал к тому типу «сверхитальянца», о котором свидетельствуют биографии Колы ди Риенцо, Чезаре Борджа, Калиостро, Казановы, Гарибальди, Д’Аннунцио, Муссолини. Все это крайне противоречивые фигуры, каждая по-своему претендовала занять вакантный пост учителя народа. В жизни этих исторических персонажей безудержная амбиция всегда и неизменно сочеталась со стремлением запомниться потомкам каким-нибудь широким жестом. Увы, не всегда, а точнее говоря, никогда широта таких жестов не позволяла Италии вписать достойную страницу в героическую историю человечества. Странная судьба была уготована и великому Лудовико Мавру. Он вошел в историю как государственный деятель, доведший Италию до политического банкротства. Но вопреки этому он продолжает жить в исторической народной памяти как благородный рыцарь, бескорыстный покровитель искусств. Лудовико пережил свое время только потому, что окружил себя аристократами духа и аристократами мысли. Увы, для себя лично он не извлек никакой практической выгоды. Главное же, в чем он преуспел, — Милан все-таки вошел в историю как «град златой». Вряд ли отыщется более подходящее определение для описания или, скажем, для подведения исторического итога тому духу, который предопределил целую эпоху. Милан был прощальным отсветом Возрождения.
В Милане Лудовико Мавра «все казалось предназначенным для мирной и достойной человека жизни», свидетельствовал, например, Бернардино Корио. «Всех занимало накопление богатств. Для этого были открыты все пути». И далее: «Двор наших государей поражал своим великолепием, в нем блистали новые моды, роскошь одежды, изысканные удовольствия…» Ведь именно сюда, в Милан, стремились наиболее талантливые живописцы из самых отдаленных стран. Именно здесь, в Милане, звучали сладостные, ласкавшие грубый слух музыкальные гармонии, поражавшие своей смелостью и новизной. В Милане были созданы необычные звукосочетания, которые, казалось, низошли на грешную землю с небес, чтобы украсить миланский двор.
В своем стремлении придать Милану облик постоянно развивающегося и живого организма Мавр приказал украшать фресками фасады зданий. Таким образом, облик города постоянно менялся. В 1488 году началось возведение лазарета по проекту архитектора из Лугано Ладзаро Палацци. Герцог поручил Леонардо подготовить новый план развития города. Это было крайне необходимо в связи с безудержным его ростом в последние годы. Замысел герцога — достойное архитектурное обрамление зрелому Возрождению.
Прогресс был ведущей чертой любой области жизнедеятельности человека. Бартоломео Калько, умный и достойный государственный канцлер, создал в Милане народные училища. Томмазо Бьятти учредил кафедры астрономии, геометрии, логики, арифметики и греческого языка. Лудовико реформировал университет. Он поставил перед миланской высшей школой далеко идущие планы. Миланским студентам преподавали наиболее известные ученые своего времени: Джассоне дель Маино, Бенедетто Испано, Деметрио Калькондила, Джорджо Мерула… В то же время миланский герцог потребовал от студентов максимальной серьезности при прохождении курса, сугубой скромности в поведении, которыми, увы, не могли похвастать даже самые знаменитые отпрыски аристократических фамилий.
Так, всем было известно, что павийские студенты в особенности отличались распутством, чинили бесчинства и непристойности. Вот почему Лудовико Мавр именно в их адрес направил 7 апреля 1488 года особое наставление, потребовав от молодых повес научиться вести себя сдержанно и главное внимание уделять наукам.
Великолепие Милана выразилось также и в том, что при дворе Лудовико сформировался стиль особой элегантности в одежде. Впервые Милан перестал оглядываться на Флоренцию в том, что касается моды. Миланский стиль считался гораздо более роскошным и элегантным. Вкусы миланцев почитали во всей Европе как проявление утонченности вкуса. Герцог Феррары донимал письмами своего посла Тротти, требуя от того приобретать большие партии бархата и парчи, украшенной золотыми цветами, на миланском оптовом рынке. «Одет как миланец», — говорили об элегантном мужчине по всей Европе: Миланская марка была признаком хорошего тона.
С легкой руки миланских модников широкое распространение получила одежда из особой ткани, сотканной по персональному заказу. На «авторской ткани», как правило, было принято изображать эпизоды из жизни аристократического рода, к которому принадлежал заказчик, или события из жизни заказчика, если таковой мог считать себя достаточно знаменитым человеком. В костюм из такой ткани одет, например, Лудовико Мавр на портрете из собрания Тривульцио. Другой пример — сказочно прекрасный омофор, подаренный Мавром храму Сакромонте в Варезе по случаю своего счастливого бракосочетания. Речь идет о шитом золотом брокате, украшенном гербами Беатриче и Лудовико, которые окружены ветвями шелковицы.
Милан в то время славился и своими женщинами. Все были в восторге от цветущих матрон с огромной пышной грудью, пышными округлыми бедрами. Прекраснейшие возлюбленные Мавра — Галлерани и Кривелли, — чей облик и жест были необычайно изящны, тем не менее вполне соответствовали этому стандарту цветущей красоты. Не случайно поэт Антонио Каммелли, прозванный Пистойя, писал о миланских красавицах: «Что может быть милей миланской женщины? Тем более что в одной пышнотелой миланской красавице столько округлостей, что их с избытком хватит на двоих, а то и на троих любовников…»
Быть может стараясь подчеркнуть пышность груди и обширность бедер, вошедших в моду, миланские женщины конца XV столетия стали затягивать себя в ужасно тесные корсеты и украшать юбки необычайно длинным шлейфом. Рукав при этом должен был быть широким, как крыло волшебной птицы. В моде тогда же был тюрбан, из-под которого выбивались темные локоны, иногда, как бы невзначай, выглядывала коса, тоже бывшая в большой моде. Миланские франты, прославившиеся на всю Европу своей элегантностью, носили очень короткий плащ, облегающую торс тунику, туго стянутую поясом, рубаху с широкими рукавами и приподнятыми плечами. Берет мужчины непременно украшало перо, ноги обтягивали цветные шелковые чулки. Для миланцев были открыты особые модные магазины не только в Милане, но и во Флоренции, Лукке и других городах. В магазинах для мужчин прилавки ломились под тяжестью шелков. Зимой миланец обычно щеголял в роскошной дорогой шубе. Духи стали неизменной принадлежностью туалета. Они приобретались у цирюльника. Искусство цирюльника особенно ценилось. Курьезная подробность: в Милане был заведен обычай иметь крепко надушенные перчатки. Изабелла д’Эсте однажды послала пару таких «миланских перчаток» королеве Франции. Та была очень рада подарку. Единственное, что крайне удивило королеву, — перчатки источали слишком сильный аромат.
Разумеется, подобная элегантная жизнь стоила немало. В какой-то момент даже сам Лудовико ужаснулся и призвал к ответу Маттео да Кастеллуччо, «герцогского расходчика», и двух камер-юнкеров, трудившихся в бухгалтерии двора, — Пичето да Кремона и Франческо Гамберано.
— Расходы непомерно велики. Особенно по части нашей кухни, — обрушился на них с упреком герцог. — Следовало бы сократить траты. Впредь на нашей кухне не дозволяю держать более четырех поваров, к ним — четырех поварят и двух посудомоек. Их рабочий день необходимо поставить под жесткий контроль. Замечено также, что масляные факелы используются без должной рачительности. Распорядитесь, чтобы всякий, кто впредь пожелает получить новый факел, прежде возвратил черенок сгоревшего светильника. В конце года составьте подробный инвентарный список продовольствия, хранящегося в наших кладовых. И еще одно распоряжение: никто из служащих замка, возвращаясь вечером домой, не имеет более права уносить с собой съестные припасы. Если желает обедать с семьей дома — пожалуйста. Но требую немедленно прекратить вынос продовольствия с нашей кухни. Пусть все, кто работают в замке, питаются с нашего стола, однако, на мой взгляд, двадцать восемь парней, которых там ежедневно прикармливают кухарки, — это чересчур.
И в таком неожиданном приказе виден стиль Лудовико Мавра. Он вникал во все. Любое проявление городской жизни должно было подчиняться его контролю. Город ежедневно и ежечасно должен был ощущать, пусть и в самых незначительных мелочах, его присутствие, его деятельный организационный дар, на всем должен был лежать его глаз. Но, подобно всем великим людям, он постоянно противоречил самому себе. В тот самый момент, как были отданы распоряжения о наведении строжайшей экономии на кухне, он заявил своему ближайшему окружению, что Милан должен быть знаменит во всем мире также и своими гастрономическими изысками. Так и случилось. Вскоре Миланское герцогство стало меккой для гурманов со всей Европы. В Милане можно было отведать самый лучший в Европе сервелат, в Монце — ветчину, в Комо — форель, в Лугано — копченого угря. Герцогские повара не переставая изобретали новые блюда. Славились миланские закуски — тыква под маринадом, равиоли с разнообразной начинкой, знаменитый миланский «зеленый соус». Рассказывают, что одна домашняя хозяйка из Комо, по имени Мелоцца, изобрела знаменитые на весь мир «лазанье»! Изысканные вторые блюда, приправы, для приготовления которых использовались экзотические специи, целая вереница драгоценных миланских сыров — все это стало известно впервые в Милане, а затем перешагнуло и его границы.
Милан Лудовико — город, в котором ежедневно устраивают театральные, оперные спектакли, народные празднества, балы, танцы, турниры, состязания. Все это, как правило, завершается обильным застольем. До позднего вечера просиживают гости за богато сервированными пиршественными столами. Иногда пиры продолжаются далеко за полночь. Собравшиеся за одним столом миланцы праздновали радость жизни. Они пировали так, как никогда с античных времен не пировала Италия.
Гениальный государь преуспел в главном. Ему удалось добиться, чтобы вокруг его двора образовался остров процветания, способствовавший раскрытию дарований на всех поприщах жизнедеятельности. Так, не желая, чтобы земля, принадлежавшая Сфорца в Виджевано, пропадала даром, мечтая создать образцовое поместье, пример с которого могли бы брать крестьяне бедной Ломеллины, герцог распорядился, чтобы из Винченцы туда были завезены саженцы шелковицы с белыми и черными плодами. Герцог позаботился также о том, чтобы саженцы прижились. Затем по всей нищей Ломеллине его стараниями были расширены посевы риса, которые первоначально ввел его брат Галеаццо Мария. Благодаря этим и другим нововведениям плодородие почвы резко повысилось. Только с шелковицы в год стали получать дохода 7 тысяч лир. Поместье Сфорца в Виджевано, ставшее образцовым, взбудоражило воображение земледельцев по всей Европе. Ее правители были заняты тогда подъемом сельскохозяйственного производства. В 1494 году Лудовико подарил поместье своей жене, а после ее смерти поместье перешло к монастырю делле Грацие.
Еще одним проявлением многогранного таланта Лудовико стало окончание прокладки судоходного канала Мартесана. Этот классический водный путь был открыт еще во времена Франческо Сфорца, а его сын Галеаццо Мария продолжил работу, начатую отцом. В 1481 году Лудовико Мавр поручил своему инженеру Антонио Бривио усовершенствовать важную водную магистраль. Мавр считал необходимым установить прямое водное сообщение между Ларио и Миланом. Вот почему он хотел избавиться наконец от единственного несудоходного участка на Адде в районе Треццо и Бривио. С этой целью было задумано прорыть обводный канал.
К работе над этим проектом подключился также Леонардо, который предложил гениальное, как всегда, решение — канал должен был пройти через туннель, пробитый в скалах. Кроме того, Леонардо удалось соединить канал Мартесана с другим, который питали воды Тисина. По его проекту предусматривалось устройство шести шлюзов, чтобы преодолеть значительный перепад в уровне, на котором находились две водные артерии. Перепад по тем временам был непреодолимым препятствием — около тринадцати локтей! Итак, водное сообщение Тисин — Адда было налажено. Благодаря этим работам и другим инженерным сооружениям плодородие земель в регионе значительно возросло. Ломбардия превратилась в одну из самых плодородных долин Европы.
Система информации в ту эпоху способствовала быстрому распространению новостей. Успехи, одержанные Мавром в деле прогресса, головокружительный рост благосостояния в его «златом Милане» с молниеносной быстротой стали известны повсеместно в Европе. Внимательно вчитываясь в донесения своих послов, государи Европы испытывали не только восхищение, но и жгучее желание вступить с Миланом в соперничество. В скором времени в Европе пустил корни миф о Лудовико как о просвещенном государе, покровителе искусств (все художники, стоило только пожелать, могли рассчитывать на покровительство его двора, из уст в уста передавали, что художников герцог принимает в замке, предоставляя широкие, просторные покои, столовались они тоже в замке, свободно и вволю могли трудиться, в разговорах они могли даже выражать мнение, не совпадающее с тем, которое высказывал Лудовико!). Таким образом, в позлащенном мире итальянских государств эпохи Возрождения возникла легенда о Мавре, весьма напоминающая ту, которая изложена в историческом сочинении Корио. Главное действующее лицо эпохи — человек могучего и разностороннего дарования, осанка его величественна, обхождение благородно, ум острый, не признающий безвыходных положений — таков портрет Лудовико Мавра.
Многие тем не менее побаивались вспышек его безудержного гнева. Однако, по всеобщему убеждению, Лудовико был государем справедливым. В результате одного дворцового заговора в тюрьму был брошен престарелый слуга герцога Джоли. Рассказывали, что Лудовико Мавр лично позаботился о том, чтобы старика освободили. Более того, как передавали осведомленные люди, герцог попросил прощения у несправедливо обиженного старика за злоупотребление в отношении его личности, которое было допущено от имени Лудовико.
До тех пор пока не пришли дни трагической развязки вторжение в Италию французов во главе с Карлом VIII, — доходы Миланского герцогства неуклонно росли, достигнув 600 тысяч дукатов ежегодно. По распоряжению герцога эта огромная сумма была вложена в строительство общественных зданий, мелиоративные и оросительные работы, вспомоществование художникам и украшение двора, создание служб городского жизнеобеспечения, сделавших быт миланцев цивилизованным.
Многие усматривали в этом стремление Мавра угодить жене, которая в своей деятельности руководствовалась историческими прецедентами, примером великих меценатов. Естественно, влияние Беатриче на Лудовико Мавра было велико. Поэт Гаспаре Висконти в тот день, когда ему предстояло обратиться к герцогу с просьбой оказать ему «новые знаки внимания», поспешил прежде заручиться поддержкой Беатриче: «Любимица фортуны, застенчивый цветок! Снизойди благосклонно к моей просьбе, которую я к супругу твоему, Лудовико, обращаю. Нет, адресом я не ошибся! Добродетели твои столь велики, что все, чего бы ты ни пожелала, находит отклик в его неукротимом сердце!»
ГЛАВА VII Гений во дворце — Леонардо
Лудовико внимательно читал и перечитывал странное письмо. Воображение тотчас поражал необыкновенно четкий бисерный почерк с особым наклоном — признак четкости и ясности мысли автора. В письме необычайно заманчивое предложение…
Письмо, полученное миланским герцогом в 1482 году, было отправлено из Флоренции молодым художником, который уже пользовался в своем городе широкой известностью, тридцатилетним Леонардо да Винчи. Он снискал себе славу при дворе Лоренцо Великолепного. Леонардо, будучи, как и все, под впечатлением культурного авторитета Милана, предлагал Мавру свои услуги. Если этот тридцатилетний гений не преувеличивает, рассуждал герцог, то ум его способен на многое. Вот Леонардо пишет, что может работать и военным инженером, и придворным живописцем, и рисовальщиком, и архитектором. Основное же направление его деятельности, судя по письму, — инженерное обеспечение фортификационных работ и проектирование новых видов оружия — «военных машин». Говорят, что этот Леонардо действительно изобретает невиданные военные машины — как для наступления, так и для обороны. Но Мавр, умевший разбираться в людях, понимал, что в письме главное не это, а просьба Леонардо дать ему наконец возможность потрудиться на поприще художественного творчества. Леонардо желал быть художником, живописцем. Скорее всего, предположил Мавр, этот флорентиец рассчитывает, что при дворе Сфорца он обретет свободу творчества в качестве придворного скульптора.
«В мирное время полагаю я возможным исполнять наряду с другими заказы в области архитектуры, возведения общественных и частных зданий, обустройства водопроводов… Кроме того, я мог бы приступить к созданию бронзовой конной статуи, которой можно было бы увековечить память государя, вашего отца, и славного дома Сфорца».
Лудовико прекрасно понимал, о чем идет речь. Судя по этим словам, Леонардо каким-то образом был осведомлен о проекте, задуманном еще в 1473 году братом Мавра Галеаццо Марией. Мысль о создании грандиозной конной статуи отца — Франческо Сфорца, — прославляющей его как кондотьера и государственного деятеля, все еще была жива.
Идея о сооружении в Милане конной статуи Сфорца была подсказана Галеаццо во время исповеди у отца Альмерио. Племянник этого католического монаха был скульптором. Монах надеялся, что племяннику его перепадет столь дорогостоящий и почетный заказ. Но с тех пор о проекте практически забыли. Во всяком случае, никто больше не предлагал создать конный монумент в честь Франческо Сфорца.
Лудовико задумался над письмом Леонардо. Скорее всего, этому художнику стало известно о планах от самого Лоренцо Великолепного. Но если Леонардо действительно такой дельный художник и скульптор, то, спрашивается, отчего синьор Флоренции спешит с ним распрощаться? Правда, художники — люди, как правило, своенравные, неудобные. Мавр прекрасно знает об этом по собственному опыту. Выходит, Леонардо, пусть он и автор прославленных живописных полотен, уже успел чем-то досадить великому Медичи. Да, но Лудовико привык общаться с людьми талантливыми, характер которых крайне неровен. Итак, Лудовико решил испытать судьбу и пригласить к себе нового художника. Он рассудил, что в том случае, если Леонардо окажется «с трудным характером», ему так или иначе удастся найти способ сбыть его обратно во Флоренцию.
Размышляя над предложением, полученным от Леонардо, Лудовико был недалек от истинного положения вещей. Слишком не похож был Леонардо на других, более покорных художников. Уровень его был чересчур высок, чтобы выработать хоть какой-то модус вивенди со своим завистливым окружением. Вина Леонардо в глазах этого окружения была еще и в том, что сам он давно осознал свое интеллектуальное и художественное превосходство. Во Флоренции Леонардо перессорился со всеми — с кем можно и с кем нельзя. Ядовитые на язык флорентийцы (а Тоскана, надо сказать, всегда славилась злыми острословами) использовали малейший предлог, чтобы развенчать славу Леонардо. Лоренцо Великолепный, весьма осведомленный в потрясающей и уникальной способности Леонардо находить применение своему дару во всех областях художественного и инженерного творчества, знавший также о желании миланского герцога создать грандиозный монумент в честь своего отца, посоветовал художнику переменить место жительства.
Художник и миланский герцог с самой первой встречи установили дружеские отношения. И тот и другой обладали сильным характером, ставили перед собой грандиозные цели. Им суждено было понять друг друга с первого же сказанного слова.
— Тело боевого коня вздыбилось на краю пучины, в его динамике мне хотелось бы уловить скоротечное время, — объяснял Леонардо герцогу, жадно ловившему каждое слово. — Твой отец, государь, предстанет величественным, могучим рыцарем, облаченным в боевые доспехи.
Леонардо, однако, никогда не довольствовался достигнутым. Словно не доверяя своему внутреннему видению, он приступил к серии рисунков, стараясь движением карандаша схватить все нюансы движения, все детали мышечного напряжения огромного мускулистого тела. Леонардо работал на особой темно-синей бумаге. Он нарисовал десятки фигур вооруженных рыцарей. Он хотел, чтобы памятник стал чем-то новым, никогда и никем не виданным прежде, чтобы он исторг из груди Лудовико восхищенный стон, чтобы весь народ Милана взвыл от восторга. Естественно, для такого монумента потребуется огромное количество бронзы. Да, нужно много металла, чтобы отлить в осязаемом материале мечту художника. Леонардо, несмотря на свои тридцать лет, уже имел за плечами огромный творческий опыт. Рисовать он начал еще совсем мальчишкой во Флоренции, в знаменитой мастерской Андреа ди Чоне, прозванного Верроккьо — Верный Глаз. Первая работа, сделанная Леонардо самостоятельно, — ангел, поддерживающий тунику на полотне Верроккьо «Крещение Христа», заказанном монахами Валламброзы для церкви Сан-Сальви. Ангел удался юному Леонардо на славу. Его фигура уже несет в себе отпечаток неповторимого стиля Леонардо. Ученику удалось вдохнуть в ангела душу. Ангел впился в небо вдохновенными глазами. Казалось, дуновение ветра ласкает легкие волнистые волосы. Нимб святости оттенял их прозрачную воздушность. Ангел — творение Леонардо — был настолько прекрасен и необычен, что другой, стоящий бок о бок с ним ангел, написанный зрелым мастером, казалось, замер в восхищении перед неземной красотой. Впервые увидев это воплощение замысла Леонардо, Верроккьо был потрясен до глубины души. Первая его реакция — гнев: как посмел, молокосос! Затем наступила полоса мрачной депрессии. Верроккьо вообще решил бросить живопись, так он был потрясен мастерством ученика. Совсем ведь мальчишка, а в сердце искра божьей гениальности! Пейзажный фон ставшего сразу же знаменитым «Крещения», созданный юным живописцем, также свидетельствовал об исключительном даровании. Оно, правда, пока не устоялось, но в нем уже был виден взрослый размах. Никто не мог остаться равнодушным, видя колеблющиеся вдалеке воды прозрачных озер и дымчатые, едва обозначенные скалы; наполненный жизненной силой ландшафт служил философской опорой драматического повествования о жизни и судьбе человека. Флорентийские художники не без уважения стали присматриваться к юноше, но многие уже бросали на него завистливые взгляды как на будущего соперника. В благородной свежести юношеского лица Леонардо уже просматривалась железная, несгибаемая воля борца. Именно таким запечатлел его Верроккьо в своем портрете Давида. Мастер взял Леонардо натурщиком. Верроккьо удалось передать напряженный огонь в глазах юноши, сжатый тонкий рот с упрямой складкой, летучую нежность мягких волос.
Прошло всего несколько лет. Леонардо подтвердил свой престиж мастера, не имеющего себе равных. Несмотря на некоторую статичность персонажей «Благовещения», несмотря на то что Мадонна еще не обрела по воле живописца дара речи, а ангел был не более чем прекрасным эфебом, Леонардо уже в этой своей работе проявил величайший вкус художника, стремящегося постичь таинство жизни, округлость жеста Мадонны, загадочность ее улыбки. Подо всем этим Леонардо подразумевал, что существует многосоставная, обманчивая игра жизненных сил. Мадонны, созданные ранним Леонардо, все обладали сдержанной грацией, улыбчивым лучистым взглядом, подернутым какой-то горестной дымкой, волшебством неизреченности. Леонардо подолгу бродил по флорентийским улицам, испытующе вглядываясь во все проявления жизни. Он впивался в лица людей серо-стальными иглистыми глазами художника, запечатлевая в памяти черты, чем-то его поразившие, пытаясь проникнуть в таинство неосязаемого, загадочного покрова, защищающего личность отдельного человека от постороннего взгляда. Более всего интересовали Леонардо лица женщин. Он внимательно изучал игру чувств, волнами жизни набегавших на их кружевно-нежные лица, блеск смеющихся глаз, волнения сердца, на которые накинута таинственная вуаль умиления. Мадонны юношеского периода — пример художнического поиска Леонардо. Это все девушки в первом цветении лет, опасливо вступающие в жизнь со всеми ее превратностями. Это классический профиль, смятение взгляда человека, истерзанного недовольством самим собой. Это лучезарные таинства, погруженные во влагу бесконечно меняющегося течения времени, лишь отдельные всплески которого отразились в зеркале реальности.
Итак, находясь в неутомимом поиске путей проникновения в скрытый чувственный мир человеческой личности, Леонардо начал создавать в 1481 году «Поклонение волхвов». Эту работу, увы, ему не суждено было завершить в связи с отъездом в Милан. Но в «Поклонении волхвов», несмотря на незавершенность, с мощной полнотой выражена уверенность гения в своих силах. Неуловимая экспрессия образа Мадонны — взволнованность, неудовлетворенность собой, поиск стабильности, незавершенность пути. Все это Леонардо наметил в предыдущих работах. Но в этой Мадонне странным образом есть нечто современное нам. В ней вибрирует отчаяние человека, обреченного на казнь одиночеством. Кровоточит незримая душевная рана, прикосновение к которой и сегодня, сегодня особенно, опаляет огнем. Какая бездна страдания! Волхвы и пастухи — физиономии простых флорентийцев времен Леонардо. Горестные, жалкие, озлобленные, скорбные, уморительно смешные, гримасничающие… Вот она, Флоренция! На фоне — сцены городской повседневной жизни, одухотворенные взором великого мастера. Кони, люди, дома, деревья, и сквозь это кружево жизни синеет небо — чистое, лазоревое, теплое!
Занятия живописным трудом, однако, не помешали Леонардо искать выхода своему страстному желанию — насытить, попытаться насытить ненасытное в общем-то вместилище разума, которым обладал человек Возрождения. Он хотел объять необъятное. Он желал все знать. Области знания, очерченные современной ему эпохой, были для него слишком узки. Какая-то буквально физическая напряженность, заполнявшая каждый час его жизни, его страстное желание расширить круг доступного ему опыта, изматывала душу и утомляла могучее сердце. Леонардо изучал астрономию и космологию. Он превращался в живую энциклопедию знаний своей эпохи. Но был удовлетворен собой тем больше, чем чаще замечал природную ограниченность человеческого разума. Ведь в силу подобной ограниченности человек, овладев какой-либо областью познания, тотчас и неизменно упускает какой-либо другой, фундаментальный элемент мироздания, понятого только с одной познавательной стороны. Леонардо изучал также математику и биологию. Его ум должен — он был в этом уверен — повторить шаг за шагом опыт античного человека, устремленного к свету знания. Леонардо предпринимал сверхчеловеческие усилия, чтобы приблизиться, хотя бы на один шаг, к новому языку науки. И, как это ни парадоксально, часто, слишком часто недоставало ему для этого простого твердого знания латинского языка, которым он так никогда и не овладел в совершенстве. А ведь наука говорила тогда только по-латыни! Особенно в том, что касалось точного знания, точных наук. Вот отчего Леонардо был вынужден прибегать к рисунку, призванному объяснять и ему самому, и собеседнику-оппоненту то, что он сам при помощи языка не был в силах изложить на бумаге. Так появились на свет неподражаемые анатомические штудии — рисунки, сделавшие видимой суть его открытий. Леонардо бросил, таким образом, вызов бегу невозвратимого времени. Он изобрел «машину времени», сумев выразить предельно зримо прежде всего свою сверхчеловеческую способность переводить в термины «осязаемой мысли» то, что вряд ли было доступно в научном изложении на страницах какого-нибудь ученого трактата. Благодаря рисунку Леонардо вступил в колдовской мир невыразимого словами. Ему удалось наделить концепции даром речи, высечь искру потенциально заложенных в этих концепциях возможностей, ведь в противном случае они так и остались бы в плену темной немоты. В то же время Леонардо был одержим какой-то патологической страстью, творческим горением реалиста. Спазмы волевой целеустремленности такого прагматика, каким оставался он всю свою жизнь, подвергали его жизненную установку испытанию на прочность. Но сопротивление материала было велико! Он был глубоко убежден в том, что каждому умозрительному образу — «концепции» — должна соответствовать вполне конкретная графическая форма, следовательно, полагал он, все сущее во Вселенной может и должно быть переведено на язык живописи, на язык «осязаемых» зрительных образов. Когда же Леонардо не удавалось выполнить поставленную перед собой задачу — перевести в образный ряд концепции, упорно не поддававшиеся зримому осмыслению, например свое представление о том, что есть человеческая душа, — он делал вывод, что все рассуждения человека о душе — выдумка, досужая выдумка античности. «Все прочее, относящееся к концептуальной стороне такого понятия, как душа, оставим лучше на попечение монахов и старцев, сидящих по своим кельям, только им ведомы все секреты так называемой души, ибо лишь они удостоились этой благодати».
К тридцати годам Леонардо достиг такой интенсивности творческого горения, что почувствовал себя в силах охватить мысленным взором всю область доступного тогда знания. Он жаждал поделиться с людьми, пусть предварительно, пусть в виде несовершенного наброска, своими открытиями в области человеческого духа. Но его чрезвычайно расширившемуся умственному горизонту было невыносимо тяжело существовать в конкретных обстоятельствах повседневной жизни. Леонардо давно заметил, что зависть коллег и прочих людей обрекает его на изматывающую борьбу за существование. Толпа не прощает гениальности. Леонардо приучился повторять: «Оставайся один, тогда ты принадлежишь самому себе».
Он заставлял себя следовать заповеди: гордое одиночество решение всех жизненных проблем. Гений может и должен довлеть самому себе. В реальной жизни злоречие посредственности обрекало его ежедневно на борьбу за свое право быть самим собой. Трудная эта борьба! Нервное напряжение было столь велико, что порой Леонардо не находил сил продолжать начатую работу. Его жизнь была чередой ужасных мучений. Вот почему принял он трудное решение покинуть родину, неблагодарную Флоренцию, которая в последние годы причинила ему столько страданий. «Медичи создали меня, но они же меня и погубили».
При дворе миланского герцога Леонардо выполнял обязанности скорее советника, нежели мастерового, работающего по заказу. Скорее всего, Леонардо сам избрал для себя это поприще. Он с головой ушел в инженерную работу, проектировал городскую канализацию и оросительные системы, занимался реставрацией старых и возведением новых прекрасных палаццо, инспектировал крепости и общественные здания. Самые крупные строительные площадки в Милане и окрестностях требовали его постоянного присутствия. Леонардо исправлял чужие ошибки, подсказывал, как лучше повести дело, иногда был вынужден переделывать заново то, что ошибочно начали делать другие инженеры. Леонардо отвечал за строительство на территории замка, благоустраивал поместье Сфорца в Виджевано, где ему нравилось бывать.
Мавр иногда упрекал Леонардо за то, что он не может сосредоточиться на какой-то одной главной работе, занимается многими делами сразу, причем в самых разных областях художественного творчества.
— Не лучше ли сосредоточиться на какой-нибудь одной идее? Добиваться совершенства в реализации какого-нибудь одного замысла? Быть может, в таком случае твой ненасытный ум обретет наконец спокойствие, которого ты ищешь и не находишь?
— Не думаю, — ответил Леонардо. — Успокоение в моем случае не зависит от какого-то одного дела. Главное для меня — увидеть реальность во всех ее проявлениях. Осуществить творческий замысел, думаю, суждено мне не в одной, а во многих отраслях знания. Но ведь все они сводимы к одному. Не мыслю себя без занятий инженерным делом, без живописи, без ваяния, без зодчества, возведения крепостей, благоустройства городской жизни, без попытки объять разумом бесконечное пространство создаваемых человеком наук. Быть может, именно это, последнее, интересует меня более всего на свете. Даже более, чем искусство. Мне интересна жизнь как таковая.
Действительно, Леонардо, бывая то в одной, то в другой части города, углубляясь по ночам в самые обездоленные его кварталы, пируя на балах, устраиваемых аристократами, путешествуя в окрестностях города, пытался вплести свой голос в хор, славящий жизнь. Его подлинно тосканский характер не изменял ему никогда. Даже в жестоких шутках, которые он любил устраивать по всем правилам театральной буффонады. Однажды ему пришло на ум вырезать из тыквы зверские маски, физиономии бандитов. Тайком пронес он эти маски в зал, где должен был состояться дружеский ужин, и пристроил их в дальнем темном углу пиршественной залы. Казалось, нагрянула банда страшных разбойников. Смертельный страх объял пирующих. В Леонардо со временем развилась особая черта характера — стремление к мистификации. Много лет спустя, уже находясь при французском дворе, он время от времени строил какие-то странные приспособления для показа призраков. Король Франции получил однажды в подарок механического льва. На балу в Аржантане, во время посещения королем Нормандии, где он встретился со своей сестрой Маргаритой де Валуа, механический зверь Леонардо, к ужасу собравшихся, появился в бальной зале. Начались давка и паника. Гости пытались выскочить кто в дверь, а кто и прямо в окно. Но в этот момент по знаку Леонардо в зал вошел странный монах-отшельник. В наступившей тишине монах вручил волшебный жезл королю, который трижды прикоснулся им к голове дикого льва. Грудь чудовища разверзлась, и оттуда высыпались дождем лилии, море цветов! Неплохой сюрприз придумал Леонардо для гостей короля. С 1487 по 1490 год деятельность Леонардо при миланском дворе была особенно насыщенной, хотя, как правило, он почти что никогда не доводил начатое до конца. Герцог в этот период хлопотал об устройстве вечной кровли на крыше Миланского собора. Дело в том, что Собор венчают многочисленные башенки и колоколенки. Начат Собор был еще при Висконти. Мавр мечтал войти в историю как герцог, завершивший сооружение Собора кровлей. Потомки должны были воспринимать Собор как символ его художественного вкуса. Мавр подолгу беседовал об этом с Леонардо и Браманте. Но, не удовольствовавшись их предложениями, обратился к Сьене, попросив о присылке в Милан великого сьенского зодчего — Франческо ди Джорджо Мартини. Великий сьенец неоднократно встречался с Леонардо и Браманте. В конце концов новый проект кровли был одобрен герцогом. Как обычно, Леонардо с жаром взялся за осуществление проекта, доведя его, как говорили итальянские зодчие, «до ума».
Вместе со своими новыми друзьями, Браманте и Франческо ди Джорджо, 20 июня 1490 года Леонардо отправился в Павию, чтобы обсудить на месте по поручению герцога ход строительства Собора. Леонардо был очень чувствителен к признанию своих заслуг. В подорожную, где о нем было сказано как о «герцогском инженере», он заглядывал особенно часто. Этот пергамент стал предметом его гордости. Однако и на этот раз смелости его замыслов предпочли проект другого инженера: окончательная концепция Павийского собора принадлежала все-таки Браманте. Но и в ней мы находим отзвук замысла Леонардо.
Наконец Леонардо взялся за исполнение заказа, быть может, самого ответственного за всю свою миланскую карьеру. Дело не в том, что ему предстояла какая-то особо сложная работа. Речь шла о гораздо большем — о судьбе его дружеских отношений с Лудовико Мавром. Герцог в 1488 году обратился к Леонардо с дружеской просьбой написать портрет самой дорогой его сердцу дамы — Галлерани. Леонардо пристально всматривался в лицо молодой особы, ставшей притчей во языцех двора. Опытный его взгляд, читавший в глубинах женского сердца, оценил ее утонченную красоту. Редко когда доводилось ему видеть столь совершенные черты. Галлерани была вежлива, но предельно холодна. Мастер вновь узрел в ней ту загадочную нежность, которую он уже научился передавать в своих флорентийских Мадоннах. Черная ленточка перехватила чело Чечилии, оттеняя его чистоту. Глаза живые и подвижные. И в то же время их словно заволокло какой-то грустью. Профиль классический, вытянутая аристократическая рука касается зверька — горностая, пригревшегося у нее на коленях. Дама с горностаем — вот она, перед ним! Вдали умолкает шум миланского двора. Галлерани обретает бессмертие. Тонкие, почти прозрачные линии ее лица становятся образцом прекрасного для будущих поколений. Таинство непреходящей, вечной красоты вызвано к жизни взмахом волшебной, животворящей кисти. Этот образец будет превзойден только в портрете Джоконды.
Изобретательность, смелость поиска, придавшего его кисти волшебное умение отсекать отжившее и обнажать живое, фантазирование, естественно смешивавшее действительность с философским вымыслом, — все это стало для Леонардо жизненной потребностью. Свадьба Джана Галеаццо Сфорца в 1489 году была как раз одним из тех счастливых случаев, когда его причудливый, фантастический дар сумел раскрыться в наиболее вольной форме. Леонардо придумывал украшения, костюмы, цветовую гамму для обрамления битвы на копьях. Он подготовил сотни эскизов, по которым опытные портные сшили изумительной красоты костюмы для рыцарей и их болельщиков. Наконец Леонардо задумал и осуществил всю механическую часть грандиозной оперы «Райский праздник», поставленной в замке 13 января 1490 года. Быть может, Леонардо испытывал необходимость в самоутверждении, ибо не покидало его тревожное чувство, что он оказался в опале у герцога, что Лудовико уже не уважает его так, как прежде. Самое же печальное то, что и он, и все остальные уверены: конная статуя Франческо Сфорца, из-за которой он, собственно говоря, и был приглашен к миланскому двору, не будет построена никогда.
Более других в скептическом тоне о возведении памятника высказывался Пьетро Аламанни, флорентийский посол при миланском дворе. 22 июля 1489 года он писал во Флоренцию Лоренцо Великолепному, давая отчет о своей последней встрече с Лудовико Мавром: «Маэстро Леонардо да Винчи, — сказал миланский герцог, обращаясь к флорентийцу, — признанный гений. Но, как все гении, он — сплошное непостоянство. Мы поручили ему несколько лет назад возведение грандиозного конного памятника в честь нашего отца. Рисунки, которые он нам представил, свидетельствовали о том, что замысел его великолепен. Но, увы, работа с тех пор так и не сдвинулась с места. Зная о переменчивости настроений Леонардо, можно было бы предположить, что он утратил к этому нашему начинанию всякий интерес. Правда, существуют макеты. Быть может, единственное, в чем мы испытываем недостаток в настоящее время для завершения проекта, так это исполнитель. Я просил бы Лоренцо Великолепного дать мне совет, кто из известных ему мастеров мог бы довести до конца эту конную статую».
Итак, Аламанни передал во Флоренцию эту просьбу Мавра. Доброжелатели, естественно, позаботились о том, чтобы Леонардо тотчас узнал, что его отстранили от проекта. Хотя, как знать, скорее всего, сам Лоренцо позаботился о том, чтобы беглец как следует прочувствовал горечь поражения. Во всяком случае, Леонардо сосредоточил отныне все свои силы на том, чтобы доработать проект. Один из первоначальных его замыслов — вздыбленный на скаку конь, который должен сбросить вцепившегося в него всадника, чтобы устремиться вдаль на свободу, подобно выпущенной из туго натянутого лука стреле. Такова была динамика замысла. Теперь же Леонардо представлялось, что это все во многом осложнит или даже сделает невозможным осуществление проекта на практике, ведь надо было махину отлить в бронзе. Леонардо подготовил новые эскизы, где разработал в подробностях иную концепцию памятника: конь спокоен, с достоинством шествует под рыцарем, торжественно восседающим в седле. Леонардо обратился к Мавру за одобрением нового варианта.
— Полагаю, я непростительно долго заставил вас ждать. Но вот только сейчас я, пожалуй, могу предложить на ваше рассмотрение более уравновешенную концепцию. Отец ваш был не простым кондотьером. Он был создателем и хранителем итальянского равновесия, великим примирителем противоречивых интересов многочисленных итальянских государств. Он был государственным деятелем, в максимальной степени проявившим качества военачальника и дипломата. Вот почему мне потребовалось время. Только сейчас я принял окончательное решение — классическая и гармоничная уравновешенность двух объемов: фигур рыцаря и боевого коня. Вот в чем весь смысл. Древние поступили бы точно так же. Франческо Сфорца — это Марк Аврелий нашей эпохи. Только сейчас я готов приступить к заключительному этапу работы над монументом.
Мавр улыбнулся. О, как хорошо знал он людей! Он знал, что перемена в настроении Леонардо была предопределена с тех пор, как он, Мавр, пригрозил, что откажет Леонардо в своем уважении. Теперь же, когда великий мастер в столь изысканной манере сумел извиниться за несколько лет, пропавших для работы над заказом в общем-то даром, да еще представив дело таким образом, будто он только и делал, что денно и нощно обдумывал проект памятника, Лудовико не оставалось ничего иного, как согласиться:
— Что же, приступай, но поторапливайся.
Леонардо записал в своем дневнике: «23 апреля 1490. Начал эту книгу и возобновил работу над конем». Но, быть может, в тот самый момент, когда он приступил к работе, она снова стала ему претить. Таков был его темперамент — неуравновешенный, склонный к фантастическим преувеличениям. Леонардо возвратился к своим прежним великолепным рисункам. Какой грандиозный замысел! Вот они — боевой вздыбленный конь и поверженный наземь рыцарь! Отказаться от такого потрясающего замысла? Нет, никогда! Леонардо воскресил в своем сердце ту любовь, с какой он работал над этим устремленным ввысь и вдаль конем. Все чувства напряжены. Ведь это откровенный образ бунтаря и мятежника, спешащего на поле брани! Это образ его собственной бунтарской души. Но Леонардо понимал умом, что времени у него не осталось. Проволочки, задержки с работой над проектом не были только лишь прихотью его фантазии. Дело в том, что никто и никогда еще не пытался отлить подобную конную статую. Образ же более классический и гармоничный, образ Сфорца, государственного мужа, подготовившего великое благодеяние для Италии — мир в Лоди, создавшего систему итальянского равновесия, более конкретен и имеет все шансы стать образцом нового итальянского стиля. Леонардо уверен, что превзойдет великие шедевры Гаттамелаты, Донателло, Коллеони и своего наставника и учителя Верроккьо.
Но беспокойный характер никак не дает ему возможность принять действительно окончательное решение. Прошло еще несколько недель, и Леонардо отверг первоначальный замысел. В голове теснились идеи одна безумнее другой, лишавшие его сна. Нет, он не мог не дать им выхода. Пусть оживут хотя бы на бумаге.
— Более других меня занимает разработка военного мотива, — признался Леонардо герцогу. — Быть может, виной тому грозовые тучи, сгустившиеся на горизонте Италии.
Леонардо извел несколько тетрадей, заполнив их записями, рисунками, проектами, картами, в которых стал разрабатывать заинтересовавшую его вдруг тему. Он даже переписал и тщательно прокомментировал трактат «О военном искусстве», изданный Вальтурием в 1472 году. Как всегда, когда язык научно-технических трактатов подводил его, так же как подводила латынь, он восполнял пробелы потрясающими зримыми образами своих сокровенных мыслей. На страницах военных тетрадей оживали огромные военные машины — машины смерти, хитроумные, фантастические твари, напоминавшие отчасти те, которые выдумывали Франческо ди Джорджо и Таккола. Но и на этой стезе Леонардо значительно обогнал время. Всякий рассматривающий в удивлении эти военные рисунки не мог не испытать потрясения. Да ведь это же прообраз орудия будущих эпох, современных нам машин смерти и разрушения! Ви́дение гения не знало пределов времени, к какой бы области творчества он ни обратил свой внутренний взор. Мавр был равно потрясен и удивлен увиденным.
— Они слишком хороши и грандиозны! Вряд ли такие машины могут быть воплощены на практике, — прокомментировал он вполне в реалистической манере. Но в глубине души герцог был восхищен потрясающей творческой фантазией своего придворного художника.
— Я придумал ужасное оружие, способное уничтожить одним ударом целый батальон. Машина столь мощная и смертоносная, что мне самому иногда страшно: неужели это придумал я? — признавался Леонардо своему герцогу.
Лудовико был вне себя от радости.
— Враги, опасные враги у нас повсюду. Если они проведают, что в наших арсеналах имеется такое разрушительное оружие, то можно не сомневаться: носа к нам не покажут!
— Давай посмотрим рисунки. Вместе поразмыслим, как лучше осуществить задуманную конструкцию, — предложил герцогу Леонардо. — Лучше, конечно, сделать это не в замке. Слишком здесь много шпионов. Не соизволил ли бы ты сам прийти ко мне? Там мы будем в полной безопасности.
И Мавр навестил Леонардо. Художник жил в доме весьма надежном. Кроме двух преданных слуг — старухи-кухарки да старика-молчуна, — в доме больше не было никого. Леонардо вручил герцогу целую папку рисунков. Лудовико жадно разглядывал адскую машину, способную произвести переворот в военном деле.
— Не угодно ли взглянуть, как стреляет моя пушка?
По знаку старый слуга приступил к работе: он взял клещами несколько металлических пластин, развел огонь в камине. Хозяин давно приучил его к самым диковинным опытам. Но одно дело — работать наедине с безумным хозяином дома и совсем другое — на глазах высокомерного и требовательного герцога. Слуга был в смятении, руки его дрожали. Старуха забилась в каморку под лестницей, откуда доносились ее всхлипывания и молитвы. Наступила глухая ночь. Дом погрузился в угрожающую темноту. Время летело, они и не заметили, как рассвело, как пробило полдень. Наконец алчный взор Лудовико уловил в бесформенном нагромождении металла очертания орудия смерти — таинственного и ужасного. Оно обретало форму. Старый слуга с трепетом проверял его механизмы. Вдруг ужасный взрыв потряс стены старого дома. Словно грянул гром. Орудие разнесло на мелкие части. От удара взрывной волны с потолка обрушилась штукатурка, вылетело несколько кирпичей в стене. Искаженное ужасом лицо старухи маячило в клубах пыли. Леонардо застыл в оцепенении. Лудовико осуждающе покачал головой. Они поспешили распроститься друг с другом. Мавр заторопился в замок. Герцог одновременно был доволен — орудие все-таки сработало — и раздосадован опрометчивостью своего придворного инженера.
Лудовико привык к мятущемуся гению Леонардо. Он давно перестал призывать своего художника к порядку. Герцог предоставил ему свободу развлекаться вольной игрой ума, разрабатывать странные и причудливые замыслы. Главное — что пребывание Леонардо при дворе давало престиж дому Сфорца в глазах окружающих. У Леонардо потрясающая интуиция. Фантазия его неисчерпаема. Леонардо же, обретший наконец синьора, позволившего его творческой натуре действовать по собственному произволу, не находил места: ему было тесно в Милане. Здесь он знал, пожалуй, любой закоулок. Его энергия не находила достойного применения. Леонардо скитался по городам и весям Ломбардии. Он искал успокоения на лоне природы. Он путешествовал, проверяя состояние памятников и работу гидравлических систем.
В Комо он погрузился в изучение архитектурных особенностей тамошнего собора. Он спроектировал новое обустройство канала Мартесана, сделав его полноводнее за счет вод Тисина. Занимаясь инженерными работами, благоустройством городов, техническим проектированием, углублением научного знания, он успевал осуществлять свои сокровенные мечты и как художник. Он рисовал, кисть тоже была у него постоянно в руках, он пытался запечатлеть вечный облик прекрасного.
Однако в его представлениях разрыва между научным и художественным творчеством, между реальным и фантастическим, между художником, зодчим и математиком не было. Вот почему он принял решение полностью посвятить себя систематической научной деятельности.
— Я желал бы написать несколько научных трактатов, — поверил он свои мысли Мавру, который, впрочем, давно привык к безумствам гения. — В этих трактатах должно быть изложено знание по механике, архитектуре и анатомии лошади. В этой работе мне хотелось бы обобщить весь свой опыт. В конечном итоге речь идет о написании единого свода знаний, посвященных живописному искусству. Ведь этот вид творчества зависит не столько от техники, сколько от суммы знаний человека о самом себе и окружающем его мире.
Жажда познания заставляла Леонардо искать встреч с наиболее значительными деятелями науки своего времени. Он завязал дружбу с Лукой Паччоли, одним из наиболее внимательных к проявлениям новой мысли ученых, историков и практиков математических исследований эпохи Возрождения. Благодаря их беседам и дружбе появилась серия работ Леонардо «Божественная пропорция».
Философия также глубоко и искренне волновала Леонардо. Он одержим стремлением докопаться до сути, исчерпать всю глубину величайших вопросов, которые современный человек унаследовал от классической античности. Леонардо погрузился в изучение теорий неоплатонизма. Он снова обратился к вселенной Аристотеля. Леонардо пытался понять, до каких неведомых пределов человеческий разум способен продвинуть границу познания.
Но всякий раз, когда природный рационализм Леонардо ставил его лицом к лицу с великими метафизическими идеями и абстрактной системой аргументирования мысли, питавшей своими соками философские спекуляции средневековья, Леонардо начинал испытывать глубокую тревогу. В этих идеях ему недоставало опоры на конкретное знание о мире. Тогда он снова возвращался к реальности, «научному рисованию», к великим частностям природы. Едва ли не на грани метафизического порыва, правда неизменно уравновешиваемого ощущением реальной почвы под ногами, Леонардо пытался передать в графической форме жизнедеятельность животного мира. Но, увлекаемый всякий раз безбожной своей фантазией, он снова и снова возвращался к миру механики. Леонардо обладал глубочайшей интуицией во всем, что касалось механизмов. Взгляд его глубоких и проницательных глаз, не стесненный никакими уловками и предрассудками разум, движение сильной и точной руки, постоянное напряжение мысли — все это с особой страстью вложил он в рисунки, на которых изображена жизнь зубчатых колес, винтов, лантерн, рычагов, суппортов, тяг, передач, валов… Леонардо был прирожденным инженером. Но к инженерному искусству он умел присовокупить творческое горение, воображение, которому не было в мире равных. Лучезарное прозрение человека, способного претворять свои замыслы в реальность, — вот смысл его инженерного подвига.
Мавр же опять обратился к Леонардо, на этот раз с просьбой написать портрет своей новой возлюбленной — Лукреции Кривелли, тоже красавицы редчайшей пробы. Портрет Галлерани пришелся весьма по вкусу Лудовико. Она, правда, успела пожаловаться на художника. Велико было ее удивление тем, что он отнесся к ней без должного пиетета. Прежде чем приступить к работе, он учинил ей форменный допрос с пристрастием. Он, видите ли, желал знать все о ее привычках, о том, какое у нее было детство, какая юность, что она думает о себе сейчас. Вопросы, надо сказать, иногда были самыми что ни на есть провокационными. А некоторые и вовсе непристойными!
Галлерани без особой охоты выполняла требования маэстро. Но с тех пор, как портрет был готов и в нем, по всеобщему мнению, была выражена наиболее полная и глубокая интроспекция ее души и красоты, Галлерани поняла, что столь назойливое, жадное любопытство художника к подробностям ее частной жизни является одним из секретов великого мастера.
Лудовико настаивал на том, чтобы Леонардо непременно написал портрет Лукреции. Женщина эта, разумеется, не могла ответить непослушанием своему покровителю и господину. Правда, Лукреция согласилась, только чтобы угодить Лудовико. К Леонардо она относилась без какой-либо симпатии.
— Мне рассказывали, что он не умеет приняться за работу. Сидит, все о чем-то думает. Мучает натуршиц, да и только! Да и человек он какой-то издерганный, не уверенный в себе. Успех его картин якобы зависит от таинственных цветосочетаний. Ерунда какая-то! — жаловалась Лудовико придворная красавица, но тот резко оборвал ее сетования:
— Нынче Леонардо — величайший художник Европы! Согласись ему позировать, и тебе обеспечено бессмертие на целые столетия! Во всяком случае, — смягчил он свою резкость шуткой, — это дело более надежное, чем тот капитал, который я помещаю в тебя на этом ложе.
При первой же встрече Леонардо обрушил на Лукрецию точно такой же град вопросов, какой испытала в свое время Чечилия. Лукреция должна была разве что не исповедаться! Он желал знать о ней все. Он потребовал, чтобы она вывернула перед ним наизнанку свою душу.
Лукреция неожиданно для себя дала волю скопившейся в ней глухой неприязни к этому человеку:
— И не подумаю отвечать на всякие грязные вопросы! Полагаю, что я и без того хороша. Так что тебе есть чем заняться! А душа моя тебя не касается.
Леонардо ответил ей, стараясь попасть в тон:
— Я не машина для рисования. Раскрашивать картинки не мое дело. Мне интересны как раз тайны души. Лицо и формы — призрачная оболочка скрытого в глубинах духа. Если ты не пустишь меня в свою душу, то никакого портрета не получится. Вот для чего нужны все эти вопросы. Не хочешь? Значит, тебе надобен маляр. Ошиблась дверью, красавица!
Фаворитка нажаловалась герцогу на то, что Леонардо обошелся с нею грубо. Но Лудовико впервые был вынужден не согласиться с любимой женщиной, огромные раскрытые глаза которой мерцали, словно жемчужины.
— Я дал тебе самого великого художника. Только он в состоянии запечатлеть твои черты. Твой женский каприз еще невыносимее, чем причуды великого мастера. А я не терплю, когда мои желания не исполняются! Виновата ты, и только ты! Леонардо имеет полное право удовлетворить свою фантазию!
Портрет был закончен только спустя год. Были необходимы и зрелость характера, и глубина чувства, для того чтобы ощутить тот скрытый творческий огонь, который согревал сердце мастера. Лукреция же стала понимать жизнь только после того, как на прекрасное лицо ее легла печать страдания. Не прошло и года, а пылкая страсть герцога к ней уже улетучилась. Золотые денечки, когда она была могущественной фавориткой, миновали. Прекрасная Лукреция сполна хлебнула горечи унижений и сожаления, испытала жгучий стыд неудовлетворенного тщеславия. Все это позволило ей отвечать на вопросы Леонардо с умом опытного человека. Да и сам Леонардо уже относился иначе к этой красавице. Он сочувствовал ей. Громкий успех, которым он пользовался, не испортил его характера, как это обычно происходит с людьми посредственными. Напротив, слава сделала его более гуманным, он только укрепился в своих устоях. Ведь молва шла не о нем, а о признании ниспосланного ему свыше дара. Слава Леонардо в этот момент была безграничной.
— Герцог считает его чуть ли не ангелом во плоти, сошедшим с небес, — злословили куртизаны.
В глубинах сердца прекрасной Лукреции Леонардо сумел разглядеть яд беспредельного эгоизма. Но он был по-рыцарски милосерден. В своем портрете он лишь слегка приподнял завесу над правдой об этой женщине. Он ограничился только тем, что показал нам ее непомерную амбицию, ту радость, которую должна испытывать всякая красивая женщина, когда на нее смотрят с нескрываемым восхищением, и то страшное смятение, которое она обречена ежесекундно испытывать, видя, как увядает ее красота, подобно цветку, радующему взор прохожего всего лишь миг. О, как был прав Лоренцо Великолепный, посетовавший однажды на быстротечную юность! Вот почему лицо Лукреции, созданное Леонардо, несет на себе печать обреченности. Оно пророчит о будущем. Глаза ее наполнены неизъяснимой печалью. Она словно уже знает, что последние годы жизни ее возлюбленного пройдут под знаком мученичества. В лучистых глазах Чечилии Галлерани отразился золотой век герцогства. Лукреция явилась слишком поздно. Судьба уготовила Мавру чашу горьких страданий. Солнце эпохи Лудовико уже клонилось к закату.
Тем временем мысль о конной статуе перестала занимать Леонардо. Необычайная все-таки это история! История статуи, которая так и не была воздвигнута. Парадокс, таинственная сказка, невероятное приключение идеи-замысла — во всем этом как бы символика творческого фатализма художника, заранее обреченного на то, чтобы разбить вдребезги чашу своей фантазии. К 1490 году Леонардо совершенно отказался от первоначального замысла. Он предпочел своему вздыбленному коню более традиционный вариант конной статуи. Но образцом для подражания избрал не Верроккьо, создавшего конный монумент Коллеони, а более динамически уравновешенную статую Донателло.
Подгоняемый приступами дурного настроения, которое все чаще стало посещать герцога, Леонардо в июле 1493 года целиком ушел в работу над статуей. Он вылепил из гипса огромную, в натуральную величину, модель будущего бронзового оригинала. Статуя была выставлена возле триумфальной арки на праздники, которые проходили тогда в Милане по случаю бракосочетания Бьянки Марии Сфорца с императором Максимилианом. Художники со всей Италии устремились в Милан, чтобы хоть разок взглянуть на это чудо, чтобы представить себе, каким будет монумент в бронзе. Никто не стеснялся чувств, все провозглашали, что этот шедевр Леонардо — символ целой эпохи! Франческо Сфорца верхом на коне, одухотворенный пламенным воображением Леонардо, воплотил в себе идеал человека и сверхчеловека, столь дорогой для эпохи Возрождения.
Но Леонардо проиграл гонку со временем. Он не успел довести до конца начатую работу. Вторжение в Италию короля Франции Карла VIII вовлекло в пучину бедствия всю Италию. Несколько центнеров бронзы, первоначально предназначенные для отливки конной статуи, пошли на иные, страшные нужды. Государству понадобились пушки. Об отливке памятника пришлось забыть. С горечью писал Леонардо эти строки, адресованные своему меценату: «Вот уже тридцать шесть месяцев, как возле меня одного кормится шесть голодных ртов. Но за все это время я получил не более 50 дукатов».
Трудно устоять художнику под ударами судьбы. Слишком поздно осознал Леонардо, что никогда больше не представится ему возможность довести до конца однажды начатый труд.
— О конной статуе ничего не стану говорить, — завершил он одну из бесед с герцогом, — ибо знаю, что наступили трудные времена.
Таким образом, модель в натуральную величину, модель той статуи, которая должна была явиться миру величайшим символом Возрождения, убрали на задний двор замка Сфорца. Гасконские лучники, верно служившие своему королю Людовику XII, оказавшись в Милане, разбили ее для забавы на мелкие кусочки. Но Леонардо в те часы, когда ему было суждено окончательно распрощаться с мечтой о воплощении своего замысла, видел внутренним взором как-то сразу и одновременно те десять лет, которые провел он в Милане: перед ним теснились великие иллюзии, грандиозные проекты, высокие замыслы, и вот — возвращение к земной реальности. Он прибыл в Милан из Флоренции с вполне определенной целью: создать шедевр, который заставил бы современников восхититься, глубже осознать, чем на самом деле является человек эпохи Возрождения — просвещенный кондотьер, государь мира сего, обладающий лисьей хитростью и силой льва, государственный человек с глазами художника и с элегантными повадками дипломата. Вечные поэтические терзания и переменчивость настроений, недовольство достигнутым, стремление к совершенству не позволили Леонардо дать свое имя этому чуду столетия. Теперь, в скорбный час, он был готов отдать все сотворенное им в обмен на одно только незавершенное дело рук своих. Несбывшаяся мечта представлялась Леонардо символом бесплодности человеческой жизни. Леонардо был величайшим из людей сего мира, но он же был и самым несчастным из них.
В те дни, когда окончательно пресеклись надежды, связанные со статуей, Леонардо лихорадочно работал над «Тайной вечерей» в Санта-Мария делле Грацие. Заказ на эту фреску он также получил непосредственно от Лудовико, который очень просил его украсить своей фреской трапезную великолепного монастыря. Лудовико Мавр пожелал, однако, чтобы Леонардо раскрыл в новой фреске содержание самого глубокого и в то же время самого человечного эпизода в жизни Христа — последней вечери, проведенной им с учениками и тем человеком, который уже был готов его предать. Быть может, Мавр, сумев преодолеть хмель успеха, почувствовал приближение собственного конца. Он просил Леонардо поведать всему миру историю сострадания и расставания с жизнью, перелома в человеческих отношениях и ужаса предательства.
Леонардо был поглощен этой работой и посвятил ей три года своей жизни. Он трудился над фреской с 1495 до 1498 года, отдавая себя целиком делу, как это умел только он. Каждый день выезжал он из замка, где работал над моделью конной статуи, для которой, как потом выяснилось, не нашлось бронзы, и устремлялся в трапезную монастыря делле Грацие. То, как работал он над «Тайной вечерей», пожалуй, больше, чем иной эпизод из его жизни, свидетельствует о смятении ума и чувств, в котором он провел почти всю свою жизнь. Два-три мазка на стене, быстрый набросок лица, жеста руки — и вот он уже стремглав бежит отсюда прочь, будто опасается остаться один на один со своим великим даром, со своей собственной творческой фантазией. Казалось, умственный взор его уже видит все подробности нового творения, но оно слишком велико, быть может, слишком возвышенно для того, чтобы воплотиться в реальном измерении. Спасаясь бегством от только что начатой работы, Леонардо как бы пытался спасти от разрушения богатство своих видений и озарений. Он крайне недоволен теми образами, которые возникают на стене трапезной. Более того, он убежден, что персонажи, чьи портреты он создал, абсолютно нереальны; подобно тому как в «Поклонении волхвов», картине, над которой он работал в юности, Леонардо пытался придать евангельским волхвам и пастухам облик флорентийских простолюдинов, так и сейчас он желал, чтобы апостолы выглядели в точности как миланский люд на улицах и площадях города. Леонардо по нескольку часов проводил в Боргетто, самом нищем квартале Милана, чтобы насытиться видом наиболее выразительных лиц. Им руководило алчное любопытство. Он никогда не уставал проверять и перепроверять свои представления о человеке на основе мнений самого строгого судьи — своей совести художника.
Приор монастыря Винченцо Банделло не стал, однако, дожидаться, чем кончатся художественные поиски Леонардо. Он в тревоге поспешил к герцогу.
— Леонардо никогда не бывает на рабочем месте. По своему обыкновению он давно забросил работу. Бродит по Милану, к нам же заглядывает разве что через день, да и то на полчаса. Мазнет раз-другой, и след простыл.
Мавр в который уже раз попытался образумить своего великого художника, прося его вести себя более приемлемо для окружающих.
— Ты опять впал в безделье или, что то же самое, не желаешь довольствоваться достигнутым. Результат, согласись, все равно один и тот же. Почему ты прекратил работать в монастыре? Неужели «Тайная вечеря» станет для нас таким же разочарованием, как и конная статуя? Или тебе и на этот раз не хватит десяти лет?
Глаза Леонардо метнули молнии.
— Синьор, я понимаю твой гнев, но я все еще не нашел Иуды.
— То есть как — не нашел? Что все это означает?
— А то, что я не могу извлечь его только из головы. Не в силах создать его только силой воображения! Мне нужно увидеть его собственными глазами! Найти на улице! Отыскать в толпе тип человека, живущего бок о бок с нами, здесь и сейчас, человека, чей облик совпал бы с моим представлением о том, что такое Иуда. Разумеется, я мог бы и поторопиться. Кстати, физиономия приора вполне совпадает с моими представлениями об Иуде. Я мог бы изобразить и его. Тогда, правда, монастырь поднял бы его на смех. Но мне не хочется шутить столь жестоко. А Иуду я все-таки должен отыскать. Вот почему целыми днями я скитаюсь в Боргетто, с ног валюсь, но так и не нашел этого человека. Вот и приостановлена работа над фреской. Но я постоянно, ежечасно, ежеминутно, думаю об этой работе!
Лудовико удивился. Ему ничего не оставалось, как покончить дело смехом. Нет, он положительно не мог держать зла на этого гениального безумца. Лудовико теперь почти что не сомневался, что и «Тайная вечеря» так и останется незавершенным шедевром.
На этот раз он, к счастью, ошибся. «Тайная вечеря» была завершена. Трагедия в другом — в том, что художник всегда был недоволен собой: невероятное напряжение творческих сил, доводившее его до отчаяния, не позволило ему работать над фреской систематически. Это предопределило судьбу шедевра — обрекло его на исчезновение. Ритм, в котором трудился Леонардо, длительные перерывы, бесконечные переделки начатого оказались гибельными для фрески. Леонардо к тому же был вынужден применять краски, которые не выдержали испытания временем. Уже в конце XVI столетия знатоки живописи стали опасаться за судьбу шедевра.
Как знать, быть может, именно эта обреченность, печать которой легла на бессмертные лики, и является тем глубинным слоем фрески, созданной Леонардо, обусловив ее неповторимое очарование. Таким образом, эта работа Леонардо стала тем, чем должна была стать конная статуя Сфорца, — вечным символом странствий духа эпохи Возрождения. В «Тайной вечере» Леонардо передал предвосхищение вечного и понимание бренности сущего мира. В этом шедевре — бессмертие абсолюта и греховность смертной плоти. Леонардо благодаря напряжению всех творческих сил, на какое был способен только он, удалось воспроизвести легендарную многоликость человека Возрождения, передать движение ума и чувств. Именно это восхищает каждого, кто приходит поклониться Леонардо. Вершина драматического повествования «Тайной вечери» — тот миг, когда Христос произносит самое страшное, самое безутешное и обезоруживающее свое пророчество: «Один из вас предаст меня…»
Быть может, Леонардо таким образом отдавал последнюю дань уважения человеку, который предоставил возможность его гению реализовать себя. Воображением художника, чутко улавливающим малейшие движения духа, Леонардо разгадал сущность выдающегося деятеля Возрождения, его крестный путь, актерство на дипломатическом поприще, гибкость ума. Леонардо возвеличил человека, который больше, чем Чезаре Борджа, был похож на Государя Макьявелли.
Леонардо изобразил Христа погруженным в печаль, человеком скорбящим. В нем угадывается облик Мавра, покровительствовавшего Леонардо. Прототипами апостолов послужили простые миланцы, которых художник встречал в Боргетто. Но в этих ликах проглядывают черты государей Италии того времени, тех, кто последовал за герцогом точно так же, как галилейские рыбаки пошли следом за человеком из Назарета. Лицо Иуды, которое так долго не мог найти Леонардо, очень напоминает Карла VIII! Подобно тому как апостол-предатель приговорил к смерти своего учителя, так и французский король привел к гибели миланского герцога.
В «Тайной вечере» Леонардо удалось достичь наиболее полного самовыражения. Возвышенное благородство Христа и значительность Иуды позволили Леонардо отыскать выход тем чувствам, что теснились в его потрясенном сердце. Пусть документально и не доказано, что обликом своим Христос и Иуда напоминают Лудовико Мавра и Карла VIII, однако в апофеозе Христа, человека, обреченного на отчаяние, без сомнения, заключено пророчество его гибельного пути.
Благодаря тесной дружбе, соединившей на время Лудовико с Леонардо, миланский герцог, снисходительно относившийся к причудам и прихотям великого художника, обрел право на бессмертие.
ГЛАВА VIII Лудовико — человек в черном
Эразм Браска, посол Лудовико Мавра, почтительно замер перед одним из наиболее могущественных государей Европы. Он приветствовал Максимилиана I Габсбургского, императора и «короля римлян», высокого, атлетически сложенного красавца, обладавшего изысканными манерами благородного рыцаря.
Максимилиан был покровителем искусств и художников, позволял себе и широкий жест в отношении своих подопечных. Всем запомнилось, как однажды, когда прославленный Дюрер писал с него портрет и выронил из руки кисть, он, император, встал на колени и поднял ее с пола.
— Браска, — медленно проговорил император, — мне известно, что герцог весьма желал бы получить императорскую инвеституру. До сих пор ни один миланский государь не был удостоен столь великой почести. Что ж, мои условия предельно ясны: Лудовико надлежит внести десять тысяч флоринов в императорскую казну и взять на себя обязательство оказать мне поддержку в войне с королем Франции. В таком случае герцог получит то, чего он так страстно добивается. Я предоставлю ему торжественную инвеституру.
— Следовательно, государь, можно считать, что дело сделано, — отозвался Браска, опытный дипломат, служивший послом при дворе савойских герцогов и, таким образом, хорошо осведомленный насчет дипломатических приемов самого императора. — Не сомневаюсь, вы получите и деньги, и поддержку в войне против французов.
Однако участие Милана на стороне императора в войне с Францией было делом времени. 25 мая 1494 года Максимилиан подписал мирный договор с французским королем Карлом VIII. Карл же потребовал от императора противоположное тому, о чем Максимилиан уже договорился с Лудовико Мавром: он предложил Максимилиану свою дружбу в обмен на то, что «король римлян» не станет препятствовать его вторжению в Италию.
Хитрый Максимилиан придерживался тактики всем и всегда давать обещания. Он не возражал бы, чтоб французский король занял плодородные итальянские долины, но он также был не против оказать поддержку Лудовико, миланскому герцогу. В обмен на это обещание Мавр готов был заплатить дорогую цену. Он выдаст замуж за императора свою племянницу, красавицу Бьянку Марию, дочь своего убиенного брата Галеаццо Марии и сестру несчастного Джана Галеаццо. В приданое за ней он даст 400 тысяч дукатов. Однако сумма эта была столь огромна, что выплатить ее можно было только по частям. И Лудовико, опасаясь возлагать на свой народ непосильное налоговое бремя, в тот момент, когда пришла пора выплачивать третью часть приданого, решил расплатиться из собственной казны.
5 сентября 1494 года император взял на себя тайное обязательство предоставить инвеституру герцогу Лудовико. Предоставление императорской инвеституры — дело сложное и запутанное. Дело в том, что при ее получении Лудовико еще не был полноправным правителем Милана, хотя на протяжении десяти лет фактически управлял герцогством. Еще был жив настоящий герцог, который отправится в мир иной только месяц спустя. Но Лудовико и на этот раз готов объяснить все к своей выгоде: в действительности он — единственный из рода Сфорца, кто может претендовать на трон в герцогстве, так как в момент его рождения Франческо Сфорца уже был герцогом Милана, а в год появления на свет его брата Галеаццо Марии, от которого происходит нынешний герцог Джан Галеаццо, отец таковым не являлся. Подобные юридические обоснования Лудовико, естественно, не выдерживали никакой критики. Но главное для него было так или иначе обосновать свою безудержную жажду власти.
— Великолепно, я очень рада, — ответила Бона, когда, с некоторым опозданием и не заручившись ее предварительным согласием, Лудовико известил ее о том, что Бьянка Мария, ее дочь, вскоре должна будет сочетаться браком с наиболее могущественным государем Запада.
Бьянке Марии было двадцать лет, Максимилиану же исполнилось тридцать четыре. Значительная разница в возрасте — впрочем, весьма обычная в ту эпоху — никого не смущала. Важно было заполучить императорскую корону. Бона радовалась, что таким образом она сможет взять реванш за поражение: ее дочь, став супругой императора, приобретет при миланском дворе статус несравнимо более высокий, чем эта выскочка Беатриче д’Эсте или Изабелла Арагонская, жена незадачливого герцога Джана Галеаццо.
В конце ноября 1494 года в Милане в честь предстоящего бракосочетания были устроены грандиозные торжества. Для участия в них император прислал в Милан высокую немецкую делегацию, возглавлявшуюся епископом Бресаннонской цитадели и бароном Фолькенштейном. Изумительная музыка в исполнении оркестра герцогской капеллы звучала под сводами Миланского собора. 30 ноября архиепископ Гвидо Антонио Арчимбольди совершил обряд торжественного венчания «по доверенности». Чуть позже Бьянка Мария на колеснице, украшенной гирляндами из мирта и лавра, торжественно объехала Милан. Со всех окон свешивались штандарты Сфорца, савойского и императорского домов. Парад завершился на площади перед замком, где была воздвигнута колоссальная триумфальная арка, возле нее возвышалась гипсовая модель конной статуи Франческо Сфорца, созданная гением Леонардо.
— И все-таки я побаиваюсь германского климата, — говорила при прощании с подругами взволнованная Бьянка Мария. — По слухам, там бывают сильные морозы.
Бьянка Мария прибыла по реке из Комо в Белладжо в сопровождении матери Боны, брата Джана Галеаццо, его жены Изабеллы и еще одного брата — Эрмете. Все было готово для длительного путешествия через Альпы. Бьянка Мария испытывала гордость, оттого что ей предназначено судьбой сыграть выдающуюся роль в истории Европы. Она с удовольствием предвкушала возможности, открывающиеся перед супругой императора. Но слезы навернулись на глаза, когда бросила она прощальный взгляд на нежную линию гор, до боли напоминающую итальянский пейзаж, родину, родной очаг. Она крепко обняла на прощание мать и разрыдалась. Больше им не суждено было увидеться.
Инсбрук показался молодой супруге императора тюрьмой. Жизнь императорского двора была скучна, Бьянку Марию угнетали северная скупость и какая-то беспросветная тоска. Несчастная в слезах предавалась воспоминаниям о легких мимолетных радостях миланского двора, великолепии праздников на ее лучезарной родине. Дни в Инсбруке были похожи один на другой, и сердце Бьянки Марии сжималось от горестных предчувствий.
Лудовико был раздосадован на великого кондотьера Джанджакомо Тривульцио. Он нервно скомкал письмо, которое прославленный военачальник прислал ему из Неаполя. Тривульцио поздравлял Миланское герцогство с большой удачей — браком юной Сфорца с императором. На это Мавр ответил до крайности резко: «Заслуга в том, что произошло, принадлежит мне, и только мне. Нечего поздравлять с удачей некие абстрактные величины».
Тривульцио проглотил обиду и принес герцогу извинения: «Конечно, это твоя заслуга, именно это я имел в виду. Коль скоро мне не удалось объясниться, виной тому недостаток образованности».
На самом деле Тривульцио обиды не простил, а лишь отложил свою месть на некоторое время. Медленно, но верно зрела в его уязвленном сердце вендетта.
По берегам Большого канала в Венеции 27 мая 1494 года собралась многотысячная толпа. Все хотят увидеть красавицу, о которой давно говорит Италия. Беатриче д’Эсте, живая душа миланского двора, была снаряжена мужем в Венецию как посол мира. Ее дипломатическая миссия — это «миссия доброй воли». Мавр боготворил жену-подростка, свою девочку. Он говорил о ней как о «самом дорогом, что есть у него». Он полагал, что при ее посредничестве ему удастся добиться важных результатов. Своих послов Лудовико снабдил весьма четкими инструкциями о том, как вести переговоры с представителями Светлейшей республики. Милан лелеял надежду на установление союза с венецианцами, имея в виду целый ряд вполне определенных стратегических обстоятельств: Сфорца просил о защите от вероломства Карла VIII — правильно оценив обстановку, Лудовико считал нападение Франции неминуемым. В то же время Милан обещал Венеции поддержать ее перед лицом растущей турецкой опасности и в ее столкновении с императором, которого Лудовико не перестал опасаться, хотя и выдал за него замуж свою племянницу. Проанализировав противоборство интересов в раздробленной Италии, удручающее корыстолюбие и беспринципность государей Италии, Лудовико пришел к выводу, что главную опасность для него представляли неудовлетворенные амбиции Фердинанда Арагонского. Больше всего Лудовико беспокоило, что ненасытный арагонец может сговориться с французским королем или австрийским монархом в ущерб Милану. Поручив своим дипломатам объяснить дожу причины, побудившие Милан искать союзников в Венеции, Лудовико решил направить венецианцам послание доброй воли, с которым и прибыла в Светлейшую Беатриче. Мавр рассчитывал, что ее образованность, умение вести беседу, наконец, красота и очаровательная манера держать себя помогут снискать благосклонность и смягчить сердца суровых мореплавателей.
Любопытно, сколь смягчалось сердце самого Мавра, человека циничного и жестокого, под ласками молодой жены. Однажды Беатриче сообщила ему из Феррары, что играла на деньги с послами — так, от нечего делать (путешествие было долгим и утомительным). Фортуна, писала Беатриче, была на ее стороне. Герцог тотчас ответил: «Мне доставило несказанное удовольствие известие о том, что ты играла на деньги и обобрала соперников до нитки. Но не забудь, что в игре мы с тобой неизменно на одной стороне, так что по возвращении твоем в Милан я рассчитываю получить свою законную долю. Но это лишь в том случае, если ты по-прежнему будешь в выигрыше. Если же проиграешься, то и разговора нет».
Пока идет эта грациозная переписка между Лудовико и Беатриче, на арену итальянской истории вступает новое действующее лицо, преисполненное решимости изменить ход событий в свою пользу. Это Карл VIII, король Франции. Наружность его малопривлекательна: низок ростом, лицо некрасивое, кожа с нездоровым желтоватым оттенком, крючковатый хищный нос. Только достоинство и энергия, читаемые во взгляде, как-то облагораживают его физическое уродство. Ноги и руки Карла непропорционально длинны и узловаты. Первое впечатление — перед вами уродец или марионетка! О культуре этого человека говорить не приходится. Его интеллектуальный уровень, быть может, чуть выше, чем у деревенского неуча. Командовать, повелевать — вот его стихия и призвание. Именно таким образом он ищет удовлетворения своим амбициям, но, как правило, и это ему не удается. Он окружен раболепными придворными, готовыми на любую подлость, лишь бы угодить королю. Однако он не пользуется авторитетом даже у последнего прислужника.
Карл мечтал о великих подвигах, способных возвысить его в глазах окружения. Он не избежал соблазна поправить свое положение за счет триумфального похода в Италию, поддавшись на уговоры Антонелло Сансеверино, государя Салерно, одного из глав заговора баронов, потрясшего Неаполь в 1485 году. Избежав вендетты своего короля, Сансеверино поспешил во Францию, где и стал подстрекать Карла напасть на Неаполь и завоевать этот город.
Карл Барбиано возвратился в Италию 4 июня 1494 года. Он служил послом Лудовико Мавра при французском дворе. Король весьма жаловал его и поручил конфиденциальную миссию. Барбиано должен был войти в контакт с итальянскими государями и заранее прощупать их возможную реакцию на вторжение Карла в Италию с конечной задачей захватить Неаполь. Естественно, первым, кто должен был узнать об этих планах французского короля, был Лудовико Мавр.
— Король Карл просил известить тебя, что преисполнен огромного желания вступить с войсками в Неаполитанское королевство. Какой будет ответ твой на эту акцию чужеземца? Король желает получить его в кратчайший срок. За ответом он пришлет своего легата Перона де Баски.
Почти все историки на протяжении последующих пяти столетий утверждали, что именно Лудовико Мавр, ненавидевший неаполитанского короля, призвал Карла VIII в Италию. Но весьма сомнительно, что дело обстояло именно так.
Действительно, Карл первым известил Мавра о своем намерении захватить Неаполь. Лудовико ответил ему: «Весьма неосторожно предпринимать столь трудновыполнимую акцию, сир, особенно в тот час, когда ты вступаешь в войну с половиной Европы. Против тебя будут Испания, Англия и император».
По прошествии некоторого времени Карл отозвался на мудрое предостережение Лудовико: «До поры до времени рассуждения о войне чуть ли не с половиной Европы были вполне справедливыми. Однако теперь я заключил мир со всеми, и у меня развязаны руки, чтобы обратить свой меч против Неаполя».
Легенда, утверждающая, что Лудовико якобы сгорал от нетерпения поскорее заманить французского короля в Италию и встать бок о бок с могущественным союзником, не выдерживает серьезной критики. Известно, что Лудовико при соблюдении всех мер предосторожности уже после миссии Беатриче вел переговоры с Венецией, пытаясь выяснить реакцию дожа на вторжение Карла VIII. Весьма вероятно, что французский король и без призывов с чьей бы то ни было стороны вторгся бы в Италию. В его стратегический план входило завоевать Восточную Римскую империю.
Карла вдохновляли примеры крестовых походов. В мечтах он предавал огню и мечу неверных, водружал свой стяг на башне Константинополя, становился императором, увенчанным короной, сиявшей некогда на голове императоров-кондотьеров периода упадка Римской империи. Но путь к Золотому рогу лежал через Неаполь. Заполучив неаполитанскую армию, флот, неаполитанские сокровища, установив свое господство на море в качестве обладателя одного из лучших средиземноморских портов, французский король мог начать свой великий крестовый поход.
Карл сумел убедить самого себя, что ведет борьбу за великое дело. Он объявил себя наследником анжуйского дома, который по праву должен вернуть себе богатые земли, захваченные вероломными арагонцами. Авантюрный характер в сочетании с манией величия — вот что увлекало его на плодородные итальянские равнины. Карл в юности начитался рыцарских романов и возомнил себя наследником рыцарей-героев.
Благодаря донесениям послов Лудовико сумел проникнуть в тайные замыслы французского короля. Ему как на ладони были видны его амбиции, реваншизм, жажда военной славы. Все эти чувства теснились в груди Карла. Так как Альфонсо, герцог Калабрийский, донельзя раздраженный сетованиями дочери Изабеллы на недостойное обращение с ней и ее бедолагой мужем, вынашивал планы предъявить права на Миланское герцогство, то он и предложил свою поддержку Карлу VIII. Круг замкнулся. Свобода Италии, зависевшая от игры обстоятельств, была задушена железной рукой чужеземца.
Перон де Баски, посол Карла VIII, был толстый сангвиник, велеречивый и высокомерный тип. Беседуя с Лудовико, он неоднократно повторил, что французский король возлагает большие надежды на итальянский поход и на него, Мавра.
Лудовико был вынужден включиться в игру. Стараясь не оттолкнуть короля Франции, он попытался еще раз сыграть на всех доступных ему шахматных досках. Ему удалось запугать неаполитанского короля, доведя до его сведения, что он ведет интенсивные переговоры с французскими представителями, при этом он посоветовал арагонцу как можно скорее договориться с папой во избежание большего зла. Фердинанд поспешил направить в Рим своего сына Федерико. Но итальянские государи, соблюдая каждый свой корыстный интерес, действуют уже по правилу «спасайся кто может». Взор их устремился к Франции, оттуда ждали они разрешения всех своих конфликтов.
Несмотря на тонкие дипломатические ухищрения, Лудовико так и не удалось убедить Венецию взять на себя сколь-нибудь определенные обязательства на случай войны. Лудовико решил выиграть время, направив посла французского короля в ознакомительную поездку по Италии. Сколько ни беседовал Перон с итальянскими государями, определенного ответа от них он так и не добился. Перон потребовал от папы инвеституры неаполитанского королевства, но Александр VI устоял. «По этому поводу папа, как всегда, сказал несколько сочувственных слов», — пошутил кардинал Асканио Сфорца в письме к брату. Александр VI, испанец Родриго Борджа, был папой, деятельность которого сопровождалась непрекращающимися скандалами. Всем было хорошо известно, что папскую тиару он купил за огромные взятки, что он купался в роскоши, совершал прелюбодеяния, наплодил детей, в том числе хитрого и бесстрашного Чезаре и коварную, страстную и прекрасную Лукрецию.
Чрезвычайный и полномочный посол Карла был немало озадачен холодным приемом, который оказали ему итальянские государи. В довершение всех бед стало известно, что 1 августа 1494 года молодой Федерико, сын неаполитанского короля, убедил папу подписать основные статьи новой лиги. В Италии постепенно стал оформляться союз, направленный на то, чтобы оказать сопротивление чужеземному захватчику. Карл VIII понял, что промедление с началом вторжения в Италию равносильно поражению. Еще немного, и итальянские государи объединятся и сумеют отбить его нападение.
Договор, подписанный папой и неаполитанским королем, вызвал гнев Мавра.
— В избрании папы брат мой Асканио сыграл блестящую роль. Теперь же, видно по всему, с ним перестали считаться, — заявил он своим советникам. — Подлинная власть во дворцах Ватикана принадлежит отныне кардиналу Джульяно делла Ровере. Это благодаря ему папа склонил чашу весов на сторону Неаполя.
Интуиция не подвела миланского герцога. Тайная борьба за власть с новой силой вспыхнула под сенью собора Святого Петра. В результате из Ватикана был удален Асканио Сфорца. Вызов, брошенный Ватиканом престижу Милана, слишком очевиден всем. Неаполитанский король был до крайности огорчен таким поворотом событий. Он всеми способами пытался дать понять Лудовико, что разделяет его возмущение. Но слишком поздно! Опасаясь быть растоптанным своими врагами, Лудовико Мавр согласился заключить союз с королем Франции.
Фердинанд Арагонский не лгал, утверждая, что головокружительное изменение обстановки в итальянской политике причиняет ему головную боль. Обессиленный бесконечной дипломатической войной, напуганный грозовыми тучами, сгустившимися над Италией, не видевший никакого достойного выхода из создавшейся ситуации, король Фердинанд умер в начале 1494 года.
Карл VIII, привычный к интригам своих заносчивых феодалов, как и все иностранцы, вынужденные расшифровывать поведение итальянских политических деятелей, ничего не понимал в намерениях Венеции, Флоренции, папского престола, Неаполя. Пьеро де Медичи, посредственный преемник Лоренцо Великолепного, получив известие о планах французского короля, повел себя крайне двусмысленно.
— Я подвергну флорентийцев жестокому наказанию! — рассвирепел Карл VIII. — Лучше я отдам их город Мавру, тот по крайней мере верный союзник.
Как ни странно, именно Лудовико пытался умерить гнев французского завоевателя. Лудовико сформировался как политический деятель, стремящийся к достижению равновесия между итальянскими государствами — извечной мечты своего отца Франческо Сфорца. По этой причине сама мысль о том, чтобы стереть с итальянской политической сцены Флоренцию, пугала его: он предпочитал, чтобы итальянские государства остались тем, чем они всегда были. Только таким образом, полагал он, можно будет продолжить деликатную политическую игру, основанную на поддержании равной безопасности сторон. Тем не менее Мавр, видя, как папа все более сближается с новым неаполитанским королем Альфонсо II Арагонским, был вынужден сделать ставку на Карла VIII.
Но французский король натолкнулся на неожиданное сопротивление со стороны внутренней оппозиции.
— Знаю, все вы против нашего похода в Италию, — обратился он к дворянскому собранию королевства, — но я чувствую, что должен выступить в поход против турок, а для этого мне необходимо взять в руки неаполитанское королевство.
Карл не скрывал трудностей, с которыми ему придется столкнуться в Италии. Тот же Мавр неоднократно предупреждал его, что для завоевания Италии необходима «армия смельчаков». В какой-то момент, напуганный перспективой длительной и кровопролитной кампании, Карл стал сомневаться: не лучше ли атаковать турок, выйдя к ним в тыл со стороны Венгрии, страны равнинной и плоской, вместо того чтобы преодолевать горные склоны и карабкаться по скалам в Италии? Но венгерский вариант предполагал, что он должен заключить союз с императором. Карлу же такой союз претил.
В конце концов он принял окончательное решение. Была собрана армия, подготовлены в портах корабли и провиант. Марсель и Генуя стали опорными базами. Наступил 1494 год, самый несчастный год итальянской истории, утверждал Гвиччардини, во всяком случае, он открыл собой полосу несчастий, обрушившихся на Италию. Страна раздроблена и истерзана соперничеством между многочисленными мелкими и мельчайшими синьориями, жизнь всех находится под постоянной угрозой, на горизонте — неизменно хищные взоры чужестранных завоевателей, правители хитрят и политиканствуют в духе Возрождения. Налицо все элементы трагической неуверенности в будущем. На другой чаше весов — бессмертная итальянская фантазия, способность обращать в свою пользу трудноразрешимые проблемы, искусство управления и ведения войны; все это сошлось в одном государе, Лудовико Мавре. Именно в нем «доблесть» и «фортуна» — идеалы кондотьера и государя эпохи Возрождения — обрели гармоническое равновесие.
Многие в Италии 1494 года предрекали провал столь разрекламированного похода Карла VIII. Скептики полагали, что Карл либо сумасшедший, либо Господь решил его покарать, приговорив к неизбежному поражению. По мнению итальянских экспертов, вторжение французской армии в Италию приведет к непомерному растягиванию линий коммуникаций, сделав их тем самым уязвимыми и в конечном итоге неспособными обеспечить постоянное снабжение продовольствием и амуницией, так что рано или поздно французы будут вынуждены в беспорядке отступить. Прогноз оказался в общем верным. Тем более что прием, с которым столкнулись французы в разных итальянских городах, оставлял желать лучшего. Джероламо Савонарола обрушился в своих проповедях на французских варваров, именуя их не иначе как «бичом Господним».
«Мне необходимы деньги для снабжения армии», — передал Карл через своих послов Лудовико. «Мне нечего дать, — сухо ответил Мавр. — Налоги уже состригли с миланцев все, что на них было».
Карл VIII вынужден распродать часть своих поместий, чтобы заплатить жалованье основной части своих войск, сосредоточенных на рубежах Италии. Тем временем зрелище, которое представляла Италия перед лицом вторжения иностранного агрессора, вселяло ужас в сердце всякого трезвомыслящего наблюдателя. Как всегда в подобных случаях, царили паника и безразличие, жизнь шла своим чередом, тревожимая время от времени леденящими душу слухами о войне. Итальянские государи тоже вели себя как обычно: каждый вечер либо гости, либо в гостях, каждый день обмен послами, иногда по два раза в день, а то и чаще; планы, проекты, союзы, контакты, представительства. С утра у государя в союзниках совсем не те, что были перед тем, как он лег спать. Как правило, за ночь бывшие друзья становились врагами и наоборот. Самое же удивительное — страх, робость, ввергавшая итальянских синьоров в оцепенение, обычно преувеличивавшая масштабы французской угрозы. Странно, ведь тогдашняя Италия располагала лучшими военачальниками, отважными генералами, прекрасно обученными войсками, оборудованными крепостями, изобилием продовольствия.
Папа, однако, повел себя как безумец. Александр VI был убежден, что вторжение французского короля должно непременно совпасть по времени с созывом Ватиканского собора, который был призван рассмотреть вопрос о законности его избрания на папский престол. Папа опасался, что на Соборе ему будет предъявлено обвинение в святокупстве и он будет свергнут с престола. Обеспокоенный подобным исходом Собора, он выступил против христианина, французского короля, и обратился за помощью к турку, антихристу. Только занятость султана, ведшего очередную войну в другом месте, помешала установлению столь противоестественного союза. Между прочим, султан был в прекрасных отношениях с королем Неаполя, который, желая предостеречь папу не очень-то доверять льстивым речам своих врагов, направил свои войска в Романью, на самую границу папского государства.
Итак, вся Италия пришла в движение, и, пока продолжались великие маневры итальянских государей, 3 сентября 1494 года Карл VIII наконец выступил в поход.
Король выступил из Вьенна 23 августа. Раскосыми глазами оглядел он свою армию. На душе у него потеплело. На солнце искрились латы, сверкали острия пик. 3600 всадников — цвет французской кавалерии, 6000 бретонских лучников, 8000 гасконских пехотинцев, 6000 стрелков, 8000 швейцарских и немецких наемников. Грандиозная и впечатляющая масса, перешедшая Альпы через перевал Монджиневро. Никто не оказал сопротивления агрессору в узких альпийских долинах. Без единого выстрела армия Карла вступила на равнину Пьемонта.
Странная страна Италия, странная и восхитительная, предстала взорам захватчиков, ведомых Карлом, писал Дж. Саймондс в своем труде «Возрождение в Италии». Солдаты не в состоянии скрыть своего удивления. Спустившись в Италию со склонов северных гор, они вдруг увидели изысканные, прекрасные города, изысканные и порочные. Таинственный и размягчающий аромат италийских садов, великолепие дворцов — все очаровывало, но говорило об упадке. Италия была похожа на красивую женщину, которая еще сегодня блистает в свете, но какая-то едва заметная морщина уже тронула ее изумительное лицо, подсказывая внимательному взгляду: она увядает, она отцвела.
Армия французского короля не могла, конечно, представить, что скрыто за великолепием фасада, какая страшная смесь благородства и подлости, обмана и щедрости, веселости и волчьей тоски, высокой религиозности и неверия ни в бога, ни в черта характеризовала жизнь этой странной страны, Италии, на рубеже XV–XVI столетий.
Подобно античной Греции, Италия была готова отдать себя на милость сильнейшему, но затем втянуть его в сеть своих интриг, опутать своей сладкой паутиной. Мемуары того времени изобилуют признаниями Италии в любви и восхищении. Такова первая реакция всякого, кто впервые знакомится с итальянской жизнью, противоречивой и экстравагантной. Так, говоря о любви к нам, иностранцы учатся узнавать, кто же мы, итальянцы, на самом деле.
Италия, страна Возрождения, вооружена силой культуры, хитроумием, искусством и умением жить. Выживание Италии, несмотря на все невзгоды, гарантирует не оружие, но великолепие ее одеяний, утонченность мысли, традиции ее мастеров.
По правде говоря, в тот момент Италия без особого труда могла бы дать отпор Карлу. Оборонительные планы были подготовлены с хорошим знанием военного искусства. Но все планы пошли насмарку. Дело в том, что некому было претворить эти планы в жизнь. Не было итальянцев! Итальянцы же в понимании той эпохи — сторонники хаоса и анархии, поборники дезорганизации, знаменосцы раскола. В армиях, сосредоточенных в то время на Апеннинах, было смешано все: и великолепные смелые командиры, и никчемные карьеристы. На протяжении десятилетий италийский кондотьер привыкал к войне как к военному параду, когда убитых можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но что страшно — именно в эти годы культивировалась «доблесть» предательства. Кондотьеры, являвшиеся, по сути дела, наемниками и служившие тому, кто больше заплатит, без зазрения совести переходили из одного лагеря в другой. Осенью 1494 года военачальники, не торопясь, создавали оборону против французских завоевателей и в то же время посылали своих представителей в лагерь Карла для переговоров о сдаче укреплений. Так уже в той Италии была заложена история всех будущих итальянских войн.
9 сентября король Франции вступил в Асти. Пьемонтские синьоры не имели никакого намерения бороться с ним. Причина проста: герцогу Савойскому всего двенадцать лет, а маркизу Монферрато — четырнадцать. У этих подростков были опекуны, их матери поспешили договориться с французским королем: французские войска пройдут беспрепятственно при условии, что не станут грабить городские окраины. Война шла таким образом, как если бы чья-то невидимая рука позаботилась расстелить парадную ковровую дорожку на пути наступления врагов.
Быть может, прав великий хронист эпохи Филипп де Коммэн, написавший: «Хотим мы того или нет, но следует признать, что всемогущий Господь невидимой рукой управлял этим походом».
У ворот Асти короля приветствовали союзники: герцог Миланский Лудовико и герцог феррарский Эрколе д’Эсте.
— Это самое прекрасное зрелище, которое когда-либо я имел удовольствие видеть на итальянской земле, — обрадованно воскликнул Карл, приветствуя великосветских дам, вышедших к нему навстречу. Шествие возглавляла Беатриче в белом торжественном одеянии, украшенном золотым шитьем, следом шла Бьянка, внебрачная дочь Лудовико и невеста Галеаццо Сансеверино.
Вид празднично одетых дам, которые выстроились перед ним, заставил даже Карла, человека злого и некрасивого, как-то встрепенуться. Он начал с Беатриче — облобызал ее, затем каждую из присутствовавших дам. Наконец настал черед музыкантов, ударивших по струнам. Полились нежные итальянские мелодии.
— Смею ли пригласить вас на танец, синьора? — спросил Карл галантно.
Беатриче в знак согласия наклонила голову, блеснула белизна ее открытой нежной шеи.
Танец, пожалуй, излишне утомил короля, пережившего в этот день чересчур много приятных впечатлений. Он даже слег в постель, где и пролежал две недели, пока Италия готовилась принять захватчика.
Королевский флот нанес поражение неаполитанцам в водах у Рапалло. Выздоровев, Карл прибыл в Виджевано. 14 октября он остановился в Павии, где ему пришлось пережить один из самых драматических моментов своего итальянского марш-броска.
Короля препроводили в затемненную комнату, куда едва доносился шум со стороны площади. Воздух пропитан едким запахом лекарств. На смятой постели лежит умирающий. Это все, что осталось от миланского герцога, несчастного Джана Галеаццо, которого свела в могилу желудочная лихорадка, измотавшая последние силы кровавой рвотой. Все старания его любящей жены оказались напрасными.
Вдруг, пока глаза Карла привыкали к темноте, он почувствовал, что в ногах у него шевелится какое-то существо, хватает, рвет дорогие шелковые чулки. Король долго не мог взять в толк, что происходит, кто это покрывает поцелуями его ноги. Он чувствовал только, как от какого-то острого сладковатого запаха стало пощипывать в ноздрях.
— Синьор, умоляю, не причини вреда моим близким! — Изабелла Арагонская, не боясь унижения, валялась у него в ногах. — Не разрушай Неаполь, не погуби мою семью. Как разжалобить тебя? Нет, ты не станешь уничтожать, вырубать под корень арагонский дом! Ведь правда? Скажи мне! Умоляю!
Карл был потрясен до слез. Он что-то смущенно пролепетал в ответ. Длинный нос его покраснел еще больше, руками он пытался оторвать от своих чулок цепкие пальцы герцогини.
— Синьора, встань, прошу тебя, не унижайся. Господи, если б можно было повернуть время вспять, Бог тому свидетель, я отказался бы от похода на Неаполь. Однако теперь что делать… Союзники, армия, военачальники, слава. Обратного хода нет. Клянусь, что никто не тронет твоих родственников. Сам знаю, сколь переменчивы человеческие судьбы. Достаточно только посмотреть на твоего мужа, вот прямо здесь, на этой постели, чтобы понять всю глубину человеческой трагедии. Обещаю тебе, синьора, позаботиться о сыне твоем, маленьком герцоге. Постараюсь, чтобы в обновленной Италии у него было достойное место.
Откуда-то из угла послышался сдавленный, словно замогильный, голос:
— Сын мой… Франческо… — стенал Джан Галеаццо. — Сир, я умираю… вручаю тебе несчастного сына моего…
Карл наконец разглядел мальчика, который прятался за материнские юбки. Изабелла старалась приласкать его, успокоить, гладила виски, целовала в лоб.
— Тебе нечего опасаться, — склонился Карл над умирающим. — Твой сын для меня теперь как родной. Я позабочусь о нем. Он будет синьором Милана. Будет синьором Италии… Слово французского короля!
Джан Галеаццо съежился от боли в самом темном углу комнаты. Глаза его лихорадочно блестели. Но в сердце забрезжила неожиданная надежда — его сын отныне в надежных руках, будущему герцогу Милана теперь нечего бояться.
Джан Галеаццо умирал долго, в течение нескольких лет. Острые боли в брюшной полости не давали ему забыться. По мнению медиков, соблюдение строжайшей диеты могло его спасти. Однако Джан Галеаццо нарочно пренебрегал советами докторов.
— Ты же убьешь себя! — предупреждал его Лудовико, и в его голосе звучала, быть может, вполне искренняя нотка сожаления.
Джан Галеаццо был растроган вниманием дяди, но настаивал на том, чтобы по-прежнему бывать на охоте, по завершении которой всегда устраивался веселый ужин на приволье — смертельный для него яд. Он нехотя принимал кое-какие порошки из ревеня. Но болезнь не отступала. Джан Галеаццо не мог отказать себе в удовольствии прогуляться верхом. Но всякий раз, оказавшись в седле, он испытывал во рту странную сухость, в желудке словно вспыхивало адское пламя, руки непроизвольно хватались за живот, он был не в силах удержать поводья.
«Герцог убивает себя и скоро умрет», — писал в донесении посол Феррары Тротти своему синьору.
И все-таки до последней минуты Джан Галеаццо бросал вызов болезни. Уже ежедневно у него поднималась температура, потом она стала держаться постоянно, а он все равно требовал есть и пить по-праздничному, как здоровые люди. Несварение желудка, приступы следовали один за другим. Несчастный герцог, на него больно смотреть, губы спеклись и потрескались, кожа в кроваво-красных полосах, глаза усталые и тяжелые, как у древнего старика.
Изабелла, которая уже давно прекратила всякое общение с Мавром, на этот раз не выдержала и на негнущихся ногах добралась до его комнаты. С порога она начала умолять его о помощи:
— Доктора уже бесполезны. К Галеаццо нужно приставить крепких гвардейцев — он все время бегает в подвал, крадет еду, которую запретили врачи, глотает, почти не разжевывая, жадничает, потом его рвет. Какой ужас! Он убивает себя собственными руками!
19 октября 1494 года Галеаццо почувствовал себя хуже.
— Как лихорадит! Я сгораю от жара… Груш! Вина! Много вина! — потребовал он вдруг.
— Тебе нельзя есть, синьор. Ты убьешь себя, — возразил старый лакей, и слезы выступили у него на глазах.
— Это не для еды… Мне просто хочется еще раз, напоследок, почувствовать, как пахнет еда, вино.
Слуги принесли огромную корзину с фруктами, несколько бутылок вина из Монферрато.
— Ступай к дяде. Передай, что я хочу его видеть, — попросил слабым голосом Галеаццо.
Старик отправился исполнять поручение, тихо покачивая головой. Когда он вернулся, то увидел, что корзина пуста, а большая часть бутылок опорожнена. Герцог корчился от боли, схватившись за живот, не мог добраться до кровати. Струйка кровавой слюны сочилась из уголка рта. Это был последний, роковой приступ болезни.
Врачи сказали, что дело безнадежное.
— Мне гораздо лучше, — уверил собравшихся возле его постели герцог. — Теперь пора подумать и о душе. Пригласите исповедника. Пусть придет. Да, приведите сюда тех двух прекрасных коней, которых подарил мне дядя. Не хочется отправляться на тот свет, не попрощавшись с ними.
Умирающий попрощался со своими любимыми скакунами, лениво закрыл набрякшие веки.
— Теперь пусть приведут борзых. Пусть посидят у меня в ногах. С ними мне как-то безопаснее. Скорей выздоровлю.
Он умер на рассвете 20 октября 1494 года. Его оплакала жена, не выпускавшая его руку из своей до последнего мгновения. Рядом скорбно молчали мать и придворные лекари. Вскоре поползли слухи, что убил его Мавр медленно действующим ядом, разрушившим желудок. Эти слухи подхватили крупнейшие историки — Макьявелли, Гвиччардини, Аммирато. Но нет никаких доказательств, чтобы можно было предположить злодеяние. Как всегда, Мавр повел себя весьма толково. Он тотчас распорядился устроить грандиозные траурные торжества. В течение семи дней народ прощался с герцогом в Миланском соборе.
Когда Галеаццо оставил этот мир, Лудовико уже в течение четырнадцати лет фактически безраздельно правил Миланом, хотя и не имел соответствующего титула. Все замерли в ожидании его следующего шага.
В торжественной обстановке, подобающей в таких чрезвычайных обстоятельствах, герцогский Совет был собран в замке на следующий день после смерти синьора. Лудовико обвел внимательным, испытующим взглядом собравшихся. На лице его застыла маска страдания и горя.
— Герцог оставил нас, — начал он свою скорбную речь. — Титул герцога должен перейти к малышу Франческо.
— Синьор, — обратился к нему один из советников, — за последние годы мы слишком долго жили в режиме регентства. Угрожающе ведут себя Франция, Турция, Венеция, Флоренция, папа… В столь трудный для свободы Италии час мы не можем вверять судьбу в слабые руки ребенка.
Тотчас встал с места Антонио Ландриани, один из наиболее уважаемых граждан Милана.
— Ты должен принять этот титул, синьор. Народ Милана жаждет услышать слово Лудовико Мавра, миланского герцога.
Естественно, Лудовико согласился.
Покинув замок, свита советников перешла в Сант-Амброджо. Здесь Лудовико принял все формальные символы своей власти — скипетр и меч. Был оглашен составленный им самим документ, согласно которому Лудовико обретал титул герцога не только фактически, но и по праву. В этот момент он и поверг всех в изумление, обнародовав то, что до сих пор было скрыто, как говорится, за семью печатями:
— Я, герцог Милана, являюсь таковым и по сути своей. Герцогская инвеститура была получена мной в прошлом году из рук императора Максимилиана как признание моих заслуг. Я хранил это событие в тайне, чтобы не нанести ущерба своему племяннику. Но сегодня, когда народ Милана и герцогский Совет вверили мне этот трон, я не могу молчать. Никто не вправе обвинить меня в том, что я действовал вопреки интересам ребенка.
И на этот раз наиболее драматические последствия в связи с происшедшим в герцогстве переворотом должна испытать женщина. Изабелла, вдова Галеаццо, заперлась в павийском замке вместе с детьми, облачившись в строгий траур. Бросая вызов Лудовико Мавру, распорядившемуся, чтобы полное молчание воцарилось вокруг судьбы вдовы и детей, некоторые дворяне отважились проникнуть в наглухо запертые покои. Однако безутешная вдова отказалась их принять.
Лудовико обратился к вдове с покорнейшей просьбой (хотя на самом деле это был приказ) возвратиться в Милан:
— Будешь жить в герцогских апартаментах, там же, где ты жила с покойным мужем. Тебе будут оказаны те же почести, что и всегда, как подобает твоему рангу.
Лудовико засвидетельствовал уважение женщине, которая, согласно народной молве, была его любовницей.
Но, как всегда бывает в подобных случаях, гуманное сострадание было проявлено человеком, казалось бы, легкомысленным — придворным шутом по прозвищу Барон. Он обратился к герцогине Мантуи с письмом и вполне серьезно написал, что не мог удержаться от слез, увидев несчастную Изабеллу: «О, видели бы вы ее, мадонна. Как она осунулась и похудела, она, так любившая когда-то покрасоваться в шелках, предстала теперь в грубой холстине монахини».
Весь двор сострадал несчастью, которое обрушилось на совсем еще юную женщину, еще не так давно блиставшую на балах. Еще одна разбитая женская судьба, еще одна трагическая фигура на подмостках истории, столь безжалостно распорядившейся судьбой рода Сфорца.
— Теперь ты мой, народ Милана, — приветствовал Лудовико взмахом руки празднично ликующую толпу на Соборной площади 21 октября. Ласковое солнце Ломбардии осветило торжественную сцену входа Лудовико под своды храма. В шитом золотом парчовом одеянии он медленно шествовал к алтарю, где его уже ждал советник Галеаццо Висконти. Под троекратный звук фанфар он вручил ему герцогский меч и герцогский скипетр.
Великолепный праздник по случаю восшествия на престол нового герцога, устроенный 22 октября, явился триумфом, увенчавшим более чем десятилетие упорной работы Лудовико, добившегося абсолютной власти. Лудовико немедленно распорядился объявить об амнистии. Из мрачных узилищ были выпущены на свободу все заключенные, кроме тех, кто совершил убийство или государственное преступление. Лудовико отменил также судебные разбирательства, которые не были завершены на момент амнистии. Во все города Италии и Европы были снаряжены послы, которые должны были объявить, что отныне Лудовико является герцогом не только по народному благословению, но и в силу герцогской инвеституры. Коммэн, историк, описавший вторжение французов в Италию, с восхищением сообщил своему королю Карлу VIII: «Мавр избрал себя сам и обвел всех вокруг пальца».
Однако секрет успеха Лудовико состоял в том, что, стремясь к победе, он никогда не добивался большего, чем эта победа. Не случайно первой его заботой было вернуть в Милан вдову незадачливого герцога. За ней было признано право пользоваться всеми привилегиями своего ранга. Лудовико передал ей те же апартаменты, которые она занимала в замке, будучи, пусть и формально, герцогиней Миланской. Изабелла была бледна, страшно похудела, здоровье ее пошатнулось. Но она с достоинством играла свою незавидную роль.
Король Франции не без удовольствия заметил, что его итальянский поход все больше напоминал приятную увеселительную прогулку, какой-то странный военный парад. Получив известие о скором наступлении французов, Пьеро де Медичи повел себя крайне необдуманно. Дело в том, что флорентийцы прочно контролировали все перевалы в Апеннинах, заблаговременно создав целую цепь неприступных и хорошо оборудованных крепостей. Синьор Флоренции без особого труда мог бы заблокировать наступление французского короля или, во всяком случае, заставить его расплатиться подороже за свой нейтралитет. Однако Пьеро, охваченный паникой, под покровом ночи явился инкогнито во французский лагерь и выторговал унизительные условия перемирия: согласно договоренности с французами, королю должны были вручить ключи от всех горных крепостей, а также ключи от таких городов, как Сарцана, Пьетрасанта, Пиза и Ливорно. Французы с облегчением перевели дух. Их опасения, связанные с тем, что исход вооруженного столкновения в узкой горловине, сжатой с одной стороны морем, а с другой — горами, при входе в тосканскую котловину был весьма проблематичным, улетучились как кошмарный сон. Но флорентийцы, возмущенные трусостью своего синьора, изгнали Пьеро из города. Они желали с достоинством ответить на вызов захватчика.
Карл вошел во Флоренцию 17 ноября. На первых порах народ, как это весьма характерно для итальянцев, приветствовал французов аплодисментами, полагая их своими освободителями. Совет старейшин принял короля в своем дворце. Однако очень скоро высокомерие и то презрение, с каким французский король отнесся к Флоренции, вызвали всеобщее возмущение. Карл, введенный в заблуждение той легкостью, с какой он до сего дня продвигался по Италии, возомнил, что с итальянцами следует вести себя с позиции силы. Он холодно и презрительно дал понять флорентийским гражданам, что отныне они лишены своих прав.
— Я пришел как завоеватель, а не как гость. Вам надлежит снабжать мою армию продовольствием и деньгами. Вам уже предписаны суммы для внесения в нашу казну.
Требования французского короля были чрезвычайно тяжелы. Советник Пьеро Каппони медленно провел ладонью по шершавому пергаменту, где были перечислены суммы, затребованные французским королем, и тут же разорвал его в мелкие клочья.
— Ах так! — разъярился Карл. — Ну теперь вы услышите клич наших боевых труб!
— А мы будем слушать свои колокола! — был ответ флорентийцев.
Угрожающая тишина сгустилась в парадном зале дворца. Флорентийские советники с тревогой вглядывались в лицо Карла. Он был бледен как смерть. Советники ждали, что король отдаст распоряжение гвардейцам арестовать их на месте. Однако тонкие губы короля вдруг вытянулись в презрительную ухмылку. Карл медленно, нарочито искажая на французский манер итальянское произношение фамилии советника Каппони, означающей «каплун», процедил сквозь зубы:
— Ах, Шапон, Шапон! Ну какой же вы Шапон!
Возможность построить свои отношения на основе договоренности отныне была потеряна. Между Карлом и Флоренцией произошел разрыв. Тем не менее флорентийцы согласились выплатить Карлу 120 тысяч флоринов, сумму внушительную, при условии, что французская армия оставит город и продолжит свой поход на юг.
Наступил последний день 1494 года — 31 декабря, день Святого Сильвестра. Французская армия подошла к городским воротам, а к вечеру того же дня захватила весь Рим. Вступление в город началось в три часа пополудни. К девяти часам вечера за чертой города не оставалось уже ни одного французского солдата, ни одной французской повозки. К ночи резко похолодало, дул острый пронизывающий ветер. В сгустившихся сумерках один за другим вспыхивали факелы и костры, отовсюду раздавались хриплые возгласы римлян: «Франция! Франция!» Народ приветствовал освободителей. В трепещущем свете факелов, прорезавших ночь, зрелище, которое наблюдал Карл, было поистине фантастическим! Языки пламени отражались в мерцающих латах огромных фигур немцев и швейцарцев: блестящая выправка, отлично подогнанная форма, отполированное до блеска оружие. Море украшенных плюмажем шлемов, разноцветные хоругви, штандарты, всадники в шелковых плащах, ландскнехты с поблескивающими в ночи алебардами.
Папа, опасаясь, что Карл немедленно созовет Ватиканский собор, чтобы свергнуть его с престола, заперся в замке Святого Ангела. Переговоры он повел с предельной осторожностью, стараясь ничем не раздражать захватчика. Король действительно намеревался как следует проучить скандального первосвященника. Однако ограничился только тем, что потребовал кардинальскую мантию для одного из своих ставленников и на всякий случай взял заложником сына папы, известного всем Чезаре Борджа. Преодолев страх, Александр VI возобновил политическую деятельность. Он даже позволил себе ослушаться французского короля, отказав ему в инвеституре на Неаполитанское королевство.
Единственная жертва Карла VIII в Риме — кардинал Асканио Сфорца, который решил, что соглашение, достигнутое папой и королем, было направлено против него. 16 января 1495 года он покинул Рим, излив всю свою горечь в письме к брату Лудовико.
— Король Карл обладает душонкой предателя, он человек вероломный, — объявил Лудовико.
Он весьма рад тому, что нашел удобный предлог, чтобы разорвать союз с королем. Теперь он свободен от прежних обязательств. Лудовико Мавр незамедлительно написал в Венецию, изложив подробный план, который поставил бы французского короля в трудное положение. Необходимо повести дело таким образом, чтобы король был вынужден атаковать крепости Сарцана и Пьетрасанта, которые великолепно обеспечены на случай длительной осады, и, натолкнувшись на мощное сопротивление, пролив немало крови, оказался бы не в силах продолжить поход по Италии. Венеция приветствовала мудрость Мавра.
Однако продуманный до последних мелочей план так и не был приведен в действие. 22 февраля неожиданно для всех Неаполь распахнул ворота перед французами. Единственное, что, быть может, предвещало подобный исход событий, было отсутствие какого-либо сопротивления со стороны Неаполя на протяжении всего похода Карла. Неаполитанский флот, который, как предполагали многие, должен был предать огню и мечу Геную, уничтожив на месте французский экспедиционный корпус, прибыл на место событий с огромным опозданием и, не произведя ни одного выстрела, сдался. Неаполитанские войска, отправленные на север, чтобы остановить вторжение, действовали столь медлительно, что добрались только до Чезены. Войска короля-арагонца остановились в этом пункте, ограничившись мелкими стычками с неприятелем и подавлением неопасных бунтов среди местного населения. Таким образом, когда Карл, выступив из Рима, двинулся в направлении Неаполя, капитуляция города произошла крайне безболезненно. Злополучный король Фердинанд, или Феррандино, как его прозвали неаполитанцы, хотя и пытался в отчаянии заключить союз с Мавром, но не успел предпринять ничего конкретного. Он был вынужден спасаться бегством.
Как это ни парадоксально, поражение Неаполя разрядило обстановку и создало предпосылки дальнейшей катастрофы похода Карла VIII. Подстегиваемые опасностью миланские послы прибыли в Венецию 5 марта. К исходу месяца они заключили новый союз, для того чтобы защитить итальянскую землю от иностранных захватчиков.
Карла ничуть не встревожили эти новые события. Он был убежден, что ситуация находится под его контролем. Неаполь за несколько столетий итальянской раздробленности и сложной ее истории научился держаться стороны очередного завоевателя. Поэтому неаполитанцы, увидев, что в городе объявился новый чужеземный король, устроили ему праздничный прием. Неаполитанские мужчины отвешивают французам самые глубокие поклоны. Неаполитанские женщины готовы услужить, исполнить любую прихоть французов. Они — новые хозяева, следовательно, рассуждали неаполитанцы, по любви или по принуждению к ним нужно относиться с уважением и всячески привечать. Неаполитанцы в течение многих столетий выработали в себе философское понимание действительности. Они сознавали, что Карл и его армия рано или поздно уйдут, как пришли. Они же, неаполитанцы, останутся. Эта житейская мудрость была проверена столетиями, и не было смысла отказываться от нее сейчас. В несколько дней город буквально преобразился. Начались бесконечные праздники — балы, танцы, турниры, банкеты, оргии и любовь, много любви, море любви в честь армии оккупантов и их кондотьера.
17 мая Карл устроил в Неаполе военный парад. Сам он был облачен в специально сшитый по этому случаю костюм императора Восточной Римской империи. Сценарий торжеств был продуман до мелочей. Карл пожелал внушить неаполитанцам идею о том, что он как бы уже сегодня, сейчас является завоевателем Константинополя. Но всякое забегание вперед, попытка поторопить ход истории всегда завершается провалом. Неаполитанцы, прирожденные фаталисты, прекрасно знают об этом дурном предзнаменовании. Этот уродец Карл, влезший в костюм кесаря, вызвал на лицах неаполитанцев только улыбку. Сценарий торжеств, разработанный Карлом, был и того хуже. Жалкое зрелище! Французский король явился народу, как и было предусмотрено в сценарии, подобно кесарю, вздымающему обеими руками огромный шар, олицетворение вселенной. Но, очевидно предположив, что этого театрального жеста будет для неаполитанцев недостаточно, он еще должен был вздымать к небесам и свой скипетр. Карл сгибался под тяжестью невероятно тяжелой короны. Казалось, все было придумано нарочно, чтобы превратить весь этот маскарад в унизительное шутовство. Неаполитанцы еще раз убедились: праздновать победу заранее — дурной знак!
Действительно, послы шлют донесения одно тревожнее другого: «Сир, Венеция и миланский герцог создали новую итальянскую лигу. Вскоре все итальянские государи объединятся против тебя!»
Неожиданно Неаполь показался королю местом опасным. Он решил ретироваться.
Желая возвратиться в Прованс, король отправил послов в Геную с приказом подготовить в порту галеры. Именно в этот момент и проявил Мавр свой макьявеллистский характер. Миланский герцог распорядился приостановить снаряжение кораблей, а на возмущенные требования французов ответил, рассмеявшись им прямо в лицо:
— Я не заслужил упрека от короля Франции за то, что задержал его армаду в Генуе. Я поступил так не потому, что не уважаю короля, но потому, что не желаю получать от него оскорбления.
Таким образом, всем стало ясно, что Лудовико перешел в другой лагерь. Карл, неожиданно соприкоснувшийся с суровой действительностью, был в отчаянии. Он не знал, как возвратиться обратно во Францию. Итальянский народ наконец проявил к нему всю свою враждебность. Он готов приветствовать чужеземцев, когда они являются как освободители, но он же восстает, когда на поверку те оказываются оккупантами, насильничают, бесчинствуют, безобразят так, как насильничали, бесчинствовали и безобразили французы. На грабежи и насилие армии Карла итальянцы ответили возмущением и восстаниями.
20 мая Карл бросил последний взгляд на замок Ово. Он решил покинуть неприятельскую столицу прежде, чем она поглотила его вместе с армией, пока не захлопнулась мышеловка.
Карл сознавал, что отступление будет долгим и трудным. С одной стороны Апеннины, с другой — море. Повсюду враждебное население. Единственное утешение — пергамент, полученный от венецианского дожа. В документе сказано, что Светлейшая республика «неизмеримо счастлива» представившейся возможностью пропустить Карла с войсками через свою территорию, лишь бы он как можно скорее освободил Италию от своего варварского присутствия.
Как бы желая отпраздновать отступление французов, 24 мая 1495 года Лудовико известил архиепископского викария и коммуну Милана, что на следующий день он намерен принять императорских послов, прибывших, чтобы вручить ему торжественные знаки, свидетельствующие о том, что Лудовико Мавр является первым в истории Милана герцогом императора.
— Прошу вас только об одном, — заявил Лудовико, — когда грянут колокола главного Миланского собора, пусть зазвучат как отзыв колокола и всех других церквей города. Пусть слышит Милан в праздничном апофеозе колокольного перелива, что герцог его прославлен! Подготовьте шествие из замка к Собору. Пусть в течение трех дней и трех ночей Милан безумствует. Желаю, чтобы сверкали фейерверки, горели плошки, чтобы было море света, море огней. Пусть украсится город живыми гирляндами, пусть будут воздвигнуты триумфальные арки, звучит прекрасная музыка, играют оркестры, даются балы, устраиваются пирушки и турниры! Хочу, чтобы город ликовал вместе со своим герцогом. Пусть радуется бессмертию Сфорца!
Но так как великий магистр Амброджо да Розате, астроном двора, вычислил, что 25 мая — неблагоприятный день, то праздники были перенесены на 26 мая. Лудовико был чествуем подобно римскому императору.
Подстрекаемые новым герцогом, государи Италии — Венеции, Флоренции и Рима — поспешили объединить свои силы под единым командованием, чтобы проучить французов за нарушение мирной жизни в Италии, военное разорение и вооруженный захват Неаполя. «Это война всей Италии против ее врагов!» — провозгласили государи. Их лозунг подхватили и граждане страны, хотя, по правде говоря, никакой Италии как государства тогда не было и в помине, во всяком случае, ее нельзя было даже отдаленно сравнить с такими централизованными государствами, как Франция или Англия. Новый союз преисполнил энтузиазмом сердца итальянских государей, убежденных, что итальянская авантюра обессилила Карла, что у короля нет больше средств вести войну, армия же его рассыпается по дороге. Действительно, донесения, получаемые от послов, свидетельствуют о том, что армия Карла отступает в большом беспорядке, что люди его измотаны, деморализованы, истощены и напуганы, в том числе и новой болезнью — сифилисом, впервые давшим тогда знать о себе в Европе. Развлечения французских солдат с неаполитанскими проститутками вызвали взрыв этой болезни, тотчас же названной итальянцами «французской болезнью», а их соседями, жившими за Альпами, — «неаполитанской болезнью». Никто не желал взять на себя ответственность за ее распространение.
Папа Александр VI в окружении кардиналов подставил для поцелуя свою холеную руку.
— Ваше Святейшество, король бежит!
— Мы знаем, — ответил папа, и в уголках его губ обозначилась ироническая улыбка. — Французы завоевали Италию с мелком в руке. Любой город, который попадался им по дороге, они завоевывали так: отправляли заранее квартирмейстера, который мелом писал на дверях имена офицеров и солдат, спешивших туда на ночлег. А теперь, завоеванная мелком Италия решила постоять за себя.
Когда Карл проезжал через Рим, папу так и не сумели разыскать.
— Мне очень жаль, — посетовал король; под глазами у него чернели набрякшие от усталости полукружия. — Ведь пришел я к нему — словно агнец к доброму пастырю. — Так он попрощался с Римом.
Отступление продолжалось. Французы оставили Рим, но сохранили свой гарнизон в Пизе, свободном городе.
Форново — небольшая деревушка, прилепившаяся к берегу Таро. Здесь северные ворота перевала Чиза, на полпути между Сарцаной и Пармой. Именно в этом месте произошло столкновение между отступавшей французской армией и итальянцами. Французскому королю, однако, удалось выйти из этой схватки победителем. Силой оружия проложил он себе путь на родину, во Францию.
«На берегах Таро произошло важное событие, — комментировал это сражение Паоло Джовио, — когда вопреки нашей храбрости, бывшей больше нашего умения, итальянское военное искусство потеряло свою давнюю репутацию».
Горная тропа близ Форново постепенно расширяется и плавно сбегает вниз в просторную долину. Путешественник испытывает при этом огромное удовольствие, проплутав несколько бесконечных километров в узких горных ущельях. Войска итальянской лиги, по мнению историков, поступили бы гораздо разумнее, если бы атаковали Карла VIII в горах, как бы спрыгнув на него неожиданно с крутых скал. Итальянцы, рассуждают историки, прекрасно были осведомлены об особенностях данной местности, и победа в таком случае наверняка осталась бы за ними.
Однако Франческо Гонзага, маркиз Мантуи и один из наиболее известных кондотьеров своего времени, муж Изабеллы д’Эсте, не доверял Парме. По этой причине он предпочел, чтобы не потерять над ней контроль, не удаляться слишком далеко от ее укреплений. Он принял решение атаковать французов не в горах, а на равнине.
Французы имели не более 9500 вооруженных солдат. Большая часть армии была уничтожена голодом, трудностями пути, болезнями. Предстоявшее сражение пугало солдат. Они боялись столкнуться с неприятелем в открытой борьбе. Итальянский поход для них был на первых порах не более чем приятной прогулкой. Теперь же им предстояло помериться силами с грозным неприятелем.
Первыми в долине оказались 350 французских кавалеристов — лучшее, что осталось от армии завоевателя. Следом за ними медленно и величаво, как и подобает прирожденным жителям гор, выступили 3000 швейцарцев.
— Триста пусть останутся в резерве, — приказал Карл. — Вперед, мои лучники-шотландцы, вперед, мои стрелки!
На пути французов 30 тысяч итальянцев. Своей озлобленной храбростью готовы они восполнить все недостатки организации сражения. Они жаждут отомстить иноземцам за унижения, которые испытала их страна за время оккупации. Накануне битвы кондотьеры Карла отправили в безопасное место свои обозы с награбленным в Италии — пять или шесть тысяч мулов, груженных сокровищами.
Гонзага задумал очень остроумный план битвы. Он желал избежать лобового столкновения с противником, что могло бы привести к многочисленный жертвам. Поэтому он решил сымитировать атаку на французский авангард, а затем неожиданно атаковать по флангу противника. Вместе с одним из лучших своих капитанов, Бернардино Фортебраччо, он переправился на правый берег Таро, где наметил два возможных пути перехода ее вброд, с тем чтобы проникнуть в основную массу французов и обратить их в паническое бегство. Однако непредвиденное событие помешало осуществлению этого хитроумного плана в последний момент.
В самом начале битвы неприятеля атаковали страдиоты — мобильная венецианская кавалерия. Подбадривая себя безумными выкриками и воплями, размахивая над головой кривыми саблями, они добились своего — французы были в полном замешательстве. Венецианцы тотчас поспешили ретироваться, так как увидели швейцарцев с их смертельными аркебузами. В тот самый момент, когда венецианцы уже отступали, Гонзага и Фортебраччо попытались начать переход Таро вброд. Но тут полил проливной дождь неслыханной силы. Итальянская кавалерия и пехотинцы захлебнулись в реке, превратившейся в полноводный и стремительный поток. Переходить реку вброд стало невозможно или очень опасно.
Французы же, видя, как в отчаянии бросаются в опасную реку итальянские кавалеристы, сразу же поняли, в чем состояла хитрость Гонзага. Они немедленно позаботились о том, чтобы укрепить свой фланг и отбить атаку итальянцев. Но французы беспокоились напрасно. Ставшая вдруг непреодолимой водная преграда разрушила смелый замысел войск итальянской лиги.
Однако, несмотря на то что их стратегический замысел был противником давно разгадан, несмотря на большие потери, итальянцы не сложили оружия. Но и французы не могли уступить. Ими управляла сила отчаяния. Они твердо решили проложить себе путь на родину. Широкогрудые и плечистые швейцарцы, подвижная французская кавалерия, страдиоты, итальянские пехотинцы — все смешалось в одну общую мясорубку. Произошло такое чудовищное побоище, которого итальянское поле брани не ведало на протяжении двух столетий.
Карл в этот час смертельной схватки искупил всю свою вину и за безразличие к судьбам солдат, и за свою трусость. Весьма смело и достойно занял он место в самом центре битвы под развернутым штандартом Франции. Меч его блистал, тяжело обрушиваясь на головы итальянской пехоты, разбегавшейся во все стороны только от одного его свирепого вида.
Тем временем Франческо Гонзага в отчаянии пытался обойти ряды сражающихся и один на один столкнуться в смертельной схватке с французским королем. Эта дуэль, если бы она состоялась, смыла бы весь позор с той страницы итальянской истории, на которой историки написали, что это было первое иноземное вторжение в Италию много столетий спустя после нашествий германских императоров и византийских генералов. На мгновение Гонзага перестал видеть и что-либо понимать. Дым, язык пламени, удар швейцарской аркебузы — и конь опустился на колени. Гонзага рухнул наземь. Нет у него больше боевого коня. Время потеряно. Он так и не успел сразиться с французским королем. Всего в нескольких шагах от него умер от ран безумно храбрый Фортебраччо.
Мясорубка продолжалась до глубокой ночи. Когда же тьма распростерла над кучей мертвых тел свой траурный покров, Карлу удалось оторваться от преследователей и продолжить отступление. Через несколько дней он был уже в Асти и перешел через Альпы. Теперь он был вне опасности. На поле битвы все было не так, как во времена расцвета Возрождения. Тогдашние войны, как правило, не были кровопролитными. Теперь же война собирала обильную жатву — четыре тысячи погибших. Две трети из них — итальянцы.
По мнению многих историков, в частности автора великолепного исследования Луиджи Бардзини, битва при Форново была поворотным моментом итальянской истории. Если бы итальянцам в тот июльский день удалось одержать победу, многое в нашей истории изменилось бы. Прежде всего итальянцы ощутили бы гордость за свое единство. А во-вторых, общая победа над иноземным захватчиком, быть может, укрепила бы их волю создать общенациональную монархию по образцу тех, которые выдержали испытание временем во Франции и Англии.
Как знать, не начнись в тот роковой день ливень, история Италии приобрела бы совершенно иное направление. Де Коммэн, писавший о французском походе в Италию 1494 года, утверждает, что решающий момент сражения — гроза и исчезновение брода в волнах Таро, — все это длилось не более четверти часа. Всего пятнадцать минут предопределили нашу судьбу. На века.
ГЛАВА IX Печальное завершение одного мифа
Заседание венецианского Сената, как всегда, проходило в обстановке торжественной таинственности. Казалось венецианские сенаторы должны были испытывать удовлетворение: французский король оставил пределы Италии. Но атмосфера была иной — все опасались новых предательств. Среди итальянских государей отношения прежние. Один не доверяет другому, один подозревает другого. Каждое слово подвергается сомнению.
Один из сенаторов сообщил то, чего все ждали и в то же время опасались:
— Не следует полагаться на возможности новой лиги. Мавр дожидается, пока Карл Восьмой перейдет через Альпы. Он уже дал знать французскому королю, что желает с ним сблизиться.
Самый почтенный и старший по возрасту сенатор воскликнул в сердцах:
— Будь проклят этот предатель! Он всегда был и останется врагом венецианского Сената.
Над Венецией в который уже раз нависла угроза изоляции. Испытывая комплекс осажденной крепости, Венецианская республика, которая полагала, что наконец ей не придется, как прежде, бороться с врагами Италии в гордом одиночестве, опять очутилась в незавидном положении. Если Мавр заключит сепаратный мир с королем Франции, то итальянская политика снова окажется в опасности и будет представлять скрытую и явную угрозу Республике.
— Нечего делать, нам не дано изменить природу человека вероломного и не хозяина своему слову. Такова его натура, — подвел итог сенатор. Единственное, что в наших силах, реорганизовать нашу политику. Самое важное — перевооружить армию.
Подписав мир в Верчелли 9 октября 1495 года, Мавр добивался сближения с королем Франции. Карл VIII бросил на чашу весов свой престиж победителя под Форново, которого, однако, не признавал никто из итальянских государей. Во всяком случае, Карл пытался диктовать свои жесткие условия. Правда, Лудовико дал понять ему, что король достигнет гораздо большего, если займет примирительную позицию. Он пообещал королю возвратить Новару, дать возможность пользоваться без всякого опасения портом Генуи. Миланский герцог готов оказывать всяческую поддержку французу в случае, если тот снова предпримет поход на Италию.
Мавр лихорадочно торопится заручиться поддержкой Франции. Он привык к тому, что его двурушническая политика, как правило, приносит успех. Он поторапливает медлительного короля.
— Ты должен передать дожу, — обращается он тем временем к своему послу в Венеции Вимеркати, — что мне по-прежнему дорога дружба со Светлейшей республикой. Я не намерен предпринимать ничего, что могло бы ее оскорбить.
Однако на этот раз у дожа было припасено кое-что для Мавра. Этот сюрприз немало озадачил миланского герцога.
— Передайте вашему синьору, — заявил дож миланскому послу, — что двадцать первого января тысяча четыреста девяносто шестого года я распростер свое покровительство над королем Неаполя.
Лудовико сразу же понял силу удара. Он слишком понадеялся на то, что его политическая игра изолирует Венецию. Теперь же этот нежданный-негаданный союз Венеции с Неаполем воссоздал на полуострове стратегическую ось, с которой он вынужден считаться. Король Франции, по меньшей мере на некоторое время, полностью сошел с итальянской сцены. Мавру пришлось сделать хорошую мину при плохой игре:
— Позвольте выразить надежду, что вся Италия воспользуется добрыми плодами освобождения от варваров.
Его послание дожу внешне выдержано в оптимистично-приветственном тоне. На самом же деле он глубоко обеспокоен возрожденным престижем Венеции и ее возросшим весом среди итальянских государств.
Итальянские правители опасаются скорого возвращения Карла VIII. В марте папа получил письмо от кардинала Джульяно делла Ровере. Письмо его сильно встревожило: французский король собирает войска в Лионе, весной он попытается повторить итальянский поход. Лудовико попробовал еще раз пустить в ход испытанный макьявеллистский прием. Он пригласил к себе архиепископа Милана Гвидо Арчимбольди и снабдил его инструкцией следующего содержания:
— Вам надлежит отправиться в Венецию и выяснить их намерения на случай нового вторжения Карла. Вы должны сказать им, что в случае оказания нам помощи оружием и деньгами мы окажем решительное сопротивление продвижению короля.
Карл VIII вовсе не доверял Лудовико. Как раз для того, чтобы заставить его обнаружить свои намерения, он и напомнил миланскому герцогу некоторые статьи мирного договора, подписанного ими в Верчелли. «Все верно, — известил он Мавра через своего посла, — я действительно намерен возвратиться в Италию. Так что предоставь мне право вооружить несколько кораблей в генуэзском порту. Пока они не нужны для вторжения. На них я стану доставлять подкрепление моим воинам, которые все еще заперты в замках Неаполитанского королевства. Во всяком случае, можно будет испытать возможности нового похода».
«Сир, — вкрадчиво отвечал Лудовико, — тебе известно, что я — твой самый верный друг во всей Италии. Мне не представляется целесообразным вооружать корабли в Генуе именно в данный момент. Это вызвало бы огромное беспокойство и, быть может, непоправимую реакцию со стороны наших государей».
Король был вне себя от гнева. Он вызвал к себе герцога Орлеанского, будущего Людовика XII. Какая разница, какая пропасть между этими двумя людьми! С одной стороны, пышущий яростью, с пожелтелым лицом, на котором застыла злобная гримаса, с черной бородой клочьями, лишь подчеркивающей уродливость хищной физиономии, король; с другой — герцог, взгляд холодного властелина, гордая осанка кондотьера.
— Мавр стал просто невыносим, — начал король. — Он только и занят тем, что замысливает и совершает одно предательство за другим. Я больше не намерен его терпеть. Ты — отпрыск Валентины Висконти, семьи первых миланских герцогов. У тебя все права на синьорию. Дарю ее тебе, если сумеешь — бери! Только доставь мне в кандалах этого проклятого Мавра.
Лудовико чувствовал, как стальное кольцо все туже стягивается вкруг него. Он попытался было выскочить из западни. Карл его ненавидел, Венеция и Неаполь вступили в коалицию против него. Папа Борджа, жестоко обойдясь с его братом, кардиналом Асканио, при всяком удобном случае выказывает свое презрение к дому Сфорца. Кажется, осталась только одна надежда. Его новый родственник, император! Мавр пригласил его прибыть в Италию и поспешил уведомить об этом Карла VIII. Пусть призадумается, старый дурак!
Максимилиан прибыл в Бормио 25 июня 1496 года. Жители города были потрясены великолепием императорского шествия, костюмами с иголочки на широкогрудых солдатах, грациозностью тирольских дам, которых император пригласил с собой из Инсбрука. Однако беседа между дядей и новоприобретенным племянником не клеилась.
— Что же, я готов атаковать Карла хоть сейчас, — заявил Максимилиан. — Но немецкие князья все в один голос не советуют этого делать. Кроме того, я не уверен в позиции Венеции, в случае конфликта Венеция могла бы воспользоваться случаем, чтобы отхватить себе от нашей империи самые аппетитные куски.
— Понимаю, Венеция — ключ ко всей ситуации, — скрепя сердце согласился Мавр, — я беспрестанно предлагаю ей свою дружбу.
Однако император совершил, быть может, роковую ошибку. Вместо того чтобы тотчас возвратиться в Тироль, сохраняя покров таинственности вокруг своего императорского величия, он предпринял шумную поездку по городам Ломбардии. В период между сентябрем и декабрем он посетил Виджевано, Геную, Павию. Итальянская толпа очень быстро впадает в скуку, если тот или иной персонаж слишком долго задерживается на подмостках сцены. Итальянцы не любят фатовства сильных мира сего, принимающих один парад за другим.
«Как, он еще не убрался восвояси? — деланно удивляются итальянцы. — Ему что, больше нечего делать? А при чем тут мы, только и плати за него!»
Когда Максимилиан перевалил через Бреннеро, возвращаясь наконец домой, то практические и политические результаты столь затянувшегося визита были равны нулю. Хуже того, престиж Империи в Италии непоправимо пострадал. Итальянцы отнеслись к императору с полным безразличием. Слишком он засиделся в гостях.
Лудовико в это время пережил несколько тяжелых ударов. Несчастья, обрушивавшиеся одно за другим на его семью, были, казалось, зловещим предзнаменованием грядущих испытаний. В июне 1496 года умерла Бьянка, любимица, внебрачная дочь, родившаяся от простолюдинки Бернардины Коррадис, дочь, которую он обвенчал с одним из лучших своих военачальников Галеаццо Сансеверино. Хотя Лудовико всегда был замкнуто сдержан в проявлении своих чувств, при дворе тотчас же заметили, что эта смерть вызвала в нем резкую смену настроения. «Фортуна в этом году повернулась к миланскому герцогу спиной», — прокомментировал придворный историк Каньола.
1 января в Милане, как всегда пышно, праздновали наступление нового, 1497 года. Залы миланского замка битком набиты блестящими молодыми людьми и дамами. Бал открыл сам герцог, взяв под руку и увлекши в танец жену одного из своих сановников. Беатриче д’Эсте, будучи на последних днях своей третьей беременности, расположилась почти лежа в кресле с высокой спинкой. Она окружена своими компаньонками.
Вдруг зал огласился тревожными возгласами:
— Герцогиня! Герцогине плохо!
Минута замешательства. Все бросились искать придворного врача. Беатриче на руках перенесли в ее апартаменты и уложили в постель. Мавр смотрит на нее испуганно. Он уже почти готов принять удар молнии, призванный сокрушить его горем.
Спустя три часа хирург герцога склонился над ребенком, которого Беатриче с трудом произвела на свет. Крохотное серое тельце, комок слизи, никакого признака дыхания. Сын миланского герцога оказался мертворожденным.
Вскоре после полуночи бледный как полотно врач вышел из опочивальни герцогини, на глазах оцепеневших в ужасе придворных приблизился к Мавру и, словно сам удивленный своей неслыханной смелостью, сильно пожал ему руку. Лудовико вздрогнул.
— Синьор, должен сообщить ужасное. Герцогиня, твоя жена, только что скончалась.
Мавр бросился стремглав по длинным коридорам замка — прочь, прочь отсюда! Ужасный и жестокий, вершивший судьбами Италии, первый среди великих государей и диктаторов, этот человек плакал. Благодаря Беатриче, которой было всего двадцать два года, которую он привел в свой замок, когда она была еще подростком, жизнь его была такой наполненной. Будучи типичным итальянцем, Лудовико нередко пренебрегал ее обществом, у него были даже официальные любовницы, Галлерани и Кривелли, да и другие женщины, о которых он просто уже не помнил, те же фрейлины Беатриче. Быть может, он чаще думал не о ней, а о политике. И все-таки он знал: рядом есть женщина, совсем юное существо, его истинная, его единственная и настоящая спутница жизни. Теплом своего присутствия Беатриче сумела согреть миланское общество. Она была непревзойденной собеседницей художников и музыкальных гениев. С ее именем связывали то, что было в Ломбардии великого в сфере творческой и интеллектуальной. Она могла оспорить пальму первенства даже у своей сестры Изабеллы, маркизы Мантуи, в том, что касается распространения вокруг себя света культуры и красоты. Лудовико разом вспомнил все, что значила Беатриче для Милана. А он сам?.. Миланский герцог был погружен в мрачные интриги и войны. Впервые почувствовал он себя так неуютно, так неприкаянно. В отчаянии написал он несколько строк Франческо Гонзаге, мужу Изабеллы, кондотьеру из-под Форново: «Было бы более справедливо, если бы раньше умер я, столь трудно видеть мне, что нет больше рядом самого дорогого существа на всем свете».
Весь Милан собрался на похороны Беатриче. Заплаканная толпа в течение нескольких дней проходила нескончаемой чередой у гроба, установленного в церкви монастыря Санта-Мария делле Грацие. Все хотели в последний раз запечатлеть черты ставшего уже восковым и неподвижным лица.
Лудовико заперся в своих апартаментах. Его терзал мучительный, бессильный гнев. Он отказывался принимать кого бы то ни было. Напрасно советники пытались уговорить его прервать добровольное заточение. Давно пора было герцогу встретиться с могущественными государями, прибывшими из Италии и Европы, чтобы отдать последнюю дань уважения почившей герцогине.
— Повторяю, не желаю никого видеть, никого! Достанет с них и вас, чтобы выразить благодарность. Я не выйду отсюда.
Перед ним длинное и красивое письмо, написанное по-латыни императором. Он силится как-то ответить, но всякий раз негнущаяся рука падает на белый лист бумаги. Лудовико не хочет больше жить. Теперь мир как бы лишен для него всякого смысла.
Прошло немало дней, прежде чем он нашел в себе тот минимум воли, чтобы вновь заинтересоваться окружающим миром. Монахи монастыря Санта-Мария делле Грацие видят, как он каждый вечер с наступлением темноты приходит в церковь и неровным шагом приближается к алтарю большой часовни, опускается на колени перед могилой жены и остается недвижим, иногда по нескольку часов, забыв обо всем на свете, в окружении длинных таинственных теней, в тишине — этой музыке мировой скорби.
— Синьор, тебе холодно? Дурно? Выпей чашку бульона в трапезной, нельзя так долго стоять на коленях, заболеешь.
— Благодарю вас, монахи. Теперь мое место здесь. Не беспокойтесь. Мне хорошо. Хочется поговорить с ней.
В знак благодарности Лудовико Мавр преподнес в дар монастырю немало святых украшений, серебряный крест, скинию, чаши, канделябры. Он говорил:
— Мечтаю оставить Милану две мраморные статуи, которые напоминали бы городу о любви, жившей в этом городе. Беатриче и я возлежим словно во сне, словно в ожидании исполнения воли Господа.
Неожиданная смерть Беатриче явилась знаком судьбы. С того самого дня, как она ушла из жизни, звезда удачи Лудовико больше не воссияла на горизонте. Одно событие теснило другое, еще более грозное. В конце концов они обрушили его трон. Мрачная атмосфера подавленности и безнадежности воцарилась при дворе. Первым обратил на это внимание секретарь Мавра, вдумчивый Кальмета: «Со смертью мадонны Беатриче Милан и его двор из светлого рая превратились в мрачный ад».
Шли дни, а Лудовико так и не мог обрести душевного равновесия, горечь и бессильная злоба терзали его сердце, душа пребывала словно в полусне, страдание его граничило с ненавистью ко всему человечеству. Казалось, какая-то часть его существа, лучшая часть его сердца, испепелена горем. Сожаление о былом причиняет острую боль, но мысль о невозвратимой потере невыносима. В соответствии со своим характером и темпераментом Лудовико старался сделать зримыми эти свои чувства. Он одевался теперь только в черные одежды. Подданные в почтительном страхе говорили о нем — «Черный Рыцарь», соединяя в своем фантастическом представлении Лудовико Мавра с призраками, палачами, разбойниками и рыцарями из легенд. Лудовико пришлось по душе это прозвище. Отныне Черный Рыцарь — это угрызения совести и бунтарский дух итальянского государя. Но это же и голос неудовлетворенных амбиций, трагический стон всякого, кто не может покинуть земной юдоли.
Так началась жизнь Черного Рыцаря, прошедшая под знаком поражений. Но неважно, что судьба стала для Лудовико врагом. Все равно его образ был окружен венцом легенды. Предчувствие поражения, поруганного величия отразились в его бледном лице, призрачность которого только подчеркивал черный бархат.
Лудовико нажил себе ужасного врага. Этот человек внешне уважал герцога. Но с каждым днем взращивал он в себе новые семена ненависти. Да, прославленный военачальник Джанджакомо Тривульцио ненавидел герцога, ненавидел смертельно.
Этот блестящий военачальник решил, что его не понимают и не ценят в Италии. И перешел на службу к французскому королю. Хотя жена его, Беатриче д’Авалос, продолжала жить в Милане, он отверг все попытки Мавра вовлечь его в свою орбиту. Тривульцио стал наместником Карла VIII в Асти.
«Ты делаешь блестящую карьеру, — написал ему в этой связи Мавр. — Мне же остается только сожалеть, что дни столь достойного и доблестного человека проходят вдали от Милана».
Тривульцио показал письмо своему адъютанту и горько усмехнулся:
— Вот видишь, на словах меня хвалит, а сам тем временем пытается оттягать мое поместье в Месокко.
Лудовико известны достоинства кондотьера, он знает, что рано или поздно Тривульцио так или иначе попытается посягнуть на власть миланского герцога. В этом человеке сконцентрированы все характерные черты великих итальянских авантюристов эпохи Возрождения. Желая избежать неприятных сюрпризов, герцог отдал приказ своим жандармам тщательно следить за тем, чтобы ни одно из доверенных лиц Тривульцио не проникло на территорию герцогства с целью устройства Пятой колонны.
После смерти любимой жены Лудовико испытывал приступы сильной депрессии, его терзали сомнения, тревога, неуверенность в будущем Италии. Он подолгу сидел взаперти в уединенных комнатах замка. Словно предчувствовал, что на этот раз он потеряет свое государство. Его крайне взволновал тот факт, что Карл VIII демонстративно пренебрегает военными и дипломатическими услугами Милана. Французский король только что, 23 февраля 1498 года, подписал перемирие с Испанией. Теперь у него почти не осталось врагов, у него развязаны руки, чтобы подготовиться к новому походу на Италию. Лудовико понимал, что на этот раз поход будет развернут под предлогом наказания его, Лудовико Мавра, «величайшего из предателей». Это будет «карательная экспедиция».
Если Карл догадается выставить против меня Тривульцио, размышлял Лудовико, тогда конец. Тривульцио, пожалуй, единственный кондотьер, которому прекрасно известны все уязвимые места в обороне герцогства.
Пытаясь как-то задобрить своего врага, Лудовико предложил Тривульцио назначить его племянника епископом Асти. Но это предложение только еще больше раздразнило Тривульцио. Тем более ему стало только что известно, что на улицах и площадях Милана появились карикатуры на него, где он был изображен на виселице.
Лудовико, не говоря ни слова, гневно уставился на смущенного куртизана. Красный от волнения, он без стука распахнул дверь его кабинета, да так и остолбенел на пороге.
— В чем дело?.. Ты сошел с ума! Что ты себе позволяешь!
У сановника от страха пересохло в горле, он не мог выдавить из себя ни слова. Наконец прохрипел:
— Прости меня, синьор, не мог сдержаться. Новость… Чудесная новость! Сегодня утром в Амбуазе умер Карл Восьмой.
Лудовико вцепился в руку своего прислужника так крепко, что едва не сломал. Лицо его словно окаменело. Потом вдруг разгладилось. Он хохотнул сдавленно, губы его скривились в подобии улыбки.
— Умер? Карл умер? Значит, опять все сначала! Нашим врагам придется плести свою паутину с самого начала.
Было раннее утро 7 апреля 1498 года. Неожиданная смерть от апоплексического удара французского короля, начавшего своим итальянским походом бесконечную череду иностранных завоеваний Италии, открывала в истории страны новую главу.
Однако сколоченные Карлом союзы не развалились, подобно карточному домику, как надеялся Лудовико. Вскоре миланский герцог с горечью убедился, что складывающаяся ситуация для него чревата еще более серьезными осложнениями. Новый король Франции, Людовик XII, — это тот самый герцог Орлеанский, который, являясь отпрыском Валентины Висконти, обладает правом на миланское герцогство. Ловкий Тривульцио, как всегда, не замедлил включиться в игру, которую затеяли сильные мира сего. При посредстве своих союзников, граубюнденских швейцарцев, он дал знать Лудовико Мавру, что крайне разгневан появившимися в Милане карикатурами, где он изображен на эшафоте, и, коль скоро он не получит сатисфакции, то не замедлит убедить нового короля в необходимости проучить миланского герцога. Лудовико был встревожен подобным известием. Он тотчас распорядился убрать со всех городских перекрестков и площадей злобные картинки. Кроме того, он немедленно возвратил Тривульцио все его поместья.
— Таким образом, можно рассчитывать на передышку, — объяснил он свои действия советникам, но тут же в приступе какого-то безысходного пессимизма добавил: — Не думаю, что она продлится долго.
Папа Александр VI предложил кардиналам, собравшимся на консисториальное совещание, нечто такое, отчего даже они, казалось бы привыкшие ко всяким неожиданностям, пришли в недоумение.
— Мне желательно, чтобы вы одобрили вручение кардинальской мантии моему сыну Чезаре Борджа. Естественно, это не означает, что он должен будет отказаться от своего основного занятия. Он по-прежнему останется доблестным солдатом и не откажется от своего намерения жениться в самом скором времени.
Наглая выходка папы, его беззастенчивый фаворитизм в отношении своих родственников не могли не вызвать возмущения. Всеобщим было мнение, что папство, выйдя за рамки приличия, готово пойти на любые преступления. «В Божьей церкви, — писал венецианский хронист Санудо, — все теперь вывернуто наизнанку».
Бракосочетание сына Александр VI пытался использовать в своих особых политических целях. Он задумал женить своего Чезаре на французской принцессе Шарлотте д’Альбрэ. Таким образом, папа желал сблизиться с новым французским королем. Заручившись его поддержкой, папа Борджа вообще перестал скрывать свою глухую враждебность к Лудовико Мавру и его барту Асканио Сфорца, с которым, как это ни странно, в самом начале своей церковной карьеры водил тесную дружбу.
«Его Святейшество заявляет, что наш дом Сфорца должен быть срыт до основания, — передал кардинал Асканио своему брату герцогу. — Я вынужден бежать из Рима. Теперь, во всяком случае, ясно, что наши враги хотят погубить нас во что бы то ни стало.
Оставшись без Беатриче, Лудовико как-то внутренне обмяк. Он совершал одну ошибку за другой. Он недооценил мощь Франции, полагая, что после смерти Карла пройдет немало времени, прежде чем французское королевство сумеет реорганизовать свои силы. Он счел возможным дать выход своему дурному настроению, интригуя против Венеции. Так, он запретил проход по своей территории венецианских отрядов, направлявшихся в Пизу. В ответ Венеция незамедлительно заключила союз против Мавра с Людовиком XII.
Несмотря на постоянную перемену союзников, что являлось основной характерной чертой запутанной итальянской политики, Лудовико удалось сохранить какое-то подобие прежней лиги, заручившись поддержкой Флоренции, Неаполя и императора. Основная идея была верной — проучить Венецию еще до того, как Франция снова станет агрессивной державой. Командовать войсками союзников он поручил Франческо Гонзага.
Однако Венеция совершила ответный ход в этой шахматной партии, справедливо предположив, что он смертельно напугает Мавра. Венеция решила вверить командование своими войсками Джанджакомо Тривульцио, единственному кондотьеру, как рассудили венецианцы, способному «внушить глубокое уважение» миланскому герцогу. Но Тривульцио успел опередить всех. Он уже генеральный наместник короля Франции Людовика XII и главнокомандующий его группой войск в Италии. Кольцо все теснее смыкалось вокруг Мавра.
В начале 1499 года союз против Мавра стал еще более сложным и мощным. Папа, как мог, старался умащивать Людовика XII, чтобы обеспечить карьеру своему сыну Чезаре Борджа, тысячей нитей связанному с французским двором. Новый савойский герцог Филиберт II, которого Мавр при помощи нехитрых дипломатических приемов мог бы сделать своим другом, тоже оказался вовлеченным в орбиту французского короля. Но что самое удивительное — даже родственник Лудовико Мавра Франческо Гонзага повернулся к миланскому герцогу спиной. Все произошло из-за вполне заурядного спора между ними по вопросу о признании военных заслуг Гонзаги, «повышения его по службе». Будучи командующим миланской армией, Гонзага желал бы стать «капитаном», тогда как Лудовико по-прежнему считал его «лейтенантом». В знак протеста обиженный Гонзага, по легкому обычаю той эпохи, не долго думая перешел на службу к венецианскому дожу.
9 февраля 1499 года Людовик XII и Светлейшая Венецианская республика заключили союз, суливший немало трудностей и опасностей миланскому герцогству. К этому акту вскоре присоединился и римский папа, за ним следом другие, менее могущественные государи. В намерение всех союзников входило уничтожить до основания гегемонию Мавра в Италии.
Почувствовав себя в осажденной крепости, Лудовико прибег даже к последнему средству — союзу с турецким султаном. Но все его усилия в этом направлении оказались безрезультатными.
— Вероятнее всего, я стою у последней черты, — признавался он в кругу самых близких и доверенных лиц — монахов монастыря делле Грацие. — Людовик желает прибрать к рукам миланское герцогство. Венеция меня люто ненавидит. Флоренция готова на меня напасть. Но все это мне уже безразлично. Я распорядился, чтобы к вам отошел мой самый любимый дом, мое поместье в Виджевано… — Помолчав, Лудовико заключил: — Пора писать завещание.
Последняя воля миланского герцога могла растрогать даже самое твердокаменное сердце: он просил похоронить себя рядом с женой в самом скромном и прекрасном монастыре Милана. В своем политическом завещании он подробно объяснял, как следует воспитывать его малолетних детей. Завещание Мавра — исторический документ, передающий возвышенность его духа и политического миросозерцания. В нем портрет государственного деятеля, поставившего во главу угла своей деятельности основной принцип — принцип долга. Завещание Мавра в то же время своеобычный трактат об искусстве управления государством, который, пожалуй, годится на все времена. Со страниц его веет величием духа Возрождения. Буквально ощущаешь духовную атмосферу эпохи, которая ставила человека в центр мироздания. Человек был исполнен гордости оттого, что находится в этом центре. Он глубоко и интенсивно переживал свое могущество, высшее свое человеческое достоинство и призвание: человек должен отдавать всего себя делу, которому служит. Неважно, улыбается или нет ему фортуна, он по праву своему верховный и абсолютный господин вселенной. Лудовико покинул исторические подмостки, оставив это завещание. Все, что случилось с ним потом, а проживет он еще десять лет, долгих несчастных лет, — второстепенное. Но в тот момент, когда он доверил пергаменту последнюю свою волю, Лудовико Мавр был на вершине своего величия. Он был человеком, который ни в чем не уступал ни Лоренцо Великолепному, ни Франческо Сфорца, своему отцу.
Теперь Мавр мог положиться только на одного из своих прежних союзников — на императора. Но тот в своей деятельности столкнулся со многими трудностями, которые еще не успел преодолеть. Так что император был не в состоянии хоть чем-то помочь Мавру.
Лудовико по-прежнему был окружен всенародной любовью. И ему удалось сколотить довольно многочисленное войско: 1600 стрелков и 1500 легкой кавалерии, 10000 итальянских пехотинцев и 500 немецких. Но и здесь Мавру не удалось избежать ошибки. Свое ополчение он доверил командованию Галеаццо Сансеверино, мужу несчастной Бьянки, который явно больше годился для рыцарских турниров и не обладал качествами военачальника. Тем более не подходил он для роли вершителя судеб отечества в столь сложный и ответственный момент.
Людовик XII отдал приказ к наступлению.
— Благословенные Господом поля и долины вскоре будут принадлежать только нам! — провозгласил великий рыцарь Джанджакомо Тривульцио, сняв по-христиански шлем в тот самый момент, когда 15 июля 1499 года переступил рубеж миланского герцогства.
Казалось, все беды и несчастья вселенной обрушились на голову Лудовико. 24 июля Венеция неожиданно отозвала своего посла и силой оружия захватила прилегающие к Брешии земли. Тем временем наступление Тривульцио верно и неуклонно продолжало развиваться. 13 августа он занял Рокка д’Ареццо, 14-го — Инчизу, 19-го он уже был в Анноне, между 20-м и 25-м один за другим оккупировал все города в Алессандрино, обеспечив тем самым скорое падение самой Алессандрии. На армию Лудовико Мавра оказывалось давление по всем фронтам. Миланский герцог опасался окружения. Сансеверино не мешкая отдал приказ об отступлении к Милану.
— Последняя надежда на императора, — доверился судьбе Мавр.
Когда же солдаты Максимилиана прибыли в Вальтеллину, вся область Бергамо была уже занята венецианскими войсками. Они были хозяевами в Караваджо, Сончино и Тревильо.
Подобно тому, как это уже однажды случилось с армией Карла VIII, армии Тривульцио и Венеции были встречены населением как «освободители». Верно, Мавр пользовался популярностью среди простого народа. Однако и прежде, а в особенности после смерти Беатриче, та изоляция, в которой он очутился, та особого рода усталость, в которую рано или поздно ввергает себя любой деспотический режим, с роковой неотвратимостью подтачивали его массовую опору. С каждым днем Мавр терял своих сторонников. Таким образом, и второй поход французов в Италию был встречен населением миланского герцогства с радостным ликованием. Армия Сфорца таяла на глазах. Вооруженные отряды, которые Катерина Сфорца, синьора Форли, срочно снарядила для оказания помощи своему дяде, шли весьма неохотно. Они совершенно равнодушно прореагировали на то, что на границе миланского герцогства их остановили верные папе гвардейцы.
Лудовико понял, что игра проиграна. Улицы и площади Милана оказались во власти взбунтовавшейся черни. Хранитель герцогской сокровищницы и его советник Антонио Ландриани были зверски убиты. Город готов был взорваться беспощадной злобой и анархией.
Лудовико Мавр призвал к себе коменданта замка Бернардино да Корте.
— На тебя возложена ответственность за оборону одной из самых мощных крепостей Европы. Тебе известно, что полное обустройство укреплений обошлось мне в шесть тысяч дукатов. Возможности выдерживать осаду у нас практически безграничны. Оставляю под твоим командованием три тысячи пехоты, всю артиллерию, съестных припасов на шесть месяцев и изрядное количество денег — они, быть может, понадобятся на подкуп осаждающих. В Милане должен сохраниться очаг сопротивления до тех пор, пока я не возвращусь сюда с армией. Доверяю тебе, мой храбрец!
Бернардино поклялся, что будет держаться до последнего человека.
Мавр торопился отдать последние распоряжения. Заботу о своих малолетних сыновьях, Массимилиано и Франческо, он поручил брату Асканио. Тот должен был переправить детей в надежное место. Ему же, Асканио, Лудовико Мавр доверил и сохранность своих несметных сокровищ. Кое-кто поговаривал о 7 миллионах лир. Но историки в конце концов сошлись на сумме, не превышающей 200 тысяч дукатов. Поручив своим близким друзьям, Лудовико Висконти и Агостино Адорно, наиболее важные крепости герцогства — Треццо и генуэзский замок, Мавр направился в Комо. Отсюда намеревался он добраться верхом до Вальтеллины, а там до Тироля рукой подать. В Тироле он рассчитывал остаться ненадолго, будучи изгнанником и гостем своего родственника императора.
Прощание Лудовико с миланскими придворными было взволнованным и драматическим:
— Я мог бы оказать отчаянное сопротивление, но это означало бы обречь Милан на разрушение, — признался Лудовико. — Я предпочитаю искать помощи у императора и вернуться с сильной армией.
Обратившись в бегство, Лудовико Мавр перестал быть синьором Милана даже номинально. Власть перешла в руки временного правительства, назначенного народным собранием, состоявшим, как и следовало ожидать, отнюдь не из сторонников Мавра. Антонио Тривульцио, епископ Комо, например, был двоюродным братом его заклятого врага. Кастильони, архиепископ Бари, хранил верность низложенной герцогине Изабелле. Многие предсказывали, что французы посадят именно ее на герцогский трон в Милане.
2 сентября 1499 года Лудовико в мрачном настроении покинул Милан. На горизонте стлался дым пожарищ. Герцога охранял отряд в две тысячи солдат. По прибытии в Комо Лудовико принял все меры предосторожности, опасаясь мятежа. Но опасения оказались напрасными. Жители Комо встретили его на удивление радушно, даже с энтузиазмом. Лудовико поселился в епископском дворце, ибо, как он и предполагал, архиепископ Тривульцио, узнав о скором вступлении в город французов, поспешил навстречу своему двоюродному брату.
По приказу герцога глашатаи обходили улицы Комо, от основания древнеримской башни до берега озера, ровную гладь которого морщинил налетевший откуда-то ветерок. «Герцог взволновал добрым приемом своих наилучших подданных, граждан города Комо! Миланский герцог объявляет: город Комо освобождается впредь от всех налогов сроком на десять лет!»
На следующее утро Лудовико созвал во дворец всех декурионов Комо. Речь свою он выдержал в возвышенных тонах. Сердце слушателей дрогнуло, когда герцог обратился с прощальным приветствием к Милану:
— Не по малодушию и не по вине своей я, ваш герцог, оказался ныне на положении беглеца и изгнанника. С некоторых пор злая судьба собрала грозные тучи над нашим герцогством, которым управлял я на протяжении почти двадцати лет, и герцогство наше достигло такого процветания, просвещения и политической мощи, что не могло не вызывать зависть всех властелинов Италии и Европы. Наконец нашим врагам удалось соединить свои усилия, чтобы нас погубить. Их много, они сильны. И сейчас я вынужден признаться, что не в силах один, только теми войсками, что есть у Милана, отбить их нашествие. Нет, не желаю я погрузить в траур свое отечество. Я предпочел на время оставить борьбу, чтобы не погубить своих верных подданных. Нет, не прошу я вас отдать свою жизнь за меня. Прошу вас об одном только: ждите меня, оставайтесь моими друзьями в час невзгоды и испытания, не поминайте меня лихом. Я скоро вернусь и снова овладею герцогством.
Граждане Комо — прожженные реалисты. Они высоко оценили патетику сказанных Лудовико слов. Но главное для Комо знать обо всем конкретно. Один из декурионов поднялся со скамьи для ответа:
— Нам понятно твое огорчение, и мы будем верноподданно ждать твоего возвращения. Только ты сейчас должен сдержать данное слово. Ты провозгласил, что город наш освобождается от налогов. Да будет это решение последним официальным актом до твоего отъезда.
Лудовико выслушал декуриона. Впервые за многие дни на сжатых губах его обозначилось нечто вроде улыбки. Он приказал принести пергамент и подписал документ. В Комо часто менялась власть, но в течение некоторого времени город и в самом деле не платил никаких налогов.
— Синьор, французы у ворот города! Только бы успеть проскочить до Белладжо! — поторапливали Мавра.
Французы вступили в Комо, когда он со свитой приближался уже к Вальтеллине. В народе сложили печальную песню о горькой судьбе Лудовико Мавра:
Господь сказал ему: прощай, Лудовик Мавр склонился низко, Он больше не увидит близко Италию и отчий край…Враги были на подступах к Милану. Народное собрание заседало в церкви делла Роза. Были определены условия сдачи города. Миланские послы срочно поскакали в лагерь Тривульцио с этим известием.
— Мы присягнем на верность королю Франции и возложим на себя обязанность уплачивать ему ежегодно налог при условии, что король не станет вмешиваться в прочие наши дела и позволит, чтобы вдовствующая герцогиня Изабелла и ее дети по-прежнему пользовались привилегиями, подобающими ее рангу.
Тисинские ворота на протяжении столетий видели немало входящих в город завоевателей. Утром 6 сентября Тривульцио въехал в город через эти ворота верхом на боевом коне в сопровождении герцога де Линьи. Народу приветствовать их, правда, собралось совсем мало.
В Брессаноне, куда удалился Мавр, было получено известие о падении Милана.
— Свершилось ужасное предательство, — рассказывал гонец. — Бернардино да Корте, которого ты оставил оборонять неприступный замок, как только Тривульцио вступил на миланскую мостовую, заявил, что готов с ним обо всем договориться по-мирному. Его условие: сокровища, хранящиеся в замковых подземельях, он поделит по-братски с Тривульцио. Он капитулировал. Милан полностью в руках захватчиков.
Лудовико усмехнулся. Двурушничество и предательство его ничуть не удивляли, ведь он сам всю жизнь следовал той же стезей.
В старой части замка были устроены грандиозный банкет и бал. Муниципии Милана приветствовали короля-завоевателя Людовика XII, прибывшего в Италию взглянуть на земли, на которые отныне простиралось его господство. Французского короля чествовали с воодушевлением. В Павии он, желая снискать расположение старинного университета, срочно распорядился об увеличении жалования профессорам. Все павийцы горячо аплодировали, когда король поцеловал в макушку «маленького герцога» Франческо Сфорца, сына герцога Джана Галеаццо, лишенного власти кознями хитроумного и коварного Мавра. Мать Изабелла предусмотрительно послала мальчугана навстречу монарху-завоевателю. Но Людовик, прибывший из Франции, гораздо хитрее, чем она думает. Он отнюдь не отказался от желания прибрать к рукам герцогство и, так как этот молокосос стоял у него на пути, решил от него поскорее избавиться. Под предлогом, что мальчику необходимо получить образование, соответствующее его будущей роли, «маленького герцога» срочно отправили во Францию. Больше он в Милан не вернулся. Дети Мавра в будущем еще станут синьорами Милана, явившись последним отзвуком жизненных сил династии Сфорца, а вот для «маленького герцога» все кончилось в один день.
Французская оккупация, которую приветствовали на первых порах с известной симпатией, вскоре возмутила весь Милан. Армия короля Людовика принесла с собой только насилие, грабежи, жестокость и тяжелое, безысходное налоговое бремя. На улицах Милана больше нельзя было услышать радостные выкрики: «Франция! Франция!» или: «Тривульцио! Тривульцио!». Теперь, когда кондотьер проезжал со своей свитой по улицам города, отовсюду гневно кричали: «Хлеба! Хлеба!», ибо и хлеб теперь, при французах, стали облагать непомерным налогом. Людовик XII был вынужден прибегнуть к помощи глашатаев, пытаясь объяснить миланцам, что налоги пойдут, как они того опасались, не на перевооружение французской армии, а на приведение в порядок итальянской администрации. Однако народ, как бывает всегда в подобных случаях, резко изменил свое отношение к оккупантам. Все были возмущены перекройкой границ герцогства — Кремона и Джера д’Адда были отторгнуты от миланского герцогства. Все чаще получал Мавр письма с просьбой вернуться. Герцог же, которому к этому времени удалось собрать восьмитысячную армию, состоявшую сплошь из швейцарцев, обещал, что скоро, очень скоро он въедет в Милан через арку Тисинских ворот.
Новый год встретили в Милане с затаенной надеждой, что он станет годом возвращения Мавра. Как раз 1 января 1500 года глава миланского Сената издал эдикт, согласно которому штрафом облагался всякий, кто осмелится публично произнести имена Мавра, императора или такие слова, как война и мир. Сложилась гротескная ситуация. Один из лакеев Мавра был арестован за то, что подпиливал решетку вокруг замка. Ему инкриминировали подготовку лазейки для проникновения в город низложенного герцога. Были и еще более нелепые преследования. Стайка уличных мальчишек была избита французскими лучниками только за то, что играла в войну, разделившись на две группы, одна из которых именовалась «французами», причем «французы» были побеждены и мальчишки водили по двору «генерала», привязанного веревкой к ослиному хвосту. Оккупационная армия боялась теперь своей собственной тени.
Джанджакомо Тривульцио втихомолку уже начал отправлять в свои поместья награбленное за время пребывания в городе. Миланские лавочники поспешно прятали сундуки в надежном месте, подальше от Милана — в деревнях Брианцы и Комо. Вдруг зазвонили колокола на Тисинских воротах. Город огласили призывы «К оружию!», «Восстание началось!». Оказалось, это была шутка какого-то полоумного звонаря. Однако французы с ужасом отметили, что на призыв собралось народное ополчение — четыре тысячи вооруженных горожан. Стало ясно, что, как только швейцарцы Лудовико подойдут к городским воротам, восстание в городе нельзя будет подавить никакими силами.
Таким образом, когда французы, обезумев от страха, заперлись в замке, 2 сентября кардинал Асканио во главе четырех тысяч швейцарцев вошел в город. Гром аплодисментов приветствовал его торжественное шествие по улицам города. Спустя два дня энтузиазм миланцев поднялся до точки кипения. Нарочито медленно на своем боевом коне Лудовико Мавр вступил в город через Тисинские ворота, направляясь к Собору. Взгляд его был печален, но исполнен внутреннего удовлетворения. Прошло всего несколько месяцев, как он бежал из своей столицы. Теперь Милан снова был у его ног.
Над зубчатой стеной замка развевался белый флаг. Кардинал Асканио был вне себя от восторга. Защитники замка просили пощады — капитуляция! Когда же парламентеры, прибывшие из замка, объяснили ему подлинную причину перемирия, то удивлению его не было предела.
— Синьор, — обратился к нему парламентер, — невестка нашего капитана Тривульцио должна вот-вот родить. Она в замке. Просим тебя, ради Христа, пропустить в замок повивальную бабку и кормилицу. Вы не должны воевать с роженицами!
Кардинал прыснул со смеху.
— Ты прав, герольд беременных баб! — И приказал удивленным капитанам: — Срочно отыскать повивальную бабку и направить в замок! Кроме того, от меня доставить лекарства, тряпки, пеленки, чепчики и подгузники. И еще ящик мальвазии для роженицы! Сфорца всегда были рыцари, даже со своими врагами!
Лудовико держался бодро. В Павии ему удалось собрать значительный вооруженный отряд, целую армию: 16000 швейцарцев, 1000 бургундцев, 400 итальянских всадников. Со дня на день он ждал посланного им в Германию надежного человека Томмазо Мороне с артиллерией. Схватка с врагом предстояла ожесточенная, но Лудовико сделал все, чтобы не подвергать разрушениям Виджевано, столь дорогое его сердцу поместье, и повел переговоры о капитуляции при условии, что каждый из жителей города заплатит по одному рейнскому флорину всем швейцарцам, состоявшим у него в армии.
А 4 марта 1500 года герцог возвратился в Милан. На этот раз ликованию толпы не было границ. Лудовико воспользовался случаем, чтобы высказать некоторые непопулярные идеи:
— Мне известно, что во время переменчивой войны были разграблены многие церкви, дворцы, общественные здания. Миланцы, даю вам срок, чтобы возвратить все награбленное в замок. Это не военные трофеи, на которые имеет право победитель. Это коллективное богатство, которое должно возвратить нашему городу.
Миланцы на удивление благодушно отнеслись к этому требованию герцога. За несколько часов горожане возвратили в государственную казну ценностей на сумму 100 тысяч дукатов.
— Я вернулся, и я ваш капитан! — гордо воскликнул Лудовико. — Так помогите же мне очистить нашу землю от чужестранцев!
Гарнизон замка сдался на милость победителя. Милан был освобожден. Но Мавр этим не удовлетворился. Он жаждал большего. Он желал покарать Венецию за ту зловещую роль, какую она сыграла во втором французском нашествии. Против нее он направил армию под командованием Франческо Бернардино Висконти. Венеция была крайне раздражена и ответила на вызов захватом Лоди и Пьяченцы.
«Синьор, мне известно, что ты в ссоре с Тривульцио, нашим заклятым врагом. Теперь нет причин, в силу которых Милан должен был бы бороться с великим королем Франции. Помоги мне установить мир с этим великим государем, и я стану считать тебя лучшим среди моих друзей», — обратился Лудовико в письме к Линьи, желая привлечь его на свою сторону. Но судьба не пожелала считаться с его планами. Линьи немедленно ответил на письмо Мавра, указав условия, необходимые для заключения соглашения с французским королем. Но его гонец был перехвачен людьми Тривульцио. Не получив долгожданного ответа, Мавр решил, что его враги не намерены давать ему передышку, и отдал приказ возобновить вооруженные действия.
Лудовико был уже в непосредственной близости от неприятельского лагеря. Враг со своей армией засел в Новаре, окруженной толстыми крепостными стенами. Граф Латремуй, прославленный французский полководец, переправился через По и соединился с отрядами Тривульцио в окрестностях Мортары. Было вербное воскресенье апреля 1500 года. Самое начало страстной недели.
В понедельник французская армия на марше пересекла равнину в непосредственной близости от Новары. Лудовико расположил артиллерию в аббатстве близ Трекате. Он приказал своей кавалерии атаковать французов, а сам отвел пехотинцев ближе к стенам города. Первыми в соприкосновение вошли французы и бургундские наемники, служившие у Лудовико. Пехотинцы Латремуя и Тривульцио оказали ожесточенное сопротивление, так что кавалерия была вынуждена ретироваться к стенам города. В этот момент Галеаццо Сансеверино открыл артиллерийский огонь. Во французских порядках возникли зияющие бреши. Битва продолжалась до захода солнца. Вечером Лудовико возвратился в Новару, пребывая в убеждении, что выиграл решающее сражение.
Боевые трубы разбудили еще скованную предутренним сном равнину. Наступило утро второго дня страстной недели. Неожиданно для себя миланские войска увидели готовые к сражению войска французов, занимавшие в основном ту же диспозицию, что и накануне. Битва была не менее жестокой и продолжалась столь же долго. Однако, возвратившись под вечер в Новару, Лудовико не мог отделаться от тревожного чувства, что он уже дважды упустил из рук окончательную и бесповоротную победу над французами.
Наступила вербная среда. Разглядывая на некотором отдалении разноцветные французские мундиры, Мавр объезжал свои войска на прекрасном боевом коне. Вдруг мудрый конь остановился как вкопанный. Впереди показалась небольшая группа монахов, несших на носилках погибшего солдата. Их путь лежал к ближнему кладбищу. В строе солдат Лудовико послышался глухой ропот. Герцог решил подбодрить свое войско:
— Не сомневайтесь, победа будет за нами!
Мавр любовался своими швейцарцами. В течение двух дней они храбро сражались. Он был уверен, что и на этот раз они сумеют показать свою доблесть. Но ошибся: трудности и усталость, накопившиеся за два дня, недоедание и жажда, большие потери подорвали уверенность в победе бравых швейцарцев. Они уже не подчинялись настойчивым приказам синьора, отступали при первых же залпах неприятельской артиллерии, спешили укрыться за безопасными стенами Новары.
Мавр растерялся. Он чувствовал, как в воздухе разливается ядовитый душок предательства. Швейцарские капитаны неожиданно, без вызова, прибыли к нему; держали они себя с достоинством, высокомерно.
— Мы приняли решение начать переговоры о сдаче.
Латремуй и Тривульцио испытали некоторое замешательство, когда на противоположной стороне огромного дубового стола перед ними уселись плотные, крепко сбитые швейцарские военачальники. Крупные загорелые лица, светлые волосы, в беспорядке прикрывавшие лоб, — все в них внушало уважение.
— Мы готовы беспрепятственно пропустить вас на родину. Однако вам надлежит выдать всех итальянцев, носящих оружие, которые укрылись в городе.
Соглашение вскоре было подписано при том условии, что наемники покинут город не раньше, чем будут сданы победителю все итальянские граждане.
— Вы не смеете отдавать меня в руки моему злейшему врагу! — в отчаянии протестовал Лудовико. — Вы получите Комо в полное свое распоряжение, только спасите меня! Король Франции меня непременно убьет!
Есть только один способ спасти твою жизнь, — подсказал выход Сопрасассо, швейцарский капитан. — Мы дадим тебе мундир швейцарского солдата, ты последуешь за нами.
Наступила пятница — великая пятница страстной недели. Нескончаемо длинной чередой покидали замок Новары швейцарцы, ландскнехты, бургундцы. Как заключенные, шли они друг другу в затылок по ярко освещенной солнцем равнине, волоча свое оружие по земле. Во внутреннем дворе замка, перед тем как были распахнуты ворота, Латремуй еще раз обошел строй итальянских военнопленных: усталые, искаженные голодом и недосыпанием лица простых солдат. Он не обнаружил того, кого безуспешно искал. В толпе так и не мелькнуло гордое и независимое лицо Лудовико Мавра.
— Требую предоставить мне возможность осмотреть каждого из ваших солдат, прежде чем вы продолжите отступление, — заявил француз, обратившись к швейцарским кондотьерам. — Постройте их в колонну по двое, — приказал он.
Швейцарцы тревожно переглянулись. Перемирие повисло на волоске. Достаточно одного взгляда, чтобы все тотчас раскрылось…
Лудовико шел в колонне. Она медленно приближалась к французскому патрулю. Герцогу было неловко в шинели простого швейцарского солдата. Неудобная каска все время сползала на глаза. Французы, конечно же, его тотчас узнают. Вдруг от группы швейцарских капитанов отделилась какая-то неуклюжая фигура… Сопрасассо! Помедлил, вглядываясь в лица французов, сквозь зубы процедил всего два слова:
— Вот он!
Лудовико мгновенно принял решение. Он уверенным шагом покинул колонну и сильным, ясным голосом, резко отозвавшимся в тишине залитой солнцем равнины, произнес:
— Сдаюсь на милость своего единокровного синьора де Линьи!
Граф де Линьи шагнул навстречу герцогу, приветствуя его высоко поднятым мечом, как и подобало рыцарю.
— Честь имею, государь! Слава храбрым и нашему благородному синьору, герцогу Милана.
Армия Тривульцио надвигалась на Милан. После того как Лудовико был взят в плен утром 10 апреля 1500 года (даже французы не могли отказать ему в уважении, видя то, с каким достоинством умел держать себя герцог), солдаты Сфорца бросились в беспорядочное отступление, устремившись к столице и не оказывая французам никакого сопротивления.
Де Линьи отнесся к своему пленнику с большим почтением. На первых порах он держал его в новарском замке вместе с другими знатными военнопленными — Галеаццо Сансеверино, Эрмете, сыном Галеаццо Марии, Массимилиано Стангой. Тем временем весть о пленении Мавра широко распространилась повсюду, вызвав огромное ликование во Франции. Король Людовик XII отслужил даже торжественную мессу. Папа приказал, чтобы Рим бодрствовал всю ночь при свете нескольких тысяч факелов и праздничных плошек в ознаменование народного ликования. Венеция и Флоренция встретили эту новость с энтузиазмом. Вся Италия сходила с ума от радости по случаю катастрофы, которую потерпел Мавр. Никто в Италии не отдавал себе отчета в том, что этот день ознаменовал конец ее свободы. Низвергнутый с престола государь, пусть и был он тысячу раз интриганом и творил беззакония и насилие, был тогда единственным в Италии политиком, способным поддерживать равновесие между раздробленными частями страны, неутомимо посредничать и вести переговоры со всеми во имя поддержания мира. С его падением начался период иноземных вторжений в Италию, одно иго сменяло другое. На смену французскому пришло испанское, на смену испанскому — австрийский гнет.
Однако итальянцы стали обвинять Лудовико за все свои страдания и трудности жизни. Кортеж, который доставил его во Францию для заключения в тюрьму, повсюду встречали разъяренные толпы людей, поносившие и оскорблявшие Мавра. Герцог был настолько потрясен этим народным негодованием, что в Сузе был вынужден задержаться на целый день. Он был тяжело болен, неспособен переносить тяготы дальнейшего пути. Наконец 17 апреля он был доставлен в Лион. Карета с пленником въехала в город ближе к полудню. Казалось, весь город высыпал на улицу. Толпа жаждала насладиться невиданным зрелищем.
— Мне известно, что король Франции в городе. Могу ли я увидеться с моим французским братом?
Король не пожелал его видеть. Все, казалось, сговорились, чтобы ежеминутно напоминать герцогу о том, что он пленник, с которым обращаются с должным уважением, но которому не положены никакие привилегии. Тем не менее многие французские придворные были под впечатлением рассказов о том, с каким достоинством и твердостью герцог отнесся к своему пленению. Они приходили к нему, чтобы засвидетельствовать свое почтение, возвращались уверенные, что им посчастливилось встретиться с великим человеком.
В замке Лис Сент-Жорж де Берри у Лудовико в распоряжении было двое слуг, он имел право переписки, ему было разрешено также выходить во двор для прогулок, упражнений в стрельбе из лука, он мог даже ловить рыбу в окружавшем замок крепостном рве. Но Лудовико не вынес неволи и тяжело заболел.
— О, если бы со мной был любимый придворный шут, — обратился он однажды к тюремщикам, — как знать, может быть, он и сумел бы отвлечь меня от горьких мыслей.
Просьба герцога была удовлетворена. Кроме того, в связи с тем, что император неоднократно интересовался у короля Франции здоровьем герцога, его в конце концов перевели в замок с более здоровыми условиями — в знаменитый Лош де ла Тюрен, где Лудовико проводил медленно текущие дни в занятиях живописью.
Но жизнь и приключения его уже подошли к концу. Ему исполнилось сорок восемь лет, а выглядел он совсем дряхлым стариком. Он понимал, что теперь обречен умереть жалким пленником. Хотя герцог и сохранил физическую силу и чрезвычайную остроту ума, он осознал, что отныне должен примириться с неотвратимым и медленным закатом своей карьеры и навсегда отказаться от власти.
Правда, однажды в приступе гордого отчаяния он попытался бежать из своего заточения, но неудачно. В итоге охрана была значительно усилена. Лудовико Мавр был вынужден провести целых восемь лет в бездействии. Он был бессилен изменить что-либо в своей судьбе. Это было невыносимо для человека, привычно повелевавшего судьбами Италии и даже Европы.
— Да было ли все это на самом деле? — прошептал он, прежде чем закрыть навеки глаза.
Он умер пленником на чужбине 27 мая 1508 года. Тонкие губы его произнесли в последний раз:
— Беатриче!
Смерть Лудовико не прошла незамеченной в Италии. На сей раз Лудовико Мавр сумел произвести неизгладимое впечатление на своих соотечественников. К этому времени равновесие сил в Италии резко ухудшилось. Даже заклятый враг Сфорца, Чезаре Борджа, написал несколько траурных строк:
Смерть Мавра Сфорца! Чаянье одно Я затвердил — молился я судьбине. Сбылось! Тем для меня он стал отныне, Чем для себя он был уже давно.Странное молчаливое посольство прибыло ко двору Людовика XII. Послы низко поклонились королю Франции. Держали они себя, однако, вполне независимо.
— Послы из Милана, сир, — торопливо зашептал на ухо королю один из сановников.
Король внимательно посмотрел на выразительное лицо старика, приблизившегося к нему.
— Кто вы такие?
— Монахи из монастыря Санта-Мария делле Грацие, синьор. Я — приор этого монастыря. Просим о великом благодеянии.
Король поражен суровым и гордым тоном монаха.
— Что угодно вам?
— Просим отдать нам бренные останки нашего благодетеля, великого миланского герцога, синьора Лудовико Мавра. Мы отнесем их в Милан и похороним в церкви подле могилы его жены, Беатриче, как он завещал. Окажи нам эту милость, сир…
Глаза Людовика сверкнули. Двор почтительно замер. В воцарившейся тишине никто не проронил ни слова. Все в оцепенении ждали взрыва негодования. Король Франции взмахнул белой холеной рукой:
— Будь по-вашему! Берите прах этого великого человека, Лудовико, государя Милана и Италии. Его ниспослало провидение. Он был великим государем. Прощай, Лудовико! Мир душе твоей!
Марианна Фриджени родилась и живет в Бергамо. В активе этой писательницы романы и рассказы, неизменно вызывающие интерес критиков и читателей. Пристрастие автора к богатой событиями и волнующей истории Италии Возрождения обусловило тематику двух ее романов — «Лудовико по прозванию Мавр» и «Кондотьер Бартоломео Коллеони». В 1984 г. писательница удостоилась итальянской исторической премии Савини.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.




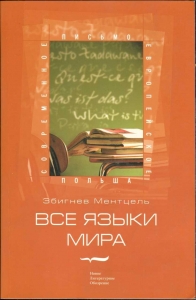

Комментарии к книге «Лудовико по прозванию Мавр», Мариана Фриджени
Всего 0 комментариев