Ирина Ирошникова Эльжуня
Була соби раз Эльжуня, Умирала сама. Бо ей ойцец в Освенцима, На Майданке мама…_________________________
Это — посмертные строки, написанные польской девочкой Эльжуней, застреленной гитлеровским солдатом.
Ее именем я назвала книгу потому, что судьба Эльжуни — символ беззащитности детства перед лицом фашизма, войны.
Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ…
«Видя нерешительность эсэсмана[1], Гесс схватил за ноги маленького ребенка и бросил его живым в огонь. Следуя примеру Гесса, другие эсэсманы тоже стали бросать детей живыми в огонь…»
(Процесс Рудольфа Гесса, коменданта лагеря Освенцим. Допрос свидетелей. — Материалы Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше.)
«Вчера на Кроумлин Роуд убили мою двоюродную сестру… Она шла сказать матери, что выходит замуж. Она умерла не сразу, а лишь в больнице… Сестру хоронят в четверг…»
(Из дневника белфастского школьника. — «Литературная газета» от 5 июля 1972 г.)
«ПРОКУРОР: Где были грудные дети, когда вы начали стрелять в них?!
СВИДЕТЕЛЬ: На руках у матерей».
(Процесс лейтенанта Полли, командовавшего расправой над жителями южновьетнамской деревни Сонгми. Допрос свидетелей. — «Правда» от 5 марта 1971 г.)
Листки из записной книжки с алфавитом. На них совсем еще детским почерком, выписанные большими буквами, громоздятся неровно фразы:
«Женя умерла… Бабушка умерла… Лёка… Мама…»
«…Савичевы умерли… умерли все… осталась одна Таня…» Это записи Тани Савичевой — ленинградской девочки, блокадницы. Как документ обвинения, они фигурировали на Нюрнбергском процессе.
«Нет, я не гулял на улице. Я сидел дома, в комнате, вдруг прилетели самолеты, и они бросили на меня две бомбы, но только стена упала, а я крепко прижался в углу…»
(Из рассказа семилетнего вьетнамского мальчика, доставленного в госпиталь после налета американских бомбардировщиков. — «Правда» от 3 октября 1972 г.)
Запрокинуто вверх лицо ребенка. Темные, круглые глаза его доверчиво смотрят ввысь. А оттуда, из высоты, наплывают на детское это лицо тяжелые бомбардировщики. И трассирующие пули роятся вокруг него… Это только фотомонтаж. Из западноберлинской газеты «Вархайт».
Впрочем, то, о чем я пишу здесь, это тоже только монтаж. Сведены воедино записи разных лет — фрагменты событий, судеб… А сквозь это — необъемлемость темы, суть которой в сочетании слов: «война и дети».
И еще одна фотография — фотография, не фотомонтаж. Врезалась в память как изобразительное решение все той же темы.
Руины варшавских улиц. Сожженные дома. Обвалы. Щебень и кирпич. Груды золы и пепла. На переднем плане ребенок — мальчик, полосатая маечка, коротенькие штанишки. Подстриженный хохолок… Весь он еще ухоженный, еще сохранивший следы домашности. Уперся руками в колени, подбородок в ладонях — сжался! Примостился словно на островке на развалинах своего дома. А вокруг бушует война…
Мальчик подлинный с именем и фамилией: варшавянин Рысёк Паевский. Фотографию эту я видела в альбоме, что недавно вышел в Варшаве под названьем «Война и дети».
Фотографии для альбома собирались из разных мест: из захваченных фашистских архивов, из личных коллекций «победителей» — гестаповца Шмидта, например, и из… «частных собраний» — так сказано в предисловии.
На каждой фотографии — дети. Успевшие позабыть, что бывает на свете добро и смех. И отчий дом. И тепло. И сытость…
Недетская обреченность лиц. Глаза, из которых многолико смотрит война… Листаешь страницы, а в горле крик!
Никогда не знаешь, как нахлынет на тебя то, что принято в обиходе называть темой. Завладеет мыслями. Заполонит душу.
То, о чем я пишу здесь, началось для меня, как тема, со случайно услышанного рассказа о судьбе белорусской девочки Людочки Безлюдовой.
Впрочем, это, наверное, не совсем так. И началось все это гораздо раньше, множество лет назад, июльской ночью сорок первого года…
Той ночью Москву бомбили. Под рев сирены я выбежала из дому с полусонной дочкой на руках. Где-то рядом, видимо в рощице, что за домом — жили мы тогда под. Москвой, — ухали тяжело зенитки.
«Ложи-ись! — заметив нас, закричал дежурный. — Осколками поранит»…
В чьей-то недорытой и непокрытой щели-убежище мы с дочерью оказались лишь вдвоем.
Помню зябкую сырость — ни на что не похожий запах свежевскопанной, развороченной земли. Помню небо над нами — иссеченное лучами прожекторов. И — огненное, клубящееся в той стороне, где была Москва.
Помню теплую тяжесть детского тельца на моих руках, испуганно жмущегося ко мне, беззащитного тельца.
Кто знает, может, начиналось все это еще той июльскою ночью и таилось все эти годы, ожидая своего часа. Ожидая толчка, импульса, чтоб, поднявшись из каких-то глубин памяти, обернуться болью, и гневом, и волей к действию. То есть, иными словами: стать темой…
А о белорусской девочке я впервые услышала в дни подготовки ко Всемирному женскому конгрессу. Женщины-матери всей Земли должны были съехаться в Москву.
Помните то московское лето — разноцветные процессии женщин по утрам у ворот Кремля? Ослепительно яркие канги Африки и нежные индийские сари на московских улицах…
Помните эту многоязычно выплескивавшуюся сквозь стены Кремля тревогу за детей всего мира? За их будущее.
Не могу объяснить, почему и как возникло во мне это чувство неколебимой уверенности в том, что мне необходимо быть на конгрессе. Не побывать по пригласительному билету, а именно — быть! Слышать голоса этих женщин. Видеть вблизи их глаза, их лица.
Путь к этому был один — билет прессы.
— Пожалуйста! — сказали мне в «Огоньке». — Но только в обмен на очерк. О нашей, советской делегатке. Сейчас они собрались в Колонном зале. Там проходит пресс-конференция. Идите, слушайте, выбирайте — какая приглянется.
Это оказалось не так легко — выбрать! Пятьдесят наших женщин: жен, матерей. Знаменитых, значительных, красивых. Космонавт. Вулканолог. Капитан дальнего плавания. Хирург…
Чего же мне не хватало? Видимо, какого-то созвучия тому, что скрытно, что неосознанно звучало во мне. И чему я не смела изменить.
А потом на трибуну вышла Нина Гусева.
«Война застала меня молоденькой учительницей на Смоленщине, — так рассказывала она. — Мужа замучили фашисты. Мой единственный ребенок погиб. Меня арестовало гестапо. Вместе с нами в камере рудненской тюрьмы находились дети… — Она рассказывала о детях, которых везли в Освенцим тем же транспортом, что и ее. И о детском бараке Освенцима — одно время она работала в этом бараке. — Со мною на нарах спала маленькая девочка из Белоруссии Людочка Безлюдова. Отца ее казнили в Борисове. Мать перегнали из Освенцима в другой лагерь. Брата Алика, который был немного старше ее и был неотступно с ней, увезли неизвестно куда…»
Я написала о делегатке конгресса Нине Гусевой. И о маленькой Людочке из Белоруссии. Очерк был небольшой и незатейливый. Но откликов вызвал столько, что редакция «Огонька» посчитала нужным командировать меня в Польшу, где отыскался след Людочки. Я должна была «досмотреть» ее судьбу.
Мне, однако, не удалось рассказать читателям «досмотренную» мною судьбу. Судьба этой белорусской девочки оказалась много сложнее и запутаннее, чем представлялось нам в Москве.
Но не смогла я и позабыть о ней. Шло время, и тема трагической незащищенности перед лицом войны семьи, материнства, детства — тема, к которой я прикоснулась в очерке, завладевая мыслями, все явственней открывалась мне в своей значимости. В своей протяженности сквозь годы…
О Нине Гусевой, Алине Тетмайер и других
Признаюсь, поначалу я собиралась рассказать здесь только о Нине Гусевой. Но видно, природа того, о чем пишу, такова, что стоит назвать одно лишь имя, и тотчас же, врываясь в рассказ, переплетаются с этим именем другие имена и другие судьбы — хоровод судеб…
В читальном зале одной из московских библиотек обсуждали повесть польской писательницы Зофии Посмыш «Пассажирка». Действие повести происходит в Освенциме — лагере уничтожения, лагере обезлюживания, оккупированной немецким фашизмом Европы. Происходящее в повести раскрывается через воспоминания ауфзеерине — надзирательницы, эсэсовки, вступившей во внутренний поединок с узницей.
Но повесть эта не только об Освенциме. Она о фашизме — явном и скрытом.
На это обсуждение я пришла с подругами Нины по Освенциму — сама она живет не в Москве. С Ириной Хариной, Екатериной Белостоцкой и Алиной Тетмаейр — польским врачом, профессором, директором детского хирургического госпиталя в Варшаве, она по приглашению Министерства здравоохранения была в то время в Москве.
Я сидела подле Алины, и обращенное ко мне в профиль ее лицо казалось совсем еще молодым и красивым, если глядеть справа. Левая же его сторона была сведена словно бы застывшим на щеке спазмом. Я знала — это память об Освенциме…
В Освенциме Алина — Нуля, так называют ее друзья, работала в лагерной больнице — ревире. Там ей удавалось помогать многим, в том числе и нашим, советским. Недаром, прослышав о приезде Алины, бывшие узницы Освенцима стали искать возможность повидать ее. Уж не говорю о москвичках. Алину встречали на станциях еще по пути следования в Москву.
Я видела в номере у нее несметное количество записных книжек, пластинок, альбомов с репродукциями, которыми задаривали ее встречавшие. Читала я и памятные надписи, и приложенные к подаркам записочки одного и того же содержания:
«Нуля! Я всегда тебя помню. Ты мне помогла в Освенциме». Или — «спасла». Или — «выручила». Или — «вылечила».
Из рассказов я знала, как именно она выручала, лечила, спасала… Как укрыла однажды в ревире от смертельной опасности Ирину Харину, что сидела теперь рядом с ней. И подругу Ирины Женю Сарычеву. Но рассказать хочу не об этом. Рассказать хочу об одном эпизоде, который тоже как-то связан с Алиной. И который, в конечном счете, оказался спасительным для Ирины и для ее подруг.
В карантинном бараке Освенцима на самом верху трехъярусных пар сидели три девушки, три москвички — наши разведчицы в тылу врага — Женя Сарычева, Люся Мушникова, Виктория Никитина. Четвертой, Ирины Хариной (тогда Иванниковой), с ними не было. Она заболела тифом еще в пути, когда их везли в Освенцим. Везли под особым конвоем, отдельно от других узников.
Первые дни в Освенциме Ирина как-то держалась. Но ей становилось все хуже, и, понимая, что иного выхода нет, девушки отвели ее в ревир. Отвели — потеряли из виду…
Ревир — двенадцать бараков, отгороженных от остального лагеря колючей проволокой. Внутрь не проникнуть. Да если б и удалось! Больных там тысячи — разве ее отыщешь?
Многое они пережили. Путь их лежал из Смоленска через всю Германию. Тюрьмы, допросы, штрафные лагеря…
В последнем лагере, в Брауншвейге, решились их судьбы. Вчетвером стояли они тогда по команде «смирно» перед специальной комиссией. А прибывшие эсэсовцы в чинах совещались между собой. Девушкам удалось уловить, что их направляют в лагерь Аушвиц — Освенцим, что лагерь этот тяжелый, потому что один из эсэсовцев, седоватый, немолодой, с сомненьем глядя на девушек, сказал: «Бессер шоссен», — лучше расстрелять.
А другой, помоложе, заметив, что девушки прислушиваются, подошел к Жене и, ткнув ее пальцем в лоб, пригрозил: «Нумер будет. Клеймо».
И вот они в Аушвице — Освенциме. Затаились на самом верху нар. Нет уже с ними Ирины. А за нею кто? Кто из них окажется следующей?!
Много им довелось пережить, но безнадежней минуты, казалось, не было.
И вдруг они услышали, что кто-то внизу выговаривает с нерусским акцентом их имена: «Люсья, Женья, Викторья, Ирена…» Свесили головы, увидели: ходят меж нар две женщины. Одна — постарше. Вторая — совсем молоденькая, круглолицая, в очках. Она держит перед собой листок бумаги и, глядя в этот листок, выговаривает старательно: «Люсья, Женья, Викторья, Ирена…»
Это разыскивали их. Разыскивала Власта — чешка, работавшая в шрейбштубе — лагерной канцелярии: молоденькая, в очках. А с нею, та, что постарше, тоже Власта — ее подруга. Зачем разыскивали?
Оказалось, вот что: в лагере, в Брауншвейге, где была решена их судьба, девушек держали в карцере в одиночках. На территорию лагеря выводили один раз в день под конвоем: умываться и прочее. Умывальники находились в том же помещении, где прачечная. А в прачечной работали «остенарбайтен» — русские девушки, угнанные из оккупированных областей и «проштрафившиеся» в Германии. Завидев «карцерниц», девушки эти старались забежать в умывальную, чтоб переброситься словечком, иногда поделиться хлебом. И одна из них, Надя, которая забегала чаще других, сказала им однажды: «Вы ничего мне не говорите, я вас ни о чем не спрашиваю. Но мы в шрейбштубе (канцелярия) дознались, что вы — парашютистки. Поэтому вас и содержат в карцере».
Надю эту в Освенцим отправили раньше, общим транспортом, под общей охраной. В дороге Надя подружилась с чешкой, которую звали Властой. Эта Власта оказалась подругой писаря из шрейбштубы, тоже Власты, много ранее заключенной в Освенцим.
Когда Женю, Люсю, Викторию и Ирину гнали по территории лагеря, Надя, увидев, узнала их и показала Власте, той, с которой ехала: «Наших девчат ведут, парашютисток, я тебе рассказывала». Власта пересказала это подруге. А подруга, та, что из шрейбштубы, отыскав по картотеке имена прибывших, пришла в карантинный барак, будто ей понадобились о них какие-то сведения.
Они пришли не с пустыми руками, обе Власты. Лагерный нехитрый гостинец: луковица и сухари. Старшая Власта незаметно передала это девушкам, а Власта, та, которая из шрейбштубы, грустно глядя на них сквозь стекла своих очков, сказала, трудно выговаривая по-русски: «Не надо печалится. Найдем Ирену. Вам еще будет хорошо…»
Она пришла за ними после отбоя, эта Власта, и, петляя между бараками, выбирая путь потемнее, привела их в ревир. Приоткрыла какую-то дверь, пропустила вперед.
И едва закрылась за ними дверь, едва они показались на пороге…
«Москау! Мóсква! Салют!» — негромко послышались со всех сторон. Дружеские руки тянулись к ним, дружеские лица были вокруг.
«Дорогие, дорогие мои москвички! — говорила седая женщина, видимо, она была старшей здесь. — Где встретились! А я… я так мечтала побывать в Москве».
Оглушенные, растерянные, не смеющие поверить в то, что слышат, стояли они среди окруживших их женщин: Женя, Люся, Виктория…
У каждой из этих женщин, как и у них, на одежде был винкель — угольник, знак узника. Как и у них, угольники эти были одного и того же цвета — красного (красный цвет отличал политических). А вот буквы в центре угольников, что обозначали национальность, были разными.
Алина Тетмайер, польская коммунистка, врач в ревире. Герда — седая женщина, немецкая коммунистка. Она была «эльтесте — хефтлинг кранкенбау» — старостою ревира. Схваченная фашистами после поджога рейхстага, Герда более десяти лет провела уже в тюрьмах и концлагерях. Орли — помощница Герды по ревиру — тоже немка и тоже коммунистка. Почти ровесница девушек, немногим старше их, она с шестнадцати лет находилась в заключении. Француженка Марн Клод, вдова известного журналиста — члена ЦК Французской компартии Поля Вайян Кутюрье.
Но все это девушки узнают гораздо позже, а пока…
Все говорят, перебивая друг друга, мешая слова и языки. Алина говорит немного по-русски. Мари — тоже. Она бывала с мужем в Москве. Женя знает французский. А немецкий… Лучше, хуже — все они теперь понимают по-немецки.
Разговор возвращается все время к Москве. Какая она, Москва воюющая? Правда ли, что солдаты Гитлера подошли к Москве? Как случилось, что они смогли подойти так близко?!
— Это были такие страшные дни для нас, — говорит Мари. — А потом такие счастливые, когда мы узнали, что гитлеровские дивизии разбиты. Если бы пала тогда Москва…
— Мóсква не мóгла пасть! — перебивает ее Алина.
Кто-то просит девушек спеть советскую песню.
— Есть хорошая песня, — говорит Алина, — только не запомнила слов. — Она тихонько напевает мелодию, и девушки тотчас подхватывают этот до боли родной мотив:
Утро красит нежным цветом Стены древнего Кремля…Поют. А перед глазами потемневшая от времени и непогод кирпичная кладка кремлевской стены, сбегающая круто к Москве-реке… Поют! А глазам горячо от слез. Так неожиданно все это, так невероятно! За стенами — лагерь: трупы перед бараками. Дым из крематориев. Колючая проволока. Сторожевые вышки. Палки капо и блоковых. Плети и пистолеты эсэсовцев…
А здесь отделенный ото всего этого лишь непрочными стенами другой мир. Другой мир?.. Но, если он существует, этот мир, значит, существует и надежда!
Пора расходиться. Кто-то тихонько запевает Интернационал. И все поднимаются, вскидывают вверх кулаки: «Рот фронт!» Поют стоя. Поют почти шепотом. Каждая — на своем языке. А в помещении тесно. И стоят поэтому тесно: лицом к лицу и глаза в глаза…
Пройдут годы с того дня, вернее, с той ночи. И, приехав в Москву, однажды, Мари Клод Вайян-Кутюрье скажет, что никогда не забудет руку дружбы, которую ей протянули русские девушки в тяжкую годину фашистской каторги. И вспомнит, как ухаживали за ней эти русские девушки, когда она, Мари, болела в Освенциме, болела так тяжело, что не на что было, пожалуй, и надеяться. Их имен тогда она не запомнила. Запомнила лица, которые видела постоянно над собой. Запомнила руки, ловко переворачивающие и укрывающие ее, подносящие к ее губам питье — кисловатый «лагерный витамин» — отвар из конского щавеля.
Они тогда работали в ревире «нахтвахами» — ночными дежурными — все четверо: Ирина, Женя, Люся, Виктория. Эта работа была тяжелой. И многочисленны обязанности: они должны были, кроме всего другого, выносить из бараков трупы, складывать у бараков, грузить на машины (через ночь подъезжали за трупами машины).
Отработав ночь, нахтвахи имели право отдыхать днем. Но и днем и ночью девушки, сменяя друг друга, неотлучно были при Мари, до тех пор пока не миновала опасность.
«Что заставляет вас жертвовать своим отдыхом для меня?» — так примерно спросила Мари однажды сероглазую маленькую худышку, склонившуюся над ней, — Женю Сарычеву. Та удивленно взглянула на нее: «Но ведь мы же товарищи, Марн! Товарищи по борьбе…»
Пройдет четверть века с того дня, вернее, с той ночи, Алина Тетмайер, сидя в читальном зале одной из московских библиотек, будет слушать с пристрастным интересом обсуждение повести об Освенциме. Ибо Освенцим реальный остался лишь в памяти тех, кому довелось его пережить. И — в литературе…
Об Освенциме мы с Алиной не говорим. На вырванном из блокнота листке она рисует какие-то схемы, добросовестно пытаясь растолковать мне суть операции, которую провела сегодня в одной из детских больниц, демонстрируя московским врачам методику этой операции, разработанную в их госпитале в Варшаве.
Постепенно зал заполняется людьми. Не осталось свободных мест. На стульях усаживаются по двое, стоят в проходах у стен. За столом президиума появляется Зофия Посмыш. Легкая, тоненькая, с копною рыжеватых волос на красиво посаженной голове.
О себе Зофия говорит коротко. Дочь рабочего. Краковянка. До оккупации училась в гимназии. В 1942 году была арестована гестапо и выслана в Освенцим. В Освенциме ей исполнилось девятнадцать…
О повести говорит подробнее. Биографична ли повесть? Да. Но только в какой-то мере. Еще в лагере, может, и не очень осознанно тогда, но ее мучила мысль: кто они, эти палачи — эсэсовцы, надзирательницы, капо? Как удается им сочетать свою обычную, человеческую жизнь с теми функциями, которые они выполняют в лагере?
— В повести я не задавалась целью воссоздать картину лагерной жизни, — говорит Зофия. — Меня интересовало другое: как после стольких лет разрешится конфликт между жертвой и палачом? Какова же мера его вины? И — тяжесть ответственности? В повести я не отвечаю на этот вопрос. Я лишь ставлю его, лишь спрашиваю.
Обращаясь к собравшимся, она сердечно благодарит их за тот интерес, который они проявляют к повести… «Не столько к повести, сколько к теме» — так она говорит. Это радует ее, потому что во многих странах явственно ощущается спад интереса к военной теме. Люди не хотят помнить, не хотят вспоминать, а это в конечном счете может обернуться равнодушием к судьбам мира.
— Я была сегодня в одной из московских школ, — говорит Зофия. — В этой школе организован музей Освенцима. Уникальные экспонаты, уникальные фотографии, воспоминания узников. Сколько сил и энергии, и души понадобилось, чтобы собрать все это!
Зофия спросила: что натолкнуло на мысль о создании этого музея. Может быть, кому-либо из близких к школе людей довелось пережить Освенцим?
— Нет, — было сказано ей. Все гораздо сложнее. Преподаватели стали замечать, что слова, подобные Освенциму, для детей уже не наполнены содержанием. Видимо, воображение детей не в состоянии охватить того, что скрыто за этими словами.
«Мы должны были что-то предпринять, — так говорили педагоги. — Мы не можем, не смеем допустить, чтобы дети жили в неведении, против чего боролись и погибали их отцы. А теперь уже отцы их отцов…»
Зофию спросили: будет ли она еще писать об Освенциме?
— Да, я вернусь к этой теме, — сказала Зофия. — Вернусь, хоть это и очень трудно, особенно потому, что трудно в нашем нынешнем языке найти слова, адекватные той действительности. Но я вернусь, — повторила она. — Еще далеко не все рассказано. А люди — уходят. Тех, кто помнит, становится меньше и меньше с каждым годом…
Выступали читатели. Люди разные, они и говорили по-разному. Благодарили Зофию за мужество, с которым она возвращается к пережитому. Об этом действительно надо писать, говорили они, потому что новые поколения входят в жизнь. Говорили, что интерес читателей к подобным книгам велик. Что эти книги не стоят обычно на полках. И не залеживаются на книжных прилавках. Говорили, что «Пассажирка» — это повесть не только о прошлом, это — предостережение на будущее.
Так говорили люди старшего поколения, видевшие фашизм в лицо. А молодежь — допытывалась. Сомневалась. Уточняла, подвергая сомнению каждую ранящую душу деталь: «Неужели так было? Так могло быть?», «Так?!», «Вот именно так?!»
Но вот на трибуну вышла девушка: светлоглазая, розовощекая. Откашлялась, доверчиво улыбнулась аудитории.
О повести она говорила так, как никто еще до нее.
Выступавшие ранее воспринимали рассказанное автором, как подлинные события жизни. И поэтому, выступая, смешивали литературу и жизнь, не умея, а может быть я не стремясь в данном случае, разделить их.
А эта девушка первая заговорила о повести, как о литературном явлении. Квалифицированно, толково она разбирала повесть с точки зрения литературного мастерства. Говорила о тонком психологизме образов, о ювелирной отточенности деталей, о глубине и объемности подтекста.
— Вы показали мне детскую коляску, — говорила она, обращаясь непосредственно к автору, — детские пустые коляски, которые гонят от крематория. И мне достаточно. И можете больше ничего не рассказывать о том невероятном и ужасающем, что заключено в этом слове «Освенцим».
Слушали ее с интересом, а в президиуме, я сказала бы, с умиленным вниманием. Она, несомненно, была в активе читателей. Руководство библиотеки гордилось своим активом.
— И столь велико ваше мастерство, пани Зося, — заканчивая, сказала девушка, — что оно заставляет нас верить даже в подлинность чувств, которыми вы наделили Марту, несмотря на то что она — заключенная…
— Заключенная! — Женщина впереди меня покачала седеющей головой. — Люди моего поколения не могли бы сказать об узнице фашистского концлагеря — «заключенная»!
— Почему чувства Марты вызывают у вас сомнения?! — кричали с мест.
— Почему? — улыбка ее обезоруживала. — Конечно, я понимаю. — Она взглянула на автора так, словно им обеим известно было что-то такое, чего открывать другим не следовало. — Да, я понимаю, конечно, даже в тех невероятных условиях заключенные сохраняли какую-то долю присущих им человеческих чувств, и тем не менее…
Конец этой фразы потонул в нарастающем гуле. А девушка удивленно, недоуменно глядела в зал.
И вот на трибуне, кажется даже не попросив слова, появилась невысокая, темноволосая женщина: Екатерина Алексеевна Белостоцкая. В обиходе — Наташа. Это была ее подпольная кличка «Наташа» — и поныне, она осталась при ней. Наша разведчица в тылу врага, в Белоруссии, Наташа больше года ходила по краю пропасти. А потом была схвачена гестапо и — повешена. Виселицу оборудовали в подвалах гестапо, где находились камеры заключения. При казни присутствовал следователь. Он же — несколькими днями ранее зачитал ей приговор. А в день казни неожиданно снова вызвал ее к себе. И предложил ей — жизнь. И работу на гитлеровскую армию. При этом сказал, что ей терять нечего. Красная Армия никогда уже не вернется в Белоруссию.
— Вернется! — воскликнула она. И успела заметить, как что-то всплеснулось в его зрачках. А заметив, не сумела скрыть своего торжества: — Вы знаете, что вернется!
Он с размаху ударил ее по лицу. Впервые за месяцы следствия собственноручно ударил.
…Ей накинули на шею петлю и следователь спросил, хочет ли она что-нибудь сказать. Она — хотела. Чтобы еще раз ощутить этот вдруг прорвавшийся тайный страх, что жил в нем. Теперь она знала это.
На нее был направлен ослепляющий свет прожектора. И, почти ничего не видя, она крикнула в этот свет, за которым укрылся от нее следователь, крикнула яростно и отчаянно:
— Красная Армия придет!
Удалось ли ей договорить эту фразу до конца — она не знала. Что с нею было дальше — не помнила. Очнулась в камере, на тюфяке. Впервые за все эти месяцы — на тюфяке. Что-то делали с нею, она не сознавала что. Запомнился только шприц, блестевший в чьей-то руке. Ее оглушала боль. Тупая, саднящая, она разбухала и разбухала. Невозможно было вздохнуть, шевельнуть языком, проглотить слюну. Задыхалась, проваливалась куда-то… Очнувшись в очередной раз, она увидела над собой следователя:
— Вот мы и снова живы… — Право же, он глядел на нее с нескрываемым интересом человека, поставившего эксперимент. Впрочем, она и раньше, во время следствия, замечала в нем этот интерес экспериментатора. — Живы. И теперь уже будем жить. Я отправлю вас в такое местечко, где люди… живут.
Если бы она знала, какую жизнь он милостиво дарил ей в ту минуту…
— То, что вы сказали, причинило мне боль… — говорит Наташа. У нее глуховатый, негромкий голос, но при первых же звуках этого голоса выжидающая тишина устанавливается в зале. — Значит, мы плохо рассказываем о том, что пережили, — по-прежнему негромко продолжает она, — и не умеем донести главного. Да, условия в Освенциме были такие, что должны бы вытравить все человеческое, и мы об этом рассказываем. А вот о силе, стойкости, очевидно, не умеем рассказать.
Да, мы были узницами Освенцима. Кто «мы»? Я и мои подруги — московские студентки, ставшие разведчицами в войну. Парашютистки, захваченные в тылу врага. Ваши ровесницы, девушки! Впрочем, нет, мы были моложе вас. Мне, например, восемнадцать исполнилось уже в Освенциме.
Неброская, очень собранная, спокойная внешне, она говорила ровно, неторопливо, подбирая точные слова.
— Мы были обычные узницы и находились в более тяжелых условиях, чем героиня повести Марта, потому что были советскими. И каждой из нас было отпущено три месяца жизни в Освенциме. Предупредил нас об этом начальник лагеря. «Если в транспорте находятся евреи, — так говорил он, встречая прибывающие в лагерь транспорты, — они не имеют права жить более двух недель. Ксендзы могут жить один месяц. Остальные три месяца».
А мы провели там около двух лет. И выжили, опрокинув эти расчеты. Выжили, потому что в каждой из нас и в тех, кто был рядом, сохранилось все присущее человеку! Более того, именно в Освенциме проявилось в полную меру. Я могла бы вам рассказать, — она помедлила, словно бы выбирая что-то из подступивших воспоминаний. — Я могла бы вам рассказать, — повторила она и вдруг, вместо ожидаемых слов, жестом, порывистым, неожиданным, указала в угол: — Видите, вон под стендом, что справа, седая женщина? Это Алина Тетмайер, полька, она была врачом в освенцимском ревире. Вот попросите ее рассказать вам, как она, рискуя закончить свою жизнь в газовой камере, спасала людей. Как спасали людей наши советские врачи-узники. Пусть она расскажет, как наши девушки, рискуя попасть под пули эсэсовцев, дежуривших на сторожевых вышках, лазали по ночам на крыши, собирали снег, чтобы, растопив его, добыть по глотку воды для мечущихся в жару товарищей, потому что в освенцимском аду для узников не было и воды.
Она говорила еще и еще и, рассказывая, все повторяла: наши девушки, не называя фамилий. Но те, о ком она говорила, для меня в ту минуту оборачивались одним знакомым лицом…
Вот теперь я хочу рассказать о Нине Гусевой — не потому, что судьба ее отлична от других судеб. И не потому, что она совершила в Освенциме нечто особое. Нет, она делала то, что делали и другие. Но это обычное в Освенциме было подвигом. Самым высоким проявлением человечности. Потому что делалось это ради спасения детей.
…В ту пору, когда я с ней познакомилась, Нина Савельевна Гусева жила на Орловщине, преподавала литературу и русский язык в средней школе. Школа эта — на территории совхоза. Стоит она над самой рекой, на опушке густого старого парка.
На берегу пасется школьная лошадь, брезгливо поджимая лапки, гуляют индюшки. А в парке за школой птицы щебечут так, что кажется, будто воздух звенит. Нина Савельевна часто гуляет по аллеям этого парка. Говорит, что после Освенцима полюбила бродить одна.
— Первое ощущение свободы: идешь, а конвоя нет за тобой.
Она нетороплива в движеньях и в разговоре. Сдержанная, спокойная и какая-то очень русская. Есть в ней что-то от полотен Кустодиева: светлые косы уложены вокруг головы, глаза синие, смотрят прямо, открыто… «Бандитише ауген» — бандитские глаза, — ей не раз приходилось слышать это в фашистских застенках.
Нина Савельевна хорошо контактирует с детьми — так говорит о ней директор школы. И еще говорит, что Гусева «очень гуманный человек».
А Ванда Якубовская, польская коммунистка, известный кинорежиссер, которая тоже была в Освенциме и работала с Ниной Савельевной в одной и той же команде, говоря со мною о Гусевой, называла ее «отважною женщиной, которой многие обязаны жизнью».
— Уж если об этом говорить, — хмурится Нина Савельевна, — жизнью и я обязана многим подругам моим по Освенциму. А отвага… Там и жить-то было отвагой. На колючей проволоке каждое утро находили трупы тех, кто этой жизни не вынес.
В комнате Гусевой на стене — портрет ее сына. Теперь ему было бы за тридцать.
На темном фоне из зеленых и голубых тонов возникает маленькая фигурка. Голубоватые тени лежат на губах, на бескровном детском лице…
Портрет этот сделан после войны — художник рисовал его с фотографии. На фотографии теплый, полный жизни малыш. От портрета — ощущение небытия.
— Отчего он умер? Крупозное воспаление легких. Дифтерия. Медикаментов не было… — И вдруг прорывается: — Такой здоровенький мальчик был, такой здоровенький! Пятый годик шел, а он еще ничем не болел…
До этого погиб муж. Был оставлен в подполье на Смоленщине. Его предали. Сидел в рудненской тюрьме. В Рудне, районном центре, он до войны был директором педагогического училища. Там его знали как коммуниста и человека кристальной честности.
Из деревни, где Нина Савельевна с сыном жила у родных, она ходила каждый день в Рудню, в тюрьму. За самогон полицай разрешал ей видеться с мужем.
Однажды муж сказал ей:
— Завтра не приходи. Дай хоть денек отдохнуть ногам.
Она согласилась:
— Не приду.
До Рудни было неблизко. А назавтра, будто толкнуло что-то, проснулась чуть свет и, как всегда, пошла. У здания, где помещалась полиция, стояла толпа. Не задерживаясь, Нина Савельевна прошла мимо и вдруг услышала за собой осторожный шепот:
— Нина! Петр Захарович здесь!
Тогда она бросилась сквозь толпу, пробилась, увидела: окруженные полицаями и эсэсовцами, на коленях стоят мужчины — несколько десятков мужчин. Руки их скручены за спиной.
И муж ее стоял на коленях, руки его тоже были скручены за спиной. И вчера еще темные волосы его были совершенно седыми…
Потом умер сын. И она как будто закаменела. Жила, пила, ела, делала что нужно по дому. Но механически все это, как автомат.
Однажды к Нине Савельевне пришли девушки: Катя Бирюкова, Гайдаманова Ксеня — они учились вместе. Сказали:
— Нина, муж твой погиб недаром. Собираются люди, создается организация… — И еще сказали: — Гореванием. Ниночка, ничему не поможешь — бороться надо.
Она согласилась:
— Верно! Если жить, то бороться!..
Потом ее вели по селу. Два эсэсовца с автоматами и овчаркой. Бросили в ту же рудненскую тюрьму. Взяли девушек, с которыми Нина держала связь. Взяли по подозрению: указал староста. А прямых улик не было, улики надо было добывать на допросах.
Допрашивал шеф гестапо, специально приехал из Смоленска. Предупредил через переводчика:
— Не скажет — будет тоже, что с Кужелевой.
А ту на допросах били по голове, и она лишилась рассудка.
— Сделаем с нею то же, что с Кужелевой, — повторил гестаповец.
— Что ж, революция не пострадает и от этого, — почти машинально Нина высказала, что думала. Странное безразличие овладело ею.
— Что она говорит? — уловив знакомое слово «революция», насторожился гестаповец.
— Она говорит, что коммунисты живы и будут жить, — добросовестно перевел переводчик.
Нина увидела над собою бешеные глаза. Она не отвела взгляда.
— Бандитише ауген — «бандитские глаза» — это было последнее, что она успела услышать.
…Потом ее перевели в витебскую тюрьму. Вместе со взрослыми здесь сидели и дети. Юра, грудной малыш, угасал на глазах. Он был настолько слаб, что даже не плакал, только стонал тихонько, как голубок, у его матери от истязаний пропало молоко.
А маленький Шурик плакал и все допытывался, где его мама. Мать его ежедневно допрашивали. А когда возвращали в камеру, она пряталась за людей, чтобы Шурик не видел ее такой. Нина брала его на руки, тихонько пела ему песни, рассказывала сказки, какие помнила:
У лукоморья дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый…Смотрела в его милые глазенки и думала: что его ожидает? Думала, и от этих мыслей становилось все тяжелее. Тяжелее настолько, что однажды…
В тот вечер из камеры увезли Таню — партизанку из отряда Заслонова. Она была еще совсем девочка. Попалась при выполнении задания — минировала железнодорожное полотно. Мучили Таню страшно. С допросов привозили как неживую. Однажды, очнувшись после допроса в камере, Таня сказала Нине:
— Теперь уже — все! Если сегодня приедет душегубка, значит, за мной!
Почти каждый вечер к тюрьме подъезжала эта машина, и в камере, где сидела Нина, слышно было, как выводят на улицу людей…
Они лежали рядом, и Нине казалось, что Таня спит. Сама она не спала. Напряженно вслушивалась в окружавшую камеру непрочную тишину. И вдруг услышала шум подъезжающей машины.
И Таня тоже услышала — сжала Нинину руку.
Таню увезли…
Ночью Нина тихонько встала. Прислушалась. И убедившись, что все спят, достала из своего узелка полотенце — льняное, добротное, длинное мамино полотенце — и направилась в угол, где стояла параша.
В том углу — она давно приметила это — в стену был вбит костыль. Она примерилась было накинуть на него полотенце, но кто-то перехватил ее руку:
— Что ж это ты надумала, дочка?!
Рядом с ней стояла старуха заложница, мать партизана. Отобрав полотенце, она решительно взяла Нину за руку, повела в свой угол, уложила рядом с собою.
— Что же ты надумала, дочка! — прижимая Нину к себе, тихонько шептала она. — Им же только это и надо! Они же над трупом твоим измываться станут. Нет, Ниночка, надо жить!
— Уж не знаю отчего, только после этой ночи я о смерти больше не думала, — говорит Нина Савельевна. — Даже в Освенциме не думала. А там ведь колючая проволока под током. Притронешься — и мгновенно смерть!
На каторгу Нина ехала с Шуриком на руках — мать его была настолько истерзана, что еле передвигалась.
Ехали в телячьих вагонах без воды, без пищи. Не знали, куда везут. Думали: может быть, на работу? И сговаривались, чтоб не работать. Все равно погибать!
К станции поезд подошел ночью. Огни. Очертания труб. В темноте вырывается из них пламя, валит дым. Завод?..
Это был Освенцим.
— Столько уже об Освенциме писали! — говорит Нина Савельевна, голос ее звучит глухо. — Сколько о нем писали, а всего не расскажешь, как бы ты ни хотел. Каждый день был по-своему ужасен…
Да, об Освенциме писали много. Причем каждый, кто пережил Освенцим, рассказывает о нем что-то свое. И рассказы эти, дополняя друг друга, ложатся тоже каждый по-своему, образуя мозаику Освенцима.
Но есть и другие данные.
Доктор Ян Зэн, польский судья, член Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше, приводит в собранных им материалах по Освенциму такие цифры.
Бараки женского лагеря в Биркенау (филиал Освенцима, где как раз находилась Гусева) были рассчитаны на триста человек каждый. В действительности туда помещали до тысячи — тысячи двухсот человек.
«Если вычесть пространство, занимаемое комнатками корпусного надзирателя, капо и продовольственным складом, — пишет Ян Зэн, — то на каждого заключенного придется приблизительно 0,28 квадратных метра площади и около 0,75 кубических метра воздуха…»
Что же касается пищи, то, кроме приводимых им цифр, Ян Зэн ссылается на не менее впечатляющее, чем цифры, исследование Хеллера. Английский исследователь Хеллер из рациона для заключенных составил рацион для… крыс.
В отчете Королевского медицинского общества за 1947 год Хеллер сообщает, что эта пища, которая крысам, в отличие от узников Освенцима, давалась неограниченно, была настолько не калорийной, что крысы не в состоянии были насытить свой крысиный организм. И после трех месяцев подобного рациона, несмотря, повторяю на то, что количество пищи никак не ограничивалось, у крыс наступали изменения, характерные для голодной болезни.
Вначале Шурик помещался вместе с Ниной и матерью. Вскоре, однако, его забрали от матери и перевели в десятый корпус. Находившиеся в десятом корпусе заключенные значились в отчетности лагеря под рубрикой: «Заключенные для экспериментальных целей».
В материалах доктора Зэна приводятся раскрывающие существо этих «целей» выдержки из обвинительного заключения:
«Рейхсфюрер СС обещал бригаденфюреру проф. Кляубергу, что для его опытов с людьми и животными будет предоставлен в его распоряжение концентрационный лагерь в Освенциме. На основании нескольких главных опытов надлежало найти такое средство стерилизации, чтобы люди, подвергнутые стерилизации, этого не замечали…»
Там же есть ссылка на приказ Гиммлера от 25.IV.1944 г. произвести на заключенных опыты с наркотическим средством, которое «дало бы возможность принудить военнопленных к выдаче военных секретов».
Из этих же обвинительных материалов следует, что главный врач СС Роберт фон Границ, обратившийся к Гиммлеру «с просьбой о разрешении производства опытов над заключенными с целью исследования инфекционной желтухи», получил на это письменное согласие.
Разрешение от Гиммлера на производство в освенцимском лагере опытов по замораживанию людей получил и некий профессор Рошер.
Фашистская медицинская «наука» работала в тесном содружестве с практикой.
Действие новых химических препаратов также проверялось на заключенных. Оплата медперсонала проводилась «заинтересованными лицами», то есть концерном «ИГ Фарбениндустри», «Шверинг верке» и прочими. Ими же оплачивалась и стоимость подопытных.
Об этом убедительно свидетельствует переписка фирмы «Байер» с комендантом освенцимского лагеря: «Мы были бы вам благодарны, если бы вы в связи с предположенными опытами для испытания нашего нового снотворного средства отдали в наше распоряжение определенное количество женщин…»
«Мы получили ваш ответ. Цена 200 марок за одну женщину, кажется нам, однако, высокой. Мы предлагаем не свыше 170 марок за голову. Нам нужно приблизительно 150 женщин…»
«Мы подтверждаем наше согласие. Прошу приготовить 150 женщин, по возможности наиболее здоровых. По получении уведомления, что они готовы, мы их заберем…»
«Мы получили 150 присланных женщин. Несмотря на их истощение, мы признаем их подходящими. О ходе опытов мы будем вас уведомлять…»
«Опыты окончены. Все женщины умерли. Вскоре мы снесемся с вами относительно новой поставки…»
Но, как правило, эксперименты производились на месте, в Освенциме, в десятом корпусе, окруженном глубокой тайной. Вот в этот корпус и перевели Шурика.
…Поначалу Гусеву послали работать в команду, которая убирала трупы с территории лагеря. Подле десятого корпуса Нина увидела однажды скрюченный детский трупик-скелетик. Похолодев от своей догадки, она осторожно повернула его. Нет! Искаженное гримасой предсмертной боли, туго обтянутое желтой кожей лицо ребенка показалось ей незнакомым. На тоненькой ручке темнел номер. Чтобы не позабыть, Нина щепкой выцарапала его на своей руке. Вечером она рассказала об этом в бараке. А когда назвала номер, то увидела: как подкошенная упала на землю мать Шурика.
Был на территории еще и двадцать пятый барак. Двери его были так же, как и в десятом, заперты наглухо на засовы, окна зарешечены. Переводили туда не прошедших «селекцию» людей — узников, отобранных для газовых камер, для крематория. Но предпоследним этапом их пути был двадцать пятый барак.
То ли газовые камеры не успевали пропускать вовремя всех отобранных, то ли лагерное начальство опасалось эксцессов, только перед казнью узников держали в этом бараке по нескольку дней. Без воды. Без пищи.
И оттуда сквозь решетки с мольбою тянулись руки. Есть никто уж не просил. Просили пить.
Однажды, проходя в рабочей команде мимо этого барака, Нина заметила девичье лицо, прильнувшее к решетке.
— Пить! — протягивая к ним руку, просила девушка, пожелтевшими пальцами показывая на бурый от грязи снег. — Пить!
Нина видела, как одна из узниц — немка, судя по треугольнику на одежде, — незаметно нагнулась и, подобрав с земли, бросила девушке ледышку. И тут же эсэсовка ястребом кинулась на нее.
Ночью, лежа в тесной клетке-отсеке, Нина говорила с подругой о происшедшем.
— Зойка, а может, фашисты — не люди? Может, сердце у них как-то по-другому устроено?
— По науке — люди! — серьезно и грустно ответила ей на это Зоя, харьковская студентка-медичка. — Я анатомию перед самой войной сдавала и могу сказать тебе точно: сердце у всех людей устроено одинаково.
Лето 1943 года. Все больше и больше прибывает в Освенцим партизанских семей с детьми: с Украины, из Белоруссии. Сперва детей помещают вместе с матерями. А некоторое время спустя отбирают их у матерей, переводят в особый детский барак.
Подпольному центру женского лагеря удается устроить так, чтобы в этот барак для присмотра за детьми направлены были надежные люди. Нина Гусева в том числе.
— Дети в лагере!.. Восковые лица, голодные глаза, костлявые плечики вздрагивают от холода. В полосатых, как мы, костюмах, прямо на голом теле — узники! — вспоминает Нина Савельевна. — Двести детей в бараке, а смеха не слышно. Ни шалостей, ни возни. Съежатся, как старички, на нарах, жмутся испуганными зверьками.
Это был, как и все, холодный, темный барак. Врываясь сквозь дощатые стены, гулял по бараку ветер. Трехэтажные нары вместо постелей. Пол из утрамбованной глины. В жару от нее поднимается пыль. Во время дождей — болото. Потолка не было — крыша: доски, покрытые толем. Дождь идет — протекают. Под крышей — крохотные оконца.
— Какие глупые немцы! — сказала однажды Людочка Безлюдова, крохотная девчушка из Белоруссии. — Разве в доме с такими окошечками люди живут?
Она была белокурая, эта Людочка, и такая прозрачная от истощения, что казалось, просматривались косточки. Отца ее казнили в Борисове, мать была в другом лагере. Спала Людочка на нарах вместе с Ниной Савельевной. По ночам доверчиво прижималась к ней.
Она никогда ни на что не жаловалась, была ласковая и терпеливая. Только однажды ночью заплакала.
— Отчего же ты плачешь, детка? — спросила ее Нина Савельевна?
— Я очень хочу хлебушка, — всхлипывая, призналась Людочка. — Я так хочу хлебушка, маленький, совсем маленький кусочек.
Дети — узники. Дети в лагере! Постоянно голодные. Мерзнувшие в бараке. Застывающие на аппеле — поверке. Начались болезни.
Узницы Освенцима: женщины, матери, они были охвачены единым стремлением помочь детям. Нина Савельевна рассказывает, что узницы, работавшие в огородной команде, под страхом тяжкого наказания проносили в лагерь, а потом передавали в детский барак овощи; узницы, работавшие на вещевых складах по разборке вещей сожженных, воровали теплые вещи для детей; чешки, польки, француженки, которым было разрешено получать посылки Красного креста или «пачки» из дому, делились содержимым с детьми.
Подпольному центру через узников-мужчин, работавших в женском лагере водопроводчиками, монтерами, удавалось получать из мужского лагеря хлеб и медикаменты для детей. Но этого было мало, так мало. Из детского барака каждый день выносили трупики.
…Печь в бараке была, а топлива не давали и не разрешали ее топить. Нина с подругой воровали топливо. По ночам они ползком, чтобы не заметил охранник на сторожевой вышке, пробирались к складу, набирали в подолы уголь и, придерживая зубами край юбки, чтобы не рассыпать его, ползли обратно.
Однажды печь не успела остыть за ночь. Придя на утреннюю поверку, надзирательница обнаружила это и тут же, на глазах у детей, жестоко и бив Гусеву, увела ее с собой.
Вечером Нина вернулась в барак, осторожно легла на нары подле Людочки. И Людочка тотчас прижалась к ней, порывисто обняла худыми холодными ручонками, зашептала в самое ухо:
— Тетя Нина, я тебя так люблю! Я тебя аж до самого неба люблю…
— Я эту Людочку разыскивала после войны. Хотелось ее найти, чтоб уж больше не разлучаться. И вот отыскалась.
Гусева вынимает фотографию. Девичье милое лицо. На обороте надпись: «Дорогой и любимой тете Нине» и дата — июль 1962 г.
— Удочерила ее польская женщина, — рассказывает Нина Савельевна. — Вырастила. Отыскалась и мать Людочки. Живет под Витебском. Людочка в прошлом году была у матери. И я тогда приезжала к ним. Ничего-то она толком не помнит об Освенциме — малышка! Говорит только, что и до сих пор еще вздрагивает, услышав собачий лай. И что помнит, будто в детском бараке спала на нарах со своей мамой. И помнит, как маму однажды забрали от нее. А матери ее в Освенциме и не было… — Глаза у Нины Савельевны влажные…
О семье Безлюдовых, Булаховых, Королевых. И об Ольге Никитичне Клименко
Приказ Гиммлера от 6 января 1943 года. Гриф: «секретно». Приказ адресован многим организациям и деятелям. Но прежде других:
«Высшим чиновникам СС и полиции в России».
«Специальному уполномоченному СС по борьбе с бандами» (читай — партизанами).
В приказе сказано следующее:
«Во время проведения акций против банд (читай — партизан) следует забирать мужчин, женщин и детей, подозреваемых в связях с бандами (читай — партизанами), и сборными транспортами присылать в лагерь в, Люблине или Освенциме.
…В лагерях должен быть проведен осмотр детей и молодежи под углом зрения — расовым и политическим. Расово-неполноценная молодежь пола мужского и женского должна быть придана хозяйственным предприятиям концентрационных лагерей, как ученики.
…Дети должны получить воспитание. Воспитание должно приучить их к повиновению, к старательности, к беспрекословному подчинению и добросовестности по отношению к немецким господам.
Должны быть обучены считать до ста, распознавать дорожные знаки и быть подготовлены к своим будущим профессиям, как работники сельского хозяйства, слесари, каменщики, столяры и т. д.»
Я привожу здесь этот приказ потому, что, выполняя его, гитлеровские каратели захватили на белорусской земле многие партизанские семьи, в том числе, Безлюдовых, Булаховых, Королевых. И в соответствии с приказом, вывезли их в Майданек, в Освенцим.
Этот приказ я поминаю еще и потому, что им были запроектированы на будущее судьбы захваченных вместе с родителями детей. В том числе Люды и Алика Безлюдовых. Детей Булаховых. И детей Королевых.
Рассказывая о прошлом, Зинаида Романовна Булахова все возвращалась к первому дню войны.
Тот день был воскресным, а в МТС работали: в праздники, как и в будни, подготавливались к уборочной.
Муж ушел из дому как обычно. Но необычно быстро вернулся.
Она хлопотала на кухне и, услышав, как он вошел, удивилась, обрадовалась, окликнула: «Павлович! По пути забежал или, может, соскучился?!» Он не ответил. И не было больше слышно его шагов. Заподозрив недоброе, она выбежала к нему, вытирая о тряпку руки. Он стоял, словно остановленный чем-то на ходу, растерянно зажав кепку в руке:
— Ты что, Павлович?!
Муж взглянул на нее невидящими глазами.
— Война! — Он сказал это медленно и негромко, будто сам не успел поверить.
— Война?! — повторила она за ним. И ахнула: — Боже ж мой! А я ж и соли не запасла!
Почему ей подумалось в ту минуту про соль? Может, вспомнила, что в гражданскую соли не было? Маленькая была тогда, а это помнила.
— О чем думаешь? — трудно выговаривая слова, упрекнул ее муж. — Соль! Да может она… и не понадобится тебе. — Сказал, будто знал уже в ту минуту и ее и свою судьбу.
Муж ее, Федот Павлович, был оставлен в тылу врага. Партизанил в их же местах комиссаром в партизанской бригаде батьки Миная. Об этом стало известно. Ее не раз вызвали в полицию. Поначалу пытались уговорить:
— Иди в лес, приведи своего хозяина. Он же там с голоду подохнет. Небось весь мох уже в лесу поели… Сходи! Корову тебе дадим. По пятнадцать пудов хлеба на каждого ребенка дадим. Будешь жить — барыней…
Детей было пятеро. Старшая Валя. В сорок первом году ей минуло тринадцать лет. За нею Коля, ему только только исполнилось одиннадцать. Затем малыши: трехлетний Володя, Галинка, Рая…
Ничего не добившись уговорами, перешли к угрозам:
— Партизанская тварь! Не приведешь мужа — живой не быть. Отмеряй два метра на два, копай могилу себе!
— Я и без метров выкопаю. — И копала — под дулом автомата. На глазах у детей…
Когда и эта угроза не помогла, заперли ее с детьми в доме и подожгли… Сгореть бы им в том огне. Но на деревню как раз наскочили партизаны. Загасили огонь, раскидали угли. А ее с детьми забрали в партизанскую зону. Поместили в глухой деревушке под названьем то ли «Клинки», то ли «Калинки». Стояла деревушка та меж лесов и болот. Пробиться к ней было нелегко. Но каратели однажды пробились. Шли, сжигая все на своем пути…
Женщинам с детьми приказано было бежать в глубь леса. Партизаны приняли бой.
Вот она с детьми и бежала в глубь леса. Бежали в том, что успели набросить на себя. У Вали на руках Галя — грудняшка. У нее самой Рая. Коля вез Володю на санках. Бежали сколько хватило сил: а за ними — автоматные очереди, стрельба. Обессилев, притаились за поваленным деревом. Вечер был ясный. Луна. На снегу от деревьев тени колышутся, движутся… Все кажется: кто-то за ними гонится.
Морозец был небольшой, сгоряча не почувствовалось. Но вот, когда поостыли… Малых она и Валя старались собою прикрыть, согреть их своим теплом (кровью своей обогрела бы их, когда б смогла!) Но гибельнее чем холод был страх за детей. Вина перед ними. Как же она просила мужа, как просила: «Павлович! Прилетают самолеты с Большой земли. Переправь детей за линию фронта, старших хотя бы переправь: Валю с Колей. Их же немцы не пощадят, если что (думала — малых пощадят!)» Что он ей на это ответил? «Не проси, Зина, не могу! Раненых и тех переправляем с трудом». — «Каменное сердце у тебя, Павлович! Для своих детей — каменное! Гибнут дети твои — гляди!» Думая так и не в силах удержать свою боль, шепнула старшенькой:
— Видно, нам погибать, Валюша!
Как они ту ночь пережили, не рассказать! А когда рассвело, услышали поблизости от себя шаги. Ходит неторопливо кто-то, палкой по деревьям постукивает. Из карателей? Непохоже. Каратели, полицаи — те поодиночке в лесу не ходят. Может, кто из своих? Может, Павлович кого на розыск за ними выслал?!
Выглянула она осторожно из укрытия, увидела: ходит по лесу старичок. Невысокий, не так уж крепкий на вид. Валенки на нем плохонькие. И довольно изношенная шубейка. А держится уверенно, по-хозяйски. Осматривает деревья, обстукивает своей дубинкой. Которые пропускает, на которых ножичком делает отметку. Словно бы собрался строиться и отбирает лес. Самое время — строиться!
Подумалось ей сперва, что не в себе человек. Но не было на это похоже. Вел он себя разумно, действовал умело и сноровисто. И тогда подумалось: может, старичок этот знает что-то такое, чего еще они не узнали? Может, даже и так, что за эту ночь, пока они здесь отсиживались, приключилось в мире такое, что несет и им избавление. Только они не знают. А человек узнал. И заторопился вот побыстрей налаживать жизнь. И с несмелой надеждой окликнула его:
— На дом, что ли, лес отбираешь, дедушка?!
Оглянувшись на ее голос, старик подошел поближе. Окинул их взглядом — застывших, сжавшихся на снегу. И, словно бы ничему не удивившись и не спросив ни о чем, ответил:
— Строиться, однако, придется, дочка! Так уж лучше подготовиться загодя. — Он сказал это так убежденно, что и у нее посветлело в мыслях. И хоть не подтвердилась ее надежда, но что-то очень разумное и естественное, настолько, что казалось — не может оно не сбыться, замаячило впереди.
Видно, то же почувствовала и Валя, потому что шепнула ей:
— Вот же, мама, человек на жизнь нацелился, не на гибель. Что уж так убиваться нам?!
На транспорт, вывозящий партизанские семьи из Белоруссии, Булаховых взяли из лагеря смертников под Витебском, куда поместили их каратели. Оттуда же взяли и семью Королевых: мать, Надежду Ивановну, и троих ее дочерей — старшенькая, Людмила, была уже на собственных ножках, хоть и цеплялась еще за материнскую юбку. А Римма и Шура обе были у матери на руках.
Безлюдову Валентину Ивановну с сыном Аликом и дочерью Людочкой взяли из лагеря под Борисовом. В тот лагерь их перевели из Борисовской городской тюрьмы, где они сидели втроем.
Везли в товарных вагонах: без воды и без пищи. Привезли в город Люблин. До Майданека прогнали пешком. Почти сразу же по прибытии на место старших детей разлучили с матерями, Валю и Колю Булаховых, в том числе. Куда увели их, никто не знал. Слухи ходили страшные, и матери думали, что им уже не увидеть своих детей…
О первом транспорте партизанских семей, прибывшем в Освенцим, транспорте, в котором были лишь женщины и дети, мне рассказывала Ольга Никитична Клименко, детский врач, сама в то время узница Освенцима. Стерлись, ушли из памяти какие-то детали ее рассказа, весь он словно бы сконцентрировался в одном эпизоде.
Висят над землею тяжелые облака. Порывами налетает ветер, швыряет оземь колкую снежную крупу.
От «брамы» — ворот гонит охрана беспорядочную толпу: дети, женщины… Одна из них вырвалась вперед — куда торопится?! Ветер сбил платок с ее головы, лохматит волосы. Рвет одежду на ней, мешает идти. За юбку держатся двое — малыши! Вцепились, только бы не оторваться. У груди — третий. Она одною рукой прижала его к себе. Другою, тянет — приподнять уже не хватает силы — тянет по лужам, по воде, мешочек с бульбой-картошкой. Тянет так, будто в бульбе этой — спасенье. А глаза у нее невидящие, застланы пеленой…
События тех дней остались и в детской памяти — в рассказах детей, теперь уже ставших взрослыми людьми. Записывая эти рассказы, я старалась ничего не утратить в них.
Рассказывает Олег Безлюдов
Когда эшелон наш прибыл в Майданек, нас построили и повели в баню — так нам сказали.
В бане отобрали все вещи. Женщин остригли наголо. Среди женщин было много беременных, в том числе и наша мама, она ожидала Эдика. Потом нас всех стали загонять в комнату без окон, с массивными железными дверьми и таким же железным полом. Перед дверью в эту комнату стояло железное корыто с какой-то маслянистой жидкостью. Всех заставляли окунать в эту жидкость ноги до щиколотки. Немец, стоявший у корыта, все время покрикивал: «Шнель, шнель!» — и добавлял при этом какую-то фразу, в которой мне было понятно слово «швайн» — свинья! Потому что к этому слову я привык в тюрьме. Комната была большая. В ней могло поместиться, думаю, сто — сто пятьдесят человек, если поставить их тесно друг к другу. Так нас и поставили. Захлопнулась наглухо дверь за нами, и мы увидели, что пол стал мягко опускаться вниз одной стороной.
Из щели, что образовалась между стеной и полом, повалил удушливый дым. Полетели оттуда искры, выбилось пламя. Дышать стало трудно. Мы поняли, что никакая это не баня. Что нас — сожгут.
И верно, те, что стояли впереди, стали уже соскальзывать вниз, в огонь.
Страшно кричали женщины…
Мы стояли почти последними, прижавшись к дальней стене, что была напротив той щели. Мама крепко взяла меня за руку, а Людочку подняла зачем-то повыше…
И вдруг пол стал медленно подниматься обратно. Открылась дверь, и нас всех погнали назад из этой комнаты. И немец снова кричал: «Шнель, шнель! Руссише швайн!»
После, уже в бараке, взрослые говорили между собой, что произошла ошибка. Перепутала охрана. В этот день должны были сжигать евреев, эшелон которых прибыл несколько раньше нашего.
Нам выдали полосатую узничную одежду, распределили по баракам. Некоторое время мы были в бараках вместе с матерями. Вместе с ними нас выгоняли на аппель, едва светало. Помню, я плакал. Очень холодно было вскакивать с нар. Очень холодно было стоять на аппеле — часами. Дождь ли, ветер ли, снег ли… Мать держала Людочку на руках, а я, закутавшись в ее юбку, прижимался к ее ногам, чтобы согреться.
На работу нас тоже гоняли вместе с матерями — в бараке оставаться не позволяли. Если матери работали на территории лагеря, мы — ребята, когда темнело, старались тайком пробраться к помойным ямам, куда выбрасывали отбросы из кухни для эсэсманов. Рылись в них, выбирая все, что можно съесть. А пуще всего — картофельные очистки. Ели сырыми. Или сушили, если в бараке топилась печь. Приложишь к печке кусочек картофельной шелухи, и она становится, как сухарик…
Однажды, после аппеля, по бараку разнесся слух, что детей будут отбирать. И правда. Когда в барак принесли бачок с баландой — обед, появились в бараке эсэсманы и ауфзеерки — надзирательницы со стеками в руках.
Я думаю, они неспроста подгадали к обеду. Надеялись, видимо, что раздача пищи явится отвлекающим моментом. Там ведь действовал железный закон: опоздаешь — останешься без еды. Но они плохо знали наших матерей!
Ауфзеерки объявили, что детей переводят в другой барак. Дети будут жить там отдельно, чтобы не мешать матерям работать. Матери смогут видеть своих детей по воскресеньям.
Что поднялось в бараке! Никто не вспоминал о еде. Успев уже убедиться, что гитлеровцам верить нельзя, матери наши думали: нас забирают, чтобы сжечь! Они хватали нас на руки, прижимали к себе, умоляли оставить нас. Ауфзеерки силой вырывали детей, избивали при этом матерей. Матери падали наземь, теряли сознание…
Помню, как подле нас повалилась наземь какая-то женщина. Она была с большим животом, как и моя мама. Другие женщины подхватили ее, а одна из них, набрав в рот баланды из своей миски, стала брызгать ей в лицо, потому что воды в бараке не было.
Надзирательницы теснили нас к выходу. Матери, отчаянно крича, рвались к нам. Мы тоже кричали и рвались к своим матерям. Эсэсманы загоняли матерей в глубь барака… Наконец, ауфзееркам удалось вывести нас, детей, на улицу — всех, кто умел ходить. А матери, запертые в бараке, приникли к окнам. Плакали и кричали нам вслед. И пока нас вели по лагерштрассе — лагерной улице, мы слышали крики и плач…
Со мной была моя маленькая сестренка Людочка. Когда нас с нею выволакивали из барака, мать кричала мне вслед: «Аличек! Береги Людочку! Береги Людочку!»
В новом бараке больных и болезненных детей отделяли от здоровых. Мы с Людой попали в группу здоровых.
Два раза в неделю у нас брали кровь. В эти дни нас кормили лучше. Вдоволь давали хлеба. И даже стакан молока или кусочек пудинга. Когда брали кровь, было очень больно. Игла была толстая, длинная, с какой-то резиновой трубочкой. Нас по очереди заводили, в угол, отгороженный простынями от барака, укладывали на кушетку и брали кровь. Многие плакали потихоньку от страха и боли, но громко плакать боялись. Надзирательница била потом по рукам стеком.
После дачи крови было странное состояние. Голова легонько кружилась и водило в сторону. Появлялась какая-то вялость. Хотелось спать. Не хотелось двигаться, мы тогда тихо лежали на нарах.
Кстати, это воспоминание о боли при уколах сохранилось у меня по сю пору. Я и сейчас панически боюсь уколов.
Людочке было тогда четыре года, но кровь брали и у них, малышей. Старшие дети говорили, что эту кровь отправляют на фронт, для гитлеровских солдат.
Кровь брали только у детей вполне здоровых. Если в течение недели у тебя поднималась температура, а температуру нам, «донорам» измеряли три раза в день, то кровь не брали. Мы использовали это как средство самозащиты. Выбегали раздетыми на улицу. Старались побольше бегать, прыгать перед измерением температуры. Надеялись, что температура от этого повысится.
Бегая украдкой по лагерю, я нашел дорогу в барак, где находилась наша мама. Встречаясь с ней, видел, какая она стала худая, черная. Мне было очень жаль маму так, что самому кусок не лез в горло…
Мы, мальчишки, ловчей добывали пищу, чем взрослые.
Мы наладились забегать в бараки, где жили француженки — они получали посылки Красного креста и жили поэтому сытнее. Или польки. Полькам было разрешено получать раз в месяц «пачку» — посылку из дому. Вот забежишь к ним в барак, и они обязательно что-нибудь сунут тебе, иногда и кусочек сахара, и даже печенюшку. Или хоть баланды нальют. Я стал этим пользоваться и частенько приносил маме свою порцию баланды. А если мы с Людой съедали свои порции, то, чтобы не прийти с пустыми руками к матери, я брал Люду за руку, брал котелок, и мы тихонько пробирались с нею в барак к француженкам. Людка была маленькая и очень славная. Ее все жалели. И, когда я приходил с ней, обязательно что-нибудь нам давали, хоть сами мы не просили, молча стояли в уголке, чтоб не попасться на глаза блоковой. Потом, получив что-либо, прокрадывались в мамин барак. И тоже стояли где-нибудь в уголке, чтобы нас не прогнала блоковая. Ждали, пока мама сама заметит нас. Или кто-нибудь скажет маме: «Валя, ребята твои пришли!»
Мы отдавали нашу добычу маме и были так рады, когда она ела то, что мы приносили. Только она никогда не брала от нас ни печенюшки, ни сахару. Если нам случалось получить это, мы с Людкой делили все на троих. Но мама не брала свою долю. Говорила: «Нет, детоньки! У меня от этого зубы заболят. Ешьте сами…»
Однажды по лагерю разнесся слух, что нас, детей, будут отправлять из Майданека в специальный детский лагерь. Но получилось иначе. Угнали не нас, а матерей — их перегнали в другой концлагерь.
Мы, дети, узнали об этом опять же во время раздачи обеда. И, забыв о еде, тут же кинулись из барака. Наших матерей уже выстроили на лагерной улице. Они стояли там под охраной, которая должна была их сопровождать до места. Шла перекличка по номерам.
Мы бросились к ним, но охрана не подпустила. Матерей повернули и повели, угрожая оружьем…
Я кинулся в свой барак. Я задумал утащить в суматохе буханку хлеба для мамы. И мне это удалось. Я схватил из корзины хлеб и, спрятав его за пазуху, побежал догонять колонну и у самой «брамы» — ворот — догнал. Путаясь меж рядами, верней, меж ногами женщин, пробрался к маме, сунул ей в руки буханку хлеба.
Мама заплакала: «Беги, сыночек, беги. Не то застрелят». И повторила то, что всегда повторяла мне: «Береги Людочку. Нигде ее не бросай»…
Потом мы с ребятами повылезли на разные крыши, кому куда удалось. И видели, как гнали колонну. И как наши матери, на ходу оборачиваясь, глядели в сторону лагеря, надеялись, что ли, увидеть нас.
Кричать мы боялись, чтобы не застрелил часовой. Мы только украдкой махали им с крыш. И кто-то из женщин заметил это. И матери наши, оборачиваясь, тоже украдкой махали нам.
А хлеб, что я принес маме, украли у нее в бане, в Равенсбрюке — лагере, куда их угнали. Она и сейчас вспоминает об этом. А когда вспоминает — плачет.
Помня наказ мамы беречь Люду, я ни на шаг не отходил от нее. Да и она меня от себя не отпускала. Она даже не очень заметила, что мамы не стало в лагере — знала только меня.
Но вот однажды нам объявили, что нас переводят в другой лагерь — особый, детский. А мы и до этого знали — старшие дети говорили, что Красная Армия приближается. И нас поэтому будут куда-то угонять. Про себя мы надеялись, может, туда же, куда угнали и матерей?!
Помню, что это было зимой, наверное, 44-го года. Выдали нам теплые куртки в дорогу и велели нашить на них лоскуты с номерами. А у Люды в тот день поднялась температура. Больных же детей не брали. Услышав, что Люду не возьмут, я решил, что без нее не поеду. И, как был, уже в куртке и кепке, полез к ней на пары. Она лежала на нарах и плакала.
Когда детей выстроили и началась перекличка номеров, меня хватились. Ауфзеерка побежала за мной в барак. И, увидев меня на нарах, велела тотчас же идти в строй. Я сказал, что пойду только с Людкой. Пускай и ее возьмут. Тогда ауфзеерка схватила меня за шиворот, чтобы стащить с нар. Ей удалось это только наполовину: ноги мои и нижняя часть туловища повисли в воздухе, а руками я крепко ухватился за нары.
Ауфзеерка стала хлестать меня стеком по голове, по плечам, по рукам… Но я все равно держался за нары. Поскольку на мне была уже шапка и куртка, мне не было особенно больно. Не были ничем защищены только руки. Сообразив это, ауфзеерка стала бить меня стеком по рукам. Она так разбила мне руки, что они онемели. Стали багровыми, синими, распухли, я больше уже не мог держаться имя. И долго еще потом ничего не мог брать руками.
Вдвоем с блоковой они кое-как стащили меня с нар и поволокли в строй, где под охраной эсэсманов и сторожевых псов стояли дети: пересчитанные, готовые к отправке. Отправили и меня… А Люду через некоторое время вывезли вместе с другими детьми в Освенцим.
Рассказывает Людмила Королева
У меня воспоминания путаные, мне ведь было всего пять лет. Помню, как меня с мамой и двумя сестричками — Шурой и Риммой привезли в лагерь, наверное, это был Майданек.
Риммочка была совсем маленькая, грудняшка. Мама держала ее на руках, а мы с Шурочкой держались за мамину юбку. Риммочка была очень красивая, как кукла, с большими голубыми глазами. Она всем нравилась. Мама подносила ее к окну барака, и польки, проходя мимо, тихонько совали ей что-нибудь из еды.
Вскоре я заболела тифом. Лежала в ревире лагерной больницы на нижних нарах. Мама приходила проведывать меня. Но в барак ее, конечно, не допускали. Вообще приходить в ревир было запрещено, он был огорожен колючей проволокой. Мама стояла за проволокой, а я выходила к ней. Мама всегда приносила с собой солдатский котелок. Я через проволоку украдкой брала у нее котелок и сливала туда все, что оставалось от больных, которые есть не могли или не доедали свою пайку. В ревире кормили получше, чем в бараке. Давали суп из непросеянного овса, а иногда даже кашу. Мои «передачи» ели втроем — мама, Шура и Риммочка, потому что молоко у мамы пропало. Кормить Риммочку было нечем.
Если матери удавалось дождаться меня, я передавала ей котелок сразу. А если ее успевали отогнать, то старалась спрятать котелок с пищей у себя на нарах, чтоб отдать маме, когда она придет снова.
Еще помню, как на нарах рядом со мной лежала мертвая женщина. Она умерла ночью, но ее не убирали до утра. Это была очень страшная ночь для меня.
Помню, что после болезни к маме я не вернулась. Однажды сделали аппель, я стояла вместе с другими детьми, а немцы ходили по рядам и отбирали нас. Меня отобрали тоже, и после этого аппеля меня увезли в другой концлагерь, детский. Маму с Шурой потом перегнали в Освенцим. А Риммочка умерла в Майданеке, и ее сожгли.
Рассказывает Валя Булахова
Из лагеря смертников — так называли лагерь, в котором мы были, в городе Витебске, нас привезли в концлагерь Майданек.
До лагеря нас гнали пешком. Я держала на руках Раю, а мама Галю.
В лагере нас переодели в арестантскую одежду, поместили в холодный барак.
Вскоре построили всех русских. Стали отбирать детей, оставляли при матерях только маленьких.
Взяли и меня с Колей. Дали нам по куску хлеба. Загнали в какой-то барак вне лагеря. А через несколько дней увезли в другой лагерь, особый, детский. В город Лодзь.
А маму с Володей, Галей и Раей потом перегнали в Освенцим.
Рассказывает Володя Булахов
Однажды в барак, где содержались мы, дети, это было в Освенциме, куда перегнали нас с матерью из Майданека, — пришли какие-то мужчины: одни из них были в белых халатах, другие — в военных мундирах.
Всех находившихся в бараке детей раздели догола, выстроили, и эти мужчины стали очень внимательно нас осматривать, переговариваясь о чем-то друг с другом. Куда отбирают, мы не знали.
Вместе со мною были мои две сестренки: Рая и Галя. Они были еще совсем маленькие, Гале было два, а Рае — три годика.
Галю и Раю оставили в бараке, а мне сказали отойти в сторону. Среди тех, кого отобрали, были и старшие, и младшие дети, возраст колебался примерно от трех до восьми лет. Узница, которая смотрела за нами, говорила потом кому-то, а мы слышали, что отбирали детей с чертами арийской расы. Не знаю, какие такие нашли у меня черты!
…Из Майданека, из Освенцима уходят детские транспорты. Матерей оставляют — детей вывозят. Куда? На какую гибель? И если на жизнь, так сказано матерям, то на какую?!
Не верят матери, что на жизнь. Надрывным материнским отчаянием стонут лагеря.
Выгороженная колючей проволокой от общего лагеря территория детского барака. Эсэсовцы плотно, нога к ноге, охраняют подступы. Перед бараком уже наготове крытые грузовые машины. И дети уже подготовлены к отправке: пересчитаны, выстроены в шеренги, стоят под конвоем, что будет сопровождать их в пути.
Застыли в ожидании ряды детей. Напряженно вслушиваются в то, что происходит за спинами их охранников. А там… А там — матери. Словно обезумев, вырываются из своих бараков, куда загоняют их капо и блоковые. Кидаются на колючую проволоку, на серо-зеленый кордон эсэсовцев, прорываются. И — падают под ударами. Поднимаются и падают снова. И — снова поднимаются… Словно нет такой силы, что могла бы остановить их, словно жизнь утратила для них свою ценность. Видно, и впрямь утратила.
Дети! Пусть отдельно от них, от матерей. Но здесь же, на том же клочке земли, под теми же автоматами. И пусть только раз в неделю, по воскресеньям, разрешено им видеть своих детей. На это свидание их, матерей, приводят под охраною. И уводят оттуда под охраной же, по свистку. Но они могут видеть своих детей. Могут! И всю неделю жить этим. И вспоминать. И готовиться к новому свиданию. Отрывая от голодного пайка своего, сушить кусочки сбереженного хлеба. А выпадет работать за проволокою, за воротами лагеря, то — улучив минуту, нарвать крапивы, конского щавеля, еще какой-никакой травы, пронести тайком в лагерь. А потом мудрить над этою травкой, готовя из нее варево, чтобы не с пустыми руками прийти, с гостинцем. И глядеть, глядеть, как жадно глотает это твое дитя, испытывая пронзительное, неподдающееся обычным словам чувство: вот же хоть чем-то, но смогла его одарить. И перехватив взгляд чужого ребенка, к которому уже некому прийти, пообещать ему от души, от щедрости, от могущества своего в ту минуту: «Погоди, деточка, в другой раз и тебе чего-нибудь принесу». А если тот ребенок постарше, попросить его: «Ты только за малым моим приглядывай: чтоб оно ж не упало с нар, чтоб никто его не обидел, чтобы хлеб ребята не отняли…»
Пусть всего раз в неделю, но можно, можно было приголубить свое дитя. И — ободрить, пошептав ему: «Папка — близко, только молчи! Папка скоро придет за нами…» И, прижимая к себе, ощутить ту силу, что словно бы переходит в тебя от этого слабенького тельца. Силу — жить! Все вытерпеть, вынести, но выжить…
Страшно кричали матери, прорываясь к детям. В разноголосых их криках явственно прослушивалось одно: «Спалят их… спалят!..»
И, подхваченное детьми, шелестело уже меж детских рядов, сперва шепотком, а потом все громче и все надрывнее: «Спалят, ой, спалят нас… всех попалят…»
— Мне и до сих пор это видится, — рассказывает Ольга Никитична Клименко. — Колонны детей в полосатых хламидах узников. Матери, падающие наземь под ударами. Их предсмертные стоны. И ни на миг не умолкающие рыдания тех, кого удалось охране загнать, запереть в бараках… Каждый нерв начинает дрожать во мне и сейчас, как только вспомню.
Видно, растерялись в тот день освенцимские фюреры разных рангов, если разрешили ей, узнице, говорить с матерями. Впрочем, матери видели в Ольге Никитичне не просто узницу. Детский врач на воле, она и в Освенциме оставалась детским врачом. И, как могла, а вернее, как не могла, спасала детей. Матери верили ей, как себе в ту пору. А может, и больше, чем себе.
Трудно было бы представить себе трибуну той высоты, на которую должно подняться Ольге Никитичне, чтобы при малом росте ее и при ее хрупкости быть замеченной. Той невиданной мощи рупор, в который должно бы ей говорить, чтобы быть услышанной. Не было: ни трибуны, ни рупора. Надзирательницы приводили ее в бараки к запертым, к теряющим разум от горя матерям. Как ей удавалось пробиться сквозь их отчаяние? Этого я не знаю. А вот что она говорила — это знаю. Потому что каждая из матерей, вспоминая тот день, вспоминает ее слова. Звучали они примерно так: «Матери, слушайте меня! Я пойду сейчас к коменданту. Я буду просить его, чтобы он отправил меня сопровождать детей. Если ваших детей сожгут, то вместе с ними и меня (кто оставит в живых свидетеля — вот что было в подтексте). Если же я вернусь — значит, дети живы…»
Отдавала она себе отчет, на что решается? Узница, осмелившаяся о чем-то просить! Осмелившаяся обратиться к самому лагеркоменданту! В Освенциме — это было неслыханно. И тем не менее: «Матери, слушайте меня…»
Почему слова ее обнадежили матерей? Разрешат ей сопровождать или нет — разве это могло изменить предрешенную их детям судьбу?!
Но матери утверждают, что с той минуты у них появилась надежда.
Вот и пришло время рассказать подробнее об Ольге Никитичне. Признаюсь, будь моя воля, я бы привела только письма, полученные ею в разное время от разных людей. Потому что перед документальной строгостью этих писем бледнеют, а подчас звучат фальшиво и выспрено все рассказы, все разъяснения.
Но товарищи мои и Ольги Никитичны считают, что так нельзя. Нужны еще какие-то сведения, какие-то главные обстоятельства ее жизни.
Что же посчитать этим главным?
Может быть, следует сказать, что на международных встречах бывших узников фашистских концлагерей польки, чешки, француженки, югославки обязательно спрашивают нашу делегацию: как живет доктор Ольга. Называя ее при этом — спасительницей детей. И у нас на подобных встречах Ольгу Никитичну обнимают нередко люди, которых она не знает, обнимают ее, утверждая при этом, что она в Освенциме спасла им жизнь. Может быть, следует сказать и о том, что, несмотря на возраст и на то, что ей довелось пережить, Ольга Никитична не утратила и поныне душевной щедрости. Не утратила вкуса к жизни — активной, действенной, — о том свидетельствуют почетные грамоты, полученные ею уже в последние годы.
Может быть! Может быть!
Но мне этот перечень «главных сведений» хотелось бы начать с надписи на той фотографии, которую Ольга Никитична подарила в послевоенные годы Нине Гусевой, вместе с которой пережила Освенцим. Вместе с которой спасала детей в Овенциме.
«Слова и иллюзии гибнут — факты остаются» — так написала Нине Ольга Никитична.
Я хотела бы начать с этой надписи потому, что для меня эта надпись приоткрыла характер Ольги Никитичны в то время, когда лично я еще не знала ее. Кстати, у этой надписи своя история.
В день рождения Герды — немецкой коммунистки, подруги преподнесли ей такой подарок: склеенный из грубой оберточной бумаги конверт со многими отделениями — ячейками. В каждую из этих ячеек был вложен еще один крохотный конвертик, а в него столь же крохотная полоска бумаги, на которой каждая написала какую-то, главную для себя, мысль: мудрость, может быть, и чужую, но давно уже ставшую своей. Свой девиз.
Ольга Никитична написала именно это: «Слова и иллюзии гибнут — факты остаются».
В общем, не пытаясь установить, что же в данном случае может считаться «главным», я просто попробую рассказать предысторию тех писем, что будут приведены ниже.
Ольга Никитична — детский врач с дореволюционным стажем. Во время вражеской оккупации она, уже пожилая женщина (мать и бабушка), работала в Первой инфекционной больнице города Днепропетровска.
В этой больнице (как и во многих других в ту пору) врачи, медсестры и санитарки, рискуя жизнью, освобождали попавших туда на излечение советских военнопленных, укрывали подпольщиков, спасали от угона в гитлеровскую Германию молодежь.
Деятельность их была раскрыта гестапо.
К этому периоду относятся строки из письма лейтенанта Карпенко. Письмо это Ольга Никитична получила по возвращении из Освенцима. Оно было адресовано ее товарищу по работе, врачу.
«Многими людьми уважаемая Евгения Георгиевна!
Для Вас я неизвестный человек. Но считаю своим долгом написать Вам с фронта.
В 1942 году с 19 августа по 21 сентября я находился на излечении при Первой инфекционной больнице, в 6-м отделении, в 9-й палате. Был на краю гибели, но благодаря Ольге Никитичне и Вам остался жив и оказался на свободе.
Летом этого 1944 года я встретился с врачом из Днепропетровска, который сообщил мне, что Вы чудом спаслись от гитлеровских извергов. А Ольга Никитична увезена ими и судьба ее неизвестна. По моему мнению, они многоуважаемую Ольгу Никитичну замучили или расстреляли. Если это так, то за ее смерть я и все спасенные вами будем еще крепче и больше мстить…
Если есть кто из работавших тогда сотрудников больницы, прошу передать им товарищеский привет, теперь уже не с Украины или России, а из дальних мест Польши…»
На той же польской земле, на пропитанной кровью земле Освенцима, находилась в то время и Ольга Никитична. Ее вывезли из Днепропетровска с другими узниками осенью 1943 года. В ту осень наши самолеты летали уже над городом. Наши войска приближались к Днепропетровску, и горожане, провожая этот страшный состав, передавали узникам: «Крепитесь! Вас скоро освободят!»
В октябре 1943 года Советская Армия освободила Днепропетровск. В октябре 1943 года в Освенцим прибыл транспорт с узниками из Днепропетровска. Ольга Никитична была самой пожилой в этом транспорте, а может, и во всем Освенциме.
Исхудавшая, маленькая, с непокрытой седой головой, дрожа от предрассветного холода, от резкого осеннего ветра, стояла она на аппеле и, чувствуя, как слабеет, норовила хоть локтем придержаться стены. А женщины, те, что стояли рядом, жалея ее, шептали: «Стань прямо, не то изобьют!»
И тем, кто заметил ее тогда, было ясно — эта долго не выдержит. И Ольга Никитична так же думала: ей не выдержать! Она всегда была жизнелюбкой и оптимисткой и оставалась ею даже в гестапо, где начисто поседела от допросов. Даже по пути в Освенцим — а это был смертный путь. Но здесь по ночам, забившись, как в нору, в уголок нижних нар, она рыдала так, что, казалось, дрожали трехэтажные нары.
Просыпались женщины. Не утешали, не смели кривить душой. Просили только: «Вы ж не плачьте так громко, голубонька Ольга Никитична! Вы плачьте тихонько…»
Все пытаюсь понять — как ей удалось удержаться на самом острие грани, за которой нет человека.
Ольга Никитична рассказывает, что однажды, очнувшись от краткого забытья, она вдруг впервые, словно со стороны, взглянула на себя. А увидев, ощутила не жалость — отвращение к этой скрючившейся на нарах женщине в арестантском платье, с засохшими на нем подтеками крови.
«Пропадешь! — беспощадно сказала ей Ольга Никитична. — Так ты пропадешь! Погибнешь! Никто не сможет тебе помочь!»
А женщина эта хотела жить.
«Как я могла поверить, что прежде всего я — узница» — так говорила себе Ольга Никитична, разумея под словом «узница» именно то, во что старался превратить ее Освенцим. «Я прежде всего врач! И — антифашистка!» — так повторяла она себе, взывая к тому главному, что всегда составляло ее достоинство. И — силу.
Инстинктом, разумом Ольга Никитична понимала: только лишь эта сила может спасти ее в Освенциме. А понимая, цеплялась за ломкую, как соломинка, надежду — фразу, брошенную комендантом Освенцима в день их прибытия (он и поныне видится Ольге Никитичне призрачным, нереальным днем!).
В лагерь пригнали их на рассвете. Долго вели куда-то: останавливали, пересчитывали, снова вели.
Попадались навстречу женщины. Странные! В полосатой одежде, с остриженными головами, с неразличимо темными лицами. Старались пройти поближе и, почти не шевеля губами, шептали: «Прячьте бюстгальтеры и трусы — замерзнете!»
Шептали: «Коммунистки — не признавайтесь… Военнопленные — не признавайтесь… Врачи — скажите! Остригут не наголо, а «под мальчика»…
И вот, пройдя через все процедуры «приема», оглушенные психическими ударами, остриженные наголо и «под мальчика», стоят они в арестантской одежде перед комендантом лагеря и другими лагерными чинами.
«Коммунистки есть?»
«Военнопленные?..»
«Врачи?..»
Выходят из строя четверо — первые советские врачи в Освенциме. Все четверо из Днепропетровска.
Любовь Яковлевна Алпатова — хирург.
Александра Михайловна Ладейщикова — фтизиатр.
Лидия Михайловна Серебрянская — инфекционист.
Ольга Никитична Клименко — педиатр.
Комендант оглядел ее с ног до головы. Задержался на остриженной «под мальчика» седине.
— Детский врач?! — И добавил веско, словно сформулировал для кого-то: — Это хорошо, что русских детей в лагере будет пользовать русский врач.
Дни шли за днями. Любовь Яковлевну Алпатову забрали на ревир (околоток, больница). До нее хирурга в женском лагере не было. Всякий день, возвращаясь с работы, рабочие команды несли покалеченных стражей женщин. Алпатовой приходилось нередко оказывать помощь им тут же — у «брамы» — у ворот, пока остальных пересчитывала охрана.
А вот Ольгу Никитичну никто не вызывал. Видно, детям в лагере врач не требовался.
А их было много в Освенциме: русских, польских детей, детей из Франции, Венгрии, Чехословакии. Их все везли и везли…
Ольга Никитична видела через проволоку, как подходили к железнодорожной рампе составы: открывались двери набитых битком вагонов, и, словно бы захлебнувшись светом, воздухом, дети не выходили — вываливались оттуда. И не могли надышаться вдоволь…
А потом начинали дымить трубы над крематорием…
Ольга Никитична видела транспорты, привозившие партизанских жен и детей из Белоруссии.
Видела маленьких узников, дистрофиков с разбухшими животами и словно бы разбухшими головенками — такими непомерно большими для их почти невесомых тел. Видела детские глаза… И детские трупы подле бараков…
Она понимала: не в ее силах ощутимо помочь этим детям. Но хотела быть с ними.
У Ольги Никитичны болела рука — гноились искалеченные еще на допросах в гестапо пальцы. И вот однажды, заявив, как положено, блоковой и получив разрешение, Ольга Никитична направилась в лагерную больницу — ревир.
Больница! Те же бараки, что и в лагере. Те же, что и в обычных бараках трехэтажные пары. Те же глиняные полы, только скользкие, мокрые от нечистот.
Смрадный запах болезни, разложения. Стоны, выкрики, бред…
В многоликой толпе собравшихся, тех, кого привела в больницу нужда, Ольга Никитична, наконец, дождалась очереди. Перевязку ей делала чешская девушка Манци. Узнав, что Ольга Никитична врач, по ее просьбе Манци привела ее к старшему врачу — заключенной словачке Энне.
Энна заполняла какие-то ведомости. Она сидела в выгороженном от больничного помещении, в медицинском белом халате, молодая, еще сохранившая привлекательность и, главное, чисто вымытая (Ольгу Никитичну поразило: как это ей удается оставаться такой опрятной и такой невозмутимо спокойной в этом аду).
Подойдя к столу Энны, Ольга Никитична выговорила по-немецки давно приготовленную фразу:
— Я — детский врач. И хочу работать с детьми…
Энна, чуть помедлив, подняла глаза на Ольгу Никитичну.
— Вы — врач?! — И, истолковав по-своему ее интонацию кто-то из находившихся в комнате медсестер тотчас угодливо хихикнул за спиной Энны.
— Да, я врач! — повторила Ольга Никитична. — И я хочу работать с детьми.
— Но у нас нет места, — спокойно сказала Энна.
Может быть, она совсем неспокойно сказала это. Может быть, Энна думала: «Русская женщина, советский врач. Пришла сама, без всякой рекомендации. А если она подослана? Кто может поручиться, что она — не подослана? Рискованно впускать сюда человека, о котором никто ничего не знает».
Это было действительно рискованно. Вокруг немецких коммунисток, в ту пору руководивших ревиром, группировались силы лагерного сопротивления.
— У нас нет места, — еще раз сказала Энна, сказала вежливо и неторопливо, словно не понимая, что означает для Ольги Никитичны ее отказ.
— Мне зарплату платить не надо!
Энна досадливо повела плечом и, давая понять, что больше говорить не о чем, вновь занялась своей работой. Но Ольга Никитична не отступала.
— Сам камендант сказал, что я должна здесь лечить детей! — В этот миг она верила, будто фраза, оброненная вскользь комендантом, означала именно это.
Энна по-прежнему заполняла ведомость. А за ее спиною, разглядывая Ольгу Никитичну, шептались женщины.
— Тогда я пойду к коменданту.
Ольга Никитична не заметила мгновенно воцарившейся после этих слов тишины. И не оценила ее значения. Она знала, что отсюда она в самом деле направится прямо к коменданту и, что бы с ней за это ни сделали, будет яростно добиваться своего. Она знала: добьется — ее спасение! Не добьется — путь ей один — в крематорий!
— Я пойду к коменданту, — не дождавшись ответа, повторила Ольга Никитична. И двинулась к выходу. В комнате было по-прежнему тихо, слишком тихо. Но Ольга Никитична, как и прежде, не замечала этого.
— Вернись! — Голос Энны настиг ее у дверей.
Резко обернувшись, Ольга Никитична встретилась взглядом с Энной. Может быть, ей почудилось, но почудилось ей, что Энна глядит на нее с сочувствием.
— Вернись! — повторила Энна. — Начинай работать.
Вот так она осталась в ревире. Ее поместили в барак, где блоковой была югославка Юличка — «свой человек», говорит Ольга Никитична. А среди остальных были русские девушки, работавшие нахтвахами: Женя, Люся, Ира, Виктория. «Это был мой любимый комсомол», — вспоминает Ольга Никитична.
Приступив к работе, Ольга Никитична очень скоро почувствовала, что ревир, в котором с беззаветной самоотверженностью работали врачи, медсестры польские и чешские, этот ревир, несмотря на ужасающие условия, служит убежищем для узниц, пусть ненадежным, но убежищем. Что здесь, подтасовывая отчетность, ставя фальшивые диагнозы, а если нужно, то и констатируя ложно смерть, чтобы потом, когда минует опасность наново «воскресить» — спасают узниц, спасают от тяжких кар, спасают от селекции — отбора на газ, от тяжелой, равнозначной смерти работы, от садизма и произвола капо, от транспортов, увозящих в глубь Германии…
Очень скоро Ольга Никитична поняла, что здесь в ревире проходит незримый фронт постоянной борьбы. И она включилась в эту борьбу.
Ольга Никитична работала в детском отделении ревира. Но работать в ревире отнюдь не означало только лечить. Прежде надо было изыскать к этому возможности.
Не хватало в ревире воды — воду добывали с трудом и риском.
Не хватало топлива. Его тоже добывали с трудом и риском — воровали из угольных куч, рискуя быть застреленными со сторожевой вышки.
Не хватало медикаментов. То, что выдавалось официально, не покрывало и ничтожной доли того, что требовалось. Лекарства добывали разными способами, которые были одинаково опасны: их получали через узников, работавших в аптеке для эсэсовцев; получали из мужского лагеря — там была налажена связь с волей, и польским патриотам удавалось передавать за колючую проволоку лекарства.
Ольга Никитична открыла еще одну возможность.
Она установила связь с девушками, принимавшими личные вещи привозимых в Освенцим на уничтожение людей. Собираясь в дорогу и не зная, что ожидает их, люди, кроме вещей, брали с собой обычно и лекарства. По инструкции лекарства эти должны были передаваться лагерной администрации.
Принимая вещи, одна из девушек, Ада Омельяненко, незаметно выбрасывала лекарства в корзину с мусором. А вторая, убиравшая мусор, Наташа из Белой Церкви (ее фамилия не запомнилась) передавала лекарства Ольге Никитичне.
По свидетельству тех, кто знал ее в лагере, Ольга Никитична была удивительным врачом. Удивительным потому, что лечила, применяясь к условиям, и не отступалась от больного ребенка до последней его минуты.
Нина Гусева, в то время работавшая в детском бараке, рассказывает, что Ольга Никитична запретила женщинам выносить без нее из барака трупы. Чтобы избежать непоправимых ошибок, она старалась сама осматривать каждого ребенка, которого посчитали умершим.
Так из первой задачи, которую Ольга Никитична поставила перед собой, задачи — выжить, выжить несмотря ни на что! — естественно, органично возникла для нее и вторая задача: не только выжить…
А теперь письма.
Письмо первое. Коротенькая открытка. Датирована 1959 годом. Обратный адрес: Оренбургская область, Комсомольский зерносовхоз.
«Здравствуйте, дорогая Ольга Никитична!
Вчера я случайно узнала, что вы — мой спаситель — живы.
Вы, конечно, позабыли уже девочку-москвичку, которую вытащили из груды детских трупиков в Освенциме, поставили на ноги и вернули к жизни. Желаю Вам долгих, долгих лет здоровья.
Надеюсь, что мы встретимся с Вами.
Крепко, крепко целую Вас, дорогая моя мамочка!»
На открытке пометка Ольги Никитичны: «Эту девочку я нашла живой, но уже полузамерзшей среди трупов. Все было сделано для возвращения ей жизни».
Письмо второе.
«4 апреля — 62 г. г. Борисов.
Дорогая Ольга Никитична!
Большое спасибо, что ответили на мое письмо.
Вы пишите, что спасли три Оли и не знаете, которая из них — я. Дорогая Ольга Никитична! Разве Вы только троим вернули жизнь? Вы вернули жизнь тысячам…
Я была во взрослом блоке, работала в седьмой, самой страшной команде, где шеф был настоящий зверь. И вот я сильно заболела. Температура стала 40°. Ходить уже не могла. И меня забрали на «ревир». Лежала я на нарах между двумя польками и двумя югославками. У югославок был тиф, а у полек к тому же еще короста и язвы. Лежать было тесно, и тело мое прижималось к их телам. И вот должна была быть селекция. И вы меня спасли от селекции — переложили к выздоравливающим.
Когда я пришла в сознание, мне об этом рассказали больные, с которыми я лежала на нарах. Они рассказывали, что Вы все время давали лекарства и ухаживали за мной.
И когда я стала уже поправляться, Вы тоже все время смотрели за мной. Вам я обязана жизнью…»
Пометка Ольги Никитичны: «Я ее просто вовремя перенесла в другой барак, где отбор «на газ» к тому времени был уже проведен».
Письмо третье.
«18/Х — 1958 г. г. Днепропетровск.
Здравствуйте, уважаемая Ольга Никитична!
Вот только сейчас, спустя тринадцать лет после нашего освобождения, я узнала Ваш адрес.
Вы сразу, конечно, не можете представить себе, кто Вам пишет, — я думаю, что таких писем, как это, Вы получаете немало.
А я Вас помню очень хорошо. Когда бы я ни вспоминала о своих страданиях в Освенциме, Ваше имя всегда со мной. Я вас вспоминаю как свою спасительницу.
Ольга Никитична, вспомните двух сестричек: Нину и Лиду Псаревых. Нина первая заболела тифом и попала на ревир, а меня каждое утро гнали на работу мимо ревира, и я искала Нину глазами среди валявшихся тут же мертвецов.
И никогда не могла подумать, что снова смогу быть с нею вместе.
Потом заболела я. В каком бараке лежала, не помню. Трудно было помнить в то время, когда я пролежала шесть месяцев и переходила из барака в барак.
Помню только, что в одном из бараков проходила селекция, которая не миновала и меня. Собрав все силы, а Вы можете представить, какими силами я обладала в то время, я подошла к столу и подала свою левую руку для записи номера на отбор.
Но в эту минуту с противоположной стороны барака вошел комендант лагеря и почему-то скомандовал: «Отставить!» Меня швырнули в сторону. Помню, что это была зима. Перед моими глазами и сейчас все вырисовывается, как было: открытые настежь двери. Грузовик перед бараком, а на грузовике неистово кричащие обнаженные женщины, среди них должна была находиться и я.
После всего этого меня разбило параличом. Я выглядела очень страшно. Вся дергалась. Дергались голова, руки. Ходить не могла и разговаривать тоже. Произносила что-то невнятное. Обо всем случившемся со мною Вам сообщила моя сестра Нина. Вы разыскали меня и стали навещать утром и вечером. Вы лечили меня и убеждали, что я обязательно вернусь домой, на Родину, и буду здоровой. Но я в то время не верила. То есть я верила, что обязательно должна вернуться на Родину, но в каком состоянии — сомневалась.
Плачу, Ольга Никитична, плачу! Не могу вспомнить пережитое без слез…
…Вот таким образом я осталась жива, имею семью, воспитываю дочь.
…Я надеюсь, что мы с Вами еще встретимся, и я смогу Вас лично поблагодарить за все то, что Вы сделали для меня в тех тяжелых условиях, где нужно было лечение, но еще больше моральная поддержка.
Пусть наши дети и внуки никогда не познают этих нечеловеческих страданий…»
Пометка Ольги Никитичны: «Это была очень истощенная девочка. Болела после тифа хореей в тяжелой форме. На ней я учила молодых врачей: Манци и Тину, как можно лечить таких больных в тех ужасных условиях — без питания и медикаментов и хотя бы индивидуальной постели».
Письмо четвертое.
«29/—63 г.
Милая моя Ольга Никитична!
Сердечное спасибо за Твое письмо, мой родной друг. Ты даже не знаешь, как я ему обрадовалась.
Я не знаю, милая Ольга Никитична, если ты слышала что-нибудь обо мне. Из Освенцима я прошла марш смерти до Равенсбрюка, а потом к Эльбе, до концлагеря Нойштад-Глеве. После войны я нашла своих близких живыми: маму и двух братьев.
Потом я окончила медицину в Праге. И от 1947 года до сих пор я работаю на педиатрической клинике в Братиславе.
Ольга Никитична! Я могу откровенно сказать, что к моему решению работать в педиатрии ты имела очень большое влияние.
Ты даже не знаешь, с каким обдивом я глядела на твое глубоко гуманистическое отношение к детям, в этой страшной среде Освенцима.
Я помню, что там первый раз видела тяжелую хорею и, как ты мне объяснила, ее патогенез. Помнишь Ты детский отдел в ревире? Это было самое грустное, что я видела. Но и там, сколько любви и света ты вносила в него!
…И это Твое письмо докладом для меня того, что ты постоянно красивый и молодой человек. Твои слова, что «деревья умирают стоя»… я прочитала всем своим сотрудникам. Я всегда теперь вспоминаю их, когда буду грустная и усталая.
…Позволь, чтобы я тебя поблагодарила за все, что ты мне дала в течение нашего житья в концлагере, главным образом за то, что я от тебя поняла: любовь к людям может принести им свет и тепло даже во время очень темное…»
И приписка Ольги Никитичны: «Теперь Манци уже защитила докторскую диссертацию».
Кстати, это письмо от самой Манци, которая делала Ольге Никитичне перевязку, когда та впервые пришла в ревир.
Вот и все, что с помощью писем мне хотелось рассказать об Ольге Никитичне.
Впрочем, нет, не все. Если вернуться к тому, с чего начинался этот рассказ, ко дню, когда детей вывозили из Освенцима, нужно вот что еще добавить: видимо, не без содействия надзирательниц, потерявших надежду обычными, освенцинскими, способами управиться с матерями, Ольге Никитичне удалось добиться задуманного — лагеркомендант приказал отправить ее с детьми.
Детей действительно вывезли в особый детский концлагерь. Размещался этот концлагерь на территории Польши — название местности Ольге Никитичне не запомнилось. Условия в этом концлагере мало чем отличались от освенцимских: трехэтажные нары в помещениях; стеки в руках надзирателей; колючая проволока; охрана…
С тем же конвоем, что сопровождал детей, Ольгу Никитичну вернули в Освенцим, где матери с трепетом ожидали возвращения конвоя. Вернется Ольга Никитична, значит, их дети остались жить…
Но Ольге Никитичне удалось привезти матерям еще и другие тому доказательства. На крохотных обрывках каким-то образом раздобытой ею бумаги — обращенное к каждой матери слово, написанное рукою ее ребенка, если только он умел писать. И написанное другими детьми за тех, кто по малости лет сам написать не мог.
Матери и по сей день вспоминают эти «письма»…
ИЩУ СЛЕД…
Куда и зачем вывезли из Освенцима, из Майданека наших детей? И что это был за лагерь: особый детский?
Для того, чтобы написать об этом, я должна была ощутить вещественно, зримо пусть давний, пусть затертый годами след. След этот ищу в Польше.
В архивах, в материалах Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений, сведений о советских детях немного. Строки в различных документах: сообщения о транспортах узников, прибывающих на территорию Польши из Советского Союза, в том числе и детей; сведения о пребывании детей, в том числе и наших, советских, в Майданеке, Освенциме, в других концентрационных лагерях. Но упоминаний о лагере, куда отправили вместе с другими Алика Безлюдова, Булахова Володю, Людмилу Королеву, сведений о лагере, организованном гитлеровскими властями именно для советских детей, найти мне не удается. Похоже, что лагерь этот, через который прошли тысячи наших ребят, остался только в их памяти — неустойчивой детской памяти…
Польские товарищи говорят, что не следует удивляться этому. Все, что относилось к проблеме детей на оккупированных территориях, особенно тщательно зашифровывалось и впоследствии уничтожалось гитлеровскими властями. Они говорят, что от «Полен Югендфервандлагер» — крупнейшего лагеря для польских детей, созданного в городе Лодзи, тоже почти не осталось материальных следов. И то, что происходило за его стенами, в полной мере открывается лишь в последние годы. Кстати, говорят они, не исключено, что «радзецких» детей также завозили в «Полен Югендфервандлагер».
Немецкие документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Факты. Воспоминания. Показания свидетелей, а говоря проще, трагические рассказы о разрушенных семьях, о загубленном детстве…
То, что я узнаю, не имеет прямого отношения к локальной моей задаче, но все работает на нее, заставляя понять, что судьбы наших детей всего лишь фрагмент, эпизод, частный случай политики, проводимой деятелями гитлеровской Германии в отношении детей «поверженного востока».
Можно считать, что суть политики этой сформулировал рейхскомиссар Гиммлер, выступая по вопросам укрепления немецкой расы, на совещании офицеров СС, в ноябре 1942 года, в украинском городе Житомире.
«Всякую хорошую кровь, — сказал он, — где бы вы ее ни нашли на востоке, вы должны ДОБЫТЬ или УНИЧТОЖИТЬ. И это первая предпосылка, о которой вы должны помнить…»
Добыть — чтобы усилить немецкую расу. Чтоб восполнить огромные потери, понесенные ею на войне, — так это надо понимать.
Уничтожить — чтобы обезлюдить захваченные земли. Чтобы ослабить биологическую силу противника. Чтобы из детей поверженного народа никогда не выросли мстители…
«…Если третий рейх должен существовать тысячи лет, то наши планы должны быть разработаны на поколения вперед. А это означает, что расово биологическая идея должна иметь решающее значение в немецкой политике…»
Это уже не Гиммлер. Это — доктор Ветцель, начальник отдела колонизации, облеченный высоким доверием чиновник по делам оккупированных восточных областей.
Но это все теория: предпосылки, обоснования… А практика… Практика была определена тем приказом Гиммлера от 6 января 1943 года, о котором я уже рассказывала.
Видимо, лагерь, в который увезли из Освенцима наших ребят, как раз и был одним из тех лагерей, что создавались во исполнение этого приказа.
Из показаний, которые бывший комендант Освенцима Рудольф Гесс давал как свидетель окружному суду в городе Кракове, подобные лагеря, по его сведениям, создавались в Лодзи, потому что именно город Лодзь должен был стать базой для германизации и советских и польских детей.
И вот, наконец, след лагеря. Подтверждение, правда, лишь косвенное, его существования. В городе Быдгоще опубликованы материалы окружной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений — монография под названием «Потулице обвиняет» (авторы В. Ястженбский и Т. Лашовский). В ней рассказывается о лагере в деревне Потулице, куда заключались поляки, изгнанные из своих домов и хозяйств, потому что дома и хозяйства их предназначены были немецким колонистам. В главе, в которой говорится о польских детях, есть страницы, рассказывающие о детях советских.
Осенью 1944 года из Потулице ушел транспорт с находившимися в нем советскими детьми. Дети эти были вывезены в детский лагерь, находящийся в окрестностях города Лодзи. Но как попали наши дети в Потулице? Оказывается, их привезли туда из Освенцима в ноябре 43-го года.
Дети, по их рассказам, были схвачены вместе с матерями летом того же 43-го года в районах Смоленска и Витебска. Вывезены в Освенцим, отобраны у матерей и отправлены в Потулице. Все — по схеме, начертанной Гиммлером в его январском приказе. Одно неясно: почему из Освенцима их вывезли в Потулицкий лагерь? Может быть, потому, что, как показывал Рудольф Гесс, в силу большого наплыва детей летом 43-го года Лодзь отказалась принимать дальнейшие транспорты. Но может быть, из других каких-то соображений, точно никто не знает этого.
Документов, относящихся к прибывшим в Потулице нашим детям, не сохранилось. Но авторам монографии удалось раскрыть кое-что, исследуя документы косвенные, на первый взгляд настолько незначительные, что об их уничтожении лагерное начальство в свое время не позаботилось.
Вот, например, заявка на обувь для прибывших детей. Обычную обувь, что была положена узникам: «трепы» или же «древняки», то есть башмаки из материи на тяжелой, деревянной подошве, или просто — деревянные башмаки.
И вот таблица затребованной обуви. Две графы. В первой указаны размеры. Во второй — количество. Выглядит это так:
Номера (размеры): 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Количество пар: 10 20 54 44 25 37 28 35 43 36
Номера: 26, 27, 28… Как легко они возникают перед глазами, эти крохотные, почти игрушечные, синие, красные, белые туфельки, сапожки, ботиночки. Как легко представить себе детские ножки, резво топочущие по земле в разноцветной своей обувке… Но как представить их в тяжелых тюремных «древняках»! Или босыми, через силу ступающими по мерзлой осенней земле?!
Из этой таблицы видно, что примерно треть привезенных в Потулице детей были малыши в возрасте от двух до восьми лет. То есть именно в том возрасте, который, в свете многочисленных распоряжений Гиммлера, представлялся наиболее подходящим для германизации.
По свидетельству взрослых узников Потулице — поляков (свидетельства эти приводятся в монографии) советские дети постоянно подвергались издевательствам и побоям. Голод был их нормальным состоянием.
По приказу начальника лагеря, они должны были учиться немецкому языку и петь немецкие песни.
«Советские дети размещались в двух отдельных бараках, огороженных колючею проволокой, от остальной части лагеря… Сочувствие наше к судьбам этих детей могло проявиться лишь в том, чтобы тайно подкинуть им что-нибудь из съестного. И также тайно выразить им свою сердечность: улыбкой, жестом…»[2]
Из Потулицкого лагеря детей вывезли в августе 44-го года. Кроме охраны, их сопровождали узницы-польки. Одна из них, Янина Стрельчук, вспоминает, что их на грузовых машинах довезли до железнодорожного вокзала в Накле, затем поездом до города Лодзи, а потом трамваями в пригород Лодзи.
Привезли их на территорию неработающей фабрики. На фабричном дворе в то время было много других детей, которые, как удалось уловить Янине, шептались между собой по-русски. Находилось там несколько мужчин в мундирах СС. И женщины, видимо надзирательницы.
Хоть есть основания думать, что речь здесь идет как раз о том лагере, который ищу, это не облегчает задачи. Авторы монографии пишут:
«Несмотря на попытки, не удалось установить точно место этой брошенной фабрики. Однако можно с уверенностью сказать, что попали они (советские дети) в один из существовавших в Лодзи и ее окрестностях лагерей главного управления расы и поселения…»
Я отчетливо представляю себе этот лагерь: многоэтажное, многооконное здание из побуревшего от времени кирпича. Непохожее на жилое. Неприютное, как бывают всегда неприютны остановленные цеха и бездействующие машины. Отдаленное от людского жилья, окруженное высоким, глухим забором с непременной колючей проволокой по нему, оно господствует, громоздится над местностью. Позади здания, за таящимся в его глубине двором с опять же непременной, аппелевой площадью, пролегает ров…
Так отчетливо я себе представляла все это, что казалось: найду, узнаю, угадаю его. Это только казалось.
С польскими товарищами, горячо относившимися к моим поискам, мы изъездили, исходили вдоль и поперек город Лодзь и его окрестности. Самые разные люди пытались нам помочь: от представителей государственных учреждений до случайно встреченных, случайно услышавших, что мы ищем. Молоденькие милиционеры подсаживались к нам в машину, предлагая свои маршруты поиска. Я заметила: Польша, потерявшая в эту войну свыше двух миллионов своих детей, остро и от души откликается на военные судьбы чужих детей.
Каждый из сопровождавших нас что-то помнил, слышал, читал о судьбе «радзецких» детей, вывезенных в Польшу. Но указать, где именно, в какой заброшенной фабрике находился во время оккупации лагерь, который ищем, не мог никто.
Людные улицы центра Лодзи. И, пожалуй, не менее людные окраинные. Подсвеченное заводскими дымами небо над ними. Прорывающийся сквозь фабричные стены гул работающих цехов.
Он жил своей сегодняшней жизнью, этот большой промышленный город — «крупнейший центр шерстяной и хлопчатобумажной промышленности, машиностроения, химии, узел шоссейных и железных дорог». Так примерно говорится о нем во всех учебниках.
Он жил своей сегодняшней жизнью, устремляясь в завтрашнюю. А прошлое… Память города не сохранила в себе этого малого фрагмента войны, которому минуло более четверти века…
Однажды мне показалось, что я нашла тот лагерь. Случилось это в один из последних дней моего пребывания в Лодзи.
Серое потемневшее от непогод здание на окраине. Не было ничего фабричного в его заостренных линиях — скорее костел, или, может быть, монастырь. Зато остальное… Мне казалось, все совпадает: и безлюдность — отдаленность от всякого жилья. И господство над местностью и шоссе вдоль фасада. И скрытый в глубине двор. Но главное было даже не в этом. Главным было какое-то ощущение обреченности, что ли, исходившее от мрачного этого здания, от всего, что окружало его.
Именно так, по моим представлениям, должен был бы выглядеть лагерь, который искала.
На первый взгляд здание казалось брошенным, нежилым.
Ничего никому не объясняя, я Попросила остановить машину и, суеверно боясь утратить найденное, испугавшись, что все это лишь мираж, который тотчас растворится в хмури серого дня, кинулась по изрытому полю, по клочковатому рыжему снегу к наглухо закрытым воротам.
— По-моему, это здесь, — сказала я, останавливаясь перед воротами и не очень понимая, как проникнуть за них.
— Проше, пани, что именно? — удивился мой спутник. Был им на этот раз Здислав Влощинский, инженер-строитель, сам в прошлом узник «Полен Югендфервандлагер». — Пани думает — здесь был лагерь? Верно. Але не тот, что ищем?
Оказывается, в этом здании находился пункт, или лагерь расенамт — управления расы. И сюда привозили детей для «испытания на расу». Тот, кто проходил испытания, временно оставался здесь. Остальных отправляли обратно — в «Полен Югендфервандлагер» в том числе.
— Проше, пани, нелегко было возвращаться. Тут, по крайней мере, кормили!
Влощинский сказал, что здесь проходили «испытания на расу» Виташкувны. После казни отца их заключили в «Полен Югендфервандлагер». Через некоторое время забрали сюда. А потом увезли в Германию.
— Виташкувны! Дочери Франциска Виташка? Руководителя подпольной организации Сопротивления, действовавшей в городе Познани?
— Пани знает эту историю?!
Историю его дочерей я прочитала в материалах Главной комиссии по расследованию, в показаниях их матери, Галины Виташек. И не смогла позабыть об этой истории. Попыталась разыскать, а потом свести воедино то не очень многое, что было в польской прессе, о докторе Виташке и его семье. И что удалось услышать от людей.
И записала эту историю. Записала не только потому, что она потрясает своим трагизмом. Но также и потому, что в ней очень ясно просматривается практическое осуществление предначертанной Гиммлером программы: «Добыть или уничтожить».
В данном случае — добыть!
Виташкувны
Алодия и Дарийка Виташек. Алодии было неполных пять лет, Дарийке — неполных четыре года, когда их привезли в «Полен Югендфервандлагер».
В лагерной карте каждой из них в графе «Ейнлиферунгсгрюнде», то есть «причина помещения в лагерь», значилось: «По приказу рейхсфюрера и шефа немецкой полиции (читай — Гиммлера) направляется в лагерь вместе с другими («полнишетеррористенкиндерн») детьми польских террористов».
По имеющимся сведениям, судьбами Алодии и Дарийки, как и других детей, направленных вместе с ними в «Полен Югендфервандлагер», действительно занимался сам Гиммлер. Во всяком случае массовые аресты детей, чьи родители были казнены как члены подпольной организации, руководимой доктором Виташком, начались в ноябре 43-го года, что совпало по времени с пребыванием Гиммлера в городе Познани. С его речью, произнесенной там перед высшими офицерами СС:
«Мы возьмем от других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость, мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде…»
Но прежде об отце Алодии и Дарийки и о созданной им организации. Как я уже говорила: мой рассказ основывается на опубликованных в польской прессе материалах. В частности, на обстоятельной и интересной статье Генрика Тыцнера, лично знавшего доктора Виташка.
Доктор Франциск Виташек. Было ему в то время, о котором пойдет речь, немногим более тридцати. Жил он до войны в Познани. Имел жену и пятерых маленьких детей. Был ассистентом Института медицины и гигиены. Руководил созданной им, единственной в то время в стране, мастерской, изготавливавшей нити для наложения послеоперационных швов. Сотрудничал в отделе микробиологии Познанского университета. Были у него свои изобретения и открытия. Был он человеком разносторонне одаренным. Но, кроме этого, в памяти знавших его людей он остался как человек большого личного обаяния, отзывчивости и бескорыстия.
Выселенный в первые же дни оккупации, как и многие другие поляки, из своего дома, лишенный возможности заниматься научной работой, он перешел к врачебной практике. На велосипеде он добирался до самых отдаленных польских жилищ, на окраинах города.
«Можно и теперь еще встретить в Познани людей, которые помнят бескорыстную помощь доктора Виташка», — пишет Генрик Тыцнер. Тяжелые условия, в которых жили поляки во время оккупации, порождали различные болезни, в том числе инфекционные. Вспыхивали эпидемии. Доктор Виташек вместе с группой польских врачей тайно делает прививки полякам, получая вакцины из немецкого института микробиологии через лаборантку Елену Сикерицкую, единственную работавшую там польку.
Видимо, эта группа врачей и стала ядром подпольной организации, которая была создана в условиях жестойчайшего террора во второй половине сорокового года. По замыслу эта организация должна была в какой-то мере парализовать действия оккупантов. Но для этого нужно было располагать оружием особой силы, безотказности и нераспознаваемости. В организации, во главе которой стал доктор Виташек, было много талантливых научных работников: врачей, инженеров, лаборантов, аптекарей — они могли создать такое оружие.
Нужны были базовые точки — лаборатории. Были и лаборатории. Они находились в самых разных и неожиданных местах: в частных квартирах, в тайниках частных мастерских, в цехах химической фабрики, в …банях, наконец. И они производили с огромным риском «тайную бронь».
Например, миниатюрные термитные бомбы такой силы, что против них не могли устоять и огнестойкие материалы. Причем запальник был сконструирован так, что действие бомбы начиналось по истечении длительного времени. Подложенная в воинский эшелон, эта бомба взрывалась далеко от Познани. И пожар начинался вдали от Познани, что дезориентировало гестапо. Особые химические составы — приготовлялись они по рецептам доктора Виташка. Одни из них, добавленные к любому виду топлива, вызывали структурные изменения в металле, из которого были изготовлены двигатели внутреннего сгорания, и выводили их из строя. Другие… Другие, не давая явных признаков отравления, приводили постепенно, в зависимости от дозы, к полному распаду человеческого организма.
Входившие в организацию кельнеры, те, что работали в ресторанах и различных кафе для немцев, приводили в исполнение при помощи этих ядов смертные приговоры, которые организация выносила гестаповцам, деятелям абвера, высоким военным чинам, отправлявшимся на советско-германский фронт. Другие, работая в польских локалах — местах, которые дозволено было посещать полякам, таким же путем ликвидировали конфидентов гестапо.
Подпольная организация просуществовала около двух лет. В апреле сорок второго года в силу трагического стечения обстоятельств, а также, видимо, благодаря сопоставлению многочисленных фактов диверсий, которые гестапо не удавалось раскрыть в течение длительного времени, был арестован доктор Виташек и его ближайшие сотрудники — соратники по борьбе.
Следствие продолжалось несколько месяцев. В январе сорок третьего года, Франциск Виташек и его товарищи были приговорены к смертной казни через повешение. Незадолго до казни в казематы Восьмого форта, где находились в заключении виташковцы, прибыла высокая комиссия из Берлина. Прибыла специально для переговоров с осужденным Франциском Виташком. Оружие, которым располагала его подпольная группа, при тщательном изучении оказалось чрезвычайно оригинальным и эффективным. Однако секреты его изготовления не удалось раскрыть полностью, и доктору Виташку была предложена жизнь.
Жизнь. Свобода. Безопасность. Обеспеченность и благополучие семьи. Все это — в обмен на сотрудничество.
В специальных лабораториях в Берлине доктор Виташек должен был производить те самые препараты, которые он применял против гитлеровцев. Но теперь они должны были стать их оружием.
Доктор Виташек ответил отказом.
Тогда ему было сказано: высокая договаривающая сторона уполномочена дать ему полную гарантию, что его оружие не будет использовано ни против поляков, ни против воюющего Запада. А только против русских. И выражена была надежда, что не может же доктор Виташек, человек безусловно интеллигентный, относиться с сочувствием к большевикам…
«Выбирайте!» — сказал гестаповец.
Франциск Виташек выбрал. Вместе с другими виташковцами он был казнен в январе сорок третьего года в подвалах Восьмого форта старой познанской крепости.
Забегая вперед, скажу, что в сорок пятом году посла освобождения Познани в тайниках Института судебной медицины были обнаружены три стеклянные банки, где в специальных растворах находились отсеченные головы доктора Виташка и двух казненных вместе с ним его товарищей: доктора Гюнтнера и лаборантки Сони Гужей.
На банке, в которой хранилась голова доктора Виташка, была надпись: «Голова интеллигентного польского массового убийцы».
Оказалось, что, когда в крематорий привезли тела тридцати казненных виташковцев, находившийся в крематории немец — профессор анатомии приказал отсечь эти головы и направить их для исследования мозга в Институт судебной медицины. Переправить было поручено сотруднику — поляку. Ему удалось утаить останки казненных и сохранить их вплоть до изгнания оккупантов.
Останки доктора Виташка и его товарищей были торжественно захоронены в ноябре сорок пятого.
«Они были погребены на кладбище героев, на склонах крепости Познанской, где были погребены солдаты советские, погибшие в боях за освобождение города, где покоились также познанские добровольцы, которые бок о бок с советской армией боролись против немцев…»
Так пишет Генрик Тыцнер. Но это год сорок пятый. Вернемся в год сорок третий.
После казни тридцати виташковцев гестапо арестовало их семьи и близких родственников. Из семьи Виташек были арестованы жена Франциска, Галина Виташек, его мать и три брата.
Арестованных — их было 70 человек — заключили поначалу в Восьмой форт, а позже вывезли в Освенцим, где большинство из них и погибло.
После ареста матери детей Виташек поделили между собой ее родные. Трое были увезены из Познани, в городе же, в семье одного из братьев Галины Виташек, оставались Алодия и Дарийка.
В ноябре 43-го года гестаповцы забрали Алодию и Дарийку. И транспортом, в котором находились дети других казненных виташковцев, а также виташковцев из Мосина, вывезли в «Полен Югендфервандлагер»…
Самым маленьким среди этих детей был Марек Закревский из Мосина. Ему едва минуло три года.
«Никто не мог бы представить себе, как этот ребенок отчаивался, — вспоминает Богдан Кончак, которого привезли в «Полен Югендфервандлагер» тем же транспортом. — Как плакал за мамой, непременно хотел к маме. Мы все хотели к своим матерям, но мы были старше Марека и раньше чем он смирились со своей тяжелой судьбой».
В «Полен Югендфервандлагере» Алодия и Дарийка пробыли около шести недель. От времени, проведенного в лагере, остались в их памяти деревянные двухэтажные лежаки, на которых спали по несколько детей, жидкие серые одеяла. Неприютность. Холод. Немецкий язык, которого они не понимали. И… две куклы, сделанные из тряпок, видимо специально для них. Кукол этих им тайно принесли польки, работавшие в другом бараке.
Потом Виташкувен «испытывали на расу» и увезли в ССхейм[3] в Калише — один из германизационных пунктов, созданных в Польше для детей. Надзирательницами в Калише были немецкие монахини. Язык немецкий. А дети польские. Но им запрещалось говорить на польском языке. Они должны были позабыть родной язык. И родину. И родителей. Должны были забыть, что они — поляки.
Из Калита Алодию и Дарийку вывезли в ССхейм в Полчине. Это была уже Германия.
«О Полчине помню больше, — пишет Алодия Виташек в своих воспоминаниях о годах германизации. — Это было учреждение, из которого детей отдавали непосредственно в немецкие семьи. Мы размещались на первом этаже, в маленьких спаленках. Спали в белых детских кроватках с белой постелью, с ночником, уютно горевшим всю ночь. На первом этаже было очень много грудных детей… Из игральной комнаты, в которой было полукруглое окно, высматривали мы ежедневно, не идут ли за нами наши новые опекуны.
В апреле сорок четвертого года, приехала, наконец, за мной новая «мутти». Была она полной противоположностью моей матери: невысокая, дородная, с темными волосами. Каждая приезжающая «мутти» имела уже предназначенного для нее ребенка и не могла выбирать другого. Моя опекунка, узнав, что я здесь с сестрой, хотела сразу забрать нас обоих. Но ей не позволили этого. Нас с сестрой намеренно разделили так далеко, чтобы мы никогда не встретились.
Расставшись с четырехлетней сестричкой, я уехала туда, где жила семья моих новых опекунов, а именно в Стендаль, в Мекленбурге. Сестра же моя была отдана через месяц в немецкую семью Шольм, которая жила неподалеку от Вены… Выдавали нас за немецких детей, осиротевших во время бомбежки Германии. В моей метрике сохранена была только дата рождения. Называлась я Алиция Виттке. И местом рождения моего указан был город Стендаль.
Через год мои опекуны удочерили меня по закону, и стала я называться Алиция Луиза Дааль. Была единственным ребенком в семье моих названных родителей».
…В мае 45-го года вернулась домой, пережившая Освенцим и Равенсбрюк, Галина Виташек. И, узнав о том, что две ее дочери похищены немцами, начала трудные, длительные их поиски.
О том, как были найдены Виташкувны, рассказывает доктор Роман Храбар в своей книге «По какому праву?» Он был в течение нескольких лет уполномоченным представителем польского правительства по делам возвращения похищенных гитлеровцами детей.
Доктор Храбар говорит, что в этом случае помогло распоряжение шефа Главного управления расы и поселения СС от 17 сентября 1942 года, суть которого заключалась в том, что от прежней польской фамилии онемеченного ребенка оставались неизменными лишь три-четыре первоначальных буквы. Правда, это было правилом не без исключений.
Фамилия — Виташек. Три первые буквы — ВИТ. Тщательно просматриваются списки детей, которые — это установлено — похищены в свое время гитлеровцами. Но национальность которых еще не удалось установить. Круг постепенно сужается, ограничиваясь несколькими фамилиями, начинающимися с трех букв: ВИТ. Среди них — две одинаковых фамилии: Виттке. Они принадлежат двум девочкам — погодкам. Звучание их имен: Алиция… Дора… отдаленно напоминают: Алодия… Дарийка… Даты рождения сходятся с датами рождения дочерей Виташка…
«Не нахожу слов, чтобы выразить ту безмерную благодарность, которой переполнено мое сердце за так чудесно найденных Вами двух моих дочерей… — так пишет доктору Храбару Галина Виташек — мать Алодии и Дарийки. — Если принять во внимание мои более чем двухлетние поиски через бесчисленные инстанции почти во всех европейских странах, право же, можно здесь говорить о чуде!
В первые минуты встречи обе (дочери) были ошеломлены. И хоть обе радостно приветствовали меня — меня они не узнали».
О тех же днях вспоминает и Алодия Виташек: «…Были мы с сестрой полностью онемечены. Начался для нас трудный этап: обучение родному языку, пробуждение польского самосознания и возвращение в полностью позабытую родную семью…»
Здислав Влощинский
Туда, где когда-то находился «Полен Югендфервандлагер», сопровождал меня Здислав Влощинский. Он не очень охотно согласился на эту миссию, повторяя, что смотреть там, право же, нечего: не осталось никаких следов. Что на месте лагеря стоит школа. Теперь это совершенно новый район Лодзи. И он, Влощинский, принимал участие в его застройке. Последнее обстоятельство он подчеркивал не без удовольствия. В подтексте слышалось: вот, мол, выпало же и на его долю уничтожить проклятое это место!
Но на долю Влощинского выпало не только уничтожить — довелось ему также и достраивать «Полен Югендфервандлагер». Влощинского привезли туда с первой группой узников, когда лагерь не был еще готов. И дали ему первый лагерный номер — узник № 1.
Обо всем, что связано было с его пребыванием в лагере, Влощинский вспоминал неохотно. И о том, как попал туда, рассказывал неохотно. Насколько мне удалось уловить, произошло это так: он не снял шапку перед гитлерюгендовцем (польские подростки обязаны были снимать головные уборы перед членами гитлерюгенд). Тот «гитлерюгенд» был не один, с друзьями. Вместе они отколотили Здислава. А потом, Здислав встретил этого парня одного и отплатил ему тем же. Он-то думал, дело это касается их двоих. Но за ним скоро пришли из полиции…
Влощинский весь был в своем сегодняшнем. И не хотел, чтобы его возвращали к прошлому. И пока мы с ним ехали в машине, показывал с удовольствием из окна машины новенькие уже заселенные дома с уютно просматривающимися разноцветными занавесками. И лишь подъезжая к школе — конечному пункту нашего путешествия, — сообщил, что мы давно уже едем по территории бывшего лагеря, что с двух сторон «Полен Югендфервандлагер» как бы втиснут был в гетто. Третья же его сторона граничила с кладбищем, еврейским. И лишь одной стороной, той, с которой мы подъезжаем, выходил в город на улицу Пшемысловую. С этой стороны и находились ворота — «брама».
А когда мы, доехав до школы, вышли из машины, Влощинский, задержавшись у входа, уверенным жестом словно бы набросал для меня незримый план лагеря.
— Здесь жил комендант. Здесь стояли дома охраны. Здесь — бараки узников. Тут были расположены мастерские, проше пани, работать должен был каждый, кому исполнилось восемь лет. Здесь помещался карцер, тюремные камеры. — И, не изменив интонации, показал еще, где находились оранжереи, в которых разводили цветы для лагеркоменданта.
Так добросовестно перечислив, что было на территории лагеря и, видимо, посчитав выполненным то, что должен был выполнить, он торопливо открыл передо мной двери школы.
Все, о чем говорил Влощинский, я уже знала. Знала также и то, что лагерь был предприятием доходным. Что в лагерных мастерских дети работали на нужды гитлеровской армии. Что работа была крайне тяжелой, во много раз превышавшей детские силы. Что рабочий день был длительным, а нормы жестокими — худо приходилось тем, кто не мог их выполнить, а выполнять их удавалось очень немногим.
Знала все это. Слышала, видела, читала в делах Лодзинской прокуратуры, в материалах Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений. Даже план лагеря изучила — был он у меня в сумочке.
И если приехала сюда на улицу Пшемысловую, то лишь потому, что мне надо было увидеть хотя бы то место, где был лагерь…
А школа, что стояла теперь на месте «Полен Югендфервандлагер», она ничем, право, не отличалась от других школ-новостроек. Просторное здание. Много воздуха, света — светлые классы и коридоры. Разрисованная стенная газета против входа…
Мы приехали, когда уроки уже закончились и ребята успели разбежаться по домам. Лишь откуда-то, с верхнего этажа, доносились негромкие девичьи голоса, повторявшие по-польски лукаво и нежно какой-то припев. Видно, там репетировали.
В учительской не было никого. В кабинете директора — тоже. Только уборщица неторопливо протирала щеткой светлый линолеум полов.
Обыденность, будничность обстановки успокаивала. И, как в перевернутом бинокле, — уменьшалось, отодвигалось, становилось трудно вообразимым то, что до этой минуты владело мыслями.
…Когда мы выходили из школы, Влощинский остановился у незамеченной мною мемориальной доски.
„Школа имени героических детей Лодзи“
Он прочитал эту надпись так, как будто подвел черту подо всем, что было рассказано. Или, это будет, пожалуй, точнее, отдал последнюю дань прошлому.
Йозеф Витковский
Фотографии, фотографии, фотографии…
В пронумерованных папках — дела Лодзинской прокуратуры. И на обложке книги: «Польские дети обвиняют», изданной Главной комиссией по расследованию гитлеровских преступлений в Польше. И на странице журнала «Одра» — Одер… Стандартные четырехугольники, в которых детские напряженные лица: в анфас и в профиль — это уцелевшие фотографии безымянных узников «Полен Югендфервандлагер». У каждого, как крестик на шее, — бирка с лагерным номером, заменяющим имя и фамилию. За каждой фотографией видится своя драма. Светловолосый мальчик в домашней еще матроске с явно распухшим от недавних слез лицом — лагерный номер 647. Сколько лет ему было в ту пору, этому «номеру» — семь? восемь?
Темноглазая девочка, видимо, его сверстница, еще с уцелевшим бантом в волосах — № 748. Крепко сжатые губы. Сумрачный взгляд. Что привиделось ей? О чем она думает?
А эта, постарше, № 3327. Аккуратная девочка. Была, наверное, в школе прилежною ученицей. Вон как старательно глядит она именно в ту точку, которую указал фотограф. И глаза ее полны готовности к послушанию. Доверчивые, непонимающие глаза.
Невозможно смотреть на эти лица теперь, когда известны их судьбы!
Фотографии старших детей. Обритые головы. Скулы туго обтянутые кожей. Провалы глаз… Эти в полной мере успели уже познать ад оккупации.
«Я тоже один из них. Один из нескольких тысяч детей польских, которые в годах 1942–1945 заселяли единственный в своем роде лагерь, созданный немцами специально для детей. Я один из тех немногих, кому посчастливилось уцелеть», — так пишет Йозеф Витковский в своих воспоминаниях, опубликованных в 1969 году в номере первом журнала «Одра» (Одер).
Витковского я разыскала во Вроцлаве, где он теперь постоянно живет. Разыскала по совету польских товарищей, от которых многое слышала о нем.
В Варшаве в Главной комиссии по расследованию гитлеровских злодеяний, и в Лодзинской прокуратуре мне говорили, что у Витковского уникальный личный архив из собранных им документов и фотографий. Что он не по обязанности — по велению сердца и памяти ищет самоотверженно и неутомимо следы того, что было содеяно с его сверстниками.
О нем говорилось уважительно и по-доброму.
…Охотно согласившись на встречу со мной, Йозеф Витковский, также как и Здислав Влощинский, крайне неохотно рассказывал о своем пребывании в «Полен Югендфервандлагер», о личной судьбе.
В остальном же они были разительно несхожи, Йозеф и Здислав.
Здислав — напряженный и жестковатый, весь во владеющем им стремлении к действию.
Йозеф же в мягкой раздумчивости, сдержанности, в пытливом, искреннем интересе к собеседнику. Было ему что-нибудь около сорока, а выглядел он моложе. Не знаю, как это выразить поточнее, но в худощавой его фигуре, в легких движеньях, в застенчивости, в манере слушать и спрашивать, и говорить ощущалось приглушенное, неизжившее себя — юношеское.
Мне легко было представить его себе подростком. Мне и сейчас кажется, что я узнаю его на одной из тех безымянных фотографий: худенький, большелобый мальчик с мягким и грустным взглядом.
О том, что ему удалось найти, Витковский рассказывал охотно. Но не было и в его рассказах сведений о лагере, который искала.
О советских детях ему было известно лишь то, что знала уже и я: что они находились в особом лагере в окрестностях Лодзи. Правда, к этому он добавил, что в «Полен Югендфервандлагер» действительно прибыл однажды транспорт как будто с «радзецкими» малыми детьми. Но детей этих скоро увезли — куда, об этом никто не знал.
О самом Витковском мне удалось узнать лишь немногое. Из Лодзи его вывезли вместе с матерью, как вывозили многих поляков, чьи дома предназначались властями для немецких колонистов. Сказали, что везут их к месту работы — место названо не было.
Йозеф ехал отдельно от матери, в мужском вагоне. Мужчины по дороге сказали ему, что везут их вовсе не на работу, а в Освенцим, и что ему бы лучше бежать — он маленький, щуплый, может, это удастся. И они помогли ему соскочить с поезда на перегоне между Краковом и Катовицами, где поезд замедлил ход. До утра Йозеф отлеживался неподалеку от железнодорожной линии. А на рассвете постучал в домик дорожного смотрителя-поляка. Там его приняли, накормили, дали возможность отдохнуть.
Через несколько дней он с величайшей предосторожностью добрался до Лодзи, до своего дома. Зачем? На что надеялся? Дом был заперт, никто в нем еще не жил.
От соседей Йозеф узнал, что за ним уже приходили из полиции. Значит — ищут. Так начались его скитания.
Бросая вызов судьбе, Йозеф тайно перешел границу «Генеральной губернии», то есть той части Польши, которая не была присоединена к «Великой Германии» и должна была, но замыслу, стать местом резервации поляков.
А потом очередная облава — «лапанка». Йозеф схвачен вместе с другими и направлен «для выяснения личности» в следственный лагерь в Мысловицы. Страшный лагерь! Впрочем, как и другие лагеря. Но Витковский говорит, что детям, которые находились там вместе со взрослыми, было легче, чем в «Полен Югендфервандлагер», куда его вывезли впоследствии.
Легче! Потому что в Мысловицах рядом с ними были взрослые люди — узники, которые, как могли, оберегали детей от зверств эсэсманов, как могли — заботились о детях. Даже лагерной голодной пищей делились…
В «Полен Югендфервандлагер» Витковского привезли с детским транспортом из Мысловиц зимой сорок третьего года. И с этого дня, с момента прибытия транспорта, началась для него, как и для всех других, постоянная, непрекращающаяся, упорная борьба со смертью.
А потом — январь сорок пятого года. Стремительное наступление советских войск. Советские самолеты над Лодзью. Советские танки неподалеку от Лодзи…
В панике бежала охрана лагеря, не успев, как было задумано, уничтожить лагерь вместе с детьми, чтоб не оставалось ни следов, ни свидетелей.
И вот — открытая «брама» — ворота лагеря. Выход в город. Выход в свободу… Тогда они еще не очень понимали, что это и есть свобода. Просто бежали кто куда, только бы подальше от лагеря. В страхе, что их мучители могут еще вернуться…
И Йозеф бежал с товарищем. Вышли в поле. Тихо. Поблизости никого. Остановились передохнуть. И тут услышали шорох. Из зарослей сухой кукурузы поднялись бесшумно солдаты…
«Наши!.. Радзецкие!»
Солдаты спросили ребят: куда идут? Откуда? Выговорилось с трудом: «Из лагеря…»
И заметили, как изменились лица. Как в руках у солдат оказались галеты, сахар и еще какая-то еда. И они совали все это ребятам, спрашивая: где тот лагерь? И есть ли, были ли в том лагере русские, советские дети?!
В том же, сорок пятом, ему тогда еще не исполнилось шестнадцати, Йозеф пошел добровольцем в армию. Попал в артиллерию. Служил в Силезии. Потом был направлен в школу милиции.
Работа в милиции. А потом… «освобожден по состоянию здоровья и отправлен на пенсию». Ему тогда еще не исполнилось тридцати…
— Лагер здоровья не прибавляет, — мягко говорит Йозеф. И еще говорит, что их, переживших «Полен Югендфервандлагер», осталось сейчас не более трехсот человек. И что примерно треть из них — инвалиды, хоть все это люди молодые. — То есть лагер, лагер не прибавляет жизни… — повторяет Витковский.
Вот они передо мной, экспонаты из личного архива Витковского, фотокопии уникальных документов: лагерной картотеки; писем, что дети писали из лагеря своим родителям, и те, что родные писали детям. Из разных мест — чаще всего из мест заключения.
И — фотографии: невероятные, потрясающие сознание. Дети времени оккупации! Где бы, кто бы их ни снимал, над ними как непременная деталь — силуэт вооруженного эсэсовца.
— То — живые фрагменты также из моей биографии, — перебирая снимки, говорит Витковский.
Долгие годы он старался не возвращаться к этому. Понимал: чтобы жить, нельзя возвращаться. Ужас пережитого таился до времени в глубинах памяти. До времени. До тех пор, пока несколько лет назад «баламутна реляция», так он говорит, видимо, неточная, искажающая положение вещей публикация о «его» лагере, не выбила из этого состояния.
Больше всего другого ранило его одно обстоятельство. Одна из самых жестоких и безжалостных надзирательниц Геновефа Пооль, она же — Евгения Поль, на совести которой немало загубленных детских жизней, выглядела в той публикации чуть ли не заступницей малых узников.
Он, Йозеф, слишком хорошо помнил Геновефу Пооль. И тех, кто был ее жертвами, тоже помнил. Перед их памятью, перед мученической их смертью он не смел промолчать. Витковский обратился в официальные органы с просьбой восстановить истину.
Оказалось, что официальные органы не располагают достаточными материалами о «Полен Югендфервандлагер», что руководству лагеря удалось при бегстве уничтожить лагерную документацию. От лагеря фактически не осталось материальных следов и очень трудно теперь с достаточной точностью восстановить то, что происходило в лагере. Так было отвечено ему.
Не осталось «материальных следов»? Но остались еще те немногие, которым удалось пережить лагерь. Разве общая память их не может стать доказательством?!
И вот на собственный риск (и на собственный счет) Витковский объезжает страну в поисках «материальных следов». И находит: документы, фотографии, письма. Но главное, ему удается разыскать более двухсот бывших узников, узнать о судьбах многих из тех, кого смерть настигла уже за лагерной «брамой», вскоре после освобождения. Удается разыскать и родителей, чьи дети погибли в лагере.
— Долг свой в том видел, — говорит Витковский, — чтобы дать доказательства правды тех страшных лет. Чтоб спасти от забвения судьбы нескольких тысяч детей, погубленных в моем лагере. — И добавляет, помедлив: — Отдать должное памяти самых малых «офиар» (жертв) фашизма.
Впрочем, я, наверно, не очень точно перевожу его слова. В переводе они что-то утрачивают, становятся холоднее.
Рассказывая, Витковский повторял слова: «хольд», «зложиць хольд», что в буквальном переводе значило бы: «воздать почести» или «присягнуть их памяти».
Месяцы, годы поисков. И, наконец, итог — первая его публикация о «Полен Югендфервандлагер» в 1968 году.
Публикация не остается незамеченной. Автору присуждается полугодичная стипендия Вроцлавского товарищества историков-любителей «для продолжения поисков».
Поиски продолжаются. В 1969 году в журнале «Одра» появляется новая публикация Витковского — та, с которой я начинала рассказ о нем.
Автора приглашают в Варшаву — в Главную комиссию по расследованию гитлеровских преступлений в Польше. Ему предлагают стать членом этой комиссии…
И снова поиски. Теперь уже в сотрудничестве с Главной комиссией: судьбы чешских детей из сожженной деревни Лидице; лагерь в Морингене для малолетних: чехов, поляков, немцев, чьи родители были антифашистами; организация выставок «Дети обвиняют».
Не знаю, не берусь утверждать, есть ли прямая связь между тем, о чем рассказано выше, и тем, о чем я скажу сейчас, но именно в 1969 году в Лодзинской прокуратуре «…началось расследование дела о преступлениях, совершенных немцами в лагере для детей и молодежи польской «Полон Югендфервандлагер». Так говорится в официальном документе.
А в 1970 году надзирательница этого лагеря Геновефа Пооль, она же Евгения Поль, привлекается к уголовной ответственности.
«Полен Югендфервандлагер» — частности и детали
Как попадали в «Полен Югендфервандлагер» дети? В Лодзинской прокуратуре я видела фотокопии уцелевших лагерных карт. Такая карта заводилась на каждого узника сразу же по прибытии. В специальной графе указывалась причина заключения в лагерь.
«По приказу рейхсфюрера СС и шефа немецкой полиции направляется в лагерь вместе с другими «полнишетеррористенкиндерн» — детьми польских террористов… Это мы читали уже в лагерных картах Алодии и Дарийки Виташек. В картах, прибывших одним с ними транспортом детей. Но в «Полен Югендфервандлагер» заключались не только дети арестованных родителей, а также дети, арестованные вместо родителей. Их забирали в тех случаях, когда гестапо не удавалось найти родителей. В их лагерных картах тоже значилось: «полнишетеррористенкиндерн»…
В лагерь помещались дети, чьи родители отказались принять «фолькслист»[4]. Нет, такая причина в лагерных картах не фигурировала. Но по косвенным данным… В материалах Главной комиссии хранится письмо старосты какого-то уездного управления по делам малолетних в вышестоящие инстанции, в котором сказано, что поскольку мать малолетнего Герхарда Махник, заключенного в «Полен Югендфервандлагер», согласилась принять «фолькслист», больше нет оснований для содержания ее сына в лагере…
Это все дает основания утверждать, что в «Полен Югендфервандлагер» дети заключались в порядке неуклонного выполнения все той же начертанной Гиммлером программы: добыть или уничтожить!
В этом случае — уничтожить!
Клейнфингер — мизинец (дословно — маленький палец)
Передо мной отпечатанная в типографии карта — одна из карт общелагерной документации. Как положено в документе — перечень вопросов (более подробный, чем в любом документе).
Свободное от вопросов пространство разграфлено на клетки. В верхней части — на маленькие, для пальцев.
В нижней части, на две большие — для каждой в отдельности ладони. В верхних клеточках — оттиски пальцев. Над ними типографскими буквами наименование: даумен — большой палец. Цейгенфингер — указательный палец. Миттельфингер — средний палец. Рингфингер — безымянный. Клейнфингер — мизинец.
В каждой клетке — оттиск маленького детского пальчика…
А оттиск ладоней правой, левой — едва составляет четверть моей ладони.
Фотокопии писем со штампом: «Полен Югендфервандлагер» ин Лицманштадт»
«Кохана Мамусю прошу тебя почему когда я тебе письмо писал, то почему мамуся не пришла ко мне на свидание и почему посылку не принесла но теперь кохана Мамусю прошу тебя приди ко мне на свидание и еще раз прошу тебя кохана Мамусю прошу тебя не забудь приди ко мне на свидание…»
«Кохана Мамусю! В первых словах Моего письма… спрашиваю тебя почему Мамуся так долго не приезжала на свидание потому что я Огорчен и Просил бы чтобы ко мне приехала на, свидание в субботу и прошу чтобы принесла мне марки почтовые мыло порошок и Мою фотографию и иголки и нитки и карандаш… И прошу тебя, чтоб принесла побольше хлеба… и две вишни… и прошу, чтобы не забыла приехать на свидание…»
А над этими вкось и вкривь разбежавшимися строчками, часто без знаков препинания, над словами, полными, видно, особого смысла для писавшего, а потому начинавшимися с больших букв, надо всем этим детским, отчаянным: «Не позабудь приди!» (как будто возможно матери — позабыть) — надо всем этим на каждом письме выштамповано четко, неумолимо: день освобождения из лагеря указан не может быть. Вопросы бесцельны. И подпись: дер Лагерлейтер (руководитель лагеря).
Каждый узник «Полен Югендфервандлагер» имел право написать домой раз в месяц. И получить одну передачу в месяц. Если не был лишен этого в наказанье.
Лагерштрафен
В карте узника, кроме всех прочих, существовала еще и такая графа: «лагерштрафен» — лагерные наказания. В графу эту надзиратели заносили: провинности и наказания. Наказания — четко. Провинности как-нибудь, не имело это особого значения.
Вот одна из карт.
В графе лагерштрафен такие записи: 20/6—44 г. 10 штокштубе (ударов палкой) за кражу хлеба. Палкой — это условно. Били хлыстами, кнутами, шпицрутенами.
22/6—44 г. 10 штокштубе — за лентяйничанье во время работы.
3/8—44 г. 20 штокштубе и три дня карцера — за что — неразборчиво.
Наказания производились перед строем во время аппеля. Я видела фотографию штрафного — карного — аппеля.
На аппелевой площади выстроены ребята. Наголо остриженные, непокрытые головы втянуты в плечи — сжаться бы! Стать бы незаметней. Глаза опущены вниз. Ожидают. Напряженно и настороженно. А внизу на подтаявшем снегу колышется тень — это приближается эсэсман с листком их провинностей в руке…
Лодзинская прокуратура. Дело ДС 281/267
Выдержки из протоколов допроса свидетелей.
Ержи Скибински — рождения 1935 года (в лагерь был заключен семи лет).
«Помню случай, в то время, когда я был в госпитале, умер мальчик от истощения. До этого был наказан пребыванием в бункере, где стоял по колено в воде. Ноги его в тех местах, куда доходила вода, были совершенно зелеными».
Мария Вишневска — рождения 1927 года (в лагерь была заключена как «полнишетеррористенкиндерн»).
«Тереза Якубовська из Познани — было ей не то десять, не то одиннадцать лет, будучи голодной, украла кусочек хлеба, за что была избита и не получила еды. Ничего удивительного в том не было, что голодная, она снова украла хлеб. И снова была избита, а к тому же лишена дневного питания. Это и явилось причиной того, что Якубовська снова украла хлеб. После чего девочка была признана закоренелой воровкой. Малая Якубовська начинала дрожать при первых же звуках этого слова: злодзийка — воровка. Но все равно продолжала красть хлеб. И получила за это сто батов — ударов кнутом. Во время битья потеряла сознанье. Тогда керовничка — руководительница девичьего лагеря Байерова приказала вынести ее на снег и поливать ледяной водой. В результате Якубовська умерла».
Станислав Бандровськи — рождения 1929 года.
«Припоминаю смерть мальчика по фамилии Кафарски, которому было тогда около 11 лет. Его замучил на глазах всех узников эсэсман Август за то, что Кафарски украл хлеб. Август повесил его на водосточной трубе головой вниз. И погрузил его голову в канал, куда стекали нечистоты. Мальчик умер, не приходя в сознание, в бункере, куда мы, по приказу Августа, перенесли его в бессознательном состоянии. На следующий день рано утром мы получили приказ вынести умершего из бункера. Тело его положили в бумажный мешок и погрузили на телегу, на которой оно и было вывезено с территории лагеря…»
Станислав Кристанек — рождения 1930 года.
«В лагерь привозили узников чаще всего днем. В крытых брезентом грузовиках. А увозили узников из лагеря преимущественно ночами. Куда — не знаю. Но ходили меж нами слухи, что их вывозят на уничтожение. Однажды, перед тем как должен был уйти из лагеря транспорт, я подошел к одной из машин, чтобы подать товарищу его вещи, и увидел, что на дне этой машины — кровь. И все внутри было окровавлено. Помню, что в тот день машиной этой уже вывозили узников. И теперь машины вернулись за следующей партией…»
Войцех Кнесик — рождения 1928 года. «Множество детей умирало вследствие тяжелых условий и голода, и болезней. Видел, как выносили умерших, по несколько детей, завернутых в одеяла…»
12 000 детей прошло через «Полен Югендфервандлагер» за два с небольшим года его существования. А дождались освобождения около тысячи. Это был лагерь уничтожения польских детей. «Малый Освенцим» — так его называют в Польше.
Силуэты некоторых «воспитательниц»
Седония Байер — руководительница лагеря девочек и малолетних детей. Помощница коменданта лагеря. По словам бывших узников, ходила всегда с хлыстом или стеком. Ее появление сеяло ужас среди детей.
Было ей в ту пору около сорока лет. Она закончила четыре класса торговой школы и до войны работала продавщицей. Однако требовала, чтобы в лагере дети называли ее «фрау доктор». Поскольку в ее ведении находилась «изба хорых», куда помещали больных детей и поскольку она, Байер, вела «амбулаторный прием».
Витковский говорит, что больные дети боялись появляться в амбулатории. Что единственным лекарством, которое она признавала, был лизол. Что в «избе хорых» Байер тоже действовала хлыстом и палкой. А к тому же еще выволакивала больных детей на снег и приказывала поливать их холодной водой… Это был ее излюбленный метод — и наказания и лечения.
Седония Байер родилась в Польше. С приходом немцев объявила себя немкой. Вступила в СС. Стала работать в полиции безопасности. Работала надзирательницей в женском отделении тюрьмы на Гданьской улице. И, проявив себя с точки зрения полиции вполне подготовленной сотрудницей, была направлена в «Полен Югендфервандлагер».
…Вот они — на фотографии: стоят во дворе лагеря четыре «воспитательницы». Три из них держатся рука об руку. Седония Байер несколько поодаль, всем своим видом показывая, что они — не ровня. Она — «керовничка» — руководительница.
Право же, и не зная, я бы угадала ее. Крупная, на голову выше тех троих, ширококостная, мужеподобная. С властной осанкой. С хмурым взглядом. С резкими чертами надменного большого лица. Темное, наглухо застегнутое пальто подчеркивает особенности фигуры. Непривычно обезоруженные руки напряженно спрятаны в складках… Властительница жизни и — смерти…
Остальные на фотографии — внешне обыкновенные женщины. Изображают, как и положено, снимаясь, дружественность. Как и положено, улыбаются в фотоаппарат. Впрочем, лишь две из них. О третьей не скажешь ничего, потому что третья тщательно прикрыла от фотоаппарата лицо шарфом. Что это, кокетство? Или же — дальновидность? Предусмотрительность?
По изгнании оккупантов Седония Байер предстала перед специальным судом города Лодзи. И была приговорена к смертной казни.
В Лодзинской прокуратуре мне рассказывали обстоятельства ее ареста. Уж, не знаю, как это объяснить, но Седония Байер пришла в милицию устраиваться на должность секретаря… Может быть, считала, что милиция окажется наиболее безопасным местом для нее?
Но случилось так, что именно в тот день и час пришли в милицию за какими-то документами Девочки из «Полен Югендфервандлагер». И, увидев там Байер, с отчаянным криком выбежали из комнаты…
Геновефа Пооль. Если о других надзирателях «Полен Югендфервандлагер» я могла говорить лишь в давно прошедшем времени, то о Геновефе Пооль должна рассказывать в настоящем. Потому что в то время, когда пишутся эти строки, Геновефу Пооль судят в городе Лодзи. Польская пресса широко освещает этот процесс. Материалы из зала суда печатаются за рубежом.
Итак, Геновефа Пооль. Она была самой молодой из всех надзирательниц — в то время ей было всего девятнадцать лет — и, по свидетельским показаниям, одной из самых жестоких.
Она тоже родилась в Польше и считалась до войны полькой. Но с приходом немцев объявила себя, как и Байер, немкой. Подписала фолькслист, назвалась Геновефой, а не Евгенией. И фамилию свою стала писать на немецкий лад: Пооль — через «h».
В «Полен Югендфервандлагер» была направлена Лодзинской полицией в 1942 году.
О Геновефе Пооль я впервые услышала от Витковского.
Среди прочего он рассказал мне однажды эпизод, которому был свидетелем.
В то время в бригаде мальчиков-узников Витковский работал по ремонту крыш в лагере. И со своей «высокой позиции» имел возможность наблюдать многое из того, что происходило внизу.
Больше всего его ранила, так он говорит, судьба малышей. А было их (примерно от двух и до восьми лет) в ту пору довольно много в лагере.
Витковскому сверху было хорошо видно, как их привозили, как сгружали: их скидывали на землю с машин. И как потом вывозили из лагеря; этих же, или других, он не знал. И куда вывозили, об этом тоже никто не знал.
И вот однажды он услышал отчаянный визг и плач, перекрывавший стук молотков. Осторожно сполз на край крыши и увидел, что на первом этаже окно распахнуто, на подоконнике стоит надзирательница Пооль. В руках у нее хлеб. Этот хлеб она крошит и бросает вниз, будто бы кормит кур. Под окном — малыши. Сбегаются на хлеб, как цыплята. Нет, как голодные маленькие зверьки. Визжат, отталкивая друг друга… Вслед за ними мчатся дети постарше. Подпрыгивают, в отчаянном стремлении на лету ухватить эти крохи, опрокидывают на землю малышей, топчут их. А в окне, как в раме, освещенная солнцем, стоит Геновефа Пооль. И смеется: весело, от души…
«Я никому ничего плохого не сделала», — повторяла на следствии, повторяет и на процессе Геновефа Пооль — Евгения Поль, так она называется ныне. И доказывает, что «деятельность» ее в «Полен Югендфервандлагер» сводилась лишь к выполнению поручений и приказов. Что о жестоких издевательствах над детьми в лагере она не слышала. И что если она сама, как говорят свидетели, ходила во время своих дежурств с хлыстом или стеком, то делала это «лишь для фасона».
Она говорит, что двадцать лет подряд, начиная с 1952 года, проживала безвыездно по тому самому адресу, по которому проживала и до войны, в доме своих родителей, по улице Хелминского, 16. (Не скрывалась. Значит, виновной себя не чувствовала.)
Тут однако, есть некоторое несовпадение. Дело в том, что по улице Хелминского, 16 прописана Евгения Поль. В лагере же она называла себя Геновефой Пооль…
Евгения Поль утверждает: вина ее, если можно говорить о вине, лишь в том, что во время оккупации вынуждена была подписать фолькслист, то есть признать себя лицом немецкой национальности. И изменить написание своей фамилии: Пооль — через букву «h», вместо Поль. Но тотчас же по изгнании оккупантов она вернулась к прежнему написанию своей фамилии. А к тому же в 1948 году прошла процесс реабилитации в связи с принятием фолькслиста (то есть отступничеством от польского народа)…
Как она прожила эти годы, теперь уже в общем десятки лет? Как она чувствовала себя в то время, когда казнили Седонию Байер? Ведь она, Геновефа Пооль, была, как показывают свидетели, ее помощницей, ее правой рукой.
Так как же прожила она эти годы? На что рассчитывала? На то, что тех, кто мог назвать ее своей соучастницей, нет в живых?
На то, что тех, кто мог бы свидетельствовать против нее, тоже осталось в живых немного?
Или просто надеялась на удачливость, на счастливую судьбу?!
Как она ходила по Лодзи все эти годы? Не боялась лицом к лицу встретиться с кем-либо из своих подопечных?
Поль утверждает, что встречалась и по-доброму.
В самом деле, встречалась. На суде одна из свидетельниц показывает, что, увидев однажды в вагоне трамвая Геновефу Пооль, отчаянно закричала: «Это швабка — из лагеря!» А Поль соскочила с трамвая на ходу, и догнать ее не удалось.
Евгения Поль говорит, что последние пятнадцать лет она работала в яслях. И что ее непосредственные руководители никогда не высказывали претензий к ней. Наоборот. Отмечали ее «почти материнское» отношение к детям.
Что ж! Возможно! Но ведь это еще страшнее.
Человек-оборотень! Человек-функция. Нечто вроде электронной машины, целиком зависит от заданности… Впрочем, неверно, нет. Электронная машина действительно выполняет лишь то, что ей задано. А надзирательница Пооль привносила в то, что должна была выполнять, свою инициативу, индивидуальность, выдумку.
«Когда Пооль дежурила, она будила нас ночью и приказывала бежать босиком к колодцу мыть ноги. Естественно, что пока мы бежали обратно, ноги пачкались снова. И мы должны были снова бежать мыть их. И так вот бегать по кругу, пока ей самой это не надоедало…»
«Пооль собственноручно била нас, отсчитывая назначенные нам удары. Вили нас постоянно: где попало и чем попало, но в счет все это не шло. Считалось лишь то битье, которое на лаве кар, на аппеле перед строем. Пооль била нас охотно, со вкусом. Если ребенок, которого она избивала, кричал или даже просто кривился от боли, она еще добавляла ему сверх того, что было назначено…»
«Пооль избила меня и заперла в карцер. Выбрала камеру, где лежали тела умерших детей. Запирая меня туда, твердила: «Вот это будет хорошая компания для тебя…»
Так говорят свидетели. И показания их можно цитировать без конца. Суд заслушал уже около ста свидетельских показаний.
А на скамье подсудимых — женщина. То ли слушает, то ли нет. Лицо ее безучастно, непроницаемо, словно то, что здесь говорят, не имеет к ней отношения. Словно все это — не о ней говорят.
Кроме избиений и издевательств над детьми, Евгения Поль обвиняется в том, что личные ее действия явились причиной смерти нескольких девочек-узниц. И в том, что она принимала участие в действиях, которые в нескольких случаях закончились смертью детей-узников. Не могу рассказать обо всех этих случаях. Но об одном — должна рассказать. Об Урсуле Качмарек. О ее смерти.
Фотографию Урсулы я видела в архиве Витковского. Эту фотографию, долагерную, домашнюю, ему подарил отец Урсулы, которого Витковский разыскал в Познани.
Своеобразное лицо. Чуть удлиненный разрез глаз. Темные брови вразлет. Челка темных пушистых волос прикрывает высокий лоб. Четко очерченные, кажется, готовые раскрыться в улыбке губы. Совсем еще девочка-подросток: вся — ожидание, вся — предчувствий…
Витковский молча подал мне еще одну фотографию.
На сером фоне, видимо прямо на земле, сколоченный грубо ящик-гроб. Внутри на ветхом обрывке ткани — тело: совсем непохожее на человеческое, до того оно ссохшееся и маленькое. Неправдоподобная фигурка, как бы сложенная из острых углов, чуть прикрыта каким-то лоскутом. Не руки — палки. На концах несоразмерно большие натруженные кисти. А лицо… его невозможно описать. Так могла бы выглядеть сама смерть. И лишь ежик темных, только что начавших отрастать волос свидетельствует о том, что в ящике не скелет — тело.
— То есть также Урсула, — сказал мне Витковский. — И то есть лагер…
Свидетели говорят, что Урсулу систематически избивали и наказывали все надзирательницы. И Геновефа Пооль в том числе. За что? Почему?
Может быть, в силу характера, а характер, индивидуальность, личность чувствуется даже по фотографии. Урсуле было труднее, чем другим, приспособиться к лагерным условиям, из которых главным было смирение. Смирение и беспрекословное подчинение всем, всему. К тому же она находилась в том возрасте, когда не обретено еще понимание взрослого человека, но утрачена ужо детская несамостоятельность.
Впрочем, это всего лишь домысел, попытка представить себе какие-то внутренние, глубинные процессы, потому что факты — это лишь первый слой, первое приближение к тому, чтобы понять происходящее. Но, как бы то ни было, факты свидетельствуют о том, что между Урсулой и надзирательницами шла постоянная борьба. Борьба неравная.
Кроме всего прочего, Урсула, как и многие дети в лагере, была тяжело больна специфической лагерной болезнью, видимо, связанной с воспалительными процессами мочевого пузыря. Постоянное прозябание, холодные постели, хождение босиком (обувь детям до октября не выдавалась) — все это приводило к тому, что многие дети непроизвольно мочили ночами свои постели.
В лагере это не считалось болезнью, а лишь провинностью, и тяжелой. За это наказывали поркой, лишали сенника — дети спали на голых досках, совсем уже застывая от холода. Лишали лагерной пищи. И лишали посылок из дому.
Пусть хоть раз в месяц, но ребенок мог получить посылку, если, конечно, за лагерными стенами оставались еще родные. Пусть даже те, через кого проходили эти посылки в лагере, выбирали оттуда все лучшее, оставляя детям, что похуже и ровно столько, сколько должно было, по их разумению, хватить на три дня, не более. Все, что было сверх этого, конфисковалось уже официально. Но хотя бы три дня ребенок мог быть более сытым. Урсула была лишена и этого. Она была постоянно голодна, постоянно и нестерпимо хотела есть. И это вынуждало ее (как и многих детей в лагере) красть хлеб всюду, где можно было его украсть.
Первый украденный ею кусок повлек за собой порку, лишение лагерного питания, лишение посылок. Но все это имело и еще одно последствие для Урсулы: с тех пор, как она была замечена, что бы и у кого бы ни пропало — «баты» получала Урсула.
«Над Улей немецкие надзирательницы издевались при любой оказии. И Пооль — также. Каждая шла проверять постель прежде всего к Уле. Когда дежурила Пооль, то била ее хлыстом…»
«Пооль била Улю систематически. Била так, что тело у нее отходило от костей…»
«Однажды, после аппеля, одна девочка заявила, что у нее пропала посылка. Пооль сказала нам всем оставить помещение. Схватили Улю Бауерова и Пооль. Мы слышали крики из помещения…»
«Я лично была свидетелем смерти старшей девочки по имени Уля, лет около 13, которая умерла вследствие дьявольского избиения. Видела у нее рану на Животе такую глубокую, что видны были внутренности. Видела лично, как вахманка Пооль тыкала Улю кием (палкой), вышвыривая ее из «избы хорых». Она велела Уле выйти и стать на солнце. Уля стала на солнце перед «избой хорых», держась за стену. С лица ее стекала кровь. Мухи садились на ее окровавленное лицо. Приходила Пооль и хлыстом бередила рану».
«Уля умерла в воскресенье. Она лежала на топчане в помещении, выделенном из «избы хорых». Окно было открыто. Подруги заглядывали к ней. Она попросила у них воды. Когда ей подали, выпила. И стала умирать. Вызванный комендант подтвердил смерть. Привезли гроб и вывезли тело…»
…Чьи-то рыдания прорывают напряженную тишину судебного зала. А женщина на скамье подсудимых по-прежнему безучастна, будто все это не имеет к ней отношения.
Говорят, что так же держалась она и на следствии. И во время очных ставок ее со свидетелями. И лишь однажды раздраженно сказала: «Считаю, что это все — комедия. Не знаю зачем, потому что я была очень доброй для детей в лагере…»
Не нахожу того, что ищу, однако судьбы наших детей по трагической своей схожести словно просматриваются сквозь судьбы польских детей, о которых рассказываю. А «Полен Югендфервандлагер» видится как подобие, как некий прообраз лагеря, что ищу…
ОСОБЫЙ ДЕТСКИЙ… ЕГО ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Рассказывает Олег Безлюдов
Привезли нас в детский концлагерь, кажется, в город Лодзь — Лицманштадт. Помню обычный, как будто заводской двор. Четырехэтажное здание из красного кирпича. Говорили, что раньше там был завод или фабрика.
Разделили нас на две группы по возрасту: одна — от трех до пяти лет, малышовая. Вторая — от пяти до пятнадцати. Наша, малышовая группа помещалась на втором этаже.
Первые дни я все время думал о сестренке, о Люде. Вспомню ее — реву. Спрячусь за штору и реву. Это заметил наш воспитатель, он был русский. Спрашивает: «Отчего плачешь?!» Мне показалось, что по-доброму спрашивает. Я ему рассказал про Людку. Он выслушал и говорит: «Не плачь, выздоровеет твоя сестренка, сюда привезут. Такой это лагерь…» Уж не знаю, сказал, чтобы утешить, или в самом деле что-то такое про лагерь знал.
Мы этого воспитателя все любили. Он был русский, советский военнопленный. Старшие ребята говорили, что взяли его в плен раненным. И что до войны он не то в цирке работал, не то был мастером спорта. Его к нам приставили, чтобы он нас физически воспитывал.
И был второй надзиратель, тоже русский. Но это был гад — предатель. Он числился заместителем коменданта. Мы его больше чем коменданта-немца боялись.
Этот надзиратель ходил всегда с плеткой. Плетка была у него треххвостая с металлическими шариками на концах. И он всегда громко хвастал, что с одного удара перешибает позвоночник собаке. Нас он избивал дико: и перед строем, если провинишься. И просто так, если попадешь под руку. Особенно он избивал одного парня — немого.
Коменданта лагеря мы должны были называть «герр оберштурмфюрер». Фамилии его не помню, а скорее даже не знал.
Был он высокий, поджарый, с тонкой талией… Была у коменданта любимая собака. Пока собака была щенком, мы с ней играли потихоньку. А когда подросла — комендант ее научил «брать» людей. Увидит в окно, что кто-нибудь из ребят бежит в уборную, сразу собаку натравит. А сам из окна смотрит, как она нас хватает, и хохочет, как безумный.
Все мы работали. Куда возили работать старших, я не знаю. А мы работали на плантациях у бауеров. Там все-таки можно было промыслить что-нибудь съестное. Колос ржи, например, считался у нас деликатесом. Мы собирали попорченные овощи и просили разрешения у хозяев взять с собой в лагерь для кроликов. В лагере в самом деле держали кроликов. Их держали для комендантской кухни. Но кроликам мало что перепадало из этих овощей. Мы все съедали сами. Кормили в лагере плохо, постоянно хотелось есть.
Однажды комендант приказал этому русскому воспитателю, которого мы любили (мы его звали между собой «лысый», потому что он и в самом деле был лысым), организовать из ребят кружок акробатов. Комендант вообще любил зрелища и представления.
В этот кружок акробатов «лысый» включил и меня, хотя я не то что стоять на руках, но и на ногах-то держался с трудом от истощения. И он это знал отлично, потому что на первом же занятии сказал мне тихонько: «У тебя мышцы как тряпки».
А я и в самом деле весь был как будто тряпочный. Потому что очень болел. Еще в Майданеке перенес сыпной тиф. В Освенциме кровь из меня выкачивали. Ну и голод, конечно, сказывался.
Воспитатель все это видел, но из группы меня не исключил. Я думаю, не исключил потому, что комендант распорядился давать «акробатам» дополнительный паек. И он, воспитатель, хотел, чтобы я подкормился, чтоб не умер от истощения.
Что со мной делать, он не знал и сперва отчаивался — над ним ведь тоже был постоянный контроль. Потом придумал. Сказал мне: «Ты вот что, ты не старайся с ребятами работать — работай сам. Смотри, что ребята делают, и, как можешь, сам по себе повторяй их движения». И я стал вроде как клоун у ковра. Знаете, в цирке: артисты работают, а клоун за ними, по-своему…
Как уж у меня получалось, не знаю, но коменданту правилось. На первом представлении он не так на ребят смотрел, как на меня. Всем показывал на меня пальцем, кричал по-немецки что-то. И хохотал, как сумасшедший. А воспитатель наш старался на меня не смотреть…
Не помню я ни имени, ни фамилии этого воспитателя, хоть в общем-то он, наверное, помог мне выжить. Помню, что был он невысокого роста, коренастый и лысый. Может, он и сейчас живой?! Если б можно это узнать! Ведь не только я, все мы, кто находился в этом лагере, своим спасеньем ему обязаны…
Рассказывает Людмила Королева
…Помню, что в том лагере, куда нас привезли, нас одели в кусачие, серые костюмы без нижнего белья. Спали мы по два человека на нарах. На работу гоняли нас всех. Что делали старшие — не знаю. Смутно помню такую свою работу: какой-то обширный двор или, может быть, сад. Деревья, цветники. Дорожки усыпаны мелким камнем. Сквозь камешки пробивается трава. Я стою на коленях и вырываю эту траву…
Помню, что я всегда хотела есть. И однажды стащила в столовой кусочек хлеба. А у входа нас стали обыскивать. И нашли этот хлеб, который я спрятала под мышкой. Немка-надзирательница сильно избила меня за это. Есть мне в тот день не дали.
За малейшую провинность очень строго наказывали. Сажали в карцер — подвал, где были крысы. Заставляли часами стоять на коленях.
Рассказывает Валя Булахова
В этот лагерь нас с Николаем привезли сразу же, разлучив с родными. А через год сюда же привезли из Освенцима младшего братишку Володю.
В лагере, куда нас привезли, девочек поместили в одном корпусе, мальчиков — в другом.
Все прибывшие дети были страшно худые, больные, чесоточные. Помню, что из тысячи девочек лишь одну смогли взять на кухню, потому что только она не болела чесоткой. В лагере все мы работали. Девочки шили соломенные сапоги для немецких солдат — сапоги эти для тепла надевались прямо на обувь. Шили варежки. Летом нас гоняли работать на поля к бауерам — землевладельцам.
Режим в лагере был жестокий. Ни днем, ни ночью мы не были предоставлены самим себе. Нам не разрешалось разговаривать друг с другом, собираться группами, петь песни — все это жестоко наказывалось.
Я работала санитаркой в больнице. Были там две медсестры — военнопленные, обе Дуси и обе с Украины.
Они, как могли, заботились о детях.
Сначала я работала в изоляторе, где лежали дети, больные инфекционными болезнями. Я ухаживала за ними, и мне совершенно не позволяли выходить из изолятора. Дети были в тяжелом состоянии. Многие при смерти. Помню, как умирала одна девочка. Она все просила, чтобы я написала ее матери.
Мне было очень жалко ее и, чтоб ее успокоить, я достала бумагу, карандаш. Писала, а она диктовала мне примерно так:
«Дорогая мамочка! Я скоро к тебе приеду. Ожидай меня…»
Она умерла на полуслове. Но мать ее все равно не получила бы этого письма, так как была давно сожжена в Майданеке — я-то знала об этом.
Когда все дети в изоляторе умерли (не выздоровел никто), меня перевели в нормальную лагерную больницу. Там я уже могла общаться с другими детьми.
Однажды собрали нас, старших, и к нам вместе с комендантом-немцем пришли эсэсовцы, видно было — в чинах. Они стали говорить нам, что Великая Германия растит нас, воспитывает. Дает нам пищу и кров. И что мы теперь должны отплатить за это — должны работать на Великую Германию.
В общем из слов их нам стало понятно, что нас они вербуют в разведку. Они обещали нам, что условия будут очень хорошие: будем сыты, обуты, одеты…
Мы стояли строем, а сзади, незаметно для них, крепко держались за руки, давая этим понять друг другу: я, мол, не соглашусь! Не соглашайся и ты! И действительно, никто не дал на это согласия.
Тогда они отправили мальчиков в их помещение, а девочек — в свое. И стали уговаривать мальчиков отдельно, без нас. Но все равно не согласился никто, все молчали.
Потом они пришли к нам, девочкам, и сказали, что мальчики согласились. И стали уговаривать нас. Но снова ничего не добились, мы тоже молчали.
Позже им все-таки удалось уговорить на это двух девочек. Их забрали из лагеря, а через некоторое время привезли показать нам, чтобы мы захотели, может быть, последовать их примеру.
Девочки были чисто и хорошо одеты, выглядели сытыми, здоровыми. Но одна из них, ее звали Тамара, потихоньку от немцев плакала и давала понять нам, чтобы мы ни в коем случае не соглашались. А мы не соглашались и так.
Тогда эсэсовцы отобрали около четырехсот девочек и больше, гораздо больше мальчиков. Ночью подогнали трамваи и увезли куда-то. В лагере ходили слухи, что на работу в Германию.
Помнится мне еще такой эпизод: близился рождественский вечер. И комендант-немец хотел, чтобы в этот вечер мы торжественно пели немецкие песни, которым учили нас в лагере. Но немецкие песни у нас получались плохо. Тогда комендант приказал, чтобы пели русские народные песни. Но песни, какие мы знали, были все больше про партизан, конечно, они не годились. Знали мы еще такую, довоенную песню:
Шел со службы пограничник, На груди звезда горит…Мы спросили у воспитателя — русского, который в лагере заведовал всеми представлениями и еще кружком акробатов, можно ли эту спеть? Он подумал и говорит: «Да, наверное, можно. Только пойте, что не звезда, а крест горит. Тогда сойдет».
И вот настал рождественский вечер. И мы должны были петь перед комендантом и всем лагерным начальством. Дошли до этой строчки, а ребята как гаркнут: «На груди звезда горит…»
Комендант страшно рассвирепел. Уж какие там торжества! Нас оставили без еды, многих отправили в карцер…
Рассказывает Володя Булахов
Перед зданием была большая площадь, где обычно происходили разные построения и проверки. И наказания — перед строем.
Распорядок дня был в лагере жестоким. Ранний подъем. Затем аппель — в любое время года, в любую погоду. Затем утренняя раздача пищи. После завтрака нас гнали на работу. Мы — младшие, работали у бауеров, на огородах и полях. Работа была с утра до позднего вечера.
Говорить по-русски нам запрещалось. Мы должны были говорить по-немецки, между собой тоже, иначе наказывали. Нас учили немецким стихам и песням. И учили по-немецки считать. Всякое упоминание о родине каралось жестоко. А среди нас были старшие дети. Они все помнили. Знали про партизан, знали, что наша армия близко.
И был такой случай: старшие ребята раздобыли где-то тетрадку. И стали записывать туда советские песни, какую кто помнит. Потом эти песни разучивали и пели тайком, тихонько, чтоб никто из лагерного начальства не узнал.
А в лагере так было заведено, что, когда мы стояли на площади, на аппеле, в наших помещениях делали обыск. Рылись повсюду в вещах, под матрацами. И как ребята эту тетрадку ни прятали, однажды ее нашли во время обыска, в помещении старших ребят.
Этих ребят, в спальне у которых была найдена тетрадка, арестовали и посадили в подвал — карцер. Среди них был мой старший брат Николай. Затем, в течение двух недель, нас всех после вечернего аппеля оставляли на площади, выводили этих ребят из карцера и избивали перед строем на специальной скамье. Давали им от 10 до 25 ударов.
Вообще перед строем почти каждый вечер избивали ребят за любую провинность.
И вот наступило время, когда по шоссе, проходившему под нашими окнами, стали отступать немецкие воинские части. День и ночь отступали. Шоссе было буквально запружено: солдатами, техникой, машинами…
Лагерь полностью затемнили. На всех окнах спустили не пропускавшие света шторы. Нам не разрешалось подходить к окнам, за это жестоко избивали.
Через некоторое время освободили второй, третий и четвертый этаж. Мы не понимали почему это. И только после освобождения узнали, что был приказ взорвать здание вместе со всеми детьми. В подвал были спущены бочки с бензином и здание было заминировано.
Среди старших ребят были очень смелые. Двоим из них мы обязаны тем, что остались живы. Я не помню фамилий этих двоих, помню только, что одного из них звали Петр, а другого Мишка Цыган. Он и был цыган по национальности. Вот им двоим, благодаря суматохе, удалось убежать из лагеря. Говорили, что убежать им помог наш воспитатель, русский военнопленный, которого все любили. Он велел им пробраться в расположение наших войск и рассказать, что в здании бывшей фабрики — здание это было заметное, господствовало над большой территорией — детский лагерь, в нем находятся дети, которым грозит уничтожение.
Окутанные туманной сыростью ночи, ползут по мокрому снегу две маленькие фигурки: это — Мишка Цыган и паренек по имени Петр.
Тяжелой поступью танков гудит под ними земля. Вспыхивает разрывами, грохочет орудийными залпами небо там, впереди — куда лежит их дорога. А позади лагерь. Высится затемненной громадой. Ни дымка, ни дыхания. Затаившийся, приготовившийся. К чему?
…Вечер. Полночь. Глубокая ночь — ночь на 19 января 1945 года. В нижних помещениях, куда согнаны дети со всех этажей, непрочная тишина. Оборачивается тяжелым дыханьем, прерывистым шепотом, вздохом, всхлипом. Не спят дети. Сквозь наглухо запертые окна и двери настороженно вслушиваются в то, что происходит во дворе лагеря. Полон скрытым движением лагерный двор. К чему там готовятся? Что готовят им?
«Молиться давай! — прорывается к Булахову Володе чей-то шепот. — Чтобы бог нас спас…»
В освенцимском бараке польские дети молились. Володя помнит. Слова их молитвы примерно помнит: «Боже, верни мне отца, который в немецкой тюрьме! Не допусти, боже, не оставь меня сиротой. Сделай так, чтоб отец вернулся к нам живым и здоровым…»
Слова эти были такими, что и он, Володя, часто повторял их про себя. А однажды спросил у матери: «Мама, может, правда, если молиться — бог побьет немцев?» — «Батька наш их побьет, сыночек! — прижимая его к себе, шепнула мама. — Наши скоро побьют их. Только молчи!»
Дети в лагере знают, что наши войска — близко. Но знают они и то, что судьба их — вот она, под ними, в подвалах, закатана туда вместе с бочками бензина, заложена со взрывчаткой.
Дети знают, что наши близко. Только… успеют ли?!
…На территории Потулицкого лагеря тоже громоздятся взявшиеся невесть откуда бочки со смолою и нефтью.
Охрана эти бочки подкатывает к баракам. Размещает поудобней, повыгоднее — все должно быть готово, когда поступит приказ!
В бараках дети. Польские. Свезены в Потулице со всех уголков Силезии и Загреба. Втиснуты в те же бараки, на те же нары, что едва лишь успели освободить наши дети. И судьбы этих польских детей скроены по той же модели.
Гудит самолетами небо над Потулицким лагерем. Все слышнее грохот орудий. Польские дети знают: это «радзецкие».
…Стремительно наступают наши войска. Но — успеют ли?!
В Лодзи на улице Пшемысловой в бараках «Полен Югендфервандлагер» тоже заперты польские дети. И тоже не спят. Прислушиваются к тому, что за стенами, за дверями, за наглухо закрытыми окнами.
А за окнами на западе — зарево. Наплывает оттуда черный дым, ветер доносит запах гари и смрада. Это жгут лагерь в Радогощи. Жгут вместе с узниками. Детям об этом сообщил на аппеле комендант — у многих в том лагере отцы. Показал на пылающее небо над Радогощем, пригрозил: то же будет и с ними, если не будут беспрекословно повиноваться его приказам. Горючего хватит и на них!
«Начали мы страшно бояться, что будем сожжены, — вспоминает Тадеуш Рожневский, в прошлом узник «Полен Югендфервандлагер». Выбирали мы сами себе род смерти, если уж было суждено умереть. И каждый бы предпочел быть застреленным, чем жариться в огне. Эти опасения были так ужасны, что мы реагировали истерично на каждое появление эсэсмана в бараке. Одни плакали отчаянно. Другие — проклинали немцев и громко молились. У каждого на устах были его родители. Слышались возгласы: «Мамусю! Боюсь… Погибаем…» Такие же крики слышались и из других бараков.
…Наутро мы были по-прежнему заперты на ключ. А во дворе охрана делала что-то неестественное, зловещее, что-то такое, что вызывало в нас инстинктивную настороженность. Мы следили за каждым их шагом. Около барака № 1 господствовало движение. Не подлежало сомнению, что нас собираются сжечь. Этот первый барак поливали снизу из шлангов какой-то жидкостью. А грузовые машины с немцами стояли уже наготове у ворот…»[5]
Стремительно наступают наши войска. Но — успеют ли?!
Теперь я знаю, что могли бы и не успеть!
«Взятие Лодзи поначалу не входило в планы Восьмой гвардейской армии, действовавшей под командованием генерала В. И. Чуйкова на главном направлении Висло-Одерской операции, цель которой заключалась в том, чтобы, как сказано в истории Великой Отечественной войны: «освободить от немецко-фашистских войск союзную нам Польшу и создать выгодные условия для нанесения завершающего удара по столице фашистской Германии — Берлину…»
В соответствии с этим задача армии была: на Познань! Затем на Берлин!» — так рассказывал мне генерал-лейтенант Шеменков, командовавший в то время 29-м гвардейским стрелковым корпусом, участвовавшим во взятии Лодзи.
А в воспоминаниях маршала Чуйкова я читала, что согласно замыслу предстоящей операции, наши войска должны были выйти на рубеж Кутно — Лодзь примерно на десятые, двенадцатые сутки наступления, при том, что средний темп наступления предусматривался штабом фронта 10–12 километров в сутки.
Однако наступление начало развиваться так стремительно, что наши войска, взрывая оборону противника, проходили в сутки 25–30 и более километров.
Видимо, это и решило судьбу города.
«К вечеру 18 января, то есть на пятые сутки наступления, на горизонте показался большой город. В бинокль были видны дымы заводских труб. Это — Лодзь, крупный промышленный центр Польши, — пишет в своих воспоминаниях маршал Чуйков. — В тот момент связи со штабом фронта у нас не было. Необходимо было принимать решение. Остановиться и ждать указания? Двигаться на запад, оставляя у себя на фланге или в тылу город, занятый противником? Нет, и то и другое было бы неразумно. Я принял решение овладеть Лодзью».
«Мы проходили правее Лодзи, севернее километров на 25–30. Ночью остановились на отдых в лесу, — рассказывает генерал Шеменков. — В час ночи приказ командующего: дать войскам два часа отдохнуть, затем ночным маршем подойти к Лодзи и овладеть городом».
Стремительный натиск наших войск, — пишет в своих воспоминаниях маршал Чуйков, — помешал немецким оккупантам разрушить город. Не было взорвано ни одного здания…»
Рассказывает Володя Булахов
Лагерное начальство готовилось к бегству, сложены были вещи, подготовлены машины. Но убежать им не удалось. Кто-то из старших ребят насыпал в баки с бензином соль. И моторы не завелись. Машины так и остались во дворе лагеря.
…Вот как я это запомнил по рассказам старших детей, уже после освобождения. Когда стало известно, что приближаются советские части, охрана лагеря укрепилась на чердаке. Установили там пулеметы. Проемы окон завалили мешками с песком. Охрана готовилась к выполнению приказа — взорвать лагерь. Ожидали только, чтобы последние отступающие войска прошли по шоссе.
Оставались, может быть, считанные минуты нашей жизни, потому что на шоссе движение затихло. И вдруг снова загрохотали по шоссе танки. Охранники думали, что это их отставшие танки. Но оказалось, что танки были советские. И были посланы для того, чтоб спасти нас.
Не знаю, что стало с лагерным начальством — кажется, бежать им не удалось. А русского помощника коменданта — изменника, прикончил один наш парень — немой. Звали немого этого, как и меня, Владимир. Владимир был, наверное, старше всех в лагере. Знал многое. И умел обращаться с оружием. Когда отступали гитлеровские войска, он, воспользовавшись суматохой, бежал. И где-то ему удалось достать автомат. С этим автоматом он и вернулся в лагерь, когда уже подходили наши. И стал разыскивать этого изменника. И нашел. В подвале-карцере, где тот спрятался, там и застрелил его.
Рассказывает Людмила Королева
Момент нашего освобождения помню плохо. Помню только, что нас, девочек, кто-то еще до освобождения вывел из здания за территорию лагеря. И мы потихоньку разбежались кто куда.
Помню, я шла по какой-то улице, и меня привлекла кукла. Она стояла в окне и смотрела на улицу. Я побежала к ней. Вбежала во двор и увидела, что на деревьях висят люди. Испугалась ужасно и бросилась бежать со двора. И вот тут меня остановил наш советский солдат. Он был в ушанке со звездой.
Что уж я там ему рассказывала — не помню. Но помню, что он взял меня на руки и понес. Принес в жилой дом, где находилось много детей из нашего лагеря.
Рассказывает Олег Безлюдов
Почему я так говорю, что своим спасеньем мы, наверное, обязаны русскому воспитателю, о котором рассказывал? Вот как все получилось. Пожалуй, мы уже знали… нет! Это мы позже узнали от старших ребят, что охрана получила приказ уходя взорвать лагерь вместе с находящимися там детьми. И в подвалы уже была заложена взрывчатка.
Как все было в действительности, — я не знаю. Знаю только, что нас, малышей, этот воспитатель тайно вывел из лагеря еще до прихода наших. Вывел ночью.
Помню, что за несколько дней до той ночи уже летали советские самолеты. Город бомбили. И однажды бомба упала, видно, недалеко от лагеря, потому что в здании повылетали стекла и погас свет. Была повреждена электростанция.
Этот воспитатель тихонько пришел к нам ночью в то помещение, куда нас согнали, — вниз. Велел тихонько подняться всем, одеться, взять одеяла. Он велел: не кашлять, не шептаться, выходить по цепочке, по одному, очень тихо.
Вывел нас с черного хода на задний двор, мимо сарая, где жили кролики. И дальше, задворками, ко рву. За лагерем был большой и глубокий ров. Велел нам спуститься туда, завернуться каждому в одеяло и лежать тихо, затаиться.
Я завернулся в одеяло. И хоть лежать было мокро, холодно, страшно, потому что очень близко грохотали снаряды и вспыхивало небо над нами, все-таки я уснул.
А проснулся, наверное, от тишины. Было тихо вокруг. И было светло. Воспитателя с нами уже не было.
Я приподнялся и увидел, что во дворе лагеря стоят какие-то военные повозки. А вокруг них ходят солдаты с красными звездами на ушанках.
Я понял, что это пришли наши. И захотел поскорее выбраться изо рва. И увидел, что другие ребята тоже стараются вылезти. Тащут за собой свои одеяла все в земле, в грязи, в прошлогодней траве, карабкаются по откосам в лагерной, серой своей одежде, маленькие, серые, как мышата. И еще увидел, что на противоположном краю рва солдаты — тоже с красными звездами на ушанках. Кто наклонившись, а кто присев на корточки, они помогают ребятам выбраться, подхватывают их на руки, передают из рук в руки…
И меня подхватил один солдат. Лицо у него было заросшее и я не понял: старый он или молодой. Только увидел, что он плачет. Глядит на меня и плачет: молча, без звука. Это было так страшно, что я прижался к нему и сам заплакал…
«Когда гвардейцы с боем вошли в небольшой польской городок (в окрестностях Лодзи) на улицах их встретили радостно возбужденные малыши, приветствовавшие наших воинов на русском языке».
Сообщение из газеты 8-й гвардейской армии «На защиту Родины»
«При проезде через город Константинов (пригород Лодзи) вместе с бойцами беседовал с детьми, находившимися в концлагере для детей. В нем насчитывалось 1200 детей от двух до четырнадцати лет. Одеты, как арестанты — в деревянных ботинках с деревянными подошвами. Условия жизни этих детей были очень тяжелыми…»
Из донесения замполита 54-й гвардейской дивизии:
«Уважаемая товарищ Ирошникова!
Я прочитал в «Литературной газете» ваш очерк о детях, в свое время освобожденных нашей армией из концлагеря под городом Лодзью. Я был в числе бойцов, освобождавших город Лодзь: подступы к городу и его окраины. Мне довелось видеть этих детей в первые же часы их освобождения. — Так написал мне Андрей Александрович Статкевич. — Скажу откровенно, нельзя было спокойно смотреть на их лица, на их фигурки-скелеты в тюремных костюмах и деревянных башмаках. Многие из нас, провоевавшие всю войну и уже повидавшие всякое, глядя на них, не могли удержаться от слез.
Чтобы было понятно наше состояние, расскажу эпизод, которому был свидетелем. Когда мы, несколько бойцов, стояли у ворот лагеря, окруженные этими ребятишками, по улице, мимо лагеря наш патруль вел пленных немцев, видимо, только что схваченных офицеров с нацистской выправкой. Может быть, среди них был даже кто-то из руководителей этого лагеря, потому что, завидев их, ребята, с которыми мы разговаривали, замолкли и стали испуганно жаться к нам.
Командовал патрулем молоденький лейтенант. Увидев нас и с нами этих ребят, он сразу оценил обстановку. И, остановив пленных немцев у лагерных ворот, нечеловеческим голосом скомандовал им: «Мютцен аб! Подлецы!» И еще повторил по-русски: «Шапки… шапки долой!»
И немцы поспешно сняли свои фуражки перед нашими детьми».
Недавно мне довелось прочитать воспоминания бывшей маленькой узницы «Полен Югендфервандлагер» Евы Новаковской.
«Если говорить о светлых переживаниях того времени, — пишет она, — то это приход советских солдат, которые одаряли нас всем, что имели лучшего. Из интересных же происшествий лагерных, а верней уже после лагерных, это обязанность немецких военнопленных снимать головные уборы и низко кланяться при виде нас, маленьких польских узников…»
Это был другой лагерь. Другие — польские дети. Скорее всего, другие пленные немцы. И наверное, другие наши солдаты. Но реакция была та же: «Мютцен аб, подлецы!»
Я долго раздумывала над тем, как закончить эту часть книги. Казалось, все уже сказано. И в то же время чувствовала, не хватает того, что могло бы как-то выделить, подчеркнуть основную идею, мысль, а точнее, чувство, с которым это писалось… Мне посчастливилось. Случайно в газетном листе я нашла эпизод, рассказанный Эйженом Веверисом, латышским поэтом, бывшим узником лагерей смерти Саласпилса, Штутгофа, Маутхаузена. Вот строки из этого эпизода:
«На развилке колонна остановилась. И тогда мы увидели, как на нашу дорогу свернула другая колонна. Колонна детей — узников. Одетые в рвань, а то и вовсе голые, изможденные, с потухшими от страданий глазами, шли дети. Шли молча. Шли так, словно несли на себе все тяготы войны, все бремя мук человеческих. Шли дети лагерей смерти… И в едином порыве, не слушая криков охраны, вся наша колонна бросилась к маленьким узникам. Мы обнимали костлявые детские тельца, прижимали их к себе, прикрывая полосатыми куртками, согревая у бешенно бьющихся сердец… Наша колонна удвоилась. Теперь, по дороге на Эбензее шагали не просто узники с пришитыми на груди номерами: мы вобрали в себя удары маленьких сердец нового поколения людей…»
Это могло бы стать и эпиграфом к книге.
ГЕКАТОМБА-41[6]
Мучает меня одна история, точнее — история одной песни. Песня называется непривычно: «Гекатомба-41».
Действующих лиц в рассказе о ней двое: Алексей Сазонов — русский солдат. И Алекс Кулисевич — поляк. Автор и исполнитель песен Сопротивления, песен Борьбы и Гнева, так его знают во многих странах.
Об Алексее Сазонове известно очень немногое, лишь то, что осталось в памяти Кулисевича от коротких их встреч и разговоров.
Что касается Кулисевича, сведения о нем, конечно, полнее. То, что будет здесь сказано, известно из документов. Из рассказов самого Алекса. Но, главным образом, из его песен и его стихов. Природа их такова, что они с достоверностью документа воспроизводят атмосферу и обстановку своего времени. А потому обладают и силой воздействия документа. Обладают настолько, что во время исполнения Кулисевичем некоторых из его песен в Западной Германии находились люди, которые потрясенно требовали от него… доказательств!
«Заксенхаузен — памиентник поетицки» — так называется сборник песен и стихов Кулисевича. В точном переводе слово «памиентник» — означает по-польски, «дневник (мемуары, записки)».
Книга эта — часть его биографии. Уникальная книга, потому… Впрочем тут, пожалуй, лучше предоставить слово самому автору:
«Мои «Конденсаты» (цикл стихов) создавались в условиях, в которых, наверное, никто никогда ничего не творил… В многочасовом приседании с поднятыми вверх руками. В условиях, когда аппель (поверка) длился до бесконечности. Был холерный мороз, люди падали один за другим. Коротал время сочиненьем полных яда стихов…»
Так говорит Кулисевич во вступительном слове. И еще говорит: «Строфы Памиентника» были вынесены из Заксенхаузена целиком в памяти. Самый малый клочок бумаги, найденный у тебя, означал смерть. Затравленный, загнанный, забитый, рыл и рыл в мозгу каждую черточку, каждую запятую…»
Кулисевич был арестован вскоре после вторжения гитлеровских войск в Польшу. И заключен в Заксенхаузен — превентивно. Как… «опасный для Германской империи журналист». Собственно, журналистом он не был. Просто печатался иногда на страницах прогрессивных молодежных изданий — видимо, это и решило его судьбу.
В предвоенные годы он был студентом. Изучал право. Должен был впоследствии стать магистром права. Мог бы стать дипломатом. Мог бы… Впрочем, что же гадать! Человек одаренный, человек разносторонних возможностей. И увлекающийся к тому же.
В студенческие годы он как песенник снимался под псевдонимом Алек Алликула в австрийских и бельгийских фильмах. Вечерами пел за «мелкие деньги» в варьете «Пустячок» — было такое до войны в Кракове. Пел интимные модные романсы — «шлягеры».
Эта последняя ночь и твои огромные глаза Запечатлели в моей памяти твое имя навсегда…У него был приятный камерный голос. Располагающая внешность. Он казался искренним, романтичным. Были у него свои поклонники и поклонницы, почитатели и почитательницы.
В Заксенхаузене Кулисевич пробыл без малого шесть лет. В числе 44 000 узников его в середине апреля сорок пятого года вывели под конвоем из ворот Заксенхаузена.
«Я приказал отправить заключенных походной колонной сначала в направлении на Виттшток, затем на Любек, чтобы там погрузить на корабли и, как было приказано, утопить их…» — так показал на процессе но делу о преступлениях, совершенных в Заксенхаузене, бывший комендант лагеря штандартенфюрер Антон Кайндл.
«44 000 заключенных нашего лагеря не были утоплены не потому, что этого не хотело лагерное руководство, а потому, что быстрое продвижение Красной Армии помешало нам сделать это…» — так показал на том же процессе начальник лагеря Август Хен.
Десять дней длился этот марш смерти. Более 20 000 узников остались на его трассе. А те, кто еще был жив…
«В лесу под Виттштоком, нас окружили колючей проволокой, 20 000 оставшихся мужчин и женщин. Пять дней не давали нам есть ни грамма. Вообще-то позволено нам было подыхать. Эсэсманы объявили: «Делайте, что хотите…» Кора деревьев была обглодана людьми на высоте 40–50 сантиметров так высоко, как мог достичь зубами кончающийся человек. Некоторые теряли разум в болезненных пароксизмах голода… Ужас неотвратимый… Смерть нарастала медленно: мощная, осовелая, ленивая…» — так вспоминает об этом «марше» Алекс Кулисевич в своем комментарии к стихотворению «Агония».
Первого мая 1945 года советские танки перерезали дорогу Ораниенбург — Шверин. И освободили тех, кто еще был жив. Алекса Кулисевича в их числе.
Состояние его было тяжелым. Он лежал в госпитале и врачи не могли поручиться за его жизнь. Они делали для этого все, что было в их силах, внушая ему, что спасенье зависит от него самого: отрешиться от того, что пережито, не думать, не вспоминать — в этом его спасенье.
Как будто это было возможно — не вспоминать!
Ему действительно было очень плохо в ту пору, Алексу. Смерть действительно кружила над ним. И, явственно ощущая это, он думал прежде всего о том, что должен любою ценою оставить здесь на земле свое и чужое — доверенное ему…
Они приходили к нему в лагере, его товарищи по судьбе: чехи, поляки, немцы — узники, как и он. Спрашивали: «Алекс, найдешь для меня местечко в своем архиве?» Слух о его необычной памяти «ходил» по лагерю.
Обреченцы! Смертники! Точно знавшие, что не сегодня-завтра конец, они хотели оставить след по себе. И несли ему, Алексу, единственное, чем владели еще: слово. Песню.
«Имеешь местечко в своем архиве?!»
Мог ли он им отказать?! «Диктуй», — говорил Алекс. И закрывал глаза. И заставлял себя видеть бумагу. Лист хорошей белой писчей бумаги. И «наносил» на этот лист то, что они диктовали ему. «Наносил» по-польски, на каком языке бы ни диктовали. Пусть неточно, пусть приблизительно, но по-польски легче было запомнить. А потом «отрабатывал» перевод, вышептывая себе эти строки, до тех пор, пока все услышанное не входило прочно в память…
Вот теперь они и теснились в его памяти, эти строки и строфы, которые он не смел унести с собой. Оживали в бредовых видениях, лишали сна.
…Эльжуня — маленькая узница Майданека. Алекс никогда не видел ее. Но она появлялась теперь у его постели, напевала ему тихонько:
Була соби раз Эльжуня, Умирала сама. Бо ей ойцец в Освенцими На Майданке мама…Она пела это на мотив известной детям всех наций песни о сером козлике, и голосок ее грустно звенел у него в ушах.
Эти строки, кое-как нацарапанные на грязном клочке бумаги, подруги Эльжуни нашли в кармане ее полосатого узничного платья. Разобрать удалось лишь эту строфу — остальное было залито кровью.
Алексу рассказал об этом узник — поляк, которого транспортом привезли из Майданека. «Запомни, Алекс!»
Мог он унести с собой это?!
А «Хорал из ада» — песня его друга Леонарда, молодого поэта и журналиста. Леонард работал санитаром в лагерной больнице — ревире. Многие были ему обязаны жизнью.
На глазах Леонарда врачи эсэсовцы проводили эксперименты на узниках. На советских военнопленных прежде других. Вызывали тяжелое заражение крови, зашивая в открытые раны и сделанные специально глубокие надрезы плесневелые тряпки, навоз. Отрабатывали дозы быстро отравляющих газов. Вызывали ожоги с помощью боевых газов — иприта в том числе… Проверяли действие различных медикаментов.
«Слушайте наш хорал! Слушайте наш хорал со дна ада! — так писал Леонард. — Пусть хорал звучит в ушах наших палачей…»
И рефрен: «Здесь гибнут люди, гибнут люди!»
Мелодию должен был подобрать Алекс. Леонард верил, что мир услышит когда-нибудь это. Услышит и содрогнется.
Алекс запомнил слова и подобрал мелодию. И не раз исполнял хорал этот в блоках, перед узниками. Но самому Леонарду не довелось услышать его. Он слишком многое знал. Эсэсманы заставили его повеситься.
Это вообще практиковалось в лагере — неугодному узнику отдавался приказ — повеситься.
Мы не знаем, как это произошло с Леонардом. Но знаем, как происходило с другими. Об этом рассказывал на процессе бывший блокфюрер лагеря Заксенхаузен Вильгельм Шуберт — один из самых изощренных лагерных палачей: «…Да, я приказал одному польскому заключенному повеситься. Для чего я дал ему веревку, молоток и гвоздь, запер его в маленькой каморке и сказал ему, что буду мучить его самым ужасным образом, если он не повесится… Повесился! В течение получаса…»
А песня, которую доверил Алексу Росбери Даргуто, композитор! Организатор рабочих и детских хоров в Берлине, еврей. Он знал, что его ожидает смерть, и написал свою «Песню смерти», переделав известную в довоенной Польше «Песню о десяти братьях»:
Послушайте мою последнюю песню. Я тороплюсь, мне пора на газ. Нас было десять братьев, мы никому не причинили зла. Из десяти я остался один, с кем мне плакать теперь. Послушайте мою последнюю песню, Скоро меня уведут на газ…Он пел в блоке. И его слушали: чехи, поляки, немцы… Эта песня была и о них. А потом Росбери подошел к Алексу и сказал громко, так, чтоб слышали все:
— Алекс, хотя ты и не еврей, запомни: если выживешь, должен петь эту песню повсюду до конца своих дней, иначе ты не умрешь спокойно…
Мог он унести эту песню с собой?!
А стихотворение «Сухотникам» (чахоточным), написанное Алексом по последнему пожеланию людей, «которые имели в запасе всего несколько десятков минут жизни»…
Вот как все это было.
Февраль сорок пятого года. Красная Армия стремительно приближается к Берлину. Комендант лагеря Антон Кайндл получает приказ Гиммлера уничтожить лагерь. Начинается массовое истребление узников.
«До конца марта удалось уничтожить 5000 заключенных…» — показывает на процессе Кайндл.
В числе этих уничтоженных несколько сот молодых поляков, подозреваемых в заболевании туберкулезом.
«Рано утром путался я вокруг ревира, чтобы что-то вынюхать, — рассказывает Алекс в своем примечании к этому стихотворению. — Вижу, протянул ко мне руки один из предназначенных для печей юноша — Лешек Комарницкий из Варшавы. И шепчет: «Алекс! Ты всегда что-то поешь или сочиняешь стихи. Напиши нам сейчас. Напиши что-нибудь. Имеем самое большое пятнадцать минут…» У меня перехватило дыхание. Я смотрел в глаза человеку, который был еще жив, но знал, что пройдут минуты, и он сгорит в печах крематория… А Лешек сунул мне карандаш и повторил: «Пиши!»
И Алекс написал им — идущим на смерть, им — из которых многим едва минуло семнадцать. Написал, что Польша с ними, до их последней минуты. Что запомнит Польша их имена…
Думаю, это были именно те слова, что им хотелось услышать. Теперь они могли хотя бы надеяться: смерть их не пройдет незамеченной. И не останется безвестной…
Какою оказалась судьба оригинала тех торопливых строк, набросанных Алексом наспех, на ходу, на измятом клочке бумаги?
Может быть, сгорел вместе с ними. Может, затерялся среди тряпья, которое было с них содрано.
«Текст этот вонзился в мозг на всю жизнь…» — пишет Алекс.
Так мог он его унести с собой?
Мог он унести с собой эти строки, строфы, страницы? Эту летопись, эту память, этот обвинительный акт, какого еще не знала история…
Алекс потребовал — машинистку. В госпиталь, в палату, прямо к больничной койке — кто посмел бы отказать обреченному!
А «обреченный» лихорадочно диктовал, делая перерывы лишь тогда, когда у машинистки немели пальцы.
«Он торопится к своей гибели…» — утверждали врачи. Они ошибались. В этом оказалось его спасение.
«Когда кулаки бессильны, остается еще мозг и слово», — так говорит Алекс. В лагере у них оставалось слово… Товарищи Алекса по заключению, те, с кем он не был близок, считали его помешанным потому, что он все время бормотал что-то. Копал землю и бормотал. Держал сапог эсэсмана в руке — одно время он работал на обувной фабрике — и бормотал… Эсэсманы приглядывались к нему. И кто-нибудь обязательно стучал себя по лбу пальцем: «Тронулся!» А он просто-напросто старался «загрунтовать в памяти», то чему был свидетелем. Что пережил… Хотел сохранить в себе «документ». Таким документом стало слово. Превращенное в песню. В строки стихов.
…В Заксенхаузене, в одной империи, стоит город живых во гробах. Глухие домки, в которых похаживает смерть…Алекс пел свои и чужие песни. Те, что когда-то знал. И те, что были доверены ему здесь, в лагере.
Пел, где придется. Где безопаснее — куда приведут товарищи. В блоках — своем и чужих. А для людей особо доверенных — на верхнем этаже нар. Под самым небом, по которому — это было видно сквозь щели — «кружили чуткие гитлеровские прожекторы»… Пел и в рабочих помещениях: в прачечной, на складе обувной фабрики.
Пел вечерами, ночами. Пел по-польски. А чтоб было понятно не только полякам подключал жест. Мимику. Пел на мелодии других народов. Пел. И читал стихи.
Нас не спрашивали: были иль не были мы виновны. И мы не будем спрашивать. Нас не спрашивали: мокро тебе, если в лицо плюнуть?! Больно тебе, когда бьют? И мы не будем спрашивать. Нас не спрашивали: сколько лет тебе — четырнадцать или шестьдесят четыре? Плачет ли о тебе мать? Ожидает ли ребенка твоя жена? Нищенствуют ли твои дети? Разграблен ли твой дом? И мы не будем спрашивать!..Много позже, включая это стихотворение в «Памиентник», Алекс напишет в примечании: «Мы-то спрашивали! И Гесса, и Коха, и даже Эйхмана».
Это стихотворение, оно называлось кратко: «Нет!», знали в лагере. Его переводили чехи, итальянцы, норвежцы. С транспортами узников оно путешествовало по другим лагерям: след его обнаружился в Майданеке, в Освенциме… Видно, стало оно не только для Алекса «выражением концентрированной ненависти, которую носил в себе годы… Своего рода психологической разгрузкой в безоружных, горьких словах».
Многие песни, родившиеся в Заксенхаузене, Алекс пел на мелодии «шлягеров», которые исполнял когда-то в различных варьете. Были эти мелодии привычными и не привлекали внимания тех, чье внимание не должны были привлекать.
«В лагере я защищался песней», — сказал мне однажды Алекс. А в предисловии к «Памиентнику» написал: «Только это позволяло выдержать: сознание, что борюсь, что нужен еще кому-то. Что живет и со дня на день разрастается во мне поэтический осьминог нашей ненависти…»
О том, как Алекс пел в Заксенхаузене, рассказывали мне его товарищи тех времен. В частности, Андрей Александрович Сарапкин.
Впервые Сарапкин услышал Алекса в блоке зимой 43-го года. Но, думаю, прежде надо бы рассказать, как через много лет после войны его вновь свела с Кулисевичем песня.
Это произошло в 1966 году. По приглашению немецких антифашистов Сарапкин был в Западном Берлине. И вот вечером, включив радиолу у себя в номере, услышал песню — она показалась до потрясения знакомой ему. Собственно, даже не слова, не мелодия, а голос певца. Мягкий, чуть приглушенный, с едва уловимой хрипотцой, с интонациями, которые могли принадлежать лишь одному человеку, потому что только тот человек мог так петь эту песню. Голос этот проникал во все клетки Андрея Александровича, вызывая в нем давнюю, почти позабытую боль. Нарастая и нарастая, эта боль словно бы возвращала его в прошлое.
И не было уже его нынешнего: поседевшего, но не сдавшегося еще, уважаемого человека — представителя авторитетных организаций своей страны, которого встречали на аэродроме представители авторитетных местных организаций. Не было «герра Сарапкина», чемодан которого услужливо принял из его рук портье перворазрядного отеля в Западном Берлине. Да и отеля не было.
Душная полутьма барака клубилась вокруг него. Тишина, наполненная тяжелым дыханием тесно сгрудившихся людей. Приглушенный и хрипловатый голос, и эти неповторимые интонации…
Когда Андрей Александрович пришел в себя, в номере звучала другая музыка.
Назавтра старый товарищ Сарапкина по Заксенхаузену, которому тот осторожно рассказал, что ему привиделось, принес Андрею Александровичу выпущенную западногерманской фирмой пластинку: «Песни расстрелянного русского солдата Алексея Сазонова в исполнении Алекса Кулисевича» — значилось на ней.
А теперь о том, как Сарапкин впервые услышал Алекса. Все было именно так, как ему привиделось: душная полутьма барака. Тишина, наполненная тяжелым дыханием тесно сгрудившихся людей… Алекс пел польские народные песни. Но чувствовалось, люди напряженно ожидают чего-то. Было это зимой 43-го года. Лагерь полнился слухами о разгроме немцев под Сталинградом. Почти без всякого перехода Алекс неожиданно запел:
Такой страшно уважаемый фюререк С таким страшно луженым горлом…Он пел, отстукивая костяшками пальцев по деревянным стойкам нар. Пел в Заксенхаузене. В предместье Берлина. Пел. И каждая строка этой песни могла привести его на виселицу.
— Рассказать об этом трудно! Это невозможно представить себе, — повторял Сарапкин, — человек весит… ну, не более тридцати пяти килограммов. Вот уж поистине кости да серая, как земля, кожа. Кажется, подуй — упадет. А он издевается над Гитлером. Он поет, что нам, узникам, «не вольно смерти хотеть», и требует, да, вот именно требует: «ввысь сердца и вверх кулаки…» Откуда у него сила? Это была моя первая мысль. А вторая: раз этот доходяга может, значит, и я могу. — И помедлив. — Он ведь пел, понимаете, о том, что скованное, придавленное, но теплилось в каждом из нас.
«Откуда у него сила?» В самом деле, откуда? Особенно если знать, что он, Алекс, был одно время полуслепым. Приписанный к собачьей команде, от собак заразился какой-то болезнью глаз. И знал, что если болезнь затянется и ее не удастся скрыть — пойдет в крематорий. Знал. А пел о том, что свобода — впереди. Они были очень различными, песни, которые пел Алекс. Он считал: невозможно все время фиксировать внимание на том, что их окружает. Пусть, ненавидя, пусть восставая, но — фиксировать! Слабого могла сломить безнадежность.
Песня должна быть разной. И такой, чтобы, слушая, можно было хоть в этот миг позабыть о действительности. И такой, чтобы пробуждала надежду.
За седьмой горой, за семью реками Далеко, далеко мы встретимся. Разыщу я тебя, единственную мою, И не будет меж нами колючей проволоки…«Песней хотелось сохранить в себе и в других — человеческое», — говорит Алекс.
Как же мало мы представляем себе еще роль и значение, и воздействие поэтического слова. Силу его защитную, наступательную, особенно в страшной действительности гитлеровских концлагерей. Ведь не случайно же только в одном Заксенхаузене было создано множество песен. И множество стихов. Разных!
Стихи и песни Подполья. Сопротивления. Бунта. Горечи. Гнева. Лирические. Интимные.
Песни, стихи — они передавались из блока в блок. Взаимно переводимые, звучали на многих языках в Заксенхаузене. С транспортами узников попадали в другие лагеря. Функции их были многозначны и многомерны.
Вот, например, одно из стихотворений Кулисевича, написанное в октябре 41-го года — характерна его история.
В годы 39—41-е узниками Заксенхаузена, кроме немцев-антифашистов, были в основном чехи, поляки.
«Мы были предоставлены самим себе, — пишет Кулисевич в комментарии к стихотворению, — и могли установить между собой искренние сердечные отношения…»
В лагере возникла тайная группа, или секция, так ее называли, польско-чешского сближения. В октябре 41-го года секция приняла резолюцию, в которой говорилось, что… чувства дружбы и солидарности должны распространяться на все народы славянские, представленные в Заксенхаузене:
«Ни один из них не есть хуже. Ни один из них не есть лучше — отвергаем такой антагонизм.
В свободной Польше и в свободной Чехословакии, поскольку таким было бы их государственное устройство, продемонстрируем сплоченность, возникшую в таких трагических обстоятельствах. Должна она быть примером для созидательных начинаний государственных, предостережением для шовинистов, дорогим завещанием для наших детей.
Концентрационный лагерь обязывает нас сильнее, чем тысяча печатей и тысяча дипломатических документов.
Пусть узнает история наши скромные усилия, служащие доказательством того, что хотим жить, помогать друг другу, терять и находить вместе».
Пусть узнает история!
А вот стихотворение Кулисевича. Оно называется «Манифест».
Идем, как равные к равным. Никто из нас не значит больше, Никто из нас не значит меньше. Перед лицом трезвости и силы наказа, Который ставит нам сейчас Простая действенная необходимость. Пойдемте вместе…Это стихотворение включено Алексом в цикл, объединенный общим названием «Лозунги». Строки его и впрямь сохраняют краткость и четкость лозунга, предельно ясно выражая основную идею, основную задачу дня.
Мне хотелось рассказать о Кулисевиче так, чтоб читающий эти строки мог бы зрительно представить его себе. Но это почти непосильная задача, потому что нет в его облике ничего характерного, броского.
Внешне ничем не примечательный человек, сохранивший молодую легкость движений, не утяжеленный годами, пережитым облик. Только глаза иногда выдают это.
Подкупает его манера держаться. Угадывается за ней душевная мягкость, незащищенность души.
Есть у Алекса один характерный жест: среди разговора он вдруг вынимает из кармашка часы, быстрым, почти неуловимым движеньем прикладывает их к уху и слушает напряженно, отключившись в этот миг от всего. Проверяет часы? Проверяет слух?
Вот, пожалуй и все, что удалось уловить в его внешнем облике. А внутренне — он весь на виду, Алекс, в песнях своих. И в своих стихах.
Стихотворение «Когда вернусь». Было оно не написано — вышептано в марте 41-го года.
— Бормотал его своим товарищам по беде, маршируя в команде после тяжелого дня работы, — говорит Алекс. — Бормотал его для себя в тяжелейшие минуты. Трудно было загрунтовать его в памяти, было оно холерно длинным…
Есть в нем такие строки:
Коверкотовый плащ. Ноги, изможденные голодом. И усмешка, из которой смотрит война Лоскутами линялых слез. Таков — я. Каторжник. Герой концентрационных лагерей. Некий кандидат На некоего пана Великомученика. . Взгромоздиться быть может Над триумфом охваченной улицей, Чтобы говорить и говорить о себе. О жизни моей загубленной, О том, что гроза сожрала мои легкие, Что кулак учил меня памяти… Нет! Засесть за стол, разрезать буханку свежего хлеба. Намазать маслом, медом. С дороги приласкать жену, Перекреститься и — начать сначала? Нет! Когда вернусь и ежели вернусь, я не пойду домой. Прежде измученные руки мои заплатят, наконец, за все…В этом — кредо «малого Алекса из блока 8», так его знали в лагере, клятва перед лицом будущего.
Одержимый боязнью забвенья того, что произошло с человечеством в середине двадцатого века, чему сам был свидетелем и жертвой, свято веря, что память — это гарантия, он хранит эту память.
И, как последний штрих — строки из письма Алекса: «…Однако я становлюсь все слабее. А наихудшее то, что глохну. Перехожу на ту сторону реки, где замолкнет каждая птица, каждый шелест. Стараюсь не мыслить об этом. Отречение, отчаяние были бы капитуляцией. Я должен бороться тем, что у меня осталось…»
Вот почти и все об Алексе Кулисевиче.
А теперь об Алексее Сазонове. О нем действительно известно только то, что узнал и запомнил Алекс. А узнать ему удалось немногое. Обстановка не располагала к расспросам. Разговоры между узниками, особенно разных национальностей, карались жестоко в лагере.
В ту пору, когда они познакомились, было Алексею Сазонову, по словам Кулисевича, семнадцать лет. Поэтому Алекс думал, что в армию Сазонов пошел «охотником» — то есть добровольцем. Так он и сказал Алексею однажды. Но Алексей, услышав это, тотчас же замолчал. Насторожился, замкнулся. Больше разговоров об этом Алекс не поднимал.
До войны Сазонов жил как будто в городе Горьком, или же неподалеку от Горького. Как будто учился там — это Кулисевичу не запомнилось. А вот то, что Сазонов пел в молодежном хоре, это запомнилось.
Запомнилось также, что мать Алексея была родом из Белоруссии. И, что там, в Белоруссии, в деревне — названия деревни он не сказал, оставалась бабушка. В дошкольном детстве своем Алексей подолгу жил у нее.
Он рассказывал, что бабушка любила петь, знала множество песен: белорусских, украинских и часто пела их маленькому Алеше, чем приохотила его к песне.
Еще рассказывал Алексеи, что у бабушки перед домом росла какая-то необычная сирень — очень крупная, с тяжелыми лиловыми гроздьями. А рассказывая, повторял иногда, что ничего этого уже не осталось, наверное: ни сирени, ни дома. Что деревню немцы скорее всего сожгли, видно, довелось ему повидать немало этих сожженных деревень.
Кулисевича познакомил с Алексеем Сазоновым чех Ян Водичка. В лагере был он мастером «Шухфабрик» — обувной фабрики, где работал в то время Кулисевич, а в «цивили» — так называли они долагерную жизнь, заметным деятелем коммунистического движения, депутатом парламента от коммунистической партии Чехословакии. Впрочем, и в лагере был товарищ Водичка не только мастером. «Был он грандиозным, — так говорит Алекс, — организатором продовольственной помощи погибавшим от голода советским военнопленным». И был еще одним из сохранителей лагерной песни, лагерной поэзии, причем эта обязанность была никак не менее опасной, чем первая.
Ян показал Кулисевичу Сазонова, сказав при этом:
— Оба вы — Алексы. Оба — молоды, ты немногим старше его. Оба любите петь. Твои песни, Алекс, знают в лагере. Его песен никто не знает. Но есть у него перед тобой одно преимущество: ты поешь и при этом веришь, что выйдешь отсюда. А этот русский знает, что ему отсюда не выйти. Что смерть ему лишь отсрочена. Знает. И все-таки поет…
Вот так они познакомились. И многое, о чем рассказано ранее, началось для Алекса с этой встречи — точнее, с песен Алексея Сазонова.
Ничего мы толком не знаем о военной судьбе Алексея. С Кулисевичем он об этом не разговаривал. Вопросы все отводил. Так что можем только предполагать… Осень 41-го года. Из различных «шталагов», «офлагов», «дурхлагов» идут в Заксенхаузен зловещие транспорта. В них наши, захваченные врагом солдаты.
В Заксенхаузене команда шрейберов — писарей-узников регистрирует прибывших.
Среди шрейберов узник Эмиль Бюге, немец-антифашист, сражавшийся в интернациональной бригаде в Испании.
Шрейберы оформляют списки прибывших (живыми ли, мертвыми, все равно). Списки эти совершенно секретны, как секретно то, что ожидает прибывших.
Списки составляются под пристальным наблюдением облеченных доверьем эсэсовцев. В пяти экземплярах: оригинал и четыре копии. И по мере готовности отбираются у писарей. Листы бумаги для списков выдаются писарям по строгому счету, чтоб никто не мог утаить и использовать.
Эмилю Бюге, однако, удается «утаить и использовать». В прошлом художник-оформитель, рекламист какой-то торговой фирмы, он на крохотных листочках то ли папиросной бумаги, то ли кальки специальным пером и тушью, бисерным почерком дублирует эти записи. А потом обклеивает ими внутри четыре свои футляра для очков и один за другим передает за ворота лагеря.
В официальные списки Бюге заносит дату прибытия и отправления и пункт отправления транспорта. Количество прибывших. И перечисляет их поименно. А в собственных записях, повторяя все это, отмечает из каждого списка лишь две фамилии, первую и последнюю — больше не удается. Хочет оставить эти ориентиры. Может быть, в этих списках, только не первым и не последним, значился и Сазонов?
Об Эмиле Бюге и о его записях нам известно из письма немецких товарищей. Это письмо было получено Советским комитетом ветеранов войны от Антифашистского комитета ГДР в 1964 году. Письмо и приложенные к нему страницы из записей Эмиля Бюге, на которых рассказывалось о судьбах советских граждан — узников Заксенхаузена.
В письме было сказано, что эти материалы попали в Комитет лишь недавно, много лет спустя после смерти Эмиля Бюге, который по освобождении жил в Федеративной республике Германии.
Транспорты прибывают в Заксенхаузен. Шрейбер Эмиль Бюге регистрирует прибывших.
«Пусть бы эта страшная драма прошла перед глазами всех!» — так восклицает он в своих записях.
«…Вечером в закрытой машине стали вывозить группы прибывших на «индустриенхоф» — производственный двор — для уничтожения. Чтобы обреченные не догадались, зачем их туда вывозят, эсэсовцы включили по радио музыку так громко, что мы — узники, находящиеся в блоках поблизости от «производственного двора», не могли слышать выстрелов.
К полуночи все русские, прибывшие этим транспортом, были убиты. Сразу же после этого запылали четыре крематория, в которых стали сжигать трупы. Крематории стояли спрятанными неподалеку, за колючей проволокой, и хотя их почти не было видно, но часто вздымающееся к небу из коротких труб пламя дало возможность всем понять, что там происходит. Пронизывающий запах гари преследовал нас неделями и месяцами, в особенности когда ветер дул в сторону лагеря, неся этот запах на бараки…»
Такою была судьба первого прибывшего в Заксенхаузен транспорта. Такими же были судьбы последующих.
Есть основания предполагать, что Алексей Сазонов был привезен в Заксенхаузен не ранее второй Половины октября 1941-го года. Потому что транспорты, прибывшие в Заксенхаузен до этого времени, уничтожались полностью: сразу же или вскоре после прибытия.
По данным, фигурировавшим на Нюрнбергском процессе, за осенние месяцы 1941 года в Заксенхаузене было уничтожено 18 000 наших, советских граждан.
В записях Эмиля Бюге есть заметка о том, что во второй половине октября маленькая вывеска над входом в «Изолиерунглагер» — бараки, где ожидали своей очереди на уничтожение привезенные в лагерь русские, была заменена огромным щитом с надписью: «Рабочая команда военнопленных». И с этого времени уничтожение советских граждан происходило не столь массово, не столь явно, не столь поспешно.
«…Смерть ему лишь отсрочена», — говорит об Алексее Сазонове Ян Водичка.
Как вспоминается Кулисевичу, Алексей Сазонов и сам отлично понимал это. Он не верил, что его и прибывших с ним оставят в живых, если тысячи до них были уничтожены.
— Они устали от этой «работы», — говорил он Алексу, имея в виду лагерных палачей. — И решили дать себе передышку.
Предчувствие неизбежности смерти не покидало его.
Алексей Сазонов работал в транспортной команде — «абладерколонне», прикрепленной к обувной фабрике. «Абладерколонна» погружала, перевозила на фабрику, сгружала спиленные деревья, из которых делали деревянные лагерные башмаки для узников. Перевозила обувь, оставшуюся после убитых в Заксенхаузене. И доставленную в Заксенхаузен обувь убитых из других лагерей.
Как грузчик, Алексей имел доступ на склад «Шухфабрик». Кулисевич же принимал на складе привезенный товар. Так что некоторая возможность общаться у них была. А несколько позже Ян Водичка, использовав свои лагерные связи, устроил так, что Алексея перевели на работу «под крышу» — в один из отделов фабрики.
Среднего роста, щуплый, загорелый, светловолосый видимо, хоть голова и была обрита, таким запомнил Кулисевич Сазонова. Алексей был не очень-то разговорчив. Тщательно обдумывал то, что говорил. Жил в нем упорный интерес к технике. Но при этом интересовался он также и геологией. И химией. И историей. Особенно историей славян.
Был музыкален, обладал удивительной музыкальной памятью. Ненавидел трусость и трусов. А наибольшей мечтой его было увидеть советские самолеты с красными звездами днем над Заксенхаузеном.
Опытный «хефтлинг» — заключенный, Алекс учил Сазонова, как забывать о мучившем их постоянно чувстве голода. Как беречь силы, делая вид, что работаешь. «Иметь уши вверх, как заяц на меже», — повторял Алекс. Эта поговорка нравилась Алексею.
— Ты послушай, какую славную песню написал этот русский, — говорил Алексу Ян Водичка.
Ночь. Складское помещение «Шухфабрик». Алекс и Алексей пристроились за мешками с обрезками кожи, за грудой наваленной старой обуви. Алексей поет свою «вокализу». Алекс так называет песню Алексея, наверное, потому, что в ней повторяется, преобладает одно непонятное ему слово: «шарлатюга».
Алексу незнакомо это слово. Смысл его непонятен. Но то, что хочет выразить им Алексей — понятно. Каждый раз «шарлатюга» звучит у него по-иному: грустно, жалостно, гневно, отчаянно…
«Шарла-тюга-а-а-а, я шарла-тю-га-а-а», — поет Алексей. Голос у него свежий, сильный. Он намеренно долго тянет это «а-а-а».
— Зачем ты так затягиваешь последний фрагмент, — спрашивает его Алекс.
Алексей не отвечает. Сидит с закрытыми глазами, откинувшись и откинув голову. Алекс не повторяет вопроса. Алекс думает: может быть, Алексею пригрезилось, будто он на свободе. Вернулся. И солирует в том молодежном хоре, о котором рассказывал ему? Алекс боится спугнуть его настроение.
— Почему затягиваю? — откликается Алексей, откликается, когда Алекс уже не ждет ответа. И медленно, затрудненно объясняет ему: — Понимаешь, Алеша, — так зовет он Алекса, — знаю, что в последнюю минуту свою буду думать о матери. А когда пою, то как будто вижу ее перед собой. И хочу задержать подольше… — И неожиданно оборвав себя, продолжает лихо, с вызовом:
Мать моя Россия, А я русский фауль…— Фауль на лагерном языке означало не просто лентяй, — поясняет Алекс. — Саботажник, путь которому лишь на виселицу… — И добавляет, помедлив: — В лагерной песне каждое слово имеет свой подтекст и свою историю.
— Шарла-тюга-а-а-а, я шарла-тюга-а-а-а, — ведет свой припев Алексей. Он словно бы щеголяет, бравирует этим своим настойчивым «а-а-а»… И неожиданно спрашивает: — Алеша, ты чувствуешь, какие у меня сильные легкие! Какой я еще здоровый, сильный — так неужели они заставят все-таки меня подыхать?! — Видимо, сама мысль о неизбежности смерти, физического уничтожения, кажется ему сейчас невозможной, невероятной.
— Ухватила меня за сердце эта песня, это непонятное слово «шарлатюга», да и сам он, совсем мальчишка еще, который и перед лицом смерти оставался таким, как был, ничего не утратив, — говорит Кулисевич.
А он, Алексей, хотел, он мечтал написать любовную песню. Никого, наверное, еще не любил. Знал, что уже никого не поцелует, и хоть в песне хотел пережить то, чего ему не досталось в жизни.
Он просил Алекса напеть ему подходящую мелодию так, чтобы к этой мелодии Алексей подобрал свои слова.
Она рождалась ночами, эта песня. Алекс работал на фабрике, днем. Алексей же, которого перевели на работу «под крышу» — ночью. Но Ян Водичка, близко к сердцу принявший судьбу Алексея, зная, что ничем другим не сможет ему помочь, вызывал иногда Алекса на работу ночью, чтобы дать им возможность встретиться.
Ночами эсэсманов не было в лагере. Алекс и Алексей пристраивались где-нибудь в уголке, за кучей старой обуви. Алекс напевал мелодию, Алексей подбирал слова. Песню Алексей хотел посвятить девушке по имени Соня. Однажды Алекс забеспокоился:
— Алексей, послушай, кажется, я напеваю тебе немецкую мелодию! — и попытался вспомнить слова: «О Софие, дейне шварце хаар…»
Алексей отмахнулся, увлеченный своим:
— А, мне это все равно! Мелодия, музыка, это как любовь: принадлежит всему миру… — Он был романтиком, этот веснушчатый парень.
Песня получилась не очень-то любовной. Помимо желания, против воли действительность врывалась в нее.
Темно и глухо, куда ни кинешь взгляд, Куда ни глянешь — воет проволока и воет ветер, Призрак концлагеря дышит тяжко во сне… Впустую кричат мои слова. Никто меня не услышит, Может быть, ты одна, Соня! Соня, услышь мою тоску, Утишь мою кровоточащую боль…Разве это была любовная песня? Жалоба! Исповедь — так воспринимал ее Алекс. А песня разворачивалась от ночи к ночи:
Где ты есть и что с тобою сталось… Сожжен наш дом и черная цветет сирень, Помнишь, как глаза твои меня молили: Поцелуй меня, пока ты жив…Что-то очень наивное почудилось Алексу в этих словах, в интонации последней фразы.
— Да знал ты хоть одну Соню, скажи? — спросил он у Алексея.
— Ну, какое это имеет значенье! — глуховато ответил тот. И признался: — Алеша, знаешь это, как наваждение, ночами мне кажется иногда, я слышу, как трещат в огне кости моих убитых товарищей, Алеша, мне хочется, чтобы эта песня была и о них…
Нет, любовная песня явно не получалась!
Слова Алексей напевал по-русски, но, опасаясь, что Алексу понятно не все, а поэтому может он не запомнить, повторял ему: «Алеша! Не позабудь». И Алекс сразу же переводил для себя все на польский, чтобы легче было запомнить. Мне же приходится теперь снова переводить на русский этот текст. Поэтому слышится в нем шероховатость.
И вот последняя ночь. Только ни Алекс, ни Алексей не знали тогда еще, что эта их встреча окажется последней.
В ту ночь Водичка снова вызвал Алекса на работу, чтобы дать им возможность встретиться. И Алексей напевал Алексу строфы из новой песни. Напевал на какую-то украинскую мелодию, которую помнил с детства:
«Жаль, жаль моя плывет… — пел Алексей, видно из глубин его памяти выплыло это украинское слово «жаль» — синоним тоски. — Огонь черный ожидает меня…»
— Я слушал и мне становилось страшно, — говорит Алекс. — Знал, что ничем не могу помочь ему — только запомнить — только запомнить! Ему так хотелось оставить по себе песню.
Он попросил Алексея петь помедленнее. Алексей пел медленно, так, что Алексу удалось запомнить его манеру. Его вокальную технику. И его самого. Он сидел на куче старой обуви, на сапогах, которые были содраны перед смертью с ног его погибших товарищей. Густой, непереносимый запах пота и крови поднимался от этих сапог.
Фабрика находилась недалеко от производственного двора — «промысловой площади», на которой расстреливали и сжигали потом узников. Дым от сгорающих тел проникал в бараки фабрики. В ту ночь он был особенно тяжелым и едким. Алекс ощущал это. Знал, что и Алексей ощущает.
Поначалу Алексей пел, словно жалуясь:
Жаль, жаль моя плывет, Боль страшная…Строки песни рождались тут же, Алекс понимал это.
Огонь черный ожидает меня…Алексей вдруг поднялся, неожиданно, резко, словно было ему больше невмоготу сидеть:
Дым, дым плюгавый душит нас…До этой строки он пел, как будто забывшись, думая лишь о том, что ожидает его. А тут словно осознал, от чьей руки погибает:
Дым, дым пусть задушит вас, фашистские псы…«Не знаю, но в ту минуту мне показалось, — говорит Алекс, — что я должен снять с него эту тяжесть неотомщенности. Переключить, возвратить мыслями к тому, что было единственным его утешеньем в эти дни. Думалось: так ему будет легче. Я знал, у нас мало времени. И все-таки сказал: «Алексей! А где же у тебя та великая любовь ко всем мелодиям мира, о которой ты говорил? Ты ведь сам говорил, что музыка — это как любовь. А поешь — ненависть».
— Алеша! Не осуждай. Ты — не знаешь. — Больше он не сказал ничего.
Потом Алексей пел еще, пел медленно, повторяя строфы… Но был он не таким, как всегда, что-то угнетало его, Алекс заметил это. Когда пришло время расходиться, Алекс спросил его, какое названье он даст песне.
— Названье? — переспросил Алексей, видимо, не очень-то понимая, о чем тот спрашивает.
— Как хочешь назвать песню? — повторил Алекс.
— Как назвать? — Алексей ответил не сразу. — Может быть… Гекатомба. — И, потрясенный точно найденным словом, воскликнул: — Алеша! Но это ведь действительно гекатомба! Гекатомба-41. — Видимо, он имел в виду не песню, не только песню, но в ту минуту Алекс не понял этого.
— Тогда я не знал, что это такое — гекатомба, — говорит Алекс. — И трагический смысл этого не дошел тогда до меня. Я подумал даже, что ге-ка-том-ба, это может быть названием воинской части, где он служил. Но об этом Алексей не вспоминал никогда. И я не посмел у него спросить…
На следующий день, точнее, на следующую ночь из работавших русских не появилось на фабрике несколько человек. Не появился и Алексей Сазонов. Попытки Яна Водички узнать что-нибудь о нем ничего не дали. Общеизвестно было, что русские, которых забирали внезапно из рабочих бригад, исчезали бесследно и уже навсегда.
Но Алексу удалось получить весточку от Алексея. Станислав Келлес — Крауз, польский узник, выполнявший в лагере функции врача и «опекавший», как говорит Алекс, русских, то есть пытавшийся оказывать им какую-то помощь, с величайшими предосторожностями передал ему последний фрагмент «Гекатомбы» — написанный Сазоновым на рыжем клочке бумаги, оторванном от мешка с цементом.
И Алекс решил любою ценой увидеть последний раз Алексея. Доступ в бараки, где размещались русские, был строго-настрого воспрещен. Выбрав время, Алекс подполз под колючую проволоку, окружавшую эти бараки. Он не знал: удастся ли ему отыскать Алексея среди сотен других. Но ему посчастливилось. Он увидел его почти сразу. Алексей сидел на земле перед бараком — слабый, по-видимому избитый, среди нескольких узников, находившихся в таком же состоянии, как он.
Алекс тихонько позвал его: «Сазонов! Это я — Алекс, поляк». Алексей услышал. И видно, узнал его: повернул голову в его сторону. Но в этот момент капо — «профессиональный бандит с зеленым треугольником на лагерной блузе», так говорит Алекс, ударил Сазонова ногой.
Видимо, он приказал Алексею подняться и следовать за ним. Но подняться Алексей не мог. И тот, ухватив Сазонова за одежду, поволок куда-то.
— Я часто и сейчас вижу перед собой окровавленные пальцы Сазонова, непроизвольно цепляющиеся за все, что, казалось, могло бы удержать его на этой земле, — говорит Алекс. — Слышу вскрик его: «Алеша! Не позабудь!..»
Так родилась «Гекатомба-41», последняя, предсмертная песня Алексея Сазонова.
Кулисевич перевел ее на польский язык. И часто пел в блоках. И многие в лагере, узнав историю этой песни, стали приходить к нему: «Найдешь для меня местечко в своем архиве?!»
Норвежцы и чехи — узники, перевели на свои языки «Гекатомбу-41» еще в Заксенхаузене. А после войны она была издана впервые немецкой Академией искусств в ГДР.
Так песни Сазонова вырвались за стены Заксенхаузена. В исполнении Алекса Кулисевича они звучали в самых различных концертных залах Европы, на многих фестивалях. Передавались радиостанциями: Мехико-Сити, Лондона, Эдинбурга, Рима, Токио, Брюсселя, Берлина, Москвы, Киева, Свердловска…
«Песни расстрелянного русского солдата» — напоминая о трагической гибели их создателя, они тревожили, они будоражили память, вызывая сложную гамму чувств, особенно в сердцах молодых — тех, чьим ровесником остался Сазонов. Остался поныне и навсегда.
«Те песни, которые вы поете, никогда не смогут уйти в непамять. Слишком многое произошло с человечеством, чтобы все это «отложить на полку» — по давности».
«Служу сейчас в армии, которая поставила перед собой цель уничтожить любую индивидуальность и воспитать в каждом из нас стремление к групповому убийству… Единственная надежда, что так же, как я, мыслят тысячи других…»
«Обвиняйте дым, Он заслонил звезды, Как видимый знак насилия… Здесь вы должны петь, Там осталось только молчание…»Все это строки из писем, полученных Кулисевичем от его молодых слушателей из разных стран.
А вот строки из последнего письма самого Кулисевича. Ими я и закончу этот рассказ:
«…В феврале минувшего (1972) года песни Сазонова впервые услышала молодежь ГДР. Я пел их… в числе других на Третьем международном фестивале политической песни.
По дороге в Берлин мне стало плохо (сердце, потерял сознание), меня забрала «Скорая помощь». Врач абсолютно не советовал выступать. Но я настоял на своем, передохнул несколько часов и сел в другой поезд…
Когда я пел, то все время думал о том, что когда-то в нескольких километрах отсюда, от центра Берлина, умирал Алексей Сазонов. И я не хотел показать даже след усталости перед этой молодежью, хотя бы пришлось упасть на эстраду и больше не встать…
Когда закончилась последняя песня, весь зал поднялся в молчании на много более долгом, чем минута…»
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
В Польше эсэсовцев называли «эсэсманами».
(обратно)2
Перевод с польского здесь и далее — автора.
(обратно)3
Специальный детский приют, находившийся в ведении СС.
(обратно)4
Признать свою принадлежность к немецкой национальности.
(обратно)5
Цит. по кн.: В. Яжджинский. Репортаж з пустего поля.
(обратно)6
Массовое, бессмысленное уничтожение людей (см. словарь Ожегова).
(обратно)
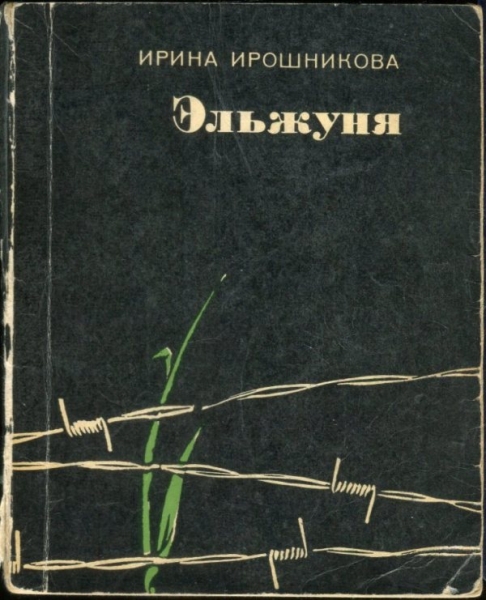



Комментарии к книге «Эльжуня», Ирина Ивановна Ирошникова
Всего 0 комментариев