Альберт Бехтольд Петр Иванович
© Е. Холодова-Руденко, перевод, 2017
© С. Саржевский, перевод, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
Предисловие переводчиков
Роман Альберта Бехтольда «Петр Иванович» ждал своего издания на русском языке 67 лет: он впервые вышел в оригинале в Шафхаузене (Швейцария), в родном кантоне писателя, в 1950 году. Но автобиографическое повествование относится к событиям столетней давности: на это указывает подзаголовок романа – «Годы русской революции». Тут следует заметить, что все творчество Бехтольда, а это дюжина романов, является своего рода развернутой автобиографией. Однако автор предпочитает скрываться под маской своего alter ego – Петера Ребмана. Таким образом, сам Бехтольд как будто выступает не сочинителем романизированной автобиографии, а биографом своего героя, в самом имени которого заложена отсылка к малой родине писателя – к винодельческому селу Вильхинген, что в кантоне Шафхаузен. Слово «ребе» на местном наречии означает виноградную лозу. Ребман, человек лозы, будучи, как и сам Бехтольд, неутомимым путешественником-космополитом, вместе с тем несет на себе печать укорененности в деревенском мирке; и, будучи полиглотом, одновременно является верным носителем родного говора.
Видный швейцарский литературовед профессор Адольф Мушг так отзывался о Бехтольде-писателе: «Он был современником Уильяма Фолкнера и Жана Жионо, чьи романы ассоциируются с определенными ландшафтами – американским Югом и Провансом соответственно. Бехтольд-рассказчик предлагает вам напиться чистой воды из родных ему источников. Он пишет на своем шафхаузенском, а точнее сказать, вильхингенском диалекте. В итоге, несмотря на то, что вышло в свет многотомное собрание его сочинений, мировому читателю творчество Альберта Бехтольда остается недоступным»[1]. Исследователь считает, что Бехтольд, как и все пишущие на так называемых «малых» языках, вынужден выступать полиглотом и послом поликультурности. Обстоятельства жизни писателя сформировали его как гражданина мира, воспевшего вселенную на местном диалекте: «Мундарт, вместо того, чтобы быть языком, обреченным на литературное забвение, представляется образом жизни, обучающим искусству бережной экологической передачи явлений духовной реальности во времени»[2].
Здесь речь идет о диалекте швейцарского немецкого, который, тем не менее, стараниями местных писателей сделался литературным языком. Произведения, созданные на нем, с публикацией этого перевода, насколько нам известно, впервые становятся доступными русскоязычному читателю.
Во всех своих романах Альберт Бехтольд рассказывает о себе, а точнее, наблюдает себя. Это делает личную историю почти интимной. Но «Петр Иванович» описывает тот период жизни, в который он становится очевидцем действительно грандиозных исторических событий, «дней, которые потрясли мир». Мы имеем дело с парадоксом – глубоко личным и, именно поэтому, глубоко достоверным и беспристрастным свидетельством.
Ребман-Бехтольд по обыкновению наблюдает за собой, но вынужден делать это в исключительных обстоятельствах: на фоне небывалых общественных потрясений, вызванных Февральской революцией и Октябрьским переворотом 1917 года.
Следует отметить, что за пять лет своего пребывания в Российской империи Ребман успел полюбить «свою Россию». Поначалу он искренне пытается понять и оправдать ту новую страну, которая рождается на его глазах. Но как швейцарец, а, следовательно, убежденный сторонник демократии и личных свобод, эволюции в противовес революции, он не может принять происходящее. При этом он неизбежно разделяет убеждения и судьбу определенных слоев российского общества, принесенных в жертву «новым идеям», а поэтому лишенных права исторического голоса. С другой стороны, он постоянно ощущает, что никогда не станет частью приютившего его общества, хотя и усвоил его привычки и мнения. Сторонний наблюдатель по натуре, он и здесь остается верным себе, представляя на наш суд свой особый подробный отчет о том, чему стал непосредственным свидетелем.
Работая над переводом, мы имели возможность убедиться, что Бехтольд предельно точен и аккуратен в своем описании мест, событий, людей, их речи, мельчайших деталей быта. Приехав в Россию, он стал членом швейцарской общины, о жизни и деятельности которой широкому кругу читателей мало известно отчасти еще и потому, что немецкоязычных швейцарцев обычно отождествляли с немцами. Между тем, швейцарские колонисты занимали в российском обществе свое особое место. Их история еще ждет своего исследователя. Роман «Петр Иванович» может послужить отправной точкой для таких изысканий.
Бехтольд не просто пишет на диалекте – он передает на письме звучание устной речи, мощно используя ее разговорный, сказовый лад. Ближайшие аналогии такому дискурсу можно отыскать в подлинных фольклорных записях. В русской литературе этот стиль находим в сказах Бажова. Именно таким языком пользуется Швейк в своих «нелепых» рассказах «из народной жизни». В оригинале роман звучит, скорее, как пересказ романа, услышанный где-нибудь в швейцарской придорожной кнайпе в компании случайных попутчиков.
Однако действие романа «Петр Иванович» разворачивается в полном соответствии с классическими законами этого жанра. К тому же, в нем описывается культурная среда с присущими ей особенностями речи, соответствующими тогдашним представлениям о языковой норме. Именно таким языком пользовался и сам Альберт Бехтольд, именно ему пытался подражать, его звучание пытался передать уже швейцарскому читателю в своеобразной транскрипции. Поэтому, выбирая стиль перевода, переводчики искали образцы в русской литературе того времени, у писателей, которых Ребман-Бехтольд, по его собственному признанию, читал в молодости и перечитывал до конца жизни. Тем не менее, мы, по возможности, старались сохранить все яркие особенности неповторимого бехтольдовского стиля.
Роман «Петр Иванович» всегда был самым известным и любимым произведением писателя. В связи со столетней годовщиной начала Первой мировой войны интерес к этой книге вспыхнул с новой силой. В 2015 году по мотивам романа Кристиной Рудольф был снят художественно-документальный фильм «В Киеве говорят на мундарте». К столетию русской революции Фонд Альберта Бехтольда принял решение осуществить издание романа на русском языке. Все участники этого проекта от души надеются, что таким образом осуществится всегдашняя мечта писателя снова вернуться в Россию.
Елена Холодова-Руденко Сергей СаржевскийПо следам Альберта Бехтольда
Уже более ста лет прошло с тех пор, как двадцатидвухлетний Альберт Бехтольд весной 1913 года выехал из швейцарского Шафхаузена в Киев, чтобы занять должность домашнего учителя в дворянском поместье, расположенном в Малинском уезде Киевской губернии. В огромной Российской империи царь еще обладал неограниченной властью, однако на политическом горизонте уже угадывались контуры Первой мировой войны. Ко времени объявления войны в августе 1914 года Альберт Бехтольд уже служил в богатой купеческой семье в Брянске, с которой как раз находился на летнем отдыхе в Крыму, в Алупке. В 1915 году он оставил и это место, и отправился в Москву. Там он нашел приют в семье швейцарского пастора, получив место органиста в тамошней реформатской церкви. Вскоре он сменил и эту профессию, освоив азы коммерции в международной торговой компании.
Между тем вера в скорое окончание войны развеялась, а экономическое положение постоянно ухудшалось. В 1916 были спровоцированы погромы немецких торговых предприятий, приведшие к значительным убыткам и разрушениям. Весной 1917 император Николай II отрекся от престола. В результате Февральской революции к власти пришло Временное правительство под председательством А. Керенского. После прибытия Ленина в Петроград и последовавшего за этим Октябрьского переворота 1917 года власть в Москве захватили большевики, свое господство они утверждали наводящими ужас методами пресловутого «красного террора». Альберт Бехтольд прекратил свою легальную коммерческую деятельность и вынужден был перебиваться перепродажей табачных изделий на черном рынке. Арест с последующим допросом в ЧК убедил Бехтольда в том, что в стране ему больше нет места. И когда Ленин в качестве благодарности Швейцарии за оказанное ему в свое время гостеприимство позволил всем швейцарцам, желающим вернуться на родину, сформировать эшелоны и беспрепятственно покинуть Советскую Россию, Альберт Бехтольд тоже оказался в числе пассажиров. Осенью 1918 в Базеле он вновь ступил на швейцарскую землю.
Проведя первую половину своей сознательной жизни в беспрестанных путешествиях, Альберт Бехтольд после 1935 года посвящает себя литературной деятельности и становится известным автором, пишущим на вильхингенском диалекте. Темой произведений писателя становится его собственная биография. Он автор более двенадцати автобиографических романов.
В 1950 году вышел в свет двухтомный роман под русским названием «Петр Иванович», повествующий о годах, прожитых в России во время революционных потрясений. В этой книге очень мало вымышленного, зато все описания очень точны и подробны, так что, когда мы с женой в 2004 году предприняли исследовательскую поездку по следам А. Бехтольда в Украину и Россию, его роман послужил нам очень надежным путеводителем.
Меня лично особенно тронул момент, когда я смог сесть за орган на ту самую скамью органиста, на которой за 90 лет до этого сидел молодой Альберт Бехтольд. Протестантская церковь в Трехсвятительском переулке в Москве действует до сих пор: теперь она принадлежит баптистской общине.
Мне не было еще и двадцати лет, когда я впервые взял в руки книгу, написанную Альбертом Бехтольдом. Она говорила со мной на родном языке, рассказывала о моих родных местах, знакомых мне людях. Потом мне посчастливилось познакомиться и с самим автором, и даже стать его другом. Со временем я и сам попробовал свои силы на литературном поприще, тоже стал писать на вильхингенском диалекте. После смерти А. Бехтольда я решил послужить делу сохранения и популяризации его наследия.
Когда-то роман «Петр Иванович» открыл мне Россию, теперь я счастлив от того, что русский читатель сможет открыть для себя замечательного швейцарского автора, некогда жившего в России и навсегда полюбившего ее.
Ханс РитцманнПисатель, председатель Фонда Альберта Бехтольда(Вильхинген, Швейцария)Книга I
Глава 1
– Что это с ним, неужели заболел? У него щеки раздулись, как у кавалерийского трубача!
– А выражение лица, словно у запертого в клетке льва, и на нас вообще не обращает внимания, чем мы тут заняты, не говорит «запишите» и никого не вызывает к доске.
– Да, – говорит одна из девочек, – и зачем он все время достает голубое письмо и делает во-о-от такие глаза?
– И после школы сразу бежит домой, запирает двери, садится за стол и снова перечитывает все то же письмо! Марта Хафнер видела собственными глазами, ведь она может из своего дома заглянуть прямо к нему в комнату.
– С чего бы? – закрывая ладонью рот, отозвалась Фридли, старшая в классе, которая из себя все время взрослую строит. – Потому что он влюбился, вот почему! Все влюбленные таковы. Мы-то уж точно знаем: взять хоть нашу Луизу, ее можно унести на Луну, а она и не заметит. Это наверняка письмо от милой, и бумага – такая голубая… Смотрите, вот он опять его достает!
И точно, молодой учитель сел за письменный стол, достал голубое письмо и, как и говорила Фридли своей соседке, принялся читать с во-о-от такими глазами.
На самом деле письмо – деловое, от директора учительской семинарии города Шафхаузена, что на Рейне[3]. Оно ожидало господина младшего учителя в прошлый понедельник, когда тот в одиннадцать часов вышел из школы и заглянул в свой почтовый ящик. И вот уже три дня кряду это письмо не дает ему покоя. Теперь только это злополучное послание целиком занимает все его мысли, так что бедняга даже не может толком вести урок. Он не в силах оторвать от заветного голубого листка ни глаз, ни пальцев: раскроет, перечтет, отложит вновь. Ожившие строчки, написанные знакомым убористым почерком, преследуют его и днем, и ночью, внезапно возникают и тут же принимаются прыгать и плясать перед глазами:
«Дорогой господин Ребман!
Во время моего визита к Вам в Ранденталь Вы дали понять, что не рассматриваете свое нынешнее место работы как постоянное и все еще думаете о продолжении учебы. И вот я хотел бы предложить Вам возможность расширить свой профессиональный кругозор и познакомиться с иными формами педагогической деятельности.
Речь идет о месте гувернера в дворянской семье за границей, на которое Вы могли бы претендовать.
Надеюсь, Вы не откажетесь нанести мне визит для обсуждения этого вопроса в ближайший свободный от уроков день.
С дружеским приветом,
Ваш Альфред Ной».
Вот что может натворить простое письмо! Несколько граммов бумаги, капля чернил, десятикопеечная марка с сургучным штемпелем – и вот вам революция!
Воспитатель в дворянской семье! Такого шанса наверняка не выпадало еще ни одному школьному учителю из Ранденталя! И надо же было судьбе поставить ставку именно на него, Ребмана, которого товарищи по гимназии так кстати прозвали Скакуном. Некогда на испытаниях он был на волосок от провала, а теперь вдруг взял да и выиграл главный приз!
– Да пишите же дальше, это вас никак не касается!
Наконец-то он вспомнил об учениках.
Ребман снова читает письмо. Бормочет:
– Мог бы и прямо указать, где и у кого. С этими учеными мужами всегда одна и та же история: непременно забудут о самом главном.
Он вдруг подумал, что всегда внутренне противился перспективе стать школьным учителем. Еще в те времена, когда приснопамятный дядюшка Фогт после долгой борьбы наконец сказал «да», дескать, он, как опекун, согласен на обучение Петера, но только при условии, если тот впоследствии станет учителем. Тогда Ребман еще утешал себя: мол, до этого еще далеко. До последней минуты, уже после экзаменов, он все надеялся, что случится чудо и ему не придется определяться на место учителя начальных классов. Но пробил час, когда уже некуда было деваться, ибо начальник общежития однажды объявил:
– Вам теперь надо поторапливаться, господин Ребман, с вечера следующего воскресенья ваша комната отдана другому!
Только после этого он соблаговолил пошевелиться и подал заявление в надежде, что его не выберут. Но тут действительно случилось чудо: по рекомендации учителя химии студента Ребмана все-таки утвердили на должность младшего учителя начальной школы в Рандентале.
Когда он накануне первого дня учебы вечером прибыл на место службы со своим бельевым ящичком под мышкой, к нему на деревенской околице обратился старый крестьянин со словами:
– Кажется, вы новый учитель? Добро пожаловать!
– Вы угадали, – отвечал Ребман.
Старик признался:
– Сначала я хотел голосовать против, когда услыхал, что вы только что из семинарии. Молодым господам не очень-то нравится надолго задерживаться среди нас, мужиков, они уже подпоясываются в дорогу, даже толком не обжившись в селе. В лучшем случае они остаются до тех пор, пока не заработают на новый костюм. Хочется надеяться, что вы будете достойны этой чести – вас ведь выбрали единогласно – и не убежите отсюда сразу же, как только минут два испытательных года.
На это Ребман пожал ему руку: он не из тех, кто бросает других на произвол судьбы!
И вот теперь он, учитель, утвержденный на полную ставку всего четырнадцать дней назад более чем ста голосами «за» и только парой «против», бежит, несмотря на то, что после выборов объявил во всеуслышание, что не уедет и, какое бы теплое место ему ни пообещали, не соблазнится.
В четверг, сразу пополудни, учитель Ребман отправляется в Шафхаузен, вспоминая, как он впервые спустился в эту долину со своим бельевым ящичком под мышкой. Тогда он еще подумал, что из этого ничего не выйдет. Он вообразил, что находится на самом краю земли. И когда наконец показались два ряда домов, зажатых в груде крыш, и совсем крошечные лоскутки неба над ними, ему послышался насмешливый голос Майора: ах, бедняга сосед, ну и бедняга!
С тех пор он уже столько раз проделывал этот путь в город и обратно, что мог бы пройти его с закрытыми глазами. Во всякую погоду и в любом настроении ходил туда и обратно, но никогда еще не бывало ему так радостно. Всю дорогу он поет. Подскакивает на ходу, как силач Готфрид из Кирхдорфа-Вильхингена[4], когда тот бежал, боясь опоздать к началу праздничной службы. Запрыгивает на забор и тут же соскакивает на землю. Идущий по дороге служивый кричит ему вслед:
– Можно подумать, что вы вытащили счастливый билет, господин учитель!
В пути он пытается вообразить себе то, что же его ожидает, а уж в этом деле он мастер.
Место у индийского махараджи!
У английского лорда!
В семье испанского герцога!
О чем-то поскромнее не может быть и речи.
И это место, конечно же, только трамплин. В качестве друга благородных господ он будет представлен ко двору, так сказать, станет для всех открытием. Получит должности и почести. Сделается министром, правой рукой самого суверена! И когда он в зените славы снова вернется на родину, всякий ему будет кланяться до земли. Разумеется, о его заслугах будут писать все газеты, везде станут трубить о его триумфальном восхождении по ступеням карьерной лестницы, внушая священный трепет обывателю: «Пророк вернулся в свое отечество, нашу страну всегда покидают лучшие силы, а мы каждый раз наступаем на те же грабли!»
Ребман пробирается сквозь заросли и выходит на торную дорогу пыльной окраины.
Теперь ему уже не придется в холод и непогоду ходить пешком. И быть запертым в тесной классной комнате с полусотней учеников. Еще ребенком он боялся: только бы его не заперли где-нибудь в тесном садике переполненного интерната для бедных, где на прогулке тебе все время кто-нибудь наступает на пятки. «Как же хорошо птицам, – думал он тогда, – вот бы и мне отрастить крылья и улететь восвояси: «Wenn ich ein Vöglein wär…»[5]
Ему не придется больше жить в лачуге, с доской под кроватью, закрывающей дыру в полу, чтоб не упасть и не провалиться в хлев. Ведь он с пятнадцати лет мучился в ожидании жалких ста пятидесяти франков, которые школьный управляющий принесет только в конце месяца. Этой «затычки» едва хватало, чтобы заткнуть хоть одну дыру в бюджете, где уж тут думать о дальнейшей учебе!
Но все же мысль о высшем образовании, об успешной карьере с целью продвижения по общественной лестнице не давала ему покоя. Он повсюду изыскивал средства, составил список возможных благотворителей, написал даже Рокфеллеру. Но он мог хоть волчком вертеться: вечно не хватало какой-нибудь сотни целковых.
В конце концов он даже обратился к дядюшке Тобиасу, богатому холостяку, не соблаговолит ли тот обеспечить бедному племяннику годик-другой учебы в университете. Это был горький опыт. Все родственники знали этого Тобиаса как старого скрягу, который никогда никому не помог, ни гроша не дал. Если кто к нему приходил, он отворял только форточку или рычал сквозь закрытую дверь:
– Меня нету! Нету и все! Вы приходите только за наследством! Иди своей дорогой! Может, и есть, да не про вашу честь!
Ребман его почти не знал, видел лишь однажды, когда маленьким мальчиком с мамой приходил его проведать. «Ты должен быть милым с дядюшкой, – предупреждала мама, – песенку ему спеть, с выражением прочитать стишок. Он, бедный, не может как следует ходить и некому за ним присмотреть». Но малыш Петерли вовсе не был милым. Как только он увидел лысого старика, тощего, как скелет, с голым черепом и горящими колючими глазками, то сразу хотел убежать и закричал во весь голос: «Не буду я с тобой здороваться, не стану петь и читать стихов! Ты вовсе не наш дядюшка, а старый хромой хрыч!»
Любопытно, помнит ли дядюшка об этом? Скорее всего, нет. Он достаточно любезен. Ставит на стол кофе и пирожные. Говорит, что он рад тому, что племянник – да, так и говорит, племянник – оказал ему честь и пришел к нему за советом. Другие, по его словам, приходили, только чтоб друг друга опорочить и оболгать. Он же всегда готов помочь:
– Ты мне всегда нравился, ты был таким шалунишкой!
При этих словах племянничек залился краской, едва удержался, чтобы не кинуться на шею милому дядюшке. Тот тут же протянул вперед руку:
– Рад помочь, но не так, как ты думаешь! Не деньгами или поручительством. Деньги только портят молодых людей. А поручительство обязывает обе стороны. Именно так говорил мне твой дедушка, мой зять, когда я однажды обратился к нему за поручительством, чтоб начать свое дело. «Я бы сослужил тебе плохую службу, – сказал он в тот раз, – если бы за тебя поручился. Ты должен всего добиться своими силами, тогда будешь радоваться и делу, и жизни, а так – не будет тебе радости!» Я долго не мог ему этого забыть. До тех пор, пока сам не понял, насколько он был прав. Я бы никогда не стал тем, кто я есть, если бы не вынужден был добиваться всего в одиночку…
Он смотрит на племянника из-под своих кустистых бровей:
– На кого ты хочешь учиться? Ты ведь уже проучился больше моего, меня в свое время и до реальной школы не допустили. Готфрид Келлер тоже не имел диплома. И Эдисон, и Карнеги. И вообще, не кабинетные ученые двигают мир вперед, это делают другие. Скажи я тебе теперь: ступай, учись, дорогой племянник, где угодно и сколько угодно, я за все в ответе. Разве это любовь? Ведь студенческая жизнь портит молодых людей; они становятся легкомысленными и самонадеянными, забывают, что нужно потрудиться до пота, чтоб заработать себе на хлеб, и отучаются прилагать усилия. Пройди ту школу, которую прошел я, она лучше цюрихских университетов. Будешь меня потом благодарить, что помог тебе добрым советом, а не так, как хотел бы ты. Пусть пока ты и думаешь иначе. Но я лучше знаю жизнь и вижу дальше твоего.
Доктор Альфред Ной, директор учительской семинарии при Шафхаузенской гимназии, бывший преподаватель Петера Ребмана, сидит в своем ученом кабинете в директорском доме, что возвышается на горе и украшен надписью «На воздусе».
– Та-а-к, – говорит он, – вот и наша перелетная птица явилась. Получив мое письмо, вы, верно, подумали, что я только пытаюсь вас утешить? Но нет, это вполне серьезно. И это важный шаг, поэтому я сперва хотел с вами поговорить. Мы должны подумать и о более отдаленном будущем. Вы там пробудете, конечно, не более двух лет. Оставаться дольше нет смысла. И чтоб, вернувшись, вы не оказались у разбитого корыта, мы сделаем заявку в попечительский совет, чтобы вам дали отпуск на два года. С таким условием я вас рекомендовал.
– Почему именно меня?
– У вас нет семьи. Простите, что я так говорю, вы понимаете, что я имею в виду. Оба ваших товарища по классу, подходившие на эту роль, не свободны: один продолжает учебу, другой обручился, как я слышал. А для сего особого случая нужен тот, кто волен собой распорядиться. И необходим кураж: это дальнее путешествие, а не прогулка по окрестностям Цюриха. Я имею намерение в данном случае обратить внимание господ членов попечительского совета на то, как было бы полезно, если бы наши молодые учителя получили возможность годик-другой побыть за границей, чтобы расширить свои горизонты и поучиться хорошим манерам.
– Куда же, собственно, предстоит ехать?
– Об этом вам расскажет господин Мозер. Как раз собирался выписать для вас его адрес. Он вам знаком?
– Вы имеете в виду фабриканта? Да его же в Рейнгороде каждый ребенок знает!
– Ну так и ступайте прямо к нему! Дело не терпит отлагательств, вам следует не позднее чем через четырнадцать дней вступить в должность.
Молодой учитель качает головой:
– Я не совсем понимаю. Вы мне написали, что речь идет о месте воспитателя. Какое же отношение к этому имеет наш фабрикант?
– У него там имеются коммерческие интересы, к тому же он получил запрос от своих друзей. Господин Мозер сам там неоднократно бывал и знает положение.
– Но, надеюсь, речь не о… сводничестве?
– Боже упаси, я никогда не поддержал бы чего-либо нецеломудренного. Нет-нет, отправляйтесь к нему со спокойным сердцем. А потом приходите ко мне с докладом. Можете выпить у нас кофею, а затем мы составим письмо к совету.
Разговор с фабрикантом продлился дольше, чем предполагалось. Покофейничать у директора семинарии не пришлось. Беседа заняла более трех часов. И когда осчастливленный Петер Ребман шагал обратно в Ранденталь, в небе уже висела полная луна.
Поначалу он был весьма озадачен, когда узнал, куда ему предстоит отправиться. Россия!!! Он был потрясен. Однако фабрикант растолковал ему, как хорошо быть домашним учителем в поместье русского дворянина: к нему отнесутся как к члену семейства, можно путешествовать с семьей на Кавказ, в Крым, даже за границу. Кроме того, во всем мире не увидишь таких красот, как в России. Он и сам хоть сейчас поехал бы туда снова, ведь все, что он там услышал и увидел…
И Ребман решил: да, Россия – именно то, чего он ждал всю жизнь, а Ранденталь, и Рейнгород, и даже Коллегиум, где он мечтал учиться, да и вся Швейцарийка ничего больше для него не значат.
Дома он первым делом достал атлас и нашел КИЕВ – ему туда. А потом еще несколько часов до имения.
Вот он, в излучине Днепра, изображен как крепость. А в книге по географии значится: «Киев, произносится: “rajew” – святый град, славянский Иерусалим, старейший город России и один из интереснейших городов мира»…
– У-у-ух ты!
Столица Украины. Знаменит своими церквями и монастырями, особенно Печерской Лаврой. Университет, основанный в 1833 году. Политехнический институт, военная академия и многие другие высшие школы и прочие образовательные учреждения. Духовный и научный центр Малороссии. Центральная и юго-западная железная дорога. Важный речной порт. Мощная промышленность. Крупнейший в России рынок древесины, продуктов животноводства и земледелия. Два прекрасных железных моста через Днепр, один из них – знаменитый подвесной, 1053 м длиной. Днепр во время весенних паводков достигает ширины 10–20 километров. 500 000 жителей. В настоящее время ежегодное число паломников составляет от 700 до 750 000 человек.
В понедельник утром, когда Ребман как раз собирался незамеченным войти в здание школы, к нему подошел сельский староста:
– Вот, получил письмо. Надеюсь, вы это не всерьез, так порядочные люди не поступают!
Ребман помедлил с ответом:
– Я уже ничего не могу изменить, так как дал согласие и должен с первого мая вступить в должность, то есть через десять дней. Одна дорога займет два дня. Следовательно, я могу оставаться здесь еще неделю. Я вам так все и написал. И буду очень признателен за предоставление открепительного документа.
Староста ничего не ответил, только, глядя прямо перед собой, вертел в руке письмо Ребмана, как будто размышляя, не съездить ли ему этим письмом прямо по физиономии!.. И только когда учитель дал понять, что вряд ли станет жалеть о потере места, произнес:
– Хорошо, я так и доложу. Адье, господин Ребман!
И эти несколько слов так подействовали на молодого человека, что он был готов закричать вслед старосте: это была только шутка, я же никуда не уезжаю! Но он ничего не крикнул: пошел наверх и преподавал, как мог, до конца уроков.
Вечером, когда стемнело, к нему постучали. Перед дверью стоял тот самый старик, который два года назад приветствовал его у деревенской заставы. С тех пор они стали добрыми друзьями и частенько с удовольствием и веселостью вместе коротали время. Но теперь старику, пожалуй, не до шуток. Он говорит очень серьезно:
– Что это я слышу? Вы задумали бросить нас на произвол судьбы, господин учитель? Чем же мы вам не угодили?
– Вы мне? Да вовсе ничем, наоборот! Это я сам ухожу!..
– И из-за чего же… Я не могу поверить: вы же не из тех, кто после такого успеха на выборах ищет там и сям более теплого местечка! Нет, вы не из таких.
Он так и стоит, ведь Ребман не предложил ему даже стула, ждет и, когда ничего не слышит в ответ, говорит сам:
– Такое место, как у вас здесь, о Господи, Боже мой, я бы не променял ни на какое другое, даже в княжеском доме!
– Я тоже так думал, пока не имел никаких надежд его получить. Но когда место действительно предложили… Если перед тобой открывается дверь в большой мир – а скольким учителям выпадает такой шанс?! – нельзя этой дверью хлопнуть, нет, нужно поблагодарить и входить.
– Возможно. И куда же вы теперь путь держите?
Ребман говорит как есть.
Старик даже голоса лишился:
– Теперь я вас вовсе не пойму. Если бы вы сказали Франция или Англия, пусть даже Америка. Но… Боже правый! Спаси и сохрани! В этой жуткой стране нет ничего, кроме нигилистов да сифилитиков. Они отрезают уши и носы, и даже… Да-с, отрезают! Я знавал одного такого, который бывал в России, так он рассказывал, что там на улице больше людей безносых, чем с носами.
Он указывает рукой куда-то вдаль:
– Там же три четверти года зима, а четверть – холод. И чему вы станете там учиться? Вы же по-русски аза в глаза не видали, в ихней азиатской культуре ни бельмеса не смыслите. О Боже мой! – когда тут все так славно складывается: место обеспечено, всего вдоволь, по жизни можно идти, словно по прямой дорожке. И вот на тебе… Подумайте об этом, господин учитель, хорошенько поразмыслите. Отказаться от такого места – значит променять коня на подкову, а подкову по морю пустить. Где родился, там и сгодился, учит пословица! – старик налегает на слово «сгодился». – И все, кто ей последовал, ни о чем не пожалели. А со временем мы, глядишь, для вас и более почетное место подыскали бы.
Он качает головой:
– Ехать в Россию, на край света, рискуя сгинуть на чужбине! Что ж, хочешь этого, так поезжай!
В том же духе говорили и остальные, те немногие, что вообще высказались по этому поводу, большинство же только качали головой.
Глава 2
Всю ночь и все утро льет как из ведра. Там, где Арлберг-экспресс подъезжает к Валлензее, туман повис над водой мокрыми полотенцами. Все, кто могли, набились в давно переполненное купе.
Только очень худой одинокий юноша стоит перед открытым окном в проходе и смотрит вдаль, где уже за пятьдесят метров ничего не видно. Кондуктор хотел было его пустить во второй класс, может ведь простудиться так, без пальто. Но молодой человек отрицательно покачал головой, да так и остался стоять. И вот стоит он возле своего ободранного парусинового чемоданчика, которым его на прощанье снабдил в дорогу дядюшка Тобиас. В этом чемоданчике поместилось все его имущество, которое и сторожить-то незачем, ведь никто на него не позарится. Пара сорочек, несколько носовых платков, еще мамой связанные носки – такое сокровище не соблазнит даже самого непритязательного вора. Однако в письме мадам Орловой, которое вместе с паспортом, билетом и деньгами на дорогу (несколько австрийских крон и русских рублей) аккуратно помещено в особый пакетик во внутреннем жилетном кармане, – так вот, в том письме черным по белому написано, да еще и жирно подчеркнуто указание, чтоб он во время путешествия был предельно осторожен и внимателен, ни на кого не оставлял свой багаж и не выпускал его из рук.
Он сел на чемодан, вынул паспорт из кармана. Целая книжка! «Эта книга насчитывает 32 страницы», – важно сообщает надпись по-французски, а далее прилагается полный перечень всего того, что должно содержаться в столь важном документе. К внутренней стороне задней обложки прикреплена еще и красная бумажка: «Все без исключения граждане Швейцарии, проживающие за границей, независимо от пола, возраста и гражданского состояния, подлежат обязательной регистрации. Регистрация является необходимым условием для предоставления им дипломатической защиты и консульских услуг».
– Это из-за военного налога и мобилизации. В случае начала войны вам предписано немедленно возвратиться, – говорил нарочный, который доставил Ребману паспорт. Но Ребман в ответ только посмеялся:
– Всем бы ваши заботы! Хотел бы я знать, с чего бы это вдруг разразилась война. Если до этого дойдет, нас всех и так выставят вон.
И когда он сдавал свою военную амуницию в цейхгауз на хранение, управляющий сказал, что он пока проштампует на два года, чтобы по возвращении можно было получить все обратно.
Господина учителя это только позабавило:
– Вы больше не увидите фузильера Петера Ребмана в строю, а тем более здесь, в вашем цейхгаузе!
Между тем поезд въехал в австрийские Альпы. Вокруг не видно ничего, кроме гор, покрытых густым туманом. И тут нашла на нашего молодца такая смертная тоска, такой мрак окутал вдруг его душу: «Как же хорошо и уютно было бы сейчас в нашей рандентальской деревеньке!» Он, конечно, давал себе слово никогда об этом не думать, что бы ни было, не оглядываться назад, смотреть только вперед, – твердо себе наказал. Теперь же он понял, что так не бывает: у прошлого тоже есть и билет, и паспорт, оно едет вместе с ним в далекую Россию. Разумеется, куда лучше было бы направляться во Францию или в Англию, где хотя бы понимаешь людскую речь и можешь с кем-нибудь словом перемолвиться. А тут – совершенно чужая страна на краю света!
Несмотря на все преимущества нового места, которые так умело расписал фабрикант, это все же дикая страна. В этом Ребмана убедила его попытка изучения русского языка. В соответствии с разработанной программой, он собирался ежедневно заучивать по десять слов и по пять предложений. Но скоро запутался, растерялся и в итоге так и не сдвинулся с мертвой точки.
«Это же невозможно! Ни за что не поверю, что где-то существуют люди, которые так разговаривают. Если я приеду и заговорю так, как предписывает этот немец, издатель сего путеводителя, меня тут же выгонят в шею. Даже если это действительно русский язык, то пусть меня петух в темечко клюнет: разве в человеческой речи есть место словам из семи букв с одной единственной убогой гласной!
Взять хотя бы числа: что «айн» будет «один», «цвай» – «два», на «дрю» говорят «три», на «зэхс» – «шесть», «семь» – на «зибэ», еще можно как-то понять; но «четыре» вместо «фир» и «восемь» вместо «ахт» уже ни в какие ворота не лезет! Какое разумное существо, пускай это даже и русское, станет подобным образом называть числа?!
А потом еще десятки: «эльф», «цвельф», «дрице» – ведь ни один человек не в состоянии произнести «adinatzet», «dwjenatzet», «trinatzet», «natzet-natzet-natzet»! Вот и верь после этого фабриканту, утверждавшему, что русская речь – как меховая шапка, в ней красиво, удобно и мягко! Напротив, ощущение такое, будто тебя хлещут мокрой тряпкой по лицу!
И вот еще чего не достает в этом путеводителе, особенно важного для путешествующих. Тут не найдешь ничего, что можно было бы заказать в ресторане, ничего из того, что едят обыкновенные люди, здесь нет и в помине, а только «Tschai», «Kwass», «Borschtsch», «Schtschi» и прочая, и прочая. Это все наверняка так же противно проглатывать, как и произносить, если не более омерзительно.
Со словосочетаниями дело обстояло еще хуже. Ребман хотел подойти к задаче систематически, сначала взять те из них, которые пригодятся в дороге: «твердый сыр» и «большое пиво». Жареная картошка и бычий глаз. Мучной суп и горячая колбаска с картофельным салатом. Кофе с булочкой или кусок пирога. Все, хватит, покойной ночи!
И еще этот крысиный хвост, который непременно нужно прицепить в начале: «dajtje mnje paschaluissta» – от такого просто голова кругом идет!
«Лучше подожду, пока прибуду на место и сам услышу местный говор».
И еще одна мысль его гложет: попечительский совет отклонил прошение о сохранении за ним учительского места на время двухлетней отлучки. В ответе указывалось на то, что нынешнее положение дел складывается не в пользу того, чтоб учителя-новички вояжировали по заграницам. Что за нужда каждому везде побывать и все повидать!?
А он все-таки вляпался в это дело, его упрямство снова оказалось сильнее всех доводов разума.
Чем дальше поезд отъезжал от родины, тем сильнее сжималось сердце бедолаги.
Хотя, помнится, фабрикант при прощании снова впал в восторг, все никак не мог остановиться:
– О-о-о, если бы я мог поехать с вами, пусть даже на несколько дней!
И доктор Ной тоже был полон уверенности:
– Да будет воля Божья! И дайте мне слово, что вернетесь через два года, а я уж подыщу вам место к тому времени.
И он завернулся в свой двухъярусный хэвлок.
Когда доктор был уже на другой стороне тротуара, он оглянулся еще раз и, встретившись взглядом с Ребманом, поманил ученика к себе:
– Вот еще что, – сказал он совсем тихо. – Будьте осторожны с русскими женщинами, они имеют репутацию весьма опасных!
Вот вам и прощание! Без слез все же не обошлось, пусть их никто и не увидел. Когда Ребман вышел из домика и пошел к Ранденталю, он вдруг осознал, что никогда в жизни не жил в столь надежном месте и в столь доброжелательном окружении. И что ему оказали такую честь на последних выборах, несмотря на все его выходки. И они тоже к нему успели привязаться, дети-то. И стали любознательными. Когда кто-то из коллег спрашивал, как там, в Богом забытой деревеньке, он всегда искренно отвечал, что не встречал еще общины, окружавшей свою школу такой заботой, и более светлых детей, чем те, что достались ему:
– У меня пятый класс, они вначале очень медленно считали в уме, мне приходилось долго ждать, пока все поднимут руки. Да я и сам не сразу бы ответил. Но уже вскоре они стали меня то и дело опережать! И какие же забавные сочинения писали мои третьеклассники, например, о школьной экскурсии: «Потом мы ели и пили. И играли, и пели, и танцевали под деревьями. Потом еще мы ждали колесного парохода. А дома мы обо всем об этом рассказывали».
А взрослые, как они умели высказаться! Театральную пьесу поставили, да еще какую! В субботу вечером ее давали в зале мужского хора, а в воскресенье – в правлении.
Он успел полюбить этих достойных людей, которым всю жизнь приходилось возделывать каменистую почву Ранденталя и которые отличались таким добрым чувством юмора. С ними он ездил на праздник песни или на праздник стрелков в район. Участвовал в театральных постановках. Помогал косить, собирать урожай. И бывал на всех свадьбах, которые в Рандентале до сих пор всегда открыты для холостых и незамужних и вообще для каждого. И напивался с ними до посинения, с хористами-мужиками пивал весь праздничный день напролет, по старосветскому обычаю: чем хмельнее в воскресение, тем привольней в понедельник.
А что же это был за миг, когда экзаменатор из школьного совета подошел к нему, протянул руку и при всех сказал (родители тоже при этом присутствовали): «Господин Ребман, ваши ученики знают больше восьмиклассников!»
У него даже сердце заныло при этом воспоминании.
И вот он в последний раз пришел в школу. На столе стоит букет. На стенах – картины, которые он рисовал: музицирующие кузнечики со скрипкой и кларнетом и толпа девчонок в капорах, и собачка Мюсли, что всегда его сопровождала. «Его дети», те, что знают больше восьмиклассников! Он попрощался со всеми, и в ответ услышал: «До свидания, господин Ребман!» Для них он уже не господин учитель. И дружеские улыбки со всех сторон…
Ребман много раз пытался восстановить в памяти свое долгое путешествие до русской границы, но вспоминались только слякоть за окном, дурно пахнущие пролеты железнодорожных вагонов и военные поезда, которых было с десяток, с дверями с обеих сторон. Как за окнами мелькали телеграфные столбы, убегая в направлении дома. И еще то, как его зверски искусали блохи. Он все надеялся, что вот-вот, за ближайшим поворотом, наконец откроются картины, что восторженно рисовал перед ним фабрикант! Вместо этого впереди простиралось все более унылое и чужое пространство.
Так было до тех пор, пока не доехали до Львова. Там в купе вошла девушка – губы накрашены, ногти отполированы, подведенные брови, мушка grain de beauté, огненнорыжие волосы – и с порога начала тараторить. Она студентка у Кохера в Берне, едет на каникулы домой в Одессу. Ей очень нравится в Швейцарии.
– Мне бы хотелось, чтоб я мог впоследствии сказать то же о России.
– Еще сможете. Мне не приходилось ни от кого слышать обратного. Когда привыкнете к местным правилам и выучите язык, вам нигде не будет лучше, чем у нас, особенно если вы иностранец. Вы куда едете?
– До Киева. В поместье поблизости. Там я получил место домашнего учителя.
Он сказал это исполненным гордости тоном.
– Вы не боитесь русских?
– Ну, – снова самоуверенно начинает Ребман, – если бы я взял с собой всю наличность, которую мне давали дома в дорогу…
Студентка смеется так, что видны все ее зубы, а у нее прекрасные белые зубы – один в один:
– Ох уж эти швейцарцы! Они всегда найдут, как выкрутиться! Та еще порода!
С чего это она решила, что он швейцарец?
– Так это же сразу видно! Я могла бы похлопотать за вас на границе. Начальник таможни в Волочиске мне дядя, и это обстоятельство может быть нам очень полезным. Или вы уже хорошо говорите по-русски?
Пока она это произносит, поезд начинает двигаться. Кондуктор кричит на весь вагон:
– Подволочиск! Пожалуйте на выход!
Ребман вынимает часы: восемь.
Перед выходом его новая знакомая бросает:
– Теперь вы в одночасье станете миллионером.
Молодой человек смотрит на нее расширенными от удивления глазами:
– Миллионером? Я?
– Да. Вы же знаете, что русский календарь на тринадцать дней отстает от григорианского; в Берне или в Рейнгороде, и там, где мы сейчас стоим, сегодня третье мая, а по ту сторону границы только двадцатое апреля.
– Это мне известно. Но какое отношение это имеет к миллионам?
– Нашлось бы множество миллионеров, готовых отдать все свои миллионы, чтобы продлить свою жизнь хоть на день. Ваша же жизнь в момент пересечения русской границы станет длиннее на целых тринадцать дней!
И она добавляет:
– В России все молодеет, все!
Это было сказано весьма игривым тоном.
Глава 3
Первым, кого увидел Ребман, выйдя из вагона, был великан Голиаф собственной персоной. Там, посреди перрона, возвышался он над толпой, словно сошедший с библейских страниц, одетый в мундир царского полицейского: фуражка набекрень, придающая ему весьма устрашающий вид, длинная черная шинель поверх сапог гармошкой, под мышкой – сабля на ремне клинком вверх, с другой стороны, на толстом красном шнуре – револьвер.
Он что-то говорит, но Ребман под таким впечатлением, что и с места сдвинуться не может. Башка у этого парня величиной с медный таз, ручищи – что кузнечные молоты, ножищи – как корабли. Силач Готфрид из родного Вильхингена, который запросто может поднять нагруженную телегу, отнести мусорный бак на другую улицу или установить в одиночку фонарь, – Готфрид, который как с церковной колокольни сверху вниз взирает на клеттгауэрский народец, по сравнению с этим верзилой – просто малыш, которого ничего не стоит посадить на руки.
– Вот видите, – замечает ему студентка, – тут следует быть осторожным!
– О да, просто дух захватывает! Если в России все такое же, как этот!..
Вот Голиаф дал отмашку, и они со всеми остальными проходят в залу пограничного контроля. Как только все зашли, дверь тут же закрыли изнутри на замок и поставили стражу.
«Замуровали! Возвели за нами стену!» – даже дрожь пробежала по всему телу Ребмана.
Тут подходит офицер в элегантной серо-голубой шинели:
– Ваш паспорт, пожалуйста!
Ребман подает свой паспорт. Потом он стоит и слушает.
Но он может слушать сколько угодно: не уловить ни звука из фабрикантской книжки, ничего похожего на «…надцать», «восемь» или «дайте мне, пожалуйста»: речь мягко звучит, словно падают снежные хлопья.
Из-за деревянной загородки время от времени раздается стук, как будто учитель с первоклассниками упражняется на счетах.
Вдруг Ребман обнаружил, что его чемоданчик пропал. Он ведь оставил его здесь, на этом самом месте, и вот багаж исчез. Все остальные пассажиры при вещах. И студентка, ее тоже как ветром сдуло!
Ребман направился с жалобой к Голиафу, но тот только пожимает своими широченными плечами, что-то говорит о каком-то «Метеком», о котором Ребман не имеет ни малейшего понятия. Обеспокоенный иностранец может сколько угодно указывать на скамейку и твердить «Кофэр! Коффэр! Ба-гаж!», но в ответ – тишина, хоть головой об стенку бейся.
– О-о-о, нечего было к этому проклятому русскому прислушиваться, за вещами бы лучше следил, вот мне теперь и наука!
Пока он так стоял в полной растерянности, в зал вошла пропавшая студентка. А за ней – носильщик с чемоданчиком в руке – его, Ребмана, чемоданчиком. А рядом со студенткой – офицер. Он обратился к Ребману по-французски: ah, le nouveau millionaire! Потом он устроил быстрый досмотр багажа.
– Это мой дядя, начальник таможни, – пояснила студентка. – Подождите меня здесь, я пойду поменяю вам деньги и возьму плацкарту.
Уже через несколько минут все улажено. Ребману вернули паспорт. И только теперь он вздохнул спокойно.
Однако свое прибытие и встречу на границе он представлял себе по-другому: он вышел бы из поезда, объявил куда направляется и все бы забегали вокруг, как если бы им пинков под зад надавали, и стали бы ему до земли кланяться.
А эти даже не спросили, куда он следует: ни слова не говоря, отдали ему паспорт, как прочитанную газету, – и готово, аминь.
Но важно то, что он сумел беспрепятственно перейти границу, а это уже кое-что, особенно теперь, когда по обе стороны этой самой границы даже в глазах рябит от военных.
Не разыгрался ли еще у него аппетит, поинтересовалась студентка.
Аппетит? Да он с голоду помирает, сейчас в обморок упадет!
– Так пойдемте же поедим! Я переночую в Волочиске, но хочу проследить, чтобы вы сели в нужный поезд. Вот ваша плацкарта.
– Плацкарта? У меня же есть билет до Киева!
– Именно поэтому вам и нужна плацкарта, не то рискуете всю ночь простоять в проходе. Ваш билет действителен только для посадки в поезд, а чтобы занять место, сидячее или лежачее, нужен еще один билет, и он называется плацкартой. Ну идемте же!
Они проходят через буфет, помещение, полное дыма и смрада. Солдат у дверей встал навытяжку, пропуская их: они ведь идут по протекции.
– Это был казак, – говорит его сопровождающая, – узнается по тому, что у него на фуражке нет козырька.
Они усаживаются за длинный стол. На стене напротив – портрет царя, а у буфета, позади – святая икона с горящей перед нею лампадкой.
– Ну, чего бы вам хотелось?
У Ребмана лицо – как у голодного волка: чего-нибудь получше и побольше!
Студентка подзывает человека в белом колпаке, тот подходит, скользя по полу, словно бы на коньках. Кланяется, потом стоит в струнку, как солдат перед генералом.
Студентка ему что-то говорит по-русски. А Ребману поясняет:
– Я лучше закажу сама, у вас не так много времени, и к тому же вы не разбираетесь в русских блюдах.
Кельнер все записывает. Потом ускользает в сторону буфета. И сразу же возвращается с двумя полными тарелками в руках и приборами под мышкой.
– Ну, кушайте на здоровье, – говорит Ребману студентка по-русски и по-швейцарски.
Но Ребман не ест. Он смотрит на то, что там плавает в его тарелке, так, точно перед ним поставили отраву: красный соус, в нем куча кусков чего-то, а сверху белая клякса.
– Почему же вы не едите? Это борщ. Я его не ела с прошлых каникул.
Она пробует:
– Ах, как же он хорош!
Но Ребман все равно не ест.
– А вот это, белое – что это? – вопрошает он.
– Это сметана – кислые сливки, без нее борщ и не борщ вовсе.
– Кислые?.. Я не могу есть кислых сливок, мой желудок этого не перенесет.
– Тогда отдайте их мне, – смеется студентка.
Она берет у Ребмана ложку, загребает ею всю белую кляксу в тарелке – и съедает! За этим следует долгое сладостное «м-м-м!».
– Пустяки, еще научитесь есть борщ со сметаной. Это же просто наслаждение!
Однако Ребман не ест и теперь. Он совсем не голоден: честно говоря, он вообще не силен по части еды. Это у него еще со времен учебы, когда он целый день не вкушал ничего, кроме кофею с размоченным в нем хлебом.
– Вы и этого не хотите? – она указывает на нечто вроде пирога, который кельнер тем временем перед ними поставил. Пирог с начинкой из нарезанной капусты и еще чего-то желтого. Это кулебяка, тоже дежурное русское блюдо с нашинкованными яйцами внутри.
– Я бы охотнее выпил кофею с молоком! – Ребман уже в полном отчаянии, он устал от долгой дороги и полностью разочарован, потому что все совсем не так, как он себе представлял.
Студентка снова смеется. А кельнеру, который еще что-то принес, говорит:
– Ani nje galodnje.
Тот убирает тарелку и уносит все. Что это она ему сказала?
– Я сказала, что вы не голодны, хотя этому совсем не верю.
– И как же вы к нему обратились?
– Tschelawjek. Дословно это значит «человек». Но у нас так обращаются и к официанту.
Тут с улицы слышится звон, громкий и продолжительный, а потом еще удар в колокол. После этого в зал заходит служащий железной дороги. Фуражка с козырьком, кафтан до колен, кожаный ремень вокруг живота, широкие черные шаровары и сапоги, такие же, как и у полицейского. Он что-то кричит, последнее слово явно «Киев».
– Это знак к отправлению, – говорит студентка, – на него всегда следует обращать внимание, когда путешествуешь. Вы заметили, что после трезвона был один удар?
– Да, я его слышал.
– Это называется «первый звонок», первый сигнал колокола, затем приходит служащий и кричит, что сейчас был первый звонок на поезд туда-то… Тогда уже ясно, что надо делать. Через пять минут будут снова звонить с двумя ударами в конце. Это второй звонок. Вот он как раз прозвонил! Теперь нам нужно заплатить и идти, так как после него прозвенит третий звонок и поезд отправится. Вы уяснили?
Ребман улыбается:
– Это вроде как дома, в воскресенье: церковный звон, сначала один раз, потом второй, и когда начинают вместе звонить, время все бросить и бежать. У нас церковь стоит на горе, и жителям нижней деревни приходится нестись сломя голову, чтоб успеть к началу службы.
– И еще кое-что важное должна вам сказать: смотрите, чтоб у вас в дороге всегда была мелочь. Никогда не давайте официанту пяти- или десятирублевой купюры, если уже прозвонили: долго будете сдачи ждать!
– А что в Росси есть шельмы? Я думал, тут все как братья!
– Шельмы есть по всему свету, даже среди законопослушных швейцарцев; у нас их, может, чуть побольше, потому как и Россия больше. Но теперь нам нужно поторопиться. Ну же, агнец вы мой!
Ребман берет чемодан, который до сих пор держал зажатым между ног, и они выходят на перрон. Поезд уже стоит, вагоны огромные, одни красные, другие синие с русскими словами и числами.
– Однако, вагоны хороши, – замечает господин гувернер, – у нас таких нету. Что на них написано?
– Маршрут вашей поездки: «Волочиск-Киев». А цвет обозначает класс вагона: красный – второй, синий – первый. Вот наш вагон, на плацкарте указан номер, обратите на это внимание.
Она загружает своего подопечного швейцарца в вагон, в чистое купе с двумя складными полками с каждой стороны. На нижних полках уже сидят двое господ.
– Ваше место сверху, – говорит студентка. Затем она выходит в проход и подает ему руку:
– Ну, с Богом! Быть может, еще свидимся, мир ведь тесен. И еще вам придется переставить часы на два часа вперед. А сердце и душу – распахнуть пошире!
Ребман вежливо благодарит. В свою очередь желает новой знакомой всего хорошего. И вот уже третий звонок, двери захлопываются. Через миг поезд уже тронулся.
Двое господ на нижних полках не обратили на своего спутника никакого внимания. Только когда он снова вошел, один спросил на хорошем немецком, куда он едет.
– До Киева.
– Вы хотите в Киев? Ну тогда полезайте наверх! – и он указал ему на лестницу, которая вела на верхнее место.
И сразу поинтересовался:
– Вы откуда?
– Из Шафхаузена.
– Знаю-знаю, – говорит спутник таким тоном, что слышится: сразу видно, что человек только что вылез из доисторической пещеры (есть такая под названием «Тайенген» в кантоне Шафхаузен).
Ребман влезает наверх. Сидит рядом со своим чемоданчиком. Свесил вниз ноги. И думает про себя: «Как-то оно все сложится через годик-другой, будем ли мы все еще живы?».
Входит кондуктор, одетый так же, как полицейский и как глашатай на вокзале в Волочиске, собирает билеты, и идет себе мимо, словно они не живые люди, а багаж какой-то.
Ребман еще никогда не ездил в спальном вагоне, даже не знал, что такие бывают. Он носится со своим чемоданчиком, прямо как ребенок. Хоть бы пуговицу расстегнул, а то все время пути застегнут до подбородка. Несмотря на все предосторожности, он то и дело ощупывает карман жилета, проверяя, все ли на месте, а прежде всего – паспорт, эта отмычка современного искателя чужих национальных сокровищ.
Ребман смотрит на часы. И пусть они стоят всего двадцать франков, двойные, с позолоченными розочками на крышке, они ему особенно дороги как подарок дедушки – светлая ему память! – сделанный внуку незадолго до своей смерти.
А поезд тем временем едет сквозь темную ночь.
В окно не посмотреть, те, «нижние», опустили шторы. Но даже если бы и не опустили, все равно там ничего не видно; русские деревни совсем не освещаются, даже газовыми фонарями. К тому же, дома, если бы и были освещены, все равно повернуты к железнодорожному полотну тыльной стороной.
Чем заняться в таком положении? Он прислушивается к разговору внизу. Ребман уже решил, что его соседи – венцы, то есть не такие чужаки, как русские. Он даже очень рад такому соседству. Напрягает слух. Слушает. Штука в том, что он понимает лишь половину того, что говорится. Или это все же русский язык? Нет, не может быть, он же ясно различает немецкие слова.
Вот один говорит:
– I dragaschisn kakaja!
«Это точно по-русски», – думает Ребман.
А беседующий продолжает, вытянув вперед руку и покачивая головой:
– Вчера зашел в лавку, купил там парочку селедок, ну и жизнь, ой-вей, как дорого, аж страх берет!
«Э, да это снова по-русски!» – догадался Ребман. Достает карандаш, записную книжку и записывает, насколько удается поспевать за разговором. Так все же скорее чему-нибудь выучишься, чем по книжке.
В конце концов те двое начинают зевать, а тут и полночь пробило. Один идет к своему месту: сначала потягивается несколько раз, потом раскладывает полку, потом развязывает толстый мешок. И что же в нем? Одна, две, три подушки, пара простыней, ночная рубаха, чайная посуда, ложка, стакан и, наконец, еще и скрученное стеганое одеяло. Когда этот чудак вынул все и забросил пустой мешок на свободную верхнюю полку, он начал еще и молиться: полное правило на сон грядущим отчитал, как будто был у себя дома перед божницей.
И другой тоже поднялся и расшнуровал точно такой же мешок.
Тут он поднял голову и прокричал Ребману, будто отгоняя бродячую собаку:
– Не желает ли господин наконец укладываться? Или на худой конец хотя бы ноги убрать и у себя протянуть, ведь есть же для этого место.
У него что, нет с собой постели? В России, когда путешествуют, берут в дорогу весь домашний скарб!
Ребман извиняется, поскорее поджимает ноги и сидит, как портняжка, у которого закончились нитки.
Тем временем его попутчики уже разделись, облачились в ночные рубахи и заснули крепким сном.
Один еще встал, дотянулся до лампы и завесил ее двумя синими занавесками.
Уже через несколько минут ничего не было слышно, кроме стука колес и храпа двух мнимых венцев.
Тут и господин учитель положил под голову свой верный чемоданчик и растянулся на полке.
Глава 4
Когда он проснулся, за окном был ясный светлый день. В купе – никого, только оба здоровенных мешка со всем богатым содержимым лежат на полках. Штора на окне поднята, и в лучах утреннего солнца виден зимний пейзаж дивной красоты.
«Но как это возможно, снег в мае?», – подумал Ребман.
Присмотревшись как следует и протерев глаза, он все же понял, что это не снег, а только иней.
Ребман сполз вниз: лесенка приставлена к стене, он погладил ее пальцем. Проверив карманы, тщательно застегнулся и вышел в коридор. О том, что в спальном вагоне можно умыться и в вагоне-ресторане даже позавтракать, рандентальский учитель, конечно, не догадывался.
В коридоре ни души. Он смотрит на часы, они и на сей раз показывают восемь.
– Неужели я единственный пассажир в этом поезде? Или мне снится, что я снова дома? Это так похоже на подъезд к Цюриху!
Последнее предложение он произнес уже громко, во весь голос.
– Да, – отозвался один из «венцев», появившийся в проходе с полотенцем под мышкой, – только остановки на станциях вместо каждых пяти минут – раз в пять часов!
Поезд идет через лес, но это совсем не такой лес, как дома: почти одни березы, на большом расстоянии друг от друга, словно в парке. И все в воде, будто в озере.
– Это наводнение от ледохода, – говорит Ребману «венец».
– Наводнение? Но вы же только что сказали, что до Киева еще ехать два часа, Днепр ведь течет через город.
– Пустое, Днепр заливает пол-России, – говорит тот будничным тоном, как будто это фонтан разлился.
– Вы останетесь в Киеве?
Нет, он отправится в поместье, получил место воспитателя в дворянской семье.
Вдоль железнодорожной насыпи теперь видны толпы нищенски одетых существ. В шапках из овчины, в лаптях, с котомками через плечо, стоят они и смотрят на проходящий поезд. Некоторые даже и вовсе босиком, сапоги или ботинки свисают на тесемке через плечо.
– Железнодорожная насыпь в России – это магистраль, – снова отозвался «венский обыватель», – но приличные люди пешком не ходят, пешком ходит только простой люд. И паломники. Их теперь полно, нынче время большого паломничества.
Лес постепенно остается позади. Они выезжают на холмистую равнину. На холмах все сверкает и блестит чудным светом, как в восточной сказке: золотые купола – просто не описать, так и рябит в глазах от сияния.
– Поражены, не так ли? Знать, не зря этот город зовут «святым градом Киевом».
Но что Ребмана еще больше удивляет, так это цвет крыш: не серые или черные, как дома, здесь они зеленые, и уже одно это придает городу особый веселый вид, даже если бы не было золотых куполов. Впрочем, не все купола позолоченные, некоторые небесно-голубые, и эта голубизна над белоснежными башнями делает чудо еще чудесней.
И тут вдруг объявляют прибытие: Киев!
«Вот теперь я уже точно в России. Не где-нибудь там, в Базеле или Берне. Нет, и вправду в самой России», – думает Ребман и собирается на выход.
В вагонном коридоре распахнуты окна, туда выбрасывают мешки и чемоданы, целое море чемоданов и мешков. Как только поезд остановился, изо всех щелей повылезли люди.
– Носильщик! – раздается со всех сторон по всей длине поезда.
Ребман берет свой чемоданчик. Выходит вслед за остальными. Смотрит, не видно ли где мадам Проскуриной, начальницы «Swiss Home», которая обещала его встретить. Но он не видит никого хоть сколько-нибудь подходящего на ее роль. И идет дальше к выходу.
Когда он уже вышел, сзади послышалось:
– Грюе́ци[6], Herr Rebmann!
Обернувшись, он чуть было не выпустил из рук чемоданчик: да это же его мама! От головы до пят – вылитая мама! Только с седыми волосами.
Она подходит к нему и протягивает руку:
– Так, ну вот и вы. Да поставьте же чемодан! В России господа если и носят, то только трость и перчатки. – Она делает знак носильщику.
– Ну, хорошо ли доехали? Господин Мозер разве не собирался с вами?
– Собирался. Он передает всем дружеский привет. Но как же вы похожи на мою мать! Я даже сначала подумал, что это она… Но, позвольте, что же я хотел сказать?.. Ах да! Чем это здесь пахнет?
– И в самом деле, чем?! Россией, чем же еще? Разве вы не знали, что каждая страна имеет свой особый запах: Италия – фруктов, горгонцолы, кофею и политой уличной пыли, Америка— бензина, Германия – пива и лимбургеров, Швейцария – свежевыстиранного белья и маленьких детей, а Россия пахнет… вот этим… тем, что вы сейчас вдыхаете. Я-то уже давно не слышу этого запаха: мокрые сапоги, овчина, махорка, народ, что моется раз в году.
Потом Ребман узнал, что все это неправда и самый простой люд, даже на селе, моется перед каждым великим церковным праздником, а в России этих праздников больше, чем будней.
– Это Россия. Но к запаху привыкаешь. Когда вы пробудете здесь так же долго, как и я, тоже перестанете его замечать или даже будете скучать по нему.
– Вы думаете, я здесь надолго?
Она улыбается:
– Вы не первый, кто меня об этом спрашивает – здесь, на вокзале. Но были бы первым, кто, уехав отсюда по своей воле, не тосковал бы потом по «зловонной России»…
Перед вокзалом стоит целый ряд саней, запряженных маленькими, косматыми лошадками, а на санях – мужички, словно их достали из музея и привезли сюда на выставку.
Сразу же подходят двое с приветствием:
– Куда, сударыня?
Мадам Проскурина что-то говорит. И тут начинается торг, да такой, что, кажется, сейчас один проглотит другого:
– Да ну-у-у! Да чт-о-о вы!
Наконец, один соглашается:
– Ну ладно.
Они садятся и едут по наезженному снегу, его еще довольно, хотя уже и ноздреватого.
Никогда прежде не бывало такой поздней весны, это в первый раз за все сорок лет, что она в Киеве, обычно в это время уже все в цвету, сообщает мадам Проскурина.
– Что там у вас с ним был за разговор?
– С кем? Ах, с тем мужичком! Заметьте себе хорошенько правило номер один: никогда не давать столько, сколько запрашивают. Вон тот извозчик просит рубль, а повезет вас за двадцать копеек. Это все плуты, обманывают, где только можно.
– Но он же так ничего не заработает!
– Еще как заработает, для него рубль – целое состояние. Если вы пойдете в лавку, никогда не платите названную цену, даже в самом шикарном магазине всегда торгуйтесь.
– И что, все люди здесь таковы? То есть я имел в виду…
– Даже те, что княжеского рода, они даже пуще других. А простой народ так и подавно – с ними держи ухо востро! В России надобно быть дерзким: станете скромничать, примут за простофилю. А если вы когда-нибудь пригласите даму в театр или еще куда-нибудь, берите извозчика, никакого трамвая – трамваями в России пользуется только плебс.
Они едут вверх по длинной прямой улице. Сани скользят и скрипят, словно по заледенелому полю, извозчик все стегает свою тощую клячу коротким кнутом, который он достал из-за пазухи, а мадам все равно торопит.
Город теперь совсем не так хорош, как казалось издалека. Хотя и звонят со всех сторон по случаю воскресенья, и солнце все еще сияет, но слишком грязно и смрадно вокруг. Словно зловонное облако висит в воздухе, даже дыхание спирает. «Удивляюсь, как тут можно жить! Кажется, теперь я охотно пожертвовал бы своим миллионом еще на таможне».
Только кончился лед, как они поехали по брусчатке. Но кучер, смешной малый в своем длинном, засаленном кафтане и в подстреленных бидермайеровских штанах-дудочках, принялся нахлестывать бедное животное, да так, что пар идет. Весьма курьезная фигура этот паяц: стрижка у него, словно ему миску на голову надели, а потом по кругу обстригли конский волос, а борода – как у старого великана. В книгах доводилось встречать нечто подобное, но что такие типы и вправду попадаются, Ребман никогда не подумал бы.
А между тем дорога снова пошла вниз.
– Киев, – говорит мадам Проскурина, – стоит на семи холмах, как Рим. Видите вон то здание, там ниже, красное? Это университет. Когда его строили, то отцы города отправили депутацию к царю Николаю, чтобы спросить, чем покрасить новое здание? А царь им на это: по мне, так хоть бычьей кровью! Так они в точности и исполнили… А вот мы и приехали: это Крещатик, наш Broadway. Красиво, правда? А как раз в том доме, что напротив, обосновался «Swiss Home».
Она указала на большое здание со множеством окон.
– Там ваш дом?
– Там «Swiss Home». Мы должны обитать в подобающем месте. Если бы мы расположились на Подоле у Днепра, ни один из моих питомцев не получил бы приличного назначения.
Сани останавливаются. Ребман берет свой чемоданчик, что стоял впереди у кучера. Мадам расплачивается. И снова торг, извозчик орет во все горло:
– Как можно, барыня, право слово!
Но мадам ощерилась на него, как дикая кошка, даже вся покраснела лицом: иди прочь, разбойник. А Ребману, стоящему с такой кислой миной, словно он вот-вот заплачет, бросает уже на ходу:
– Пойдемте скорее, а то если он заметит, что вам его жаль, то уж не отделаетесь.
– А мне его, и правда, жаль. Разве вы не могли ему дать, сколько просил, нельзя же так обходиться с людьми!
Но мадам Проскурина только отмахнулась:
– Так говорят все, когда впервые едут со мной по городу, а через год уж и сами учителей научат.
Здание и вправду представительное. Ребман никогда бы не подумал, что «Швейцарский Дом» стоит в таком шикарном месте, в самом центре города, в лучшей части главной улицы.
Но в России все кажется возможным.
Во время поездки по городу Ребман был очень внимателен, смотрел во все глаза и вертел головой по сторонам, примечая все вокруг. Во-первых, здесь никто не носит шляп. Все ходят в фуражках: либо на военный манер, с кожаным лакированным козырьком, либо в черных или серых меховых, из каракуля. А шляп не видно ни на ком, ни на одном человеке. И все ходят в шинелях и мундирах, даже такие малыши, какие дома в деревне еще в платьицах бегают.
– Это что, юнкера? – спросил он.
– Нет, просто школьники. В России все обязаны носить мундир, даже самые младшие классы.
– Это еще зачем?
– Чтобы всякого можно было узнать в случае беспорядков. Поэтому каждый чиновник любого ранга, каждая школа, каждый институт, даже заведения для девочек имеют особую форму, чтобы сразу было видно, кто ты и откуда.
«Это еще ничего, – думает Ребман, – они, по крайней мере, ходят на двух ногах, а не на четвереньках, и вообще выглядят как обычные люди».
Уже в доме, поднявшись наверх, он прежде всего помылся и побрился.
Затем мадам Проскурина представила Ребмана его соотечественникам. Земляки приняли новоприбывшего как брата, приехавшего издалека, спрашивали, хорошо ли доехал и привез ли чего-нибудь вкусненького. Все, однако, говорят по-французски, и никто – на бернском или каком другом швейцарском диалекте.
Вдруг открывается дверь и – у Ребмана в зобу дыхание сперло – в залу входит не кто иной, как сестра-близнец Голиафа из Волочиска, во всяком случае, судя по виду вошедшей девицы. Ребман тут же окрестил ее «Титанией».
– Ах, – воскликнула она по-немецки, – вот он, мой спаситель! Вы пьиивезли пайяшочек? Именно так и сказала: «пьивезли» и «пайяшочек».
– Да-да, разумеется, привез. Вы, наверное, немка из Берлина? – спросил Ребман.
– Я предупреждаю, что я из балтийских! – гордо отрезала дева Титания.
После того, как она приняла порошок, ее лицо ожило, до этого оно было трупного цвета. Она села за фортепьяно и принялась барабанить по клавишам. Некоторые из дам состроили насмешливые гримаски. А некто Штеттлер, юноша из Берна, вскочил на стул и возопил над обезумевшей толпой, носящейся по зале:
– Йихайд Вагней! Гибель Богов!
К обеду явилась еще целая компания: итальянцы, французы, бельгийцы и даже один англичанин. Большой стол был полностью занят гостями, до последнего местечка. Беседа шла все же по-французски. Даже англичанин старательно отчеканивал «а-фран-сэ».
Ребман был счастлив уже потому, что наконец-то может по-человечески поесть, он давно был близок к голодному обмороку. Мадам Проскурина разливает суп. Она говорит, что ради новоприбывшего решила отказаться от русского обеда. Все ведь знают, как себя ведут в России новички: им все мерещится, что здесь во всякое яство подмешан яд. Теперь и она говорит по-французски, да и вовсе ничего другого не слышно, кроме доносящегося отовсюду «Mais non, mais non, mais non! Eh bien tut alors! Mademoiselle Geissberguere, si j'peu vous demander le pain?» Звучит в точности так, как им твердил учитель французского в семинарии: «Во французском языке нужно удерживать голос в высокой позиции на последнем слоге предложения, чтоб интонация не падала как в немецком: мэтр корбо – эйн-свэй-дрэй! Сюр ан арбр першэ – эйн-свэй-дрэй-фиир!» Так точь-в-точь и звучит.
Ребман сидит с таким чувством, словно у него дыры в носках. Он, письменно заверивший работодателя, что «свободно владеет немецким, французским, английским как в устной, так и в письменной форме», теперь, когда дошло до дела, со стыдом убедился, что ни на одном из названных языков не может выразить даже самых элементарных вещей. Они семь лет учили французский, басни Лафонтена, «Avare», «Petite Chose» и многие другие книги изучили от доски до доски. Но как ответить, когда тебя спрашивают, хорошо ли ты доехал и как тебе нравится на чужбине, он понятия не имеет. И вот сидит он дубина дубиной, чувствует себя двоечником среди толпы отличников. Не проще ли без лишних хлопот объясниться по-немецки? Но, похоже, вся Россия под каблучком этой Францмамзель.
Между тем он заметил, что одна из француженок, та, которую зовут мадемуазель Аннабель, хотя следовало бы назвать ее потасканной драной кошкой, все время картинно закатывает глаза. Томный взгляд этих карамельных глазок с тоскливой надеждой ищет жертву.
Испытывая Ребмана, она как бы невзначай восклицает:
– А он и вправду милый!
Но тут Штеттлер возвышает голос: «И даже коль соловушка – старушка, то все равно поет, когда весна придет!»
Он говорит как будто бы в сторону, но обращается явно к Ребману:
– Так-так, значит, вы и есть последняя добыча семейства Потиферов! Простите, мадам Проскурина, это я просто вслух подумал.
Маленькая дама смотрит на Штеттлера гневно:
– Не слушайте его, он все время безумствует!
Но бернский парень не обращает внимания на этот окрик, он продолжает:
– Гувернер здесь в России считается профессией, а по швейцарским меркам это просто гувернантка мужескаго полу. Как сопливый младенец, едва заслышав шум воды, воет от ужаса перед купанием, так и наша мадам бишон фризе[7], случайно соскользнув в пустую ванну, в панике скулит и отчаянно скребет коготками, пытаясь выкарабкаться наружу.
Глава 5
На обед – бульон с вермишелью, говяжье жаркое с картофельным пюре, горошком и морковью. Ребман так налегал, что даже вспотел, три раза наполнял тарелку с горкой, пока фройляйн Гайсберьер не сказала:
– Что ж, самое время испытать молодого человека на крепость. Как у вас обстоят дела с русским, ваш словарный запас в порядке?
Ребман не пытается отвертеться: говорит, что старался, но не нашел никакого подхода к этому мудреному языку.
Девица Титания не отстает, она кажется весьма энергичной:
– Идите же сюда, садитесь рядом со мной, мы сейчас посмотрим. Итак, что же вы знаете: можете сосчитать до двадцати, сказать «здравствуйте» и «до свидания»?
Ребман может сосчитать до десяти, но вслух не решается произнести ни единого слова:
– Вы же сами меня засмеете. Если я, к примеру… ах, нет, лучше не буду.
– Ну же, вперед, смелее! Хорошее начало полдела откачало.
– Нет, сначала вы мне скажите, как по-русски «acht»?
– Вы имеете в виду число? Восемь.
– Правда? А я думал, это шутка.
– Ничего подобного. Итак, еще одна попытка.
Господин учитель считает до десяти, дальше он не знает и начинает юлить.
– Я внимаю и стараюсь, как первоклассник, но, думаете, я понял хоть одно словечко? Все льется потоком, как из трубы, а начинать надо по капельке – это как микстуру принимать; вы же тоже принимаете свой порошочек малыми дозами? Я думаю, что никогда не выучусь по-русски. Кое-что я, однако, записал из того, что услышал в поезде…
Он достал записную книжку и подал «учительнице»: дескать, можете ознакомиться, это, должно быть, русский.
Она читает и начинает хохотать, да так, что весь дом дрожит:
– Послушайте-ка, дамы, что наш юный дьюг пьинял за юусский!
Она читает вслух:
– Гейсте райн ин э лавка! Це коифм! Знаете, что это? Это еврейский жаргон, сдобренный русскими словами. Вам надо почитать Лермонтова и Пушкина, вот где настоящее! Такой музыки, как у них, не найдете ни в одном другом языке.
Тут отозвался бернец Штеттлер:
– Оставьте его в покое, он еще выучит русский. И быстрее, и лучше нашего. А теперь я пойду показывать ему город, чтоб он хоть что-то повидал перед тем, как отбудет в эти захолустные Барановичи. Пойдемте же!
Ребман с готовностью вскочил. Болтовня этих «француженок» ему ни к чему, он хочет услышать живую Россию.
– Но вы там не очень-то разглагольствуйте, – обратилась мадам Проскурина к Штеттлеру, – чтоб он у нас окончательно не растерялся.
Она заводит Ребмана в соседнюю комнату, которая служит ей одновременно и бюро, и спальней, закрывает за ним дверь и говорит:
– Не очень прислушивайтесь к его пустословию.
– А кто он такой?
– Опустившийся студент, вот он кто. По способностям – профессор, но ленив, как боров. Я приняла его за чистую монету, а оказалось – фальшивка. Он мог бы сделать великолепную карьеру, если бы хоть чем-нибудь занялся, кроме политического фразерства. Не давайте ему разговориться, а то он вас еще смутит. Уж и полиция им интересовалась, потому что он не умеет держать язык за зубами. Если бы сам консул за него не заступился, быть ему уже в Сибири. Этот только и знает, что ругать русских, пустобрех эдакий. Будьте с ним настороже.
А Штеттлеру велела:
– Сходите с ним в Лавру. И к ужину возвращайтесь. Он еще не раз приедет в Киев, успеет все осмотреть.
На дворе уже приятно потеплело, настоящий весенний день.
Вдоль улицы выстроились извозчики. Один сразу подкатывает:
– Не желаете?
Штеттлер отмахивается, но извозчик едет рядом. И только окончательно убедившись, что из этого ничего не выйдет, отстает.
– Что вы имели в виду, когда спросили, не я ли новая жертва «семьи Потиферов»? – спрашивает своего спутника Ребман. – Это имеет какое-то отношение к мадам Орловой? Вы знаете эту семью?
Штеттлер смеется в ответ:
– Кто же ее не знает? В наших кругах она так же известна, как внизу, на Подоле – клопы и вши.
– Так что же с ними?
– С ними? Вот именно, что ничего. Богатые люди, ничего не делают, даже денег не тратят. Палец о палец не ударят, только и знают, что жаловаться. Скука смертная! Если бы весь мир так же ныл, как эти…
– Ноют и жалуются? На что же?
– На плохие времена, на то, что евреи, мол, скоро снимут с них скальп. Я имел честь и удовольствие быть вашим предшественником. Мистер Мозер, должно быть, рассказывал вам, ведь мадам Проскурина ему обо всем пишет – конечно же, глядя на вещи сквозь свои очки. Но мне до них всех и дела нет!
– Что, плохое место?
– Да нет же, если со всем соглашаться и спокойно смотреть, как бедные крестьяне гнут спины на семью Орловых, а от тех так и разит деньгами и алчностью. Как они издеваются над бедными евреями и обделывают прочие свои неприглядные делишки. Тут нельзя все время молчать, а то станешь совсем продажным. Я долго терпел, но, наконец, все мне осточертело, я высказал свое мнение, на хорошем бернском! Тем все и закончилось.
– А как они могут притеснять крестьян? Крепостное право ведь отменено?
– Да, на бумаге. А на деле оно существует, да еще и как! Люди из деревеньки Барановичи, которая раньше относилась к имению, беднее церковных мышей. Им всегда достается клочок земли, расположенный с той стороны барских земель, которая затапливается паводком, да и этого клочка ни на что не хватает. Всякий, кто еще хоть на что-то способен, принужден гнуть спину в поместье за поденную плату или даже просто даром, так как они все в долгах. 15 копеек платят женщинам и 17 – мужчинам за полный день работы, с раннего утра до поздней ночи. 15 копеек – это 40 сантимов! И это еще в сезон, а всю зиму у них вообще нет заработка. Маньин, однако, утверждает, но это неправда, что им дают задаток, который они должны отработать. Так же невозможно существовать, даже аскетам и постникам! От этого у них у всех чахотка и другие болезни, и такая высокая детская смертность. Сам увидишь, если тебе, конечно, позволят. Мне сразу же запретили, когда я любопытства ради пошел в деревню. Ты себе и представить не можешь, в каких условиях там вынуждены жить люди, какой это срам и ужас: вместо домов – мазанки, и то наполовину разваленные. Вся семья, родители, деды и все, кто ни есть, – в одной комнате, и больные, и здоровые спят вповалку на печи! Нет ни водопровода, ни даже колодца. Ни света. Ни телефона. Ни магазина. Ни булочной. Ни почты. Ни школы. Ни доктора. Наши горцы в сравнении с ними – настоящие бароны, хотя и тем не до смеха. Ты только представь: все, что хоть чего-нибудь стоит и на что-то пригодно: хорошая земля, лес, мельница, река, пути и дороги. Заметь, дороги, я не говорю «улицы», улица там только одна – от станции до господского дома. Кроме того, кузница, столярная, каретная, мастерские, сапожная будка – все принадлежит господам. Если мужику нужно в поле, он вынужден идти в обход усадьбы, делая огромный крюк, ведь идти через усадьбу ему никак нельзя: изобьют или оштрафуют. Если он хочет смолоть мизерный свой урожай, ему надобно ехать на мельницу, и там он вынужден половину оставить мельнику за помол. Урожай зерновых – это их кусок хлеба, вся Украина этим живет. Остальное – арбузы, огурцы и так далее – выращивают только на маленьких приусадебных участках. Ну и что, ты думаешь, им остается? Даже не поденная плата, ее тоже отбирают за дрова и прочее. Раньше, когда они были крепостными, хозяин был в них заинтересован хотя бы как в скотине; а теперь и этого интереса не стало.
– И что, по всей стране так?
Штеттлер ухмыльнулся:
– Думаешь, настоящие богачи, аристократы, графы, князья и компания меньше этих помещичков имеют? Сто тридцати тысячам лентяев, бездельников и обербездельников с оберлентяями принадлежит вся Россия. Из-за этой обломовщины закончилась райская жизнь.
– Обломов…
– Да, Обломов. Это герой романа Ивана Гончарова. Нарицательное имя для тех, кто считает труд позором и Божьей карой, а обжорство и пьянство – достойным занятием. Тех, кто использует свое происхождение и образование, чтобы вить веревки из других людей. Они богаты настолько, что могут купаться в золоте, но внутри у них ни пылинки золотой нет. Они жирны, потому что ленивы, и ленивы, потому что жирны. О таких в России говорят «обломовщина».
– А барчук?
– Петр Николаевич? Бывают люди, которые считают огромным счастьем для своего дитяти, чтобы оно родилось на шелковых подушках и воспитывалось нежными руками в шелковых перчатках. К таким относится мадам Поти…, в общем, мадам Орлова.
– И ты говоришь, что нет школы? Я думал, такого уже не бывает в современной Европе.
– Ты Россию Европой не считай. Это Азия, так в книжке и написано. Русские деревни, в которых есть школы, можно пересчитать на пальцах одной руки. И людей, что могут читать и писать, тоже, – я имею в виду, в деревне. Там нет грамотеев, кроме попа, и тот, конечно же, на стороне помещиков.
Крестьяне сами по себе разобщены, даже не знают, когда кто в уездный город едет. Они вообще ничего не знают! А вот барин, тот знает все, все имеет, все может. Он – все и во всем. Это меня как раз и выводит из себя: с одной стороны – кучка паразитов, которые вот-вот лопнут от пресыщения, а с другой – прозябающие в нищете миллионы тружеников. Такое можно увидеть разве что в азиатской глубинке; тут нужно бы что есть силы ударить молотом. Но до этого дело еще дойдет – их конец неизбежен, как аминь в конце обедни. Стоит только начаться войне, царское хозяйство разлетится ко всем чер…
– А господин Мозер мне ни о чем таком не говорил.
– Он об этом ничего и не знает, он и в деревне-то ни разу не был. Он один из тех, кто превозносит Россию до небес просто потому, что ему показали только красивую сторону русской жизни.
– Вот оно как. А я-то думал, здесь можно продвинуться. А за что они так взъелись на евреев, чем это они им не угодили?
– Чем может несчастный русский еврей не угодить дворянскому отродью? Да уже тем, что он на свет появился, уж одно это для черносотенцев – как бельмо на глазу.
– Как ты сказал, чер-на….
– Черносотенцы, это ультрареакционеры, черная сотня, те, кто затевает погромы и больше всего хотели бы вернуть деспотический режим. Это из-за них страна дошла до такого состояния во всех отношениях. Они заинтересованы в том, чтобы народ оставался темным и неграмотным и не смог объединиться, ибо тогда они получат на орехи. Но все еще придет, дай только срок: яблоко когда созреет, то само падает, не нужно и дерева трясти. Это на руку туркам. Еще одна такая война, как русско-японская, и им опять всыплют по первое число, потому что их солдаты будут воевать в лаптях и без амуниции, в голоде и холоде. Тогда дело пойдет ох как быстро! Это будет радикальная чистка, без которой не обойтись. А вот тут-то и Криги Штеттлер скажет свое слово![8] Тогда мы им покажем что по чем! Вот смотри, как раз иллюстрация к нашей теме!
Они вышли на большую площадь. На ней повсюду видны фигуры, сидящие прямо на земле. Более печальную картину трудно вообразить: полностью обнищавшие люди, в разодранных, обветшалых, латаных овечьих тулупах, сапогах гармошкой, из которых торчат пальцы ног. У большинства даже нет приличной обуви, только лапти с обмотками вокру г стоп и голеней. И выражение этих глаз! Ребман никогда бы не подумал, что в современном мире еще обитают такие создания, об этом в курсе географии ведь ничего не сказано.
Они сотнями слоняются по площади, попрошайничают, протягивают прохожим шапки и кланяются каждому до земли. Между ними есть и слепые. И калеки, недвижно стоящие в снежном месиве.
– Это нищие?
– Нет, это паломники. Теперь как раз их время. Паломничество в святую Лавру – самое главное событие в жизни верующего русского человека. Они приходят со всей России, даже из Сибири, после долгих недель пути по снегу и мерзлой грязи. И вот они здесь – как и мы, но по другой причине. Мы тут из любопытства, они же пришли молиться и приносить жертву. Да, в эту богатейшую Лавру, именно сюда несут эти люди свои копейки, которые они годами копили, отказывая себе в еде, чтобы здешние насельники могли еще подзолотить купола и навесить драгоценных камней перед святыми. Трудно поверить, что такое возможно, если не увидишь все своими глазами. Ты ничего особенного не заметил?
– А, да, вот эта женщина, у нее нет носа! И у той тоже! И вот еще у той! У них лица плоские, словно расплющенный трамваем пятак: раз – и все. Я думал, таким надлежит о себе заявлять.
– К сожалению, нет. Это как раз одно из следствий той жизни, на которую их обрекли. Почти всех их пожрал сифилис, иногда они увечны уже от рожденья. У вон той начало гнить основание носа, потом хворь пойдет вглубь, до спинного мозга, тогда болезнь ее уже полностью сразит. А эти женщины ведь еще и детей рожают!
– И что же, с этим не борются?
– А кому это нужно? Кто об этом знает? Они же не ходят и не рассказывают об этом всем подряд. Те господа из поместья, не сказали бы на это ничего, кроме «убирайся к черту», как только заметили бы, чем эти люди заражены. А если бы они и обратились к врачу, какой в этом прок? Ведь обращаются они тогда, когда все равно уже слишком поздно. Тут нужна железная метла, чтобы вычистить эту и другие гадости. Такой метлы Ники уж точно в руки не возьмет. Ему, тряпке и ничтожеству, ее даже не поднять.
– Не так громко, нас ведь могут услышать!
– Вот и хорошо. Я им еще покажу, дай срок: однажды они уже хотели меня сцапать, могли даже и выслать… – он указал пальцем вдаль, – известно куда! Ничего у них не вышло, Криги Штеттлер из Нидерхазли – крепкий орешек, он оказался им не по зубам!
Ребману этот разговор неприятен.
– Дивен Киев-град, – говорит он. – Правда, он не такой прекрасный, каким кажется, когда выезжаешь из лесу и видишь его как на ладони, но ужасно интересный.
– Киев – самый красивый город в России. Прежде – столица государства, теперь – столица паломников, которые из года в год стекаются сюда тысячами из всех провинций этой огромной страны в Святую Лавру. Лавра – старейший русский монастырь, и поэтому уже богатейший. В ее пещерах, которые тянутся отсюда вниз до самого Днепра, говорят, скрываются несметные сокровища.
Там, за этой площадью, Дума. А вон тот господин впереди, что сияет на своем царственном пьедестале, – премьер-министр Столыпин, праведник, которого застрелил в Киевской опере один из народовольцев, стрелял на глазах у самого царя. Памятник еще совсем новый, только что освятили. Скульптор – испанец по имени Хименес, он бывает у нас в Доме. Быть может, ты увидишь его там уже сегодня.
– Здесь есть красивые дома, но все как-то больше в восточном вкусе.
– Россия и вправду ближе к Востоку, чем к Западу, во всех отношениях. Куришь?
– Да, но я оставил свои принадлежности в чемодане, совсем позабыл в суматохе. Разве тут негде купить?
– Разумеется, можно. Вон там как раз палатка. Но ты возьми, попробуй мои, «Бризаго».
– Нет, они для меня слишком крепки, да и хочется самому купить, самое время попробовать поговорить по-русски. Подожди-ка минутку.
Ребман подходит к стойке и произносит одно только слово, которое, по его мнению, должна понять каждая продавщица табака в любом уголке мира. Но эта, очевидно, не понимает: она ему протягивает сигариллы. Он качает головой и повторят то же слово, на этот раз медленнее и четче.
Она показывает пальцем: ну вот же!
Ребман снова качает головой.
Тут как раз мимо проходит полицейский. Торговка ему что-то сообщает. Тот подходит к стойке и спрашивает иностранца в фетровой шляпе:
– Чего желаете?
– Я уже сказал трижды, что желаю си-га-рет!
– Ах вот что, – смеется полицейский, – он хочет папирос!
И только теперь покупатель получает вожделенную пачку.
Полицейский берет одну сигариллу и говорит:
– Месье, вот это – цигарета. А та, что у вас в руке, это па-пи-ро-са!
Он отдает честь и идет себе дальше. Тогда Ребман спрашивает у продавщицы на чистом русском:
– Сколько стоит?
– Четвертак, – отвечает та.
Господин гувернер в замешательстве: четвертак? Такого числа не было в его путеводителе. Тогда торговка берет у него пачку из рук и указывает на обозначенную там цифру:
– Двадцать пять копеек!
Тут Ребман понимает: двадцать пять, это же fünfundzwanzig. Он достает десять копеек и подает продавщице.
Женщина качает головой. Выставляет обе пятерни перед Ребманом. Потом еще раз обе, а потом – одну.
– Двадцать пять! – говорит она раздельно, словно глухому, – двадцать пять, понимаете?
Тут к стойке подходит Криги:
– Что это тут за торг?
– Она хотела всучить мне пачку сигарет за 25 копеек, думает, я дитя малое, младенец, что ли? Больше 10 не дам ни копейки. Мадам Проскурина мне еще нынче утром особо указала, что в России никогда не платят, сколько просят, следует всегда торговаться.
Криги хохочет:
– Так-то оно так, но это не касается табака, на него у государства монополия: цена предписана. Дай ей сколько просит. Не все в России мошенники, далеко не все.
Когда они пошли дальше, Ребман спросил:
– Как давно ты уже здесь?
– Я? Целую вечность! Уж и не верится, что я когда-то был где-то еще.
Они подошли к холму, у подножья которого стоял большой красивый памятник, тоже новый, даже блестит, словно из золота.
– Это памятник Александру Второму, – говорит Штеттлер, – а там Владимирская горка, наверху стоит статуя святого Владимира, покровителя Киева, с золотым крестом: его сияние видно далеко в окрестностях. Это и есть символ Киева.
Они идут по чудесному парку, где играет военная музыка. Такое же безысходное нытье, как на рынке у Швабских ворот в городе на Рейне, так грустно, словно сраженный саблей солдат воет от боли.
Но тут Ребман вдруг оказался один на один с чем-то грандиозным, с тем, что с первого взгляда чувствуешь и чего никак не измерить европейскими мерками. Вот она та Россия, о которой шафхаузенский фабрикант говорил, что ее величие еще никто не смог определить. И покорить ее тоже никто не смог, даже Наполеон с его военным гением и огромной армией. Но вот это покорит любого:
Днепр, могучий и широченный, как же он блестит и переливается в лучах предвечернего солнца! И дальше за ним, насколько может охватить глаз, – леса. Ни деревни, ни города, ни хутора, ничего, кроме бесконечного, стоящего в воде леса.
Даль, простор. Тут видишь мир во всем его величии, мир, как он есть, не в масштабе 1:1000, как дома в Швейцарийке. Даже дрожь пробирает. Мороз по коже.
– В какой стороне Барановичи? – спрашивает он у товарища. Штеттлер показывает прямо в сторону залитых лесов: где-то там, в том направлении. И снова Ребмана бросает в дрожь: в такой глуши, на краю света!
– Это все вода от ледохода, – объясняет Штеттлер. – Каждый год весной наводнение покрывает площади величиной со всю Швейцарию. Днепр преодолевает отсюда до Черного моря расстояние почти в тысячу километров под уклоном всего в девяносто метров. Потому он делает так много поворотов, словно змея, извивается во все стороны. И когда тают снега и начинается ледоход, Днепр несет такое количество воды, что невозможно представить. Не описать словами, что он тащит на своей широченной спине: целые деревни, иногда даже и с людьми вместе. Только представь себе количество воды здесь, когда она отовсюду стекается, а земля ее не берет, потому что сама на полтора метра вглубь промерзает и оттаивает только поздней весной. Приходится мобилизовать все пожарные части, а жители Подола – так называется прибрежный район города, в котором живут почти одни евреи – должны все бросить и бежать в чем есть, иногда в одной рубахе. Богатствами, смытыми водами Днепра, можно озолотить пол-Швейцарии. Так и русский народ: добродушен, терпелив, безмерно миролюбив, но если грянет!..
Он вытягивает вперед руку:
– Десять дней можешь скакать в том направлении, десять дней и десять ночей, и ни до какой границы не доскачешь. Все время слышишь вокруг только русскую речь, в поезде видишь только русские мундиры и на станциях – только русские надписи. Она тянется до конца света, эта бесконечная Россия.
Он достает часы:
– Половина четвертого. На Лавру времени уже не хватит. Но ты ведь еще будешь в городе, сходим, когда поток паломников схлынет, тогда будет лучше, чем в нынешней толкотне и вонище. Тут может и дурно сделаться ненароком, а некоторые богомольцы даже вшей с собой приносят. Вот она Лавра.
Он показывает на холм, покрытый лесом из позолоченных куполов и крестов. Теперь Ребман видит вблизи: по четыре малых купола с каждой стороны, а у некоторых церквей – целое множество, посредине же – один огромный, увенчанный золотым греческим крестом, со всех сторон закрепленным цепями. Это стоит того, чтобы посмотреть, даже если придется ехать издалека. Но как подумаешь, что тут такой блеск и богатство, а там, на площади, внизу города – такая бедность! И они еще приходят и оставляют здесь пожертвования!
Дома все общество уже за чаем. Блестящий отполированный самовар стоит на столе и поет свою нежную песенку. Но его никто не слушает. Пришли новые гости: слышен немецкий, французский, английский, все вперемежку. Около хорошенькой молодой ирландки (как бы Ребман хотел, чтобы это она его превозносила, а не отвратительная Аннабель!) сидит элегантный мужчина средних лет с белой хризантемой в петлице и с альбомом для рисования в руках, внимательно смотрит на ирландку, беседует с ней и рисует ее как бы между прочим.
– А вуаля, – восклицает мадам Проскурина – месье Хименес, позвольте вам представить господина Ребмана, который только что прибыл из Швейцарии.
Господин в голубом сюртуке и с жемчужиной в галстухе поднял глаза и протянул Ребману руку вместе с карандашом:
– Бонжур, молодой человек! Как вам нравится Россия?
И вот он уже снова занят своим рисунком. Что Ребману как раз и на руку, он ведь не в состоянии дать хоть сколько-нибудь вразумительный ответ по-французски. Он чувствует себя таким никчемным перед этим множеством дам, сидящих здесь, пьющих чай, курящих сигареты и говорящих на всех языках мира. Одна все твердит о княжне, которой дает уроки, другая – о поездке, в которую она как раз собирается с господами, третья – о пьесе или фильме, или концерте, на котором побывала.
Дама средних лет, по виду учительница верховой езды после хорошей прогулки, при всяком случае упоминает своего супруга:
– О если бы mon mari[9] мог это увидеть, он обожает синематограф!
«Красавица» Аннабель сидит тут же, однако ничего не говорит, все больше молча восхищается новоиспеченным русским швейцарцем. А неудачник Штеттлер приплел бородатый каламбур по этому поводу: когда новый дон приходит в дом – за каждой дамой надзор нужон!
А Ребман думает: «Бог ты мой, лучше бы я пошел в Лавру, лучше набраться вшей, чем сидеть здесь на потеху всей компании».
Вдруг он почувствовал, что у него горит спина, ясно ощутил жжение сзади, как будто кто-то поднес горящее железо и держит у него за спиной. Он обернулся. И увидел, что его зарисовывает скульптор.
– Не шевелитесь, – говорит маэстро, – меня заинтересовала ваша голова.
И тут уже все смотрят на него. Ребман вдруг почувствовал себя совершенно раздетым в этом изысканном обществе.
Наконец одна из дам замечает:
– Да, он милый мальчик. Наверное, у него еще никого нет!
И после этого замечания все закудахтали: не влюблен ли он еще?
– Нет, – отвечал герой, – пока я наконец соберусь с силами и решусь объясниться, все уже успевают дважды выйти замуж.
Тут они начинают обсуждать швейцарцев.
– Швейцарцы, – начала мадам «Монмари», – хорошие ребята, просто несколько ограниченны. Каждый итальянец, и каждый англичанин, и каждый француз, не говоря уже о русских, открыт по натуре всему миру, а швейцарцы – нет.
– Это оттого, что их в школе не воспитывают в подобном духе, – говорит другая. А первая снова:
– Mais non, нет же, причина не в этом: швейцарец – не продукт своей школы, да и все остальные таковыми не являются, все мы производное от своего народа!
Но тут мадам Проскурина вступается за своего подопечного:
– Не мучьте хорошего парня, я не хочу, чтоб он завтра уезжал от нас с тяжелым сердцем!
Тут Ребман вспоминает о том, что же его ждет впереди, а то он уж было совсем позабыл об этом. Он направляется к Штеттлеру, который одиноко сидит у окна и смотрит вниз на Крещатик. Следует хоть из вежливости расспросить его о Барановичах. Но новый приятель лишь качает головой:
– Я поразмыслил об этом деле. И вот тебе мой совет: разумнее всего молчать обо всем, что там увидишь и услышишь. Сам посуди, ты сможешь покрыть все свои расходы на дорогу. Их условие, чтобы ты проработал не меньше года. За это время где-нибудь откроется другая дверь. А пока потерпи, раз уж ты согласился на это место.
После ужина мадам Проскурина спросила, не желает ли кто сходить в синематограф на фильм «Quo Vadis, или Камо грядеши», тогда мог бы и новенького взять с собой.
Ребман отвел ее в заднюю комнату. И сообщил очень осторожно, что с удовольствием сходил бы, но у него вряд ли хватит денег. Сколько стоит билет?
– Вовсе ничего не стоит. У меня билет один на всех. Мы можем пользоваться ложей княгини, когда она сама не посещает сеанса. А что до остального, то я могу вас выручить, для этого я и здесь. Сколько у вас осталось?
Ребман достал портмоне и подал ей. Она сосчитала и говорит:
– На дорогу в Барановичи хватит. А там уж вам деньги не понадобятся.
– Да, но без копейки в кошельке я ведь никуда не смогу выехать. Я бы с удовольствием снова приехал в Киев, у меня ведь два выходных в месяц.
– Тогда попросите аванс или напишите мне. А теперь отправляйтесь!
Они пошли. К сожалению, красавица-ирландка не составила им компании: за ней явился благородный господин и забрал с собою.
Синематограф находился совсем рядом. Еще днем Ребман видел его: со множеством огней, цветными картинками и большими рекламными афишами. Он ни разу еще не был в настоящем синематографе, разве что еще ребенком, деревенским школьником, когда в здании школы показывали самую первую фильму. Тогда посреди зала установили огромную железную штуку. Окна завесили черной тканью. И вот разрешили всем входить и смотреть на это чудо: детям за двадцать, взрослым – за пятьдесят сантимов. Длилось это не дольше четверти часа, а показывали все одно и то же: пожар на лугу, полный пруд уток, эскадрон драгун. И тарахтело так, что никто не мог разобрать ни слова. А изображение скакало туда-сюда, так что глазам было больно. Но для тамошних крестьян это все равно было чудом, они все были на седьмом небе: вот стога сена с запахом гари, галопом скачущие драгуны и утки, плещущиеся в воде! Он еще помнит, как одна тетка выскочила из дома и заголосила на всю улицу: «Глядите на утей! Айя-яй-яй! Айда все смотреть!» А господин Майор потом сказал, что за этой штукой будущее, и что это еще большее изобретение, чем фонограф!
Зал, в котором все ждали начала сеанса, был заполнен до отказа. Он был огромен – как весь театр городка на Рейне вместе со сценой и гардеробом. Можно прогуливаться и рассматривать публику или присесть и послушать оркестр, играющий «Неоконченную» Шуберта. Настоящий симфонический оркестр, который играет лучше, чем на абонементных концертах в Шафхаузене или Констанце. Намного лучше, уж в этом Ребман точно кое-что смыслит.
И женщины все красивые, элегантно одетые. Фабрикант, кстати, тоже говорил, что Киев знаменит своими красавицами. И даже доктор Ной предупреждал!..
И евреи здесь тоже есть. Они громко разговаривают и ведут себя так, словно этот синематограф – их собственность. Один заявляет: «Да, милые вещицы есть, однако, у этого Шумана!».
Наконец, после часа ожидания, их впускают. И в зале Ребман снова, как когда-то давно в оперетте города на Рейне, совершенно очарован всем происходящим. «О, если бы я только мог остаться в Киеве! – думает он. – Как же повезло всем тем, кто здесь обустроился!»
Глава 6
На следующее утро мадам Проскурина занята своим новым подопечным. Берет ему билет и плацкарту. Затем устраивает его в таком же вагоне, как тот, в котором он прибыл, с той же надписью – «Киев-Волочиск».
– Я что, еду обратно? – вопрошает Ребман удивленно.
– Да, – шутя отвечает мадам, – но только не так далеко. Просто Барановичи расположены на линии «Киев-Волочиск».
Она передает его на попечение кондуктора и велит выйти на первой остановке.
– До нее ехать четыре часа, так что не вздумайте все это время простоять у выхода, как одна гувернантка, которую я когда-то давно так же отправляла в Барановичи. Когда выйдете, спросите кучера из поместья, за вами, конечно, пришлют. Вы узнаете его по карете и ливрее. В любом случае, кроме вас, на станции никто не сойдет. Возможно, месье Эмиль приедет сам.
– Месье Эмиль?
– Так называют господина Маньйна, управляющего имением.
– Это тот швейцарец, который прежде был домашним учителем?
– Да-да. Ужасно милый человек, не намного старше вас. Вы наверняка подружитесь. Если же он сам не приедет, спрашивайте кучера Орловой. Просто скажите «ку-чер Ор-ло-ва». Погодите, я вам напишу. И сразу сообщите, чтобы я знала, что все благополучно.
И вот гувернер Ребман отправляется в путешествие со многими «неизвестными». Откинулся в мягком удобном кресле. Курит папиросу. Прислушивается к разговору: теперь с ним едут одни русские. И снова возникает чувство, как будто хлопья снега падают на него со всех сторон. Язык – словно музыка. Даже голоса у этих русских другие, намного мягче, должно быть, у этих людей в горле совсем другой инструмент. Вот если бы еще хоть что-то из этого понимать! Но нет – ни слова, ни одного. Он чувствует себя выброшенным в море, где все вокруг бодро плывут к берегу, и только он один беспомощно тонет.
Поезд едет сквозь залитый водами лес, как по просеке. Иногда минует станции, но ни одной деревни поблизости не видать. Тут Ребман вспомнил, как фабрикант из Рейнгорода говорил, что русские железные дороги строились по стратегическим принципам, они соединяют между собой важнейшие пункты. Здесь никто не старался проложить пути к каждому хутору и сделать полустанок у каждого хлева.
Около 11-го часа вошел кондуктор:
– Ваша станция!
Поезд тут же остановился, но только на минутку – сигнал колокола, три удара. И вот стоит наш швейцарец, один как перст, посреди маленького перрона на захолустной станции.
Со своим парусиновым чемоданчиком в руке направляется он к станционному смотрителю и протягивает ему записочку мадам Проскуриной.
Смотритель кивает, показывает в сторону низенького деревянного домика. И любопытствует:
– А галоши есть?
Ребман его не понимает. Он говорит «мерси». Заходит за дом. И сразу понимает, о чем хотел спросить смотритель: перед ним простиралась не привычно чисто выметенная площадь, как дома, а желтоватое озеро, которому ни конца, ни края не видно. Не обнаружил он и экипажа с ливрейным лакеем на запятках. Стоит лишь одна допотопная повозка, запряженная двумя взъерошенными лошадками, а сверху на козлах – молодой парень в красной рубахе и фуражке с козырьком.
«Они обо мне забыли», – думает Ребман, возвращается к смотрителю и спрашивает по-немецки, можно ли от него позвонить по телефону. Но мужчина в окошке его не понимает. Тогда Ребман выпалил скороговорку, которую он зубрил всю дорогу: «кучер Орло-о-о-ва»!
Служитель выходит из бюро, открывает заднюю дверь:
– Да вон он стоит!
Тут нашего «придворного воспитателя» осенило: тот парень в красной рубахе с соломенного цвета волосами и есть пресловутый «кучер Орло-о-о-ва». А ведь малый не подал никакого знака: застыл на своих козлах, неподвижно глядя перед собой, никого и ничего не замечая вокруг.
Тут уж Ребман почувствовал себя полным дураком. И пошлепал через площадь, по косточку в воде. Протягивает белобрысому парню записку. Но тот качает головой и что-то бормочет себе в бороду: судя по всему, он не умеет читать. Тогда Ребман вопрошает, уже в полном отчаянии:
– Кучер Орло-о-о-ва?
И тут лицо парня просияло, улыбаясь во весь рот, он скинул шапку:
– Так точно-с!
Но и теперь не спустился. Господину гувернеру с чемоданчиком пришлось самому взбираться на повозку, которая представляла собой подобие перевернутой широкой и плоской ванны, куда набросали сена и протянули поперек веревку. Он еще не успел усесться, как кучер, словно очумелый, понесся по озеру. Будто пьяный, с криком летит он во весь опор:
– И-и-и! Но-о-о, черти-и-и!
– Не так быстро, – кричит Ребман, – не гони так безумно!
Но кучер понял все наоборот, решил, что для гостя езда недостаточно бойкая, а ведь он желает оказать чужестранному барину честь и показать, на что способен:
– И-и-и! – орет он вовсю, – но, пошли!
Тут Ребман ухватился двумя руками за веревку и тоже стал орать во все горло, расходуя весь свой запас русских слов:
– Щи-иии! Боо-оорщ! Ку-леее-бяя-аа-каа! – все слова, которые только знал.
Они уже выехали из озера на широкую грязную дорогу. Это, верно, и есть «улица», фабрикант ведь говорил, что улица у русских там, где можно проехать, а река – там, где вода течет.
Дорога пошла в гору, но только самую малость, и они все так же скачут галопом.
– И-и-и! – орет краснорубашечник, и лошади мчатся так, словно за ними и вправду сам черт гонится. Еще никогда в жизни нашего Ребмана так не болтало и не трясло.
Ни лугов, ни садов, ни кустов, ни заборов, ни телеграфных столбов, ничего в этом роде нигде не видно. Ни одной горки, совсем ничего, кроме черной равнины то тут, то там залитой водой. Так, должно быть, выглядел мир в первый день творения, о котором Святое Писание говорит: «Земля была безвидна и пуста…»
Вдруг со стороны поля послышались возгласы. Ребман повернулся: на большом участке пашни стояла целая толпа босоногих девок и парней, махавших руками в их сторону. Тут он уже без слов все понял, отпустил наконец веревку и махал в ответ, пока они не пропали из виду.
Они уже ехали около получаса, когда кучер вдруг сделал знак кнутом. Ребман смотрит ему через плечо и видит внизу на склоне церковь с зеленой башенкой, а рядом – окруженное со всех сторон деревьями длинное низкое строение, тоже белое с зеленой крышей.
Вероятно, это и есть господский дом.
И действительно, уже через минуту они остановились у его ограды. Кучер командует паре: тпру-у-у! Спешивается. Открывает ворота. И они въезжают в усадьбу. И тут дороги нет, только колея от повозки с уже успевшими зарасти травой рытвинами.
Из дома к ним навстречу выскочили два огромных пса, волкодавы-бернардинцы.
– Милорд! Леди! – кричит им вслед элегантный господин с кудрявой головой. Затем он спускается с террасы и представляется:
– Маньин, – и подает Ребману руку. И тоже первым делом интересуется, есть ли у приезжего галоши.
– Меня уже об этом спрашивал станционный смотритель в Барановичах.
– И недаром: в России без галош – как без рук. А вот зонтик можно было и не брать.
Кучер делает вид, что чего-то ждет. Маньин жестом отсылает его. Затем он просит прощения за то, что не прислали лучшего экипажа. По такой грязи, как нынче, порядочному экипажу просто не проехать.
Когда они по большой циновке из кокосовых волокон зашли в переднюю, то увидели целую выставку галош всех размеров.
– Вот, взгляните, – показывает Маньин, пропуская Ребмана в комнату. – Приведите себя скорее в порядок, сейчас подадут обед. Распакуйте только самое необходимое: скорее всего, вы завтра же поедете с нами на Кавказ.
Ребман поставил чемодан и осмотрелся. Довольно маленькая, но уютная комната: слева от дверей – выкрашенный белым шкаф, рядом – простой комод, железный умывальник, такой же, как в семинарском общежитии, справа – железная кровать, а в углу напротив – икона с горящей перед нею красной лампадкой. Под окном впереди – стол. Из окна сквозь кусты бузины видны деревянные домики, выстроенные в ряд, некоторые – тоже под зелеными крышами, некоторые – покрыты соломой или черепицей, а кое-где – и вовсе досками.
Ребман умылся и побрился. И тут в дверь постучали. Женский голос что-то кричит по-русски, а он опять ничего не понимает.
Через минуту снова стук:
– Барин, кушать подано!
Ребман вышел в салон, где его уже поджидал щегольски одетый Маньин:
– Вы не поняли, что кричала вам девушка?
Ребман качает головой, он выучил кое-что по-русски, но, кажется, как раз те слова, что не употребляются в живой речи.
– Обед подали, значит, уже накрыли на стол.
Они входят в большую, выкрашенную светлой краской комнату. За накрытым столом стоит старушка с завитыми снежно-белыми волосами.
«Кто-нибудь из прислуги», – думает Ребман.
Но Маньин ему говорит:
– Подайте же даме руку!
Ребман обходит вокруг стол и приветствует «даму». Она приветливо улыбается и произносит что-то вроде «мецки-и-нанимаю». Маньин переводит:
– Татьяна Петровна не понимает по-немецки. Она дальняя родственница семейства Орловых и живет с нами.
Пока он это говорил, послышались быстрые шаги, а затем – оживленный голос:
– А, месье Ребман, бонжур! Хорошо добрались?
– Мадам Орлова, хозяйка дома.
Ребман все пытался вообразить, как же может выглядеть хозяйка такого большого поместья. Конечно, он не ожидал увидеть важную даму, в короне и со скипетром в руке. Однако на такую роль скорее подошла бы особа представительная, чтобы сразу было видно, что за птица. Он почти страшился своей встречи с нею. Но вот она стоит перед ним – и страха как не бывало: вылитая няня из родной деревни, та, что присматривала за маминой лавкой и помогала ей на рынке. Он широко, от всей души улыбается. Она, тоже с улыбкой, приветствует гостя на хорошем французском:
– Soyez le bienvenu! Voila mon fils Pierre. Добро пожаловать! A это – мой сын Пьер.
Она указывает на рослого парня в шелковой русской рубахе, который подходит и с принужденным поклоном неуклюже подает «лапку»:
– Бонжур, месье!
Сначала Ребман несколько озадачен: они с учеником почти одного роста. Но как же он похож на Александра Третьего в молодые годы! Однако учитель заметил, что, выговаривая слово «месье», молодой человек «цыкает», совсем как маленький ребенок.
А вот вошел видный офицер: седеющая борода, три звезды на погонах, похожих на золотые драницы.
– Colonel Куликовский, друг семьи, – представил его Маньин.
– Ну, прошу всех к столу! – говорит Мадам, и все рассаживаются по местам. Ребман садится, куда ему указано: как раз визави своего воспитанника.
Девушка в белом фартуке и чепчике подает. Татьяна Петровна разливает суп по тарелкам.
Тут всего вдоволь, полные блюда с разными яствами. Свежая редиска и к ней – четыре-пять сортов хлеба, очень тонко нарезанного. И водка. Оба господина, Маньин и офицер, сразу выпивают по одной и заедают соленым огурцом с черным хлебом.
– Эх!
Ребману тоже хотели налить: русская водка просто чудо как хороша! Но он отказывается. Он непременно тут же свалится с ног, смеясь, поясняет Ребман, он еще никогда не пивал водки.
– Еще научитесь, – заговорщицки ухмыльнулся Маньин.
Но у Ребмана другие заботы: его теперь больше занимает этот юный блондин напротив, с голубыми глазами и носиком, как у мопса. Мальчик сидит, скучая, одну руку все время держит под столом, другой ковыряет редьку, словно это клубника. Из всего предложенного он ест только белый хлеб, и то выковыривает мякоть, разминает ее всеми пальцами, скатывает в шарики и, наконец, проглатывает.
«Если б я что-либо подобное себе позволил, мама тут же прогнала бы меня из-за стола», – думает Ребман, и учительская совесть подсказывает ему, что такого следует выставлять за дверь. Он взглянул на Мадам: она не обращает на сына ни малейшего внимания, сама черпает, ест и причмокивает, говорит с полным ртом, теперь уже по-русски.
Но полковник, он-то как ест! Когда жует – медленно, можно даже сказать торжественно – вся его огромная борода величественно движется то вверх, то вниз. Время от времени он проводит мизинцем вдоль усов, чтобы ничего не осталось снаружи. Позднее Ребман часто наблюдал, с каким достоинством едят мужчины с окладистыми бородами.
На первое подали хороший суп из капусты, с булочкой на манер «берлинера», только вместо повидла внутри – фарш из рубленого мяса. Затем были пироги с мясом под золотистым соусом из сливочного масла. Удивительно изысканные на вкус, они просто таяли во рту, но к ним не подали гарнира.
Потом принесли «Петькино любимое блюдо», куриное фрикасе. Его он взял достаточно, хотя не очень-то силен по части еды. Так, по крайней мере, сказала Мадам, глядя на своего отпрыска влюбленными глазами в то время, как он кусок за куском поглощал нежный пирог. Мальчик нуждается в усиленном питании, так как он очень внезапно вырос, а крепким здоровьем не отличается.
Последнее блюдо оба господина, Маньин и Полковник, запивали чем-то неизвестным. Ребман увидел, что того же предложили и Пьеру. Тогда он и сам с радостью пригубил. Но после первого же глотка смекнул, что здесь что-то не так, и поставил стакан на место.
– Это квас, – пояснил Маньин, – наполеоновские солдаты прозвали его «свинским лимонадом».
«И были правы», – про себя подумал Ребман.
На десерт подали крем – так, во всяком случае, решил Ребман. Но когда он взял полную ложку и сунул в рот, у него просто волосы дыбом встали: такой холод прошел по всему телу. Тогда он набрал в ложку уже совсем чуть-чуть и подождал немного. Все остальные берут по две ложки и всякий раз перед тем, как зачерпнуть, опускают ложку в воду.
– Вам наверняка знакомо это лакомство, его ведь в Швейцарии тоже едят, это, по-нашему, глясе, а по-русски – мороженое, их любимое угощение. Вы еще научитесь этому удовольствию!
Но Ребман извиняется, ему этого нельзя, его желудок не переносит подобного.
Когда все уже поели, Маньин бросил взгляд в сторону Мадам:
– Можно?
Она кивает:
– Можно!
Тогда все встают, трижды крестятся на икону в углу, мальчик не отстает от взрослых. Потом все целуют хозяйке руку.
– Это такой обычай, – пояснил после Маньин, – таким образом после каждой еды благодарят хозяйку за угощение.
От него не требуется прикладываться к ручке, но поблагодарить на словах он обязан, ибо это подразумевается правилами хорошего тона. А теперь ему пора познакомиться со своим воспитанником. Как раз самое время им вдвоем прогуляться по саду:
– Пьеро, пойдите-ка прогуляться с месье!
– Как я должен обращаться к барчуку?
– Как и мы все. Называйте его Пьер.
Они проходят в сад через салон и крытую террасу. Ребман – справа, воспитанник, в светлой русской рубахе и полусапожках, – слева. Пьер успел надеть галоши и фуражку, совсем детскую, с пуговицей на околыше.
Поначалу они молчат, каждый ждет, что другой начнет беседу. В конце концов Ребман спрашивает молодого человека, говорит ли тот по-немецки.
– Зэр кляйн («совсем маленький»), – откликается тот почти смущенным от застенчивости мальчишеским голосом.
Господин учитель сразу развеселился: мол, не такой уж и маленький, по крайней мере, на вид.
Тут уже засмеялся и воспитанник:
– Надо было сказать wenig, а не klein!
Они медленно прогуливаются вниз по дорожке, затерявшейся в зарослях парка. Вокруг валяются сучья, деревья выглядят совсем одичалыми, ничуть не ухоженными. Дорожки позарастали травой. Скамейки вот-вот развалятся.
«Видно, что здесь нет хозяина», – замечает про себя Ребман. Он и не догадывается о том, что за своим «Петькой» и его новым гувернером внимательно наблюдает мать, которая стоит на пороге выходящей в сад веранды.
– Какой ваш любимый предмет? – спрашивает Ребман у своего нового ученика. Ответ последовал быстрый и решительный:
– История, русская история! Я уже дважды прошел курс от начала до современности. Меня, собственно говоря, ничто другое не интересует.
– А кто из деятелей русской истории вам особенно по душе?
– Царь Иван Четвертый, ошибочно прозванный Грозным! – гордо ответил молодой человек.
На это Ребман удивленно возразил:
– Почему же именно он?
– Потому что он-то уж знал, как надобно управлять Россией!
– И как же?
– Кнутом!
«Ого, да ты и сам уже маленький деспотичный дьяволенок с невинными голубыми глазами!», – думает Ребман, а вслух замечает:
– Но кнут в наше время уже не годится, то было в эпоху средневековья, тогда людей еще усмиряли кнутом.
– России это во все времена подходит. Ею можно управлять только плетью. К сожалению, у нашего Николашки кулак слаб. Вас удивляет, что я говорю «Николашка»? Это, конечно же, не комплимент, но ничего лучшего он не заслуживает.
Ребман решительно отказывается понимать: ведь это же молодой дворянин говорит о своем могущественном государе-императоре! Кажется, его воспитанник что-то заметил и поэтому добавил:
– Не стоит удивляться: так же, как и мы, думают даже его ближайшие родственники. А в народе о нем говорят: сидит у себя в Петербурге и сам боится того, что царь. Знаете анекдот о его появлении на свет?
И тут же с готовностью пересказывает его Ребману:
– Когда родился наш Николашка, повитухи с ужасом увидели, что у него вовсе нет головы. Сначала они чуть не умерли со страху: когда царь-батюшка проведает, велит всех казнить, ведь известно, каков он в гневе! Долго думали они и гадали, как же быть, и, наконец, сошлись на том, что поручат печнику сделать голову, так чтобы никто ничего не заметил: вот эта голова и управляет теперь Россией!
Он зло оскаливается:
– Его императорское величество!
Они проходят через огород. Тут уже все в полном порядке, даже виднеются в земле десятки заранее подготовленных лунок для рассады! И кусты ягод у высокой и широкой стены аккуратно подвязаны – они уже все в цвету. Тачки и грабли и вся прочая утварь начищены до блеска и выставлены в стороне, совсем как в дедовском саду в Вильхингене. Даже цветы есть: розы, лилии, тюльпаны, примулы, незабудки.
«Как дома», – подумал Ребман, и у него потеплело на душе. Когда воспитанник заметил его восторг, он спросил:
– А вы уже видели птичек?
Пьер, крадучись, идет вдоль забора, будто боится кого-то разбудить. Наконец он останавливается и машет Ребману:
– Смотрите, они еще очень маленькие, им всего неделя. Всех котов заперли, а не то – прощайте, птенчики!
Ребман смотрит на него в полном недоумении. Но в тот момент, когда он уже собирался что-то сказать о кнуте для людей и заботе о животных, вдруг услышал:
– Я знаю, о чем вы думаете: почему это он так любит каких-то пичужек, а не людей? Знаете ли, если бы люди были, как птицы и другие живые существа, они не нуждались бы в порке.
Пользуясь случаем, Ребман спросил, читал ли его собеседник Толстого. Воспитанник удивлен:
– Вы произнесли совершенно правильно – «Талстой». Мой бывший преподаватель всегда говорил «Толштой» с ударением на первом слоге! Да, я читал Толстого. Но об этом вам лучше поговорить с маман, в таких вещах она разбирается лучше моего.
– Мне говорили, что семья Орловых была с ним дружна, правда ли это?
– Да, и даже очень дружна, спросите только у маман! А сейчас мне пора, нужно позаниматься – вы ведь знаете, завтра мы уезжаем. Дорога не дальняя, только на Кавказ. Так что до встречи за чаем!
«Всего лишь на Кавказ – звучит так, как говаривал тот богач из Вильхингена, что, мол, быстренько съездил в Милан купить жене новую шляпу», – думает Ребман. Потом он еще немного гуляет по «парку», однако скоро приходит в раздражение – так запущенно выглядит все вокруг. «Впрочем, люди они милые, доброжелательные и вовсе не те людоеды, какими их представлял Штеттлер. Всегда многое зависит от того, каков ты сам и как себя поведешь. Я, во всяком случае, буду стараться не будить спящего медведя. Если он вообще существует, этот медведь».
Послеобеденное время мигом пролетело. В половине четвертого позвали к чаю, и все снова собрались в столовой, как вчера у мадам Проскуриной, и было много вкусного.
Затем Ребман разобрал вещи, обставил свою комнатку, развесил по стенам картинки из «юности» – фотографии своей школы и семинарии. Он еще толком не окончил, а уже снова стучат:
– Барин, ужин подали!
И снова на столе еда. На сей раз перепела! Все говорили по-русски, Ребман, как рысь, навострил уши, но все равно не разобрал ни слова. О чем же они говорят? Конечно же, о тех вещах, о которых пишет в своих книгах Толстой!
Он наблюдает за своим подопечным. Уже в обед ему не понравилось, как тот мусолил пирог с мясом: опершись на локти, накалывал еду вилкой и обгрызал кусок, роняя остатки в тарелку. Сам Ребман, правда, тоже никогда не ел птицы, оттого ему и не невдомек, что ее положено брать пальцами. Но то, так как ест этот парень, уж точно никуда не годится: схватил двумя лапами и рвет зубами, как молодой пес! Ментор хотел уже было одернуть своего воспитанника – это же входит в его обязанности! – но тут он заметил, что Мадам ест точно так же.
Затем они переместились в салон, в котором мебель была покрыта чехлами, словно готовились к переезду. Там Ребман должен был рассказать, как прошло его путешествие и как он себя чувствует в России.
– До сих пор все складывалось очень даже неплохо. Путешествие было хорошим. Во Львове в купе подсела русская студентка, она мне потом очень помогла на границе. Милейшая девушка! Учится в Берне у Кохера, ехала домой в Одессу на каникулы.
Уж не влюбился ли он часом?
– Нет-нет! М-м-м, она была рыжеволосая, а это не совсем мой случай.
– О-ля-ля! – воскликнула Мадам, – мы вас именно об этом и предупреждали! У вас случайно уши не горели? Это же наверняка была жидовка!
– Трудно сказать. Ничего особенного я не заметил. Она ничем не отличалась от других – нет, вела себя даже лучше! Заботилась обо мне, как сестра.
– Это и есть главный их фокус, так птичка всегда сама попадет в сети. Она вас ни о чем не расспрашивала?
– Нет, только о том, куда я еду.
– И вы, разумеется, все ей рассказали, со всеми подробностями!
– Ну и что ж тут такого, это ведь не запрещено. Я даже немного собой гордился.
Маньин кивает и говорит:
– Именно в данном случае, возможно, ничего и не было. Но дело совсем не в этом. Чего ради она с вами заговорила? Вы не видели военных в Волочиске и на границе?
– О да, и в большом количестве, начиная уже от Кракова.
– И вы ничего особенного не заметили? Вы что, газет не читаете?
– В тех, что я читал, ни слова не было ни о каких затруднениях…
Маньин не дал ему договорить:
– Но вы ведь видели военных в Кракове? И на границе, и в Волочиске. Если следовать здравому смыс…
Но тут уже Ребман его перебил:
– Это что? Не допрос ли вы мне учиняете?
Но Маньин очень спокойно возразил:
– Я говорю в ваших же интересах, о нас я не беспокоюсь. В России опасно много болтать, особенно с незнакомцами – от этого уже многие пострадали. Россия – это ведь вам не Швейцария. Про себя можете думать, что хотите, даже что царь – болван (кстати, мы тоже так считаем), но говорить об этом вслух нельзя никому – кроме нас, разумеется. Будьте очень осторожны. В этой стране уже многие о спичку споткнулись, да так, что и подняться потом не сумели.
Тем временем Ребман уже пришел в себя. Собственно говоря, он не так уж и неправ, этот Маньин: то же самое говорил ему и шафхаузенский фабрикант, прямо слово в слово. Он пытается перевести разговор на другую тему:
– А на каком основании вы можете утверждать, что та студентка из поезда – еврейка?
– Как это – на каком? Да ведь девяносто процентов тех, кто в Швейцарии себя выдает за русских, на самом деле – жиды, и с русскими у них столько же общего, как у пруссаков со швейцарцами. Какие же они русские?!
– Да, – вступил в беседу молодой Орлов, – достаточно вспомнить русско-японскую войну, которую они нам любезно помогли проиграть! Знаете анекдот по этому поводу? В битве при Мугдэ русские части попали в засаду. Как только командир отдал приказ сложить оружие (потому что перспектива только одна – бойня), все сразу последовали приказу. И только на самом краю цепи кто-то продолжал с остервенением отстреливаться. Командир послал адъютанта передать, чтоб прекратили стрельбу, потому что вмиг перебьют всех разом. Адъютант пришел на место, и что же он видит? В траншее на спине лежала кучка евреев, стреляя просто в небеса!
Тут в салон спустилась и Мадам, сообщив, что она уже собрала все вещи.
– Вы действительно уезжаете? – спрашивает Ребман.
– Завтра утром, восьмичасовым поездом. Если бы вы раньше приехали, то могли бы как раз поехать с Пьером. Но так даже лучше, сможете немного акклиматизироваться.
– Да, но чем же я здесь буду заниматься?
– Ничем, погуляете, попривыкните, обживетесь. Не бойтесь, мы вам не дадим умереть с голоду.
– Да, но я же приехал сюда не бездельничать!
Мадам хохочет:
– Ох уж эти швейцарцы! Вы все думаете, что если вы несколько часов не попотеете, то уж и кусок жизни пропадет впустую. Мы рассуждаем по-другому. Для нас время не имеет значения. Зачем спешить, куда? Вы у нас останетесь до конца ваших дней. Апропо, кажется, кто-то неудачно пошутил, сказав, что мы были дружны с графом Толстым?
– Да, так мне сказали.
– И вы подумали, что это для нас большая честь? Так вот знайте же, что для нас никогда не было честью состоять в дружбе с этим паяцем.
Ребман не верит своим ушам. Она называет паяцем величайшего из когда-либо живших на земле! Что это с ней сделалось? О царе, своем господине и императоре, полный титул которого звучит как «милостию Божиею Николай II Александрович, Государь, Император и Самодержец всея Руси, Царь Казанский, Астраханский, Царь Сибири, Грузии, Великий Князь Финляндский и Литовский, Ростовский и Подольский, повелитель Великия, Малыя и Белыя Руси и многих прочих стран Самодержец и Повелитель», они позволяют себе говорить в уничижительном тоне! Мы же знаем пословицу: «Кто ж перед Богом не согрешил и царю не задолжал?» И о своем величайшем писателе, которым должно бы гордиться, судят как о паяце. Тут уж я ничего не понимаю!
Мадам не ожидает от него ответа и продолжает вещать:
– Он одевался как крестьянин, а жил как великий князь и ездил в первом классе. Спал на чистой мягкой постели, обложенный тридцатью подушками и шелковыми одеялами. Обеды ел из пяти блюд, поглощал еду, как молотилка. О религии и человечности писал, но только писал. Проповедовал целомудренную жизнь, а сам бегал по бабам! А мы плачем по нему и каемся в его грехах. Семьдесят лет творил все, что только позволяют на Святой Руси деньги и имя, а перед смертью вырядился в мужицкую рубаху… et allors, скажите же мне, не комедиант ли это?
Ребман знал Толстого со школьной скамьи по его книгам, которые он все перечитал. В школе им восхищались как никем другим, и не только учитель литературы, который считал этого писателя гением, постигшим самую суть вещей, но и учитель религии, почитавший его как второго Христа.
А тут его смеют так унижать! И кто же? Собственные его соотечественники!
Ему вспомнилось, как на уроке литературы однажды речь зашла о личной жизни Гете, и профессор сказал, что на это никак нельзя обращать внимания, ибо речь идет о великих людях: где много света, там и большая тень!
Вслух же он заметил:
– Мало ли что говорят.
Но Мадам качает головой:
– Ни к чему было устраивать весь этот балаган: в глазах тех, кто его не знал, он все равно был бы великим человеком. Но то, что он устроил весь этот спектакль, для меня как раз и является доказательством его шарлатанства. Лермонтов поступил совсем иначе: он до последнего вздоха оставался аристократом.
Воспитанник тем временем снова исчез.
– Он охотнее всего остается в обществе своих любимых книг, – извинилась за сына мать.
Полковник сидит в углу и раскладывает пасьянс. Ни взглядом, ни словом он не вмешался в дискуссию. Поскольку Ребман тоже ничего не говорит – а что можно еще добавить к такому приговору? – Мадам просит Маньина что-нибудь сыграть: так скорее пройдет дурное настроение, которое всегда ее посещает, когда речь заходит о господине из Ясной Поляны. Но тут Ребман спросил:
– Вы действительно знали его лично? Он у вас бывал?
– Вы имеете в виду Толстого? Нет, я его встречала в Москве, и высказала ему все, что о нем думаю.
– А на основании чего же господин Мозер мог утверждать, что вы?..
– О, – говорит Мадам презрительно, – они вместе проходили военную службу в Крыму – как говорится, не одну ночь провели рядом: господин Орлов и Лев Николаевич.
Между тем Маньин завел граммофон. На дивной красоты столике стоял он, «His Master‘s Voice». Маньин проигрывает пластинки одну за другой, все больше русские, каждый раз объявляя: Нежданова, Шаляпин, Лебедев, Цесевич и так далее. Ребман готов был слушать всю ночь напролет…
В девятом часу еще раз позвали к чаю. Мадам сидит перед самоваром и раскалывает кусальницей сахарную голову. Потом она спрашивает, кому сколько положить, и серебряными щипцами раскладывает куски по стаканам.
– Нет, сегодня я не настроен на сладкое, – говорит Полковник.
Господа пьют из стаканов, которые вставлены в серебряные подстаканники. У каждого свой собственный, это видно из выгравированной на подстаканнике монограммы.
Кажется, наступил момент, чтобы отправляться спать. Все желают друг другу покойной ночи, перед тем перекрестившись и поблагодарив хозяйку за чай.
В салоне Маньин ждет, когда все разойдутся. Тогда он говорит Ребману, чтобы тот заметил себе, что в России, когда говорят «покойной ночи» или «добрый день», всегда подают руку, даже если люди друг с другом едва знакомы. Это называется поздороваться или попрощаться. Пренебрегать этим обычаем – неучтиво.
– Ну, спите покойно. У вас всего хватает? Пока вы еще не можете сами объясняться с прислугой, говорите мне, если что-нибудь понадобится, – я распоряжусь…
Глава 7
Утром сразу после чаю, который здесь, судя по всему, служил заодно и завтраком, – подали экипаж. Но на сей раз настоящий – тройку! Все вычищено до блеска. Сбоку монограмма. Резиновые колеса. Великолепные, отливающие блеском вороные, с хвостами почти до земли. Упряжь с серебром. Вправду, чудо-кони, особенно тот, что посредине, – с дикими огромными глазами, мерцающими тусклым, но теплым светом. А на козлах сверху – мужичок-коротышка. Когда он встает, ему приходится приподнимать полы пальто, чтоб не споткнуться, так оно ему длинно. Зато в обхвате мужичок – с огромную бочку. И шея чисто выбрита, жирна и красна. К поясу сзади он прикрепил часы, чтоб господа могли видеть, который час. Так вот он каков, настоящий «кучер Орлова»!
А Мадам-то! Разрази меня гром! Если бы она вчера появилась в таком облачении, Ребман уже не решился бы улыбаться ей во весь рот, нет, ни за что на свете! Теперь она никак не похожа на няню из Вильхингена, сразу видно, что перед вами миллионерша. Драгоценности так и сверкают. А воздух вокруг нее распространяет такой изысканный аромат, словно она только что, как джин в восточной сказке, выпорхнула из парфюмерного флакона.
Ребман надеялся, что его пригласят прокатиться до станции, тогда бы он на обратном пути мог почувствовать себя в роли настоящего барина. Но никто его не пригласил. Зато месье Эмиль – так здесь все называют Маньина – конечно же, едет. Он провожает господ до Киева.
И тот парень в русской рубахе, который встречал Ребмана, тоже отправляется, но в его повозке разместились только мешки и чемоданы.
Когда Пьер уже собирался садиться, он незаметно отвел Ребмана в сторону:
– Месье, пожалуйста, присматривайте за птичками. За котами присмотрит Татьяна Петровна.
И вот стоит наш гувернер в одиночестве и размышляет о том, с чего ему, новейшему Колумбу, начать свои открытия: с дальних или с ближних окрестностей? Пожалуй, что с ближних, дальних странствий с него довольно.
Он надевает новую фуражку, которой предусмотрительно обзавелся, чтоб придать своему виду некий «русский оттенок», и для начала обходит маршем вокруг усадьбы. Прикидывает с видом знатока: дом много больше, чем может показаться с первого взгляда. Не меньше четырнадцати комнат, все на первом этаже. К тому же еще флигели для прислуги – как раз напротив церкви. Затем он прошел вниз к тем домикам, что видны из его комнаты, и оказался в настоящей маленькой деревеньке, со всем, что деревеньке иметь положено: посредине, под черепичной крышей – колодец с деревянным воротом, а вокруг него – кузница, столярная, каретная, слесарная, седельная и все прочие виды мастерских будок. Совсем как в родной деревне, только поменьше, попримитивнее и без следа какой-либо механизации. И сельскохозяйственной техники тоже никакой, даже косилки не видно – и это в таком большом имении!
Вокруг стоят повозки, все грязные, и не больше той, в которой Ребмана доставили со станции. К чему машины, если ручной труд дешевле: ничто не ломается и на содержание никаких расходов!
Дома – а скорее хаты – все деревянные, вроде блочных, одноэтажные, покрытые жестью, соломой или черепицей. И на всех крышах полно мусора. К некоторым приставлены лестницы. Но нет ни одной похожей на те, что делают дома. Здесь на перекладины идет необработанное дерево, а дома их мастерят из ровно вырезанных и аккуратно обструганных, прочно сбитых планок. И через каждые шесть-восемь ступенек вставлена поперечная планка, чтобы скрепить лестницу. А тут – только две тонкие палки, круглые, да еще и суковатые, а спереди и сзади, далеко друг от друга – прибиты поленья. Расстояние между ними – полшага, а то и целый шаг. Зато здешняя лестница как нельзя лучше вписывается в общую картину – эдакая местная красавица…
Ребману еще только предстоит узнать, насколько «практично» устроено сельское хозяйство у русских. Это он откроет для себя позже, и еще скажет: «У нас сеют из мешочка, горсть за горстью, чтобы каждое семечко легло в грунт на свое место. А русский сеятель держит пред собою деревянное сито, которым он беспорядочно трясет, расточительно разбрасывая семена куда попало. Нам все хорошо в меру, а для русских ничто не слишком».
Из самого большого хлева слышны ржание и топот. Ребман с удовольствием пошел бы поглядеть, но ведь грязища такая, что не пройти и в галошах. Через открытые двери можно, однако, сосчитать поголовье лошадей. Тридцать одна. Вместе с теми пятью, что поехали на станцию, выходит как раз три дюжины. Коров же не больше, чем у нашего Хансйорга, самого бедного хозяина в Вильхингене.
Босая женщина с тугими икрами набирает у колодца воду, крутит деревянный вал, а тот скрипит и вопит так, что наверняка слышно в господском доме. Она наполняет два полных больших ведра, поддевает их на коромысло и бежит к деревянному корыту, что стоит перед конюшней. Да еще и поет при этом! Она вежлива, но не то чтобы расположена к болтовне.
– Здрасссть! – только и процедила она. У Ребмана возникло подозрение, что крестьянам запрещено заговаривать с барином-чужестранцем.
Он снова возвращается наверх к усадьбе, мимо церкви, но упирается в высокий дощатый забор. Попробовал подтянуться, но сверху все в колючей проволоке. Тут еще господин гувернер споткнулся о грабли, запутался в колючках на куче разбитых бутылок – здесь валялось множество осколков битого стекла. И вдруг его соколиный глаз обнаружил в заборе неплотно прилегающую доску. И ту, что рядом с ней шатается, тоже. Один толчок коленом – и перед ним открылись прекрасные ворота, вполне подходящие для человека его комплекции. Он прошел в образовавшийся проем и попал прямо в заросли старой крапивы, но зато сразу оказался в нужном месте. Вот она церковь. А там, на дне впадины, словно в корыте, лежит деревушка – такая маленькая, что, кажется, можно ее всю накрыть рукой.
Церковь деревянная, выкрашена белым. Судя по размерам и по тому, что она расположена совсем близко к господскому дому, ее, очевидно, построил прежний владелец имения. Если смотреть снаружи, у церкви пять куполов, но не золотые, а зеленые, в середине – большой, с греческим крестом наверху, а с каждой стороны – по меньшему, как он уже видел в Киеве. Колокольня стоит особняком, и на ней нет часов. И самое примечательное: возле портала – своего рода помост под деревянной крышей, вполовину человеческого роста высотой. И на этом помосте, а не на колокольне, – пять колоколов, один за другим установлены в ряд – так, что не раскачать. Ни на одном из колоколов нет ни ручки, ни каната, ничего, кроме свисающей до полу веревки, привязанной к языку. Ребман нынче утром уже обратил внимание, что не было слышно трезвона к службе, не звонили и к молитве, не отбивали даже часов. Теперь загадка разгадана: часов нет вообще, а звонить нельзя. А как же тогда быть по воскресениям, на похоронах и свадьбах?
За церковью – кладбище. Так вот почему с той стороны парка – забор с колючей проволокой по верху да еще и с битым стеклом по низу!
В церковь зайти нельзя, она заперта. Ребман смотрит вниз на деревеньку, настоящее украинское село в низине, где все как на ладони, собрано в кучу, как будто сгребли лопатой хлам. Зимой село все в снегу, весной – в грязи, летом – в пыли: или утопает, или задыхается. О том, что деревни в России строят в низинах для защиты от страшных метелей, наш учитель тоже еще не ведает.
«Ну что, пойти? Всего несколько шагов, да и хозяева ведь в отъезде…»
Он сползает по склону вниз и смотрит, нет ли где улицы или хоть дорожки, но не видит ничего, кроме глубоких рвов, прорытых от канавы до дома и между хатами.
Когда он спустился к канаве и вышел к покосившейся серой избе, то увидел, что эта канава, собственно, и служит «улицей». Глубиной в два человеческих роста, пролегла она посреди деревеньки, пересекая ее всю. А по краям, слева и справа, жмутся друг к дружке, как гуляки, только что вставшие после восьмидневной попойки, с десяток «домов». Что бы сказал господин Майор, владелец «Рыцаря», самой роскошной гостиницы в Вильхингене, если бы увидел такое? Но он теперь уже ничего не скажет, ибо уже два года как в земле лежит.
Ребман взбирается по склону, перелазит через плетень, который тянется от хаты до хаты: на совсем заросшем травой дворе – стая кур, а в открытой помойной луже – кучка черных свиней. Совсем позади, у круглого, покрытого соломой стога сена, на трехногой табуретке – дедушка, в овечьем тулупе и меховой шапке, сидит и дремлет: голова клонится все ниже и ниже, а потом вдруг раз, и рывком вскидывается. Этот старик – здесь единственный взрослый, ему бы следить за мальчонкой, что крутится у его ног, да и за курами, и за свиньями – а он знай себе дремлет! Но на весеннем теплом солнышке, которого все так давно дожидались, старика совсем разморило.
Ребман открывает калитку и входит во двор. Машет малышу, чтобы тот не испугался. Но тот и не думает бояться – с чего бы это! – сосет себе указательный палец и улыбается во весь рот. Тогда Ребман подходит к нему и гладит по головке. Ребенок сидит на упавшем, наполовину затонувшем в грязи бревне, белобрысый, голубоглазый, почти голый, в одном платьице, – как поросенок в луже. Таких и в Вильхингене немало. Когда мать вечером приходит с поля, бьет себя ладонью по лбу: при тебе бы стоять целый день со щеткой наготове!
Из хаты слышен стук кастрюль и прочей кухонной утвари. Другое дитя с кастрюлей в руке подходит к открытой двери: наверное, услышало возню во дворе. Завидев чужого барина, ставит кастрюлю на землю, подбегает к братишке и пониже натягивает платьице, чтоб прикрыть покрасневший животик.
«Что же у меня есть с собой для детей?», – думает Ребман, и тут же вспоминает, что в ящике комода в его комнате сохранились две плитки шоколада, еще с дороги. «Их и принесу в следующий раз этим двум малышам, они наверняка нечасто видят сладости. Как же выглядит хата внутри?»
Он делает знак ребенку, и тот ведет его, как ни в чем не бывало, прямо в комнату, берет корзину, что стоит перед печкой, в которой сидят две наседки. Наверное, думает, что барин хочет на них поглядеть.
Ребман кивает и улыбается, давая понять ребенку, что ему эти две мамаши очень нравятся. Затем он осматривается в помещении. Оно еще меньше тех, что встречаются у них высоко в горах на альпийском пастбище, и еще более убогое, несмотря на то, что здесь висит несколько картинок: царь, царица и цесаревич. А в углу напротив дверей – уже привычная икона с горящей перед нею лампадой. Печь занимает полдома, как уверял Штеттлер, и, похоже, в самом деле служит спальным местом для всей семьи. На ней – свернутая постель. Ан нет! Там наверху кто-то лежит – старуха, наверное, бабушка. Дети так к ней и обращаются. Но она им не отвечает, а только стонет.
Ребману даже сделалось как-то не по себе. Какая же тут бедность! А они еще и поют за работой!
Он гладит мальчика по головке, говорит, что придет в другой раз и принесет ему и братишке что-нибудь вкусное, шоколад из Швейцарии принесет. Кажется, ребенок его понял: шоггеладе ведь и по-русски звучит как «шекалат».
Ребман снова проходит мимо дедушки – тот все так же подремывает себе на солнышке. Через весь двор направляется к калитке, которая за ним сама закрывается: она вся покрыта плющом и возвращается на место под собственной тяжестью. Ребман соскальзывает вниз по склону и продвигается дальше. Смотрит, не увидит ли чего, что порадовало бы глаз и согрело сердце. Быть может, огород, или яблоня, или грушевое дерево, или куст бузины, или пара букетов перед окном, или скамеечка, ну хоть что-нибудь напоминающее здание школы или сельской управы, почтовый ящик, фонтанчик, фонарный столб, вывеска перед трактиром, пожарная часть – да хоть бы какой-нибудь прохожий! Но он может высматривать сколько угодно, вокруг – ничего, кроме склона, дощатого забора, крапивы по пояс, покосившихся хат и той же канавы в человеческий рост, где в грязи можно утонуть, как в воде.
Вот она, эта «иная Россия», о которой говорил Штеттлер.
Ребман вынимает часы: половина двенадцатого!
Он почти бегом выбирается из деревни наверх, к церкви. И только когда он уже был наверху и вновь осмотрелся, увидел, что дорога все-таки есть, только с другой стороны села. Тогда он снова пролазит сквозь щель в заборе, возвращает доски на место, пучком прошлогодней травы вытирает туфли и прогулочным шагом через парк направляется к усадьбе.
Только он успел зайти к себе, как в дверь постучали:
– Барин, обед подали! – на этот раз он уже все понял.
За столом их теперь только трое. Но еда так же обильна и вкусна, как и накануне, только на первое – рыба, а Ребман ее еще больше не выносит, чем кислые сливки в супе. Мама тоже иногда готовила рыбу, вяленую треску, которую она привозила из города. Маленького Петера даже подташнивало от заполнявшего весь дом запаха гнили, когда мама эту рыбу распаковывала.
К счастью, он уже съел две тарелки супу и рыбный паштет в придачу.
Теперь можно спокойно дожить до чаю.
Татьяна Петровна делает большие глаза, когда он знаками дает понять, что уже сыт и больше ничего не хочет.
– Вы что же, не любите рыбу? – спрашивает Полковник и что-то говорит маленькой женщине. А та – другой, в белом колпачке. И уже через минуту – остальные даже еще не доели рыбу – перед Ребманом поставили тарелку с французским омлетом. Очевидно, Маньин или даже сама Мадам отдали распоряжения на случай, если….
Зато вторая смена блюд была весьма обильной: телячье жаркое, фазан, русские «шпэтцле»[10] – ленивые вареники со сметаной, только сладкие, молодой картофель и целая куча зелени: салат, огурцы, редька, спаржа. А на десерт – слоеные пирожные с кремом и свежими фруктами и кавказское вино.
После обеда Ребман спросил Полковника, что происходило прошлой ночью – он слышал какой-то непривычный стук.
– Стук? Что, изнутри дома?
– Нет, снаружи.
– Так это собаки. Они страдают ревматизмом: бедняги не переносят нашего климата, вот и воют всю ночь напролет.
– Нет, это были не собаки.
Тут бы он догадался. Нет, это было что-то, чего он еще никогда не слыхивал. Полковник наморщил лоб и погладил бороду:
– Что бы это могло быть? Неужто соловьи прилетели?
– Соловьи, у вас здесь есть соловьи?
– Конечно. И когда у них брачный период, они задают такие концерты, что и в самом деле не уснуть.
– Да, но я думал, что соловьи поют красиво.
– Ну да. А вам так не показалось?
Ребман качает головой:
– То, что я слышал, было что угодно, но не красивое пение, по крайней мере, на мой слух.
– Что же это может быть? Не сумеет ли господин гувернер изобразить, то есть воспроизвести те звуки?
– Это что-то вроде трещоток, деревянных дощечек, какие бывают у мальчишек: держишь между пальцами и колотишь ими друг о дружку.
– И это доносилось из моей комнаты?
– Нет, Боже упаси, снаружи, с другой стороны дома, с той, где церковь.
– А, ну вот, наконец-то! Это были перепелки, paie tes dettes, как мы их называем, за их стук: пэй-тедэтт, пэй-тедэтт! Да, перепелки. Я еще не слышал, чтобы какие-либо звуки с той стороны доносились сюда, да так, чтоб даже проснуться. Что, и вправду было так громко?
– Да-да. Но не так, как вы перед этим показали, а очень равномерно, как будто палочкой по дощечке стучат. И вдруг перестанут. Не думаю, что это была птица.
Полковник смеется:
– Да, но о-о-о-чень большая: это был сторож.
– Сторож?
– Да, наш ночной сторож.
– Но как он это делает и для чего?
– Ну, вы же знаете, что в старые времена и у вас в Швейцарии, и в Германии сторожа дули в рог или пели.
– Да, – обрадовался Ребман и даже запел: «Слушай, люд, уж девять бьет – каждый дом свой стережет! От огня, и от хищенья, и от черта посещенья! Богу нашему слава, Ему и честь, и держава. Аминь».
– Ну вот, а у нас вместо этого – грушевые дощечки. Их вешают на деревья в парке, при входе в хлев и амбар. Сторож снимает их каждый час, когда делает обход, вешает на свой шнурок и стучит по ним палочкой в определенном ритме. Это и есть наше: «Слушай, люд…» Но вы к этому привыкнете; через несколько дней стук уже перестанет вас будить. А теперь пора снова за работу!
– Могу я еще кое о чем спросить?
– Конечно. Вам что-нибудь нужно? Говорите, не стесняясь: мадам Орлова поручила мне за вами ухаживать, пока она не вернется.
Ребман поклонился точно так же, как, он заметил, это делал сам полковник, в этом смысле он был способным учеником.
Нет, он ни в чем не нуждается; но действительно ли ему запрещено ходить в деревню?
Полковник отвечал вежливо, по-французски, но вполне определенно:
– Есть вещи, господин Ребман, которые у нас не приняты. Это одна из них. Не то чтобы мы крестьян не считали за людей, но тем, кто живет в этом доме, это просто не пристало. Понимаете, что имеется в виду?
Ребман встает и снова кланяется, он просит у господина полковника прощения за то, что позволил себе задать такой вопрос, он не знал об этом правиле. И бесконечно, сказал он тоже по-французски, благодарен за разъяснение. Последнюю фразу он позаимствовал в «Швейцарском Доме» в Киеве, и она показалась ему полезней всего того, что он выучил на множестве уроков французского в школе и семинарии.
Месье Эмиль появился только в четверг к обеду. Он воспользовался случаем посетить театр и синематограф. И, конечно, не обошел стороной «Швейцарский Дом». Все тамошние обитатели велели Ребману кланяться:
– Вы здесь не скучали?
Ребман осклабился: ему кажется немного странным, когда не позволяют ни с кем словом перемолвиться и выходить из усадьбы на променад тоже возбраняется.
– Ходить пешком? Это в России можно, даже дальше, чем дома. У нас здесь путешествуют на Кавказ или в Крым, или совершают трех- или четырехнедельное паломничество в Киев, Москву, Казань. А если это недалеко, то садятся в повозку или на коня. Вы умеете ездить верхом?
– Да, только на деревянной лошадке-качалке.
– Что ж, научитесь. Как раз теперь у вас и время есть. Я скажу конюшему, чтоб он подготовил для вас лошадь. Разумеется, покладистого скакуна, не такого, что вас сразу галопом в Сибирь умчит. И еще покажу вам поместье. Вы не включали граммофон?
– Я не решился, – ответил Ребман.
– Не решился! От этого отвыкайте: вы теперь – член семейства. И если все пойдет как мы того желаем, то это так и останется. До конца ваших дней… А что до граммофона, то я вам за обедом быстренько покажу, как его заводить, это дело нехитрое.
– Это вовсе не нужно, – говорит Ребман.
У него дома был похожий аппарат.
– Так отчего ж тогда не заводили? В России нельзя быть застенчивым, скромникам здесь живется плохо. Ну а в остальном – с вами хорошо обращались?
– О, у меня здесь только и дела, что рот пошире открывать! А вот рыбу не ем, ею меня можно из дому выжить.
– Не едите рыбы? Вам следует непременно приучить себя к ней, – говорит Маньин. – То, что здесь подают на стол, – это не какая-нибудь вонючая вяленая треска или нечто подобное, – я такого и сам не ем. Здесь у нас подают или только что выловленную в Тетереве, или уж прямо из Волги.
Такой рыбы, как у нас тут, нет нигде в мире. Но в этом вы еще убедитесь и сами.
Сразу же после обеда к крыльцу подъехал «бернский экипаж». Маньин сам за кучера. Он в костюме для верховой езды и в желтых перчатках. Он чертовски хорош собой. И лет ему всего двадцать пять, как Ребман узнал позже. Слуга провожает их только до ворот. Дальше они едут одни, сразу пуская лошадей в галоп – кажется, здесь иначе никто и не ездит. Привычные к этому лошади даже не ждут, пока пассажиры толком усядутся – как только учуют, что кто-то сел в коляску, тут же рвутся с места в карьер.
– А что если вдруг пожар? – спрашивает Ребман, – что делать тогда?
– Ждать, пока сгорит. Что же можно сделать без воды? Поэтому все дома одноэтажные. Наш уже два раза сгорал дотла. – Он усмехается. – Но тем лучше для хозяев. Каждый раз после пожара дом становится больше и красивей. А страховка все покрывает.
– А как быть крестьянам, если пожар у них?
– О, это было бы для них не просто везением, а настоящим счастьем. Тогда сгорело бы заодно и все старье, весь этот хлам. Но, к сожалению, у них никогда не горит.
Они едут молча. Немного погодя Ребман заметил:
– Вы так хорошо владеете бернским диалектом, а сами при этом вализец.
– Моя мать была все же из Берна. И в школу я ходил тоже в Берне.
– «Была» сказали вы о матери?
– Да, она уже умерла.
– От чего?
– От того же, что и ваша. Так что мы оба знаем, каково это – остаться без матери. И могу вам сказать, что мадам Орлова добра ко всем сиротам. Но только не к таким, как Штеттлер, нет. Нам хорошо известно, что этот господинчик там в Доме о нас болтает.
– И почему же вы ему это позволяете?
– А пусть его врет, если ему это доставляет удовольствие! Когда-нибудь все же придется прикусить язык!
Он меняет тему:
– Жаль, что мы больше не ездим в имение на Черном море. Раньше мы каждый год ездили туда в трудную пору, когда в здешних краях все никак не наступит весна. Господи, как же было хорошо в Батуме! Цветы, апельсины, на улице сидишь в одной рубахе, а здесь еще снег и заморозки. А уж море! Прекрасное было время!
– А почему же теперь нельзя ехать?
– Мадам не хочет. Водноголовый там покончил с собой.
– Водноголовый?
– Ее старший сын. У него была в-о-о-т такая голова! Как тыква. И опасный был. Носил с собою в сумке револьвер. Мы никогда не знали, когда он сорвется – он завидовал Пьеро. В конце концов нам пришлось его запереть. Василий, казак, его сторожил и кормил. В один прекрасный день он сделал вот так – Маньин прошелся указательным пальцем по шее и вверх. – Да-да, в семье Орловых много чего случалось. Если вы думаете, что Мадам счастлива, богата, независима, не знает ни горя, ни забот, то вы ошибаетесь. Вы видели в салоне портрет девочки? Это единственная дочь Орловой. Умерла в Лейзэне[11].
Он поднимает палец:
– Но вы ничего этого не слышали! Старик…
– Он тоже умер?
– И слава Богу! Вот уж был пьяница! Пропил пол-имения. И наконец помер. От запоя.
– Это правда, что людям здесь совсем мало платят? – спросил Ребман, воспользовавшись доверительным тоном беседы.
– Отчего же мало? Мы им платим столько, сколько они стоят и сколько зарабатывают. А им много и не требуется. Русский охотнее всего ничего не делает. Если их оставить без надзора, все промотают. Попади им в руки хоть копейка, тут же пропьют, иначе нет им покоя. Поэтому в отдельных случаях мы платим мукой или иной какой провизией. А не то их семьи поумирали бы с голоду. Или вам какой-нибудь революционер порассказал чего-нибудь другого?
– Какой еще революционер?
– Да ваш предшественник, Штеттлер.
– Он что, революционер?
– Да, но только на словах. Он только и может, что браниться. А вот поработать – о-ля-ля!
Они проехали через лесок, и тут показалась речка Тетерев. Ребман впервые так близко видит русскую реку, хоть она и мала, не больше Зиля или Тура, и все же это русская речка. Недалеко, чуть повыше, на деревянной плотине стоит полуразрушенная мельница. Но это не первое, на что Ребман обратил внимание. Сначала его поразил цвет воды: коричневый, как жидкий навоз. И внизу на запруде – желтая пена, словно бочка с навозом начинает переливаться через край. И на самой реке, чье немощное течение напоминает движение парализованной собаки, плавает та же подсвеченная солнцем желтая пена.
– Вас удивляет цвет воды? – спрашивает Маньин. – У меня было такое же чувство, когда я впервые увидел Тетерев. Но таковы все русские реки – даже Днепр и Волга.
– И вы едите рыбу из этого навозного потока?
– Конечно. Здесь даже стирают белье. Видите, в-о-о-н там?
Ребман смотрит туда, куда указывает кнут Маньина, и видит группку женщин, которые стоят в воде с подобранными юбками: белье плещется, и они топчут его ногами, стоя на мостках.
– Вы думали, что это навоз? Нет, вода здесь так же чиста, как и в любой швейцарской речке.
– Откуда же этот цвет?
– От почвы, которую несет с собою река. Смотрите!
Он спешивается, подходит к воде и зачерпывает полную ладонь. И Ребман теперь различает взвесь мелкого коричневого песка. Когда вся вода стекла, песок остался на ладонях у Маньина.
– Понюхайте! Разве это дурно пахнет?
– Ни капельки. Здесь и купаться можно.
– Что мы и делаем. Вон за теми кустами – наша купальня. А ниже по реке – еще и лодка, из нее можно даже и поохотиться, если пожелаете.
– На крокодила или на кита?
– Погодите, вас еще ждут сюрпризы!
Тут они вошли в настоящий лес. Собственно, это скорее луг, на котором стоят лесные деревья. Земля очень сухая и уже зеленая, тропинка, как из бархата. Кое-где уже видны цветочки и даже луговой первоцвет, которого полно дома на Бюльвеге, где деревья стоят так же далеко друг от друга, с зарослями ежевики и папоротника между ними. Однако здесь нет ни единой елки или сосны, только березы, на которых уже показались весенние сережки. Как невесты, стоят они в белых платьях, даже сердце начинает подпрыгивать в груди. И птиц вокруг – целое множество, не так, как дома – там они только кое-где попадаются.
– Русские – большие любители птиц, – утверждает Маньин.
– Для чего здесь столько берез? – спрашивает Ребман.
– На дрова, на растопку. Ими мы заполняем дюжину наших печей и духовку с плитой – на кухне и в прачечной. Береза горит даже сырой, ее не нужно сушить. У нас есть и елки, и ясени, чуть подальше в лесу. И дубов здесь более чем достаточно. Но лесом мы не торгуем. Крестьяне, но только наши, могут брать сколько им нужно, им это ничего не стоит. С условием, что нарубят дров и на нашу долю.
Они снова медленно едут по мягкой лесной дороге. Не слышно ничего, кроме лошадиного топота, стука подков да пения птиц. Иногда они едут по выступающим корням или через канавку, тогда колеса громыхают на щебенке, камешки со стуком отскакивают от резиновых покрышек.
И тут Маньин встрепенулся:
– Это еще что такое?
Он показывает на мужика, который идет им навстречу. Видимо, кто-то из деревенских: шапка из овчины, тулуп, русские сапоги, борода. Когда он подошел ближе, Ребман разглядел у него пейсы. Это не мужик вовсе, а еврей. У него под мышкой – связка драгоценных сучьев.
Маньин останавливается. Соскакивает с повозки. Что-то громко орет по-русски, чего Ребман не может разобрать, но судя по тону – вряд ли что-то хорошее. Еврей выронил сучья и весь дрожит: очевидно, это уже не первое его столкновение с Маньином. Внезапно он поворачивается к Ребману, который тоже спешился.
– Барин ис а гиитер хэр — причитает «мужик» на идише, – барин ведь добрый господин, – и целует ему руку.
Маньин кричит:
– Гоните его прочь, он вас еще вшами наградит! Да ударьте же его, наконец!
Еврей упал перед Ребманом на колени, обхватив обеими руками его ноги:
– Барин не спросит, хороший я жид или поганый жид, барин ведь поможет! Барин вэрд хэльфм!
«Он меня принял за Штеттлера», – пронеслось у Ребмана в голове.
Но тут Маньин уже с кнутом набросился на несчастного. Тот оставил Ребмана и побежал в ту сторону, откуда пришел.
Они снова усаживаются в бричку и едут дальше.
– А что вы собственно делаете в этом поместье? – спрашивает Ребман немного погодя.
– Что делаю? Вы имеете в виду, чем мы занимаемся?
– Нет, что вы выращиваете. У нас об этом говорят: «что делаете». Например: «мы возделываем коноплю, лен, фрукты» и так далее…
– А мы тоже, по-вашему, «возделываем» коноплю и лен, но больше – зерновые. Этим мы и живем, ведь Украина – житница всей России, вам следует об этом знать. И как раз поэтому я против жидов, вообще всех, не только того простофили в лесу. Вы удивились, что я на него так набросился – немного не по-швейцарски, не так ли? Но на то есть веские причины. Видите ли, в их руках вся торговля зерном, и так повсюду – до самой Сибири. Это они диктуют цены. Они получают барыши. То, что нам остается, – пустяк, чаевые. Мы от них совершенно не защищены. Я вам как-нибудь расскажу всю историю, и вы меня тогда лучше поймете. Сначала я тоже не был таким нетерпимым, но когда столкнешься с ними нос к носу, случаются просто неописуемые вещи.
– А господин полковник? У него какая должность? Кто он вообще такой?
– Полковник? Бедный дальний родственник семьи Орловых, так же, как и Татьяна Петровна. Когда он совсем разорился и был на грани, старый хозяин взял его к себе в имение – пенсийки, что он получает, едва хватает на табак. У нас он ведет всю бухгалтерию, он ведь был штабным офицером. Благородная душа, ему можно во всем доверять. Поэтому его все и любят. Пьер, тот к нему, как к отцу, привязан.
Он достает часы, красивые, золотые, с откидной крышкой.
– Ну, теперь нам придется поторопиться, Татьяна Петровна ждет нас к чаю. Она за вами хорошо присматривала? Эта женщина ко всем людям относится по-матерински. Такое бывает только в России.
Сегодня Ребман впервые вышел во двор вечером.
Ну и тишина!
Но не так, как на Шафхаузенщине, где уже предчувствуешь конец дня и знаешь, что ты дома, – эта тишина чужая, жуткая… Не слышно колокола – ни бьющего, ни звонящего. Ни стука молотка. Ни скрипа телеги. Ни шагов или голосов прохожих. Ни огонька вокруг.
Дома, бывало, выйдешь вечером на прогулку вверх по Бюльвегу, так тебе весь мир как родной, знаешь точно: вон там Халау. А вот внизу – Остерфинген. А там альпийский паром, Рейн и Швиц. А с этой стороны, за горой – Баденские земли.
Здесь же даже и не поймешь, есть ли кто вокруг, кроме нескольких обитателей господского дома.
Он смотрит на звездное небо. Это он всегда любил: заглядывать «в мир иной» и представлять себе, что же там есть на самом деле.
Те же ли это звезды, что дома? То же ли это небо? Или оно у них, у русских, особое, как и вера их, и душа?
И где ж она – родина, Швейцария? Неужели никто и не вспомнит там о нем?
Ребман стоит и смотрит, водит рукой: должно быть, она где-то там, в той стороне:
– Доброй ночи, Швитцерлэндли![12]
Это он произнес уже вслух, громко. Но никто ему не ответил…
Он вернулся к себе. Сел за стол – горничная уже зажгла керосиновую лампу – подпер голову руками и задумался.
Любопытно, чем они там, дома, заняты? Что поделывают? Вот бы перенестись туда и хоть словечком с кем-нибудь перемолвиться!
Глава 8
Наконец и к царству батюшки-царя незаметно подкралась весна. В одну ночь наступила она, Ребман никак не ожидал такого в «глухой и мрачной» России. Просто как в сказке: рябина под окном в цвету, соловьи, лес. Куда ни глянь – цветущая белизна. И внутри – ликование, словно ты влюбился, сам того не желая. Ничего иного и не хочется, как только вспорхнуть и лететь, лететь все выше и выше…
Воскресным утром, по давней привычке, Ребман отправляется в церковь. Сначала, правда, спросил позволения: что если и это из разряда тех вещей, qui ne sont font pas.[13]
– Конечно же, можно, – говорит Маньин, – это никому не воспрещается.
– И когда пойдем?
– Когда хотите. Утром, до обеда. Или в обед.
– Да? И можно просто так входить, когда вздумается?
– Ясное дело. Богослужение длится не более получаса, а потом начинается сначала, и люди могут приходить и уходить, когда им удобно. В городах церкви всегда открыты, во все дни недели, в любое время можно зайти помолиться, даже когда нет богослужения.
– И иностранцы могут входить в храм?
– Разумеется! Церковь открыта для всех.
Вот Ребман и пошел.
Но и здесь все показалось ему чужим, даже более чуждым, чем все то, что он до сих пор видел, слышал и обонял. Один кадильный дым чего стоит!
Да и сама церковь: совершенно пустая, так что и присесть не на что. Ни кафедры, ни купели. Ни даже того, чего он искал в первую очередь, – органа. Святые с суровыми закопченными лицами из глубины своих золотых и серебряных окладов взирают на кучку мужчин и женщин, стоящих перед ними в воскресных одеждах или преклоняющих колени. Когда кто-то входит, то сперва идет к стоящему в уголке столу, покупает свечи, зажигает их перед алтарем или перед одним из святых и ставит рядом с уже горящими. Потом все стоят, слушают, что говорит или поет поп – собственно, все поется, – время от времени крестятся и низко кланяются. Кое-кто, входя, падает на колени и преклоняет голову до земли, три или четыре раза подряд, да так смиренно, что можно подумать, будто это бьет поклоны самый великий в мире грешник.
Со двора слышен звон, он слышен отовсюду. Ребман еще ранним утром побежал смотреть: это старый мужик, крестьянин с растрепанной головой и в грубых сапожищах, стоит и громко-громко бьет сразу во все пять колоколов. Руками и ногами тянет за веревки, на которых подвешены колокола: били-били-били-били-бим-бим-бим, били-били-били-били-бим, бом-бом-бом – словно крышками от молочных бидонов бьют, как в медные тарелки.
Народ в церкви не поет, поет только поп, который стоит впереди у алтаря, а потом исчезает за стеной с ликами святых, и хор – но какой! Если бы Ребман не слышал своими ушами, он бы ни за что не поверил, что в каком-то убогом селе на краю света такое возможно. Бас – силища, кажется, вот-вот стены рухнут; а певчих-то всего ничего, семь или восемь мужчин и вместо женщин – мальчики. Снова пианиссимо, словно ангелы поют на небесах. Музыка совершенно незнакомая, совсем другая, нежели та, к которой он привык, – неслыханная доселе музыка.
Попа в его богатом убранстве вовсе не поймешь, не разобрать ни слова. Кажется, он и поет, и говорит все одно и то же монотонное «Hoss-po-di pa-mii-luj» тридцать-сорок раз подряд, а потом еще полчаса «A-lli-lu-jaa». Тяжко стало от всего этого на душе, вместо облегчения – на сердце камень.
После обеда Ребман вышел в поле. В усадьбе все решили прилечь, но ведь он не может спать среди бела дня. Право слово, вокруг столько нового! Он должен увидеть, что делают крестьяне воскресным днем здесь, в России, особенно молодежь. И в самом деле, чем они заняты?
Он пролазит через щель в изгороди. Смотрит сверху вниз на село: никого. Ни души.
Где ж они? Пойду-ка гляну с другой стороны.
Снова протискивается сквозь изгородь. Минует дом – полная тишина, словно все вымерло. Перемахнул через забор. Пыльная тропа ведет дальше, мимо поленниц, там, где он уже проезжал с Маньином. На деревьях заметны завязи плодов. Свежий ветерок пробегает по ним и колышет. Видно, как им это нравится, как каждый бархатно-зеленый стебелек дрожит от радости.
В лесу все как вчера: пение птиц, шорох деревьев, сладость цветения – как обычно. И все же не так, как вчера. Нет, вчера был будний день, а сегодня воскресенье. И это чувствуется, видится в каждом дереве, в каждом цветке, каждом стебельке: все убрано по-воскресному, все сияет праздничным светом.
А люди, где они? Молодые-то уж точно не спят после обеда!
Ребман поворачивает, поднимается по дороге вверх к лестнице. И тут вдруг он услышал внизу у реки голоса и гармонь! Сбегает вниз. Там, на мостках, где давеча женщины стирали, собралась вся молодежь Барановичей: прямо на настиле танцуют, всей честной компанией. Невозможно поверить, что это те самые, которые босиком утаптывали мусор, рубили дрова или кормили лошадей! Если б он не знал наверняка, что это именно они, ни за что бы не поверил. Теперь это совсем иной народ: юноши в светлых вышитых сорочках, черных шароварах и блестящих юфтяных сапогах, девушки в поневах, да таких, что от многоцветья в глазах рябит – словно их подменили. И как же они танцуют! Ребман, правда, тоже не лыком шит. Но даже тогда, когда он в городе на Рейне учился на танцевальных курсах, а потом в Рандентале поддерживал форму на свадьбах и прочих гулянках, против этих он, несомненно, был просто увальнем.
Тут ему припомнилось, как шафхаузенский фабрикант ему рассказывал, что лучше всего можно узнать характер русских людей, наблюдая, как они пляшут.
– С ума сойти можно, – восклицал господин Мозер, – наш брат швейцарец рядом с ними – клоун на ходулях!
Ребману не очень-то верилось. «Вряд ли с этим делом у них все иначе, чем у нас, – думал он. – Танец он ведь и есть танец, хоть тут, хоть там».
Теперь он видит, что зря сомневался. Эти девчата и парубки двигаются не просто в заученном ритме, они свою жизнь танцуют: все тепло, вся страсть и необузданность, вся тоска и тяжесть русской жизни – все в этом танце.
Они, конечно, и понятия не имеют, что за ними кто-то наблюдает, и Ребман тихо сидит в своем укрытии: иди знай, вдруг кому-то взбредет в голову его пригласить. Тут уж позора не оберешься!
Уже и вечереть стало, а они знай себе танцуют. Между танцами песни поют. Потом – снова танец, каждый раз другой: то одни девушки, а то – парни, то парами, но больше все вместе. Даже не верится: все-то они могут, и это при том, что вряд ли кто из них взял хоть один урок танцев.
Когда Ребман вернулся в усадьбу, время чая уже давно прошло. Его вдруг посетило чувство, что Россия, ворвавшаяся в его сердце, успела проникнуть в его душу – уютно устроилась там и прикорнула.
Глава 9
На следующее утро пришла телеграмма из Пятигорска, что на Кавказе: месье Эмиль должен срочно приехать, так как на курорт уже прибыли отдыхающие.
Маньин надулся:
– Вот так у нас все время, ни минуты покоя!
Однако в тот же день отправился в Пятигорск.
И вот Ребман снова остался один, вернее, в обществе Полковника и Татьяны Петровны, на сей раз на целые четыре недели. Но он уже не задумывался о том, чем бы ему заняться, ведь мир вокруг такой новый и замечательный. И Ребман с головой окунулся в новую жизнь. На рассвете он вскакивает, разбуженный то флейтовым свистом скворца, то дерзким стрекотом сороки, то хриплым «кукареку» молодого петуха. Он одевается. Спускается к хлеву и сараям. Осматривается: вот коней чистят и кормят, потом ведут на водопой. Ребмана никто не замечает. Воспользовавшись этим, он сбегает следом за конюхами к Тетереву, а потом бегом же поднимается обратно. За время его отсутствия Пантелей и его помощник Григорий уже успели до блеска вычистить и подмести конюшню и равномерно посыпать пол соломой.
Эти деревенские парни уже не так дичатся его, как кучер в красной рубахе тогда на станции. Теперь они говорят с «месье» так, словно знают его целый год, словно он уже здесь давно и никто больше не запрещает им с ним общаться. Они еще немного стесняются, потому что не понимают его речи. Но лед все же тронулся. Ребман учит русский язык не за страх, а за совесть: ведь если знаешь язык народа, то узнаешь и его душу, как говаривал учитель французского в семинарии. И, вспомнив об этом, он каждую ночь до одиннадцати-двенадцати часов сидит за своим новым учебником, который дал ему Маньин. Там имеется все нужное для дела и важное теперь: «конь», «седло», «поводья», «ездить верхом» – все, что связано с хозяйством в поместье. Здесь ученье идет легче, чем в Рандентале, где он мучился над каждым словом и никак не мог поверить, что где-то существуют живые люди, которые так говорят. Теперь этот язык для него ожил, он манит и завораживает его, не дает покоя. И произношение дается намного легче, когда речь звучит повсюду изо дня в день. А если что-то непонятно, то можно записать и потом спросить у Полковника, который все разъяснит: как и где это употребляется. Он ничего не говорит по поводу того, что Ребман общается с прислугой, наоборот, кажется, ему это нравится. Очевидно, тут просто не любят, когда кто-то из домашних спускается в деревню. И с Татьяной Петровной он тоже разговаривает, когда представляется такая возможность. Она возится с иностранцем, словно с малым дитятей: произносит слово за словом и показывает пальцем: вот там столовая – «ста-ло-ва-я», а дальше – гостиная, «га-сти-на-я», там, где спят, «спаль-на-я», а где готовят – «ку-хня». Tisch — стол, Stuhl — стул, Uhr — часы; Bild — кар-ти-на. Там за окном снаружи – сад, Garten. Der Baum — «де-ре-ва», er — он, «му-щи-на», sie – она, «жен-щи-на», Frau. Er «ма-ла-дой» – jung; sie «ста-руш-ка» – alte Frau. И таким манером он каждый день выучивает с ее помощью множество слов безо всякого труда, гораздо быстрее, чем по книге.
Дни его проходят размеренно: ровно в восемь он выходит к завтраку – в большой столовой все уже готово, даже кофей подали. Затем он отправляется в поле посмотреть, как идут работы. За этим он может наблюдать часами, иной раз и подсобит – ведь это дело ему совсем не чуждо.
Его появление в поле привлекает всеобщее внимание: нездешний барин в белом кепи в сопровождении двух бернардинцев, не отходящих от него ни на шаг. И сельская молодежь радуется этому «месье» и даже шутит с ним по-свойски.
А дома, в своей комнате, он все подробно записывает в дневник – чисто, без помарок, страницу за страницей, помечая даты, как будто по долгу службу докладывал барыне обо всем, что случилось за время ее отлучки.
Однажды, когда они снова поехали к реке, конюх возьми да и скажи, мол, месье должен наконец и сам оседлать коня, не по чину ему бежать следом. Сибиряк уж точно ему подойдет, хорошо объезжен и кроток, как ягненок. Ребману пришлось отвечать скорее жестами: до того, чтобы говорить по-настоящему, ему еще ох как далеко! Он никогда еще не пробовал ездить верхом и даже не садился на лошадь.
Что ж, отвечал конюх, придется научиться, раз уж представилась такая возможность. Это ведь совсем не трудно, самое главное – удержаться в седле. И он без лишних слов снимает со стены сбрую, седлает Сибиряка и подводит его к месье.
Взять повод в руки и сесть в седло он сумел: уже довольно насмотрелся, как это делается. А чтоб не свалиться, нужно глубоко, до каблука, вставить ноги в стремена, тогда можно не тревожиться.
Конюх, правда, другого мнения, говорит, что это опасно: этак можно оказаться в капкане. Он хочет правильно поставить барину ноги; но Ребман дает ему понять, что так он чувствует себя увереннее.
Они выезжают все вместе, конечно, остальные тоже сели в седло, даже главный конюх, который теперь совсем не кажется таким толстым, как тогда, когда он разряженный сидел на облучке в парадной роли «кучера Орлова». Выбравшись за ограду, они едут вдоль леса, а затем спускаются к Тетереву. И дальше движутся вдоль реки. Ребман может сколько угодно фыркать, натягивая поводья, его Сибиряк не обращает на это ни малейшего внимания: следуя за остальными лошадьми, заходит в самую воду – к счастью, в этом месте совсем не глубоко. Ребман знает это по опыту, он ведь каждый день после обеда ходит купаться. Здесь не глубже, чем в корыте для стирки белья.
Когда прогулка закончилась, они поскакали галопом домой, но еще не знакомой Ребману дорогой. Они скачут вдоль густых зарослей камыша – здесь не так пыльно, и лошади не так пачкаются. Так сказал конюх, он всю дорогу держится рядом с Ребманом, потому что убедился: тот действительно не умеет ездить верхом. Не успели они приблизиться к зарослям камыша, как нашего швейцарца словно какая-то муха укусила: погодите, я вам сейчас покажу! Ногами обхватил брюхо Сибиряка, подался вперед, хлещет поводьями: давай, гони-и-и! В мгновение ока «кроткий, как ягненок» жеребец, которого всегда приходилось ждать, к всеобщему изумлению понесся вперед, словно пуля из ружья. Никто не успел опомниться, как они оказались далеко впереди, в самой гуще камыша. Новоиспеченный наездник даже удивился, как все гладко выходит, словно погоняешь и летишь, не сходя с дивана. На радостях он даже начал кричать во все горло.
Но тут удача отвернулась от месье гувернера. Впереди был лес. И он очень быстро, тоже галопом, приближался к Ребману и его Сибиряку. Прямо на них уже со всех сторон несутся деревья: березы, ясени, огненно-красные сосны. За их суетливой толпой маячит крупный силуэт дуба-великана. Он вырос прямо на пути у Сибиряка – уже не свернешь. Жеребец делает стремительное зигзагообразное движение в сторону, и Ребман на всем скаку всей тяжестью тела влетает в дуб. Всадник отделался на удивление легко: ушибом колена и левого локтя да парой ссадин на лице, а так-то он цел – после пришлось только несколько дней просидеть дома. До свадьбы заживет.
К тому же весьма кстати зарядил дождь, проливной русский дождь – из дому не выйти. К тому же, он давно собирался написать письмо домой. Вот теперь-то он его и напишет! Напишет со свойственным ему воодушевлением и врожденной восторженностью, напишет обо всем, что он пережил с того самого утра, когда судьбоносное письмо доктора Ноя приземлилось в его почтовом ящике в Рандентале. Опишет свое путешествие, студентку, которая помогла ему на границе. Поведает о разговоре с фабрикантом, и о том, что Россия действительно такая, как тот ему описывал, и совсем иная, чем он воображал дома: намного красивее и лучше. О приеме в Киеве и в имении. Напишет о людях, с которыми успел познакомиться. Отдельно расскажет о молодежи из Барановичей: как они поют за работой и как танцуют по воскресеньям. Кое-кого он даже нарисует: краснорубашечника на телеге с его взъерошенной головой, звонаря, воскресным утром бьющего во все пять колоколов, необъятного, как винная бочка «кучера Орлова», восседающего на козлах с часами на спине, чтобы господа могли видеть, который теперь час. Он пишет как всегда – с искрометным юмором, и выходит еще одно из тех сочинений, о которых их профессор литературы говорил, что их хоть под стекло и в рамку.
Он пишет целый день. И завтрашний. И послезавтрашний. Всю тетрадь исписал. И когда он перечел, убедившись, что все хорошо изложено, он запаковал тетрадь и надписал адрес: «Доктору Ною». В приписке содержался вопрос, не покажутся ли его записки интересными местным обывателям, не стоит ли предложить их редакции региональной газеты?
В один из дней этого вынужденного домашнего ареста из комнаты, что располагалась прямо над ним, послышался стук, похожий на тот, что Ребман уже слышал в зале контроля в Волочиске. И, любопытствуя, что бы это могло быть, он поднялся наверх:
– Простите за беспокойство в такой час! Но могу ли я узнать, чем это занят господин полковник? Я уже слышал подобный стук, когда проходил паспортный и таможенный контроль на границе, и все еще недоумеваю, что же это было.
– Вы мне вовсе не мешаете, напротив, я даже рад, что могу отложить на минутку эту скучную работу. Заходите, не стесняйтесь! – говорит Полковник как всегда приветливо. Он предлагает Ребману стул и одну из своих тонких сигарет, аромат которых так приятно распространяется по всему дому. Дает огоньку и сам закуривает.
– Ну, – говорит он после двух-трех затяжек, – вот эта штука, которая издает знакомый вам звук. Он указывает на маленькие счеты, стоящие под углом поперек кучи бумаг на столе, чтобы удобнее было на них «играть». – Это русские счеты. Ими пользуются в конторах, банках и магазинах по всей России. К тому же они еще способствуют продлению жизни. Нет, шутки в сторону, смотрите сюда!
Он раскрыл папку бумаг, исписанных длинными рядами цифр:
– Видите ли, я как раз подвожу баланс за прошлый год: здесь в поместье я за бухгалтера, раньше был штабным офицером в армии. Смотрите-ка: перед тем как вы постучали, я дошел до того места, где лежит линейка, то есть до середины листа. Меня прервали, и я был бы вынужден либо спешно закончить, либо после снова начать сначала. А со счетами этого можно избежать. Здесь выставлена сумма с точностью до копейки. Теперь я могу просто продолжать считать. Видите преимущество?
Ребман кивает.
– Смотрите, как практично! Мы не во всем отстали, у нас есть весьма предприимчивые люди. Обратите внимание еще на одно обстоятельство: в таком хозяйстве, как у нас, всегда кто-то отвлекает – то Мадам или месье Эмиль, то приказчик, то зеленщик или кто-то из прислуги. В таких случаях мне не нужно заставлять людей ждать, пока я все сосчитаю. Я могу просто оставить линейку на том месте, где я кончил, и, когда посетитель уйдет, продолжать как ни в чем не бывало.
Но самое главное достоинство этой вещи состоит в том, что не нужно напрягаться, а это для людей, которые из года в год ничем другим, кроме счета не заняты, – огромное облегчение. Шестизначные числа можно складывать безо всяких усилий. И даже умножать можно: шестнадцатью сто сорок на четыре, – он щелкает шариками счет, – выходит две тысячи триста четыре. Вот здесь результат – за две секунды и безо всякого напряжения. И самое главное преимущество: эти счеты не ошибаются. Я могу целыми днями составлять длиннейшие ряды чисел и ни за что не собьюсь, хотя я не особенно хорошо считаю в уме. Вот, взгляните еще разок, как все работает.
Он откладывает сигарету, берет левой рукой линейку, правой начинает так быстро перебирать пальцами, словно виртуоз играет на фортепианах, и при этом тихо вслух повторяет числа. Линейка рывками ползет вниз, и, когда она уже совсем опускается, Полковник подводит черту, и под ней карандашом записывает результат:
– Вот и еще одна страница. Если бы мне приходилось удерживать все это в голове, я бы давно уже сошел в могилу. Ну как, удовлетворил ли я ваше любопытство?
Глава 10
Но тут корабль изменил курс: Мадам воротилась, и первый ее вопрос к Ребману был о том, чем же он занимался все эти пять недель. Ребман рассказывает, не забыв упомянуть о своем письме доктору Ною. Именно это ее, кажется, и заинтересовало. Пока он рассказывал о своих вылазках, дневнике и тому подобном, она только улыбалась каким-то своим мыслям. А вот когда Ребман заговорил о письме, навострила уши.
– И что же, – говорит она, – вы имели успех?
– Нет, шеф мне все прислал обратно и советовал подождать еще лет двадцать, возможно, тогда тема России и будет актуальна.
– И кто же этот «шеф», которому вы посылали свои заметки?
– Мой бывший преподаватель, директор семинарии. Я думал, что так их скорее опубликуют.
Мадам снова улыбается:
– То, что вы написали, – просто недостаточно интересно. Вам следовало сообщить о чем-нибудь таком, к чему весь мир прислушался бы, затаив дыхание. Вы уже слышали о киевском процессе по поводу ритуального убийства?
Ребман пожимает плечами, об этом он ничего не знает.
Они сидят у Мадам, в ее красивой просторной комнате, и Ребман все время посматривает вверх на картину, что висит над письменным столом из дерева махагони.
– Это царь Иван в приступе гнева убивает своего единственного сына, – поясняет Мадам. И продолжает:
– Так вы еще не слышали о киевском процессе, всколыхнувшем весь мир? Так я должна вам рассказать! Вы ведь знаете…
И тут Ребман выслушивает подробную лекцию о том, что же такое ритуальное убийство. Он кивает, припоминает кое-что из уроков истории, на которых, впрочем, речь шла о диких племенах.
– Это неправда, – говорит Мадам, – такая практика сохранилась и у евреев. На свою Пасху они используют кровь христиан, чтобы готовить мацу. Это для них символ господства над их холопами, то есть над нами, христианами. С этой целью они убивают – закалывают – невинного ребенка-христианина. Вы этого не знали?
– Нет, впервые слышу, чтобы такое убийство совершалось в наши дни.
– Ну, в Швейцарии они, конечно, на такое не решатся, не станут рисковать. А в России можно. И вот такое случилось во святом граде Киеве – процесс над убийцей как раз идет. Они, конечно, все отрицают – когда это жиды признавали свою неправоту?! Напрочь отметают само наличие ритуальных убийств в иудаизме, утверждают, что это преступление совершили сами русские, чтобы потом все свалить на евреев и таким образом подготовить почву и спровоцировать новый погром.
Ребман слушает вполуха:
– Простите, а что это, собственно, такое – погром?
– Погром, – объясняет Мадам – произносится «па-а-гром» – это русское слово и происходит оно от «па-грамить», то есть разрушить. Наступает предел терпению даже у столь добродушного по натуре русского народа. Это ведь можно понять.
– И что же, имеются доказательства того, что это именно такое убийство?
– Да, они у нас есть, – говорит Мадам и рассказывает всю историю, по порядку. Называет даже имя жертвы: двенадцатилетний мальчик!
– И что, еврей сознался?
– Как же! Какой убийца, тем более такой жестокий, сознается, что это его рук дело! Он бы все отрицал даже под сотнями пыток. Это же фанатики, они не предадут свой народ. Для такого дела отбирают самых стойких, тех, что не предадут. Поэтому все жиды за него горой: лучших адвокатов предоставили, деньги рекой текут отовсюду, даже из Америки, чтобы сфабриковать оправдательные документы и выгородить убийцу. Нет, он будет все отрицать, даже с петлей на шее!
Ребман с удивлением взирает на свою хозяйку: обычно такая благожелательная, тут она вдруг так разгневалась! Но Штеттлер ведь предупреждал. Да и с Толстым вышло довольно курьезно.
Он спрашивает:
– Что же, следствие уже располагает доказательствами того, что все было именно так, как вы описали?
– Если читать жидовскую прессу, то, конечно же, нет. Но нужно ведь и другую читать. Судя по тому, что пишут жидовские газеты и что жидовские адвокаты утверждают перед судом, это мы, русские, сами бедного мальчика….
Тут в дверь постучали – вошла прислуга, о чем-то спросила. Когда она ушла, Ребман попросил повторить, как девушка обращалась к Мадам.
– Марья Николаевна. Так меня зовут. По-русски к человеку обращаются не по фамилии: господин или госпожа такой-то, а по имени-отчеству, к моему сыну – Петр Николаевич, Татьяну Петровну вы уже знаете, а я – Марья Николаевна, ведь мой отец тоже Николай. Это ведь красиво, намного теплее и человечнее, чем «господин», или «госпожа», или даже «мадам».
Ребман кивает, а сам думает: вот так бы меня сразу и просвещала, чем попусту тратить время на всякие бредни. Но Мадам снова вернулась к истории о ритуальном убийстве:
– Мы, русские, дескать, выкупили мальчика у его отца: у собственного отца вы-ку-пи-ли! И у-би-ли! По всем правилам ритуального искусства, которым мы якобы владеем! Спрятали под Киевом в пещере! Полиции сообщили еще до происшествия! И распространили слухи о ритуальном убийстве! Посмотрите на меня хорошенько: похожа ли я на детоубийцу?
Ребман уже в раздражении: но этого же никто и не утверждал!
– Разумеется, никто не утверждал, что это была я. Но неужели вы думаете, что мы могли бы обратиться к подобным средствам? Не станешь ли тут жидоненавистником, даже если прежде никогда таковым не был?! Судебно-медицинская экспертиза четко и ясно определила это как ритуальное убийство. Вот здесь, – она указала на кипу газет, что лежала на письменном столе, – описан весь процесс от начала и до сего дня, описан как есть, без фальсификаций. Если вам интересно, я переведу для вас по частям, и вы сможете тогда написать об этом в вашу газету. И этим послужите большому делу, так как речь, в данном случае, идет о вещах, касающихся всего просвещенного мира. Для этого вам не нужно ничего делать, просто опишете результаты допросов, судебно-медицинской экспертизы и криминального расследования. Но только не посылайте этого своему учителю: что он в этом смыслит? Он вам в лучшем случае отсоветует в это вмешиваться, даже если бы сам и поверил всему описанному. Пошлите прямо в редакцию и расскажите, откуда у вас сведения, чтоб они не смогли утверждать, что это написал некто не имеющий понятия о России и российской действительности, некто позволивший себя заморочить черносотенцам, как они всякий раз и утверждают.
Ребману подобная идея подходит едва ли, у него такое чувство, что лучше держаться подальше от этой истории. Но любопытство и мысль о том, что из этого может выйти действительно интересный рассказ, все же не дает ему покоя. И когда Мадам начинает зачитывать все по порядку, он принимается усердно за ней записывать. Что это за газеты, он не спрашивает вовсе, принимая на веру роковое утверждение о том, что всему, что «черным по белому написано и напечатано, можно доверять». Мадам не производит на него впечатления праздной сплетницы, распространяющей всякий вздор: она рассказывает так, словно видела все своими глазами, но никто не хочет ей верить.
Если он не понимает значения слова или не знает, как пишется имя, он спрашивает, и Мадам ему охотно разъясняет. Под конец ему уже не приходится спрашивать, она сама дает нужные пояснения. Битую неделю они просидели в ее будуаре. Каждое утро, как только краснорубашечник – его полное имя Пантелеймон – привозил свежие газеты, Мадам читала Ребману новости процесса. Он настолько проникся этим неслыханным событием, что даже по ночам во сне его видел.
Если бы он сейчас последовал совету шафхаузенского фабриканта, предупреждавшего его, чтобы он ни во что не ввязывался, не расспрашивал – это в России опасно! Если слишком много размышлять, то за это можно и жизнью поплатиться! Если бы он прислушался к этому совету или хотя бы к доводам здравого смысла, ему бы удалось избежать того, чего он всю жизнь потом стыдился, краснея каждый раз при одном воспоминании. Но в порыве юношеского азарта неискушенный Ребман идет и пишет свое послание, – точно в том же тоне и духе, какой ему сообщила Мадам. Теперь он и сам уже верит, что именно так все и было. Сначала он думал, что выйдет одна статья. Когда же увидел, как огромен материал, решил, ничего не упуская, раскрошить его, как хлеб, и составил целую серию репортажей под общим названием «Сообщения нашего специального корреспондента из Киева».
Сразу появилось и напряжение, и сквозное развитие. И каждый раз, когда у него готова очередная часть, он зачитывает ее Мадам – она довольно хорошо знает немецкий – и его наставница то там, то тут что-то поправляет, указывая, что следует убрать по причине несоответствия столь серьезному делу.
Наконец Ребман собирается с духом и отправляет первую статью прямо в редакцию самой большой шафхаузенской газеты «Листок города на Рейне». Когда он отдавал письмо Пантелеймону, Мадам похлопала «нашего корреспондента» по плечу:
– Вот теперь вы настоящий борец за правое дело. Мы этого не забудем!
И еще добавляет:
– Конечно, они станут на вас нападать, соберитесь же и будьте готовы, там и узнаете, что это за господа. Но мы не дадим вас в обиду! К тому же, это еще вопрос, возьмет ли газета статью или там тоже засели жидовские подпевалы.
Впрочем, «Листок» напечатал весь материал, ничего не убавив и не прибавив, но и не беря ответственности за публикацию, предоставляя читателям возможность составить собственное мнение. Уже через неделю Ребман держал в руках два авторских экземпляра газеты.
– Вот видите, – с гордостью говорит он Мадам, – в наших газетах жиды не задают тон! Они хотя и поставили статью под вопрос, но с тем, что у нас еще в запасе!.. Сейчас же напишем еще и предоставим все ссылки на документы. Вот тогда и посмотрим. Не останется никаких сомнений. Мы им откроем глаза!
Он уже видит себя этаким новым Столыпиным, достойным памятника в центре Киева. А Мадам, со своей стороны, делает все для того, чтоб это настроение его подольше не покидало.
Только господин полковник не говорит ни слова. Как всегда вежливо, он выслушал все, что Мадам однажды за едой рассказала об их совместном проекте. Но по выражению его лица можно было понять, что его эта затея совсем не вдохновляет. С тех самых пор Полковник всегда находит повод откланяться, когда за столом заходит речь об этом предмете.
Вскоре, однако, случилось нечто непредвиденное. В пятницу пришел очередной номер «Рейнштадского Листка», на сей раз лишь в одном экземпляре. И когда Ребман развернул газету, то вместо продолжения своей «Истории» он увидел редакционную заметку, в которой говорилось о том, что редакция не разделяет предвзятых мнений русских антисемитов и ответственность за необдуманную публикацию возлагает исключительно на сотрудников, допустивших материал к печати. Указанной публикацией редакция ни в коем случае не хотела испортить традиционно добрые отношения между швейцарскими христианами и иудеями, тем более оскорбить последних. Кстати, в ближайшие дни будет напечатан ответ шафхаузенских иудеев, основанный на аутентичных материалах.
Ребман бегом бежит к Мадам и читает ей газету:
– Что вы на это скажете?
– Ничего, – говорит мадам Орлова, – этого я и ожидала.
– Но ведь они же напечатали!
Мадам улыбается:
– Они всего лишь газетчики. Их не интересует правда и суть дела, они заботятся только о своих кошельках. Чтобы заполучить подписчиков и разместить несколько лишних рекламных объявлений, они откажутся от любых убеждений, если у них таковые вообще имеются. Они с жидами заодно. Теперь вы убедились, какой они обладают властью.
– И как же мне теперь быть? Это ведь не дело, когда тебя вот так выставляют на посмешище всему миру!
Мадам спокойна:
– Попробуйте написать опровержение. Я лично сомневаюсь, что это что-нибудь даст, но попробуйте. В случае отказа нам ничего не остается, как бросить эту затею или обратиться в другое место. Человечество, вероятно, все еще пребывает на той стадии развития, когда охотнее всего слушаешь детские сказки.
– Хорошо, я им сейчас же отпишу, – говорит Ребман. И пишет: так, мол, и так, он настаивает на своей правоте и желает привести доказательства в свою защиту!
Сразу же приходит ответ из редакции, что они больше ничего не могут публиковать по этой теме. Что-нибудь другое с удовольствием, ведь в огромной России наверняка есть что послушать и посмотреть, найдутся вещи, о которых можно поведать всем со спокойной совестью.
Но тут в Ребмане проснулся норовистый Скакун школьных дней. Мадам уже не нужно его подталкивать, он действует самостоятельно. Бурные послания в редакцию летят одно за другим. Ответ всегда один и тот же: вежливое, но определенное НЕТ.
– Теперь видите? – говорит Мадам. – Один телефонный звонок, и ваша знаменитая рейнская газета… Какие еще нужны доказательства?
– Тогда пошлем опровержение и все остальные статьи в другое издание, но я не стану скрывать факты, нет, этого делать я не буду!
В то время как «специальный корреспондент в Киеве» перед открытым окном и на расстоянии вытянутой руки от цветущего куста бузины «во имя справедливости» строчит очередную колонку, письмо из Шафхаузена, отправителем которого значится доктор Альфред Ной, находится уже в пути. И утром Пантелей привозит депешу со станции. Доктор пишет коротко и ясно: «Журналистика такого рода, дорогой друг, не делает чести никому – ни нам, ни тем более вам. По прочтении ваших корреспонденций хочется задаться вопросом: а были ли вы вполне трезвы, когда писали эти строки. Речь идет о вещах, в которые сегодня ни один здравомыслящий человек уже не поверит. Конечно, каждый, кто вас хорошо знает, сразу поймет, что вам всю эту чушь вбили в голову люди определенного сорта. Но те, кто с вами незнаком, могут принять вас за неразборчивого халтурщика».
Первая реакция господина гувернера была довольно резкой: что это он себе позволяет, я ведь уже давно не школьник! Но тут он обратил внимание на приписку: прежде чем отправить письмо Ребману, доктор еще раз перечел статью от корки до корки в надежде, что в первый раз что-то упустил. У него разболелось сердце, когда он с горечью подумал о том, что автор этого пасквиля – швейцарец, да еще и его бывший ученик. Разве он не понимает, что подобные вещи бросают тень на всех них, и что за все, что мы делаем, рано или поздно придется держать ответ – как тогда смотреть в глаза людям?! Когда он такое читает, то тысячу раз укоряет себя в том, что дал Ребману рекомендацию.
Глава 11
На следующее утро Ребман спросил Мадам, можно ли ему взять отпуск на несколько дней, чтобы съездить в Киев.
– Конечно-конечно, – отвечает она. – Когда вы хотите ехать?
– Лучше всего было бы прямо сегодня. И воскресенье провести там, если вы ничего не имеете против.
– Нет-нет, поезжайте с Богом, Пантелей может отвезти вас на станцию.
Краснорубашечный почтальон из Барановичей повезет его уже не в «мусорной тачке», нынче он явился на двуколке. И господин гувернер, или Месье, как его называла прислуга, наверстал упущенное: высадившись на станции, он вложил в руку кучера целковый на чай.
Сразу перейдя на французский, Мадам Орлова поручила ему передать привет мадам Проскуриной и сказать, что все идет хорошо.
Станционная площадь перед вокзалом теперь совсем высохла, никаких следов ни снега, ни грязи, зато пылища такая, что впору задохнуться.
На сей раз кучер остановился прямо у входа. Уже у окошка Ребман вспомнил, что забыл спросить, как полагается брать билет. Он поднимает два пальца вверх и говорит «Киев». Служащий проштамповал два билета первого класса и протянул клиенту.
– Нет, – кричит тот в ответ, – адин билет, два класс!
Служащий принимает билеты назад и штампует один во второй класс, кажется, он понял тот своеобразный русский, на котором изъясняется этот «немец». Он спрашивает, нужна ли пассажиру плацкарта? Но Ребман уже забыл, как еще в Волочиске Студентка говорила, что каждый раз к билету нужно брать еще и плацкарту. Он протягивает в окошко десятирублевую банкноту, свою последнюю, и дает понять, что и так всем доволен.
Потом он отправился к поезду, возбужденный и радостный, словно школьник, едущий в Киев на каникулы. Как это чудесно снова почувствовать себя свободным и видеть вокруг новые лица! Стоило ему удобно устроиться в мягком кресле – все места в купе были свободны – открылась дверь, и раздался голос кондуктора:
– Билет, пожалуйте!
Ребман протянул билет и тут же получил его обратно. При этом кондуктор, кажется, не совсем доволен:
– Плацкарта? – спрашивает он, – и указывает Ребману на номер над его местом. Тот показывает, что не понимает по-русски. Тогда кондуктор пытается объясниться по-немецки. Очевидно, он догадался, что пассажир едет из Барановичей – откуда же еще? – да и на станции наверняка решили так же.
– Месье, – начал он, – ауф руссиш Айзенбан, вэн зитцэн, мус хабэн платцкарт, зонст гэхен ин коридор. Вас вюнилэн?[14]
Тут господин учитель наконец понял, полез в карман и вынул пятирублевку. Кондуктор достал карточку, что-то на ней написал и вставил ее в кармашек над местом Ребмана. Тот отдал свою последнюю купюру – сдачу с десяти рублей. Зато теперь можно снова спокойно смотреть в окно и размышлять. Там все выглядит по-весеннему прекрасно. Вдоль железной дороги уже не видно нищих паломников.
Он уже не кажется самому себе таким чужаком, как в ту первую поездку. Хотя он еще и не все понимает по-русски, но то одно слово, то другое нет-нет да и обретает вполне конкретный смысл. И тогда он счастлив, как золотоискатель, неожиданно для самого себя обнаруживший среди намытого песка крупинки чистого золота.
На вокзале в Киеве извозчики снова выстроились в очередь. Как только они видят, что никто не останавливается, они трогают с места и сопровождают клиента шагом:
– Куда, барин? Куда прикажете?
Ребман сказал адрес, и растрепанный извозчик ответил в полном соответствии с ожиданиями седока:
– Целковый!
На это господин гувернер отвечает со знанием дела, как будто он и родился, и вырос в этом городе:
– Четвертак и точка!
Но рецепт мадам Проскуриной почему-то не действует, извозчик не только не делает реверансов, но даже и не отвечает. Он уезжает, оставляя барина из Барановичей ни с чем. Тут что-то не так, думает тот, и подзывает другого извозчика. Говорит, куда ехать. В ответ снова: целковый. Тут Ребман достает полтинник и крутит его двумя пальцами в воздухе, давая понять, что не лыком шит. Но извозчик начинает разводить катавасию, вертит кнутом, намекая франтоватому «немцу», что дорога дальняя. Но когда он видит, что коса нашла на камень, прекращает торг и возвращается на прежнее место.
– Вот чудак! – слышит Ребман в свой адрес.
В «Швейцарском Доме», куда он добрался через добрых полчаса, потому что вынужден был идти пешком, его снова встретили с распростертыми объятьями. Он тут же поведал о своих злоключениях с извозчиками на привокзальной площади: несмотря на то, что он вел себя точно так, как учила мадам Проскурина, поднял цену до полтинника, никто не захотел его везти.
– Следовало дать семьдесят пять копеек, тогда бы поехали.
– Но вы же учили ни за что не платить больше четверти от того, что просят! И что такое «чу-дак»?
– Чудак? Ein Krauter. А что?
– Так мне кричал вслед извозчик, а вся их компания при этом ухмылялась.
– Ну и как же вы сюда добрались?
– На своих двоих, как лягушка.
– Могли бы, по крайней мере, сесть на трамвай!
– Нет, я… э… мне хватило мороки у билетной кассы, да и потом, в поезде, тоже. И он рассказал все по порядку:
– Как же это мучительно, если совсем не можешь столковаться с людьми!
Мадам Орлова велела вам кланяться и просит передать, что у нас все в порядке.
– Да она мне и сама то же говорила, она уже дважды побывала у нас, один раз даже с Пьером. Они весьма довольны новым гувернером. И Маньин высказывался в том же духе. Не правда ли, они очень милые и достойные люди? Вы поедете с ними на Кавказ?
– Я? Пока ни о каком отъезде не было речи. Не совсем понимаю, отчего они так торопили меня с отъездом. Чтобы сразу по приезде устроить мне пятинедельные «каникулы»?
– Пусть вас это не смущает. Россия – это вам не Швейцария, где все начинают сходить с ума, если лошадь полдня стоит не запряженная. Вы пока осмотритесь, попривыкните к новому окружению и новому климату. Мадам Орлова признала, что вы ей понравились. Что же вы делали в Барановичах все это время? Правда, весна очень хороша в загородном имении? И обстановка, и обхождение, и все прочее… Вы прилежно учили русский?
– Нет. Но в остальном я старался, даже слишком. – И Ребман рассказал вкратце, что он успел натворить, и о том, что его теперь беспокоят последствия этой горе-журналистики. Мадам Проскурина его утешила:
– Ну, мир от этого не перевернется… Евреи далеко не без греха, поверьте! Кроме того, вы же не имели никаких дурных намерений, когда писали эти заметки.
– Нет, конечно же, нет, я даже… Во всяком случае, я верил тому, что мне рассказали. Верят ли они в это сами – это уже другой вопрос.
– Вы имеете в виду евреев?
– Нет, Мадам и Маньина.
– Маньина вы не очень слушайте, он говорит то, что хочет слышать Мадам. А в то, что она сама говорит, она, конечно, верит. Не забывайте: здесь у нас в России во многом еще средневековые устои, особенно в деревне. Но вам об этом не стоит беспокоиться. Вы делайте свое дело и вместе с тем старайтесь смотреть в корень, тогда непременно выйдет что-нибудь стоящее. Вы как раз получили небольшой урок, но через это все проходят – такова жизнь. Стоит ли так расстраиваться по пустякам?!
Ребман хотел было ответить, что для него это вовсе не пустяки, но тут открылась дверь и вошла девица Титания во всей своей красе.
– Ах, – воскликнула она, протягивая руку, – вот и мой спаситель! Вы прекрасно выглядите! А как обстоят дела с русским языком? Вы теперь согласны, что восемь – это обыкновенное число?
– Да, теперь согласен, как и со множеством других очевидных фактов.
– Вы надолго в Киев?
– Только до воскресенья. Я себя чувствую слегка одичавшим псом, радующимся возможности снова видеть людей и поразмять язык, совсем закостеневший в деревенской глуши.
К обеду подходят и другие: мадам «Монмари», которая только что встала из-за мигрени, двое эльзасцев, Штеттлер, красавица-ирландка и Аннабель, За столом так же шумно, как и месяц назад, все места снова заняты. На этот раз Ребман чувствует себя очень комфортно. Как же это здорово снова понимать, о чем говорят люди, даже если они делают это по-французски!
Он рассказал, какого мнения о царе и о Толстом придерживаются в Барановичах, и, к своему большому удивлению, обнаружил, что того же мнения держатся и здесь, в «Швейцарском Доме».
– Царь, – говорит мадам «Монмари» в своей уверенной манере, – не просто дурак, он идиот. А что касается Толстого, то, знаете, о женщинах говорят: в молодости – шлюха, в старости – ханжа. О Толстом, как и о многих представителях «рыцарского» пола, можно с таким же основанием сказать: в младости – распутный, в старости – занудный.
Она делает презрительный жест рукой, будто Сусанна, отмахивающаяся от старцев.
От еды Ребман далеко не в таком восторге, как в прошлый раз. Мадам Проскурина, кажется, это заметила:
– Ага, вот и еще один новоиспеченный гурман. После барских разносолов наше скромное угощенье вам уже не по вкусу. Да, мы не можем подавать перепелок и фрикадели, нам это все не по карману. Зато мы можем похвалиться другими вещами. Сходите-ка с ним в Лавру после обеда, месье Штеттлер, там уже не так много народу, теперь можно рискнуть! Покажите ему это чудо, и он увидит, что Россия – это не только пьянство и безобразие.
После обеда они отправляются.
– Поедем? – спрашивает Штеттлер.
– Нет, пройдемся. Хочу посмотреть на людей после четырехнедельного заточения.
А людей и, правда, много. Красивый широкий Крещатик кишит ими, словно муравейник. Отовсюду веет запахом духов и прочими ароматами.
И евреи есть. По двое или по трое расхаживают себе размеренным шагом или стоят кучками у домов, потрясая какими-то важными бумагами и бурно их обсуждая:
– Он мене цугезагт!
– Я вас кэннэн Зи, понимаете ли?
– Никс цу махн, совсем аусрангирт!
И так далее. Еще месяц назад при такой оказии Ребман уже стал бы подшучивать и подтрунивать над ними, как Маньин. Но после всего, что с ним приключилось, ему уже не до шуток. У него такое чувство, что он прилежно рыл другому яму, да сам в нее и угодил.
Видя вокруг множество нищих и попрошаек, он указывает на оборванца, лежащего на земле у перевернутой шапки:
– А что, в России нищенство разрешено?
– Не просто разрешено, – смеется Штеттлер, – это «почетное ремесло». У каждого свое место на ярмарке, и не дай Бог, чужой его займет, может дойти до поножовщины. Ведь это доходный промысел. Вон там стоит один, с деревянной ногой: я ему раз по ошибке дал пятидесятирублевый билет. А он мне на это: «Сколько могу удержать-с?» Ведь этот «бедняга» зарабатывает больше нас с тобой вместе взятых.
Они как раз проходят мимо галантереи.
– Погоди минуту, нужно кое-что купить, пока не забыл, – говорит Ребман, заходя в лавку. Молодой человек, верно, приказчик, спрашивает, чего господин изволит.
– О дэ Колонь Алиэнор.
Приказчик смотрит на него, как на экзотическое животное:
– Чего прикажете?
Ребман повторил, еще медленнее, еще четче и еще более на французский манер. Но приказчик только качает головой и зовет старшего. Тот спрашивает на хорошем немецком, чего господин желает.
– О дэ Колонь Алиэнор, – уже в третий раз повторяет Ребман.
Этот запах запомнился ему в первый же день пребывания в Барановичах. Такой сильный, дурманящий. Именно тем он Ребману и понравился. «Я тоже должен таким обзавестись», – подумал тогда он, и при первой же возможности спросил у Маньина название парфюма и узнал, где его можно купить. И вот наконец он его приобретает.
– А, господин желает одеколону! Простите, какой марки?
Ребман повторяет в четвертый раз. И уже через минуту он держит в руках драгоценный флакончик и видит, что это именно то, что показывал ему Маньин. Сначала он боялся, что цена окажется слишком высокой, у него осталось только несколько рублей. Но одеколон стоил всего рубль.
– Ну а теперь вперед, на всех парусах!
– И дальше пойдем пешком?
– Так это же как раз за этой, как ее, – ну да! за Владимирской горкой. Уже совсем недалеко.
– Нет, для глаз недалеко, но для ног – во всяком случае, не меньше часу ходьбы. Лучше поедем трамваем, а то и сегодня не попадем в Лавру. Там за две минуты всего не осмотришь. Это же целый город, даже два: один – на горе, а другой – внутри горы.
Во время поездки, которая с пересадкой заняла около получаса, Ребман спросил у Штеттлера:
– А ты знал Водноголового?
– Это еще кто?
– Как же, брат Пьера Орлова!
– А, того самого? Ну да, он как раз покончил собой, когда я еще служил у них.
– Так что же у него было?
– Да ничего, кроме того, что он был разумнее их всех. Светлая голова, скажу я тебе, из него бы мог получиться настоящий ученый.
– Ученый с таким диагнозом – водянкой головного мозга?
– О, это они всем только рассказывали, потому что он, Мадам и…
– Но Маньин ведь говорит, что он был настоящим дьяволом, даже еще опаснее.
– Да, в каком-то смысле. Он-то знал, что у них происходит. Именно поэтому его и заточили в Батуме и утверждали, что он буйный и припадочный. На его месте любой другой реагировал бы точно так же. Но такие штучки довольно часто случаются на святой Руси. Это же сатрапы, как пишут в книгах. Будь с ними поосторожнее, ни во что не ввязывайся, не то пропадешь. Стоит только словечком обмолвиться, и – хопп! – у тебя уже полиция на хвосте. А те не верят ни одному твоему слову, даже если ты говоришь чистую правду.
Тут им нужно было делать пересадку. И как только они снова уселись, Ребман продолжил:
– Вот что я хотел спросить: ты знаешь что-нибудь о ритуальном убийстве, совершенном здесь в Киеве?
От удивления Штеттлер сделал брови домиком:
– Они что, пытались тебя обработать этими россказнями?
– Не просто пытались.
– И ты оказался таким ягненочком? Нас ведь в Швейцарии еще в школе ушили…
– Я не ягненок и не овечка.
Штеттлер похлопал Ребмана по плечу:
– Ну, будет, я же не хотел тебя обидеть.
Но теперь уже Ребман берет быка за рога и выкладывает всю историю от А до Я, ни в чем себя не оправдывая.
– Я должен с кем-то поделиться, эта история просто душит меня, поэтому я и приехал в Киев. Вот – он достал обе газеты, свою статью и опровержение, и протянул спутнику, – можешь сам прочесть. Но я должен предупредить: я во все это поверил. Это единственное оправдание, которое у меня есть, если мне вообще можно найти оправдание.
Штеттлер пролистал обе статьи, несколько раз кивнув, но чаще качая головой. Наконец он сказал:
– Поговорим об этом позже, теперь нам пора сходить. Похоже, еще один кающийся грешник пришел во святую Лавру. Кто мог ожидать такого поворота. Ну, идем же! И не делай такое лицо, чтобы каждый прохожий видел, что ты ошибся и страдаешь, ты ведь уже на полпути к исправлению.
Он берет «грешника» под руку:
– Все, пойдем. И спасибо тебе за доверие!
При входе в монастырь им навстречу вывалила толпа крестьянок с котомками за плечами, с палками вместо посохов, одетых в волочащиеся по земле юбки из грубой ткани, из-под которых выглядывали тяжелые мужские сапоги. Все лица закутаны в черные платки. Ребман смотрит им вслед:
– Можешь мне что угодно посулить, но в таких нарядах я по их виду ни за что не определю возраста.
Молодые люди идут вдоль наружной стены, которая огибает весь холм, и дальше по дороге, ведущей вверх к святому граду. Монастырь расположен на песчаной скале высотой в семьдесят-восемьдесят метров, ступенчато ниспадающей в Днепр. Еще одна стена, намного выше и толще прежней, со старинными балками сторожевых башен. И вот они стоят у центральных ворот перед надвратной церковью, даже наружные стены которой сплошь расписаны ликами святых – несколько десятков изображений. А над ними позолоченная крыша. На боковых стенах слева и справа от ворот – росписи: монастырь, с Сионской горы устремляющийся в небо, два ряда святых угодников, каждый из которых изображен внутри звезды. И на входных воротах святые: в длинных облачениях, с красивыми белыми бородами, со свитками писаний в руках. За воротами видна колокольня собора и один из золотых куполов.
Это теперь можно все словами описать. Но не когда вот так стоишь, и все это сверкает перед тобой под прозрачным весенним русским небом! Это не просто голубой шатер над головой, сквозь который видишь небеса, взгляд устремляется все выше и глубже, проникая в тайну бесконечности времени и пространства.
– А почему вон там, на куполе, вверху под крестом еще и полумесяц? – спрашивает Ребман.
– Византийский крест над азиатским полумесяцем!
Они входят через ворота в монастырь, нет – в город!
Да, это был настоящий город с улицами, садами, гостиницами, школой и церквями. Штеттлер утверждает, что здесь есть даже своя типография.
– Что, собственно, означает слово «Лавра»? – спрашивает Ребман, – это имя святого?
– Нет, Лавра – это просто название монастыря: лавра или монастырь, так говорят русские. Он постучал в окошко в глубине ниши. Бородатое лицо – борода начиналась уже у самых глаз – выглянуло оттуда. Они перебросились между собой несколькими словами. Окошко снова затворилось. И тут же к ним из боковой двери вышел монах с каштановыми локонами, как у Христа. В руках у него был фонарь.
– Это наш проводник, – говорит Штеттлер. – Всего мы за полдня, конечно, не осмотрим, для этого потребуется целая неделя, но самое важное и прекрасное ты все же увидишь. Сначала пойдем в Церковь Трех Святителей, это одна из самых старых во всей России. Он делает знак монаху, и они идут.
– Это у них какой-то особый орден, что у него такие длинные волосы?
– Нет, у всех православных духовного звания точно такие же.
Как только они вошли внутрь, монах машинально затараторил. Штеттлер переводит всю историю монастыря: основатель – митрополит Илларион, живший в одиннадцатом веке. Во время первого нашествия татар монастырь полностью сгорел и был восстановлен в четырнадцатом веке, и так далее, так далее, целую ектенью. Но Ребман его не слушает, ему бы только глазеть: что за блеск, что за изысканность, просто варварское какое-то великолепие! Иконы сплошь покрывают стены, все в чистом золоте и густо усыпано драгоценными камнями. Ни уголка, ни кусочка стены, где бы не было росписей или золота и где бы не прятались старые, пылью веков покрытые образа. В полумраке, в кадильном дыму, которым всех входящих тут же окуривают, возникает чувство страха. Мнится, что Святые в любой момент могут наброситься на тебя. Ребману даже несколько раз показалось, что он видел разряды молний.
– Какой контраст, – тихонько шепчет он Штеттлеру, – здесь такая расточительная роскошь, а там – оборванные нищие на голой земле. Спроси его, все ли камни на этих иконах настоящие, и считает ли он правильным то, что на деньги бедняков покупается такое великолепие…
Но тут монах оборачивается, смотрит на Штеттлера и сам его о чем-то спрашивает.
– Что он сказал?
– Он хочет знать, православные ли мы.
Штеттлер отрицательно качает головой, и монах снова его о чем-то спрашивает.
– Верим ли мы в чудотворные иконы и в святых?
Снова качание головой, на сей раз очень энергичное.
Монах продолжает допытываться:
– А вы из каких, немцы, что ли?
– Швейцарцы, – отвечает монаху Штеттлер.
– Это еще что такое?
– Это страна такая, Швейцария, а мы ее граждане.
Монаху кажется, что его дурачат:
– Ну и где ж это будет?
Штеттлер машет рукой вдаль, дескать, во-о-он там…
Монах провожает руку взглядом:
– Что, далече?
– Да уж…
– Дальше Москвы?
– Намного.
– Дальше Рима или Парижа?
– Нет, ближе.
– Так где же это? – вопрошает монах. – Париж и Рим ведь как раз на русской границе, а между ними и нами сроду ничего не было!
– Что он еще хочет знать?
– Спрашивает, на каком языке у нас говорят?
Штеттлер вытягивает четыре пальца:
– У нас говорят на четырех языках, не на одном!
– На каких?
Штеттлер называет ему все четыре.
– А на русском?
– Нет, по-русски у нас не говорят.
Монах расспрашивает дальше:
– А велика ли ваша столица?
Штеттлер отвечает. Монах хочет знать еще, кто ними правит, царь или император?
– Ни того нет, ни другого.
– И даже короля нету?
– Мы сами у себя правим! – по-швейцарски гордо заявляет Ребман.
Монах задумчиво вытягивает лицо, по которому можно легко прочесть то, что он хочет сказать: ни святых, значит, и веры нету, ни царя, ни императора, ни даже короля, ни большого города. Он почесал что-то в бороде, повернулся и пошел прочь, так и оставив «немцев» в недоумении.
– Что он сказал?
– Что мы – варвары.
Дальше они пошли одни.
– Какова же вера этих людей, – говорит Штеттлер, указывая на убогих, бедно одетых богомольцев, что до земли кланяются перед чудотворной иконой и без конца вдохновенно крестятся, – каков камень Веры, на котором они жизнь свою строят! Сотни километров сквозь снег и дождь по колено в грязи, замерзшие, голодные, без денег и без крыши над головой, горбушка черствого хлеба в котомке из мешковины – а в сердце эта всесильная Вера в чудо, которая помогает преодолевать все трудности. А для нас и путь в сто шагов стал непомерно длинным. Ты уже бывал в здешних церквах?
– Был в прошлое воскресенье. Однако ничего не понял. Вместо утешения – мрачное чувство.
– Все остальные тоже не понимают по-старославянски или понимают далеко не все. Но они не за этим ходят в храм. Русский несет в церковь свое сердце. У него такая вера, какую должен бы иметь каждый. Он не только поклоняется своим святым, он их почитает и любит всей душой, и хочет тоже быть таким же, как они. В его глазах это не просто их портреты, это они сами! Они всегда рядом: все видят, все слышат, что бы он ни говорил и что бы ни делал. Если же он совершает нечто недостойное, то поворачивает икону ликом к стене, чтобы не огорчать святого, не причинять ему боль. Ты этого еще не заметил?
– Заметил, что нет скамеек, даже для таких стариков, как вон тот дедушка, что с палками ходит.
– И правда, даже для таких нет ни скамейки, ни стула. Все должны стоять или на ногах, или на коленях, даже если служба длится два или три часа. В Швейцарии…
– Там народ вовсе не участвует в службе, все только стоят себе, отстаивают.
– Да нет же, нет! Они молятся!.. Но мы теперь должны поспешить, если еще хотим поспеть в пещеры.
Они подошли к задним воротам, и Штеттлер снова о чем-то перемолвился с привратником.
И вот опять к ним выходит монах, но уже другой, тоже с фонарем в руках.
– Пожалуйте, – говорит он и сам проходит вперед к воротам, потом – направо через лужайку и вниз по узким деревянным ступенькам вдоль почти отвесной скалы. Посреди лестницы он остановился, зажег фонарь, отпер дверцу в стене, и они вошли в нее.
Собственно, здесь не так уж много и увидишь. Во всяком случае, совсем не то, чего ожидал Ребман: никакого подземного города, столь же великолепного, как тот наверху, ничего кроме множества проходов внутри известняковых стен. Они расходятся во всех направлениях, как лабиринт: наверняка многие потерялись в этих подземных ходах, невзначай оторвавшись от проводника! И на каждом шагу – ниша в стене: то пустая, а то со старинным саркофагом внутри и горящей около него лампадкой. У тех, в которых есть саркофаг, монах останавливается, крестится и что-то говорит Штеттлеру.
– Что он сказал?
– Назвал по имени архиерея, лежащего в этом саркофаге.
– Что, они так до сих пор там и лежат?
– Безусловно, даже в полном облачении, но, естественно, в виде мумий, похоже, их набальзамировали.
В некоторых местах внутрь просачивается вода, там и стены, и земля очень влажные.
– Спроси его, действительно ли пещерные ходы доходят до самого Днепра?
Штеттлер сначала переводит вопрос, затем – ответ монаха.
– Нет, он полагает, что не доходят, а то бы пещеры наверняка давно уже развалились бы. Ну что, хочешь спускаться дальше? Скоро пробьет пять.
– Нет, лучше вернемся. Спроси его, сколько стоит его экскурсия?
– Сколько дадите!
Каждый дал по четвертаку.
Они выходят из пещер, садятся на скамейку и смотрят вниз на Днепр, который течет совсем близко. От множества судов, больших и маленьких, даже в глазах рябит.
Штеттлер достал обе газетные статьи и вернул их Ребману:
– О чем же ты думал?
– Ну я…
– Ты думал, что у тебя хоть уздечка в руках останется, если поскачешь галопом в этой чудной кавалькаде? А думал ли ты, что случится потом, когда ты перестанешь им подпевать, об этом ты подумал? Эти люди опасны, они только на первый взгляд кажутся добродушными и безобидными, но если с ними свяжешься, продашь душу дьяволу. Эти люди насквозь прогнили. А тут еще эта мадам Проскурина, глупая баба, поставляющая Молоху все новых жертв!
Он качает головой:
– Столь неопытного человека втравить в такую гадость! До этого им и дела нет. А швейцарская газета еще и напечатала! Ты думаешь, евреи всегда должны терпеть, что каждый оборванец может на любого из них показывать пальцем как на убийцу! Они не могут никогда быть уверены, что погромщики среди ночи не вытащат их из собственной постели… Вот что я тебе скажу: я тут в России такого насмотрелся – хоть криком кричи от бессильного гнева. Какая-то дама бросает прохожему прямо в лицо: «Грязный жид!» – по-французски, конечно. А тот ведь ей вообще ничего не сделал, лишь вежливо попросил: «Позвольте пройти, мадам!» И за это получил оскорбление. Ужасно! Так бы и придушил гадину! Даже говорить трудно, как вспомню об этом – от стыда хочется сквозь землю провалиться.
– А я думал, русские – добрый народ.
– Русский человек, как стихия: открытый, щедрый до мотовства, в трудную минуту себя не пожалеет и не попросит награды. Однако же, как и на стихию, на него нельзя положиться: когда опускается или если кого-то невзлюбит, он превращается в животное. А такое легко случается, ты еще с этим наверняка столкнешься. Но иначе он бы не был русским, из песни слов не выкинешь.
Когда они вернулись в Дом, все общество уже сидело за ужином. Ребман заметил, что некоторые дамы, в том числе и красавица-ирландка, одеты в вечерние туалеты.
– Ну, входите же, монастырская братия, для вас как раз есть послушание.
– Ах, как мило, – иронизирует Штеттлер. – И что же нас ожидает?
– Место в театральной ложе. И если вы будете хорошими кавалерами, вас ожидают благодарные взгляды дам, которых вы будете сопровождать.
На это Штеттлер откликнулся все в том же шутливом тоне:
– Какая честь, ее сиятельство снова приглашает нас в свою ложу посмотреть пьесу, которая для нее не слишком хороша!
– Нет, у нее просто другие обязательства, а то бы она обязательно пошла. И вы должны быть ей признательны: на «Бориса Годунова» с Цесевичем вы бы никогда в жизни не попали, тем более здесь, в Киеве.
– Ах, вот оно что! Это совсем другое дело, это мы принимаем и целуем ручку.
– Да, но я не могу пойти в театр, я одет неподобающим образом, – заявляет Ребман.
Мадам Проскурина возразила с присущей ей решимостью:
– Ах, не усложняйте так дело! Это возможность, которая вам наверняка не скоро опять представится. В России не обсуждают за ужином, куда бы нынче вечером пойти: может, на «Бориса Годунова»? А кассир в окошке не млеет от счастья, что господин и госпожа Майер соблаговолили пожаловать. В России простой смертный не получит в кассе никакого билета, разве только простояв целый день у театра в ожидании.
– А что же люди делают, если хотят пойти в оперу?
– А вот что, вмешался в разговор Штеттлер, – те, кто не в дружбе с князьями, приходят за полчаса до начала спектакля. Потом ищут барышников, вернее, те сами к ним подходят, если заметят, что кому-то нужен билет…
– Барышники, кто это?
– Русское изобретение. Это те, кто заранее скупает все билеты, разумеется, с ведома кассира. И тут начинается торг, тогда можно, в зависимости от пьесы и от состава исполнителей, поднимать цены в четыре-пять раз, а то и вдесятеро, если окажется, что много желающих во что бы то ни стало попасть на спектакль. Если выложишь двадцать пять рублей за билет на оперу, которую дают сегодня вечером, то это большая удача, иначе и вовсе не попасть. Так что наплюй на свой костюм и ступай, другие на твоем месте пошли бы и в ночной сорочке.
– Что ж, с удовольствием, если дамы ничего не имеют против.
Уже на улице Ребман спросил Штеттлера, сколько продлится спектакль.
– Смотря по количеству «бисов». В любом случае окончится не раньше полуночи. Но тебе ведь завтра с утра не нужно вставать в школу.
– Нет, но нужно еще проводить наших дам домой, это ведь главное условие, – напоминает мадам Проскурина.
– И как я потом попаду в дом, вы ведь будете уже спать?
– Придется позвонить, к вам выйдет ночной портье и откроет парадную дверь, а ключ от квартиры я вам сейчас дам.
– Ночной портье? Тут что, гостиница?
– В каком-то смысле да. Дадите ему на чай.
Когда они спускались по лестнице, ирландка или Мисс, как все ее называли, спросила Ребмана: разве он не рад, что идет с ними?
– Он просто грустен, оттого что он не первый, а второй красавец в нашем обществе, – быстро нашелся Штеттлер.
Тогда Мисс подходит к Ребману и, подмигнув ему, кокетливо замечает:
– I like you just the way you are! – Вы нравитесь мне таким, как есть!
Дорогой Ребман спросил Штеттлера, часто ли тот ходит в театр.
– Я – не часто, другие же довольно регулярно. Мадам Проскурина нередко получает билеты от разных богачей и раздает их своим любимчикам.
– Выходит, ты из их числа!
– Нет, она меня только из-за тебя пригласила, и еще, конечно, в качестве провожатого.
Перед театром у него в глазах темнеет от множества карет и экипажей. А внутри он ослеплен шубами, цилиндрами, золотыми эполетами и звездами на офицерских мундирах.
Ребман пробирается вперед за Штеттлером. Посреди этого блеска и великолепия он себя чувствует неким «отбросом общества». Но никто на него не обращает внимания. Им даже не нужно идти в гардероб: как только Штеттлер предъявляет карточку с княжеским гербом, их всюду пропускают, а наверху, в первом ярусе, услужливый лакей в белом головном уборе предупредительно распахнул перед ними двери княжеской ложи, так, словно они и были «их сиятельствами» во плоти.
И вот Ребман уже сидит в ложе и только и может, что глазеть вокруг широко раскрытыми от удивления глазами. То, что такое бывает, ему и не грезилось, он не смел и мечтать о том, что увидит это наяву: огромный театр как будто облит золотом и пурпуром, все выглядит по-царски великолепно. Пять ярусов, верхний – просто на заоблачной высоте. Одна сцена смогла бы вместить весь театр в городе на Рейне. А туалеты дам! Можно сказать, что красавицы скорее обнажены, чем одеты. И повсюду сверкают бриллианты. И везде аромат тончайших духов.
– И здесь, в этом театре стреляли в Столыпина?
– Да-да! На глазах у августейшего самодержца. Столыпин вот так облокотился на перила, беседуя с Государем, тут и бабахнуло.
Штеттлер говорил таким тоном, как будто речь шла о перегоревшей электрической лампочке. Тут он указал направо:
– Вот она, царская ложа. Подойди поближе, тебя никто не застрелит.
Ребман встает. И теперь он видит ее, увенчанную золотым двуглавым орлом.
– Вот значит как. И что, они часто здесь бывают?
– Они здесь всегда, символически.
Когда он снова садился на место, то заглянул в соседнюю ложу: полные полуобнаженные дамы и господа во фраках с напомаженными волосами, довольно громко беседующие.
– И все же тут полно евреев, – заметил он Штеттлеру, – и не похоже, чтоб им было плохо, никогда не скажешь, что их притесняют или тем более бьют.
– А зачем это показывать? Они тоже имеют право радоваться жизни, в конце концов, они тоже заплатили за билет, как и… ну, нас-то пригласила княгиня…
– Кажется она благородная дама. Ты ее когда-нибудь видел?
– Даже почти обонял. Я был на волоске от того, чтоб давать уроки в их доме, но, слава Богу, до этого так и не дошло.
– Как она выглядит?
– Да черт с ней… Пардон, как античная богиня, которую освежили и перекрасили.
Как только он это проговорил, погасили свет. И тут Ребман встретился с чудом, возможным только в России, которое, как и всякое чудо, словами не опишешь. Музыка! Великолепие костюмов и декораций! Балет! Голоса! Но больше всего его поразила публика. Она не сидит смирно, не ждет, пока закончится акт, она прямо посреди спектакля начинает топать, хлопать и кричать: «бис, б-и-и-с, би-и-и-с!» Некоторые арии, хоры и танцы повторяли по три-четыре раза подряд, до тех пор, пока публика не успокаивалась. И когда окончился первый акт, началась такая буря оваций, что, казалось, театр развалится. Ребман все время поглядывал на центральную люстру, не упадет ли та вниз.
– Это что, на каждом представлении так?
– О, дитя мое! Если бы ты оказался здесь, когда выступает Шаляпин или Гельцер, Павлова, Карсавина, Нижинский, Дягилев с Петербургским балетом или Московский Художественный театр, тогда весь дом так и ходит ходуном! Но на такие спектакли билетов не достать. Я пытался, в самом начале своей жизни в Киеве. По наивности еще в обед отправился в кассу. Конечно же – ничего, кассир так на меня посмотрел, как будто я потребовал от него пропуск на царский бал. Я – снова на улицу, ко мне сразу подошел какой-то тип, как потом выяснилось, барышник, и предложил билет на Шаляпина! Сразу достал целый веер. Я уже довольно хорошо говорил по-русски: день и ночь зубрил, перед тем как распрощаться со Швейцарией. Сколько стоит, спрашиваю. Двадцать пять рублей! Я предложил пять. Потом десять. И знаешь, что он мне на это ответил? Двадцать пять! И так как я не собирался платить, он спрятал весь веер билетов обратно в пальто. Да, теперь самое интересное: вечером я себя почувствовал настоящим ослом, ведь деньгами такое не оплатишь, и пошел опять к театру, а билет стоил уже тридцать пять рублей, тот же самый билет!.. Но как тебе спектакль и постановка, что скажешь? Правда, начинаешь понимать значение понятия «варварская» Россия? И это еще не первый состав – и солистов, и балета.
– Что, неужели бывает еще лучше? Не могу поверить, это было бы уже просто неприлично. Если бы мне кто сказал, что возможно то, что я нынче вечером увидел и услышал, я бы посчитал его вруном.
– Тогда ты еще немного повидал.
– Что? Да я слышал «Майстерзингеров»!..
– О, не говори мне об этих немцах, они просто не способны… Нет, они играют так слащаво, что начинает сочиться патока, и каждому школьнику понятно, что это всего лишь театр. Искусственность вместо искусства. Один фальшивый пафос. Там, где нужен громкий плач, у них одни брызги. Русскому театральность отвратительна, вообще все искусственное он ненавидит или смеется над ним. В театре он переживает свою собственную судьбу и судьбы своего народа, все, что его радует и от чего он столетиями страдает. Когда слушаешь Шаляпина, слышишь всю Россию. Русские потому такие замечательные артисты, что они не играют вовсе. Они знают, что настоящее искусство исходит изнутри, и не просто производится руками, ногами или горлом. Но это нужно пережить здесь, в России, не на заграничных гастролях. Там это как чучело вместо живой птицы.
– Где же они учатся так петь, танцевать и играть на сцене?
– Пение и танец – это способность врожденная. Русские приходят в этот мир с соловьиными голосами и с танцующими ногами, им просто необходимо петь и танцевать, это для них как воздух, и такая же часть жизни, как дыхание. Обрати внимание на улице: они не ходят, они танцуют. Утверждают даже, что за границей русские узнают друг друга по походке, еще до того, как услышат речь. Ты не заметил в Барановичах, что они поют и на полевых работах, и на реке, когда девушки стирают, носят воду и убирают комнатах? А по воскресеньям, разве не слыхал, как они играют на гармошке и на балалайке, да еще и танцуют под музыку? Но дело не только в голосах, дело и в самих песнях. Далеко до них нашим альпийским парням Ангереру и Аттехоферу! Русским они и в подметки не годятся.
– Хорошо, я слышал это однажды и расчувствовался. Но петь по воскресеньям еще недостаточно, чтобы выступать в театре. Ты же не станешь меня в этом убеждать?
– Нет, для артистов существуют специальные школы. И там каждый год устраивают конкурсные прослушивания, в которых могут участвовать все, у кого хороший голос. И претенденты съезжаются отовсюду, со всех концов страны. Из них отбирают лучших и дают им образование – как музыкальное, так и общее. Но часто большие таланты открываются совершенно случайно. Цесевич, например, был простым слесарем и пел в церковном хоре. Этот народ до неприличия богат талантами, и не только в музыке. В каждом большом городе есть театральная школа или, как здесь говорят, студия, где обучаются молодые дарования. У нас в Киеве тоже есть такая студия, я туда часто ходил, ведь почти бесплатно, но скажу тебе, что многие, даже большие заграничные театры не могут похвастаться такими артистами, как здешние студенты. Конечно, всему нужно учиться, ничто не приходит само собой, по щучьему велению. Над этим работали многие поколения гениальных актеров, а теперь этот уровень уже стал традицией. Ты не заметил различия между тем, что видел до сих пор, и тем, что увидел сегодня?
– Да, действительно, заметил. Здесь просто забываешь, что находишься в театре. Я уже размышлял о том, что так трогает в русской музыке. Теперь я знаю: это душа народа, в ней вибрирующая и звучащая, как ты и говорил.
В конце представления его ожидал самый большой сюрприз. Как только опустился занавес, публика вся встала – только теперь стало видно, какое море людей было в зале – и началось:
– Цесевич! Це-се-вич! Це-сееее-вииич!!!
Раз за разом артист выходил на поклоны – тот, что когда-то был слесарем – перед занавесом кланялся публике. Раз за разом его все более восторженно приветствовали, будто самого царя. И даже перед зданием театра слышны аплодисменты, топот и крики «Це-се-вич».
– Ну, что ты теперь скажешь? – спросил Штеттлер. Ребман пожал плечами и протянул вперед руку:
– Сам мне лучше скажи: это я одурманен или все они – там, в зале?
Штеттлер рассмеялся:
– Да нет, это не дурман, от которого к утру ничего не останется. Это большая глубокая любовь и почитание, с которыми русские относятся к своим артистам, и не только в театре. Просто здесь есть возможность в полной мере проявить свои чувства. Но уже сегодня ночью и завтра, и всю следующую неделю только и будет разговоров в конторах, лавках, дорогих магазинах, ресторанах о том, что они здесь видели, слышали и что при этом переживали. Ты себе даже не представляешь, как русские почитают людей искусства и какой у артистов высокий общественный статус. Они здесь знают, что художник без успеха не может существовать.
Ребман кивает: да, вот ему еще одно окошко открылось. Штеттлер тоже качает головой и говорит ему:
– Как бы я хотел еще хоть раз пережить все те прекрасные минуты, которые у тебя впереди, Бог свидетель!
– Эй, да ты тоже все это переживаешь, еще сильнее меня, ты же понимаешь язык много лучше!
– И все же это совсем не то. Первое впечатление всегда самое глубокое и самое прекрасное. Все другое забывается. А это – никогда.
По дороге домой – для доставки дам они взяли извозчика, а потом шли пешком – Штеттлер впервые сам заговорил об Орловых:
– А что, теперь вся семья в Барановичах?
– Нет, только Мадам и Полковник, конечно. Маньин и барчук – на Кавказе. Я в постоянном ожидании своего к ним отъезда.
– Ага, в дом Урусова. Можешь уже предвкушать удовольствие.
– От чего?
– Да так, местечко прескучнейшее. Принадлежало еще папаше мадам Потифер.
– Я не это именьице имел в виду, а то, что в Пятигорске.
– Там курорт для сифилитиков, специально для офицеров русской императорской армии.
– Сифилитиков?
– Да-да, ты не ослышался! Это надо видеть: молодые ребята из аристократического общества – да еще и в форменных мундирах! – которые еле передвигаются сами или перевозятся в колясках. Все уже на последней стадии!
– А ландшафт, природа?
– Ничего особенного. Пыли наглотаться сможешь вволю. Да еще и попотеешь, даже если ничего не будешь делать.
– Пыль на Кавказе? Я думал, что там горы.
– Так и есть, но не такие, как у нас. Там не как в Альпах, где много зелени, луга, леса, ручьи и озера, там все высохшее и опустевшее, царские бюрократы полностью вырубили все леса на Кавказе. И почти безлюдно, не сравнить со Швейцарией ни в каком отношении. Но для тебя эта поездка может стать весьма интересной. Во всяком случае, этот край удается увидеть лишь немногим.
Ребман оживился:
– Пропотею, говоришь? Это меня не пугает, мне приходилось работать до пота на обрезке виноградной лозы.
– Я тоже себя успокаивал, думал, что привык потеть. Пока туда не попал. Это тебе не какие-то там тридцать градусов! Там сорок пять в тени! Там мучаешься, как груша в духовке на решетке для сушки фруктов!
– А Маньин, в какой роли он выступает? Он действительно управляющий имением?
– Маньин? Сказать ли тебе правду? Он жиголо, который пользует мадам Орлову. Стареющая Мадам с ума от него сходит. Он как сыр в масле катается, живет по-княжески, паразит поганый. На таких альфонсов и слова тратить жалко, но этот свое дело знает. Еще раз тебе говорю: не засиживайся долго на этом месте, там ничему хорошему не научишься. Опасность, правда, невелика, больше полугода там никто не выдерживал. Они поэтому и условия о дорожных расходах поставили, обычно в России так не делается.
Тем временем они вышли на Крещатик.
– А народу-то сколько, – удивился Ребман, – как будто в праздник!
– Да, в России день, и вправду, начинается уже с полуночи, особенно весной. Ты этому еще научишься, дружище!
Глава 12
В понедельник утром, когда Ребман уже собирался на вокзал, пришла телеграмма от мадам Орловой: ему не нужно выезжать, она в полдень сама приедет в Киев, поезд прибывает в 12.30.
– Я, очевидно, должен ее встретить, раз она указывает точное время прибытия поезда? – справился Ребман у мадам Проскуриной.
– Само собой разумеется.
– А что же случилось?
– Что может случиться? Ровным счетом ничего! Она половину времени проводит в городе, круглый год снимает комнаты в отеле. Приезжает в Киев за покупками.
На этот раз Ребман не узнал бы свою «хозяйку», если бы она сама не подошла к нему с приветствием. Вся в белоснежном с головы до ног: белая шляпа с перьями, белое пальто до полу, из-под которого видны белые туфли, и белые перчатки.
Вместе с Ребманом Мадам сразу поехала в отель. Заказала для обоих обед в номера. Когда поели, она сообщила таким обыденным тоном, словно речь шла о том, что куры в Барановичах снова начали нестись:
– Завтра вы отправляетесь на Кавказ. Месье Эмиль не может больше там оставаться с Пьером один.
Ребман ошарашен:
– Но у меня ничего нет собой, все мои вещи остались в Барановичах!
– Вы должны будете привыкнуть к тому, что в любую минуту нужно быть готовым отправиться в дорогу, – смеется Мадам, – все самое необходимое вы можете купить здесь, в Киеве.
Теперь уже Ребман смеется, и вместо ответа он потирает большим пальцем руки указательный. Мадам догадалась:
– Нет денег? Об этом не беспокойтесь, ладно?
Нет, с полутора рублями в кармане это невозможно. Кроме того, он задолжал мадам Проскуриной, и вообще он со времени своего прибытия в Россию совершенно не имеет средств к существованию.
– Почему же вы сразу ничего не сказали? Занимать деньги у других просто неприлично!
– Я никогда не умел просить денег, – извинился Ребман, – просто не могу и все тут.
– А у мадам Проскуриной, значит, можете?
– Ну, это другое дело… Мадам Проскурина, она мне как мать.
– А я, кто же я вам тогда? – с упреком в глазах спросила хозяйка. – Знаете ли вы о том, месье Ребман, что отношусь я к вам с большой симпатией? Никогда впредь не забывайте об этом!
Она берет телефонную трубку и заказывает номер. Говорит довольно долго, видимо, ее соединили с железнодорожной кассой. Когда она заказывала билет для Ребмана, он разобрал слова «Пятигорск» и «плацкарта» и в конце еще имя Мадам и название отеля. Закончив с этим, она сама отправилась с ним в город за покупками, взяла извозчика и купила все, что ему, по ее мнению, было необходимо взять с собой. Она сама за все расплачивалась, а под конец вложила ему в руку еще и пятидесятирублевую купюру, добавив по-французски:
– Немедленно верните мадам Проскуриной все, что вы у нее взяли. И никогда больше не делайте таких вещей!
– Когда же я выезжаю? – спросил Ребман, когда они вернулись в отель.
– Сейчас я как раз узнаю.
В этот момент к ней подошел портье и с почтительным поклоном протянул листок бумаги.
– Ах, так я и думала. На сегодняшний вечерний поезд уже нет мест. Что ж, в таком случае поедете только завтра вечером.
– А когда я туда прибуду?
– Поездка длится два дня и две ночи, – говорит Мадам и объясняет ему маршрут: Черкассы – Кременчуг – Екатеринослав, это все еще на Днепре. Затем поезд поворачивает и идет по южнорусской степи до Ростова-на-Дону. Оттуда вторую ночь через Армавир до Минеральных Вод. И в Минеральных Водах вам нужно пересесть. Оттуда до Пятигорска всего полчаса.
Когда он вернулся в Дом и сообщил новость, все его поздравили. Мадам Проскурина даже прямо назвала Ребмана везунчиком:
– Я уже скоро сорок лет, как живу в России, а еще ни разу не выезжала за пределы Киевской губернии. А вы, когда доживете до моего возраста, наверняка, повидаете уже весь мир.
На следующее утро Ребман уже в десять часов был в гостинице. Мадам его ждала в половине одиннадцатого, но она уже встала, сидела за столом, на котором лежала целая пачка корреспонденции.
– Хорошо, что вы пришли, – говорит она. – Вы уже завтракали?
Ребман кивнул в ответ:
– Да, конечно, уже давно.
– Вкусно и обильно?
– Да, и обильно, и вкусно.
– У вас впереди долгая дорога. Садитесь, я хочу передать с вами письмо для месье Эмиля. Она открыла ящик стола и достала писчую бумагу и конверт со своим фамильным гербом. Судя по всему, она здесь у себя дома. Начала писать, при этом опираясь на столешницу не всей рукой, а только мизинцем. А Ребман сидел на стуле и наблюдал за нею.
«Удивительно, – думал он, – перо само по себе пишет по-русски, так мягко и округло ходит оно по бумаге и выводит крупные, ровные буквы, полную противоположность тем детским каракулями, которые мне нацарапали в паспорте».
Мадам исписала двенадцать листов, полных двенадцать листов! Когда Ребман мельком на нее взглянул, он заметил на ее лице гримасу, будто от сильной боли. Но вот она все еще раз перечитала, аккуратно сложила, вложила в конверт, смочила мизинцем клей по внутреннему краю конверта, надписала адрес:
– Вот, передайте это ему. Я еще буду телеграфировать, чтобы он вас встретил. На всякий случай, запишите название нашего дома. Если месье Эмиль не сможет прибыть на вокзал или вы друг с другом разминетесь, возьмите извозчика и просто скажите: «Дом Урусова». Это дом моего отца. И по дороге ни с кем не связывайтесь, вы еще недостаточно хорошо знаете людей, обычаи, порядки, да и язык. В поезде вы сможете поесть, там есть вагон-ресторан или перекусите на остановках. На вокзалах всегда достаточно времени, чтобы купить что-нибудь или даже поесть в буфете. Только никогда не расплачивайтесь с официантом крупной купюрой – положенной сдачи вы уже не увидите. И еще, обращайте внимание на сигналы к отправлению. Вы ведь их уже знаете. Я вас провожу к поезду, тогда и я буду уверена, что вы сели в тот, что нужно.
По дороге на вокзал Мадам остановила извозчика у магазина с деликатесами. Вышла она оттуда с большим пакетом, который вручила Ребману:
– Вот, возьмите, чтобы у вас хоть что-то было с собой на дорогу. У нас не принято отправляться в дальний путь без провизии.
И вот он едет на Кавказ.
Перед тем как сесть в поезд, Ребман вежливо поблагодарил Мадам за то, что она так о нем заботится, и передал привет господину Полковнику и Татьяне Петровне. И если это не затруднит, он просил бы прислать ему кое-что из его вещей.
Затем он еще осмотрел поезд, полюбовался красивыми вагонами с надписью «Киев – Баку»: голубыми – первого класса и красно-коричневыми – второго.
Людей огромное множество, мельтешат, как блохи, места все до одного заняты. И беспорядочный хаос среди вещей: целые кровати, чайники, самовары, чего тут только не было! Как будто все пассажиры отправлялись в кругосветное путешествие.
В купе напротив него сидел еврей – это Ребман определил с первого взгляда. В сидячем положении, если не считать носа и ушей, он выглядел так же, как и все остальные. Но когда вставал, был похож на мальчика, который явился к первому причастию в отцовском пиджаке.
После продолжительного молчания сосед решил заговорить с Ребманом: спросил, сначала по-русски, куда тот направляется. Не получив ответа, он повторил вопрос по-немецки. Затем по-французски. По-английски. В конце концов даже на идише.
Но Ребман подумал: «Из-за них у меня было столько неприятностей, я опозорился на весь мир! Теперь мне на них всех вместе взятых плевать с высокой горы». И так и не ответил. Тогда и еврей замолчал. И они молча продолжали смотреть в окно. А там ничего особенного или нового. Ландшафт такой же, как между Волочиском и Киевом и за Барановичами: одни холмы, один за другим, и редко когда – станция, за которой вдали виднеется деревенька или городок. Никаких домов не видать.
Эта страна словно море, ни конца, ни края!
Поначалу он обрадовался, когда Мадам сказала, что он проведет в дороге целых два дня, наверняка можно будет многое увидеть! Теперь он уже не рад, дорога ужасно скучна.
Приблизительно через три часа поезд остановился на маленьком полустанке.
– Что случилось? – спросил пассажир у кондуктора, который один сошел на перрон.
– Надо пропустить встречный поезд, который идет с опозданием.
Ребман ухмыльнулся: он все понял: «А мой русский все же продвигается!».
Он опустил оконное стекло. В глубине вокзала стояла кучка крестьян, мужиков и баб, с большими котомками на спинах. Они все глазели на поезд.
Около пяти они приехали на большую станцию, где остановились на четверть часа, чтобы сменить локомотив.
И тут все куда-то бросились бегом, одни – с чайниками набрать кипятку. Его можно на всех больших станциях получить бесплатно, для этого есть особые источники. Об этом вчера сообщила мамаша Проскурина, когда они обсуждали предстоящую поездку. Другие пассажиры кинулись что-то покупать, а третьи – просто выбежали поразмяться.
Ребман тоже вышел. Он до этого уже распаковал сверток, который ему дала с собой мадам Орлова, и обнаружил в нем великолепный ужин: белый хлеб с ветчиной, половинки инжира и плитку шоколаду. Теперь он гоголем прохаживается по перрону, курит, время от времени поглядывая на свой вагон: не собирается ли тот везти его дальше. На соседнем пути, около деревянной цистерны, которая стоит на высоком железном постаменте, локомотив набирает воду. Воду качают прямо из земли с помощью ветряного колеса. И в самом деле, откуда же взяться ручьям, если вокруг ни одной горы!
Они едут дальше.
И тут дорога становится еще мучительней. Смотреть в окно бессмысленно – все одно и то же. Общения тоже не получилось. Читать невозможно. У него, правда, с собой даже книга была, что-то из Достоевского, которую ему дала девица Титания для внимательного изучения, Достоевский, мол, в России всегда пригодится. Но он не может его читать при всем желании. Теперь он понял, почему все русские книги столь меланхоличны. Здесь сама природа навевает тоску. Нет, сейчас он не станет читать ничего русского, даже в немецком или французском переводе.
Около восьмого часа поезд снова остановился на большой станции. Название прочесть невозможно, все буквы размыло непогодой, а когда кондуктор объявлял, Ребман как раз задремал.
Сосед-еврей спросил, не желает ли он выйти поужинать или, может, ему что-нибудь принести? Здесь хороший ресторан, и это последняя возможность раздобыть что-нибудь до завтрашнего утра:
– Хотите супу? Может быть, мяса? Или рыбы?
Кажется, он всерьез беспокоится о незнакомом юноше-чужестранце, который ему даже не удосужился ответить на приветствие.
«В конце концов, – подумал Ребман, – если это последняя возможность, я лучше тоже сойду».
И выходит из вагона. Не обращая внимания на еврея, отправляется в буфет, заказывает борщ, кулебяку с мясом и рубленые котлетки – все слова он уже знал. Ему действительно принесли именно то, что он заказал, и он с аппетитом поел. Кончив есть и желая расплатиться, он обнаружил, что у него нет мелочи, ничего, кроме красивой десятирублевки от мадам Орловой.
«Ну не могут же все официанты быть мошенниками, тогда бы и профессии такой бы не было! Дам-ка ему эту бумажку – и поглядим!»
И он сделал знак половому.
– Сию минуту! – услышал он в ответ.
Когда прозвонил первый звонок, Ребман снова махнул рукой, уже энергичнее.
– Сию секунду!
Тогда господин гувернер из Барановичей встает и делает вид, что хочет идти. «Белый пиджачок» тут же скользнул к нему. Увидев купюру, он спросил:
– А помельче нету?
Получив отрицательный ответ, он взглянул на часы:
– Одну минуточку! – и тут же, схватив купюру, выскочил с ней из залы. Тут как раз прозвонил третий звонок. Все пассажиры уже ушли, кроме еврея, который продолжал сидеть за своим столиком.
«Он, наверное, не едет дальше, – подумал Ребман и поспешил к выходу. – Что упало, то пропало, лучше потерять десять рублей, чем опоздать на поезд».
Однако ему все же обидно: «И почему я сразу не расплатился, когда он мне принес еду? Или сказал бы, что если у него нет сдачи, то не стану есть! Ну вот, теперь будет мне наука!» Пока Ребман так сидел, ругая самого себя за легкомыслие, в купе вернулся еврей и положил перед Ребманом положенную сдачу.
– На чай я этому разбойнику не дал.
Затем он поднял палец и сказал на хорошем немецком:
– Будьте осторожны! В России встречаются не только порядочные люди, особенно на вокзалах!
Ночью они проезжали через Екатеринослав. Сквозь сон Ребман слышал крики. А когда он утром высунулся из окна, то увидел перед собой ландшафт, напоминающий тонкий медный лист. Земля была похожа на луг, все лето не видевший дождя: ни кустика, ни речки, ни ручейка.
«Это, должно быть, и есть южнорусская степь, где живут донские казаки и другие степные народы», – подумал он.
Что касается донских казаков, то тут он ошибся степью.
Он уже сыт по горло этой бесконечной ездой по железной дороге. А ведь он сначала так радовался возможности попутешествовать. Хорошо еще, что ему не в Сибирь ехать! Он вспомнил, как во время школьной экскурсии по Фирвальдштедтскому озеру «Папаша», бывший директор их гимназии, сказал, что о подобном пейзаже он бы не хотел писать сочинения. Вид так великолепен в своей естественности, что словами этого высказать невозможно.
«А я не стал бы писать сочинений об этом ландшафте, – что же тут опишешь?»
О том, что степь раз в году покрывается цветами, которые многообразием красок просто сводят с ума всех, кому посчастливится их увидеть, Ребману еще только предстоит узнать. А пока он рад, что день прошел, и можно снова подремать.
– Сейчас смотрите в окно, – обратился к нему сосед, его звали Гинзбург, – мы будем проезжать над устьем Дона, по самому длинному во всей России мосту, он больше двух километров длиной.
– Дон? – удивился Ребман. – Я думал, что он протекает намного восточнее.
– Так и есть, но он образует колено, как и все русские реки, как бы говоря: вот теперь развернемся на запад! Вот он!
Поезд едет очень медленно, потом начинает ворчать и скрипеть. Когда Ребман высунулся в окно, в свете вечернего солнца он увидел водную поверхность Дона. Здесь он шире самого Цюрихского озера, намного шире! Дон протекает по левую руку, а по правую – видно Азовское море. Оно такое мелкое, что большие корабли не могут по нему ходить.
Гинзбург по этому поводу шутит:
– Собственно говоря, это не что иное, как огромное болото. В нем и при желании покончить собой не утопишься – разве что от скуки помрешь, в поисках глубины.
– Вы уже бывали в Пятигорске? – спросил его Ребман.
Гинзбург отрицательно качает головой:
– Для таких прекрасных мест мне не хватит средств. Мне больше подходят места попроще, вроде Баку. Там я чувствую себя как дома. Вы знаете Баку?
Ребман даже развеселился:
– Как я могу знать Баку, ведь я только в начале этого месяца приехал в Россию, за это время невозможно все увидеть.
– И откуда же вы приехали, позвольте спросить?
Ребман стесняется и медлит с ответом. Наконец собирается с духом и скромно признает:
– Я… Из Швейцарии.
Гинзбург делает удивленное лицо.
– Почему же вы не решаетесь сказать? Швейцария ведь одна из самых известных стран мира!
– Я тоже так думал, но потом убедился на собственном опыте, что, по мнению некоторых людей, швейцарцы непонятно откуда взялись, потому что и страны-то такой не существует.
И он рассказал о своем разговоре с монахом Киево-Печерской Лавры, который утверждал, что за границами России ничего нет. Следовательно, и Швейцарии неоткуда взяться.
Гинзбург смеется:
– О, конечно же, она существует, пускай для большинства только как недосягаемая мечта. Я бы, к примеру, многое бы отдал, чтобы жить в такой стране или чтобы хоть раз увидеть ее своими глазами.
– А чем же вам не по душе Баку? Говорят, там «черное золото» так и прыщет из земли.
– Да, только добывать его дозволено лишь немногим. Если бы было иначе, то можно было бы потерпеть связанные с этим неудобства. Но большинству от этого «золота» достается только грязь и вонь, а я – из этого большинства.
Между тем они прибыли в Ростов и вышли в буфет поужинать. Ребман заказал то же, что и вчера вечером, следуя своему принципу держаться того, что уже знакомо. На сей раз однако, расплачиваясь, дал денег без сдачи.
Гинзбург купил несколько газет и взял их с собой в вагон. Он спросил у Ребмана, не желает ли и тот газету.
– Нет. Благодарю, я ведь все равно не могу их читать.
– Есть и немецкие.
– И какая мне от них польза? Я бы лучше русскую почитал.
– Ну, так я и говорю, русскую, но по-немецки.
– А есть такая?
– Конечно. Вот! – он указал на одну, – «Рига-Цайтунг» называется. Она русская, а пишут по-немецки. Но Ребман только отмахнулся:
– Газеты? Меня мутит от одного только слова! Нет уж, на какое-то время с меня довольно!
На следующее утро в одиннадцать часов поезд въезжал в Пятигорск. На повороте состав изогнулся дугой и стал виден локомотив. Из его трубы вместе с черным дымом вырывались языки пламени. Котел, как и говорил Штеттлер, работал на топливном масле. Господин прецептор Ребман решил дать местным кавказцам урок правильной русской речи. Гордо, как испанец, подходит он к окну и громко кричит:
– Портной!
Но никто к нему не подходит и не берет у него багаж. Тогда он кричит снова, на этот раз уже во весь голос:
– Портной! А портной!
И тут к нему кто-то подбегает, оказалось, что это Маньин:
– Что это вы здесь раскричались? За багажом приходит но-силь-щик, а не портной. Эй, носильщик!
Он одет в белый костюм, сшитый из того же материала, что и киевский туалет Мадам. Лицо загорелое, как у цыгана. Сообщает, что здесь в тени уже тридцать восемь градусов.
– Ого! – удивился Ребман.
– Это еще что, погодите, еще будет и сорок восемь!
Ребман вручил ему двенадцатистраничное письмо, которое он всю дорогу хранил, словно чековую книжку. Красавчик Эмиль, не говоря ни слова, засунул его в левый карман пиджака.
– Хорошо, что вы приехали, – говорит он, – у нас уже полон дом гостей, и я больше не могу возиться с Пьером. Так рано сезон еще никогда не начинался.
Они взяли извозчика и теперь в древней колымаге тащились вверх по пыльной ухабистой улице. Ребман спросил, правда ли, что Пятигорск – курорт, устроенный для сифилитиков.
Тут уж и Маньин рассмеялся:
– Не бойтесь, в Пятигорске риск заражения так же ничтожен, как в Арозе или в Давосе. Мы таких гостей не принимаем, за этим следим особо, даже требуем предъявления справки от врача!
– И люди позволяют с ними так обходиться? Неужели к вам приезжают на таких условиях?
Маньин улыбается в ответ:
– В том-то и дело, что наши гости только из высшего общества, сливки, так сказать. Мы принимаем только достойных людей. К примеру, в соседней с вами комнате проживают их превосходительство.
– Мужского или женского полу?
– Их превосходительство – всегда мужчина! У него белая, как снег, борода, он носит генеральский мундир. Он именно таков, каким швейцарцы представляют себе вельможу. Так что никакой возможности для галантного приключения, если вы на таковое надеялись.
«Дом Урусова» стоит на вершине горы, первым в длинном ряду желтых кирпичных зданий, неоштукатуренных и ужасно скучных на вид. Кажется, здесь, в Пятигорске, ничто не радует глаз, разве что новехонький собор, сверкающий всеми пятью вызолоченными куполами, которые все же ни в какое сравнение с киевскими не идут. Все остальное очень провинциально, по-русски провинциально, без малейших черт индивидуальности, которыми изобилует любой швейцарский городок. Дома одно- или двухэтажные, выкрашенные красным или голубым, под зелеными жестяными крышами. Они выглядят, как булочки из пекарни: если их перемешать, то никто уже не узнает, которая из них чья.
И ни садов, ни клумб не видать, не говоря уже о цветах на окнах, об этом русские, кажется, и не слыхивали. Здесь все по-городскому практично. Город – место для зарабатывания денег, а это, как красиво говорят в Швейцарии, непочтенное занятие…
Когда они остановились, к ним подошел пожилой черкес, чтобы раскланяться. Он не был одет по полной форме: на нем был не мундир, а что-то вроде платья из черного сатина. Не было ни газырницы с декоративными патронами из серебра или слоновой кости, ни кинжала на поясе, как обычно у всех черкесов. Но шаровары и казацкие сапоги на нем были. Казацкие сапоги мягкие, из козлиной кожи, подошвы совсем не видно; так что ходят в них как в перчатках, мягко и невероятно гордо. Ребман еще на Крещатике и в театре в Киеве заглядывался не черкесов.
Старика зовут Василий, это тот самый казак, что состоял при Водноголовом во время его заточении в Батуме. Походка у казака уже не такая уверенная, он сутулится и очень сильно кашляет.
– У него грудная жаба, – говорит Маньин, – поэтому даже в такую жару он закутан в башлык. Но для нас это член семьи, он служил еще у старого барина, отца Мадам. А теперь он занимает здесь должность привратника, а его жена стряпает для прислуги.
Они поднимаются наверх. Маньин показывает Ребману его комнату:
– Не задерживайтесь долго, – предупреждает он, – скоро подадут обед.
– А где же Пьер?
– Он в классе.
– В школе?!
– Да, то есть у себя в комнате с домашним учителем. Он готовится в гимназию.
– В гимназию?!
– Да, либо здесь на Кавказе, либо в Киеве, мы еще не решили. Но вы в любом случае останетесь у нас.
– Для чего? В чем моя задача, если он пойдет в школу?
– Ни в чем ином, как быть Пьеру старшим товарищем и говорить с ним по-немецки. Учитель приходит только утром, в обед будете вместе гулять. Здесь не так скучно, как в Барановичах, здесь можно совершать прекрасные прогулки.
– В такую жару?
– К ней вы привыкнете, трудно только первые двадцать пять лет.
– Полагаете, я так надолго здесь останусь?
– Это зависит только от вас.
Пока они по-дружески пускали друг другу швейцарские шпильки, открылась другая дверь, и вышел Пьер со своим учителем. Он вежливо поздоровался и представил по-французски:
– Господин Ребман, мой гувернер – Герман Германович Кордтс.
– Очень рад, – ответил светлоусый учитель по-немецки.
Ребман поражен:
– Вы говорите по-немецки?
– Надо полагать, да, если тебя зовут Герман Германович!
– И преподаете вы тоже по-немецки?
– Нет, по-русски, – ответил учитель. И добавил с плутовской улыбочкой:
– Я, знаете ли, и по-русски говорю иногда даже лучше самих русских! Я ведь здесь родился.
– Здесь, на Кавказе?
– Да, в одной из немецких колоний неподалеку. Приходите к нам в гости – удивитесь еще больше.
Тут Ребман вспомнил, что когда-то читал о том, что на юге России, на Волге и на Кавказе были основаны немецкие и даже швейцарские колонии: Солотурн, Берн, был среди них и Шафхаузен.
Маньин спросил учителя, не желает ли тот с ними отобедать, сейчас как раз подадут. Учитель вежливо поблагодарил:
– Спасибо! В другой раз с удовольствием, а теперь мне нужно поспешить, у меня еще один урок с двенадцати до часу.
Когда он ушел, Пьер заметил:
– Прилежная Лизхен. Эти немцы знают только одно: арбайтен-арбайтен. И швейцарцы тоже. Правда, бывают и исключения.
– Вы имеете в виду меня? – спросил Ребман.
– О нет-нет, я имел в виду другого господина! Но скажите, месье, как поживают мои маленькие птички?
– Они уже улетели!
– Правда? Улетели? Все?
– Все пятеро. Кошке не достался ни один птенчик, как она ни старалась.
Еда, которую им доставляли из гостиницы в многоэтажных кастрюлях, не шла ни в какое сравнение с той, что подавали в Барановичах или даже в Киеве в «Швейцарском Доме»: только суп и мясо – ни овощей, ни другого гарнира, ни горсти отварного или жареного картофеля. Но Ребман так голоден, что жадно набрасывается на все: он ведь с шести утра ничего не ел, кроме стакана чаю и двух баранок. Да и комната, где они едят, ничего особенного собой не представляет: высокие потолки, почти пустая, из мебели только старый стол и полдюжины рассохшихся стульев. Даже скатерти нет, и посуда самая обыкновенная, как в дешевой забегаловке.
– Комфортом мы здесь не избалованы, – он весь достался гостям, которые за него платят, – говорит Маньин, заметив, что Ребман придирчиво осматривает помещения. – Но мы ведь целыми днями вне дома.
– Иногда даже и по ночам! – бросив на него ироничный взгляд, заметил Пьер.
После десерта, а это, конечно, мороженое, хоть и самое обыкновенное, Маньин надевает на Пьера кепи:
– Покажите месье достопримечательности Пятигорска. Сходите с ним в Курортный парк.
Затем он достал из ящика стола черную кожаную кобуру, из которой выглядывала ручка револьвера, и протянул Ребману:
– Мадам Орлова желает, чтобы вы его всегда имели при себе, когда выходите с Пьером. Кто знает, что может случиться!
– Он что, заряжен?
Маньин расстегнул кобуру, достал револьвер – «Смит и Вессон». Ребман заметил в барабане пять новеньких патронов.
– Первоклассное оружие, – говорит Маньин. – Казаки тоже предпочитают эту модель. Им вы уложите любого с пятидесяти шагов одним выстрелом наповал.
– И это здесь разрешено?
– Вы имеете в виду ношение оружия? У нас имеется разрешение. Оно распространяется на всю семью.
– Нет, я имею в виду стрелять, – говорит Ребман.
– В случае необходимости – конечно, – веселится Маньин. – Ведь не нужно непременно целить в голову!
– А если в ответ тоже выстрелят?
– Тогда придется быть попроворней: кто выстрелит последним, умрет первым!.. Ну, идите же, мне нужно работать. Когда Ребман с Пьером уже спускались по лестнице, он прокричал им вслед:
– И до ужина не возвращайтесь – Пьеру следует побольше ходить пешком!
Собственно говоря, у нашего господина гувернера дела идут как нельзя лучше, если, конечно, ничегонеделанье можно назвать делами. Все утро свободно, и он в первую очередь два часа занимается русским: учит слова, предложения, необходимые формы обращения. Затем он выходит, чтоб на улице, в толпе, так сказать, глядя народу в рот, ухватить что-нибудь новенькое из первых уст. И каждый раз что-то из услышанного он приносит в дом с вопросом: а что это означает? Попадаются и такие слова, которые Маньин советует ему поскорее забыть.
– Очень жаль, это звучало так красиво!
– Где вы такое откопали?
– На улице. Мимо проходила компания солдат и пела это.
Маньин ухмыляется:
– Солдатский язык, он только для солдат и годится, а для других… Знаете ли вы, что нет на земле другого такого языка? Ведь на нем можно выражаться крайне двусмысленно. В этом с русскими никто не сравнится. Как раз в такой песенке, как эта «Уж не я ли молода», орфографически правильно записанной и прочитанной, вроде бы все в порядке. Но если пропеть, да еще так, как это делают эти солдаты, о-ля-ля!
Чаще всего Ребман ходил на рынок, чтоб лучше изучить народ. Заодно он всегда приносил домой десерт. Здесь уже поспела клубника, огромная, как яблоки, и сладкая, как мед – намного вкуснее и слаще, чем дома. И отдают ее почти даром, иначе и не скажешь: за один рубль получаешь полную корзину с горкой, одна в одну, и не только верхние. Маньин сказал, что клубнику выращивают немецкие колонисты. Пусть Ребман попробует заговорить с ними со швабским акцентом, сразу получит корзинку даром.
– А вы умеете фотографировать?
– Нет, не умею.
– Научитесь. Я вам дам свой «кодак». И он дает Ребману аппарат, объясняет, как им пользоваться и вставляет в него пленку:
– Вот на базаре его и испытаете! Вы поразитесь, какие открытия там случаются! Попадаются типы, которых больше нигде не встретишь.
Ребман поблагодарил и сразу поспешил на рынок. Снует туда-сюда и ищет, кого бы щелкнуть. Иной раз ему казалось, что он нашел нужное, но, пока устанавливал аппарат, прицеливался и настраивался, – его «добычи» уже и след простыл.
Вдруг он застыл на месте. Смотрит. Не верит своим глазам. Это же ведьма из «Гензель и Гретель», – самая настоящая, как будто ее вынули из книжки и перенесли в лавку со сладостями.
«Вот и начало для моего альбома, лучше и не сыскать!»
Не поздоровавшись, не спросив разрешения, он подошел и нацелил свой аппарат прямо на нее. Старуха принялась ругаться, каркая, как ворона. Хотя Ребман и не понимал, что она говорит, но было ясно по тону, по голосу и по выражению лица, что она бранится. Словно он хулиган какой-то и украл у нее половину товара с лотка! Тут же вокруг них собралась толпа, которая хохотала, глядя на этот дармовой спектакль.
Ребман пробовал ей объяснить, что у него нет никаких злых намерений, что он не собирается причинять ей беспокойства или, тем более, чего-либо отнимать. Он только хотел ее сфотографировать, увековечить, потому что у нее такой необыкновенный выразительный типаж!
Но торговка разбирает его тарабарщину еще хуже, чем он ее крик, она грозит ему:
– Пошел прочь, разбойник!
И тут Ребман вспомнил, что точно теми же словам мадам Проскурина отгоняла извозчика на киевском вокзале.
Тут вмешался один из немецких колонистов, который уже знал Ребмана, так как тот пробовал у него товар и разговаривал с продавцом. Он подошел к прилавку и начал уговаривать старуху успокоиться, объясняя, что ей нечего бояться.
Но та причитала еще громче.
Тогда немец повернулся к Ребману и только пожал плечами: мол, ничего не поделаешь.
– Что это с ней?
– Она в бешенстве. Говорит, что один разбойник-фотограф уже пытался ее снимать, да еще и грязно обругал. Тот тоже пришел и сказал, что из нее выйдет хорошая картинка, спросил, можно ли ее сфотографировать для газеты. И она, глупая баба, позволила этому разбойнику обвести себя вокруг пальца.
– В моем случае ей нечего опасаться, я не стану ничего отсылать в газету, я оставлю фото себе. Она и вправду интересный типаж. Я и ей дам снимок, когда отсниму пленку. Скажите ей это.
Но немец только качает головой:
– Из этого ничего не выйдет. От другого она тоже получила фото, даже заказным письмом, где говорилось, что снимок будет напечатан в иллюстрированном журнале. В этом-то и была ее роковая ошибка. На фото оказалась вовсе не она, а какая-то мерзкая старая ведьма. А она позволила под этим уродством поставить свое доброе имя!
Однажды, когда они как раз трапезничали, пришел слуга. Стоит. Мнет фуражку в руках. Что-то бормочет. Маньин обратился к Ребману:
– Вот вам русский человек, как он есть: позавчера поступил на службу, а сегодня ему уже плату подавай.
Он достал из ящика стола пачку бумаг и на одном листке что-то написал. Затем протянул слуге перо.
– Неграмотный я!
– Так крест поставь.
– Не знаю как.
Пришлось ему, как первокласснику вложить перо в руку, да еще и водить ее, чтоб вышел крест.
Нужно было видеть выражение его лица, когда на бумаге под его пером скрестились две черточки. Если бы на этом листке бумаги значилось, что он стал царем всея Руси, не больше и не меньше, – вряд ли его лицо выражало бы большую степень гордости.
Когда он уже ушел, Ребман спросил у Маньина, почему тот дал слуге именно шесть рублей?
Потому что он этого требовал – это его месячная плата.
– Шесть рублей, то есть пятнадцать франков в месяц?!
– Это жалование. Остальное, дорогой друг, они наскребают сами. Эти люди не остаются в накладе и не нуждаются в вашем сочувствии.
Глава 13
В послеобеденное время, как им и было велено, господин гувернер с Пьером отправлялись на прогулку. Сразу после еды, еще до того, как пробьет час дня, обоих можно было увидеть выходящими из дома Урусова и поднимающимися по улице в направлении горы Машук, восьмисотметрового спящего вулкана, у подножья которого расположен Пятигорск. Но они не совершали восхождения, а только делали вид. Они шли быстрым спортивным шагом лишь до тех пор, пока находились в поле зрения, на всякий случай. Потом темп ходьбы постепенно замедлялся. В конце концов они еле тащились, как двое бернардинцев или ньюфаундлендов, изнуренных зноем. Такой жары Ребман еще никогда не испытывал, даже во время приснопамятной школьной экскурсии в Мадеранскую долину, когда всем казалось, что они вошли в раскаленную духовку.
Однажды эти двое вообще не пошли в гору – остались в курортном парке, прошатались там около часа, все осмотрели, а потом просидели на скамейке, пока не пришло время возвращаться домой. Когда он об этом рассказал Маньину, – ведь он всякий раз требовал подробного отчета о том, где они побывали, – тот сделал ему выговор: дескать, так дело не пойдет, они должны ходить пешком много и быстро – ходить, ходить, ходить!
– Но, месье Эмиль, не в такую ужасную жару! – возразил по-французски Пьер. – Это же не имеет никакого смысла! Мы одни болтаемся по городу, кроме нас, на улице ни души.
– Ну так зайдите куда-нибудь, выпейте чаю или съешьте мороженого. Но гулять вы должны непременно, это просто необходимо Пьеру. Именно для этого мы вас и вызвали. Вот вам десять рублей для утоления жажды.
Так что им ничего не оставалось, как отправляться на прогулку. Они передвигались, высунув язык и шумно дыша, как выкупанные собаки. Это, вправду, очень изнурительно: шагать по высохшей, обесцвеченной местности, над которой, когда ветер дует с равнины, словно коричневый туман, висит пыль.
Пьер хотел было испробовать один трюк.
– Знаете что, – сказал он на третий день, когда их снова выставили за дверь, а солнце палило нещадно, – а что если каждому из нас незаметно сунуть в карман книжку – маленькую, чтобы не было видно, а потом найти тенистое местечко и «прогуливаться», лежа на спине. Ну, как вам такая мысль?
– Идея хорошая, – сказал Ребман, – но неосуществимая.
– Почему? Никто ведь об этом не узнает.
– Кроме нас двоих! Нет, так не годится, нам ведь нужно гулять.
И они гуляли. Обходили все окрестности Машука. И когда они вечером возвращались домой, и слепой бы заметил, что они совершили долгую прогулку пешком: такими измученными они выглядели. Даже казак Василий их жалел.
А Маньин только посмеивался: вот и хорошо, после такой прогулки здорово спится.
– И что же вы видели? Не заблудились в пути?
– Нет, – сказал Пьер, – улица перед нами всего одна, она и указывает дорогу!
А видели они памятник Лермонтову в акациевой роще.
– Разве это полноценная прогулка? Это же совсем рядом!
– Мы пошли в обход Машука и уже на обратном пути видели памятник.
– Ого! Молодцы, ребята! – говорит Маньин, – настоящие солдаты!
– То-то, мы и сами с усами, – огрызнулся Пьер. – Кстати, знаете, о чем я там подумал?
– Нет, о чем же?
– Я подумал, что если бы мы встретили вас там, в роще, случилась бы еще одна дуэль. И пришлось бы господину Эмилю Маньину тоже соорудить надгробие, но, конечно, не такой красоты, как лермонтовское!
Это было по-настоящему ядовитое замечание, и тогда Ребман впервые почувствовал, что между этими двумя не все ладно.
После ужина Пьер лег в постель. Он совсем вымотался, взмок и ослаб, бедняга.
И тут Маньин предложил Ребману:
– Если хотите, можем взглянуть на ночной Пятигорск, я могу показать вам кое-какие места, которые принято посещать только под покровом ночи.
– С удовольствием! Только если это не очень дорого стоит. Мне нужно непременно обновить гардероб, мой слишком теплый для местного климата.
– Вам это ничего не будет стоить, я вас приглашаю. А что до одежды, – Маньин открыл стенной шкаф и достал красивый белый, льняного полотна пиджак – примерьте-ка вот это, у нас с вами, кажется, приблизительно один размер.
Это, конечно, совершенно не соответствует действительности: месье Эмиль почти на голову ниже Ребмана. Но дареному коню, как говорится, в зубы не заглядывают.
– Сидит как влитой! Возьмите его себе, мне он больше не нужен. И купите себе кепи, белое, оно будет полегче этой вашей фетровой шляпы. Здесь, в России, не носят валяных колпаков.
Они берут извозчика и, подскакивая на каждой дорожной выбоине, спускаются в город к вокзалу. На улицах полно народу, словно из муравейника, радуясь вечерней прохладе, повыползали на променад все муравьи. Повсюду слышны крики мальчишек-газетчиков. В Швейцарии такие еще в школу ходят, а эти заняты делом.
– «Пятигорское эхо»! «Кавказский край»!
Они высадились у са́мого вокзала, и Маньин повел своего гостя к бело-голубому низкому дому с надписью, которую Ребман прочел как «MPAKMUP». Такого слова он еще никогда не встречал.
– Что это значит? – спросил он у своего «гида».
– Читается «ТРАКТИР», а по-немецки «WIRTSCHAFT», то есть кабачок. Но того, что предлагают здесь, не найдешь ни в одном немецком заведении. – Он прищелкнул языком. – Сейчас сами убедитесь.
Но Ребман не видел перед собой ничего, кроме четырех выбеленных стен и двух рядов железных столов, покрытых бумагой. Более подходящего слова, чем на вывеске и не найти, подумалось ему, здесь и, правда, ждут, кого бы угостить[15]. Но пока никто не явился.
– Еще рано, – говорит Маньин.
Кельнер в белом переднике – возможно, что это и есть сам хозяин – поклонился им прямо до земли. Судя по всему, Маньин здесь не в первый раз – их сразу провели в отдельный кабинет. Кельнер что-то шепнул месье Эмилю на ухо.
Маньин качает головой:
– Пока не нужно.
Тогда кельнер встал около стола навытяжку с блокнотом в руках.
– Я сам закажу: после тех объедков, которые нам присылают из гостиницы, я всегда голоден, – говорит Маньин.
И кельнер записывает. Довольно много. Когда он ушел, Ребман поинтересовался:
– А что он спросил, когда мы вошли?
– Ничего особенного. Просто спросил: «Вы одни?»
– Разве он меня не заметил?
– Вы не поняли: он имел в виду, не желаем ли мы откушать в обществе.
– В обществе? Зачем оно нам? И что это еще за общество?
– Дамское общество, разумеется! Вы всегда так недогадливы? – Он крутит ус. – Можно позвать горячую четырнадцатилетнюю черкешенку, о-ля-ля! Хотите, пригласим парочку?
Ребмана передернуло:
– У меня на это нет денег! А даже если бы и были, я не смог бы с ней даже объясниться! Не говоря уже о прочем.
Маньин смеется:
– В любовных делах можно понять друг друга и без слов. Вы еще этому научитесь!.. А вот и закуска!
Вошел официант, неся в одной руке графин водки с двумя стаканами, а в другой – большую миску салату из помидоров. Поставил все это на стол, затем принес тарелки, приборы и полную корзинку тонко нарезанного черного хлеба.
– Что ж, приступим! – Маньин разлил водку по рюмкам, подмигнул Ребману, дескать, «ваше здоровье!», выпил залпом, поставил рюмку и закусил салатом и хлебом. Ребман из вежливости тоже выпил, но только один глоточек этого очень крепкого шнапса. А салата есть не стал, он вообще не любит помидоры, этих уродов из семейства пасленовых.
– Ну что ж, придется мне съесть все самому, несмотря на риск отравиться! – радуется Маньин.
И, действительно, опустошает всю миску. И рюмки тоже – одну за другой.
Второе блюдо долго не приносят. Его должны сначала приготовить, но Маньин уверяет, что угощение стоит того, чтобы подождать: таких блинов, какие готовят здесь, не везде можно отведать – ими этот трактир славится на всю округу. Есть люди, готовые босиком идти до Владивостока, если им посулить блины с икрой. – И вы были бы первым, кто не оценил бы по достоинству этой жемчужины русской кухни. Знаете ли вы, что известны случаи смертей от объедения блинами? Нет, я не шучу, такое, правда, случается!.. А, вот нам их уже и несут!
Официант вошел с блюдом, покрытым салфеткой. Когда он поставил блюдо на стол и снял салфетку, показались маленькие омлетики, целая куча, хорошо обжаренные до золотистого цвета. Официант быстро кладет по одному на тарелку обоим господам и накрывает остальные. Маньин сразу поливает свой блин горячим маслом, мажет сметаной и сверху кладет ложечку черной икры. Затем он скручивает блин рулетом и, два раза куснув, поедает весь «омлет».
– Берите же, пока горячие, потом они уже не так хороши! – угощает он.
Ребман пробует – и делает над собой огромное усилие, чтобы сразу не выплюнуть: его даже в жар бросило. Какая же гадость! «Омлет» – еще куда ни шло, хотя его явно перехвалили: в нем и яиц-то даже нет.
– Нет, – подтверждает Маньин, – их готовят из мучного теста, а именно из гречневой муки, только из нее получаются настоящие блины, никакая другая не годится. Смотрите, вот какие они должны быть: когда берешь блин вилкой, он должен рассыпаться.
Но Ребману блюдо не по вкусу, и, решительно сбросив путы излишнего приличия, как это умеют клеттгауэрцы, он заявляет:
– Сыру и большому пиву я бы больше обрадовался. Нельзя ли попросить, чтобы на омлет положили хотя бы ветчины?
– Как хотите, – хохочет Маньин и что-то говорит кельнеру, да еще и с присказкой, которую Ребман не разобрал. Но по тону и выражению лица было ясно, что речь шла не о комплименте.
Кельнер с непроницаемым лицом ответил «Слушаюсь!», и через минуту Ребман уже получил свою «начинку». С нею он принес несколько блинов, но не так много, как Маньину: тот один уже покончил с целой кучей блинов и попросил порцию свежих. Потом еще одну. Уплетая блины, он ведет счет: двадцать три, двадцать четыре, двадцать шесть… двадцать девять! Кажется, он даже гордится своими достижениями. И полграфина водки скушал под это дело. Наконец он заявил:
– Все, больше не могу! Знаете, каков рекорд России? Сто двадцать семь! Да, сто двадцать семь штук за один присест! Его установил один московский купец. Но эта слава ему стоила жизни.
– Тоже мне слава! Я бы ради такого «подвига» и с печки не слез!
– Еще слезете! Вы еще всему научитесь!
Когда убрали со стола, Маньин подмигнул официанту. Тот выскользнул наружу и через минуту вновь появился, на сей раз с двумя писаными красавицами в черкесских костюмах, одна из которых подсела к Маньину, а другая – к Ребману. Маньинова «дама» тут же с ним чокнулась – «Ваше здоровье!», и залпом опрокинула рюмку водки!
Маньин совсем разошелся. Он и прежде, бывало, рассказывал своему земляку, как из «архискучнейшего родового гнезда в Барановичах» (именно так он выразился) время от времени отправляется в уездный город «вздохнуть полной грудью». А что, если все то, о чем он рассказывает, правда? Ведь, судя по его поведению, это вполне возможно: он заливает своей соседке водку за корсаж, плещет на шею, затем разрывает на ней платье и слизывает языком струйки, куда бы они ни текли. И при этом лепечет всякие непристойности. Ребман плохо понимает по-французски, но некоторые слова врезались ему в память еще в гимназии, ведь такие вещи распространяются даже быстрее, чем блохи. Он знает достаточно, чтобы понять этот лепет. Тем временем Маньин уже совсем не обращает внимания на своего гостя: кажется, он вообще забыл, где находится. Потеряв над собой всякий контроль, он начинает раздевать девицу.
Но тут появился кельнер – судя по всему, он был начеку, постоянно наблюдая за тем, что творилось в кабинете. Уже далеко не так почтительно, как вначале, что-то говорит Маньину. Тогда тот берет свою девушку на руки и покидает вместе с нею кабинет.
А Ребман остается сидеть с другой черкешенкой. До сих пор он ее вообще не замечал, словно она растворилась в воздухе. Теперь же он повернулся к ней и как следует рассмотрел. Она была писаной красавицей, намного красивее той, другой: черные как смоль волосы, черные блестящие глаза, и кожа, смуглая и гладкая, как лайковые перчатки. И вообще, она ведет себя совсем не так, как ее коллега: ничего не пьет и не делает никаких попыток приблизиться к Ребману. Она тихонько сидит и спокойно ожидает, что будет дальше. И, поскольку ничего не происходит, она открывает дверь, за которой исчез Маньин со своей ношей, и с гримасой отвращения, неожиданной для девушки ее рода занятий, бросает:
– Он свинья! А тебя я люблю, ты хороший!
Это прозвучало честно и открыто.
Ребман растерялся и не знал, как себя повести. «Что мне теперь делать, – думал он, – как выбраться из этого дома?» Он вспомнил, что есть одно местечко неподалеку, откуда дорога выведет его к дому. Он собрал все свои познания в русском, все, что он выучил дома, по дороге, в Барановичах и после. Но как только он собрался с силами, чтобы сказать фразу, кавказская красавица сама заговорила с ним на прекрасном французском:
– Уходите, просто идите, если вам это все не по вкусу!
Ребман чувствовал себя упавшим с облака:
– Так значит вы?..
Она улыбается в ответ, но довольно грустно:
– Да, я не черкешенка, и даже не русская, я – француженка.
– И как же вы здесь оказались?
– А как оказываются в подобных местах?!
Он ожидает, что ему поведают как. Но поскольку никто и не думает с ним откровенничать, замечает:
– Да, но наверняка можно было найти и другую возможность заработать на себе на хлеб.
Она качает головой:
– Я ее не искала, это мой выбор!
– Как же это возможно?! Здесь, в таком месте, такая девушка, как вы!
– Да, я так захотела!
Теперь Ребман видит перед собой лицо женщины легкого поведения, одной из тысяч.
– Когда мне не было еще и пятнадцати, в родном Париже я познакомилась с русским студентом. И полюбила его. Год спустя он сдал экзамены и должен был вернуться домой. К сожалению, он был из «хорошей» семьи!
– Почему к сожалению?
– Не перебивайте, сейчас все узнаете. Он должен был вернуться и взял меня с собой, чтобы, как только встанет на ноги, на мне жениться! А потом он женился, но не на мне: для его родителей я была низкого происхождения, а ему решили подыскать «достойную партию».
– И поэтому вы?..
– Да, поэтому! Другой причины нет. Видите, сколько странных людей в этом мире!
– Но вы ведь еще так молоды, могли бы наверняка заняться чем-то другим, вместо того чтобы здесь прозябать!
– Да, могла бы, но не желаю, он ведь тоже должен понести наказание!
– Наказание, он?
– Да, он! Ему известно, где я, он однажды был здесь, и я сыграла свою роль, конечно, по-другому, чем с вами, блестяще сыграла, так что получила даже удовлетворение, видя, как он мучается и страдает. И он явится снова, его тянет сюда, как преступника на место преступления. Voilà, вот почему я не бросаю своего занятия.
Ребман хотел что-то сказать, но она уже не слушала: налила себе полный стакан водки и залпом его осушила. Ее передернуло, словно в ознобе. Затем она встала и вышла, не сказав больше ни слова.
Глава 14
Отношения с Пьером складываются намного лучше, чем Ребман предполагал. У него еще со школьных времен в родной деревне было некоторое предубеждение касательно мальчиков из богатых семей, молодых господ. У них был один такой, иностранец, сын доктора, который на старом крестьянском дворе неподалеку от их деревни соорудил нечто вроде курорта. А его сын не ходил в школу пешком, как простые деревенские мальчишки, он приезжал «на кучере», в бернской коляске, запряженной козлом! И уже поэтому он считал себя вправе все время насмехаться над однокашниками, так что никто не хотел с ним рядом сидеть. Потом во время урока гимнастики, когда занимались скалолазанием, он неожиданно наложил в штаны – у него, как оказалось, еще, ко всему прочему, была заячья душа. С тех пор все его называли не иначе как «вонючка». А юный Петер, как истинный сын тетушки Ханнили, перенес это неприятие на всех прочих богатых юнцов, навечно причислив их к «вонючкам». Это относилось ко всем, кроме коренных представителей кильхдорфской деревенской «аристократии». И остатки этого давнего отвращения он вначале испытывал и по отношению к Пьеру Орлову.
Чем ближе Ребман его теперь узнает, чем чаще видит и слышит, тем больше симпатии он вызывает. Понадобилось не так много времени, чтобы эта симпатия переросла в настоящую взаимную дружбу. Их дальние прогулки, от которых они поначалу старались уклониться, стали со временем доставлять истинное удовольствие.
Пьер начал расспрашивать Месье о его близких, и было удивительно, какой неподдельный интерес проявлял этот богатый избалованный дворянский сын к убогому провинциальному прошлому своего наставника. Он без конца расспрашивает, особенно о матушке Ханнили, и все ему мало. И когда Ребман снова заикнулся о том, что вырос в бедности, Пьер ему заметил, что это была вовсе не бедность, а огромное богатство, и что он от чистого сердца завидует той атмосфере, в которой Ребман провел детство и юность.
– Погодите, – отозвался Ребман, – но у вас все было гораздо лучше того, что пережил я!
На это Пьер Орлов покачал головой:
– Нет, да нет же!
И тут он рассказал Ребману, как рос, вернее, как его растили: никаких друзей-приятелей, как у других детей, одни взрослые вокруг! Он ни шагу не мог ступить без следующего за ним по пятам «полицейского надзора»: «Петька, это нельзя! Петька, туда не ходи! Петька, этого не трогай!»
И каждую ночь прерывали его самые сладкие сны, чтобы напичкать съестным, как фаршированного фазана.
– Это была не жизнь, а одно мучение! Поговорим лучше о чем-нибудь другом.
И Пьер начинал повествование о Кавказе, о борьбе свободных горных племен против царя под предводительством Шамиля, который до сего дня остается героем русской молодежи.
– Он, а не царь?!
– Ясное дело! Вы разве не видели портреты Шамиля в каждой лавке? Шамиль и его люди, вот кто был героем! Мой дедушка – отец maman — был с ним лично знаком и глубоко его почитал, будучи офицером российской императорской армии!
Потом он снова вернулся к теме швейцарской деревни: как это можно пережить потерю матери?
– Я бы не смог, я бы лишился рассудка!
– Нет, – говорит Ребман, – обо всем заботится природа, особенно это касается молодых. Рассудка никто не теряет, он как бы усыпляется, чтобы смягчить тяжесть потери. Со мной, по крайней мере, было так. Я помню все, словно это было вчера, хотя с тех пор прошло уже больше десяти лет: как я стоял рядом со стариками, сухими глазами глядя на односельчан, мужчин и женщин, пришедших разделить со мной горе. В наших краях есть такой обычай: гроб выставляют при входе, ближайшие родственники стоят по правую и по левую руку, и когда начинают звонить в колокол, с соболезнованиями, один за другим, приходят все жители деревни, как говорится, чтобы протянуть руку помощи. А я стоял там и думал: к чему эти грустные лица, мама ведь не умерла! Я шел за гробом с шапкой в руках, шагая в ногу с теми, кто его нес, – как будто это меня не касалось. И когда я услышал, как священник в церкви сказал: «Жив Иисус, а с ним и я», моя вера в то, что мама не умерла, стала убеждением. Я не пошел со всеми на кладбище, как полагалось по обычаю. Незаметно спустился по ступенькам, ведущим из церкви к дому. Пошел в свою комнатку. Сделал уроки. Вечером лег спать и проспал всю ночь.
– Вы спали в такой день?
– Да, всю ночь. «Мама ведь не умерла, я слышал, как она ходит по дому», – сказал я сам себе перед тем, как погасить свечи. А на следующее утро, прежде чем пойти в школу, я завел часы и проветрил дом. Когда вернулся, полил сад. В субботу прибрал в доме. Поставил на стол букет цветов. Подмел во дворе и на улице, как положено у порядочных людей и все такое, как если бы мама ненадолго уехала на каникулы.
– Сколько вам тогда было?
– Четырнадцать.
– Как мне теперь! А что потом?
– Потом мой дом и всю мебель из него распродали с молотка. Продали лавку и сад – такой красивый, разбитый в ложбине, где я сажал молоденькие деревца. Продали и виноградник вместе с частичкой моей души. Все без остатка. И когда я в следующее воскресенье после воскресной школы прибежал домой и по старой привычке еще в сенях начал кричать «Мама, давай пить кофе!», и с разбегу влетел в гостиную, мою и мамину, там сидели чужие люди за чужим столом, накрытым чужой скатертью, висели чужие занавески на окнах, чужие картины на стенах и вокруг всего этого витал чужой дух. Тут я очнулся и наконец осознал: мамы здесь, действительно, больше нет и у меня больше нигде нет дома, несколько метров земли на кладбище погребли под собою все, что у меня было в этом мире. С того времени во мне жила только одна мысль: бежать, чем дальше, тем лучше! Раз земля круглая – обойти ее вдоль и поперек! В этом еще одна причина моего отъезда за границу, а иначе я, вероятно, оставался бы дома, как и все прочие.
Пьер не говорит ни слова. Только когда они уже вернулись домой, он спросил:
– А из-за чего мама Ханнили не вышла снова замуж?
Ребман открыл от удивления рот:
– Не вышла замуж? Моя мама? Мне такое даже в голову не приходило! И ей, очевидно, тоже.
– Но почему? Разве вам не кажется, что так ей было бы легче и в тех же условиях ей, может быть, не пришлось бы так рано умереть!
– Может быть, и так. А как же я?!
– Да… Не правда ли, с этой мыслью трудно или даже невозможно смириться, даже если пытаешься!
Тут Ребмана осенило: все именно так, как утверждал Штеттлер. Мальчик обо всем знает и страдает, хотя и не говорит об этом прямо. И с того самого дня Пьер стал Ребману ближе и дороже.
Когда они пришли домой, Василий подал Пьеру свежий номер «Пятигорского эха», указывая пальцем на отчеркнутое место. Пьер прочел. Да-да, он уже знает. И обратился к Ребману:
– Завтра в обед на лугу за городом – игры кубанских казаков. Это у них называется джигитовкой. Вам интересно посмотреть?
– Разумеется, еще как интересно! Хоть раз в жизни увидеть, что это за народ такой, казаки!
– Тогда пойдемте, я тоже с удовольствием еще раз погляжу.
О казаках, этих дьяволах, как их называл сам Наполеон, Ребман уже был наслышан. Как и каждый школьник, он слышал о них много всякой чепухи – вплоть до того, что они едят младенцев. Да и Пьер ему рассказывал, как их строго отбирают и какая у них трудная служба – во всем мире нет лучшей конницы!
И вот теперь он увидит их воочию, да еще и в седле, не так, как в свое время на Крещатике или здесь, в городском саду. Сразу превратившись в прежнего мальчишку, Ребман по-детски радуется возможности хоть одним глазком взглянуть на этих чертей, заглянуть к ним на кухню, побыть в их кругу. Наконец-то хоть что-то происходит в этом скучном Пятигорске!
Поле для джигитовки в длину не более ста шагов и в ширину едва двадцать шагов – мизерного размера, если представить себе, что по нему будут скакать вытянутым каре. Вокруг стояли казаки, и первое, что бросилось Ребману в глаза: отсутствие всякого оружия и даже патронташей. В руках у наездников были только длинные прутья из орешника! Зрителей почти нет: для курортников слишком жарко, а местные уже вдоволь насмотрелись на эти забавы.
– Тем лучше мы увидим и разнюхаем все! – говорит Ребман.
Уже сейчас слышен резкий запах лошадиного пота, кожаной сбруи и вытоптанной травы.
Сначала ему не так уж и понравилось: подобное увидишь в каждом цирке. Верховые мчатся, стоя в стременах или на седле, в одной руке – поводья, в другой – шашка, которой они крутят над головой. Казаки на ходу выпрыгивают из седла, проскакивают под брюхом коня, делают стойку на конской спине и все такое прочее.
Но Пьер предупреждает:
– Погодите, самые трудные трюки еще впереди!
И действительно: Ребман не поверил своим глазам, когда увидел, как наездник галопирует, стоя на двух лошадях сразу. И как двое, скача навстречу друг другу, меняются лошадьми, продолжая мчаться галопом.
С каждым разом трюки становились все более дикими и опасными. Однако во всем видна дисциплина и строгая выучка, мастерство, выработанное упорным трудом многих поколений.
Вот выходят четверо: двое наездников в седле, третий лежит у них на плечах между лошадьми, на нем стоит, без поводьев или какой-либо другой страховки, «стойкий оловянный солдатик» и с громким «ура!» расстреливает в воздух все свои патроны.
Потом трое наездников составляют пирамиду: двое стоят один на другом, а третий забирается на них – это все в вытянутом каре – и проделывает на вершине свои трюки.
И, наконец, кое-какие боевые приемы, от которых мороз идет по коже. Трое преследуют друг друга. Внезапно первый оборачивается и стреляет в того, кто к нему ближе. Тот на ходу падает с лошади, которая резко останавливается, но перед этим он успевает бросить аркан, да так точно, что заарканивает третьего, того, что скакал последним, и он тоже слетает с коня. «Убитый» мигом вскакивает, и до того, как остальные поймут, что же происходит, успевает связать упавшего врага, уложить его на коня и сам на него запрыгнуть. Теперь его и след простыл, вместе с пленником и добытой лошадью.
– Такое они могут проделывать только на своих лошадях, которые всему обучены и выдрессированы, – объясняет Ребману Пьер.
Затем начинается фехтование, в котором эти ребята показывают еще одну сторону своего искусства. В пятнадцать коротких расщепленных кольев, расставленных на расстоянии пяти шагов друг от друга, втыкают длинные прутья лещины. В конце ряда торчат, также на кольях, два тряпичных шара величиной с человеческую голову. Казаки опять выстроились один за другим. Удар нагайкой – и первый стремглав сорвался с места, рука с шашкой дамасской стали откинута далеко назад. Наездник несется галопом, и вот уже прутья падают, как подкошенные: сраженные беспощадным ударом сверху или снизу, они разлетаются влево и вправо – только и слышно, как свищет в воздухе лезвие. Наконец, и оба шара летят в песок, один – направо, другой – налево. Казак за казаком скачет, стараясь «скосить» все прутья, а потом также срубить две «головы» по краям, – и все это так быстро, что невозможно уследить за движениями.
И в самом конце еще один фокус: установили два кола, на каждом сверху – деревянная дощечка. На одной лежит глиняный шар, размером с яблоко, на другой стоит горящая свеча. Один казак скачет галопом, забросив за голову нагайку. Удар – это был молниеносный удар – и половина шара лежит в песке, словно его разрезали бритвой пополам. Еще удар – и огонь свечи погас, но свеча не упала, ее нагайка даже не коснулась. Нескончаемым потоком проносятся казаки, и ни один ни разу не промахнулся.
И вот все выстроились в ряд, впереди – офицер. Скачут галопом, стоя, жонглируя оружием над головой, и издают варварский вопль, поравнявшись с комендантом гарнизона. С гордым и довольным выражением лица тот отдает им честь: «Спасибо, казачки!»
Они развернулись, постояли минуту и хором прокричали что-то непонятное.
Ребман внимательно следил за своим воспитанником: теперь снова, как и тогда в парке в Барановичах, когда мальчик сказал, что русский народ нуждается в кнуте, он – загадка для своего учителя. Сам Ребман наблюдал бы подобный триумф земляков, это торжество воинской доблести, замирая от восторга и гордости за своих. А Пьер Орлов только улыбается, словно хочет сказать, что всем давно известно, что ни одна цирковая труппа в мире не может сравниться с представлением лихих русских казаков!
Через несколько дней, когда Пьер и Ребман как раз собиралась на прогулку, в соборе начали звонить.
– По какой причине звонят? – спросил Ребман у Василия.
– Генерала хоронят, коменданта пятигорского гарнизона.
– Того, что мы видели недавно на джигитовке?
– Да-да, его, у него случился тепловой удар.
– Тогда я пойду на погребение, вы пойдете со мной, Пьер?
Нет, мальчик не хочет, на таких спектаклях ему нечего делать.
– Что ж, придется идти одному. Погуляем в другой раз. Предупредите месье Эмиля, полагаю, он не будет против.
Перед собором множество народу, особенно много военных, всюду черкесы, казаки и прочий армейский люд. В глазах рябит от разнообразия мундиров.
– Несут!
Снова зазвонили, все крестятся, мужчины снимают головные уборы. Отворяются ворота, военные по команде принимают стойку смирно, – Ребману впервые в жизни представилась возможность поучаствовать в церемонии русских похорон.
Впереди обыкновенный мужчина, очевидно, алтарник с позолоченным восьмиугольным фонарем, таким большим, что ему приходится то и дело выглядывать из-за фонаря, чтобы видеть дорогу. За ним, в золотом парчовом одеянии, одинокий священнослужитель кадит ладаном. Следом на толстой высокой штанге в три человеческих роста – две иконы. Мужчины, которые их несут, еле двигаются, такие они тяжелые. По обе стороны от процессии протянуты оградительные канаты, которые просто держат в руках. За иконами – большой золотой крест с изображением Спасителя, тоже золотым. Затем – хор мальчиков в белых сорочках. За хором – четыре попа в темных облачениях и греко-византийских митрах. Двое из них, что посередине, несут раскрытую книгу. Вот два… четыре… шесть… восемь… десять попов идут парами. А вон тот, должно быть, владыка, судя по великолепному облачению и толстой золотой цепи.
И только теперь, когда прошел весь клир, следует покойник. В тяжелом, кованном серебром гробу, в мундире со всеми орденами на груди, лежит он, открытый взорам толпы, – красавец-генерал, которого Ребман совсем недавно видел во время казачьих состязаний. Шесть молодых офицеров несут гроб на белой перевязи через плечо. А позади идут еще двое с крышкой гроба, на которой лежит казацкая сабля и фуражка с золотым позументом. Время от времени процессия останавливается посреди улицы – все благоговейно осеняют себя крестным знамением.
Усопшему заткнули ватой нос, но, несмотря на вату и густой кадильный дым, даже он, кажется, не может не чуять трупного запаха, распространившегося по всему пространству широкого бульвара. «Как жутко», – думает Ребман, – «я бы не хотел, чтоб меня так хоронили, даже с этими почестями!»
Процессия идет дальше: носильщик с фонарем, священник с кадилом, золотой крест, все иконы и хоругви. Поет хор. Двое читают из открытой книги. Народ стоит и крестится с благоговением. А мертвый генерал лежит, палимый кавказской июльской жарой, в гробу, и вокруг него кружит целый рой навозных мух.
В воскресенье, сразу после завтрака, Маньин говорит:
– Итак, отправимся все втроем на прогулку. Куда пойдем?
Он уже совсем пришел в себя после недавнего дебоша, снова великолепно выглядит: перед вами элегантный барин, с уст которого никогда не слетало ни одно скверное слово.
Ребман с большим удовольствием остался бы наедине с Пьером – им вдвоем гораздо лучше.
– Что, снова пешком? – спрашивает он.
– Нет-нет, возьмем извозчика. А знаете что? А поедемте-ка навестим Германа Германовича, он наверняка обрадуется, ведь он уже несколько раз звал нас к себе. Daccord, согласны?
– Daccord! – в один голос воскликнули Ребман и Пьер.
– Мы послали Василия за извозчиком, чтоб взял его на целый день, иначе оттуда будет не выбраться.
Они усаживаются в коляску, все трое в белом, и едут через рынок, выезжают за город, все еще оставаясь у подножья Машука. День чудесный, видимость прекрасная, ночью прошла гроза, и впервые за все время показался Эльбрус, одинокий, белоснежный и такой близкий, что, кажется, на него можно без труда взобраться. Как величественно возвышается эта гора, к которой был прикован Прометей! Еще утром Ребман видел знаменитую гору, когда только проснулся и выглянул в окно: словно какой-то чародей придвинул ее ночью! Все утро Ребман то и дело выходил посмотреть, на месте ли еще Эльбрус.
– Почему видно только его, а другие горы – нет? – спросил он.
– Потому что Кавказ – это так называемая горная цепь, здесь не так как в Альпах, где все вершины просматриваются из долин, одна за другой, во всю длину массива. Здесь, пока не поднимешься достаточно высоко, не увидишь дальше Эльбруса, который и выше, и ближе всех прочих вершин. Поэтому здесь нет ни больших рек, ни озер, ни настоящих деревень, как в Альпах. На Кавказе природа еще дика, население малочисленно; здесь всего одна дорога – Военно-Грузинская, которую построили из стратегических соображений. Там, где мы теперь находимся, еще вообще не Кавказ, а только его предгорья; кто хочет попасть в настоящие горы Кавказа, у того впереди еще несколько дней пути и горных восхождений.
– Ну что, рискнем? – в шутку обратился Ребман к Пьеру.
Но мальчик отреагировал всерьез: покосившись в сторону Маньина, он сказал:
– Я бы пошел. Но, к несчастью, мне больше запрещено, чем разрешено. N’est-ce-pas[16], месье Эмиль?
Они едут довольно медленно, все время прямо вперед.
– Почва везде вулканическая, вся земля, как пепел, – говорит Маньин, – самая лучшая для тех культур, которые выращивают немецкие колонисты.
– А что же они выращивают?
– Главным образом виноград. А также фрукты и ягоды. И, конечно, овощи. Еще дыни и арбузы. Некоторые даже пытались культивировать апельсины и лимоны, но для них здесь климат все же слишком суров, хотя зимы как таковой не бывает.
– Как не бывает? На севере такой горной цепи!
– Не забывайте, что мы находимся на широте Неаполя.
Они проехали около часа и, минуя великолепные сады и бахчи, въехали в деревню. С первого взгляда видно, что здесь живут люди другого сорта, так все аккуратно и ухожено. Деревенька выглядит, как игрушка, никакого сравнения с Барановичами. Хотя дома здесь тоже на русский лад, одноэтажные и крытые зеленой жестью, но все оштукатурены и побелены. И все кругом идеально вычищено. И цветы на окнах – герань и бегонии! Даже церковь есть, с остроконечной башенкой наверху и настоящей звонницей, а не какой-то там «колотушкой». Ребман чуть не обезумел от счастья, когда в полдень зазвонили к воскресной детской школе. Всего только два раза, как в городке Остерфинген в родном Клеттгау. До последней нотки знакомый перезвон: «зиндбаальдальдоо-зиндбаальдальдоо?» Ребману казалось, что он за всю жизнь не слыхал ничего более родного и близкого сердцу.
Интересно, как они здесь говорят?
Он подошел к первому встречному и что-то спросил. И что же он слышит в ответ? А вот что:
– Мер хабе кой Вассер кхетт (У нас воды не было), – это прозвучало так, словно здешние люди только вчера приехали из Бибераха.
А что, они и по-русски могут? Его собеседник рассмеялся и ответил так же, как Герман Германович:
– Получше некоторых русских.
Им тут же показали, как пройти к дому учителя. А там их снова ждал сюрприз, еще более неожиданный, чем все предыдущие вместе взятые: у Германа Германовича жена родом из Шафхаузена!
Ребман спросил ее, действительно ли это так, уж очень швабский у нее выговор.
– Да, – смеется она, – могу и документ предъявить, только из того Шафхаузена, что на Волге!
Швейцарии она никогда не видала, родилась в России и никуда еще отсюда не выезжала.
– И что же, вы себя, и правда, чувствуете русскими?
– Так нельзя ставить вопрос. Здесь наш дом, и никакого другого нам не нужно. Но русские мы в такой же малой степени, как и вы. Мы не можем стать русскими. Хотя наши семьи с обеих сторон уже в нескольких поколениях живут в России, но сердцем и всем существом мы остались там, откуда родом наши прадедушки и прабабушки.
А если бы ему пришлось в один прекрасный день вернуться на свою прежнюю родину, кем бы он там себя чувствовал, спросил Маньин.
– Тем же, кем и здесь: существом, у которого нет настоящей родины, – ответил ему учитель. – Я уже пережил это, когда учился в Ляйпциге, там я так скучал по дому, по Кавказу, готов был волком выть от тоски.
– Только ли по Кавказу? – допытывается Маньин, красноречиво поглядывая на жену учителя. Тот улыбается:
– Нет, конечно, еще и по «шафхаузенке» – ясное дело! Она училась у меня в классе и вместо сочинений писала мне любовные письма, колдунья эдакая!
– Я бы назвал ее не колдуньей, а чаровницей!
– Теперь уже и не разберешь, – вздыхает учитель, – давно это было…
После обеда – угощали фасолью с копченым шпиком и старым красным! – они пошли осматривать деревню. Учитель показал им школу, почту и все, чему полагается быть в деревне, в которой добрые люди живут! По ходу дела он рассказал Ребману о колониях на Волге, в первую очередь о Шафхаузене, которым тот больше всего заинтересовался. Город расположен на Малом Карамане, притоке Волги, и насчитывает 4 500 жителей, в основном южных немцев, которые теперь все стали русскими гражданами. Сам он никогда там не бывал, тесть с тещей уже больше тридцати лет как переселились к ним сюда, и родственников у них на Волге не осталось вовсе.
– А нет ли колонии под названием Солотурн? – спросил Ребман.
Кажется, он еще в школе слышал о такой.
– Их всего девять, названных в честь девяти швейцарских кантонов: Унтервальден, Цуг, Люцерн, Гларус, Базель, Берн, Цюрих, Солотурн и, наконец, Шафхаузен.
– И все они на Волге?
– Да, все на левом берегу, напротив Урала.
– И все жители теперь русские?
– Да, так же, как и мы!
– А если бы началась война, то вас бы призвали воевать?
– Разумеется! Но не против Швейцарии, с ней ведь войны быть не может.
– Но с Австрией или даже с Германией, – вступил в разговор Маньин, – при определенных обстоятельствах было бы справедливо вступить в конфронтацию, они уже давно нарываются!
– И как вы тогда поступите? – спросил Ребман.
– Пойдем исполнять воинскую повинность. Это еще одна из трагедий нашей жизни.
Между тем они вышли из деревни и оказались в поле. И только здесь стало по-настоящему видно различие между этой деревней и Барановичами: так здесь все ухожено, огорожено зелеными изгородями, и каждый кусочек земли обработан. Абрикосы уже созрели, так и просятся в рот. Ребман, клеттгауэрец и к тому же учитель, хотел остановить Пьера, который начал срывать плоды один за другим. Но Герман Германович говорит, что они могут брать сколько хотят. Никто им и слова не скажет, здесь все равно не знают, куда их девать.
– Как – куда? Отнести на рынок – и дело с концом! – отозвался Ребман.
– И что там за них дадут? Не окупишь даже дорогу: рубль за пуд, если повезет.
– Сколько это, пуд?
– Шестнадцать килограммов.
– Что? За шестнадцать килограммов таких абрикосов всего рубль? Это же даром!
– Вот я и говорю. Мы здесь не разбогатеем на своем садоводстве, об этом позаботились. Так что берите, угощайтесь!
Конечно, больше уговаривать их не пришлось: гости тут же принялись срывать сочные плоды. Маньин, который их не ест, может долго грозить им пальцем, дескать, ведите себя прилично! Ребман вполне сыт: еще в обед так усердствовал, что не уступил бы и самому силачу Готфриду. Но каждый раз, когда он видит нежную, румяную абрикосину, призывно улыбающуюся ему с дерева, он должен ее схватить. И еще эту. И вон ту еще. Эту – и все. И эту. Пьер не отстает от учителя. Невозможно понять, как в нем столько помещается, и как это ему еще не стало дурно!
Так незаметно и день прошел. Уже зазвонили к вечерне. Пора и честь знать!
На следующее утро, когда Ребман спустился вниз, Маньин сидел за столом в одиночестве; Пьер заболел, ночью пришлось даже послать за доктором.
– Ничего опасного, надеюсь?
– Надо полагать. Очевидно, он просто объелся вчера этих абрикосов. Не могли бы вы сбегать на базар за курочкой, чтобы ему сварили бульон? Вот вам деньги. Вашего русского, надеюсь, хватит, чтобы купить то, что нужно.
– Да, – отозвался Ребман, – сколько ссто-ет!
А уж торговаться он умеет. А как будет по-русски «курица»?
– Ku-ri-tza, – говорит Маньин. Потом он еще предупредил, что следует брать хорошую – не старую и не тощую. И не переплачивать – самое большее семьдесят пять копеек!
Ребман помчался на базар. Когда он вернулся с курицей под мышкой – ему понадобилось всего лишь четверть часа, и торговался он со знанием дела, – Маньин всплеснул руками и схватился за голову:
– Что это вы принесли? Вы что, никогда не покупали курицу?
– Нет, не покупал, у нас дома были свои. А что, собственно, не так?
– Вот это, – говорит Маньин и показывает пальцем на то, что Ребман держит под мышкой.
– Что, это разве не курица?
– Курица, – говорит Маньин в отчаянии, – но не такая, как нам нужно. Хорош домохозяин!
– Да скажите, наконец, чего этой курице не хватает!
– Ничего, даже совсем наоборот: в ней слишком много лишнего!
– Вы же сказали, чтобы я брал жирную!
– Да, но я же не говорил, что она должна быть живая! Что нам теперь с ней делать?
– Как, что делать? Что вы, в самом деле: скрутим ей голову, ощиплем, почистим – и в кастрюлю ее. Что в этом такого необычайного?
– Вы хотите оттяпать ей голову?
– Если больше некому, ради Бога, это мне не впервой. У вас есть топор?
– И знаете, что тогда произойдет?
– Что может произойти? Меня же не сошлют за это в Сибирь.
– Нет, но вам придется искать другое место.
– Ну, хоть теперь уже объяснитесь наконец. Какое это имеет отношение к моему месту службы?
– А такое, что Пьер вас не захочет больше видеть, когда узнает, что вы убили птичку.
– Ну так пусть это сделает дворовый человек.
– Чтобы и он лишился своего места? Он ни за что не захочет. Так уже случилось с одним несколько лет назад, он разорил воробьиное гнездо как раз в ту минуту, когда вышел Пьеро. Знаете, что сказал барчук? Что если мы сейчас же не застрелим убийцу, то он сам возьмет револьвер и всадит в него пулю. В таких делах с ним шутки плохи. А нам все-таки позарез необходима курица!
– Ну так я сейчас же пойду и принесу другую.
– Да, но только учтите: уже разделанную и готовую для варки!
Глава 15
– Скоро будем прощаться с этим живописным краем, – сказал Ребман Маньину утром в конце августа, – все уже разъезжаются по домам, не осталось никого, кроме офицеров.
– Прощаться? – Маньин вопросительно. – Может быть, а может быть, и нет.
– Почему может быть? Разве мы не возвращаемся в Барановичи?
– Не все.
– Что это значит?
– Ну, это у меня так вырвалось. Еще ничего не решено; сначала должно выясниться, принят ли Пьер в гимназию.
– Где, в Киеве?
– Нет, здесь на Кавказе.
– И я тогда должен искать другое место?!
– С чего бы это? Только теперь вы Пьеру по-настоящему и понадобитесь, мы ведь не можем его оставить здесь одного среди чужих людей. Но пока еще до этого не дошло, сперва мы должны посмотреть, что по этому поводу скажет директор Кисловодской гимназии.
При упоминании о Кисловодске у Ребмана восторженно забилось сердце; это же его мечта, такой изысканный городок в конце железной дороги, со всех сторон окруженный горами. Маньин ему как-то рассказывал о нем. Там совсем другая атмосфера, чем в этой лечебнице в Пятигорске. В Кисловодске совсем нет больных, только одни богатые бездельники, которые не знают, где бы убить время и просадить деньги: там, если выйдешь прогуляться, только и встречаешь красивых женщин в сопровождении воинственных черкесов, которые должны «отпугивать» всех вокруг. Понимаете?!
Пьер тоже ему рассказывал о Кисловодске. Там, в курортном парке, в зале есть источник, к которому съезжаются со всей России, чтобы попить целебной воды. Источник этот, как святыня, находится под стеклом и вода из него не течет, а только капает; и, чтобы глотнуть, надо долго стоять в очереди. Об этом источнике ходят легенды.
В старые времена здесь на северном Кавказе жил великан по имени Нарзан, молодой красавец с душою чистою, как горный хрусталь, и с добрым золотым сердцем. Все его любили, кроме других юношей, которые ему завидовали и только и думали о том, как бы им его погубить. Но так как этого сделать честным путем они не могли, то придумывали всякие ловушки; в одну из них Нарзан все-таки попался и погиб. А было это так.
В то время была такая игра, в которой юноши мерились силой и состязались в храбрости: они пускали катиться вниз с горы колесо, и тот, кто мог колесо поймать руками, не сходя с места, – нельзя было даже пошевелиться, не то что упасть – тот становился на целый год царем среди мальчишек и, конечно, властелином девичьих сердец, о чем нетрудно догадаться. И этим царем всегда становился Нарзан; никто другой не мог его победить, как бы ни старался.
И тогда мальчишки решили прибегнуть к хитрости. Они пошли к Нарзану и спросили его, решится ли он схватить колесо не руками, а голой грудью? Это был бы подвиг, совершив который он стал бы царем на все времена!
Нарзан, конечно, согласился.
Но это должно быть особенно большое и особенно тяжелое колесо!
И такое он согласился поймать.
И его запустят с вершины самой высокой горы и в самом крутом месте!
И с этим Нарзан согласился, еще и рассмеялся, мол, они могут делать, что хотят, он даже не станет смотреть за ними.
– Слово чести?
– Слово чести!
Вот они и устроили свою ловушку: забили по краю колеса гвозди длиной в ладонь, целый мешок, и запустили с огромной силой с вершины самой крутой горы.
А доверчивый добрый Нарзан стоял под горой, окруженный толпой народу, протянул руку и принял колесо на обнаженную грудь.
И когда он заметил, что он умирает, от боли и горя потекли по его лицу слезы и стали капать на землю.
Из этих слез и возник источник целебной воды Нарзан.
Все это и еще многое другое рассказывали Ребману, так что можно понять, что его сердце радостно забилось, когда он услышал, что, возможно, он сможет на долгое время остаться в этом замечательном горном Кисловодске.
Неужели это, и вправду, произойдет?
Глава 16
Да, в самом деле, так все и случилось.
Солнечным октябрьским утром Пьер Орлов в сопровождении Ребмана отправился в Кисловодскую Гимназию. Пьеро в новой с иголочки униформе: брюки с обшлагами гармошкой – на случай если он еще вырастет – длинная серая гимназическая шинель до самых ботинок и новехонькая фуражка с блестящим гербовым знаком. А под ней – гладко обритая голова. Он выглядит точно как рекрут, впервые вышедший в форме в город. И он боится, хотя и не показывает своего страха; но это видно по его бледности и нервозной скованности движений. Это уже совсем не тот мальчик из усадьбы.
Остановились они на вилле директора, что в паре сотен шагов от гимназии. У каждого своя большая и солнечная комната, у Ребмана даже с балконом; комната Ребмана проходная, и Пьер должен всегда через нее проходить, так распорядилась маман. И еще она желала, чтобы дверь между двумя комнатами была открыта днем и ночью! Об этом Ребману на хорошем немецком сообщила госпожа директорша, как только они вселились. Ребман ответил ей на это полным удивления взглядом. Эта высокая женщина с длинным, острым, словно нож, носом, с первого взгляда ему не очень-то понравилась:
– Как хорошо вы говорите по-немецки!
– Надо полагать, я ведь немка! – ответила она гордо.
Господин директор, однако, русский; красивый статный мужчина лет сорока. Когда он в униформе, можно его принять за морского офицера высокого ранга. Сначала он хотел сам забрать Пьера, это было бы лучше, сказал он, чем появиться уже после начала учебного года. Но госпожа директорша была против, она полагала, что это бы попахивало протекционизмом, и что Месье должен непременно явиться с ним вместе, он же для этого здесь! Так все и случилось, господин директор не позволил себе возразить ни слова. А Месье тем более.
И вот они подходят к довольно скучной кирпичной коробке под зеленой крышей и со множеством окон, и невольно Ребман вспомнил, как он сам таким же октябрьским солнечным утром и тоже уже посреди учебного года переступил порог Шафхаузенской семинарии. Только он не был единственным сыном помещицы благородных кровей. «Сегодняшним утром и теми, что за ним последуют, я ему не завидую, – думает он, – и не хотел бы оказаться на его месте».
Они вошли в здание. Старый школьный слуга показал им дорогу в классную комнату.
Пьер обратился к Ребману:
– Было бы лучше, если бы вы не провожали меня дальше.
Но Ребман энергично качает головой:
– Не может быть и речи, я зайду вместе с вами!
Как только они открыли дверь, в классе воцарилась полная тишина – до того оттуда доносился такой шум, словно там бушевало сто чертей. Первое, что бросилось Ребману в глаза, что это все были маленькие мальчишки-кадеты, совсем еще кнопки, ни один не достанет его воспитаннику и до плеча. Он не успел додумать до конца, а уже как по команде все заорали вокруг:
– Здоровенный Голиаф с нянькой! А где же маменька?
Пьер стоит, словно его хватил удар, лицо побелело, взгляд, как у затравленного зверя, увидевшего охотников. Но он тут же овладел собой – Ребман навсегда запомнил эту невероятную силу воли своего четырнадцатилетнего воспитанника. Тот с улыбкой обернулся к нему, виновнику всей этой истории, и вежливо, но с достоинством настоящего принца сказал:
– Благодарю за сопровождение, Месье.
После этого он закрыл за собой дверь и вошел в класс.
В обед, когда Ребман хотел встретить своего воспитанника, он уже издалека увидел его. Месье остановился на месте, чтобы полюбоваться спектаклем: два или три десятка мальчишек повисли на «Великане-Голиафе», словно стая такс на огромном олене, которого они поймали, и каждая старается выщипать из его шерсти клок. Но тут он пустился бежать. И только так ему удалось освободиться.
Дома госпожа директорша всплеснула руками:
– Петер, дорогой мой, что это они с вами сделали?! И гневно взглянула на воспитателя:
– А вы, зачем вы здесь? И не стыдно вам, что вы позволили так издеваться над своим воспитанником!?
Между тем Пьер снял фуражку и шинель, и только теперь стало видно, как его всего истаскали, издергали, исцарапали и перепачкали. Но он только сказал:
– Пойдемте, Месье, я хотел бы привести в порядок свое платье и умыться.
Госпожа директорша схватила его за руку:
– Сначала я хочу знать, как такое могло произойти. Я скажу своему мужу…
– Нет, пожалуйста, не говорите ничего господину директору!
– Да, но что же произошло? Я такого у нас не припомню. Вас что, кто-то побил?
На это Пьер с полуулыбкой:
– Не кто-то один, а весь класс, так что ничего особенного; надо же как-то подружиться, вот мы и подружились, заключив добрую солидную дружбу, о да! Пойдемте же наконец, Месье!
Они пошли к себе. Ребман взял щетку и почистил одежду Пьера. Затем сам умыл парню лицо, аккуратно, словно ребенку. И сказал:
– Так, а теперь рассказывайте. Что произошло? Я хочу знать!
– А что могло произойти, – ответил Пьер, который между тем совсем пришел в себя – как только я закрыл за собой дверь, они на меня накинулись, как стая молодых борзых собак. И вот – результат вы видели.
– А что, учитель в класс не приходил?
– Спросите у директора. Ну все, пошли есть. И не делайте такое лицо, в конце концов, это же не вас мучили.
– Когда они спустились, то увидели директоршу, словно воинственную фурию, стоящую перед своим мужем, который уже совершенно не походил на морского офицера высокого звания, а выглядел как мокрая кошка. Она видно уже давно атаковала его, теперь было слышно ее фырканье:
– Ты слышишь, это больше не повторится! Ребенка доверила мне его мать. Тебе ведь известно, что она писала мне о его здоровье! И для чего вообще здесь этот здоровенный хам-швейцарец?
– Цыц! Тише ты, – говорит директор сдавленным голосом, видя их обоих спускающихся по лестнице.
Тут он рассмеялся:
– Это все только глупости. Мальчишки просто подружились друг с другом, заключили своеобразный договор о дружбе, не так ли Петр Николаевич?
Он берет Пьера под руку и идет с ним в столовую:
– Женщины ничего в этом не понимают. Но мы, мужчины, точно знаем: просто дружеская возня, ничего особенного тут нет. Садитесь, пожалуйста. Последнее относилось и к Ребману.
Но никто не садится. Только после того как мадам уселась во главе стола и рядом с ней дочурка, только тогда «мужчины» расселись по своим местам.
Да, эта дочурка, Милочка, такого же приблизительно возраста, как Пьер, но уже совсем барышня; что касается фигуры, так это вылитая мамаша. Она ломает такую же комедию, обхаживает и мурлычет, и урчит, и фыркает вокруг бедного мальчика, словно кошка вокруг своего единственного котеночка.
Когда подали кофе и директор закурил свою сигарету, он снова заговорил об утреннем происшествии.
– Вы не должны слишком переживать, обратился он к Пьеру, – все само собой прекратится, как только они заметят, что вы не придаете этому слишком большого значения. Затем он говорит не то Ребману, не то жене:
– Я думаю, было бы разумнее, чтоб Месье не провожал и не встречал Петра Николаевича из школы, это только даст им лишний повод его разыгрывать.
Но тут вступила мадам:
– А я настаиваю, чтобы он сопровождал его до и после уроков!
Директор не говорит больше ни слова, только кивает. Ребман тоже молчит, как побитая собака.
Только когда они снова оказались в своей комнате, он спросил Пьера, как ему будет лучше. Если Маман непременно настаивает, он, конечно же, будет его сопровождать, но она ведь не могла заранее знать, какие последствия может возыметь его сопровождение.
И вот Пьер наконец прямо сказал, что ему было бы лучше, если бы он его не провожал, а то это издевательство никогда не кончится. Он ведь в состоянии пару шагов пройти один.
– Хорошо, так мы и поступим, – ответил ему Ребман.
Но Пьер еще едва вышел из дому, как в дверь постучали, и прислуга сообщила:
– Вы должны немедленно спуститься к госпоже директорше!
– Это так срочно?
Девушка – тоже немка – шепотом:
– На вашем месте я бы пошла, не то вас ждет веселое времечко в этом доме; с госпожой шутки плохи.
Ребман об этом знает; Маньин еще обратил его особое внимание, что она отличается агрессивностью и не терпит возражений: будьте осторожны, с людьми такого сорта не так легко договориться, как с русскими!
– Хорошо, скажите госпоже директорше, что я иду.
Он подождал, затем, когда девушка, по его расчетам, доложила, он спустился вниз:
– Вы за мной посылали?
Мадам не отвечала, не отрываясь от вязания крючком, не предложив Ребману стул. Лишь после долгой паузы она поинтересовалась, не должна ли она напомнить Месье, в чем заключаются его обязанности?! Ребман:
– Я полностью в курсе.
– Почему же вы их не исполняете?
– Потому что, – спокойно говорит Ребман, – бывают случаи, когда их лучше не исполнять. И, по моему мнению, сейчас как раз такой случай; Пьер сам сказал, что ему будет лучше, если я с ним не пойду, в противном случае издевательства над ним не прекратятся вовсе.
Госпожа директорша:
– Вы будете отводить и приводить Пьера из школы, в противном случае я вынуждена буду написать в Барановичи!
Ребман совершенно спокойно:
– Это вовсе не нужно, писать в Барановичи, я знаю, как должен поступать в тех или иных обстоятельствах.
– Вот и поступайте! Или это не в швейцарских традициях?!
Если бы она этого не сказала, все закончилось бы благополучно, Ребман признал бы, что совершил ошибку и даже хотел извиниться. Но после такого заявления ему желчь ударила в голову. Он отчеканил:
– Мадам, с людьми можно говорить нормально, в том числе и со мной; но не в таком тоне, этого я отныне по отношению к себе допускать не намерен!
Так что жизнь в прекрасном Кисловодске с самого начала складывалась для Ребмана далеко не так удачно, как он себе воображал. И для Пьера начало оказалось совсем нелегким. Он очень старался, чтобы никто ничего не замечал, однако это было видно, и дело было не только в школе. Ребман был весьма удивлен, когда уже на второй день у них объявился преподаватель русского языка, по причине того, что «Петр Николаевич нуждается в дополнительных уроках».
– Русского языка?!
– Да, по этому предмету он очень слаб.
– Как это, он ведь русский! И слаб в русском языке? – Ребман вопрошал со столь же удивленным выражением лица, с каким он еще мальчиком восхищался тем, как бегло маленький англичанин говорил по-английски.
– Да, у русских аристократов это обычное дело, – ответил учитель, – они ведь учат иностранный язык сначала, а уже потом свой родной как иностранный; я с этим уже много раз сталкивался.
– В самом деле, слаб, даже с такими умственными способностями, как у Пьера?
Учитель улыбнулся:
– Такое часто встречается, что особо талантливый в одной области знаний, даже гениальный, в чем-то другом как пригвожденный, не может сдвинуться с мертвой точки. Петр Николаевич по всем предметам намного превосходит своих соучеников, учителя не перестают удивляться высокому уровню знаний, который следует из его ответов на поставленные вопросы; но в русском его ответы заставляют задуматься: тут он, как первоклассник!
Очень заметно, как все это угнетает мальчика. Когда он делает домашнее задание и доходит до русского, то сидит с поникшей головой, жует и возит подбородком по бумаге, как если бы он должен был разгрызать камень; казалось, даже слышался скрежет зубовный.
Но все равно, дело не могло быть только в этом.
И Ребман начал наблюдать. Каждое утро мерил ему температуру – мадам Орлова прислала градусник: нормальная. Аппетит и сон в норме. Только утром Пьера невозможно вытащить из постели; он и крутится, и вертится с боку на бок, и зевает; и вот, когда кажется, что он наконец проснулся, и можно самому пойти в ванную комнату, то по возвращении снова находишь его лежащим на боку с головой закутанным в одеяло и спящим как сурок.
Однажды утром Ребман даже решил, что мальчик не в себе, так он был безутешен. Ребман разбудил его, как обычно, в последний момент, мол, пора вставать, уже проспали почти; затем сам побежал в ванную. И когда он вышел, то услышал крик: месье, идите скорее сюда! Напуганный, он вбежал в комнату Пьера, и что же он увидел: в кровати, неодетый, сидит Петр Николаевич Орлов в одних носках и туфлях, и собирается поверх всего этого натянуть штаны, да еще и навыворот, обшлагами кверху. Как только он увидел Ребмана, то сказал в полусне:
– Месье, я не знаю эти одевать!
Ребман невольно рассмеялся:
– Это еще что за неведомый мне доселе немецкий?
Тогда Пьер уже по-французски:
– Авэк вотр альман! Как же я ненавижу этот язык! И немцев!
На это Ребман:
– Подобные вещи в этом доме нельзя себе позволять, еще госпожа директорша услышит.
И тут Пьер с таким лицом, которого Ребман еще у него никогда не видел:
– Чего она ждет, что же мне делать?
И тут он разрыдался, как маленький ребенок:
– О, как же я ненавижу этот дом! Почему меня здесь заперли? Я ведь не такой, как Николя!
И когда он это говорил, Ребману все стало ясно: бедному мальчику ночью показалось, что его здесь заперли, как его братика когда-то в Батуме.
– Да нет же, что это вы придумали, вас ведь никто не запирал, – успокаивал Пьера Ребман. На это мальчик, почти в отчаянии:
– Маман нэ мэм па. Нет, она меня совсем не любит. Она любит только месье Эмиля, вот кого она любит! И они не хотят, чтобы я их видел вместе!
Тут все выплеснулось наружу: мальчик все знает! И Ребман в одно мгновение осознал: мальчику сейчас нужен отец, опытный, зрелый мужчина, а я что, сам еще наполовину мальчишка…
Кажется, что и госпожа директорша заметила, что с Пьером что-то не так, и, по своему обыкновению, тут же нашла решение проблемы. За обедом она объявила, что отныне дважды в неделю вечером в дом будет приходить учитель танцев, она его уже пригласила, ведь нужно иногда и какое-то разнообразие. На эти вечера она пригласила своих знакомых, разумеется, лучших людей Кисловодска, всех с сыновьями и дочерьми, так что общество будет самое благородное. И потом она сказала – таким тоном, как сообщают, что где-то оставили галоши и при всем желании не припомнят, где именно:
– Месье тоже может участвовать, так он скорее выучит русский!
Погода – имеется в виду та, что на улице – все такая же хорошая, тепло, стоит бабье лето – Галлусово летечко по-нашему[17]. По утрам, правда, уже появляется иней, но, когда поднимается солнце, он исчезает. А оно поднимается, кавказское солнце, с такой же определенностью, как само наступление дня, и раскрашивает небо такою синевой, что прекраснее и не вообразить.
Ребман закрывает тетрадь и книгу – он действительно учит русский, очень прилежно, прислушиваясь внимательно к произношению Пьера, – берет свое курево, и скорее из дому: «майдам» – так он прозвал хозяйку – совсем не нужно видеть, что он отправился на прогулку. Но она его все-таки заметила, эта директорша; она стоит на заднем крыльце и смотрит ему вслед; и главное ее желание, чтобы господин гувернер не чувствовал себя столь раскованно.
Сначала он спустился в Курортный парк, прошел мимо крытого павильона с залом для принятия минеральных вод, прошел за Подкумок[18] и оказался в старом татарском квартале. Здесь, кажется, не очень любят, когда чужие приходят; женщины – под черной паранжой! – сразу исчезают, мужчин вообще нигде не видно, а дети смотрят на тебя как, если бы ты был настоящим людоедом. Но сам городок действительно очень интересен, тем более для того, кто ничего подобного раньше не видел: каждый дом, как крепость, да еще громоздятся один на другом; улицы узкие, крутые и очень замусоренные, как пересохший ручей; окон вовсе нет; ворота и калитки плотно закрыты, чтобы никто, не дай Боже, не заглянул внутрь; и запах вокруг не из приятных.
Они живут еще в каменном веке, сказал Пьер, когда Ребман ему рассказал, и ему лучше прекратить свои посещения, ибо они и, правда, не любят незваных гостей, тем более иностранцев.
Ну Ребман и отправился вместо татарского предместья на гору, чтоб увидеть что-то новое. Еле поднялся, все время скользил по низкой, высохшей траве. И наверху ничего не видать, кроме голых холмов, один за другим, от Эльбруса никакого следа, даже в ясную осеннюю погоду с прекрасной видимостью.
С тех пор Ребман по утрам прогуливается по парку и доходит до вокзала, где локомотивы на круглых дисках разворачивают обратно, на Минеральные Воды.
Пьера никак не вытащить из дому. Он всегда находит отговорки, то уроков много, то пишет письма домой. На самом же деле он просто читает. В лучшем случае в воскресенье он может выйти, и то если его фрау директорша вытолкает, но только до города; там он усаживается на скамейке, смотрит перед собой и не говорит ни слова. Только однажды он спросил: а отчего, собственно, умерла ваша матушка, и долго ли ей пришлось страдать?
«И с чего это мальчик меня об этом расспрашивает?» – подумал Ребман. И почему мне запретили вручать ему письма из дому, и теперь это делает только фрау директорша?
Вскорости все прояснилось. Утром – директорша как раз ушла – прислуга принесла Ребману почту. Там было письмо на имя Петра Николаевича Орлова. И когда он его прочел – оно было из Барановичей – загадка была разгадана: мадам Орлова очевидно больна, это видно даже по ее почерку, словно письмо писала девяностолетняя старуха дрожащей рукою. А мальчик не хочет об этом говорить. Именно поэтому он спрашивал, отчего умерла матушка Ребмана; он боялся за жизнь своей матери. И поэтому он так подавлен.
Между тем начались уроки танцев. По вторникам и четвергам приходят учитель танцев с женой, которая Милочке, директорской дочке, преподает фортепиано. Они изучают с парой десятков молодых людей Милочкиного возраста основы бальных танцев. Как правило, это продолжается до полуночи, с перерывами на чай и сладости, и атмосфера при этом весьма веселая; директорша, как всегда, расписывает все в восторженном тоне, и даже господин директор время от времени приходит полюбоваться новыми успехами молодежи.
Так проходит пол зимы, собственно без зимней погоды, и не происходит ровным счетом ничего, кроме того что однажды во время воскресной прогулки Пьер спросил:
– Знаете, что сообщили в Барановичи?
– По какому поводу?
– А то, что мы, вы и я, во время прогулок больше говорим по-французски, чем по-немецки.
– Ну да, – вынужден признать Ребман не без упреков совести. Он этого вначале избегал, но после того случая утром, когда он понял, что мальчик был в отчаянии, он не хотел его мучить и стал ему отвечать и с ним говорить на том языке, который он с большим удовольствием слышит и лучше воспринимает.
– И что теперь?
– Ровным счетом ничего, rien du tout! Продолжаем в том же духе!
Но, кажется, Пьера это задело, он начал и дома говорить с Ребманом по-французски, иногда даже за столом. Сначала директорша сделала вид, что ничего не произошло. А когда все повторилось, она кисло-сладко заметила, что это даже очень хорошо, прекрасная практика для Милочки, которая слышит только школьный французский. Тут Ребман подмигнул Пьеру, который сидел напротив. Но тот сидел молча, словно он не может и до двух посчитать, и поедал свои фрикадели, что впервые появились на этом немецком столе – таапле, как говорит мадам.
Однажды за обедом директорша поинтересовалась, не получал ли Пьер сообщений из дома касательно каникул; она об этом написала уже две недели назад и до сих пор не получила ответа.
– Каникулы? – удивился Пьер.
– Ну да, рождественские каникулы, с середины декабря до середины января. Разве вы об этом не знаете?
Первая реакция Пьера была испуг, словно его отправляли в карцер за то, что он забыл об этом. Потом он овладел собой и сказал, что при такой хорошей погоде, которая здесь стоит, у него даже мыслей о Рождестве не возникало; обычно он всегда заранее ждал и радовался предстоящим веселым праздникам.
Да и Ребман изобразил на лице удивление, когда услышал слово «Рождество». Оно его поразило, словно выстрел, прогремевший вблизи: Рождество! Первое в его жизни Рождество на чужбине среди чужих людей, да еще именно здесь, в этом доме! – Аж мороз пошел по коже, и теперь от этой мысли ему не избавиться: как же я встречу это Рождество?
Загадка разрешилась неожиданно быстро и совсем иначе, чем он ожидал.
Однажды утром, точнее двадцать третьего декабря, в полдень, когда Пьер и Ребман вернулись с прогулки домой, – каникулы уже начались – у дома стоял извозчик. Видимо, кто-то только что высадился, он как раз деньги пересчитывал. Пьер галопом рванул от Ребмана:
– Это маман приехала!
Но в гостиной зале стояла не маман, там стоял Эмиль Маньин в меховой шубе, а рядом с ним кожаный чемодан.
Казалось, Пьер будет разочарован; но ничего подобного: он протягивает к Маньину обе руки:
– О месье Эмиль, как же я рад вашему приезду!
Вот как бедный мальчик обрадовался, увидев хоть кого-то из своих домашних.
Маньин извинился, что только теперь приехал и что не предупредил, но при всем желании это было невозможно.
– Э пуркуа па, почему же?
– Вы увидите сами, когда прибудете домой.
Мальчик больше не расспрашивает ни о чем, радость, его охватившая, на мгновение, казалось, покрыла все остальное.
Когда они уже поели и собрались наверх, Маньин сообщил:
– В Барановичах случился пожар.
– Пожар? – в один голос закричали Пьер и Ребман.
– Горела конюшня. Но как, словно от пороха занялась! Все запасы сена сгорели. И шесть лошадей пришлось застрелить. К счастью, подул верховой ветер, а то бы сгорело все имение…
– Как же это случилось?
– Пантелей, конюх, курил. Но наверняка мы ничего не знаем. И спрашивать теперь не у кого.
– Его взяли?
– Некого было брать, не посадишь же кучку пепла под арест. Он сгорел, как в крематории. Но теперь все снова в порядке, конюшню отстроили заново, купили новых лошадей; от происшедшего не заметишь и следа.
Он крепко затянулся. И, выпуская дым, как из облака, проговорил:
– Вот это была ночь! Ни капли воды, вся замерзла. А пламя, словно целый город горел. И лошади, которых застрелили одну за другой. Это просто чудо, что там не было много людей. Алер, Пьеро, са ва, как дела? Коля вам передает поклон, он обязательно навестит вас на праздники. Ну, а теперь скорее собирайтесь, в три часа мы выезжаем.
За всю дорогу Пьер не сказал ни слова. С закрытыми глазами и с лицом маленького ребенка, который радуется Рождеству и знает, что уже завтра родится Христос-младенец, он откинулся в кресле и делал вид, что спит.
Ребман тоже немногословен. Он все время думает о том, как же дальше будет с Кисловодском. И чем больше он думает, тем сильнее его внутреннее сопротивление всему, что он там пережил, сравнимое разве с пресыщением до тошноты.
Утром после бессонной ночи он сказал Маньину, что больше не поедет в Кисловодск, нет никакого смысла оставаться в этом доме. Да и Пьеру тоже, мальчик совсем пропадет, если его принуждать оставаться там надолго! Он еще хотел сказать, но не станет, в конце концов, решение принимает все равно не он.
Маньин только смеется:
– Вы шутите, судя по всему.
– Нет, – ответил ему Ребман по-французски – это очень серьезно!
– Me пуркуа? Неужели из-за этой женщины?
Маньин взял Ребмана за руку:
– Да ну ее, мы же не сложим оружие перед этой нижней юбкой, как бы ей этого не хотелось. Вы представляете все в неправильном свете. Эту дамочку надо взять лестью, тогда ее можно обвести вокруг пальца. Знаете что: оставайтесь-ка на несколько дней в Киеве. Когда вы снова окажетесь среди людей и пелена спадет с ваших глаз, приезжайте к нам в имение. Тогда ваша точка зрения изменится и вы сможете увидеть ситуацию иначе.
Глава 17
На вокзале в Киеве Ребман попрощался с Пьером и Маньином, взял сани и поехал в «Швейцарский Дом». Все вокруг в снегу. Когда они въезжали в город по большому мосту через Днепр, было видно, что река по всей своей огромной ширине уже замерзла, и по заснеженному льду проходят следы от саней, как по самой оживленной проезжей улице. Прохожие все в меховых шапках и с меховыми воротниками на пальто, даже офицеры и студенты, и школьники до самых маленьких. Ребман в фетровой шляпе и легкой накидке чувствует себя совсем отклонившимся от курса, даже как-то неловко.
– Разве у меня выросли ослиные уши или рога, что люди так глазеют, еще и вслед оборачиваются? – с этими словами он вошел в знакомую гостиную на Крещатике.
– И уши, и рога еще совсем незаметны, – шутит мадам Проскурина. – Но вы выглядите так, словно только что вернулись после летних каникул, с таким загорелым лицом и в такой легкой одежде.
– Так и есть, – смеется Ребман, – там, в Кисловодске, все ходят еще в одних рубахах.
– Ну, это и у нас можно, – отвечает мадам Проскурина, – по здешним меркам у нас теперь просто весна, майская погода. Если бы вы приехали на недельку раньше, то застали бы настоящую русскую зиму – у нас было двадцать пять градусов ниже нуля. Так что нам нынешние двенадцать нипочем!
– Пятнадцать, – поправил Ребман, – я видел там, на вокзале. Мне кажется, что холод ужасный.
– Да будет вам! Вы ведь скоро вернетесь в свои каникулы. Вы здесь останетесь на несколько дней?
Ребман ничего не ответил, все смотрел на украшенную к Рождеству елку. И только после долгой паузы очнулся:
– Насколько я останусь? А что, это так важно? Может так случиться, что я пробуду неделю или даже месяц.
– Месяц? Но Пьер ведь после каникул сразу должен вернуться в кисловодскую гимназию. Так нам сказал Маньин, он заезжал сюда перед тем, как ехать за вами. Вы, конечно, знаете о пожаре в Барановичах?
– Там и теперь горит, но только у меня под ногами, – ответил Ребман. – Но об этом поговорим позже, сначала мне нужно передохнуть, порадоваться, что вокруг другие лица и что можно говорить, как и что попало. Ах, как же это славно! Невозможно же изо дня в день слушать, как трубит боевой слон.
– Боевой слон?! Надеюсь, вы не Пьера имеете в виду?
– Нет, упаси Бог! С Пьером все благополучно, только из-за него я бы снова, возможно, вернулся бы в этот… Я вам после все расскажу. Однако я никогда и представить себе не мог, что свое первое Рождество на чужбине проведу, лежа в купе поезда и повесив нос от хандры. Ну а как вы тут? Все ли здоровы, как идут дела?
– Да, все здоровы, Слава Богу. А что касается дел, признаюсь, что такой мертвой зимы, как в этом году, у меня здесь еще никогда не было: свободных мест нет нигде, ни одного.
– Тоже скажете! Я думал, в конце года всегда появляются вакансии.
– Кто это вам такое сказал? У нас своя сезонность, как в любой отрасли.
Ребман почувствовал страх, когда понял положение. Но радость от того, что можно говорить на родном языке, что за каждым твоим шагом постоянно не следят и не записывают каждое твое слово, быстро развеяла мрачные мысли.
– Так я могу пока остаться?
– Конечно! Есть даже свободная комната.
Господин гувернер поморщился:
– Для моего кошелька это слишком шикарно, отдельная комната на Крещатике, а нельзя ли…
– Берите же, об оплате не стоит слишком беспокоиться! И это вам известно.
К обеду собралось все общество: мадам Монмари, как всегда заспанная, обе эльзаски, «красавица» Аннабель и, наконец, Штеттлер. Не было только девицы Титании, ей нужно было остаться в бюро.
– В бюро, на Святки?
– Да, она ведь на государственной службе, а там не всегда все так, как хотелось бы.
Когда они все сидели за столом, Ребман вдруг решил пошалить:
– О, лилия в поле! – это относилось, конечно же, к Аннабель.
Но мадам Проскурина осадила его:
– Будьте осторожны, как бы не пришлось потом раскаиваться, все колкости имеют свойство, словно бумеранг, возвращаться к тому, от кого они исходят.
Когда они поели, Штеттлер в шутку толкнул Ребмана в бок:
– Пойдем, прогуляемся немного, не убивать же нам вечер в этих «занимательных» беседах.
– Только возвращайтесь вовремя, – кричит им вслед мадам, – мы еще раз зажжем елку в честь возвращения «блудного сына», чтобы и он тоже ощутил, что наступило Рождество.
Когда они вышли на Крещатик, Штеттлер, оглядев товарища, заметил:
– Эй, да у тебя что, нет зимнего пальто?! В этих лохмотьях ты превратишься в ледышку раньше, чем успеешь сосчитать до пяти!
Сам Штеттлер одет в красивое пальто на ватине, с меховым воротником, в котором он выглядит как настоящий русский.
Ребман ответил полушутя-полусерьезно:
– Пальто на ватине, с меховым воротником, да еще и меховая шапка – все это для стариков! У меня с собой большой запас зноя.
– Что ж, посмотрим через полчаса!
И немного погодя, когда Штеттлер увидел покрасневший нос своего друга, он опять предложил:
– Пойдем, у меня есть совсем новая накидка. Возьмешь? Мне она не нужна.
Но Ребман отмахнулся, он не может носить чужие вещи – в случае с Маньином было другое дело, там он знал наверняка, что его костюм только что принесли из стирки. Он решил отказаться:
– Нет, спасибо, думаю, в этом нет необходимости.
– Ты что, сразу улетаешь обратно в теплые края? Как там все вообще складывалось? Рассказывай!
– Да, как раз об этом я и хотел с тобой поговорить.
– Что-нибудь не так? Они что, снова пытались?..
– Нет-нет, что касается семьи Орловых, то здесь все в порядке, они ко мне более чем хорошо относятся, более чем…
– Тем лучше, – буркнул Штеттлер. – В чем же тогда дело?
– Там, как в клетке, как в западне. Ты не можешь себе представить, каково это, когда не с кем поговорить по душам. И к тому же еще это ужасное чувство, когда за каждым твоим шагом, за каждым движением следят: невозможно вздохнуть без того, чтобы эта назойливая карга не шпионила за тобой и не докладывала обо всем в Барановичи.
– Так это же ей поручила мадам Орлова! Ясно, как день!
– Да что ты! У меня даже есть доказательства обратного: она как раз этого и не желает.
И он обстоятельно поведал историю с французским языком.
– Нет-нет, эта стерва всё делает по собственному почину, она от этого получает удовольствие. Может быть, она не любит швейцарцев? Я уже ничего не понимаю…
– Да где ж вас там поселили?
Ребман подробно объяснил коллеге всю ситуацию: и то, как Пьер страдает от того, что он должен находиться вдали от дома и от родных.
Штеттлер по обыкновению съязвил:
– Все они таковы, эти маменькины сынки, не выносят посторонних!
Но Ребман берет своего воспитанника под защиту:
– Не говори так! Мне самому пришлось пережить такое: я был не намного старше Пьера Орлова, когда лишился матери.
– Так он ее тоже лишился, и уже давно!
– Нет, он нет. Ты все видишь не по-доброму.
– Тем лучше, – отрезал Штеттлер тем тоном, к которому он всегда прибегал, когда не знал, что сказать. – И что ты собираешься делать? Ты уже сообщил о своем уходе Орловой?
– Нет, пока еще нет. Но я сказал Маньину, что больше не поеду в Кисловодск. Они собираются, насколько я понял, оставить мальчика там до окончания гимназии, то есть больше чем на пять лет! Только вообрази: похоронить себя в этой дыре на долгие годы и при этом постоянно подвергаться нападкам – нет уж, Danke für die Franke — не захочешь никаких денег! И тут все вроде бы ясно, хотя мне такое решение далось совсем не легко. Но куда мне податься, не имею понятия. Мадам Проскурина говорит, что теперь свободных мест нет вообще и что такой тяжелой для своего предприятия зимы она не припомнит.
– Так она говорит всегда, как только заметит, что кто-то хочет сменить место. Можешь быть уверен, что, если бы Маньин не привез ей вот такенного гуся на Рождество, она заговорила бы по-другому. У нее всегда есть места, стоит только захотеть. На крайний случай, даже у меня есть одно на примете здесь, в Киеве.
– Правда? Что-то приличное?
– Я же сказал, на крайний случай. Это у евреев.
– Держу пари, ты это нарочно сказал! Я думал, что ты их очень любишь.
– Не всех. Так вот, я бы на твоем месте давно бы ушел. Отпиши им, что тебе жалко до слез расставаться. Это же ни к чему – прозябать в такой глуши, да еще и у таких идиотов. Мы же хотим что-то повидать и пережить и тем расширить свой швейцарский кругозор – ты ведь за этим приехал, а не за тем, чтоб превратиться в няньку, не так ли? Так что меняй работу и поскорей. Это так же необходимо тебе, как принять ванну и надеть свежую сорочку. И как раз теперь представилась такая возможность. Ты отложил довольно, чтобы протянуть до весны?
– Из чего? Я еще и за первый месяц платы не получил, все как-то перебивался. А здесь, в большом городе того, что у меня есть, хватит едва ли на месяц.
– На первое время довольно с тебя, а там что-нибудь подвернется. Оставайся у нас, одной коровой в хлеву больше, одной меньше…
– И куда мне теперь деваться?
– Никуда, просто оставайся и все.
– Повиснуть на шее у мадам Проскуриной? Никогда в жизни!
– Ты совершенно ничем не отягощаешь мадам Проскурину, ты остановился в «Швейцарском Доме». Для того он и существует, чтоб помогать швейцарцам в трудную минуту. Мадам Проскурина не платит ни за что из своего кармана, существует комитет, а за ним стоит консул. Кстати, ты зарегистрировался в консульстве?
– Нет, я совсем забыл об этом.
– Тогда ступай немедленно. Это ничего не стоит, кроме прогулки да рукопожатия, но за тобой всегда будет кто-то стоять в случае чего.
– Да, кто-то! Чтобы содрать с меня военный налог!
Штеттлер смеется:
– Ты как ребенок! Этот налог ты давно заплатил. Как долго остается действительным твой паспорт? Покажи-ка!
Ребман достал паспорт, который у него всегда при себе:
– Вот тут черным по белому написано «действителен до 15-го апреля 1915 года». Ты военнообязанный?
– Конечно!
– Тогда ты получил отпуск на два года.
– Ну да.
– И за два года вперед заплатил военный налог. Наша конфедерация не так щедра, чтобы всех отпускать направо и налево. Ведь за все приходится платить. Так что можешь спокойно идти и поприветствовать консула: он надежный человек, вы друг другу понравитесь. А что до остального – я бы на твоем месте сразу бы написал в Барановичи, чтобы обе стороны знали, как обстоят на сегодня дела.
Когда они вернулись в Дом, Ребман спросил, словно извиняясь:
– А что, Мисс уже уехала из Киева?
Штеттлер погрозил ему пальцем:
– Будь осторожен, дружище: красивую женщину легко заполучить, но трудно удержать!
– Да будет тебе, я просто так спросил.
– А я просто так поговорку вспомнил. Она хоть и стара, а все же лучше не скажешь.
Вечером действительно еще раз зажгли елку, и в «Доме» снова празднуют Рождество, на этот раз на русский манер, с играми и танцами. Между тем прибыло еще несколько новых швейцарцев, один – из франкоязычной Романдии, совсем молодой, еще моложе Ребмана, но уже с огромной лысиной. Когда смотришь на него сзади, можно подумать, что видишь перед собой тирольское колено. Зато брови у него, словно сивые заросли в джунглях. А голос – как у недозрелого подростка. Несмотря на это, кажется, он все равно имеет успех у дам этого «Дома». Только и слышно со всех сторон: «Месье Жеральд, месье Жеральд! «Он потрясающе подходит на роль паяца. И даже может спеть «длоо котэээ дла рюоооо жаве юно фье…» И прочий сентиментальный вздор.
– Мог бы в театре выступать, – подметил Ребман.
– Можешь брать с него пример и поучиться тому, как понравиться женщинам.
– Ну, не все же такие, а то было бы так грустно…
– Не все, только двенадцать из дюжины, а тринадцатую зовут Аннабель. Ты еще не все в этом понял. Женщины хотят, чтобы их развлекали, они хотят смеяться. Просто так сидеть с умным лицом они не желают. Я тебе верно говорю, паяц – именно то, что им нужно.
Тут все снова завертелось: Королю Джунглей аплодируют все вокруг, за исключением насмешника Штеттлера:
– О, как же он возвышен и одухотворен, этот красавец Жеральд!
Однако мадам Монмари тут же его осадила:
– Если бы и вы могли, как он! А то от вашего «духа» всех уже давно тошнит, вы брюзга и ворчун, вот вы кто! Если бы из вас выжать уксус, то хватило бы на всех! Пришлось бы позакрывать все уксусные фабрики!
Затем все снова танцуют. Ребман – с ирландкой, ее зовут Шейла. Она сделала ему комплимент, что он ловкий танцор, наверное, на Кавказе у него была большая практика в этом деле!
– Да уж, – отвечал он, – и поведал ей о жизни в Кисловодске, и как тяжело было мальчику, то есть Пьеру, вдали от дома и близких.
– Poor kid, бедный ребенок, – сочувствует она. – А в остальном они, кажется, милые люди, эти Орловы. Только Мэньин (она так и произнесла «Мэньин» с ударением на «э») ей не нравится.
– А что, разве вы его знаете? – удивился Ребман.
– Who doesn’t? Кто же его не знает! – ответила она, и по ее тону Ребман понял, что между ними что-то произошло, но не стал расспрашивать, а просто извинился за свой школьный английский.
На это она удивленно подняла брови: видимо, он ищет комплиментов? Ей бы хотелось так хорошо говорить по-французски, как он говорит по-английски.
– En-g-lish, – так она произнесла, и острое ухо Ребмана тут же среагировало и заставило его спросить, было ли это сказано по-ирландски или по-английски.
– Kings En-g-lish it is. Это королевский английский. По-ирландски мы говорим только дома.
– А что, эти языки такие разные?
Она ничего не ответила. Только когда танец закончился и они снова сели, она сказала, что отличия есть. Но ей бы не хотелось продолжать этот разговор.
На следующий день Ребман написал в Барановичи, на имя Маньина. Он сообщал, что обдумал положение в спокойной обстановке и принял решение не возвращаться в Кисловодск – причины он подробно изложил в их беседе в поезде. Он просит его извинить, это решение далось очень нелегко, но при всем желании он не может вернуться в директорский дом. Он сердечно приветствует всех, особенно Пьера, желает ему счастья и здоровья. А также покорно благодарит мадам Орлову за доброе к нему отношение, этого он никогда не забудет. В конце он еще делает приписку, NB, по-французски с просьбой обнять от его имени Татьяну Петровну.
Когда письмо уже исчезло в почтовом ящике, Ребмана охватило то же чувство, которое он испытал в Рандентале перед зданием школы, когда написал заявление об уходе. Им овладело чувство стыда и раскаяния, охотнее всего он сейчас же забрал бы письмо назад. Но было уже поздно.
Он вернулся в дом и объявил мадам Проскуриной, что только что уволился.
Она была в ужасе:
– Скажите, что это не всерьез, ничего глупее не придумаешь!
– Это вполне серьезно, я только что опустил письмо об отставке в почтовый ящик.
– Ни словом не предупредив меня об этом? Такого я от вас не ожидала! Сначала можно было с ними поговорить!
– Я сам хотел так поступить, но потом побоялся, что вы станете меня отговаривать.
– И стала бы, конечно, стала бы! От места никогда без нужды не отказываются, тем более, не имея видов на новое. По одежке протягивай ножки, вот как говорят! Если бы у вас было хоть немного ума, вы бы потерпели, хотя бы пока выучите, как следует русский язык. С рекомендацией от мадам Орловой вы бы через два года без труда устроились на испытательный срок в одну из киевских гимназий, а потом сдали бы экзамены. Это нетрудно, ибо в вашем случае это был бы немецкий язык, а экзаменатором был бы один из ваших коллег, с которым вы к тому времени успели бы подружиться. Стали бы уважаемым и обеспеченным на всю жизнь человеком.
– Тем лучше, что я об этом ничего не знал, – парировал Ребман. – Это бы еще более усложнило и без того трудное для меня решение. Но я бы уволился в любом случае. Я не хочу пять лет кряду просидеть в Кисловодске, мне и трех месяцев вполне хватило.
И он рассказал всю историю без прикрас. И о том, как Пьер страдал там, в этом логове дракона.
– Я думаю, вам следовало бы остаться, особенно теперь, когда вы ему так нужны. Он к вам привык и даже успел полюбить. Этим ударом вы его совсем добьете! Вы всегда так уклоняетесь от ответственности, отходя в сторону? Лучше сразу признайте это, прежде чем я порекомендую вас кому-либо еще!
Она вся раскраснелась, кровь ударила ей в голову:
– Мне теперь кажется, что эта «ужасная» директорша знала, что делает, когда она вас так муштровала. Вот и мне бы так же! А то я вам все соломки подстилала. Поделом же вам! Неужели вы за лето заработали столько, что уже можете сами себя содержать, отказавшись от службы?
Если бы Ребман заблаговременно не поговорил со Штеттлером, он бы не на шутку испугался. Но верный товарищ его подготовил: «Она устроит небольшую сцену, намылит тебе шею, станет утверждать, что так еще с нею никто не поступал: безответственно, неучтиво и тому подобное. Не дай себя запутать! Все меняют места работы, как рубашки, и мадам Проскурина об этом знает не хуже нас с тобой. Делай, как я тебе говорю, она скоро успокоится и позаботится о новом месте, можешь быть в этом уверен».
Ребман отвечал:
– Нет, для того, чтобы оставить службу, пока еще не хватает. Но ведь с какой-нибудь стороны хоть какая-то дверь непременно приоткроется!
– Да, но смотря когда и смотря какая дверь. Вы еще будете счастливы, если это будет дверь на директорской вилле в Кисловодске, которой вы так недальновидно за собой хлопнули. Во всяком случае, с этого момента я и пальцем не пошевелю, чтобы вас пристроить. Сами заварили кашу – сами и расхлебывайте!
С этими словами она повернулась к Ребману спиной и вышла в соседнюю комнату, где уже давно звонил телефон. Возвратилась назад, бледная, как полотно. Села на стул. Подперла голову рукой. Не говорит ни слова. «Что могло произойти? В таком состоянии я ее еще не видел», – подумал Ребман. И тут мадам Проскурина заговорила:
– Мадам Орлова умерла. А Пьер застрелил Маньина!
Ребман вскочил со стула:
– Что вы такое говорите?
– Звонила княгиня, она была подругой мадам Орловой.
– Но как же…
– Не спрашивайте меня ни о чем, я больше ничего не знаю! – в отчаянии прокричала маленькая женщина.
На следующий день уже во всех газетах можно было прочесть: «В первый день по Рождестве четырнадцатилетний Пьер Орлов в имении своей матери Барановичи Малинскаго уезда застрелил своего бывшего гувернера, швейцарца Эмиля Маньина».
А вечером в «Швейцарском Доме» появился Полковник из Барановичей. И тогда все узнали, что же произошло. Рождество в имении отпраздновали как обычно, и Маньин уже тогда достаточно выпил. Затем вечером отправился в Малин и вернулся домой под утро мертвецки пьяным. Своим криком он разбудил весь дом, устроив мадам Орловой страшный скандал за то, что она его отправила проспаться. Он был совершенно невменяем. Мадам Орлова так разнервничалась, что с ней случился сердечный приступ, она ведь уже давно была сердечницей, и стала ею не без участия Маньина! Хотели послать за доктором, но Маньин не позволил никому выйти из дому – даже мне, старику, грозил кулаком. Тут все и произошло.
– А Пьер, где он теперь?
– Его забрали.
– Арестовали?!
Полковник кивнул. Помолчав, добавил:
– Я должен признаться, был им восхищен: точь-в-точь как его отец, то же спокойствие, та же выдержка!
– Он сознался?
– Только сказал: «Il a tue та теге. Mais je suis quand-meme coupable! (Он мучил мою мать. Но я все же виновен!)» После этого заявления от него не смогли добиться ни слова.
– К нему пускают?
– Только адвоката. Но он с ним не говорит: сидит молча, смотрит в одну точку, как потерявший рассудок человек. Вас, господин Ребман, вызовут как свидетеля, вы ведь один из немногих, кто хоть что-то знает…
Глава 18
Это страшное известие глубоко поразило Ребмана. Мысль о том, что, если бы он поехал с Пьером в Барановичи, ничего бы не произошло, не покидала его ни днем, ни ночью.
И ко всему еще остался без работы!
А в довершение всего его начала страшно мучить тоска по дому, по родине – в подобных обстоятельствах все особенно подвержены этой болезни: все вокруг чужое, враждебное, неизвестно, что будет дальше, – все это угнетает и парализует. Словно кто-то остановил его внутренний двигатель, и Ребман стал остывать изнутри.
И никого, с кем можно было бы поговорить обо всем этом, все уклоняются. Вот и Штеттлер, единственный, кто мог бы дать дельный совет, пропал бесследно, и никто не знает, где он и когда объявится снова.
От тоски Ребман стал бегать среди бела дня в кино, там хоть на несколько часов можно было позабыть об этом кошмаре. Но только в маленькие кинотеатры, самые дешевые, где его никто не увидит, и где идут веселые фильмы с Максом Линдером и с Принсом, и где можно что-то понять, потому что они идут по-французски.
А что толку? После кино его голова становилась еще тяжелее.
И вот однажды, когда он так сидел и не знал, куда себя девать, мадам Проскурина завела разговор:
– Так отчаиваться тоже не нужно; жизнь продолжается. Это как после долгого сильного дождя: один солнечный день – и все выглядит по-другому.
Он спросил, действительно ли для него нет никакой вакансии, чтобы хотя бы уехать куда-нибудь, подальше от этих мыслей.
– Ничего, ни намека. Разве что вы захотите туда, куда Макар телят не гонял.
– И куда же именно?
– На озеро Байкал, в Сибирь!
– Если бы вы сказали «обратно в Ранденталь», я бы сразу согласился. И что, больше нигде ничего? – спрашивает он в который раз и смотрит в глаза этой маленькой седой женщине, так похожей на его покойную матушку. Ему кажется, что она все еще на него сердится и хочет его наказать.
Словно прочитав его мысли, она говорит:
– Хотите – верьте, хотите – нет, а такой безнадежной зимы, как эта, мне еще не приходилось переживать за все тридцать пять лет моего начальствования в «Доме». Кроме предложения из Сибири, ни одного запроса за весь декабрь. Но и этого места я не могу вам порекомендовать с чистой совестью, даже если бы это было не так далеко. Что ж, видно, у нас теперь черная полоса. Но скоро все переменится. Иногда, как снег на голову, обрушивается столько предложений, что и не знаешь, кому это все предлагать. А у вас крыша над головой пока есть, да и побираться вам не приходится.
Тут девушка принесла почту.
– Ну вот, кажется, что-то наклевывается, – говорит мадам, вытаскивая из пачки одно письмо.
Вскрывает его:
– Вы сможете давать уроки фортепиано? Да, конечно, сможете, там несмышленыши: сможете ведь показать, как играть гаммы. Вот и условились: вы пойдете и не станете дальше расспрашивать! Продержитесь до мая, а там начнется новый сезон и мы подыщем вам что-нибудь другое!
«Учитель фортепиано» Ребман до мая не продержался. Не прошло и двух месяцев, как он снова стоял у дверей Дома не Крещатике.
– Ну что, с искусством покончено? – насмешливо поинтересовалась мадам Проскурина.
– Да, у меня этим «деткам» уже нечему учиться.
– Что, правда, finita la commedia?
Ребман кивнул. Именно с этими словами мадам Калитаева вчера вечером вручила ему сторублевку: «Фини! Но, – и она поднял палец, – мы ведь писали, что нам требуется учитель фор-те-пиа-но! – который владеет этим инструментом».
Мадам Проскурина торопится сгладить острые углы:
– Ну а в остальном, как там все было? Я имею в виду местность, конечно.
– Просто нечего рассказать. Полустанок, домик не больше телефонной будки. В получасе езды – сахарный завод. А вокруг, куда ни глянь, поля кормовой свеклы. И леса, конечно. Но люди милые, особенно «детки». Поняв, каков мой пианистический уровень, они мне просто играли и просили сказать, как я нахожу их исполнение: это важно, потому что они весной собираются поступать в консерваторию.
Как только он это сказал, с улицы донесся трезвон, и даже через двойные стекла окон были слышны крики:
– Пожарные! Пожарные!
– Где-то горит, – Ребман надел шляпу и побежал вниз.
Там на бульваре толпа народу тоже пришла в движение.
Ребман спросил, где горит.
– Горит? Нигде не горит. Нет, это Днепр горит! – смеется над ним прохожий. Потом он обернулся, смекнул, что перед ним «немец», и объяснил:
– Ледоход, господин хороший, это ли-да-хот!
Ребман, думая, что так называется место, где случился пожар, бежит дальше, уже в огромной толпе. И всю дорогу только и слышит со всех сторон:
– Ледоход! Ли-да-хо-от!
Только когда они прибежали на Владимирскую горку, он, наконец, увидал, в чем дело: там внизу, где еще вчера по Днепру проходила широкая «улица», все пришло в движение. Казалось, оттаяла сразу вся земля у берегов, и река рвется к морю: вода, вода везде, грязно-желтая вода повсюду. Огромные льдины, словно белые медведи, восстают друг на друга. Кучи мусора. Стога сена и соломы. Целые крестьянские хаты. Все несется, в давке пробиваясь вперед, словно стремясь придти первым и одержать победу в этой стихийной гонке. Даже здесь, на самом верху холма, слышны скрежет, и треск, и грохот. К откосу, полностью забаррикадированному льдинами, бегут пожарные и военные. Там, среди разбушевавшейся воды, они заметили человека в санях и запряженную лошадь, которых несло к откосу.
– Какая непростительная беспечность! Ведь было же предупреждение! – обратился к Ребману стоящий рядом мужчина и перекрестился. Все другие зрители тоже крестятся и, затаив дыхание, следят за страшным спектаклем, разыгрывающимся на их глазах.
– Пропадет! – слышен чей-то голос, – Господи, Боже ты мой!
А Ребман про себя думает: вот здесь видно, каковы эти русские: будут так стоять, креститься, говорить «Господи, Боже мой». Нет того, чтобы хоть что-то предпринять. Наверняка никто не выйдет и не бросит бедняге веревку. Он еще не успел додумать эту мысль до конца, как по толпе пробежала волна: все вдруг увидели мужчину в форме пожарного, скользящего по ледяному барьеру и балансирующего, словно канатоходец, при прыжках со льдины на льдину. В руках у него шест, и он тащит за собой настоящий канат. Скоро он поравнялся с санями. С горы видно, с какой силой бушует внизу вода, как широк несущийся поток: с того места, где стоят наблюдатели, пожарник кажется совсем крошечным. Все затихли, никто не произносит ни слова, только видно, как в молитве шевелятся губы у осеняющих себя крестным знамением людей. Снизу слышны крики: то стоящих на берегу, то пожарного на реке. И ржание лошади. Только человек в санях не издает ни звука: он стоит, выпрямившись, с непокрытой головой, глядя прямо перед собой, словно видя цель, и беспрерывно крестится.
Пожарный преодолел уже две трети пути, канат становится все длиннее и длиннее: он раскручивается от катушки, прикрепленной к красному пожарному грузовику.
Теперь спасение на расстоянии броска веревки от саней. Смельчак торопится выбрать канат, который кольцами укладывается у его ног. Потом он что-то кричит человеку в санях: теперь они плывут параллельно друг другу.
Но человек в санях не отзывается. Он стоит и, словно окаменевший, смотрит вперед и крестится.
Тогда с берега все начинают кричать, свистеть и даже звонить в пожарный колокол.
Наконец, спасатель бросает канат.
Раздается крик.
При броске льдина перевернулась – пожарник исчез. Видно только шлем, блеснувший на поверхности воды – и больше ничего. А сани и прямая фигура, на них стоящая, продолжают медленно спускаться вниз по течению реки.
Когда Ребман вернулся домой, там его ожидало письмо: вызов в качестве свидетеля на судебный процесс по делу Петра Орлова. В Малин, стало быть. Его доставил сам Полковник, он хотел переговорить лично с Ребманом.
– Так что он еще вернется, – сообщила мадам Проскурина.
Ребман уже давно думал, что он станет говорить, если его вызовут в качестве свидетеля.
Собственно говоря, он знал только то, о чем догадывался из разговоров с Пьером и Штеттлером – последнему он никогда не верил до конца. К тому же, Маньин был его соотечественником и по отношению к нему лично был всегда мил. Не стоит ли задаться вопросом: а не развратила ли его жизнь среди господ, ведь происхождения он был весьма скромного.
– Это тоже надо учитывать, сказал Ребман Полковнику, когда тот вечером снова пришел в «Дом». Но старик придерживался на этот счет иного мнения:
– Теперь мы должны помочь тому, кто в полном одиночестве несет всю тяжесть последствий случившегося несчастья. Подумайте об этом! Наша обязанность – помочь тому, у кого еще вся жизнь впереди, а не думать о репутации умерших! Поверьте, Маньин не заслужил нашего сочувствия, правда, не заслужил. Он получил по заслугам!
Утверждение Полковника, что по делу Пьера почти не было свидетелей, не соответствовало действительности. Когда Ребман пришел в здание суда уездного города Малина, там собралась половина населения Барановичей. В ходе разбирательства от городских свидетелей о Маньине стало известно такое, что и поверить трудно. Годами он третировал «добрую барыню» (все так и говорили «добрая барыня») и использовал ее, так что было жалко смотреть на это со стороны. Все свидетели до одного были на стороне Петра Николаевича!
Татьяна Петровна тоже была здесь. Она сидела на скамье в заднем ряду у прохода и плакала. Ребман сразу подошел к ней и обнял. Затем тоже сел рядом.
Потом ему пришлось целую вечность прождать в темной и душной каморке в здании суда.
Вызвали его на девять часов. В три часа пополудни он услышал свое имя, и полицейский провел его в залу судебных заседаний и поставил прямо перед судьей. Но в первый момент Ребман даже не взглянул на господ, от которых зависела судьба его воспитанника: первое, что он увидел, был револьвер на столе перед возвышением. Оружие лежало посередине стола, и Ребман узнал его с первого взгляда: это то самое, которое он должен был иметь при себе во время прогулок с Пьером по Пятигорску. Он вспомнил и о том, что на его вопрос, умеет ли мальчик стрелять, тот ответил, что не хотел бы быть на месте того, кто встанет Пьеру Орлову поперек дороги!
Теперь мальчик сидит справа на скамейке, всего в двух шагах от Ребмана, прикрыв глаза рукой.
Настал черед Ребмана.
Председатель суда листает дело. Когда он нашел то, что искал, он попросил Ребмана представиться, назвать фамилию, имя и отчество, происхождение, место и время рождения. Все это следует указать ясно, точно и без ошибок.
Ребман ответил. По-русски. Тогда председатель спросил, не удобнее ли ему будет, если вопросы будут задаваться на другом языке? Он спросил об этом в весьма вежливой форме.
– Да, – ответил Ребман, – так будет лучше.
Он поступил так, чтобы избежать опасности, что его показания будут не столь точны, как того требует данное дело.
Председатель сделал знак полицейскому. Тот вышел из зала и вернулся в сопровождении молодого человека. Его попросили занять место на стуле перед судом. Ребмана тоже попросили сесть. Теперь вопросы задают через переводчика по-немецки. И он на все отвечает так, как они условились с Полковником.
– Знали ли вы господина Эмиля Маньина?
– Да, я знал его. С того момента, как я приехал из Швейцарии в Барановичи, прошел уже почти год. В тот день господин Маньин меня встретил и за обедом представил мадам Орловой, полковнику Куликовскому, Татьяне Петровне и Пьеру.
– До этого вы его не знали?
– Только по имени. Мадам Проскурина, начальница «Швейцарского Дома» в Киеве, мне говорила, что он – бывший гувернер Пьера Орлова, а теперь управляющий имением.
– Вы ничего не знали о его семье, о том, что его отец пьяница?
– Нет, я этого не знал, и слышу об этом впервые.
– А то, что он сам пил, этого вы не наблюдали?
– Да. Но только изредка.
– Когда это было и где? Расскажите.
Ребман изложил все, как было тогда в Пятигорске в трактире у Печникова. Только о двух «черкешенках» он умолчал.
– А вы что же, не пили?
– Только глоток, я не переношу…
– Хорошо, хорошо. В каких отношениях были Пьер Орлов и Эмиль Маньин, какими они вам показались?
Ребман изложил все по порядку: как он поначалу с пиететом относился к Маньину – из-за его положения и потому что его все любили, за исключением Пьера, как ему показалось. Как он вдруг стал резким, когда Пьер во время похода…
– Какого похода и куда?
– Мы должны были ходить с Пьером пешком, по жаре, после обеда, и до шести вечера нам нельзя было возвращаться домой.
– Кто отдал такой приказ?
– Господин Маньин.
– И что же?
– Во время такой прогулки – а стояла страшная жара – Пьер сказал, что если бы встретил этого Маньина там, в роще у памятника Лермонтову, то состоялась бы еще одна дуэль, и управляющему пришлось бы тоже поставить надгробие, но не такое красивое, как лермонтовское.
После этого адвокат сделал ему предупреждение о том, что ему не следует этого говорить, так как суд может из этих слов заключить, что это убийство было спланировано заранее. Председатель, и правда, что-то написал карандашом на листке бумаги и передал своему соседу. Тот прочел и согласно кивнул.
Далее Ребман рассказал, как мальчик страдал из-за того, что так долго находился вдали от дома.
– Это действительно было по нему заметно?
– Поначалу нет: мы ведь думали, что останемся только на каникулы и потом вернемся в Барановичи. Когда же Пьеру пришлось идти в гимназию в Кисловодске, там уже это стало заметно, хотя мальчик старался не показывать своего состояния.
– На каком же основании вы это утверждаете?
– На том, что он меня все время расспрашивал о моем детстве и особенно о моей матери.
– И что вы из этого заключили?
– Что он был очень привязан к своей матери!
Ребман посмотрел в сторону подсудимого, который все так же сидел, прижав ладони к глазам, ничем себя не обнаруживая.
– Говорите же, нам нужно знать все, это крайне важно!
– Да, но я боюсь причинить Пьеру боль…
– Он перенес уже столько, что это обстоятельство ничего не изменит. Так что говорите.
И Ребман рассказал о том утре, когда Пьер не хотел вставать, был совершенно потерян и в конце концов выдал свое отчаяние…
– Говорите же, чем именно, это важно!
– «Мама меня не любит, она любит месье Эмиля», – сказал Пьер по-французски.
– Так и сказал?
– Да, именно в тех словах, которые я привел.
– А вы тоже полагаете, что мать не любила своего сына? Наблюдали ли вы что-либо в этом смысле?
– Нет, нет, никогда я в это не верил. Об этом не может быть и речи, она не раз мне говорила об обратном.
– А именно?
– Что она беспокоится о здоровье Пьера. Я также сужу по тому, как она вообще относилась к сыну. Такое сразу замечаешь, у меня ведь тоже была мать. Нет, это невозможно – мадам Орлова с такой нежностью и заботой относилась к своему…
После этих слов раздался грохот. С Пьером случился обморок.
Заседание прервали.
Когда оно возобновилось, уже зажгли лампы.
Председатель попросил Ребмана продолжить свой рассказ. Что еще он наблюдал?
– Что Пьер боялся за свою мать.
– Как вы это заметили?
– Он меня однажды спросил, отчего умерла моя мать и долго ли ей пришлось страдать.
– И почему вы решили, что он при этом думал о своей матери, то есть о мадам Орловой?
– Потому что он об этом никогда не говорил. Только после того письма, которое пришло из дому и в котором…
– Вы читали его письма?
– Только адрес. Девушка приносила мне почту, и я помню, как в тот раз был шокирован изменением в почерке мадам: как будто писала старуха.
– Пьер Орлов как-то отреагировал на это?
– Нет, он никогда не говорил о своей корреспонденции. Но каждый раз передавал привет по-французски: маман вас приветствует, vous salue.
– Какие отношения были между вами и мадам Орловой?
– Мадам Орлова относилась ко мне, как мать.
– Не было ли между вами разногласий, перемены в отношениях, споров? Я обращаю ваше внимание на то, что вы имеете право не отвечать, если не желаете.
– В таком случае, я лучше не стану отвечать. Однажды кое-что между нами произошло, но это не имеет отношения к данному процессу.
Председатель шепотом переговорил со своим соседом. Потом кивнул в сторону Ребмана.
– Хорошо, вы можете идти. Но подождите за дверью на тот случай, если вы еще понадобитесь.
Он больше не понадобился. Несколько других свидетелей вызывали повторно. Потом объявили, что заседание закрыто. И вскоре вывели Пьера Орлова, очень быстро, из одной двери в другую.
Это был последний раз, когда Ребман видел своего воспитанника.
Допрос свидетелей на этом закончился, и вскоре можно было прочесть в газетах, что Пьера Орлова освободили: государственный защитник сам об этом ходатайствовал, и теперь мальчик уехал с родственниками за границу.
Но весточку от Пьера Ребман все же получил. Через несколько недель пришло письмо из Рима, и по почерку Ребман сразу узнал, от кого оно. В письме Пьер Орлов благодарил своего бывшего гувернера за то, что тот всегда его поддерживал, как бы ни складывались обстоятельства. Ему было очень трудно принять оправдательный приговор. Он желал бы обратного: «Ведь я убил человека и виновен – и всю свою жизнь буду чувствовать себя виновным в убийстве!»
О том, что Ребман после Кисловодска бросил его, – ни слова.
Глава 19
Снова наступила весна, русская весна, наступила сразу, за одну ночь. Петер Ребман не был бы нормальным молодым человеком, если бы он этого не почувствовал, особенно после такой тяжелой зимы. И пускай у него не осталось ни гроша и он снова попал в долговую книгу мадам Проскуриной, он все же не голодает, и небо над головой совершенно чистое, прозрачно-голубое, так что мрачное настроение к нему больше не возвращается. Начальница «Дома» просила еще немного потерпеть: у нее такое предчувствие, что предложения работы вот-вот прольются на них обильным весенним дождем.
В воскресенье утром к чаю, как всегда, приходит Шейла. Когда выпили чай, она сказала, что теперь не скоро сможет появиться в «Доме», потому что она завтра уезжает с господами в деревню.
– Уже? – удивилась мадам Монмари, – еще ведь не время дачного сезона!
– Это ведь не я решаю, – ответила Шейла, – к тому же, они едут в имение, а не на дачу. Судя по донесениям, там все уже зазеленело.
– И куда же именно вы направляетесь?
– Пароходом вниз по Днепру, два дня пути. А потом еще несколько часов езды, имение недалеко от реки. Может быть, прогуляемся?
– Вы меня имеете в виду?
– Ну а кого же еще, вы у нас теперь единственный кавалер.
«Ах, только поэтому», – думает Ребман, и, конечно же, соглашается, даже с огромным удовольствием.
Они спускаются вниз по Крещатику к памятнику императору Александру, затем через Купеческий Сад поднимаются на Владимирскую горку. Там они присели на скамейке, и Ребман рассказал своей спутнице о трагическом спектакле, который он наблюдал отсюда несколько недель назад:
– Там, где сейчас плывет пароход, тогда перевернулась льдина! На совести Днепра уже не одна человеческая жизнь.
– И многие несбывшиеся надежды! – добавила Шейла шутливым тоном.
Ребман смотрит на нее со стороны. Только раз в жизни, еще мальчиком, видел он подобную этой девушке красавицу: то была тетя Жени, что однажды приезжала к маме на каникулы, но вскоре умерла от малокровия. Она тоже была, как Шейла – и не выскажешь, какой она была. О, если бы мне позволили погладить это лицо, только погладить!
Пока он так думал, она спросила, помнит ли он, как расспрашивал ее однажды в «Доме»?
– О чем, о влюбленных? Да! Я даже помню, что вы мне ответили: что вы еще никогда не были влюблены.
– А сейчас влюблена!
Тон, которым она это сказала, означал что-то вроде: вот теперь ты это услышал, так что можешь зря не стараться!
Да он уже давно знает! Наверное, это тот самый благородный господин, который однажды за ней приходил и о котором говорили, что он tres-tres riche[19]. Но теперь, когда он это услышал от нее самой, у него по телу словно разлился плавящийся лед: только теперь он почувствовал, как же она ему нравится.
– О! Как же это, наверное, прекрасно! – только и смог он из себя выдавить.
Шейла посмотрела на него так, будто он спросил, больно ли это, когда у тебя сердечный спазм:
– Я не знаю.
И после паузы, видя, что Ребман ничего не говорит, она добавила:
– У меня такое чувство, что мы больше никогда не увидим друг друга.
И не дождавшись ответа, попросила:
– Не сможете ли вы доставить мне радость и придти сюда завтра, чтобы помахать мне на прощанье. Пароход отплывает в полдень.
– Непременно, с удовольствием! – ответил Ребман.
– Ну что, пойдемте? Становится холодно.
Дни после отъезда Шейлы стали для Ребмана самыми ужасными из всех, что ему пришлось пережить в России. В нем проснулась настоящее чувство, любовь мужчины к женщине. И проснулась эта любовь с такою же силою, как днепровские воды от ледохода. И была так же безжалостна. Он чувствовал себя тем человеком в санях, которого несло течением и которому никто уже не мог помочь.
Он не пошел помахать ей на прощанье с Владимирской горки, только вышел на улицу и сразу же возвратился к себе:
«Я не могу, просто не могу! Когда другой стоит с нею рядом! И это последний раз, когда я ее вижу. Она ведь сама сказала, что мы больше не свидимся. Быть может, она скоро выйдет замуж».
Неделю он ни с кем не разговаривал. Однажды после ужина он вышел на улицу. Просто не мог оставаться в «Доме» и слушать эту пустую болтовню. «Они еще чего доброго начнут любопытствовать, что со мной происходит».
Штеттлер тоже вышел за ним. Прежний товарищ объявился снова: ему нужно было, как он выразился, несколько недель побыть в тени, чтобы умерить свой революционный пыл. Мадам Проскурина, как всегда, права: он так и не научился держать язык за зубами.
На дворе тепло, настоящая весна, ею пахнет везде, на каждом шагу, даже в домах. Они идут привычной дорогой, словно просто вышли за покупками. Минуют табачный киоск, где Ребман впервые демонстрировал свои познания в русском языке, памятник Столыпину… Если бы у Ребмана не было так тяжело на душе, он бы сейчас посмеялся своему воспоминанию о том, как он, проходя здесь в жуткий холод, подумал, что мало удовольствия стоять на постаменте в любую погоду, да еще после того, как тебя застрелили!
Однако сегодня ему не до Столыпина: он думает только о той, которую унесли от него днепровские воды, прибойной волной разбив ему сердце. Он может сколько угодно пытаться думать о чем-нибудь другом, но эта давящая боль с левой стороны груди не стихает ни на миг. Когда-то он читал, что от любви можно испытывать острую физическую боль. Известно же выражение «болит сердце». Но никогда прежде он сам не испытывал этой боли. «А что если я совершил ошибку, не послав ей прощальный привет с этой кручи? Ведь она просила об этом! Похоже, я поступил не по-рыцарски. Не ее вина, что ее сердце принадлежит другому. Но и я не властен над своим чувством!»
Он тяжело вздохнул. Потом вслух сказал самому себе:
– Все-таки хорошо, что я ей ни в чем не признался!
И через несколько шагов заговорил снова:
– Как же это неловко, когда признание готово сорваться с уст – и тут любимая объявляет, что отдана другому. Девушка с добрым сердцем, по крайней мере, пожалеет тебя или хоть разделит с тобой эту неловкость. Кажется, нужно было, несмотря ни на что, открыть ей своей сердце! Тогда она поняла бы меня и иногда вспоминала бы о том, кому некогда была так дорога. А мне это послужило бы лучшим утешением!
Тут отозвался Штеттлер, о котором Ребман совсем позабыл:
– Ты ей уже написал или все еще думаешь?
Ребман вздрогнул, его застигли врасплох:
– Написал ли я? Кому?
– Кому же еще? Думаешь, что все вокруг слепые и ничего не замечают?
Ребман поначалу не говорит ни слова. Только когда они дошли до памятника императору Александру, он наконец откликнулся:
– Зачем писать? У нее ведь есть…
– Да, конечно… Что ж, тогда я не скажу больше ни слова. Подумать только – самая красивая и смелая девушка из всех, что я знал! Мне ведь известны люди, которые бы многое отдали за то, чтобы только сходить с нею в синематограф. Эх ты! Я даже и вообразить не мог, что ты такой простофиля. Даже не напишешь?
Тут Ребман пришел в себя:
– Да я ни за что не поверю, что Шейла Макэлрой сделала меня своим избранником! Нет, я решительно отказываюсь верить! Почему именно я?
– Этого я тебе сказать не могу. Да она и сама, наверное, этого не знает. В таких случаях не бывает «почему»: просто так случилось – и все тут! О Боже мой!
– Но тогда зачем же она меня оттолкнула в тот вечер, когда я хотел ее пригласить в театр, и сказала, что занята?
– По одной простой и даже очень благородной причине: она не хотела, чтобы ты на нее тратился. А заплатив за себя сама, она бы тебя обидела. Вот в чем причина – другой у нее не было. Но именно ты ее избранник. Спроси у мадам Проскуриной, если мне не хочешь верить.
– Мадам Проскуриной? Да брось ты!
– Да, мадам Проскуриной все известно. Это она и аз многогрешный утешали Шейлу в тот самый вечер. Она потом вернулась, после того как ты решил, что она ушла с другим. Она была просто в отчаянии! Ты ее даже домой не проводил, надел свою шляпу – и только тебя и видели. Я вынужден был сказать, когда услышал от нее, как все было, что ты, и вправду, бессердечный тип!
Ребман так и остался стоять на месте. Он побелел.
– Бессердечный тип! Да если бы ты только знал!..
– Так напиши же ей! Если это еще может что-то изменить. Такими девушками не разбрасываются. Отправляйся немедленно.
Ребман помчался обратно в «Дом». Попросил у мадам Проскуриной адрес Шейлы.
– Ну, теперь пишете! А то хоть слово сказать, так вам куражу не хватало. Тоже мне, герой выискался! – отчитала его маленькая начальница, но адрес все же дала.
Ребман тут же отнес письмо на почту: не бросил в почтовый ящик, что висел внизу на столбе перед «Домом», а побежал на почтамт, который, впрочем, тоже был поблизости – на Крещатике.
Когда он листает страницы памяти, он просто замирает от мысли о том, что стоило ему тогда на Владимирской горке только руку протянуть…
Вдруг перед синематографом на другой стороне улицы он видит… Но этого не может быть! Шейла! Ведь она… Но это ее пальто! О, если бы только это была она, Шейла!!!
Он перелетел через бульвар, чуть не попав под трамвай. И когда он прибежал, то увидел, как голубое пальто исчезает за дверьми синематографа.
Что же теперь делать? Денег, чтоб купить билет и войти следом, у него нет, а слоняться по фойе долгих два часа, он не решился. Ничего другого не остается, как ждать снаружи, пока закончится сеанс:
– Если бы это была Шейла! Только бы это была она!
Но это не она. Девушка в голубом пальто, которую Ребман наконец отыскал в огромной толпе, была совершенно незнакомой.
Глава 20
Вот и май наступил, а вместе с ним и то празднество природы, которое этот сумасшедший месяц устраивает везде, куда бы он ни пришел, увлекая праздником всех и каждого. Все стоит в цвету. Все оделось в белые одежды. Только предприятие в киевском «Швейцарском Доме» никак не хочет расцветать, по крайней мере, для Петера Ребмана. На гувернанток до десятка запросов, а на него – ни одного. Просто заколдованный круг!
Но потом вдруг словно все хляби русского неба разверзлись, и рабочие места весенним ливнем пролились на ошалевшего швейцарца. В один день – три предложения. На следующий – уже пять. А в конце недели мамаша Проскурина возопила:
– Вот если бы вас можно было разделить на двадцать кусочков, каждый из которых что-то бы из себя представлял!
Они уселись и начали с помощью мадам Монмари сортировать предложения. Та сразу выносит приговор:
– Нет, мадам Проскурина, это не годится: за семьдесят рублей мужчина, пользующийся таким огромным спросом, никуда не поедет, тем более в Бердичев!
– А тут вот еще: не хотите ли присмотреть за трехлетним? Да еще и в захолустном поместье?
– Нет, – отвечает Ребман, – там снова начнут морочить голову, а мне теперь это меньше всего нужно!
Пока они так перебирают харчами, звонит телефон.
– Хорошо, Вера Ивановна, сейчас же к вам кого-нибудь пошлю! – слышен ответ мадам Проскуриной. И вот она уже снова в гостиной. – Ну и дела! Если бы у меня еще были люди! Вот, сходите посмотрите! Мне кажется, это лучшее из всего, – и она протянула Ребману записку.
– И куда ехать?
– В Брянск Орловской губернии. Знаменитый промышленный центр. Огромные сталелитейные заводы, производство пушек, богатые люди, половину года проводящие в путешествиях. Это то, что вам нужно! Отправляйтесь сейчас же: это на Подоле, у родителей госпожи Ермоловой.
Ребман еще ни разу не был на Подоле, в портовой части Киева на берегу Днепра, где жила беднота и евреи. До этого он только обозревал Подол с высоты Владимирской горки. Захудалое предместье, думал он, проходя по пыльным улицам среди низких домишек и видя полный беспорядок вокруг. «И здесь проживают родители моей будущей благодетельницы?! Что же это за люди?» – все спрашивал он себя, пока искал дом номер три, который значился на его листочке.
Ему открыла молодая девушка: не он ли господин из «Швейцарского Дома»? Сестра сейчас придет.
Она провела Ребмана в крохотный салон с красной плюшевой мебелью и истоптанным ковром.
«Сестра, сказала она. А сама-то хорошенькая. Если мадам тоже такова…»
В этот миг распахнулась дверь. Вошел коротышка в сером учительском кепи и с лицом таким плоским, словно его придавили к стенке. А за ним – три красавицы, все – еще молодые дамы.
– Ермолов, – представился мужчина.
«И как он оказался среди таких женщин, или как оказались они рядом с ним?» – гадает Ребман.
Тут одна из женщин повернула голову, и стало видно, что половина лица ее от глаза до шеи – сплошное родимое пятно. Вот почему она вышла за этого Рольмопса[20], бедная богачка!
Но коротышка в учительском пиджачке и пенсне не оставляет ему времени на дальнейшие размышления, он продолжает:
– Я полагаю, мадам Проскурина вас известила, что у нас двенадцатилетний сын и мы ищем для него гувернера.
– Буду ли я у него первым?
– Да. У Сережи до сих пор были только русские учителя. Мы его не отдаем в государственную школу, это нам не нужно! Мадам Проскурин вас рекомендовать, и мы не были искать в других мест. Вы есть швейцарцем? – заговорил он вдруг на ломаном немецком.
Ребман утвердительно кивнул.
– У вас патент учителя?
Снова кивок в ответ.
И тут в немецкий разговор, старательно выговаривая слова, вступил мальчик:
– Мы знаем Швейцарию, мы там были на обратном пути из Канн. С вашим содержанием и другими ус-ло-ви-я-ми вашего назначения я со-гла-сен.
– И они вам уже так точно известны?
– Мадам Проскурин на телефон со мной сказал. Я все устрояю на американский лад — «таймз из мооони!» Так что 150 рублей в месяц, проезд за наш счет, назад – тоже, если не понравится. Два раза в неделю после обеда свободны, плюс – в воскресенье выходной и четыре недели в год каникул. Но вы будете иметь больше, чем четыре недели, потому что моя вся фамилия уже через месяц едет в Крым и будет целым летом там. Теперь ваш слово говорить да или нет!
Тут вмешалась и супруга, которая до сих пор сидела молча, предоставив мужу вести разговор:
– Пардон, месье, могу ли я спросить, сколько вам лет?
– Двадцать пять, – слукавил Ребман, ему на самом деле было всего двадцать три.
Она улыбается:
– А давно вы уже в России?
– Полтора года, – продолжает привирать Ребман.
– И вам здесь нравится? Уже хорошо выучились говорить по-русски?
– Да, мне здесь нравится. Но с русским все еще трудно, это очень щекотливый для меня вопрос.
Мадам глядит на него очень доброжелательно:
– У нас вы научитесь!
Она что-то говорит мужу по-русски, но так тихо и быстро, что Ребман не успел разобрать. Тот кивнул и обратился к Ребману:
– Битте айн момент!
Затем они все вышли из комнаты.
Примерно через десять минут госпожа вернулась одна и заговорила по-немецки:
– Знаете, я немецкий учила только в школе и не была хороший ребенок для учебы. Ну что вы скажете?
– Согласно! – с вежливым поклоном ответил Ребман по-русски. Он, конечно, сразу встал, как только дама снова вошла.
– Как хорошо вы говорите по-русски! – это был комплимент. Потом она протянула ему пакет:
– Мой муж коммерсант. Но я не по деловой части. Здесь деньги на дорогу и за один месяц – как это сказать?
– Аванс?
– Да, аванс за первый месяц. Это смотрит как оружие, но здесь только деньги. Пожалуйста, возьмите.
– А что если я не приеду? – шутит Ребман.
Мадам Ермолова тоже смеется в ответ:
– Тогда мы будем жалеть. И вы, наверное, тоже. У нас вы не будете иметь такой суровой жизни, как у дамы в Кисловодске – мы ведь русские! Так вы приедете?
Ребман пожал протянутую ему руку, да так сильно, что она тихо вскрикнула от неожиданной боли.
Он извинился. Но она снова ему заулыбалась:
– Это только было этот ринг, кольцо, что сделало больно. Но оно и так болит.
Она, скорее всего, имела в виду обручальное кольцо, другого – на ее правой руке не было. Потом она еще сказала:
– И пожалуйста, месье, не называйте меня «мадам», я не люблю это слово, говорите мне Вера Ивановна, как все мои хорошие знакомые.
«Как было бы здорово, – размышлял Ребман, пока ехал обратно к «Дому», – если бы там была Шейла и можно было бы сообщить ей приятную новость! Ах, как бы было чудесно!»
С Верой Ивановной он условился, что может до завтрашнего дня, воскресенья, оставаться в Киеве, чтобы закончить здесь все дела. Она не возражала. В любом случае он должен прислать телеграмму, когда его встречать.
В «Доме» он спросил мадам Проскурину, не было ли для него писем. Уже в тысяча первый раз он справляется об этом: с тех самых пор, как отправил Шейле письмо. И в тысяча первый раз слышит в ответ, что писем не было:
– У такой девушки есть своя гордость! Но она вам еще напишет.
Ничего так и не пришло, только в самом конце года он получил две строчки от Штеттлера: Шейла Макэлрой снова побывала Киеве. Он, извинившись, упомянул об их общем друге, но она ничего не сказала на это.
Глава 21
Когда в понедельник после двух пополудни Ребман высадился в Брянске, то увидел перед вокзалом экипаж с кучером на козлах, запряженный черным рысаком, который нетерпеливо бил копытом. И кого же это он встречает, неужели?..
Да, именно его, Ребмана, встречал черноусый кучер в красивом экипаже. Очевидно, ему точно описали, как выглядит господин гувернер. Кучер сразу спешился, приподняв цилиндр, взял у Ребмана чемоданчик и пригласил его занять место в экипаже. И они по кочкам да по ухабам покатили дорогой в город. Вокзал и здесь в четверти часа езды от городской черты.
По дороге Ребман думал о том, как все хорошо сложилось – по крайней мере, в финансовом отношении. Он смог расплатиться по всем своим долгам с мадам Проскуриной, а теперь еще получит возможность посмотреть мир.
Кучер – как Ребман потом узнал, его звали Павел, – все время погоняет, так что копыта огромного черного рысака выбивают искры из круглых камней мостовой.
Справа видны заводские трубы, выпускающие в весеннее небо клубы дыма.
Они едут по главной улице, которая представляет собой плохо заделанную канаву с насыпями по обе стороны. Типичный российский провинциальный город: низкие скучные кирпичные коробки и улицы, утопающие весной и осенью в море грязи, а летом – в пыли.
«Куда же это я приехал, – думает Ребман, – и в какой из этих коробок мой новый дом?» Хотя вдалеке на горке он уже давно заметил подобие «замка», но не надеялся, что ему туда: «Там живет какой-нибудь генерал-губернатор, а не наш Рольмопс».
Каково же было удивление Ребмана, когда они остановились именно перед этим «замком», въехав во двор через большие железные ворота.
Горничная в белом чепце и фартуке провела его через сад и предложила присесть на террасе. Он сидел на тростниковом стуле и рассматривал все вокруг.
Дом с задней стороны выходит прямо на улицу, узкий тротуар которой проложен только вдоль «замка». А с другой стороны, где сидит Ребман, открывается прекрасный вид на спускающийся террасами сад – розовые беседки, ступенчатые цветники и оранжереи. Вдали среди полей видна река Десна. На другом берегу – деревенька в стороне. Деревянный мост через реку такой примитивный, словно крестьяне сами его построили, не дождавшись чего получше. Таких мостов ему пришлось повидать немало, они выглядели как временные постройки – да так оно и было: зимой их снимали, так как весной во время ледохода их все равно сносило массами воды. Слева, где уже кончаются сады, видна церковь. «Как в Барановичах», – мелькнула мысль. Потом он взял «Illustration», что лежал сверху целой стопки журналов, в которой виднелись и «London News», и «Leipziger Illustriert», и «Le Sourire», и начал листать.
Тут он услышал из дома крики мальчика:
– Ни хачююю! Ньееет, ни будууу!
В ответ раздался женский голос, судя по всему, принадлежавший Вере Ивановне:
– Сережа, иди, па-зда-ро-вай-ся с Месье!
А мальчик снова за свое:
– Ни бу-дуу!
На этот раз Ребман все понял: мать звала мальчика пойти поприветствовать прибывшего наставника, а тот ей отвечал на разные лады: нет, не хочу, не пойду и все! «Только не обращать внимания! Ведь за все уплачено вперед. Ребенок ведь может еще исправиться».
Но вот мальчик наконец подошел поздороваться, и сделал это следующим образом:
– Их Зи нихт гутэн таг заген! Я вас не хочу видеть! – и помчался мимо Ребмана вниз по садовой дорожке. На последней ступеньке он обернулся и высунул язык:
– Не-мец – пе-рец – кал-ба-са-а!
– Весь в папашу! – услышал Ребман голос за своей спиной – и когда оглянулся, увидел Веру Ивановну. Она подала ему руку со словами «Willkommen! Добро пожаловать!», спросила, хорошо ли он доехал, и сообщила, что сейчас для него накроют обед.
Потом она посмотрела в сад. Оттуда к ним бежал мальчик, златокудрый малыш лет трех на вид, громко и жалобно рыдающий:
– Селеза говорит на меня «зануда»!
– Нет-нет, – мать берет его на руки, – он сказал не «зануда», а «мамино солнышко»! А Селеза сам зануда!
Снизу подымалась толстая прихрамывающая женщина, одетая, как санитарка, в полосатое платье, белый передник и чепчик. Она совсем запыхалась.
– Это наша Няня, – говорит Вера Ивановна. – Подойди же, Няня, поздоровайся с Месье!
Толстая женщина поднялась по ступенькам, вытерла руку о платье, низко поклонилась, потом с гримасой, обнажившей все ее мышиные зубки, проговорила:
– Здравствуйте, Меслье!
– Не «меслье», а «месье», – исправила Вера Ивановна.
– Меслье, – повторила Няня на свой лад.
Ребмана разбирал смех: вот она перед ним в натуральную величину, знаменитая русская Няня, к которой, как говорят, многие дети здесь привязаны сильнее, чем к родной матери. Со своим серо-коричневым монголоидным лицом, покрытым оспой и веснушками, с узкими щелочками глаз и огромным животом, она выглядит совсем не так, как Ребман себе представлял.
– Как думаешь, – говорит Вера Ивановна, – этот мужчина тебе подойдет?
Няня машет обеими руками:
– Об них, мужиках-то, я и слышать не хочу, мне хватает каждый день тех, что здесь в доме ошиваются. Нет, упаси Господи!
– Но этот ведь – приятный господин! Вы с ним как два сапога пара!
Няня складывает руки на животе и качает головой:
– Такими вещами не шутят, Вера Ивановна, грех ведь!
Тут доложили, что для Ребмана уже накрыто.
Они перешли в комнату. Заходили через задние двери, и он отметил про себя, что дом спланирован почти так же, как в Барановичах: главные помещения тоже внизу, только здесь отделка намного новее и дороже.
После обеда он не был занят своим подопечным: распаковывал свой скарб, а когда окончил, вышел в сад на прогулку, там поговорил с Няней и малышом – его зовут Дуся:
– А где же хозяин?
Няня показала в сторону реки:
– Он нынче далеко, на самой границе. Там у него много лесу и лесопильный завод. И немцы приходят покупать дерево. Дома его почти не бывает. Слава Богу!
– Вы его не любите?
Она скривилась:
– Да кто его станет любить-то, после того, что он тут устроил! Только старший мальчик к нему и привязан: яблоко от яблони…
– А младший что?
Лицо Няни просияло:
– Этот из другого теста!
И по тону, которым это было сказано, можно было разное заподозрить…
К чаю, который по слушаю того, что Месье приехал только в полтретьего, подали к половине пятого, прибыла целая толпа народу: сестра Мадам, которую Ребман уже видел в Киеве на Подоле и которую звали Наталия Ивановна, ее подруга Стася, учительница местной школы с женихом, молодым лейтенантом, а еще тихий старичок в очках и сатиновом пиджачке. «Он выглядит прямо как шульмайстер из нашей гимназии», – подумал Ребман. И как только он это подумал, Вера Ивановна сказала, что это Сережин домашний учитель.
Тут Ребман вспомнил, что в этом прекрасном гостеприимном доме сам он – не гость.
– А где же наш ученик? – спросил он.
– На вечерне, в церкви, – ответила Вера Ивановна, – он прислуживает в алтаре. И глядя Ребману в лицо, добавила:
– Такой же «набожный», как и отец.
Это заявление тоже наводило на размышления…
Они сидят в плетеных креслах на большой террасе. Хозяйка разливает чай, спрашивает, кому сколько сахару, а Саня, горничная, обносит гостей конфетами, шоколадом, сладостями и всем, что есть на столе. Няня и ее подопечный Дуся сидят за отдельным столиком. Перед тем, как посадить малыша на стул, она что-то ему сказала и погрозила пальцем. Тогда мальчик быстро побежал в столовую, встал перед иконой и перекрестился старательно, как мог.
Сережа вернулся только к ужину. Они остались вчетвером, малыша уже уложили спать, а учитель, Стася и офицер ушли после чаю. Едят в выходящей на террасу большой комнате. Место во главе стола пустует. Саня подает. Няня в детской.
– Мой муж, – говорит Вера Ивановна, – очень редко бывает дома, обычно мы одни, слава Богу!
Мальчик на это заметил:
– Я скажу отцу, как ты говоришь «слава Богу», что его нет.
Его ставит на место Саня:
– Сережа, так с матерью не говорят и за столом так не сидят!
Ребман делает вид, что он ничего не слышал. Но про себя думает: под одной, пусть и благородной крышей живут две партии, и к первой, кажется, принадлежат все, кроме отца и старшего сына. Очень скоро он убедился в справедливости своей догадки: все живущие в доме, вплоть до кучера, держат сторону жены, а с другой – только делопроизводитель, которого никто никогда не видит в его верхней квартире.
После ужина они еще какое-то время посидели вместе, Ребман рассказал несколько клеттгауэрских анекдотов. Когда все смеялись, Сережа вдруг крикнул через весь стол:
– Что это он рассказывает? Мама, переведи!
Но не получил ответа.
Тут Ребман обоими кулаками взял себя за нос и начал его выкручивать, да так, что слышно было, как хрустит носовой хрящ. Все прислушались, а потом стали требовать, чтобы он немедленно прекратил. Он отнял кулаки от лица, погладил «пострадавший» орган обоняния и объявил:
– Видите, совершенно цел!
У мальчика глаза стали величиной с блюдца:
– Ви Зи махэн? Как вы делаете?
Но Ребман сделал вид, что не услышал его, и продолжал рассказывать дальше.
Мальчик соскочил со стула и подбежал к нему:
– Месье, заген битте ей махен, я буду послушным!
Ребман посмотрел на него. Симпатичный ребенок: большие голубые глаза, русые волосы, свежее чистое лицо, – если бы не этот бульдожий рот и змеиный взгляд предателя. Не получив ответа, мальчик попытался поцеловать у Ребмана руку, но тот быстро отдернул ее и сказал по-русски:
– Хорошо, Сережа, завтра увидим!
Все поднялись и пошли в детскую. Няня как раз молилась с малышом. Тот в ночной рубашке уже почти засыпал на молитвенной скамье, но сложив ручки, что-то бормотал, повторяя за толстой Няней. Когда он заметил, что кто-то вошел, он тут же широко распахнул глаза и завопил, чтоб все вышли, а то не станет молиться!
Мать возразила:
– Ну, тогда мы все уходим. И Няня тоже!
И тут Ребман убедился, что действительно есть русские дети, которые к няне привязаны больше, чем к собственной матери: малыш начал горько плакать, да так, словно его внезапно укололи острием ножа. Нет, Няня пусть останется: все другие пусть уйдут, но Няня пусть останется с ним! Мамину руку он оттолкнул кулаком: он хочет Няню, чтоб с ним осталась «няяя-няяя»!
В соседней комнате Сережа сидит за столом и учит что-то по чтению.
– Можно мне еще придти к вам в столовую, когда я закончу готовить уроки? – спросил он у матери.
– Спроси у Месье.
– Месье, их кап, можно? Битте-битте!
На этот раз господин гувернер ответил твердо и по-немецки:
– Сережа сделает все уроки; потом придет пожелать нам покойной ночи!
– И там останусь? Послушать, как вы рассказываете?
– Да. Завтра. Может быть.
Посреди ночи Ребман проснулся: в дверь стучали. Когда он открыл, перед ним стоял Сережа в ночной рубахе и босиком. Тоном раскаявшегося грешника он пролепетал:
– Месье, пожалуйста, простите, я больше не буду так себя вести!
С этими словами он потянулся всем лицом к Ребману, чтобы помириться чисто по-русски, святым целованием.
Пока Рольмопса нет дома, жизнь напоминает сказку: прямо как на каникулах, мальчик, словно маленький божок, а все вокруг – как птицы в конопле, целый день не слышно ничего, кроме смеха и пения.
По утрам, пока Сережа занимается с русским учителем, Ребман сидит с Няней в саду и помогает ей с малышом.
Первым делом она выяснила, православный ли он. Услышав ответ, только покачала головой. Так же она делала при ответах Месье на все другие вопросы: есть ли у швейцарцев царь? как велика их столица? и так далее. Поле ответов ей не оставалось ничего другого, как только качать головой.
– И что же это за страна такая?! Не хотела бы я быть там погребенной!
Тогда Ребман сказал, что настал его черед спрашивать, и он хотел бы знать, известно ли Няне, как зовут царя, что в Петербурге сидит?
Она посмотрела на него удивленно:
– Как его могут звать? Царь-батюшка он, благодетель наш, это имя знает каждый ребенок. А что, Месье даже этого не знал? Немецкий кайзер – у того есть еще и другое имя, его зовут Вильгельм. Но нашему царю это ни к чему!
– Но у вас же есть имя? – не отставал Ребман.
– Ясное дело, еще чего не хватало!
– И какое же оно?
– Ирина Миколаивна, – гордо ответила Няня. – Красиво, правда?
– Да, еще как! Такое же красивое, как его обладательница! А что, правильно говорить Ми-ко-ла-ив-на? Я думал, что это от имени Николай.
– Ну да, Миколай, я и говорю, так звали моего батька.
Потом она начала рассказывать о семье Ермоловых. Но Ребман ее перебил, когда заметил, что она все перемешала и путается.
– Как давно вы здесь?
– Почитай, двенадцать годков. Как они поженились. Насмотрелась же я тут всяких дел, Господи Боже ты мой!
– Почему же она пошла за него?
Няня всплеснула руками:
– Пошла? Да это не она за него пошла, а он ее взял: выторговал он ее, как вещь на базаре. Вы видели ее мать в Киеве? Она курит трубку и сигары, словно немец!
– Вот как? А я думал, она пошла за него из-за родимого пятна на лице, потому что никто другой не сватался.
Няня снова вскинула руки:
– Хорошо родимое пятно! Она его тут, в этом доме заполучила! В ночь, когда они вернулись с бала. Они тогда были года два как женаты. Это «родимое пятно» от бутылки соляной кислоты, которую ей вылила в лицо эта злодейка проклятая. Не отскочи она сразу, была бы теперь совсем слепая, а так только наполовину. Вы не заметили пятна на ее левом глазу?
Ребман так и окаменел на месте:
– Соляную кислоту? Вылить в лицо? Что же это за женщина?
– Я не сказала женщина, она не достойна так называться! Злодейка, сказала я. Горничная она была, девка дворовая. А он с ней спал, дитя прижил, через год после свадьбы, бесстыдник! И той пришлось поскорее отсюда убираться. «Или она, или я!», – сказала Вера Ивановна. И тогда он все же решил в пользу собственной жены. И вот тогда, как уже сказано, все и случилось. Она поджидала их у ворот, когда они подъехали на извозчике – тогда у них еще не было своего экипажа. И пока он отпирал… Я и теперь слышу этот страшный крик: дело было как раз под моим окном.
Позже, когда ей уже нечего было рассказывать, господин прецептор учил Ирину Миколаивну французскому. Сперва он думал, что лучше ей выучиться по-немецки, это скорее пригодится. Но она энергично замотала головой: об этих немецких варварах она и знать ничего не желает, а хочет научиться по-французски: если его знать, то ты уже дама!
Дело, однако, совсем не пошло, она была даже не в состоянии произнести само слово «французский», а говорила по-своему – «хвранцуски». Ребман испробовал все подходы и методы, действуя с помощью слов, которые известны каждому русскому. Он полагал, что каждый человек может сказать «картофель», «кофе» или «Шафхаузен». Но Няня всегда выговаривала: «картохвель», «кохве» и «шахваузен».
– Ну, я ж и говорю, – добавляла она после всех исправлений Ребмана.
Только о последнем слове она хотела знать, что оно означает. Тут Ребман от отчаяния выдумал, что «шахваузен» – это сорт швейцарского шоколада. Но потом опомнился:
– Нет, Няня, это мой родной город! Там однажды побывал даже царь Александр, и город ему так понравился, что он перед ним снял шляпу!
Дальше этого их занятия не продвинулись. Однако малыш Дуся получил от них хоть какую-то пользу. Однажды, сидя за чаем, они вдруг услышали от него:
– Бужу[21], Месье, бужу, Баба!
Но скоро небо над домом затянуло тучами. Однажды вечером сообщили: в субботу Василий Василии прибудет домой! И от этого все перевернулось, как на прекрасном празднике от налетевшей грозы. От одного звука этого имени весь милый уют улетучился: все уныло бродят по дому, как побитые собаки, а Сережа снова повернулся к близким своей неприглядной стороной:
– Ich Papa alles sagen! Я все скажу Папе! – всякий раз грозится, если ему что-то не по нраву.
Сначала все выглядело не так уже и страшно, маленького коротышку в пенсне было не видно и не слышно. Он все время проводил в своем бюро, если случайно пройдешь мимо, через открытое окно слышно, как он торгуется с приказчиком, или ведет переговоры с лесопилкой, или говорит с кем-то по телефону. Выходил он из бюро, только чтобы поесть и поспать. Маленькими, но очень твердыми шажками он входил в зал, крестился, заправлял салфетку за ворот и начинал сербать и чавкать. Говорил он только при необходимости, но всегда вежливо, к жене обращался ласково «Верочка» и таким тоном, словно спрашивал разрешения. Если бы не «родимое пятно», то все выглядело бы полной противоположностью тому, что рассказывала Няня. Разговаривал он больше со старшим мальчиком, на младшего почти не обращал внимания: только потреплет по щеке, когда тот хочет с ним поздороваться. Но было очень заметно, что центром внимания являлся для него старший. Он расспрашивал сына, чему он научился, каковы его успехи, прилежен ли он в занятиях.
– А с немецким как дела, слушаешься ли Месье?
Это он сказал довольно громко, даже поднял палец.
– Ты понял, что я сказал; если не будешь послушен и не будешь ушить немецкий, отправишься в школу. Ясно?
Тут мальчик обнял его за шею и по-кошачьи фальшиво заныл:
– Пожалуйста, только не в школу!
И это он сказал не из страха перед школой, за этими словами просматривалось фанфаронство: это не для нас, мы же не простолюдины! Надменность заметна во всем его облике. Когда они выезжают с Павлом, экипаж непременно проезжает мимо школы, и тогда мальчишка отпускает уничижительные замечания в адрес «простого народа».
И по отношению к прислуге он позволяет себе издевательства – но только в отсутствие отца. Особенно достается Няне, она ведь открыто встала на сторону Веры Ивановны, и все время говорит, что Сережа – невозможный хулиган, а Дуся – хороший мальчик. И старший отплачивает ей сполна, пользуясь при этом теми же средствами, что и настоящие взрослые интриганы. Один из примеров Ребман наблюдал уже в первую неделю по приезде. Он старался пробудить у мальчика интерес к учебе рассказами о швейцарских детях, которые каждый день ходят в школу и учатся с прилежанием. Они были бы рады иметь, что есть у него, Сережи, но у них нет ни домашнего учителя, ни Месье, ни всего остального.
На это мальчик надменно заметил:
– А что у них такой же дом, как наш? И прислуга, и лошади, и экипаж, и все остальное?
– Нет, – сказал Ребман, – ничего этого у них нет, но зато все они умеют читать и писать.
Мальчик очень удивился:
– Читать и писать? Что, все?
– Все. А того, кто не умеет, считают бездарным! – опрометчиво бросил Ребман.
Во время обеда, когда Няня кормила своего любимчика Дусю за маленьким столиком, Сережа вдруг сказал:
– Месье говорит, что Няня идиотка, потому что она не умеет читать и писать!
Его совершенно не интересует, что все швейцарцы ходят в школу и все обучены грамоте, его занимает нечто другое:
– А есть ли у них армия?
– Конечно, есть, уже почти тысячу лет. Каждый швейцарец – солдат, у него есть мундир и оружие дома в шкафу!
Мальчик снова очень удивлен:
– Как это, все солдаты?
– Все без исключения!
– И вы тоже?
– Само собой!
– Вы кто по званию, капитан?
– Нет, я самый простой солдат.
– Даже не прапорщик?
– Даже не лейтенант, – вновь весьма недальновидно ответил Ребман.
Но мальчик, как ни в чем не бывало, расспрашивает дальше:
– А пушки у вас в Швейцарии есть?
– Конечно, есть! Они замечательно звучат в горах!
– А казаки?
– Нет, казаков у нас нет, но есть кавалерия. Она так же хороша, как и казаки, если не лучше!
Мальчик недоверчиво ухмыляется:
– Лучше казаков не бывает! Русские казаки – лучшие солдаты во всем мире. От них все разбегаются в страхе!
Потом он спрашивает:
– А море у вас в Швейцарии есть? А боевые корабли? А подводные лодки?
– Нет, моря у нас нет, боевых кораблей и подводных лодок тоже нет. Они нам вовсе не нужны, Швейцария ни с кем не воюет, швейцарцы – мирный народ.
На этом тема, по мнению Ребмана, была исчерпана.
Но вечером за ужином мальчик, словно комок грязи, бросил через весь стол:
– В Швейцарии нет ни моря, ни броненосцев, ни подводных лодок, ни казаков. Россия намного больше и намного сильнее. В России больше солдат, чем в Швейцарии людей!!!
И когда не последовало никакой реакции – все уже привыкли к подобным выходкам – он еще добавил:
– И Месье всего лишь простой солдат, даже не подпрапорщик, не лучше Няни!!!
Вот Ребману и досталось на орехи! С этим парнем надо быть настороже.
Теперь, кажется, погода в доме совсем испортилась. Хотя слышны разговоры о скорой поездке в Крым. Но, к сожалению, все еще не нашлось подходящей квартиры.
– Скорее всего, придется самому туда поехать и что-то подыскать: одними письмами и телефонными разговорами ничего не добьешься, – говорит хозяин.
И он держит слово. Во вторник выезжает, а уже в субботу приходит телеграмма о том, что все в порядке, что он снял на четыре месяца виллу в Алупке. Всем приказано собираться побыстрее: нужно выехать, пока он на месте.
– Судя по всему, не такой уж он плохой, наш хозяин, – сказал Ребман Няне, – раз он так заботится о семье. Вилла на Черном море на целых четыре месяца!
Но та только скривилась:
– Да ему бы только от нас избавиться!
Глава 22
С бегством в южный рай все складывалось, однако, не так гладко. Хозяин не успел вернуться домой, как из Крыма пришла телеграмма, что дом все еще не освободили и придется подождать, если господа не желают ютиться вместе с зимними жильцами.
– Нет, этого мы не хотим, – говорит Вера Ивановна, – мы хотим быть в своей компании!
Весь май проходит в обмене телеграммами и мучительном ожидании. Пока наконец не приняли решение: с нас довольно, едем сейчас же!
– Кто же, собственно, едет, – полюбопытствовал Ребман, обращаясь к Няне, которая всегда хорошо осведомлена обо всем происходящего в доме.
– Все, кого мы любим, – улыбается она в ответ.
– И кто же это?
– Целый воз, – она загибает пальцы: – Вера Ивановна. Наташа. Месье. Стася. Ее женишок, – так и говорит, «женишок», она его не очень жалует, так как он ходит гоголем. – И Саня.
– А ты и мальчики?
– Ну да, конечно, мы тоже, как же без нас-то, мы не в счет.
– Получается, что нас девять человек? Скучать уж точно не придется.
– Скучно там просто не может быть, там одно сплошное бесконечное воскресенье, – говорит Няня.
– Откуда ты знаешь, ты там уже бывала?
– А то как же! Мы, – она, как и все простолюдины, говорит о себе во множественном числе, – ездим с Верой Ивановной всюду, даже за границу!
– Так ты и в Каннах была?
– Знамо дело, хвранцузы дивились на меня, как на дикого зверя, все норовили хвотограхвировать! – гордо отвечала Ирина Миколаивна.
– Так, выходит, ты и в Швейцарии была, на Женевском озере?
– Правда твоя, на Женевском озере мы были. Лазань назывался тот город, только он принадлежит хвранцузам, а не швейцарам, там все па-хвранцуски говорили.
Если бы не вокзальная суета, господин учитель, конечно же, отобрал бы Лозанну у французов и вернул ее швейцарцам, но так как в эту самую минуту объявили посадку, он не успел восстановить справедливость.
Хозяин сопровождал свое семейство только до уездного города Орел, где им надлежит пересесть на прямой поезд. Наконец-то они снова в своем кругу, и такая лафа продлится целых четыре месяца. И чего они только не тащили с собой: две полные повозки мешков, чемоданов, корзин, дорожных сумок и всякой всячины.
Не успел тронуться поезд, как они, по доброй швейцарской традиции, приступили к еде. Лейтенант, бледный блондин, на вокзале в Орле предусмотрительно запасся кипятком, и их компания распечатала одну из коробок, распаковала чайник, вынула посуду и салфетки. Из другой коробки достали съестные припасы: баранки, булочки всех сортов, шоколад, конфеты и все, что дома подается к чаю. Все шумят, точно дети на школьной экскурсии, Вера Ивановна расшалилась, как пятнадцатилетняя девчонка. Она все время дразнит Няню: каждого мужчину, проходящего мимо их купе, прочит Няне в женихи! Миколаивна только головой качает:
– Вера Ивановна, а что же вы без меня делать будете? Даже и не представляю!
– А Месье, его тоже не хочешь?
– Нет, – говорит Няня, – швейцарца и с приданым не возьму. Никчемные люди, карлики. Даже русского не знают. А страна, Господи помилуй, величиной с орешек, ступишь – и только хрустнет под каблуком. Нет уж, благодарствуйте!
И Сережа туда же, вторит ей с набитым ртом:
– Даже казаков там нет, в этой Швейцарии!
– Ты это всем уже рассказывал! С полным ртом говорить неприлично! – осадила его Саня.
Но мальчик ее не слушает.
– Вот теперь, когда мы комэн нах Севастополь, – обращается он к Ребману, – своими глазами увидите настоящий дредноут! И миноносцы. Тогда не будете больше говорить, что Англия сильнее!
Местность точно такая же унылая и скучная, как на Кавказе. Но приятное общество и чувство сопричастности, принадлежности к большой и дружной семье не оставляет грустным мыслям ни одного шанса. Даже боль от разлуки с Шейлой понемногу отпускает. Правда, ее образ все еще стоит у Ребмана перед глазами, он видит ее сидящей на скамейке и говорящей ему, что теперь она влюблена. Когда видит ее во сне, а это периодически случается, он просыпается, как в бреду. Но рана все же начинает покрываться рубцами, хотя бы потому, что в его новом окружении никто с ней не знаком и речь о ней никогда не заходит.
Они провели в пути два дня и две ночи, но Ребману показалось, что поездка закончилась, не успев начаться. Кажется, только что сели в поезд, а Вере Ивановне уже кто-то сообщил, что через пятнадцать минут Севастополь. Пора выгружаться.
Ребману весьма интересно, как выглядит эта знаменитая морская крепость, которая так мужественно противостояла врагам. Все его симпатии были на стороне оборонявшихся. Ребман, по обыкновению, дал волю своей фантазии. Да и Вера Ивановна не перестает расписывать, какой это чудный город. Но вид, показавшийся в окне купе, принес сплошное разочарование: остатки камнепада, да и только. А эта лужа там, впереди, – и есть море? А серые унылые глыбы – военные корабли? Это же просто чурки, не намного больше тех, что он запускал поплавать в фонтане у портомойни.
Теперь же, когда они сидят перед рестораном, вдыхая чудный морской воздух и наблюдая, как по набережной прогуливаются флотские офицеры в белой, расшитой золотом форме в сопровождении элегантно одетых дам, – у Ребмана как будто пелена спала с глаз. Перед ним теперь простиралось настоящее море, а не северная бухта, и Ребман наконец понял, почему говорят, что если море кого-то однажды пленило, то уже никогда не отпустит.
Вера Ивановна спрашивает его, какое мороженое он предпочитает на десерт: они плотно поели еще в вагоне. Он не отвечает, даже не слышит ее вовсе, только все смотрит и никак не наглядится на это голубое чудо. И как же хорошо ему на морском воздухе, он окрылен, словно птица – вот-вот взлетит. Ему кружит голову мысль о том, что он так далеко, на краю света!
Позже оказывается, что до Алупки еще добрых два часа езды, да и машину нужно искать.
Что, туда не ходят ни поезда, ни корабли, это ведь на море?
Корабль возит только членов августейшего семейства, простые смертные либо нанимают машину, либо вовсе идут пешком.
Но тут, оказывается, свой гешефт: две машины в субботний полдень без предварительного заказа днем с огнем не сыскать! Все автомобили заняты! Но когда Вера Ивановна заявила, что ей нужны две машины немедленно и за ценой она не постоит, тут же подали два авто, и прежде чем они успели сказать, куда направляются, весь их скарб погрузили и все было готово к отъезду.
На Малаховом кургане, где стоит памятник защитникам Севастополя, шофер спросил лейтенанта, который с Ребманом и багажом ехал в задней машине, не хотят ли господа взглянуть на знаменитое поле битвы.
– Зачем, – отозвался офицер, – на что там смотреть?
– А я, – сказал Ребман, – очень хотел бы взглянуть.
– А если мы потом потеряем остальных? – словно маленький мальчик, капризничал лейтенант.
– Не стоит бояться, что мы отстанем; наша машина мощнее и лучше!
На поле боя все выглядит так, как будто битва была вчера или здесь прошла лавина, не оставив ни деревца, ни кустика, ничего, кроме осколков голых скал. Но Ребман, как блаженный, рад этому пейзажу. Охотнее всего он встал бы здесь на колени и расцеловал эту усеянную камнями землю.
Лейтенант кивает:
– Да-да, там, где прошла война, трава какое-то время больше не растет!
Шофер, однако, дает им понять, что пора ехать: неизвестно, что их еще ожидает в пути, дороги в это время не всегда проезжие.
Дорога проходит через деревню крымских татар и знаменитую табачную плантацию Майкапара, поднимается вверх, на одном из поворотов груженую машину заносит, так что пассажиров подбрасывает в воздух. Где-то через полтора часа они останавливаются перед туннелем у трактира. По словам шофера, это обычное место для остановки. Как только все высадились, отряхнули пыль с платья, выбили шляпы и кепи, Ребман спрашивает у хозяина трактира, татарина, видно ли что-то из туннеля.
– Идите и посмотрите, – говорит тот.
И добавляет:
– Надо бы плату брать за вход в туннель, тогда люди бы знали, что там есть на что посмотреть, да так, что аж дух захватит!
Шофер, немец, тоже идет следом. Рад возможности поговорить на родном языке. Они выходят из туннеля на площадку, размером не больше лобового стекла, обнесенную со всех сторон невысокой каменной оградой. Видишь только синее небо и голую скалу слева.
Но тут Ребман разевает рот и незаметно для себя продвигается к самому краю ограды. Перед ним, глубоко внизу – море блестящих крыш, ничего, кроме крыш, а на них множество белых птиц. Сколько видит глаз, тянутся крыши, и блеск такой, что даже глазам больно. А там, где начинаются горы, – белая полоса, будто мелом проведенная.
– Schön, was! Красота! Ничего не скажешь, – замечает шофер.
Ребман в восторге:
– А что это там за город?
Шофер даже не рассмеялся. Говорит, ему самому тоже показалось, что там внизу огромный город, когда он впервые это увидел. Но такого города никогда не было, даже на Святой Руси.
– Да, но что же это тогда такое?
– Видите вон ту белую полосу? Смотрите только на нее, только туда.
Ребман пристально смотрит, приставляет к глазам руку козырьком. И вот белая полоса очень медленно раскручивается от «города» в сторону скал. Теперь, когда он всмотрелся в дома с новыми крышами, они оказались морскими волнами. Так это море!
Когда они вернулись к трактиру, все уже ждали в машине. Им оставалось ехать над морем около часа по узкой, извилистой и очень пыльной дороге, пока не показался среди кипарисов тонкий минарет алупкинской мечети.
Уже пробило пять, когда они остановились на набережной. К дому подъехать нельзя, говорит шофер, который знает город, наверх ведет только пешеходная дорожка.
Все рады возможности наконец поразмять ноги.
– Нам всем не разогнуться после этой тряски, – замечает Ребман. – Хороши же мы, ничего не скажешь!
Няню прямо хоть в печь сажай: так она похожа на вполне взошедшее тесто.
Когда разгрузили вещи и расплатились (поездка стоила сто рублей), и каждый шофер получил еще по десятирублевой купюре чаевых, все зашли на виллу, а хозяйка поручила двум татарам, стоящим тут же, внести багаж в дом.
А теперь-то уж идем купаться!
О том, что было после, Ребман всю жизнь вспоминал как о самом прекрасном сне: день за днем солнечное сияние вокруг него и в нем самом.
Алупка очаровательна: виллы, отели, магазины и кафе с бело-голубыми полосатыми парасолями перед входом. На всех улицах – акации, которые уже цветут. От их пьянящего аромата даже кружится голова. Белый цвет царит повсюду. Дома с холмов так и сияют белизной. А между пальм и кипарисов смеется темно-синее море. И уже веришь словам Веры Ивановны о том, что Крым – это греза всей России.
Месье купил белые туфли и белые носки, две пары белых брюк, несколько «шиллеровских рубашек» с отложным воротом – по последней моде. И тюбетейку – расшитую золотом татарскую шапочку с завязочками сзади. Не прошло и недели, а Ребман уже выглядел как все отдыхающие, его постоянно принимают за русского, и делают большие глаза, когда выясняется, что он иностранец:
«Как хорошо вы говорите по-русски, даже без акцента!»
Он, конечно, следит за собой и старается подбирать только те слова и выражения, в которых он вполне уверен. Прежде чем что-то сказать, он сначала все обдумает, потом составит предложение и только после этого произносит как заученное наизусть стихотворение.
Няня была права: здесь каждый день как воскресенье. По утрам солнце светит в окно; синее-синее небо улыбается сверху голубому морю, которое такое спокойное, что кажется, как поется в песне, что «водная гладь не может волноваться» и только и знает, что качать на своей поверхности водные велосипеды и купальщиков. О том, что водная стихия может поднимать волны высотой с дом и нести их к берегу со страшной скоростью и беспощадной силой, когда издалека подбирается непогода, – теперь и заподозрить трудно.
Их компания купается двумя группами, без купальных костюмов, хотя из кабинки наверху можно видеть обе группы. Тут Ребман еще раз убедился, что и в этом вопросе в России совсем другие обычаи – там, откуда он родом, более строгие нравы.
О работе он вовсе не думает. Готовиться к урокам не нужно, ничего заучивать не требуется, не приходится держать в узде от сорока до пятидесяти детей, словом, он ничего не должен делать, только быть рядом и радоваться жизни. Ему казалось, что он как маленький мальчик или как петушок в курятнике, не имеет никаких обязанностей: достаточно умилять и блистать своим присутствием. По мнению Ребмана, Сереже не повредило бы хотя бы час в день посвящать чтению и заучиванию наизусть. Но мальчик настаивал на том, что теперь каникулы, никто не ходит в школу и ничего не учит! И мама с ним согласилась: они все хотят настоящих каникул, у них ведь не было такой возможности уже целый год.
После послеобеденного сна все вместе идут на море, каждый со своим полотенцем наперевес: сидеть без подстилки неудобно, потому что берег покрыт крупной галькой. Они жарятся на солнце. Курят. Фотографируются. Лакомятся рахат-лукумом. Дразнят Няню: дескать, можно быть одновременно толстым и утонченным! Или просто дремлют себе на солнышке. И кажется, что еще и часа не прошло, как уже раздается команда:
– Пора домой!
Но Вера Ивановна сказала, что Месье совершенно не обязан все свое время посвящать их семье, ему нужно заводить знакомства: быть в Крыму и не завести любовного романа в десять раз глупее, чем оставаться дома.
И Ребман не заставил ее повторять дважды. Уже через неделю он подружился с целой ватагой отдыхающей молодежи: студентами, офицерами, барышнями, которые были здесь с родителями. Они приняли его в свой кружок с распростертыми объятиями.
Особенно он сошелся с молодым медиком из Петербурга, которого звали Николай Семенович. Они понравились друг другу с первого взгляда, и эта взаимная симпатия скоро превратилась в настоящую дружбу, напомнившую Ребману ту, что связывала его в гимназии с южноамериканцем. Коля – полная противоположность Ребману во всем: живой, остроумный, душа компании. И комик!
Вера Ивановна пригласила всю компанию молодежи на виллу. И тут пошла сплошная кутерьма на балконе у Месье.
Когда всходила луна, пролагая по морю серебряную дорожку, а мулла с мечети заунывно призывал к вечерней молитве, начинался праздник, который продолжался до двух часов ночи. К тому времени все уже были навеселе от множества выпитого шампанского, которое пилось вперемежку с водкой, и шутки, смех и пикировка звучали без чинов и светских условностей. Заводилами по этой части были Вера Ивановна и ее брат, молодой офицер артиллерии, писаный красавец, приехавший из санатория в Гаграх, где он проводил отпуск.
Вера Ивановна и московский студент, отдыхающий здесь с матерью и двумя сестрами, уж какое-то время обмениваются колкостями. Юноша проводит на вилле каждый вечер – без мамаши, конечно. Когда же к турниру присоединяется Николай Семенович, отпуская искрометные шутки, начинается балаган похлеще, чем в фильмах с Максом Линдером. Сначала Ребман морщился, когда он видел Веру Ивановну – замужнюю женщину! – схватившую московского Медведя (а именно так выглядел студент) за рубашку и разорвавшую ее до пояса, и потом еще царапающуюся и кусающуюся. Они были как двое животных, он – неуклюжий и страшно сильный, она – дикая и горячая, как тигрица. «Я бы ее уже перекинул за ограду, если бы она меня так мучила», – думает про себя Ребман. Но «Медведь» только добродушно рычал своим низким голосом и, судя по всему, получал от происходящего даже некое удовольствие.
Однажды после полудня они поехали в Ливадию, где находился императорский дворец, а потом – в Ялту отобедать.
Там Ребман показал себя во всей красе. Началось с того, что на закуску подали омара – а наш Месье понятия не имел, с какой стороны к нему подступиться. Как же поступить в подобном случае, если тебя зовут Петер Ребман? Ломать комедию, как говорит Сережа, когда делает что-то неподобающее. Находчивый учитель убегает из-за стола и не показывается до тех пор, пока не придет время смены блюд.
Потом все пошли купаться. А вечером, когда Няня с мальчиками отправилась домой, они в саду отеля изрядно накачали Месье французским трехзвездочным коньяком. Ребман только раз в жизни пил коньяк, когда они сдали экзамены в реальном училище в Халау, тогда его еще рвало. Он вообще не в ладах с крепкими напитками, его сразу валит с ног. А так как перед этим, меряясь силой, он по очереди уложил на лопатки всех, включая московского Медведя, то и здесь решил показать себя мужчиной и принялся, рюмка за рюмкой, хлестать отвратительное пойло.
Когда все увидели, что швейцарец готов, Ребмана усадили в кресло, надели ему на голову лавровый венок и приказали двум официантам установить кресло с ним посреди стола: «Но только поделикатнее с их сиятельством!»
После этого его стали поить до положения риз. Все тем же коньяком. Как ему утром рассказал Митя, брат Веры Ивановны, когда Ребман кое-как пришел в себя, он тогда опорожнил еще целую бутылку:
– Да, по этой части вы оказались бесспорным победителем!
– У меня тоже такое чувство. А как я попал домой?
– Как ракета петарда, – засмеялся Митя. – Сначала вы спрыгнули со стола, потом перелетели через все ступеньки сразу к самому лучшему извозчику: «В Ливадию, едем взрывать Царский дворец!» А мы все шутим дальше: «Ваше Высочество, оставьте эти глупости, поднимайтесь снова к нам!» Но «их сиятельство» выхватило у кучера поводья и плеть и давай кричать на рысака, хлестать его так, что тот рванул с места в карьер и, высекая искры из мостовой, стрелой пролетел расстояние от Ялты до Алупки!
– А откуда он знал, куда ехать?
– Этого я тоже не могу сказать. Сестра только и смогла крикнуть мне: «Митя, поезжай вслед за Месье, смотри, чтоб с ним ничего не случилось!» И вот мы чудом приземлились здесь. Такого я еще за всю свою жизнь не видывал! Словно римлянин на колеснице, стояли вы во весь рост, нещадно стегая коня и беспрерывно крича: «Сейчас Николашка, глиняная башка, взлетит на воздух! «Хорошо еще, что стояла ночь, а то могли бы нажить неприятности. Ну как вы себя чувствуете?
– Как Его императорское величество, сами можете себе представить… Боже, моя голова! А кто меня уложил в постель?
– Это я устроил, ваше величество, с помощью Сани и Ирины. Они тоже были в ужасе, когда нашли вас лежащим перед кроватью лицом вниз!
При этих словах в голове Ребмана промелькнула ниточка воспоминания: как он вырывал у извозчика поводья и кнут, потом – как он вбежал в комнату и хотел снять туфли. Бум! – И тело уже на полу. Вот и все, что он смог вспомнить…
Глава 23
Судьба словно предупреждала Ребмана, вытянув указательный перст: опомнись, довольно глупостей, наступают иные времена! Вот-вот с голубого крымского неба и гром грянет, и молния сверкнет.
То, что в воздухе повисло нечто тревожное, все чувствовали уже давно: еще когда Ребман полтора года назад выехал из Швейцарии, на границе между Россией и Австрией стояли войска. Приближение грозных событий стало особенно ощущаться в последние дни. Как-то утром, когда все сидели на пляже, но из-за высоких волн никто не купался, со стороны Севастополя на полном ходу прошел военный корабль, да так близко к берегу, что был слышен стук моторов. Из обеих выхлопных труб валил дым и огонь, то нос, то хвост корабля по очереди погружались в воду. Ребман, впервые так близко видевший военный корабль на ходу, удивлялся, с какой огромной скоростью он шел сквозь штормовое черно-голубое море.
Пока они так стояли и смотрели – все, конечно, поднялись со своих мест, – появился Николай Семенович и объявил:
– Это эсминец, он направляется в Ялту, чтобы забрать царскую семью, они спешно отбывают в Петербург: будем надеяться, что там ничего не случилось!
Во время обеда эскадренный миноносец снова прошел мимо. А когда после сиесты семья Ермоловых в полном составе спустилась на набережную, они уже издалека увидели толпу народа с портретами императора и образами. Слышны были крики «ур-а-а-а!», сменявшиеся пением гимна «Боже, царя храни!» Когда они подошли ближе, Николай Семенович как раз держал речь. Но Ребман не понял, что именно он говорил, так как его все время прерывали громкими криками «ур-а-а-а!». Мужчины и женщины, старые и молодые – все кидались друг другу на шею, обливаясь слезами: можно было подумать, что наступил большой долгожданный праздник, и все друг друга сердечно поздравляют.
Но никакого праздника не было, а пришло сообщение о том, что Россия объявила Австрии войну.
Все начали разъезжаться. Мите предписано немедля отбыть в свою часть. Вера Ивановна была в отчаянии, но он ее утешил:
– Верочка, дорогая, я же не иду на войну, я еду в Киев. Пока меня отправят на фронт, война уже давно закончится, наши казаки сделают из этих австрияков отбивную котлету!
Николай Семенович тоже должен уехать, к большому горю Ребмана, они ведь успели сблизиться, как это бывает только в молодости. И когда при прощании медик сказал ему по-французски: «Месье, позвольте, я вас обниму», – и заключил друга в объятия, тут уж и у Ребмана глаза оказались на мокром месте.
Он всегда мечтал однажды пережить войну, это ведь так замечательно: стать свидетелем великих исторических событий. Ну вот, теперь война пришла, он получит этот шанс. Пришла война, и ее начало совсем не вдохновляет. Скорее наоборот. Особенно ясно это стало тогда, когда через несколько дней Вера Ивановна протянула Ребману газету со словами, что это непосредственно касается и его.
В газете было опубликовано заявление швейцарского представительства в Петербурге с приказанием всем военнообязанным гражданам Швейцарии срочно возвращаться, так как в стране объявлена мобилизация!
В первый момент Ребман был потрясен: он совсем позабыл о том, что и его могут загрести. Он сопротивлялся изо всех сил:
– Но я ведь никак не могу. Сначала пусть вышлют мне деньги на проезд!
И спешно телеграфировал в московское консульство, к которому был приписан: он случайно прочел о призыве в газете, находится в Крыму и не имеет средств, чтобы вернуться в Швейцарию. Не предоставит ли ему посольство необходимую сумму? За телеграммой следует письмо. Он его отправил в тот же день, подробно объяснив свое положение: в Россию он приехал на заработки и не в состоянии оплатить дорогу в Швейцарию из своего кармана (эта часть соответствовала действительности), а кроме того, у него есть долги перед мадам Проскуриной, к тому же предстоит приобрести соответствующую одежду, белье и обувь. Он просил сообщить, как ему поступить в сложившихся обстоятельствах.
Сначала Вера Ивановна полагала, что, несмотря на войну, они могут оставаться в Крыму: до этих мест война все равно не дойдет. И они продолжали купаться, загорать и выезжать по воскресеньям как ни в чем не бывало. Но однажды утром пришла телеграмма от хозяина, что он больше не может допустить, чтобы его семья оставалась в Крыму в такое тревожное время. Они должны немедленно вернуться домой. Пришлось подчиниться.
Ребман обратил внимание, что за ними приехал другой шофер.
– А где тот немец? – спросил он.
– Его давно уже рыбы съели. Он был шпионом. Его вовремя схватили, не дав сбежать.
На обратном пути уже было заметно, что идет война: на всех станциях толпы молодых людей, еще в гражданском, они ведь не держат формы дома. Отцы, матери, сестры – или жены с детьми! – несут за ними котомки. Возникали сомнения, что за четыре недели они разобьют «Франца венского», как говорил Митя. Это были мужики, миллионы мужиков, не хотевших ничего знать о войне, не имевших ни малейшего понятия, ради чего их посылали воевать, отрывая от работы и пинками выгоняя из дому.
В Брянске войны не видно, разве что больше военных и огромное количество товарных поездов на вокзале, а в остальном все, как раньше: городок такой же пыльный, кучер Павел улыбается такой же улыбкой во все лицо, когда видит своих. Из слуг никого не призвали, хозяин уж обо всех позаботился. С провизией все, как и раньше, а немца еще никто в глаза не видывал. Веру Ивановну ожидала хорошая новость: Дмитрия Ивановича перевели в Брянск, тоже, конечно, не без участия хозяина. Он прибыл позавчера:
– Не горюйте, Вера Ивановна, война нас не очень-то мучает!
И Ребману полегчало, когда он услышал такие вести. А то он уж начал было бояться за свое место: со всех сторон только и слышишь о запрещении немецкого языка и прочих неприятностях. Но главное облегчение наступило дома, где на письменном столе его ожидало письмо из московского консульства. Письмо уже почти неделю как пришло, говорит хозяин, но они решили не пересылать его, чтоб не потерялось.
– Хорошие новости?
Ребман вскрыл письмо и прочел вслух:
– «Государственный Совет Швейцарской Конфедерации временно приостановил возвращение швейцарского контингента из-за границы».
– Слава Богу, – с облегчением вздохнула Вера Ивановна. – И вместе с нею все обрадовались, что Месье может оставаться, но больше всех радовался сам Месье. Вера Ивановна даже хотела это отпраздновать: устроить вечеринку, позвать всех родственников и знакомых. Но хозяин был против: нынче не время для увеселений, следует помнить о том, что мы воюем.
В ответ она принялась громко смеяться:
– Глупости все это! В самом деле: если все головы повесят, никому от этого легче не станет. Мы должны показать, что не боимся ни австрийцев, ни немцев!
Она возбуждена как никогда, эта добрая Вера Ивановна, радуется, что ее любимый братец Митя в Брянске, а не на фронте. В этом нет заслуги хозяина, сказала она позже Ребману, благодарить следует дядю-генерала. Как мог бы Василий Василии такое устроить?!
Так что вечеринку в доме Ермоловых на Петровской горе все же устроили. Из сада принесли цветы: все беседки, все клумбы и даже оранжереи совсем обобрали. В большой кухне внизу пекут так, что пахнет на всю улицу. Павел привез с вокзала целую машину вина, шнапса и прочих бутылок вместе с разными пакетами и коробками, наполненными всевозможными деликатесами, которых в Брянске не найти или, если и найдешь, то не такие свежие, как в Москве.
– А музыка, – спросил Месье – музыка у нас будет?
– Вы отвечаете за музыку, – смеется Вера Ивановна, – граммофонную, другой в нашем уездном Брянске не сыскать.
– Даже пианиста? – говорит Месье, указывая на белый с золотом лакированный рояль «Steinway «, который стоит в салоне и за который заплатили не меньше десяти тысяч рублей, то есть двадцати пяти тысяч швейцарских франков. Об этом ему гордо сообщил однажды Сережа.
– Даже пианиста, – ответила Вера Ивановна. – Рояль, – как и многое другое в этом «благородном» доме – только для декорации. На нем еще никто никогда не играл.
Она даже не уверена, есть ли в нем струны, инструмент никогда даже и не открывали.
И вот в субботу вечером начали съезжаться кареты и прочие экипажи. Из них выходили персонажи, которых Ребман, даже после посещения театра в Киеве, предполагал увидеть только в сказке или в кино. Со всех сторон сверкают золото и бриллианты. Даже его превосходительство господин главный полицмейстер здесь. Съезд гостей длился целый час. Пятьдесят шесть, насчитал Ребман, стоявший у дверей в салон, пятьдесят шесть только приглашенных, не считая своих!
Ведут себя так, словно не видали друг друга целую вечность: обнимаются, целуются, и каждый раз, как столкнутся друг с другом, только и слышно:
– Верочка, дорогая, как же ты хорошо выглядишь, как же ты помолодела!
И Месье тоже всем представляют, его тоже приветствуют, хотя и без объятий и поцелуев. Но ему не очень-то уютно среди всей этой элегантности, он чувствует себя, несмотря на белый пиджак и такие же брюки, переодетым крестьянином.
Мальчикам тоже разрешили не ложиться и остаться с гостями. Малыш рассказывает каждому гостю, что сейчас будет еще Кукла! Мама ему проговорилась, что пригласили Аграфену Петровну, старую деву-миллионершу, которая живет совсем одна в большом доме на другом конце города и выглядит так же старомодно, как мебель бидермайеровской эпохи. Только подумайте: она до сих пор носит парик и кринолины, как сто лет тому назад!
Сережа добавил, что она просто сумасшедшая.
– Нет-нет, она не сумасшедшая! По крайней мере, не больше, чем все остальные люди.
– Зачем же она носит кринолины?
– Чтобы в них прятать деньги. Вот так она и ходит все время, потому что боится, что ее обворуют. Она никому не доверяет, даже банку. Даже ночью на них спит.
Эту интересную особу все теперь ожидают. Послали за ней Павла: она поставила такое условие, иначе, мол, не приеду. Она слишком скупа, чтобы нанять извозчика.
– А где дядя-генерал? – спросил Ребман Наташу во время первого танца.
– Как, разве вам его не представили?
– Представляли, но всех только по имени-отчеству. Я же не разбираюсь в русских знаках отличия. А генерала видел лишь однажды, да и то мертвого.
Наташа на минуту остановилась и смотрит в ту сторону салона, где на мягких креслах вдоль стены расположились пожилые гости:
– Вот он, с ним как раз Митя говорит.
Ребман смотрит в указанном направлении. И замечает:
– И это генерал? Я принял его за отставного школьного учителя!
Пожилой человек в простой форме действительно выглядел не по-генеральски. Пока Ребман пристально его разглядывал, объявили следующий танец. Но тут послышался голос Веры Ивановны:
– Да вот и она! – и с этими словами она направилась навстречу кому-то к распахнутым дверям залы.
И в этот же момент маленький Дуся закричал во весь голос:
– Смотрите, Кукла! Баба пришла!
Долгожданная гостья делает вид, что ничего не слышит – а может быть, и вправду не слышит – медленно входит в салон, машет веером и кивает во все стороны, словно королева. И «народ» почтительно склоняется, воздавая ей положенные почести.
Теперь ее, словно музейный экспонат, можно рассмотреть вблизи: рыжие, как у лисы, локоны до плеч, платье с большим декольте, обнажающим высохшую, как палка, шею, обмотанную цветным коралловым ожерельем, и жалкие остатки того, что когда-то давно, возможно, было грудью. Кринолины, шелковые, с рисунком, как на старомодных обоях: с розочками и незабудочками. И туфли из того же материала. В правой руке – веер, опять же в цветочках с ручкой из слоновой кости и двумя кисточками. А на левой руке – помпадур. Теперь о лице: совсем сморщенное, напудренное снежно-белой пудрой и с ярко-красными нарисованными щеками. И при каждом шаге у нее закрываются глаза, как у одряхлевшей спящей красавицы.
«Есть ли у этой Куклы еще и голос, чтобы пропищать «пап-а-а» или «мам-а-а»?», – подумал Ребман. Только он это подумал, как Вера Ивановна взяла Куклу под руку и направилась с ней прямо к нему:
– А вот и ваш кавалер! – во весь голос объявила она.
Когда Ребман хотел что-то возразить, хозяйка ему подмигнула, и все другие дали ему понять, чтобы он не лишал их удовольствия. Тогда он кивнул и поклонился своей даме, громко назвав ее «королевой», взял протянутую ему для поцелуя руку, и поцеловал ее так, словно это и впрямь была королевская рука. Теперь он не просто видел ее, но слышал ее запах: словно ее вынули из платяного шкафа, который лет сто как не проветривали.
Вера Ивановна желает знать, как он смотрит на то, что она его рекомендовала в качестве рыцаря без страха и упрека?
Кукла достала из ручки веера лорнетку и в полной тишине – даже Няня зажала малышу рот – стала рассматривать своего «рыцаря» с головы до пят и вновь с пят до головы. А тот постоянно ощущал затхлый дух ее бессменных кринолинов.
– Так что же вы скажете? – вопросила наконец Вера Ивановна.
И тут Кукла разомкнула плотно сжатые губы, и раздался не то скрип старой телеги, не то воронье карканье:
– Зелен еще!
– Аграфена Петровна! Молодость – не порок! Взгляните только: лицо, глаза… Где вы еще видали такие глаза? Не сверкает ли в них само счастье? Такого кавалера вы больше никогда не получите, нигде и ни за что на свете! Сейчас же станцуйте с ним и будьте с ним вежливы, не то придет Наташа! Она уже теперь все глаза выплакала от страха, что вы можете его у нее похитить.
В таком же духе все и продолжается. И лорнет непрестанно скользит по Ребману сверху вниз.
– Сколько же ей лет? – спросил он Веру Ивановну, когда снова смог танцевать со всеми. – Я имею в виду, сколько сотен лет?
Она в ответ делает уморительную гримасу:
– У денег нет возраста, они любую женщину делают молодой!
Жизнь шла своим чередом. О том, что идет война, можно было догадываться только по цензорским пометкам на газетах и письмах, которые Ребман получал из дому. Если бы не они, он бы думал, что на белом свете еще никогда не было так тихо и мирно, как нынче.
Хозяин снова часто в отъезде. По вечерам они устраивают танцы или ходят в синематограф. А днем, когда у Сережи «школа», Месье лежит в купальне на берегу Десны. Следит, чтобы его крымский загар не пропал даром. И размышляет, как бы ему стать похожим на своего кумира Макса Линдера. Нет, выглядеть даже эффектнее, чем кинозвезда!
Сначала ему вспомнился золотой зуб у бывшего учителя семинарии. Какое же впечатление он на него произвел тогда, когда Ребман впервые заметил его волшебный блеск. Вот это было по-благородному!
И теперь его не покидала мысль о том, как бы и себе сделать золотой зуб! «Тогда у меня появилось бы что-то, чего в России еще ни у кого не было или, по крайней мере, мне не приходилось видеть! Даже у знаменитого Макса Линдера нет золотого зуба!»
Он тут же увлекся этой мыслью. В то время от праздности ему приходили в голову только вздорные фантазии.
Он спрашивает Веру Ивановну, есть ли в Брянске зубной врач, к которому он мог бы обратиться.
– Зачем, у вас что, зуб болит?
– Нет, но мне пора сходить, я не был на осмотре со своего отъезда из Швейцарии.
– Есть один или даже несколько, на главной улице, – ответила Вера Ивановна и записала ему адрес.
– Хорошо, так я прямо сегодня в обед и схожу.
И он пошел. Ему назначили на вечер, днем, как сообщила ему девица в белом халате, они заняты всю неделю.
– Какие жалобы?
– Никаких, я хотел бы сделать особый заказ.
И рассказал ей, какой именно.
Вечером он спросил госпожу докторшу:
– Вы уже делали золотые зубы?
Она рассмеялась в ответ:
– Зубы из золота не делают, только надевают на зуб золотую коронку.
– И такую коронку, ее можно поставить на любой зуб?
– Поставить-то можно, но ставят коронки или там, где нет зуба, или чтобы держался мост и можно было вставить зуб, как например, в этом случае.
И она показала ему гипсовую челюсть, у которой спереди красовался искусственный зуб, одетый в блестящую золотую коронку.
– Вот как это делается! Передний зуб отломился, и сверху поставили искусственный, с коронкой.
– И мне нужна такая же коронка! – потребовал Ребман высокомерным тоном, которому он научился с тех пор, как стал называться Месье в доме Ермоловых.
– Но у вас ведь нет ни одного испорченного зуба, ваша челюсть в полном порядке – как новенькая!
– Так вы сделаете коронку или нет?
– Для этого я должна буду убить ваш зуб!
– Ну, так убивайте же, за чем дело стало?
– Здоровый зуб?
– Здоровый или нездоровый, не все ли равно – убивайте!
Докторша поглядела на него так, словно перед нею был совершенно невменяемый субъект:
– Я не могу на это решиться! Поразмыслите еще до завтра: утро вечера мудренее.
Но Ребман уже все решил:
– Нечего тут ждать! Вы будете делать или нет?
Тут молодая дама заговорила напористей:
– Но вы же не негр?
– А какое это имеет отношение к неграм?
– Как же, это они любят цеплять золото в рот, нос и уши! Если вы такой сумасшедший, хорошо, я вырву вам все зубы! Говорите же, с какого начинать?
– Вот с этого! – выпалил Ребман. – Але оп!
Процедура оказалась не из легких. Три недели прошло – сначала сверлили, потом вычищали, потом убивали нерв, потом опять сверлили, опять закладывали яд и так далее… А когда докторша наконец вытащила уже убитый нерв: словно иголка прошла Ребману сквозь мозги, он аж подпрыгнул в кресле, чуть в воздух не взлетел.
– Теперь мы отшлифуем этот прекрасный боковой зуб, как это делается в некоторых африканских племенах, – говорит докторша намеренно громко. – И, наконец, сделаем гипсовый слепок, насадим золотую коронку, подгоним ее и зацементируем.
И вот теперь он у него есть! У Ребмана из деревни Вильхинген, прозванного в гимназии Скакуном за упрямство, следуя которому он совершал весьма экстравагантные поступки. Да, она теперь у него во рту – блестящая золотая коронка, которой нет даже у самого Макса Линдера!..
Но радость была не такой уж долгой. Коронку зацементировали в субботу после обеда. И уже после ужина зуб под нею начал ныть. Сначала потихоньку, словно хотел этим сказать, что ему коронка пришлась не по вкусу. Потом боль становилась все сильнее и сильнее. Еще не позвонили к чаю, а у нашего красавца слезы градом покатились по щекам.
Всю ночь бедняга не сомкнул глаз.
С утра сразу же телефонировал врачу, но не получил ответа.
Все воскресенье и всю следующую ночь страдания продолжали усиливаться. Ни компресс, ни порошки – ничего не помогало! Зуб под коронкой бунтовал, Ребману казалось, что он видит себя в огне нидерландской революции, который наконец добрался до святой Руси и с новой силой разгорелся здесь в Брянске.
Когда он в понедельник утром позвонил дантистке, то узнал, что она на выезде в деревне и вернется только к вечеру.
Она вернулась около пяти. И тут все прояснилось: у Ребмана воспаление корня, прекрасную коронку надлежит снять, зуб снова вскрыть и еще раз обработать. Процедура займет уже не неделю, а почти месяц.
– Поделом же вам! Не захотели меня слушать – вот вам и наука!
Глава 24
– Зима в этом году поздняя, – сказала Вера Ивановна, ставя утром на стол последнюю розу из сада. Но это и большая удача, если подумать о бедных солдатах, вынужденных мерзнуть в траншеях и окопах. Вы уже были на артиллерийском стрельбище? Митя же вас приглашал.
– Одному мне не хотелось бы идти, – говорит Месье. – Пойдемте-ка вместе!
– Согласна. На этой же неделе и сходим.
Ребман рад, что снова хоть что-то происходит. Мальчишка с тех пор, как стало прохладней, вообще не желает выходить из дому, не говоря уже о том, чтобы сбегать на речку искупаться. Сначала, сразу после Крыма, они еще продолжали купальные традиции на брянской «купальне», маленькой, наполовину затонувшей в реке бревенчатой избушке, в которой и двоим-то тесно. Ребману было невероятно важно сохранить свой красивый шоколадный загар, и он после купания лежал на скамейке под сентябрьским солнцем, которое не печет и не красит ничего, кроме листьев на деревьях. Ему вообще уже надоело сидеть в этой дыре, все время он вспоминал о чудных днях на берегу Черного моря: о жарком солнце, свежем воздухе, веселых вечерах и полной свободе, которыми они все там наслаждались. Теперь же он жил снова, как в клетке, особенно когда хозяин дома и домочадцы понуро бродят вокруг, словно их всех укоряет совесть. А он нынче больше дома, чем в отъезде, наш Рольмопс. Никто у них теперь не бывает, кроме гостей из соседнего монастыря: как-то утром явились монахи, Ребмана об их визите даже не предупредили. Он вообще еще лежал в постели, когда в салоне начали петь ектении. Сначала Ребман подумал, что это граммофон – но кому же придет в голову в пять утра заводить его?! И когда учитель быстро прошмыгнул в ванную, он увидел, что служилась настоящая ранняя литургия, на которой присутствовали все домашние, даже Вера Ивановна, которая никогда не ходит в церковь. Все стояли перед импровизированным алтарем со свечами и иконами; монахи с длинными вьющимися волосами и бородами пели хором, дьякон служил, а Сережа и хозяин в белых рясах прислуживали.
Всю эту картину Ребман охватил одним взглядом, и в его душе возникло знакомое уже чувство протеста: если с ним не считаются, то он просто умывает руки.
Отправился завтракать, сел за стол и начал есть, в то время, как все остальные в салоне – дверь туда была открыта настежь – все еще молились, пели и крестились. И когда он увидел, что никому до него нет дела, то вернулся к себе в комнату, открыл томик Вольтера и стал читать. Пройдут годы, и он готов будет многое отдать за возможность побывать на русской домашней церковной службе. Теперь же он смеется над всеми этими фокусами: и над Сережей, и над хозяином, переодетыми в «ночные сорочки».
Пока он так сидел и читал, пение приближалось, двери распахнулись, и вся компания ввалилась к нему: впереди дьякон с кадилом, за ним – монах с иконой и все остальные, вплоть до кухарок, кучера и сторожа.
То ли под влиянием Вольтера, то ли присущего ему самому протестантского духа, который подобных вещей не приемлет, то ли того и другого вместе – но он остался сидеть и смотреть на эту процессию с деланной улыбочкой.
Тут хозяин заорал, словно фельдфебель:
– Вста-а-ать!
Это прозвучало из уст этого всегда подчеркнуто вежливого господина настолько сильно, что Ребман вскочил как ошпаренный и продолжал стоять навытяжку, как провинившийся школьник.
Позже хозяин извинился перед Ребманом – да, именно так, а не наоборот – за то, что он накричал на него, это ведь не полагается. Но в тот самый миг, когда Ребман хотел сказать, что это ему следует извиниться, в его голове пронеслось: «Это не по своей воле, это все Вера Ивановна…!» – и он просто кивнул головой, так ничего и не ответив.
Потом к обеду монастырской братии подали рыбу. Но для Ребмана это не годится, он к рыбе даже не притронулся. Вера Ивановна делает знак Сане, которая их обслуживала, и что-то шепчет той на ухо – и через минуту Саня поставила перед Месье отдельное блюдо, на котором красовался золотисто поджаренный венский шницель.
– Он не ест рыбы! – громко объявил один из монахов.
– И у него еще золотой зуб! – заметил в ответ другой брат.
Но отец дьякон строгим взглядом дал им понять, чтоб они вели себя потише. Тут они повесили головы и снова начали жевать.
А теперь они едут на артиллерийское стрельбище. Павел запряг тройку, а Вера Ивановна вручила Ребману фотоаппарат.
– Вы думаете, что это не запрещено во время войны?
– Если с нами Митя, то можно.
Теперь Месье снова в полном порядке. Его золотой зуб снова на месте, и он возомнил о себе невесть что. По утрам и после каждого приема пищи он полирует свой зуб носовым платком. Когда он открывает рот, зуб сверкает, как восходящее солнце. Даже Кукла, миллионерша, уже прознала об этом зубе, и пригласила Веру Ивановну к себе на чай, чего до этого никогда не случалось, приказав ей привезти с собой «золотого немца».
Но Вера Ивановна теперь совсем не та, что прежде, словно ее что-то гнетет. Ребман не раз уже наблюдал, как она мечется по салону, словно зверь в клетке. И если кто-то приходил с визитом, то она или отсылала гостя, или сама уходила в спальню и там запиралась, не показываясь весь день.
– Что это с ней? – спросил Ребман Няню. – Она чего-то боится? Что брата отправят на фронт?
– Да, и этого тоже, но главная причина в другом. Пришло время, когда та злодейка свое отсидела и вот-вот выйдет на волю. Вот она, бедняжка, и боится, что опять случится что-то недоброе.
Однажды во время очередного «приступа» – Вера Ивановна снова целый день пролежала в постели – Няня после еды при всех обратилась к хозяину:
– Василий Васильевич, подумайте о том, что станет с вашим домом, если нам придется увезти отсюда Веру Ивановну, – никто больше не переступит и порога этого дома, никто!
Она сказала это совершенно просто, без обиняков, и хозяин не решился возразить ни слова.
Когда он уехал на несколько дней, Вере Ивановне стало получше. Она снова встала, смеется, острит и танцует.
В один из таких вечеров все сидели в столовой, завели граммофон, никто и не думал ни о чем – Вера Ивановна вдруг вскочила и стала носиться по комнате с криком:
– Это она! Она ходит вокруг! Я ее слышу!
Сестра сразу же молнией кинулась к ней:
– Верочка, дорогая, во всем доме нет никого, кроме нас, а мы ведь тебя так любим!
Но Вера Ивановна ее оттолкнула:
– Неправда, вы все желаете мне смерти!
Еле-еле уговорили ее принять снотворное и уложили бедняжку в постель.
– Он уже завтра возвращается домой, так что нас ждет беспокойная ночь!
Няня тоже пошла спать. Перед тем как пойти к себе, Ребман спросил, как дела. Наташа сказала, что Вера спит. Но надолго ли это? На всякий случаи, она побудет рядом.
Посреди ночи в дверь к Ребману постучали – это был Сережа:
– Месье, месье скорее идите, мама хочет выброситься из окна!
Ребман соскочил с кровати, впрыгнул в штаны, и когда он вбежал в Сережину комнату, то услышал крики Наташи и Няни:
– Держите ее, держите же!
Тут же был и Василий Василии; стоит перед дверью и дрожит, как мокрый пес, говорит Ребману, чтобы тот держал жену.
Но Ребман не сходит с места, как он может держать женщину: на ней же нет ничего, кроме ночной рубахи! Пока он это думал, больная – иначе не скажешь – распахнула окно.
Тут Ребман рванулся к ней одним прыжком, схватил и втащил обратно в комнату. Ему понадобились все его силы, так как женщина сопротивлялась, будто одержимая.
Вдруг, словно что-то оборвалось у нее внутри: она совсем ослабла и повисла, как мертвая, на руках у Ребмана.
– Да помогите же мне! Я один не могу ее нести, – обратился он к мужу. Но как только тот сделал движение, Няня грубо остановила хозяина:
– Только не оставлять ее с ним наедине!
И они втроем уложили Веру Ивановну в нянину постель рядом с малышом, который спал ангельским сном.
Но вот кризис миновал, муж отбыл, и они едут в тройке вдоль уснувшей Десны на артиллерийское стрельбище, что находилось в получасе езды, за фабриками. Ни стражи, ни запретительных знаков. Если их задержат, пусть назовут его имя, сказал Митя.
Казалось, он их ждал, – красивый молодой офицер стоял перед своей батареей, как раз дал отбой стрельбе. С открытой дружеской улыбкой, которая так нравилась в нем Ребману, словно рассказывая солдатам какую-то сказку, он опирался на орудие – а это была 15-сантиметровая гаубица – и курил сигарету. Когда он со всеми поздоровался, обняв сестру и Сережу, пожав руку Месье и кивнув Павлу, то пригласил всех сесть: чай сейчас подадут. Он показал на лафет пушки. И добавил:
– А, вы еще и фотоаппарат привезли. Это хорошо, сделаем несколько снимков.
– А что, правда, можно? – спросил Ребман.
– Если я с вами, то можно. Идите, становитесь со мной, а месье пусть снимет, на фоне пушки получится особенно мирная фотография.
Все становятся, Ребман как раз собрался снимать, но тут подбежал фельдфебель, отдал честь и спросил, не помнит ли его командир о том, что по законам военного времени строго запрещено фотографировать на территории и вблизи военных объектов!
Митя отдал честь, со словами:
– Спасибо, фельдфебель!
А Ребману сказал:
– Ну, снимайте же!
И Ребман нажал. Снимок вышел очень удачный, рядом с Сережиным кепи можно даже рассмотреть номер пушки.
Потом, когда окончился перекур, им разрешили посмотреть, как проходят учебные упражнения по стрельбе из пушки. «Заряжай, целься, разряжай», – совсем как дома в школе рекрутов, только там вместо пушки были гаубицы.
Вдоволь насмотревшись на ученья, они распрощались. И поехали домой. Никто даже не подозревал, какие последствия возымеет этот их визит на полигон.
Вот и генерал Зима пошел в наступление. Еще утром Вера Ивановна принесла из сада последнюю розу, а после обеда уже пошел снег, и не переставал до тех пор, пока не покрыл все вокруг толстым полутораметровым одеялом. Теперь, когда выходишь на улицу, сугробы такой высоты, что у прохожих видны только головы. И все ходят в меховых шапках, шубах и валенках. Все, кроме Ребмана, который не успел экипироваться перед атакой сурового «генерала». Хотя он и купил куртку из верблюжьей шерсти и к ней такую же шапку, выглядит все же не по-русски. Лучше подождать, пока они поедут в Москву, сказала ему Вера Ивановна, там уж он снарядится как следует, она его отведет по достойным адресам.
Как только перестал идти снег, пришли морозы, со скрипом и со свистом: меньше чем за неделю Десна полностью замерзла, так что через реку можно было переехать на санях.
– Ну, что теперь скажете, Месье, – подтрунивает Няня, – это вам не Швейцария, там-то наверняка и снегу-то не бывает. Вы на улицу теперь, небось, и носа не покажете?
– Нет уж, все равно пойду, – отшучивается Ребман, перекидывая коньки через плечо. – Что, пойдешь со мной?
– Нет, – говорит Няня, – я уж лучше останусь дома, в тепле, не хочу отморозить нос.
Тут Ребман вспомнил, как он прошлой зимой в Киеве чуть не отморозил уши, и перед выходом из дому все же надел шапку.
Он думал, что Сережа пойдет с ним, он бы дал ему урок физической культуры. Но мальчик не пошел: папаша не хочет, чтобы он шел на реку, это слишком опасно!
Лед на реке, конечно, не первоклассный: одна горбинка сменяет другую – это воздухом воду выдавило наружу. Но Ребман находит лед таким же превосходным, как когда-то дома на прудах, на которых они целыми неделями выписывали коньками вензеля. Он быстро привязывает коньки и бежит на другую сторону, где воздух не вздувал воду и где можно найти места с гладким, как зеркало, льдом. На коньках он катается уже давно, но делать широкие развороты так и не выучился, да еще и смущается, когда на него смотрят. Здесь ему некого стесняться: вокруг на сотни метров ни одной живой души. И теперь Месье из замка, что на Петровской горе, наконец научится делать широкие дуги на льду. Да, теперь уж наверняка! Через две недели он мог уже нарисовать восьмерку на льду. А еще через неделю – русскую букву «3», которая выглядит как цифра три. Но свою мечту написать на льду имя «Вера» он так и не смог осуществить. И слава Богу, что не смог.
Так проходило время, и уже стали говорить о Рождестве, и однажды утром Вера Ивановна сказала:
– Завтра мы едем в Москву за покупками. Самое время уже.
Москва!
– Москва, – говорил «Медведь», когда они сидели в Алупке на берегу моря, – Москва она одна такая во всем мире. Все другие большие города живут в своей суете и только и знают, что заколдованный круг денег и удовольствий. А Москва – она как добрая матушка, которая своих детей приглашает на чай. И чем больше гостей приходит, тем уютнее. Не зря люди так и называют ее «Матушка Москва», такого почетного звания еще не заслужил ни один город в мире.
– Какова же она по величине? – поинтересовался Месье.
«Медведь» рассмеялся:
– Как вам кажется, отчего говорят, когда чему-то конца и края не видать: точно как Москва! В других больших городах, например в Америке, все растет ввысь, как салат какой-то. У нас все идет вширь: Москва – это целый мир!
Слушая тираду «Медведя», Ребман подумал, что хотел бы однажды увидеть все своими глазами: ему показалось, что студент явно преувеличивал. Но, возможно, так оно и есть, он за эти полтора года уже стал свидетелем не одного чуда. Взять хотя бы это его место в Брянске! И все прекрасное и интересное, что его еще ожидает его впереди, особенно с тех пор, как у него появился «счастливый зуб». По крайней мере, Няню ему в этом удалось убедить, когда он явился домой с коронкой.
И вот они едут: Вера Ивановна, Наташа, Сережа и Месье. Павел привез их на тройке на вокзал, на сей раз на санях. И едут они снова в первом классе, как и тогда в Крым, в голубом вагоне с большими золотыми буквами!
Малыш Дуся тоже собрался ехать купаться. Он заявил об этом, думая, что все снова едут на море. Мама ему объяснила, что теперь уже холодно, и море все замерзло; они едут за подарками к Рождеству, чтобы рассказать Богомладенцу, о чем мечтает послушный и хороший мальчик Дуся, который остался дома с Няней и терпеливо ждет подарков к празднику. И когда Няня Ирина добавила, что он может тоже поехать, если хочет, но без нее – она в такой холод не путешествует, потому что не хочет отморозить себе нос и уши, – все успокоилось и встало на свои места.
Они выехали в три часа пополудни, и на следующий день в полдень прибыли в Первопрестольную.
– Садимся и едем, – говорит Вера Ивановна, когда замечает, что Месье начинает глазеть по сторонам, – нам нужно спешить: в Москве два дня пролетят так быстро, что и не заметишь!
Они едут в гостиницу – конечно, самую лучшую, в «Националь», что возле самого Большого Театра. И сразу же отправляются за покупками, сначала для всех членов семьи. С Месье они пойдут завтра, на него наверняка придется потратить полдня. Перед этим они еще успели заказать билеты в Художественный Театр.
Им повезло. В этом уверил их хозяин гостиницы, который сам звонил в театральную кассу:
– Четыре места рядом! Такое бывает только если заказывать за две недели или покупать втридорога у барышников.
– А что дают? – поинтересовался Ребман.
– Всемирно знаменитую пьесу, которая везде собирает аншлаги, везде, где только есть театр: «Синюю птицу» Метерлинка.
Когда они собирались выходить – извозчик уже ждал внизу – Вера Ивановна сказала Ребману, что ему нет никакого смысла ехать с ними: зачем ему слоняться без дела по магазинам, лучше посмотрите город, а магазины никуда от него не убегут.
– А не то пойдите проведать «Медведя» и Лидочку – вот они обрадуются! – Она впервые о них заговорила, а до этого все делала вид, что совершенно позабыла о курортных знакомых.
Ребман покачал головой:
– Во-первых, у меня нет их адреса, а во-вторых…
– Так у меня есть адрес, сейчас я вам напишу.
– Не стоит, у меня тоже есть в Москве знакомые, которым я хотел бы нанести визит.
– Ну вот, значит, встретимся в отеле за ужином. А потом пойдем поздороваемся с моей тетей.
И когда они уже сидели с Наташей и с мальчиком в санях, она помахала Ребману со словами:
– Если друзья оставят вас ужинать, не отказывайтесь, оставайтесь, сколько хотите. Вам ведь много есть чего им рассказать. А гостиница открыта всю ночь. Можете даже не звонить. Если вас не будет в восемь, отправимся без вас.
И они покатили к огромному магазину «Muir & Merelies». Ребман сначала ехал за ними и видел, как они вошли.
– А теперь вот куда, – сказал он извозчику, протягивая ему записку с адресом. И тот сумел прочесть.
– Ха-а-рашо, – и ударил коня кнутом.
– Далеко ли будет? – спросил Ребман.
– Нет-нет, это совсем близко.
Прошло, однако, около получаса, пока добрались.
Ребман расплатился. И позвонил в двери, на которых было написано «Георгий Карлович Медер». Открыла горничная.
– Дома ли господин профессор? – спросил ее Ребман.
– Нет, он еще в школе, – ответила та по-швейцарски, – но мадам дома.
– А когда вернется он сам? Я должен ему передать привет из Швейцарии, но я здесь ненадолго.
– Одну минуту, – сказала девушка. И тут вышла сама госпожа профессорша:
– Вы хотели бы поговорить с моим мужем? Он еще в гимназии. Я могу ему что-нибудь передать?
– Его приветствует доктор Альфред Ной.
Тут лицо дамы просветлело:
– Вы из Швейцарии?
– Да, родом-то я оттуда, – улыбнулся Месье, – но уже полтора года как путешествую.
– И теперь вы живете в Москве?
– Нет, я приехал только на два дня, сопровождаю семью, где служу домашним учителем.
– Тогда дождитесь моего мужа. Он будет вам страшно рад. С тех пор как идет война, мы не имеем никаких вестей из дому.
При слове «война» Ребман опомнился: ну да, ведь война же, а он и позабыл совсем. Вслух же сказал:
– Очевидно, здесь вы больше чувствуете войну, чем мы там, в Брянске, где и следа войны не заметно.
– В Москве заметно, особенно если говорить по-немецки! Мы ведь по происхождению немцы, доктор Ной, очевидно, вам рассказывал. Хотя родились и выросли мы в России, наши предки давно осели здесь, сердцем мы, конечно же, остались немцами.
Она сложила руки на груди, словно собралась молиться:
– Это для нас трагедия: мы здесь живем, но мы здесь не дома. Когда мы едем в Германию, там к нам относятся как к иностранцам, и мы скучаем по России. Окажись мы теперь там, нас наверняка упрятали бы в лагерь из-за наших русских паспортов. А здесь тоже нет никакой уверенности, что не случится что-нибудь страшное. Вот недавно нашего друга, семидесятилетнего органиста церкви Петра и Павла, сослали в Сибирь. Так что войну мы здесь еще как чувствуем!
– Но госпожа профессор ведь не хочет этим сказать, что в России люди подвергаются преследованию только за то, что их дедушка или прадедушка был немцем?
– В России никогда нельзя быть ни в чем уверенным, народ настолько наивен, что верит всему, что ему навязывают сверху, даже если это сущая нелепость. А на тех, кто пребывает у власти, вообще нельзя положиться. Нет, непосредственно нас это еще не коснулось. Тот наш друг – настоящий немец, и он это открыто признал. Но постоянный страх и неуверенность, пожалуй, еще хуже. Стоит заиметь в полиции или где повыше «доброжелателя», и тогда вы можете быть кем угодно и делать что угодно, – пощады не жди. В таких случаях русские не знают милосердия, усердствуют не в меру.
Они беседуют. Ребман рассказывает обо всем пережитом и о доме. О докторе Ное и как стечением обстоятельств его «выбросило» в Россию.
– К моему же счастью!
Они и не заметили, как пробило четыре. Георгий Карлович пришел «из школы», как сказала горничная. Красивый высокий мужчина с черной козлиной бородкой и головой, как у директора гимназии в Рейнгороде, хотя этот оказался намного дружелюбнее и просто человечнее того. Он был очень рад визиту Ребмана. Пригласил его пройти к себе в кабинет и рассказать обо всем. Сперва, конечно, о докторе Ное. Они были большими друзьями во времена учебы в Дрездене и с тех пор постоянно переписывались, пока это было возможно.
– Так это и теперь возможно. Я регулярно получаю письма и прессу из Швейцарии.
– С вами все иначе. Вы, в отличие от нас, можете ничего не опасаться. А нам из-за одного неосторожного слова шею свернут. В этом искусстве русская полиция достигла совершенства. Если им что-то не понравится, то достаточно и волоска в супе – и тогда уже не поможет апелляция ни в какую инстанцию. Здесь не отчаиваться означает уповать на Господа Бога. Хоть до Бога высоко, а до царя далеко, полицмейстер всегда на посту. Так что молите Господа, чтоб вам никогда не пришлось иметь дела с полицией – с нею шутки плохи!
В ходе беседы Ребман спросил, в какой школе работает Георгий Карлович, ведь горничная именно так выразилась.
– Она так и называется «Реформатское училище», то есть, по-нашему, протестантская школа. Это заведение считается одной из лучших гимназий Москвы. Приходите к нам с визитом – вот было бы здорово! Ведь гости из Швейцарии бывают у нас не каждый день.
– С удовольствием, – сказал Ребман, – когда я снова буду в Москве – в этот раз уже не успею. У нас еще полно дел, а мы послезавтра уезжаем. Но я надеюсь, что еще будет возможность вас посетить.
– Как давно, вы говорите, вы уже в России?
– Год и семь месяцев.
– И как вам здесь нравится?
– Сверх всяких ожиданий, я очень доволен! Когда я приехал в Киев, я думал, что и полугода не выдержу. А теперь, даже если бы мне в Швейцарии предложили самое прекрасное место, я бы отказался.
– А от военной повинности вы освобождены?
– Нет. Действительно, сначала я должен был вернуться. Но ни у меня, ни у правительства не хватило денег на дорожные расходы, и по этой причине мне позволили пока оставаться. Да, если бы я оплатил дорогу из своего кармана, то пошел бы в армию. Но у меня такой возможности не было.
И он усиленно закачал головой:
– Я не могу сказать, что скорблю по этому поводу: мне в России нравится.
– То, что вы говорите, вовсе не образец благородства. Настоящий мужчина жизнь свою отдаст за отечество, не то что место! Вот, прочтите-ка!
Он взял газету, что лежала на его письменном столе, и протянул ее гостю. Там большими буквами было написано, что более четырех сотен русских швейцарцев зафрахтовали в Одессе судно, чтобы на нем отправиться защищать свою родину. Так законопослушные и патриотичные швейцарцы поступали во все времена вплоть до наших дней!
Тут к Ребману вернулось серьезное настроение:
– Не поймите меня превратно, я получил официальное освобождение из московского консульства. Так что все в порядке, я не увиливаю от воинской повинности и вовсе не дезертир!
На следующий день они отправились все вместе обновлять гардероб Месье. Вера Ивановна пожертвовала на это полдня. Первой в их списке значилась «обувь», слово, которое Ребману сразу бросилось в глаза. Он прочел его на вывесках, но без помощи словаря ни за что бы не догадался, что так могут называться и туфли, и ботинки, и сапоги вмести взятые. Они обошли три магазина, и ни в одном из них не нашлось нужного размера, такие размеры просто не в ходу.
– Сорок первый – самый большой размер, который у нас есть, – сказал продавец в третьем магазине, – а уж сорок пятый! Такой ноги я еще не видывал и не представлял, что такое бывает.
– Я тоже, – смеется Вера Ивановна, когда они снова вышли на улицу, – и не догадывалась даже, что вы живете на такую огромную ногу. Ай да Месье!
Наконец они нашли единственную пару у «Muir & Merelies», которую держали на тот случай, если зайдет какой-нибудь англичанин. Но туфли прекрасны: сыромятная кожа, черная с лакированными носками.
Наступил черед самого главного – Макса Линдера. Ребман заявил, что ему просто необходим точно такой наряд же, как в любимых фильмах.
– Значит, нам нужен фрак и цилиндр, – говорит Вера Ивановна.
– Нет, я не хочу фрак с белым жилетом, к нему не подойдут новые кожаные туфли. Нет-нет, вот такой – он провел указательным пальцем полукруг по брюкам. И светлый жилет с перламутровыми пуговицами. И полосатые брюки.
– А, господин желает «гутэвэй»? Сию секунду!
Это происходило в магазине «Мандель» на Тверской, главной московской улице.
– Пошив хоть и фабричной, но профессионального кроя. И сидит даже лучше, чем от портного. При такай-то безупречной фигуре, как у Месье! – нахваливал свой товар продавец.
И действительно, сюртук сидел на нем как влитой. Ребман даже сам удивился этому, выйдя из примерочной.
– Ну, вылитый Макс Линдер! – вскрикнула Наташа, которая тоже была с ними.
Но Вера Ивановна ее тут же осадила:
– Макс Линдер с нашим Месье ни в какое сравнение не идет, с его-то рожей! Нашего Месье хоть под венец веди!
Так как на Месье брюки морщатся – складка на правой ноге приходилась не точно на середину туфли – они подобрали еще и зимнее пальто – элегантное, черное, с настоящим персидским воротником и польскими пуговицами, а к нему – шапку, как полагалось у «Манделя».
А теперь они идут в Художественный Театр, как это принято у благородных людей, с «точным опозданием». Портье сначала вообще не хотел пускать их, боясь нагоняя. Но Вера Ивановна вложила ему в руку «ключик», который подходит ко всем дверям. И вот уже Ребман снова переживает, намного острее, чем тогда в Киеве, то чудо, которое никакими словами не опишешь. Он, конечно, далеко не все понимал, но Вера Ивановна ему тихонько переводила, и он получил полное удовольствие от голубой волшебной птицы, завоевавшей и приведшей в восторг весь театральный мир. Хозяин гостиницы оказался прав.
Когда они через день вернулись в Брянск, Ребман тут же принялся мечтать в тишине о том, как он поразит всех на ближайшей вечеринке. Но тут его внимание привлекло лежавшее на бюро заказное письмо.
– Когда оно пришло? – спросил он у Сани.
– Как только вы уехали. Василий Василии лично расписался в получении у почтальона.
– Что им от меня нужно? – думал Ребман, распечатывая письмо. «Сим уведомляем вас, – сообщалось по-русски, – что вам надлежит явиться завтра ровно в два часа пополудни в главное управление полиции для допроса!» Печать и подпись, которую разобрать было невозможно.
– «Завтра ровно в два». Но это же было три дня назад, – заметил Ребман с усмешкой. Но усмешка быстро исчезла. «С русской полицией шутки плохи, благодарите Господа Бога, если вам не придется иметь с ними дела!» – говорил ему намедни Георгий Карлович.
Он тут же побежал к Вере Ивановне и показал ей приглашение. Она сразу прошла к телефону и попросила соединить ее с полицейским управлением. Целую вечность они ожидали. Затем она говорила минут пятнадцать, всплескивая руками и несколько раз называя имя Рольмопса.
Наконец она закончила. По крайней мере, с той стороны положили трубку.
– Ему, конечно, и дела нет, – заявила она гневно – взял себе письмо, расписался, и даже не удосужился сказать, что вы в отъезде. За вами даже полицейского посылали. Вы об этом знали, Саня?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Ну, я-то ему уже все объяснила. Он был в бешенстве, подумав, что вы просто оставили извещение без внимания. Но, в конце концов, мне удалось его переубедить. Теперь вы должны явиться завтра, только уже точно, а то разразится гроза!
– Что им от меня нужно? Я же ничего такого не учинял… насколько я знаю.
– Этого я не могу сказать, но, должно быть, дело важное, а то он меня бы так не чихвостил. Так со мной еще ни один чиновник не разговаривал.
– А кто же это был?
– Сам полицмейстер. К тому же еще и хороший друг Василия Василича – вы же его видели у нас на вечеринке. И она начала нервно ходить по комнате.
– Не знаю даже, – заговорила она снова после продолжительной паузы, – неужели же это он сам!.. От него можно всего ожидать!
– Василий Василии? – удивленно отозвался Ребман.
– Да-да, Василий Василии. Вы его еще совсем не знаете. Если бы он не боялся напальства, он бы нас всех уже давно!.. Пора бы уже знать, глупая я баба, ито не нужно было делать эти фотографии!
– Но из-за него? Что он мне может вменить в вину?
– Вы все еще нииего не поняли? То, ито вы мою сторону держите!
И внезапно по ее щекам руиьями потекли слезы:
– О, Месье, моя жизнь здесь – это целый роман! Нет, это трагедия! Что он выделывал, ито выделывал! Это не иеловек, это – животное!
На следующий день ровно в два пополудни Ребман прибыл в управление полиции. Городовой, еще один Голиаф с револьвером на красной перевязи, провел его в комнату, на которой было написано «Главный начальник управления полицией». Тот попросил предъявить приглашение и паспорт. Ребман все выложил на письменный стол. Затем он встал у дверей. Начальник, тот самый, который был у них на вечеринке, изучил паспорт, который Ребман зарегистрировал в мае прошлого года в Киеве в соответствии со всеми предписаниями закона. Затем он начал допрос. Молодой офицер переводил, хотя это вовсе не было необходимо, так как Ребман понимал каждое слово:
– Вы довольно много путешествуете по всей России – Кавказ, Крым, Москва и так далее?
– Да, это так, – вежливо отвечает Ребман. – Но только в сопровождении людей, у которых я на службе – один я не путешествую.
– И вы старательный фотограф: делали снимки в окрестностях морской крепости Севастополя, русского эсминца в день объявления войны! Артиллерийского полигона! И прочее.
Он указал на пачку фотографий, сделанных Ребманом, которая лежала перед ним. Севастопольский порт с военными кораблями. Вид на город с высоты Малахова кургана. Эскадренный миноносец, который вывозил императорскую семью. Демонстрация в Алупке по случаю объявления войны. Митя, Вера Ивановна и Сережа возле пушки, на которой виден номер.
– Действительно прилежная работа!
– Все эти фотографии я делал из чистого удовольствия от фотографирования или по просьбе бывших со мною людей. На артиллерийском стрельбище, к примеру, мы находились по приглашению офицера, и он…
Начальник резко его перебил:
– Этот офицер тоже понесет ответственность за свое легкомыслие! В настоящий момент речь идет о вас лично: вы ведь регулярно получаете немецкие газеты!
С этими словами он взял со стола пачку газет, и Ребман с первого взгляда узнал свои газеты: «Цюрицитиг», «Националь цайтунг», листок шафхаузенской интеллигенции…
– Это ведь вы выписываете?
– Да я. Но они же прошли цензуру, как это видно из соответствующих штемпелей. Кроме того, это все швейцарские газеты, а вовсе не немецкие.
Начальник изменился в лице:
– Швейцарские, значит! Вы думаете, мы не знаем, как обстоят дела? Что Швейцария, немецкая, по крайней мере, – а это ее большая часть – держит сторону наших врагов? Немецкий швейцарец или немец – для нас это одно и то же!
Тут Ребман не выдержал:
– Но для меня это не одно и то же! Симпатии и антипатии швейцарского народа вас вообще не касаются. Швейцария является нейтральным государством!
– Нам это известно: Швейцария дает убежище политическим преступникам, это ривьера для шпионов, предателей и убийц, одним из которых вы и являетесь!
– Ни в малейшей степени, – сухо заметил Ребман.
Но теперь он ясно понял, в чем тут дело, и завопил полицейскому, что есть силы:
– К черту все эти дьявольские уловки! Я – порядочный швейцарский гражданин, никакой не шпион и не революционер, и высказывать подобные голословные подозрения в свой адрес я вам запрещаю, понятно?
На это начальник холодно возразил:
– Что это вы там кричали ночью, когда проезжали мимо императорского дворца в Ливадии? И по какой причине «порядочный швейцарец» не выполнил распоряжения о мобилизации и не отбыл на родину?
Вместо ответа Ребман достал письмо из консульства, которое он носил с собой, и положил перед начальником: пусть сам читает. Выдержав паузу, он повторил свое требование:
– Я являюсь свободным гражданином Швейцарии и требую с собой соответствующего обращения!
– Именно так я с вами и обращаюсь, – ответил офицер, даже не взглянув на письмо. – Вы сегодня же покинете Брянск! Паспорт вам вернут при отходе поезда. Марш!
Ребман долго не раздумывал, в два прыжка он преодолел лестницу, схватил извозчика: дядя-генерал еще покажет этому солдафону что по чем!
Но Генерал при первых же словах опустил голову, а когда Ребман окончил свой рассказ, только и смог сказать:
– Будьте довольны, что с вами так мягко обошлись. Он мог бы устроить так, что вы бы бесследно исчезли, и никто никогда не узнал бы, куда и почему.
– Ну а что же мне теперь делать?
– Поскорее исчезнуть из Брянска. Разве вы не поняли, что это интриги Василия Василича? Он хочет от вас избавиться! Так что не устраивайте сцен, чтобы не случилось чего похуже.
Он обнял молодого человека со словами:
– Храни вас Господь!
На Петровской горе снова лились слезы. Но делать было нечего, вечером пришлось Павлу отвезти Месье в санях на вокзал. Вера Ивановна еще вложила ему в руку сторублевку.
– И если будут еще какие-то неприятности, непременно пишите, я вас в беде не оставлю. Затем он взял билет. До Москвы. Георгий Карлович Мед ер дал ему на прощанье понять, что если у него случатся трудности, то он всегда может к нему обратиться, в его доме для него всегда открыты двери.
И вот он стоит, Макс Линдер номер два с золотым зубом – и, как у Нарзана, глаза его полны горьких слез о несовершенстве этого мира.
У «Брянского дела» было еще и продолжение. Ребман сразу же поспешил в консульство и потребовал, чтобы там что-то предприняли. Хорошо, они напишут донесение посланнику. О результатах разбирательства его уведомят. Но никакого уведомления так и не последовало. Только когда уже весной Ребман пришел в консульство по совсем другому вопросу, секретарь заметил:
– Кстати, о брянском деле: того чиновника «наказали», послали в Ригу шефом полиции!
Это было, как если бы стражника из деревни Вильхинген «разжаловали» в шефы шафхаузенской кантональной полиции.
У этого злосчастного дела было и другое продолжение: когда Ребман уже полгода прожил в Москве и его никто давно не называл «Месье», он случайно проходил по Мясницкой мимо ювелирной лавки и увидел выставленные в витрине серьги с бриллиантами величиной с орех. «Точно такие же, как те, что были у Веры Ивановны!» – подумал он, зашел и спросил, не известно ли происхождение тех сережек, что на витрине – они ему кажутся очень знакомыми. И ювелир сообщил, что выкупил их у своей клиентки.
– Выкупили?
– Да, она их у меня же и покупала на свадьбу около двенадцати лет назад.
– Это курьез, но я уверен, что видел именно эти серьги на одной особе.
– Возможно. Но это довольно редкий экземпляр.
Ребман выдержал паузу. Затем сказал:
– Позвольте еще вопрос. Простите мою возможную бестактность, но…
– Да спрашивайте же!
– Эта ваша клиентка из Москвы?
– Нет. Из Брянска.
– Очень красивая дама… С родимым пятном вот здесь…
Ювелир понимающе улыбается:
– Я вижу, что вы ее знаете. Да, это Вера Ивановна Ермолова.
– Неужели ей приходится продавать свои бриллианты?
– Для брата, которого отправили на фронт.
– На фронт? Дмитрия Ивановича?! Когда это было?
– Подождите, я вам сейчас точно скажу. Это было… Восемнадцатого декабря.
И вот Ребман все узнал: через десять дней после того допроса Вера Ивановна проводила своего любимого, больного туберкулезом легких брата Митю на фронт, на верную смерть. И все только потому, что он позволил Ребману сфотографировать их перед той злосчастной пушкой на брянском полигоне!..
Книга II
Глава 1
Воскресным утром в середине января, около половины одиннадцатого, из Московской протестантской церкви вышла группка пожилых женщин. Как всполошившиеся куры, бегут они вдоль снежной стены, отделяющей тротуар от остальной части улицы. Вид у них такой, словно они пришли сюда, чтобы посмотреть, как весь мир взлетит на воздух, и они все, разумеется, тоже.
Одна кудахчет:
– Но это же ужасно, под такой аккомпанемент петь просто невозможно!
Другая, кажется, придерживается того же мнения. Хотя ее слова трудно разобрать, голос, жестикуляция и покачивание головой явно указывают на то, что она полностью согласна с товаркой.
Вот из церкви вышел элегантный молодой человек, судя по всему, русский: в высокой узкой персидской шапочке, с меховым воротником на черном зимнем пальто с польскими пуговицами, в полосатых брюках, медвежьих рукавицах – в общем, при полном параде. Большими быстрыми шагами он, минуя столпившихся дамочек, переходит на другую сторону бульвара, где должен вот-вот появиться трамвай под литерой «А», идущий в сторону центра города. Но трамвай всегда заставляет себя ждать, особенно когда спешишь, – ох уж эти окаянные московские трамваи! Всегда у них что-то ломается. Все время что-то стучит и дымится. И вот уже от десяти до двадцати переполненных людьми вагонов выстроились один за другим и не могут двинуться дальше.
Нетерпеливо, словно конь, несколько дней не покидавший стойла, топчется молодой человек на и так уже истоптанной трамвайной остановке. Переминается с ноги на ногу. Колотит онемевшую от холода спину. Прикрывает уши. Он чуть было не отморозил их прошлой зимой в Киеве, и теперь ему приходится за ними следить, особенно когда столбик термометра опускается. Сегодня в пять утра было тридцать четыре градуса ниже нуля – разумеется, по шкале Реомюра[22], – доложил церковный староста.
Вот и еще одна русская зима наступила. Не успел выйти из дому, а воротник уже весь в сосульках. Каждый вдох как нож в грудь. И снег скрипит под ногами. А больше ни звука не слыхать, как будто миллионный город вымер. Даже трамвай едет тихо, словно сани между снежными насыпями. А когда выйдешь вечером, все кругом сверкает и блестит так, словно феи рассыпали звезды небесные над «матушкой Москвой».
Тем временем дамочки исчезли в направлении «Швейцарского Дома», располагавшегося, по московским меркам, неподалеку от протестантской церкви.
«Что это они прицепились? – ворчит молодой человек себе под нос. – Я же не виноват, что франкофоны[23] поют в церкви, словно несутся галопом. Я и пастору говорил, что не в состоянии выполнять обязанности органиста».
Но пастор только и сказал:
– Пустяки, конечно же, вы в состоянии! Этого еще не хватало, чтоб швейцарский учитель не сыграл пары хоралов на органе, это же даже ребенок может! Как раз и попробуете в следующее воскресенье.
И Петеру Ребману ничего не оставалось, как согласиться. Он же не мог жить и столоваться в доме пастора, при этом ничего не делая для церкви.
Хотя он всего этого вовсе не хотел. Пастор сам напросился. Два-три раза приходил он к Георгию Карловичу, у которого Ребман смог оставаться первые несколько недель после своего вынужденного отъезда из Брянска, и не успокоился, пока Ребман не пообещал ему, что придет в церковь и затем останется отобедать.
Увидев этого господина впервые, он принял бы его за кого угодно, только не за пастора: элегантный, высокий, светлоусый и светлобородый господин, «высокий ученый лоб» и громкий голос. Тем не менее, именно это и был московский пастор, человек, известный на всю Россию тем, что не боялся никого, даже самого «всея Руси самодержца».
– Так, значит, в следующее воскресенье и приходите! И потом оставайтесь, у нас как раз хорошая комната свободна! – сказал он.
Но Ребман не хотел.
– А хозяйка, что она за птица? – спросил он у Георгия Карловича.
– Кто, попадья? Такая решительная. Не со всяким станет семечки лузгать!
Тон, которым это было сказано, и слово «попадья» стали для нашего недоверчивого клеттгауэрца еще одной причиной, чтобы отказаться от этой мысли. «Кто знает, может случиться продолжение кисловодекой эпопеи», – подумал он. К тому же, профессор еще добавил несколько подробностей, которые Ребмана отнюдь не вдохновили, скорее даже наоборот:
– Она русская.
– Русская? Жена пастора протестантской церкви?
– Да, русская. Это не всем пришлось по душе. И она не говорит по-швейцарски. Мы ее не очень-то приветливо встретили в нашей общине: по крайней мере, половина прихожан считала, что швейцарский пастор должен взять и жену-швейцарку; кандидаток было больше чем достаточно. Ну и так далее и тому подобное, как это среди людей принято…
В понедельник пастор, Павел Иванович, явился снова, и уже не давал Ребману покоя:
– Так приходите же! Вам у нас точно понравится. Все будут рады. И место работы мы вам подыщем!
«Ну, так и быть, схожу посмотрю, от этого еще никто не умер, я же всегда могу сказать нет, если не подойдет», – подумал Ребман. Вслух же произнес:
– Хорошо, договорились, в следующее воскресение буду у вас.
И он пришел. Сначала, конечно, как полагается, в церковь, но наверх, к органу, где играл старый и, судя по всему, очень опытный органист. Когда служба окончилась, Ребман с ним перемолвился несколькими словами, из чего узнал, что он бывший органист церкви Петра и Павла, тот самый, о котором ему рассказывала жена Георгия Карловича. В свое время русские арестовали его и вместе с другими немцами сослали в Сибирь. Старик так тяжело это пережил, что, кажется, так и не смог оправиться:
– Они нас так опозорили! В чем я, старый человек, перед ними провинился? Я же, кроме того, что пятьдесят лет кряду играл на органе, ни политикой, ни чем-либо другим сроду не занимался. Но так всегда бывает во время войны…
Когда пастор услышал, что они беседуют, он тоже к ним поднялся и, увидев, что это Ребман, провел его через целый ряд комнат из церкви в салон.
Перед тем как они ушли, старик за органом сказал:
– Я действительно больше не могу, господин пастор, при всем желании не могу. Вам следует подыскать другого органиста.
– Ну, располагайтесь, – сказал пастор Ребману, – я скажу жене, что вы пришли.
Ребман сел и осмотрелся в салоне, который ничем не отличался от сотен и тысяч других: плюшевая мебель с покрытыми вышитыми покрывалами спинками, на полу – восточный ковер; фотографии и репродукции знаменитых картин на покрытых темно-красными обоями стенах. Но – и этого не увидишь в сотнях и тысячах других салонов – два фортепиано, обыкновенное пианино и огромный рояль!
Пока он так сидел на краю кресла, рассматривая и, скорее критично, чем благосклонно, оценивая окружающую обстановку, одна из дверей открылась и вошла красивая, статная женщина – вся в черном, от туфель до ушей, только на шее и на рукавах белые рюшики:
– Значит, вы все-таки решились?!
– Да, – запинаясь, начал молодой человек, сразу же поднявшись с кресла, – я был… Я думал, что…
– Что, боялись? Думали, что попадья – людоедка, которая особенно пристрастна ко всем швейцарцам?!
Тут Ребман уже не смог удержаться от смеха. Позволит ли госпожа пасторша вопрос:
– «Попадья» – это не совсем то слово?
– Ну, это как посмотреть. «Матушка» было бы лучше, так русские называют жен священников. Для меня попадья – не комплимент, хотя я и знаю, что Георгий Карлович и его супруга ко мне весьма благосклонны.
Затем Ребман поведал ей свою историю, от начала и до конца. Он старался не забывать о том, что перед ним – пасторша, и все же не мог отделаться от чувства, что от этой женщины исходит прямо таки материнское тепло. Он рассказал ей все, обо всех своих проделках за полтора года пребывания в России. Пока он не закончил своего рассказа, она ни единым словом не перебила его: сидела, как королева, и только непрестанно накручивала на указательный палец длинную золотую цепочку от часов и порой улыбалась, очень добродушно. Когда же он выговорился, возникшее было чувство, что перед ним мать, превратилось в твердую уверенность.
Когда горничная позвала к обеду, он успел спросить, знает ли она швейцарский, – до сих пор их общение проходило по-немецки.
– Да, знаю, – ответила она, – но только несколько слов, которых мне хватило на всю жизнь после того, как я их услышала.
Тут Ребман снова рассмеялся:
– Ну, по части грубых слов русские тоже мастера, их этим не удивишь!
– Нет, дело не в грубости, в таких компаниях я не бывала, муж, тогда еще жених, представил меня своей родне и ближайшим друзьям.
– И что-то пошло не гладко? – удивленно спросил Ребман. – Он что, представил наоборот, даму господину, как это делает большинство швейцарцев?
– Даже не в этом дело. Вот представьте себе: мы впервые приезжаем в Швейцарию, я не имею ни малейшего понятия о языке: мой жених все время со мной говорил по-немецки. И первое, что слышу в доме свекра и свекрови: мини брут![24] Представляете, как звучит это «брут» для того, кто понимает только по-немецки![25] Тем не менее, я постепенно, понемногу привыкла. И ко многому другому тоже… Но идемте же обедать!
Ребман остался не только на обед, но и до самого вечера. Пил чай со всей пасторской семьей. Играл с детьми. Ужинал. Еще раз пил чай. И когда он около одиннадцати вечера вышел из их дома, ему казалось, что этих людей он знал всю свою жизнь.
И вот уже скоро месяц, как он у них живет. С тех пор как умерла его мать, он никогда и нигде не чувствовал себя дома.
И органистом он тоже служит. Из-за этого, правда, были споры, и перед тем, как он вступил в должность, и после того. Но самая первая стычка запомнилась особенно:
– На этом органе невозможно играть, он страшно расстроен!
На это пастор заметил, не то полушутя, не то полураздраженно:
– Для того, на что вы способны, он еще вполне годится!
– Нет, я не согласен. Когда на нем играет опытный органист, который этот инструмент хорошо знает и может обойтись без употребления расстроенных регистров, этого, конечно, никто не замечает. Но в моем случае, при моей убогой игре, еще и фальшивый строй – это уже слишком. Так что, господин пастор, орган нужно сначала настроить, иначе я не стану играть!
– Хорошо, – согласился пастор, – пригласим настройщика.
– А есть в Москве настройщик органов? – поинтересовался Ребман в надежде, что ему все же удастся избежать роковой минуты своего вступления в должность церковного органиста.
– Конечно, у нас имеется настройщик органа. Его сегодня же вызовет староста, и к воскресенью все будет в порядке.
И действительно, на следующий же день явился настройщик, старичок, настоящий божий одуванчик, без единого зуба во рту, точно такого же вида, как бывший органист у них в Кирхдорфе, глуховатый Клаус, всегда путавший песни и всю службу ставивший с ног на голову. Настройщика зовут Арнольд. Не поможет ли ему Ребман с клавишами?
– Как будто мне больше нечем заняться, – ответил Ребман, а про себя подумал: «Этот мастер толком и не слышит, наверняка тот еще умелец!»
Но все пошло как по маслу. За три дня они полностью привели орган в порядок, все тридцать шесть регистров. Ребман сидел на скамье и нажимал на клавиши: они строили, как скрипку, по квинтам, или, если держать приходилось слишком долго, он клал на клавиши колодки из меди, пока старик сзади не кричал: «Хорошо, следующую!» или «Порядок, дальше!» И было вовсе не скучно, даже очень приятно и красиво: долгие, мягкие звуки органа, которых Ребман не слышал с того самого времени, как уехал из дому. И что еще интересно: иные трубочки малюсенькие, словно карапузики, но зато какой устрашающий рев басов! И как же чисто строит этот старичок, вот это чувство!
Когда они закончили, маленький человечек спросил, можно ли ему сначала самому попробовать поиграть?
– Конечно, – согласился Ребман, ожидая услышать попурри из доморощенных пьесок, что обычно играют настройщики фортепиано. Такие он слыхивал дома, если у кого-то настраивали инструмент. Но тут из органа мощным потоком полился звук, да какой! – словно на скамье органиста восседал сам Иоганн Себастьян Бах! Ребман заслушался. А маленький старичок все музицирует, будто за завтраком чай попивает.
– Боже ты мой, где ж вы этому научились?
– Научился? – кричит своим надтреснутым голоском старик. – Я вообще нигде не учился, не было такой возможности!
И настройщик рассказал Ребману свою невероятную историю:
Он вырос в поместье, где-то в глуши Тверской губернии. Его отец крестьянствовал, имел молочное хозяйство. Бывший швейцарец, из кантона Люцерн:
– Да-да, и во мне течет швейцарская кровь! Мой дед с наполеоновской армией отправился в Россию, попал здесь в плен. Отморозил обе ноги. Я еще его застал прыгающим на двух костылях. Когда хозяин поместья увидел, что я люблю музыку и имею способности, он разрешил мне присутствовать на уроках музыки у его детей. Но я скоро превзошел их, хотя начал учиться позже. В конце концов, хозяин порекомендовал меня Рубинштейну, чтобы я мог…
– Вы учились у знаменитого на весь мир Рубинштейна!
– Нет, не у Антона, у его брата Николая, который тогда был директором Московской консерватории, в те годы, когда Чайковский в ней ушился. Видели рояль там, в салоне? – он указал большим пальцем в сторону квартиры пастора. – Это его концертный рояль. Так я, значит, поехал в Москву, и отец со мной – и сыграл знаменитому Рубинштейну. Как я боялся, можете себе представить.
– Сколько же вам было лет?
– Еще и тринадцати не исполнилось. А я, вдобавок, был еще очень маленького роста и такой застенчивый. Я казался себе муравьем перед огромным Голиафом. И у меня подкосились ноги. Профессор так отделал меня, да не наедине, а… – и тут он употребил русское слово, которое нельзя ни повторить, ни перевести, – перед всем классом! «Мадмуазель Арнольд! Ну же, мадмуазель Арнольд!» – кричал он мне каждый раз, когда я не колотил по клавишам, как кузнец. Короче говоря, я не только ничему у него не научился, но даже разучился играть и позабыл все то, что уже умел. И вот теперь я настраиваю фортепиано и органы и еще и приторговываю, чтобы заработать себе на жизнь.
– Инструментами?
– Да-да. Дома у меня есть несколько прекрасных инструментов. Заходите как-нибудь взглянуть. У меня даже есть орган, – он засмеялся, – не такой большой, как этот, но зато мой! Приходите же, я буду рад!
Он дал Ребману адрес, и, поскольку тому особенно нечем было заняться, кроме как подготовкой к предстоящему в воскресенье дебюту на органе, Ребман отправился с визитом в один из ближайших дней после полудня. Целую вечность пришлось ему искать, пока он наконец не набрел в одном из самых дальних переулков на Покровке на старинную, совсем покосившуюся избенку, в которой, казалось, могли ютиться разве что мыши да крысы.
Внутри «лавки» вид едва ли лучше: дырявый, истертый, неровный пол, потолок почернел от табачного дыма: он ведь курил беспрерывно, этот Арнольд, даже в церкви не мог остановиться, да еще и махорку, траву, по сравнению с которой «Мэрилэнд» пахнет просто как розы. Вдоль стен хибары разместились несколько старых фортепиано, гармониум, а в нише – настоящий маленький орган.
– Ах, как это мило, что вы зашли, – говорит старик, наскоро вытирая пыль с органной скамьи. – Мягких кресел в моем кабинете не найдется. Затем он подошел к двери и прокричал, как охрипший петух:
– Акулина! А, Акулина, куда ж ты запропастилась?
Когда он прокричал еще три-четыре раза, где-то далеко в глубине отворилась дверь, и послышался такой же заржавелый голос:
– Что прикажете?
– Поставь самовар!
И через четверть часа она появилась, старая Акулина, которая выглядела так, словно она именно для того и появилась на свет, чтобы жить рядом со старым Арнольдом, среди еще более старых, чем он сам, фортепиано. Входит, ставит самовар прямо на органную скамью. И двое соотечественников садятся справа и слева от самовара и пьют чай на русский манер: выливая из стаканов в блюдце, которое держат тремя пальцами. Кусочек сахару при этом держат во рту – и довольно прихлебывают.
Ребман спросил у хозяина, как идет его дело.
– Отлично, – прохрипел тот в ответ, – одна генеральша была на волосок от того, чтобы стать моей клиенткой, на тот самый волосок, на котором я вот уже более семидесяти лет сам подвешен…
Он подошел к фисгармонии, что стояла у стены напротив:
– Как вы думаете, что это за инструмент?
Ребман вздохнул:
– Если это не «Кюхлеркомод», наподобие того, что стоял в нашей деревенской церкви…
– Что же это за марка?
– Я и сам толком не знаю. Я тогда не обращал никакого внимания на подобные вещи. Но у него внутри было нечто вроде музыкальной шкатулки…
Старик аж подпрыгнул:
– Ну, тогда вам в вашем Кирхдорфе очень повезло, у вас была фисгармония Мустеля! Это сегодня в России самый искомый инструмент. И у меня он есть! Вот он стоит перед вами!
Он просто сияет: его инструменты, похоже, заменили ему детей:
– Надеюсь, ваш кирхдорфский органист умел как следует на ней играть, иначе это было бы просто грешно и обидно за такой чудный инструмент. Скажите же, как он звучал?
– Как кошка, которой прищемили хвост. Люди просто затыкали уши. Меня до сих пор передергивает, когда я об этом вспоминаю.
– Тогда он просто был простофилей, ваш органист. Если этот инструмент понять, ничего более прекрасного в мире не сыщешь; что до меня, то он в десять раз лучше того органа, что у вас в Трехсвятительском переулке, пусть у него и три мануала.
Он сел за инструмент и начал на нем играть, все на память. И снова Ребман про себя подумал: в этом человеке пропал гений. Вот он переключил регистр, и к обычному звуку фисгармонии добавилась тонкая музыка металлического язычка – такой прекрасный, прямо ангельский голос. Это, действительно, как Арнольд потом объяснил Ребману, были тонкие язычки, которые, как на фортепиано, соединены с клавишной механикой. Это называется перкуссией и может использоваться как в комбинации с другими регистрами, так и как самостоятельный тембр.
– Да-да, – отвечает со своей скамейки с блюдцем в руках Ребман, – особенно когда играет такой мастер, как вы. Но самый заурядный…
– Я как раз хотел сказать, именно тогда… – продолжал старик. – В этом причина того… ну, тот волос, с которого сорвался гешефт с генеральшей. Я как раз дал объявление, совсем мелким шрифтом и в одной только газете, – и уже на следующий день у меня появилась дама: меховая шуба, бриллианты, модный парфюм «Quelques Fleurs»[26] и тому подобное: она, дескать, уже давно ищет такой инструмент для созерцания, покоя и поднятия духа. Как, по моему мнению, это могло бы ей подойти?
«Так вы сами можете послушать», – сказал я ей и стал играть на фисгармонии, больше часа проиграл. Она сидела как раз на той же скамейке, что и вы сейчас, не проронив ни слова, пока звучала музыка. Лишь в конце она сказала: «Хорошо, пришлите мне этот инструмент». Вдобавок еще и пошутила: «Наложенным платежом!» И дала мне адрес: «Его превосходительство генерал Николай Александрович и так далее, Сокольники». О цене она даже не спросила.
Но я не стал посылать инструмент «наложенным платежом» ее превосходительству! Я сам отправился в Сокольники, и уже тихонько радовался про себя, что наконец-то у нас с Акулиной будет достойное Рождество: она ведь уже давно живет в нашей семье, еще меня нянчила. Помог выгрузить, правильно установить. Поиграл сам. Генеральша и на сей раз была довольна: «Если вы немного подождете, я с вами тут же и расплачусь, только быстренько пошлю в банк за деньгами». Я, конечно, стал изображать из себя гранд-сеньора: «Да не стоит торопиться, пошлете при оказии в удобное для вас время!». Ну не станешь же стоять, как прожженный бродяга, перед такой благородной клиенткой. И недели не прошло, как мне телефонирует эта генеральша, чтобы я приехал. Я взял извозчика, даже лихача!
«Сейчас будут денежки, слышишь, Акулина?» – прокричал я ей в самое ухо, она ведь уже ничего не слышит. Старуха только головой покачала, так, словно я малышом с разбитой кружкой молока пришел на кухню: «Поживем-увидим, Александр Яковлевич, поживем-увидим!» Я помчался, стало быть, в Сокольники… Уже один только извозчик стоил половину моей прибыли! Не то что половину: всю целиком, да еще и пятирублевку сверху. Она совсем не собиралась со мной расплачиваться, напротив, подняла воробьиный гвалт. Она же ясно сказала, что ей нужен инструмент для отдыха, поднятия духа, для успокоения и созерцания, а здесь надо работать и работать в напряжении, это же просто мучение, она даже задыхается! Ну, я… у меня все шутки на уме, бродяга эдакий, – возьми да и скажи: «Сударыня, для отдохновения существует кресло или кушетка, или кровать, но не фисгармония». Вы бы ее видели! Как только она мне голову не разбила?! Она бы с наслаждением это сделала, если бы только могла: «Вы наглый карлик! Забирайте свою мебель обратно, иначе от нее останутся одни обломки!» И вот я теперь снова должен сам на ней играть. Ну да ничего, тем более что скамеечка нам и обеденным столом служит.
Кажется, со строем органа все было в порядке. Но тут вдруг нашего «специалиста» стали беспокоить мехи. Педант Ребман решил, что привести в порядок только пол-органа не достаточно, нужно непременно осмотреть и мотор. Он спустился вниз и потребовал ключ от каморки, в которой находились мотор и насос. Открыл, осмотрел и сразу заметил, что ремень слишком легко идет, просто скользит по огромному колесу. «Хорошо, что я это сейчас обнаружил, ведь он мог бы соскочить прямо во время службы», – подумал Ребман и щедро смазал ремень воском с помощью стоявшего на полу деревянного бруска с надписью «воск для ремня». Вот, теперь он будет тянуть!
И он так потянул, что Ребман, когда снова поднялся на хоры, даже испугался, что орган вот-вот взлетит на воздух. Словно допотопный зверь разбушевался внутри инструмента, его слышно даже тогда, когда убираешь все регистры. Тогда Ребман снова побежал вниз, взял тряпку, смочил бензином и вытер ремень начисто. В результате чего орган стал выдыхаться от малейшей нагрузки…
«А ведь завтра мне на нем играть!»
Ко всем его несчастьям прибавился еще и приступ паники: он весь трясся, когда утром поднялся на хоры, у него дрожали даже пальцы ног. Он быстро уселся на органную скамью, раскрыл сборник хоралов и другие ноты и… забылся. Перед этим он, к тому же, заперся изнутри, чтобы никто не смог к нему войти. Потом притрусили старушки и расселись по местам, их было наверняка не больше, если даже не меньше, чем на библейских чтениях в родном Вильхенгене. А органист сидел себе и дожидался сигнала электрического колокола, звук которого пробирал его до костей: вот, вот, уже сейчас! Сперва он даже не обратил внимания на удар колокола. Тогда пастор внизу еще раз нажал сигнал, и тут Ребман протянул руку к выключателю, без изоляции прикрепленному рядом со скамейкой органиста (напряжение в пятьсот вольт!). Фьють— раздался звук, похожий на свист, и стало слышно, как мехи медленно наполняются воздухом. Затем открылся вентиль безопасности, освободивший насос: вдох, словно тяжело груженное животное, которому наконец позволили остановиться. И вот Ребман выпалил свою прелюдию к службе, конечно же, без педали и всю в одном регистре. Но он, по крайней мере, доиграл до конца. Это придало ему мужества перед хоралом, которого он больше всего боялся. Такой заковыристый – «Да взыграет веселием сердце мое». Пастор молился. Затем он объявил песнопение. Едва пастор произнес «первый и второй куплет», как Ребман уже дотянулся до клавиши второго мануала, и зазвучало довольно красивое вступление, которое он сам «сочинил». А потом органист что есть силы заколотил по первому мануалу, сопровождая пение народа. Он так трудился, что ему казалось, будто орган всем своим весом повис на его пальцах. И голос внутри него вопил: «Сейчас закончится! Еще один такт и конец!»
Но тут…
Он сбился. Это случилось вдруг, точно по приказу, которого невозможно ослушаться.
Но пастор очень спокойно произнес:
А теперь мы споем второй куплет.
И сам начал петь. Они допели до конца, все вместе, складно. Ребман успел успокоиться, да так, что даже мог слушать, поют ли еще, и даже сумел убрать регистр, так как заметил, что играет слишком громко.
Когда они были уже на последней строке, и сердце снова подпрыгивало в груди от восторга, орган вдруг отказался играть. Сначала он глубоко выдохнул: «Хииииияяяяя!!!» Затем раздался стон. И все.
– Что случилось? – спросил пастор после службы. – Вам стало плохо?
– Нет, не мне, органу. Мехи не работают, как следует, когда ремень скользит…
– Тогда нужно еще раз вызвать мастера, я не хочу, чтобы на Рождество случилось что-то подобное.
А Ребман подумал: «Не нужно было соглашаться на должность органиста, теперь у меня каждое воскресенье испорчено».
Но когда он перемучился и выдержал, то все же был доволен. Как органист он зарабатывал достаточно, хватало и на пропитание, и на жилье. Даже оставалась мелочь «на черный день», как выражалась госпожа пасторша. И еще она сказала:
– Только не теряйте мужества: будет день, будет и пища!
Среди недели она делает визиты: в сопровождении своего протеже обходит всех знакомых, которых у нее в этом большом городе немало; в первую очередь, разумеется, посещает швейцарцев. «Я вам привела молодого соотечественника, – говорит она каждый раз – который лишился места и в настоящий момент остался без средств к существованию. Подумайте о нем, если на вашем предприятии освободится место или услышите о какой-нибудь вакансии».
И добрые швейцарцы кивают: непременно, госпожа пасторша, подумаем. И на этом для них дело кончено. Ни один из них и пальцем не пошевелит для соотечественника.
После этого пасторша пытается задействовать свои немецкие церковные связи. Но немцам теперь так трудно, что они не знают, как помочь себе самим, и не смогли бы никого устроить на работу, даже если бы очень захотели.
Когда они в очередной раз вернулись домой ни с чем, пасторша сказала:
– Я уже вижу, что должна отвести вас к самому источнику. Завтра мы пойдем к барону Кноопу, он нам поможет!
И они пошли. Их сразу же впустили, как только посетительница назвала свое имя.
– Ах, баронесса, – приветствует ее пожилой господин в большом красивом рабочем помещении, на двери которого стоит надпись «Личный кабинет». Затем он слушает с таким лицом, словно речь идет об официальной церемонии. Просительница говорит, что, пожалуй, перейдет прямо к делу, так как знает, что у господина барона всегда много забот. И она подробно излагает обстоятельства.
Владелец многих фабрик и работодатель сотен тысяч людей кивает: сам он вряд ли может что-то предложить в данном случае, ибо имеет дело только с квалифицированным персоналом, но он оповестит своих знакомых.
– По какому адресу вас нынче можно отыскать? Ах да, дом реформатской церкви! Хорошо, я подумаю о вашем деле.
На обратном пути Ребман спросил:
– Это была шутка, когда он назвал вас баронессой или вы действительно носите этот титул?
Пасторша улыбается с таким выражением лица, словно ее спросили о чем-то, что было в далеком сне:
– Я уже и сама не знаю. Возможно, когда-то я и была баронессой.
Остальное время Ребман сидит за органом и упражняется, насколько это возможно в неотапливаемой церкви при температуре минус двадцать. Или составляет компанию пасторше, которая, сидя за письменным столом в своем будуаре, занимается семейной бухгалтерией. Перед ней большая книга, в которую она заносит все свои расходы до последней копейки. Не упускает ни пуговицы. И в длинном ряду цифр никогда не сыщешь даже мельчайшей покупки, сделанной для нее лично. Она завела отдельную тетрадь и для бухгалтерского учета Ребмана. Он отдает ей все до копейки, ничего себе не оставляя, и, когда ему нужны карманные деньги, он просит у нее выдать ему необходимую сумму. Однако ему почти не приходится этого делать, так как он никуда не ходит один: обычно ходят все вместе, пасторша всегда расплачивается и затем берет из его кассы, которая хранится у нее в особом закрытом ящичке письменного стола.
Хоть это и курьезно, Ребман вполне согласен с таким положением вещей. Что и неудивительно, так как у такой доброй хозяйки, каковой была пасторша, «мука в жбане и елей в чванце» никогда не истощались.
Вообще в доме совершенно не было ощущения, что живешь в клерикальной семье: никогда не слышно ни молитв, ни елейных речей, – все как у обыкновенных людей. Дети не ходят в церковь, даже в русскую, которая имеет для них больший вес, чем отцовская.
И сама пасторша – в ней нет и следа того, чего поначалу так опасался Ребман; она даже с удовольствием рассказывает анекдоты, как, например, вот этот: «Всем известно, что императрица Екатерина вела далеко не монашеский образ жизни: когда ей попадался на глаза красивый молодой человек – даже если это был обыкновенный солдат – она проявляла по отношению к нему «государственно-материнский интерес». Однажды на придворном балу она обратила внимание на молодого офицера, писаного красавца. Тотчас послала одну из придворных дам, чтобы та его к ней привела. Молодой офицер от ужаса – ведь никогда не знаешь, чего ожидать! – упал ниц, не смеет глаз поднять и взглянуть могущественной царице в лицо, так и согнулся в земном поклоне, но только позади самодержицы: царица с годами так раздалась вширь, что трудно было различить, где зад, а где перед. Наконец придворная дама шепотом подсказала бедняге: «Там, где брошка – там перед!»
Ребман пользуется возможностью и, конечно, учит русский язык, по принципу «бери, что дают», ведь у них в доме иначе почти не говорят. И когда он в трамвае или на улице что-то «выкопает», то несет услышанное домой, словно золото. Каждый день он приносит пригоршню «намытых» слов, однако пасторша ведет себя совсем не так, как если бы это было золото:
– Не вздумайте этого повторять при гостях: это выставит реформатский пасторский дом не в лучшем свете.
По вечерам или когда дети после обеда свободны, они ходят кататься на коньках на Чистые пруды или по воскресеньям отправляются в Сокольники кататься на лыжах. И как же это прекрасно – скользить по заснеженному лесу и видеть в сумерках вдалеке городские огни, так по-рождественски, хотя до Рождества еще далеко. Или они идут на искусственный бобслей московского яхт-клуба, где можно стремглав катиться вниз, даже не снимая коньков. А когда плохая погода, они играют в прятки по всему огромному дому, прячутся за шкафами и по всем углам, даже залазят внутрь органа, откуда потом выползают все запыленные и полузамерзшие. Но всем просто очень весело, и Ребману хорошо – как свинье в желудях.
Сначала пасторские дети над ним подтрунивали, что, мол, он говорит совсем не по-русски, а по-хохлацки. А потом они решили, что ему нужно дать русское имя. Пока такового у него нет, никакой он не русский вовсе. Отныне вас зовут Петр Иванович!
Они – яростные патриоты, эти дети московского пастора: так часто бывает в подобных случаях, когда люди иногда больше привязаны к своей новой родине, чем те, что уже тысячу лет живут на родной земле; особенно это сказывается в военное время.
И Ребмана они тоже заразили этой своей восторженной любовью. Когда они идут в театр, в оперу или на концерт и в публике раздается голос: «Гимн!», все тут же подхватывают хором: «Гимн! Ги-и-имн!!!» И оркестр играет по очереди все гимны союзных держав, начиная с «Боже, царя храни». А нашему швейцарцу в глубине души становится немного не по себе: «Вот они играют все национальные гимны, а нашего никогда и не услышишь, нас, швейцарцев, никто и в расчет не берет».
В самом начале войны, под впечатлением беседы с начальником полиции в Брянске, он еще колебался, чью сторону принять. Тогда он иногда даже тайком желал, чтобы русским досталось на орехи. Но когда в газетах сообщили, что им, и вправду, всыпали как следует, то у него возникло чувство, что перепало и ему самому.
Однако жизнь вокруг бьет ключом. Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не приходил к чаю. И приглашениями мы тоже не обделены, гостеприимство ведь и впрямь одно из самых прекрасных свойств русского народа. Стоит не видеться в течение одной только недели, а уже слышишь при встрече: «Сколько лет, сколько зим?!» «Гостеньки» – в них вся их жизнь, без этого никак нельзя, даже у самых бедных это так.
Не прошло и двух месяцев, а у Ребмана уже полгорода знакомых, и ему кажется, что он везде чувствует себя как дома. И когда ему делают комплимент, как хорошо он говорит по-русски и какое у него прекрасное произношение, он испытывает огромное чувство гордости.
И старик Арнольд берет его с собой, когда встречается с друзьями. Сначала он телефонирует:
– Что вы делаете сегодня вечером? Я иду к одному другу-музыканту. Приходите и вы, будем вместе музицировать.
– Но я ведь совсем не знаю никого из этих людей! – возражал поначалу Ребман. – И не могу предложить ничего достойного.
Тогда Арнольд каркал в телефон:
– Ну и швейцарец же вы! Ведь не ходят же только к тем, кого знают, ходят еще и к тем, кого раньше никогда не видели, именно это и есть самое интересное. Я бы хотел, чтоб в Москве нашелся хоть кто-нибудь, кого я еще не знаю, к нему бы сходил в первую очередь. А что до музицирования, вы ведь умеете, по крайней мере, слушать, а это уже кое-что, это может далеко не каждый.
Этими словами он представлял Ребмана каждый раз своим друзьям и знакомым:
– Я привел вам швейцарца-вундеркинда!
– Добро пожаловать! А как надо понимать, что это вундеркинд?
– Слушатель. Он величайший слушатель во всем мире!
В домах и на квартирах собирались люди из лучших кругов общества, которые говорили на всех языках и были во всем искушены. Рядом с ними Ребман сам себе казался совершенным невеждой и простаком. Но они никогда не давали ему этого почувствовать: это были добрые люди.
Как только гости сняли пальто и немного обогрелись, им сразу показывают инструменты: рояль «Блютнер» с особо красивым звуком. Спинет. Фисгармония «Мустель», которая звучит еще лучше, чем та, что у Арнольда. А вот старинные скрипки. Здесь слышишь имена всех знаменитых мастеров. Страдивари, Амати, Гварнери дель Джезу. Это все равно, что сказать, у меня есть картины Тициана, или Рембрандта, или Рафаэля. Это величайшие произведения искусства. И у них еще и голос есть, так что они живые. К сожалению, это не надолго. Наступают времена, когда уже не услышишь пения Страдивари или Гварнери.
И Ребман весь обратился в слух: великолепной красоты инструменты с зеркальным лаковым блеском и кристально чистым звуком скоро стали ему говорить больше, чем ветхозаветные пророки.
Один из друзей рассказывал, что богатейший московский купец приобрел целый квартет Страдивари. Больше четверти миллиона отдал! При этом не имея ни малейшего понятия, как держать в руках скрипку или виолончель.
Другой участник их беседы обратился к Ребману:
– В России много народу и много глупостей!
– Наоборот, – отозвался первый, – нет худа без добра. Если бы все ценные инструменты оказались в руках музыкантов, то через сто лет от них остались бы одни обломки. А так несколько шедевров останутся в целости и сохранности.
Они по очереди посещают всех членов «кружка», отправляясь то к одному, то к другому. Чтобы ответить на все приглашения, просто не хватает вечеров. Если скажешь по телефону, что у тебя другие планы, сразу слышишь в ответ: «Да нет же, приходите к нам, для вас у нас двери всегда открыты!» И тогда уже просто невозможно отказать, чтобы не обидеть хороших людей. Однажды, когда Ребман пропустил один из вечеров, на следующее же утро ему позвонил Арнольд, чтобы узнать, по какой причине он вчера не пришел?
– Там был новый гость, замечательный скрипач, вам непременно нужно с ним познакомиться.
И вот на одном из следующих вечеров новый гость тоже присутствовал. Ребман сразу обратил на него внимание из-за формы головы, одна из тех типично «русских голов», которые через несколько лет можно было увидеть на обложках иллюстрированных журналов по всему миру – с фамилиями знаменитых генералов под ними: выдающиеся вперед скулы, короткий широкий нос и челюсти, которыми можно разгрызать гальку.
«И этот тип прекрасно играет на скрипке? – подумал Ребман. – У него же руки, как у каменщика. К тому же он еще и революционер, как говорил Арнольд».
– И он вращается в благородных кругах?
На это Арнольд вслух рассмеялся:
– Так ведь все же здесь симпатизируют его идеям. Разве вы этого до сих пор не заметили?
– И что, он что-то может, я имею в виду, как скрипач?
– Сейчас услышите.
Он действительно кое-что может, этот Михаил Ильич. Он играет, как состоявшийся музыкант, как Арнольд на органе. Он играет весь вечер или в сопровождении Арнольда, или соло. Это настоящий концерт – лучше не бывает.
Перед тем как они разошлись, Ребман спросил, какой у него инструмент и можно ли на него взглянуть.
– Конечно, – ответил Михаил Ильич, – и протянул ему золото-коричневый корпус: стан, как у девушки, а звук, как у серебряного колокольчика. – Что скажете?
– Итальянец, это точно! – отозвался Ребман. – Не могу сразу назвать мастера, так как еще не держал в руках ни одного инструмента.
Он заглянул внутрь с видом знатока. На этикетке прочел:
– «Hieronimus Amati, filius Nicolae, fecit anno…» Год изготовления неразборчиво… Ага, вот, значит, как!
Михаил Ильич с гордостью подтвердил:
– Да-да, я купил ее на первые свои сэкономленные деньги – за восемьсот рублей!
– Это дешево, – заметил Ребман.
– Нет, просто даром, – прокаркал хриплым голосом Арнольд. – В таком прекрасном состоянии, ни одного дефекта, ничего.
Пока подошел трамвай, они еще немного поболтали.
– Вы уже давно в России? – спросил Михаил Ильич Ребмана.
– Двадцать месяцев.
– И так хорошо говорите по-русски? Вы, должно быть, очень прилежно учили язык!
– Не так чтобы очень. Я, честно говоря, и не учу вовсе, а, скорее, все вбираю через уши.
– Да уж, – заметил Арнольд, – он ведь лучший слушатель в мире! Вы об этом не знали?
– Я бы хотел так знать немецкий, как вы русский, – снова вернулся к теме языка Михаил Ильич.
– Немецкий? – удивился Ребман – Но ведь он под запретом!
– Да, но только для бараньих голов, которые полагают, что запретом можно все решить. Дух ведь не запретишь. А немецкий язык – это же носитель духа, не так ли?
И тут он сказал по-немецки:
– Петр Иванович, если хотите, учите меня немецкому, а я вас – русскому. Согласны?
– Конечно, согласен. Но…
– О, только если у вас есть время!
– Да время-то у меня есть, но не хотелось бы снова выступать в роли учителя.
– Это вовсе и не нужно, – говорит Михаил Ильич, – мы просто будем болтать о том о сем: раз по-немецки, потом то же по-русски. Как нынче вечером. Можем и музицировать, если хотите. И потом скажете мне, подходит ли вам такой стиль занятий.
Ребман, конечно же, согласился. Этот вечер подарил ему единственного друга, который у него был в России.
Глава 2
Ребман вот уже три месяца в Москве, но все еще без постоянной работы и какой-либо перспективы получить место. «Да, конечно, люди нужны, – отвечают каждый раз, когда напомнишь о себе, – но вы ведь даже и пишущей машинкой не владеете. И вашего русского для работы недостаточно. Будет трудно».
И барону Кноопу они напомнили о своем деле. Да, он не забыл, был ответ пасторше по телефону, конечно же, не забыл, и непременно даст знать, когда хоть что-нибудь прояснится.
Приближается весна. Уже начались разговоры о летних каникулах. А на работу ни намека.
– Наберитесь терпения, – говорит ему за штопкой пасторша, когда Ребман сидит с кислой миной, – потерпите еще, и деньги придут, как по почте. Знаете что? Уже самое время поехать посмотреть дачу, объявлений множество. После обеда как раз и отправимся.
И при этой оказии снова становится ясно, что пасторша, а по-русски Нина Федоровна, крепко держит в руках вожжи семейной кибитки. Она дирижирует всем, все распределяет, обо всем заботится. Хозяин приходит домой, только чтобы поесть и поспать, да еще в субботу ночью, когда готовит проповедь. Иногда Ребман, уже давно лежа в кровати, слышит из своей комнаты, как пастор тихонько открывает двери в кабинет и проскальзывает внутрь. День и ночь пастор в разъездах, собирает деньги на реформатскую школу, на детский приют, на немецких военнопленных, которые в его лице имеют верного заступника.
После обеда Нина Федоровна и Ребман отправляются с Николаевского вокзала на поиски дачи. Загородные дома широко разбросаны вокруг Москвы. Они принадлежат зажиточным горожанам, которые там проводят лето или сдают дома внаем, если сами уезжают за границу, в Крым или Финляндию.
– До войны, – говорит Нина Федоровна, – мы почти всегда выезжали на море, но только на Балтийское. Теперь, когда семья увеличилась и требования у всех возросли, а дети, окончив начальную школу, перешли в гимназию, на подобный шик уже не хватает средств. Но ведь на даче тоже замечательно!
– И как долго мы там пробудем? – полюбопытствовал Ребман, когда они сидели в поезде.
– Все лето, пока продлятся каникулы.
– Каникулы – все лето?
– Ну да, у нас ведь школы на все лето закрываются, учебный год начинается лишь в октябре.
– Скажете тоже! А церковь?
Нина Федоровна смотрит на своего подопечного со стороны. Она, конечно, сразу сообразила, куда он клонит:
– В церкви каникул не бывает, особенно в такие времена, как нынче. Следовательно, у органиста тоже! Для этого и существует железная дорога, чтоб в воскресенье утром отправиться в Москву и потом вернуться обратно. А ваш обед мы подогреем. Кроме того, мы надеемся, что работы не придется ждать настолько долго, что вы совсем разучитесь что-либо делать. Вы ведь того же мнения?
Ребман ответил, что для него это слишком серьезный вопрос:
– Я уже совсем измучился: только и жду, чтобы снова начать работать, я же хочу продвигаться вперед, а не катиться назад!
Они едут по заснеженной местности. Прекрасный теплый мартовский день, всего только десять градусов ниже нуля. Ребман снимает меховую шапку и расстегивает пальто, когда они выходят из поезда на станции Болшево. И хотя Нина Федоровна, грозя пальцем, советует ему быть осторожным и подумать о своих уже однажды пострадавших от мороза ушах, Ребман только смеется:
– Разве вы не видите, что у меня пот течет по лицу? Тепло ведь, прямо как на сенокосе!
На вокзальчике они справились о дороге: далеко ли будет до той и вот до этой дачи?
Станционный смотритель хорошо осведомлен и дает им нужные сведения:
– Нет, это совсем неподалеку – менее получаса ходьбы.
«Наверняка выйдет дольше получаса, – думает Ребман, – если русские минуты тянутся так же долго, как русские секунды, то мы и до темноты не доберемся до места».
– А каковы все прочие условия? – спрашивает Нина Федоровна.
– Прекрасные: двенадцать комнат, большая веранда, два теннисных корта, огромный парк— настоящая господская усадьба. Владельцы проводят лето в Пятигорске, так как хозяин болен, а то бы они ни за что не стали бы сдавать.
– Да, но в объявлении сказано: загородный дом из пяти комнат. О двенадцати комнатах и обо всем, о чем вы рассказываете, там ни словом не упоминалось.
– А-а-а, вот оно что, – разочарованно ответил смотритель, – вы имеете в виду флигель для прислуги! Я даже и не знал, что его тоже сдают. Да, да – в крайнем случае и там тоже можно жить. Он расположен у самого входа в парк, там, где улица делает поворот. Если вас, конечно, нечто подобное может устроить…
– Этого я не утверждала, – отозвалась пасторша тоном урожденной баронессы, – о другом доме я ведь вообще ничего не знала. Так куда же идти?
– Сейчас, пожалуйте, укажу вам дорогу, – сразу же откликнулся услужливым тоном смотритель в обвисших штанах. – Николай, я быстро! Только покажу господам дорогу к даче главного начальника, и мигом назад!
Затем, когда они вышли за вокзал, он спросил, не могли бы господа, на всякий случай, назвать ему свое имя, он ведь ответственный за сдачу внаем.
– Я сообщу вам, если мы решим снимать этот дом, – ответила ему в прежнем тоне баронесса Нина Федоровна, – и смотритель снова склонился в поклоне, а затем прибавил шагу.
Когда они потом шли уже одни по заснеженной дорожке через еловый лес, Ребман признался:
– Я не на шутку испугался, когда он упомянул главного начальника. Это слово я не забуду до самой своей блаженной кончины, если таковая меня ожидает. Но сколько же тут снегу, прямо утонуть в нем впору.
– К тому времени, как мы сюда переедем, снега уже не будет и все здесь покроется цветами.
– По мне, так можем хоть сейчас переезжать!
– Значит, вам уже наскучило у нас в Трехсвятительском?
– Да нет же! Как вы могли подумать, что мне у вас надоест, совсем наоборот! С тех пор как я остался без матери, еще никто обо мне так не заботился и нигде я не чувствовал себя так по-семейному, как у вас. Я просто большой любитель природы и радуюсь возможности оказаться в деревне, как ребенок радуется рождественскому подарку.
Они все идут и идут, а конца дорожке не видно. Ребман отметил:
– Вот опять настоящие русские полчаса! Пробило два, когда прибыл поезд, а теперь уже десять минут четвертого!
А про себя он думает: «Было бы здорово, если бы я нашел работу в городе, и каждое утро, и каждый вечер совершал такую долгую прогулку, а домой являлся бы, только чтобы поесть и поспать, как господин пастор».
Тут Нина Федоровна говорит:
– По описанию это должно быть здесь. Но я все еще не вижу никакого дома поблизости.
– Наверное, нужно было взять с собой смотрителя, – подумал вслух Ребман, – нам одним не найти.
– Да мы и сами с усами! Думаете, он бы пошел задаром? Русские станционные смотрители не таковы, тем более в столь заброшенной дыре. Он на всем пытается подзаработать и рад каждой копейке.
Ребман снова надел шапку и заметил:
– А ведь это, и вправду, на отшибе. Не скучно ли здесь будет?
– Скучно? Да что вы! Это ведь прекрасно. На дачи выезжают не для того, чтобы иметь вокруг себя полгорода: наоборот, спешат сбежать подальше от суеты. Я ни о чем лучшем, чем лето в таком сосновом бору, и не мечтаю! Здесь весь человек полностью очищается и телом, и душой. Видите ли, тут летом так хорошо именно потому, что здешний пейзаж теплее, чем швейцарский, я имею в виду, изнутри. Швейцарский ландшафт мне показался жестким: на каждом шагу запретительные таблички; когда едешь верхом, тебе везде кричат «сюда нельзя!», а пешеход рискует заплатить штраф, если пройдет не по предписанному пути между заборами. У нас не так: в нашей «самой свободной в мире стране» вы можете идти, куда ноги донесут, и даже дальше, и нигде не увидите запрещающих табличек. Или, может быть, вам приходилось их видеть?
– Нет, там, где мне довелось побывать за эти два года, я никогда не встречал никаких запретительных табличек. Мне даже странно снова слышать это название.
И словно почувствовав укор совести от того, что он сказал нечто нелестное о Швейцарии, тут же добавил:
– Но заборы, однако, есть и у вас, и даже стены имеются. В Москве нет ни одного частного дома, не обнесенного стеной в два человеческих роста. А за ней еще и сторожа караулят днем и ночью. В том числе и в пасторском доме в Трехсвятительском переулке.
Наконец, лес кончился. Они вышли к большому деревянному дому, построенному в стиле девяностых: кругом эркеры, башенки, крышечки, уголки, все как игрушечное. Рядом два теннисных корта, видны высокие проволочные ограждения.
– А вот и двенадцатикомнатная дача, – говорит Нина Федоровна, – с нее и начнем осмотр.
– Вы что, хотите ее снять? Неужели мы так богаты?
– Нет, одним нам не потянуть. Но если с кем-нибудь вскладчину…
Ребман сошел с дорожки в сад и тут же провалился по пояс в снег. Нина Федоровна кричала ему, чтобы он был осторожен, но Ребман не слушал и опять провалился. Задыхаясь и фыркая, он все же выбрался из мягкого снега. Теперь ищет галоши, которые он потерял в сугробе. Отряхивается. И делает вывод:
– Вот вам и первый знак: эта вилла не для нас!
Пасторша хохочет:
– Можно подумать, что вы, и вправду, русский, – такой же суеверный!
– Стал суеверным, было бы вернее сказать. Перед тем как уехать в Россию, я таким не был. Но пойдемте же! Вот здесь что-то вроде тропинки. Идите за мной, тогда с вами ничего не случится.
– Вот и у меня такое чувство. И уже давно, – опять шутит Нина Федоровна.
Она отпирает дом: смотритель дал ей ключи.
Вилла просто огромная.
– Я бы не хотел здесь оставаться, в этих залах так пустынно. И пахнет плесенью, – говорит Ребман.
Но пасторша ему объясняет, что таковы все дома, в которых никто не живет постоянно, а только время от времени.
– Все меняется, как только помещение становится обитаемым: насколько я вижу, это хороший дом, и провести в нем лето было бы для меня большим удовольствием. Посмотрим, возможно ли это. Теперь нужно скорее и маленький домик осмотреть, чтобы иметь представление об обоих. Это, наверное, где-то здесь, ближе к станции. Собственно говоря, мы должны были его заметить с дороги. Но сперва всегда замечают все большое. Хотя меньшее, как правило, оказывается и красивей, и лучше.
Она запирает большой дом и снова пробирается к дорожке. И они видят домик для прислуги. Он спрятался за двумя елями, погруженный в снег и в свои мысли, и совсем покосившийся, по крайней мере, снаружи. Но внутри здесь намного уютнее, чем в большом доме.
– Мне кажется, это нам больше подойдет, – важно заявил Ребман, который с большим удовольствием проводил бы каникулы в уже привычном семейном кругу.
Однако пасторша не спешит с принятием решения:
– Сначала мы осмотрим другие дачи, сдающиеся внаем, тогда мы сможем сравнивать и проголосуем, как это принято у швейцарцев. Хотя я тоже полагаю, что лучше всего нам было бы устроиться в доме для прислуги: там мы будем предоставлены сами себе и сможем достичь блаженства даже без попечения со стороны отца пастора.
– А он что, тоже поедет с нами?
– Боже упаси! Он из тех настоятелей, которые думают, что церковь убежит, если они не будут все время ее стеречь. Но мы к этому уже привыкли.
На обратном пути, когда они вернули смотрителю ключи, им все же удалось прийти к единому мнению: либо вилла, либо домик прислуги. Скорее второе – это как раз подходящий для них по величине дом и в нем намного уютнее, чем в огромной вилле. Они ведь не собираются везти за собой целый вагон вещей.
В тот же вечер состоялся семейный совет при участии Петра Ивановича, но без отца пастора. Совет постановил, что лучше не впутывать посторонних в это предприятие: может статься, – а такие случаи уже бывали, – что другие съемщики в последний момент откажутся, и тогда целый «дворец» повиснет у них на шее и испортит им все каникулы. Когда они встали после чаю из-за стола, можно было констатировать, что выбор пал на домик для прислуги, так что дача у них уже есть. А ведь у многих даже в июне еще нет пристанища, потому что они поздно начинают искать, и им приходится брать то, что осталось невостребованным. А Болшево – место красивое, там есть речка, где можно купаться и кататься на лодке.
– Да, – говорит Нина Федоровна, – я совсем позабыла, что у нас будет еще и своя купальня!
– Ну, тогда уж точно берем!!!
Каждый рассказывает о Болшево что-нибудь хорошее. Там даже есть свой маленький театр, в котором выступают актеры Художественного театра. Некоторые члены труппы летом живут в Болшево или где-то поблизости.
Пока они дискутировали и строили планы на все лето, пришла горничная Ольга и позвала Нину Федоровну к телефону.
Она пошла и не возвращалась около получаса. Через открытую дверь доносился ее возбужденный голос, но было не разобрать, что она говорила. Когда она наконец вернулась, то сияла, словно зажженная лампа:
– Место для Петра Иваныча!
Ребман не спешил проявлять энтузиазм:
– Что-нибудь стоящее?
– Такие вопросы не задают сходу, главное сейчас то, что у вас появилось место, и вы можете начать хоть что-то зарабатывать!
– Даже без предварительного собеседования? Это наверняка достойное место! И какой же волшебник меня туда устроил, уж не швейцарский ли консул?
– Нет. Это вообще не швейцарец. К ним вас не возьмут, можете не беспокоиться.
– Так у кого же тогда? Рассказывайте, наконец!
Нина Федоровна называет фирму, но не успевает договорить до конца, как старший сын со смехом ее прерывает:
– Это уж точно то, что нужно. Там он несколько лет просидит без толку за канцелярским столом, а потом все прогорит, как это было с их последним предприятием!
Мать строго осадила сына:
– Постыдился бы так говорить! Это ведь с каждым может случиться, но люди они порядочные!
– Еще бы, это же наши «клиенты»!
– Попридержи язык!
Тут уж Ребман не выдержал:
– Позвольте узнать, о чем именно идет речь?
– О международной торговой организации, представляющей первоклассные английские фирмы. Она находится как раз за почтамтом, менее двадцати минут ходьбы отсюда. Владельцы – двое братьев, бывшие немцы.
– Евреи! Говори уже прямо! – снова вмешался старший сын.
– Замолчи, наконец, и дай мне сказать! – вновь отбрила его мать. – Это порядочные люди, я не могу их осуждать за то, что им пришлось закрыть прежнее дело. Но они начали все сначала и за несколько лет снова пошли в гору. Это деятельные предприниматели. И когда такие люди дают вам шанс, то долго не раздумывают, стоит соглашаться или не стоит, особенно если другого выбора нет. Так что завтра же идите с ними познакомиться. Я им рассказала, кто вы такой. От вас не требуется ничего, кроме желания чему-то научиться и чем-то заняться. Вот адрес.
Она дала ему записочку. И на следующий день Ребман пошел представиться лично.
По его мнению, компания с названием «International Trading Company» должна была выглядеть несколько иначе, чем эта, которую он еле нашел в темном дворе: склад начинается, как только открываешь входную дверь, и пройти просто невозможно из-за нагромождения полок и ящиков. И господ владельцев он себе представлял по-другому: более англичанами, чем русскими, и более русскими, чем евреями. Но пока они обо всем договаривались, он вспомнил о том, что соотечественники оставили его ни с чем, а эти готовы совершенно чужого, необученного парня взять на работу по одной только рекомендации, чтобы тот мог у них подучиться, а затем занять более достойное место.
– Да, но я ведь ничего не смыслю ни в вашей отрасли, ни в бухгалтерии, не говоря уж о чем-то более тонком! – честно признается Ребман.
– Тем лучше, – отозвался один из братьев, ведущий переговоры, – значит, вы еще не испорчены.
А другой, сидящий напротив за большим письменным столом, успокаивает новичка:
– Не стоит бояться, Петр Иваныч, мы вас обучим основам предпринимательской науки, здесь мы специалисты. Через три года вы сделаетесь таким предпринимателем, которого в России еще поискать!
– Могу ли я подумать, прежде чем согласиться? – вежливо спросил Ребман.
– Конечно-конечно! Мы никуда не торопимся, – донеслось из-за письменного стола.
То ли из-за недостатка места, то ли чтобы быть поближе к дневному свету, братья сдвинули письменные столы. Так они и сидят друг напротив друга, как две птицы в гнезде: оба маленькие, крепко сбитые, головы, как у тюленей, – совсем гладкие; щечки розовые, как у хомячков, под мощными носами – усы, как настоящие щетки. И у каждого на мизинце левой руки по широкому золотому кольцу с драгоценным камнем величиной с вишню.
Ребман прервал молчание:
– Дело в том, что, как господам, наверное, известно, по профессии я – учитель, и обещал вернуться в Швейцарию по истечении двух лет заграничного контракта. Я не могу себе позволить самочинно изменить род занятий, никого об этом не предупредив, так ведь не полагается. С другой стороны, невозможно было предвидеть, что обстоятельства сложатся именно таким образом. У господина пастора я нашел приют и родной дом, о котором даже и мечтать не смел, тем более за границей. Да и вообще, в России мне нравится, и я хотел бы ее получше узнать. Такая возможность предоставляется ведь не каждому.
– Мы понимаем, Петр Иваныч! – сказал меньший из двух малышей. Он еще и заикался, начинал слово два-три раза, хватая воздух между попытками. – Мы все понимаем. Только не раздумывайте слишком долго, нам помощник действительно нужен.
Из этих слов Ребман заключил, что его берут, как говорится, не за красивые глаза. У этих малышей, похоже, имеются реальные планы и расчеты. Он продолжил:
– Еще вопрос, если позволите: намерены ли господа как-то оплачивать мне те три года, что уйдут на мое обучение или придется работать задаром?
– Нет, упаси Бог, как вы могли такое подумать! – в один голос вскричали оба. – Вы будете с первого же дня получать жалование!
Рука того, что справа, потянулась к лежащему на столе листку бумаги:
– Вот мы записали: первый год – сто рублей, второй – сто двадцать пять, третий – сто пятьдесят. Потом посмотрим. Возьмите это с собой и сообщите госпоже пасторше, что вы решили.
– Простите, сто рублей в год?
– Да нет же, это были бы просто чаевые! Нет-нет, сто рублей в месяц! Вместе с тем, что вы получаете как органист, получится неплохой заработок.
«Ага, плутишки уже все разведали!» – подумал Ребман. Однако он усмехнулся, блеснув золотым зубом:
– Я уже теперь имею больше сотни! Ну что ж, по рукам! Как только получу вести из Швейцарии, тут же сообщу вам о своем решении.
– Да, но мы потеряем время, а время – деньги, и для нас, и для вас. Не думаете ли вы, что лучше телеграфировать? Тогда вы уже завтра получили бы ответ и смогли бы с первого апреля приступить к работе. Отправьте телеграмму за наш счет, как только переговорите с госпожой пасторшей. С предоплатой за ответ. Это и будет вашим первым шагом на предпринимательском пути.
По дороге домой Ребман все напряженно обдумывает. Считает на пальцах. Еще раз. И еще: «Вместе с жалованием органиста я выхожу на двести рублей, минус пропитание и комната – получается ровно столько, сколько я имел в Брянске! Пункт второй: еще чему-нибудь научусь, например, вести корреспонденцию по-английски, для этого я им и нужен, как сказал малыш. Научусь машинописи, а главное – русскому языку, все имеющие должности ведь русские! Пункт третий: постоянное место в Москве, в сердце Российской империи! И наконец: дом и семья, лучше которой и не придумаешь!»
Он подпрыгивает от радости:
– Петр Иваныч! Мы это дело осилим!
– Но телеграфировать все же придется, – говорит Нина Федоровна, когда он ей обо всем сообщает, – мы ведь хотим в этом деле иметь чистую совесть.
Она собралась уже писать сама.
– Вы знаете французский? А, ну да, я и забыла: вы ведь швейцарский гимназический учитель, а они знают все!
Вместе они составляют телеграмму доктору Ною. (Заметим, что это – первая весточка после той неудачной истории в Барановичах.) Отправляют с «предоплаченным ответом», как велел новый «шеф».
Ответ пришел уже на следующий день.
– Однако, быстро обернулись, – заметил Ребман, прочитав телеграмму.
– И что же он пишет?
– Два слова: «attendes lettre» – ждите письма.
– И что теперь?
– Подождем, пока придет письмо. В этот раз я не хочу наломать дров, как уже бывало: речь ведь идет о решении на всю жизнь. Да и время у нас есть, еще ведь только двадцатое марта.
– Хорошо, только позвоните владельцам фирмы, чтоб они не подумали, что вы не заинтересованы вовсе, и не взяли вместо вас кого-то другого. Я рассматриваю это место как лучшее из того, на что вы можете рассчитывать по нынешним временам.
Письмо от доктора Ноя пришло, как говорится, «без пяти двенадцать»: почтальон доставил его двадцать девятого марта.
– Курьез, – говорит Ребман по прочтении письма, – человек, который собирался меня исключить из семинарии незадолго до ее окончания, пишет теперь, что он мне не советует менять профессию, даже учитывая те обстоятельства, о которых я ему сообщил. «В Вас всегда будут бороться два человека – идеалист и материалист; и если материалист возьмет верх, что непременно случится при Вашей к этому предрасположенности, если Вы выберете новую профессию, то я за Вашу дальнейшую судьбу не дам и сантима. Было бы очень жаль, ведь у Вас на лицо и другие склонности – к чему-то лучшему. Дождитесь возможности вернуться домой, я позабочусь о месте для Вас, на котором вы могли бы даже продолжить обучение, что было Вашим всегдашним желанием. Голодать и терпеть другие лишения Вам ведь не приходится. Как я слышал от Георгия Карловича, Вы в хороших руках. Подумайте о том, что я Вам советовал во время Вашего ко мне визита: не оставаться на чужбине слишком долго, не то она Вас поглотит, и Вы потеряете почву под ногами, и уже никогда больше не обретете родины. Пусть теперь Вам кажется, что все наоборот, – вы променяете золото на камни. Вы, конечно, придете в себя, но хочется надеяться, что это случится прежде, чем уже будет поздно. Если Вам не хватает денег на дорогу, я вышлю непременно».
Но Ребман успел уже так укорениться на чужбине, что даже сама мысль о возвращении домой причиняет ему боль. Вернуться в Швейцарию не солоно хлебавши, бросить все, что он здесь нашел, – пусть ему это все только мерещится?! Оказаться в глухой провинции, оставаться школьным учителем до конца своих дней?! Ведь возможность продолжить образование – только приманка, к которой прибегает доктор! Нет, при одной мысли о такой перспективе у него мороз по коже. «Я вообще никакой не наставник молодежи, никогда им не был и никогда не стану: мне не хватает того главного, без чего не обойтись в этой профессии. Так что решено: я пойду в “Интернешнл”!»
А тут еще и Нина Федоровна сказала, что доктор Ной, может быть, и из лучших побуждений дает советы, но если бы он оказался здесь и сам увидел ситуацию, то наверняка заговорил бы по-другому.
– Я ведь тоже желаю вам добра, вы наверняка уже могли это заметить. И если бы я не была убеждена, что в данном случае это – указующий перст судьбы, я бы тоже посоветовала еще подождать…
Короче говоря, Ребман надел пальто, натянул шапку и отправился на Мясницкую улицу.
Оба маленьких человечка, Николай и Максим Максимовичи, только посмеялись, когда Петр Иванович прочел им письмо из Швейцарии.
– Это вообще распространенное мнение ученых мужей о предпринимателях: делатели денег! Теперь у вас как раз будет возможность на собственном опыте убедиться, что это не так. Настоящий предприниматель может со спокойной совестью стоять рядом с кем угодно. В мире не было бы многих вещей, в том числе и таких, которыми стоит гордиться, если бы «мелочные торгаши» не выделили для них средств. Вы – свободный швейцарец и можете поступать, как вам угодно, но мы все же хотели бы через несколько дней получить ваш окончательный ответ.
– Вы его можете иметь уже сейчас, – твердым голосом сказал Ребман. – Я решил остаться здесь и принять ваше предложение. Если господа ничего не имеют против, с первого апреля я приступаю к работе.
Глава 3
Первое апреля выпало как раз на воскресенье, и Ребман решил, что это нерабочий день. Но еще до конца службы его срочно позвали к телефону! Это был его новый шеф:
– Петр Иваныч, зайдите поскорее в контору, у меня для вас есть работа.
– Но я должен быть на службе и играть на органе, – ответил Ребман, – это же было оговорено…
– Тогда приходите, когда служба в церкви закончится.
– Тоже не получится, после службы воскресная школа, – выкручивается Ребман. Сегодня школы не будет, и они собрались в Большой театр на дневной спектакль.
– Тогда после обеда. Жду вас ровно в два!
Этим коротким и ясным приказом шеф дал понять своему новому работнику, что, во-первых, он не терпит возражений, а во-вторых, время – деньги, даже по воскресеньям.
– Хорошее начало, – ворчит Ребман, когда в половине второго проходит мимо катка на Чистых прудах, идя в сторону Мясницкой, – сто рублей ведь еще нужно заработать, их никто не обязан преподносить мне в подарок.
На улице рабочие сжигают снег: одни большими лопатами сгребают его, другие грузят на сани и везут к котлу. Туда ссыпают снег, а откуда-то из-под днища котла вытекает подогретая мутная вода. День и ночь горят костры из березы под снеготопками на главных улицах Москвы, и трамваи теперь приходят с опозданием всего в четверть часа, вместо получаса, а то и трех четвертей.
Конечно, и в Москве тоже был ледоход. Три дня и три ночи над пожарной станцией, что напротив пасторского дома, были подняты желтые шары и то и дело команды отправлялись по вызовам. Ребман тоже ходил поглядеть вместе с пасторскими детьми. Они непременно хотели ему показать это явление, ведь ледоход нигде в мире больше не увидишь.
Ребман рассмеялся:
– А в Киеве?
– Да что на тамошнем ручейке за ледоход может быть, в нем ведь даже маленький ребенок не утонет!
Конечно, здесь не может быть никакого сравнения с мощной стихией днепровских вод. Москва-река тоже бушевала, но она протекает через город, замурованная между стенами высотой с дом, и только в Замоскворечье может случиться, что она разольется через улицы и попадет в дома. И все равно – это захватывающе страшная картина. И здесь река уносит с собою сараи, избы и такие глыбы льда, что, кажется, они могут снести на своем пути все.
Шеф уже на месте. Сам открыл Петру Ивановичу дверь и проводил его в бюро, в котором стояли два несгораемых шкафа.
– Вы ведь знаете английский?
– Да, изучал в школе и в гимназии.
– Хорошо, тогда вы можете меня разгрузить. До сих пор я всю английскую корреспонденцию был вынужден вести сам, от руки писал каждый заказ, каждое письмо, каждый счет. Теперь этим займетесь вы, как раз и изучите весь наш товарный ассортимент.
Он протянул Ребману дешевую записную книжку. Потом стал диктовать ему, это продолжалось битых полдня, аж до семи вечера.
В четыре пришел рабочий, очевидно, упаковщик, и поставил перед Ребманом чай. Когда он ушел, шеф сказал, чтобы Ребман лучше принес свой стакан из дому, а сегодня он может воспользоваться этим.
– А что у вас каждый день чай бывает?
– Даже дважды в день, утром и в обед, так на русской фирме положено.
Диктант был не из легких, попадалось множество слов, которых Ребман до этого никогда не слыхал и понятия не имел, как они пишутся. Тогда ему приходилось спрашивать. Ему вообще приходилось часто прерывать шефа: маленький человечек диктовал как одержимый, словно из пулемета строчил, страницу за страницей. Перед ним лежала целая гора писем, и на все нужно было ответить еще сегодня. Уже больше месяца он не разбирал английскую корреспонденцию, так как был по горло загружен множеством других более срочных дел.
Ребман, однако, противостоит таким чрезмерным к себе требованиям:
– Мне и до одиннадцати вечера с этим не справиться, придется до полуночи здесь оставаться, а сегодня все же воскресенье!
Шеф подошел к нему и положил руку на плечо:
– Заметьте для начала одну очень важную вещь, Петр Иваныч: для добросовестного предпринимателя времени не существует! Другие сотрудники приходят и уходят по часам. Вы же для нас не обычный сотрудник: мы бы хотели, чтобы вы и телом, и душой принадлежали нашему делу, как если бы это было ваше собственное предприятие. Понимаете, что я этим хочу сказать?
Ребман утвердительно кивнул. А сам думает: «Ну, давай же, диктуй скорее, чтобы мне хоть к ужину поспеть домой!»
Он устал и умственно, и физически, давно отвык несколько часов подряд писать, как когда-то в гимназии. И быстрый темп, и постоянные вопросы тоже утомляют. Он уже начал было стенографировать. Но тут шеф вдруг спросил, поспевает ли он за диктовкой:
– Вы действительно еще записываете? Я ведь не хочу, чтоб вы остались без ужина.
Когда запахло жареным, темп диктовки еще увеличился. Правильно стенографировать по-английски Ребман, конечно, не может, он записывает по немецкой системе. Ну, да не все ли равно, лишь бы продвигаться вперед!
Когда они в четверть девятого вышли из бюро, шеф заметил, что, судя по всему, они не ошиблись в выборе нового сотрудника:
– Продолжайте в том же духе, тогда быстро все прояснится. У нас для вас еще много чего в запасе!
С этими словами он махнул извозчику и оставил «господина предпринимателя» стоять там, где тот стоял.
В понедельник Ребману пришлось вначале подождать. Шеф, кажется, забыл сказать сотрудникам, что придет новый работник.
– Садитесь, – сказали Ребману, – Николай Максимович еще не приходил.
Значит, Николай Максимович. О другом брате никто не вспоминает. Ребман и вчера еще заметил, что того вовсе не было видно.
Ему пришлось прождать до девяти часов. Он было уже подумал, что о нем позабыли, как увидел в окно входящего Николая Максимовича. Потом прозвенел колокол – такой ручной звонок над входной дверью, который издает однократное громкое «динь». Было слышно, как шеф с кем-то обменялся несколькими словами, и затем снова стало тихо.
«Он обо мне, и правда, позабыл», – вновь решил про себя Ребман. Но в тот самый момент он услышал, что его зовут по имени. Когда он осмотрелся, то заметил Николая Максимовича, стоящего в дверях и глядящего на него в упор поверх золотого пенсне.
В соседней комнатке – это, собственно, скорее проход, с доской со стороны окна, похожей на скамью для инструмента, – шеф представил ему девушку, которая рьяно строчила на пишущей машинке.
– Петр Иваныч, наш новый сотрудник! Елизавета Юльевна, наш секретарь по русской корреспонденции.
Девушка подала Ребману руку, глядя на него весьма удивленно. Когда Николай Максимович заметил это, он добавил:
– Отныне Петр Иваныч занимается английской корреспонденцией!
Затем он провел Ребмана в «святая святых», усадил его на место своего брата и заговорил:
– Петр Иваныч, я хочу доверить вам тайну, но вы должны пообещать, что никому об этом не скажете, даже в пасторском доме – никому. Вообще вам надлежит все, что вы здесь видите и слышите – а в вашем случае это будет больше, чем в случае других сотрудников! – держать за семью печатями. Никогда не знаешь, что может статься, – нынче менее чем когда-либо. Так вот: мой брат в ближайшие дни уезжает за границу. По гражданству он все еще немец. Вы удивлены? Это наш блаженной памяти батюшка – вон там на стене висит его портрет – так распорядился. Он был очень разумным человеком, намного дальновиднее других людей. Для меня он купил английское гражданство (я ведь много лет прожил в Англии), а брат остался немцем, изначально же мы выходцы из Гамбурга. Тем самым отец избавил нас от многих неприятностей, от которых сегодня страдают русские граждане иностранного происхождения, никогда не чувствующие себя здесь как на родине. До сих пор брата не трогали, его жена – русская, а ее сын от первого брака – боевой офицер, заслужил на фронте георгиевский крест! Но как долго это продлится, никто не знает. Короче говоря, брат с женой уезжает в Стокгольм и будет нас оттуда снабжать. Швеция придерживается нейтралитета, там можно покупать немецкие товары и отправлять сюда под нейтральными марками.
Всю эту длинную историю он рассказал вполголоса и на одном дыхании, даже позабыл заикаться, а то иногда полминуты пройдет, пока он одно слово из себя выдавит.
– А если все откроется? – тоже полушепотом спросил Ребман. – Я имею в виду то, что товары немецкие.
– Это и должно открыться! Непременно! Продавцы должны знать, что это немецкий товар, ведь это гарантия лучшего качества!
– А другие? Ну, покупатели?
Шеф сдавленно смеется:
– Знаете, кто наши клиенты?
Он встает, подходит ближе к Ребману, садится на письменный стол, снимает пенсне. И говорит совсем шепотом:
– Русская армия! Девяносто процентов всех товаров, которые мы поставляем, идут на фронт!
Ребман уставился на него с открытым от удивления ртом:
– На русский фронт? Немецкие товары?!
– Так точно. Они даже требуют, чтоб это были немецкие товары. Только официально они не могут быть немецкими.
Шеф снова улыбается. Затем возвращается к главному:
– Пока брат был на месте, он занимался внешними службами, банковскими делами, транспортными поставками, охраной фабрики, где…
– Фабрики?!
– Да, у нас на окраине города есть фабрика копировальных аппаратов – тоже для армии. И всем этим занимался брат. А теперь, когда его не будет, все его обязанности примет на себя Петр Иваныч: русскому этого доверить нельзя.
В разговоре, который продлился еще не менее часа, шеф ознакомил Ребмана с персоналом фирмы. Он сейчас ему всех представит, но предварительно о каждом скажет несколько слов:
– Елизавета Юльевна, русская секретарша, ей вы можете всецело доверять: она чиста, верна и прилежна в работе, как немцы. Кстати, ваше место будет находиться в ее бюро.
«Интересно, где именно в этом “бюро”? – подумал Ребман. Там же и одному человеку слишком тесно!»
– Далее, по этой стороне, – продолжает Николай Максимович, указывая на дверь, что напротив той, через которую они вошли, – главный бухгалтер. Тоже немец. Старый, опытный специалист. Он знает наизусть всех наших заказчиков, две тысячи счетов…
– У вас две тысячи заказчиков?
– Да, и это менее чем за три года! Раньше у нас было другое предприятие. Это еще очень молодое, но, – он сжал руку в кулак, – зато вот какое!.. Значит, он держит в уме две тысячи счетов, знает, сколько должен каждый или когда истекает срок векселя, ему не нужно заглядывать в книгу. И за все эти годы – а он был у нас еще во времена отца – у него не было ни единой ошибки, ни одной! Этот человек на вес золота.
– Отчего же он может здесь оставаться, если он немец, а ваш брат – нет? – допытывается Ребман.
Шеф смотрит на него в упор:
– В России возможно все, если у вас для этого довольно средств. К сожалению, нам не хватает нескольких сотен тысяч, необходимых для того, чтобы брат тоже мог остаться. За бухгалтерией следует упаковочная. Об упаковщиках говорить нечего, простые люди, исполняющие свою работу и все тут.
– А там впереди, в лавке, там ведь еще кто-то есть?
– Вы видели высокого, бледного господина за пультом перед окном, с черными усиками? Его зовут Иван Михайлович.
Ребман кивнул. Он даже успел перемолвиться с этим господином несколькими словами.
– Какое же он произвел на вас впечатление?
– Особенно не располагает к доверию. Во всяком случае, по отношению ко мне он особой приветливости не проявил.
Шеф снова сдавленно смеется:
– Вы не слишком ошибаетесь, когда говорите, что ему нельзя доверять. Раньше он работал в охранке.
– Я так про себя и подумал!
– И до сих пор, очевидно, еще на них работает! Вы не обратили внимания, как он смеется: одними губами. Но за этой улыбкой прячется диавол. Берегитесь этого человека. И следите за каждым словом, когда с ним говорите. Никогда в его присутствии не обсуждайте дел фирмы или меня. Можете быть уверены, что через полчаса он мне обо всем доложит.
– Чем же он занимается?
– Простой частью бухгалтерии. И когда посыльный не на месте, как теперь, он отвечает за лавку. Его молодой визави – счетовод. Совершенно ничему не обученный крестьянский сын: читать, писать и считать выучился у нас, теперь по вечерам ходит еще и в торговую школу. Он гениально считает в уме. Если бы ему дали возможность учиться в университете, он стал бы, по крайней мере, приват-доцентом. Его хотели забрать в армию, но, к счастью, по крайней мере, для нас, у него обнаружили что-то в легких. Вот я вам обо всех и рассказал. Теперь пойдемте, я вас представлю!
Они обходят всех сотрудников по очереди, и Николай Максимович каждому представляет Ребмана. Все вежливо, не говоря ни слова, подают ему руку. Только бухгалтер, этот старый барсук с медвежьей челюстью и усиками, как у Франца-Иосифа, заметил, глядя на новенького поверх очков:
– Так, значит, вы швейцарец. Что ж, если ваша работоспособность соответствует вашему здоровому виду, то можно поздравить нашего Николая Максимовича с новым удачным приобретением!
В конце они еще зашли в упаковочную, где товары укладывали в аккуратно сбитые ящики – в основном это были фотографические пластинки и фотобумага. Затем ящики взвешивали, связывали, запечатывали и, наконец, чернильной ручкой по гладкому влажному дереву надписывали адреса. Целыми рядами стояли они, готовые к отправке.
– Почему эта партия все еще не отправлена? – спрашивает шеф подчеркнуто мягко, – ведь все же еще в субботу было упаковано!
– Да, в половину восьмого вечера! А по субботам почта, как и все нормальные учреждения, закрывается в пять. Разве вам, Николай Максимович, это не известно?! – безо всякого почтения возразил начальник склада.
«Значит, и здесь работают сверхурочно, – думает про себя Ребман. – И выглядит все совсем не так, как если бы люди были всем довольны. Но меня это не касается».
Затем шеф вприпрыжку поскакал с Ребманом обратно в бюро и сказал Елизавете Юльевне, чтобы она приготовила место для нового сотрудника и освободила одну из пишущих машинок, так как он должен сейчас же приступить к работе.
И с этими словами шеф мгновенно скрылся в «святая святых» или в «крепости», – именно такое определение Ребман впоследствии не раз слышал от сотрудников.
– Да, места здесь немного, – заметил Ребман, когда уселся в своем сумеречном уголке у входной двери. – А света еще меньше. Так я не моту работать.
В его распоряжении был совсем маленький кусочек столешницы, едва ли метр длиной, и такой узкий, что только пишущая машинка и уместилась.
– Придется включить свет, – отозвалась коллега, – в этой дыре иначе вообще ничего не увидишь. В приличном месте такого никто бы не потерпел. И многого другого из того, что здесь происходит!.. Вы сможете писать на этой машинке?
Ребман пошутил:
– Так же, как и на любой другой. Я еще никогда не пробовал писать на машинке.
– А кто же вы тогда по профессии?
Ребман заулыбался во весь рот, сверкая золотым зубом:
– Разве по моему виду трудно догадаться?
Тут уже и коллега обнажила зубы – белоснежные, между прочим:
– Я вижу только, что вы молоды и не слишком-то умны. Простите, что я себе позволяю так говорить, но если молодой человек, который выглядит так, как вы, идет к этим братцам на поклон – а вам придется кланяться, еще увидите! – то он либо глуп, либо, как утопающий, готов ухватиться за соломинку… Но лучше начинайте стучать на машинке, наш шеф слушает все в оба уха.
Ребман потянул к себе лампу с зеленым стеклянным абажуром, что висела на обычном проводе; укрепил ее кусочком проволоки над старой, запыленной и задерганной «Smith Premier» и вставил в машинку один из английских фирменных бланков, целую стопку которых ему перед этим вручил шеф. И начал стучать двумя пальцами, конечно, клавиша за клавишей, как мальчик, который учится играть на фортепиано. Приходится внимательно следить и целиться, чтобы ударить по нужной клавише. Елизавета Юльевна объяснила ему все «музыкальные» правила: как заправлять и вынимать бланки, переключать с широкого интервала между строк на узкий, как поставить большую букву и прочее и прочее…
– Однако пишите узко: все с маленьким интервалом между строк, а то придется еще… Идет!
И вот шеф уже стоит в дверях, держа свое пенсне в руках.
– У вас все в порядке? – обратился он к Ребману и исчез так же быстро, как и появился.
– Ну у него и слух! – прошептала Елизавета Юльевна.
– И нюх! – отозвался Ребман.
Когда пробило двенадцать, – хотя боя часов в России не слыхать, все же так говорят, – он еще и страницы не написал: все приходилось искать и буквы, и строчки, переспрашивать, вытирать, исправлять, если он при всем старании все же нажимал не на ту клавишу. Со вздохом взглянул он на свою коллегу, которая настрочила уже целую папку:
– Как здесь положено, можно идти, когда пришло время, или нужно сначала спросить?
– На обед можно идти без спросу. Вечером не советую. Только те, что в лавке, могут – они должны на поезд успеть, а нам нельзя, пока шеф на месте.
– И когда же он уходит?
– В половине восьмого, в восемь, а то и в половине девятого. Обычно он без четверти восемь принимается диктовать, и в тот же вечер все нужно отослать. Или когда ему приносишь почту на подпись, то еще требуется добавить то и это. Так что все приходится переписывать, исправлений он не допускает.
– И вы все это терпите?! Или он платит за переработки?
– Переработки! За это мы ведем борьбу без конца и края. Некоторые даже переехали за город, чтобы вовремя уходить с работы. Возможность наконец уйти – единственная отрада в этой конторе! Если бы мы не были такими дураками! Я, например, уже давно могла бы вернуться на свое прежнее место…
– А где вы раньше работали?
Елизавета Юльевна назвала крупную, известную во всем мире фирму, которую знал даже Ребман.
– И получала бы больше, но каждый раз, когда я ему об этом говорю, он обещает мне повышение. Пока еще ни разу его не выплатил.
– Сколько же он вам платит, позвольте спросить?
– Двести пятьдесят рублей.
– Двести пятьдесят… Да это же княжеское содержание!
– Да, в пересчете на швейцарские франки и по довоенному курсу. И если жить у своих, на всем готовом. Как в вашем случае – не так ли?
– В каком-то смысле…
– И что вы там у них платите, могу я узнать?
Услышав ответ, коллега схватилась за голову:
– Я столько же плачу только за комнату, вернее, платила, пока не началась война. Они подняли цену до шестидесяти. И все остальные цены кругом ползут в гору. А вам он сколько платит?
Ребман сказал все, как есть, всю свою шкалу.
Коллега смеется:
– Они вас здорово поймали. А вы не подумали о том, что идет война и что жизнь с каждым днем дорожает?
– Нет, я об этом не думал и ничего подобного не чувствую. Но я предполагаю, что если действительно станет хуже, то и он проявит рассудительность и можно будет об этом поговорить.
Коллега кивает:
– В этом вы правы: наш Николай Максимович всегда действует по расчету и никогда иначе. Спросите у Ивана Михайловича, и у счетовода, и всех остальных, – услышите ту же песню!
– Да, как раз об Иване Михайловиче он меня предупреждал, чтобы я с ним был настороже.
– Известно почему. Иван Михайлович – первый сотрудник этой фирмы, он здесь дольше всех служит, он-то этих братьев хорошо знает. Что он вам еще обещал? Я имею в виду, кроме оплаты?
Ребман рассказал. Она опять кивает в ответ:
– Точно то же, что и Ивану Михайловичу, ему он тоже говорил, когда тот оставил свою государственную службу, что он станет великим предпринимателем, если как следует потрудится. Вот бедняга ему и поверил, старался, как Иванушка в сказке, усердствовал везде, куда его только ни посылали, – как, впрочем, и все русские: не за страх, а за совесть. И кто он теперь? Конторская крыса, как и до этого, только с тою разницей, что лишился государственной пенсии. А зарабатывает так же, то есть так же мало. Спросите у него сами, он вам подтвердит.
Ребман продолжает расспрашивать:
– А что с тем упаковщиком, высоким, худым, он простужен или болен? Он после каждого слова закашливается и хрипит, и из носа у него течет, и из глаз.
Елизавета Юльевна приложила руку к груди:
– Туберкулез в последней стадии!
– И он ходит на работу?
– А что ему остается – с голоду помирать или от мороза? Такие люди, как наш шеф, ведь никого не жалеют. Тут ничего не меняется. С тех пор как я здесь, – а уже скоро три года будет, – и зимой, и летом несчастный все кашляет.
«Недаром, ох, недаром, – подумал Ребман, – говорил мне Николай Максимович, чтобы я из дому свой стакан принес! Но о причинах, разумеется, умолчал».
После обеда шеф появился в три часа. Раньше он никогда не приходит, сообщает Елизавета Юльевна, и принимается снова болтать. Ребман обычно не прерывается: если есть работа, он не успокоится, пока не окончит ее. Однако ему интересно узнать, как видится все, если смотреть из Зазеркалья.
– Правда ли то, что у братьев раньше было другое предприятие? – спросил он между делом у своей коллеги.
– Да, и не одно.
– И действительно оно приказало долго жить?
– Так говорят. Но как поступают в таких случаях? Просто открывают новое. Но какое!..
Как раз в тот момент, когда Ребман надеялся услышать, какое именно, раздался звонок у входа: динь! И вот шеф уже вошел с проверкой:
– Петр Иваныч, запишите поскорее две телеграммы, обе одинаковые: Johnson&Sons, London, и Houghton Ltd., London. «Cancel all pending ship double quantities. Interrussian»[27]. Телеграммы следует отправить немедленно!
Коллега все же как-то успела рассказать Ребману, как составлять телеграмму, предупредив при этом, что он непременно каждый раз должен подсчитать и приписать внизу количество слов и стоимость, не то будут неприятности! А перед этим еще нужно снять копию – копировальный пресс находится внизу в упаковочной.
Не успел он вернуться, выполнив все вышеуказанное, как уже снова слышит:
– Вас шеф вызывает!
И как только он вошел, шеф тут же начал ему диктовать, на этот раз – заказ километровой длины.
– Нынче товара постоянно не хватает, – замечает шеф – и добавляет. – Петр Иваныч, теперь, когда брат в отъезде, – я очень на вас рассчитываю. Будет много сверхурочной работы. Придется работать и по воскресеньям. Но я надеюсь, что вы не станете, как другие, то и дело смотреть на часы и бросать все, как только пробьет урочный час. Брат еще с вами поговорит до своего отъезда. Нам просто необходим человек, на которого можно положиться во всех отношениях. И этот человек – вы! С этими словами он протянул Ребману руку:
– Обещайте же мне, что не подведете!
Ребман пожал протянутую ему руку. Этот жест он воспринял всерьез. Таким образом, шеф, возвысив нового работника над всеми остальными сотрудниками, может добиться от него большего, чем дала бы любая прибавка к жалованью. Вероятно, ему это известно из опыта. Но даже если он этого не знал, то все равно попал в нужную точку: Ребман действительно решительно настроен сделать все от него зависящее, чтобы оправдать такое доверие. Он работает как одержимый: так стучит на своей старенькой «Smith Premier», что только звон идет, и не отвечает больше на попытки своей коллеги поболтать в моменты передышки и на ее расспросы о том, что же он такое важное печатает. Он даже не прерывается на чай, который посыльный Андрюша перед ним ставит, и когда тот спрашивает, не принести ли к чаю чего-нибудь из булочной, делает вид, что не расслышал.
Даже когда шеф спрашивает его уже в восемь, не останется ли он еще на полчаса, Ребман, не раздумывая, отвечает:
– Конечно, с удовольствием!
И когда его коллега уже ушла, он продолжает:
– Николай Максимович, не будет ли лучше, если я быстренько схожу поесть? Если я поеду трамваем, то сразу же вернусь, и тогда смогу уже весь вечер оставаться.
Шеф похлопывает его по плечу:
– Вот это приятно слышать. Вам это ни в коем случае не повредит!
Госпожа пасторша делает большие глаза, когда ее подопечный сообщает, что сразу же должен возвращаться, потому что очень много работы, придется сидеть допоздна:
– Вы говорите так, словно это ваше собственное дело. Что ж, думаю, это лучше, чем если бы было наоборот. Ну как, вам там нравится?
До сих пор он за ужином ни слова не говорил, все обдумывал то, о чем ему поведала Елизавета Юльевна. Теперь же он сообщает в двух словах: брат шефа собирается уехать, и от Ребмана в этой связи ожидают больших усилий. И он готов их прилагать, хотя пока от него не требовали слишком многого.
Когда он вернулся в контору – шеф дал ему ключ – и собрался уже сесть за машинку, дверь в «святая святых» отворилась и на пороге показался Максим Максимович. Он сделал Ребману знак, чтобы тот зашел.
Они говорили более часа. Максим Максимович беспокоится за брата, боится, что тот переоценивает свои силы, собираясь в одиночку тащить на себе весь этот воз:
– Он, конечно, выдающийся работник, и был бы в состоянии управлять всей страной. Но думать обо всем, все держать в голове, самому вникать в каждую мелочь, как это получается в нашем случае! Наши сотрудники исполняют только то, чего от них настоятельно требуют и что им в точности предписывают, как это принято у русских. И даже это нужно постоянно контролировать. Но там, где нужно что-то придумать самому, что-то улучшить, чтобы идти в ногу со временем, они пасуют. Если шефа рядом нет, они будут стоять себе без дела и ругаться по поводу мизерной оплаты и того, что всю прибыль прикарманивает хозяин.
Он ударил ладонью по письменному столу:
– Да, мы больше зарабатываем. Но мы и работаем больше и, к тому же, еще берем на себя весь риск. Мы создали это предприятие и дальше работаем над ним, это у нас бессонные ночи, не у них! Мы бы каждому с радостью платили директорский оклад, да еще и с процентами, если бы они показывали соответствующую результативность в работе. Но среди наших сотрудников таких нет. Единственное исключение – бухгалтер, и мы ему платим вдвое больше остальных. Но даже он ведь только бухгалтер, а не предприниматель.
Он положил руку Ребману на колено:
– Вы ведь понимаете, почему я вам все это рассказываю. Я на вас рассчитываю, присматривайте за братом. Обещайте мне! Если он от вас иногда требует больше того, что, как вам кажется, вы в состоянии исполнить, не давайте ему этого заметить, подумайте о том, что ему приходится делать во сто крат больше. Вы от него никогда не услышите жалобы на то, что у него слишком много дел. Он скорее сделает вид, что ему все нипочем. Но он всегда найдет для вас время, если вы к нему придете за советом или за помощью. Не забывайте об этом. В лице моего брата вы имеете друга, которого не так легко найти, он вас никогда не оставит в беде.
Они проговорили с глазу на глаз до десяти вечера. И когда Ребман уже хотел было опять взяться за работу, Максим Максимович сказал ему, чтобы шел домой, уже нет смысла снова садиться за машинку:
– Лучше подумайте о том, в чем я вам доверился!
Итак, домой Ребман отправился с чувством, что перед ним, наконец, поставлена задача, ради которой стоит потрудиться. «Здесь мне откроется дорога в будущее. Я рад, что послушал Нину Федоровну, а не доктора Ноя. И я рад, что остался в России!»
Игра на органе уже перестала быть для Ребмана мучением, он даже начал пользоваться педалью. Сначала – только в хоралах и только на тех нотах, на которые он точно знал, что попадет. Но со временем он так поднаторел, что во всех своих прелюдиях стал использовать шестнадцатифутовый бас в качестве органного пункта. Теперь это настоящая игра на органе. Ему больше не нужно транспонировать все пьесы (сперва он ведь все переписывал в до-мажоре) – теперь он играет в тональностях с тремя и даже с четырьмя бемолями или диезами. И даже с особым удовольствием, так как ему кажется, что эти тональности придают звучанию больше теплоты.
И раз в неделю он непременно ходит с Арнольдом к друзьям. А там, как в настоящем концерте. Нет, даже лучше, чем в концерте! Перед ним открывается целый мир. Здесь можно узнать такие вещи, которым не научишься ни в одной в школе и которых не узнаешь даже в университете. Они беседуют обо всем: о философии, театре, музыке, живописи, о политике и о религии. Спорят горячо. Каждый хочет стать чудотворцем, освободителем не только своего народа, но и новым спасителем всему миру.
А Ребман сидит себе тихонько, ни слова не говорит, слушает и удивляется этим людям, которые никогда не толкуют о себе, о себе даже и не думают, но всегда помышляют только о других. Вот теперь он начинает понимать, откуда у русских эта идея, что именно они способны показать всем остальным дорогу в рай.
Михаил Ильич тоже говорит немного, только смотрит иногда на Ребмана и подмигивает ему:
– В России, и правда, очень много народу и очень много глупостей!
Но сейчас Ребман думает не об этом, он думает о чем-то другом. Когда Михаил Ильич это говорил, его взгляд снова стал холодным, как лед. Этот взгляд обратил на себя внимание Ребмана еще в вечер их знакомства. Взгляд, от которого промерзаешь до самых сердечных глубин и который одновременно обжигает. Тут он почувствовал: за этим вполне добродушным Михаилом Ильичом с такими красивыми глазами скрывается еще один человек. Того, другого, Ребман не хотел бы ближе узнать и не смог бы понять: тот был азиатом.
Он не так высок ростом, как Ребман, но в плечах и в груди шире. По профессии он адвокат, часто выступает в суде по разным правовым вопросам. Короче говоря, он – острый мыслитель, умеющий убеждать математически точными аргументами. И еще он был намного старше Ребмана и с самого начала относился к нему, как к младшему брату. Своего другого лица он Ребману никогда не показывал, так как испытывал к нему искреннее дружеское расположение, однако это не означало, что этого лица вовсе не было.
Он начал брать Ребмана с собой на концерты Кусевицкого. Ребман всегда нес скрипку, чтобы все думали, что это он играет в концерте. Михаил Ильич играл в оркестре из чистой любви к музыке и за это получал входной билет, не в зале – там места уже с осени были распроданы на весь концертный сезон – а на сцене, за оркестром. Для Ребмана это место было в сто раз дороже, чем возможность сидеть в самой лучшей ложе. Отсюда можно не только слушать музыку, но и видеть, как она «делается». И это было для Ребмана совершенно новым переживанием. До этого он полагал, что дирижер стоит перед оркестром только для декорации, как знамя в добровольном обществе, и может стоять себе, не вынимая рук из карманов или и вовсе оставаться дома. Теперь же он увидел, что дирижер – это душа всего исполнения, вся жизнь музыки – в нем. Без него ничего бы не получилось. Собственно говоря, это он играет, а все остальные сопровождают его игру.
Однажды, в один из многих праздников, которые в России случаются почти каждый день, они гуляли по городу, и новый друг рассказал ему целую историю о знаменитом Кусевицком.
Он, оказывается, тоже был одним из бедняков-провинциалов, которым не на что и не на кого было рассчитывать, которым всего приходилось добиваться в одиночку.
– А ты сам… я уже давно хотел спросить, откуда ты родом?
– Тоже из деревни, из Подмосковья. Мой старик был каменщиком, и я тоже уже четырнадцати лет пошел работать на фабрику. После работы учился по ночам, иногда до самого утра, все по книгам, которые мне раздобыл учитель. Когда отец об этом прознал, он все книги в печи сжег. Он придерживался того мнения, что книги – изобретение дьявола.
– А на скрипке ты где научился играть?
– Тоже сам. В теплое время года – в лесу, а зимой – дома в кровати, но беззвучно. Отец никак не должен был узнать, что у меня есть скрипка: я ее купил, работая сверхурочно и выплачивая в рассрочку. Потом, когда я понял, что в деревне пропаду, туманной ночью ушел в Москву, не имея ни денег, ни знакомых; в чем стоял, со скрипкой, завернутой в платок – не Амати, конечно. Вот на этом самом камне я сидел и плакал от голода и усталости. Но потом дослужился до присяжного поверенного и без чьей-либо помощи закончил консерваторию.
Ребман даже рот раскрыл от удивления:
– Как же тебе это удалось?!
– Как большинству русских студентов и вообще почти всем знаменитым русским: весь день даешь уроки, а по ночам учишься сам. И вот я работал и учился, не ища богатого покровителя и школярской выучки, оплаченной из чужого кошелька. У нас ведь здесь не «свободная» Швейцария, где учиться могут только дети богатых родителей. У нас каждый, кто имеет мужество и энергию, волен учиться, безо всяких денег. Все великие врачи, ну, как например, Крамер или другие, были бедными мальчиками, учились ночами, а днем давали уроки, чтоб заработать себе на жизнь… Но теперь о Кусевицком: его история интереснее моей. Когда он пришел в консерваторию и объявил, что хочет учиться на скрипке, его осмеяли: «С такими ручищами, батенька, становятся столярами, а не скрипачами! Если вы непременно хотите играть, то попробуйте, Бога ради, на контрабасе!» И что же делает наш Кусевицкий? Он учится на контрабасе, но так, что профессора только рты разевали от удивления… Ты его еще никогда не слышал в концерте?
Ребман протянул недоверчиво:
– Концерт, на контрабасе?
– Да, концерт соло на контрабасе, он один в сопровождении пианиста. Но что это за концерт! Играет как Казальс[28] – больше не с кем сравнить. На следующей неделе он дает еще один концерт, у меня есть билет. Если тебе интересно, можешь пойти.
И Ребман пошел. Действительно, это стало еще одним обогатившим его внутренний мир переживанием.
Большой концертный зал с мощным органом был заполнен до отказа. Ребману пришлось проскальзывать мышью, потому что на работе шеф загрузил его под завязку. Но на этот раз он ушел в семь. Желание услышать игру «столяра» на контрабасе оказалось сильнее мечты о предпринимательской карьере. Разумеется, он нарядился в костюм «Макса Линдера»: жилет с перламутровыми пуговицами и бежевым карманным платочком, полосатые брюки, туфли из сыромятной кожи с лакированными мысками, голубые шелковые носки, шелковый же галстух в серо-черную полоску, золотой зуб и отполированные ногти; брови, подведенные жженым гуталином, бриолин на волосах. Едва он уселся на свое место, как отворилась дверь около органа, и служитель в белых перчатках вынес на сцену инструмент, который выглядел скорее как большая виолончель, чем как контрабас. Это, действительно, только половинка, сказал потом Михаил Ильич, но оригинал Техлера!
А потом было настоящее чудо: Бах, Бетховен, Моцарт, исполненные с таким совершенством и красотой, что публика никак не хотела перестать аплодировать, топать ногами и кричать «Ку-се-виц-кий!!!». Ребману тогда еще не доводилось слышать Казальса. Но когда он его наконец услышал, то уже после первого звука, изданного смычком, сам себе сказал: «Как Кусевицкий, только он мог так звучать!»
Однажды, когда погода стояла ужасная и Ребману совсем не хотелось ехать на другой конец города, где жил Михаил Ильич, он слушал его по телефону. Битый час или даже дольше простоял он в коридоре за дверью, слушая чистые серебряные звуки скрипки, которые через провод доносились ему прямо в ухо.
Как-то раз он даже сделал другу комплимент, что тот играет, как настоящий солист-профессионал! На это Михаил Ильич пожал плечами и продолжил по-немецки:
– Я думаю по-другому. Скрипач – и любой другой музыкант – должен к восемнадцати годам овладеть техникой. Если на концерте ему приходится думать о том, чтоб не ошибиться, – то все, прощай артист! Вообще… Как это будет по-немецки?
– Überhaupt…
– Юберхаупт. Самый трудный… как это по-немецки?
– Das allerschwerste…
– Ja, аллешверстэ инструмент нихт скрипка, самый трудный – флейта. Гутэ талент мусс цэн ярэ лернэн, бис фэртиге артист. Скрипач нур хэльфтэ.
Ребман знает, что это неправда: самым трудным для овладения инструментом была и остается скрипка, царица инструментов. Но поскольку его друг из скромности уступает первенство флейте, и это, в конце концов, не так уж важно, он его не поправляет и спрашивает удивленно:
– Как, скрипачу нужно всего пять лет?!
– Да, если есть талант. Другие могут и сто лет учиться, а будет не лучше, чем в первый год. Дизэ ман золь фэрбитэн, дас нихт музыка, дас фэрбрехен ам кунстШ Такое нужно запретить, это не музыка, а преступление перед искусством!
Однажды они были в великолепном зале Дворянского собрания на концерте Скрябина, незадолго до его смерти. В антракте – молодежь все еще хлопала и кричала «Скрябин! Сря-бин! Скря-я-я-б-и-и-и-н!», словно тот был богом, сошедшим на землю – Михаил Ильич спросил Ребмана:
– Ну, и как тебе это?
– Я? Смотрю на это все, как баран на новые ворота. И при этом я не совсем уверен, действительно ли я такой уж баран.
Михаил Ильич только улыбается:
– Современники Баха тоже говорили, что его музыка годится разве для школы верховой езды. Все духовно великие люди опережают свое время в среднем на сто лет. А те, что за ними не поспевают, – ой, вэй!
Между тем наступило Вербное воскресенье – по новому стилю, в протестантской церкви. Пасха в этом году и так необыкновенно поздняя, а учитывая еще тринадцать дней, которые прибавляет русский календарь, по-здешнему приходится уже почти на май. Пастор составил большую программу: должен петь гимназический хор, поскольку все ученики реформатской гимназии – конфирманты. Если у органиста в этой связи есть какие-то идеи…
«Да, есть», – подумал Ребман и спросил Михаила Ильича, не хотел ли бы он придти к ним поиграть.
– С удовольствием, – ответил тот, – а ты сможешь мне аккомпанировать?
– Пожалуй, нет, но Арнольд может согласиться. Сейчас же ему позвоню.
Их друг, настройщик инструментов, тоже согласен.
«Так, теперь будет что послушать в нашей церкви!», – думает «личный секретарь директора Петр Иванович Ребман» – так написано на его новой визитной карточке.
В субботу после обеда – генеральная репетиция. Школьники поют, как архангельские трубы «Tochter Zion, freue dich»[29]. Ребман сопровождает пение как самыми тихими, так и самыми мощными звуками, какие можно извлечь из органа – инструмент теперь идеально послушен. А оба солиста довершают своим выступлением все музыкальное великолепие. Теперь наши московские протестанты будут довольны, уже точно не скажут «mais c’est infame!» – позорно, недостойно и тому подобное.
Все прошло, и правда, как по маслу, не считая того, что школьники от волнения перескочили через «da capo»[30]. Но никто им этого не вменил в вину. Как потом сказал пастор, этого вообще никто не заметил.
И Михаил Ильич, который впервые слышал игру Ребмана на органе, заметил:
– Ты, батенька, играешь, как прусский фельдфебель!
Господин пастор тоже доволен всеми музыкантами, каждому подал руку и поблагодарил за те усилия, которые они приложили, чтобы украсить службу и весь этот день для общины.
И органист тоже весьма доволен и музыкантами, и певцами, и пастором, и самим собой. Даже самим Господом Богом он доволен: за множество праздников в ящичек Ребмана, что в письменном столе госпожи пасторши, чудесным образом залетит еще одна сторублевая купюра.
Перед тем как уехать, Максим Максимович еще свозил Ребмана на фабрику, чтобы тот осмотрел предприятие и познакомился с его управляющим. По дороге – а они, несмотря на отдаленность, взяли извозчика – он рассказал самое необходимое. Управляющий был сначала столяром, но такого искусного во всем мире не сыщешь: ему можно было дать что угодно, самую поломанную вещь, он ее так починит и отполирует, что станет как новая. Они обратили на него внимание, когда нужно было что-то починить, но потом о нем не вспоминали, пока в начале войны он вдруг сам не пришел к ним и не объявил, что хочет поговорить с господами. И что вы скажете? Он взял со стола фотоаппарат, модель 13×18, палисандрового дерева – великолепная работа фирмы «Эрнеманн»:
– А не думали ли господа производить такие аппараты у нас в стране, если мы от немцев их больше не получаем?
В общем, мы согласились, установили несколько станков и имели бы уже вполне приличную фабрику, если бы управляющий хоть немного разбирался в предпринимательстве. Хотя он и грамотный, и писать умеет, что для русского уже кое-что значит, однако считать никак не научится. Он думает, что на предприятии со станками и всем прочим себестоимость товара может быть такой же высокой, как если бы его делали вручную. К тому же, из чего-то надо еще и рабочим платить. Это его навязчивая идея и вечный повод для нытья: «Прибавка! Прибавка! Прибавка!». Вы все это еще услышите, так что будьте настороже! Не поддавайтесь ни на что, они умеют таких историй порассказать, что сердце и растает, если будете им попустительствовать. При этом они за один вечер спускают в кабаке весь свой дневной заработок.
Он машет перед собой обеими руками:
– С этими народом ничего не выйдет, они просто ни на что не годятся, вся нация. Они и войну опять проиграют, как уже проиграли японцам: десять против одного! Разбегаются в разные стороны, когда за ними даже и блоха не гонится!
Он издевательски смеется:
– Русский «колосс»: силы, как у семи здоровых мужиков, а ум, как у пятилетнего ребенка! – Как только он начнет, не поддавайтесь, скажите, что у вас нет таких полномочий, что за это отвечает лично Николай Максимович.
– И в чем же тогда моя функция?
– Каждую субботу заполнять журнал. Контролировать расход материала и счета поставок. Дать понять этим ребятам, что есть кто-то, кто следит за каждым их шагом. Это отныне ваша задача. И прежде всего: снять этого человека с шеи моего брата. Когда он узнает, что меня больше нет на месте, – меня он еще боится, – то появится однажды у нас в бюро. А мой брат не умеет так же твердо говорить «нет», как я. Он этого вообще не может. Это его единственный недостаток. Если бы он мог говорить «нет», мы были бы уже одними из богатейших людей в России.
Тем временем они выехали на самую окраину города, где все выглядело почти как в деревне: «улица» как грязная замусоренная канава, одно- или двухэтажные красно-белые и бело-голубые домики под зелеными жестяными крышами, пожарная каланча, босые дети и женщины, и трамваев уже вовсе не видать. Максим Максимович говорит извозчику подождать, если тот хочет, но без оплаты за простой. В противном случае…
– Как угодно, – отозвался с козел старик, – если не больше часа, подожду.
– Подождет все два, – говорит Максим Максимович, когда они выходят из повозки.
Кажется, управляющий действительно его боится: Ребман заметил, как он весь съежился и побледнел, когда увидел, что они без предупреждения появились в низком и пыльном помещении фабрики. Здесь же находилась и большая столярная будка с чуланом у входа, служившим, судя по всему, фабричным бюро.
«Где же я его уже видел?», – гадает Ребман, – а ведь видел, это несомненно, но не в Москве, вообще не в России. Нет, я видел его дома, в Кирхдорфе, только там его звали не Терентьич, и на нем не было столярского фартука, там его звали Баши-Ханс и он был слугой трактирщика. Просто вылитый, и голос такой же, и такие же костистые лапищи, и такой же смиренный. И с чего это…
Максим Максимович прервал размышления Ребмана, на сей раз по-русски:
– Слушайте внимательно, Петр Иваныч, и вы тоже, Терентьич! – он называет управляющего не по имени-отчеству, как это принято в России. Как Ребман узнал позже, Трофим Терентьевич было его имя, по фамилии он Федотов. Хозяин же зовет его Терентьич, как слугу в коровнике.
– Так вот, вы, Петр Иваныч, с сегодняшнего дня осуществляете надзор за фабрикой.
Он повторил слово в слово все то, что говорил Ребману дорогой.
Затем он встал – они между тем уже были в «бюро», где управляющий успел смахнуть фартуком пыль с двух табуретов, – и подал Ребману руку, но только ему одному: управляющему он не подал руки, даже когда они вошли:
– Осмотрите предприятие! У меня, к сожалению, больше нет времени, но Терентьич вас везде проводит, все покажет и объяснит. Где журнал? – вопрос относился уже к управляющему.
– В бюро у Николая Максимовича, – угодливо отвечал запыленный человек.
– Тогда вам его покажет брат. Это минутное дело. Осмотрите все как следует. Не спешите, если нужно оставайтесь до вечера. Хорошо, если у вас будет уверенность, что вы ничего не упустили.
Последнее он сказал по-немецки и с некоторой брезгливостью в голосе.
Он снова протянул Ребману руку:
– Ну, с Богом!
Больше Ребман Максима Максимовича не видел и не имел о нем вестей. В ту же ночь тот уехал.
Осмотр «фабрики» действительно продлился до вечера и закончился совсем иначе, чем Ребман мог ожидать. Как только Максим Максимович исчез – управляющий следил за ним в окно, пока тот не уехал, – у него словно гора с плеч свалилась, он выпрямился и стал заметно выше ростом. Точно, как Баши-Ханс, на которого хозяин накричал, что он ленивый бездельник, а он ведь такой верный и прилежный малый.
Он, должно быть, заметил, что творилось у Ребмана внутри: такие люди обладают хорошим нюхом. Он тяжело вздохнул. И начал изливать душу юноше, которого впервые видит:
– Если бы вы знали, Петр Иваныч, как я боюсь этого человека! Даже во сне он меня преследует!
– Боитесь, отчего же? – спросил Ребман. – Если у человека совесть чиста, то ему нечего и некого бояться.
– О, если бы дело было только в совести, я бы спал спокойно: я еще никогда ни у кого не был в долгу. Но он мне жить не дает! Только и знает, что подгонять. Все твердит одно: вперед, давай, але on! С ним нужно иметь сто ног и тысячу рук! Каких только придирок не было, пока мое дело совсем не пропало!
– Так это было ваше дело?
– Ясно, мое. Все и теперь оформлено на мое имя, так они платят меньше налогов! А я для них просто Иванушка-дурачок, Болван Дурнович я, как он мне сам уже не раз говорил.
– Зачем же вы им тогда все отдали?
– Я им не отдавал. По крайней мере, не по доброй воле!
Он стоит у окна и барабанит пальцем по стеклу. Через некоторое время снова говорит:
– Жена меня предупреждала: не делай этого, потом будешь всю жизнь раскаиваться! А что я мог поделать? Вексель был просрочен, и…
– А-а-а, вот оно как! – отозвался Ребман. – Вот, значит, какие дела! А я думал, они порядочные люди! Во всяком случае, по отношению ко мне они таковыми… были. До этих пор.
– Да. Пока они человека не поймали. Тогда они уже другие, тогда они выпускают когти, как все хищники. Как они меня только по шерсти не гладили: Трофим Терентьич сюда, нет, Трофим Терентьич, пожалуйте, лучше сюда! Так было, пока я не подписал проклятую бумагу. А необходимости-то подписывать и не было, я бы нашел выход из положения. Но хотелось как-то расширяться. Вот и расширился теперь…
– Что, у вас и долгов никаких не было?
– Боже упаси! Хорошее у меня было дельце. Мастерская, жилой домик, все было мое, безо всяких кредитов, от отца унаследовал. И работа у меня всегда была. И зарабатывал хорошо. Еще несколько лет – и работал бы только на прибыль, откладывал бы. До тех пор, пока они не пришли: «Вам следует расширяться, Трофим Терентьич», – тогда они меня еще по имени отчеству величали, как у приличных людей положено. Теперь я для них просто «Терентьич». «Вы же слышали: здесь нужны машины, это раньше можно было все вручную делать, сегодня это уже невыгодно!» И я, глупый мужик, позволил себя втянуть в это дело. Мне тоже нравились машины, я тоже ошибался и думал, что так все и быстрее, и лучше пойдет. Вот теперь у меня есть машины, прекрасные машины, можете потом посмотреть, но хозяева теперь – они, а не я.
Он снова повернулся к Ребману:
– Быстрее производить! А как это возможно, если не имеешь обученного персонала? При такой мизерной оплате, которую они платят рабочим, здесь никто не задерживается. В этом они настоящие русские купцы, оба брата, пусть они даже ровным счетом ничего хорошего в русских не находят. Те тоже после каждой сделки считают, что им недоплатили, пусть даже они на ней и миллионы заработали.
Он какое-то время молчит. Затем замечает:
– Так, значит, вы – новый контролер! Надеюсь, у вас не такое каменное сердце, как у этих господ. Вы тоже немец?
– Нет, я – швейцарец!
– Правда? Так вы швейцарец? О ваших собратьях я никогда ничего, кроме хорошего, не слыхал!
– Да, – отозвался Ребман, – наша репутация намного лучше, чем мы сами.
Терентьич рассмеялся:
– По вашему виду этого не скажешь. Пойдемте, я покажу вам предприятие!
Они выходят из чулана, и Терентьич подводит Ребмана к каждому рабочему, представляет его и каждый раз подчеркивает, что это швейцарец. Ребман подает каждому руку. С большим удивлением все тоже протягивают ему руку, предварительно вытерев ее о фартук. Ему показали и машины, прекрасные новые универсальные машины, которые все могут: пилят, фрезеруют, режут, сверлят – все делают. В самом конце Терентьич завел Ребмана в будку, где двое рабочих полируют гигантскую фотокамеру, занимающую половину помещения.
– Такой камерой, – гордо говорит распорядитель, – можно снимать портреты в натуральную величину. Я – первый и единственный в России произвожу такие! Теперь их используют не для портретов, а для других целей. Я вам еще, возможно, скажу, для каких именно. А здесь у нас склад, все первоклассное палисандровое дерево. Немцы используют еще махагони, но я – только палисандр! Эти аппараты, в основном, делаются для фронта, они должны быть прочными, что бы ни случилось! Ими увеличивают снимки, сделанные с аэроплана, по которым изготовляют карты местности.
Он смотрит на Ребмана своими добродушными, по-заячьи карими глазами:
– Вот я вам и проговорился, впрочем, это – не военная тайна.
– Так в чем, собственно говоря, проблема, ведь дела идут хорошо? – спрашивает Ребман, когда они снова вернулись в бюро.
– Да, у этих двух. А у нас? Боже милосердный! Мы работаем больше прежнего, а зарабатываем меньше. Я сегодня получаю меньше, чем получали мои рабочие. То есть я получаю, как положено, если работаю по двенадцать-четырнадцать часов в день. И все было бы хорошо, если бы не война. Но нынче, когда все кругом дорожает и дорожает!..
– Тогда должны и зарплату поднимать, это же ясно, они ведь продают товар не по тем же ценам, что были раньше.
– Вот, вы сами это говорите! Но расскажите об этом шефу – и вас ждет спектакль!
– Вы действительно с ним об этом говорили, как со мной?
– Да, я в каждый день выплат ему это говорю, каждый раз, когда прихожу в бюро, то есть когда он меня пускает – чаще всего он или отсутствует, или занят. Это старая песня. Люди здесь – о себе я не говорю, нас всего двое, и мы как-то перебиваемся – все женаты и имеют полный дом детей, которые просят есть и которых нужно накормить. Но господа с Мясницкой этого слышать не желают, у них всегда один ответ: будете производить больше и быстрее, будете больше зарабатывать! Им легко говорить, они ведь не знают, что это за тонкая работа: нельзя ошибиться, десятая доля миллиметра – и аппарат уже ничего не стоит. Тут я не могу рисковать. Однажды так и сделали с одним, только чтобы показать, что из этого выйдет. И что вышло? Послал ему – ничего другого я и не ожидал, – и все, конечно, на меня посыпалось, я же еще и за брак расплачивался. Сами посчитайте: минимальная заработная плата, которую мы платили до войны, – минимальная и во время войны!
– Так почему же вы всего этого не бросите? – как всегда сгоряча решает дело Ребман.
– Я бы бросил, если б мог, но у меня с ними десятилетний контракт, я думал, что получу место на всю жизнь. Если я нарушу договор, то должен буду заплатить штраф. В таком случае я потеряю все – только мой жилой дом принадлежит еще мне, он в контракте не учтен, так что я связан по рукам и ногам.
Прежде, когда я был один, то имел двоих рабочих – мальчик-ученик не в счет. Хорошо сработавшиеся, добросовестные люди. Машинную работу мы заказывали на стороне, совсем неподалеку. Я вам скажу, что втроем мы больше зарабатывали, и при этом было меньше отходов, чем теперь, когда нас восемнадцать. Каждый имел, что полагается, и получал от работы удовлетворение. А он все свое гнет: мол, все русские лентяи, ленивые черти, как он говорит. Это неправда, русский работает с таким же удовольствием, как и все остальные, если ему работа в радость. Но как в таких условиях можно радоваться или даже сохранять интерес, если из тебя выжимают все и работаешь на износ?
Он повернулся вполоборота к окну:
– Видите вон того человека, там, на первой скамейке, такой мелкий, бледный? У него самая высокая оплата. Знаете, сколько он получает за четырнадцать дней работы? Меньше половины того, что у меня рабочий раньше за неделю получал! А он еще должен содержать семью из семи душ! В городе, между прочим. А тут еще война, с каждым днем все дорожает, да и налоги растут.
– Из-за чего же он тех двух рабочих не оставил? – не подумав, спросил Ребман.
– Я же вам уже говорил: ни один хороший работник у меня не останется. Пока еще они научатся, а ведь это не так скоро делается: первоклассные рабочие к нам не идут, вечность уже таких здесь не видали! А как выучатся, тут же слышишь: плати больше или я ухожу! И уходят.
– Что, должны идти на фронт?
– Не должны, тут у нас есть выход – мы же работаем для армии. Нет, это мизерная оплата всех разгоняет. Тут говори сколько хочешь о «сверхурочных»: у этих господ сразу слух пропадает, как только об этом речь зайдет. Зато под дверью кричать, отчего мы так медленно производим, что все тут спят на рабочих местах, – это всегда пожалуйста! Вы бы послушали хоть раз по телефону. Тут уж лучше молчать и не перечить, все равно никакого толку. О, если бы я послушал жену! Это единственный раз, когда я ее не послушал, и буду об этом жалеть всю оставшуюся жизнь. Между прочим, могу я вас пригласить на стакан чаю? Теперь как раз время, все там снаружи тоже пьют чай. Как раз и с женой моей познакомитесь.
Когда они вышли, Ребман увидел, что перед каждым рабочим стоит стакан чаю. Но все продолжают трудиться.
Жилье уютное, много самодельной мебели прекрасной работы. Но Ребман не смотрит на мебель, он заворожен женщиной, которую управляющий представил ему:
– Зинаида Васильевна, моя супруга!
Писаная красавица, словно с иконы – большие темные глаза, длинные черные ресницы, красиво изогнутые брови, узкий, округлый белоснежный лоб и блестящие черные волосы с пробором, как у Мадонны. Прямо иконописный лик. Если бы художник написал с нее икону, все вокруг падали бы на колени и поклонялись изображению в молитвенном восторге.
Она поставила перед гостем стакан в серебряном подстаканнике и спросила, сколько ему сахару. Затем налила заварки из чайничка, который стоит на самоваре, но совсем немного:
– Какой крепости вы любите?
– Золото, – говорит Ребман, и она выпускает из самовара струю кипятка до тех пор, пока чай не приобретает желаемого золотого оттенка.
– Мог бы хоть словечко сказать, я бы что-нибудь к чаю принесла, – обратилась она к мужу.
– Этого совсем не нужно, – поспешил успокоить ее Ребман, – у нас в бюро всегда тоже баранки, но только не такие свежие, как эти.
А Трофим Терентьич говорит:
– Я понятия не имел, что сегодня кто-то приедет, а тем более из Швейцарии. Петр Иваныч ведь оттуда родом!
Но Мадонна, как ее уже окрестил для себя Ребман, кажется, и теперь не очень рада гостю. Она подняла глаза и, серьезно глядя на мужа, спросила:
– Ну и что?! – это должно быть значило что-то вроде: рассказал ли ты ему свою историю?
Тот утвердительно кивнул.
– Ну и что теперь будет?
Муж пожал плечами:
– Бог его знает!
Она отозвалась в том же тоне:
– Бог знает, да не скажет!
По этим немногим словам Ребман почувствовал, что перед ним женщина, которая, будучи «никем», достоинством не уступит самой царице. И еще неизвестно, кто из них больше заслуживает венца.
После долгого молчания, которого никто не нарушал, она снова заговорила:
– Ну да, таковы они все, когда сами хотят стать фабрикантами! – она сказала «фабрикант» таким тоном, словно речь шла о кляче, на которую она бы с удовольствием уселась и загнала бы ее, чтоб та замертво упала.
Муж ни слова не говорит, сидит, время от времени отпивая глоток чаю, отламывая кусочек своей баранки, и делает лицо, как у бедного грешника, который действительно стоит на коленях перед иконой и не знает, куда ему деваться, ослушнику.
Жена снова спросила:
– А с тем другим, с ним ты говорил?
Муж снова только головой качает:
– Я не мог говорить с ним, он сразу все запутал, представил Петра Иваныча: вот вам новый начальник – и адье.
Выходит так, что теперь ему, Ребману, придется с ним поговорить, ведь так дальше продолжаться не может, супруги совсем лишились покоя:
– Петр Иваныч, дорогой, вы уж с ним поговорите, вы же все…
– Не нужно меня просить, – перебил ее Ребман, ему уже невмоготу смотреть на этих горемык, – когда он со мной попрощался, он простился и с вами, и с фабрикой. Он в ближайшие дни уезжает за границу, и я не думаю, что мы с ним еще когда-нибудь увидимся.
Он посмотрел на обоих:
– Но с Николаем Максимовичем я буду говорить, он мне доверяет и кажется справедливым человеком. Наберитесь еще немного терпения, я приложу все усилия, чтобы что-нибудь прояснить.
И действительно, кое-что прояснилось, но, вопреки всем ожиданиям, совсем не так, как надеялся Ребман. Если Николай Максимович, и правда, человек, который не умеет говорить «нет», то в этом случае он еще менее чем когда-либо может это себе позволить. С этой мыслью наш герой проносился все воскресенье и просидел весь понедельник за пишущей машинкой. Только когда из конторы все ушли, он пошел к шефу и сказал, что хочет с ним поговорить. И изложил ему дело так, как сам его понимал:
– Не то чтобы я позволял себе выносить приговор…
– Это совершенно не в вашей компетенции! – резко оборвал его шеф, который перед этим все спокойно выслушал. – Вы еще слишком мало знаете и Россию, и здешние условия. Вы – идеалист, Петр Иваныч. Но в предпринимательстве есть всего один идеал: достигать большего, больше и дешевле производить! России необходимы не сто пар сапог, а сто миллионов пар. Если мы, наконец, не научим народ работать, он навсегда останется сидеть в дерьме. Подождите, я еще не закончил! – предупредил он, заметив, что Ребман хочет его перебить. – Его люди не могут перестроиться, так утверждает Терентьич. А почему не могут? Потому что он сам не хочет перестраиваться. Вот в чем дело. Неужели вы действительно думаете, что мы хотим уничтожить этого человека и выгнать его из дому? Мы ведь заранее с ним обо всем условились, обратили его внимание на все важные вещи, которые могут произойти. И дали ему время на размышление, это не был ультиматум. Нет-нет, ошибка не в нас.
– Но нельзя ли этим людям поднять оплату?
– Конечно, можно: ясное дело, можно жечь свечу с обоих концов. И что потом? Я ведь должен не просто думать, а думать наперед, у меня ответственность больше, чем у Трофима Терентьевича. И еще кое-что, Петр Иваныч: есть можно только одной вилкой, запомните это навсегда!
Домой Ребман возвращался с такой тяжестью на сердце, что, казалось, ему не донести. В его ушах все еще раздавался голос «Мадонны»: «Петр Иваныч, дорогой, поговорите с ним!» Это звучало так же, как одна из тех разрывающих душу песен, что пели когда-то крестьяне в Барановичах, песен, в которых изливался весь трагизм русского бытия. Какой прекрасной и легкой представлял он себе жизнь предпринимателя: иметь прилежание, быть честным и надежным, считать каждую копейку – большего от него и не потребуется. В субботу вечером, ровно в семь, «скрягу» можно повесить на гвоздик и оставить там до утра понедельника. Но теперь он увидел, что у делового человека есть заботы, которые идут с ним домой, ложатся с ним спать – их нельзя просто повесить на гвоздик, словно рабочую одежду.
Глава 4
Потом наступила Масленица, неделя гуляний, когда все наедаются впрок и развлекаются перед тем, как наступит время Великого поста. У богатых людей гуляние начинается уже в понедельник, а у пастора в Трехсвятительском переулке даже накануне, в воскресенье. Пиршество открывается знаменитым поглощением блинов, которыми объедаются так, что некоторых даже, бывало, и удар хватит. В императорских театрах дают балы и устраивают благотворительные представления, а на улицах и площадях такая суматоха, что только по сторонам смотри да удерживайся от смеха. Началось, как говорят русские, веселое времечко.
В пасторском доме, как уже было сказано, тоже подавали блины. Но на этот раз Ребман уже не говорил, что ему бы лучше сыру и большого пива, и не намазывал блин конфитюром, чтобы кое-как проглотить. В этот раз он налегал, как настоящий русский: семнадцать! восемнадцать! Девятнадцать!
Вдруг, в самом разгаре удовольствия, он начинает смеяться с полным ртом:
– Что это вас так развеселило? – любопытствует Нина Федоровна.
– Да я вспомнил одного мужичка из нашего Кирхдорфа, его звали Мануэлем, как он во время мэтцгеты[31] после того, как приговорил ливерную колбасу толщиной в человеческую ногу и кровянку, которой хватило бы на целую семью, заметил: «Вот так всегда: почему-то все самое вкусное и вожделенное непременно такое маленькое!»
Но когда пробило двенадцать и наступил «чистый понедельник», все волшебство Масленицы закончилось. Жизнь начинается с чистого листа. Все тщательно моются, купаются. Надевают чистое белье. В доме убирают. Снимают покрывала. Светильники и картины прячут. Ковры – тоже. На мебель надевают чехлы. Все становится серым, даже люди. А если на улице еще тает и капает с крыш, то народ говорит, что это Масленица рыдает. Тогда ее выкуривают, эту плаксу-Масленицу: в вычищенную до блеска медную сковороду кладут горячий кирпич, мяту и поливают сверху уксусом – кислый дым поднимается повсюду.
Во благочестивых домах первые три дня ничего не готовят, едят всухую: квашеные огурцы, соленые или сушеные грибы, хрен, а из питья – квас. Но голодать строгим постникам не приходится, постный рынок полон съестными припасами: огромные корзины замороженной клюквы, чернослива; телеги, доверху нагруженные морковью, луком, капустой, свеклой; бочки, полные соленых арбузов и редьки; целые вязанки бубликов, баранок, коврижек, фруктовых и шафранных сухарей; горы сахару всех форм и цветов; халва, медовики, вафли, инжир и прочее. Россия и постом не голодает. И в войну «хлеб маслом мажут», как говорит Петр Иванович Ребман.
В эту седмицу все ходят в церковь. День и ночь звонят колокола со всех сорока сороков первопрестольной. Даже у Покровских казарм стоит солдат в длинной коричневой шинели и «играет» свою песню: тянет руками и ногами за веревки, отчего звонят колокольчики под порталом. В полутемных церквах верующие смиренно преклоняют колени перед иконами, просят простить им все их вольные и невольные согрешения перед родными, друзьями, соседями, перед всеми ближними, чтобы с чистой совестью можно было приступить к Святому Причастию.
Перед Вербным воскресеньем – на этот раз русским – приходит «верба» или «зеленый рынок». Весь город наполняется ветками вербы с мохнатыми меховыми почками. Их украшают бумажными ангелочками и разноцветными ленточками. Выглядит очень празднично. Повсюду греки продают сладкий рахат-лукум с орехами, на сотнях лотков разложены всякие безделушки, рукоделье, свечи и даже воздушные шары – голубые, зеленые и красные. Никто и не думает о работе. Каждый несет домой букет вербы. Вся она освящена и считается верным средством от нечистой силы.
В Великий Четверток во всех церквях читают Страстные Евангелия и верующий народ в ночи несет домой горящие свечи: не дай Бог, если свеча дорогой погаснет – до следующей Пасхи не доживешь! Этой «страстной свечой» рисуют кресты над входом в дом, и во двор, и в хлев: эти знаки призваны охранять и дом, и все, что в нем есть, от дьявола.
Вот и подошел самый главный русский праздник – Святое Воскресенье, или Пасха. В продуктовых магазинах выстроены целые горы из белых башенок. Это сладкое блюдо из свежего творога, украшенного надписями «ХВ» – Христос Воскресе, – тоже называют «пасхой». И огромные куличи. И крашеные яйца.
Страстная Пятница – день серьезный, хотя для русских его значение далеко не такое же, как для протестантов. Здесь все идут в церковь поклониться «святой плащанице» и облобызать образ Христа во гробе.
Но в Великую Субботу в домах снова светло и празднично. Пост закончился, снова висят занавески, картины, горят светильники в гостиных и комнатах, а перед иконами тихо и празднично теплятся вычищенные красные лампадки. По обычаю, пасхи, куличи и пасхальные яйца несут в церковь для освящения.
Всенощная служба в пасхальную ночь – самая прекрасная и благолепная в году. Так сказали пасторские дети, и Петр Иванович должен непременно пойти с ними в Кремль на службу. Это незабываемо – богослужение в московском Кремле в пасхальную ночь. Даже швейцарское Рождество по сравнению с этим – обыкновенный будний день.
Но Ребман не захотел пойти. Когда он оказывается внутри сумеречной церкви, страх перед чем-то неведомым, полуазиатским снова выползает из душевных глубин. Этот трепет никогда не покидает его. И хотя вокруг горят сотни тысяч свечей, Ребмана пугают эти строгие лики святых. Ему, словно ребенку, все чудится, что святые «хотят его забрать». Но он непременно придет «похристосоваться» со всеми в полночь на площади перед Василием Великим.
До двенадцати осталось всего несколько минут. Процессия с духовенством во главе, с крестами, хоругвями и свечами, с хором впереди и с народом позади торжественно обходит вокруг Собора Михаила Архангела. Очень тихо поет хор: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небесех».
Вот они снова подошли ко входу в собор. Все преклонили колени.
И тут с колокольни Василия Великого могучий голос возвестил благую весть: «Христос воскресе!»
Надо всем городом раздался трезвон. Звонят все шестнадцать тысяч московских колоколен. И все друг друга обнимают и приветствуют святым целованием: Христос воскресе!
– Воистину воскресе!
После того единственного раза в Барановичах Ребман больше не бывал в русской церкви, не интересовался вообще всеми этими, как он выражался, «фокусами». Только годы спустя, когда русские эмигранты в Цюрихе, в подвальном помещении праздновали свою Пасху, он от тоски по России однажды туда пришел. По его щекам потекли слезы, когда седовласый дьякон покадил в его сторону и тихим добрым голосом трижды сказал «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!». Только тогда ему впервые открылась вся красота русского богослужения и величие души этого народа.
Когда они пришли домой, стол был уже накрыт. Выглядело все очень празднично. Посредине – белоснежная пасха. Рядом с нею – кулич. Между ними и над ними – розовые и красные бумажные розы. Корзиночка с пасхальными яйцами – совсем как дома, даже яйца того же цвета. Ветчина, телячье жаркое, закуски. Бутылки с вином. Наиболее безопасные виды шнапса. Все как в стопроцентно русском доме. Конечно, добрая госпожа пасторша не в одиночку все это готовила: ей помогали горничная Оля, и повариха, и няня. А коробки и пакеты доставил пономарь Василий.
Не успеешь дойти до дому, как тебя уже обнимут и расцелуют. Даже городовой, которого Ребман прошлой зимой не раз замечал ищущим утешения на дне бутылки, как только они зашли за угол Покровского бульвара, сразу на них набросился и, хватая каждого по очереди за горло, принялся восклицать: «Христос воскресе, барышня!», «Христос воскресе, барин!». Поздравитель не успокоился, пока не получил от каждого по пасхальному рублю. А потом у входа в дом – кучер. А наверху – мамаша, папочка, няня и все домашние. Уже несчетный раз слышит Ребман «Христос воскресе!» и отвечает на пасхальное приветствие «Воистину воскресе!», как настоящий русский.
Затем все садятся за стол и отдают должное приготовленному угощению.
Когда они, уже на рассвете, ложатся спать, вокруг все еще слышен звон. Звонят всю ночь и все воскресенье. На Пасху каждый может подняться на колокольню и бить в колокола так громко и долго, как того требует его пасхальная радость.
Утром, после двух часов сна, отыграв свое на службе в церкви, Ребман надел своего «Макса Линдера» и на извозчике отправился ко всем друзьям, чтобы поздравить их с Пасхой. Швейцарцы поздравляют с праздниками письменно или по телефону. В России поздравить приходят лично, но забегают только на минутку. Когда Ребман, после всех визитов, зашел и к шефу, то услышал от него:
– А, вот и дорогой гость к нам пожаловал! Христос воскресе, Петр Иваныч! Вы, конечно, останетесь у нас обедать!
Ребман, по клеттгауэрскому обычаю, стал отказываться:
– К сожалению, не могу, меня ждут дома.
Но шеф настаивает:
– Лизонька, – это жене, – Лизонька, будь добра, позвони Нине Федоровне и скажи, что ее подопечный останется у нас отобедать. И низкий им от меня поклон!
И тут уже нашему клеттгауэрцу деваться некуда. «Ладно уж, – думает он, – раз мне такую честь оказывают…» Но тут же возникает задняя мысль: «Все равно ты меня не поймаешь!»
И действительно, еще и часа не пробило, а шеф уже делает знак своему секретарю, – пройти к нему в рабочий кабинет: непременно нужно кое-что срочно продиктовать. «Секретарем» он всегда величает Ребмана, когда хочет от него получить непредусмотренную контрактом услугу. А в контракте-то даже должность секретаря не упоминается!
Но «Макс Линдер номер два» выпрямляется над маленьким работодателем во весь рост. Теперь он кажется неестественно высоким. Глядя сверху вниз, гость произносит:
– Николай Максимович, даже не просите, я говорю: нет. Во-первых, сегодня Святая Пасха, ни один христианин в этот день не работает! Во-вторых, Петр Иванович Ребман должен в два часа сидеть за органом в церкви в Трехсвятительском, иначе и господин пастор, и вся община будут недовольны! В-третьих…
Дальше шеф уже не слушает:
– Ладно, ладно, – впервые отступает он, – я ведь только пошутил!
Следов войны, по крайней мере, заметных, и в огромной Москве до сих пор не видно, особенно если ты беспокоишься об этом так же мало, как Ребман. Он напоминает того Тибидаби[32], который, отправившись в Америку, сидит себе на палубе корабля, попавшего в шторм, и покуривает трубку. А на вопрос испуганного пассажира о том, как он может оставаться таким спокойным, когда их корабль вот-вот затонет, отвечает: «Ну и пусть себе тонет, это же не мой корабль!» Так и Ребман, который всегда склонен был отстраняться, а теперь и подавно чувствует себя чужаком, убежден, что это все – не его печаль. Только много позже ему, как и всем, кто думал так же, пришлось раскаиваться и расплачиваться за легкомыслие. Но до этого пока еще далеко, и он продолжает в том же духе.
Хотя и видит, проходя каждый день утром и в обед мимо Покровских казарм, как солдаты, вооруженные деревянными самодельными винтовками с прикрепленным спереди длинным трехгранным штыком, крича «Урааа!», со всего разбегу набрасываются на соломенные чучела, остервенело прокалывая им животы и прикладом нанося своим жертвам добивающий их «удар милосердия». Видит и полки, которые после этих, так сказать, «шумных игр» маршируют на фронт, отправляясь на верную смерть.
Но все это никак не трогает нашего Петра Ивановича, ведь это же «не его корабль»…
Часть тех русских швейцарцев, которые в августе четырнадцатого года собирались защищать свою родину, снова вернулась в Россию. Служащий Русско-азиатского банка, тоже швейцарец, впрочем, не бывший на борту того судна, поведал об этом Ребману и пригласил его в воскресенье на ясс[33], чтобы он сам услышал рассказы очевидцев:
– Имейте в виду, они проклинают все на свете!
– Проклинают? Но что же? И кого?
– Швейцарию.
– Почему? За что?
– А вот приходите и сами послушайте!
Ребман пришел. Впервые за почти два прошедших года он снова оказался среди швейцарцев и услыхал родную речь. Однако возникло ощущение, что этот язык он слышит впервые. Звуки резали слух, словно повозки тащат по новой, только что проложенной мостовой.
К нему подсел земляк, и, конечно же, сразу спросил:
– Где же ты был, что мы тебя никогда раньше не видели?
– Меня не призывали, вот я и не ездил никуда.
– Так ты же памятник заслужил! Знаешь, что сказал комендант Рейнгорода, этот красноносый пьяница? Он позволил себе заявить нам, наивным глупцам, предпринявшим это безумное четырехнедельное путешествие: «Что вам здесь нужно? У нас для вас нет применения!»
– Да брось ты! Неужели прямо так?
– Я еще тогда сострил, что и осел мог бы быть желанным гостем, если бы на спине мешок с деньгами принес! И что нам было делать? Нам, дуракам, пришлось сторожить пустые вагоны на грузовом вокзале. Железнодорожные вагоны, пустые!!! И вот сидим мы на мостовой, каждый на четыре тысячи франков беднее. Я тебе так скажу: мы, заграничные швейцарцы, там – никто. Перед нами прибыли еще двое, один из Аргентины, другой – из Канады, из какой-то дальней провинции, что у Тихого океана. Все там оставили – семьи, хозяйство… Так им оплатили… полцены билета – от Базеля! Нам, русским, возместили хотя бы цену билета от Женевы, так как мы туда прибыли. И сказали: когда снова сюда вернетесь, чтоб взяли открепительные бумаги и – адье, Гельвеция! А еда там – тошнотворная отрава! И дороговизна адская! Невозможно передать словами. Новая чашка стоит целое состояние! Так что тебе надо памятник поставить, что ты тогда не поехал.
По вечерам они сидят в Трехсвятительском у открытого окна. Уже весна, третья с тех пор, как Ребман за границей. Пономарь Василий и школьный служитель Петр сняли ставни, протерли уксусом стекла на окнах, сняли вату и полоски бумаги, которыми утепляли и заклеивали осенью каждый оконный проем. Нынче можно все снова откупорить и впустить весенний воздух – и в дом, и в сердце. И когда так сидишь перед открытым окном и смотришь сверху на низкие дома под зелеными крышами, а их внизу – целое море, действительно возникает ощущение, что ты находишься в большой деревне. О городе напоминает только звук трамвая, быстро пробегающего вниз по бульвару, да еще, по субботам и воскресеньям, «спектакли» на Хитровке, послужившие Горькому материалом для его пьесы «На дне». Знаменитый Хитровский рынок находится на расстоянии пистолетного выстрела от дома пастора. Иногда им снизу слышны удары, а затем видно, как полицейские ведут в участок толпу пойманных с поличным пьяных и ободранных «хитрованцев». Но обычно здесь тихо, как в саду, хотя во дворе вокруг церкви не растет ни кустика, ни цветочка.
Говорят о школе. И о каникулах на даче, которые приближаются с каждым днем и становятся главной темой всех разговоров в пасторском доме.
Раз в неделю все вместе ходят в «Колизей», красивый кинотеатр на Покровском бульваре.
И каждую неделю объезжают весь город в пустом вагоне трамвая линии «А». Садятся в трамвай на углу Трехсвятительского: на этой остановке вагоны почти всегда пустые. Говорят кондуктору «кругом!» и едут, как в манеже, по кругу, объезжая старый город: мимо Кремля, собора Христа-Спасителя с памятником Александру Третьему и мимо всех площадей, где прежде действительно были ведущие в город ворота, а теперь только остановки называются «воротами».
И когда через час они возвращаются домой, Оля уже поставила самовар, а мамаша зовет:
– Дети, чай пить!
Глава 5
Наконец-то наступил день, когда объявили о переезде на дачу: «Завтра переезжаем!» Как на зло, погода была дождливая. Лето вообще выдалось не особенно приветливое. Едва по-настоящему наступила весна, выманила всех из домов, пьянящим цветом вскружив головы, как снова загремело и заморосило, и полило. А несколько раз пошел даже такой снег, что пришлось расчищать дорожку. И ничего не оставалось, как сидеть дома, зябнуть и шутить, не желает ли кто выйти прогуляться.
Но нынче уже едут.
Больше недели в пасторском доме упаковывали все в соответствии с длиннющим, заблаговременно составленным списком. Половина домашней утвари едет с ними: столовая и кухонная посуда, аккуратно завернутая в газетную бумагу. Постельное и нательное белье. Одеяла. Целая гора подушек. Стенные и кухонные часы. Одежда. Обувь. Галоши. Дождевики. Остатки еды. Все, что необходимо в хозяйстве семье из десяти человек, чтобы всем было удобно и уютно. Даже фортепиано отправляется в путь.
Набралось два грузовика, заполненных доверху, так что пришлось веревками со всех сторон связывать багаж, чтобы не растерялся по дороге. В шесть утра началась погрузка: все, кто только мог, сносили вещи, даже кучер помогал; и когда Ребман в половине восьмого шел на службу, старый мерин стоял возле всё еще пустой грузовой телеги.
– Сколько времени им понадобится, чтобы добраться до места? – спросил он одного из ломовиков.
– При такой погоде и по таким дорогам? Не меньше семи-восьми часов.
Ехать пришлось даже дольше. Когда Ребман без четверти восемь вечера сошел с поезда в Болшево, как раз закончили разгрузку машин. Прибыли около пяти. Тряска была жуткая. Ломовики уже в дороге набрались, как следует. С этими извозчиками всегда так: только дашь им залог, тут же пропьют. Посуда в целости не доедет! Но теперь, слава Богу, все на месте и на время их оставят в покое. А погода еще наверняка переменится.
У заправляющего погодой Нина Федоровна заслужила баллы – иначе было бы даже несправедливо, учитывая все жертвы, которые ей пришлось принести: полный ящик осколков вместо посуды! Когда Ребман на следующее утро шел на восьмичасовой поезд, Небесных Дел Мастер улыбался сверху, словно хотел сказать: «Ну все, хватит, довольно посуды перебили!»
Ребман тоже был бы не прочь оказаться на каникулах, вместо того чтобы целыми днями просиживать в своем сумрачном «бюро», куда, даже в разгар лета, не в состоянии пробиться ни один луч солнца. Но расслабляться нельзя, иначе карьеры ему не сделать. Шеф каждый раз вовремя приманивает его кусочком сахару, как только заметит, что беднягу покидает вдохновение: например, по вечерам, когда «господин секретарь» посматривает на часы, как делают все, кто должен успеть на поезд. Но Ребману теперь уже не все равно, как было раньше. Об этом он не преминул сказать Николаю Максимовичу, когда тот в понедельник незадолго до шести хотел было начать диктовать. Если он не успеет на семичасовой поезд, то окажется дома только в девять и уже совсем не увидит дачи.
– Но ведь для дачи у вас остается воскресенье!
– Не совсем. Утром я должен играть на службе, а послеобеденное время пробегает вовсе незаметно. Может быть, я могу работать в час обеденного перерыва, чтобы вечером уходить вовремя?
– Нет, если мы начнем так поступать, – сразу же сообразил шеф, – все остальные последуют вашему примеру.
– Но ведь не всегда будет так – только летом, пока мы живем на даче.
Но Николай Максимович не желает об этом больше ничего слышать.
Он уступил только тогда, когда все пришли к нему и заявили, что хотят работать, как в Англии. Если у них английская фирма, – шеф ведь особенно этим гордится и при каждой возможности заявляет: «Мы – английская фирма!» – то хотя бы по субботам после обеда они отныне будут свободны, чтобы таким образом компенсировать четыре часа переработок в неделю. Тем, кто живет за городом, позволили по субботам уходить на два часа раньше, то есть в пять, а не в семь часов вечера.
Но тут Иван Михайлович выступил, как настоящий полицейский начальник. Этот мужчина с куриной грудью и ногами иксом заявил:
– Хорошо, Николай Максимович, тогда от имени всех сотрудников фирмы объявляю вам, – слово «всех» он произнес при этом особенно громко, – что мы, начиная со следующей субботы, после обеда не работаем!
И тут маленький человечек, который не может говорить «нет», вдруг присмирел и сказал, что они могут получить свои полдня, но только до наступления осени. С сентября снова вводится нормальная рабочая неделя.
Им действительно разрешили заканчивать работу в шесть вечера, а по субботам – в пять часов, это им тоже удалось из него выдавить. Конечно, седьмой час им придется отработать в обед, но это не очень серьезно: хоть они и остаются на рабочем месте, но при этом болтают. Андрюша следит за тем, чтобы предупредить всех в случае, если шеф вернется с обеда раньше. Но тот никогда не приходит до половины третьего.
Директору не понравилось, что Иван Михайлович позволил себе говорить от имени всех сотрудников:
– Я ожидал, что вы, Петр Иваныч, будете на моей стороне, – сказал он Ребману в тот же вечер, когда тот принес ему английскую корреспонденцию на подпись.
– Так оно и есть, – с полным спокойствием ответил ему Ребман.
– Почему же вы тогда ничего не сказали?
– Потому что я тоже был согласен с их требованиями.
Николай Максимович закричал во весь голос:
– И ты, Брут!
И тут у Ребмана впервые хватило мужества возразить начальству:
– Николай Максимович, что справедливо, то справедливо. Ведь нельзя же удерживать людей на рабочем месте дольше положенного. Какой в этом смысл? После шести к нам никто уже не заходит, почта отправлена, упаковщики следят, чтобы к пяти часам все было готово. Однако вам мало того, что мы выполняем по доброй воле, идя вам навстречу! Максим Максимович сказал мне, когда мы ездили на фабрику, что у его брата есть только один недостаток – он не умеет говорить «нет». Я этого недостатка за вами так и не заметил, хотя усиленно наблюдал. Мне очень жаль, но это так.
Шеф вдруг начал смеяться:
– Петр Иваныч, я думаю, вы ошиблись в выборе профессии. Вам нужно было стать дипломатом.
Ребман тоже смеется в ответ, довольный тем, что наконец сумел отбрить руководителя:
– Тогда можно было бы посочувствовать тем, кто попадет мне в руки!
Но тут шеф с мефистофелевской улыбочкой возразил:
– Кто знает. На свете бараньих голов больше, чем разумных, потому-то и существуют дипломаты. Меня вы, во всяком случае, не убедили. Я только потому позволил вам так долго говорить, что хотел посмотреть, насколько вы в этом сильны. – Он откинулся на спинку кресла. – Так-то вот!
Русское лето на даче нужно хоть однажды пережить самому. Это вам не курорт: здесь нет ни гостиниц, ни кафе, ни ресторанов, ни кондитерских и тому подобных заведений, где из людей выкачивают деньги, оставляя взамен заботы, так что, когда люди возвращаются домой, они видят, сколько выбросили на ветер и чувствуют себя еще большими дураками, чем до этого. На русской даче нет ничего, кроме леса, лугов, покоя и самого себя. Здесь с тебя слетает все лишнее, все, что мучает и тяготит; здесь снова становишься человеком со всеми его чувствами, становишься ребенком, каким ты был двадцать, тридцать или семьдесят лет назад.
Уже в первый понедельник, снова вернувшись из пасторского лесного рая в контору, Ребман почувствовал себя намного бодрее обычного: работа спорилась, дела шли в два раза быстрее. И вечером, по дороге домой, как только оказался за городом, – словно мешок картошки упал с его плеч. Вдыхаешь воздух полной грудью, смотришь в окно, а там тебе улыбается самая гостеприимная природа во всем Божьем мире: лес, еловый и буковый, долины в лугах, одна за другой, ручьи и речушки в свете вечернего солнца. Повсюду разбросаны деревни со множеством маленьких и больших загородных домов или дач, как говорят русские. На каждой станции сходит толпа горожан и каждый шагает к своему побеленному деревянному домику – некоторые дачи больше, чем в часе ходьбы от станции, – сокрытому за лесами и долинами, где хозяина к ужину ждет семья.
Для Ребмана это самое прекрасное чувство – когда знаешь, что тебя кто-то ждет. Со времени смерти матери он этого чувства не испытывал, думал, что больше оно к нему не вернется. Но вот теперь это снова случилось. Нет ни одного вечера, какая бы ни была погода, чтобы пасторские дети не стояли на вокзальчике, встречая его поезд, и по дороге не рассказывали ему, как старшему брату, все новости: сколько белых грибов они нашли сегодня, что за забастовку им устроила няня и что они еще успели за день натворить. Не было также и ни одного утра, чтобы хотя бы кто-то один не провожал его до станции и не махал вслед, пока поезд не скроется из виду.
В Болшево даже есть театр, правда, под открытым небом, но зато какой: в нем играют самые лучшие столичные актеры, даже из Художественного театра, проводящие здесь дачный сезон. А сбор от спектаклей отправляют в Красный Крест!
И какие же долгие здесь вечера! Ночь просто не желает наступать. А в половине третьего уже начинает сереть предрассветное небо. Лучше всего вообще не ложиться спать.
А закаты солнца! Таких Ребман нигде больше не видел, даже на море.
Нина Федоровна, между прочим, печется о семье не из десяти, а только из девяти человек: господин пастор, глава семьи, остался в городе. Там он сам убирает постель, сам готовит еду, исполняет свои обязанности духовника и представителя интересов немецких военнопленных. И пока хоть одна душа приходит в церковь, по воскресеньям отправляется служба. Но если напрасно «звонят» – на самом деле у протестантской церкви в Москве нет ни колоколов, ни башни, если бы над входом не было креста, никто бы вообще не знал, что это церковь, – то они ждут четверть часа после начала службы, и Павел Иванович говорит, что проповедовать и играть для пустых скамеек они не станут: закрываем лавочку до тех пор, пока не кончатся каникулы!
Город по воскресеньям словно вымирает: все, кто только в состоянии себе это позволить, на дачах. А на даче – солнце, мир, покой. Играют в теннис. Ходят купаться в пруду на маленькой лужайке у леса, которая напоминает садик пасхального зайчика. Или идут по грибы, если накануне был дождь, приносят домой полную корзинку превосходных свежих боровиков. Совершают дальние прогулки по окрестностям. Можно гулять, где хочешь, даже через железнодорожную насыпь перейти, по ней можно ходить и по верху. В Швейцарии, по крайней мере, в немецкой ее части, решили бы, что перед ними сумасшедшие, в лучшем случае покрутили бы пальцем у виска, а тут никто ничего не говорит, ведь, как уже упоминалось, железная дорога в России – что главная улица. Или идут кататься на лодочке, по речке, которая, спустившись с горки, змейкой извивается в лугах. А можно просто лежать в гамаке и в московском небе угадывать дальние глубины. Там клубятся таинственные потоки будущего – и никто еще не догадывается, что они сидят в самом кратере вулкана, готового к извержению.
Когда сотрудники «International Trading Company» в понедельник после обеда по обыкновению посиживали или болтали стоя, помощник бухгалтера Иван Михайлович как раз задал Ребману щекотливый вопрос, не хотел ли бы тот лучше быть русским, чем простым швейцарцем. Вдруг прибежал Андрюша и выпалил:
– На Мясницкой громят! Погром!!!
– Кого громят? – недоверчиво спросил упаковщик Карягин.
– Все, что немцам принадлежит и по-немецки называется. Сейчас они как раз у Вальдемара Бауэра.
– Но он же балтийский, то есть русский! – кричит Ребман, надевает кепку и выскакивает из дому.
На Мясницкой неразбериха, не протолкнуться. Двери всех магазинов раскрыты настежь, изо всех окон густо свисают головы зевак, словно ягоды виноградной грозди. Слышны крики, вой, удары, треск, стук. Вдали, со стороны Лубянской площади, движется толпа с портретами царя, по мостовой разбросаны зеленые, голубые и розовые стеганые одеяла, разодранные подушки и другое постельное белье, летающее по ветру и повисающее на трамвайных проводах. Из-за летающих повсюду перьев даже кажется, что посреди жаркого лета вдруг пошел снег.
А люди, эти добродушные, добросердечные русские люди, которые и мухи не обидят, которые еще так недавно истово молились перед иконами, чтобы святые угодники простили им все грехи перед ближними, вольные или невольные – стоят, глазеют и приговаривают, что, мол, «поделом этой германской сволочи», и смеются вовсю.
Ребман совсем забыл, что ему еще нужно написать и сегодня отправить по почте английское письмо. Он стоит как окаменевший: неужели такое возможно?
Погромщики уже так близко, что можно рассмотреть всех: студенты, но немного, несколько десятков. Они должны были заранее знать имена владельцев предприятий и магазинов, ведь далеко не на всех фирмах были вывески. Позже стало известно, откуда были получены адреса.
Шли от дома к дому, все русское, союзное или нейтральное оставляли в покое, но если пахло чем-то немецким, то сразу разлетались и стекла, и перья. Одним махом разбивались витрины, и всё содержимое оказывалось на улице: часы, фотографические товары, очки, постельное белье, шерстяные одеяла, одежда, обувь – все то, чего уже давно стало не хватать. Книги, журналы, нотные тетради, цветы, табачные и даже продовольственные товары – все выбрасывается прямо на улицу, рвется, бьется, ломается, нещадно уничтожается у всех на глазах.
А студенты стерегут все, как полицейские собаки. Тот, кто что-либо прикарманит или затолкает в рот, сразу получает на орехи. Но сами они что хотят, то и делают – им все позволено!
Вот они подошли к Мясницкому проезду, боковой улочке, где располагалась компания Ребмана.
– Здесь должна находиться фирма, принадлежащая двум немцам, – говорит один из студентов, – пошли.
И все погромщики направились к «International Trading». За ними следовала целая толпа зевак.
Но тут из дверей дома к ним вышел Николай Максимович. У него в руках был вставленный в рамку документ, которого Ребман раньше никогда не видел. Директор протянул его главарю и стал скандировать на своем ужасном русском:
– Мы – английская фирма, мы – английская фирма!
И Иван Михайлович, который с превеликим удовольствием уже давно ушел бы в прокуроры, бросив место младшего бухгалтера и кладовщика – тут как тут! Он свидетельствует четко и громко, что они действительно английская фирма, а все сотрудники – русские. Только вот этот – немец. И под «этим» он имел в виду Ребмана, которому как раз удалось наконец протиснуться вперед.
Студент с золотой нашивкой на воротнике поднял брови и, с ног до головы оглядев Ребмана, спросил:
– Он правду говорит?
Не отвечая ни слова, Ребман достал свой швейцарский паспорт – за который в данный момент он бы полжизни отдал – и протянул его студенту. Тот посмотрел, пролистал до последней страницы, где стояли русские печати, и сказал, обращаясь к остальным:
– Неправда, он – швейцарец.
И оставил Ребмана в покое. Только еще Елизавету Юльевну спросил, кто она такая.
– Я – эльзаска, но родилась в России и уже давно имею российское подданство.
– У вас есть документ?
Елизавета Юльевна достает из сумочки бумагу и предъявляет:
– Пожалуйте.
Главарь:
– Бек? Бек – это же немецкая фамилия!
– Нет, французская! Наша фамилия «Вес», последняя буква «сэ», а не «ка», что по-французски означает «клюв»! Это германцы против нашей воли дописали «к», еще в войну семидесятых годов. Из-за них дедушка эмигрировал тогда в Россию! – защищается Елизавета Юльевна и добавляет: – Между прочим, мой брат – офицер императорского гарнизона: капитан Юлий Юльевич Бек!
Тут главарь погромщиков отдал честь, снял фуражку и в самых вежливых выражениях извинился перед дамой за доставленное неудобство.
Фирму они тоже оставляют в покое.
– Это английская фирма, пойдемте!
Николай Максимович сделал своим сотрудникам знак, чтобы они возвращались по домам, на сегодня с работой покончено. Он бледен, как полотно, говорит с трудом.
Но Ребман, по-молодецки любопытный, не идет на поезд, а бежит за толпой на другую сторону, где у Мясницких ворот как раз потрошат магазин «Einem». Всем известно, что в России обосновался еще прадедушка владельца. У того знаменитая фабрика в Замоскворечье, как раз в том месте, где канал отходит от реки, напротив храма Христа-Спасителя, там, куда смотрит Александр Третий. А их магазины по всему городу, ни в одном приличном доме чайный стол не обходится без кондитерских изделий этой марки, и все делается руками русских и из русских продуктов.
Но фамилия Einem!!!
– Давай, ребята, громи!
Витрину уже разбили и на улицу полетели товары: торты, конфеты, все сорта пирожных с сахарной глазурью и без, с кремом, с шоколадом или без, тянучки, в палец длиной, карамели, в палец толщиной, фирменные конфеты «от Айнема» – полчаса надобно, чтобы такую одолеть.
Все, как дикари, набросились на сладости.
– Но только ногами, ботинками, а не в рот! – прозвучал громкий приказ.
Кто «не расслышал», тому свистом нагайки прочищают уши.
Через несколько домов находится представительство поставщика немецких кассовых аппаратов. Прямых поставок они больше не осуществляют, и сам представитель компании, тоже не немец, а русский, даже поставщик императорского двора, о чем свидетельствует царский орел, в виде рельефного орнамента украшающий каждый аппарат. Но продукт ведь немецкий, хоть и ввозится через Швецию, об этом студенты хорошо знают:
– Громи, давай!
В мгновение ока на улицу полетели тяжелые, из кованого железа, кассы, одна, перевернувшись в воздухе, ударилась о мостовую орлом, и тот повис, как на ниточке; другая упала на правый, третья – на левый бок. И каждый раз, когда императорский символ – который обычно почитают как самого Господа Бога – разбивается на кусочки, толпа вдохновенно орет «у-у-у-ра-а-а!»
И царь Николай Александрович смотрит на все происходящее с хоругви, которую несет студент, и даже не поморщится.
Есть и другие наблюдатели за тем, как тяжелые кассы вместе с императорским двуглавым орлом одна за другой совершают дугообразный полет: в переулке стоит целая сотня казаков. В плоских бескозырках, надетых набекрень, молча, с неподвижными лицами и с оружием наперевес, восседают они на конях, но с места не двигаются.
Вдруг один зевака обратился к Ребману:
– Скучно здесь, пойду лучше в центр, посмотрю на Тверской или на Кузнецком мосту, что там творится, а то здесь просто детские забавы.
И с этими словами он вскочил на подножку следующего трамвая.
Ребман к нему присоединяется: «Еще грубее, чем здесь? Это я должен сам увидеть!»
Сначала он идет на Кузнецкий мост. Здесь находится музыкальный магазин Циммермана, еще более огромный, чем у Идзиковского в Киеве или у Хуга в Цюрихе. В нем все можно приобрести, от губной гармошки до самого дорогого рояля Стейнвей, даже скрипка Страдивари у них имеется.
И здесь тоже народу – хоть по головам иди. Но тут уже хорошо поработали: на тротуаре перед магазином, у которого Ребман своими глазами видел и Рахманинова, и Скрябина, теперь валяются горы разорванных полусожженных нотных тетрадей, разбитых гитар, мандолин, балалаек, аккордеонов, скрипок, флейт, кларнетов, растоптанных и покореженных труб, тромбонов и фаготов.
Теперь подошла очередь «тяжелой артиллерии». «Внимание!»– раздался голос из окна с двойными стеклами в пятом этаже и показался хвост блестящего, чернолакированного рояля. Но дальше инструмент не проходит, рот слишком мал для такого куска. Словно кто-то держит в зубах слишком крупную добычу – не может проглотить, но и не хочет выпустить. Что делать? Берут топор и молоток, изо всей силы бьют по корпусу, – об убытках ведь в данном случае можно не беспокоиться. И началось: с ужасным грохотом тяжеленный рояль опрокинулся на мостовую – слышен звон струн, видно, как разлетается на части корпус. А на его останки сверху полетела крышка от рояля, а за нею – стулья, добивая все, что еще уцелело.
И опять откликнулся голос с пятого этажа: «Внимание!» – и вслед за роялем вывалилась фисгармония «Мустель» и сразу же развалилась на кусочки.
Ребман подошел ближе, и кого же он увидел? Одного из упаковщиков «International Trading», разрубающего топором уже мертвого «Мустеля».
– Что ты делаешь? Господь с тобой! – завопил он здоровяку прямо в лицо.
Услышав знакомый голос, упаковщик обернулся, осклабился во всю ширь русского лица и протянул Ребману топор:
– Давайте, Петр Иваныч, разобьем эту германскую морду!
Тут Ребман вспомнил, что ему в Барановичах говорил о русских Маньин: «Они все добродушные, пока не возьмут топор в руки; погодите, еще сами убедитесь!»
И вот теперь он собственными глазами видит то, как человек, хоть и русский или как раз именно русский, словно по мановению руки самого дьявола, превратился в дикого зверя.
– Ну вы и олухи царя небесного! – восклицает Ребман.
На Тверской, главной московской улице, где находятся торговые дома и самые большие магазины, посреди трамвайных путей лежат в кровавом месиве две руки и три-четыре пальца ног, уже совсем посиневшие.
– Это все, что осталось от «немецкой морды», – говорит проходящий мимо погромщик, – они вытащили его из магазина и выбросили прямо под трамвай. Остальное валяется там, в шахте.
В нескольких шагах от этого места новоявленные вандалы разоряли «Манделя», ставшего для Ребмана «придворным поставщиком одежды» после того, как этот магазин прошлой зимой превратил провинциального семинариста в Макса Линдера. Уже день клонится к вечеру, а полиции нет и следа. Тем временем отребье со всего города и окраин по-прежнему хлопочет. Хватают и тащат, что им вздумается. Со всех сторон видны перевозчики, направляющиеся в сторону вокзалов. Эти нынче заработают неплохо; движение такое, будто вся Москва переезжает.
Когда Ребман потом сидел в поезде и смотрел по сторонам, там и тут виднелись поднимающиеся в воздух столбы черного дыма.
По дороге на вокзал он еще стал свидетелем своего рода интермеццо. Как всегда в этот час, трамвай был настолько переполнен, что напоминал вылетевший пчелиный рой. Нужно было изо всех сил стараться, чтобы хоть как-то втиснуть ногу на ступеньку и удержаться, схватившись за других пассажиров. Но делать нечего – поезд ведь ждать не станет. Когда он так стоял, точно приклеенный, прямо на ходу запрыгнул какой-то подросток и вцепился в него, сначала обхватив сзади шею, а потом – грудь.
– Держись, котенок! – пошутил было Ребман, обернувшись через плечо.
Но вдруг он почувствовал, что этот хулиган шарит пальцами в заднем кармане его брюк, в том самом, куда он сунул кошелек с деньгами. Стоило только Ребману одной рукой взяться за соседа, как мальчишка спрыгнул, собираясь дать деру. Но пострадавший бросился за ним с криком:
– Держи вора, он украл мой кошелек!
И тут вдруг, как из-под земли, вырос полицейский. Сорванец попался ему прямо в руки, успев выбросить свою добычу под трамвай. Но страж порядка схватил его за шиворот:
– Марш в участок!
Будь Ребман чуть постарше и поумнее, он бы сказал полицейскому, чтобы тот отпустил мальчишку. Сегодня уже было столько грабежей, что несколько рублей уже ничего не решают, а он еще как-нибудь заработает. Однако вместо этого швейцарец говорит:
– Да, да, заберите его, проходимца эдакого! – И оставляет полицейскому свое имя и адрес.
Когда он вернулся в Болшево и добрался до их тихого пристанища посреди леса, там же оказался и господин пастор: забеспокоившись о семье, он сразу же появился на даче. Павел Иванович в полном отчаянье сообщил о том, что толпа разгромила дома некоторых членов их общины, и есть опасения, что имеются даже убитые.
– Кто же спровоцировал этот погром? – спросил Ребман.
Пастор удивленно посмотрел на собеседника:
– И в самом деле, кто? Те же, кто в свое время подущал чернь и на еврейские погромы. За всем этим, разумеется, стоит полиция. Ведь нужно же снова натравить на кого-то народ, который не желает больше поставлять фронту пушечного мяса. Вот увидите, о чем завтра напишут газеты, только, конечно же, не подкупленные. Пострадали ведь почти все принадлежавшие немцам фирмы и просто частные лица, являвшиеся, к тому же, потомственными российскими гражданами в нескольких поколениях; а всего того, что испортили, поломали и разбили сегодня, завтра будет недоставать тем же русским людям, сами потом увидите. Но правительству необходимы новые солдаты и, как уже было сказано, любой ценой.
Все оказалось даже намного хуже, чем можно было вообразить. Восемьдесят процентов разгромленных и сожженных фабрик и магазинов, как сообщили газеты, были русскими, многие из них работали для фронта, в их числе были, например, фабрики, производившие перевязочные материалы и прочие аптекарские товары. Во всех этих майерах, мюллерах и шульцах не было ничего немецкого, кроме фамилий, иначе их сыновья не воевали бы на передовой за Россию. Оставшиеся двадцать процентов пострадавших от погрома придерживались нейтралитета.
Об этом они узнали из газет, которые сопровождали свои данные подобающими комментариями: так войны не выиграть, лучше позаботиться о том, чтобы в бою у каждого солдата было настоящее оружие, а не деревянные винтовки, которыми «воюет» половина армии! А известно ли населению, что у пожилой дамы, которую с проломленным черепом вытащили из канала, оба сына погибли на фронте? Так что, вместо того, чтобы просыпаться утром в состоянии патриотического подъема и готовности жертвовать собой ради победы, город страдает от тяжкого похмелья, его захлестнула невиданная доселе волна скорби и разочарования.
Теперь уже военные в городе не просто выполняют функцию наблюдателей из укрытия. Когда Ребман без четверти восемь утра вышел из трамвая у Мясницких Ворот и собирался пройти мимо Почтамта, навстречу ему побежали люди, которых преследовали казаки, размахивавшие короткими нагайками и кричавшие: «Назад!»
Он увидел, как молодая девушка, которая каждый день ездила тем же утренним поездом, пытается пройти впереди него, но ей удается сделать лишь несколько шагов. «Назад!», – орет казак. Девушка хочет подняться по ступенькам к Почтамту, но казак на коне теснит ее, загоняет в угол и стегает нагайкой до тех пор, пока и блузка, и даже сорочка под ней не разлетаются в клочья. Только когда несчастная упала на землю, он перестал хлестать свою жертву.
«Со мной это не пройдет», – думает Ребман, достает свой паспорт и показывает казаку:
– Я швейцарец…
– Назад! – завопил верховой, и если бы Ребман не сумел молниеносно заскочить в подъезд, ему тоже досталось бы на орехи.
Когда он с опозданием на четверть часа явился в бюро, выяснилось, что звонили из полиции и вызывали его в участок!
– Что это вы натворили?
– Я? Ровным счетом ничего. Это, наверное, по поводу того воришки, который вчера вечером в трамвае стащил у меня кошелек.
– Отправляйтесь немедленно, – по-кошачьи ласково говорит Иван Михайлович, – я сообщу шефу, когда тот придет.
– Хорошо, – отвечает Ребман. – А когда я вернусь, мы с вами тет-а-тет поговорим по-мужски. Так что не забудьте предварительно прочесть «Отче наш»!
В участке его попросили предъявить паспорт, а затем дать показания о содержимом похищенного портмоне. Потом потерпевшему была устроена очная ставка с «преступником». Участковый пристав произнес при этом только одно слово:
– Он?
– Он, – кивнул Ребман.
– Так, – ухмыльнулся пристав, – на фронт его! Я тебя проучу, сукин ты сын!
Вернувшись в контору, Ребман тут же набросился на полицейского осведомителя Ивана Михайловича, который, впрочем, этого вполне заслуживал. Если бы студенты намедни поверили ему на слово, ни о чём не расспросив самого Ребмана, – а именно на это младший бухгалтер, кажется, и рассчитывал, – то, в духе вчерашних настроений, «вот этот немец» вполне мог бы тоже исчезнуть в водах обводного канала. Он приподнял «коллегу» за галстук – тот оказался легким, словно щепка, – и с такой силой зашвырнул его в противоположный угол складского помещения, что бедняга после этого неделю не показывался в бюро.
– Вы не должны были этого делать, – попенял ему явившийся на шум шеф. – Нам следует защищаться разумно, а не кулаками. «Не руби с плеча, не решай сгоряча», – учит народная мудрость.
А вечером, когда Ребман принес ему почту на подпись, Николай Максимович сказал:
– Я вас уже предостерегал и предупреждаю снова. Согласен, то, что он хотел отдать вас на растерзание толпе, было подло. Однако нынче вы нажили себе здесь смертельного врага. Иван Михайлович не успокоится, пока не уничтожит вас. Берегитесь этого человека!
Прошло почти два года, и в вихре сменявших друг друга событий Ребман давно позабыл об этом неприятном эпизоде. Он полагал, что и Иван Михайлович уже не помянет старого, – так вежлив и даже дружелюбен стал этот русский по отношению к своему швейцарскому сослуживцу. Но вдруг он нанес Ребману удар такой силы, что пришлось распрощаться не только с местом в «International», но и со всей прежней беззаботной жизнью.
Глава 6
Два года прошло с тех пор, как молодой загорелый офицер-артиллерист на набережной в Алуште у Черного моря уверенно заявлял, что казаки царя-батюшки порубят австрияков, как фарш на котлеты.
И вот однажды Ребман посреди ночи слышит, как к нему в комнату с топотом вломились какие-то люди. Он вскочил, сел на кровати, выглядывает из-за книжных полок, отделяющих его «спальню» от «жилой комнаты» и видит пастора, ходящего взад и вперед по своему кабинету перед офицером полиции.
Полицейский подходит к нему и громко вопрошает:
– Есть ли здесь еще кто-нибудь?
– Да, – слышен голос пастора, – молодой швейцарец, который у нас проживает.
– Разбудите его! – приказал офицер.
Ребман быстро впрыгнул в брюки и вышел.
– Кто вы такой и чем занимаетесь? – спросил его пристав.
Ребман вежливо отвечает и предъявляет ему паспорт. Он не чувствует ни малейшего страха, ведь он знает этого человека в лицо. И городового, который стоит в дверях, он тоже знает: они на Пасху держали друг друга в объятиях.
– Садитесь вот на этот стул, – говорит ему так же вежливо пристав, – после я должен буду с вами поговорить.
Ребман повинуется, как покорная овца. Когда все вышли, он спросил у городового, что, собственно, случилось. Но ответа не получил: огромный полицейский с саблей и револьвером на красной перевязи только стоит и смотрит в потолок.
– Я могу одеться? – спросил Ребман.
Городовой опять не ответил, только пальцем показал, чтобы Ребман оставался на месте.
Целая вечность прошла, пока ушедшие вернулись из кабинета пастора, пристав – с увесистой пачкой бумаг под мышкой. Он отдал ее городовому. Затем начал допрашивать Ребмана:
– Доводилось ли вам слышать, как пастор в церкви ругает правительство и августейшее семейство?
«Я этого не знаю, я ведь играю на органе», – пронеслось у Ребмана в голове. И он быстро проговорил:
– Как я могу об этом знать, я ведь никогда…
Его тут же перебил пастор:
– Молодой человек служит у нас органистом!
– Так, значит, вы знаете. Что же говорит пастор о правительстве и об их императорских величествах?
– Он о них молится.
– Молится? Мы слышали совсем иное!
– Я – нет. Я никогда ничего другого от него не слышал. Я даже удивлялся тому, что в нашей церкви молятся за правительство и за власть имущих. Это ведь не принято, о них, по нашему обычаю, молятся только раз в году, в определенный праздник. Но Павел Иванович делает это на каждой службе, даже называет имена их императорских величеств, всех членов августейшей семьи по очереди. Проповеди он говорит против войны, а не против правительства.
Утром за чаем они обсуждали эту историю: все ограничилось тем, что полиция изъяла гору писем от немецких военнопленных. Все, конечно, были напуганы, но надеялись, что это послужит Павлу Ивановичу уроком!
– А где он сам, арестован?
– Упаси Бог! Он уже снова в отъезде. Другого они бы, пожалуй, упекли, но у нашего папы, кажется, особый Ангел-Хранитель.
Глава 7
Время бежит. Война идет. Голод наступает. Все пришло в движение. Даже в прежде сонной державе батюшки-царя. Словно лавина, катится она в преисподнюю. Подобно тому мужику во время киевского ледохода, на одинокой льдине, вполне отдавшись на волю волн, застыл в своих санях Николай Александрович, самодержец всея Руси, царь финляндский и прочая, и прочая… Не глядит по сторонам. Никого не слушает. Не следует советам тех, кто, предвидя грядущую катастрофу, могут еще помочь ее предотвратить. Российская империя идет ко дну, стоя прямо, во весь рост.
Они его даже видели, царя-батюшку. Сразу после погрома он прибыл в Москву. И все, конечно, побежали на него поглазеть, в том числе и пасторские дети из Трехсвятительского вместе со швейцарцем, который предпочел бы теперь швейцарцем не быть. Они стояли перед Страстным монастырем на Тверском бульваре, впереди, прямо за полицейским кордоном. И каждый раз, когда слышалось в толпе «Вот, сейчас! Едут!», Ребман поднимал четырнадцатилетнюю Алю на руки, чтобы она лучше видела. Пока он раз двадцать так ее поднимал, успел рассудить, что, должно быть, не великое это удовольствие – всю жизнь носить взрослую женщину на руках, как предлагает на свадьбах пастор, если уже четырнадцатилетняя – столь тяжелая ноша.
После того как они два часа промучились, вдоволь насмотревшись на Пушкина, стоящего напротив них на пьедестале, наконец появился Ники. Но все было далеко не так, как ожидал Ребман: он не испытал ничего похожего на то умиление, что пленяет тебя в толпе на Пасху или в Рождество, так что приходится сдерживать слезы. Даже не так, как в театре – куда там! Ребман вообще ничего не чувствовал, кроме Алиного веса и ее пальцев, которые от волнения впивались ему в волосы. И он ничего не увидел, кроме маленького человека в военном мундире в открытом авто, беспрестанно отдававшего честь и посылающего приветствия во все стороны. Вот, собственно, и все.
Ребман выдумывал всякие несусветности: например, что бы сделал Пушкин, если бы увидел едущего к нему «помазанника Божия»? Спрыгнул бы он со своего пьедестала и кинулся к нему на шею? Или пал бы перед ним на колени в земном поклоне, как простой народ в церкви перед иконами? Или взмахнул бы рукой? Или просто улыбнулся? Ничего подобного не произошло. Пушкин не сделал ничего, когда мимо него проехал его государь, – даже не помахал ему вслед. Так и стоял со шляпой в руке, как стоит всегда, обнажив голову и зимой, и летом, и днем, и ночью, приветливо глядя на народ, но не на царя. И Петр Иванович Ребман справедливо решил, что вот он, настоящий царь, – стоит на пьедестале, а вовсе не тот маленький полковник в автомобиле.
Когда они снова сидели в трамвае и обсуждали августейший визит – какая на государе была форма, какие ордена на груди, как он всех смиренно приветствовал и улыбался, как будто каждому лично! – Ребман заметил в своей отрезвляющей манере:
– Такой же, как все. Если, конечно, это был он!
Тут его осадила старшая дочь пастора, Лена:
– Вы самый настоящий швейцарский плебей!
И из-за этого в доме разгорелся скандал. И так каждый раз: они ссорятся и спорят из-за подобных вещей. Поскольку Ребману и одного слова достаточно, чтобы выйти из себя, то со временем все разговоры в пасторском доме стали больше походить на споры. В таких случаях Нина Федоровна добродушно говорит:
– Дети, довольно!
Но это только подливает масла в огонь. Каждая сторона начинает защищать свою позицию: дети пастора – на двести процентов русскую, а Ребман, который щетинится, как еж, именно потому, что он в глубине души все еще швейцарец, – противоположную. После этого на несколько недель прекращаются игры, вечерние поездки на трамвае и походы в синематограф. Даже смеха из окон не слыхать. Если кто в такие дни пройдет мимо их дома, у него возникнет чувство, что здесь, и вправду, церковь.
Вечерами Ребман не идет домой, он звонит, что задержится на работе, садится в трамвай и едет к кому-то из своих друзей, чаще всего к Михаилу Ильичу. И тогда они музицируют, то есть Михаил Ильич играет на скрипке, а Ребман за семью закрытыми дверями должен слушать, несется ли «серебряный звон», слышен ли он и в самом дальнем уголке самой дальней комнаты? Или же звук на расстоянии даже усиливается, резонируя во всех встречающихся на его пути предметах? И каждый раз Ребман вбегает с криком:
– Это волшебная скрипка! Чем больше стен и дверей, тем громче она звучит!
Потом они пьют чай. И беседуют. Сначала о вполне будничных вещах. Например, о любви.
– Отчего ты не женишься? – может спросить Ребман.
Михаил Ильич смеется. Эта легкая веселость находит на него всегда, когда Ребман скажет какую-нибудь глупость:
– Потому что нельзя иметь двух жен, по крайней мере, так это было до сих пор!
– Да? А разве ты…?
Друг кивает:
– У меня, батенька, есть жена и двое детей!
– Ну и где же они? Признайся, ради Бога!
– В деревне. Так здоровее, по крайней мере, для семьи. Да и дешевле. Жена еще и учительницей работает.
– Но разве ты не хотел бы быть с ними?
Его друг смотрит куда-то вдаль:
– Нельзя иметь всего, чего пожелаешь. В нашем случае – так уж точно. Я нужен здесь, в городе. – А ты что же? Как у тебя с этим?
– Я, – говорит Ребман, – хотел бы каждого красивого ребенка взять на руки. Каждого! Мне кажется, что я ненормален.
– Наоборот, – смеется Михаил Ильич, – было бы ненормально, если бы молодой человек, тем более холостой, не испытывал такой потребности.
– Но чтобы всех подряд…
Михаил Ильич сделал затяжку, стряхнул пепел на газету, лежащую на столе:
– Но это только пока своих не заведешь – потом уж все едино.
Разговор опять заходит о войне и, как всегда, упирается в то, что грядет со все большей очевидностью, – в революцию. Михаил Ильич открыто говорит, что пришел конец всему, чем церковь две тысячи лет удерживала в повиновении весь мир, словно стадо идиотов!
Ребману эта тема вовсе не по душе. Он никогда не забудет единственного и главного совета, полученного от рейнгородского фабриканта: «Держитесь подальше от политики, в России это губительно!» Кроме того, он вырос в стране, где каждый может свободно развиваться в соответствии со своими наклонностями и способностями, где нет нужды в насилии и в давлении сверху: ни в царской полиции, ни в охранке, ни тем более – в революции! И потом с Ильичом вообще невозможно об этом говорить: всегда добрый и понимающий, он теряет способность к рассуждению, когда речь заходит о революции, и не знает пощады к тем, кто смотрит на мир не его глазами. Прежде всего он не оставляет камня на камне от мелкобуржуазных общественных порядков, которые являются причиной всех бед этого мира. Это единственный пункт, в котором у друзей нет никакого взаимопонимания, тут пропасть между ними так глубока, что с этим уже ничего не поделаешь.
Ребман охотнее всего ушел бы от разговора. Но Ильич берет его в оборот: он знает, как довести собеседника до белого каления, чтобы тот не сдержался и даже против своей воли начал отвечать.
– Петр Иванович, – говорит он младенчески невинно. – Петр Иванович, когда живешь в чужой стране, имеешь тут кусок хлеба, да еще и такую беззаботную жизнь, все равно нельзя оставаться столь равнодушным. Нужно хотя бы проявлять сочувствие!
– Вот я и проявляю! – огрызается Ребман раздраженно.
– Да, когда дело идет о твоей шкуре или кошельке. Все вы таковы, здесь в России, – ты и люди твоего сорта, – знай себе подзуживает Ильич.
И Ребман попадается на его удочку.
– Построить новый мир? – издевательски спрашивает он.
Ведь именно так перед этим говорил его друг: «Мы должны уничтожить этот прогнивший строй, снести эту развалюху и построить новый мир, в котором будет воздух и свет для тех, кто сегодня сидит во мраке».
– Это вы – строители нового мира?
Михаил Ильич кивает:
– Да, мы. Мы – единственные, кто в состоянии это сделать. Исходи желчью, сколько угодно, но это так!
– Это ты уйми свою желчь, – еще задиристее отвечает Ребман, – не то завтра будешь страдать от изжоги! Единственные они, как же! Валят все дерево, чтобы наколоть лучину!
– Нет, не дерево, а сухостой.
– А «сухостой» на вашем языке обозначает демократию, свободную волю большинства, которая определяет, что хорошо и полезно для всех и что нужно проводить в жизнь. Вы это называете сухостоем, потому что умеренное большинство не позволит вам делать то, что вздумается. Революции испокон веков делало меньшинство, и только потому, что ему самому хотелось иметь все то, за обладание чем они проклинали своих противников. Судьба масс этих господ никогда не интересовала, это только сыр в мышеловке. Сплошной обман, наглое надувательство в чистом виде! А как же иначе, если за этими господами не стоит большинство, а ведь поддержки народа у них и нет!
– Ах, вот как? – петушится Михаил Ильич, сжимая кулаки. – Вот как?
– Вот именно: шило на мыло, тот же Ники, только под другим именем – нет уж, увольте!
– Ты не можешь нас винить. Мы хотим другого.
– Нет, не хотите! Вам нужна революция, это у вас в крови. Но диктатура – это ведь не свобода, это же нечто противоположное. А насилие – на его почве еще никогда ничего не построили! Все хорошее и здоровое должно иметь возможность свободно развиваться. То, что действительно здорово и полезно, пробьет себе дорогу несмотря ни на какое сопротивление, даже против насилия устоит! Но к этому людей нельзя принуждать, этого можно добиться только воспитанием. Такая задача возлагается не на государство, а на семью и школу. И саму жизнь! Вы себя считаете великими пророками, но по сравнению с теми, кто проповедовал любовь к ближнему как основу человеческого общества, вы просто наивные дети!
Теперь Ильич ответил тоже резко:
– Проповедовали! Хватит с нас проповедей! Мы не говорим богатому: «Иди, продай все и раздай бедным!» Не пойдут! Мы говорим: «Довольно он попил крови из бедного народа, к черту с ним совсем!»
– А я-то всегда считал вас, русских, такими гуманистами, думал, что среди вас нет злых подстрекателей!
Михаил Ильич ответил холодно:
– Землетрясение еще никогда не было гуманным. Этого от него никто и не ждет. И старый дом нельзя просто подбелить. То есть можно, но что из этого выйдет?
– Если как следует поправить, то выйдет нечто красивое и уютное, и все будут останавливаться и с радостью любоваться.
– Нет, выйдет ерунда, дерьмо! – говорит Ильич, передразнивая недавний ребмановский пыл. – Нельзя вливать молодое вино в старые мехи – сгнили, порвутся. Неужели ты считаешь правильным, что кучка бездельников и паразитов лопаются от пресыщения, а миллионы тех, кто на них работает, страдают от голода. Это что, по-твоему, справедливо?
– Нет, – говорит Ребман, – это несправедливо, но изменить мы ничего не можем. Во всем мире так, везде немногим принадлежит все, а остальным – ничего.
– Нет! Мы можем это изменить. И мы изменим! У нас длинные руки!
– Нет, это не под силу никому, даже вам. Допустим, придут другие люди, но они будут не лучше прежних, просто грубее и бессовестнее!
Однажды Михаил Ильич взял друга с собой в «кружок», не предупредив, куда они идут, а то Ребман бы не пошел: что за лица! Он долго удивлялся, как Михаил Ильич может вращаться в таких кругах. «Это же интернациональный сброд, объединившийся в клику», – подумал он про себя. Его даже передернуло от мысли, что подобные типы могут оказаться у руля.
Ребман тогда сказал:
– Я никак не могу согласиться с тем, чего вы добиваетесь. Этому противится все мое существо, все мое происхождение. На место любви к ближнему и общественного примирения вы хотите поставить насилие. Этим насилием вы пытаетесь всех нас превратить в солдат, сделать из нас великую прусскую армию, где все шагают в ногу, все верят и думают одинаково, то есть так, как верите и думаете вы. Нравится это кому-то или не нравится, все обязаны говорить и мыслить одинаково. Нам придется даже дышать в одном темпе. Такова ваша система: весь мир – как одна казарма. И кто не подстраивается, того сломает машина – ты достаточно часто сам это повторял. Нет, друг мой, в таком мире я жить не хочу. Он хорош для тех, кто не знает ничего лучшего, чем уткнуться рылом в общенародное корыто. Нет уж, благодарю покорно!
Глава 8
Прошло два года с тех пор, как Ребман работает в «International». Уже в первый год он убедился на опыте, что Николай Максимович и его брат не ошиблись в расчетах, а они с пасторшей просчитались. Братья предвидели, что эта война не закончится не только через несколько недель, но даже и тогда, когда миллионы уйдут на фронт воевать за царя-батюшку, и что можно преспокойно заключать трехлетний контракт с молодым, изголодавшимся по работе швейцарцем, положив ему хорошее начальное жалование: через год-другой рубль все равно ничего не будет стоить. Так уже было в Крымскую войну семидесятых годов, в которой Россия даже непосредственно не участвовала. Тем не менее, понадобилось двадцать пять лет, чтобы рубль восстановился. Столько же времени, если не больше, уйдет и теперь. Так, видимо, рассуждали эти хитрые лисы-предприниматели.
И они рассчитали верно. Уже в первый год все стало дорожать: одежда, белье, еда – и прочее, и прочее.
– Теперь нужно несколько тысяч тогдашних рублей, чтобы прилично устроиться, – как-то сказал Иван Михайлович, когда они праздно стояли в лавке после обеда, убивая время.
– И что бы вы сделали, если бы у вас были эти несколько тысяч?
– Купил бы товару.
– Товару? Какого еще товару? И для чего? – удивился «директорский секретарь».
– Просто товару. Все равно какого. Всего, что еще можно купить за деньги.
– И что потом? Открыть магазин и сторожить свое богатство?
– Не совсем. Не нужно ни магазина, ни персонала – только ящики, чтобы попридержать товар до подходящего момента. Мы же тут каждый день видим, как это делается, вы ведь тоже учитесь. На чем сегодня больше всего зарабатывает «International»? На выжидании. Товар ведь постоянно дорожает, особенно если он уже в пути, а еще не оплачен. Только за два месяца, пока товар идет сюда из Англии или Германии, наш Николай Максимович зарабатывает больше, чем в прежние времена за полгода.
– Да, но что проку держать товар под спудом, дожидаясь, пока его стоимость возрастет, скажем, в три-четыре раза? Ведь потом придется соответственно дороже заплатить за следующие поставки! Если я сегодня куплю товару на две тысячи рублей, предположим, сигаретного табаку, который действительно каждую неделю дорожает, и продам его через два-три месяца за четыре тысячи, что я наживу? Ведь на эти четыре тысячи я тогда смогу взять товару не больше, чем сегодня на две!
Бывший сотрудник охранки поднял брови точно так же, как это делает Михаил Ильич, когда Ребман сморозит очередную глупость:
– Болван Петрович! А я-то думал, что у вас в Швейцарии хорошие школы!
– Хорошие. А разве в моих рассуждениях что-то не так?
– Оно-то так, да только наполовину. Четыре тысячи рублей, заработанных на земле, действительно имеют для производителя не большую покупательную способность, чем прежде две, потому что на эти деньги получишь столько же товару. Но другая половина счета неверна.
– Отчего же?
– А оттого, батенька, что за две тысячи рублей через три месяца сможешь купить только половину, а через год, может, и вообще ничегошеньки. Чем больше возрастает стоимость товара, тем ниже падает покупательная способность денег. Это так же просто, как дважды два. Кто несет деньги в банк, тот бросает их на ветер!
И тут «директорский секретарь» и бывший школьный учитель Ребман видит, что этот человек прав: держать деньги на сберегательном счету – значит отправлять их на свалку! Он должен это изменить. Но как?
Ребман переговорил с одним клиентом фирмы, петербургским евреем, который каждый месяц приезжает в Москву за товаром: конечно, весьма осторожно, так, чтобы никто не слышал. Между прочим, спросил, не посоветует ли тот ему, как устроить так, чтобы жалованье росло.
– Поискать другого шефа! – тут же нашелся старый пройдоха. – Я уже давно вам удивляюсь. Что вы забыли у него в конторе? Вы же с этого ничего не имеете.
– Легко сказать: поищи другого шефа, но где его взять?
– Здесь, – говорит старик и тычет Ребмана пальцем в грудь, будто хочет ее пробить, – вот где! Вы должны стоять на своих ногах, делать дела самостоятельно. Это нетрудно, если найдется нужная сумма. Сколько у вас в «Русско-азиатском банке»?
Ребман в оцепенении: «Откуда он знает, что у меня деньги в банке, и именно в «Русско-азиатском»?» Но тут он вспомнил, что они там однажды встречались, когда он оплачивал счета фирмы, а заодно и свои собственные. И, отбросив всякую осторожность, наивный Ребман сразу раскрывает перед хитрым евреем все свои карты:
– Что-то около двух тысяч рублей.
– Вы смогли за полтора года скопить две тысячи рублей? Тогда вы или гений, или водили меня за нос, жалуясь на безденежье. Сколько вы получаете?
Ребман не утаил и этого.
– С таким нищенским жалованием вы еще умудряетесь откладывать деньги? Можете мне не рассказывать сказки! Вы наверняка доите и другую корову.
– Да, и даже двух: одна – это московская протестантская церковь, где я играю на органе, а другая – госпожа пасторша. Я не хотел бы называть ее коровой, разве что в переносном смысле, просто я у нее живу и столуюсь пока за те же деньги, что и полтора года назад. И она следит за моими расходами, выдает мне ровно столько, сколько необходимо, а остальное я должен откладывать и сберегательную книжку хранить у нее. Без госпожи пасторши я бы ни копейки не отложил, был бы безработным, а, может быть, даже вовсе уехал бы из России.
– Вам, и вправду, повезло с вашей «коровой», – смеется еврей, – вам следует о ней заботиться.
– Я так и делаю. Нина Федоровна мне – как мать родная.
– Тогда я вам дам совет, – сказал собеседник уже совсем другим тоном и с совершенно другим выражением глаз, – ничего не меняйте, никто вас лучше не устроит, даже сам Кричевский из Петербурга.
– Да, но тогда пропадут мои деньги. Какая польза от того, что я экономлю и каждый рубль отношу в банк, если через год все мои сбережения обесценятся и превратятся в пыль!
Еврей взял его под локоток, как это у них водится:
– Оставайтесь на своем месте. Предпринимательство – не шутка. Я высказал мнение, не зная всех обстоятельств. К тому же, грядут большие перемены!
– Что вы хотите этим сказать?
Кричевский смотрит на него широко раскрытыми глазами:
– Юноша, вы что, слепой? Вы же образованный человек, а не темный мужик. Вот увидите, не пройдет и года, как русский фронт дрогнет и развалится, и тогда у нас будет революция!
– Не так громко! – заволновался Ребман.
Но его собеседник только улыбнулся:
– По мне, так пусть весь город слышит, это все равно общеизвестно. Ни один разумный человек уже не верит, что русские выиграют войну. Таких нет даже в генеральном штабе, в Петербурге, или где он там теперь заседает. Николашка может отречься, если захочет. Хорошо бы! И чем скорее, тем ему же лучше.
И так же, как Кричевский, говорили все вокруг. Кто бы не приходил с фронта – а таких нынче много – рассказывают, что там все разваливается и выходит из-под контроля. Солдаты бунтуют и убивают офицеров, их приходится гнать в атаку пулеметным огнем.
А в воскресенье после ужина, за чаем, даже Павел Иванович кричал через весь стол своим зычным голосом, что тот, кто еще и теперь не верит в революцию, слепее слепца и глупее глупца!
Только друг Ильич подчеркнуто спокоен. Как ловец, который выжидает, пока на него выбежит зверь, он говорит уклончиво:
– Наше время еще не пришло!
А в народе ходят рассказы о том, что творится при царском дворе, истории одна невероятнее другой: Распутин и компания! А Николашка, этот простофиля, еще и свечку держит! Рассказывают о невообразимых оргиях, о которых и во времена Нерона не слыхивали. Петербург – настоящий Содом, не придется удивляться, если на него прольется серный дождь!
В один субботний вечер, когда они как раз собирались закончить работу в «International» – теперь снова работают до семи – в отпуск с фронта пришел Сережа, бывший счетовод. Его пытались освободить от воинской повинности: выхлопотали свидетельство известного московского врача о том, что у него туберкулез костей в тяжелой форме, но даже это не помогло. Теперь он сидит в самом лучшем кресле, которое нашлось в конторе, – шеф его собственноручно принес из своего бюро, – пьет чай, курит предложенную хозяином сигарету, которую тот достал из золотого, украшенного бриллиантом портсигара, – но только одну! Фронтовик рассказывает о войне и отвечает на обычные вопросы, которые ему задают все по очереди: правда ли, что на фронте на трех солдат одна винтовка? И что они там почти никогда не получают горячей пищи? Что новобранцев, которые до этого не имели никакой физической подготовки, даже не занимались гимнастикой, после трех или четырех недель муштры гонят на передовую? И что там повсюду гниль и смрад?
Сережа кривит лицо в откровенной гримасе и с отвращением говорит:
– Фронт! Мне смешно, когда я слышу это слово. Вы здесь, вероятно, думаете, что за ним стоит нечто организованное, что там воюют по разработанному стратегическому плану. Так было раньше. А теперь нашему фронту грош цена. За него не дашь и мешка гнилой картошки. Он и сам дырявый мешок: это ненасытная прорва. Если у немца еще хватит дыхания и народу, то он одним маршем дойдет до Владивостока. Но они лучшие силы бросили на западный фронт, а на востоке лишь забавляются. Наши солдаты кончаются, – да, так он и говорит, – но уже не в бою, они кончаются в грязи, в дерьме, от голода или мрут в полевых госпиталях, в вагонах санитарных поездов, где они лежат по нескольку дней в ожидании помощи. Я увязал в грязи вместо того, чтобы твердо стоять на ногах – что я вообще за солдат! Теперь мне ничего не остается, как гнить заживо, у меня ведь в этой ноге и костей-то давно уж нет.
Глава 9
А теперь Петр Иванович Ребман, «секретарь дирекции в «International Trading Company», даже стал членом «Императорского яхт-клуба», самого аристократичного спортивного клуба во всей России. Это было бы невозможно, если бы Нина Федоровна не вручила ему две солидные рекомендации от своих влиятельных знакомых.
И вот он стал обладателем бело-голубого членского билета с императорским гербом[34] и каждый вечер ездит тренироваться на Москву-реку. Один из тренеров, ужасно симпатичный молодой москвич, сразу им занялся и в первый же вечер в узкой одиночке с вращающимся сидением для штурмана вышел с ним на реку. Но первый блин оказался комом. Когда они через час вернулись, Ребман был полуживой и с множеством волдырей на руках. А тренер только покачал головой:
– Из вас никогда не выйдет гребца!
Именно это и подтолкнуло вечно колеблющегося Ребмана, возбудив в нем желание во что бы то ни стало сделаться первоклассным гребцом, помогло ему уже летом в четверке юниоров участвовать в регате, в которой его команда выиграла у четверки клуба «Геркулес», завоевав серебряную медаль.
Зато на фирме дела идут не совсем так, как ему хотелось бы. У господина секретаря сложилось мнение, что он работает за двоих – какое-то время он постоянно помогает на складе, а значит, заслуживает достойного вознаграждения. Но шеф об этом ничего и знать не желает.
– У вас ведь есть еще неплохой заработок на стороне, – заявил он и продолжал, не обращая внимания на возражения Ребмана, – если я вам дам надбавку, то на мне тут же повиснет вся свора. Я что, только протираю штаны в темном кабинете и деру три шкуры с работников? Я больше них зарабатываю потому, что я больше и лучше работаю! Покажите мне кого-нибудь усерднее меня, и я передам ему все предприятие!
Он кладет Ребману руку на плечо:
– Нет, не будет вам надбавки, Петр Иванович, я дам вам кое-что в сто раз более ценное – хороший совет: если кто-нибудь хочет от вас получить то, чего вы ему не хотите дать, лучше обойдите его десятой дорогой. Я вас не избегаю только потому, что отношусь, как к родному сыну!
И он опять заводит старую песню все с тем же припевом о том, как надо вести дела:
– Если кто-то справляется по телефону, есть ли у вас тот или иной товар, не нужно говорить, что у вас его нет – всегда стойте на том, что у вас есть все.
– А если он придет и увидит, что товара нет?
– Тогда продайте ему что-нибудь другое. Вы должны совершить с ним сделку, иначе вы не коммерсант. Если я, к примеру, приду к клиенту, которому хотел бы что-то продать, и он мне скажет: «Садитесь, Николай Максимович!», то я предложу, чтобы он оставался сидеть, а сам лучше постою. Потому что тот, кто сидит, теряет власть, а тот, кто стоит, имеет все преимущества. Так что садитесь, Петр Иванович, на стул моего брата. Этим я не пытаюсь вас себе подчинить, но хочу оказать вам честь. А теперь слушайте и запоминайте: если к вам приходит клиент и требует наждачной бумаги, которой мы не торгуем, все равно не отпускайте его без покупки. Вот только что кто-то заходил в магазин. Кто это был?
– Не знаю, я у него не спросил.
– Очень плохо. Вы обязаны всегда заполучить имя и адрес клиента. Чего он хотел?
– Открыток фирмы «Цико».
– И что вы ему ответили?
– Правду: что нынче у нас их нет, мы их еще только должны получить.
Шеф встал, подошел к своему «секретарю» и взял его за полу пиджака:
– Ну что, Петр Иваныч, вот вы сейчас вернетесь в магазин и к вам придет покупатель за наждаком, что скажете?
– А что говорить, скажу, что он где-то там на складе, за семью печатями! – раздраженно ответил «секретарь».
– Неверно, совершенно неверно, – отозвался шеф в том же вежливом тоне, даже с улыбкой.
– Вы должны продать ему фотоаппарат, желательно нашего производства. Если вам этого сделать не удастся, можете немедленно расстаться с мечтой о предпринимательстве!
В том же духе разговоры идут каждый раз, когда Ребман касается темы улучшения условий труда, и у него такое чувство, что следует еще и радоваться, что ему вообще платят.
Да, Николай Максимович ужасно скуп, он «запористый», как говорят швейцарцы: если кому-то из сотрудников что-либо нужно, то этот «безотказный» человек тут же найдет ему срочную работу. Он такой скряга, что жалеет даже скрепок: если получает письмо более одной страницы, просто загибает верхний угол и заглаживает ногтем, – мол, будет держаться, как со скрепкой, даже лучше.
А если приходит письмо со скрепками, он их всегда снимает и складывает в коробочку; там их у него уже больше сотни, но ни одной он еще не воспользовался.
Ребману ничего другого не остается, как продолжать тянуть лямку: по утрам и в обед тащиться в контору, вести английскую корреспонденцию, помогать в магазине, когда рассыльный не на месте, бегать на почту и в банк, а по субботам после обеда ездить на «фабрику» и там сочувственно кивать головой, когда бедняги столяры просят о копеечных надбавках. Наблюдать, как они стоят у окошка, из которого им на дощечке выдают нищенскую оплату, как дрожат их пальцы, когда они старательно выводят свою подпись или ставят вместо нее крест. Как ножом по сердцу эти вечные униженные просьбы, которые он вынужден выслушивать: «Петр Иваныч, дорогой, хороший, дайте нам надбавку, хоть несколько копеек, с такой оплатой ведь не прожить!» И ничего не остается, как только кивать головой – шеф этого и слушать не станет: «Поверьте, я испробовал все средства и пути, но ничего не выходит, я и сам никаких надбавок не имею».
Они благодарят и расходятся по местам. Еще никогда никто не посмел обидного слова сказать. Только, когда Ребман признал, что тоже ни разу не получал надбавки с тех самых пор, как поступил на должность, один подмастерье не сдержался:
– Коли так, то никакой он нам не хозяин, этот живоглот с Мясницкой, тогда он… – Тут последовало непонятное ругательство на русском языке.
В следующий понедельник Ребман поведал шефу о своем визите на фабрику. Когда тот, по обыкновению, отвечал, что ничего невозможно изменить, подчиненный вдруг спросил:
– Николай Максимович, а что значит «сволочь»?
Шеф покраснел, как кирпич:
– А откуда вы такие слова знаете, вас на фабрике просветили?
– Да. Но это было сказано не по моему адресу. Так что же, все-таки?
– П-п-п-ротивоположность п-п-прелести. – Николай Максимович, волнуясь, всегда заикался.
– А что такое прелесть?
– П-п-п-ротивоположность с-с-сволочи. Вы теперь довольны?
– Я думаю, что теперь я удовлетворен, – отозвался Ребман.
С этого дня с кассой на фабрику стал ездить Иван Михайлович.
Этим летом Ребман не ездил на дачу. Придумал отговорку, что слишком далеко. Правда, госпожа пасторша давно поняла истинную причину. Но, конечно, ничего не сказала. Ребман остался один в большом, полупустом городе. В шесть заканчивалась работа, а в половине седьмого он уже сидел в легкой и быстрой одноместной лодке и греб в сторону Воробьевых гор, что в часе езды вверх по реке. Отсюда в восемьсот двенадцатом году Наполеон впервые взирал на Москву. Теперь здесь находился принадлежавший яхт-клубу загородный дом. Там Ребман купается. Играет в теннис. А на следующее утро на веслах возвращается в город. Несмотря на занятия спортом, свежий воздух и улучшение аппетита, на сердце у него с каждым днем все тяжелее.
Раз в неделю он ходит к Михаилу Ильичу. Пьет с ним чай. Потом они едут в Сокольники, где друг, подменяя концертмейстера, играет первую скрипку в оркестре.
Как-то раз по дороге домой с одного из таких концертов в парке Ильич спросил:
– Петр Иваныч, братец, что это с тобой?
– Да что со мной станется? Спячка.
– Отчего?
Ребман смотрит в землю, чешет лоб, молчит.
– Так вот оно что! – догадался Ильич и покачал головой. – Тут грядет переворот в мировой истории, а у него, видишь ли, любовь! Надеюсь, ты тоскуешь по одной, а не сохнешь по нескольким сразу?
Будто уходя от ответа, Ребман резко наклонился, подхватив проплывавший по реке стебелек:
– Это просто ужасно, я влюбляюсь в каждую красивую барышню. Кошмар какой-то!
– Нет, – смеется друг, – ужасно то, что ты – плут и обманщик. Говори же, в чем дело! Может, смогу дать совет.
Не получив ответа, он замечает:
– Держись от них подальше!
Ребман сейчас напоминает побитую собаку:
– Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Сам Шекспир не изобрел бы такой невероятной комедии положений, а ведь он был мастер на такие дела. Представь себе: в клубе четыре девушки – Оля, Таня, Дуня и Клавдия, добрейшие создания, впрочем, как и все русские барышни. И нас в команде тоже четверо – это те ребята, с которыми мы выиграли у «Геркулесов» регату – Миша, Володя, Ваня и Петя. Петя – это я.
– И что же? – нетерпеливо подгоняет Ильич: им скоро выходить.
– Так вот, – продолжает Ребман, когда трамвай отъехал и они оказались на пустынном тротуаре, – представь себе, у каждого не та пара!
– Так поменяйтесь.
Ребман почти в отчаянии:
– В том-то и дело, что не можем: каждый хранит верность своей, то есть не той! – Он вздохнул так, что, наверное, услышала вся Москва. – Все остальное можешь себе домыслить, если тебе больше нечем заняться.
– Ничего не поделаешь, такова жизнь, – говорит Михаил Ильич. – Но, как говорится, до свадьбы заживет, затянется и эта рана.
Он смеется:
– В любовных делах, дитя мое, нужно иметь твердость!
Но, видя плачевное состояние своего друга, предлагает:
– Ты должен почитать книгу Гамсуна «Виктория. История одной любви». Там по сюжету все именно так, как у вас, только меньше действующих лиц, потому что Норвегия меньше России. А в остальном все то же. Прочти непременно!
Но Ребман не собирается читать Гамсуна и его «Викторию»… Чем может помочь книга, пусть даже такого знаменитого автора? Только еще тяжелее станет на душе.
Все так плохо, что даже шеф, обычно не отличающийся чувствительностью к настроению сотрудников, почуял неладное:
– Петр Иваныч, что с вами, вы больны? – спросил он как-то вечером, когда «секретарь» принес ему почту на подпись.
Ребман качает головой: нет, он не болен.
– Но вы плохо выглядите, в чем дело? Можете смело говорить – чем смогу, помогу.
– Мне никто не в силах помочь, – обреченно бормочет Ребман.
И тут шеф неожиданно догадался… Он по-отцовски смотрит на своего «протеже»:
– Неужели все так плохо? М-м-м-не очень жаль. Но от этого нужно освободиться. Не стоит гибнуть от неразделенной любви, найдите противоядие.
Он снял пенсне, подошел к Ребману и положил ему руку на плечо:
– Петр Иваныч, отныне я назначаю вас своим полномочным представителем и поручаю вам от имени и за счет фирмы посетить наших клиентов во всей России. Проедете от Петербурга до Одессы и дальше в Сибирь, а там – и до Владивостока. Тогда вы, во-первых, увидите большую часть мира, в тех местах даже я не бывал; а во-вторых, избавитесь от своей кручины. Поверьте мне, ничто не излечивает от несчастной любви быстрее и вернее, чем перемена мест.
При других обстоятельствах Ребман сразу обеими руками ухватился бы за такую возможность. Но он молод и неопытен, к тому же, по отцу он из Шляйтхайма, а по матери – из Кирхдорфа, а тамошние жители широко известны своим невероятным упрямством. Так что никуда он не уедет, а будет изо дня в день бегать в клуб и с бессильной ревностью наблюдать за тем, как Миша мелким бесом рассыпается перед Ольгой – его, Ребмана, Олей!
– Я подумаю, – говорит он шефу, – и дам ответ. Большое вам спасибо, Николай Максимович.
Но заманчивому предложению суждено было остаться без ответа.
Глава 10
Однажды вечером, когда шеф снова диктовал и намеревался, очевидно, продолжить до полуночи, Ребман неожиданно объявил:
– Николай Максимович, я больше не могу!
Он прикрыл рукой левый глаз:
– Я… я ничего не вижу правым глазом!
– Вам очевидно что-то попало в глаз, – отозвался шеф, – протрите или, нет, лучше пойдите промойте.
Ребман пошел. Промыл глаз. Снова вернулся:
– Я просто ничего не вижу!
– Совсем ничего?
– Нет, по сторонам вижу, но там, куда смотрю, не вижу ничего.
– Тогда идите домой. Выспитесь хорошенько. Вы переутомились.
Дома он обо всем рассказывает. Снова проверяет: ничего не изменилось.
– Вам нужно немедленно обратиться к врачу, – говорит Нина Федоровна, – с этим не шутят. Жаль, что дядя Валя больше не заведует глазной клиникой, а то я бы послала вас к нему.
– Ваш дядя был директором московской глазной клиники?
– Да, к сожалению, был.
– И почему же теперь нет?
– Видите ли, он не был идолослужителем, ко всем людям относился одинаково – и к бедным, и к богатым. Некоторым господам там, наверху, это не понравилось, и ему пришлось уйти. Мне и грустно, и немного смешно, когда я об этом думаю.
И она рассказала ему всю историю.
В один прекрасный день в клинику без предварительной записи приехала мадам генерал-губернаторша, первая гранд-дама Москвы, и ей предложили подождать в очереди. Но она в возмущении прошла прямо в процедурную: «Что это здесь у вас за манеры? Заставлять меня ждать! Я требую, чтобы меня немедленно…» Старый доктор не дал ей даже договорить: «Мадам, – обратился он к ней, – вы ошиблись адресом, я не ветеринар!» И, конечно, ему пришлось в тот же день уйти с должности. Теперь у него частная практика, но только для неимущих, – пациентам необходимо представить доказательства своего бедственного положения. А когда кто-то из богатых все же желает записаться на прием, врач запрашивает такой гонорар, который отпугивает даже толстосумов…
Она берет телефонную книгу:
– Вот вам адрес глазной клиники. Отправляйтесь завтра же, прямо с утра, еще до службы – телефонируйте им и предупредите, что придете позже.
Ребман пошел. Ему пришлось пройти обычную процедуру исследования: анализы крови, мочи, рентген; дать ответы на тысячу вопросов, а потом его направили еще и к терапевту. И когда он через два дня снова явился, то получил назначение каждое утро в шесть часов посещать клинику на Тверской для уколов. И в течение трех недель каждое утро вместо чаю и баранок он получал на завтрак соляной раствор – иглой, прямо в глаз. Результат: после трехнедельного курса никакого улучшения не наступило. Глаз по-прежнему ничего не видел.
– Значит, нам придется все же обратиться к дяде Вале, так этого нельзя оставлять, – говорит Нина Федоровна и сразу берется за аппарат. Разговор занял более четверти часа. Сначала она вообще сомневалась, захочет ли дядя с ней говорить, но, судя по всему, им удалось пообщаться. Когда хозяйка вернулась в комнату, она вся сияла:
– Завтра утром в шесть утра. Вот адрес.
Ребман берет записку, закрывает правый глаз и читает левым. Потом говорит:
– Это же совсем рядом с конторой, мне не нужно будет терять времени, и я еще успею до семи позавтракать, – в семь начинался его рабочий день, – шеф уже ворчит из-за того, что я несколько раз опаздывал на четверть часа. Сам он этого, конечно, не видел, потому что никогда раньше девяти не приходит. Но нашлись доброхоты, которые обо всем доложили.
На следующий день ровно в шесть утра он позвонил в квартиру профессора. Открыла пожилая женщина, вероятно, прислуга. А вот и сам хозяин: в пижаме и в домашнем халате он протрусил впереди Ребмана в процедурный кабинет, такой маленький, что в нем и двоим тесно:
– Проходите!
Голос у него совсем «заржавевший», как у органа, на котором давно никто не играл.
Он указал на стул напротив письменного стола, сам сел за стол, закурил папиросу – перед ним стояла полная коробка на сто штук. Раскрыл регистрационный журнал. Взял перо в руку. Записал личные данные пациента.
Затем хрипло осведомился:
– Какими средствами вы располагаете?
Ребман называет свой оклад должности стажера…
– Вот даже как! – ядовито замечает профессор.
…Сообщает, сколько получает в качестве органиста…
– С этой должностью вам, наверное, помогла баронесса!
– Господин профессор имеет в виду Нину Федоровну?
– Кого же еще! Это она навязала мне нового больного: видимо, думает, что мне все еще не хватает практики. Она вообще обо всех хлопочет. А когда сама оказывается в беде, никого рядом нет. Сколько вы можете заплатить?
– Я думаю, столько, сколько господин профессор посчитает…
– Нет, этого вы не в состоянии сделать, это даже генерал-губернаторше, этой безмозглой корове, было не по карману. Пятьдесят рублей сможете заплатить?
– За один визит?
– Нет, за весь курс лечения. От четырех до пяти недель. Полтора часа в день. Столько времени потребуется для того, чтобы вы снова начали видеть – это ясно и без осмотра.
– Но тогда я буду опаздывать на службу!
– А кто ваш шеф?
Ребман назвал фамилию. Профессор проскрипел с желчной ухмылкой:
– Так скажите же этому быку, что речь идет о глазе, а это важнее, чем весь его навоз. Так ему и передайте вместе с приветом от меня! Итак, вы в состоянии заплатить пятьдесят рублей?
– Да, могу, и даже с удовольствием, если господин профессор так добр…
– Я не добрый. Верблюд добрый. Мы вас вылечим. Рассказывайте все, что о себе знаете, с самого раннего детства. Жизнь человека начинается лет за двести до школы, о чем большинство даже и не подозревает!
Эти последние слова он произнес таким тоном, как если бы хотел сказать: вот идиоты!
– Итак, сколько лет насчитывает история вашего рода – с обеих сторон? Кем были ваши прапрадедушки? Чем они занимались?
Ребман рассказывает, что по отцу он родом из…
– Это ваше воронье гнездо по ту сторону Луны меня не интересует, рассказывайте о семье!
Ребман рассказывает:
– По отцовской линии наш род можно проследить до 1311 года, имеется датированное свидетельство с печатью. «Если этот старик думает, что только он один может себе позволять колкости, то ошибается: мы, шафхаузенские, тоже не лыком шиты». И он добавил:
– Но меня тогда еще и на свете не было!
– Жаль, – так же едко говорит профессор, который между тем снова закурил свежую папиросу. И чем же занимались ваши уважаемые предки?
– Первый, о ком мы знаем, был сборщиком подати.
– Завидное происхождение! Мытарь и грешник! Благодарствую! – продолжает в том же тоне профессор, но все же при этом что-то записывает.
Если бы старик, сидящий сейчас перед ним, был первым встречным, Ребман просто треснул бы его журналом по башке и ушел. Но Нина Федоровна предупредила его, чтобы держал себя в руках: «Дядя Валя только с виду такой невежа, к тому же, он весьма озлоблен. Не дайте ему вывести вас из себя – тогда всему конец, а это было бы грешно, потому что, если вам кто и может помочь, так только он». Ребман об этом помнил, и с улыбкой, как будто ему сделали большой комплимент, описывает и всю свою жизнь, и историю обоих семейств, – словом, все, чего требует профессор. А старик все записывает, больше чем три четверти часа, пишет и курит одну папиросу за другой – пепельница уже полна раздавленными окурками. Когда Ребман сообщил, что его дедушка по отцу был портным, а по матери – трактирщиком, членом церковного совета, окружным судьей, депутатом кантонального парламента и прочая и прочая, профессор отложил перо, откинулся на спинку кресла и заключил:
– Теперь все ясно. С этого периода жизни и начинается история вашей болезни. Всему виной эти два господина – уважаемый мастер портновского дела и еще более уважаемый господин депутат парламента, окружной судья и так далее. Пардон, старею, запамятовал: первым грешником в семье был не портной, а мытарь. Если бы эти двое остались верны своему крестьянскому сословию, ибо с окружным судьей с материнской стороны и всеми его регалиями можно было бы примириться, принимая во внимание швейцарские условия, передо мной сегодня не сидел бы дегенерат. А ведь вы являетесь хрестоматийным дегенератом! Вас можно показывать публике, посадив в клетку. Но в этом случае вы вряд ли были бы счастливы. Впрочем, я вас, конечно, не виню. Это не ваша ошибка, вы полностью оправданы.
Он затянулся так, что сразу испепелил полпапиросы. Вдохнул. Выпустил дым через нос. Затем сказал:
– Не смотрите на меня, как на старую глупую обезьяну, как бы не раскаяться! Я ведь ваш собрат-дегенерат. Даже психопат. Таковы все, кто чего-то добился в жизни. Гете тоже был одним из нас – и в гораздо большей степени! Но я хотя бы открыто все признаю. А эти господа, мои коллеги, обижаются, набычиваются, когда говоришь им об этом. А вот меня такой вердикт нисколько не задевает. Так что вы выиграли первый раунд. А я было надеялся, что выведу вас из равновесия и смогу послать к черту. А теперь вам придется полностью предать себя в мои руки и претерпеть все процедуры. Можем начинать, у меня все готово!
После такой прелюдии он осматривает Ребмана при помощи зеркальца долго и основательно. Приходится косить во все стороны. И глаза уже полны слез.
Затем доктор указал на железный табурет у стены, выкрашенный белым, – точно такие же есть во всех больницах.
Ребман садится, опершись спиной на стену. Ждет, что будет дальше.
Профессор тоже садится на круглый эмалированный табурет совсем близко, так близко, что пришлось раздвинуть колени. Затем он берет инструмент, что-то вроде грифеля из слоновой кости с кнопочкой впереди. От него вниз отходит электрический провод, подключенный к батарее, которая поместилась на полу возле стула Ребмана. Профессор повернул выключатель. Смазал кнопку чем-то белым, очевидно, это вазелин. И началось:
– Голову вперед! Еще! Еще вперед! А теперь не двигаться!
Он водит кнопкой по глазному яблоку Ребмана, надавливая изо всей силы, не обращая внимания на то, что захватывает и ресницы; давит и массирует – вверх, вниз, туда, сюда. Колет, словно иголкой. Хочется подпрыгнуть от боли.
– Вам больно?
«Молчание – знак согласия», – думает Ребман и не отвечает; но по его щекам катятся слезы.
– Вам больно?! – опять спрашивает профессор и давит еще сильнее. – Отвечайте!
– Да, больно, – наконец признает Ребман.
– Так и нужно! Больной орган надобно растолкать, как ленивого работника! Удивлены?
И снова в глаз вцепилась злая собака, терзая его безжалостными укусами.
«А может быть, он садист, ему просто нравится мучить?» – пугается Ребман.
Профессор, словно читая его мысли, отключил батарею, повернув тумблер, снова опустил грифель в баночку, и тут Ребман едва не вскочил со стула – его ударило, словно током. Этот сумасшедший принялся что есть силы давить и массировать, особенно в уголке глаза около носовой кости, там, где было больнее всего.
Он снова включил ток. Снова удар в уголок глаза. Добрые четверть часа продолжался этот страшный массаж.
Затем он услышал:
– Ну вот, сегодня мы сделали первую попытку. Завтра начнем настоящее лечение. Если вы его так же хорошо перенесете, я возьму обратно половину из того, что я нынче наговорил о ваших почтенных предках. А теперь пройдите в салон. Там экономка подаст вам завтрак. После этого час полежите на кушетке. Затем можете идти.
– Куда идти?
– На службу, куда же еще! А завтра приходите снова. В то же время. Каждый день.
– Даже… даже по воскресеньям?
– Что значит даже? Сказано же вам – каждый день. Лечиться приходится без выходных.
– И никакой диеты, мне все можно есть?
– Все, что захотите или что получите.
– И грести можно? И курить?
– Гребля – это здорово. А вот курение… Мне бы следовало его запрещать, но поскольку я сам не без греха… Сколько вы выкуриваете за день?
Ребман отвечает.
Профессор смеется:
– Это не значит курить. Я курю даже за едой. Этому я научился в студенческие годы, тогда вместо еды выкуривал свои сорок-пятьдесят папирос ежедневно. День длился двадцать четыре часа! Сколько вам приходится работать?
– Официально десять часов. Но обычно – двенадцать.
– Все же менее двадцати четырех часов. Теперь уже не работают, а только бездельничают. Ну, до завтра.
Ребман благодарит профессора, даже протягивает ему руку, которую тот пожимает, и выходит. В салоне накрыт круглый стол. Но только на одну персону. Когда экономка услышала, что кто-то вошел, она принесла самовар, спросила, какой чай предпочитает господин и сколько класть сахару. И это в то время, когда его было уже не достать! Затем она принесла теплый хлеб, масло и яйца, сваренные всмятку.
– Это все мне одному? – успел спросить Ребман перед тем, как она снова исчезла.
– Ну да, а кому же еще? Вы у него на особом счету, раз он приказал поставить на стол то, что сегодня получают только по рецепту и чего он и сам-то не ест. Или вы туберкулезник, хотя это вряд ли, – услышал он из-за двери.
И подумал: «Если бы я такой завтрак вздумал заказать в гостинице, мне пришлось бы заплатить за него, по меньшей мере, столько же, сколько этот добрый человек запросил за все лечение. Он, и вправду, редкий чудак».
Он поел и утерся дамастовой салфеткой. Такого завтрака он не едал с тех пор, как исправлял в Брянске должность «месье». Затем прилег на красивую мягкую кушетку у стены. Положил руки под голову. Рассматривает комнату: великолепные картины у этого профессора! И изысканная мебель. Красивые светильники. И редкая китайская посуда. Так что он не из бедных. Но почему же больше никто не приходит? «За все время, что я здесь, не было никого, а уже скоро восемь». И тут его осенило: «Ах я глупец! Даже не спросил о диагнозе!»
Не успел он так подумать, как открылась дверь процедурной, и оттуда вышел профессор.
Ребман встал: ведь неприлично лежать, развалясь, в чужой квартире. Но старик ему запретил:
– Лежите спокойно!
Он прошелся по комнате. У дверей обернулся:
– Итак, завтра в то же время. Не опаздывайте, ждать не стану. И не забудьте привести с собой всю эту вашу конфедерацию. Всех до единого!
Три недели продолжаются процедуры. И каждый день Ребман получает ток большего напряжения. Но он привыкает к этому. Безропотно сносит все. И, когда профессор спрашивает, больно ли ему, он не молчит, а говорит «нет», даже если готов взвыть от боли. Он уже убедился, что тогда его мучитель сразу выключает ток и массирует очень мягко. В первый раз, когда он выдержал настоящий массаж, – а процедура длилась три четверти часа – от дикой боли можно было сойти с ума. Но он не выдал себя ни одним стоном, терпел до тех пор, пока сам профессор не устал. В конце концов врачу пришлось самому сделать паузу, встать, сесть за стол и закурить. Он выкурил две папиросы подряд. Нет, он их просто поглотил. И стал рассказывать о студенческих временах. И о коллегах, которых он иначе как быками не называл. О пациентах— те еще штучки, как, впрочем, и все люди. Сравнивать их со скотиной, значит, оскорблять животный мир. После этой шутки он хохотал, как настоящий дьявол. Ото всех его рассказов и острот веяло большим разочарованием, даже настоящим горем, которое вызывало в нем всеобщее падение нравов.
Когда первая часть курса закончилась, доктор заметил с улыбкой:
– Ну вы и штучка, разрази меня гром! И второй раунд выиграли! А я ведь увеличил напряжение. Кажется, у вас, швейцарцев, в жилах течет не имбирный сок. Или это шафхаузенцы такие стойкие?
– Да, особенно те, что из Шляйтхайма[35], знамениты своим упорством.
И тут он точно изобразил на лице улыбку, как у профессора, а пародировать людей он был мастер:
– Вы думали, что сможете довести меня до слез? Я еще никогда не рыдал, даже когда потерял лучшего друга, да еще и на глазах всего класса.
– Расскажите мне об этом друге. Он тоже был швейцарцем?
– Нет, он был негр, ну полукровка, южноамериканец, сын голландца и мулатки.
И он рассказал профессору всю историю: как он сначала на дух не выносил этого «негра», как они столкнулись, когда их стравили, и к чему все это привело – получился целый роман. И старик его слушал, как ребенок, которому мать рассказывает занимательную историю. Когда она закончилась, он заметил:
– Да вы рассказываете так, словно из книжки! Знаете ли вы, что у вас талант?
– Нет, не знаю, мне никто никогда об этом не говорил.
– А я говорю! Вам следует познакомиться с моим братом. Вы уже слышали о нем?
– Не только слышал, но даже сам видел этого выдающегося артиста, – с уважением ответил Ребман.
Профессор пропустил это замечание мимо ушей:
– Я хочу его с вами познакомить. Мы должны найти способ поддержать ваше дарование. Будет очень жаль, если вы останетесь прозябать у этого – как бишь его?
Ребман назвал фирму, где он служил. Но доктор, который, судя по всему, знал, о ком идет речь, рассмеялся так, что, казалось, у него вот-вот случится приступ:
– «International Trading Company»! Двое – нет, даже не мужчин, а пигмеев! Лучше бы эти два еврея – да, так он так и говорит, а сам ведь, небось, тоже из их числа – честно и откровенно написали на своей вывеске: «Международное общество надувателей и эксплуататоров». Вам там не место, нужно что-то менять, иначе опозорите всю конфедерацию!
Через четыре недели зрение у Ребмана улучшилось до такой степени, что он видел так же хорошо, как и прежде – с глаза спала пелена, исчезнув без следа.
Глава 11
Снова Иван Михайлович, помощник бухгалтера, озадачил Ребмана предложением принять наконец российское подданство. Ведь и говорит он уже, как здешний, и вообще ведет себя, как свой, как тут и родился. Только очень внимательный наблюдатель может заметить, что Ребман – иностранец. Но наш швейцарец отрицательно качает головой:
– Нет, и еще раз нет, я ведь уже не однажды говорил!
Тут они видят, как шеф, въехав во двор на извозчике, быстро сунул тому банкноту и, не дожидаясь сдачи, прошмыгнул в здание:
– Вы слышали, слышали, ц-ц-ц-арь от-т-т-рекся!!!
После этих слов воцарилась полная тишина.
О том, что грядут перемены, давно знали все, а после случившегося в Юсуповском дворце в Петербурге двадцать девятого января прошлого года, даже Гришке Распутину пришлось в это поверить, хоть и слишком поздно. Однако…
– Николай Максимович, вы не в себе? – громко спросил «секретарь дирекции».
Маленький человечек подбросил в воздух астраханскую кепку:
– Не только меня, всю Россию пьянит это известие! Идите же, празднуйте со всеми вместе, на сегодня работа отменяется!
Когда они вышли на Мясницкую, там уже было черно от множества народу. Весь город высыпал на улицу. Толпа такая, что хоть людьми торгуй. И все обнимаются, поют, ликуют. Даже из пригородов приехали «поглядеть на революцию». Это для них, кажется, нечто вроде представления. Трамваи переполнены. Даже на крышах домов расселись зрители. Изо всех окон, со всех балконов люди машут друг другу, повсюду слышны возгласы радости и восторга.
– Ну, Петр Иваныч, – говорит Ребману увязавшийся за ним Иван Михайлович, – что вы теперь скажете, не передумали?!
Ребман ответил со слезами на глазах:
– Нет, но сейчас, ей-богу, я жалею, что не родился русским!
Вдруг кто-то кинулся ему на шею с криком:
– Слабода, братец, слаа-боо-даа!
И расцеловал его в обе щеки.
И Петр Иваныч, с мокрым от слез лицом, целует его и остальных, переходя из рук в руки:
– Братец! Братец!
Ни одного выстрела. Ни одной срубленной головы. Ни одной виселицы с повешенными контрреволюционерами. Ни одного грубого слова не слышно в толпе. Все, высокие и низкие, бедные и богатые, держат друг друга в объятиях, поют со слезами умиления на глазах. На всех лицах можно прочесть благую весть: свобода, свобода для всех!
Тут и там в толпе слышны разговоры: «Такой революции еще не бывало нигде и никогда от начала мира! Это революция настоящей братской любви, на которую способны только русские!»
Даже полиции не приходится отвечать за свои позорные дела: стражей порядка просто водят по городу с фуражками, повернутыми козырьком на затылок, с подвешенными на портупеях детскими сабельками. Тех, кого еще недавно все так ненавидели и боялись, сегодня выставили на посмешище: поют о них частушки и кричат вслед ругательства. Но рукоприкладства, надругательства или какого-либо еще насилия нет и в помине. Они ведь сразу объявили о своей солидарности с революцией. Сейчас над ними потешаются – вполне заслуженное ими наказание, – а завтра пусть себе служат, но уже народу, а не его угнетателям.
Всю ночь продолжается праздник. Церкви переполнены, народ не вмещается в них, люди стоят на улице. Со всех колоколен раздается трезвон, словно в пасхальную ночь.
Ребман сразу позвонил Михаилу Ильичу, чтоб узнать, дома ли он. Потом в переполненном трамвае поехал к другу. И с порога воскликнул:
– Как, ты не на улице?
Они порывисто обнялись:
– Ты был прав, такой революции, как эта, еще на свете не бывало!
Дело в том, что Ильич как-то говорил в одной из их бесед, что грядет небывалая, невиданная в мире революция.
Однако Михаил Ильич ни капельки не воодушевлен, и с лицом человека, посаженного на муравейник, он замечает:
– Это вообще никакая не революция. Это просто балаган, ярмарка, шествие шутов, изображающих революцию. Народ радуется, как ребенок, когда где-то горит. Там, где для них светит солнце, для нас еще полный мрак, и там, где им видится прямая улица, мы видим только камни, камни и камни. Революция – это большая работа, которая только теперь и начинается. Наш народ и все, кто сейчас торжествует вместе с ним, напоминают нищего, вдруг унаследовавшего миллион: он совершенно не знает, что делать со свалившимся на него богатством. Он не готов действовать, потому что денно и нощно думал только о себе, о своих бедах и горестях. Раньше он знал, чего желает: миллион! Теперь же, когда желаемое получено, он уже не знает, чего хочет, и устраивает всякие глупости. В конце концов ему даже начинает казаться, что прежде было лучше. Увидишь еще, как все повернется!
И товарищ как в воду глядел. Народ понимал эту новую чудесную свободу так, что отныне ни у кого нет никаких обязанностей, что можно бесплатно ездить на поезде и на трамвае, письма и посылки отправлять тоже без денег; вход в театр, в концерт или в кино тоже должен быть бесплатным; что налоги никакому государству платить не нужно. «Теперича слабода!» – звучит в ответ на требование кондуктора предъявить билет, а если тот попробует высадить зайца, то такого служаку либо засмеют, либо объяснят ему, что теперь настала свобода для всех и во всем. Даже если кое-кому это невдомек!
Повсюду страшная неразбериха. Все пошло прахом. Даже на фронте. Солдаты только и делают, что братаются с немцами и дезертируют. Берут с собой все, что подвернется под руку, чтобы в дороге обменять на еду; а когда уже нечего менять, то тащат все подряд, не спрашивая ни у кого разрешения. Каждый день на московские вокзалы прибывают толпы солдат, они висят на подножках поездов, сидят на крышах вагонов, а потом пробираются через город к тому вокзалу, с которого отходят поезда в нужном им направлении. И если одному из них сказать: «Товарищ, как же вы могли бросить фронт, разве вы не знаете, что немец стоит под Петроградом?», то наверняка услышишь в ответ: «А нам-то что? Питер – это ведь не наша деревня!»
К чему все это приведет, стало ясно очень скоро: почта и железная дорога, которые раньше исправно функционировали, стали давать сбои. Поставки продовольствия и горючего прекратились. Начался голод. Всего за несколько недель цены подскочили в три-четыре раза. Теперь плати, сколько требуют, а не то!.. Купить еще кое-что можно, но только на черном рынке, если есть деньги в кармане, – эти новые рубли-»керенки», которые печатают пачками, как почтовые марки: желтые двадцатки и красные сорокарублевки. Более мелких купюр нет, да они и не имели бы никакой ценности, потому что за меньшую сумму все равно ничего не купишь. Они даже не перфорированы, их нужно ножницами разрезать, и так кустарно сделаны, что каждый дурак может их без труда подделать на любом типографском станке. Тысяча рублей – тоже на красных, а пятьсот – на желтых листах. И если раньше зарабатывали двести рублей в месяц и на них можно было не только прожить, но даже еще и отложить кое-что, то теперь целой пачки денег не хватает и на неделю. Меньше чем за сорок рублей теперь уже не пообедаешь, даже в самой дешевой и примитивной забегаловке. Мука, сахар, чай, табак – все, что раньше было хорошего качества и в любых количествах, вдруг словно испарилось. В магазинах ничего нет, кроме пустых полок и рекламы. И когда слышишь разговоры людей, то можно подумать, что в русском словаре остались только такие слова, как «мука», «масло», «мясо» и «сахар».
Лучше всего, конечно, тем, у кого свое хозяйство, так еще можно перебиться. Да и их друзьям тоже голодать не приходится. Но сколько их, таких счастливцев…
И все равно радушие и гостеприимство остались те же. Самим себе во всем отказывают, чтобы было чем угостить гостя, и потчуют его, как раньше. Чтобы смертельно не обидеть хлебосольных людей, приходится, скрепя сердце, садиться за стол и угощаться. Ребмана мучила совесть, когда он заходил к своим знакомым. Не хочется объедать добрых хозяев. Но если неделю не появляешься, слышишь: «Петр Иваныч, дорогой, что это вас так давно не видно, мы уже начали беспокоиться, не случилось ли чего. Ну садитесь же к столу!»
Тем временем неразбериха и хаос продолжаются. На фронте все разваливается. Крестьяне в деревнях начинают выгонять господ из усадеб и устраивать погромы, разбивая и ломая все – даже скотину саблями рубят.
«Они все крушат», – пишут газеты, – «сносят и сжигают все, что принадлежало помещикам». Зачем? Почему? Если бы Ребман своими глазами не видел, как летом пятнадцатого года самые добродушные с виду люди в мгновение ока превращались в диких бестий, он бы не поверил. Но из-за чего? Этот вопрос он задал тогда пекарю Петру. «Потому что это – немецкие товары, вот из-за чего!» – был ответ.
– Они правы, – говорит Михаил Ильич, когда однажды об этом зашел разговор, – нужно разделаться со всем, что напоминает о старых временах и принадлежит старым хозяевам, феодалам и гнилой интеллигенции, виновным в том, что Россия никогда не могла нормально развиваться. Не то чтобы мне доставляло особую радость массовое убийство, – это отвратительная работа, и мы предоставим выполнять ее дьяволу, уж он-то себе не откажет в удовольствии!
– Да, но всякая новая жизнь должна иметь связь с предыдущей, нельзя все разом оборвать, это неестественно. Иные революции тоже продвигались шаг за шагом. Три революции одновременно – религиозную, социальную и политическую – этого еще никому не удавалось осуществить.
– А мы осуществим! – уверенно говорит Ильич. – Дайте нам двадцать пять лет, полжизни человека, и весь мир поразится тому, во что мы превратим Россию!
– Да уж! Это будет невиданная доселе куча руин и обломков! – иронизирует Ребман. – Лучше признайся: вы сами не знаете толком, что будет. Вы просто вообразили себя зодчими «нового мира». Но меня это все не касается.
– Да пойми же ты, наконец, это не игры, не детские игрушки! – отвечает ему друг в том же тоне.
И вдруг продолжает очень серьезно:
– Революция касается всех, это не просто дело одного русского народа!
На это Ребман возразил:
– А я думал, что русские такие добросердечные и терпимые люди!
– Так и есть. Все русские в глубине души добрые. Только вот развращены хамством и праздностью. Народ подло испортила…
– …определенная клика, ведшая неестественный и порочный образ жизни! – мгновенно продолжил Ребман.
Но Ильич делает вид, что ничего не слышит: обжигает собеседника ледяным взглядом и продолжает:
– Ты в плохой школе учился, брат. Твоя хваленая псевдонародная швейцарская школа уводит человека от народа вместо того, чтобы приближать к нему, делает из него оторванного от жизни мыслителя, мелкобуржуазного индивидуалиста, гнилого интеллигента. Она соблазняет крестьянского сына стать учителем, сына учителя – чиновником, а сына чиновника – попом. А поповича? Может быть, профессором, в виде исключения. И в большинстве случаев не получается ничего хорошего. По известному образцу. Откуда всегда приходит свежая кровь? Сверху, от интеллигенции? Нет, из народа. Это как у дерева: оно может промерзнуть насквозь, непогода, град могут сорвать с него все листья, весь цвет и даже обломать большинство ветвей, но оно не умрет. Корни могут сами по себе жить дальше, а ветви – никогда. Так же и с революцией: она делается только с народом и посредством народа, только снизу.
«Вот я тебя и поймал», – думает Ребман, а вслух говорит:
– Ты сам себе противоречишь. Перед этим ты утверждал, что старое надо вырвать с корнем и выкорчевать все остатки, а теперь доказываешь…
– Корни нужно оставить! Я никогда не говорил, что вместе с прогнившими ветвями нужно обрубить и глубокие корни.
– Но вы же именно этого и хотите. Знаешь, что мне напоминает происходящее в России? Это как ледоход: вода увлекает за собой все. И никакая человеческая сила не способна противостоять этой стихии. Если так продлится еще хотя бы год, Россия обанкротится и духовно, и материально.
Но Михаил Ильич только смеется в ответ:
– Мы каждый год во время ледохода думали, что Россия разорится. И никогда этого не бывало. В любой другой стране так бы и случилось. Но не в России. А почему? Почему русские никогда не отчаиваются и не опускают руки? Это потому, что мы привыкли терпеть и не терять надежды. Русский никогда не оставляет надежды, даже в смерти. В этом различие между вами и нами: вы живете днями и годами, мы – столетиями. У России есть время. Но, однако же, дайте нам хоть двадцать пять годков, как я говорил, и вы еще раскроете и глаза, и рот от удивления, глядя на Россию. Но это превращение может совершить только малый авангард, большинство на это не способно. И, к сожалению, только с помощью насилия. Если людям сказать, что нужны преобразования, они только посмеются над таким чудаком и не станут ничего менять, в первую очередь – в самих себе. Люди меняются только от мучений и только тогда, когда испытывают боль. Иными словами, всегда необходимо насилие, чтобы нечто новое могло проложить себе дорогу. А новое всегда вначале причиняет боль: ушам – Скрябин, глазам – Пикассо, вере – Мартин Лютер. Или возьмем еще более великий пример: Иисус Христос. Кем он был в глазах огромного большинства современников? Революционером, и никем иным!
– Согласен, – ответил Ребман, – только того, кого ты сейчас привел в пример, Господом Богом сделало не насилие, не животное в человеке! Ты еще увидишь и сам убедишься, что народ злоупотребит и той «свободой», которую вы проповедуете.
На лице Михаила Ильича снова появилась ледяная улыбка:
– Не бойся, Петька, мы их так воспитаем, что они не смогут ничем злоупотребить. На это у нас ума хватит. Мы учимся на уроках истории. Возможны детские болезни роста, но они не смогут изменить основных черт русского характера, они останутся, что бы ни случилось.
– Но если вы такие умные и всех хотите «уравнять», зачем вам тогда снова понадобилось правительство?
Михаил Ильич рассмеялся:
– Музыканты в оркестре тоже хотят одного и того же, именно поэтому им и нужен дирижер. Воде тоже нельзя позволить течь, куда вздумается, ее нужно провести через каналы и трубы.
Тем временем адвокат Керенский, премьер-министр Временного правительства, ездит по стране, по фронтам и громогласно вещает: говорит, говорит, и говорит… А сумятица день ото дня все сильнее. Интеллигенция стоит, засунув руки в карманы. Народ не знает, что делать со свободой. «Геройская» русская армия превращается в банды спекулянтов. Кто хочет три раза в день хотя бы не досыта, но все же питаться, тому не остается ничего другого, как идти на вокзал с кучей «керенок» в кармане и ждать первого пригородного поезда – только они еще кое-как и ходят. Ожидать их приходится часами, а то и всю ночь напролет.
Спекулировать, особенно продовольствием, правда, строго запрещено, но это солдатам не помеха. Чтобы совсем не бросаться в глаза, они запихивают муку или хлеб в старый чехол от матраца и спят на нем в дороге. Кто побрезгует, может и не покупать. Но те времена, когда люди еще чем-то брезговали, давно уже прошли. Тот, кто появится с таким мешком на спине и станет торговать на углу или у вокзала, может быть уверен, что в одно мгновение вокруг него соберется толпа женщин и мужчин, отцов и матерей семейства, горничных или поварих, прислуги в домах зажиточных людей, которые, конечно, еще остались. Он может назвать любую, самую безумную цену, целое состояние – и они платят, только чтобы быть обеспеченными хлебом на неделю или две.
– Понимаешь теперь, что без железной метлы тут не обойтись, – говорит Михаил Ильич вечером, возвращаясь к прерванному разговору.
Теперь уже Ребман смеется в ответ:
– И что вы станете делать, когда окажетесь у руля?
– Когда окажемся, а нужно сказать, что уже недолго ждать осталось, – так вот, когда мы придем к власти, то… – тут он проводит пальцем по горлу. – Мы пришли к выводу, что отрезать одни хвосты бессмысленно, они ведь снова отрастут. Поэтому лучше уж сразу заодно и головы рубить.
«Он бы смог, он бы собственного отца отправил на гильотину», – думает Ребман, а вслух замечает:
– Может, так и проще, но ведь речь идет о живых людях. Русских людях, понимаешь ты, русских!
– А как же, – осклабился Михаил Ильич, – мы же не можем поехать и расстрелять швейцарцев. Тебе бы это больше понравилось? Как бы то ни было, ждать осталось недолго.
– Нехорошо так шутить. Вот посмотри: я уже пять лет живу в этой стране, и все это время я жил счастливо. Мне никто никогда не сказал худого слова, разве что сам был виноват. Россия для меня – вторая мать, а русские – братья, и мне было бы очень больно, если бы теперь здесь началось кровопролитие.
– Мне тоже жаль, – отозвался Михаил Ильич, – и Ивана, и Петра, но дело ведь совсем не в них, дело в этой клике, в этих паразитах, которые сотни лет с помощью кнута помыкали народом или равнодушно смотрели на творимые собратьями бесчинства, не пошевелив даже пальцем, чтобы защитить угнетенных. Вот в чем суть, и тут уже мы не можем долго рассуждать: девяносто или девяносто девять процентов принадлежат к их числу. Но для острастки можно обойтись и меньшим.
Когда он это говорил, перед глазами Ребмана возникла другая картина: упаковщик Петр, который с топором набросился на разбитую фисгармонию во время немецкого погрома пятнадцатого года. С такими людьми бесполезно спорить, их все равно не убедишь.
– Тогда ты бы и меня поставил к стенке, если бы понадобилось?
Не раздумывая ни секунды, друг ответил:
– Если бы было необходимо, не только тебя одного. Тогда уже не имеет значения, сто тысяч или два миллиона чертополохов придется повыдергать!
Революция все же не прошла мимо Ребмана, она коснулась и его жизни, ударив в самое чувствительное место – брюхо. С каждым днем становилось все более очевидным, что на свое жалованье, даже вместе с тем, что ему платят как органисту, он долго не протянет. Двух сотен рублей, которые он получал в соответствии с контрактом, уже не хватало даже на неделю, а возможностей заработать больше у него не было. «Вот закончится третий год обучения, тогда и поговорим», – ответил ему шеф, когда Ребман снова пытался на него надавить. А пока он может голодать. Теперь его средства уже совсем не те, что были вначале. Ребман все чаще становился на сторону тех сотрудников, которые только и ждут момента, когда смогут, наконец, по выражению Ивана Михайловича, «бросить это попрошайничество». Дальше так продолжаться не может, не то им придется умирать с голоду. А ожидать того, что к шефу вернется рассудок, тоже не приходится.
– Вы хоть раз говорили с ним об оплате?
– Хоть раз?! Да я этими разговорами уже мозоль на языке натер. Но все напрасно. Он только и делает, что утешает и ищет всякие отговорки.
– Вам нужно ему как следует растолковать – по-немецки, если он по-русски не понимает: грохните кулаком по столу, наконец! Вы, в отличие от нас, как его доверенное лицо можете себе это позволить.
– Я не раз пытался это сделать, но ничего не вышло.
– Вам следует выступить от имени всех, в общих интересах, а не только в собственных, ваших личных. Мы должны держаться все вместе и, наконец, показать ему, что нас большинство, и ему придется с этим считаться!
– Тогда я за всех и отвечу, он меня просто вышвырнет вон.
– А мы уйдем вслед за вами – все как один!
– Это вы теперь так говорите, а как дойдет до дела…
– Мы вас единодушно поддержим!
Так утверждал Иван Михайлович. И Ребман ему поверил, даже гордился тем, что на такую важную роль выбрали именно его. После обеда он пошел прямиком к шефу и высказал ему все, как есть, по-немецки, без обиняков и прикрас, не стесняясь в выражениях, в надежде, что за ним «единодушно стоят все». Он, конечно, не подозревал о том, что о его визите к шефу никто даже не знал.
Они ведь совсем недавно об этом говорили, ответил Николай Максимович, и поинтересовался, как у него дела с Иваном Михайловичем. Ребман еще огрызнулся:
– Прекрасно, замечательно, у нас чудесные отношения!
Но маленький начальник только улыбнулся одним уголком рта: дескать, Каин тоже прекрасно относился к Авелю.
Он слушал спокойно, давая «секретарю» выговориться. Затем спросил:
– Скажите правду, Петр Иваныч, вы пришли по своей инициативе или вас против меня настроили?
Ребман, не желая никого выдавать и выступать в роли марионетки, слукавил:
– Меня не нужно настраивать, Николай Максимович, я все сказал от себя, потому что считаю, что вы поступаете с нами непорядочно. Во всех учреждениях города выплаты подняли, чтобы, по возможности, привести их в соответствие с растущими ценами. И только у нас ничего не происходит, только вы не желаете слушать голос разума!
Шеф все еще спокоен:
– Откуда вы это знаете?
Ребман следует курсом, который проложил для него Иван Михайлович:
– Откуда? Да скворцы со всех крыш об этом только и щебечут! Лишь вы один, кажется, остаетесь в счастливом неведении!
Тут шеф встал и хотел, по обыкновению, положить своему секретарю руку на плечо. Но тот его решительно остановил:
– На эту удочку вы меня больше не поймаете, Николай Максимович. Если вы не примете наших справедливых требований, то вы тогда – не хозяин, тогда вы… – И он употребил то самое слово, которому его научил фабричный рабочий. Не подумав, он бросил оскорбление шефу в лицо, даже не зная толком, что оно означает. На своем родном языке или по-немецки он бы так никогда не высказался, чужое слово просто сорвалось с языка. Вот именно на это и рассчитывал провокатор Иван Михайлович, бывший сотрудник охранки. Он в течение этих лет изучал Ребмана, выжидал момент и вовремя разыграл свой спектакль. И нужно отдать ему должное: разыграл очень умело, послав Ребмана к шефу в самый неподходящий момент и в самой невыгодной роли.
И тут пробка вылетела из бутылки.
– Петр Иваныч, – не выдержал шеф, – если таково ваше мнение обо мне, то я не вижу иной возможности, как только расстаться с вами. Я годами проявлял по отношению к вам терпение, проглатывая все, что вы все это время позволяли себе выливать мне на голову, злоупотребляя моей добротой и доверием к вам. Но и моему терпению пришел конец – подобного отношения к себе я больше не могу вам позволить. С симпатией к вам, а также памятуя о рекомендации Нины Федоровны, даю последнюю, на сей раз действительно самую последнюю возможность: возьмите это слово обратно и я забуду о случившемся. В противном случае наши пути разойдутся навсегда!
Но Ребман уже не может заставить себя пойти на попятный. «Что это даст? Я буду виноват – не сдержался, а шеф опять оказался на высоте!» Его больше всего возмущала мысль о том, что шефу снова удалось выйти сухим из воды, и виной тому его, Ребмана, несдержанность:
– Это ваше последнее слово, Николай Максимович?
– Самое последнее!
Ребман помедлил какое-то время. Но пауза затянулась, и ему пришлось, скрепя сердце, сказать:
– Тогда прощайте!
Он вышел, не промолвив больше ни слова. Собрал свои вещи. Подал руку Елизавете Юльевне, приказчикам в магазине, бухгалтеру и ушел из «International Trading Company», как говорится, с гордо поднятой головой.
Но не только на фирме все расстроилось: в последнее время и дома дела идут из рук вон плохо. Господин секретарь и победитель летней регаты в императорском яхт-клубе и тут начал переигрывать так, что всякий раз у него возникали трения с пасторскими детьми. Теперь он в ссоре со старшей дочерью. Она успела превратиться в барышню – красивую рослую девушку, на которую все оборачиваются, когда они выходят в театр или еще куда-нибудь. Она уже, конечно, не готова все сносить, как в те времена, когда Ребман был для всех чем-то неведомым и новым, а она – наполовину ребенком.
Он несколько раз брал ее с собой в клуб, сажал за руль в своей четверке и греб на Воробьевку, а вечером – обратно. Но там Миша, всегдашний соперник Ребмана, начал заигрывать и с Леной. Это Ребмана страшно взбесило, он ни за что не хотел снова уступать этому Мише. Он дал понять своей «подопечной», что это ему вовсе не по душе. В итоге барышня, самоуверенная и полная коварства, как и все девятнадцатилетние особы, начала настоящий флирт с Мишей, подтрунивая и дразня «господина надзирателя» даже и дома. В конце концов она согласилась, чтобы уже Миша свозил ее на Воробьевку и обратно. Ходила с ним в город играть в теннис. И в кино. И в доме изо дня в день – все Миша да Миша! Хотя это его никоим боком не касалось, такое поведение настолько вывело из себя «секретаря дирекции», что он стал устраивать молодой даме демарши при всяком удобном и неудобном случае, даже когда в доме были гости. Он вел себя в точности как ревнивый муж.
В ответ Лена продолжала потешаться над Петром Ивановичем. И к его вящему раздражению, все домашние ей в этом усиленно помогали.
Так, однажды вечером за чаем в присутствии гостей он гневно призвал ее к ответу, спросив, кто ей милее: порядочный человек, хоть и не столь пошло-сладкий, или некий ловкий мошенник-обольститель.
– Так кого же вы выбираете?
– Порядочного молодого человека с хорошими манерами! – коротко и ясно ответила молодая дама.
Ребман отреагировал, как рассерженный петух:
– Знаете, кто вы такая? Глупая гусыня, вот вы кто, слабоумная дурочка!
С этими словами он поднялся и ушел, и больше весь вечер не показывался.
Это случилось вчера и стало, очевидно, дополнительным поводом к тому, что он не сдержался на службе. Теперь он вспоминал об этом с досадой, и, как всегда, раскаивался, желая, чтобы ничего этого никогда не бывало, тогда хотя бы дома жизнь не была бы испорчена…
Он пришел домой в середине рабочего дня. Не говорит ни слова. И все остальные, полагая, что это последствие вчерашней ссоры, тоже молчат. Только тогда, когда после чая встали из-за стола, Нина Федоровна знаком позвала его к себе в комнату.
– Петр Иванович, – сказала она, когда он закрыл за собой дверь, – будет лучше, если вы подыщете себе другое жилье. Я не могу больше выносить эти вечные выяснения отношений, они отравляют всю нашу семейную жизнь. Лена уже вышла из школьного возраста, когда ее можно было ставить на место, где и когда вам заблагорассудится, тем более, в присутствии посторонних. Никто не имеет ничего против того, что ее обстоятельства вас так занимают, дело, как говорится, семейное. Но вы так бестактно вмешиваетесь, бросаетесь на нее, словно бык на красную тряпку, а затем неделями строите из себя невинную жертву, будто вас незаслуженно и несправедливо обидели. В приличном доме так себя не ведут! Я все понимаю: вы рано лишились родителей и вынуждены были подолгу жить среди чужих людей, поэтому я не позволяла себе делать вам замечания. Теперь вам представилась возможность «пообтесать рога». Но положение с каждым днем становится все хуже: стоит кому-либо из нас наступить вам на больную мозоль, как тут же вспыхивает пожар. Я не вижу другого выхода, кроме как расстаться с вами. Так продолжаться дальше не может. Не беспокойтесь: Оля станет приносить вам еду, если вы поселитесь не слишком далеко от нас. О белье и стирке я и в дальнейшем позабочусь. Это ни в коем случае не означает, что вы не сможете бывать у нас по-прежнему, совсем наоборот. Вы останетесь членом нашей семьи так долго, как сами того пожелаете. Вы меня понимаете?
Глава 12
Сначала, сразу после ухода из дома пастора, Ребман слонялся без дела, как собака, которую хозяева вышвырнули на улицу. Он избегал всех друзей и знакомых: завидев кого-нибудь вдалеке, старался уклониться от встречи. Он был совершенно растерян. Пока однажды его не взял за рукав Михаил Ильич и не сказал:
– Не пора ли это прекратить?
– Что прекратить?
– Вилять, юлить, унывать и вешать нос! Думаешь, я ничего не замечаю?
И тут Михаил Ильич объяснил, как он узнал, что с его другом творится что-то неладное. Поначалу он просто хотел пригласить Ребмана в концерт и сперва позвонил в пасторский дом, потом – на фирму, и в обоих местах получил ответ, что им неизвестно его местопребывание. Что, собственно, произошло?
Тут Ребман поведал другу все, как на духу: и об уходе со службы, и о размолвке с Ниной Федоровной.
– Но, все же, я не могу понять…
– Чего не можешь понять?
– Того, что пасторша указала тебе на дверь в тот самый момент, когда ты потерял место. Русская так бы не поступила.
Ребман невольно улыбнулся:
– Но она-то как раз и русская, батенька, самая что ни на есть.
– Нет, ни одна русская женщина так бы не поступила!
– Так она ведь ничего и не знала. Если ей шеф не сообщил, то она до сих пор в неведении. А самому открыться ей мне духу не хватило – и без того тошно.
– И где же ты теперь обретаешься?
– Вот здесь, – Ребман указал на дом «Русского страхового общества».
– Я не спрашивал, где ты служишь. Где ты живешь?
– Здесь и живу. А зарабатываю на хлеб совсем по-другому.
Его друг удивляется:
– Неужели ты можешь себе позволить жить в самом большом и дорогом доходном доме Москвы?
– Внутри там совсем не так изысканно, как кажется снаружи. У меня крохотная коморка на верхнем этаже, которую я делю с клопами. Мне они, правда, нипочем: кажется, я и для них недостаточно хорош.
– И с чего же ты живешь?
– С процентов, – раздраженно ответил Ребман.
– Да нет же, говори серьезно, не видишь разве, что я хочу тебе помочь? Если жилье слишком дорого, можешь переезжать ко мне и оставаться, пока не подыщешь чего-то более подходящего. А питаться можешь по моему абонементу в кружке. Буду рад, если ты ко мне переедешь.
Ребман покачал головой:
– Спасибо тебе, ты очень добр, но у меня все не так уж плохо. За эти годы я кое-что скопил, да и пасторша хорошо вела мои дела, так что пока я могу еще не слишком беспокоиться. И работа у меня есть, даже более интересная и прибыльная, чем раньше, и чувствую я себя намного лучше. Было глупо так долго оставаться в этой международной дыре. Так что обо мне не тревожься, не пропаду.
Больше Михаил Ильич ни о чем не расспрашивал. Что толку? Ведь Ребман даже не посчитал нужным сказать, чем он теперь занимается.
Когда Ребман убедился, что госпожа пасторша и вправду желает, чтобы он от них съехал, он сразу снял все деньги со своего счета в банке – искать другое место без диплома и рекомендаций, да еще и посреди революционных беспорядков не имело никакого смысла. Через хорошего знакомого ему удалось добиться выплаты всей суммы в царских рублях, которые хоть официально и приравнивались к керенкам, но на черном рынке стоили вдвое дороже. С двумя с половиной тысячами царских рублей вышел он утром из банка, а вечером у него в кошельке уже была пятитысячная пачка керенок.
Затем он отправился к одному из своих друзей-музыкантов, тому, что коллекционировал скрипичные смычки, и в ходе беседы затронул нужную струну:
– Аркадий Тимофеич, у вас есть еще те сигары, о которых вы мне как-то рассказывали?
– Да-да, они еще здесь. Хотите одну?
– Нет, но по ящику каждого сорта я бы с удовольствием взял. Хочу попробовать их продать.
Аркадий Тимофеич смерил Ребмана подозрительным взглядом:
– Я и сам пытался их сбыть, для того их мне друг и прислал из Гаваны. Но никто не берет, в России нет охотников до сигар.
– Когда пытались и где?
– Ну, примерно полтора года назад предлагал своим знакомым.
Теперь уже Ребман посмотрел на собеседника со снисходительной улыбкой:
– Я не стану их предлагать своим знакомым, я их продам. Давайте мне по ящику каждого сорта, я вам сразу заплачу. Сколько их всего?
– Пятнадцать тысяч штук, триста ящиков. Вы что, всерьез собираетесь покупать этот мусор?
– Сколько вы за них хотите?
Аркадий Тимофеич назвал цену. Столько же он просил за них полтора года назад.
Ребман быстренько прикинул в уме: цена еще довоенная.
– По рукам, беру! Но не все сразу, а партиями по несколько ящиков. А когда продам полдюжины ящиков, приду снова, за следующей партией. Согласны?
– Еще бы! Я вам даже сразу дам пять ящиков с самыми большими сигарами.
Ребман упаковал шесть ящиков по пятьдесят сигар в каждом и немедленно начал действовать. Он оббегал весь город, не пропустив ни одной, даже самой захудалой лавки, везде повторяя одно и то же:
– Имеется несколько сотен гаванских сигар – хорошо хранящийся товар. Вас интересует?
Все над ним только потешались: где это видано, чтобы русские курили сигары, словно какие-то швабы, цвет вы наш картофельный!
Через неделю такой безрезультатной беготни ему уже делалось дурно от одного слова «Гавана». А денежки тем временем все таяли. «Если в ближайшее время ничего не изменится, я еще, чего доброго, окажусь в худшем положении, чем в ту мрачную киевскую зиму».
С таким настроением он вошел однажды утром в маленький магазинчик на другом конце города, в который он еще не заходил. Для виду купил пачку сигарет. И без особой надежды заученно проговорил:
– У меня есть несколько сотен сигар, настоящих гаванских, в оригинальной упаковке… – Ну и так далее. – Вас не интересует?
Продавец еврейской наружности, возможно, сам хозяин, сначала внимательно на него посмотрел, а потом сказал:
– Вы неправильно действуете. С таким товаром вам нужно идти не к нам, а в отель или большой ресторан, где вращаются иностранцы – англичане, голландцы, а прежде всего, американцы. Там у вас его точно возьмут. Сходите-ка в «Националь», – это была та гостиница, в которой Ребман в четырнадцатом году останавливался с семьей Ермоловых, – коллега говорил мне, что они у него спрашивали сигар. С тех пор, правда, прошло недели две, но они в любом случае что-то купят. Отдавайте дешевле.
«Вот совет, которому стоит последовать», – думает Ребман, едет домой, надевает все самое лучшее, тонкую батистовую рубашку, шикарный галстук и едет в «Националь» обедать. Конечно же, на лихаче, как настоящий миллионер. Говорит с кельнером по-русски, но с нарочитым американским акцентом, которому он научился у товарища по клубу, настоящего американца. В конце трапезы – это удовольствие обошлось ему в сто двадцать рублей – он потребовал мокки и импортную сигару! Черного кофею он не пил уже пять лет, так как плохо его переносит, а сигар и вовсе отродясь не курил. Но все же заказывает, ведь это часть его программы.
– Простите, сэр, – по-английски извинился официант, – но у нас, к сожалению, закончились сигары, их теперь во всем городе и, вероятно, даже во всей России, не раздобыть.
– Это большая ошибка, – чеканит Ребман, – здесь ведь теперь полно американцев, и если вы им не сможете предложить сигар, то только вы их и видели!
– Это нам известно, – снова оправдывается официант, – и мы уже искали повсюду, но их теперь нигде не достать.
– Ну что ж, придется тогда поискать самому! – гордо заявляет Ребман. Расплачивается. Надевает макинтош и уходит.
На следующее утро он снова пришел в «Националь». Спрашивает официанта, который его вчера обслуживал, высокого блондина. Ему отвечают, что сегодня тот выходной, спрашивают, что господину угодно, пришел ли он по делу или, может быть, с жалобой на обслуживание.
– Не совсем так, – ответил он в нос с гортанным прононсом, – намедни я в вашем заведении заказал по привычке к кофе сигару, но мне ответили, что сигары кончились.
– Это правда. Мы обыскали весь город, но сигар нигде не нашли, – ответил дежурный официант.
– Неужели? А это, по-вашему, что? – резко спросил Ребман, достав кожаный портсигар, который приобрел специально по такому случаю, и открыл у пожилого «человека» перед самым носом. – Говорите, не нашли? А я нашел, да еще какие замечательные!
– Здесь в Москве, в магазине?
– Нет, у доброго знакомого.
Официант вежливо улыбнулся:
– Это, конечно, совсем другое дело, у частных лиц их еще можно найти, но…
– Это не частное лицо, это торговец, который занимается импортом!
«Человек» еще вежливее поинтересовался:
– Не откажет ли господин в любезности сообщить нам адрес своего знакомого?
– Нет, этого я сделать не могу, – гордо ответил «американец», – мой друг торгует только оптом.
– Одну минуту, – засуетился «человек», проскользил по залу и вернулся в сопровождении метрдотеля:
– Вот этот джентльмен!
Метрдотель отослал официанта. Затем спросил, не может ли гость уделить немного своего времени для частной беседы:
– Не соблаговолите ли пройти на несколько минут в бюро?
– Хорошо. Только сперва пообедаю, – холодно ответил ему мистер Ребман. После еды и черного кофею он закурил одну из своих длинных сигар, особенно тошнотворную. С каким удовольствием он зашвырнул бы ее подальше! Но бизнес есть бизнес.
Затем он степенно проследовал за официантом в контору метрдотеля. Там ему предложили стул и еще чашечку кофею. Наконец метрдотель перешел к делу:
– Мы находимся в очень щекотливом положении: в отеле остановилось несколько американских делегаций, а у нас, как на грех, закончились сигары. Каждый день я только и слышу просьбы достать сигары, постояльцы готовы заплатить за них любую цену в настоящих долларах! А взять неоткуда. Вам вчера могло показаться, что официант ищет предлога не выполнить заказ. Но правда в том, что во всем городе нет ни одного магазина, ни одной лавки, где можно было бы приобрести сигары. Нынче официант мне доложил, что вы знакомы с торговцем, у которого они еще имеются в наличии. Вы бы не могли сообщить мне его адрес? Я готов заплатить любые комиссионные…
– Дааа, – сквозь зубы процедил мистер Ребман, не вынимая сигары изо рта, – это такое дело, что… Видите ли, тот, кому принадлежит склад…
– Их там много?
– Не слишком, только пятнадцать тысяч штук. Поэтому я сомневаюсь, что он станет продавать. У него ведь есть свои клиенты – он поставщик «Яра», понимаете?
– Пятнадцать тысяч штук! Да нам десятой части хватило бы на год! Попытайтесь с ним поговорить. Если бы он нам продал тысячу или две… Я готов заплатить любую цену, выше той, что дает ему «Яр». А вы можете в любое время у нас бесплатно кушать! Попытайтесь это устроить, прошу вас!
– Ну, хорошо, я ему при случае скажу о вашем предложении. Но обещать ничего не могу, – все так же холодно отвечал мистер Ребман.
И он ушел. Сразу отправился на почтамт. Зашел в телефонную кабину. Заказал номер своего бесхитростного приятеля:
– Аркадий Тимофеич, у вас ведь еще остались сигары?
– А как же, ясное дело, кому они здесь нужны? В России ведь никто не станет их курить…
– И вы сдержите данное мне обещание?
– Конечно, Петр Иваныч, ради Бога!
– Хорошо. Я на вас рассчитываю. У меня как раз есть шофер. Возможно, смогу забрать всю партию.
Затем он идет к себе. Укладывает сигары в шесть коробок. В качества образца. А вечером к ужину, но не раньше, снова едет в «Националь». Пакет сдает в гардероб.
Поужинав, зовет метрдотеля.
– Как мне о вас доложить? – спросил официант. – Господин управляющий очень занят.
Ребман написал на листке бумаги несколько слов по-английски, сложил записку и отдал официанту.
Ответ не заставил себя ждать:
– Управляющий вас ожидает.
– Принесите мне мой пакет, – Ребман подал официанту номерок из гардероба.
– Сию секунду!
И началась торговля. Завидев такой прекрасный товар, управляющий от удивления широко раскрыл не только глаза, но и рот. Ведь он лучше Ребмана знал толк таким сигарам:
– Позвольте узнать адрес поставщика?
Ребман видит, что теперь все в его руках, – до сих пор он не был в этом вполне уверен, – и размышляет. Собственно говоря, он собирался запросить цену, соответствующую реальной стоимости товара, при этом он совершил бы хорошую сделку и остался бы доволен собой. На всякий случай он дал понять, что сигар мало и они быстро расходятся. Но, заметив особый блеск в глазах управляющего, подумал: «Вот она, дойная корова! И с ее обильного молока я желаю снять свои сливки, до других мне теперь и дела нет!» Он, не краснея, называет цену, накинув для себя по два рубля со штуки, объясняя это тем, что поставщику нужно посулить больше, чем тот может взять с «Яра», иначе интереса не будет.
К его большому удивлению, управляющий согласен на все:
– Сколько коробок я смогу получить? Где можно забрать товар?
– Для начала предлагаю пятьсот штук. Но забрать товар вы не сможете, мне его уступают только на том основании, что поставка предназначена для моих соотечественников. Я ведь тоже…
– Так я и думал! – смеется управляющий. – Только среди американцев встречаются такие отличные предприниматели!
– И я выступаю посредником между вами, – продолжает Ребман, не поддаваясь на уловку, – только для того, чтобы сделать приятное своим землякам. Если вас устраивает цена, я принесу товар завтра или послезавтра в течение дня.
– Лучше завтра, чем послезавтра, а еще лучше сегодня, чем завтра, – ответил управляющий.
– Я готов, – расслабившись, усмехается Ребман, не понимая того, что управляющий и по такой цене получает сигары почти даром, потому что русские деньги, которыми он за них рассчитывается, уже почти не имеют никакой ценности.
Вернувшись домой, Ребман сосчитал, что за сегодняшний день заработал дополнительно тысячу рублей. «Хорошая осень, – потирает руки он, – это достойная компенсация за два с половиной месяца лишений!»
Затем он переоделся и пошел в клуб. Это теперь единственное место, где он себя чувствует хотя бы наполовину дома. У пастора он хотя и бывает, но там все не так, как в старые добрые времена. Нина Федоровна ему уже больше не мать, которой он все доверял. Он теперь никому ничего не рассказывает, а если спрашивают, чем занимается и есть ли у него заработок, только отмахивается: мол, как-нибудь выкручусь! Ни в театр, ни в кино он с ними вместе больше не ходит. И вообще если выходит, то только с Михаилом Ильичом.
Зато он начал подолгу сидеть в кафе и слушать там «концерты». Он даже подружился с некоторыми музыкантами из «Лубянского кафе», ближайшего к его дому. И если он пропускал хоть один вечер, день казался ему прожитым зря.
А еще раз в неделю он ходит в студию Художественного театра, что напротив его дома, – нужно только выйти из одних дверей и войти в другие, даже не надевая ни пальто, ни шляпы. И билет можно не покупать, так как хозяйка квартиры работает там гардеробщицей и имеет абонемент на весь сезон. Но она не ходит на все спектакли и часто отдает контрамарку своему жильцу. Зала студии на малой Лубянке не больше, чем в театре марионеток, и почти всегда полупуста – однажды Ребман даже оказался единственным зрителем. Эти вечера впоследствии стали одним из его самых дорогих воспоминаний о России. Здесь он, наконец, понял, что такое актерская игра. На этих спектаклях он постиг значение достижений русской театральной школы и ее замечательного вдохновителя Станиславского, учившего, что хорошим театр может быть только тогда, когда зритель забывает о том, что он в театре и что все происходящее на сцене – лишь игра. Поэтому актеру запрещено быть «актером», нельзя «играть», нужно показать жизнь в ее последней правде. «Вот когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в их играх, тогда вы сможете стать великими артистами!» – повторял он своим ученикам вновь и вновь, пока это не запечатлевалось у каждого в сердце. А для этого необходимо прежде всего одно: прочь от шаблонов, от банального ремесленничества, от «пути наименьшего сопротивления». И действительно, на этих спектаклях, даже студийных, никогда не было ощущения, что ты в театре. На несколько часов ты оказывался в совсем ином мире и после спектакля какое-то время еще жил в нем. Если бы вдруг кто-то подошел к Ребману и сказал: «Смотри, вон там, на противоположной стороне улицы! Это же его мы видели в такой-то пьесе», – он бы ответил: «Что еще за пьеса?! Это была правда, которую я сам пережил!» Таким сильным и живым было впечатление от этих постановок.
И это в то время, когда все вокруг рушится – и политическая, и экономическая, и даже частная жизнь, становится день ото дня все труднее; миллионы людей уже не знают, как заработать на кусок хлеба. Даже если есть средства, продуктов не достать. С каждым днем исчезают товары, в магазинах пусто, об одежде, белье, обуви и прочих необходимых вещах и мечтать не приходится. Спекуляция, черный рынок и полное моральное падение стали фасадом общества. Выживать, сохраняя порядочность, становится с каждым днем все труднее. Россия начинает постепенно «жить на французский манер», как саркастически пишет корреспондент одной из газет.
И в политике ощущается, что надвигается нечто, и это нечто имеет уже совсем другое лицо и другой кулак, чем теперешняя власть. Чем дальше, тем больше Ребман начинает разделять мнение Михаила Ильича и понимать, что его товарищ был прав, когда говорил, что то, что случилось весной, вовсе не было революцией – она еще впереди.
По всему городу демонстрации, марширующие по улицам с транспарантами, выступающие против временного правительства. Среди бела дня люди бросают работу, приезжают целыми поездами только для того, чтобы постоять и послушать коммунистических ораторов, призывающих свергнуть Временное правительство с его буржуазными порядками, но, прежде всего, раз и навсегда покончить с войной. «Положим конец массовому убийству! России нужен мир, мир любой ценой!», – такими лозунгами большевики подкупали народ.
И лица на этих демонстрациях теперь совсем не те, что еще так недавно чаяли Царства Божия на земле. Это совсем другие люди – они словно только что вышли из ада, – даже смотреть страшно. И откуда такие берутся?
Когда Ребман наблюдал одно из таких шествий, он вдруг вспомнил другую процессию, ту, которую он, еще будучи гимназистом, видел дома в Рейнгороде, – первомайское шествие девятьсот седьмого года: пятнадцать или, может быть, двадцать мужчин с красными флагами и сразу за ними, в полном одиночестве, их профессор литературы, в сюртуке и цилиндре. «Это социалисты», – объясняли друг другу зрители и усмехались.
На этих демонстрациях уже никто не смеется. Здесь нет и социалистов во фраках, это марширует всемирный потоп собственной персоной, первобытное животное, которое растопчет все. Глаза! Выражение лиц! Это уже не добродушные русаки, полгода назад обнимавшие друг друга со слезами радости, это – всенародный ледоход.
Размышления Ребмана внезапно прервал чей-то голос:
– Откуда они взялись? Таких рож я сроду не видывал, хотя все пятьдесят лет своей жизни прожил в Москве. Они выглядят так, словно дьявол их выпустил из преисподней. Нет, вы только взгляните на это! Это женщина или мужчина, кто это вообще, собственно говоря?
А Ребман про себя думает: по мне, так пусть хоть сожрут друг друга, если это им доставит удовольствие. Он занят делом. Его предприятие процветает. Сигары пользуются таким огромным спросом, что можно запрашивать любую цену. И Ребман не был бы достойным питомцем «International», если бы не воспользовался такой возможностью. К тому же склонность к торговле у него в крови, его с ранних лет звали «жиденком». Если у кого-то из школьных товарищей была вещь, на которую Петерли положил глаз, юный Ребман не успокаивался до тех пор, пока она не попадала в его руки. При этом он использовал все уловки, выкидывал всевозможные фортели, пока шерстяной мячик, рогатка, головоломка, кнут с кожаной петлей и все прочие сокровища не оказывались в его руках. И когда вечером кто-то из товарищей приходил и виновато говорил: «Отец сказал, чтобы ты мне вернул мою вещь», – новый владелец отправлял его домой ни с чем, ссылаясь на неопровержимый аргумент детского права: «подарки – не отдарки!»
И вот теперь и старые, и новые семена начинают понемногу прорастать, приближая время жатвы. Уже после первых поставок Ребман смог забрать всю партию сигар и заплатить наличными. «Если действовать, то уж наверняка!» – сказал он сам себе, взял извозчика, перевез весь товар на квартиру и сложил за платяным шкафом, который отгораживал угол в комнате. Драгоценная стопка коробок вытянулась почти до потолка.
Теперь он продает уже не сотнями, он распродает по одной коробке, а его клиентам из гостиницы приходится запасаться терпением и безропотно ждать очередной партии. И всякий раз таинственный «поставщик» взвинчивал цену, изобретая новые расходы.
Каждую субботу Ребман приезжает в свой отель с несколькими, а то и с целым десятком коробок, ужинает за отдельным столиком за счет заведения. А на десерт – новые барыши: его друг-музыкант сделал дополнительную скидку, когда Ребман пришел и объявил, что забирает весь товар и сразу платит наличными. Не прошло и двух месяцев, как он сумел скопить приличную сумму и тут же приобрел свежий товар, на этот раз – курительный табак. Это новая подсказка маленького торговца из лавки на другом конце города, того самого, который подал ему идею с гостиницей: «Покупайте все, что сможете достать, дефицит товаров растет с каждым днем!» И Ребман сразу поспешил спросить у хозяйки квартиры, не могла ли бы она освободить для него стенной шкаф на лестничной клетке, и стал его заполнять. По субботам он складировал в шкафу купленные на несколько десятков тысяч рублей пачки первосортного табаку. Платит он за них, конечно, по нынешним ценам, но это неважно: через два-три месяца цены удвоятся, а то и утроятся.
Его дело процветает. Сам мистер Ребман – тоже. И когда ему случается проходить мимо «International», он только головой качает: как они могут сидеть в этой клетке, еле сводя концы с концами, чтоб не умереть с голоду, в то время как деньги просто на улице валяются – знай себе собирай!
Однажды ему позвонила Нина Федоровна, чтобы поинтересоваться, почему о нем так давно ничего не слышно и чем он живет?
Ребман снова отшутился:
– Ястием и питием, как и все смертные!
– А почему никогда даже в воскресенье не зайдете?
Из чистого упрямства он, конечно, бросил и место органиста: снявши голову, по волосам не плачут! Пришлось ответить, что по воскресеньям он обычно выезжает за город.
На самом же деле он ездит не за город, а в клуб, и не только по воскресеньям: каждый день он гребет вверх по реке на Воробьевку, надевает купальный костюм и все послеобеденное время загорает на солнышке, как правило, в полном одиночестве. А вечером, когда съезжаются остальные яхтсмены, они идут к крестьянам за молоком, хлебом, яйцами и прочей провизией и готовят ужин в парке на костре. Потом они дотемна играют в теннис, а около десяти вечера спускаются вниз по реке в город, где еще часик можно посидеть в кафе. В клубе он никогда не ночует, говорит товарищам, если те пытаются его задержать, что рано утром ему нужно быть на службе.
Однажды, когда он вышел из трамвая у Мясницких ворот, рядом с ним оказалась Клавдия из клуба. В переполненном трамвае он ее не заметил:
– Ты тоже живешь где-то неподалеку? – удивился он.
– Нет, я живу на другом конце города, – улыбаясь, отвечала она, – но я хотела посмотреть, где ты обитаешь. Пригласишь меня на чашку чаю? Мне нужно с тобой кое о чем поговорить.
– В одиннадцать часов вечера?
– Да, ты ведь не оставляешь другой возможности, каждый раз увиливаешь, как только к тебе подойдешь поближе.
– Это что-то важное? – недоверчиво спрашивает Ребман.
– Да, это важно. Для тебя и для меня. Я долго размышляла, и вот теперь, наконец, решилась.
– Ну что ж, тогда пойдем. Я впервые принимаю у себя даму, да еще в столь поздний час, но…
– Я как раз хотела сказать, что мы не дети и можем говорить без обиняков. Мои намерения чисты. Или ты меня в чем-то подозреваешь?
– Ни в коем случае! – спокойно ответил Ребман. Это было совершенно искренне, Клавдия – девушка порядочная, он это заметил еще при первой встрече.
Кухонная фея – так Ребман называл кухарку – еще не спит, и он просит ее поставить самовар. Она и рада:
– Смотрите-ка, женоненавистник Петр Иваныч пришел в сопровождении юбочки, что за невидаль такая? Но это должно было когда-нибудь случиться – еще до того, как вам стукнет семьдесят!
Ребман проводил гостью в свою комнату. Предложил ей кресло.
Клавдия села и говорит:
– А у тебя уютно. И просторно. И так спокойно, хоть и в самом центре города. Даже телефон у тебя есть!
– Да, – отозвался Ребман, – я уже привык. Хотя поначалу я не собирался сюда переезжать. У меня была совсем маленькая каморка рядом с кухней. И вот как-то утром приходит хозяйка и спрашивает, не завелись ли и у меня клопы? «Клопы, у меня?» – «Да, клопы. У нас у всех есть, ночью глаз не сомкнули. Новая стряпуха их принесла. Дайте-ка я посмотрю!» И с этими словами она раскрыла постель, сорвала простыни – и, налезая друг на друга, они начали выползать, как семечки из тыквы: первые клопы, которых я увидел в жизни. «А вы что же, сами ничего не чувствуете?» – удивилась хозяйка. – «Нас они просто поедают живьем, по утрам встаем все в укусах». – «Нет, я ничего не чувствую. Думаю, меня ни разу не укусил ни один». – «Это просто удивительно. А ну-ка, расстегните воротник и закатайте рукав!» Я расстегнул рубашку и закатал рукав: никаких следов от укусов. Тут я начал смеяться: «Наверное, они не любят шафхаузенцев, наша кровь им не по вкусу, малосладкая!» Хозяйка смотрела на меня так, словно обнаружила на мне чумные пузыри: «Петр Иваныч, немедленно пойдите и сделайте анализ крови. Идите же, пока еще не поздно!» – «Для чего же, у меня все в порядке!» – «Но у вас может быть излишек чего-нибудь, туберкулезных палочек, например! Это может быть причиной того, что клопы не кусают. Моего кузена они тоже не кусали, и он в молодом возрасте умер от скоротечной чахотки!» Тогда я только посмеялся. Но на следующее утро меня всего прошибло потом: я как раз вспомнил о том, что моя мать умерла от той же болезни, и тоже молодой, и тоже очень быстро. Профессор Авербух собственноручно вставил мне за левым ухом трубочку и набрал в пробирку драгоценного соку. Когда я пожаловался, что он слишком много берет, доктор пошутил: «Ничего, переживете! Если бы я два литра взял, тогда понятно, а тут и говорить не о чем, всего несколько кубиков. У вас осталось еще четырнадцать литров. Приходите в пятницу за результатом – швейцарцев мы должны досконально исследовать под микроскопом».
Несколько следующих дней, до самой пятницы, я не находил себе места. «А если у меня тоже?..» Но все оказалось в порядке, у меня ничего не нашли. «Единственный ваш недостаток в том, что вы слишком здоровы, прямо патологически, – сказал профессор, когда я пришел за результатом. – Больше мне на глаза не попадайтесь. Если бы все пациенты были такими, то мы, медики, уже давно протянули бы ноги с голоду, не дожидаясь Керенского. Анализ стоит пятьдесят рублей». Дома я попытался обратить эту историю себе на пользу: «Ваша забава с клопами стоила мне пятьдесят рублей, дайте мне теперь другую комнату, Екатерина Андреевна, а не то я съеду и расскажу всему городу!» Хозяйка о таком и слышать не хотела: «Я дам вам самую лучшую комнату, – сказала она, – только молчите». И вот теперь я обосновался здесь. Только мебель мне не подходит: все белое, словно в больнице.
Тут Таня, та самая разносчица клопов, как раз принесла чай с конфетами.
– Это она? – спросила Клавдия по-французски.
– Да-да, можешь не бояться, ее уже давно продезинфицировали… Так о чем ты хотела со мной поговорить?
– Сначала ты должен мне пообещать, что это останется между нами. Я потому сюда и пришла, что не хочу, чтобы в клубе пошли разговоры. Если они уже не идут. И потом, – продолжала Клавдия после того, как Ребман утвердительно кивнул, – я хотела бы знать, что ты обо мне думаешь.
– Я о тебе? Я считаю тебя очень порядочной и хорошей девушкой. Такая ты и есть.
– И даже теперь?
– Конечно. А что теперь изменилось? Нет, теперь еще больше, потому что ты мне доверяешь, раз сюда пришла.
Клавдия молча смотрит на него. Потом продолжает:
– И еще пообещай, что и после того, как я тебе все скажу, ты ко мне не переменишься и будешь так же любезен.
Ребман смеется:
– Так, значит, я к тебе любезен? А я-то всегда думал, что произвожу на девушек обратное впечатление.
– Ты любезен настолько, насколько позволяют обстоятельства. Во всяком случае, не так, как бы мне того хотелось. Но этого не изменишь.
– Чего не изменишь?
– Ну, того, как все сложилось: что каждый из нас влюблен не в того!
– Откуда ты знаешь? Я имею в виду, что я влюблен? Этого даже она не знает!
– О да! Конечно, знает – к сожалению, и радуется этому, но не так, как радовалась бы хорошая девушка.
– А что, Ольга не хорошая девушка?
Клавдия смотрит Ребману прямо в глаза:
– Вот мы и подошли к тому, зачем я пришла: нет, она не хорошая девушка. Ты решишь, что я тоже не идеал, если так говорю о своей подруге по клубу. Да она мне и не подруга! У нее нет других интересов, кроме как морочить голову всем мужчинам подряд. И если ей это удается, – а, к сожалению, в большинстве случаев удается, – она их тут же бросает. Таким особам это доставляет радость. Больше ничего. Чтобы ей мужчина или вообще кто-нибудь понравился! Этого просто не может быть: Ольга только играет, забавляется, в этом ее жизнь. И я должна была однажды тебе об этом сказать.
– И что, эти другие, ну, остальные, тоже знают, что она вот так?..
– Конечно, знают, и соответственно к ней относятся. Только ты один, судя по всему, все еще ее не раскусил.
– А зачем ты мне все это говоришь?!
– Потому, что мне тебя жаль. И потому, что ты не заслуживаешь подобного отношения.
– Только поэтому?
Клавдия не отвечает. Лишь когда Ребман повторил вопрос, она сказала:
– Когда я решила с тобой поговорить, я дала себе слово не отвечать на этот вопрос, потому что боялась, что ты можешь меня неправильно понять. Но теперь, когда я вижу, что это не так, признаюсь, рискуя, что ты после этого даже не посмотришь в мою сторону: ты мне нравишься так, как еще не нравился ни один человек, – вот почему. Теперь ты все знаешь.
Ребман помедлил, прежде чем спросить:
– Но почему я?
Клавдия тоже ответила не сразу:
– Почему? Я сама тысячу тысяч раз задавала себе тот же вопрос и до сих пор задаю – каждый час, днем и ночью: почему он, чем он так хорош? На этот вопрос, наверное, вообще никто никогда не мог дать вразумительного ответа. За что мы любим день? А солнце? Весну? Голубое небо? Цветы, музыку и все, что прекрасно, что привносит в нашу жизнь радость и свет?
– Но ты же не хочешь этим сказать, что я лучик или цветок, солнышко или небо?
– Да, для меня ты – это все вместе взятое, – именно так, и не как иначе. Пусть для других ты ничто, для меня ты – целый мир. Ты мог бы быть самым ужасным человеком, даже совершить преступления, за которые сажают в тюрьму, – для меня ты все равно будешь и солнцем, и небом. Если бы ты послал меня на паперть или даже заставил красть для тебя, я пошла бы с радостью. Да, для тебя – пошла бы!
Она произнесла это так, словно иначе и быть не могло. А у Ребмана возникло горькое чувство: это именно то, что он желал бы услышать, но только от другой. А теперь это сказала Клавдия. Ему стало очень тяжело. Эта девушка хороша, чиста, отважна, полна сострадания. Вдруг он подумал: «Как же это трудно – любить без взаимности, любить кого-то, кому нечего тебе предложить. Но, может быть, еще горше быть любимым, не имея возможности ответить на это святое чувство». А вслух он сказал:
– Если бы ты только знала, Клавдия, как мне жаль и как бы мне хотелось, чтобы все было иначе! Но я ничего не могу изменить. Тем, чем являюсь для тебя я, для меня является Ольга. Без нее не мыслю дня прожить, я должен видеть ее и слышать ее смех, должен бросаться в это пламя и чувствовать, как сгораю в нем дотла. Мне известно все – я не так слеп, как думают иные. И все равно не могу отказаться от своего чувства. – Тут он опомнился: – Послушай, уже почти три часа ночи. Тебе нужно идти домой.
Клавдия качает головой:
– Мне сейчас уже все равно, где находиться. Лучше быть здесь, чем совсем одной.
– У тебя что, нет никого на свете?
– Нет, я не это имела в виду. У меня есть родители и добрые сестры. И братья тоже. И все равно я одна. Но это пройдет! Да, пройдет! Ми́нет и твое увлечение, но будет уже поздно.
– Но разве я не могу оставаться близким тебе человеком? Разве дружить – это не прекрасно? Разве радости дружбы не предпочтительнее бесплодных терзаний неразделенной любви?
После этих слов Клавдия поднялась, обняла Ребмана за шею и расцеловала в обе щеки. И тут он заметил, что она плачет.
Глава 13
Среди знакомых Ребмана есть один немец, из тех переселенцев, чьи семьи уже более ста лет живут в России. Его зовут Карл Карлович. Это мужчина средних лет, ему за сорок. Женат на русской. Раньше у него было свое дело. Теперь он его продал и занят тем, что особенно по душе и что лучше всего удается настоящим русским, – ничегонеделанием. Он так прямо Ребману и сказал, отвечая на вопрос о своих занятиях.
С Карлом Карловичем Ребман познакомился через его брата, который тоже живет в доме «Российского страхового общества» на Малой Лубянке. У нового знакомого, как, впрочем, и его супруги, кажется, и забот других нет: был бы только счастлив Петр Иванович. А счастье, по их мнению, состоит в том, чтобы хорошо устроиться и удачно жениться. Всякий раз, когда он приходит к ним на чай или ужин, а это случается еженедельно, они неизменно заводят об этом речь:
– Петр Иваныч, если вы не готовы действовать решительно, мы найдем вам жену сами. Это же никуда не годится – оставаться бобылем в вашем возрасте.
Ребман, шутя, любопытствует:
– А что, у вас уже есть кто-нибудь на примете?
– Четыре или пять претенденток, можете выбирать.
Ребман потешается:
– Жениться – это вам не шапку сменить, а я привередлив, особенно по части женщин.
– Ишь ты, – продолжает игру Наталия Сергеевна, хозяйка дома, – какой привереда выискался! Что ж, выслушаем всю тысячу ваших пожеланий. Мы готовы и к этому.
Ребман, который как раз совершил выгодную сделку и теперь сидел, развалившись в креслах, пребывая в прекрасном расположении духа, при этих словах весь приосанился:
– Во-первых, она должна быть молода, не старше двадцати!
– Ну, они все таковы, ни одна не прожила на этом свете более тысячи недель.
– Во-вторых: блондинка с голубыми глазами!
– И это условие для нас выполнимо.
– В-третьих: тонкая и стройная, как березка, и высокая, мне под стать: чтобы для поцелуя ей не пришлось становиться на скамеечку, а мне – на колени!
Наталия Сергеевна в раздумье загибает все десять пальцев и кладет еще два сверху. Затем подводит итог:
– Высокая, блондинка с голубыми глазами и худая есть только одна, но она не для вас.
– Это почему же?
– Потому что она – глупая овца, как и все блондинки.
«Это она так говорит, потому что сама темноволосая», – думает Ребман и продолжает:
– Что ж, идем дальше. Как там обстоят дела с остальными девятьсот девяносто девятью? Не усложняйте мне выбор, сами предложите ту, которая, по вашему мнению, мне больше всего подходит.
– Какой Обломов выискался! – возмущается хозяйка. – Так вы еще и лентяй? Сами выбирайте, чтобы мне не перетрудиться.
Тут в разговор с купеческим задором вмешался сам хозяин:
– Вот, значит, каковы ваши пожелания? А это – и он большим пальцем потирает указательный, – не играет вовсе никакой роли? А происхождение? Семья? Связи и так далее?
Ребман гордо отвечает:
– Это само собой разумеется, об этом и говорить не стоит! Если невзначай прилетит ангел с золотыми крылышками, пусть люди говорят: вот так счастливчик, за невестой еще и пол-России взял!
– Вот это мне нравится, именно так и нужно рассуждать, прежде чем решиться на такой шаг!
– Вы тоже так мыслили?
– Нет, – смеется Карл Карлович, – но все же и у меня неплохо вышло. В порядке счастливого исключения. Так что же у нас найдется для Петра-то Иваныча? Предлагайте, Наталья Сергеевна!
– Здесь только одна кандидатура годится – наша Женя, – не раздумывая, ответила хозяйка, – она вам вполне подходит: высокая, стройная, красивая, хорошо воспитана, из порядочной семьи. А уж в добродетелях определенно вас превосходит.
– Погодите, – перебил ее Ребман, – а саму невесту, высокую, стройную, хорошо воспитанную, богатую, из прекрасной семьи, – никто спрашивать не собирается? Что это за мода у вас в России тащить барышню под венец, словно козу на торг?
Но Карла Карловича этот упрек только забавляет:
– Невеста – милая, тонкая, прелестная – дожидалась только Петра Ивановича. Суженого, говорят, конем не объедешь!
Так за шутками пролетел весь вечер, не заметили, как наступила полночь. Ребману пришло время прощаться, к большому сожалению хозяев, по крайней мере, они его в этом уверяли. Но ему нужно успеть на последний трамвай, чтобы не пришлось добираться домой пешком в нынешнее, столь неспокойное время.
С тех пор каждый раз, когда он приходит с очередным визитом, первый его вопрос о том, как поживает невеста?
Так продолжалось, пока однажды Карл Карлович не сообщил:
– Сегодня вечером мы отправимся к ней. Она будет рада с вами познакомиться.
Взволнованный Ребман говорит без умолку:
– Кто это радуется нашему знакомству? О ком вы говорите?
– Наша Женечка. Пойдемте, все уже в сборе, только нас дожидаются, и дети давно там.
– Но я ведь все это принимал за шутку.
– Мы тоже, а как же иначе? Но вам все равно разрешается идти с нами.
– Так кто же эти люди?
– Об этом не принято спрашивать. Разве брата вы тоже донимали расспросами, прежде чем придти к нам впервые?
Когда Карл Карлович сообразил, что Ребман артачится, он объяснил:
– Если вы так уж непременно желаете знать, мы приглашены к моей сестре. Но она замужем, так что не бойтесь, мы вас не просватаем. К тому же нас ожидает изысканный ужин!
Тут уже Ребман не смог отказаться от приглашения. Они идут вдоль Покровского бульвара, мимо Политехнического института, затем сворачивают в переулок и подходят к большому дому:
– Вот мы и пришли. Красивый дом, не правда ли? Принадлежит моему шурину. В нем пять восьмикомнатных квартир!
И здесь Ребмана тоже встречают, как старого знакомого:
– Добро пожаловать! Карлуша нам много о вас рассказывал.
Его всем представляют: прежде всего, хозяйке и хозяину, они оба уже в летах. Затем обеим их дочерям: Жене и Марфе. Здесь же сестра хозяина, которая живет с ними. Несколько кузин и кузенов. За столом собралось целое общество и, как в старые добрые времена, на столе было всего в изобилии.
– Вы что же, состоите в должности министра снабжения? – обратился к хозяину Ребман.
– Да, но только в своей семье. По нынешним временам не особенно хочется отвечать за других.
– Зато о своих вы отменно позаботились, хоть, судя по всему, – тут он указал на стол – и не без помощи тайного благодетеля.
Хозяин довольно смеется:
– У нас есть кое-что получше «тайного благодетеля» – собственное имение. Оно, как видите, снабжает нас хлебом насущным. Иначе пришлось бы туго, теперь ведь никакая коммерция не спасает от голода.
– А у вас свое дело? – любопытствует Ребман.
– Да, в некотором роде, но я не торгую. Не поймите меня превратно, я не вас имею в виду, я ведь даже толком не знаю, чем вы занимаетесь. Речь и не о Карле Карловиче, а о двух других моих шуринах: они продают то, что я изготовляю.
Во время разговора Ребман все посматривал на ту из дочерей этого богатого господина, которая, судя по всему, и была предметом их домашних шуток. Это был как раз тот случай, когда в шутке таилась изрядная доля правды. Ее действительно зовут Женя, и она вполне соответствует тем требованиям, которые он предъявлял к своей будущей избраннице: высокая, стройная, ухоженная, как все русские барышни, со свежим цветом лица. С первого взгляда видно, что это девушка из хорошей семьи. Но, по тысяче и одной причине, ни о какой женитьбе не могло быть и речи.
После ужина состоялся концерт. Тетя Соня, старая дева с давно вышедшей из моды прической и манерами немецкой гувернантки, играла Шопена. Играла она превосходно, все наизусть, больше часа. И каждый раз, когда собиралась закончить выступление, все присутствующие хором просили: «Еще только одну пьесу, тетя Соня, еще вот эту – и все!» И так повторялось больше десяти раз.
Затем пошли забавы: шарады, фанты и тому подобное.
В конце концов, даже начали танцевать. И Ребман скользил по паркету с легонькой, как перышко, Женей. Она наговорила ему комплиментов: не только по поводу танцев, но и по поводу его владения русским языком: дескать, еще никогда не встречала иностранца, говорящего без ошибок и без малейшего акцента. Никогда бы не догадалась, что он не русский.
– Но я сам это, к сожалению, замечаю, – сказал Ребман.
– Почему «к сожалению», вы предпочли бы быть русским?
Ребман склонил голову набок:
– Был момент, когда я… Пожалуй, я ничего не имел бы против, если бы появился на свет в России и не знал другой родины. – Кстати, мою первую любовь тоже звали Женя – по-швейцарски Жени.
– Насколько я могу судить по рассказам о ваших вкусах и претензиях, за вами тянется целый шлейф таких историй… Но почему вы сказали, что ее «звали» Жени, разве теперь у нее другое имя?
– Нет, то же, но теперь оно выбито на могильном камне.
– Ах, простите!
– Дело прошлое, теперь боль утихла.
– Вы так быстро забываете дорогих вам людей?
– Не так уж быстро: во-первых, как вы могли заметить, я о ней не забыл, а во-вторых, следует учесть, что с тех пор прошло более двадцати лет.
Женя погрозила ему пальчиком:
– Однако вы рано начали. У вас богатое прошлое! Думаю, вас следует остерегаться.
Ребман улыбается:
– Это мне уже приходилось слышать. Курьезно, право, как все в жизни повторяется.
Когда танец закончился и они снова сели, Женя попросила:
– Расскажите же мне поподробнее об этом вашем романе! Это действительно была настоящая любовь?
– Во всяком случае, с моей стороны. Я ведь даже хотел жениться на прекрасной Жени, которая уже была замужем! Вы только подумайте, четырехлетний малец склонял двадцатипятилетнюю молодицу к двоемужеству! И до этого бы дошло, мы оба были готовы идти под венец. Но тут она… Ах нет, с этим не шутят! Ее конец был таким трагичным – бедная, прекрасная тетя Жени. Вся ее судьба была печальной. Несчастный брак со старым богатеем по воле родителей. В этом была причина ее преждевременного ухода. Так поступать нельзя ни при каких обстоятельствах, даже из самых лучших побуждений, даже для того, чтобы исполнить волю самых близких тебе людей.
– А родители еще живы?
– Чьи, тети Жени? Не знаю.
– Нет, ваши.
– Ах, мои! Я не уехал бы на чужбину, если бы мать была еще жива. Отец умер давно, когда я и на свет ещё не появился. Несчастный случай. Упал во время занятий альпинизмом, сломал позвоночник. Говорят, он был веселым парнем, жаль, не дожил даже до моих теперешних лет.
– А кто же вас воспитывал?
– Мать, насколько могла, пока была жива. Это уже тогда было нелегкой задачей. А теперь она была бы еще труднее! Радуйтесь, что у вас нет брата.
Женя улыбается:
– Мы бы многое отдали, чтобы у нас был брат. Мальчики ведь намного интереснее в детстве и намного преданнее.
– Да, но только чужие мальчики, и то – когда вырастут.
– А в каком возрасте вы потеряли мать?
– О, с тех пор тоже уже прошло десять лет. Уже десять лет, как я живу среди чужих людей…
Вдруг он осекся: «Как это я дошел до того, что исповедуюсь первому встречному!» Но все же продолжил рассказ. У него было такое чувство, словно он вернулся домой из далеких странствий и теперь делится с сестрой всем пережитым. Он рассказывал о родной деревне, которая в детстве казалась ему целым миром и которую он тогда не променял бы даже на рай.
– А теперь?
– Теперь? Кажется, будто мне все это во сне привиделось, а когда наступил день, видение превратилось в размытую картину. Думаю, что почувствовал бы себя чужим, если бы снова вернулся туда. Все как-то потускнело и, наверное, больше никогда не прояснится.
Молодая девушка смотрит на него крайне удивленно:
– Правда? Неужели вы никогда не тоскуете по родине? Я бы умерла, если бы мне пришлось покинуть Россию.
Ребман согласно кивает:
– И я бы тоже!
– Вам здесь так нравится?
– «Нравится» совсем не то слово. Я люблю Россию, как любят мать. Она и стала для меня второй матерью. Нет, если у меня здесь будут средства к существованию и все вокруг не встанет с ног на голову, я уже не вернусь на свою старую родину, по крайней мере, по своей воле, там ведь все так мало и узко. Вдобавок, у меня в Швейцарии ничего своего не осталось, так легче сбежать от прошлого. И вот я здесь.
– Расскажите еще что-нибудь. Например, была ли у вас школьная любовь?
– И не одна! Их у меня было больше десятка.
– Видно, вы большой ценитель женского пола!
– Да, в своем роде. Но за одним или двумя исключениями, мои избранницы так и не узнавали об этих чувствах, я их любил со стороны, только в мечтаниях.
– Но все же остаются два исключения!
– Только два. Одну из них я покинул, а другая – оставила меня. Так что я никому ничего не должен.
– Об этом можно было бы роман написать!
– Довольно скучный. Я бы, во всяком случае, не стал его читать.
– А я бы стала. Напишите же! Для меня.
Ребман только головой покачал:
– Нет, о подобных вещах книги не пишут… Это было бы самонадеянной глупостью в чистом виде – выставлять себя героем подобного романа, особенно если он выйдет правдивым.
– Не нужно изображать себя «героем», просто расскажите свою историю, как мне теперь. Придется только приоткрыть еще несколько темных окошек, всем понравится.
– Но я не стану этого делать. Это было бы не литературой и вовсе не искусством.
– Но о чем же, по-вашему, до сих пор писали и пишут все остальные?
– Кого вы имеете в виду?
– Поэтов, писателей, вообще художников – от малых до самых великих. Рембрандт, Рубенс и прочие по многу раз возвращались к одной модели, Рембрандт, например, таким образом написал более ста картин?! Неужели эти картины из-за этого менее ценны?
Ребман с удивлением смотрит на собеседницу: кажется, эта девушка не лыком шита, нужно быть настороже. Он спросил:
– Вы много читаете?
– Да, чтение – моя страсть, я люблю читать и слушать чтение. Предпочитаю английскую литературу.
Ребман предусмотрительно меняет тему – не то эта барышня еще, чего доброго, устроит ему экзамен. Он вскользь замечает:
– Я был знаком с одной англичанкой, вернее, с ирландкой.
– А разве это не одно и то же?
– Судя по всему – нет. Ей очень не нравилось, когда ее принимали за англичанку, она гордилась своим происхождением, словно королевским титулом. Да и выглядела, как королева.
– Красивая?
Ребман пожал плечами:
– Одним этим словом ничего не выразить. Если бы мне пришлось описать, какой она была в действительности, мне бы пришлось изобрести новый язык, несмотря на богатство русской речи.
Плутовка смеется, чуя добычу:
– Очередной трофей из вашей охотничьей коллекции?
Но Ребман отвечает очень серьезно:
– По сравнению с Шейлой Макэлрой, все остальное было детской забавой.
Он тут же в нескольких словах описал, как все было. И это снова вышло как бы против его воли. Было похоже на то, что эта девушка вытягивала из него самые сокровенные тайны души, те вещи, которые он не решился бы доверить даже госпоже пасторше. Когда он подошел к концу, к тому несостоявшемуся прощальному объяснению в Киеве, в Купеческом саду, Женя воскликнула:
– Но как же такое возможно! – и попыталась продолжить: – Послушайте…
Но Ребман ее прервал:
– Евгения Генриховна, если вы кому-нибудь хоть словом об этом обмолвитесь!..
– Знаете что? Расскажите-ка мне лучше не о женщинах, а о том вашем школьном друге.
– О каком еще друге?
– О негре или кто он там был. Дядя Карлуша как-то говорил, что это была интересная история о необыкновенном мальчике.
– Да, таким он и был. Он был неуязвим для змеиного яда и прочей отравы, ничто его не брало и не пугало.
– А где он теперь?
– Этого я не знаю, никогда больше ничего о нем слыхал. Он внезапно исчез, когда мы были на школьной экскурсии. Потом я получил от него единственное письмо, где он сообщал о том, что совсем обнищал и вынужден изображать паяца перед ломовыми извозчиками в заведении сомнительной репутации. Больше от него не было вестей. Иногда я гадаю, где он теперь и чем занимается. Между прочим, у меня здесь в Москве тоже есть друг, такой же чудак – я, видите ли, почему-то всегда оказываюсь в компании оригиналов. Этот, например, убежденный большевик. При этом он утверждает, что его цель – осчастливить все человечество! Как и у многих русских, у него не все дома.
– Отчего вы так решили?
– А оттого, что тут каждый воображает себя новым мессией, которого весь мир ждет не дождется. Вот и мой приятель такой же. А в остальном – он замечательный человек. Однажды сказал, что перед тем, как жениться, нужно прожить вместе один «испытательный год», тогда на земле было бы намного меньше несчастий.
– Я тоже придерживаюсь такого мнения, – к большому удивлению Ребмана отозвалась Женя, – необходимо как следует узнать друг друга со всех сторон, прежде чем…
– Заключать союз!
– Да, в каком-то смысле, можно и так сказать. Среди моих знакомых есть несколько подобных примеров. Однако вернемся к началу нашего романа, не станем торопить событий, мы ведь все еще на первой странице.
Тут как раз послышался призыв Карла Карловича: пора и честь знать, у хозяина дома завтра с утра много дел.
Ребман тут же поднялся:
– Да, пора идти, не то еще выставим себя в неприглядном свете, как небезызвестный Хахель из Шляйтхайма.
– А ну-ка расскажите, что это еще за «хахаль»! – раздалось со всех сторон.
– В другой раз, не то придется оставаться здесь до завтрашнего утра.
– Нет, очень кратко, чей хахаль?
– Не Хахаль, а Хахель, он же Хайнрих, по-русски, Генрих – тезка нашего хозяина.
– И что же натворил этот тезка?
– Ничего особенного, кроме того что всю зиму проводил на дворе, чтобы сэкономить на дровах, а потом до часу ночи грелся у соседей. Однажды сосед Самуэль ближе к полуночи не выдержал и закричал: «А ну, жена, раздевайся давай, чтобы этот Хахель наконец убрался домой!»
Прошло несколько дней, и как-то вечером Ребман по случаю дождя остался дома и против обыкновения не поехал в клуб. Внезапно раздался звонок – на проводе был Карл Карлович:
– Какие у вас планы на воскресенье?
– Я занят! – не раздумывая, ответил Ребман: на самом деле он собирался поехать посмотреть, чем занята Ольга, с которой не видался уже целых три дня.
– Подумайте.
– Занят, занят и еще раз занят!
– Жаль. Мы собрались в поместье к шурину. Там очень уютно, еды и питья вдоволь. Поезжайте же с нами! Сможете продолжить свой роман.
– Он и сам собою продолжится, дьявол уже посеял свой чертополох, – смеется Ребман. – Благодарю, что обо мне вспомнили.
– Что ж, значит, в другой раз. Кстати, о вас здесь вспоминают. Женечка, подойди!
И вот уже в трубке звучит Женин голос:
– Как поживаете, Петр Иваныч, как там наш роман?
– Я уже только что имел удовольствие доложить Карлу Карловичу о том, что сюжет ловко закручивается сам по себе: дьявол показывает коготки.
– Не желаете ли проверить на слушателях? Может быть, тогда все примет совсем другой оборот: например, дьявол будет посрамлен и низвержен?
– Нет, как правило, в таких случаях добрая фея не имеет власти над Люцифером, здесь он в своем праве. К великому моему сожалению.
– Но вы ведь еще к нам придете? Или вам здесь не понравилось? Может быть, я была слишком любопытна?
Ребман выдерживает паузу. В телефонном разговоре она получается еще более значительной, драматическое напряжение нарастает. Наконец он говорит:
– Собственно, это мне следовало бы спросить, не был ли я излишне болтлив. Наверняка вы так подумали. Но вообще-то я вовсе не таков.
– Тогда я тем более рада вашей откровенности. Надеюсь и впредь оставаться вашей наперсницей. Тут дядя Карлуша говорит, что вы не сможете быть у нас в субботу?
– Нет, у меня тренировка в клубе.
Кажется, кто-то в небесной канцелярии подслушал их разговор. И, назло Ребману, в субботу уже с утра над Москвой разверзлись все хляби небесные – полило, как из ведра.
Как же быть? В клубе в любую погоду обретается несколько преданных Воробьевке душ, можно потанцевать, поиграть в шахматы, послушать граммофон – скучать не придется! Наверняка будет Клавдия – она всегда там. А вот Ольга не придет. И все пойдет коту под хвост, ведь без Ольги эти забавы не стоят и выеденного яйца.
От скуки он долго сидит в «Лубянском кафе», иногда делая знак виолончелисту, чтобы тот для него что-нибудь сыграл. Этот виолончелист, при желании, мог бы стать одним из лучших исполнителей во всей России. Сам профессор консерватории называл Константина Ларионовича своей надеждой: «Уже давно не было у нас действительно великих виолончелистов, и вот появился наконец!» Но теперь он музицирует в кафе. Однако и здесь его гений проступает изо всех пор. Если он в ударе или если он кого-то особенно рад видеть, – но только тогда, – этот музыкант играет, как бог. Как только Ребман входит, виолончелист улыбается ему своим мягким, с размытыми чертами лицом и начинает исполнять свой любимый репертуар, чаще всего – из старых мастеров. Тогда в кафе становится так тихо, что слышен каждый вздох, в то время как обычно здесь не услышишь даже собственного голоса. Хозяин с Ребманом тоже подчеркнуто приветлив, ведь он смекнул, что виолончелист выкладывается только тогда, когда появляется этот молодой загорелый швейцарец.
Он сидит за своей простоквашей и стаканом чаю без сахара до одиннадцати часов. Затем провожает музыканта домой. Когда Ребман наконец возвращается к себе, уже начинает светать.
И снова вопрос, чем же заняться? Валяться в постели? Но он ведь не болен! Несколько раз на даче, когда стояла такая духота, что все были словно неживые, он уже пробовал подремать в гамаке под елью. Но когда просыпался, чувствовал себя словно с похмелья, его даже тошнило. Нет, спать днем – это не для него!
И читать ему не хочется. Хоть он и взялся снова читать Толстого, теперь уже в оригинале, когда съехал от пастора, нынче книга его совсем не занимает.
К Михаилу Ильичу? Он морщит нос, так как знает, что в подобном настроении всегда слишком легко раздражается. Да и в музыке особой потребности уже не испытывает: ведь всю ночь музицировал у Константина Ларионовича.
В театр? Для этого нужно было за три-четыре недели позаботиться о месте.
«Знаешь что, Петр Иваныч, – услышал он вдруг голос своего сердца, – сходи-ка ты в церковь, вот что тебе поможет!»
Ничего другого ему не приходило в голову, к тому же он с радостью снова повидал бы своих в пасторском доме, ведь уже целую вечность там не появлялся. Так что решил отправиться с визитом. Он надел воскресный костюм – кроме Макса Линдера, у него есть еще несколько будничных и воскресных костюмов, – сел в трамвай линии «А» и вышел из него в Трехсвятительском переулке, совсем как в былые времена. Он рад, что мучения с органом остались в прошлом и что он теперь может выступить в роли слушателя. Входит через портал (по воскресеньям всегда открыты оба крыла), подает руку седовласому кучеру и кивает церковному пономарю Василию. Затем поднимается на пустынные хоры. Нет, там все же не совсем пусто, новый органист сидит на своей скамеечке. Он зажег свет, боковые светильники, справа и слева, и лампу для педали под клавиатурой. И ему Ребман вежливо подал руку. Они знакомы давно, с тех самых пор, когда этот органист еще играл в методистской церкви:
– Сегодня французская или немецкая служба?
– Немецкая, ведь нынче Воскресенье молитвы и покаяния!
– Молитвы… Я уже совсем позабыл, что это такое. Ну и как, старая рухлядь еще звучит?
– Сейчас услышите сами, – отвечает органист.
И тут же раздается сигнал к началу службы, которого Ребман когда-то ожидал, словно сидя на электрическом стуле. Даже теперь его передернуло.
Органист, по совместительству бухгалтер в обществе грузовых перевозок, включил сразу все регистры. «Это по-гусарски – с места в карьер!» – подумал про себя Ребман. Как он сам издевался над органом и прихожанами, отставной органист уже успел позабыть.
Проповедь, как всегда, скучна: Павел Иванович наспех пишет их утром перед тем, как идти в церковь.
Внизу – тоже знакомая картина: десяток или полтора старушек и двое-трое мужчин, явившихся по случаю Национального Дня молитвы.
И все же Ребману хорошо, как дома, словно он сидит в родной кирхе в окружении добрых знакомых. А за окном…
Да, за окном! Он очнулся от своего прекрасного сна: из окна московской реформатской церкви не видать ни садов, ни виноградников, ни склонов с тысячами вишневых деревьев, ни альпийского парома, ни «серебристой палочки» – так он малышом называл овраг, потому что тот отсвечивал серебром в лучах вечернего солнца. Словом, из окна московской реформатской церкви не видно ничего, кроме черных стен и пустого двора.
Тут у Ребмана стало еще тяжелее на сердце: «Ах, если бы я мог прямо сейчас оказаться дома!»
После проповеди на хоры поднялся пастор:
– Наконец-то мы снова с вами увиделись, а то я уже начал было думать, что вы вернулись в Швейцарию!
– Я бы хотел, чтобы вы оказались правы, – ответил Ребман, – но теперь это уже невозможно.
– Почему же? Я сам, можно сказать, только что оттуда.
– Правда, неужели вы были в Швейцарии?
– Ну конечно. А вы разве не знали? Всего три недели как я вернулся… Вы ведь останетесь с нами пообедать?
Ребман как раз и рассчитывал, что его пригласят на обед и он сможет остаток дня провести «в кругу семьи». Но тут он почувствовал укор совести: по нынешним временам не годится так запросто садиться за чужой стол, тем более если у хозяев большая семья…
Пастор берет его под руку:
– Пойдемте же, у нас еще никому не доводилось голодать. Просто теперь каждый переедает немного меньше, питаясь от того избытка, что все еще на столе. От этого всем нам только прибавятся «лета живота», выражаясь по-церковнославянски. Решайтесь, Нина Федоровна очень расстроилась бы, узнав, что ее блудный сын был в церкви и даже не показался ей на глаза.
Ребман подал руку органисту, сделав комплимент его игре, и они отправились знакомым путем через класс для конфирмантов и «его комнату», которая теперь пустует, дальше в столовую.
Госпожа пасторша хоть и улыбается, но на этот раз уже как настоящая попадья:
– О, нынче у нас редкий гость! Как, простите, прикажете величать глубокоуважаемого господина?
– Негадай Обманович, – отозвался в том же тоне Ребман.
– Да, именно так и нужно было бы вас назвать, вы это имя вполне заслужили!
Ребман смеется:
– Если бы всем воздавалось по их заслугам, то некоторые сидели бы в остроге, а не в гостях!
Тут уже рассмеялась Нина Федоровна:
– Но вы, как-никак, «вор прощенный», так что просим к столу. Если бы вы появились у нас на полгода раньше, то застали бы, возможно, телячье жаркое из двенадцатилетнего бычка, но те прекрасные времена быльем поросли.
Еда, однако, хороша, лучше, чем в гостинице «Националь». Подавали воскресное жаркое с овощами и кисель в качестве десерта – все, как и прежде.
Ребман не отказал себе в удовольствии от души, по-свойски отобедать. О том, что он съел почти все из того, что хозяйка рассчитывала подать на ужин, он, конечно же, не подозревал и позволил дважды наполнить свою тарелку доверху.
– Ну, что скажете? – интересуется Павел Иванович.
– Но откуда у вас и мясо, и овощи и, вообще, все это изобилие? – вместо ответа спрашивает Ребман, обращаясь к Нине Федоровне.
– Мама каждое утро в пять часов ходит на черный рынок, чтобы раздобыть продуктов, – говорит младшая дочь.
А пастор замечает:
– Да-да, уважаемое семейство московского реформатского пастора стало постоянным клиентом черного рынка. Хотя лично я предпочел бы голодать вместе со всеми.
Госпожа пасторша ответила мужу той же улыбкой, с которой она незадолго до этого встретила своего «блудного сына»:
– А кто всегда первым выказывает недовольство, если еда вовремя не стоит на столе? Лучше уж помолчал бы. Голодать – это тебе не шутки!
Старший сын, студент, не отстает от матери:
– Plenus venter![36] Нашему папаше этого не понять, он успел поднакопить жирку, покуда гостил в Швейцарии!
– Ах да, вы ведь недавно из Швейцарии! Что там слышно, все ли девятьсот девяносто девять конфедератов живы и здоровы?
Пастор смеется, он понимает юмор:
– Если бы вы раньше появились у нас с визитом, то получили бы плитку шоколада.
– Шо?.. шо-ко-ла-ду? Это слово я когда-то слышал и, кажется, даже знал его значение. Не напомните ли, что это такое?
– Он привез целую коробку, – сообщила младшая дочь, – всех сортов, и сгущенное молоко, и всякие вкусности. Но шоколад достался не нам, он отправился прямиком в сиротский приют.
– Как и должно! – отозвался пастор.
– Ах, нет же, говорите серьезно, неужели в Швейцарии еще есть шоколад? И его можно свободно купить?
– Сколько угодно, или, вернее сказать, насколько позволяет ваш кошелек. Прилавки в магазинах заполнены снизу доверху. Там нет недостатка даже в тех вещах, о которых мы здесь и в лучшие времена знали только понаслышке.
– И одежда? И белье? И обувь?
– Сколько пожелаете.
– Но с обувью все же туго?
– Нет, и ее полно, такой же красивой и добротной, как до войны. Вот, поглядите-ка!
– Ну, а как в остальном?
– Как может быть в стране, познавшей войну только с хорошей стороны!
– Это как же?
– А как вы думали? Они ведь только в выигрыше. Наживаются, жиреют. Да еще и недовольны всем больше, чем когда бы то ни было: только и слышишь жалобы да нытье. Подумайте только: швейцарцы – несчастные жертвы мировой войны!
Это он произнес так громко, словно говорил проповедь с амвона и его слушал весь мир.
Госпожа пасторша живо переводит разговор на другую тему:
– Ну что вы скажете о моем воскресном жарком, Петр Иванович?
В ответ Ребман вопросительно поднял брови.
– Ну же?
– Сказать ли правду, даже рискуя показаться нахалом?
С этими словами он поглядел в сторону старшей дочери.
– Да говорите же, мы ведь уже поели! Или не догадались?
– Я не только догадался, но знаю точно: мясо, которое мы здесь с таким аппетитом поедали и которое мне показалось нынче вкуснее, чем самое сочное телячье жаркое в старые времена, – так вот, это мясо еще неделю назад было облечено в лошадиную шкуру, по которой хлестал кнутом ломовой извозчик.
Не успел он договорить, как старшая дочь выскочила из-за стола, зажав рот носовым платком, и выбежала вон из столовой.
– Вот видите, – заметил Ребман, – далеко не всегда хорошо говорить правду!
Они встали из-за стола, по русскому обычаю поблагодарили за угощение и прошли в салон.
– Вы знаете толк в драгоценных камнях, Петр Иваныч? – спросил его младший сын пастора.
– Настолько, что могу сказать, драгоценные они или нет. А почему вы спросили?
Юноша в форме гимназиста достал из бумажника нечто, завернутое в шелковую бумагу, и протянул Ребману:
– Что вы об этом скажете?
Все молча сидят, вытянув шеи. Ребман знал, что младший сын пастора был доверенным посыльным у председательствовавшей в Красном Кресте дамы из высшего общества. «Неужели и они уже дошли до того, что вынуждены…» – подумал гость, когда взял в руки сверток.
Он аккуратно развернул многослойную бумагу, посмотрел и не смог удержаться от смеха.
Молодой человек – ему было восемнадцать, и он еще учился в гимназии – спросил:
– Какова их ценность?
Ребман ответил решительно, хотя и несколько зло:
– Достаточная. Стоит того, чтобы развернуть.
– Нет, скажите серьезно: какова их ценность?
– Вы желаете знать точную стоимость?
– Приблизительную, с округлением до сотен рублей. Говорите же! Только честно.
– Ну, хорошо, будь по-вашему. Придется мне еще раз сказать правду. Будем надеяться, что она не подействует так же, как мое заявление за столом. Они не стоят даже того, чтобы на них смотреть. Это уральские самоцветы, которых полно во всех магазинах. Пожалуй, это единственное, что еще не поднялось в цене: за сто рублей получите такого добра целый короб.
– Глупости! – возмутился гимназист.
А госпожа пасторша взволнованно спросила:
– Вы говорите всерьез или шутите над ним?
– Я совершенно серьезен. Наведите справки, если мне не верите, только в большом магазине, а не в лавке, где торгуют бижутерией! Или попробуйте на стекле: таким камнем, если он настоящий, можно легко разрезать толстую витрину. Желаете попробовать?
Когда он увидел, как они удручены его вердиктом, Ребман поинтересовался:
– Надеюсь, вы не совершили никакой глупости?
Нина Федоровна вздохнула:
– Вам остается только надеяться. – Она сделала знак Ребману и гимназисту и провела их в свою комнату. Плотно прикрыла за собой все двери. И строго спросила:
– Петр Иваныч, правда ли то, что эти камни ненастоящие?
Ребман немного помедлил:
– Они-то, может быть, и настоящие, но только «настоящие уральские». Это ясно даже ребенку.
– Выходит, мы хуже детей, – бросила Нина Федоровна в полном отчаянии.
– Но… Но вы же могли… Я просто отказываюсь в это верить!
– Уж поверьте! Мы их купили.
– Но, надеюсь, не слишком дорого?
– Кажется, слишком.
– Но скажите, ради всего святого, как это могло случиться?
– Как случается, когда не знаешь, где взять денег, чтобы хоть бы раз в неделю досыта поесть! Думаете, что я могу обойтись месячным заработком Павла Ивановича? Да его мне и на неделю не хватает!
– Да, но как к вам попали эти камни? Кто это вас так подкузьмил? Скажите точно: сколько вы за них выложили?
Нина Федоровна назвала невероятно высокую сумму, намного выше полной стоимости всего ребмановского табачного склада. Боже мой, она отдала за эти булыжники все свои личные сбережения!
Он только и смог сказать:
– Теперь я на Москве уже не единственный Болван Дуракович, – он так и не забыл Лене этого обидного прозвища. – Простите эту невольную колкость, на самом деле мне не до шуток, поверьте. Но скажите: сделки уже нельзя отменить? Деньги уже заплачены?
– Сам расскажи, как все было, – обратилась Нина Федоровна к своему отпрыску.
И тут Ребман услышал одну из тех разбойничьих историй, которые, казалось бы, в наше время случаются уже только на Диком Западе:
– На прошлой неделе, – начал свой рассказ гимназист, – после обеда, в свое свободное время, я, как всегда, отправился по поручениям Красного Креста. На Страстном Бульваре я увидел двух типов, которых в последнее время часто можно встретить на каждом углу, о чем-то спорящих с приличным господином. Я подошел послушать и убедиться, что ему не нужна помощь, – мало ли что! Тут все и произошло. Приличный господин – они его называли князем – вроде бы продал одному из этих двоих свои золотые часы за пятьдесят рублей. Когда они сговорились, и покупатель уже протягивал продавцу деньги, к ним подошел третий со словами: «Постойте, за эти часы я, не торгуясь, дам вам сто рублей: за такую вещь и пятьсот отдать – это почти даром». Тогда первый накинулся на «князя» за то, что тот уже не хотел уступать часов по прежней цене: «Вы мне их уже продали, вот этот господин свидетель! Либо вы отдаете часы, либо я вас перед всеми людьми выставлю на позор как лгуна и мошенника!» Нужно сказать, что к этому времени вокруг них уже собралась целая толпа любопытствующих. И, конечно же, «князь», во избежание скандала, вынужден был отдать часы. Они ушли за пятьдесят рублей! Я это видел своими собственными глазами.
Когда незадачливый продавец стал уходить, я отправился следом и решился с ним заговорить: «Однако обидно получилось с такими прекрасными часами… Если найдется еще что-нибудь на продажу…» И тут «князь» сразу сказал, что у него есть что предложить: «Вы ведь знаете, каково теперь наше положение! Вас интересуют драгоценные камни или, может быть, вы знаете кого-то, кому они нужны…» – «Камни у вас с собой?» – «Нет, что вы! Я бы не стал рисковать и носить с собой такие ценности, ведь речь идет об очень редких вещах, о старинных семейных реликвиях. Но позвольте вам предложить зайти ко мне в гостиницу. Я оставил их там на хранение. Ведь сам я не москвич, мы живем в нашем имении в провинции. Слава Богу, там мы еще не умираем с голоду! Но деньги все же необходимы… Вы ведь меня понимаете? Кажется, вы из хорошей семьи».
Тут нужно заметить, что младший сын пастора с Трехсвятительского значился в справочнике с указанием баронского титула.
«Да, я тоже благородных кровей! – ответил я ему и не солгал. – «Хорошо, тогда пойдемте! В конце концов, мне не совсем безразлично, в какие руки попадут вещи, принадлежавшие еще моим дедушке и бабушке…» Итак, мы взяли извозчика, даже лихача – разумеется, платил «князь». А в номере гостиницы – очень захудалой, о существовании которой я даже и подозревал, – он показал мне оба камня. И еще извинился, что вынужден был остановиться в столь неприглядном месте, но так, мол, меньше попадаешься на глаза.
– И вы, конечно, так сразу и поверили, что он князь!
– Да, я ему поверил.
– На каком основании, по внешнему виду и одежде?
– Нет, выглядел он скорее весьма затрапезно. Но как раз это меня и соблазнило. И его речь. Я бы головой поручился, что это был представитель высшей аристократии…
– Голова с плеч! Ну, рассказывайте дальше.
– Он сказал, что эти камни император Александр Первый лично преподнес его прабабушке по случаю ее бракосочетания и…
– И так далее и тому подобное! Понятно. Павел Иванович об этом знает?
– Да что вы… – отозвалась мать семейства, которая словно рассудка лишилась. – Как можно!
Тут в дверь постучали, и послышался голос старшей дочери, которая, судя по всему, уже пришла в себя:
– Скоро вы там со своими делами закончите? Идите же к нам, мы собрались в кино. Мама, ты ведь обещала. Сегодня дают последний акт «Черного ящика»!
– Пойдемте, – говорит Нина Федоровна, – хуже уже не будет. И вы тоже отправляйтесь с нами, Петр Иваныч. А потом останетесь у нас ужинать, и мы снова будем все вместе, как в старые добрые времена.
– Что ж, с удовольствием, – ответил Ребман, – но только в кино. На ужин я не могу остаться, у меня еще…
– Да ничего у вас нет! – привычно решительным тоном, вполне оправившись, заявила пасторша. – Вы ужинаете с нами! Все рестораны и трактиры сегодня закрыты, не ложиться же спать на голодный желудок.
– Почему закрыты? С каких это пор русские празднуют наш швейцарский День молитвы?
– Они не его празднуют. Нынче он совпал с русским праздником. Идемте же!
И они пошли все вместе, только без старшего сына, который с семьей никуда не ходит, разве что в театр, когда им кто-нибудь уступает свою ложу. Они идут в «Колизей» на Чистые Пруды смотреть последний акт «Черного ящика». Наконец-то они узнают, что в нем было сокрыто!
«Черный ящик» – одна из тех новомодных страшилок, которые делают с продолжением, чтобы состричь побольше денег с глупой, легковерной овечки-публики. К ней Нина Федоровна, конечно, не относится: только ради детей пасторша терпит подобное зрелище.
Ребман вообще не видел новой фильмы[37], он и в кино-то не был с тех пор, как «ушел из дому»:
– Сколько же частей у этой фильмы?
– Девять! – выпалила младшая дочка.
– Чепуха, вовсе не девять, – поправил «бриллиантовый мальчик», – а десять. Ты одну часть пропустила.
Этот светловолосый юноша с голубыми глазами просто бредит синематографом, он знает все фильмы, имена всех звезд, особенно тех, что носят юбки. Все стены в его комнате обклеены портретами Франчески Бертини и других великих актрис, которые заставляют сердца мужчин биться чаще, а женщин от ревности и зависти лишают сна и покоя.
Простояв около получаса в очереди в кассу, они наконец вошли в залу.
«Черный ящик» и в самом деле не стоил того, чтобы его смотреть, и Ребман довольно громко сообщил об этом Нине Федоровне, которая сидела с ним рядом.
Но младший сын тут же поставил его на место:
– Вы просто не видели ни одной из предыдущих частей, а то бы не позволили себе так отзываться об этом произведении киноискусства. Или, может быть, драмы Шекспира кажутся вам более интересными?
– Не то чтобы более «интересными», но…
– Господа, пожалуйста, тише… – послышалось сзади.
И вот Ребману пришлось снова молча смотреть на экран, где восторженно рукоплещущей публике как раз открылось, что внутри знаменитого черного ящика не было ничего, кроме воздуха.
– Ну вот, теперь мы знаем ответ, и тем самым поднялись еще на одну ступеньку по лестнице, ведущей к вершине жизненной премудрости, – подытожил Ребман, когда они вышли из кинотеатра.
А госпожа пасторша в ответ заметила:
– Но мы смогли хоть на час позабыть обо всем, что нас так терзало, а это уже многого стоит, особенно в сложившемся положении. Мне бы хотелось, чтобы и наша проблема разрешилась, и все окончилось так же безболезненно, как и в этой фильме. Сколько же нужно пережить, пока окончательно не повзрослеешь!
На ужин доедали холодные остатки обеда, даже не подогрев их. Лена подкреплялась напитком из какао под названием «Овомалтин», привезенным отцом из Швейцарии.
Ребман хотел сразу отправиться домой, так как знал, что съест у этих добрых людей то, чего им будет завтра недоставать. Но Нина Федоровна не позволила ему уйти:
– Вы наш большой должник, потому что так долго здесь не показывались, теперь пришло время хотя бы частично расплатиться, – заявила она.
И пришлось остаться на ужин.
Около девяти вечера, когда они уже пили чай, появился и господин пастор. Он только теперь завершил свой воскресный обход «малого стада», если воспользоваться семинарской терминологией, и привел с собой еще одного гостя, маленького застенчивого человечка, сидевшего за столом с таким видом, словно он нес покаяние за то, что появился на свет.
– Это мой коллега, он беженец из Либавы, – представил незнакомца Павел Иванович, прежде чем предложил гостю сесть. Тот принес свои извинения госпоже пасторше за столь поздний визит.
– Тут нечего извиняться, мы все еще живем в России и по воскресениям у нас всегда гости, только вот сегодня случайно никого нет, – приветливо ответила Нина Федоровна. Затем она распорядилась, чтобы прислуга принесла еще один прибор. «Меня она все еще считает членом семьи, – подумал Ребман, – и я обязан ей как второй матери!»
И тут приезжий, словно прочитав его мысли, спросил Ребмана, не старший ли он сын хозяев?
– В каком-то смысле, – улыбнулась пасторша, – хотя у него до меня уже была мать, и наверняка лучше во всех отношениях.
– Это неправда, Нина Федоровна, – возразил ей Ребман, – вы были мне настоящей матерью, это я могу сказать с полной уверенностью, нисколько не причиняя обиды своей родной матушке.
– Он швейцарец. Бывший! – добавил Павел Иванович.
– Почему бывший? Он что, принял русское подданство?
– Нет, но с тех пор, как оказался здесь в Москве, не находит больше ничего хорошего на своей старой родине, для него теперь существует одна только матушка-Россия. Но погодите, у вас еще откроются глаза! Теперь мы переживаем затишье перед страшной бурей, большая заваруха может начаться в любой момент, и тогда я хотел бы, чтобы, по крайней мере, моя семья оказалась за границей!
Он снова сел на своего конька – заговорил о политике.
– Разве вы не знаете, что происходит на самом деле? – обратился он к Ребману. – У вас что, ни глаз нет, ни ушей? Разве вы не слышали, что Ленин со своим штабом уже в Петербурге – он все еще говорит «Петербург», хотя столица вот уже год как называется «Петроград», и тот, кто по забывчивости назовет город по-старому, рискует получить на орехи. – Он уже прибыл в Петербург, вы этого разве не слыхали?!
Ребман снисходительно улыбается:
– Павлу Ивановичу снова мерещатся привидения. Но даже если бы все было так, как он говорит, и наступила бы «великая чистка», что мне до нее? Меня не занимают политические вопросы; те, кому это доставляет удовольствие, пусть хоть сожрут друг друга со всеми потрохами, рогами и копытами, это их дележка.
Но пасторские лошади уже понесли, и теперь их и тридцать молодцов не остановят. Своим громким голосом – громким то ли потому, что он плохо слышит, то ли потому, что привык вещать с амвона, – он уже кричит через весь стол:
– Вы просто инфантильны! Вы сможете когда-нибудь в будущем сказать о себе, что пережили одну из величайших исторических эпох в качестве слепого пассажира, проехали мимо, только и всего. Неужели вы думаете, что то, что теперь происходит, касается одной России? Это касается всех, эти волны сметут все привычное для нас общественное устройство! Возможно, не за один заход. Но ведь и во время шторма приходит не одна волна – они идут вал за валом. И кто тогда поднимет руку и скажет: «Стой! Это наша граница, сюда нельзя!» Девятый вал сметет на своем пути все, не спрашивая ни у кого разрешения!
Нина Федоровна смотрит полным отчаяния взглядом куда-то сквозь гостя. По известным причинам она до смерти боится, когда муж начинает ораторствовать на политические темы. И когда на вопрос о том, налить ли еще чаю, она получает отрицательный ответ, пасторша встает из-за стола. Это служит сигналом и для остальных.
– А теперь вас всех ждет небольшой сюрприз, – говорит Павел Иванович. – Мой коллега – еще и музыкант, за роялем он чувствует себя даже увереннее, чем за кафедрой.
– Это правда, – улыбается тот в ответ, – за кафедрой меня и не видно, не то что слышно.
И он продолжает, как будто обращаясь к самому себе:
– Рядом с таким пророком, как Павел Иванович, я просто букашка.
Все рассаживаются, каждый занимает привычный уголок, а маленький человечек садится за рояль. Он и впрямь совершенно не виден за пюпитром.
– Сейчас он нам задаст музыки! – тихонько заметил Ребман сидевшей около него Лене.
Она смеется и согласно кивает в ответ.
У всех остальных тоже принужденные улыбки на лицах. Такие бывают у людей в тех случаях, когда приходится ждать чего-то, что заранее обречено на провал.
– Вы любите Шопена? – послышался из-за рояля тихий голос.
– Можно и что-нибудь попроще! – быстро нашлась Нина Федоровна.
А Ребман, словно спеша предотвратить несчастье, добавил из своего угла:
– Мы охотно послушаем все, что угодно, только не этого скучного Баха!
Пастор из Либавы снова улыбается:
– Вы правы, что не хотите слушать его в моем исполнении, это прозвучало бы действительно скучно.
Затем он встал, опустил сидение как можно ниже. Потер руки, словно они у него замерзли…
А через несколько мгновений все уже забыли о том, что они сидели в салоне пасторского дома в Трехсвятительском переулке, и о том, что за роялем Николая Рубинштейна сидел человечек, столь незаметный за столом. У них было такое чувство, что на опущенном до предела сидении, почти невидимый за нотным пультом, сидел не кто иной, как сам Фредерик Шопен.
До сих пор Ребман был не очень высокого мнения о его музыке, она была для него слишком мягкой, болезненной, слишком «славянской». Но тут и с ним вдруг произошло то же чудо, которое завораживает миллионы и миллионы людей и которое можно выразить лишь одним словом: Шопен! И вновь он убеждается в том, что никогда нельзя судить о человеке по его внешности, можно легко попасть впросак. Так уже было при знакомстве с его другом Арнольдом, когда тот спросил разрешения попробовать поиграть на органе. Ребман и тогда ухмыльнулся про себя: дескать, сейчас начнется кошачий концерт…
– Почему вы не стали музыкантом? – спросила «человечка» Нина Федоровна, когда он все так же задумчиво поднялся со стульчика. Тот только махнул рукой:
– Если бы дети выбирали себе родителей, из меня, наверное, мог бы получиться музыкант. Я – одна из жертв тех законных отцов, которые с большим удовольствием видят своих детей возносящимися в небо, чем идущими под венец. «Ты продолжишь династию, будешь как я, как твой дед и прадед! А если это тебе не подходит, можешь убираться из дому!» Если бы мне только хватило решимости… Впрочем, не стоит об этом говорить… И вот теперь я ничто – и как пастор, и, еще в большей степени, как музыкант. Так, немного побарабанить по клавишам – Шопен бы в гробу перевернулся, если бы это услышал. Нет-нет, это не ложная скромность, я могу так утверждать, потому что знаю, что не способен. Но люди почему-то думают иначе…
Глава 14
На следующий день после обеда Ребман поехал к Карлу Карловичу. Тот заранее сообщил, что его ждут к чаю.
Когда он подходил к дому, то заметил новые ворота в сад: дубовые доски, окованные железом.
И Женя тоже здесь!
Но самое любопытное: к стене в гостиной приставлена толстая широкая доска, около метра высотой, с закрепленным на ней большим куском листового железа.
– Вы что, играете в индейцев? – смеется Ребман. – Меня примете?
– Играйте у себя на Лубянке, – ответил Карл Карлович. – Отряд домовой самообороны имеется?
– Да, имеется. На прошлой неделе были первые учения… А ваш брат отменный стрелок!
– Сколько вас?
– Тридцать, из каждой квартиры по одному!
– А оружие, снаряжение?
– Все на месте. С завтрашнего дня начинаем ночные дежурства, – он смеется. – Вот уж не думал, что фузильер Ребман снова станет «солдатом», да еще и в России!
– Бравые здесь солдаты! Они все разбегутся, когда дойдет до настоящего дела, даже незаряженный револьвер боятся в руки взять.
– А кто будет в случае нападения оборонять ваши двор и дом?
– А вот кто! – Карл Карлович достал из письменного стола «кольт» девятого калибра. Я как раз собираюсь проверить его в деле.
Как только он это сказал, вбежала хозяйка:
– Карлуша, только не начинай снова! Ведь грохот такой, что оглохнуть можно. И в стенах дыры! Прекрати немедленно эти свои глупости!
– Глупости? Через месяц ты уже не станешь так говорить, вы все будете рады, что в доме есть хоть кто-нибудь владеющий оружием. Закрой дверь!
Он снял «кольт» с предохранителя, оттянул затвор, который щелкнул, как только что смазанный дверной замок. Потом прицелился: бах! – словно пушечный выстрел грянул в закрытой гостиной. Ребману сразу заложило уши. Пуля прошла сквозь двойную доску, будто это был сливовый мусс, образовав дыру, в которую вполне пройдет палец.
– Вот это работа!
– То-то же! Пойдемте, я покажу вам свои оборонительные укрепления.
Они вышли из дома. Он стоит посреди прекрасного большого сада, окруженного стеной, как во всех частных владениях.
– Вот, смотрите! О-го-го! – вдруг прокричал комендант крепости.
Тут, и правда, настоящая крепость: капканы, укрытия, колючая проволока, все так заделано и замаскировано, что и не заметишь, если тебе не укажут: «колючка» проложена в траве и прибита гвоздями к колышкам, которые выкрашены в серый цвет.
– Здесь и мышь не проскочит без разрешения Карла Карловича! – говорит комендант. – Но самое главное еще впереди. Пойдемте!
Они с Ребманом спустились в погреб. И у гостя даже глаза разбежались: настоящий каземат. Листы с мишенями. Мешки с песком. Потолок подпирают балки. По стенам – кровати. И в прачечной – запасы продуктов на целую неделю для всего семейства.
– Вот как действует настоящий хозяин! Я не жду, пока грянет гром, чтобы перекреститься, я вам не русский!
И тут он не солгал, Карл Карлович, разумеется, не русский, хоть и появился на свет в России, вырос здесь и даже перешел в православную веру. Это заметно уже по его симпатиям и антипатиям. Он признает все только немецкое, все остальное для него и гроша ломаного не стоит. Все союзники – ничтожества в кубе. Французы – ленивые дегенераты, которые только покуривают и разводят демагогию, испытывая терпение Божье. Бельгийцы такие же, если не хуже, они даже не нация – так, дворняжки. Итальянцы вообще не в счет. Американцы…
Тут он презрительно смеется:
– Нация разбойников. Теперь, когда война уже скоро кончится и начнется дележ добычи, они быстро подоспеют. Это же вовсе не народ – отбросы, мусор один. Все, чему не место в доме, все, что вымазано дерьмом, – шлюхи, прелюбодеи, мошенники, – все это всплывает там. И из этих отбросов они хотят сделать войско! Разрази меня гром! У них же нет никаких традиций, военной истории нет и в помине. Как же они думают создать боеспособную армию? Разве что банду гангстеров. Но пока соберутся, потонут в море, немецкие подводные лодки не станут с ними долго церемониться. Они уже на следующий день будут швартоваться в якобы заминированном нью-йоркском порту. Одно притворство, отговорки и помпа! А англичане? Как только кто-то оказывается прилежнее и способнее их и начинает претендовать на свое место под солнцем, у них всегда один ответ: «Прикончим его! Стереть с лица земли!»
И такие монологи могут длиться часами, это Ребману уже не впервой.
Он слушает только из вежливости. Все его симпатии, конечно, на стороне России, он страстно всем сердцем желает, чтобы русские с союзниками выиграли войну. Убери политику, и окажется, что Карл Карлович – самый замечательный человек в подлунном мире: щедрый и верный, никогда не бросит друзей в беде. Если как следует рассмотреть, то в глубине души он – настоящий русский.
Хозяйка зовет к чаю:
– Идите уже, герои!
Подобно всем людям их круга, они обсуждают все происходящее: политическую активность масс, ежедневные демонстрации и контрдемонстрации, слухи о второй революции, которую тайно готовят большевики, и тому подобные темы. Во всем этом они видят радостное ускорение процесса мировой истории – так сказать, для некоторого разнообразия. Это продлится только до тех пор, пока война не закончится, – потом снова можно будет ездить в Крым и на Кавказ, в Финляндию или за границу. И опять явится царь – более деятельный, конечно, – и жизнь снова станет солнечной и теплой, как раньше.
– Хорошо ли вы провели воскресенье? – спросила Женя у Ребмана, когда они сели за стол.
Он пожимает плечами:
– И хорошо, и нехорошо. По крайней мере, погода могла бы быть и получше. И все остальное тоже.
– А как идут дела?
– Ничего, идут потихоньку… Ну как там в деревне? Вы справились с закланием жертвы?
– Да, было очень весело. Забили свинью! Жалко, что вы не смогли поехать с нами.
– А велико ли ваше имение? Я спрашиваю, потому что мне хочется сравнить с тем, где я бывал несколько лет назад.
– Нет, оно не такое большое, это всего лишь крестьянская усадьба, но в прекрасном состоянии, управляющий – немец! Он ее обустроил как нельзя лучше. Наше семья может жить без забот, мы даже готовы принять пополнение в семействе – я имею в виду будущих зятьев, – ответил вместо Жени Карл Карлович.
Затем он добавил:
– Но самое главное – это фабрика. Вы должны непременно съездить ее осмотреть. Первоклассное предприятие, даже по нынешним временам. И кто знает, может, придется…
– Дядя Карлуша! – ставит его на место Женя.
– Извини, дорогая, я не то имел в виду. Хотя почему бы и нет? Все может статься, не нынче, так завтра!
Когда возвращались из гостей, Ребману пришлось проводить Женю до самого дома. Они снова засиделись допоздна, вернее, почти до рассвета.
– Теперь вам придется идти пешком, трамваи еще не ходят.
– Это ничего, я уже привык.
– Вы не боитесь?
– Боюсь? Кого, чего? Я ведь уже не мальчишка. Тогда я боялся, что кто-то заберется ко мне под кровать. Но это в прошлом.
И он не солгал. Словно ночной странник, идет он по полутемному, опасному городу, но даже и мысли не допускает, что с ним может что-то случиться.
Ничего и не случилось. По крайней мере, в тот вечер.
Вскоре в доме на Малой Лубянке и в других домах, и вправду, начались ночные дежурства по охране порядка. Вокруг только и говорят о том, что большевики готовят переворот, и он может начаться в любой момент; но москвичи вооружились как следует и готовы дать отпор!
Дежурства устроены в две смены: с девяти вечера до часу ночи и с часу ночи до пяти утра. Приходится дежурить раз в две недели. Ребману выпал первый же вечер. Это совсем не требует большого напряжения и вовсе не опасно. Нужно просто сидеть за парадной дверью у телефонного столика с заряженным «кольтом», точно таким же, как у Карла Карловича, и проверять каждого, кто приходит в дом.
«Посторонних лиц, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, не пропускать! Если в дом желает войти лицо, в нем не проживающее, следует установить, к кому оно направляется с визитом, позвонить жильцу и, удостоверившись, что посетителя ожидают, предложить встретить его внизу у входа», – говорилось в инструкции.
– Можно ли сидеть на посту? А читать? – интересуется Ребман.
– Да, можете. Вам только нельзя засыпать на посту. Чтобы этого не случилось, вам выдадут чай с ромом. Двери держите все время запертыми на оба замка: защелкните и верхний, и нижний!
– До отказа защелкнуть?
– До отказа!
– А если кто-то из жильцов захочет войти?
– Должен постучать в окошко. Трижды. Вот так…
При слове «окошко» Ребман возразил:
– Хорошо, что вы напомнили. Что толку от охранника с заряженным пистолетом, если его могут увидеть снаружи и пристрелить, а он ничего и не заметит!
– Ну, – смеется охранник-еврей, – кое-что он, конечно, заметит, но будет уже поздно. А все же, Петр Иваныч прав, это окошко – опасная вещь.
– На нем ведь есть решетка, да еще и какая, – отозвался другой охранник. – К чему стрелять в охранника, ведь все равно не войдешь в дом!
– Зато у нас будет одним человеком меньше и, возможно, каждую ночь будут потери! Нет, окно нужно непременно забаррикадировать!
– Да, забаррикадировать! – в один голос закричали все тридцать дежурных – ведь никому не хочется оказаться на месте того, кто «узнает слишком поздно»…
И в тот же день окно заложили изнутри толстыми досками и прибили их гвоздями крест-накрест.
Ровно в девять вечера Ребман первым заступил на дежурство.
Дом, принадлежавший, как уже говорилось, «Российскому страховому обществу», представлял собою мощное четырехэтажное сооружение, похожее на замок со внутренним двором. Его ворота были заперты и днем, и ночью. К тому же их стерег дворник. Все окна в нижнем этаже были забраны решетками. Этот дом был настоящей крепостью, со стенами толщиною в вытянутую мужскую руку, даже в верхнем этаже. Можно было подумать, что его строители знали, что вскоре здесь будет неспокойно.
Ребман сидит на стуле, перед ним на телефонном столике лежит «кольт». Дежурный размышляет обо всем, что с ним произошло за эти несколько лет, с тех пор, как он покинул Ранденталь. Как в калейдоскопе, сменяются перед ним картины, кадры мелькают, словно в кинофильме.
Студентка в поезде во Львове. Царский полицейский на перроне в Волочиске с башкой, как медный таз, и ручищами, как весла. Мадам Проскурина, так похожая на его мать.
Девица Титания, сестра-близнец Голиафа из Волочиска. Мадам «Монмари».
Штеттлер! С этим именем в памяти тут же всплывает образ железной метлы, которая сметет и Николашку, и всю обломовщину, нужно только, чтобы снова началась война! И вот она теперь идет, эта война. И года не прошло со дня того пророчества в Киеве, а война уже пришла и смела и царя, и обломовщину тоже. Все, как и предвидел Штеттлер. Где же он теперь?
А Шейла Макэлрой? А Пьер Орлов, где теперь он?
В мыслях перед ним проходит целая череда событий, людей, переживаний. Он смотрит на мраморную стену так, словно видит сквозь нее такое недавнее и такое далекое прошлое.
Наконец, он видит и себя тогдашнего. И нынешнего – бывалого спекулянта, у которого нет других интересов, кроме денег, и нет другого Бога, кроме собственного чрева.
Ему вдруг показалось, что он слышит голос своего профессора по литературе, сказавшего об одном его сочинении: «Ребман, ты – самый непредсказуемый из всех людей, которых мне доводилось встречать. Из тебя либо выйдет нечто очень хорошее, либо не выйдет вообще ничего!»
Глава 15
Спустя несколько недель он снова сидит за чаем у Карла Карловича. Они обсуждают семейное торжество, которое состоится в ближайшее время: племянница со стороны жены выходит замуж.
– Но это ведь не Женя! – чуть не взорвался Ребман.
– Нет, пока еще не эта, а другая – Ляля. – Не хотите быть шафером у жениха?
– Я? А кто будет вести невесту?
– Женя.
«Понятно, – подумал Ребман, – это мышеловка!» Вслух же спросил:
– А почему именно я? Я ведь даже не знаком с врачующимися.
– Но Женя знает вас. А у нас в семье нет ни одного молодого человека, который мог бы выступить в этой роли.
– А у жениха что, тоже нет родственников?
– Жених – немецкий военнопленный, за которым Ляля ухаживала в госпитале.
– Вот это да! И что, у него есть средства к существованию?
– Да, но такого существования я бы вам не пожелал.
– Чем же он занимается?
– Сидит в дедушкином кресле.
– Надо же, Штольц стал Обломовым! Нужно было сразу от него избавиться! – презрительно отозвался Ребман.
– Нет, это кресло не для лентяев, а для калек. Он инвалид войны, остался без ног.
– И кто же о нем позаботится?
– Ляля, – ответил Карл Карлович таким тоном, как будто это самая обыкновенная вещь.
– И что же из этого выйдет? Она хорошо подумала, прежде чем согласиться?
– Женщина, у которой сердце на месте, в таких случаях не раздумывает, она просто действует, не рассчитывая на то, что ее будущее будет безоблачным и безмятежным. В противном случае она недостойна называться женщиной!
– И что, в вашей семье, все женщины таковы?
– Все! Мы ведь не русские!
– Вы полагаете, что русская женщина на такое не способна?
– Еще как способна, – горячо возразила Наталия Сергеевна. – Русские не только способны на самоотверженность, но и проявляют ее!
Карл Карлович невольно рассмеялся:
– Вот, теперь вы сами слышали. Моя жена – страстная патриотка. Это единственный пункт, по которому у нас возникают трения и в котором…
– …добродушная и терпеливая Наташа никогда не уступит! – снова вмешалась хозяйка, на сей раз еще тверже. – Моя родина – Россия, я чувствую ее всей кожей, с нею и скорблю, и праздную. Это не пустая мечта, не фата-моргана, как у Карла Карловича. Тебя бы на два-три годика отправить к твоим хваленым немцам – сразу отрезвился бы! А так он видит в них только хорошее и красивое. Дескать, они единственные прямоходящие на этой земле. Всем остальным, особенно русским, остается ползать на четвереньках!.. Ах, Карлуша, надеюсь, что нам не доведется дожить до того дня, когда твои любимые германцы приблизятся к нам на опасное расстояние!
Даже после такой проповеди в защиту русских Карл Карлович не обескуражен:
– Ну так как, – принимаете почетное предложение – стать шафером на свадьбе?
Ребману эта роль не совсем по душе: он с удовольствием занял бы место в зрительной зале, а тут приходится выходить на авансцену. Поэтому он ответил:
– Я не могу на это решиться, ведь я совсем не знаю местных обычаев и стану давать один промах за другим. Поп наверняка не одобрит такого кандидата. Позвольте мне еще поразмыслить над вашим предложением.
Глава 16
Жизнь продолжается. Все едят и пьют. Ходят в театры и концерты, которые все еще дают повсюду. Даже играют свадьбы. Ляля выходит замуж посреди всей этой кутерьмы. И свадьбу играют с таким размахом, как будто нет ни голода, ни революции.
Ребман в конце концов уступил просьбам родных и согласился быть шафером, но предупредил, что если что-то пойдет не так, пусть его не винят.
Празднество, за исключением таинства венчания, ничем не отличалось от свадеб во всем мире: ничего, кроме застолья, еды и питья. Целые сутки только и делали, что наново сервировали столы. Семье из десяти человек этой снеди хватило бы на год.
Собственно говоря, из-за этого Ребман и пришел на свадьбу. Литургия, которая отправлялась в доме невесты, то есть по русскому православному обычаю, его вовсе не занимала, из всей «литии» он не разобрал ни слова, ведь служба отправлялась на церковно-славянском. Но тяжесть «золотой» короны-венца, которую ему битый час пришлось продержать над головой невесты в качестве символа победы над страстями, он прочувствовал весьма явственно. Тем более заслуженным показался ему последовавший за этим длительный отдых.
Когда они уже и выпили, и закусили довольно, с противоположного конца стола послышался громкий голос:
– Горько!
На это все собрание ответило дружным хором:
– Гооооо-рь-коооо!
Это означает, что молодые должны встать и поцеловаться на глазах у гостей.
Жених, молодой инвалид в кресле, смотрит вверх, а невеста склоняется над ним для поцелуя…
– Кто он, собственно, такой, есть ли у него профессия? – шепотом спросил Ребман у Карла Карловича, сидевшего с ним рядом.
– Конечно, есть, какой же немец не имеет профессии! Он – механик. Ремонтирует швейные машинки и часы во всей округе. В задней части дома оборудовали мастерскую. Он сумеет прокормить семью, будьте покойны.
Ребман смотрит на молодого: тот был бы очень красивым мужчиной, если бы не увечье. Хотя он и теперь совсем не плох, но иногда тень грусти все же мелькает на его лице, омрачая даже этот счастливый день.
Молодая, Ляля, которую Ребман впервые увидел только нынче утром, вовсе не такая пышка, как описывала Наталья Сергеевна: она просто дородная статная девица и производит очень приятное впечатление. Лучшей жениху было бы и не сыскать, даже если бы он не был калекой.
Около трех часов пополудни, когда завершилось очередное действие кулинарного представления – на этот раз это был куриный суп с лапшой – Ребман встал из-за стола:
– Мне необходимо выйти на свежий воздух, иначе я долго не выдержу!
Но Карл Карлович удержал его за рукав:
– Нет-нет, нельзя уходить из-за стола! Праздник ведь только начался. Что же вы скажете в три часа ночи?
– Тогда я уже ничего не смогу сказать, буду только громко храпеть. К таким долгим возлияниям и застольям я ведь вовсе непривычен.
Тогда Карл Карлович его отпустил:
– Ну что ж, идите. Но ненадолго. А то еще домой убежите, с вас станется! До завтрашнего вечера мы никого не отпустим!
Ребман надел пальто и шляпу и вышел. Неподалеку жил его знакомый, знаменитый скрипач, профессор, – их познакомил Михаил Ильич. Ребман уже несколько раз заходил к нему в гости. И теперь опять решил заглянуть: нельзя ли, мол, немного посидеть и отдохнуть – очень уж он утомился.
Профессор, в домашней куртке и тапочках, сам отворил ему дверь:
– А, Петр Иваныч, заходите! У вас такой вид, словно вы возвратились из «Яра»!
– Не совсем, я к вам прямо из-за свадебного стола, – ответил Ребман.
– Вчерашнего?
– Нет, сегодняшнего.
– И уже сбежали?
– Пришлось, иначе я бы не выдержал. У вас найдется часок времени?
– Да, я как раз закончил. Проходите!
Он проводил гостя в музыкальную комнату, в которой стоял рояль «Бехштейн». Ученик профессора как раз собирался уходить. Профессор напутствовал на дорогу его, говоря, что никогда нельзя терять мужества, что и с ним самим тоже случались неудачи. Как-то раз ему пришлось в Петербурге играть экзамен перед самим Ауэром, – так он даже девятилетним мальчиком играл лучше, чем в то утро.
Ребман спросил, можно ли ему «подержать ее в руках», указав на скрипку, которая лежала на рояле.
– Конечно-конечно, вы ведь знаток. Любопытно узнать, что вы о ней скажете.
Профессорскую скрипку Ребман видел впервые. Если бы его спросили прежде, он бы только покачал головой, сказав, что она, наверняка, не представляет большой ценности. Но теперь Ребман берет инструмент осторожно, как новорожденного младенца, рассматривает его со всех сторон – он действительно кое-чему научился с тех пор, как вращается в кругу московских любителей музыки, и изучил труд Анатоля Леме «О старых и новых скрипках». Он вертит инструмент в руках. Разглядывает вблизи и на расстоянии вытянутой руки. Это, действительно, прекрасный экземпляр, даже он, не будучи знатоком, должен признать, что у него в руках первоклассное произведение скрипичного мастера: лак золотисто-коричневый, зеркально-прозрачный, возраст дерева легко угадывается, как будто просматривается сквозь годовые слои. И сам инструмент – большая модель, созданная мастером в пору его творческого расцвета: красота во всем, в мельчайших деталях, эфы и завиток – просто с ума сойти. Ребман стал перебирать струны, словно хотел посмотреть, хорошо ли они настроены, и только головой покачал: гудят, точно орган! Но внутрь он не заглядывает – так делают только те, для кого этикетка – как правило, фальшивая – важнее, чем качество самого инструмента.
– Что скажете? – поинтересовался профессор после того, как гость довольно долго рассматривал инструмент.
Ребман попросил его сначала сыграть несколько звуков.
– Ишь ты какой! – смеется профессор, – вы даже очень хитры! Но вы правы, все зависит от звука, а не от внешнего вида. Поэтому я ее и купил, несмотря на то, что Ауэр мне не советовал, дескать, она… но об этом поговорим после.
Он берет скрипку и начинает играть. Он играет великолепно. Затем снова кладет инструмент на рояль:
– Итак?
– А что сказал Ауэр?
– Сначала я хочу услышать, что скажете вы.
– Да ведь я не специалист.
– Как раз неспециалисты иногда лучше догадываются. Итак?
– По звуку это одна из них, вне всякого сомнения.
– Из чьих?
– Из Страдивари, конечно. Такого тембра другие скрипки не имеют. Разве что случайно. Но я не думаю, что в данном случае речь может идти о совпадении.
– Что еще?
– Я бы не стал выносить приговор, в таких вещах можно грубо ошибиться.
– Нет, говорите! Скрипка уже моя, так что вы меня не разочаруете, даже если…
– …скажу, что у нее ненастоящая дека?!
Профессор содрогнулся:
– Что вы такое говорите? Вы уже с кем-то обсуждали мою скрипку, может быть, Михаил Ильич…
– Да нет же, я никогда и ни с кем об этой скрипке не говорил, и вижу ее впервые. Простите мою откровенность, но вы сами настаивали.
– Но это именно то, что мне о ней говорит Ауэр…
– И Анатоль Леме. Ему я больше доверяю, в моих глазах он – авторитет.
– И что бы он сказал в данном случае, будь он еще жив?
– Можно еще раз взглянуть?
Профессор взял инструмент и протянул его Ребману:
– Итак, говорите все как есть!
– Но только, пожалуйста, не злитесь на меня. Я не хочу оценивать ваш инструмент, подвергать сомнению его ценность.
Он перевернул скрипку и держит ее против света.
– И что?
– Подойдите поближе. Видите, вот здесь?
Ребман указал на одно место на нижней деке, на котором облупился лак.
– Да, но такие изъяны есть на всех старых скрипках, и это даже считается признаком красоты инструмента.
– Я имею в виду не это, а потемнение древесины. Видите?
Профессор надевает очки и присматривается:
– Ну и что?
– Итак, Федор Андреевич, если вы мне позволите…
– Говорите спокойно! Правду, во всяком случае, я еще способен выслушать.
– Даже от подмастерья-недоучки?
– Даже от «недоучки», если это правда.
– Ну так вот… – Ребман стучит кончиком указательного пальца по месту потемнения на дереве. – Нижняя дека протравливалась!
– И что это означает?
– По мнению Анатоля Леме, старые мастера никогда не протравливали дерево перед тем, как покрывать лаком. Следовательно…
Вместо взрыва возмущения, которого ожидал Ребман, раздался смех:
– У нее ненастоящая нижняя дека!
– Да. Вы об этом знали?
– Конечно, знал. Когда это обнаружилось, я, естественно, не смеялся, а плакал. В этом была причина моего нервного срыва тогда в Париже, прямо во время концерта. Да-да, батенька, это был страшный момент. Зато теперь я хороший друг и учитель своим студентам. Вы должны знать, что из моих учеников еще ни один не провалился на экзаменах. А это кое-что значит. Если бы не тот случай, кто знает, я мог бы стать одной из тех несчастных «знаменитостей», которые не могут спокойно спать от страха, что не удержатся на своей высоте. И это было бы для меня намного большей трагедией, чем та, что со мной случилась. Дело обычное: сегодня вы прославляемы всем миром и богаты, завтра – бедны и всеми забыты. А мои ученики меня не забудут. Некоторые из них даже добились известности. Так что нет лиха без добра. Сейте разумное, доброе, вечное – глядишь, семечко и прорастет.
Он убрал скрипку. Посмотрел на гостя, переводя разговор на его персону:
– А чем вы занимаетесь? Вам Россия еще не надоела, со всей своей нынешней неразберихой?
Ребман в полном недоумении:
– Полноте! Разве Россия может надоесть?
– Что же вам так нравится во всем том, что здесь творится?
– Меня увлекает происходящее. Хотя в политике я ничего не смыслю…
– Благодарите Бога и радуйтесь!
– Я тоже так думаю, хотя наш друг Михаил Ильич и говорит, что грех не участвовать в «событиях мирового масштаба». Но каждый судит по себе. Даже в оценке таких событий важны происхождение, почва и корни. Этот поток увлекает даже тех, кто вовсе не желает быть творцом истории. Вот я и думаю: может, все было бы иначе, родись я русским или англичанином, или американцем, а не захолустным швейцаришкой. Но потом наступает редкая минута озарения, и тогда я ясно чувствую: «Где родился, там и пригодился».
Ребман вернулся на свадьбу около шести часов, успев еще и прогуляться. Из кухни доносился такой стук и грохот, как будто там готовили для полка изголодавшихся казаков. Но запах шаферу совсем не нравится:
– Баранина, – ворчит он, – чтоб ее…
– Только если плохо приготовить, – тут же отозвался Карл Карлович, который как раз вышел проветриться и услышал вздох Ребмана. – Ничего лучшего вы еще не пробовали: русская баранина, приготовленная с немецкой тщательностью!.. Где это вы пропадали так долго? Мы уж было подумали…
– …что пора вызывать полицию? Драка уже закончилась?
– Напротив, только начинается. Взгляните сами.
Он распахнул двери в залу:
– Это ли не поле брани!
За время отсутствия Ребмана на этом «фронте» особых изменений не произошло: продолжается планомерное уничтожение запасов продовольствия, да так, что дым коромыслом. Несколько гостей уже так набрались, что самое время выпустить пар.
Карл Карлович, как распорядитель пира, объявил:
– Давайте-ка, гости дорогие, поиграем в подвижные игры, а то сидеть целый день за столом вовсе не здорово. Вставайте и пожалуйте в салон!
И вот в музыку праздника влились свежие обертоны. Они играют в фанты. И в шараду. Всем заправляет батюшка, то есть священник, который тоже остался пировать. Ребман не устает удивляться тому, насколько остроумен и изобретателен этот человек, как он мил, умен и весел – совсем не похож на лицо духовного звания.
Потом все танцуют. За инструментом – тетя Соня.
В одиннадцать часов вечера распахнулись обе створки дверей в столовую: пожалуйте к столу!
У Ребмана даже в глазах помутилось: разве такое возможно по нынешним временам, при такой нужде и дороговизне? Огромный стол ломился под тяжестью множества яств. Все самое вкусное, чего, казалось, давно уже было нигде не достать, о существовании чего все давно уже успели позабыть, было здесь в изобилии. Икра! Рыба всех сортов и всех видов копчения! Нарезка на любой вкус! Кренделя! Целый магазин можно было бы заполнить этим товаром. Эти люди далеко не так бедны, как пытался изобразить Карл Карлович.
Повсюду гости едят стоя: каждый берет себе тарелку и вилку с отдельно стоящего посудного столика и начинает охоту за деликатесами.
А в буфете еще и огромный выбор водок и шнапсов всех сортов, сладких – для дам и «настоящих» – для господ. И Ребман снова дивится тому, как батюшка воздает должное горячительным напиткам.
Тот это, кажется, заметил, так как подошел, взял шафера под руку и вышел с ним на веранду:
– Мне сказали, что вы швейцарец. Расскажите о своей прекрасной родине.
Ребман несколько ошарашен:
– Что же я могу рассказать? То, что я ее уже почти забыл, и смогу увидеть разве что в ярких, как в детстве, снах?
Батюшка улыбается:
– Вот вам и оказия освежить свои воспоминания! Простите великодушно за бестолковый вопрос – я не особенно силен в географии – но, кажется, швейцарцы хорошо говорят по-немецки, это их родной язык?
Теперь уже заулыбался Ребман:
– Боже упаси, – говорит он, – у нас есть свой язык, который немцу вовсе непонятен!
Его просят сказать несколько слов.
Ребман качает головой:
– Это не для русского уха, довольно грубый хрипливый язык захолустья.
Но он все же прочел первое четверостишье из «Вечерней песни» Самуэля Плетчера, это звучало так:
«Покойной ночи, тихий мир, Пора тебе во сне забыться. Сияют звезды, как сапфир, И мне под ними сладко спится…»– Это не очень подходит к атмосфере нашего праздника, так что прошу меня извинить.
Но Батюшка восторженно откликнулся в ответ:
– И вы называете это хрипливым языком? Да это же музыка!
Гуляние продолжалось до трех часов утра. Затем «старики» отправились почивать, а для молодежи освободили пространство: столы и стулья сдвинули к стене, и, когда все общество расположилось на них, раздался голос:
– Через пять минут выключаем свет!
Ребман быстренько повесил свой красивый жакет, который он перед этим отдал в глажку с паром, у выхода рядом с пальто, нашел укромный уголок и еще до того, как выключили свет, задремал.
Но ненадолго: все вокруг разговаривают и вертятся по сторонам, так что не найти покоя.
Тут он поднялся, переступая и спотыкаясь о множество мужских и женских ног, пробрался к выходу и выскользнул из дома на улицу.
Здесь он увидел одинокую фигуру: Женя! Она тоже не смогла оставаться в этой суматохе.
– Прогуляемся? – предложила девушка.
– С удовольствием.
Они вошли в переулок.
– Вы не боитесь? – спросил Ребман. – Здесь слышны каждый шаг и каждое слово!
– Нет, но там внутри я уже почти начала бояться. Пришли люди не нашего круга, из Лялиных соседей. Мы пригласили их только для того, чтобы они тоже могли досыта поесть. Конечно, их поведение объяснимо и даже простительно. Но я бы не хотела, чтобы моя свадьба была такой.
Она опирается на руку Ребмана, и так они идут какое-то время.
Ребман говорит:
– Но замуж выйти вы бы хотели?
– А как же, кто же этого не хочет? Ведь нет ничего прекраснее в жизни, чем любящая семья. Для меня, по крайней мере. Разве вам бы этого не хотелось?
Ребман молчит.
И вдруг он с ужасом услышал собственный голос:
– Хотелось бы, но только если бы рядом были вы!
Женя не говорит ни слова. Только сжимает ладонь своего спутника.
Вот и все. Ни радостных объятий, ни пьянящего чувства, когда почва уходит из-под ног, – что и говорить, Ребман совсем иначе представлял себе подобное объяснение.
И тут его точно гром поразил, словно вспышка молнии озарила все беспощадным светом. В один миг он совершенно протрезвел и пришел в себя.
И видит он не небо, нет, а бездну, которая разверзлась перед ним: «Теперь я связан навеки, и вынужден буду до конца моих дней оставаться здесь, в этой стране, которая со всем прекрасным, что в ней есть, все же не станет моей настоящей родиной. Никогда он не понимал себя так ясно, как стало теперь, после того, как решение было принято и пути назад уже не было. О Жене он не думает вовсе, все его мысли только о родине, о настоящей почве под ногами, где бы он мог по-настоящему прорасти и которую он теперь безвозвратно утратил. И это открытие, словно гора, обрушилось на него и почти раздавило.
– Ты такой тихий! – услышал он вдруг Женю.
Ребман глубоко вздохнул и совсем ослабевшим голосом пробормотал:
– Эта свадебная неразбериха меня совершенно сконфузила.
Перед тем как вернуться, они условились никому ничего не говорить, а то суеты хватит еще на неделю.
– Лучше подождать, – говорит Женя, – пока у всех не прояснится в головах.
«Да, лучше подождать», – думает Ребман. «Утро вечера мудренее, может, все еще изменится. А теперь я ужасно устал. Вот почему приходят мрачные мысли. Ведь со мной так всегда бывает».
Глава 17
Но ни завтра, ни послезавтра ничего к лучшему не изменилось. При всей его симпатии и прекрасном отношении к Жене, одна мысль о том, что он должен на ней жениться, вызывает в нем ледяную дрожь, которая мертвенным холодом спускается по позвоночнику, парализуя все его тело.
Когда он думает о Шейле, – Ольга не в счет, – то вспоминает то внутреннее ликование, которое охватывало все его существо, как только он замечал ее приближение. Если бы она тогда в Купеческом саду в Киеве прямо сказала ему, что именно рядом с ним она хотела бы провести все дни своей жизни, – он от счастья подпрыгнул бы до небес. Даже теперь при этой мысли его захлестывает безотчетная радость.
Это положение вещей угнетает его больше, чем любые ранее пережитые им злоключения. При всех заботах, трудностях и нуждах, что мучили его прежде, всегда находился выход, а теперь его не стало: «У меня нет дороги назад, с Женей я не могу так поступить. Но и женитьба для меня тоже невозможна». Он совершенно раздавлен: того счастья, которое переполняет сердце жениха, нет и в помине.
Он должен поговорить с Михаилом Ильичем, нужно его застать! Весь день он просидел на телефоне, набирая один номер за другим.
– Что-нибудь важное? – спросил его друг. – А то у меня как раз дел по горло…
– Да, это очень важно, иначе я не решился бы тебя беспокоить.
– Тогда приходи вечером в кружок. Скажем, около десяти. Ты ведь знаешь, как меня там найти. Но не обещаю, что тотчас смогу…
– Это неважно, я подожду, если нужно – хоть до утра.
– Хорошо, условились. И знай: больше десяти минут, в крайнем случае, четверти часа – но не русского, а астрономического времени! – уделить тебе не смогу.
– Я не задержу тебя дольше необходимого. Спасибо! И до встречи!
Вечером он поехал к товарищу. До этого еще просидел в кафе на Лубянской, где Ларионович вновь играл для него концерт Лало для виолончели. Но он не мог по-настоящему слушать музыку: все думал о том, что скажет Михаилу Ильичу, чтобы тот за несколько минут смог понять суть дела. В конце концов он записал тезисы и выучил их наизусть, как школьник, который боится, что запнется и не сможет довести мысль до конца.
Михаил Ильич только с удивлением взглянул на друга:
– Мы тут ведем борьбу за новый мир, а он снова приходит со своими любовными драмами!
Но когда понял, что Ребман и вправду попал впросак, то сказал, по своему обыкновению, решительно и уверенно:
– Жениться вопреки сердечному порыву, такому человеку, как ты? Это выше моего понимания! Возможно, этот брак и не был бы несчастным, но скучным – наверняка. Влачить обывательское существование, без жизненных контрастов и конфликтов, безо всякого напряжения – нет уж, увольте! И потом во всю жизнь не создать ничего своего, не заработать самому, жить только на приданое жены, как мелкий рантье, которому приходится дрожать над своими мизерными процентами? И о родине: Россия или Швейцария? То, что в такой момент ты вообще думаешь о подобных вещах, – верное доказательство, что здесь что-то не так. Если мужчина действительно любит женщину, он долго не раздумывает над тем, в каком уголке мира он смог бы с нею жить, он просто счастлив и доволен, когда она рядом. Так мне видится это дело, и, кажется, я прав.
Именно этим строгим приговором Михаил Ильич добился как раз обратного тому, к чему стремился: в голове у Ребмана все еще больше перепуталось, как у ребенка, решившего подарить кому-то надоевшую игрушку. Он ее совсем уже, было, забросил, но теперь перспектива потерять эту вещь навсегда делает безделицу самой важной и желанной! Вместо того чтобы поговорить с Женей и все ей выложить, вместе поразмыслить о том, готовы ли они к столь ответственному шагу, он всю неделю не показывался ей на глаза. Только в субботу он наконец решился ей позвонить и спросил, не хочет ли она отправиться с ним в клуб, на Воробьевку.
– Прямо сегодня?
– Нет-нет, завтра. Приглашать в клуб даму у нас принято только по воскресеньям. – Между прочим, это соответствовало действительности.
– А нынче к нам придешь?
– Нет, сегодня у меня еще очень много дел, из-за свадьбы весь мой график совсем перепутался.
К счастью или к сожалению, он не видит Жениного выражения лица, когда та говорит:
– Ну тогда до завтра. Я уже научилась терпеливо ждать. Позвони мне, чтобы точно условиться о встрече. Или ты за мной зайдешь?
– Встретимся ровно в час на остановке трамвая в Трехсвятительском переулке. Для тебя это удобнее всего, и мы как раз уедем следующим трамваем. А если придешь без опоздания, то успеем сесть и в мой.
Она пришла вовремя, добрая Женя, даже заранее. Уже битых четверть часа стоит она на остановке и заглядывает в окна трамваев. Когда Ребман наконец явился, он пытался оправдаться тем, что трамваев не было, хотя мимо Жени за это время проехало уже три. Она подсела к нему, и они отправились на пристань.
По дороге Женя говорит, что их семейство, собственно, в этот день собиралось на обед к бабушке. Очень бы хотелось познакомить с нею Ребмана.
«Слава Богу, что мы не пошли!» – думает незадачливый кавалер.
Карл Карлович ему уже как-то рассказывал об этой бабушке: она не только самая старшая в семье, но и семейная Сибилла-пророчица, эта Женина прабабушка. Она еще помнит те времена, когда девочкой с родителями приехала из Германии, да так и не смогла до конца акклиматизироваться. Она по-прежнему называет Карла Карловича и его почти шестидесятилетнего старшего брата «мальчиками».
– Сколько ей лет? – поинтересовался Ребман.
– Не могу точно сказать. Она возмущается, когда ее об этом спрашивают. Верно, давно за девяносто. Но она будет повыносливее некоторых сорокалетних. И такая сообразительная, даже, можно сказать, ясновидящая. Если сомневаешься, как поступить в том или ином деле или хочешь знать, как относиться к тому или другому лицу, спроси у бабушки, она уж точно не ошибется. Ей стоит только взглянуть на незнакомца, и приговор уже готов. Даже и в деловых вопросах мы всегда сначала у нее спрашиваем перед тем, как предпринять нечто важное. И она еще ни разу никого не подвела: просто насквозь видит всех и вся. Не хотела бы я попасться бабушке на глаза, когда совесть нечиста!
«Любопытно было бы с ней познакомиться», – следовало сказать Ребману. Но он этого не сказал, а только спросил:
– Дома уже знают?
– О чем?
– Ну о том, что мы…
– Нет. Мы же решили пока подождать. Я думала, ты мне скажешь, когда наступит подходящий момент.
– Тогда в качестве кого ты хотела меня представить бабушке?
В его вопросе звучало недоверие: ведь люди с неспокойной совестью очень подозрительны.
– Для начала как друга семьи. Ты ведь говорил дяде Карлуше, что хотел бы с ней познакомиться.
«Значит, хотела все-таки, чтобы ясновидящая бабушка просветила меня «своим рентгеном», – пронеслось у Ребмана в голове.
На самом деле, его хотели представить бабушке из дружеских, а Женя – еще и из родственных побуждений. Но, как говорится, у страха глаза велики…
В лодочном ангаре был только помощник старшего матроса.
– Все лодки разобрали, – говорит он, – даже моторная ушла. Нужно пользоваться, пока позволяет погода и обстановка, да и вообще…
– Что, лодок совсем не осталось?
– Осталась только одиночка со штурманом, та, на которой вы учились, Петр Иваныч.
– Это как раз то, что нам нужно. Спускай на воду!
– Уже сделано, – смеется чернобородый юноша, когда Ребман вложил ему в руку монету. – Господа могут садиться, вот только подушечку для барышни принесу.
Ребман заскочил в домик, чтобы переодеться для гребли. Когда уже выходил из раздевалки, вернулся, сообразив, что нужно взять из своего шкафчика куртку для Жени: ведь на обратном пути, когда сядет солнце, может похолодать.
Перед отплытием он объяснил своей спутнице, как нужно держать руль: все время в одном положении, звездочкой к носу лодки или ориентироваться на хорошо заметный неподвижный объект, иначе придется плыть зигзагами и вдвое дольше обычного. Нужно также крепко держать канат, лодочка хоть и маленькая, но довольно быстрая. Если тянешь справа, поворачивает вправо, и наоборот. Просто, как дважды два.
Он кажется самому себе таким важным, этот мэтр Ребман, обладатель серебряной медали, ставший теперь загребным восьмерки юниоров. Важным потому, что он запанибрата с матросом, запросто называет того по имени, – пусть Женя видит, что он здесь имеет вес. Важным, потому что членами яхт-клуба являются только люди определенного круга, и это общеизвестный факт. Важным, потому что сидит в костюме гребца: в белой майке, которая оставляет открытыми мускулистые плечи с красивым загаром, в голубых бриджах и белых парусиновых туфлях, которых нынче вообще не достать. Но главная причина его «важности» в том, что он, наконец, может продемонстрировать Жене, что не лыком шит, что способен играть первую скрипку и мастерски владеет своим инструментом.
– Все, поехали!
Матрос отталкивает лодку веслом. Ребман изящно делает три положенных удара веслами, и вот лодка уже заскользила по желто-коричневой глади воды. При каждом гребке Женя, которая, судя по всему, еще никогда не сидела в спортивной лодке, откидывается назад, ударяясь спиной о спинку сидения.
– Нужно наклоняться вперед, попадая со мной точно в такт, как на качелях. Тогда не будешь ударяться спиной, и мне так ловчее, потому что иначе лодка идет рывками, – говорит уважаемый спортсмен. И юная дама в небесно-голубом платье в белый горошек и с белым воротником внимает каждому его слову, послушно покачиваясь в такт со своим тренером. Шляпу – настоящую панаму – она положила в лодку на куртку Ребмана.
– Зачем ты ее взял? – говорит она. – Ведь тепло, как летом!
Ребман ничего не ответил. Грести не так легко, тем более если это делать так, как делает он: каждый удар веслами, словно на регате.
В мгновение ока они оказались за первым поворотом, и скоро город уже совсем скрылся из виду.
Вдруг Ребман крикнул:
– Эй, куда же ты рулишь? – Он увидел, что Женя, вместо того чтобы держаться середины, все больше забирает вправо.
– Ты же мне сказал, чтобы я держалась дерева, вот я и держусь.
– Но не все время одного и того же, не то мы поплывем обратно. Да еще и в таком месте!
– А что, здесь разве что-то не так?
Ребман табанит и опускает весла. Он смотрит за борт и говорит:
– Да, это было здесь, именно на этом месте. Здесь я прошлым летом видел мертвеца, стоящего в воде во весь рост. Очевидно, он был убит. Как сказал полицейский, его ударили по черепу обухом или молотком, а затем сбросили в воду. Эту картину я не забуду никогда, даже если доживу до ста лет. Эти глаза…
– И ты мог в них смотреть!
– Нет, не мог, но и не смотреть не мог. Впервые в жизни я был под гипнозом. Никогда не думал, что такое возможно, считал, что я плохой медиум. Но тогда я, словно завороженная удавом мышь или лягушка, не мог отвести взгляда. Если бы покойник вдруг крикнул мне «прыгай», я бы, пожалуй…
– Может быть, поедем отсюда? Прошу!
Ребман смеется:
– Испугалась? Я бы тебя к нему не отпустил! Ну, поплыли дальше. Правь теперь на указатель на железнодорожном мосту. Когда будем на месте, увидим оттуда лодочный домик.
Он снова полон бодрости и сил, наш гребец. Возможность покрасоваться перед Женей мигом развеяла все его мрачное настроение. Теперь он ни за что на свете не откажется от того, чтобы она была рядом. «Кажется, всему виной было похмелье после той свадьбы. Теперь же, когда я снова свеж и бодр, дело принимает совсем иной оборот».
Длинными сильными ударами весел гонит он лодку по зеркально гладкой воде, показывает своей спутнице место, где стоял буй во время регаты, и описывает в двух словах ту памятную гонку с четверкой «Геркулесов», когда они разбили этих недорослей наголову! И вот к ним уже бежит старший матрос:
– Поздно, Петр Иваныч, поздно вы нынче!
И затем безукоризненно почтительным тоном обращается к Жене:
– А, у вас гостья! Бонжур, мадемуазель!
Он с удовольствием говорит по-французски, ведь однажды с русским кораблем якобы побывал в Париже!
Ребман отвергает протянутую ему руку:
– Петр, если бы ты на самом деле побывал в Париже, то знал бы, что сначала принято помочь даме. Это, во-первых. А во-вторых, еще ни один русский корабль не доплывал до Парижа!
– Нет, наш доплыл! – упорствует Петр. – Вот вам крест! – Однако не крестится.
– Ты не понимаешь, – подыграла Женя, – он имеет в виду Парис, что на Дунае.
– Именно, – усмехнулся ей Петр, – там ведь тоже есть Парис! Мы с барышней лучше разбираемся в географии, это русская наука. Ха, у швейцарцев даже речки нет ни одной, даже канала. И гор у них нет таких, как у нас, – унылая равнина, да и только!
Он снова отдает честь. Затем левой рукой берет чаевые, а правой отгоняет лодку.
И Петр Иваныч широко улыбается. Так хорошо, как сегодня, ему уже давно не было, – с тех самых пор, как он съехал от пастора. Он так вдохновлен и окрылен, что уже в клубном здании, которое располагалось выше по реке, председателю и всем коллегам представил Женю как свою невесту. И все очень рады – Ребмана здесь любят. Его поздравляют даже те, кто до сих пор не воспринимал его всерьез, пусть и только потому, что он швейцарец. Они пьют чай. Потом играют в теннис – как раз сегодня они без труда нашли партнеров, а то Ребману иногда приходилось подолгу искать, если он не хотел все время играть только с Клавдией. Да, кстати, а где же она сама?
– А где остальные? – спросил он у коллег перед началом последнего сета.
– Кто именно?
– Как кто? Митя, Клавдия и…
– А, все те же! Они отправились в деревню посмотреть, не поспела ли уже картошка на деревьях, – иронизируют коллеги. – Ушли на рассвете и вернутся только к вечеру. Клавдия, кстати, о тебе спрашивала.
Ребман недоволен, что его выдали. Если у него даже и есть тайные поклонницы – Женя должна знать, что им и другие интересуются! – все равно неловко. Как настоящий клеттгауэрец, он не может понять, что, кроме невесты или даже жены, можно иметь еще и хороших подруг, для клеттгауэрской морали это уже слишком!..
Но Женя, кажется, ничего не услышала: она не спрашивает, кто такая Клавдия, и не упрекает жениха, вот, мол, что ты за птица! Со своей обычной располагающей улыбкой, которая ей так к лицу, она играет сет за сетом, – и день был бы просто чудесным, если бы не одно «но»: неожиданно появилась Ольга.
И в тот же миг в нем с новой силой вспыхнула та страсть, которую и любовью-то не назовешь, но которая, тем не менее, овладевает столькими людьми, причиняя своим жертвам невыносимую боль. Ольга, кажется, не замечает ни Ребмана, ни его спутницы, то есть невесты. И это действует в тысячу раз сильнее, чем если бы она терзала его взглядами или колкими словечками, как это обычно бывало между ними.
Тем временем пробило уже пять часов, и кто-то вдруг заметил:
– Господа, кажется, приближается гроза!
Но именитый гребец из Клеттгау только посмеялся:
– Гроза, на исходе сентября? Вы, москвичи, – прямо-таки настоящие предсказатели погоды!
Но тут и матрос сказал, что сгущаются тучи, а Петр Иваныч не собирался со своей дамой оставаться ночевать в клубе. Он решил убегать: подтянул лодку, и они в нее сели. Когда он выгреб на середину реки, где обычно сильное течение, их быстро понесло в сторону города. Он еще напомнил Жене, что она должна держать курс как можно прямее, чтобы они не отклонялись в сторону.
Потом он молчит. Гребет. Начинает потеть.
И вдруг – они еще и полпути не проплыли – полило так, что в один миг все вокруг побелело. И молнии сверкают, и гром гремит со всех сторон, словно стреляют из сотен тысяч пушек. Только грохот и слышен, больше ничего.
– Набрось мою куртку! – во все горло орет Ребман, – хотя нет, все равно она тут же промокнет насквозь!
– А ты как же? – Женя указывает на него пальцем: ее голоса не слышно вовсе.
– Я же в спортивном костюме, который могу снять, когда мы доберемся, и переодеться, а твоя одежда совсем испортится. О Господи, да ты уже промокла до нитки! Не на плечи, прямо на голову надевай! Я сам найду дорогу!
Он сразу позабыл и об Ольгиных чарах и обо всем на свете, он видит только эту милую девушку, которая ради него одного сегодня так нарядна. Он был готов снять с себя все до последней нитки, чтобы укрыть ее от дождя.
Насквозь промокшие, приплыли они к пристани, и Ребман хотел сразу бежать на трамвай, после того как переоденется. Но Женя ему этого не позволила:
– Нет, ты сначала пойдешь в душ! А потом мы высушим куртку. Ты ведь вспотел, и я не хочу, чтобы ты простудился. Иди же скорей! А я посижу здесь возле огня. Если позволите.
– Конечно, пожалуйте! – говорит председатель, который сидит со своей дамой у костра. Нас гроза не застала, мы спустились сюда на моторной лодке. Вы же, Петр Иваныч, исчезли, не сказав ни слова, а у нас ведь было место и для вашей дамы.
Они сдвинулись так, чтобы пропустить Женю поближе к огню.
Когда в половине седьмого прибыли на остановку, где Женя должна была выходить, Ребман собрался провожать ее домой. Но она ему и этого не позволила:
– Ты пойдешь домой и переоденешься во все сухое. А потом придешь к нам ужинать. Ты ведь знаешь, что тебе всегда рады.
И прежде чем Ребман успел что-то сказать, она соскочила с подножки трамвая на остановке по требованию, а трамвай поехал дальше, не останавливаясь.
В следующее воскресенье снова шел дождь. Со дня их «водной прогулки» Ребман с Женей не виделся. Он позвонил ей рано утром и спросил, не согласится ли она пойти с ним в церковь: он хотел бы познакомить ее с пастором и его семьей. Условились встретиться в девять на углу Трехсвятительского переулка.
Сначала они зашли в ризницу. Но пастора там еще не было, только кучер. Ребман представил ему Женю.
Седовласый старик приветливо подал руку им обоим, а Жене даже поклонился.
Когда служба окончилась, они прошли в квартиру пастора.
– Это очень мило, я так рада! Ведь он мне как сын, – говорит Нина Федоровна. – И я уже начала было в последнее время за него тревожиться. Но теперь могу снова спать спокойно, потому что он в хороших руках.
Потом она замечает:
– С этими швейцарцами нужно иметь терпение, это особая порода. Сядешь с ними есть черешню, так не зевай: начнешь церемониться, ни ягодки не достанется! Но будем надеяться, что со временем и наш увалень научится хорошим манерам.
Она сказала это, конечно, беззлобно, и Ребман совсем на нее не обиделся, хотя с большим удовольствием услышал бы в свой адрес что-нибудь более лестное.
– Вы не останетесь обедать?
Тут Женя ответила, не колеблясь:
– В другой раз с удовольствием, Нина Федоровна, но сегодня нас ожидают к обеду дома.
Она сказала это, не будучи уверенной, что Ребман действительно пойдет с ней к ним домой, – этот вопрос ведь еще не решен. Но время нынче такое, что на вежливое приглашение отобедать приличные люди отвечают вежливым отказом.
На следующий день Ребман позвонил Нине Федоровне и попросил позволения поговорить с ней с глазу на глаз.
– Конечно! Приходите в три к чаю, мы будем одни. Дети едут в деревню.
– Хорошо, благодарю вас, – ответил Ребман, а про себя подумал: «Значит, уже и пасторским детям нужно отправляться в паломничество на село, если они хотят сытно поесть. Мне не следовало в тот раз оставаться у них на обед, а уж тем более на ужин!»
Ровно в три он позвонил в звонок перед такой знакомой дверью. Оля, в белом переднике, открыла ему и проводила прямо в будуар Нины Федоровны. Та сидела за письменным столом, перед ней лежала знакомая тетрадь. На лице появилось множество новых морщин – след прибавившихся забот о семье. Со вздохом она отложила карандаш:
– Я уже, и правда, не знаю, как нужно оборачиваться, чтобы хоть как-то сводить концы с концами! А что у вас на сердце?
– У меня на сердце тяжело, – в свою очередь вздохнул Ребман.
– От того ли, что нашли такую прекрасную спутницу жизни – из хорошей семьи, как я слышала? Такую девушку в Москве еще поискать!
– Да, я все понимаю, – снова вздохнул Ребман, – но все же…
– И все же молодой человек недоволен. Дядя Валя прозорливо сказал: «Этому и в бочке с медом несладко». Однако вы тот еще фрукт! И что же вам на сей раз не по нраву?
Тут Ребман ей все рассказал. Чистосердечно признался в своих сомнениях и недоумениях. Видно, что дело серьезное, а не просто каприз, как сначала подумала Нина Федоровна:
– Мне, правда, тяжело, я мучаюсь и не знаю, как себе помочь.
Решение опытной и мудрой женщины было кратким и однозначным:
– Если вы сомневаетесь, то делать этого никак нельзя. Вы ведь не можете всю жизнь обманывать жену: брак должен быть кристально чистым, как и все в жизни порядочного человека! Счастье любви – в том, чтобы любить, Петр Иваныч, голубчик вы мой, а не в том, чтобы быть любимым!
Но тут за дело взялся Карл Карлович. Очевидно, он почуял неладное, а, может быть, ему вся эта история показалась слишком затянувшейся. Во всяком случае, однажды вечером, когда они сидели за чаем, он сказал:
– Я думаю, что самым разумным будет, если вы наконец поженитесь. Нет никакого смысла тянуть с этой историей. Вы оба достаточно взрослые, должны понимать, в чем дело. И вы друг другу нравитесь… Нечего делать удивленное лицо, мы уже давно заметили! К чему долго ждать и терять драгоценное время? Или, может быть, я неправ?
И от него Ребман не утаил своих сомнений: он во всем винит себя.
Первый вопрос:
– Знает ли об этом Женя?
– Нет, она в полном неведении.
– Так почему же вы ей не открылись? Не она ли первая имеет право знать все? Женя единственная может помочь вам разрешить сомнения. Мне кажется, вы ее недооцениваете. Это главная ошибка в ваших расчетах – простите меня за это выражение, вы понимаете, что я имею в виду. Женя обладает качествами, которые незаметны на первый взгляд потому, что она их не выставляет напоказ. Но если у вас есть глаза, то вы должны плясать от счастья, вместо того чтобы ныть и ходить ко всем за советами. И все охотно вам их дают, это ясно. И каждый говорит нечто свое. В конце концов у нашего умника в голове полная неразбериха, поэтому он злится на себя самого, и на весь мир.
Карл Карлович ударил себя ладонью по колену:
– Покажите мне хоть одну девушку, которая сравнится с Женей! Вы ведь можете любить ее, как любят сестру. Именно такие браки часто становятся самыми счастливыми. Знаешь наверняка, что имеешь, и это с тобой останется, и не изменится, не пройдет, как в так называемых браках по горячей любви. В Жене вы найдете редкого друга. И это на всю жизнь. Сможет ли она сказать о вас то же самое – другой вопрос. Но она идет на этот риск сознательно, потому что знает, что ей хватит сил вынести все. Именно она – «хорошая партия» во всех отношениях. Чего же вам еще нужно? Вы были бы последним глупцом, если бы сказали «нет»! Однако бывают люди, которые не в состоянии поддержать огонь уже зажженной свечи.
Он встает и принимается мерить комнату большими шагами:
– То, что вы говорили о родине, я еще могу понять, это действительно тема для размышлений. Но позвольте спросить: сколько людей, – американцев, англичан, швейцарцев – этих особенно! – вынуждены искать заработок за границей, и находят его там намного скорее и на более выгодных условиях, чем дома. Осваиваются, живут в счастье и довольстве. Они такие же добрые патриоты, как и другие, если не лучше. Доказательств этому более чем достаточно. Опасность того, что, живя за границей, перестанешь быть патриотом, по моему мнению и опыту, вовсе не так велика. Я думаю, скорее, наоборот. Ваши соотечественники и здесь, и в других местах это ясно доказали, когда разразилась война, не так ли?
– Да, – ответил Ребман, – возможно, это и справедливо для людей определенного возраста, с состоявшейся карьерой и прочным семейным положением. Но как быть другим? Как быть детям, которые рождаются и вырастают за границей? Ваши, например, разве они еще немцы?
– Нет, но они унаследовали все хорошие качества своего народа и передадут их потомству.
– И кому от этого польза, может быть, Германии?
– В каком-то смысле – да. Мы всегда будем выделяться тем, что мы не славяне!
– И тем, что у нас нет родины! Нет смысла спорить, Карл Карлович. Нам не избавиться от того факта, что швейцарец, оставшийся за границей, потерян для своей страны. А я этого не хочу, при всей моей любви к России. Правда, есть люди, которые за границей находят и богатство, и признание, и становятся даже благодетелями своей прежней отчизны. Но это не правило, а, скорее, исключение. Девяносто девять процентов уехавших для родной земли потеряны навсегда, если они остаются за границей и женятся там. Особенно если речь идет о такой стране, как Россия, требующей, чтобы ей отдали без остатка не только тело, но и душу. По крайней мере, в отношении себя я так это чувствую. Если я теперь же не уеду домой, то не вернусь туда больше никогда. Или, если и вернусь, то уже чужаком. Вот то, что меня беспокоит… А в Жениных достоинствах я нисколько не сомневаюсь.
Какое-то время они молчат.
Затем Карл Карлович говорит:
– Конечно, вам решать. То, что у вас нет ни места, ни средств, – не беда. Об этом мы бы как-то позаботились: тесть сразу передал бы вам дом во владение, а сам уехал бы с семейством в деревню, там у него уже все готово для жизни, и неплохой. А со временем вы могли бы заняться и фабрикой, ведь сына у них нет. На этот счет вам не стоит беспокоиться. У вас было бы и положение, и свое дело, и средства. В Швейцарии вам рассчитывать на это не приходится. Что вы собираетесь там делать? Снова учительствовать? Сколько вам теперь лет?
– Двадцать семь.
– Двадцать семь. Такой шанс. Подумайте хорошенько! Хоть, как известно, дуракам закон не писан…
Глава 18
Помолвка Петра Ивановича с Евгенией Генриховной состоялась двадцать пятого октября по юлианскому календарю. По просьбе Ребмана пригласили только Карла Карловича с семьей. Больше не было никого, даже Нины Федоровны. И открыток с сообщением о помолвке не рассылали, теперь ведь не время для показухи. Того же мнения придерживался и будущий тесть. Но Карл Карлович сказал, что такой несуразной помолвки свет еще не видывал: еда, как на обеде в Армии спасения.
Ребман – само беспокойство. Он постоянно встает с места. Подбегает к окну. Ходит взад и вперед.
– Это пройдет, – смеется Карл Карлович, – со временем успокоитесь.
Но Ребман никак не угомонится. Как раненая птица скачет он по комнате:
– Сегодня что-то случится!
С ним всегда так бывало: стоит ему встать не с той ноги и при этом что-нибудь окажется не на месте, или выпадет у него из рук, или случится еще что-то подобное, его лицо сразу омрачается – это не к добру! Потом он весь день не находит себе места – и, в конце концов, что-то действительно происходит, словно его мысли материализуются.
Все как будто идет своим чередом. Все едят. Курят. Болтают. Снова подкрепляются. Как Рождество без праздника в душе.
Около десяти вечера позвонили. Это был дворник. Его крик услышали даже в гостиной: «На Мясницком бульваре стреляют из пулеметов!»
Они открыли окно: и правда, стрельба слышна даже здесь!
– Ага, – выдохнул Ребман, – вот что меня мучило весь день!
Но Карл Карлович разражается гомерическим хохотом:
– Сядьте на место. Не стоит терять голову из-за какой-то там перестрелки. Ивана Великого эти пули не свалят.
Не успел он этого произнести, как вновь зазвонил телефон.
– Карлуша, братец! – зовет хозяйка.
Потом слышны ее слова:
– Быть этого не может!
Когда Карл Карлович после разговора вернулся в гостиную, он уже не смеялся, и его голос заметно ослабел:
– Брат сообщил, что большевики штурмуют телеграф. Он поднял по тревоге охрану дома, чтобы все закрыли и забаррикадировали. Сказал, что, если Петр Иваныч еще здесь, то пусть немедленно бежит домой, иначе его уже не впустят. Трижды постучите в большие ворота со стороны Мясницкого проезда и назовите свое имя.
Но Ребмана не хотят отпускать:
– Ты останешься у нас, пока мы не узнаем, что происходит. И если это действительно серьезно, мы уедем в деревню, и ты поедешь с нами!
Нет, Ребман не согласен: ему нужно проверить, на месте ли товар, который хранится в стенном шкафу. Часть запасов даже сложена на верхней лестничной площадке потому, что внизу не нашлось места:
– Даже если бы я был в одних портках, то все равно пошел бы: я же состою в отряде самообороны!
В последний момент, когда он был уже в дверях, к нему бегом подбежал тесть и протянул старый револьвер:
– Вот, возьми с собой, в случае чего, сможешь защититься…
– Да уж, с этим не страшно даже в темноте идти на пулеметы! Нет, без оружия будет удобнее! И вообще, в России улица всегда была самым безопасным местом.
Но они не перестают уговаривать его. Женя умоляет, чтоб он взял оружие, хотя бы ради ее спокойствия.
Тогда он засунул револьвер в карман пальто и прижал ладонью, чтоб он не так бросался в глаза. Немного отойдя от дома, он даже взял оружие в руки, приставив указательный палец к скобе во избежание случайного выстрела.
Когда он годы спустя рассказывал об этом эпизоде, то всегда говорил, что никогда за все время революции не боялся так, как в ту ночь, когда у него в кармане был заряженный револьвер. И еще он говорил, что бывают люди, которые утверждают, что им неизвестно чувство страха, даже после того, как они якобы оказались в смертельно опасной ситуации. Такие «храбрецы» просто лгут. Потому что любой человек испытывает страх, когда у него над ухом впервые в жизни просвистит пуля. И Ребман тоже боялся…
Необычно широкими шагами поднимается он по Покровскому бульвару мимо Чистых Прудов к зданию телеграфа. Слышны выстрелы. Все ближе и ближе. Но ему нужно идти дальше, назад дороги нет. У Покровских ворот еще можно было свернуть. Какое-то время было тихо, и он, решив, что все кончилось, поспешил вперед.
Однако вскоре стрельба возобновилась: сперва – две-три очереди пулемета, затем – несколько выстрелов с противоположной стороны, и опять мертвая тишина. Нигде ни души, ни прохожего, ни извозчика, ни даже собаки. Ребман жмется поближе к домам. Держит дрожащими пальцами револьвер и думает: «Лучше бы я оставил его там, где он был. Если попаду в переделку, и его найдут, никакие объяснения не помогут – тогда конец…»
Он зайцем пробежал мимо Военной академии.
Мертвая тишина.
Дошел до того места, где заканчивается бульвар и где в старые времена стояли Мясницкие ворота.
Ни звука. В домах по улице слева и справа даже горит свет.
А вот и телеграф – как раз в том темном здании впереди.
«Вот, теперь пройти мимо него и потом еще несколько сотен шагов до Малой Лубянки. Когда буду там, то можно считать, что все обошлось. Идти?»
Он переждал какое-то время. Глубоко дышит. Слышит, как бьется его сердце.
Мертвая тишина. Ни звука. Ни шагу.
Наверное, стреляли вовсе не здесь, это только показалось. Так бывает во время пожара: кажется, что горит где-то совсем рядом, а на самом деле – на расстоянии получаса ходьбы. Стреляли точно не у здания телеграфа, иначе в соседних домах не горел бы свет.
Все же удивительно, что уличные фонари погашены. Там, на бульваре, они еще были зажжены. А здесь темно, хоть глаз выколи.
«Тем лучше, ведь и меня никто не видит», – думает Ребман, большими перебежками минуя телеграф и по широкой Мясницкой направляясь к Лубянке.
Но внезапно, прямо напротив него, начал строчить пулемет – он даже видит вспышки! От стены дома оторвался кусок штукатурки, и пролетел так близко, что ему даже задело ухо.
«Боже, помоги!» – прозвучал голос внутри него, как когда-то в детстве, когда сверкала молния.
И тут он почувствовал, что не может идти дальше. Он стоял на месте, будто окаменев. Кажется, в него не попали, боли он нигде не чувствовал, но не мог пошевелить ни одним членом, только ощущал, что силы мгновенно и как будто безвозвратно покинули его.
Как долго он так простоял – минуту, час или несколько секунд – он не смог бы сказать при всем желании. Тогда ему казалось, что это длится целую вечность. Потом он как-то оказался у железных ворот в Мясницком проезде, постучал условным знаком два-три раза подряд, прохрипел свое имя – вот и все, что он мог припомнить…
Им пришлось отнести его в прачечную и обрызгать из шланга, чтобы привести в чувство, – так рассказал на утро Курт Карлович, брат Карла Карловича. Когда дворник открыл калитку и Ребман упал ему прямо на руки, он поначалу решил, что жилец мертв:
– Но как это вас угораздило?
Ребман только отмахнулся:
– Лучше спросите, как я дошел. Сам не знаю. Наверное, меня принес мой Ангел-хранитель. Ну а как у нас в доме?
– Все в порядке. Тут никто не пройдет. В переулке стоит армейский патруль с пулеметами. А если дойдет до дела, то и мы на месте! Дом-то наш и пушки не возьмут. Если бы они у них даже и были, все равно ничего не получилось бы. Мы буквально за каменной стеной. Кстати, зять со всей семьей передает вам привет; они еще ночью звонили, чтобы узнать, добрались ли вы домой. Я им, конечно, не рассказал, каким образом!
– А каково вообще положение? Вам известно что-либо?
– Не больше, чем вам. Питер пал…
– Ну, это-то мы знаем. А как обстоят дела с очагом сопротивления в старой столице, матушке-Москве?
Курт Карлович потирает лоб:
– Если бы все были так же решительно настроены, как и мы, то нас бы и регулярная армия не смогла одолеть. Но… В том-то и дело, что москвичи только скулят и ноют! Рассчитывать не на кого: многие заодно с большевиками, а остальные не оказывают сопротивления. В результате мы в полной изоляции, все вокзалы теперь уже в руках мятежников. А верных присяге частей в городе нет. Что проку от кучки юнкеров, студентов и гимназистов? А ведь это все, чем мы располагаем. Обыватели нас не поддержат – в этом вы скоро убедитесь… Правда, говорят, что Деникин со своей армией на пути сюда, но чего только не говорили в последнее время. Я теперь верю только тому, что вижу сам, и то не всегда.
Пять дней и пять ночей идет борьба. Улица за улицей, дом за домом начинают это чувствовать, и не только внешне, стенами и окнами, но и внутри, до самых глубин людских сердец. Ребман целый день просидел в своей комнате – но только в задней. Ему пришлось туда переместиться из-за усилившейся стрельбы, чтобы не попасть под шальную пулю. Он сидит и от нечего делать набивает папиросы. Таня приносит ему чай и что-нибудь перекусить. Но голода он не чувствует, – с той страшной ночи его организм отказывается принимать пищу, внутри образовался какой-то непроходимый ком. Он набивает и закручивает одну сигарету за другой и выкуривает их все.
Однако его все же тянет на улицу. Безвылазно сидеть дома со временем наскучило.
Ребман идет к хозяйке и просит ключ от передней комнаты, хочет поглядеть, цела ли еще Москва:
– Что, собственно, происходит?
Она с удивлением смотрит на него:
– Это я у вас должна спросить, ведь это вы участник обороны дома. Разве вы уже не дежурите и не охраняете нас?
– Нет, с тех пор, как внизу выставили пост, мы не дежурим больше, а только ходим дозором. К тому же, дверь так забаррикадирована, что в дом и мышь не проскочит. Пойдемте посмотрим, что там внизу делается, и там ли они еще, отсюда что-то ничего не слыхать.
– Да, днем, и правда, не слыхать. Зато ночью! Вы разве нынче ночью ничего не слышали? Похоже, началась настоящая бойня. Я и глаз сомкнуть не смогла.
– Зато я проспал с восьми вечера до десяти утра.
– Тогда у вас здоровый сон.
– Нет, у меня спокойная совесть, – улыбается Ребман.
Хозяйка поддержала шутку:
– Что ж, мы не станем проверять совесть, особенно у тех, кто сам утверждает, что она чиста! Ну пойдемте!
Они прошли в большую комнату. Оттуда Ребман сразу же позвонил Жене, чтобы узнать, все ли в порядке.
– Пока все хорошо. Мы слышим выстрелы, но только издалека. А как у тебя?
– Как в крепости: уютно и тепло.
– Да?
– Нет-нет, шучу. Но, в общем, все в порядке. Я как раз говорил хозяйке, что если хороший сон свидетельствует о спокойной совести, то у меня…
– А еда у вас есть?
– С этим у нас наверняка хуже, чем у вас. Но я компенсирую это папиросами. Что слышно от Карла Карловича?.. Так, хорошо. Я и ему сейчас позвоню… Нет, не волнуйся, у нас вполне безопасно, прямо как на лоне Авраамовом.
Карл Карлович, по обыкновению, полон энергии. Он сразу выпускает пар:
– Пусть только явятся! Перед моим садом стоит патруль. А в саду – я сам!.. Так, у вас, значит, тоже… Да-да, это вообще не вопрос, Деникин ведь всего в нескольких верстах от города, а он не станет долго рассусоливать с этими мерзавцами. Так что до свидания. Не скучай!
Когда Ребман уже собрался вешать трубку, послышались выкрики:
– Это Наташа и дети передают тебе привет! И вот еще что: когда эта неразбериха закончится, будем играть свадьбу! Заодно и конец красной сволочи отпразднуем!
Ребман с хозяйкой подошли к окну. Отворили его – был прекрасный солнечный день, можно было в одной рубашке сидеть на улице. Смотрят вниз: посреди улицы, как раз перед порталом польского костела, за мешками с песком стоит пулемет, его ствол направлен в сторону площади, откуда той самой ночью стреляли в Ребмана. Судя по всему, большевикам не удалось продвинуться.
Офицер, который курил, опершись на стену дома, поднял голову и посмотрел вверх.
Ребман помахал ему рукой и улыбнулся. Офицер тоже помахал в ответ – пистолетом.
Ребман взял кучку папирос, завернул их в газетную бумагу и уже хотел было сбросить вниз.
Но тут раздался выстрел. Ребман едва успел отскочить назад. Справа от него, совсем близко, просвистела пуля. Миновав дубовый карниз и пробив голову пожилого господина, увековеченного в золотой раме, она ударилась в потолок. Огромный обломок штукатурки с грохотом упал на пол.
Они поспешили закрыть окно и снова ретировались в дальние комнаты.
Когда уже выходили, зазвонил телефон. Ребман какое-то время раздумывал. Затем на четвереньках подполз к столу и снял трубку: это была Нина Федоровна. Она уже несколько раз до этого звонила.
– Как у вас?
– Сказать «отлично» было бы, пожалуй, слишком, но и не так, чтобы очень далеко от истины. Пули, правда, уже начинают свистеть прямо перед носом… Нет-нет, внутри вполне безопасно. А у вас?.. Это приятно слышать. Будем надеяться, что так и будет впредь. А еда у вас есть?.. Не так, чтобы в избытке, но мы не голодаем… Хорошо бы! Я бы тоже хотел…
Но тут стрелявший по окнам, словно подал сигнал к генеральному наступлению: разразилась настоящая буря. Со всех сторон раздавалась оглушительная пальба. Она продолжалась без перерыва весь вечер и всю ночь. Хозяйка, две ее дочери и толстая Таня сидят в кухне и по очереди стучатся к Ребману, чтобы он составил им компанию. И так как и у него от голода пропал сон, он вышел, уселся на табурет и стал помогать женщинам преодолеть страх, – по крайней мере, хозяйке с кухаркой. Дочери, похоже, вообще не боятся.
Так они просидели всю ночь напролет. Пили чай. Но к чаю не осталось ничего. У них нет средств, чтобы покупать на черном рынке, говорит хозяйка:
– Что, и правда, ничего больше не осталось, Таня?
– Ни крошки хлеба и ни капли масла!
– А внизу, в погребе? Там должна быть еще картошка.
Кухарка даже побледнела:
– Нет, в погреб я не пойду! Не хочу рисковать жизнью!
Хозяйка возмутилась:
– А что, по-твоему, мы должны рисковать ради тебя? Ах ты, свинья откормленная! Сейчас же пойдешь и принесешь все, что там есть!
Когда кухарка ушла, хозяйка пожаловалась:
– Но ведь это правда. Она сожрала наш недельный запас продуктов! Сегодня утром созналась, еще и кричала на нас. Но теперь мы не можем ей и слова сказать, она тут же начинает угрожать нам расплатой, которая вот-вот наступит. И я могу поспорить на что угодно, что она еще что-то скрывает. Вот сейчас и увидим.
Она начинает осмотр. И правда: в постели кухарки, под матрасом, спрятаны запасы продовольствия: чай, сахар, мука, соленое масло, сухари, консервы – целая лавка.
– Вот видишь, – напала хозяйка на младшую дочь Анюту, – а ты ее все время защищала. Теперь сама скажи этой стерве!
Когда кухарка вернулась, Анюта, хорошенькое голубоглазое создание, приблизительно одного с Ребманом возраста, только и молвила:
– Здесь еще обнаружилось кое-что съестное. Таня, это из того, что ты отложила про запас, чтобы нам в случае чего не пришлось голодать. Вот мы сейчас как следует и поужинаем – время быстрее пройдет.
На следующее утро – Ребман как раз только прилег – снаружи, со стороны кухни, раздались удары и треск. К этой двери со двора ведет лестница, которая в последние недели служила единственным входом в квартиры.
Затем послышались громкие мужские голоса и голос хозяйки. Но что именно они говорили, Ребман не разобрал.
Он быстро вскочил с постели и оделся. Едва успел застегнуть брюки, как отворилась дверь, и в комнату вошел человек в «кожанке» с пистолетом в руке:
– Товарищ, из этого дома сверху стреляли. Это были вы?
Ребман так удивлен этим вопросом, что даже не обратил внимания на слово «товарищ»:
– Стрелял, я? – переспросил он в ответ. – Из чего? У меня ведь и оружия-то никакого нет.
И тут он вспомнил, что в кармане его пальто лежит револьвер, о котором он совсем позабыл. Также он вдруг осознал, что перед ним стоит красногвардеец. Если он обнаружит револьвер…
Но тут ему на помощь подоспела Анюта, которая позвала незнакомца. Тот вышел, и Ребман услыхал, как Анюта говорит:
– Я ведь уже объяснила вам ситуацию, товарищи. Предъявила свои документы. Он провел всю ночь и все утро с нами на кухне. Из этой квартиры точно никто не стрелял. У нас нет никакого оружия, кроме оружия брата, но оно…
– Где это оружие? – послышался вопрос.
– В гостиной.
Все прошли в гостиную. Ребману тоже пришлось пойти, и тут он увидел, что и в коридоре, и в кухне было полно людей в «кожанках»!
– И где же ваш брат? – недоверчиво поинтересовался один из красногвардейцев, снимая со стены ружье.
– Погиб под Перемышлем, – ответила хозяйка. – Он был моим единственным сыном. Оружие мне привез как память его фронтовой товарищ. Свидетельство о том, что сын погиб, у меня тоже имеется, если желаете, могу предъявить!
Вместо ответа человек в кожаной куртке сорвал предохранитель, посмотрел на свет, и, когда убедился, что из ружья действительно не стреляли, вернул его хозяйке. Затем он открыл окно и направил свое оружие на костел. Послышался удар пули о жестяную крышу. В тот же миг внизу из переулка тоже раздался выстрел. Но красногвардеец высунулся из окна и крикнул, что все в порядке, он только послал попам привет.
На сей раз обыск тем и закончился. Они не заглянули ни в один из шкафов, ни под одну из кроватей. Что бы произошло, если бы заглянули, лучше и не думать. Весь ребмановский склад запрещенных товаров остался нетронутым. Только после их ухода Ребман заметил, что пропали его чудесные рукавицы из овчины, которые и летом, и зимой лежали в прихожей. Сначала он даже хотел пожаловаться, но Анюта сказала, что они еще легко отделались: лучше остаться без рукавиц, чем без головы!
Позже он обо всем рассказал Михаилу Ильичу: и о револьвере, и о табаке, и даже о рукавицах – все, как было. Его друг на это только кивал: дескать, у детей всегда есть ангел-хранитель, и тем более сильный, чем беспомощнее ребенок!
– И как ты думаешь, что бы они сделали, если бы обнаружили…
– Что бы сделали? Конечно, не стали бы даже смотреть, стреляли из него или нет. В таких случаях не затрудняют себя лишними расспросами. Задержи они тебя – хотя они не могли этого сделать, так как им некуда вести арестованного, – я бы не смог ничем помочь, даже если бы поручился за тебя собственной головой.
Когда отряд красногвардейцев уже ушел, Ребмана вдруг осенило:
– Удивительно, как им удалось проникнуть в дом через железные ворота, забаррикадированные, к тому же, четырехметровой поленницей. Здесь что-то не так – их точно кто-то впустил.
– Ясное дело, кто-то им открыл, – смеется Анюта. – И точно так же происходит во всех других домах.
Ребман посмотрел на нее так, словно перед ним была ядовитая змея:
– Но как же, неужели это вы?..
– Нет, то есть не собственноручно. Это сделал дворник, он ведь на нашей стороне, и не он один. Думаете, ваша самооборона что-нибудь могла бы сделать? Мы ведь вот уже неделю, как заперли ваш арсенал, со всеми «кольтами» и «смит-вессонами», со всей амуницией. А ключ «потерялся»…
– И где же он теперь?
Молодая, хорошенькая голубоглазая девушка улыбается, как школьница, спрятавшая мел от учителя:
– «Товарищи» его снова «отыскали», ключ оказался прямо в дверях. Оружие им пригодится, они уж сумеют им воспользоваться получше вашего.
Тут улыбка сошла с ее лица, и она подняла указательный палец:
– Петр Иваныч, благодарите своего Бога за то, что в этой квартире не все придерживаются вашей веры! Мне просто стало жаль вашей невесты.
Ребман, как только что свалившийся с Луны человек, пролепетал:
– Откуда вам о ней известно?
И вновь та же улыбка озарила лицо Анюты:
– Нам известно все! Ничего не утаите!
– Но как же?..
– И то, что вы в квартире храните табак! Могу дать вам совет: увозите его отсюда, чем скорее, тем лучше. То же касается и револьвера. С новой властью шутки плохи. Спекулянтов, нелегальных торговцев и им подобных мы поставим к ближайшей стенке. С вами это тоже вполне может случиться. Доносить на вас я, разумеется, не стану, я не служу осведомителем. Только поэтому я вас и не выдала. Но скажу одно: убирайте отсюда все свое хозяйство. Если вас с ним поймают, то никакой Михаил Ильич не поможет – тогда вам конец.
У Ребмана глаза, как мельничные колеса:
– Михаил Ильич, говорите?
– Да-да. Мы его тоже знаем, как и то, что вы с ним друзья. Я ведь вас несколько раз видела в кружке.
– Как, и вы тоже там оказались?
– Оказалась? Да я там постоянно бывала, хоть и не афишировала этого.
– Так почему же вы нынче не с ними? – недоверчиво поинтересовался Ребман. И продолжил с понимающей гримасой: – Ах, прекрасное дитя, ведь они слишком опасны!
Но барышня ни на минуту не выпускает поводьев из рук. Ледяным тоном она ответила:
– А кто вам сказал, что я нынче не там? Я там все время, и днем, и ночью, пусть не прямо на улицах, где мне в настоящее время делать нечего. Однако в остальном… Знаете ли вы, что я…
– Анюта! – попыталась остановить ее старшая сестра, как раз вышедшая в коридор.
Но младшая только смеется:
– Теперь я могу все сказать, этот револьвер уже ни для кого не опасен…
И она достала его из своей сумочки. Это был револьвер Ребмана:
– Я его взяла к себе из предосторожности. Хотите, верну?
– Что, это действительно мой?
– Глядите сами.
Ребман взял оружие. Осмотрел его со всех сторон. И вдруг сказал:
– Да, но в нем недостает…
Он понюхал ствол:
– Из этого револьвера стреляли!
– Ну да. А вы разве не слышали? Это же был сигнал!
– Да, но эти ребята утверждали…
– Они точно знали заранее, откуда раздастся выстрел и что он означает. Этот спектакль мы разыграли только ради матушки. Она не знает о том, что я…
– Анюта!
– Ничего, сестрица, теперь уже всем можно говорить, кроме мамы: я командую силами нашего квартала!
– Вы, двадцатипятилетняя девушка, командуете?! – воскликнул Ребман и громко рассмеялся.
– Не верите?
– Нет, но я готов поверить в то, что вы – одна из величайших актрис, когда-либо выходивших на сцену, даже в этой стране, где они растут, как яблоки на деревьях. И как возможно исполнять такие обязанности, оставаясь здесь, в запертой квартире?
Анюта жестом предложила ему следовать за нею. Она подошла к стенному шкафу, в котором Ребман хранил свой табак, и отперла его. А он-то думал, что он единственный обладатель ключа! Анюта отодвигает несколько пачек: «Это уже неважно», – говорит она сестре и предъявляет второй телефон:
– Ну, что вы теперь скажете?
Ребман пытается улыбаться:
– Что он вам вряд ли пригодится: Центральный телеграф ведь все еще в руках юнкеров!
– А наш – нет! – смеется в ответ Анюта. – Смотрите! Она указала на два провода, которые шли от ножки шкафа к лампе и были так хорошо спрятаны, что даже Ребман своим острым глазом их не приметил:
– Вот как ловят зайца! Мы не у Керенского учились. У этого клоуна нам учиться нечему.
В этот момент лицо Ребмана достойно кисти портретиста. Эта Анюта, маленькое существо с васильковыми глазами ребенка, еще ничего не знающего о мире и о жизни, эта девочка, которая когда-то говорила Ребману, что его нужно посадить за решетку за то, что он прихлопнул осу! А Ребман еще, помнится, отвечал ей на это, что ее впору отдать в Армию спасения! Нет, это невозможно потому, что для таких заданий не выбирают детей!
– Но как же ваша маменька? – вспомнил он наконец.
– Тсс! Выслушайте меня внимательно.
Она прошла вместе с Ребманом в комнату.
– Петр Иваныч, – заговорила девушка, – сегодня я спасла вам жизнь. Товарищ Андреев нашел в кармане вашего пальто револьвер.
– Но перед этим вы сказали, что подавали из него сигнал!
– Да, сигнал, что все обошлось благополучно. А Андрееву я сказала, что револьвер мой, и я спрятала его от матери в кармане вашего пальто. Если бы я поступила иначе, вы бы теперь лежали там внизу, в переулке.
– Это правда?
– Такая же, как и то, что меня зовут Анна Гавриловна. А теперь я жду от вас ответной услуги: не говорите ничего моей матери. Это разбило бы ей сердце.
– А если она все узнает от кого-то другого?
– Я сама ей откроюсь, нужно только время для того, чтоб она смогла все лучше понять. Тогда она примет все спокойно, и ее сердце не будет разбито. Обещайте же мне.
Вместо ответа Ребман подал ей руку.
За окном вдруг снова разверзся ад: стрельба такая, что ставни дрожат и мебель движется. Мятежники установили внизу пушки и стреляют из них по Центральному телеграфу, современному, семи- или восьмиэтажному зданию, состоящему почти только из одних окон и расположенному в двухстах метрах от конца переулка. Туда ночью переместились юнкера. И поскольку они стреляют сверху, за ними сохраняется преимущество.
Но красные тоже тертые калачи. Ребман слышит на чердаке, как раз над своей комнатой, стук и грохот. Судя по всему, они пробивают дыру в несущей стене. Потом начало тарахтеть так, как будто там работали электрическим отбойным молотком, – сорок восемь часов кряду, без единой остановки. А снизу из переулка бьют еще сильнее. Дважды юнкера попадали в их пушку из миномета. Теперь большевики тоже установили внизу миномет.
Но, несмотря ни на что, телефон все еще работает. Мужественные телефонистки оставались на посту, хотя некоторым из них это стоило жизни.
По непонятной причине «товарищи» не заперли переднюю комнату, в которой находился аппарат, и Анюта тоже ничего не говорит, когда Ребман телефонирует своим знакомым. Но ему не удается узнать ничего, кроме того, что все живы и еще не голодают. Какова обстановка в действительности, не знает никто. Но пока можно звонить по телефону и еще ходят трамваи…
Об этом сообщил Карл Карлович.
– Как, трамваи ходят?
– Да-да, мы даже выходили на улицу. Ты видел брата с тех пор, как эти сволочи…
– Тсс! Мы ведь среди них находимся!
– Так возьмите же несколько гранат и высадите мерзавцев на воздух! В вашем арсенале их ведь целый ящик!
– Был да сплыл. Теперь весь склад принадлежит уже им, а не нам.
– Что ты такое говоришь? Как это возможно? Не могу поверить! Разве нет никого, кому хватило бы мужества…
– Они еще до вас не дошли?
– У нас здесь вообще никого. Я даже не знаю…
В этот момент послышался щелчок – и связь оборвалась.
– Как бы не добрались и до этой цитадели! – во весь голос сказал Ребман. Он пытался дозвониться еще в течение получаса. Но ответ был всегда один и тот же – связи нет, линия повреждена. Тогда он позвонил Жене:
– Знаешь ли ты что-нибудь о Карле Карловиче?
– Да, они как раз пришли к нам, всей семьей. Пуля выбила у него трубку прямо из рук у самого уха… Ну да, через открытое окно! Он уже не так уверен в благополучном исходе… Говорит, что вернется домой, он только хотел отвести своих в безопасное место… У нас? Пока все хорошо. А у тебя?.. Крепость переходит из рук в руки?.. Да, так разумнее, ведь это ненадолго. Деникин уже стоит на Воробьевке, подвел артиллерию и поставил им ультиматум. Они наверняка сдадутся. И уйдут туда, откуда пришли.
Почти целый час проговорил Ребман с Женей. И пока это еще возможно, все, кажется, не так плохо. Терпеливо ждать. Отсидеться. Пить чай.
Целую неделю он просидел взаперти, в квартире, из которой хорошенькая двадцатипятилетняя Анюта руководила боями в их квартале и взятием телеграфа, в то время как ее мать молилась за победу законных властей.
В конце концов юнкера засели в Кремле и поклялись не оставлять его до тех пор, пока жив хоть один из них. Поддержки у них не было никакой. Большая армия Деникина в трех километрах от города была мифом; во всяком случае, в бой она не вступила. Вместо этого большевики установили артиллерию на Воробьевке и угрожали разнести весь Кремль, если юнкера не сдадутся. В доказательство серьезности своих намерений они действительно разрушили до основания одну из крепостных башен.
После этого Москва пала. Юнкера открыли ворота в обмен на обещание позволить им беспрепятственно покинуть Кремль. Но как только они сложили оружие, по ним начали стрелять. Как это было, не видел никто, кроме присутствовавших при расстреле. Но никто из них ничего не расскажет: одни потому, что им это запрещено под страхом смерти, другие – потому, что замолчали навеки. Позже Ребман спросил своего друга, правда ли это – ведь это так низко! Михаил Ильич ответил почти по-евангельски:
– «Правда!» А что есть истина? Возможно, что именно так все и было, а может быть, и нет. А если это даже так, то что же? Иначе нельзя: лес рубят – щепки летят.
Тем дело и кончилось. Люди снова повылезали из нор и отправились добывать себе пропитание. Словно на уцелевшем после бури корабле, все радовались тому, что, по крайней мере, живы, – и не нужно загадывать наперед. К тому же, москвичи издавна известны своей беззаботностью и легкомыслием. Если бы они защищали город, свою «матушку» хотя бы наполовину так, как они четверть века спустя защищали Сталинград, то кучка большевиков никогда не победила бы. Сам Ленин, уже будучи у власти, не однажды повторял, что никогда не думал, что удастся удержать власть более полугода, что и днем, и ночью они были готовы к бегству: «Мы победили благодаря слабости нашего противника!» Так и выходит, когда каждый только и ждет, чтобы другой сложил за него голову…
Когда Ребман на следующий день пришел к дому Карла Карловича, он увидел стоящий перед воротами в сад грузовик. Из кузова свисала чья-то нога. Сосед рассказал, что ЧК здесь открыла свой «филиал». По ночам из-за садовой ограды слышны пулеметные очереди, а потом грузовик постоянно уезжает и возвращается.
– А где же Карл Карлович и все его домочадцы?
– Говорят, они у зятя, сбежали, едва здесь началась стрельба…
Глава 19
Карл Карлович встретил вошедшего Ребмана словами:
– Вот что, друг мой, теперь мы собираем и пакуем вещи и все вместе переезжаем за город, в имение. А когда красное проклятье исчезнет, мы снова вернемся домой и выкурим их смердящий дух из наших домов, чтоб и следа не осталось!
– Ты действительно думаешь, что они не удержатся?
Высокий статный мужчина выбросил руку вперед:
– С ними будет еще быстрее, чем с Керенским. К Рождеству у нас снова будет царь. Но только не Николашка, его нужно забальзамировать вместе со всей его кликой, – они слишком дорого нам обошлись. И сыграем свадьбу, голубчик Петр Иваныч, – вот тогда мы вас и поженим! А будущим летом отправимся в свадебное путешествие в Швейцарию!
Он смеется всем лицом. Кажется, его совсем не коснулось то, что произошло и происходит каждую ночь.
– А как же ваш дом, эта неприступная крепость, куда никому не проникнуть? – заметил Ребман. – Знаешь ли ты вообще, кто там теперь хозяйничает и что там происходит?
– Я все знаю. Поделом, пусть друг друга пожирают, пусть уничтожат вовсе, – начнем с чистого листа. Они ведь перестреляют друг друга, как было во времена всех революций. Все это люмпенское отребье, спекулянты, перебежчики, все эти приспешники дьявола давно заслужили подобную участь.
Вдруг он спросил:
– Кстати, как там с твоим товаром дело обстоит, он еще у тебя?
Тут Ребман ему рассказал, как все было и что ему посоветовала сделать Анюта.
– Вот и я тоже так думаю, – говорит Карл Карлович, – уезжать, пока не поздно, да поскорее. И если уж при этом придется чего-то лишиться, то лучше денег, чем головы!
Ребман с ним не согласен: он хочет продать товар как можно быстрее, но не за бесценок, чтобы не упустить своего. Он ответил:
– Это нынче не так просто, все гостиницы заняты красными.
– Так продай в магазин.
– Там мне ничего не дадут. Им свой товар девать некуда.
Карл Карлович остается непреклонным:
– Бери за него что дадут. И поезжай с нами. Там, в деревне, тебе деньги ни к чему. Возьми с собой только немного табаку, чтобы нам было что курить, а от остального избавляйся. Я бы никому ничего не оставлял, даже этой дамочке, как там ее? Этой Анюте, с ней, по-моему, лучше вовсе не связываться.
Но Ребман и в мыслях не имел уезжать в деревню, он хочет оставаться в городе, где кругом люди, и жизнь бурлит: и театр, и концерты, и яхт-клуб, и Ольга. Ни за что на свете не уедет он отсюда, особенно теперь, когда стало опасно. Именно теперь – ни за что! Опасно! Нет, это же интересно: броневики, патрулирующие город, и пушки, которые прикатили на Страстной бульвар и расставили перед памятником Пушкину; и группы вооруженных людей, что так и снуют днем и ночью по всему городу в поисках замаскированных очагов сопротивления. Когда новые хозяева жизни проносятся мимо него в авто, принадлежавших еще так недавно богатым горожанам, с непременным красногвардейцем в кожанке и с оружием наготове, стоящим на подножке, это щекочет ему нервы. И грузовики, заполненные офицерами полиции, которых везут на Большую Лубянку, туда, откуда никто уже не возвращается! Ребман однажды увидел там и пристава, который когда-то проводил обыск у пастора в доме. Но теперь он вел себя совсем иначе. Иногда никого даже не арестовывали; просто пиф-паф – и в канал, где они еще долго плавали, окровавленные, в разорванных мундирах. А люди выливали помои прямо на трупы.
Нет, Ребман определенно не хочет в деревню. Чем ему там заняться? И со свадьбой не стоит торопиться – время терпит. Иногда ему даже хочется не быть обрученным. Размеренная семейная жизнь, которую вели Карл Карлович и Женя со всем их окружением, не импонировала ему вовсе. «Я хочу быть свободным, хочу быть сам себе господином, независимым хозяином, а не мужем своей жены!»
Ольга начала дразнить его расспросами о том, есть ли уже у его невесты подружка? А то ведь она готова:
– Что ты, собственно говоря, хотел всем доказать, когда привел ее в клуб? Какую славную мамашу нашел себе мальчик!!!
И тогда он сердится, но не на Ольгу, а на Женю, не показывается ей на глаза целую неделю – они так и не переехали в деревню, это оказалось не так-то просто – а когда появляется, то у него на все есть отговорки, благо, в такие времена, как нынче, их нетрудно придумать.
И с табаком он уже не торопится. Анюта его не выдаст. После экспроприации дома квартира записана на ее имя. А более надежного места, чем гнездышко коммунистической начальницы, для хранения товара и не придумаешь. «Я подожду, пока он наберет ту цену, на которую я рассчитывал, и тогда начну распродавать. На жизнь мне пока хватает, хотя с каждым днем и становится все труднее».
После переворота единственное ухудшение в жизни Ребмана состоит в том, что продукты питания приходится еще более строго рационировать: обыкновенные люди, а по-новому, «буржуи», не получают почти ничего, тем временем черный рынок с каждым днем становится все более дорогим и опасным предприятием. Как-то утром за Николаевским вокзалом они с Ниной Федоровной раздобыли мешок муки: пуд стоил целое состояние, но они заплатили сполна и со всеми возможными предосторожностями, словно тайное сокровище, донесли до дому. Теперь она печет раз в неделю хлеб, и Ребман получает свою долю – положенные ему два фунта. Сперва он хотел больше, ведь двух фунтов на целую неделю ему никак не хватает. Порой, когда в течение двух дней, например по праздникам, закрыты все рестораны, ему приходится жить только на чае с хлебом.
Но Нина Федоровна покачала головой:
– Этой муки нам должно хватить до Рождества, я вам не дам больше, чем получают в день все наши!
Ребман пообещал позаботиться о том, чтобы достать поскорее еще муки:
– Пеките больше на мою долю!
– Ничего не выйдет, я вам больше не дам, не то у вас к концу месяца куска хлеба не будет, чтобы прокормиться в праздничный день!
Однажды раздался телефонный звонок из пасторского дома: они едут в деревню, не желает ли Петр Иванович отправиться с ними?
– В деревню? А что мне там делать?
– Этого я вам по телефону сказать не могу…
И тут же разговор прервался, и Ребман помчался туда на трамвае, и как раз поспел вовремя.
– Что это с телефоном творится? – спросил он. – Каждый раз связь прерывается именно в тот момент, когда нужно сказать что-то важное. Со мной так уже несколько раз было. Однажды в моего собеседника даже стреляли прямо во время нашего разговора по телефону.
Ему ответила старшая дочь:
– А вы до сих пор не догадались? Они же прослушивают все разговоры. Ну идемте же, не то еще пропустим наш поезд.
– А куда мы едем, позвольте узнать?
– Туда, где мы уже бывали. Шевелитесь же, наконец!
– Нет, просто так, неизвестно куда, только чтобы прогуляться, я не поеду, у меня много других дел. Так куда мы едем?
– В Болшево, если вы непременно хотите знать!
В таком случае Ребман согласен: с Болшево связаны его самые лучшие воспоминания. Когда у него еще был дом, и он не имел понятия ни об обручении, ни о женитьбе, ни о спекуляции и прочих вещах, он был там счастлив, как никогда после.
На вокзале у окошка очередь – проезд по железной дороге снова стоит денег. А в вагоне такая толчея, словно нынче большой праздник. Все спешат за город, как будто там невесть какая красота и изобилие. И у каждого под пальто спрятан мешок или старая дорожная сумка.
На душе у Ребмана стало вдруг так тоскливо… Сколько же раз он проезжал по этой дороге чудесными летними вечерами, которые здесь, в Москве, такие долгие, домой, к своим на дачу. Там его всегда встречали с радостью. Они подолгу гуляли, после дождя ходили за грибами. А утром – снова на поезд с одной только мыслью: хоть бы скорее наступил вечер, а лучше воскресенье, когда можно целый день оставаться дома! А теперь у него ничего этого нет, и уже никогда не будет, по крайней мере, с этой семьей.
По дороге люди начинают высаживаться, но лица их далеко не такие веселые, как летом, когда они жили за городом на дачах.
В Болшево они сошли с поезда. Перешли через пути, прошли лесом по дороге, которую они так хорошо знают, мимо дома прислуги и господской усадьбы вниз к речке, где Ребман, помнится, затащил старшую дочку пастора в воду прямо в белых туфлях! Потом через поле, до той самой деревеньки, откуда родом няня. Там до сих пор еще живут ее родственники. К ним они приезжают, чтобы передать привет от няни и кое-какие гостинцы: немного чаю, сахару и махорки. Их гостеприимно встречают, приглашают к столу – в этом, собственно, и состоит цель поездки. Подают щи с мясом, кашу с соленым маслом, пирожки с рубленым яйцом. И топленое молоко. На столе столько всего, что глаза разбегаются. И четверо изголодавшихся молодых едоков угощались от души, и такими чудными вещами, которых они не то что много дней, а годами не видали. Ребмана, правда, так же потчевали, когда он бывал в гостях у невесты.
Он говорит:
– Теперь мы не только утолили голод, но и запасов нам хватит на неделю.
На обратном пути в поезд подсаживались такие же «паломники», все с полными мешками или сумками под мышкой. Когда он уже вечером вернулся домой, то почувствовал, что снова голоден, как волк. Весь ужас в том, что настало время, когда чувство голода стало постоянным спутником человека: ни о чем, кроме еды, думать невозможно, и ты готов стучаться во все двери в надежде, что удастся раздобыть хоть что-нибудь съестное. Ребман спустился в кафе и с трудом дождался, пока перед ним поставили его скромный заказ: две тонкие, словно листочки, котлеты из моркови и тертого картофеля с кожурой. Таким прежде только свиньи лакомились. Но он налетает на это блюдо, как щука на карася. Выкладывает за этот «деликатес» сорок рублей и встает из-за стола еще сильнее проголодавшимся.
Тогда он вспоминает старые времена, когда дома он не хотел есть говядину, или шпинат, или перловый суп, ковырял в тарелке и рассматривал ее содержимое так, словно там плавали опилки. Мать говаривала в таких случаях: «Придет время, и ты будешь с радостью вспоминать те дни, когда ты мог все это иметь!» А он ей обещал никогда не привередничать и всегда благодарить Господа, когда будет есть вдоволь, даже если только хлеба или картофеля.
Хуже всего бывает в праздники: все места, где можно поесть, по два-три дня кряду закрыты, а Ребману не хочется идти к будущему тестю и теще: там Карл Карлович снова начнет торопить со свадьбой. Иногда его даже мутит от голода, да так, что готов на стенку лезть. Даже в постели чувство голода не дает ему покоя. Он либо вообще не может заснуть, либо ему снится, что он сидит за великолепным столом в Брянске и перед ним самые изысканные блюда, которые там подавали французский шеф-повар и русская кухарка. Он набирает, и набирает, и набирает – и всегда остается голодным…
В дни, когда стоят хорошие погоды, – а таких дней в осенней Москве немало, – он выезжает на Воробьевку, гребет вверх по реке и поглядывает: не удастся ли что-нибудь раздобыть в ближайших деревнях. Но и там с едой становится все труднее, все пригородные селенья уже давно опустошены так, что даже в клубе теперь, кроме чаю, ничего не подают. Как правило, ему достается только пара зеленых огурцов и к ним немного закалистого хлеба, да и то только в первый день после выпечки, – на дольше его двухфунтовой порции не хватает. Нина Федоровна может сколько угодно советовать, чтобы он делил хлеб на несколько дней, ведь другим и того не достается, но Ребман не способен запасать впрок. Как только он получает долгожданную порцию хлеба, он ее без остатка пожирает, – иначе и не скажешь, – все два фунта, не успев закрыть за собой дверь пасторского дома. До своего жилища он еще ни разу не донес ни крошки.
На следующий день он встретил музыканта, еврея, с которым познакомился через Михаила Ильича. На обычный вопрос о том, как идут дела, Ребман не ответил, как положено, «ничего», а сказал:
– Я просто пухну с голоду! Ей-богу, скоро начну пожирать змеиные головы!
Музыкант пристально смотрит на него:
– В этом есть нужда?
– Нет, никакой, я этого и не желаю, но ничего не могу с собой поделать.
– Нет, можете, – ответил собеседник таким тоном, словно спросил его, отчего он так глуп, что не ест, если голоден!
Ребман огрызнулся:
– Да, но это стоило бы мне свободы!
Музыкант ответил ему в тон:
– Это уж совсем глупо. Да и не нужно вовсе. Можно и есть, и оставаться свободным человеком. Даже деньги при этом зарабатывать.
– Или пулю в затылок! Так бы уж прямо и сказали!
Музыкант усмехнулся, как Мефистофель:
– Если держать за руку того, кто дирижирует пулей, то это неопасно!
– И как же этого добиться?
– Так же точно, как и два года назад, и как это испокон веков делалось на святой Руси.
– Но ведь теперь это больше невозможно!
– Очень даже возможно именно теперь. Только стоит несколько дороже. То, что раньше, при царе-батюшке, можно было получить за сто или двести рублей взятки…
– Например, что?
– Например, вагон сахару или муки, вагон гороху и так далее…
– Что вы такое говорите!
– …сегодня, при дяденьке Ленине, – по крайней мере, здесь в Москве, ведь его царство нынче недалеко простирается за городскую черту, – получишь за сто или двести тысяч. Зато за весь товар уплачено сразу. Понимаете, какая история?
– Шутить изволите?
– Отчего же? И зачем? Сведите меня в Москве с людьми, которые платят, или дайте мне их адрес и скажите, что требуется доставить. Но только вагонами! Доставку с вокзала, как и риск, связанный с ней, перевозчик должен взять на себя.
– Сколько вы даете мне времени?
– Сколько хотите. В отличие от железной дороги, мое предложение не знает временных ограничений.
– У вас есть телефон?
– Да, но только для разговоров по музыкальным заказам, ни для каких других. Конспирация, понимаете?
– Все ясно. Давайте номер! Я позвоню по поводу концерта.
– Хорошо. Вы спросите, могу ли я достать билет на ближайший концерт в Никитском театре. А я сообщу место и время, где и когда вы сможете его забрать.
– «Билет?»
– Да, «билет»!
Ребману известно, что такие вещи запрещены под страхом смертной казни и что не бывает долгих разбирательств – пристрелят на месте без разговоров. Но он все-таки обсудил с Карлом Карловичем. Теперь его будущий дядюшка уже не враг спекуляции, теперь он говорит, что обманывать «большевистскую сволочь» – иначе он их не называет – это вовсе не преступление, а доброе дело, в котором он бы и сам поучаствовал, если бы представилась такая возможность.
– Ну что, Карл Карлович, что ты об этом думаешь?
Смеяться Карл Карлович еще не разучился:
– Я не думаю, я знаю!
– Что именно?
– Что это у них такой трюк, с помощью которого большевистская сволочь выискивает спекулянтов или простаков, которые ходят за ними, как телята на веревочке.
– Почему?
– Потому что вагона с сахаром, или мукой, или горохом вообще не существует; а если бы и существовал, то не для продажи. Собирают вместе людей и в сопровождении самого настоящего комиссара, который предъявляет мандат, ведут их в полночь на вокзал, передают им вагон муки или сахару…
– Но ты ведь только что говорил, что вагонов не существует вовсе!
– Нет, они существуют, но только в качестве ловушки для простаков и их компаньонов. Чтобы не выдавать себя ненужными махинациями с фальшивой накладной, они сначала действуют как положено, эти господа комиссары.
– А дальше, когда с ними расплатились?
– Берут денежку, а простака отпускают ни с чем. В этом случае он еще легко отделался.
– А товара так и не получает?
– Откуда? Если он его купил по накладной, то вагона никогда и не было.
– Да, но ведь он может замарать этого комиссара, заявить на него властям, имя ведь известно!
– Может, конечно. Только ничего не выйдет, потому что дал взятку в сто или двести тысяч рублей. В другом варианте вы приходите на вокзал и сами разгружаете товар. Когда вы уже собрались уезжать, подходит милиция, и вам несдобровать, если признаете, что это ваш товар и вы его купили! После этого жить вам останется недолго. Но так как ломовика вы уже оплатили заранее, он еще весь товар доставит им даром на правительственный склад, в целости и полной сохранности. Вот как это делается. И если можно дать тебе совет…
– Я и сам знаю, что мне делать!
– Здорово прокричал! Нет, такими делами я заниматься не стану. Но если у тебя появится что-то стоящее, табак или что-то в этом роде, от торговца, который нам известен, можно будет поговорить.
Именно такое дело Ребману вскорости и подвернулось. Владелец лавки, где он доставал свой табак и собирался приобрести очередную партию, решил закрываться.
– Нет, дружище, – ответил он на вопрос Ребмана, пришедшего узнать, не хотел ли бы он приобрести партию товаpa. – Нет, я отправляюсь на юг, а оттуда за границу, нужно уезжать, пока это еще возможно. Лучше поищите мне шофера – вывезти все из магазина.
– О, это нынче непросто, когда все вокруг в движении!
Торговец смеется:
– Если я отдам все за полцены или еще дешевле, тогда найти будет несложно. Вы же знаете русские манеры!
– И сколько у вас товару? Что вы за него хотите?
– Полный грузовик, если все вместе. А забрать придется все: и гильзы, и готовые сигареты, не только табак. Что же до цены, то, если вы мне приведете клиента, который заплатит сегодняшнюю оптовую цену, получите десять процентов сверху.
Теперь смеется уже Ребман:
– Вы ничего не скрываете! Что ж, я попробую. Я ведь могу неплохо заработать и на других товарах, которые куплю тоже по оптовой цене.
– Ну так берите все сами!
– Нет, это для меня было бы слишком, я ведь так и не успел разбогатеть. Сколько времени вы мне даете?
– Пока никто другой не появится.
– Нет уж, вы должны дать мне несколько дней преимущественного права покупки, иначе нет смысла начинать это дело.
Торговец, который сразу смекнул, что молодой человек либо сам имеет деньги, либо обладает хорошими связями, ответил:
– Сегодня у нас пятница. Скажем, если я не получу ответа до вечера понедельника…
– В выходные я никогда не бываю в городе. Дайте мне неделю.
– Хорошо. А если что-то прояснится раньше, я вам телефонирую.
– Нет, – своевольно настаивал Ребман, – подобные условия меня не устраивают…
– Вы меня не так поняли. Разве вы не знаете, что большевики уже начали реквизировать один магазин за другим?
Ребман доволен тем, что взял торговца за горло:
– Но ведь не все же подряд! Не то у них было бы слишком много работы! Ладно, по рукам, ровно через неделю. У вас есть список товаров? Дайте-ка его мне!
Наш господин спекулянт, конечно же, не дожидается следующей пятницы, он дождался лишь следующего трамвая. И тут же отправился на его подножке к Карлу Карловичу:
– Ну вот, теперь у нас появилось дело: товар такой, что не испортится, он с каждым днем становится только лучше, к тому же, с этим у нас не так строго, как с продовольствием.
– Откуда ты это знаешь?
Ребман ухмыльнулся:
– Ну, кое-что все-таки и я знаю, хотя и не в таком совершенстве, как ты, Карл Карлович. Вот, посмотри-ка!
И он протянул список товаров.
Карл Карлович изучил его намного внимательнее, чем до этого Ребман. Затем он сказал:
– За такую цену я могу купить каждую московскую лавку со всеми потрохами. Теперь у всех дела идут из рук вон плохо. Но, в конце концов, ты ведь уже занимался подобными сделками и, кажется, неплохо зарабатывал.
Ребман рассмеялся:
– А на что же я, по-вашему, живу? Если это дело имело смысл во времена Керенского, так теперь и подавно.
– Да, но речь идет о сумме в сто пятьдесят тысяч, одному мне это не под силу. А сколько ты собираешься вложить?
– Учитывая то, что я вышел на товар и потом буду сам его распродавать… Транспорт тоже на мне, а это самая рискованная часть дела. Так вот, учитывая все это, я бы хотел быть равноправным партнером.
Они обсудили все детали, отшлифовали подробности. Карл Карлович переговорил об этом деле со своим братом. А уже в субботу зазвонил телефон: Женя желает идти с Петром Ивановичем в синематограф.
– Ну вот, – говорит Карл Карлович, когда Ребман вошел в квартиру тестя, – мы с братом собрали деньги. Покупка и перевозка товара – твоя ответственность. Если что-то пойдет не так, мы не желаем быть ни в чем замешанными! Поторгуйся еще с Шубелем. Когда пахнет наличными деньгами, он сразу становится сговорчивым. И весь товар будет храниться в вашем доме на Малой Лубянской.
– Но только не в моей квартире, об этом и речи быть не может…
– Нет, внизу в подвале у брата, у него там сложен всякий хлам. А когда мы все распродадим – и табак, и папиросы – то поделим прибыль на три равные части. Согласен?
Ребман кивнул. Потом спросил:
– А если что-то случится?
– Тогда мы потеряем сто двадцать или сто пятьдесят тысяч рублей, смотря по обстоятельствам. А тебе еще нужно быть начеку, чтоб головы не лишиться. Но у тебя уже есть опыт в таких делах. А в случае чего – и протекция!
– О да, от нее много пользы! Лучше уж я буду полагаться только на собственный опыт.
Так заключил Ребман. И тут же взялся за дело. Вместо того чтобы по случаю воскресения идти в клуб, где Ольга, как всегда, выставит его на посмешище, он отправился к сигаретных дел специалисту Иосифу Яковлевичу. Поторговался с ним, как настоящий русский. И правильно сделал: когда запахло наличными деньгами, да еще и барышом, маленький еврей тут же поднял цену до ста двадцати пяти тысяч. Разницу они поделят на двоих, это годами проверенная практика. Он еще и философствует:
– В этом мире жилось бы лучше, если бы ее, то есть эту практику, можно было применять во всем и везде, – сказал маэстро.
– А теперь по поводу транспорта, Осип Яковлевич, – нетерпеливо продолжает Ребман. – Как нам лучше поступить? Я думаю, разумнее всего было бы обернуться ночью, пока никто не видит.
– Кроме милиции! Поц Иваныч, это самое глупое, что только можно придумать! Так вы не доберетесь и до…
– Не доберетесь! Я лучше брошу всю эту историю. А как еще мне, по-вашему, поступить?
– Везти среди бела дня, конечно! И лучше, если будет солнечная погода!
Ребман скривился, как если бы вдруг плохо запахло:
– Вот теперь уже не я, а вы – Поц Иваныч! Среди бела дня, когда на улице огромное движение, с таким грузом…
– Вот именно, когда улицы переполнены, меньше всего обращаешь на себя внимание.
– Можно еще и табличку к грузовику прицепить: «Мы везем контрабандный табак»! Я всегда верил, что евреи находчивее всех прочих. – Стойте, у меня появилась мысль: мой хороший знакомый работает в Красном Кресте. Нужно взять…
Осип Яковлевич даже не дал ему договорить:
– Красный Крест, Петр Иваныч, – это дело святое. Нет, и тысячу раз нет, ни за что на свете не согрешу подобным образом! У меня есть идея получше: мы обставим эту историю как переезд. Позаботьтесь о том, чтоб найти старые чемоданы, рюкзаки, но только старые, обшарпанные. И старые чехлы от матрацев. Я тоже дам вам несколько старых коробок, стульев и стол в придачу. Тогда сможете хоть через Кремль ехать, прямо перед окнами самого Ленина, – никто в вашу сторону даже не посмотрит.
Так они и поступили. Ребман позаимствовал старые чемоданы и дорожные сумки – у него было даже несколько собственных – нашел старые чехлы от матрацев и в понедельник отправился со всем этим к Осипу Яковлевичу. Они паковали целый день – товара было огромное количество, много больше, чем мог вообразить Ребман. Они рассовывали все по коробкам и чемоданам, набивали мешки величиною с полкровати. Это, и вправду, напоминало большое переселение.
Ночью Ребману приснилось, что он пошел забирать табак. Как ни в чем не бывало, идет он за повозкой, которая раскачивается и скрипит, словно корабль во время шторма. «Если милиция спросит, откуда и куда направляешься, отвечай, что едешь по поручению Красного Креста, тогда пропустят», – сказал он кучеру. Но не пропускают: требуют документ. Нет, документа у него нет. Тогда придется пройти! Его ведут в ЧК. А там не церемонятся: спекулянт! В расход его! В коридоре уже выстроилась расстрельная команда с маузерами наготове. А за коменданта у них – Михаил Ильич! Но он и виду не подает, что они знакомы. С хорошо известным Ребману ледяным блеском в глазах стоит он среди них. Поднял руку… И тут Ребман проснулся. Понял, это всего лишь сон. Ему ведь не нужно ехать за табаком… Или все-таки нужно? Нет, точно, именно сегодня ему нужно забрать табак.
– Ты все понял, парень? – спрашивает он уже в который раз, показывая на доверху загруженный фургон, который выглядит точь-в-точь как при переезде. Не больше и не меньше. – Кто тебя нанял, откуда и куда и для чего едешь, ты знать не знаешь: мол, меня наняли на три часа, сразу расплатились – и конец. А если спросят, откуда же ты знал, куда ехать, то что ты скажешь?
– Так наниматель ведь ехал рядом: а тут на тебе – пропал куда-то!
– Хорошо. Молодец. А если спросит, что везешь?
– Да ну, барин, видно же сразу: переезжают люди, тут нечего долго выспрашивать!
– Ладно-ладно. Это так, на всякий случай… И вообще, поезжай помедленнее! Время от времени останавливайся! Смотри, все ли на месте и в порядке ли веревки! Понял?
– Понял.
– Ну, трогай потихоньку! Только я не пойду рядом, пойду впереди. А ты, если захочешь остановиться, кричи: «Тпру!», словно тугоухий. Уж я буду знать, что делать.
Больше часа продолжался этот «переезд» по запруженному транспортом городу. Ребман еще приказал ломовику ни в коем случае не отставать. Кроме того, во время одной из остановок он велел ему не выезжать на главную улицу.
– Поедешь так, как тебе сказано!
Когда показался первый милиционер, у Ребмана чуть сердце не выскочило. Он подбежал к первой попавшейся витрине, остановился около нее и начал наблюдать происходящее в отражении. Все прошло благополучно. Переезжать нынче стало модно, особенно с тех пор, как шикарные господские дома открыли для пролетариата.
Они проехали всю Тверскую, самую длинную и оживленную улицу Москвы, мимо десятка милиционеров, один раз даже мимо несущейся колонны – ничего не случилось. Тут Ребман совсем обнаглел: идет себе в нескольких шагах от фургона, не останавливаясь больше перед витринами, только оборачивается время от времени.
Вдруг на Театральной площади послышался громкий окрик: «тпрру!» Он мигом прижался к ближайшему подъезду. «Вот оно», – подумал он, ему сделалось дурно при одной мысли о ста двадцати тысячах рублей и о том, что может случиться, если ломовик от страха позабудет все, чему его учили.
Но тут извозчик снова тронулся. Глазами он явно искал Ребмана.
«Ну я и осел! – пронеслось у Ребмана в голове. – Обо всем подумал, кроме одного: какой подавать знак, если остановят, а потом отпустят. Я даже не уверен, следит ли еще за ним милиционер».
Он пропустил фургон вперед себя. Затем вышел из подъезда, как будто жилец.
Между тем ломовик снова остановился, закурил одну из тех папирос, которые он получил перед отправлением, – хоть они и были третьесортные, но для него, ничего кроме махорки отродясь не курившего, это была неслыханная роскошь, – и, как бы невзначай, смотрит по сторонам. Якобы случайно замечает своего заказчика. И едет себе дальше.
«Если бы я только знал, что еще произойдет и чего опасаться», – думает Ребман, проходя мимо, и начинает громко кашлять. Но ломовик ведет себя так, словно он и вправду плохо слышит, и продолжает движение. Проверяет, все ли на месте, хорошо ли держат веревки.
Вот они уже подъехали к Лубянской площади, уже почти у цели.
Снова остановка. Ребман увидел, как милиционер поднял руку. Когда он осмотрелся, то понял, что этот знак относился не к кому иному, как к его ломовику! Теперь он уже не прячется, он смотрит издалека и видит, как возница побежал назад, чтобы поднять упавший сверток. И едет дальше.
Потом, когда они уже остановились у нужных ворот и в награду за хорошую работу было получено сто рублей чаевых и две пачки папирос, извозчик рассказал, что он ни на минуту не упускал барина из виду.
– А ты видел, как я исчез там, на Театральной?
– Ясное дело! Даже видел, как вы зашли в подъезд, пока я мимо проезжал. Потом мне пришлось остановиться, потому как я не знал, куда дальше ехать.
– Да-да, верно, это была моя ошибка. А что случилось потом, перед театром?
– Поклажа сползла. И полицейский, – да, полицейский, он так и говорит, – помог ее выровнять!
Такого плутовского выражения лица, как в тот момент у этого парня, Ребман еще в жизни не видывал.
– А на Лубянке?
– А там у меня сверток с табаком…
– Каким еще табаком, откуда ты знаешь, что это был табак?!
– Как откуда? Я табак унюхал сразу, еще когда мы только загружались! А на свертке, который я на Лубянской площади потерял, еще и написано было «Майкапар, первый сорт». Нет, не потерял, я слышал, как он упал, но подумал: не станем же мы подбирать на дороге остатки. А потом – и это он сказал с дьявольской усмешкой, – сама полиция помогла нам доставить все в целости и сохранности! Пока они еще новички, они все покладистые, так было и с Николашкиными. Это все одного поля ягоды, с ними держи ухо востро, лучше не попадаться под горячую руку…
Глава 20
Однажды, вскоре после «переезда», в польской кондитерской Ребман встретил Елизавету Юльевну.
– Что это с вами, – воскликнул он, – неужели прогуливаете службу? Или у вас отпуск?
Она рассмеялась:
– И то и другое.
– Как это?
– А вы разве ничего не знаете?
– Откуда же мне знать, я ведь уже давно позабыл о том, что на свете существует «International».
– Существовал!
– Что это значит?
– Как же, нас ведь «национализировали».
– Национализировали «International Trading»?
– Именно, но не сверху. Это Иван Михайлович затеял перемены, мы же, как всегда, остались в дураках… В общем, в одно прекрасное утро фирма стала принадлежать нам.
– Кому это «нам»?
– Ее сотрудникам, кому же еще?
Ребман даже повысил голос, и на него уставились все посетители, а их было немало:
– Да расставьте же, наконец, все точки над «i»!
– Именно так мы и поступили. Ровно через месяц все это великолепие закончилось. Мы не получали больше товаров и не знали, где их доставать. У вас хороший нюх, вы вовремя оттуда ушли.
– Так, а что же шеф?
– Он снова занялся своим прежним ремеслом: работает вЧК.
– Я имею в виду не Ивана Михайловича, а настоящего шефа фирмы, Николая Максимовича, он-то где?
– Уже давно за границей. «Уеду в Англию, – сказал он в то самое утро, когда это все случилось. – О России я более ничего знать не желаю».
– А фабрика?
– Она принадлежит теперь тем, кто на ней работает. Они единственные оказались в выигрыше и могут нынче посмеяться: им достались и станки, и помещения, и склады. Хоть кто-нибудь выиграл от всей этой истории – тот, кто этого и вправду заслуживал.
– А вы?
– Я? Я снова служу на старом месте. Работаю на «государство». Это одна из первых фирм, которая… Но мне все равно, главное, чтобы исправно платили жалованье. Да и работать там приходится не больше, чем у Николая Максимовича.
Она отпила глоток чаю. Немного поела. Потом сказала:
– А вы все еще предпочитаете оставаться здесь, во всей этой неразберихе?
– Так ведь это же самое интересное! Теперь гораздо «веселее», чем в прежние времена: по крайней мере, хоть что-то вокруг происходит.
– Иногда даже слишком весело! Когда почитаешь газеты или послушаешь, что люди рассказывают, то положение кажется еще хуже, чем в средневековье. Человеческая жизнь – да что я говорю! – теперь мы в Росси уже не люди, мы только номера. Наш удел – пожизненная смерть, смерть длиною в жизнь. А что до остальных, то они ведь расстреливают не только хитрованцев и шпану, они расстреливают интеллигенцию, тех, кто помогал свергать царский режим, и тех, кто так необходим России, – сегодня больше, чем когда-либо. Куда подевались и совесть, и гуманизм, да что там, просто здравый рассудок!
– Совесть, человечность! О подобных вещах можно было разглагольствовать раньше, теперь это уже бесполезно, все разбилось о стену. У меня есть друг, ну, он… коммунист, одним словом.
– Как, у вас, у швейцарца, друг – коммунист?
– Почему бы и нет? Это же интересно, узнавать людей с другим мировоззрением. Мы ведь не кусаемся. Никто из нас еще ни разу не пытался перетянуть другого в свой лагерь, каждый остается при своих убеждениях. Когда я ему заявил, что недостойно было расстреливать сложивших оружие юнкеров, которым обещали, что их не тронут, – так доверие населения не завоюешь, – он только и сказал, что подобные эксцессы так же неизбежны, как пузыри в водовороте. Он называет это «случайными жертвами» или «погрешностями». Будет их несколькими миллионами больше или меньше, в сущности, значения не имеет. Им неведомо то, что другие называют совестью, братством, состраданием и тому подобным – для них это пустой звук. Они только усмехаются, когда к ним пытаются применить подобные категории.
Елизавета Юльевна ответила:
– Я не могу понять, как можно быть в дружбе с такими людьми или даже поддерживать знакомство с ними. Нет, этого я понять не могу!
– А я очень даже могу. Он – наимилейший человек из ходящих под солнцем, более верного и доброго друга во всем мире не сыскать. А что касается его политических убеждений, то чужая сторона – темный лес, как гласит пословица. Мы ведь не можем проникать в суть всех вещей.
Елизавета Юльевна ничего не отвечает, только смотрит на своего бывшего сотрудника словно со стороны, как бы спрашивая у себя самой, он ли это или она обозналась.
Выдержав положенную паузу, Ребман продолжил разговор:
– Нет, даже это мне не мешает. Но вот то, что жизнь постоянно дорожает… Когда я думаю о том жалованье, которое получал в «International»… А ведь я жил на него в десять раз лучше, чем теперь, притом что зарабатываю в сто раз больше…
Когда это у него это сорвалось, он готов был откусить себе язык. Но Елизавета Юльевна не спрашивает, как ему удается так много зарабатывать, она вообще не задает лишних вопросов.
Тогда он говорит:
– Вы только подумайте, раньше фунт хлеба стоил четыре копейки, то есть десять швейцарских центов, а теперь – двенадцать рублей. Мука раньше стоила семь копеек за фунт, а теперь – десять рублей, если вообще удастся достать. Говядина, телятина – все это понятия из сказок. А вот конина еще попадается иногда по восемь или десять рублей за фунт. Курицу прежде можно было за семьдесят-восемьдесят копеек купить, – сам покупал, да еще какую чудесную! Теперь же столетняя курица, от которой остались только перья да кости, стоит сорок – со-рок! – рублей. До войны за сто свежих яиц просили рубль. Нынче мы платим за одно единственное яйцо два с полтиной, если еще достанешь, и никто уже не заикается о свежести. Пообедать – раньше за восемьдесят копеек можно было вкусно и сытно поесть, вы же знаете. А теперь? Утром у вас в кармане сто рублей и вы надеетесь, что этого вам хватит до вечера, но даже в польской кондитерской вы этим никак не обойдетесь. Я выкладываю каждый день по сорок рублей за две морковные котлеты и немного супа из мутной воды. Сорок рублей! И когда я встаю из-за стола, меня все еще мутит от голода. Туфли – пятьсот рублей за пару, и что за рвань против прежних за восемь-десять рублей! Одежда – от тысячи до полутора тысяч. А до войны я даже за пятьдесят хорошие вещи покупал. Табак – раньше по рублю двадцать пять за фунт первого сорта, а теперь двести за грамм. И так далее, и так далее… Можно набирать полную тарелку чего угодно, все равно постоянно ходишь голодный. Даже доктор, которого я недавно встретил на улице, предупредительно поднял палец: «Надо кушать, Петр Иваныч, непременно больше кушать, не то вас через несколько недель можно будет отправить туда, куда везут почти задаром». Он так и сказал – «куда вас за пять копеек отвезут».
Слушая Ребмана, можно подумать, что ему одному приходится туго в этой жизни:
– Все разваливается, выживают одни мошенники. Съел свою порцию – не смотри по сторонам, чтобы вновь не соблазниться. Трудно так жить!
Но Елизавета Юльевна только и заметила в ответ:
– Кому вы все это рассказываете? Мы, так называемые «государственные служащие», хоть и получаем больший дневной рацион, но и нам приходится дуть на суп, чтобы в нем что-то выловить. Что же, будем перебиваться с хлеба на воду, как говорят русские…
– Да, похоже, и вправду придется. Когда я еще был в «International», то довольствовался ста рублями в месяц! А теперь я столько же оставляю за полчаса, когда сижу здесь…
– Вы часто здесь бываете?
– К несчастью, каждый день. Я почти с ума схожу от желания полакомиться, просто мочи нет. Я же не могу поступать, как русские: хлопнул бутылкой водки о колено так, чтобы пробка выскочила, отхлебнул несколько глотков, закусил селедкой да ломтем черного хлеба – и мужик уже получил свое. Нет, я так не могу. – Он усмехнулся: – Мы все теперь живем, как тот пудель у пастора.
– А что с ним приключилось?
– Он просто перестал есть, совсем потерял аппетит: поставь перед ним хоть самые редкие яства – не хочет, и все тут. Тогда пастор пожаловался старосте: как, мол, ему быть и что делать, ведь все в доме так привязаны к пуделю… – «А вы отдайте его мне на неделю-другую, я быстро все исправлю!» И точно, через две недели приносит староста собачку обратно, и та снова ест все подряд, хоть опилки. Тогда пастор спросил старосту, что же тот ему давал. – «Да вовсе ничего!» Или, как говорила моя старуха, хозяйка квартиры, когда в доме находилась хоть крошка съестного: «Только помедленнее ешь!»… Словом, только теперь понимаешь смысл поговорки «Сытый голодного не разумеет».
– А эти комиссарши, что вы о них скажете?
– Да что тут скажешь? В некоторых случаях, возможно, это протест низших слоев против вышестоящих, но такое встречается везде, даже в свободной Швейцарии. Если бы у нас случилась революция – немедленно наступил бы конец света! Так и здесь: прошло время пасхального звона колоколов, ликующих возгласов «Христос воскресе!» и братания на улицах.
У Жени он опять не был всю неделю: не хотелось объявляться голодным, да и вообще не хотелось ничего.
Но нынче совесть не дает ему покоя – это как сильный толчок изнутри. И вот он уже бежит на трамвай.
С тех пор как страница истории перевернулась, он уже заходит во двор через боковую калитку. Обычно он еще немного болтает с дворником – ему лестно, что тот принимает его за будущего хозяина этого красивого и большого дома.
Весьма странно, но сегодня Афанасия нигде не видать.
Ребман громко позвал его два-три раза.
Никакого ответа.
Тогда он пошел через весь двор, мимо дровяного склада, каретного сарая к флигелю, где жила прислуга: пусто!
По восьми ступеням он поднялся на верхний этаж:
«Что это со мной, я ведь не пьян? Это же их дом – но на дверях значится…»
Он позвонил.
Молодая, черноволосая пигалица с папиросой во рту наполовину приоткрыла дверь:
– Вы к кому, товарищ?
Ребман по-господски ответил:
– К хозяевам, которые здесь проживают!
– Это мы! Что вам нужно?
Ребман изменил тон:
– Убедиться, что я не пьян и в своем уме.
Чернявая оглядела его с головы до ног. Потом прокричала в глубину квартиры:
– Эй, Маша, выйди-ка посмотри, тут пришли!
Появилась еще одна, вульгарная крашеная блондинка:
– Ну что еще?
– Он не знает, что произошло, этот мистер буржуй. Мир перевернулся, пока он спал. Теперь он, видите ли, проснулся и не хочет верить своим глазам!
С этими словами перед самым носом у «будущего хозяина этого красивого и большого дома» захлопнули дверь.
Тогда он снова спустился вниз. Осмотрелся. Увидел жену Афанасия, которая стояла перед окном кухни в нижней квартире. Крикнул ей через весь двор:
– Где Афанасий?
Вместо ответа она затворила окно.
И тут Ребману начало становиться не по себе. Он снова побежал в дом. Внизу в подвале был слышен стук молотка. Афанасий сбивал ящики. Когда он увидел Ребмана, то приложил палец к губам:
– Тсс!
Ребман теперь уже не на шутку испугался:
– Что здесь творится? Почему наверху чужие люди и где?..
Дворник молча пожимает плечами. Только когда Ребман протянул ему красные керенки, которых Афанасий, впрочем, не взял, он сказал:
– Вы что же, не знаете, что случилось?!
И когда он увидел, что Ребман действительно ничего не знает, рассказал:
– Это было позавчера. Тут расквартировали чужих людей, они пришли с бумажками, так, мол, и так, – и разместились в доме. Я еще сказал Карлу Карловичу, чтоб он вел себя потише, так ему и сказал: «Не шумите, потому что с этими новыми шутки плохи!» Но Карл Карлович – мы же знаем, каким он был…
– Что ты говоришь, «был»?!
– Да, Петр Иваныч, был! Он начал требовать, чтобы все убирались и не хотел никого впускать, даже угрожал, что спустит всех с лестницы. Тогда они позвали комиссара. Что произошло потом, я узнал уже от других. С их слов, когда комиссар назвал его «товарищем», Карл Карлович заорал в ответ: «Я тебе не товарищ, подонок ты эдакий!» И тут раздался выстрел.
– А… а все остальные что: Евгения Генриховна и вся семья?
Дворник снова пожимает плечами:
– О них я ничего не знаю. В доме из господ никого не осталось.
Ребман отправился домой и немедленно позвонил Михаилу Ильичу: описал все что произошло и спросил, не может ли тот навести справки об этой семье?
Ильич, как всегда спокойно, ответил, что попытается, но обещать ничего не может.
Тогда Ребман начал приставать к Анюте. Не дает ей покоя, каждую минуту стучится: не узнала ли еще?
Пока однажды поздно вечером старый друг не вызвал его к себе.
Они поболтали о том о сем. Выпили чаю. Михаил Ильич спросил Ребмана, не слышал ли тот чего о членах их музыкального кружка: в последнее время ему было не до визитов.
– Между прочим, у меня для тебя есть должность.
Ребман, чуя неладное, сидит как на углях. Он выжидает, а потом для приличия спрашивает:
– Должность? Где и какая?
– Здесь, в Москве. На бойне.
– Давай без шуток. В качестве кого?
– Переводчика.
– Для двуногих или для четвероногих животных?
Михаил Ильич резко ответил:
– Да!
– Так для каких же?
– Для двуногих. Для тебя же стараюсь! У меня там целая куча американцев.
– На бойне?
– Ну да, там все устраивают на американский манер.
– И в чем же будут состоять мои обязанности?
– Нужно только осуществлять перевод, ничего больше. Там есть немцы, но они не знают русского, и эти янки не говорят по-немецки.
– Значит, нужно изображать переводчика, рассказывая, как лучше отправлять бедных четвероногих в мир иной…
– Нет, с ними будешь работать только тогда, когда проводят общее собрание. В остальное время нужно помогать в общении русских с иностранцами. Там возникают разночтения, как это бывает на предприятии, особенно теперь, когда все переустраивается. Оплата будет хорошая. Получишь право на свободное передвижение и мандат, который обеспечит тебе возможность дальнейшего трудоустройства и предоставит официальный вид на жительство. А ведь это теперь для тебя самое главное!
– А если я скажу «нет»?
– Тогда на тебя все шишки посыплются, а я не смогу тебя защитить! Подумай, прежде чем отказаться, семь раз отмерь. Для тех, кто заботится только о хлебе насущном и хочет вести уютную жизнь, в России теперь уже нет места!
Михаил Ильич отпил глоток остывшего чаю. Потом долго смотрел на стакан, затем на свою ладонь:
– А теперь о другом…
Ребман сидит, окаменев, сидит на своем стуле и не может пошевелить ни одним мускулом. Что теперь будет?!
Вот что он услышал:
– Мне жаль, что с твоими знакомыми так получилось, но они были сами виноваты, по крайней мере, один из них. Подобные выходки нынче совсем неуместны. Перекрестись и постарайся обо всем позабыть.
Ребман пролепетал голосом умирающего:
– Как… Всех?!
– Больше я тебе ничего сказать не могу, я сам при этом не присутствовал. Но если бы даже и присутствовал… Люди, кажется, никак в толк не возьмут, что теперь другие веяния. И некоторые вещи, по-моему, давно уже пора похоронить.
– Адье, – пробормотал Ребман и бегом выбежал на улицу.
Анюта оставила ему еще меньше шансов. Когда она услыхала, что он вернулся домой, то сразу вышла в коридор:
– По поводу ваших знакомых – оставьте попытки докопаться до правды, не то рискуете последовать за ними!
Она подняла палец:
– Бросьте вы это, Петр Иваныч, с ЧК шутки плохи, даже для нас это – правило!
И добавила:
– Если позволите дать вам совет, то соглашайтесь на должность, которую вам по дружбе хочет предложить Михаил Ильич. Теперь даже для швейцарца небезопасно проживать здесь без всякого на то основания и без определенных занятий!
– Почему вы говорите «даже для швейцарца»?
– Потому что товарищ Ленин к вам, швейцарцам, особенно благоволит. Но и это до поры до времени – только пока он сможет гарантировать вашу безопасность. Прислушайтесь к моим словам!.. И вывезите наконец свой табак, я уже не выдерживаю его запаха! Вы меня поняли?
Глава 21
От места на скотобойне Петр Иванович Ребман отказался. И табак не распродал. Он еще целый год промерз, проголодал, произворачивался во все более опасной советской России. Наблюдал, как изо дня в день целые колонны арестованных «буржуев» отправлялись в известное своей страшной репутацией главное здание ЧК, стоял на краю улицы и высматривал, нет ли среди арестантов кого-то из знакомых. А если замечал, то быстро отворачивался и шел своей дорогой: если себя обнаружишь, то загремишь следом. А тому, кто уже попал в ЧК на Большой Лубянке, света белого не видать более. Там не канителятся: нет документа – а у кого из буржуев, или интеллигентов, или других врожденных врагов пролетариата он есть? – разговор короткий: «На выход в эту дверь, гражданин!» А за дверью – пуля или шило в затылок. Китайцы, которых привезли специально для этой цели, истинные мастера своего дела: даже и следа от укола не заметишь, если внимательно не присматриваться.
Так говорили люди.
Ребман сам этого, конечно, не видел. Но как это было с Женей и ее близкими?.. Новые правители не стесняются, в их «Красной газете» всякий мог прочесть:
«На смерть каждого нашего товарища мы ответим смертью тысяч представителей большого капитала, офицерства, белогвардейцев, реакционного духовенства и буржуазной интеллигенции, – и этим мы добьемся желаемого результата».
А о тюрьмах рассказывали, что там, в темных сырых подвалах, заперто до пятидесяти человек в одной камере: пьяниц, сифилитиков, уголовников и политических вперемежку. Все пьют из одной посуды и спят при самых сильных морозах без одеял на голом полу. Права на защиту нет ни у кого, даже на свидания с близкими. Люди просто исчезают – и все. «Кладбищем живых» называли в народе эти казематы.
Да уж, все оказалось далеко не так, как обещали, – напротив, стало хуже, чем во времена самых страшных царей.
Как-то в одну из их редких в последнее время встреч Ребман заговорил об этом с Михаилом Ильичом.
– Вот теперь, – сказал он, – уже все видят, какой именно новый мир вы строите, это ясно даже ребенку!
Но Михаил Ильич становится все менее чувствительным к подобным упрекам. Он говорит, что революция – не воскресная прогулка: лес рубят – щепки летят!
– Да, я уже заметил. Но то, что даже женщины в этом участвуют, – вооруженные, в кожаных куртках! И они, говорят, зверствуют больше китайцев, им мало одного выстрела или удара ножом, им нужно непременно переломать своим классовым врагам все кости, изувечить несчастных так, чтобы даже их тела лишились последнего человеческого достоинства. Это тоже в интересах человечества?
– Нет, – ответил Михаил Ильич, – это просто реакция на все те страдания, которые женщинам пришлось перенести за всю мировую историю. Попробуй посмотреть на это с такой точки зрения, может быть, тогда ты скорее все поймешь.
Его невозможно вывести из равновесия, этого человека с квадратным подбородком и коротким широким русским носом. Можно устраивать какие угодно сцены – это все равно, что биться головой о стену.
Когда Ребман увидел, что их разговор ни к чему не приведет, он сказал:
– А тебе еще не приходило в голову, что это может коснуться и тебя?
Михаил Ильич ответил с таким видом, словно его спросили, знает ли он о том, что дважды два – четыре:
– Если так случится, то я, по крайней мере, отдам жизнь за правое дело, а не просто пойду на бойню в огромном стаде баранов.
Нет, его ничем не проймешь, не возьмешь ни логикой, ни чем-либо другим. Он твердо убежден в том, что его партия идет единственно верным путем, и этой дорогой они придут к цели, даже если придется перейти вброд потоки крови.
В остальном Ребман ведет цыганский образ жизни. Засиживается в кафе до полуночи, а то и до часу ночи. Потом до полудня лежит в постели – так меньше донимает голод. Праздно шатается, не в состоянии подумать ни о чем ином, кроме еды, эта мысль не оставляет его ни днем, ни ночью. Деньги пока еще есть, табачный склад держит его на плаву. А когда все кончится, они с братом Карла Карловича провернут новую сделку – только уже пополам, а не на троих!
А в хорошую погоду, он идет на веслах к Воробьевке. Не ради Ольги: после ужасного Жениного конца он всех женщин, включая и Ольгу, на дух не переносит. Единственным исключением остается Нина Федоровна. И вот курьез: как только Ольга заметила, что стала Ребману безразлична, она начала бегать за ним, как курица за петухом. Теперь уже наша красавица сама перед ним стелется.
Как-то вечером он сидел в «Лубянском кафе», прихлебывая чай, курил и слушал музыку. Здесь у него теперь свой собственный столик: блондинка Лидочка, официантка, всегда держит для него место с тех пор, как заметила, что он любит побыть один. Впрочем, по вечерам сюда уже мало кто заходит. Однако, в тот вечер, около десяти, зашел маленький пожилой господин, которого здесь до этого никто не видел: с лысиной, как у еврейского адвоката, опустившийся с виду. Он осмотрелся. И подсел за столик к Ребману, не здороваясь и не спрашивая разрешения, как это принято в России. Оркестр как раз играл одно из любимых произведений швейцарца. Когда музыка смолкла, коротышка одобрительно кивнул своей гладкой, как бильярдный шар, головой: недурно! Однако не аплодировал. Когда он заметил, что капельмейстер улыбается его соседу по столику, то спросил:
– Кажется, вы здесь постоянный посетитель? – У него была речь культурного человека, поэтому Ребман кивнул:
– Да, это мой друг.
– Так вы специалист?
– Да, но не в музыке, здесь я просто слушатель.
– Это тоже искусство. – И после некоторой паузы он добавил: – Вы ведь англичанин, не так ли?
– Нет, я, к сожалению, всего лишь швейцарец.
Маленький человечек широко раскрыл глаза и удивленно спросил:
– Как вы можете так говорить? Я знаю людей, которые отдали бы полжизни за возможность стать швейцарцами: тогда им не нужно было бы ни от кого прятаться и они могли бы делать, что заблагорассудится. Ну да Бог с ними! Лучше не говорить об этом, и без того тяжело.
Когда концерт закончился и Ребман поднялся, новый знакомый попросил разрешения немного проводить его.
– Разумеется, с удовольствием, – последовал вежливый ответ, – но это и вправду лишь несколько шагов, так как я живу за углом. А вы?
– Я? На каждой скамейке в Сокольниках или где угодно, везде, где я могу на это решиться.
Лишь теперь Ребман вспомнил, что у его спутника был совершенно мокрый рукав, когда он в кафе положил руку на стол. Раньше он не придал этому значения. На незнакомце не было даже плаща. Когда они подошли к Милютинскому проезду, Ребман спросил:
– Могу ли я вас пригласить на чашку чаю? Я как раз здесь живу.
Старик ответил просто:
– С превеликой радостью, так пройдет еще часок под крышей.
Наверху Ребман ставит чай, сахар (свой рацион за квартал), достает «неприкосновенный запас», который собрал на всякий случай: копченую колбасу, четверть фунта соленого масла и пачку сухарей. Предлагает угощение гостю, но тот отказывается:
– Нет, нет, я не имел в виду еду, не хочу вас грабить.
Ребман ответил с упреком в голосе:
– Вы не русский, если откажетесь. Разве вы не знаете, что обидите этим хозяина? К сожалению, у меня только одна кровать, но и это можно устроить.
– По старорусскому обычаю? – спросил гость, который тем временем начал есть, но как-то манерно: колбасу – крохотными кусочками, сухари – по крошечке, чай – по глоточку. Ребмана это очень удивило. Он спросил:
– Что вы имели в виду, когда сказали «по старорусскому обычаю?»
– Это вы о кровати? Знаете, как поступали в старые добрые времена?
– Полагаю, уступали место гостю, это было бы так по-русски.
– Ну, нет! По-русски было бы вообще не ложиться, сидеть до утра, вот это по-русски.
Потом, когда незнакомец поел, перекрестился и поблагодарил хозяина, он спросил:
– Для чего вы, собственно говоря, здесь остаетесь? Чего еще ждете от этой страны?
– Чего я жду? Того, что предсказывал мой ныне покойный друг.
– Что же он предсказывал?
– Что большевистский режим распадется, как карточный домик, и что в России снова будет царь, только совсем иного рода, нежели Николай Александрович. И что жизнь станет и лучше, и красивее, чем прежде, будет по-настоящему прекрасной.
Гость улыбается впервые за весь вечер:
– Поверьте человеку, который знает игру лучше, чем ваш друг, хотя сам при этом не имеет никаких перспектив. Мне знакомы все те иллюзии, которыми все еще живет определенная часть русского общества. Да, будет еще царь – в русской толпе без кнута не станешь главным, – но никак не мудрый. Весь народ поставлен на кон и ставка проиграна. Уж в этом мне поверьте: мудрый царь никогда больше не придет! Примите мой совет: уезжайте, пока не поздно. Оставьте все и уезжайте из России подальше!
– Это мне советовали еще до революции.
– То был добрый советчик, кем бы он ни был. У России нет больше будущего, для людей нашего сорта, по крайней мере. Всех нас они уничтожат, я имею в виду политически.
Ребман качает головой:
– Даже если, как вы говорите, эта страна не имеет никаких перспектив, я все равно буду лезть из кожи вон, чтобы только не вернуться обратно в Швейцарию. Там я менее дома, чем где бы то ни было. Я остаюсь в России!
– Даже и теперь?
– Да, даже и теперь. Поймите меня правильно. Я говорю о той России, которую я узнал, не о нынешней. Этой я не знаю и еще менее признаю. Но, несмотря на происходящее, я верю в Россию. Добро в русском народе никогда не может иссякнуть.
Он молчит. Предлагает гостю папиросу. Они курят. В ходе разговора выясняется, что перед Ребманом не кто иной, как сам камергер последнего царя, человек из высшего света, княжеского звания. До сих пор наш швейцарец особенно не размышлял о царской семье и ее окружении, рассматривая этот круг как весьма неприглядное и для него скорее отвратительное общество. «До неба высоко, а до царя далеко», – говорит пословица. Того же мнения держался и Ребман: «Здесь в Москве я чувствую себя дома, ощущаю твердую почву под ногами. Что мне до царя и до всей его клики!» Еще у Карла Карловича или у пастора, когда велись разговоры, содержание которых сводилось к тому, что «Николашка как человек, возможно, и неплох, но царь из него – хуже некуда!», Ребман разделял это расхожее мнение. Но после известия о трагической смерти августейшего семейства его неприятно поразила реакция русского народа: дескать, правильно, что его, как собаку, пристрелили в Сибири, туда ему и дорога! Только тогда в Ребмане проснулось что-то вроде сожаления и мысль о том, что Николай Александрович все же не был чудовищем, каким многие пытались его представить, и вряд ли заслуживал этой всеобщей ненависти.
– Но тогда и вам не приходится ожидать ничего хорошего, – подумал Ребман вслух. Маленький человечек только пожал плечами:
– Мы получили по заслугам, нечего себя жалеть. Люди, которые ничего не создают, а только наследуют созданное другими, не вправе ожидать иной участи.
Эти слова, произнесенные без тени намерения пробудить в собеседнике сочувствие или симпатию, импонируют Ребману более любых разглагольствований о том, как плохо теперь поступают с аристократией. Они убедительнее всех речей Михаила Ильича. «Вот один из аристократов, о которых читаешь в романах», – думает он. Теперь он обращается к собеседнику совсем иным тоном:
– Не хотите ли еще что-нибудь рассказать? Мне все это очень интересно. Будучи швейцарцем, я ведь никогда не имел возможности сблизиться с людьми этого круга. Неужели вы имели общение с царской семьей, как теперь со мной?
Старик улыбается:
– Нет, не так запросто. При всей доброте, которую они излучали, действовал определенный этикет, границ которого мы не могли переступить, к этой черте и приблизиться было невозможно. Но, когда человек так долго, как я, несет эту службу, предписания этикета становятся частью его природы.
Он прикуривает свежую папиросу. Глубоко затягивается, выпускает дым сквозь зубы:
– Почти все те, кто никогда не был допущен в это общество, никогда не наблюдал его вблизи, полагают, что жизнь русского царя и его присных – это сплошное счастье и великолепие. На самом же деле, все как раз наоборот. Деньги и положение не делают человека счастливым, они берут его в оборот, принося лишь заботы. Чем выше ранг, тем этих забот становится больше. Вы счастливы потому, что можете говорить то, что думаете, думать, как вам заблагорассудится, идти к тому и с кем, и куда вы хотите. Вы – свободные и, вследствие этого, счастливые люди. Те, другие, живут в золотой клетке, им указано и предписано все уже с раннего возраста, они не могут себе позволить быть просто людьми, быть самими собой. Это им не разрешено. Они должны играть свою роль, как в театре, всегда, даже в повседневной жизни. Нет, дорогой друг, быть царем несладко.
– Это правда… Однажды молодой аристократ, мой первый ученик по приезде в Россию, – я, кстати, тоже был его первым гувернером, – рассказывал мне анекдот о рождении Николая Александровича. Тогда меня поразило то, что подобное можно услышать из уст русского дворянина. Вы знаете этот анекдот?
– Я знаю множество анекдотов о Николае Александровиче – хороших, а чаще язвительных. Так что, если бы я даже хотел припомнить их все…
– О том, как он родился без головы…
– Нет, этого я никогда не слыхал. И что же?
– Что он появился на свет без головы. Тогда доктор заказал у печника голову и прицепил на плечи. Вот эта голова и правила Россией.
Старик пожимает плечами:
– Да нет, неправда. Николай Александрович вообще не правил – это противоречило бы его убеждениям. Тот, кто сочинил этот анекдот, совершенно не знал его.
– А кто же тогда правил?
Камергер смотрит вверх:
– Сам Бог. Царь был просто его наместником. Вы не знали об этом? Ведь человеку невозможно править Россией, это может лишь один Господь Бог. И Его помазанник, царь, Ему одному доверял абсолютно, от всего сердца. Николай Александрович верил в это, как никто другой. Только вникнув в эту веру, можно правильно оценить его как человека. Теперь же он там, на небесах. Мы же, я имею в виду его подданных, не были ему достаточно верны, – вот и проиграли партию.
Он рассказывает Ребману всю историю жизни несчастного царя, появившегося на свет 13 мая, в день Иова Многострадального. 13-го же числа состоялась и его коронация. Тринадцатым по счету был он и в династии Романовых. Вследствие этого его царствование над суеверным русским народом могло стать только несчастным царствованием, иначе и быть не могло.
Перед Ребманом, словно кадры из фильма, проходят события: вот в день коронации в Успенском Соборе в Москве звучит клятва царя: «…охранять основы православной веры и самодержавия, ни с кем не разделять ответственность перед Богом за судьбу народа и государства!» А вот он выступает седьмого января в большом концертном зале Зимнего дворца перед Дворянским собранием, городскими и уездными головами: «Да будет ведомо всем, что я, посвящая все свои усилия благосостоянию народа, буду крепко хранить основы самодержавия, как это делал незабвенный и приснопамятный отец мой. Я во всеуслышание заявляю об этом!»
И позже, когда Лев Толстой написал государю, сколько добра могло бы сделать его правительство русскому народу и ему самому, и сколько зла оно сотворит, если он и далее будет править в том же духе, – он ответил писателю, обратившись к заученной мистической формуле: «В Успенском соборе я поклялся власть, доверенную мне Господом, ни с кем не разделять. Непорочным принял я иго самодержавия, непорочным передам его моим наследникам!» Ни прошения дворянства, ни петиции, ни депутации, ни пули и бомбы террористов не смогли в течение двадцати четырех лет царствования сдвинуть его с этой позиции.
В этом была тайна Николая Александровича: верность своей клятве до горького конца, который оказался более трагичным, чем конец библейского Иова. Со страстным воодушевлением, ведомым лишь русскому человеку и вовсе неизвестным за пределами России, недоступным чужому пониманию, верил он в свою Божественную миссию и обязанность не отступать от нее ни на шаг. И только убедившись, что окончательно проиграл, он отрекся.
– Но то, что он оставил народ в грязи, нищете, невежестве, что посылал полицию в поместья и деревни, чтобы предотвратить открытие школ, – что вы на это скажете?
– Я его не сужу, я только хотел попытаться объяснить… Ах, не стоит продолжать этот разговор!
Они сидят до рассвета. Ребман подает гостю полотенце и мыло, чтобы тот мог пойти умыться. Затем он приглашает его вместе позавтракать.
Они направляются в приват-пансион, где питается Ребман. Таких теперь по городу множество: все, у кого большая квартира и поместье в деревне, а также те, у кого есть поставщик продуктов, открывают подобные заведения. Старик говорит, что у него есть еще одно дело к молодому другу.
«Сейчас он меня надует», – забеспокоился Ребман. Но камергер лишь спрашивает, не знает ли он кого-нибудь, кто покупает серебро.
– Серебро? Вы имеете в виду монеты?
– Нет, только произведения русских мастеров: пуншевый и чайный сервизы, письменный прибор чудесной ручной работы и прочее в том же роде.
Ребман изменился в лице, как будто старик спросил, нет ли в его окружении человека, готового взорвать ЧК:
– О, это трудный товар! Кто нынче такое купит? Одежда, белье, драгоценности, – еще куда ни шло, но такое… Что с этим делать?
– Да, знаю. И все же жить как-то надобно. Одежда, украшения, – все уже давно…
Ребман размышляет. Потом говорит:
– Попробую. Но не могу ничего обещать. Моих друзей, которые, скорее всего, купили бы что-то подобное, уже нет в живых. Могу ли я посмотреть эти вещи?
– Конечно. Если изволите, можно прямо сейчас. Я бы охотно оставил вам адрес, но в наши времена никакая предосторожность не кажется излишней.
Уже через полчаса Ребман карабкается по узкой темной лестнице на чердак дома в переулке около Тверской. Останавливается. Оглядывается. Прислушивается. В конце концов стучит в дверь…
Ни звука.
Толкает: заперто. Дома в Клеттгау он бы при подобных обстоятельствах как закричал бы «хо-ле-хо-о!», весь дом бы проснулся. Но тут так нельзя, и тому есть много веских причин.
Полвечности стоит он так и не слышит ничего.
«Принял меня за простака? Или он агент полиции? Но тогда он бы впустил меня и показал бы свои сокровища. Нет, он не из ЧК! Ребман простоял так какое-то время и уже собирался спускаться, но тут приотворилась дверь, которой он и не заметил, над приступкой у входа на чердачную лестницу. Тихий голос спросил:
– Кто там?
– Это вы, Александр Сергеевич?
Тут дверь открылась уже наполовину, и чья-то рука втащила Ребмана сначала на лестницу, а потом и на площадку. А там – и в каморку под самой крышей. Так вот где обитает бывший камергер императора Николая II.
– Здесь темно, – говорит камергер, – но и при свете обстановка мало напоминает жилище того, кто почти всю жизнь провел во дворцах. Но здесь для меня безопаснее всего. К сожалению, не могу предложить даже стула, впрочем, как и чего-либо другого. Я ведь здесь не ночую – это было бы слишком рискованно – только храню свои вещи.
Ребман спросил:
– Нельзя ли снять с окон эту бумагу или что у вас там?
– Ни в коем случае! Лучше подождем, пока ваши глаза привыкнут к полумраку, а потом еще и свечу зажжем. У меня есть, успел купить по дороге.
Затем, когда глаза Ребмана стали как у кошки, старик распаковал свои сокровища.
Они были спрятаны за запыленным хламом. О, теперь исчезла даже и тень сомнения!
Это не мошенник, этот человек действительно видел лучшие времена. Ребман переводит взгляд с одного предмета на другой. А из кучи старого тряпья появляются все новые вещицы: серебряный письменный прибор с подставкой для письма, огромный, массивный, ручной ковки; хрустальные чернильницы с серебряными крышечками – настоящая баккара. Два подсвечника, тоже ручной работы, с серебряными фигурками. Чаша для пунша, украшенная еще красивее и богаче, чем все остальное; к ней – двенадцать чашек, маленькая разливная ложка, – все с массивной позолотой внутри и, вероятнее всего, не бывшее в употреблении. Чайный сервиз, также позолоченный, и настоящие бокалы баккара с позолотой. И тому подобное – целое музейное собрание!
– Знаете, как определяют, настоящие ли бокалы? Вот так, – говорит камергер, берет один бокал в руку и щелкает по нему ногтем. – Вот как должно звучать, как колокольчик, – тогда настоящие.
Ребман почти ошалел от увиденного: ничего подобного он еще никогда и нигде не видал, даже в семье Ермоловых в Брянске.
– Да у вас тут целое состояние: только по весу более полуцентнера, не считая работы и золота. Вы не взвешивали?
– Здесь два с половиной пуда, около сорока килограммов. Может быть, разница в один-два фунта, не берусь точно сказать. Я бы, конечно, не хотел продавать на вес, это ведь вещи, которые не каждый день увидишь, – все подарки Их Величеств!
«Их Величеств», – сказал он так, что Ребман понял: для этого человека царь не мертв, великий и могущественный, для него он жив, на все времена.
Камергер вздыхает:
– В этих вещах половина моей жизни, ими мы никогда не пользовались, только любовались, для нас их место – в святом углу. И вот теперь… Я рад, что хотя бы не вынужден…
«Сколько ему может быть лет, – гадает Ребман, – наверняка уже около семидесяти».
И, словно читая его мысли, камергер говорит:
– Как вы думаете, сколько мне лет?
– Трудно сказать при таком освещении… – пытается уйти от ответа гость.
– В любом случае, если бы вы попытались угадать, то сильно промахнулись бы. Я на добрый десяток лет моложе, чем мне обычно дают. Но после всего, что пришлось пережить!..
Ребман возвращает разговор в прежнее русло:
– Я все равно должен знать, что вы хотите за это получить. О цене меня спросят прежде всего.
Камергер вынимает записку:
– Вот, я тут написал: и по отдельности, и если все вместе. Разберетесь дома. И не заставляйте меня слишком долго ждать.
Затем Ребман помогает снова собрать вещи. Говорит, где его можно найти: в будние дни он вечерами бывает в «Лубянском кафе».
– Там можно оставить записку на случай, если меня не застанете.
С этим он уходит. Придя домой, разумеется, заглядывает в список и не верит своим глазам: «Он готов отдать всю эту красоту по бросовым ценам! За такие деньги даже я возьму все! Да, возьму! Непременно возьму! Это же вещи, которые еще год назад невозможно было купить ни за какие деньги! Я должен заполучить это серебро!»
Только через три дня камергер снова пришел в кафе. Довольно поздно. Сел за столик недалеко от Ребмана. Взял стакан чаю. Подождал, пока закончился концерт. Потом расплатился и вышел. Ребман через несколько минут последовал за ним. «Может быть, старик уже все продал», – промелькнуло у него в голове. И им внезапно овладело чувство потери чего-то прекрасного.
Но ничего еще не продано, роскошное серебро по-прежнему хранится на чердаке в переулке у Тверской. Когда Ребман догнал камергера в Милютинском проезде, тот объяснил, что просто не хотел привлекать к себе излишнего внимания.
«А ведь наверняка жил эти три дня впроголодь», – думает Ребман и снова ведет его к себе. Сразу ставит чай. Выкладывает на стол весь свой рацион за квартал. И гость ест. Поев или, вернее, опять немного поклевав, он перешел к делу:
– Ну как? Простите мое нетерпение, проявлять любопытство вообще-то не в моих правилах.
Тут Ребман ему сообщил, что он решил все купить сам – для себя, на память:
– Я заплачу вам за все сейчас же.
Когда уже начало светать, он собрал свои сокровища, запаковал их в старые бельевые тряпки и сложил в ящик из-под табака. Затем взял извозчика и среди бела дня, по оживленным улицам, поехал просто в сторону отделения милиции у Большого театра на Лубянской площади. Совершенно спокойно расплатился с извозчиком и понес свой груз сначала через двор, а потом – к себе наверх. Распаковал. Рассортировал и расставил все на полу. Посредине поместил бокал с памятной медалью в честь коронации императрицы Елизаветы. Именно эту вещь камергер почитал почти как святыню. Потом Ребман еще долго сидел, созерцая свои приобретения, и радовался, как ребенок, разглядывающий подарки под рождественской елкой.
Глава 22
Все следующее лето Ребман еще оставался в России, несмотря на то, что теперь здесь стало действительно опасно, – намного страшнее, чем в те времена, когда он пересек границу в Волочиске и испугался стоящего на перроне «Голиафа» в мундире царского полицейского. Петр Иванович живет впроголодь. Помогает в получении паспорта жене бывшего немецкого генерального консула, урожденной американке, чтобы она могла выехать из страны; даже провожает ее на вокзал и находит сидячее место в переполненном до отказа поезде. Ездит на Воробьевку, где ничего не изменилось, и все по-прежнему принадлежит яхт-клубу.
Однажды парни то ли из Москворечья, то ли из какой-то другой подмосковной деревни попытались искупать своих лошадей в реке как раз у клубного дома. Их встретили четверо «геркулесов» и поломали об них весла. После этого визиты прекратились. И Петр Иванович Ребман, наверное, уже никогда бы не вернулся в Швейцарию, если бы сама судьба не подала ему последний и окончательный знак.
В один из дождливых вечеров, вместо того чтобы, по обыкновению, поехать в клуб, он пошел в кафе, сел на привычное место, которого у него никому не отнять: Лидочка всегда говорит, что оно занято, даже когда он не приходит. Так ему рассказывал капельмейстер.
Перед тем как выйти из дому, он еще раз достал свои сокровища, расставил на полу и никак не мог налюбоваться. Затем опять упаковал и спрятал в тайник. Потом уже неизвестно в который раз подсчитал, сколько у него еще осталось табаку и во сколько раз поднялась цена за его хранение у брата покойного Карла Карловича. Оделся и отправился на выход.
И вот он сидит и снова слушает игру Ларионовича, который великолепно исполняет свое соло. Он играет соль-мажорную арию Иоганна Себастьяна Баха. Музыкант едва успел доиграть эту прекрасную арию до половины, как вдруг двери распахнулись настежь. Вошла черная «кожанка», за ней – полдюжины красногвардейцев с винтовками наперевес, с примкнутыми штыками. Они сразу расположились у всех выходов.
– Всем оставаться на местах! Никому не покидать помещения! – прокричал тот, что в кожанке.
Затем он в сопровождении двух бойцов совершил обход залы с требованием предъявить документы, которые в России необходимо всегда иметь при себе.
За первым же столиком был обнаружен некто, не имевший при себе бумаг. Его отвели к выходу, под охрану двоих красногвардейцев.
Проверяющие шли дальше, от столика к столику. У выхода собралась уже целая группа лиц без документов, все с побледневшими от страха лицами.
Оркестр, между тем, начал играть вальс.
А количество бледных людей у дверей все увеличивалось.
Теперь уже комиссар в кожанке был в двух столиках от Ребмана.
Тот совершенно спокойно залазит во внутренний карман пиджака – и тут приходит его черед побледнеть: у него тоже нет с собой паспорта! Из-за серебра, и табака, и всех своих подсчетов он забыл его взять, когда надевал другой костюм. Вот уже шесть лет как Ребман в России, а такого с ним еще не случалось: ни в концерт, ни в театр, ни в гости к знакомым, ни даже в церковь – никуда не выходил он без паспорта в кармане. А с тех пор, как начались беспорядки, он его даже перед сном клал на ночной столик. И никогда еще этот документ не был ему так необходим, как сегодня, сейчас, сию минуту – как раз тогда, когда его при нем не оказалось!
Капельмейстер заметил, в чем дело, однако дал понять другу, что это не такая трагедия, как кажется.
Но тут человек в кожанке с сопровождающими его гвардейцами подошел к столику Ребмана:
– Ваши бумаги, товарищ?
Он произнес это очень вежливо и совсем негромко.
– К сожалению, их у меня при себе нет, – так же вежливо ответил Ребман и объяснил, как все вышло. – Но я не русский, я – швейцарец…
Комиссар указал в сторону двери:
– Попрошу!
И Ребману показалось, что все теперь смотрят на него, указывая пальцем: «Вот, попалась наконец-то птичка прямо кошке в лапы!»
На этом проверка документов завершилась. Задержанных вывели под конвоем.
Сколько раз Ребман наблюдал, как десяток или два бледных фигур в окружении красногвардейцев входили в здание ЧК на Лубянке. При этом у него каждый раз мурашки пробегали по спине: «А что, если я следующий?» Но он тут же забывал об этом, и табак оставался на своем месте, он его даже не переупаковывал. А теперь ко всему прочему прибавились еще более опасные вещи!
Когда они проходили по Милютинскому проезду, Ребман сделал еще одну попытку:
– Товарищ комиссар, – обратился он к «кожанке», – вот здесь как раз мой дом, позвольте же мне…
– Пошел! – прозвучал короткий и уже вовсе не вежливый ответ.
И тут Ребману стало не по себе: если уж привели в ЧК и стали допрашивать – твоя песенка спета, никакой Михаил Ильич не поможет. Он и сам достаточно ясно дал это понять: «Даже и не звони мне, если что-то произойдет – я и пальцем не пошевелю, я вообще тебя не знаю!»
Группа медленно идет сквозь дождь. Никто не говорит ни слова. Никто не знает, что его ждет и кто идет рядом. И комиссар, и красногвардейцы тоже этого не знают. Они просто исполнили приказ. А что будет дальше, уже не их дело.
Тут раздалась команда: «Стой, нам сюда!»
И когда Ребман поднял голову, у него по спине потекли струйки холодного пота: это действительно здание ЧК!
Они проходят в помещение комиссариата.
Открылась дверь. Всех арестантов затолкали за решетку, в помещение, уже переполненное людьми.
– Если не хотите простоять всю ночь, придется лечь на пол, – сказал один из красногвардейцев.
Когда дверь закрылась, Ребман собрал все свое мужество и попросил разрешения позвонить по телефону.
– Кому? – поинтересовался комиссар, который уже успел повесить куртку и фуражку на вешалку, снять пистолет и сесть за стол.
Ребман назвал имя той, которую раньше считал обыкновенной стенографисткой и которая потом оказалась одним из руководителей большевистской партии.
Комиссар осекся:
– Что вам нужно от Анны Гавриловны? Вы с ней знакомы?
– Я у нее квартирую.
Тогда комиссар указал на телефонный аппарат, стоявший рядом с ним на столе.
Затем приказал охране:
– Закройте дверь!
Ребман снял трубку и попросил соединить его с номером 24–55.
– Двадцать че-ты-ре-пять-де-сят-пять? – медленно повторила телефонистка.
– Да, пожалуйста!
Прошла, казалось, целая вечность, пока на другом конце провода не отозвался заспанный голос:
– Это вы, Екатерина Андреевна?
– Кто это говорит?
– Это я, Петр Иванович. Анюта дома? А Маруся?
– Нет, они в театре, – донеслось в ответ.
– А когда придут домой?
– Не знаю. Но наверняка поздно. А в чем дело?
Ребман попытался вкратце изложить суть.
Но хозяйка сразу его оборвала:
– С ЧК мы не желаем связываться, это слишком опасно!
И повесила трубку.
Ребман чуть было не рассмеялся.
– Ну и что? – спросил комиссар.
– Дома одна мать. Старая дама до сих пор не знает, кто ее дочь.
– Но вы ведь знаете?!
– Я-то знаю!
– Зато я не знаю, кто вы такой! – отрезал комиссар. Потом добавил:
– Если там больше нет места, можете ночевать здесь, на этом стуле.
Ребман вежливо поблагодарил и сел на стуле у стены.
Когда комиссар зажег папиросу, Ребман спросил, можно ли ему тоже закурить.
– Конечно-конечно, – снова довольно вежливо ответил комиссар. Затем он начал писать, очевидно, рапорт.
Ребман стал его изучать: еще совсем молодой, точно не старше его. Судя по всему, еврей: тонкое бледное лицо, маленький своевольный лоб, черные вьющиеся волосы, темные глаза, брови длинные, до ушей, и так близко сросшиеся на переносице, что между ними даже спички не вставишь. И тот же безжалостный взгляд, что всегда появлялся у Михаила Ильича, когда разговор заходил об определенных вещах: дикий взгляд азиата, от которого холодеет сердце. А в остальном он сидит себе, словно школьник, которому на дом задали сочинение и который хочет непременно заслужить хорошую оценку. Тут Ребману пришло в голову, что и шеф ЧК тоже вполне «приличный» человек: говорят, в свободное от работы время он только и делает, что музицирует и выращивает розы!
«Стоит ли попробовать еще раз?» – думает Ребман.
Он хотел попросить Михаила Ильича поручиться за него или хотя бы объяснить комиссару, кто он такой; ведь дело, судя по всему, только в этом. Но тут он припомнил, как один знакомый однажды говорил, что ни в коем случае нельзя никого впутывать в такие дела, не то пострадают оба. Так уже случилось с одним из его друзей, и после ни о нем, ни о его поручителе больше никто не слыхал. Да, этого делать никак нельзя!
В подобных ситуациях мозг всегда работает безотказно, и, поразмыслив немного, Ребман спросил:
– А вы знаете Михаила Ильича Аленьева, товарищ комиссар?
– А вы знаете Владимира Ильича Ленина?!
– Только по имени, лично нет. Но Михаила Ильича я знаю лично. Можно ему телефонировать?
Комиссар согласился, с видимым раздражением:
– Звоните. Но на этом уже конец. У нас здесь телефон не для арестантов!
Ребман заказал номер.
Занято.
Значит, он дома.
Еще одна попытка.
Все еще занято.
Еще раз. И вот он получил ответ:
– Нет, Михаила Ильича нет дома… Будет только на следующей неделе!
Получив это известие, Ребман снова сел на свой стул и закурил последнюю папиросу. Время подходило к полуночи. Из помещения за решеткой доносились храп и стоны. Вдруг раздался стук в дверь.
– В чем дело? – проворчал часовой.
– Мне нужно выйти!
– А что, если каждому понадобится?
– Да, но мне нужно, я же не могу прямо здесь…
– Выпустите его, – говорит комиссар, – и проводите!
Охранник отворил дверь и вышел вместе с арестантом.
Через некоторое время они вернулись. Арестанта снова заперли в камере.
Потом все стихло. Слышно было только, как скрипит комиссарское перо и как время от времени хрипят и стонут за решеткой.
«Что же теперь будет? – думает Ребман. – До утра я просижу здесь. Потом они пошлют обыскать мою комнату. И тогда все пропало: пиджак, в кармане которого остался паспорт, висит в шкафу, а когда шкаф откроют, то нужно быть начисто лишенным обоняния, чтобы не услышать запаха табака, и к тому же слепым, чтобы не заметить серебряного сервиза – да еще с императорской дарственной надписью! Предположим, для табака еще можно найти какое-то оправдание, например, что я его приобрел еще до переворота. Но сервиз?!»
Как случилось с тем господином Лухзингером (об этом ему рассказывал пастор), у которого в доме хранилось несколько бутылок вина еще со времен золотой свадьбы его родителей. Из-за этого ему пришлось целую неделю вместе с другими представителями высшего общества, включая дам и их дочерей, чистить в казармах клозеты. Понадобились невероятные усилия для того, чтобы его оттуда вытащить. А отец этого господина был не кем иным, как консулом Швейцарии!
«Что же будет со мной? Пуля или шило в затылок?»
Ожидание, неизвестность, страх и усталость настолько одолели Ребмана, что он весь покрылся потом и был близок к тому, чтобы закричать во весь голос:
– Да, я – спекулянт и торгую на черном рынке! Тогда-то и там-то я совершал свои сделки! Доказательства вы найдете под днищем моего шкафа! А теперь делайте со мной, что хотите!
Но когда он открыл рот, то услышал свой голос, обращенный к комиссару:
– Вы тоже должны всю ночь просидеть здесь, товарищ комиссар?
Комиссар не отвечает, только рукой сделал Ребману знак, чтобы тот замолчал.
И вновь какое-то время не было слышно ничего, кроме скрипа пера на бумаге.
«Здесь, как в морге, но это кладбище живых», – пронеслось в голове у Ребмана. О, как он только не молился, чего только не обещал, лишь бы выйти живым из этого страшного здания! Но долготерпению Божию тоже есть предел…
Вдруг послышался звук шагов на лестнице.
«Новую партию привели», – подумал Ребман.
В дверь постучали.
– Войдите, – прокричал комиссар.
И каково же было удивление Ребмана, когда он увидел… весь оркестр «Лубянского кафе» в полном составе, даже престарелая Марфа Ильинична была здесь. Все девятеро вошли в кабинет, и, словно сквозь сон, он услышал голос капельмейстера:
– Товарищ комиссар, мы пришли сюда ради нашего друга, – тут он указал на Ребмана, – чтобы поручиться за него. Он совершенно безопасный человек, в отношении него мы готовы взять на себя любые гарантии!
Комиссар протянул капельмейстеру записку:
– Это он?
– Да-да, Петр Иванович Ребман, швейцарский гражданин. Так и есть, мы это видели в его паспорте собственными глазами.
– И то, что он проживает по указанному адресу, тоже верно?
– Так точно, он проживает у матери…
– Хорошо-хорошо, имен можете не называть. Ну что ж, под вашу ответственность! Распишитесь за весь коллектив вот здесь. И еще вот что, – обратился он уже к Ребману, – сегодня утром, – он посмотрел на часы, – ровно в девять, вы явитесь сюда и предъявите мне ваш паспорт. Можете быть свободны!
И тут он сдался. Как только Ребман уладил дело с комиссаром – это стоило ему еще одной бессонной ночи – он отправился в консульство, чтобы записаться на следующий поезд, отправляющий русских швейцарцев на историческую родину.
Когда швейцарцы поняли, что уже ничего не поделаешь, они стали возвращаться домой всеми возможными и невозможными путями: через Финляндию, Бессарабию, и даже по маршруту «Сибирь – Япония – Америка». А теперь уже и швейцарское государство помогает, организует транспорт, который должен отправиться в ближайшее время. Этим транспортом хочет воспользоваться и Ребман. В один миг ему стало очевидно: от грядущей России ему ничего ожидать не приходится.
Он уже не гадает, чем станет заниматься в Швейцарии. Когда окажется на месте, тогда нужная дверь в нужный момент и откроется. В крайнем случае, снова отправится в деревню учительствовать или пойдет на военную службу, или в пограничники. Пастор говорил, что теперь появилась и такая возможность.
«Решено: даже если придется пасти коров – возвращаюсь домой!»
– Хорошо, – ответил ему чиновник в консульстве, – только не следующим поездом – на него уже нет свободных мест. Но позже будет еще один.
– Позже? А когда это «позже»?
– Через месяц или полтора, в зависимости от того, когда прибудут швейцарцы из Сибири.
– Но еще один точно будет?
– Еще один будет!
– Совершенно точно?
– Можете быть уверены!
– Ладно, тогда я сейчас же на него записываюсь. Сколько это будет стоить?
Чиновник назвал сумму.
Ребман смеется:
– Столько же у меня здесь уходит за неделю. И как долго мы пробудем в пути?
– Тоже около недели. Если за это время ничего не произойдет.
– Тогда я еще успею совершить сделку, – не изменяя самому себе, заметил Ребман.
– Да, если вы только не оставляете здесь фабрики или завода. Но это, насколько я знаю, не ваш случай. Можете радоваться по этому поводу.
– Так, значит, это дело решенное?
– Пока да. Мы вас будем держать в курсе событий. Адрес у вас остался тот же, Трехсвятительский переулок?
– Конечно, нет, давно сменился! Я же сообщал о своем переезде.
Чиновник проверил:
– Верно, здесь новый адрес. Я совсем позабыл. Так что до скорой встречи!
Уже на лестнице Ребман обернулся:
– А это точно, что еще будет эшелон? Я так хочу домой!
Чиновник оторвался от работы и, подняв удивленный взгляд на Ребмана, вытянул лицо:
– Та-ак, значит, из Савла все же получился Павел? Долго же пришлось дожидаться!
Но Ребман не попался на этот крючок, он просто спросил:
– Да, вот что я еще хотел узнать: что можно брать с собой?
– Вы имеете в виду, какую сумму денег? Тысячу рублей.
– А кроме денег?
– Одежду, белье и так далее, – то, что на вас надето.
– А ценности и тому подобное?
Чиновник предостерегающе поднял в палец:
– Ни в коем случае, господин Ребман, это строго воспрещается! Нам пришлось принять на себя обязательство, что ничего не будет вывезено. Только не делайте глупостей, этим вы можете поставить под угрозу все мероприятие. Петербургских, когда оттуда уходил первый поезд, они обыскивали до нательных рубашек. Если у вас есть драгоценности или что-то подобное, постарайтесь все продать, по возможности, за царские рубли, они еще признаются в Швейцарии. Затем сложите деньги в конверт, запечатайте и сдайте нам в консульство. Тогда наш официальный курьер сможет доставить их в Швейцарию. Это единственная возможность. И, конечно, не миллион! Но вам еще понадобятся деньги, чтобы прожить все это время.
– Да… Да, но поезд все же непременно еще будет?
– Будет. Ленин нам это лично обещал. Но с точностью до минуты, как по регулярному расписанию, мы, конечно, гарантировать не можем. Так что, на всякий случай, придержите некоторую сумму про запас. То, что вы нам оставляете, сразу отправляется с курьером в посольство в Петербург и в России возврату не подлежит.
Ребман исполнил все в точности. Весь табак продал оптом, оставил ровно столько, сколько, по его мнению, потребуется ему самому: четыре-пять пачек «Stamboli» первого сорта и нужное количество гильз. Он также продал и свою часть потайного склада. Пришлось отдать почти даром, брат Карла Карловича ободрал его как липку. От былых «родственных» отношений не осталось и следа.
Затем он разделил свои деньги на две части. На большую купил на черном рынке царские рубли, двадцать пятисотрублевых купюр. Сложил их в прочный желтый конверт. Предъявил в консульстве. Его там запечатали. Указал сумму, свое имя, оба адреса – московский и швейцарский. И отдал чиновнику под расписку:
– А какой дома курс рубля?
– Один к двадцати, насколько я знаю. Если разделить, то на эти деньги можно прожить год или два, пока не найдете подходящего места.
– А я их наверное получу? У меня, возможно, есть еще и другой способ…
Другой способ состоял в том, чтобы те два бриллианта Веры Ивановны, в пять каратов каждый, которые до сих пор лежали у ювелира на Мясницкой, купить за эти же десять тысяч царских рублей. Потом зашить их в подкладку шапки или спрятать в буханке хлеба…
– Так же верно, как все теперь в России. Но поскольку они однажды уже разгромили посольство, будем надеяться, что на этот раз все обойдется.
Посольство Швейцарии в Петербурге, однако, все же обчистили, хотя и только в феврале следующего года. Но в числе тех пятнадцати миллионов, которые большевики положили себе в карман в результате этой «чистки», оказались и десять тысяч рублей, принадлежавших Петру Ивановичу Ребману. В его случае, правда, речь не шла о потере сбережений, накопленных за многие годы тяжкого кропотливого труда.
Наконец наш герой словно от болезни исцелился. Все сомнения и раздумья, вечное беспокойство, делать то или это или не делать, как водой смыло. Теперь у него только одно желание и единственная воля: поскорее оказаться в Швейцарии и там все начать сначала. Но только трудиться, делать честно чистую работу, а не бездельничать, лениться или спекулировать. Когда его спросили в консульстве, не желает ли он помочь в организации второго эшелона для русских швейцарцев, он сразу согласился.
– Но вам от этого не будет никаких выгод и преимуществ, – ни скидки на проезд, ни отдельного купе, – вам также не позволят взять более дозволенного. Это – служение ради общего блага, и будет много работы!
– Это меня устраивает вдвойне, – сказал Ребман сотруднику консульства. – Довольно я заботился только о собственной шкуре, теперь могу хоть раз и для других потрудиться.
Ребман в одночасье совершенно переменился. Вялое и нездоровое настроение, владевшее им со времен его ухода из пасторского дома и «International», как будто ветром сдуло: «Я еду домой! Начинаю новую жизнь и радуюсь этому!»
Но отъезд все откладывается. Постоянно записываются новые люди, иногда из очень отдаленных частей России, где их просто нельзя оставить. Прошел июль. И август. И сентябрь. А они по-прежнему все еще здесь. У Ребмана уже и средства на исходе, он ведь не рассчитывал, что все так надолго затянется.
Теперь пришло время продать и серебряный сервиз. Он все еще надеялся, что каким-то образом удастся взять с собой хотя бы часть этого сокровища: спрятать в хлеб, который забросят в поезд в последний момент, уже на ходу… Сотни вариантов созревали в его мозгу. Теперь с этим покончено. Теперь осталась одна забота: кто у меня его купит?
Никто не покупает. Неделями он расспрашивает всех знакомых, а те, в свою очередь, – своих. Даже товарищам по бывшему императорскому яхт-клубу предлагал. Никто не берет.
– Даже на вес?
– Даже на вес. Серебро нынче потеряло всякую цену. А такое теперь вообще опасно держать. Сбрось его в канал, чтобы не было неприятностей!
Такое впечатление, что даже над сервизом нависло проклятье, как и над всем тем, что имело отношение к царской семье.
Теперь он уже больше не вынимает дорогих сердцу предметов и не расставляет их перед собой на полу, радуясь, как дитя на Рождество. Теперь он предпочел бы никогда не видеть этого злополучного сервиза.
От нужды он начал распродавать свои вещи: зимнее пальто, персидскую шапку, которую он так хотел взять с собой домой, чтобы похвастаться, показать всем, что он был в России; летнюю накидку, весь драгоценный наряд, который в свое время должен был превратить его во второго Макса Линдера и был почти как новый. К огромной своей досаде, ему пришлось смириться с мыслью, что все его «богатство и роскошь» ничего не стоят и никому не нужны. Зимнее пальто, шапку, летнюю накидку, белье – все это у него берут и даже дают хорошую цену, так что он может протянуть, по меньшей мере, неделю. Но жилет, лайковые перчатки, шелковые галстуки и носки никто брать не хочет. То и дело приходилось слышать: «Лучше продайте мне то, что на вас: это можно носить, а все это тряпье ни на что не годно».
Иногда он не выдерживал:
– А мне самому что, голым ходить!?
– Да нет же, вы можете надеть все то, что хотите всучить нам!
Дело дошло до того, что ему стало нечего есть, кроме кусков официального «хлеба» с песком и грязью внутри да нераспроданных зеленых огурцов, которые крестьяне выбрасывали прямо на улице. Порой он до того ослабевал, что не мог подняться за раз на восемь ступеней, что вели в его комнату. Раньше он галопом перелетал через все восемь, теперь ему нужно два, а то и три раза отдышаться или даже присесть.
Но грести он еще в состоянии, вот курьез! Когда он сидит в лодке и держит в руках весло, то чувствует себя так, словно вновь на свет народился. Поэтому он и ходит по воскресеньям на Воробьевку. Там, по крайней мере, все спокойно. После тех небольших «народных волнений», которые, очевидно, случились без подстрекательства со стороны властей, ибо там, «наверху», были другие заботы, ничего больше не происходило. По-прежнему можно загорать, играть в теннис или в крокет или отправляться в деревню в поисках пропитания. Но теперь приходилось идти намного дальше, чтобы раздобыть настоящего хлеба, картошки или молока (за бешеные деньги!) и наполнить изголодавшуюся утробу. Крестьяне, у которых еще что-то оставалось – а это были все те же «экспроприаторы», уже разделившие между собой господские усадьбы, – с каждым днем становились наглее и бесстыжее.
В городе повсюду видны марширующие подразделения новой армии, армии Троцкого: парни и девушки в самых разных мундирах или вовсе в гражданском платье, с оружием, которое они держат, словно грабли или косы. Никто не шагает строевым шагом и в ногу. Как стадо баранов, плетутся они один за другим, а публика, не стесняясь в выражениях, комментирует:
– Кошки драные!
– Да нет, их только что стошнило!
Могло даже случиться, что высокий дородный господин вытянется перед ними во фрунт, да и крикнет на всю улицу: «Большевистская сволочь!»
В стране еще очень далеко до спокойствия и порядка. Хотя крупные города захвачены, в деревнях бушует гражданская война, да еще какая жестокая. Те, кому пришлось проезжать через эти места, рассказывают невероятные вещи о том, что творится там, где хозяйничают белые, а после них приходят красные, – Содом и Гоморра!
Георгий Карлович Мэдер, побывавший по служебным делам в Киеве, рассказывал, как его под Курском схватили красные и сразу хотели поставить к стенке: он, по их мнению, был шпионом! Когда он показал им документ, где черным по белому значилось, что он не шпион, их предводитель сказал, что ему все равно, он не верит.
– Почему, позвольте спросить?
– Потому что вы – демагог!
– Нет, я пе-да-гог!
– Гог он и есть гог! Пойдешь с нами!
Достаточно одного неловкого движения или словечка, которое им не по вкусу, – и пиф-паф, вы уже в могиле. Для них человеческая жизнь стоит меньше, чем кусок мяса. И эти люди хотят править Россией и осчастливить все человечество!
Даже газеты – из их же собственного лагеря, других ведь вовсе не стало – предупреждают об опасности террора. Даже там можно прочесть, что ЧК, которая имеет филиалы в каждом административном центре, – это сборище всех шпионов и осведомителей царских времен, всех мошенников, убийц, проходимцев и лакеев нового правительства. Они доводят насилие и убийства до таких масштабов, каких здесь еще никто не знал. То, что творится в России именем социализма, – это стыд и позор!
Но Ленин, ознакомившись с критикой в прессе, только и заметил, что красный террор – единственно правильная тактика по отношению к буржуазии и реакционным обывателям; только так новая власть и может заставить себя уважать. Когда она этого добьется, тогда террор и закончится.
Своим друзьям и знакомым Ребман ни единым словом не обмолвился о том, что он записался на возвращение домой в Швейцарию.
Даже Нине Федоровне во время своих редких визитов в пасторский дом он ничего не сказал.
И когда Михаил Ильич его однажды спросил, не жалеет ли он о своем отказе от места на скотобойне, Ребман только и сказал, что нашлось лучшее решение проблемы. Затем он рассказал, что с ним произошло в ту самую ночь в «Лубянском кафе» и что ему пришлось перенести за те полтора часа, что он провел в ЧК.
Старый друг ответил с серьезностью, которой Ребман прежде за ним не замечал:
– Да знаешь ли ты, как близко прошел мимо смерти?!
И после некоторой паузы добавил:
– Даже я бы содрогнулся, довелись мне побывать в том здании!
Время шло. Сохранять телесное и душевное равновесие становилось все труднее. Тот, кто, как Ребман, рассчитывает получить свою норму хлеба для неработающих, – а это фунт в неделю, – должен полдня, а то и дольше, простоять в очереди, чтобы услышать обычный ответ: «Хлеб кончился, приходите завтра!»
Чтобы успеть получить свой паек, пока весь хлеб не роздан, люди даже ночуют перед магазином. Витрины теперь совершенно опустели, а ведь еще недавно глаза разбегались от изобилия продовольственных товаров, – да и внутри магазинов картина не лучше. Люди живут только обонянием и воспоминаниями о добрых старых временах, но от этих раздражителей чувство голода только усиливается. Хотя правительство, если верить газетам, делало все для преодоления продовольственного кризиса, все приводимые цифры о поставках из Сибири, направляющихся в центр, так и остались на бумаге. До Москвы продовольствие не доходило.
Зато организация эшелона в Швейцарию продвигалась. Ребман стал шефом района и каждый день обходил своих подопечных с советами, консультациями и инструктажами. Некоторые из них никогда в жизни не видали Швейцарии, не знают не только никакого швейцарского диалекта, но даже и немецкого языка, они и на свет появились уже в России, крестились в русской церкви, воспитывались по-русски, у них русские имена и отчества. А теперь им приходится все оставить, не зная, что их ждет впереди, ведь в Швейцарии у переселенцев нет ни кола, ни двора. Среди них есть такие люди, что, слушая их истории, впору зарыдать в голос. Их Ребману жаль больше всего, с ними он чувствует некоторое сродство. Их он утешал и обнадеживал, как только мог: дескать, не стоит падать духом и опускать руки, тяжелые времена пройдут, все не так плохо, как кажется на первый взгляд, в нужный момент всегда откроется какая-нибудь дверь, в этом он сам не раз убеждался, несмотря на свой молодой возраст…
Иные жалуются, что ничего не могут взять с собой, даже драгоценностей, заявляют, что не хотят возвращаться домой нищими попрошайками: у нас ведь есть то и это, мы ведь сделали и это, и то, достигли и того, и сего, нас ведь должны были бы… Эта порода тоже всем известна. С ними труднее всего. Ребман уже устал упрашивать их внять доводам рассудка, подумать обо всех, а не только о себе, ведь остальным тоже приходится терпеть горькие лишения!
И все время один и тот же вопрос, тридцать раз на дню:
– Что, этот проклятый поезд все еще не готов? Чего им, собственно, недостает?!
– Еще не приехали пассажиры из Сибири, они застряли там, где идут бои.
– Так поедемте без них, пусть они сами о себе позаботятся, мы же не хотим пропадать здесь из-за этих некоторых!
Такие разговоры становятся все громче, и не остается ничего другого, как уговаривать:
– Да потерпите же еще немного, вы ведь уже так долго продержались, подождите еще недельку-другую!
– Недельку-другую? Мы это слышим почти целый год!
– Нет, всего только три месяца. Но теперь уж, и правда, недолго осталось.
– У вас есть конкретная информация?
– Официальный курьер уже в пути, он доставит окончательное разрешение. Мы ожидаем его со дня на день.
И вот в начале октября он наконец-то прибыл, наш официальный курьер, тоже русский швейцарец, светловолосый бородатый великан. Если бы на нем была медвежья шкура, можно было бы подумать, что он прибыл сюда прямо с поля боя римлян с германскими варварами.
Все собрались в церкви в Трехсвятительском переулке, почти пятьсот человек. Стоя пропели «Песню о родине» Готфрида Келлера – Ребман аккомпанировал на органе. Затем последовал доклад великана. Сначала о положении дома: хотя Швейцария и не слишком пострадала в войне, им не стоит надеяться, что на родине их ожидает рай. Конечно, после России, особенно нынешней, Швейцария может показаться раем, но и там дороговизна и строгий расчет во всем. Разумеется, о них позаботятся, насколько это возможно, но не обеспечат на всю оставшуюся жизнь, а только на первое время. Сидеть сложа руки никому не позволят.
– А мы и не собираемся, нам подачки не нужны! – перебил чей-то голос. – Лучше скажите, когда мы, наконец, выберемся из этой помойной ямы?
Когда Ребман это услышал, то вскочил и крикнул на всю переполненную церковь:
– Постыдитесь!
Последовало небольшое замешательство, и пастору пришлось напомнить своим согражданам, где они находятся: церковь – это ведь не кабак, даже в советской России! Но Ребман все же взял этого господина на заметку.
– Я хочу с ним поговорить, – сказал он своему соседу. – Вы его знаете?
– Да-да. Он один из тех, кто приехал в Россию в спущенных штанах и стоптанных туфлях и вдруг разбогател. А теперь, когда на все его делишки навесили замок, ни на что другое не способен, как только поносить приютившую его страну. Парвеню, с таким я за один стол не сяду! Я не сторонник нынешнего режима, но Ленин прав, когда уничтожает ему подобных. По мне, так мог бы и этого прихватить.
Под конец они еще пропели песню о Березине. Только теперь они осознали весь трагизм своего положения. Всем было очень тяжело решиться на этот шаг.
После собрания Ребман не преминул выяснить отношения с тем типом. Дождался его у выхода из церкви и сразу взял в оборот:
– Эй, братец, и не стыдно вам?!
Тот в полном недоумении:
– Стыдно? Не возьму в толк, отчего?
– От того, что вы так говорите о стране, которая вас (следует прямо сказать, к сожалению) гостеприимно встретила, прокормила и дала возможность чего-то добиться и кем-то стать!
«Братец» смотрит на него так, словно не до конца расслышал, что болтает этот «молокосос»:
– Ну вы и чудак! Скажете тоже – «дала возможность»! Если я и стал кем-то, то обязан этим только самому себе, своему швейцарскому происхождению и выучке, но никак не русским. А касательно того, что «прокормила», то, как говорится, спасибо этому дому – пойдем к другому…
– Почему же вы так долго здесь оставались, если все было так плохо?
– А почему вы, – все еще спокойно продолжал собеседник, – уезжаете, если вам здесь так нравится?
Ребман презрительно взглянул на него:
– Потому что я, судя по всему, глупец. По крайней мере, так мне сдается, когда я на вас гляжу и вас слушаю!
С этими словами он отвернулся от грубияна и пошел прочь.
Вдруг его снова стали одолевать сомнения:
«А не делаю ли я и впрямь большой глупости? Я же совсем позабыл, как живется дома, меряю все на русский аршин. Что, если, снова оказавшись там, обнаружу, что теперь я – не пришей кобыле хвост, что стал чужаком. Михаил Ильич ведь ясно сказал, когда предлагал мне место на скотобойне: «Сынок, ты уже больше не швейцарец, ты русский; и то, что тебе кажется свободой, – то есть жизнь в Швейцарии, – на самом деле клетка, тесная клетка, где все сидят друг у друга на голове и только и мечтают, как бы избавиться от ближнего. Свободным ты можешь быть только в России, только здесь можно расправить плечи и дышать полной грудью. Дома этой воли тебе не видать».
Но нужда костлявой рукой постепенно развеяла все сомнения, и он уже не мог дождаться вожделенного дня отъезда.
И вот он настал. Объявили, что на второй неделе октября, примерно через десять дней, они смогут уехать. Все, кажется, в порядке: «сибиряки» уже в нескольких часах езды от Москвы. Ленин пообещал даже фургон с продовольствием, консервами, чаем, сухарями и тому подобным и санитарный поезд вместе с персоналом и вооруженной охраной.
«Но скажите вашим людям: это поезд пассажирский, а не грузовой. Не берите с собой ничего сверх того, что берут в обычную поездку по России. Не уставайте это повторять. Подчеркните лишний раз, чтобы не пытались упаковать то, что запрещено вывозить: драгоценности, украшения, деньги и тому подобное, даже если им кажется, что все это надежно спрятано. Мы дали слово, что ничего не вывезем, и если его не сдержим, то отвечать за последствия придется тем, кто здесь остается», – приблизительно так звучали наставления на последнем собрании.
И все разбежались, чтобы уже неизвестно в который раз повторить своим подопечным заученные наизусть правила. В итоге отъезжающие прибыли на вокзал с целыми грузовиками, груженными товаром, и пришлось приложить неимоверные усилия для того, чтобы хоть какую-то часть всего этого распределить по вагонам или раздать тем, у кого было мало вещей или вовсе не было багажа.
В яхт-клубе состоялся небольшой прощальный вечер, председатель от имени всех членов поблагодарил дорогого товарища Петра Ивановича, – а он был хорошим товарищем, хотя, может, и не совершил никаких особых подвигов, – пожелал ему в будущем всего доброго, а в конце прибавил, что все они надеются, что разлука будет недолгой. А Ребман, который никогда не умел говорить перед большим собранием, молча стоял, и по его щекам текли слезы.
Потом он отправился попрощаться со своими друзьями, с семьей пастора и всеми остальными знакомыми, которые еще оставались в России.
Под конец зашел и к Михаилу Ильичу. Услышав новость, тот сначала посмотрел на него, как на пьяного. Но когда увидел, что все серьезно, сказал:
– Дезертир Петр Иванович! Поезжай домой и расскажи своим швейцарцам, как ты наблюдал русскую революцию. Скажи им, что ты не только величайший в мире слушатель, но и великий зритель!
Внезапно он крепко обнял друга, чуть не раздавив его в своих объятиях:
– Ну, поезжай с Богом!
И расцеловал в обе щеки.
Глава 23
И вот сегодня они уезжают.
Было восемнадцатое октября, и стояла великолепная теплая погода. В три часа пополудни все должны были быть в полной готовности к отправке на Николаевском вокзале, как говорилось в последней инструкции. У входа стоял человек с повязкой, на которой был изображен швейцарский крест, и указывал дорогу. Поскольку эшелон был очень длинным и отправлялся вне расписания, он стоял в нескольких стах метров в стороне от залы ожидания на запасных путях.
Ребман продал все, что смог, взял с собой последние оставшиеся вещи, то, что можно будет носить на работу в виноградниках в родном Клеттгау. Да еще то, что было на нем надето. К тому же, подушечку и красивый шотландский дорожный плед, который в свое время Нина Федоровна купила ему у Мюр-Мерье. Он так исхудал, что стал совсем прозрачным, хоть на весы для писем клади. Его даже сфотографировали в клубе: один из «геркулесов» взял его на руки и поднял, словно двадцатифунтовую гантель. Еще у него была с собой провизия, которую удалось раздобыть и сэкономить, не ослабнув окончательно от вечно мучившего его голода. Единственное, что он взял с собой на память, был бокал от камергера Его Величества. Все остальное ему пришлось оставить, в том числе и серебряную посуду. Он доверил ее одному из своих музыкальных друзей, – тому, у которого он когда-то выкупил сигары, – пусть остается у него; а если наступит сильная нужда или хранить у себя станет слишком рискованно, то можно будет переплавить, тогда хоть кому-нибудь будет польза.
На Николаевском вокзале, даже по московским меркам, настоящее переселение народов: доверху нагруженные подводы, как будто все выезжали на дачу, а сверху на матрацах, подушках, мешках и чемоданах еще и восседали люди. Все получили этикетки, красные с белым крестом. А милиции дали указание, чтоб с этими этикетками пропускали и через кордон пожарной охраны.
Когда Ребман на самом бедном извозчике подъехал к вокзалу, то услышал, как кто-то спросил у милиционера, что тут происходит:
– Транспорт от Красного Креста, – ответил тот, не раздумывая.
В здании вокзала была страшная суматоха. Что они только не старались протащить с собой, к какой только коммерции не прибегали, пока не убеждались окончательно, что, при всем желании, обойти правила не удастся.
Эшелон состоял из тридцати восьми вагонов, и в каждый вагон рассаживались люди, проживавшие в том или ином районе, шеф района становился теперь старостой вагона. Впереди – санитарный вагон с доктором, его ассистентом и двумя медсестрами. В том же вагоне едет и комиссар с командой вооруженной охраны. А еще один вагон зарезервирован для маленьких детей, которых было более тридцати, самым старшим – по два года, а самым младшим – по два месяца.
На перроне в глазах рябит от массы обнимающихся друг с другом и утирающих носы людей.
Ребмана тоже кто-то обнял: Нина Федоровна пришла на вокзал, чтобы с ним проститься. И тут ему вдруг показалось, что он покидает родину и уезжает на чужбину. Все, что он успел полюбить и к чему привязался, все корни, которые проросли из него за эти годы, – все это он должен оставить позади с чувством, что со всем покончено навсегда. Аминь! «Неужели я действительно должен ехать? Не лучше ли было бы остаться здесь, пройти через все то, что терпят другие, но, по крайней мере, вместе с добрыми друзьями, а не оказаться в полном одиночестве на уже ставшей чужбиной родине? Еще хоть словечко, одно-единственное, и я вечером окажусь на Воробьевке или у Михаила Ильича. Остаться?»
– Ну, а что у вас с собой хорошего, товарищ? – услышал он голос за своей спиной; кажется, имелся в виду тот хлеб, который он получил от Нины Федоровны и держал под мышкой.
Он обернулся.
Перед ним стояла молодая комиссарша в кожаной куртке, с рыжими волосами и со всем, что там у них еще полагается.
«Где же я видел это лицо?»
Пока он думал, она сама спросила:
– Не встречались ли мы с вами раньше? В Волочиске, кажется, почти шесть лет назад?
И тут Ребман ее узнал: это же та самая студентка, которая помогла ему при переходе через границу и окрестила «миллионером».
Она, разумеется, тоже его узнала.
– Я оказалась и первой, и последней, – сказала она. – Я этого тоже никак не ожидала. И теперь вы снова едете домой. Вы радуетесь возвращению?
Ребман отрицательно качает головой:
– Нет, не радуюсь. Я не еду домой. Мой дом был здесь. Я привязан к нему тысячами нитей.
Комиссарша внимательно смотрит на него. Кивает. Затем интересуется:
– А как же «миллион»? Тоже едет с вами?
Ребман в ответ протянул ей руку:
– Вот, возвращаю его вам! Россия мне и так много чего подарила.
Она улыбается так, как это может только женщина:
– И что же, вы здесь совсем ничего не оставляете?
Ребман ответил тоже улыбкой, но весьма грустной:
– Это уже совсем другой вопрос. Что ж, прощайте!
Комиссарша пожала ему руку:
– Привет Швейцарии!
И поезд выехал из вокзала в осеннюю даль.
Когда Ребман на первом развороте оглянулся назад, перед ним в лучах вечернего солнца сверкали и переливались купола матушки-Москвы.
Примечания
1
«Z Kiew redt me Mundaart» Albert Bächtolds phantastische Reise
(обратно)2
Там же.
(обратно)3
Далее Рейнгород (прим. переводчика).
(обратно)4
Родную деревню автора, Вильхинген, называли еще и Кирхдорф из-за большой церкви, что возвышалась над всей округой (прим. переводчика).
(обратно)5
Популярная немецкая детская песенка (прим. переводчика).
(обратно)6
Самая распространенная форма вежливого приветствия в разговорной речи в немецкоязычных регионах Швейцарии (прим. переводчика).
(обратно)7
Бишон фризе (франц. Bichon à poil frisé) – декоративная порода собак семейства болонок (прим. переводчика).
(обратно)8
Криги – уменьшительное от Кристиан (прим. переводчика).
(обратно)9
Мой муж (франц.)
(обратно)10
Домашние макаронные изделия из жидкого теста в Баварии и Швейцарии (прим. переводчика).
(обратно)11
Leysin – легочный курорт в Швейцарии (прим. переводчика).
(обратно)12
Schwitzerländli – уменьшительно-ласкательная форма от Швейцарии (прим. переводчика).
(обратно)13
Не положено (франц.)
(обратно)14
На русских железные дороги, если сидя, надо плацкарта, а то идти в коридор. Что желаете? (дословно).
(обратно)15
По-немецки глагол «traktieren» означает «угощать» (прим. переводчика).
(обратно)16
Не так ли? (франц.)
(обратно)17
16 октября в Швейцарии празднуется Св. Галлус, в этот день детям позволяют брать в садах всё, что там осталось (прим. переводчика).
(обратно)18
Приток реки Кубань (прим. переводчика).
(обратно)19
Очень-очень богат (франц.)
(обратно)20
Рольмопсы – рулетики из маринованной сельди. Блюдо получило своё название в XIX веке, когда в Германии началась мода на собачек мопсов – Рулетики из сельди отдалённо напоминали немцам их мордочки.
(обратно)21
Имеется в виду «Bonjour» (прим. переводчика).
(обратно)22
Соответствует -42,5 по Цельсию.
(обратно)23
Здесь – франкоязычные швейцарцы (прим. переводчика).
(обратно)24
«Моя невеста» по-швейцарски.
(обратно)25
Brut (нем.) – инкубация яиц у птиц и яйцекладущих животных.
(обратно)26
Аромат для женщин, выпущен в 1913 г. в Париже (прим. переводчика).
(обратно)27
«Отмените двойную загрузку судна. Интеррашн» (англ.).
(обратно)28
Пабло Казальс (1876–1973), знаменитый испанский виолончелист, дирижер и композитор.
(обратно)29
Дщерь Сиона, радуйся (нем.)
(обратно)30
da capo (итал.) «с головы»; с начала – музыкальный термин, означающий, что следует повторить предыдущую часть.
(обратно)31
Metzgete (нем.) – в Швейцарии и южной Германии – собирательное понятие для традиционных блюд из внутренностей: кровянка, ливерка, потроха (как правило, свиные), мозги, зельц и т. и.
(обратно)32
Tibidäbi – шуточное прозвище жителей кантона Аппенцель-Иннероден, известных своим специфическим «черным» юмором (прим. переводчика).
(обратно)33
Национальная карточная игра в Швейцарии. Распространена особенно широко в алеманском языковом пространстве: нем. Швейцарии, Лихтенштейне, Южном Тироле, на юге Германии, в Эльзасе (прим. переводчика).
(обратно)34
Этот билет сегодня можно увидеть в краеведческом музее Вильхингена (прим. переводчика).
(обратно)35
Schleitheim – местечко, жители которого известны особым упрямством. Оттуда родом был отец писателя.
(обратно)36
Plenus venter non student libenter (лат.) соответствует русской пословице: «Сытое брюхо к учению глухо» (прим. переводчика).
(обратно)37
В начале XX века в России принято было говорить «фильма» в женском роде (прим. переводчика).
(обратно)


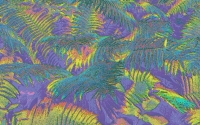


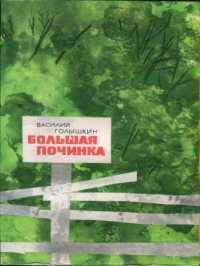
Комментарии к книге «Петр Иванович», Альберт Бехтольд
Всего 0 комментариев