ДОРОТИ ПАРКЕР Новеллы
ПРЕДИСЛОВИЕ
I
Дороти Паркер за последние годы все реже вспоминают в американской печати, а ведь еще недавно ее считали одной из наиболее выдающихся поэтесс и новеллисток США. Однако творчество этой своеобразной писательницы нельзя отнести к тем капризным порождениям литературных мод, которые внезапно возникают, буйно расцветают в шуме сенсационного успеха, в атмосфере славословий и рекламы, и также внезапно вянут и забываются.
Рассказы и стихотворения Дороти Паркер хотя и перестали быть содержанием критических обзоров и хвалебных рецензий, хотя и исчезли из списков «бестселлеров», но тем не менее органически вошли в историю современной американской литературы. В процессах трудного и противоречивого развития передовой гуманистической литературы США, в сложной творческой истории американского критического реализма Дороти Паркер принадлежит, может быть, не очень большое, но бесспорно приметное и постоянное место.
Дороти Паркер родилась в 1893 году в Нью-Йорке в состоятельной интеллигентной семье эмигрантов из Европы. После окончания университета она в течение многих лет (1916–1927) работала штатным сотрудником в различных газетах — писала преимущественно на темы искусства и литературы, театра, кино, живописи. Писала обзорные и монографические статьи, эссе, рецензии, репортажи… Уже зрелым человеком, 33–34 лет, она вступила на путь художественного творчества. В 1926 году вышел первый сборник стихотворений Дороти Паркер «На глубине колодца» («Not deeper as a well»).
Это были короткие лирические излияния и поэтические раздумья о любви и искусстве, о цветах, ландшафтах, людях. Музыкальные мелодические стихи, прозрачные и легкие, были печальны без слезливости и отчаяния, шутливы и насмешливы, скептическая ирония сочеталась в них с взволнованной задушевностью. В них звучали совершенно новые для американской поэзии мелодии и напевы, напоминавшие иногда иронический лиризм Гейне или грустную певучесть Верлена, и в то же время очень своеобразные, очень американские и очень женские.
Первая книга Дороти Паркер была первым — и, кажется, даже единственным — в истории американского книжного рынка стихотворным «бестселлером». Не меньший успех имели и ее рассказы. Рассказ «Большая блондинка» в 1929 году был награжден премией О. Генри.
В американскую литературу, столь богатую традициями «short story» (короткий рассказ) — традициями Марка Твена и Вашингтона Ирвинга, Джека Лондона и О. Генри, традициями, которые в те годы плодотворно развивали такие блестящие рассказчики, как Э. Хемингуэй, Ш. Андерсон, А. Мальц, Э. Колдуэл и другие, входил новый и своеобразный мастер этого вида повествования — очень легкого для читателя и очень трудного для художника.
Первые шаги Дороти Паркер в литературе совпали и с ее первыми выступлениями в общественной жизни. Она приняла деятельное участие в борьбе против одного из самых гнусных преступлений классовой юстиции американского капитализма, — против судебной расправы с Сакко и Ванцетти. Она выступала на митингах, маршировала в колоннах демонстрантов и была арестована бостонской полицией. В последующие годы Дороти Паркер снова неоднократно оказывалась в рядах тех передовых деятелей американской культуры, которые вслед за Теодором Драйзером и Линкольном Стеффенсом, в едином фронте с боевой партией американского пролетариата — коммунистами, выступали против угрозы фашизма не только в США, но и во всем мире. Словом и делом, сбором средств, а иногда и личным участием они поддерживали героическую борьбу испанского народа.
Дороти Паркер сама побывала в Испании в 1936–1937 годах и написала несколько рассказов и очерков, отличающихся от других ее произведений светлым колоритом, сдержанным, но вдохновенно жизнеутверждающим настроением. Вернувшись в Америку, она создала специальный фонд помощи эмигрантам, сочувствующим республике, работала в объединенном комитете эмигрантов-антифашистов. Дороти Паркер была и с теми, кто требовал скорейшего открытия второго фронта в Европе, а в послевоенные годы решительно осуждал американскую агрессивную политику «холодной войны», атомную дипломатию и антикоммунистические «крестовые» походы «охотников за ведьмами».
В 1951 году писательницу вызывали в пресловутую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, и ей пришлось испытать немало трудностей в своей творческой и личной жизни, так как в течение последнего десятилетия она работала преимущественно для кинофирм Голливуда, т. е. в непосредственной близости к одной из ключевых позиций американского капитализма на фронте неутихающей идеологической войны.
II
В истории американской литературы Дороти Паркер останется как мастер лирической поэзии и сатирической новеллы. В этом сборнике представлены наиболее значительные и характерные образцы ее новеллистики.
Настоящий художник — независимо от масштабов его творчества и от его места в истории литературы — непременно обладает «лица необщим выражением», открывает нечто новое, свое в огромном многоликом, многоголосом и многоцветном мире живой действительности, по-своему, по-новому видит, слышит, ощущает какие-то стороны или элементы этого мира, пусть очень малые его частицы, но характерные, не случайные, не мимолетные.
Без такого своеобразия творческого мироощущения, без ярких индивидуальных особенностей художественного преображения реального мира в слове, в красках, в пластических формах, в музыкальных звукосочетаниях, нет искусства, а есть только убогое более или менее ярко расцвеченное, но в основе тусклое, ремесленное подражательство.
Однако такое своеобразное, необычайное — и, значит, очень субъективное — художественное преображение действительности может стать настоящим искусством только в тех случаях, когда и причины, и цели, и предмет творческого деяния, и самый творец — поэт или живописец, актер или скульптор — неотделимы от объективного реального мира. Настоящее художественное творчество, прежде всего и в конце концов, — неподдельно человечно, и, значит, проникнуто, согрето, воодушевлено большой объективной правдой общественной истории человечества и правдой общественных взаимоотношений людей.
Творчество Дороти Паркер развивается, несомненно, в русле настоящей художественной литературы, хотя общий идейно-эстетический диапазон ее новеллистики не слишком обширен и склонность писательницы к «малым формам» прозы иногда совпадает с невозможностью возвыситься и над малым содержанием, над малыми идеями и малыми проблемами, которыми живут «маленькие люди», населяющие ее книги.
Их мир очень далек и чужд нам. Это мир непрерывных утомительных, суетливых забот, трудная и невеселая жизнь в хлопотах о заработке, о доходе, о простой возможности существовать, в стремлении не столько к счастью, сколько к видимости счастья… Они живут в шуме громкого, но безрадостного смеха, в напряжении глубоко безнадежного отчаяния. Это отчаяние одиночества, вдвойне страшного оттого, что оно в пестром многолюдии таких же одиноких и глубоко чуждых, бессмысленно враждебных или, в лучшем случае, равнодушных друг к другу «ближних». Все они только и умеют, что говорить традиционно любезные, а по существу пустые лицемерные слова.
Писательница страстно ненавидит этот мир, мишурную нарядность и ханжеское сладкогласие жестокой, бесчеловечной капиталистической повседневности. Паркеровская сатира убийственно беспощадна, но внешне очень сдержанна. Она свободна от риторических обличений, от сарказмов, разящих ударами «ювеналова бича». В ней воплощена ненависть художника, намеренно отступающего в тень, молчаливого и как бы безучастного, который предоставляет живым образам ненавистного ему мира самим раскрываться во всей своей уродливой, омерзительной сущности.
Так, например, в рассказе «Изумительный старик» в умильных славословиях двух дочерей — самодовольной богачки и ее униженной, неудачливой и столь же глупой сестрицы — дается резко очерченный, почти осязаемо реальный образ их отца. Сам он не появляется и умирает, так сказать, за пределами повествования. Но именно этот «изумительный старик» является центральным образом рассказа. Это жадный, ненасытный стяжатель, расчетливый до последнего вздоха, типичный носитель пресловутого «духа бизнеса», американского делячества, неизменно гнусного в любых воплощениях, в любых масштабах: и в рвущихся к мировому господству, заглатывающих миллиардные капиталы акулах и кашалотах империалистического океана, и в мелководных хищниках — в зубастых щуках провинциальных омутов «одноэтажной Америки».
И также, не выходя за пределы чисто бытовых будничных подробностей, за пределы магазина, троллейбуса, квартиры, описывая мелкие рядовые события нескольких часов в жизни рядового буржуазного семейства, писательница создает типичные, сатирические образы четы «идеальных супругов Мэдисонов» («Малыш Кэртис»). Они оба тупо самодовольны, ненасытно жадны; владельцы состояний, они кропотливо учитывают грошовые траты и не только не стыдятся своего мелочного стяжательства, но возводят его в добродетель. Однако и в этих казалось бы давно известных в литературе критического реализма образах стяжателей, в образах американских «потомков» папаши Гранде и Плюшкина, писательница открывает новые общественно значимые черты. Она показывает их по-своему, в новом ракурсе. Бездетные супруги Мэдисоны усыновили сироту — четырехлетнего ребенка. Рисуя, как они самодовольно и бездушно «воспитывают» малыша, как умильно сюсюкают при этом и восхваляют их друзья, писательница разоблачает гнусное существо буржуазной благотворительности.
Той же ненавистью к респектабельным ханжам, к лицемерным и корыстным себялюбцам, пронизаны рассказы: «Мистер Дьюрант», «Песнь о рубашке», «Сердце, мягкое как воск» и др.
Если можно говорить о некоем «направлении главного удара» в сатирическом творчестве Дороти Паркер, то ее мишенью является прежде всего лицемерие — те покровы внешней респектабельности, внешних условностей, филантропических, религиозных ритуалов и фраз, за которыми скрываются наглое собственничество, хищный стяжательский индивидуализм и порождаемая ими ядовитая злоба или, в лучшем случае, тупое равнодушие к людям.
Но писательница никогда не атакует «в лоб», не обличает в открытую, не клеймит. Спокойно, неспешно она выворачивает наизнанку мелкие души, плоские умишки, показывает их изнутри, заставляет их самих говорить за себя.
Добропорядочный семьянин, исправный службист и вместе с тем циничный, благополучный негодяй и ханжа безжалостно обманывает и соблазненную им девушку стенографистку и собственных детей, действуя во имя приличий и «добрых нравов» («Мистер Дьюрант»).
Дамы-благотворительницы, скучающие бездельницы, томятся над шитьем халатов для военных госпиталей, сами не знают как отделаться от этого никому не нужного, но модного «добровольного» труда. А тут же, вблизи, безуспешно мечется в поисках хоть какого-нибудь заработка бедная женщина, мать парализованного ребенка, которой ее вынужденное безделье грозит гибелью («Песнь о рубашке 1941»).
Для Паркер нет, пожалуй, ни одной большой проблемы, которую она не попыталась бы решать как художник в таких вот малых масштабах «частного» семейного, личного мира. Вот, например, тема войны и военщины. В войне Паркер видит прежде всего слепую и злую силу, бессмысленно и беспощадно разрушающую жизнь «маленьких людей», безжалостно сметающую все их надежды на счастье. Это восприятие писательницы полностью совпадает с тем несколько отвлеченно и субъективно гуманистическим отношением к войне, которое присуще многим ее литературным современникам. Так В. Сароян и Н. Мэйлер, воспринимая войну «вообще», с позиций, так сказать, биологического индивидуализма, приходили в некоторых своих произведениях о второй мировой войне к забвению ее антифашистского характера, к утверждениям принципов «наивного дезертирства» (например, В. Сароян в книге: «Приключения Уэлси Джексона»). И Дороти Паркер пишет о войне с точки зрения маленькой женщины — измученной страхом и тоской по мужу. Война разрушила ее семейную жизнь, разлучила ее с мужем, и отравляет недолгие минуты их свидания («Чудесный отпуск»).
Одна из проблем современного «американского образа жизни» — постыдная расовая дискриминация так же нашла отражение в творчестве писательницы-гуманистки. И, обращаясь к этой острой, мучительной проблеме, Дороти Паркер остается верна своей манере сдержанного насмешливого повествования.
Светская дама в рассказе «Черное и белое» болтливая и неумная жена «убежденного южанина» задыхается от сильных ощущений, так как она пожала руку негру — известному певцу и назвала его «мистер». Она в восторге от «революционной» дерзости и необычайной прогрессивности этого подвига, но вместе с тем она абсолютно уверена в доброте и справедливости своего мужа, который полагает, что негры до тех пор хороши «пока они на своем месте».
Старая негритянка-прачка, которой «добрые» белые буржуа оказывают благодеяние, позволяя работать на себя, с трудом содержит своего слепого внучонка, а дочь ее — мать малыша — затянуло грязное распутство улицы большого капиталистического города. Те же «добрые» благодетели жертвуют старухе для мальчика обноски. И дары эти, вызвав сперва необычайную радость у слепого ребенка, для которого одежда означает единственно доступное ему счастье — прогулку по улице, становятся причиной и самого большого несчастья для мальчика: на улице его высмеивают, издевательски травят… («Оденьте нагих»).
Так маленькие и на первый взгляд незначительные сатирические и мелодраматические этюды вырастают в правдивые реалистические и в то же время символические обобщения, характеризующие всю систему того лицемерного «дружелюбия» к неграм, которым некоторые американские буржуазные либералы пытаются прикрыть, замаскировать величайший позор Америки — расовую дискриминацию.
III
Творчество Дороти Паркер не оставляет никаких сомнений в том, кем вызвана и против кого направлена ее ненависть — неослабная и, при всей своей вежливой сдержанности, страстная ненависть художника-гуманиста.
Но и сатирику трудно, если им движет только ненависть, если он не способен или ему некого любить, если он сознает только, против кого и чего, но не знает, за кого и за что он ратует.
И вот Паркер рассказывает о солдатах Испанской Республики, простых, но благородных и мужественных людях. Неизменные черты ее творческого метода, — выработанные, так сказать, в американской школе чеховского реализма, — проявляются и здесь в том, что писательница изображает своих героев не в грохоте боев, не освещенных заревами трагических событий. Нет, они выступают в полусвете будничного маленького ресторана, они говорят о себе в сбивчивой застольной беседе со случайными знакомыми, и душевное величие этих людей из народа оказывается тем более убедительным, тем более прочно врезается в сознание и ощущение читателя («Солдаты республики»).
Но в то же время этот рассказ — один из немногих, где Дороти Паркер почти безоговорочно утверждает, без оглядки восхищается и ни над чем не смеется.
Чаще всего тот мир, в котором она живет, мешает ей безраздельно радоваться, а тем людям, которые ближе и дороже всего писательнице, мешает быть настоящими, цельными, душевно чистыми.
И поэтому когда она создает образы добрых людей, противопоставляемых ею миру буржуазного зла, то воплощает в них уже не ту воинствующую любовь, которая изнутри озаряет людей революционной Испании, а скорее жалость, — ласковую, но беспощадную жалость очень наблюдательного и очень честного художника.
Какими убогими, какими тусклыми и бескрылыми являются их мечты, их представления о счастье, как бессильно склоняются они перед жестокими и нелепыми силами внешней необходимости, вторгающимися в их маленькие жизни из мира большого бизнеса или большой войны!
Две подружки, девушки-стенографистки, фантазирующие перед нарядными витринами, захвачены необычайно увлекательной игрой. Они придумывают, что бы каждая из них сделала, что бы купила, если бы ей досталось наследство в десять миллионов долларов с условием «что каждый цент из этой суммы вы должны истратить только на себя». Это простые и добрые девушки; они еще не стали, а может быть, даже и не станут физическими жертвами капиталистической действительности — голодающими безработными, проститутками, самоубийцами… Но они уже душевно изуродованы, отравлены неприметным ядом буржуазного эгоизма и корыстолюбия (Рассказ «Жизненный уровень»). Герой Бальзака начинал с того, что безудержно мечтал, предъявляя к жизни все новые и новые требования, и от них неумолимо съеживалась роковая шагреневая кожа, возвещая неизбежный конец так и не состоявшегося счастья. А у маленьких героинь Дороти Паркер уже с самого начала очень маленькие, ничтожные души, смятые, стиснутые в жалкие комочки всем жизненным опытом их общественного бытия.
Писательница любит и жалеет своих героев, но не на миг не поступается истиной ради своей любви и жалости. Она беспощадно правдива во всех своих рассказах.
Примером этого может служить рассказ о страшной судьбе женщины, очень привлекательной и профессионально приученной к тому, чтобы ею любовались (она работала живым манекеном в магазине готового платья). Тягучая бессмыслица жизни вокруг разрушает ее брак, она становится равнодушной распутной алкоголичкой; тонко рисует писательница, как постепенно гаснет в ней надежда на семейное счастье, ей ничто не удается, даже попытка к самоубийству: остается только забвение в пьянстве («Большая блондинка»).
Писательница не щадит иллюзий своих героев. Вот маленькая обывательница, покорная жена самоуверенного дельца, с трепетом ожидает знакомства с известной артисткой. Мир искусства, театра представляется ей сказочно величественным, идеально благородным. Но прославленная знаменитость оказывается грязной, пьяной, распутной старухой (многими чертами она напоминает героиню «Большой блондинки»). Горько разочарованная мечтательница спешит домой, — теперь уже ее «мирный очаг» представляется ей идеальным. Можно даже подумать, что крушение «эстетических» иллюзий просто возвращает ее к сытому самодовольству «респектабельного» буржуазного быта. Но и здесь у Паркер неожиданный, как у Генри, крутой сюжетный поворот: дома миссис Мардек ожидает все та же равнодушная самоуверенность мужа, и все оказывается не так, как ей только что примечталось. Ничем не заполнить пустоты, образовавшейся после уничтожения прежних иллюзий. И что впереди — не понять, но несомненно, ничего хорошего… («Слава при дневном свете»).
Дороти Паркер не пишет о революционерах, не рассказывает о людях, воодушевленных идеями социального протеста. В своей среде она не встречала таких. Она увидела настоящих героев в Испании, но не смогла найти их у себя на родине.
Однако мы понимаем, что в этом ее беда, а не вина. Об этой существенной слабости, — типичной, увы, для очень многих писателей буржуазного мира, — нельзя не сказать, говоря о произведениях Дороти Паркер. Но прежде всего нас привлекает то, что составляет силу и достоинство творчества талантливой и своеобразной американской писательницы. Рассказы Дороти Паркер воплощают замечательное мастерство честного и гуманного художника. Она умеет хорошо наблюдать и немногими, очень экономными средствами воспроизводить человеческие характеры и судьбы, в которых отражаются типические, своеобразные черты, глубокие внутренние закономерности общественной жизни современной Америки.
Именно поэтому ее творчество становится неопровержимым, убедительным разоблачением всех как откровенно реакционных, апологетических, так и замаскированных ревизионистским объективизмом, лживых мифов о прелестях пресловутого американского образа жизни.
Л. Копелев
Новеллы
БОЛЬШАЯ БЛОНДИНКА
Хейзел Морз была крупной белокурой женщиной того типа, который заставляет некоторых мужчин, когда они употребляют слово «блондинка», прищелкивать языком и лукаво подмигивать. Она гордилась своими маленькими ножками и страдала из-за тщеславия, вынуждавшего ее покупать тупоносые туфли на высоком каблуке и возможно меньшего размера. У нее были белые мягкие, покрытые бледными пятнами загара руки, а пальцы — длинные, трепетные с овальными выпуклыми ногтями привлекали внимание своей прекрасной формой. Кольца только портили их.
Она не любила предаваться воспоминаниям. В тридцать пять лет прошлое представлялось ей смутной вереницей дней, туманной кинолентой, рассказывающей о жизни незнакомых людей.
Когда ей было за двадцать, умерла ее мать — вдова (все это было как в тумане), и Хейзел стала работать манекенщицей в оптовом магазине готового платья. В те времена крупные женщины были еще в моде, а она была тогда цветущей, стройной, с высокой грудью. Работа не утомляла ее, и она заводила знакомства со многими мужчинами и провела с ними немало вечеров, смеясь их шуткам и восхищаясь их галстуками. Мужчинам она нравилась, и она не сомневалась в том, что женщины должны дорожить их вниманием. Она считала, что популярность стоила всех тех усилий, которые приходилось вкладывать, чтобы добиться ее.
Вы нравитесь мужчинам, потому что с вами весело, а когда вы им нравитесь, они приглашают вас — вот так все и идет. И она умела быть веселой. Она была «мировой девочкой». А мужчины любят «мировых девочек».
Никакое другое развлечение, более простое или более возвышенное, не привлекало ее. Ей никогда не приходило в голову, что она могла бы заняться чем-нибудь более полезным. Ее жизненный кругозор был совершенно таким же, как и у других полных блондинок, ее подруг.
Когда она проработала несколько лет в магазине готового платья, она познакомилась с Херби Морзом. Это был худой, подвижный, привлекательный мужчина, с мелкими веселыми морщинками у блестящих карих глаз; у него была привычка яростно обкусывать кожу вокруг ногтей; он любил выпить, и это забавляло Хейзел. При встрече она обычно намекала ему на его вчерашнее состояние.
— Ну и номер вы выкинули, — говорила она с легкой усмешкой, — я думала — умру от смеха, когда вы официанта танцевать приглашали.
Он понравился ей с первой встречи. Для нее было истинным удовольствием слушать его быструю неразборчивую речь; ее восхищало его умение вставить подходящую фразу из водевиля или юмористического журнала; уверенное прикосновение худощавой руки Херби наполняло ее блаженной дрожью; ей хотелось провести рукой по его напомаженным волосам. Херби тоже сразу почувствовал влечение к ней. Они поженились через полтора месяца.
Она была в восторге от того, что она невеста, играла и кокетничала этим. Ей уже не раз делали предложения, и немало, но случалось так, что все они исходили от толстых, серьезных мужчин, которые посещали магазин в качестве покупателей; мужчины из Де-Мойна, Хьюстона и Чикаго и, как она выражалась, еще более забавных мест. Мысль о том, что можно жить где-нибудь, кроме Нью-Йорка, всегда казалась ей необычайно смешной. Она не воспринимала всерьез предложения поселиться на Западе.
Она хотела выйти замуж. Ей уже было около тридцати, и годы сказывались на ней. Она раздалась, потеряла прежнюю стройность, волосы начали темнеть, и она неумело красила их перекисью. Временами ее охватывал страх, что она может потерять работу. Она провела уже не менее тысячи вечеров со знакомыми мужчинами и была «мировой девочкой». Теперь это выходило у нее скорее сознательно, чем непроизвольно.
Херби неплохо зарабатывал, и они сняли небольшую квартирку на окраине. У них была столовая, обставленная тяжелой темной мебелью, с люстрой в виде шара из красновато-коричневого стекла; в гостиной стоял «мягкий гарнитур», горшок с нефролеписом и висела репродукция с «Магдалины» Хеннера — рыжеволосой и в голубом одеянии; мебель в спальне была покрашена серой эмалью и обита блекло-розовой материей; на комоде у Хейзел стояла фотография Херби, а на комоде у Херби — фотография Хейзел.
Она сама готовила — а готовила она хорошо, — покупала провизию и болтала с разносчиками и прачкой негритянкой. Она любила свою квартиру, любила эту жизнь, любила Херби. В первые месяцы после женитьбы она познала настоящую страсть, равной которой ей уже больше никогда не пришлось изведать.
Она не сознавала, как сильно она устала. Перестать быть «мировой девочкой» было счастьем, новой игрой, праздником. Если у нее болела голова или сильно уставали ноги, она жалобно, по-детски говорила об этом. Если ей хотелось помолчать, она молчала. Если на глаза набегали слезы, она не сдерживала их.
В первый год замужней жизни она усвоила привычку часто плакать. Даже в те дни, когда она была «мировой девочкой», она славилась тем, что любила проливать обильные слезы по любому поводу. Ее поведение в театре являлось предметом постоянных шуток. В театре она могла рыдать над чем угодно — у нее вызывали слезы любовь безответная и взаимная, соблазнение, чистота, верные слуги, маленькие дети, свадьба, извечный треугольник. «Ну началось, — говорили ее друзья, — опять потекло».
Выйдя замуж, она проливала слезы по любому поводу. Для нее, которая так много смеялась, слезы были радостью и наслаждением. Любое горе было ее горем; она была олицетворением нежности. Она могла тихо и долго плакать над газетными сообщениями о похищенных младенцах, брошенных женах, безработных мужчинах, заблудившихся котах и героических собаках. Даже когда она откладывала газету в сторону, ее мысли продолжали витать вокруг прочитанного и слезы одна за другой катились по ее пухлым щекам.
— Только подумать, сколько в мире печали! — говорила она Херби.
— Угу, — отвечал он.
Она ни о ком не скучала. Старые друзья, люди, благодаря которым она познакомилась с Херби, постепенно ушли из их жизни. Если она когда и думала об этом, то с удовольствием. Это было замужество. Это был покой.
Но дело было в том, что Херби не испытывал от этого никакого восторга.
Сначала ему нравилось быть с ней наедине. Он находил такое добровольное затворничество необычным и сладким. Затем с ужасающей быстротой это чувство исчезло — словно один вечер он сидел с ней в их гостиной с паровым отоплением и уединение было пределом его мечтаний, а на другой вечер ему все осточертело.
Его начали раздражать ее непонятные приступы меланхолии. Вначале, когда он возвращался домой и находил ее утомленной и грустной, он целовал ее в шею, похлопывал по плечу и просил сказать ее Херби, в чем дело. Ей нравилось это. Но время шло, и он обнаружил, что на самом деле с ней ничего не случалось.
— А, черт, — говорил он. — Опять ревешь, ну и сиди, реви пока не свихнешься. А я пошел.
И, хлопнув дверью, он уходил и возвращался поздно ночью пьяным. Она была в полной растерянности от всего происходящего. Сначала они были любовниками, а затем, казалось, безо всякого перехода, стали врагами. Она никак не могла этого понять.
Все длительней и длительней становились промежутки между тем часом, когда он кончал работу и моментом его возвращения домой. Она терзалась, представляя, что он попал под машину и лежит, истекая кровью, или уже мертв и покрыт простыней. Затем она перестала беспокоиться за его жизнь и замкнулась в угрюмом, обиженном молчании. Когда человек хочет быть с тобой вместе, он старается приходить домой пораньше. Она страстно желала, чтобы он хотел быть с ней; она часами сидела и ждала его возвращения. Часто он приходил обедать почти в девять часов вечера и обычно уже навеселе; от алкоголя он становился шумным, раздражительным и вспыльчивым.
Он говорил, что он слишком нервный и поэтому не может сидеть дома и ничего не делать целый вечер. Он хвастался, хотя это, возможно, и не соответствовало действительности, что за всю свою жизнь не прочел ни одной книги.
— Что мне делать? Весь вечер просиживать штаны в этой дыре? — вопрошал он риторически. И опять уходил, хлопнув дверью.
Она не знала, что предпринять. Она не могла с ним справиться. Она не могла его понять.
Она вела с ним яростную борьбу. Любовь к домашнему очагу овладела ею, и она готова была кусаться и царапаться, лишь бы сохранить его. Она мечтала о том, что она называла «хорошим домом». Она мечтала о трезвом, нежном муже, который приходил бы вовремя к обеду, вовремя уходил бы на работу. Она мечтала о спокойных, тихих вечерах. Мысль о близости с другими мужчинами приводила ее в ужас; мысль о том, что Херби может искать развлечений с другими женщинами, наполняла ее отчаянием.
Ей казалось, что почти все книги, которые она брала в библиотеке, рассказы в журналах, женские странички в газетах повествовали о женах, потерявших любовь своих мужей. Но ей было легче читать эти истории, чем рассказы о хороших удачных браках и счастливой семейной жизни.
В ней росло чувство страха. Несколько раз, возвращаясь вечером домой, Херби находил ее явно приодетой и накрашенной (ей приходилось перешивать старые платья, они не сходились на ней).
— Не повеселиться ли нам сегодня? — предлагала она ему. — У нас еще будет много времени для безделья, когда нас похоронят.
И они шли веселиться в закусочные и дешевые кабаре. Но затея не удавалась. Ей уже не доставляло удовольствия наблюдать, как Херби пьет. Она уже не смеялась его остротам, а напряженно считала, сколько рюмок он выпил. И она не могла удержаться от увещеваний:
— Ну хватит, Херби, ты уже достаточно выпил. Утром ты будешь чувствовать себя просто ужасно.
Он тут же приходил в ярость. Что она ворчит и ворчит без конца! Ну и скучища же с ней! Затем следовала сцена, и один из них в сердцах вскакивал и уходил.
Она не запомнила того дня, когда сама начала пить. Ее дни мало отличались один от другого. Словно капли дождя на оконном стекле, они сливались и стекали вниз. Она была замужем полгода, затем год, затем три года.
Раньше ей никогда не хотелось пить. Она могла просидеть чуть ли не всю ночь за столом с теми, кто непрерывно пил, и всегда оставалась свежей и веселой, и поступки окружающих не действовали ей на нервы. Если она соглашалась выпить коктейль, то это было так необычно, что шутки по этому поводу не прекращались почти полчаса. Но теперь боль жила в ней самой. Часто после ссоры Херби приходил домой лишь под утро, и потом она не могла добиться, где он пропадал. Сердце мучительно сжималось у нее в груди, а тревожные мысли не давали покоя.
Она ненавидела запах алкоголя. От джина, чистого или с чем-нибудь смешанного, ее немедленно начинало тошнить. Испробовав все, она обнаружила, что лучше всего переносит шотландское виски. Она пила его без воды, потому что так оно действовало быстрее.
Херби заставлял ее пить. Ему нравилось наблюдать, как она пьянеет. Они оба чувствовали, что это может вернуть ей веселое настроение, и тогда, возможно, им опять, как прежде, будет хорошо вдвоем.
— Молодец, девочка, — хвалил он ее. — Давай нажимай, крошка.
Но это не сближало их. Когда они пили вместе, то сначала им становилось весело, а затем, как-то внезапно, начиналась дикая ссора. Просыпаясь утром, они не могли вспомнить, что было ее причиной, что было сказано и сделано, но каждый чувствовал глубокую обиду и горько негодовал. Иногда целыми днями они хранили упорное молчание.
Было время, когда они мирились, обычно это происходило в постели. Тогда были поцелуи, и ласкательные имена, и уверения, что они начнут все сначала…
— О, Херби, теперь все будет хорошо. Теперь все будет здорово. Я была размазней. Должно быть, это оттого, что я устала. Все пойдет на лад, вот увидишь.
Но теперь уже не стало и нежных примирений. Они возобновляли дружеские отношения лишь в короткие минуты великодушия, вызванного опьянением, пока еще большее количество алкоголя не вовлекало их в новые битвы. Ссоры становились все более яростными. Они сопровождались громкой бранью, а иногда и звонкими пощечинами. Однажды он подбил ей глаз. На следующий день, увидев синяк, Херби пришел в ужас. Он не пошел на работу, он ходил за ней по пятам, предлагая различные способы лечения и обвиняя себя в самых ужасных преступлениях. Но после того, как они выпили по нескольку рюмок, чтобы «подкрепиться», она так жалобно и так упорно напоминала о своем «увечье», что он закричал на нее, бросился вон из квартиры и не возвращался два дня.
Каждый раз, когда он в ярости убегал из дому, он грозил, что больше не вернется. Она не верила ему и не задумывалась над тем, что они могут расстаться. Где-то в глубине ее ума или сердца таилась ленивая, смутная надежда, что все переменится и они с Херби неожиданно заживут спокойной семейной жизнью. Здесь был ее дом, ее мебель, ее муж, ее место в жизни. Она не искала ничего другого.
Она не могла, как прежде, суетиться, занимаясь всякими пустяками. Она не плакала больше о чужих бедах, а проливала горячие слезы о себе самой. Она ходила взад-вперед по комнатам, а мысли ее непрерывно вертелись вокруг Херби. В эти дни в ней родилась ненависть к одиночеству, и она уже никогда больше не могла преодолеть этого чувства. Когда все идет хорошо, можно быть одной, но когда на душе тяжело, тобой овладевает гнетущий страх.
Она начала пить в одиночестве, пить понемногу, пить весь день. Только в присутствии Херби она становилась раздражительной и обидчивой от алкоголя. Когда она была одна, виски притупляло все ее чувства. Она жила словно в тумане. Ее жизнь стала походить на сон. Ничто больше не удивляло ее.
В квартире напротив поселилась некая миссис Мартин. Это была полная блондинка лет сорока; миссис Морз в будущем обещала стать похожей на нее. Они познакомились и скоро стали неразлучны. Все свои дни миссис Морз проводила в квартире напротив. Они пили вместе, чтобы опохмелиться после вчерашней выпивки.
Она никогда не делилась своими горестями с миссис Мартин. Она по-прежнему не понимала Херби, и разговоры на эту тему не приносили ей облегчения. Пусть думают, что ее муж так долго отсутствует по делам. Этому не придавали значения; мужья, как таковые, играли весьма призрачную роль в кругу знакомых миссис Мартин. У миссис Мартин не было в наличии супруга, и вы должны были сами решать, жив он или мертв. У нее был поклонник Джо, который навещал ее почти каждый вечер. Часто он приводил с собой нескольких друзей — он называл их «мальчиками». «Мальчики» были крупными, краснолицыми, добродушными мужчинами лет сорока пяти, а может и пятидесяти. Хейзел была рада, когда миссис Мартин приглашала ее к себе — Херби почти никогда не ночевал теперь дома. Если он все же являлся, тогда она не шла к миссис Мартин. Вечер вдвоем с Херби неизбежно означал ссору, и все же она оставалась с ним. В ней по-прежнему жила слабая неосознанная надежда, что, может быть, именно в этот вечер все пойдет по-иному.
«Мальчики» всегда приносили с собой много выпивки. Когда миссис Морз пила с ними, она становилась оживленной, веселой и развязной. Она сразу начала пользоваться успехом. Когда она выпивала столько, что забывала свою последнюю ссору с Херби, их одобрение возбуждало ее. Так, значит, она размазня? Значит, с ней скучища? Что ж, есть люди, которые думают по-иному.
Эд был одним из «мальчиков». Он жил в Утике — у него там было «собственное дело», как об этом с почтением говорили, — но приезжал в Нью-Йорк почти каждую неделю. Он был женат. Он показал миссис Морз фотографии наследника и его сестренки, и она долго и искренне расхваливала их. Вскоре все примирились с тем, что Эд стал ее личным другом.
Он делал за нее ставки, когда все они играли в покер, садился с ней рядом во время игры и иногда прижимался коленом к ее колену. Ей везло. Часто она приносила домой ассигнацию в двадцать пять или десять долларов или пригоршню смятых мелких бумажек. Она радовалась им. Херби, по ее словам, стал совершенно ужасным в отношении денег. Если она просила у него денег, это вызывало немедленную ссору.
— Что ты, черт побери, делаешь с ними? — спрашивал он. — Гробишь их все на виски?
— Я пытаюсь хоть как-нибудь вести хозяйство, — отвечала она с раздражением. — Ты ведь об этом никогда не задумывался, не правда ли? О нет, его высочество нельзя беспокоить по таким пустякам.
Опять-таки она никак не могла точно припомнить, когда она перешла в собственность Эда. У него вошло в привычку целовать ее в губы, когда он приходил, а также на прощание, и весь вечер он целовал ее быстрыми короткими поцелуями, словно выражая свое одобрение. Ей это скорее нравилось, чем не нравилось. В его отсутствие она никогда не вспоминала об этих поцелуях.
Иногда Эд медленно проводил рукой по ее спине и плечам.
— Потрясающая блондинка, а? — говорил он. — Куколка.
Однажды днем, вернувшись от миссис Мартин, она застала в спальне Херби. Он отсутствовал несколько ночей и, видимо, все это время непрерывно пил. Лицо у него было серое, руки подергивались словно у марионетки. На кровати лежали два старых чемодана, доверху набитые вещами. Только ее фотография стояла на его комоде, а в широко раскрытом стенном шкафу остались одни вешалки.
— Я отчаливаю, — сказал он. — Здесь со всем покончено. Я нашел работу в Детройте.
Она села на край кровати. Она выпила лишнее вчера вечером, пила утром вместе с миссис Мартин, и это еще больше затуманило ее сознание.
— Хорошая работа? — спросила она.
— Да, — ответил он, — как будто ничего.
Ругаясь вполголоса, он с трудом закрыл чемодан.
— В банке осталось немного деньжат, — сказал он. — Чековая книжка у тебя в верхнем ящике. Ты можешь взять себе мебель и все остальное.
Он взглянул на нее, и у него задергалось лицо.
— Будь все проклято! Говорю тебе, со всем кончено, — закричал он. — Кончено!
— Ну ладно, ладно, — сказала она. — Я ведь не глухая.
Ей казалось, что он стоит на одном конце ущелья, а она на другом. Боль начала толчками пульсировать у нее в голове, и ее голос звучал глухо и надоедливо. Она не могла заставить себя говорить громче.
— Может, выпьешь перед отъездом? — спросила она.
Он снова взглянул на нее и криво усмехнулся.
— Опять напилась для разнообразия? — сказал он. — Неплохо. Конечно, неси сюда пару стаканчиков.
Она пошла на кухню, приготовила для него виски с содовой, налила себе полстакана чистого виски и выпила. Налила еще и понесла стаканы в спальню. Он уже перетянул ремнями оба чемодана и надел шляпу и пальто.
Он взял свой стакан.
— Ну, — сказал он и вдруг засмеялся неуверенным смехом. — Твое здоровье.
— Твое здоровье, — ответила она.
Они выпили. Он поставил стакан и взял в руки тяжелые чемоданы.
— Мне надо успеть на шестичасовой, — сказал он.
Она проводила его по коридору. Громко звучала песня, которую миссис Мартин без конца заводила на фонографе. Хейзел она никогда не нравилась.
День и ночь У нас веселье. Чем это не жизнь!У двери он поставил чемоданы и повернулся к ней.
— Ну, — сказал он, — береги себя. Надеюсь, у тебя все будет в порядке, правда?
— Конечно, — сказала она.
Он открыл дверь, затем опять повернулся к ней, протягивая руку:
— Всего, Хейзел. Желаю тебе удачи.
Она взяла протянутую руку и пожала ее.
— Извини меня за мокрую перчатку, — пошутила она.
Когда за ним закрылась дверь, она опять пошла к себе на кухню.
Она была оживленной и раскрасневшейся, когда пришла в этот вечер к миссис Мартин. Там были «мальчики» и среди них Эд. Он радовался, что вернулся в Нью-Йорк, был весел, говорил громко и много шутил. Она сказала ему тихо:
— Херби отчалил сегодня, будет жить на Западе.
— Вот как? — отозвался Эд. Он смотрел на нее и играл самопишущей ручкой, засунутой в карман жилета. — Думаешь, он совсем уехал? — спросил он.
— Да, — ответила она. — Я знаю, что совсем. Я знаю. Да.
— Ты будешь по-прежнему жить напротив? — спросил он. — Что собираешься делать?
— Господи, не знаю. Наплевать мне на все.
— Не надо так говорить, — сказал он. — Тебе надо капельку выпить. Ну, налить?
— Да, — ответила она, — только мне без соды.
Она выиграла в покер сорок пять долларов. Когда игра окончилась, Эд пошел вместе с ней в ее квартиру.
— Как насчет маленького поцелуйчика? — спросил он.
Он обхватил ее своими большими ручищами и начал страстно целовать. Она совсем не сопротивлялась. Он немного ослабил объятия и посмотрел на нее.
— Немного на взводе, девочка? — спросил он заботливо. — Тебе не будет плохо?
— Мне-то? — сказала она. — Мне все нипочем.
2
Когда Эд утром уехал, он взял с собой фотографию Хейзел. Он сказал, что ему нужна ее фотография, чтобы смотреть на нее в Утике.
— Можешь взять ту, что на комоде, — сказала она.
Она спрятала фотографию Херби в ящик, чтобы не видеть ее. Когда фотография попадалась ей на глаза, ей хотелось ее разорвать. Ей почти удалось заставить себя не думать о нем. В этом ей помогало виски. Окруженная пеленой тумана, она была почти спокойна.
Она принимала свои отношения с Эдом как нечто должное и безо всякого энтузиазма. Когда он уезжал, она редко думала о нем. Он хорошо относился к ней; часто делал подарки и регулярно выплачивал содержание. Она даже могла откладывать. Она не строила никаких планов на будущее, но ее потребности были невелики, а деньги можно с таким же успехом держать в банке, как и дома.
Когда срок аренды ее квартиры приблизился к концу, Эд предложил ей переехать. Его отношения с миссис Мартин и Джо стали несколько натянутыми из-за спора во время игры в покер; назревала ссора.
— Давай уберемся отсюда, — сказал Эд. — Я хочу, чтобы ты поселилась около Главного вокзала. Так будет удобнее для меня.
И она сняла маленькую квартирку на Сороковой улице. Горничная-негритянка приходила каждый день убираться и варить для нее кофе — она сказала, что ей «надоела вся эта возня по хозяйству», и Эд, уже двадцать лет женатый на женщине, страстно преданной домашнему хозяйству, восхищался этой романтической ленью и чувствовал себя настоящим мужчиной, поощряя ее прихоти.
Она почти никогда ничего не ела до самого ужина, но из-за алкоголя продолжала полнеть. Сухой закон был для нее только поводом для шуток. Ведь всегда можно достать сколько угодно виски. Она никогда не бывала явно пьяна, но и редко бывала трезвой. Теперь требовалась все большая порция, чтобы держать ее в приятном забытьи. Если она выпивала слишком мало, то впадала в глубокую меланхолию.
Эд познакомил ее с рестораном Джимми. Он был горд гордостью провинциала, который надеется, что его примут за коренного жителя, потому что он знает маленькие новые ресторанчики, занимающие нижние этажи неприглядных домов из бурого песчаника; места, где при упоминании имени друга-завсегдатая можно получить виски и джин. Ресторан Джимми был излюбленным местом приятелей Эда.
Здесь через Эда она познакомилась со многими мужчинами и женщинами и завела много мимолетных друзей. Мужчины часто приглашали ее куда-нибудь, когда Эд был в Утике. Он гордился ее популярностью.
Она привыкла ходить в ресторан Джимми одна, если ее никто никуда не приглашал. Она была уверена, что встретит там знакомых и сможет присоединиться к ним. Это был клуб ее друзей — и мужчин и женщин.
Женщины, посещавшие этот ресторан, были поразительно похожи друг на друга, и это было странно, потому что состав их постоянно менялся из-за ссор, переездов и новых, более выгодных связей. И тем не менее, новенькие всегда были похожи на тех, чье место они заняли. Все они были крупными и толстыми женщинами, с широкими плечами и роскошными бюстами, с полными красными лицами. Они громко и часто хохотали, обнажая темные без блеска зубы, похожие на квадратные глиняные осколки. Они выглядели здоровыми, как обычно выглядят рослые люди, и в то же время было что-то нездоровое в их еле заметном упрямом стремлении сохраниться как можно дольше. Им могло быть и тридцать шесть и сорок пять.
К своему имени они прибавляли фамилию своего мужа — миссис Флоренс Миллер, миссис Вера Райли, миссис Лилиан Блок. Это позволяло им сочетать респектабельность замужнего положения с прелестью свободы Однако только одна или две из них были действительно разведены. Большинство никогда не вспоминали о своих призрачных супругах; некоторые, расставшиеся с мужьями сравнительно недавно, рассказывали о них вещи, представлявшие огромный интерес с биологической точки зрения. Некоторые были матерями, но у каждой было только по одному ребенку — мальчик, который посещал где-то школу или девочка, о которой заботилась бабушка. Часто, уже под утро, они показывали друг другу фотографии детей и при этом заливались слезами.
У них был покладистый характер, они были сердечными, дружелюбными и весьма почтенными на вид женщинами. Их основным достоинством было спокойствие. Они стали фаталистами, особенно в отношении денег, и поэтому их ничто не волновало. Как только их фонды угрожающе уменьшались, появлялся новый вкладчик; так случалось всегда. Целью каждой было иметь одного мужчину, иметь его постоянно, чтобы он платил по всем ее счетам, а в обмен они готовы были немедленно отказаться от всех остальных поклонников и, возможно, даже сильно привязаться к этому единственному избраннику, так как в своих чувствах они были нетребовательными, относились ко всему спокойно и легко приспосабливались. Но с каждым годом найти постоянного поклонника становилось все труднее. На миссис Морз смотрели как на счастливицу.
Этот год был удачным для Эда, он увеличил ее содержание и подарил ей котиковое манто. Но она должна была внимательно следить за своими настроениями. Он требовал веселости. Он не хотел слышать о болезнях или усталости.
— Послушай-ка, — говорил он, — у меня по горло своих забот. Никто не хочет слушать о несчастьях других, кисанька. Будь хорошей девочкой и забудь обо всем. Слышишь? Ну, теперь улыбнись мне разок. Вот и хорошо, крошка.
У нее никогда не возникало желания ссориться с ним, как она ссорилась с Херби, но ей хотелось иметь право иногда пожаловаться на свою грусть. Это было удивительно: другие женщины, которых она знала, не должны были бороться со своими настроениями. Так, например, миссис Миллер часто рыдала, и мужчины стремились развеселить и утешить ее. Другие целыми вечерами повествовали о своих заботах и болезнях, и их кавалеры относились к ним с глубоким сочувствием. Но, как только у нее портилось настроение, она сразу становилась ненужной. Однажды в ресторане Джимми, когда она не могла развеселиться, Эд ушел, бросив ее одну.
— Почему ты, черт возьми, не останешься дома, вместо того чтобы портить всем вечер? — рявкнул он на прощанье.
Даже мало знакомые ей люди, казалось, раздражались, если она недостаточно убедительно доказывала, что у нее хорошее настроение.
— Что это с тобой в конце концов? — спрашивали они. — Веди себя как полагается. А ну, выпей и будь повеселее.
Ее отношения с Эдом продолжались уже около трех лет, когда он переехал жить во Флориду. Эд не хотел оставлять ее; он дал ей чек на крупную сумму и несколько акций надежных предприятий, и, когда он прощался с ней, его светлые глаза были мокры от слез. Она не скучала о нем. Он редко приезжал в Нью-Йорк, два или три раза в год, и сразу с поезда спешил к ней. Она всегда была рада его приезду, но и не жалела, когда он уезжал.
Чарли, приятель Эда, с которым она познакомилась в ресторане Джимми, был ее старым поклонником. Он всегда старался прикоснуться к ней и близко придвигался во время разговора. Он постоянно спрашивал у всех своих друзей, слышали ли они когда-нибудь такой замечательный смех, как у Хейзел. После ухода Эда Чарли стал основной фигурой в ее жизни. Она отнесла его к разряду «неплохих». Почти целый год был Чарли; затем она поделила свое время между ним и Сидни, еще одним завсегдатаем ресторана Джимми; затем Чарли совсем исчез с горизонта.
Сидни был маленьким, крикливо одевавшимся умным евреем. Пожалуй, с ним она чувствовала себя лучше всего. Он всегда развлекал ее, и она смеялась от души.
Он был без ума от нее. Ее мягкая полнота и высокий бюст восхищали его. И он часто говорил ей, что она замечательная, потому что, опьянев, она продолжала оставаться веселой и живой.
— Как-то у меня была девочка, — рассказывал он, — каждый раз, когда она напивалась, она пыталась выпрыгнуть из окна. Господи-и! — прибавлял он с чувством.
Затем Сидни женился на богатой и бдительной невесте, и тогда появился Билли. Нет, после Сидни был Фред, а потом уже Билли. Из-за того, что ее мозг всегда был затуманен, она никогда не помнила, как мужчины приходили и уходили из ее жизни. Все это было так обычно. Она не испытывала ни восторга, когда они появлялись, ни сожаления, когда они исчезали. Казалось, она всегда могла нравиться мужчинам. Ни один из них не был таким богатым, как Эд, но все они по мере своих возможностей были с ней щедры.
Однажды она услышала о Херби. У Джимми она встретила миссис Мартин, и старая дружба возобновилась с новой силой. Джо, который по-прежнему состоял в обожателях у миссис Мартин, встретил Херби во время одной из своих деловых поездок. Херби поселился в Чикаго, прекрасно выглядел и жил с какой-то женщиной — похоже, что он был от нее в восторге. В этот день миссис Морз с утра много пила. Она отнеслась к этой новости без большого интереса, как к грешкам кого-то, чье имя после минутного раздумья оказывается знакомым.
— Вот уже, наверное, семь лет, как мы не виделись, — заметила она. — А ведь и правда, семь лет.
Все больше и больше стиралась разница между днями. Она никогда не знала, какое сегодня число и не была уверена, какой сегодня день недели.
— Боже, неужели это было год назад! — восклицала она, когда в разговоре речь заходила о каком-нибудь событии.
Она часто чувствовала себя усталой. Усталой и подавленной. Почти любая мелочь могла привести ее в плохое настроение. Старые лошади на Шестой авеню с трудом тянули конку по скользкой мостовой или стояли у панели, опустив голову чуть ли не до самых сбитых копыт, и она с трудом сдерживала слезы, пробегая мимо в своих тупоносых, светлых, мучительно тесных туфлях на высоких каблуках.
Мысль о смерти пришла к ней и уже больше не покидала ее, наполняя ее чувством какой-то дремотной радости. Как это хорошо, хорошо и спокойно — быть мертвой.
Не помнила она и того ужасного мгновения, когда она впервые подумала о самоубийстве. Казалось, эта мысль всегда жила в ней. Она набрасывалась на все сообщения о самоубийствах в газетах. Тогда была настоящая эпидемия самоубийств, или, может быть, она находила так много сообщений о них потому, что упорно их искала. Эти сообщения возвращали ей уверенность в себе; она испытывала приятное чувство солидарности со всей этой большой компанией людей, добровольно обрекших себя на смерть.
Напившись, она спала до четырех-пяти часов дня, а потом лежала в кровати — бутылка и стакан всегда стояли рядом — до того времени, когда надо было одеваться, чтобы идти обедать в ресторан. Она начала испытывать к алкоголю чувство легкого озадаченного недоверия, словно к старому другу, который отказывается сделать небольшое одолжение. Обычно виски действовало на нее успокаивающе, но иногда наступали неожиданные и необъяснимые моменты, когда туман, окружавший ее, предательски исчезал, и тогда ее терзала тоска, растерянность и сознание бессмысленности всей жизни. Она с наслаждением тешилась мыслью о спокойном, сонном убежище. Она никогда не была религиозной, и загробная жизнь не пугала ее. Целыми днями она мечтала о том, что ей никогда больше не придется надевать тесных туфель, никогда не надо будет смеяться, слушать и восхищаться, никогда больше не надо будет быть «мировой девочкой». Никогда.
Но как это сделать? У нее начинала кружиться голова при мысли о том, чтобы броситься откуда-нибудь с большой высоты. Она не могла видеть револьвера. Когда в театре один из актеров вынимал револьвер, она затыкала пальцами уши и даже не могла смотреть на сцену, пока не раздавался выстрел. В квартире не было газа. Она долго разглядывала голубые вены на своем тонком запястье — стоит только перерезать их бритвой, и все кончится. Но это больно, ужасно больно, и потом еще польется кровь. Яд — что-нибудь безвкусное, быстро и безболезненно действующее — вот что ей было нужно. Но в аптеке ей не продадут яда, это запрещено законом.
Она не думала почти ни о чем другом.
Теперь у нее был новый друг — Арт. Он был коротенький, толстый и когда напивался, то становился требовательным и придирчивым. Но до него некоторое время были лишь случайные встречи, и она была рада хотя бы недолгому постоянству. К тому же Арта иногда не бывало целыми неделями — он занимался продажей шелка, — и это тоже было приятно. Она была с ним убедительно весела, хотя это ей дорого стоило.
— Самая мировая девочка на свете, — шептал он, уткнувшись носом в ее шею, — самая мировая. Лучше не найти.
Однажды, когда они были у Джимми, она пошла в туалетную комнату вместе с миссис Флоренс Миллер. И там, старательно крася губы, они стали жаловаться друг другу на бессонницу.
— Честное слово, — сказала миссис Морз, — я не сомкну глаз, пока не выпью. А то я ворочаюсь и ворочаюсь без конца. Тоска! Вот уж действительно нападает тоска, когда лежишь и не можешь заснуть!
— Послушай, Хейзел, — убедительно заявила миссис Миллер, — говорю тебе, я бы не заснула целый год, не принимай я веронала. От этой штуки спишь как убитая.
— Ведь это же яд? — спросила миссис Морз.
— Ну конечно, если принять его слишком много, то тебе крышка, — сказала миссис Миллер. — Я принимаю по полграмма, он продается в таблетках. Такими вещами не шутят. Но примешь одну — и спишь без задних ног.
— А где его можно достать? — Миссис Морз чувствовала себя истинным Макиавелли.
— Его можно купить сколько хочешь в Джерси, — сказала миссис Миллер. — Здесь его не дадут без рецепта. Ну как, ты готова? Пойдем посмотрим, что там делают мальчики.
В этот вечер Арт расстался с миссис Морз у дверей ее квартиры — в город приехала его мать. Миссис Морз была все еще трезвой, а дома не оказалось виски. Она лежала в кровати, глядя в темный потолок.
Она встала, по ее понятиям, рано и поехала в Нью-Джерси. Она никогда не ездила в метро и плохо в нем ориентировалась. Поэтому она поехала на Пенсильванский вокзал и купила билет до Ньюарка. По дороге она ни о чем не думала. Она смотрела на стандартные шляпы женщин, или задумчиво поглядывала на плоский песчаный пейзаж, который мелькал за грязным окном.
В Ньюарке в первой же аптеке она попросила тальк, щетку для ногтей и коробку веронала. Тальк и щетку она купила для отвода глаз. Продавец не проявил ни малейшего интереса.
— У нас его нет в такой упаковке, — сказал он и завернул для нее маленькую стеклянную трубочку с десятью белыми таблетками.
Она направилась в другую аптеку и купила губку, пилку для ногтей и трубочку веронала. Здесь продавец также не проявил никакого интереса.
«Ну, я думаю, этого достаточно, чтобы прикончить быка», — подумала она и поехала обратно на вокзал.
Дома она положила маленькие стеклянные трубочки в ящик туалетного стола и долго смотрела на них с мечтательной нежностью.
— Ну теперь все в порядке, — сказала она, поцеловала кончики пальцев и прикоснулась к каждой трубочке.
Негритянка убиралась в гостиной.
— Эй, Нетти! — позвала миссис Морз. — Будь другом, сбегай к Джимми и принеси мне бутылку виски.
Она тихонько напевала, ожидая возвращения девушки.
В последующие дни виски оказывало на нее то же приятное воздействие, что и вначале, когда она впервые обратилась к нему за помощью. В одиночестве она чувствовала себя умиротворенной и словно окутанной туманом, в ресторане она была самой веселой из всей компании. Арт пришел в восторг.
Как-то вечером она назначила Арту свидание у Джимми — они собирались там пообедать. Сразу после обеда Арт должен был уехать на неделю по своим делам. Миссис Морз начала пить, как только проснулась; одеваясь, она с удовольствием заметила, что у нее постепенно улучшается настроение. Но как только она вышла на улицу, действие виски мгновенно прекратилось, и ее охватила такая страшная гнетущая тоска, что на секунду она остановилась, покачиваясь из стороны в сторону, не в силах сделать ни шага. Смеркалось. Улица блестела черным льдом. Временами неожиданно налетали порывы ветра, и в лицо хлестал колючий мелкий снег. Когда она, с трудом передвигая ноги, медленно пересекала Шестую авеню, большая покрытая рубцами лошадь, тащившая старый фургон, упала на колени почти рядом с ней. Возница ругался и кричал, нещадно хлеща ее, но лошадь никак не могла подняться на скользком асфальте. Собравшаяся толпа с интересом наблюдала за происходящим.
Арт уже ждал, когда миссис Морз наконец пришла в ресторан.
— Что с тобой стряслось? — приветствовал он ее.
— Я видела лошадь, — сказала она. — Господи, как мне бывает жаль лошадей. Я… дело не только в лошади. Все это так ужасно, правда? Я ничего не могу поделать, вот на меня и нападает тоска.
— А, черт возьми! — сказал он. — И почему ты все ноешь? С чего это у тебя тоска?
— Я ничего не могу поделать, — повторила она.
— Ну, брось ныть! — сказал он. — Возьми себя в руки. Сядь и успокойся.
Она старательно пила, но сколько ни пыталась, не могла побороть меланхолию. К ним присоединились другие и начали делать замечания по поводу ее унылого вида, но она только слабо улыбалась в ответ. Она прикладывала платок к глазам, пытаясь сделать это незаметно, но Арт взглянул на нее, нахмурился и нетерпеливо заерзал на стуле.
Когда ему пора было ехать на вокзал, она сказала, что тоже хочет уйти домой.
— Неплохая идея, — поддержал он ее. — Попробуй хорошенько выспаться. Я приеду в четверг. Ради бога, будь веселой. Ладно?
— Ладно, — сказала она, — я попробую.
Дома в спальне она разделась с лихорадочной быстротой, так непохожей на ее обычные неуверенно вялые движения. Она надела ночную рубашку, сняла с волос сетку и быстро провела гребенкой по сухим, неровно окрашенным волосам. Затем взяла из ящика две стеклянные трубочки и направилась в ванную. Гнетущая тоска исчезла, и она испытывала нетерпеливое возбуждение, словно ей вот-вот преподнесут долгожданный подарок. Она открыла трубочки, налила в стакан воды и встала перед зеркалом, держа таблетку между пальцами. Неожиданно она любезно поклонилась своему отражению и подняла стакан.
— Ну что ж, за ваше здоровье, — сказала она.
Глотать таблетки было неприятно: сухие и шершавые, они упрямо застревали в горле. Потребовалось много времени, чтобы проглотить все двадцать. Она стояла, рассматривая свое отражение с равнодушным любопытством стороннего наблюдателя, словно в зеркале был кто-то другой. Она опять заговорила с собственным отражением.
— Ради бога, будь веселой. Ладно? — сказала она. — Ведь ты знаешь, на что он способен. Он и все остальные.
Она не знала, как быстро подействует веронал. Проглотив последнюю таблетку, она продолжала стоять в нерешительности, раздумывая все с тем же вежливым холодным любопытством, не поразит ли ее смерть тут же, немедленно. Она чувствовала себя совсем как обычно, если не считать слабой тошноты, вызванной усилиями проглотить таблетки; ее лицо в зеркале совершенно не изменилось. Значит действие не будет быстрым, может быть, понадобится час или два.
Подняв руки, она потянулась и сладко зевнула.
— Пожалуй, лягу, — сказала она. — Господи, ведь я до смерти устала.
Это показалось ей забавным, и, тихонько посмеиваясь, она погасила в ванной свет, пошла и улеглась в кровать.
— Господи, ведь я до смерти устала, — повторила она. — Хорошая шутка!
3
На следующий день к вечеру негритянка Нетти — горничная, пришла убирать квартиру и застала миссис Морз в кровати. В этом не было ничего удивительного. Обычно звуки уборки будили миссис Морз, а она не любила просыпаться. Нетти была услужлива и научилась убираться тихо.
Однако, когда, покончив с гостиной, Нетти неслышно проскользнула в маленькую квадратную спальню, то, переставляя предметы на туалетном столике, она несколько раз негромко стукнула. Инстинктивно она посмотрела через плечо на спящую, и неожиданно ее охватило неприятное предчувствие. Она подошла к кровати и посмотрела на лежащую женщину.
Миссис Морз лежала на спине, одна белая дряблая рука была откинута назад, ладонь прикрывала лоб. Прямые волосы в беспорядке рассыпались по подушке. Одеяло сползло, обнажив мягкую шею в глубоком квадратном вырезе розовой рубашки, материал которой выцвел и износился от многочисленных стирок; большие груди, освобожденные от своего обычного плена, висели ниже подмышек. Временами она издавала сдавленный храп, и из угла ее рта по расплывшемуся подбородку тянулась дорожка засохшей слюны.
— Миссис Морз, — позвала Нетти. — Миссис Морз! Уже страшно поздно.
Миссис Морз не пошевельнулась.
— Миссис Морз, — сказала Нетти. — Послушайте, миссис Морз, как же мне убрать кровать?
Девушку охватил ужас. Она потрясла женщину за горячее плечо.
— Проснитесь же, — захныкала она, — пожалуйста, проснитесь.
Внезапно она повернулась, бросилась в коридор, к дверям лифта, и до тех пор с силой нажимала на черную блестящую кнопку, пока перед ней не появилась клетка старого лифта и обслуживающий его негр-лифтер. Она вылила на негра бессвязный поток слов и повела за собой в квартиру. Скрипя ботинками, он на цыпочках подошел к кровати и сначала осторожно, а затем с силой, оставляя следы на мягком теле, потыкал пальцами бесчувственную женщину.
— Эй! — крикнул он и напряженно прислушался, словно ожидая эхо.
— Господи, да она совсем как бревно, — заметил он.
При виде его интереса страх покинул Нетти. Они прониклись сознанием важности происходящего и заговорили быстрым отрывистым шепотом. Лифтер предложил позвать молодого доктора, который жил на первом этаже. Нетти поспешила вниз вместе с ним. Они предвкушали тот необыкновенный момент, когда сообщат доктору об этом несчастье, об этой волнующей неприятности. Миссис Морз стала действующим лицом драмы. Не желая ей ничего плохого, они все же надеялись, что миссис Морз не подведет их, что ее состояние серьезно и что по их возвращении не окажется, что она проснулась и чувствует себя прекрасно. Несколько опасаясь этого, они решили как можно красочнее описать ее теперешнее состояние. «Дело идет о жизни и смерти» — вспомнила Нетти фразу, почерпнутую из тех немногих книг, которые она прочитала. Эта фраза должна была испугать доктора.
Доктор оказался дома и был не очень обрадован их неожиданным появлением. На нем был желтый в синюю полоску халат, он лежал на диване и шутил с примостившейся на боковом валике темноволосой девушкой, лицо которой было покрыто неровным слоем дешевой пудры. Рядом стояли наполовину пустые стаканы, а пальто и шляпа девушки были аккуратно повешены, что говорило о длительности визита.
— Вечно что-нибудь случается, — проворчал доктор. — Не могут оставить в покое даже после тяжелого дня. — Но он положил в саквояж несколько пузырьков и инструментов, сменил халат на пиджак и пошел вместе с неграми.
— Поторопись, мальчик, — крикнула ему вслед девушка. — Не оставайся там на всю ночь.
Доктор с шумом открыл дверь квартиры и прошел в спальню, Нетти и лифтер следовали за ним по пятам. Миссис Морз лежала в прежнем положении, она спала все так же крепко, но теперь беззвучно. Доктор внимательно посмотрел на нее и затем с силой надавил большими пальцами на ее глазные яблоки. Нетти пронзительно вскрикнула от ужаса.
— Похоже, что он собирается протолкнуть ее прямо через матрац, — сказал лифтер и засмеялся.
Миссис Морз не шевельнулась. Тогда доктор резко выпрямился и одним движением сбросил с нее одеяло. Другим стремительным движением он поднял ночную рубашку и согнул в коленях полные белые ноги миссис Морз, все в тонких фиолетовых венах. Он начал щипать ее под коленями долгими жестокими щипками. Миссис Морз не просыпалась.
— Что она пила? — спросил он через плечо у Нетти.
С уверенностью человека, знающего, где искать, Нетти направилась к шкафчику в ванной комнате, в котором миссис Морз держала виски. Но увидев у зеркала две стеклянные трубочки с белыми и красными наклейками, она остановилась. Она принесла их доктору.
— Боже праведный! — раздраженно воскликнул доктор и выпрямился. — И зачем она принимала эту дрянь? Просто подлость делать такие вещи. Теперь нам придется вымывать из нее эту гадость. Только хлопоты и неприятности и больше ничего. Джордж, спусти меня на лифте вниз. А ты здесь подожди. Она тебе ничего не сделает.
— А она не умрет, пока я здесь с ней буду? — испуганно спросила Нетти.
— Нет, — ответил доктор. — Конечно, нет. Ее и топором-то не прикончишь.
4
Через два дня миссис Морз пришла в себя. Сначала она не могла понять, что случилось, но постепенно, когда к ней вернулось сознание, ее охватило глубокое отчаяние.
— О господи, господи, — застонала она, и слезы жалости к себе потекли по ее щекам.
Услышав стоны, в спальню вошла Нетти. Два дня она непрерывно выполняла все неприятные обязанности ухода за человеком, находящимся в бессознательном состоянии, две ночи урывками спала на диване в гостиной. Она холодно посмотрела на большую распухшую женщину, лежащую на кровати.
— Что это вы натворили, миссис Морз? — спросила она. — Для чего вы проглотили все эти таблетки?
— О господи, — опять застонала миссис Морз и попыталась закрыть глаза руками, но руки были словно деревянные и не хотели сгибаться, и она вскрикнула от боли.
— Не дело принимать эти таблетки, — сказала Нетти. — Благодарите бога, что все обошлось хорошо. Как вы себя чувствуете?
— О, замечательно, — ответила миссис Морз, — прямо восхитительно.
Жгучие слезы текли, и, казалось, им нет конца.
— Нельзя так плакать после всего, что случилось, — сказала Нетти. — Доктор говорит, что вас следовало бы арестовать за это. Он совсем взбесился.
— Почему он не оставил меня в покое? — жалобно простонала миссис Морз. — Почему, черт побери, он не оставил меня в покое?
— Нельзя так говорить и ругаться, миссис Морз, после того, что люди для вас сделали, — сказала Нетти. — Вот я совсем не спала и не убирала в других квартирах!
— Прости меня, Нетти, — ответила миссис Морз. — Ты прелесть. Прости меня, что я доставила тебе столько хлопот. Я не могла ничего поделать. На меня тоска нашла. Разве тебе никогда не хотелось сделать такое? Когда все на свете кажется ужасно паршивым.
— Мне это и в голову бы не пришло, — твердо сказала Нетти. — Вы должны развеселиться. У каждого бывают неприятности.
— Да, — сказала миссис Морз. — Я знаю.
— Тут вам пришла хорошенькая открытка, — сообщила Нетти. — Может, она вас развеселит.
Она подала ее миссис Морз. Миссис Морз прикрыла один глаз рукой — все предметы все еще казались ей неясными и расплывчатыми.
Открытка была от Арта. На обратной стороне открытки с видом «Атлетик Клуба» в Детройте было написано:
«Привет и наилучшие пожелания. Надеюсь, ты избавилась от своей тоски? Развеселись и не делай глупостей. Увидимся в четверг».
Она уронила открытку на пол. Тоска придавила ее, словно огромный тяжелый камень. Медленной чередой прошли перед ней бесконечные дни, проведенные в кровати, вечера у Джимми, когда ее считали «мировой девочкой», когда она заставляла себя смеяться и льнуть к Арту и ему подобным; перед ней прошла длинная вереница усталых лошадей, дрожащих нищих и всех других забитых, загнанных и спотыкающихся. В ногах она чувствовала пульсирующую боль, словно они были засунуты в тупоносые туфельки светло-желтого цвета. Казалось, сердце в ее груди расширилось и окаменело.
— Нетти! — закричала она. — Ради бога, дай мне выпить!
Горничная остановилась в нерешительности.
— Вы же знаете, миссис Морз, что вы чуть не отправились на тот свет, — сказала она. — Не знаю, разрешит ли вам доктор.
— А, все равно, — сказала миссис Морз. — Налей мне и принеси сюда бутылку. Налей себе тоже.
— Ну ладно, — согласилась Нетти.
Она налила и миссис Морз и себе, но из скромности оставила свой стакан в ванной, чтобы потом выпить его в одиночестве.
Миссис Морз заглянула в стакан, и запах заставил ее содрогнуться. Может быть, это поможет. Может быть, если не пить несколько дней, то уже первый стакан прибавит бодрости. Может быть, виски опять станет ее другом. Она молила об этом, не обращаясь к богу, не зная бога. О, пожалуйста, пожалуйста, сделайте так, чтобы она могла быть пьяной, пусть она всегда будет пьяной.
Она подняла стакан.
— Спасибо, Нетти, — сказала она. — За твое здоровье.
Горничная хихикнула.
— Вот так, миссис Морз, — одобрила она. — Теперь вы развеселитесь.
— Да, — сказала миссис Морз. — Конечно, развеселюсь.
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
— Дама с венком из розовых бархатных маков на золотистых крашеных волосах забавной походкой, вприпрыжку и бочком, пересекла комнату, полную гостей, и сжала худую руку хозяина.
— Вот я вас и поймала, — сказала она. — Теперь вы от меня не уйдете!
— А, здравствуйте, — ответил хозяин, — как поживаете?
— Прекрасно, — сказала гостья. — Просто замечательно. Послушайте. Я хочу просить вас об огромнейшей услуге. Вы мне не откажете? Пожалуйста. Очень вас прошу.
— Что же это за услуга? — спросил хозяин.
— Послушайте, — сказала дама. — Я хочу познакомиться с Уолтером Вильямсом. Признаюсь, я просто без ума от этого человека. О, когда он поет!.. Когда он поет эти спиричуэлс! «Ну, твое счастье, сказала я Бертону, что Уолтер Вильямс негр, иначе, сказала я, у тебя было бы достаточно причин ревновать меня». Нет, серьезно, я мечтаю познакомиться с ним. Мне хочется сказать ему, что я слышала его пение. Будьте ангелом, познакомьте нас.
— Непременно познакомлю, — сказал хозяин. — Я думал, вы уже знакомы. Вечер ведь устроен в честь него. Однако где же он?
— Вон там, возле книжного шкафа, — сказала дама. — Давайте подождем, пока те люди кончат с ним разговаривать. Нет, право, вы просто прелесть, что устраиваете для него этот чудеснейший вечер и знакомите его со всеми этими белыми, и все прочее. Он, наверное, вам ужасно благодарен.
— Надеюсь, что не очень, — сказал хозяин.
— Право, я считаю, что это ужасно мило с вашей стороны, — сказала дама. — Ужасно мило. Не понимаю, почему это знакомиться с чернокожими считается предосудительным? У меня на этот счет нет никаких предубеждений, решительно никаких! Бертон — о, у него иные мысли на этот счет. Ну, вы же знаете, он из Виргинии, а вам ведь известно какие они там.
— Он сегодня здесь? — спросил хозяин.
— Нет, он не смог приехать, — сказала гостья. — Я сегодня настоящая соломенная вдова. «Ты еще не знаешь, на что я способна», — заявила я ему, уходя. Он был такой измученный, двинуться с места не мог. Ну, разве не позор?
— Да, конечно, — сказал хозяин.
— Вот увидите, что еще будет, когда я расскажу ему, что познакомилась с Уолтером Вильямсом, — сказала гостья. — Да он умрет на месте! О, мы с ним без конца пререкаемся из-за чернокожих. Я бог знает как с ним разговариваю — просто из себя выхожу. «Не говори глупости», — одергиваю я его. Но в защиту Бертона должна сказать, что он более терпимо относится к неграм, чем многие южане. Право, он их ужасно любит. Ну, например, он сам заявляет, что не стал бы держать белую прислугу. И, знаете, у него и по сей день живет эта его чернокожая нянюшка, настоящая старая няня-негритянка, и он ее просто обожает. Когда он приезжает к себе в Виргинию, он каждый раз заходит на кухню проведать ее. Честное слово, и по сей день так делает. «Ничего не имею против чернокожих, говорит он, пока они на своем месте, вот и все». И вечно он им помогает… отдает им одежду и чего только не делает. Единственное, говорит он, единственное, чего он бы никогда не сделал и за миллион долларов — это не сел бы за один стол с негром. «О, говорю я ему, меня просто тошнит от этих твоих разговоров». Я ужасно с ним обращаюсь. Не правда ли, ужасно?
— О, нет, нет, нет, — сказал хозяин. — Вовсе нет.
— Ужасно, — сказала гостья. — Я знаю, что ужасно. Бедный Бертон. Но что делать, я совсем иначе думаю. У меня нет ни малейшего предубеждения против негров. Наоборот, я просто без ума от некоторых из них. Они ведь совсем как дети — такие же беспечные, вечно поют, смеются и все такое. Ну разве они не самые счастливые существа на свете? Честное слово, стоит мне их послушать — и мне уже хочется смеяться. О, я люблю их. Право, люблю. Вот вы только послушайте. У меня работает чернокожая прачка, уже много лет работает, и я к ней очень привязана. Это настоящий человек. Могу вам сказать, что отношусь к ней просто как к другу. Именно как к другу. И я всегда говорю Бертону: «Ну скажи на милость, разве мы все не люди?» Ну скажите, разве это не так?
— Да, — сказал хозяин, — да, конечно.
— Ну, взять хоть вот этого Уолтера Вильямса, — сказала гостья. — Я считаю, что такой человек, как он, — настоящий артист. Да, настоящий артист. Я думаю, Что он заслуживает огромнейшего уважения. Господи, я ведь без ума от музыки и подобных вещей, и мне все равно, какого цвета его кожа. И, право, мне кажется, что, если человек — настоящий артист, никакие предубеждения не должны мешать знакомству с ним. Именно так я и говорю всегда Бертону. Разве я не права?
— Конечно, — сказал хозяин. — Разумеется.
— Это мое внутреннее убеждение, — сказала гостья. — Не могу понять ограниченных людей. Я абсолютно уверена, что это даже великая честь — познакомиться с таким человеком, как Уолтер Вильямс. Да, именно так. У меня тут нет никаких предубеждений. Господи, да ведь небесный отец наш создал его точно таким же, как любого из нас. Разве это не так?
— Конечно, — сказал хозяин. — Да, конечно.
— Именно это я и говорю. О, меня ужасно злит, когда люди так нетерпимо относятся к неграм. Я едва сдерживаюсь, чтобы не наговорить чего-нибудь. Само собой разумеется, я понимаю, что, когда вам попадается плохой негр, это просто ужасно. Но, я всегда говорю это Бертону, на свете встречаются и плохие белые. Разве нет?
— Полагаю, что да, — сказал хозяин.
— Нет, право, мне бы очень хотелось, принимать такого человека как Уолтер Вильямс у себя в доме, чтобы он пел у нас иногда, — сказала гостья. — Конечно, из-за Бертона я его пригласить не могу, но лично я никак бы не возражала. Да, почему бы ему не петь в моем доме? Разве это не изумительно, до чего они все музыкальны? Музыка у них словно внутри сидит. Идемте. Пойдем же поговорим с ним. Послушайте, как мне поступить, когда вы меня представите? Следует мне подать ему руку или нет?
— Ну, это как хотите, — сказал хозяин.
— Мне кажется, лучше подать, — сказала дама. — Ни за что на свете не хотела бы, чтобы он заподозрил меня в каких-нибудь предубеждениях. Пожалуй, я лучше пожму ему руку, как любому другому. Именно так я и сделаю.
Они подошли к высокому молодому негру, стоявшему около книжного шкафа. Хозяин представил их друг другу. Негр поклонился.
— Здравствуйте, — сказал он гостье.
Дама с розовыми бархатными маками протянула руку во всю длину и держала ее так, чтобы все могли это оценить, пока негр не взял ее, не пожал и не отдал ей обратно.
— О, здравствуйте, мистер Вильямс, — сказала она. — Я как раз говорила о том, какое ужасное наслаждение доставило мне ваше пение. Я была на ваших концертах, и мы записали ваш голос на пленку и все такое. О, я просто от вас в восторге!
Она необычайно отчетливо произносила слова, усиленно двигая губами, словно разговаривала с глухим.
— Очень рад, — сказал негр.
— Я просто без ума от этой песенки, что вы поете, — от вашего «Водоноса», — право, у меня он все время не выходит из головы. А мужа я прямо до безумия довожу тем, что хожу и мурлычу ее себе под нос. О да, он совсем черный, черный, как пиковый туз… Ах, скажите мне ради бога, где вы добываете все эти ваши песни? Откуда вы их постоянно берете?
— Видите ли, — сказал он, — источников так много…
— Мне кажется, вы любите их петь, — сказала гостья. — Это должно быть забавно — все эти милые старые спиричуэлс… О, я просто обожаю их! Ну а теперь что вы делаете? Вы ведь еще продолжаете петь? Почему бы вам как-нибудь не дать еще один концерт?
— Концерт состоится шестнадцатого числа, — сказал он.
— Ну так я приду, — сказала дама. — Непременно приду, если смогу. Можете на меня рассчитывать. Боже, да сюда целая толпа движется, чтобы поговорить с вами. Да вы просто настоящий почетный гость! А кто эта девушка в белом? Я где-то ее видела.
— Это Кэтрин Бэрк, — сказал хозяин.
— Боже милосердный! — воскликнула гостья. — Неужели это Кэтрин Бэрк? Да она кажется совсем иной со сцены. Я считала ее гораздо красивее. Я и не предполагала, что она такая ужасно черная. Да она выглядит почти как… но я считаю ее замечательной актрисой! А вы как находите, мистер Вильямс? О, она мне кажется изумительной. Вы согласны со мной?
— Да, — сказал он.
— О, я тоже так считаю, — сказала она. — Просто изумительная. Ну, надо же дать возможность и другим поговорить с почетным гостем. Не забудьте, мистер Вильямс, я собираюсь присутствовать на вашем концерте, если только сумею. Я буду там аплодировать вам вместе со всеми. А даже если не смогу сама прийти, то посоветую всем своим друзьям, чтобы они непременно пошли. Не забудьте!
— Не забуду, — сказал он, — очень вам благодарен.
Хозяин взял гостью под руку и провел ее в соседнюю комнату.
— О господи, — сказала гостья. — Я чуть не погибла. Честное слово, клянусь, я чуть сквозь землю не провалилась. Вы слышали, какой я ужасный промах допустила? У меня чуть не сорвалось, что Кэтрин Бэрк выглядит совсем как негритянка. Я вовремя сдержалась. О, как вы думаете, он это заметил?
— Не думаю, — ответил хозяин.
— Ну, слава богу, — сказала дама. — Вот уж никак не хотела бы поставить его в неловкое положение. Ведь он ужасно милый. Каким только может быть негр. Милые манеры и все прочее. Ведь, знаете, многим неграм только палец сунь в рот, они всю руку откусят. Но он совсем не такой. Нет, мне кажется, у него есть такт. Он по-настоящему мил. Вы согласны со мной?
— Да, — сказал хозяин.
— Он мне понравился, — сказала гостья. — И я не испытываю против него никаких предубеждений. Я себя чувствовала с ним вполне непринужденно, как с любым другим человеком. Разговаривала с ним просто, и все такое. Но, честно говоря, мне это трудно давалось, я все время думала о Бертоне. Вот увидите, что будет, когда я расскажу Бертону, что назвала этого негра «мистером»!
МИСТЕР ДЬЮРАНТ
Впервые за последние десять дней мистер Дьюрант испытывал удивительное душевное спокойствие. Он целиком отдался этому чувству, уютно закутавшись в него, словно в новую дорогую шубу. Господь бог, к которому мистер Дьюрант питал снисходительную симпатию, восседал у себя на небесах, и в мире мистера Дьюранта все снова было благополучно.
Удивительно, как этот вновь обретенный покой обострил радостное восприятие привычных, окружавших его вещей. Мистер Дьюрант оглянулся на здание завода резиновых изделий, которое он только что покинул, закончив работу, и одобрительно кивнул его красной громаде — аккуратные шесть этажей величественно возвышались в темном небе. «Ну где еще найдется столь процветающее предприятие», — подумал он, и его переполнило приятное сознание, что он является частью всего этого.
Мистер Дьюрант окинул довольным взглядом Центральную улицу. «Как мирно горят огни», — подумал он. Даже мокрая, вся в выбоинах и лужах мостовая и та радовала глаз: в лужах отражалось сияние, царящее вокруг. И вдобавок ко всем удовольствиям, трамвай, который он ожидал, удивительно точно, в положенное время показался вдали. Мистер Дьюрант весело и даже с нежностью подумал о том, куда этот трамвай его доставит: об ожидающем его дома обеде — сегодня должна быть отварная рыба с приправой, — о своих детях, о жене, — именно в такой последовательности. Затем он обратил свое благосклонное внимание на девушку, которая стояла рядом с ним, видимо тоже в ожидании трамвая, курсирующего по Центральной улице. Ему было приятно, что эта девушка возбудила в нем такой острый интерес. Раз такие вещи до сих пор волнуют его, значит для него еще не все потеряно. Он почувствовал себя на двадцать лет моложе.
Вид у девушки был довольно жалкий; на ней было пальто из грубошерстной ткани, длинный ворс его местами вытерся. Но в том, как ее дешевый модный тюрбан был сдвинут на лоб, а молодое стройное тело двигалось под свободным пальто, было что-то соблазнительное. Мистер Дьюрант слегка высунул кончик языка и провел им по влажной верхней губе.
Трамвай подошел и с лязгом остановился. Мистер Дьюрант галантно посторонился, пропуская девушку вперед. Он не помог ей войти, но тот заботливый вид, с которым он наблюдал за ней, создавал полное впечатление, будто он и впрямь помог ей.
Когда она поднималась на высокую ступеньку трамвая, ее узкая короткая юбка поднялась, приоткрыв изящные красивые ножки. На тонком шелковом чулке от спущенной петли шла дорожка. Девушка, конечно, и не подозревала об этом; дорожка была почти рядом со швом и доходила до половины икры, а начиналась она, видимо, высоко, у самой резинки. У мистера Дьюранта явилось странное желание подцепить ногтем конец дорожки и протянуть ее вниз, пока тонкая линия спущенной петли не достигнет открытой туфли. Он снисходительно улыбался своей причуде; улыбка стала совсем широкой, когда, войдя в трамвай, он взял у кондуктора билет и вежливо пожелал ему доброго вечера.
Девушка уселась где-то впереди. Мистер Дьюрант отыскал для себя подходящее место, ближе к концу, и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть девушку. Ему удалось мельком увидеть край ее тюрбана и часть ярко нарумяненной щеки, но все это стоило ему больших усилий — приходилось держать голову в неудобном, напряженном положении. Поэтому, утешаясь мыслью, что всегда найдется много других, он бросил это занятие и уселся поудобнее.
Ему предстояло ехать еще минут двадцать. Он позволил себе уютно откинуть назад голову, закрыл глаза и отдался своим мыслям. Теперь, когда дело без шума улажено и с ним покончено, он мог с легкостью вспоминать обо всем и даже посмеяться в душе. Всю эту неделю, прошлую, да и часть позапрошлой он прилагал огромные усилия, чтобы отогнать эти мысли каждый раз, когда они к нему подкрадывались. Они положительно не давали ему глаз сомкнуть. Даже теперь, под надежной защитой вновь обретенного покоя, припоминая те беспокойные ночи, мистер Дьюрант ощущал прилив негодования.
Впервые он познакомился с Розой месяца три назад. Ее прислали к нему в отдел, чтобы перепечатать кое-какие письма. Мистер Дьюрант был заместителем главного бухгалтера завода резиновых изделий. Жена его имела привычку говорить о нем как об одном из директоров завода, но, даже если она делала это в его присутствии, он никогда не находил нужным вдаваться в более подробные объяснения круга своих обязанностей. К его услугам был отдельный кабинет, стол и телефон, но стенографистки у него не было. Когда ему нужно было что-нибудь продиктовать или напечатать какие-нибудь письма, он звонил другим начальникам, чтобы найти свободную стенографистку. Вот так он и познакомился с Розой.
Ее нельзя было назвать хорошенькой. Нет, никак нельзя. Но в ее хрупкости было что-то очаровательное, а ее трогательная застенчивость понравилась тогда мистеру Дьюранту. Теперь он вспоминал об этом с раздражением. Притом Розе было двадцать лет, и от нее исходило обаяние молодости.
Когда она склонялась над своей работой и сквозь прозрачную блузку белела ее спина, а чистые волосы были аккуратно уложены в пучок над худенькой шеей, или когда она с блокнотом на коленях сидела, скрестив свои стройные девичьи ноги, ее бесспорно можно было назвать привлекательной.
Но не хорошенькой — нет. Волосы ее не отличались красотой, ресницы были белесы, а губы слишком бледны, со вкусом выбирать и носить свои дешевые наряды она не умела. Мистер Дьюрант, вспоминая все это, удивлялся, как она вообще могла ему понравиться. Но удивлялся спокойно, без раздражения. Теперь, оглядываясь назад, он считал свое поведение во всей этой истории просто мальчишеским.
Ему даже и в голову не приходило поражаться тому, что Роза ответила на его ухаживания, хотя ему уже стукнуло сорок девять и он был прочно женат. Он никогда не думал о себе в таком плане. Случалось, он со смехом говорил Розе, что вполне годится ей в отцы. Но ни он, ни она не принимали этого всерьез. То, что она привязалась к нему, казалось ему вполне естественным, — она простая девушка, приехавшая из провинции, девушка того типа, у которых никогда не бывает поклонников. Естественно, что она потеряла голову, когда мужчина в расцвете сил, как отзывался о себе самом мистер Дьюрант, обратил на нее внимание. Он же был покорен тем, что она не знала еще ни одного мужчины и он оказался у нее первым; потом он уже совсем не радовался этому обстоятельству и пришел к мысли, что она хитро обманула его и завлекла в ловушку.
Удивительно, как просто все получилось. Мистер Дьюрант сразу, как только увидел эту девушку, понял, что с ней будет просто. Но, несмотря на это, интерес его к ней не ослабел. Препятствия не подстегивали, а скорее отпугивали его. Самое главное — чтобы было поменьше хлопот.
Роза не была кокеткой. Она обладала той странной прямолинейностью, которая присуща только очень застенчивым людям. Конечно, совесть и ее сначала мучила, но мистер Дьюрант своими уговорами легко устранил это препятствие. Нельзя сказать, чтобы он обладал искусством ухаживать. У него был кое-какой опыт, но, вероятно, куда менее богатый, чем тот, который он обычно себе приписывал, и деликатные приемы этого искусства он не усвоил. К счастью, Роза в простоте душевной была весьма нетребовательна. Во всяком случае, она никогда не предъявляла ему никаких претензий. Никогда ей и в голову не приходило вмешиваться в его отношения с женой, никогда она не просила его покинуть свою Семью и уехать с ней, уехать хотя бы на один день. Мистер Дьюрант ценил ее за это. Все обошлось без лишних осложнений, которые вполне могли возникнуть.
Просто удивительно, как свободно они себя вели, как мало прибегали ко лжи и обману. Они оставались в его кабинете после конца рабочего дня — у мистера Дьюранта всегда была уйма писем, которые нужно было продиктовать. Никто не находил в этом ничего особенного. Большую часть дня Роза была занята, и с его стороны было только деликатно, что он не отрывал ее от работы, а предпочтение, которое он отдавал такой опытной машинистке как она, казалось вполне естественным.
Единственная родственница Розы, ее замужняя сестра, жила в другом городе. Роза снимала комнату вместе с подругой, которую звали Руби; Руби тоже работала на заводе резиновых изделии и была слишком поглощена своими собственными сердечными делами, чтобы удивляться, что Роза опаздывает к обеду или не является совсем.
Мистер Дьюрант с готовностью объяснял жене, что у него по горло работы. Это лишь еще больше возвышало его в глазах жены и побуждало ее придумывать различные лакомые блюда и заботиться, чтобы они не остыли до его возвращения. Иногда пробудившееся сознание вины заставляло их с Розой тушить в его маленьком кабинете свет и закрывать дверь на ключ, чтобы сослуживцы думали, будто они давно ушли домой. Но никто ни разу не нажал на дверную ручку, никто не сделал попытки войти.
Все было так просто, что мистер Дьюрант никогда не думал об этом, как о чем-то из ряда вон выходящем. Его отношения с Розой не притупили его интереса к стройным ножкам и кокетливым взглядам, которые он порой замечал на улице. Эта интрижка носила самый спокойный, самый удобный характер. В ней было даже что-то домашнее.
И вдруг все пошло вверх дном. «Вечно что-нибудь случается», — с горечью говорил себе мистер Дьюрант.
Десять дней назад Роза вся в слезах вошла к нему в кабинет.
Как ни странно, у нее все-таки хватило ума дождаться конца рабочего дня, но в любую минуту кто угодно мог войти в кабинет и увидеть, как она там рыдает. И если никто не вошел, то мистер Дьюрант приписал это исключительно неусыпным заботам о нем со стороны господа бога. Она ревела, как он в сердцах выразился, во всю глотку. Румянец исчез с ее щек и переместился к носу, влажному от слез, веки вспухли и покраснели, белесые ресницы слиплись. Даже прическа пришла в беспорядок, заколки выскочили, растрепавшиеся волосы висели беспомощными прядями. Мистера Дьюранта мутило при взгляде на нее, он не мог заставить себя к ней прикоснуться.
Он уговаривал ее, ради всего святого, замолчать, и даже не спрашивал в чем дело. Это вырвалось у нее само собой среди громких довольно противных всхлипываний. Она попала «в беду». И тогда и в последующие дни ни она, ни мистер Дьюрант ни разу не употребили какого-либо менее деликатного выражения для определения ее состояния. Даже в мыслях своих они называли это только так. У Розы уже появилось такое подозрение несколько дней назад, но, пока у нее не было уверенности, ей не хотелось его беспокоить. «Не хотелось меня беспокоить!» — подумал мистер Дьюрант.
Понятно, он пришел в бешенство. Невинность — это приятно, это трогательно, это желанно, но все хорошо в свое время; если невинность заходит слишком далеко, это становится просто смешным. Теперь мистер Дьюрант от всего сердца жалел, что им вообще довелось встретиться, о чем он тут же не преминул сообщить Розе.
Но это был не выход из положения. Своим друзьям он обычно весело заявлял, что знает «способ, два». Такие случаи можно, как говорят опытные люди, «уладить». Светские дамы Нью-Йорка, насколько ему известно, считают это пустяком. И этот случай тоже можно уладить. Он уговорил Розу пойти домой и просил ее не волноваться, — он все устроит. Прежде всего Нужно было спровадить ее подальше, чтобы никто не увидал ее красного носа и заплаканных глаз.
Но одно дело знать «способ, два» и совсем другое — применить это знание на практике. Мистер Дьюрант ума не мог приложить, у кого получить на этот счет совет. Он представил себе, как он будет расспрашивать своих друзей, не знают ли они «кого-нибудь, к кому эта девушка, про которую ему говорили, может обратиться». Он слышал, как он произносит эти слова, сопровождая их нервным смешком, и почувствовал, как фальшиво прозвучат они в его устах. Довериться хотя бы одному, — означало довериться слишком многим. Он жил в городе хотя и процветающем, но пока еще небольшом, и сплетни в нем распространялись с быстротой тайфуна. Ни на минуту не пришла ему в голову мысль, что жена его может поверить подобным слухам, если они до нее дойдут; но к чему причинять ей неприятности?
Шли дни и мистер Дьюрант все больше бледнел и волновался. У жены начались нервные припадки, потому что он наотрез отказывался от вторых порций. Каждый день в нем возрастал страх, что он в поисках выхода вынужден будет дойти до потворства нарушению закона своей страны, а возможно, и закона любой страны на свете. Конечно, каждой приличной христианской страны.
Руби — вот кто вызволил их в конце концов из беды. Когда Роза призналась ему, что не удержалась и рассказала обо всем Руби, он чуть не задохнулся от гнева. Руби была секретаршей вице-президента резиновой компании. Не правда ли, будет прелестно, если она проговорится? Всю ночь, лежа рядом с женой в постели, он ни на секунду не сомкнул глаз. При одной мысли, что он может случайно встретиться с Руби в коридоре, его бросало в дрожь.
Но, когда они все-таки встретились, Руби держалась восхитительно; она не метнула на него укоряющего взгляда, не повернулась к нему холодно спиной. Она, как всегда, приветливо улыбнулась ему и сказала «доброе утро», подняв на него глаза с понимающим и озорным видом; в этом взгляде была даже какая-то доля восхищения. Между ними возникло чувство близости, словно общая тайна приятно связала их воедино. Какая чудесная девушка эта Руби!
Она уладила все без особых хлопот. Мистер Дьюрант не принимал в этом непосредственного участия. Он слышал обо всем только от Розы в те редкие встречи, когда вынужден был видеться с ней. Руби знала от каких-то там своих знакомых об «одной женщине». Это будет стоить двадцать пять долларов. Мистер Дьюрант рыцарски настаивал, чтобы Роза взяла у него эти деньги. Роза начала было всхлипывать, но он в конце концов ее уговорил. Это не значило, правда, что он не мог бы найти более приятного применения двадцати пяти долларам, особенно если вспомнить, что сынишке надо лечить зубы… да и мало ли еще расходов.
Но, слава богу, теперь со всем этим покончено. Бесценная Руби отвела Розу к «этой женщине», а затем в тот же день отвезла ее на вокзал и посадила в поезд — Роза отправилась к сестре. Руби додумалась даже послать этой сестре телеграмму и сообщить о том, что Роза болела гриппом и нуждается в отдыхе.
Мистер Дьюрант уговаривал Розу смотреть на эту поездку как на кратковременный отпуск. Больше того, он обещал, что замолвит за нее словечко, если она захочет снова вернуться на работу. Но при упоминании об этом, нос Розы снова начал краснеть и она принялась громко всхлипывать, а потом отняла от лица мокрый носовой платок и сказала с удивительной для нее решительностью, что не желает больше видеть ни завода резиновых изделий, ни Руби, ни мистера Дьюранта. Он снисходительно посмеялся над этим и заставил себя похлопать девушку по худой спине. Исход дела доставил ему такое облегчение, что он великодушно не обратил внимания на ее грубость.
Вспоминая эту последнюю сцену, мистер Дьюрант тихонько хихикнул. «Верно, хотела огорчить меня, потому и сказала, что больше не вернется, — подумал он, — может, ждала, что я упаду на колени и буду умолять ее вернуться».
Как приятно и утешительно сознавать, что все уже позади. Мистер Дьюрант подхватил где-то выражение, которое считал удивительно подходящим к случаю; оно казалось ему чертовски смачным. В нем был шик; такого рода словечки, небрежно роняют щеголи, носящие гетры и размахивающие тросточками. Мистер Дьюрант с удовольствием произнес его.
— И точка! — Сказал он это про себя или произнес вслух, он и сам не знал.
Трамвай затормозил, и девушка в грубошерстном пальто направилась к выходу. На ходу она толкнула мистера Дьюранта, — он готов был поклясться, что она это сделала нарочно, — игриво извинилась и бросила на него лукавый, как ему показалось, взгляд. Он привстал было, чтобы последовать за ней, но потом снова опустился на сиденье. В конце концов погода сегодня сырая и до дома еще пять кварталов. И снова он почувствовал приятную уверенность в том, что всегда найдется много других.
В отличном настроении он сошел с трамвая и направился к дому. Погода была прескверная, но пронизывающий холод и проливной дождь лишь отчетливее рисовали его воображению манящую картину: уютный, ярко освещенный дом, огромное блюдо горячей отварной рыбы, поджидающие его послушные дети и жена. Он шел не спеша, продлевая приятное предвкушение, шел вдоль чистого тротуара, мимо солидных домов, на которых время оставило свои почтенные следы, и что-то мурлыкал себе под нос.
Мимо него пробежали две девушки, руками прикрывая от дождя шляпы. Он с удовольствием слушал, как стучат по асфальту их каблучки, как они смеются, задыхаясь на бегу, подняв кверху руки, отчего еще отчетливее обрисовывались их стройные фигурки. Он знал этих девушек — они жили неподалеку от него, в доме, перед которым стоял фонарный столб. Он часто задерживался взглядом на их свежих миловидных личиках. Мистер Дьюрант прибавил шагу, чтобы посмотреть, как они взбегут по лестнице, как поднимутся их узкие юбки и откроются ножки. Он снова вспомнил о девушке со спущенной петлей на чулке и в приятном, приподнятом настроении вошел к себе в дом.
Когда он открыл дверь, дети с веселыми возгласами бросились ему навстречу. В доме происходило что-то необычное, потому что Малыш и Шарлотта всегда вели себя вполне благовоспитанно и не причиняли людям неудобства ни криками, ни беготней. Это были хорошие, разумные дети, они хорошо учились, аккуратно чистили каждый день зубы, не обманывали взрослых и избегали водить дружбу с детьми, которые ругаются скверными словами. Малыш, когда ему снимут шины с зубов, будет копией отца, а маленькая Шарлотта уже сейчас — вылитая мать. Друзья часто отмечали это приятное совпадение.
Добродушно улыбаясь их болтовне, мистер Дьюрант бережно повесил свое пальто и шляпу. Вешать одежду на прохладные блестящие крючки вешалки — даже это доставляло ему удовольствие. Все казалось ему приятным в этот вечер. Шум, который подняли дети, и тот не действовал ему сегодня на нервы.
Наконец он обнаружил причину переполоха. Его наделала маленькая приблудившаяся собачонка, которую нашли возле черного хода. Дети были на кухне, помогали Фреде, когда Шарлотте показалось, что кто-то скребется у двери. Фреда сказала — глупости, никого там нет, — Шарлотта все-таки открыла дверь и обнаружила собачонку, которая спасалась под дверью от дождя. Мама помогла им искупать собачонку, а Фреда накормила ее, и теперь собачонка лежит в гостиной. О папа, можно ее оставить, ну, пожалуйста, можно, можно? Ну, пожалуйста, папа, можно ее оставить дома? На собачонке нет ошейника — значит она ничья. Мама сказала, что согласна, если папа согласен, а Фреде собачонка очень нравится.
На лице мистера Дьюранта все еще играла приятная улыбка.
— Посмотрим, — сказал он. Дети огорчились, но надежду не потеряли. Они ожидали, что отец проявит больше энтузиазма, но «посмотрим» означало, — это они знали из опыта, — что отец в конце концов согласится.
Мистер Дьюрант проследовал в гостиную, чтобы произвести осмотр пришельца. Красотой собачонка не отличалась. Весь вид ее говорил о том, что она была отпрыском своей матери, которая никогда не умела сказать «нет». Это было довольно приземистое маленькое животное, все заросшее косматой белой шерстью, с щегольски разбросанными кое-где черными пятнами. В нем был какой-то намек на сходство с селихамским терьером, но сходство это почти стиралось чертами, присущими другим породам, а в целом собачонка представляла из себя фотомонтаж собак различных пород. И все-таки сразу было видно, что в ней что-то есть. Она внушала непреоборимую симпатию.
Она лежала у окна, тоскливо виляя своим слишком длинным хвостом, и взглядом умоляла мистера Дьюранта отнестись к ней снисходительно. Дети приказали ей лежать вот здесь, и она не сдвинулась с места. Это единственное, чем она могла пока отплатить за их заботу.
Вид собачонки растрогал мистера Дьюранта. Он не питал неприязни к собакам, напротив, он с удовольствием представлял себя в роли мягкосердечного человека, у которого каждое гонимое животное находит приют. Он наклонился и протянул собачонке руку.
— Ну, сэр, — добродушно сказал он, — подите-ка сюда, приятель.
Исступленно махая хвостом, собачка подбежала к мистеру Дьюранту; она весело, но в то же время почтительно стала лизать его холодную руку, а потом положила свою теплую большую морду ему на ладонь. «Вы, несомненно, самый великий человек в Америке», — говорил взгляд собачонки.
Мистеру Дьюранту понравилось это выражение восхищения и благодарности. Он снисходительно погладил собачонку.
— Ну, сэр, что вы скажете, если мы предложим вам стол и кров? — спросил он. — Я считаю, что вы можете остаться. — Шарлотта вне себя от восторга стиснула руку брата, но оба они побоялись спугнуть свое счастье каким-либо необдуманным замечанием.
Из кухни вышла миссис Дьюрант, разрумянившаяся от последних священнодействий над отварной рыбой. На лбу у нее залегла беспокойная морщинка. Одна причина беспокойства миссис Дьюрант заключалась в обеде, другая крылась в собачонке, неожиданное появление которой внесло такой беспорядок в дом. Всякое событие, предварительно не предусмотренное в распорядке дня миссис Дьюрант, повергало ее в состояние человека, едва оправившегося от нервного шока. Руки ее начинали нервно подергиваться и, казалось, не в силах были остановиться.
Когда она увидела, как муж гладит собачонку, лицо ее просветлело. Присутствие матери ободрило детей, и они стали прыгать вокруг нее и кричать, что папа разрешил собачонке остаться.
— Ну вот, что я вам говорила! Ведь он у нас такой милый, такой добрый папа, — произнесла она тем тоном, к которому прибегают родители, когда случайно оказываются правы. — Все в порядке, папочка. Двор у нас такой огромный, что она нам не помешает. Она и впрямь кажется ужасно хорошей, маленькой…
Рука мистера Дьюранта, ласкающая собачонку, замерла, словно шея собаки внезапно раскалилась. Он выпрямился и посмотрел на жену, словно на незнакомого человека, который вдруг начал вести себя как-то странно.
— Она? — сказал он и переспросил еще раз, пристально глядя жене в глаза: — она?
Руки у миссис Дьюрант задергались.
— Видишь ли, — начала она, словно готовясь подробно перечислять извиняющие собаку обстоятельства. — Ну да, — заключила она.
Дети и собачонка с тревогой глядели на мистера Дьюранта, чувствуя, что происходит что-то неладное. Шарлотта принялась потихоньку хныкать.
— Замолчи! — резко повернулся к ней отец. — Я сказал, что собака может остаться, не так ли! Разве когда-нибудь ваш отец нарушал слово?
Шарлотта вежливо пробормотала: «Нет, папа», — но уверенности в ее голосе не чувствовалось. Однако, будучи ребенком с философским складом ума, она решила предоставить весь исход дела господу богу, слегка подстегивая его время от времени молитвами.
Мистер Дьюрант посмотрел на жену, нахмурил брови и откинул назад голову. Это означало, что он хочет переговорить с ней, сказать ей нечто, предназначенное только для ушей взрослых, и сказать наедине в маленькой комнате напротив, известной под названием «кабинет отца».
Он сам руководил убранством своего кабинета, стремясь к тому, чтобы придать ему истинно мужской вид. Стены были оклеены красными обоями до самой деревянной полки наверху, где стояли глиняные кружки местного производства. Пустые подставки для трубок — мистер Дьюрант курил сигары — были прибиты по стене через одинаковые, довольно небольшие промежутки. На одной стене висела посредственная репродукция с картины, изображающей молодую женщину с крыльями, как у летучей мыши, а на другой раскрашенная фотография картины «Сентябрьское утро». Краски расплылись, — казалось, рука художника сделалась нетвердой от переполнявших его чувств. Стол аккуратно покрывала скатерть из дубленой кожи, отделанной по краям бахромой. На скатерти был написан красками профиль неизвестной индийской девушки, а на качалке лежала кожаная подушка с тисненым изображением девушки в костюме для фехтования, который отлично подчеркивал все линии её ошеломляюще современной фигуры.
Книги мистера Дьюранта выстроились в ряд за стеклом книжного шкафа. Толстые солидные книги в ярких переплетах, они как нельзя лучше служили тщеславной цели, которую преследовал хозяин, выставляя их напоказ. Это были главным образом мемуары фаворитов французского двора и несколько томов описаний странных наклонностей различных коронованных особ и приключения бывших русских монахов. Миссис Дьюрант, у которой на чтение никогда не хватало времени, с благоговейным трепетом взирала на эти книги и считала своего мужа одним из первейших библиофилов страны. В гостиной тоже имелось несколько книг, но эти книги достались ей по наследству или были подарены. Часть их она расставила на столе; это выглядело так, словно они стояли там со времен Гидеона.
Мистер Дьюрант считал себя неутомимым собирателем книг и ненасытным их читателем. Но, прочтя выписанную книгу, он всегда испытывал разочарование. Книга никогда не оправдывала той рекламы, которую ей делали.
Мистер Дьюрант провел жену в свой кабинет и стал перед ней, все еще хмуря брови. Спокойствие его не было окончательно нарушено, но ему был нанесен существенный урон. Вечно происходит что-нибудь досадное. Вечно что-нибудь случается.
— Так вот, Фэн, ты прекрасно понимаешь, что мы не можем держать эту собаку, — сказал ей мистер Дьюрант. Он говорил, понизив голос, как обычно говорят о предметах туалета и нижнем белье, а также на другие опасные родственные темы, не предназначенные для детских ушей. В тоне его была та мягкость, которая необходима при разговоре с умственно отсталым ребенком, но эта мягкость таила в себе опасность, как погода в Гибралтарском проливе. — Ты совсем с ума сошла, неужели ты хоть на минуту в этом сомневалась? Ну нет, я ни за какие деньги не оставлю в своем доме суку. Это просто отвратительно, вот что.
— Но послушай, папочка… — начала было миссис Дьюрант, и руки ее снова конвульсивно задергались.
— Отвратительно, — повторил он. — Помести в доме суку — и не оберешься бед. Все кобели со всей округи будут за ней бегать. Во-первых, ты понимаешь, пойдут щенки. Да один вид их после родов чего стоит! Ну и все прочее! Вот уже поистине подходящее зрелище для детей! Мне кажется, тебе следовало бы подумать о детях, Фэн. Нет уж, благодарю вас, я этого не допущу. Отвратительно!
— Но ведь дети… — возразила жена, — они будут просто…
— Предоставь это мне, — заверил он ее. — Я обещал, что собака останется, а я никогда еще не нарушал слова. Не так ли? Вот что я сделаю. Я дождусь, пока они лягут спать, и тогда возьму эту собачонку и выпущу ее на улицу. А завтра утром ты им скажешь, что ночью она убежала. Ясно?
Она кивнула. Муж погладил ее по плечу, обтянутому черным шелком, от которого пахло кухней. Это легкое устранение небольшой возникшей трудности вновь принесло ему душевный покой. Снова он нежился мыслью, что все улажено и можно с легким сердцем начинать заново. Рука его все еще покоилась на плече жены, когда они направились в столовую обедать.
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ СТАРИК
Если бы чета Бейнов годами лезла из кожи вон, стараясь превратить свою гостиную в небольшой, но отлично укомплектованный паноптикум различных нелепых предметов, порождающих беспокойство, неудобство или мысли о могилах и склепах, то и тогда она едва ли преуспела бы в этом больше. Однако Бейны не прилагали к тому ни малейших усилий. Кое-какие предметы попали сюда в качестве свадебных подарков, другие заменили своих предшественников, одряхлевших от времени и употребления, а кое-что привез с собой Изумительный Старик, когда перебрался на постоянное жительство к чете Бейнов пять лет назад.
И просто удивительно, как все эти предметы подошли друг к другу и составили нечто цельное и законченное. Можно было подумать, что их подбирал какой-то бескорыстный энтузиаст, задавшийся целью превратить гостиную Бейнов в частную коллекцию всевозможных ужасов, слегка приспособленных для домашнего употребления, и не пожалевший на это труда.
Это была комната с высоким потолком и старинными, потемневшими от времени деревянными панелями, навевавшими неотвязные тоскливые мысли о серебряном глазете и червях. Обои были цвета горчицы. Когда-то их рисунок представлял собой довольно смелый замысел — по темно-желтому фону были разбросаны светло-желтые золотистые мазки, — но постепенно все это выцвело, слиняло и превратилось в бесформенные линии и пятна, в которых человеку, наделенному живым воображением, чудились сонмы изуродованных голов — пробитые черепа, безглазые лица, чудовищно изуродованные носы и зияющие дыры на месте ртов.
Мебель тоже была темная, громоздкая и подверженная болезненному треску. Этот внезапный, резкий, мучительный треск, нарушавший ее мужественную немоту, казалось, вырывался у нее лишь в те минуты, когда ей становилось невтерпеж. Удушливый запах плесени исходил от выцветших ковровых подушек, а в углублениях, невзирая на все старания миссис Бейн, скапливалась пушистая серая пыль.
Доска большого стола, стоявшего посреди комнаты, покоилась на неутомимо воздетых вверх руках трех выточенных из дерева фигур, подчеркнуто женственных от головы до пояса и стыдливо теряющих книзу свои естественные формы, превращаясь в нечто чешуйчатообразное и спиралевидное. На столе аккуратно выстроился ряд добротных апробированных книг. Он подпирался с боков двумя широкоплечими гипсовыми слонами, выкрашенными под бронзу и обреченными вечно предаваться этому утомительному и однообразному занятию.
На массивном лепном камине стояла ярко раскрашенная фигура кудрявого крестьянского мальчика, хитроумно изготовленная так, что одна нога у него свешивалась с каминной доски вниз. Круглое лицо его было весьма натурально искажено жестокой болью, ибо он был приговорен к пожизненному вытаскиванию занозы из своей пухлой ступни. Над головой мальчика висела гравюра с изображением состязания на колесницах: пыль летела столбом, колесницы дико кренились на бок, возницы яростно стегали обезумевших лошадей, которых художнику удалось запечатлеть за секунду до того, как их сердца разорвутся и они повиснут на своих постромках.
Стена напротив была посвящена религиозным сюжетам, нашедшим свое отражение в искусстве. Там висели: гравюра на стали, изображающая распятие Христа и изобилующая душераздирающими подробностями; репродукция в сепии с картины, на которой были представлены мучения святого Себастьяна (святой прикручен к столбу, веревки глубоко врезаются в руки, стрелы торчат во все стороны из нежного упитанного тела), и акварельная копия картины «Скорбящая богоматерь» (исполненные муки глаза воздеты к бесстрастным небесам, огромные блестящие слезы навеки застыли на впалых щеках, бледность которых подчеркивает похожее на саван покрывало, ниспадающее с головы).
В простенке между окнами висела картина маслом: две отбившиеся от стада овцы жалобно жмутся друг к другу среди неистового снежного бурана. Эта картина была одним из вкладов Изумительного Старика. Миссис Бейн любила упоминать, что одна рама от этой картины стоит невесть сколько денег.
Небольшой простенок возле двери был использован для того, чтобы отдать дань современному искусству, образец которого попался как-то раз мистеру Бейну на глаза в витрине писчебумажного магазина. Цветная репродукция изображала железнодорожный переезд, к которому с бешеной скоростью неотвратимо приближается поезд, а длинный плоский красный автомобиль пытается тем временем проскочить через железнодорожные пути, прежде чем чугунное чудовище сметет его с лица земли. Если в кресло, стоявшее напротив этой картины, попадал гость, не отличающийся крепкими нервами, беседа не клеилась до тех пор, пока ему не предоставлялась возможность пересесть на другое место и собраться с мыслями.
Среди безделушек, с обдуманной небрежностью расставленных на столе и на пианино, имелась небольшая позолоченная статуэтка люцернского льва[1], надтреснутая гипсовая статуэтка Лаокоона и свирепый фарфоровый котенок, изготовившийся для прыжка на беззащитную толстую фарфоровую мышь. Этот последний предмет был одним из свадебных преподношений Изумительного Старика. Миссис Бейн, благоговейно понизив голос, сообщала гостям, что это очень старинная вещица.
Пепельницы в восточном стиле имели форму нарочито уродливых голов с прикрепленными к ним пучками седых человеческих волос, стеклянными бессмысленно выпученными глазами и разверстым как пасть ртом, в который и надлежало сбрасывать пепел, если у вас хватит на это духу. Так все до мелочей служило здесь единой цели и создавало вкупе весьма сильное впечатление.
Но трое людей, находившиеся сейчас в гостиной Бейнов, ни в какой мере не были подавлены ее декоративным замыслом. Двое из них — мистер и миссис Бейн, имея за плечами двадцать восемь лет ежедневного пребывания в этой комнате, могли бы уже полностью с ней освоиться, даже если бы с самого начала не являлись ревностными ее поклонниками. Что же касается сестры миссис Бейн — миссис Уиттэйкер, то ее аристократическое самообладание не могла поколебать никакая самая ужасающая обстановка.
Грациозно опускаясь на стул, миссис Уиттэйкер тем самым как бы брала его под свое покровительство. Держа в руке бокал с сидром, она одаряла его доброй снисходительной улыбкой. Чета Бейнов была бедна, а миссис Уиттэйкер, выражаясь общепринятым языком, сделала хорошую партию, и никто из них троих никогда не упускал из виду этого обстоятельства.
Доброта и терпимость миссис Уиттэйкер изливались не только на ее менее удачливых родственников. Они распространялись и на друзей ее юности, рабочий класс, политику, все Соединенные Штаты в целом и на самого господа бога, который, кстати сказать, всегда был достаточно расторопен и готов к ее услугам, так что миссис Уиттэйкер могла бы в любую минуту выдать ему наилучшую рекомендацию.
Трое людей, собравшиеся в гостиной, намеревались спокойно скоротать вечерок в домашнем кругу. В комнате царила атмосфера ожидания, несколько напряженного, но отнюдь не мучительного, — вроде того, какое бывает перед поднятием занавеса. Миссис Бейн подала сидр в самых лучших своих бокалах, а ореховое печенье — на блюде, расписанном от руки пучками вишен. На этом блюде она подавала сэндвичи лет пять назад, когда члены карточного клуба еще собирались в ее доме.
Сегодня она призадумалась было на минутку, когда доставала этот предмет из шкафа, но тут же отбросила сомненья и решительно высыпала печенье на блюдо. В конце концов, случай был торжественный. Правда, они собирались в самом тесном семейном кругу, но случай все же был торжественный. Изумительный Старик умирал наверху у себя в комнате. В пять часов вечера доктор сказал, что он будет очень удивлен, если Изумительный Старик протянет до полночи. Чрезвычайно будет удивлен, подчеркнул доктор.
Им не было никакой нужды собираться у постели Изумительного Старика. Все равно он бы их не узнал. По правде говоря, скоро уже год как он никого не узнавал, и путал все имена и все родственные связи, когда учтиво осведомлялся о здоровье мужей, жен или детей. А теперь он и вовсе был без сознания.
Мисс Честер, которая неотлучно находилась при больном, «с того последнего удара», как многозначительно именовалось это на языке миссис Бейн, была опытной, квалифицированной сиделкой, и на нее вполне можно было положиться. Мисс Честер пригласит их наверх, если — как она тактично выразилась — появятся какие-либо признаки.
И вот теперь дочери Изумительного Старика и его зять сидели в ожидании в гостиной, потягивали сидр и вели учтивую беседу чуть-чуть приглушенными голосами.
Миссис Бейн два-три раза тихонько всплакнула, воспользовавшись паузами в разговоре. Миссис Бейн вообще плакала часто и обильно, но, несмотря на такой основательный опыт, делала это как-то неумело. Глаза у нее мгновенно краснели, ресницы слипались, а нос требовал почти беспрестанного сморканья, доставляя ей этим уйму хлопот. Миссис Бейн сморкалась громко, добросовестно и то и дело снимала с носа пенсне, чтобы утереть глаза скомканным носовым платком, мокрым и неопрятным с виду.
Миссис Уиттэйкер тоже держала в руке платочек. Но она держала его, так сказать, наготове. Одета миссис Уиттэйкер была прилично случаю — в черное крепдешиновое платье. Булавку из ляпис-лазури, хризолитовый браслет и два кольца — одно с аметистом, другое с топазом — она оставила дома в ящике шифоньерки, а с собой прихватила только лорнет на золотой цепочке на случай, если возникнет необходимость что-либо прочесть.
Костюмы миссис Уиттэйкер всегда были тщательно обдуманы и полностью отвечали требованиям момента, и миссис Уиттэйкер держала себя с тем спокойным достоинством, которое является приятной привилегией тех, кто умеет во всех случаях жизни одеться прилично обстоятельствам. Миссис Уиттэйкер была признанным знатоком в различных вопросах: где именно нужно класть монограммы на белье, какому способу дрессировки легче поддается прислуга и в каких выражениях следует составлять письма, выражающие соболезнование. Слово «приличие» присутствовало почти в каждой произносимой ею фразе. И еще миссис Уиттэйкер любила предрекать, что происхождение рано или поздно скажется.
Миссис Бейн была одета в помятую белую блузку и старую голубую юбку, которые были оставлены «для кухни». Она бы еще успела переодеться, после того как сообщила сестре по телефону приговор доктора, но не знала, следует ли это делать. Ей казалось, что миссис Уиттэйкер в такую минуту скорее одобрит некоторую неопрятность, — как свидетельство известной душевной растерянности. Быть может, даже сама слегка проявит ее в своем туалете.
Теперь миссис Бейн поглядывала на тщательно причесанную голову своей сестры, на мелкие аккуратно уложенные каштановые локоны, и нервным жестом приглаживала свои растрепанные волосы, совершенно седые на висках, с прядями почти лимонно-желтого цвета на затылке, где она закручивала их в маленький узелок. Ее ресницы снова намокли и слиплись, и, уравновесив пенсне на указательном пальце левой руки, правой рукой она поднесла к глазам мокрый носовой платок. В конце концов, напомнила она себе и остальным, их бедный папочка умирает.
— О, но ведь это же самый лучший исход теперь, — мягко и терпеливо постаралась разъяснить ей миссис Уиттэйкер. — Ведь ты бы не хотела, чтобы твой отец продолжал влачить такое существование, — заметила она.
Мистер Бейн мгновенно поддержал ее, словно озаренный неожиданной для него идеей. Миссис Бейн нечего было возразить им. Нет, разумеется, она не хочет, чтобы отец продолжал влачить такое существование.
Пять лет назад миссис Уиттэйкер пришла к решению, что старик отец слишком одряхлел и ему не следует жить одному под присмотром служанки Энни. Еще немного и это уже будет «выглядеть неприлично со стороны» — не годится, чтобы такой старик жил один, когда у него есть дети, которые могут о нем позаботиться. Миссис Уиттэйкер всегда, во всех случаях жизни умела во время принять меры к тому, чтобы что-то «не выглядело некрасиво со стороны». И Изумительный Старик перебрался жить к Бейнам.
Кое-что из мебели распродали, кое-какие вещички — серебро, высокие кабинетные часы и персидский ковер, купленный Изумительным Стариком на выставке, — нашли себе пристанище в доме миссис Уиттэйкер. Остальные вещи перекочевали вместе с Изумительным Стариком к Бейнам.
Особняк миссис Уиттэйкер был значительно больше дома ее сестры, и она держала троих слуг, а детей у нее не было. Но, как объяснила она друзьям, она поступилась своими правами и дала Элли и Люису возможность приютить Изумительного Старика.
— Вы понимаете, — поясняла миссис Уиттэйкер, понижая голос почти до шепота — средство, к которому она всегда прибегала, если речь заходила о щекотливых предметах. — Вы понимаете Элли и Люис… Ну как бы вам сказать… У них не такой уж большой достаток.
Таким способом давалось понять, что для Бейнов это будет великое благо, если Изумительный Старик переберется к ним на жительство. И не потому, что он стал бы платить за свой стол. Пожалуй, это было бы слишком — получать с родного отца плату за пищу и ночлег, как с чужого человека. Но, как поясняла миссис Уиттэйкер, дорогой папочка мог принести большую пользу в доме, производя необходимые покупки и вообще немножко наблюдая за всем.
И дорогой папочка действительно внес свою лепту в хозяйство Бейнов. Он купил электрическую грелку, электрический вентилятор, жалюзи, новые портьеры и люстру. Все эти предметы были приобретены для его спальни. А смежную со спальней маленькую гостиную он переоборудовал в хорошенькую маленькую ванную комнату для своего личного пользования.
День за днем он рыскал по магазинам до тех пор, пока не нашел достаточно вместительной кофейной чашки, которая отвечала его вкусам. После этого он купил еще несколько огромных пепельниц и дюжину гигантских купальных полотенец, на которых миссис Бейн вышила его инициалы. А каждые святки и в день рождения миссис Бейн он неукоснительно дарил ей кругленькую новенькую десятидолларовую золотую монетку. Миссис Уиттэйкер тоже, разумеется, получала золотые монетки в положенные дни. Изумительный Старик очень гордился тем, что у него нет любимчиков. Он постоянно твердил, что терпеть не может отдавать кому-нибудь перед кем-нибудь предпочтение.
Миссис Уиттэйкер была подлинной Корделией для своего отца в последние годы, когда дорогой папочка достиг преклонных лет. Раза два в месяц она непременно приезжала его проведать и привозила ему баночку варенья или гиацинт в горшке. Иногда она присылала свою машину, чтобы он мог совершить небольшую прогулку по городу. В этих случаях миссис Бейн тоже представлялась возможность оторваться от своей стряпни и составить дорогому папочке компанию. А если миссис Уиттэйкер отправлялась со своим супругом путешествовать, она почти никогда не забывала присылать дорогому папочке почтовые открытки с видами различных достопримечательных мест. Изумительный Старик чрезвычайно ценил эти знаки привязанности и гордился ими. Ему нравилось, когда говорили, что миссис Уиттэйкер похожа на него.
— Вот она — моя Хэтти, — частенько говаривал он миссис Бейн. — Превосходная женщина, превосходная!
Как только миссис Уиттэйкер услышала о том, что дорогой папочка при смерти, она мгновенно собралась и приехала, задержавшись дома только самую малость, чтобы переодеться на скорую руку и пообедать. Ее супруг уехал с приятелями на рыбную ловлю, и миссис Уиттэйкер объяснила Бейнам, что не было никакого смысла беспокоить его, — все равно он бы никак не смог добраться сюда до ночи. А как только… Ну, словом, если что-нибудь случится, она пошлет ему телеграмму, и он как раз поспеет к похоронам.
Миссис Бейн была очень огорчена его отсутствием. Она любила своего шумного, краснолицего, добродушного зятя.
— Ужасно обидно, что Клинта нет с нами, — в который уже раз повторила миссис Бейн. — И он так любит сидр, — добавила она.
— Дорогой папочка был очень привязан к Клинту, — сказала миссис Уиттэйкер.
Как-то само собой вышло, что об Изумительном Старике говорилось уже не в настоящем, а в прошедшем времени.
— Кто же не любит Клинта, — заявил мистер Бейн.
Сам он тоже любил Клинта. Когда очередное и последнее предприятие мистера Бейна прогорело, Клинт пристроил его на канцелярскую работу у себя на щеточной фабрике, где он и работал до сих пор. Всем на свете, конечно, было известно, что произошло это благодаря содействию миссис Уиттэйкер. Но, как бы то ни было, щеточная фабрика принадлежала Клинту, и жалованье мистеру Бейну платил не кто другой, как Клинт. А сорок долларов в неделю — это, что ни говори, сорок долларов в неделю.
— Я надеюсь, что он все же поспеет к похоронам, — сказала миссис Бейн. — Ведь это будет в среду утром, вероятно. Как ты думаешь, Хэт?
Миссис Уиттэйкер утвердительно кивнула.
— В среду, часа в два, — уточнила она. — Мне всегда казалось, что это наиболее подходящее время. У дорогого папочки есть черный сюртук, Элли?
— Ну конечно, — оживилась миссис Бейн. — Совершенно свежий, вполне приличный. У него все есть. А знаешь, Хэтти, недавно на похоронах мистера Ньютона я заметила, что на нем был темно-синий галстук. Может, теперь так принято? Молли Ньютон знаток в таких вещах. Но может быть…
— А я считаю, — прервала ее миссис Уиттэйкер твердо, — что для пожилого человека ничего не может быть приличнее черного галстука.
— Бедный наш старик, — сказал мистер Бейн, покачивая головой. — Доживи он только до сентября, ему бы сравнялось ровно восемьдесят пять лет. Ну что ж, верно все к лучшему.
Он отхлебнул еще немного сидру и закусил печеньем.
— Чудесная, изумительная жизнь, — подытожила миссис Уиттэйкер. — Чудесный, изумительный старик.
— Да, это верно, — сказала миссис Бейн. — Подумать только, что до этого года он еще так интересовался всем. То и дело, бывало: «Сколько ты теперь платишь за яйца, Элли?», или: «Почему ты не берешь мясо у другого мясника, Элли? Этот же тебя обкрадывает!», или: «С кем ты говорила по телефону, Элли?» — и так весь день, с утра до ночи. Просто все обращали на это внимание.
— И ведь до этого последнего удара, он всегда спускался к столу, — задумчиво покашливая, сообщил мистер Бейн. — Да еще какой, бывало, подымал крик, если Элли замешкается ненароком, разрезая жаркое. Да, старик был человек с характером, можете мне поверить. Терпеть не мог посторонних за столом! Восемьдесят четыре года, а всегда обедал в столовой вместе с нами.
И они наперебой принялись приводить примеры необычайной подвижности Изумительного Старика и остроты его ума. Так родители пытаются иной раз перещеголять друг друга рассказами об удивительной смышлености своих детей.
— До прошлого года он даже по лестнице ходил без посторонней помощи, — сказала миссис Бейн. — Больше восьмидесяти лет, а подымается себе по лестнице как ни в чем не бывало!
Миссис Уиттэйкер припомнилось нечто забавное.
— Помнится, вы рассказывали мне, как Клинт сказал ему однажды: «Ну, уж если к восьмидесяти годам вы еще не научились ходить по лестницам, так когда же вы думаете это одолеть?»
Миссис Бейн вежливо улыбнулась, потому что это были слова ее зятя. Скажи такую вещь кто-нибудь другой, она, несомненно, была бы шокирована и оскорблена.
— Да, — сказал мистер Бейн, — чудеса!
— Об одном я только жалею, — сказала миссис Бейн, помолчав. — Отец был слишком нетерпим к Полю. Что ни говорите, а у меня теперь душа не на месте — с тех самых пор, как Поль уехал от нас в этот суровый край, где-то там, на Западе.
— Ах, Элли! — сказала миссис Уиттэйкер, И в ее голосе прозвучали нотки, свидетельствующие о том, что предмет этот обсуждался уже десятки, сотни и тысячи раз. — Ты же прекрасно понимаешь, что это был самый лучший выход, да и отец без конца тебе это толковал. Поль был еще совсем мальчишка, к нему приходили приятели и бегали взапуски по всему дому, хлопая дверьми и подымая чудовищный шум и гам. Они невыносимо докучали дорогому папочке. Ты не должна забывать, Элли, что отцу уже перевалило за восемьдесят.
— Да, я понимаю, — сказала миссис Бейн. Ее взгляд скользнул по фотографии сына, на которой он был снят в куртке лесоруба, и она вздохнула.
— И, кроме того, — победоносно закончила миссис Уиттэйкер, — Полю теперь вообще не нашлось бы места в доме, ведь его комнату занимает мисс Честер. Так что видишь сама!
Снова наступило довольно продолжительное молчание. Затем миссис Бейн робко коснулась другого терзавшего ее вопроса.
— Хэтти, — сказала она. — Мне кажется… нам следует известить Мэтта.
— А я бы не стала этого делать, — сдержанно отозвалась миссис Уиттэйкер. Она вообще была очень осторожна в выборе грамматических форм и отдавала особое предпочтение сослагательному наклонению. — Я, наоборот, надеюсь, что он не поспеет к похоронам, если даже прочтет извещение в газете. Может быть, тебе, Элли, хочется, чтобы твой братец пьяный появился в церкви во время отпевания? Ну а я совершенно к этому не стремлюсь.
— Я думал, он исправился, — сказал мистер Бейн. — Мне казалось, он бросил это, когда женился.
— Ах, полно, полно, Люис, — промолвила миссис Уиттэйкер устало. — Я все это уже слышала. Могу сказать только одно: я-то знаю Мэтта.
— Джон Лумис рассказывал мне, — сказал мистер Бейн, — что он был проездом в Акроне и завернул проведать Мэтта. Говорит, у них там славная маленькая ферма, и дела идут как будто вполне сносно. И жена Мэтта показалась ему первоклассной хозяйкой.
Миссис Уиттэйкер улыбнулась.
— Конечно, — сказала она, — Джон Лумис и Мэтт — два сапога пара, и ни одному их слову никогда нельзя верить. Очень может быть, что жена Мэтта показалась ему первоклассной хозяйкой! Не сомневаюсь, что она отлично сыграла свою роль. Мэтт даже не пытался скрывать, что она когда-то почти целый год выступала на сцене. Нет уж, пощадите, — я не желаю видеть эту женщину на похоронах дорогого папочки. Если вы хотите знать мое мнение, так я считаю, что женитьба Мэтта на женщине такого сорта чрезвычайно приблизила кончину папы.
Чета Бейнов молчала, подавленная.
— И это после всего, что отец сделал для Мэтта, — присовокупила миссис Уиттэйкер надломленным голосом.
— Да уж что верно, то верно, — обрадованно согласился мистер Бейн. — Я помню, как наш старик старался помочь Мэтту выбиться в люди. Пойдет, бывало, к мистеру Фуллеру — Мэтт тогда работал у него в банке — и так это основательно все ему растолкует. «Послушайте, мистер Фуллер, — скажет он ему, бывало, — не знаю, известно ли вам или нет, но этот мой сыночек всегда был, что называется, паршивой овцой в нашем семействе. Любит выпить и не раз уже попадал в переделку. Так что, если вы будете построже за ним приглядывать, чтобы он совсем не сбился с пути, вы чрезвычайно меня этим обяжете». Мистер Фуллер сам мне это рассказывал. Просто удивительно, говорил он, как это старик пришел к нему, да так все и выложил напрямик. А мистер Фуллер ведь и понятия не имел, что за Мэттом водится такой грешок. Ну а тут уж конечно ему захотелось узнать все, во всех подробностях.
Миссис Уиттэйкер сокрушенно покачала головой.
— Да, да, я знаю, — сказала она. — Дорогой папочка делал это не раз и не два. А затем ни с того ни с сего Мэтта одолевала хандра, он начинал дуться на весь свет и не являлся на работу.
— А ведь потом, когда Мэтт оставался без места, — вмешалась миссис Бейн, — отец всегда давал ему денег на автобус, да и мало ли еще на что. А когда Мэтт был уже совсем взрослый, когда ему было уже под тридцать, отец и тут возил его, бывало, к «Ньюинсу и Мэлли» и одевал с головы до пят. И ведь все выбирал ему сам, каждую вещичку. Отец всегда говорил, что, если Мэтта отпустить одного в магазин, его обведут вокруг пальца и обсчитают, как ребенка.
— Да, дорогой папочка просто не выносил, когда кто-нибудь глупо вел себя в денежных вопросах, — заметила миссис Уиттэйкер. — Помните, он всегда говорил: «Заработать деньги всякий дурак может, а вот чтобы сохранить их, нужно иметь голову на плечах».
— Сам-то он человек богатый, думается мне, — сказал мистер Бейн, одним махом возвращая Изумительного Старика из прошедшего времени в настоящее.
— Ну уж, богатый! — улыбка миссис Уиттэйкер была сама снисходительность и доброта. — Но он хорошо вел свои дела. О да, до самого конца отец отлично вел свои дела. Клинт говорит, что все в отменном порядке.
— Он показывал тебе свое завещание, Хэт? — спросила миссис Бейн, приглаживая складочки на рукаве худыми загрубевшими пальцами.
— Да, — отозвалась ее сестра. — Да, показывал… Да, он показывал мне свое завещание. Позвольте, когда же это было? Примерно с год назад, если не ошибаюсь. Как раз перед тем, как у него стала слабеть память.
Миссис Уиттэйкер откусила крошечный кусочек пирожного.
— Необыкновенно вкусно, — сказала она и рассмеялась тихим булькающим смехом. Этот смех миссис Уиттэйкер обычно приберегала для вечерних чаепитий, помолвок и больших званых обедов.
— Нет, вы только послушайте, — начала она так, словно хотела поделиться забавной шуткой. — Он взял и оставил все свои деньги мне. «Ну как же так, папа!» — сказала я ему, как только ознакомилась с этой частью завещания. Но он решил почему-то, что мы с Клинтом лучше всех сумеем позаботиться о его деньгах. А вы сами знаете, что бывает, если отец вобьет себе что-нибудь в голову. Вы только подумайте, как я должна была себя чувствовать! Я просто не могла произнести ни слова.
Она снова рассмеялась и в очаровательном замешательстве покачала головой.
— Ах да, Элли! — вдруг спохватилась она. — Он же завещал тебе всю мебель, которую привез сюда с собой, и все вещи, купленные, пока он жил здесь у вас. Люису же он завещал своего Теккерея. А те деньги, что он вам одолжил, чтобы вызволить Люиса из беды, когда тот прогорел со своими скобяными товарами, — эти деньги отец решил рассматривать как свой подарок вам.
Она откинулась на спинку кресла и, улыбаясь, обвела глазами слушателей.
— Но Люис уже выплатил больше половины своего долга, — сказала миссис Бейн. — Осталось всего около двухсот долларов, и тогда весь долг будет погашен полностью.
— Тем не менее отец рассматривает это как подарок, — настойчиво повторила миссис Уиттэйкер. Она наклонилась и похлопала зятя по плечу. — Отец всегда любил вас, Люис, — сказала она мягко.
— Бедный старик, — пробормотал мистер Бейн.
— А есть там… Говорится там что-нибудь о Мэтте? — спросила миссис Бейн.
— О Элли! — кротко упрекнула ее мисс Уиттэйкер. — Если вспомнить, сколько денег отец вечно тратил, и тратил, и тратил на Мэтта, то, мне кажется, этого более чем достаточно… более чем Достаточно. И вдруг Мэтт отправляется куда-то на Запад, женится на этой женщине, а отцу — ни слова. Отец узнает о его браке от посторонних людей… Нет, мы все просто не отдаем себе отчета в том, как это обидело отца. Он не любил говорить об этом браке, но никогда, мне кажется, не мог с ним свыкнуться. Я вечно благодарю бога за то, что наша бедная дорогая мамочка до этого не дожила.
— Бедная мамочка, — сказала миссис Бейн срывающимся голосом, снова пуская в ход свой мокрый платочек. — Я и сейчас слышу, как она, бывало, говорила нам: «А теперь, дети, бога ради, постарайтесь ничем не прогневить отца, чтобы у него не испортилось настроение!» Сколько раз мы это слышали, помнишь, Хэт?
— Помню ли я! — сказала миссис Уиттэйкер. — А ты помнишь, как они, бывало, играли в вист и в какую ярость приходил отец, когда проигрывал?
— Да, как же! — взволнованно воскликнула миссис Бейн. — Помнишь, как мама пыталась плутовать, лишь бы только, не дай господь, не выиграть у него? Впрочем, ей так часто приходилось плутовать, что под конец она передергивала уже очень ловко.
Обе сестры рассмеялись тихонько, взволнованные воспоминаниями о давно прошедших днях. Воцарилась приятная, задумчивая тишина.
Миссис Бейн похлопала себя кончиками пальцев по губам, подавляя зевок, и бросила взгляд на часы.
— Уже без десяти одиннадцать, — сказала она. — Я и представления не имела, что так поздно. Хотелось бы мне… — Она спохватилась, и лицо ее стало пунцовым, а желание осталось невысказанным.
— Ты понимаешь, мы с Лю как-то уже привыкли рано ложиться спать, — пояснила она. — У отца был такой чуткий сон, что мы боялись его потревожить и уже не могли принимать гостей и играть в бридж, как бывало прежде, до его переезда к нам. А стоило нам собраться в кино или еще куда-нибудь, он начинал жаловаться, что его бросают дома одного, так что нам в конце концов пришлось и от этого отказаться.
— О да, старик всегда знал, чего он хочет, и умел поставить на своем, — улыбаясь сказал мистер Бейн. — Говорю вам, это какое-то чудо. Ведь без малого восемьдесят пять лет!
— Да, подумать только! — сказала миссис Уиттэйкер.
Наверху скрипнула дверь, и на лестнице послышались быстрые твердые шаги. В комнату влетела мисс Честер.
— О миссис Бейн! — вскричала она. — О боже мой, ваш почтенный папаша! О, о! Он скончался! Я заметила, что он вроде как пошевелился и захныкал немножко и вроде как потянулся к своему молочку — вроде как попить захотел. Ну, я взяла чашку с теплым молочком и поднесла к его губам, а он как повалился головой вперед и расплескал все молоко на себя. И отошел.
Миссис Бейн мгновенно разразилась неудержимыми рыданиями. Ее супруг нежно обхватил ее за плечи, бормоча:
— Ну, полно, полно…
Миссис Уиттэйкер поднялась, аккуратно поставила стакан с сидром на стол, встряхнула носовой платочек и двинулась к дверям.
— Какая прекрасная кончина! — провозгласила она. — Чудесная, изумительная жизнь и прекрасная спокойная кончина. О, это лучшее, что можно пожелать, Элли, воистину самое лучшее.
— О да, да, миссис Бейн, что правда, то правда — это самое лучшее, — убежденно подхватила мисс Честер. — Это же просто милость господня, вот что я вам скажу!
Втроем они помогли миссис Бейн подняться по лестнице.
ПЕСНЬ О РУБАШКЕ[2] 1941
Был один из тех необыкновенно ярких, солнечных дней, когда все предметы словно вырастают на глазах. Улица казалась шире и тянулась далеко, далеко, а дома стали как будто выше и уходили в самое небо. Цветы в деревянных ящиках на карнизах под окнами не расплывались в яркие, но бесформенные пятна, а тоже словно увеличились в размере, и каждый цветок, даже каждый лепесток стал виден совершенно отчетливо. Право, в этот день все приятные предметы, которые обычно слишком мелки и незначительны, чтобы их замечать, сами бросались в глаза: изящные фигурки на радиаторах машин, и славные золотые шарики на древках знамен, и искусственные цветы и фрукты на дамских шляпках, и подведенные веки под полями этих шляпок. Побольше бы таких дней в году!
Когда солнце так необычайно щедро льет свои лучи, это, как видно, оказывает свое воздействие и на скрытые от глаз предметы, ибо миссис Мартиндейл, приостановившись и окидывая взглядом улицу, совершенно отчетливо почувствовала, как сердце растет и ширится у нее в груди. Размеры сердца миссис Мартиндейл пользовались заслуженной славой среди друзей, и друзья, как им и полагается, разблаговестили об этом везде и всюду. Вот почему имя миссис Мартиндейл обычно значилось одним из первых в списках тех общественных организаций, которые постоянно обращаются с призывами покупать благотворительные билеты, и ей нередко приходилось на каком-либо собрании филантропического характера позировать перед фотоаппаратом и, сидя за столом, делать вид, что она с глубочайшим вниманием слушает свою собеседницу.
Но грудь миссис Мартиндейл, вмещавшая ее большое сердце, отнюдь не отличалась, как это, увы, нередко бывает, такими же внушительными размерами. Груди миссис Мартиндейл были восхитительны по форме, нежны и вместе с тем упруги и смотрели одна — вправо, другая — влево, словно повздорив друг с другом, по удачному сравнению, заимствованному у русских авторов.
Улица была так красива сейчас, что на сердце у миссис Мартиндейл потеплело. Все флаги казались новенькими с иголочки. Красные, белые, синие полосы — такими яркими, что от них рябило в глазах, а задорные остроконечные звезды словно танцевали на остриях своих лучей. У миссис Мартиндейл тоже имелся флажок — он был приколот к отвороту ее жакета. Миссис Мартиндейл являлась обладательницей довольно большого количества рубинов, бриллиантов и сапфиров, которые, в сущности, пропадали зря — на крышках портсигаров и туалетных коробок или на театральных сумочках, — и она отнесла часть этих камешков ювелиру, а тот собрал из них очаровательный маленький американский государственный флаг. Камней оказалось достаточно, чтобы придать флажку такую форму, словно он развевается на ветру, и это вышло очень удачно, так как все эти плоские флажки выглядят скучно и мертво. Осталось довольно много изумрудов, которыми были осыпаны листья и стебельки цветов, изображенных на портсигарах и коробках. Для флажка изумруды, разумеется, не годились, и до поры до времени их пришлось убрать в тисненую кожаную шкатулочку. Когда-нибудь, возможно, миссис Мартиндейл посоветуется со своим ювелиром о том, как их лучше использовать. Но сейчас ей было не до того.
По улице, под пестрыми знаменами, проходили мужчины, одетые в форму. Солдаты шагали быстро, уверенно и, казалось, каждый из них знает, куда и зачем. Моряки, по двое, по трое, пробегали легкой, упругой походкой, задерживались на углу, окидывали взглядом улицу и, словно отказавшись от своего намерения, уходили — уже не так стремительно — куда-то вдаль. Миссис Мартиндейл смотрела на них, и сердцу ее снова стало тесно в груди. Одна ее приятельница повадилась останавливать на улице одетых в военную форму мужчин и благодарить их, каждого особо, за то, что он для нее делает. Миссис Мартиндейл находила, что это уж слишком. Тем не менее, сейчас она понимала отчасти, что хотела выразить этим ее подруга.
Уж конечно, ни один солдат или моряк не испытал бы неудовольствия, если бы миссис Мартиндейл обратилась к нему. Потому что она была мила. Не было женщины милее ее на всем белом свете. Высокая, стройная, она была сложена гармонично, как сонет. Лицо ее, казалось, все состояло из треугольников, очень напоминая этим кошачью мордочку, а глаза и волосы были голубовато-серые. Волосы не обрамляли пушистым нимбом ее лоб и виски — они возникали внезапно, образуя резкую прямую черту поперек лба, и ложились крупными тяжелыми волнами. Голубоватая седина, посеребрившая волосы миссис Мартиндейл, не была преждевременной. Миссис Мартиндейл замешкалась где-то на пороге цветущего пятого десятка. Но разве часы пополудни не самое прекрасное время суток?
При взгляде на миссис Мартиндейл, такую хрупкую, такую утонченную и неземную в самой своей прелести, вы бы рассмеялись, услыхав, что она трудящаяся женщина. «Болтайте больше!» — сказали бы вы, если бы такая неэлегантная манера выражать недоверие была вам присуща. Но то, что вы при этом допустите грубость — это еще полбеды; вы будете неправы — вот что хуже. Миссис Мартиндейл работала, и работала тяжко. Вдвойне тяжко потому, что она была неискусна в своей работе и не любила ее. Но вот уже два месяца, как она трудилась пять раз в неделю после полудня и никогда ни на минуту не уклонялась от работы. Миссис Мартиндейл не получала вознаграждения за свой упорный труд. Она трудилась потому, что видела в этом свой долг. Она считала, что каждый должен делать, что может, не жалея сил и не ожидая награды, и претворяла это в жизнь.
Миссис Мартиндейл трудилась в благотворительном комитете помощи воинам. Она и большинство дам-благотворительниц называли его штаб-квартирой, а некоторые — просто штабом. Эти последние принадлежали к той группировке, которая ратовала за введение формы. Фасон ее еще не был разработан в деталях, но в общих чертах это было нечто близкое к одеянию сестры милосердия, только юбку предполагалось сделать пышнее и добавить длинную голубую пелерину с капюшоном и белые перчатки. Миссис Мартиндейл не одобряла взглядов этой группировки. Возражать, перечить кому-нибудь всегда было для нее не легко, но тем не менее она возражала, хотя и кротко. Она заявила, что, конечно, в форме нет ничего дурного и, конечно, нельзя сказать, что сама по себе идея предосудительна, но тем не менее ей кажется… ну, словом, ей кажется, что это как-то не совсем хорошо — использовать их благородный труд как предлог для ношения маскарадных, с позволения сказать, костюмов. Ну конечно, они все в штаб-квартире носят чепцы с вуалью, и когда кто-нибудь желает вас сфотографировать в этом чепце, вам приходится пройти через это испытание для пользы дела и его прославления. Но прошу вас, сказала миссис Мартиндейл, не надо полной формы! Право же, сказала миссис Мартиндейл, прошу вас, не надо!
Штаб, по мнению многих, был самой суровой из всех благотворительных организаций помощи воинам, созданных в городе. Вы не могли забежать сюда, когда придется и немного повязать. Вязанье — как только вам удалось разобраться что к чему — в сущности, очень приятное занятие. Оно дает возможность отдохнуть от всех житейских забот. Во время вязания ваши мысли свободны (за исключением того момента, когда нужно считать петли), и вы можете принимать участие в разговоре, можете узнавать все новости и делиться ими. Но в штабе занимались не вязаньем, а шитьем, и притом исключительно трудным и нудным видом шитья. Здесь шили короткие, похожие на рубашки халаты, которые завязываются на спине тесемками и предназначены для солдатских госпиталей. Каждый халат имел два рукава, и все края нужно было тщательно подрубать. Материя, из которой шились эти халаты, была грубая, жесткая на ощупь, неподатливая для иголки в руках новичка и от нее скверно пахло. Миссис Мартиндейл сшила уже целиком три халата и еще один — почти наполовину. Она надеялась, что после первого халата дело пойдет легче и быстрей. Но так не получилось.
В штабе стояли швейные машины, но мало кто из дам умел с ними обращаться. Миссис Мартиндейл втайне побаивалась этих машин. Рассказывали ужасную историю, источник которой остался невыясненным, о том как кто-то сунул большой палец куда-то не туда, и в него воткнулась иголка. Так все и проколола — и ноготь и мякоть, — все насквозь. Кроме того, было что-то — это трудно выразить словами, — что-то более жертвенное, более самоотверженное в том, чтобы шить все на руках. И миссис Мартиндейл упорно продолжала выполнять взятую на себя задачу, которая ни на йоту не становилась легче. Не раз высказывались сожаления, что людей калибра миссис Мартиндейл так мало.
Надо сказать, что очень многие отказались от этой затеи, не закончив даже первого халата, а некоторые, обязавшись приходить на работу ежедневно, заглядывали в штаб только от случая к случаю. Таких, как миссис Мартиндейл, была просто ничтожная горстка.
Все они, разумеется, работали бескорыстно, чего, по мнению некоторых, нельзя было сказать о миссис Корнинг, возглавлявшей штаб. Миссис Корнинг руководила их работой, кроила халаты и объясняла, что к чему нужно пришивать. Бывали случаи, когда получалось не совсем то, что надо. Одна добровольная, но неопытная швея трудилась в поте лица над своим халатом, а когда он был закончен, оказалось, что один рукав пришит спереди, где-то на уровне пояса. Немыслимо было удержаться от смеха, глядя на этот халат, и какая-то бойкая на язычок дама предложила послать все же этот халат в госпиталь — на случай, если туда доставят раненого слона. Миссис Мартиндейл первая вступилась за неудачницу, сказав: «Ах, перестаньте! Она так старалась!»
Миссис Корнинг была грубая женщина, ее невзлюбили все. Конечно, ничто низкопробное не должно было иметь места в такой организации, как штаб, и это сознавал каждый из его членов, но тем не менее все единодушно согласились, что миссис Корнинг незачем было поднимать такой крик и так распекать на все корки эту бедняжку, которая послюнявила нитку, чтобы легче было вдеть ее в иголку.
— Ну, знаете ли… — возразила одна из самых дерзких в ответ на упреки миссис Корнинг. — Если, по-вашему, капля чистой слюны — это самое скверное, что может попасть на эти халаты…
Дерзкая дама не появлялась больше в штабе, и кое-кто нашел, что она поступила правильно. После этого случая философское направление, неустанно утверждавшее, что вся суть в том, что миссис Корнинг получает вознаграждение за свои труды, нашло новых приверженцев.
Миссис Мартиндейл остановилась на залитой солнцем улице и с приятным сознанием, что она пользуется минутой вполне заслуженного отдыха, окинула ее задумчивым взглядом. Она только что покинула штаб, и также, как другие его члены, могла не возвращаться туда еще много, много недель подряд. Где-то в лесу, верно, уже прокуковала кукушка, ибо чувствовалось приближение лета, а так как летом все разъезжаются из города, то простой здравый смысл подсказывал, что штаб следует распустить до осени. Миссис Мартиндейл предвкушала законный отдых от всего этого бесконечного шитья, и совесть ее была чиста.
Однако дело обернулось иначе, и миссис Мартиндейл не суждено было отдохнуть. В то время, как члены комитета весело прощались друг с другом и назначали свидания на осень, миссис Корнинг громко откашлялась, призывая к тишине, и произнесла краткую речь. Перед миссис Корнинг возвышалась груда скроенных и несшитых госпитальных халатов. Миссис Корнинг была крайне непривлекательная женщина и хотя, казалось бы, ей следовало стараться тронуть сердца дам и разжалобить их, голос ее звучал резко и неприятно. Существует огромная нужда в госпитальных халатах, сказала она. Сейчас, сию минуту требуются сотни, тысячи халатов. Сегодня утром получена телеграмма, и в ней настоятельно просят, молят прислать халаты. Штаб закрывается до сентября, значит работа будет приостановлена. Разумеется, все они заслужили отдых. И все же перед лицом такой острой нужды она вынуждена обратиться к ним с просьбой… Словом, она спрашивает: кто согласен взять с собой халаты, чтобы шить их на дому?
На мгновение наступила тишина. Ее сменил гул голосов, который все рос и креп по мере того, как каждая из дам, подняв голос, быстро замечала, что получает поддержку. Большинство дам, как выяснилось, охотно согласились бы на это предложение, но, к сожалению, им просто необходимо посвятить сейчас все свое время детям, которых они совершенно забросили из-за того, что постоянно приходилось бывать в штабе. Другие же просто заявили, что у них больше нет сил, и все тут. Признаться, в первую секунду миссис Мартиндейл заколебалась и уже готова была присоединиться к этим последним. Затем волна стыда обдала ее с головы до пят, и спокойно, решительно, с высоко поднятой голубовато-седой головой, она направилась к миссис Корнинг.
— Миссис Корнинг, — сказала она. — Я бы хотела взять двенадцать штук, если позволите.
Миссис Мартиндейл никак не ожидала, что миссис Корнинг может быть так мила. Она схватила руку миссис Мартиндейл и потрясла ее.
— Благодарю вас, — сказала она, и ее резкий голос звучал мягко.
Но тут же она повела себя по-старому. Она вырвала свою руку у миссис Мартиндейл и, повернувшись к столу, начала подбирать халаты.
— И прошу вас, миссис Мартиндейл, — сказала она резко, — пожалуйста не забывайте, что шов нужно делать аккуратно. Вы понимаете, что корявые швы могут причинить раненому массу неудобств. Если бы вам удалось делать ровные стежки, ваше шитье было бы меньше похоже на домашнюю стряпню и делало бы больше чести нашей организации. Затем — сроки, сроки! Это чрезвычайно важно. Нужда в халатах чудовищная. Так что вы нас чрезвычайно обяжете, если сошьете их побыстрее.
Сказать по правде, если бы миссис Мартиндейл не вызвалась уже взять эти халаты, она, пожалуй…
Двенадцать скроенных халатов, да еще тот, который был закончен только наполовину, составили довольно внушительный узел.
Миссис Мартиндейл пришлось позвонить вниз шоферу, чтобы он отнес узел в машину. Пока она ждала шофера, еще несколько дам довольно нерешительно подошли к столу и тоже вызвались взять халаты на дом. Однако ни одна из них не осилила больше четырех халатов.
Миссис Мартиндейл, само собой разумеется, Простилась с миссис Корнинг, но о предстоящей встрече осенью упомянула без всякого восторга. Каждый делает, что может, выполняет свой долг. Но не больше того, не больше того.
На улице к миссис Мартиндейл вернулось ее обычное расположение духа. Она старалась не смотреть на огромный узел, положенный шофером в машину. В конце концов она, по совести, имела право дать себе передышку. Нет никакой нужды сразу ехать домой и приниматься за шитье. Она отправит этот узел с шофером, а сама немного прогуляется по свежему воздуху и не станет пока думать об этих халатах.
Но мужчины в военной форме проходили по улице под развевающимися на ветру знаменами, и в резком правдивом солнечном свете так отчетливо были видны их лица: жесткие линии скул, и твердые подбородки, и глаза — исполненные уверенности глаза солдат и задумчивые глаза моряков. Они были молоды, все до единого были молоды, и каждый делал все, что мог, самоотверженно и скромно, не жалея сил и не ожидая награды. Миссис Мартиндейл прижала руку к сердцу. Быть может, настанет день… да, да, быть может, настанет день и кто-то из них будет лежать на госпитальной койке…
Миссис Мартиндейл расправила свои хрупкие плечи и решительно шагнула к машине.
— Домой, пожалуйста, — сказала она шоферу. — И поскорей, я спешу.
Вернувшись домой, миссис Мартиндейл велела горничной распаковать неуклюжий сверток и отнести халаты наверх в гостиную. Затем миссис Мартиндейл переоделась, покрыла голову — чуть повыше первой пышной голубовато-седой волны — мягким льняным чепцом, который она обычно надевала, когда работала в штабе, и поднялась в верхнюю гостиную, только на днях декорированную заново — под цвет волос и глаз миссис Мартиндейл. Это было довольно кропотливое занятие — подбирать все эти тона, но получилось удачно. Кое-где были брошены лиловато-красные мазки, вернее пятна, ибо миссис Мартиндейл не брезговала яркими красками как дополнением к своей основной нежной серебристо-голубой гамме, считая, что они хорошо оттеняют друг друга. Миссис Мартиндейл поглядела на огромную безобразную груду скроенных халатов, и на секунду ее прославленное сердце сжалось. Но оно тут же приняло свои нормальные размеры, лишь только она осознала, как ей надлежит поступить. Что толку думать об этих постылых двенадцати халатах. Нужно пока что закончить тот, который уже наполовину сшит.
Миссис Мартиндейл опустилась на голубовато-серый стеганый шелк дивана и заставила себя взяться за дело. Предстояла самая противная часть работы — надо было подрубить круглый ворот. Все как-то лезло в разные стороны и выходило очень нескладно, и эта грубая материя так омерзительно пахла, и стежки, которые миссис Мартиндейл из последних сил старалась делать аккуратными и хорошенькими, получались неодинаковой величины и какие-то серые. Она распарывала их снова и снова, потому что они никуда не годились, и снова вдевала нитку в иголку, не слюнявя пальцев, и снова убеждалась в том, что стежки имеют совершенно дикий вид. Миссис Мартиндейл чувствовала себя совсем больной от этой нудной, утомительной возни с халатом.
В гостиную просеменила жеманная горничная и доложила, что миссис Уаймен просит миссис Мартиндейл к телефону. Миссис Уаймен хочет попросить миссис Мартиндейл об одолжении. Это было божеское наказание, и терпеть его — участь людей, обладающих таким большим сердцем, как миссис Мартиндейл. Им беспрестанно звонят по телефону и просят о каком-либо одолжении. И миссис Мартиндейл только и делала, что оказывала кому-нибудь одолжения. Она отложила шитье и со вздохом — то ли досады, то ли облегчения — направилась к телефону.
Миссис Уаймен, так же как миссис Мартиндейл, обладала большим сердцем, но оно было плохо помещено. Миссис Уаймен была огромная, неуклюжая, безвкусно одетая женщина, с обвислыми щеками и маленькими заплывшими глазками. Она говорила неуверенно, застенчиво, торопливо сыпала извинениями, когда в том не было никакой нужды, и слушать все это было нестерпимо скучно и хотелось поскорее от нее отделаться.
— Моя дорогая, — говорила она сейчас миссис Мартиндейл. — Пожалуйста, извините меня, право, мне так совестно вас беспокоить. Но я вынуждена просить вас оказать мне огромное одолжение. Ради бога, извините меня. Я хочу спросить, не знаете ли вы случайно кого-нибудь, кто, быть может, нуждается случайно в услугах моей маленькой миссис Кристи?
— Вашей миссис Кристи? — переспросила миссис Мартиндейл. — Позвольте, я что-то не припомню… Или, позвольте…
— Поверьте, — сказала миссис Уаймен, — я бы ни за что на свете не стала вас беспокоить, у вас столько дел, и вы всегда так заняты, но я знаю, что вы знаете мою маленькую миссис Кристи. У нее больная дочка, ну, вы знаете, — детский паралич, — и она ее содержит, и я просто ума не приложу, что теперь с ними будет. Я бы ни за что на свете не стала вас беспокоить, но вы понимаете, она всегда что-то делала для нас — я все время придумывала для нее какую-нибудь работу, а теперь на следующей неделе мы уезжаем на ранчо, и я просто не знаю, что с нею будет. И еще эта калека дочь, и вообще… Они просто не выживут!
Миссис Мартиндейл испустила чуть слышный стон.
— О, какой ужас! — сказала она. — В самом деле, это ужасно. Мне бы очень хотелось… Скажите, чем я могу помочь?
— Ах, если бы вы могли указать кого-нибудь, кому она может предложить свои услуги, — сказала миссис Уаймен. — Честное слово, я бы ни за что на свете не стала вас беспокоить, ни за что, но я просто не знаю, к кому обратиться. А моя маленькая миссис Кристи — это же, право, настоящее чудо. Она умеет делать решительно все. Конечно, беда в том, что она вынуждена работать дома, чтобы присматривать за больной дочкой, но нельзя же ее за это винить, не правда ли? Она может приходить, брать работу на дом и приносить обратно. И она так быстро и хорошо все делает. Ради бога, простите, что я вас беспокою, но если бы только вы могли подумать к кому нам…
— Кто-то должен найтись! — с жаром воскликнула миссис Мартиндейл. — Я подумаю. Я как следует пороюсь в памяти, и наверное вспомню кого-нибудь, и тотчас позвоню вам.
Миссис Мартиндейл возвратилась в гостиную, опустилась на голубовато-серое шелковое сиденье и снова взялась за недошитый халат. Яркий, удивительно яркий солнечный луч проник в комнату, скользнул мимо вазы с орхидеями, похожими на бабочек, и лег на мягкий завиток волос под добродетельным чепцом.
Но миссис Мартиндейл даже не поглядела в окно. Взгляд ее голубовато-серых глаз был прикован к изнурительной работе, которую выполняли ее пальцы. Этот халат и еще двенадцать других! В них такая нужда, такая отчаянная нужда! И сроки! Главное сроки! Стежок, и еще стежок, и еще стежок, и еще. Миссис Мартиндейл поглядела на дрожащую кривую линию стежков, выдернула нитку из иголки, распорола три-четыре стежка, снова вдела нитку в иголку и снова принялась шить. И, кладя стежок за стежком, верная своему слову и велению сердца, она рылась и рылась в памяти.
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Прошу тебя, боже, сделай так, чтобы он мне сейчас позвонил. Господи боже, прошу тебя. Больше я тебя ни о чем просить не стану, право не стану. Разве это такая уж большая просьба? Тебе ведь это совсем не трудно, совсем, совсем не трудно. Только сделай так, чтобы он мне сейчас позвонил. Прошу тебя, боже, сделай так, сделай так, сделай так.
Может быть, телефон зазвонит, если я перестану об этом думать. Иногда это помогает. Если бы я могла думать о чем-нибудь другом! Если бы я могла думать о чем-нибудь другом! Может быть, если я сумею сосчитать до пятисот, телефон зазвонит. Буду считать медленно и честно, без обмана. А если он зазвонит, когда я дойду до трехсот, я буду считать дальше. И не возьму трубку, пока не досчитаю до пятисот. Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят… О, пожалуйста, зазвони. Зазвони.
Взгляну еще раз на часы, последний раз. Больше не буду на них смотреть. Десять минут восьмого. Он сказал, что позвонит в пять.
«Я позвоню тебе в пять, дорогая». Кажется, именно тут он прибавил — «дорогая». Я почти уверена, что именно тут. Я знаю, что он два раза назвал меня «дорогая». Второй раз — когда прощался. «До свиданья, дорогая». Он был занят и не мог много говорить — ведь он не один в конторе, но он два раза назвал меня «дорогая». Он не рассердился, что я ему сама позвонила. Я знаю, мужчинам нельзя часто звонить, я знаю, они этого не любят. Если им звонить, они понимают, что ты все время о них думаешь и хочешь их видеть, и начинают тебя за это презирать. Но я ведь уже целых три дня с ним не говорила — три дня. Я всего-навсего спросила его, как он поживает. Ведь так кто угодно мог ему позвонить. В этом нет ничего особенного. Не мог же он подумать, что я ему надоедаю. «Нет, ну что ты, конечно, нет», — сказал он. И пообещал, что сам мне позвонит. Он вовсе не обязан был это говорить. Я его не просила, право не просила. Клянусь, не просила. Не мог же он сказать, что позвонит, а потом никогда больше не позвонить. Прошу тебя, боже, не допусти, чтобы он так сделал. Прошу тебя.
«Я позвоню тебе в пять, дорогая». «До свиданья, дорогая». Он был занят и спешил, и рядом были люди, но он дважды сказал мне «дорогая». И это мое, это мое. Это останется моим, даже если я его никогда больше не увижу. Но этого так мало. Мне мало. Мне всего мало, если я его никогда больше не увижу. Пожалуйста, боже, сделай так, чтобы я его снова увидела. Пожалуйста, я так хочу его видеть. Так хочу его видеть. Я буду хорошей, боже. Я постараюсь быть лучше. Я очень постараюсь, только сделай, чтобы я его снова увидела. Только сделай, чтобы он мне позвонил. Ну, пусть он мне сейчас позвонит.
Пусть моя мольба не покажется тебе слишком ничтожной, боже. Ты сидишь там, наверху, седовласый и старый, в сонме ангелов и звезд, скользящих мимо. А я приношу тебе свою мольбу о телефонном звонке. Нет, не смейся надо мной. Ты не знаешь, каково мне. Тебе там так спокойно на твоем троне, посреди крутящегося голубого пространства. Ничто не может потревожить тебя. Никто не может сжать твое сердце в кулаке. А это больно, — это так больно. Неужели ты мне не поможешь? Во имя сына твоего помоги мне. Ты же сказал, что сделаешь все, о чем бы тебя ни попросили во имя его. О боже, во, имя твоего единственного возлюбленного сына, Иисуса Христа, спасителя нашего, сделай так, чтобы он мне сейчас позвонил.
Нет, так не годится. Нельзя так распускаться. Подумай сама. Предположим, молодой человек обещал девушке позвонить, а потом вдруг что-то случилось и он не позвонил. В этом еще нет ничего ужасного, не правда ли? Такие вещи происходят ежеминутно везде на свете. Ах, какое мне дело до того, что происходит везде на свете? Почему этот телефон не может зазвонить? Почему? Почему? Почему ты не можешь зазвонить? О, пожалуйста, зазвони! Неужели тебе трудно, проклятая, уродливая, блестящая коробка?.. Что ты, заболеешь от этого, что ли? Ну да, конечно, заболеешь! Будь ты проклята, я вырву тебя из стены с корнем. Разобью твою самодовольную черную морду на мелкие кусочки. Пропади ты пропадом!
Нет, нет, нет. Так не годится. Нужно думать о чем-нибудь другом. Вот что я сделаю. Унесу часы в другую комнату, чтобы не смотреть на них. Если нужно будет посмотреть, тогда придется пойти в спальню, а это уже какое-то дело. Может быть, он позвонит мне прежде, чем я снова посмотрю на часы. Если он мне позвонит, я постараюсь быть с ним такой хорошей. Если он скажет, что не может со мной сегодня увидеться, я скажу: «Ну, ничего, дорогой. Ну, конечно, ничего, все в порядке». Я буду такой же, как тогда, когда мы только что познакомились. Может быть, я ему снова понравлюсь. Я была такой хорошей вначале. О, это так просто, быть хорошей с мужчиной, пока ты в него не влюбилась.
Мне кажется, я ему еще немножко нравлюсь. Если бы я ему совсем не нравилась, он не мог бы дважды назвать меня сегодня «дорогой». А если я ему еще немножко нравлюсь, значит не все кончено. Даже если совсем, совсем немножко. Понимаешь, боже, если ты сделаешь так, что он мне позвонит, я больше тебя ни о чем просить не стану. Я буду с ним хорошей, я буду веселой, я снова стану с ним такой, какой была вначале, и тогда он снова меня полюбит. И уж я тебя никогда ни о чем больше просить не стану. Ты понимаешь, боже? Ну почему бы тебе не сделать так, чтобы он мне позвонил? Умоляю тебя, умоляю.
Может, ты наказываешь меня за то, что я поступила дурно? Может, ты сердишься на меня за это? Но, господи, ведь плохих людей так много — ты не можешь быть жестоким только ко мне. И это ведь не так плохо. Не может это быть плохо. Мы ведь никому не причинили зла, боже. Плохо то, что причиняет людям боль. А мы не сделали больно ни единой живой душе. Ты это знаешь. Ты знаешь, что в этом не было ничего дурного. Так неужели ты не сделаешь так, чтобы он мне сейчас позвонил?
Если он мне не позвонит, я буду знать, что бог на меня сердится. Я сосчитаю до пятисот, и, если он мне и тогда не позвонит, я буду знать, что никогда, никогда больше бог мне не поможет. И все будет ясно. Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять… Это было дурно. Я знала, что это дурно. Хорошо, пошли меня в ад, боже. Ты думаешь, я боюсь твоего ада? Ты думаешь, твой ад хуже моего?
Хватит. Нужно это прекратить. Ну пусть он немного опоздал позвонить мне — есть из-за чего сходить с ума! Может, он и не собирается звонить — может, он придет без звонка. Увидит, что я плакала, и рассердится. Мужчины не любят, когда мы плачем. Он никогда не плачет. Ах, как бы я хотела довести его до слез. Я бы хотела довести его до слез, и чтоб он все ходил взад-вперед по комнате, и чтоб сердце у него болело и ныло и все надрывалось внутри. Как бы мне хотелось причинить ему невыносимую боль. Он мне этого не желает. Мне кажется, он даже не знает, какие я из-за него терплю мучения. Как бы мне хотелось, чтобы он узнал об этом, но только не от меня. Мужчины не любят, когда мы им говорим, что они довели нас до слез. Они не любят, когда мы им говорим, что мы из-за них несчастны. Если мы им это говорим, они считают, что мы слишком требовательны и эгоистичны. И начинают нас ненавидеть. Они всегда ненавидят нас, когда мы говорим им то, что на самом деле думаем. Нам все время надо притворяться. А я-то думала, что нам с ним незачем притворяться. Я думала, у нас такое большое чувство, что я могу говорить с ним искренне. Нет, оказывается, этого никогда нельзя делать. Видно, не бывает такой любви, когда можно говорить все. О, если бы он только позвонил, я бы не стала ему говорить, как я тоскую по нем. Мужчины не любят, когда по ним тоскуют. Я постараюсь быть такой хорошей, такой веселой, что снова понравлюсь ему. Непременно. Пусть он только позвонит. Пусть только позвонит.
А может быть, вот что: может, он уже идет сюда без звонка? Может, он уже в пути? Что-нибудь могло с ним случиться. Нет, с ним никогда ничего не может случиться. Не могу себе представить, чтобы с ним что-нибудь случилось. Не могу себе представить, что он может попасть под автомобиль. Не могу себе представить, что он лежит неподвижный, застывший, мертвый. О, я хотела бы, чтобы он умер. Как ужасно этого желать. Как приятно этого желать. Если бы он умер, он был бы моим. Если бы он умер, я никогда бы не вспоминала сегодняшний вечер, никогда бы не вспоминала все эти последние дни. Я бы вспоминала только приятные минуты. Все казалось бы таким прекрасным. Я хочу, чтобы он умер. Я хочу, чтобы он умер, умер, умер.
Это глупо. Глупо желать людям смерти только потому, что они не бросаются вам звонить, как только пообещали. Возможно, часы спешат. Я же не знаю, насколько правильно они идут. Может, он вовсе даже не опаздывает. Мало ли что могло его немного задержать. Может, он все еще на работе. А может, он пошел домой, чтобы позвонить мне оттуда и в эту минуту к нему кто-нибудь зашел. Он не любит звонить мне при посторонних. Может, он даже нервничает, немного, чуть-чуть нервничает, что заставляет меня ждать. Может, он даже ждет, что я сама ему позвоню. Я могу это сделать. Могу сама ему позвонить.
Я не должна этого делать. Не должна, не должна. Господи, удержи меня, чтобы я ему не звонила. Прошу тебя, удержи меня от этого. Я знаю, боже, так же хорошо, как ты, что, если бы он беспокоился обо мне, он бы мне позвонил, где бы он ни находился и сколько бы ни было рядом людей. Прошу тебя, вразуми меня, боже! Я не прошу тебя облегчить мне боль, это тебе не по силам, хоть ты и создал мир. Только вразуми меня, господи. Не дай мне успокаивать себя надеждой. Не позволяй мне говорить себе пустые слова в утешение. Прошу тебя, не позволяй мне надеяться, милый боже. Прошу тебя, не позволяй.
Я не буду ему звонить. Никогда, покуда жива, не буду ему больше звонить. Он успеет сгореть в аду, прежде чем я ему позвоню. И я не прошу тебя придать мне силы, боже. У меня хватит сил. Если бы он хотел меня видеть, он бы меня нашел. Он знает, где я живу. Он знает, что я жду его. Он так во мне уверен, так уверен. Почему мужчины, едва поверят в наше чувство, начинают нас презирать? Мне кажется, это так чудесно быть уверенной, что ты любима.
Так просто — взять и позвонить ему. Тогда бы я все узнала. Может, это не так уж и глупо. Может, он и не рассердится вовсе. Может, ему будет даже приятно. Может, он и сам уже пытался позвонить мне. Бывает, что кто-то тебе звонит, звонит по телефону, а ему говорят, что номер не отвечает. Это я не для того, чтобы утешить себя. Это на самом деле бывает. Боже, ты ведь знаешь, что так бывает. О боже, не подпускай меня к телефону. Не подпускай. Дай мне сохранить хоть каплю гордости. Она мне так нужна! Кажется, это единственное, что у меня остается.
Ну что такое гордость, если я не могу жить, не поговорив с ним? Такая гордость — глупая, ничтожная, мелочная. Настоящая истинная гордость в том, чтобы совсем не иметь гордости. Я говорю это не потому, что хочу позвонить ему. Нет. Это правда, я знаю, что это правда. Я хочу быть выше этого. Я хочу быть выше этого глупого мелкого чувства гордости.
Прошу тебя, боже, не позволяй мне звонить ему. Прошу тебя, не позволяй.
Не понимаю, при чем тут гордость? Это же такой пустяк! Зачем мне примешивать сюда гордость, зачем делать по этому поводу столько шуму? Возможно, я не поняла его. Возможно, он сказал, чтобы я ему позвонила в пять. «Позвони мне в пять, дорогая». Он прекрасно мог мне это сказать. Вполне возможно, что я его не расслышала. «Позвони мне в пять, дорогая». Я почти уверена, что он именно так и сказал. Боже, не позволяй мне говорить себе такие вещи. Вразуми меня, боже, вразуми.
Буду думать о чем-нибудь другом. Просто посижу спокойно. Если я выдержу. Если я выдержу. Может, я смогу почитать? Ах, все книги написаны о людях, которые любят друг друга преданно и нежно. Зачем они пишут об этом? Разве они не знают, что все это ложь, пустая ложь? Зачем же они все это пишут, ведь они знают, какую боль причиняет любовь? А будь они прокляты, прокляты, прокляты.
Я больше не буду так. Надо успокоиться. Чего я так волнуюсь? Ну, рассуди сама. Предположим, это просто какой-то знакомый. Предположим — какая-нибудь девушка. Тогда я звоню ей и спрашиваю: «Ну, что там с тобой стряслось?» Вот что бы я сказала и не придала бы этому никакого значения. Так неужели только из-за того, что я его люблю, я не могу держать себя непринужденно и естественно? Могу. Честное слово, могу. Я позвоню ему и буду разговаривать просто и весело. Вот увидишь, боже. О, не позволяй мне звонить ему. Не позволяй, не позволяй.
Боже, неужели ты в самом деле не сделаешь так, чтобы он мне позвонил? Неужели, боже? Неужели ты не сжалишься надо мной? Неужели? Я ведь не прошу тебя, чтобы он мне позвонил сию же минуту, нет, пусть он позвонит мне хоть немного погодя. Я буду считать до пятисот, медленно и без обмана. И если он за это время не позвонит, я позвоню ему сама. Позвоню во что бы то ни стало. Ну, пожалуйста, милый боже, милый добрый боже, отец наш небесный, пусть он позвонит мне прежде, чем я сосчитаю до пятисот. Прошу тебя. Пожалуйста.
Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять…
ВОТ И ВСЕ!
Молодой человек в новом синем костюме кончил устанавливать новенькие блестящие чемоданы в тесном купе пульмановского вагона. Поезд подбрасывало на поворотах, и он, раскачиваясь, мчался вперед, так что только чудом можно было сохранить равновесие, и удавалось это в весьма редких случаях; молодой человек с сосредоточенным видом подталкивал чемоданы, поднимал, переставлял и передвигал их с места на место.
Однако восемь минут — не маленький срок для того, чтобы установить два чемодана и картонку для шляп.
Откинувшись на жесткий зеленый плюш дивана, молодой человек уселся напротив девушки, одетой во все бежевое; вид у девушки был свежий, как у только что очищенного яйца. Ее шляпа, костюм, мех и перчатки топорщились и блестели новизной. К тонкой скользкой подошве ее бежевой туфли была приклеена продолговатая белая бумажка, с ценой, уплаченной за эту туфлю и ее пару, и названием магазина, где они были приобретены.
Девушка не отрываясь смотрела в окно вагона, упиваясь мелькавшими мимо огромными выцветшими рекламами, превозносившими такие из ряда вон выходящие явления, как треска без костей или металлические жалюзи, которые не могла разрушить никакая ржавчина. Когда молодой человек сел на диван, девушка вежливо отвернулась от окна, встретила его взгляд, изобразила на своем лице нечто вроде полуулыбки и уставилась поверх правого плеча молодого человека.
— Ну вот! — сказал молодой человек.
— Ну вот, — сказала девушка.
— Ну вот, — сказал он, — вот и все!
— Вот и все, — сказала она. — А разве нет?
— Я и говорю, что все, — сказал он. — Раз, два — и готово.
— Ну вот! — сказала она.
— Ну вот! — сказал он. — Как тебе нравится положение старой замужней леди?
— О, еще слишком рано меня об этом спрашивать. По крайней мере… Я хочу сказать… То есть мне кажется, господи, ведь мы женаты всего около трех часов, правда?
Молодой человек стал так пристально изучать свои ручные часы, словно только учился узнавать время.
— Мы уже женаты, — сказал он, — ровно два часа и двадцать шесть минут.
— Неужели, — сказала она. — А мне показалось, что гораздо больше.
— Нет, — сказал он. — Еще нет и половины седьмого.
— А кажется позднее, — сказала она, — наверное, это потому, что теперь так рано темнеет.
— Да, видимо, поэтому, — сказал он, — теперь ночи будут довольно длинные. То есть я хочу сказать… Я хочу сказать, что теперь рано темнеет.
— Я совсем потеряла представление о времени, — сказала она. — Все так перепуталось, я вроде даже не знаю, где я и что со мной. Возвращение из церкви, и потом все эти люди и это переодевание с головы до ног, и потом, когда все осыпали нас серпантином и всякое такое. Господи, я понять не могу, как люди это каждый день делают.
— Что делают? — спросил он.
— Женятся, — сказала она. — Представь себе, сколько людей на свете женятся так, словно это пустяк какой. Китайцы и все остальные, словно это ничего не значит.
— Ну, что нам беспокоиться обо всех людях на свете, — сказал он. — Нечего нам думать обо всех этих китайцах. Давай подумаем о более приятных вещах. То есть я хочу сказать… Я хочу сказать… Ну, какое нам до них дело?
— Ты прав, — сказала она. — Но я почему-то подумала о них, обо всех этих людях — всюду, везде, — которые совершают это ежеминутно. То есть, ты понимаешь, я хочу сказать, что они женятся. А это… ну, это ведь настолько серьезный шаг, что даже как-то не по себе делается. Только представь их себе, всех этих людей, которые идут на это так просто, словно в этом нет ничего особенного. А как можно знать, что потом случится?
— Это их забота, — сказал он, — а не наша. Мы-то с тобой прекрасно, черт возьми, знаем, что у нас будет дальше. То есть… Я хочу сказать… ну, мы с тобой знаем, что все будет великолепно. Мы-то знаем, что будем счастливы. Ведь так?
— О, разумеется, — сказала она. — Но ты только представь себе всех этих людей, и тебе волей-неволей придется о них задуматься. И становится не по себе. У большинства людей, которые женятся, не так-то уж счастливо все оборачивается. А ведь они, вероятно, тоже думали, что все будет великолепно.
— А, брось, — сказал он, — разве можно с такими мыслями начинать медовый месяц. Ведь мы благополучно поженились и все сделано. То есть, я хочу сказать… свадьба позади и все остальное.
— И все было очень мило, не правда ли? — сказала она. — Тебе действительно понравилась моя фата?
— Ты выглядела великолепно, — сказал он, — просто великолепно.
— О, я ужасно рада, — сказала она. — Элли и Луиза были прелестны, правда? Я ужасно рада, что они в конце концов выбрали розовый цвет. Они выглядели просто очаровательно.
— Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать. Когда я там стоял, в этой старой церкви, и ждал твоего выхода и когда я увидел этих двух твоих подружек, я подумал про себя, я подумал: «Вот уж не ожидал, что Луиза может так выглядеть. Да ведь она просто всех перещеголяла».
— Неужели? — сказала она. — Право, смешно. Конечно, все нашли ее платье и шляпку прелестными, но многим показалось, что она выглядит несколько утомленной. В последнее время многие это замечали. Я еще им говорила, что, по-моему, это ужасно нехорошо так о ней сплетничать. Должны же они понимать, что Луиза уже далеко не первой молодости, и нечего удивляться, что она так выглядит. Луиза может сколько хочет уверять, что ей двадцать три, на самом деле ей уже все двадцать семь.
— Что ж, но на свадьбе Луиза была прямо хоть куда, — сказал он. — Ничего не скажешь!
— Я ужасно рада, что ты так считаешь, — сказала она. — Хорошо, что хоть один человек так думает. А как ты нашел Элли?
— По правде говоря, я даже не взглянул на нее, — сказал он.
— Неужели? — сказала она. — Ну, знаешь ли, это уж слишком. Мне, конечно, не следует говорить так о моей собственной сестре, но я должна сказать, что Элли сегодня выглядела на редкость хорошо. И при этом она всегда такая милая, такая добрая. А ты на нее даже не взглянул. Впрочем, ты никогда особенно не обращал на нее внимания. Не думай, что я этого не замечала. Меня ужасно огорчает, что тебе не нравится моя родная сестра.
— Но ведь она мне нравится, — сказал он.
— Не воображай, что это как-то задевает Элли, — сказала она. — У нее вполне хватает поклонников. Ей решительно все равно, нравится она тебе или нет. Не воображай, что она придает этому значение. Плохо только одно: мне ужасно тяжело, что ты ее не любишь, — только в этом дело. Меня ужасно мучает мысль, что, когда мы вернемся и поселимся в нашей квартире и все прочее, тебе будет неприятно, что меня навещает моя родная сестра. Мысль, что тебе всегда будет неприятно присутствие моих родственников, будет омрачать мне жизнь. Я знаю, как ты относишься к моим родственникам. Не думай, будто я этого не заметила. Но только, если ты не захочешь их видеть, тебе же будет хуже. Не им. Не обольщайся на этот счет.
— Да погоди, — сказал он. — С чего ты взяла, будто я не хочу видеть твоих родственников? Ты же знаешь, как я отношусь к ним. Я нахожу твою старушку… твою мать просто очаровательной. И Элли тоже. И твоего отца. С чего ты взяла?
— Ну, положим, я сама видела, — сказала она. — Можешь не сомневаться. Люди вступают в брак и думают, что все будет прекрасно и тому подобное, а потом все разваливается из-за того, что мужья ненавидят родственников жены и наоборот, или еще что-нибудь в этом роде. И не убеждай меня. Я сама видела, как это происходит.
— Милая, — сказал он, — ну зачем все это? Из-за чего ты так рассердилась? Ну, перестань, ведь это наш медовый месяц. Почему ты хочешь поссориться? Мне кажется, ты просто немного нервничаешь.
— Я? Из — за чего мне, собственно, нервничать? То есть я хочу сказать… Я хочу сказать… Господи, я совсем не нервничаю.
— Ты ведь знаешь, — сказал он. — Часто девушки нервничают и волнуются потому, что думают о… То есть я хочу сказать… Ну, ты же сама сказала, что все сейчас как-то перепуталось и тому подобное. Но после все будет хорошо. То есть я хочу сказать… Послушай, дорогая, по-моему, ты еще как-то неуютно себя здесь чувствуешь. Разве тебе не хочется снять шляпку? И давай больше никогда не будем ссориться, никогда. Ладно?
— Ах, извини, я погорячилась, — сказала она. — Мне действительно было как-то не по себе. Все так перепуталось, и потом, когда думаешь обо всех этих людях, которые женятся, и потом, что я уже не дома, а здесь, наедине с тобой. Все как-то по-другому. Это ведь нешуточное дело. Нельзя же винить человека, что ему приходят в голову разные мысли, правда? Да, давай никогда, никогда не ссориться. Не будем походить на всех этих людей. Не будем ссориться, не будем друг на друга злиться и всякое такое. Правда?
— Ну конечно, не будем, — сказал он.
— Сниму-ка я лучше эту дурацкую рухлядь с головы, — она как-то жмет. Будь добр, милый, положи ее на полку. Тебе она нравится, дорогой?
— На тебе она хорошо выглядит, — сказал он.
— Да, но она тебе действительно нравится?
— Что ж, я тебе скажу. Я знаю, что это новая мода и прочее, и, наверное, она считается великолепной. Я в этих вещах ничего не смыслю. Но мне нравятся шляпки, как твоя синяя. Вот это была шляпка!
— Правда? — сказала она. — Очень мило, очень любезно с твоей стороны. Первое, что ты мне сказал, как только посадил меня на поезд, разлучив с семьей, так это то, что тебе не нравится моя шляпка. Первое, что ты сказал своей жене, — это, что она носит безвкусные шляпки. Ну не любезно ли с твоей стороны?
— Что ты, дорогая, — сказал он, — я никогда не говорил ничего подобного. Я только сказал…
— Ты, кажется, и учитывать не желаешь, — сказала она, — что эта шляпка стоит двадцать два доллара. Двадцать два доллара! А то ужасное синее старье, от которого ты без ума, оно стоит все три доллара девяносто пять центов.
— Мне совершенно наплевать, сколько эти шляпки стоят, — сказал он, — я только сказал… я сказал, что мне нравится та синяя. Я ничего не смыслю в шляпках. Стоит мне привыкнуть к этой шляпке, и я тоже буду от нее в восторге. Просто она не похожа на твои другие шляпки. Я ничего не смыслю в новых модах. Ну что я смыслю в дамских шляпках?
— Очень плохо, — сказала она, — что ты не женился на такой, которая покупала бы себе шляпки в твоем вкусе. Шляпки не дороже трех долларов девяносто пяти центов. Почему ты, например, не женился на Луизе? Ты ведь считаешь, что она такая красивая. Тебе бы понравились ее шляпки. Почему ты на ней не женился?
— Ну перестань, дорогая, — сказал он. — Ради бога, перестань!
— Почему ты на ней не женился? — повторила она. — С тех пор как ты сел в этот вагон, ты только о ней и говоришь. Мне остается только сидеть и слушать, как ты ее расхваливаешь. Ничего себе, весьма любезно с твоей стороны сидеть со мной наедине и восторгаться Луизой. Почему ты не сделал предложение ей? Я уверена, она бы подпрыгнула от счастья. Не так-то уж часто делают ей предложения. Очень жаль, что ты на ней не женился. Я уверена, ты был бы куда более счастлив.
— Послушай, детка, — сказал он, — уж если ты заговорила об этом, то скажи, почему ты не вышла за Джо Брукса? Он, наверное, смог бы покупать тебе все двадцатидолларовые шляпки, которые бы ты только пожелала. Наверняка!
— Что ж, я, возможно, и сожалею о том, что этого не сделала, — сказала она. — Да, да, Джо Брукс не стал бы дожидаться момента, когда останется со мной наедине, чтобы поиздеваться над моим вкусом. Джо Брукс никогда бы не стал оскорблять меня. Джо Брукс всегда меня любил. Вот!
— Да, — сказал он. — Он тебя любит. Он тебя так любит, что даже не прислал тебе свадебного подарка. Вот как он тебя любит.
— Мне точно известно, — сказала она, — что он уехал по делу, а как только вернется, он подарит мне для нашей квартиры все, что мне захочется.
— Послушай, — сказал он, — я не хочу, чтобы в нашей квартире были его подарки. Пусть только подарит что-нибудь, я тут же вышвырну его подарок в окно. Вот что я думаю о твоем друге Джо Бруксе. Кстати, откуда ты знаешь, где он находится и что он собирается делать? Он что, тебе писал?
— Я полагаю, мои друзья имеют право переписываться со мной? — сказала она. — Я еще не слышала, чтобы это запрещалось законом.
— Ну а я полагаю, что не имеют, — сказал он. — Как вам это нравится! Я не позволю, чтобы мою жену забрасывал письмами какой-то захудалый коммивояжер.
— Джо Брукс совсем не захудалый коммивояжер, — заявила она. — Совсем нет! Он прекрасно зарабатывает.
— Ах, вот как? Откуда тебе это известно?
— Он мне сам это сказал.
— А, он сам тебе это сказал. Понятно. Он сам тебе это сказал.
— Ты, конечно, имеешь полное право рассуждать о Джо Бруксе, — сказала она. — Ты и твоя подружка Луиза. Ты только и твердишь все время о Луизе.
— О, ради всего святого! — взмолился он. — Какое мне дело до Луизы? Я просто считал, что она твоя подруга, вот и все. Только потому я ее и замечал.
— Да, сегодня ты замечал только ее одну, — сказала она. — И это в день нашей свадьбы! Ты же сам сказал, что когда ты стоял там в церкви, то все время думал о ней. Даже у самого алтаря, в присутствии самого господа бога! Единственно, о чем ты думал в этот момент — это о Луизе.
— Послушай, дорогая, — сказал он. — Напрасно я рассказал тебе об этом. Откуда знать, какие дурацкие мысли могут прийти в голову, когда стоишь в церкви и ждешь, пока тебя обвенчают? Я тебе это только потому и сказал, что мысли были совсем какие-то бредовые. Я думал тебя это позабавит.
— Я понимаю, — сказала она. — У меня тоже сегодня в голове все перемешалось. Я тебе уже об этом говорила. Все так необычно, и все такое. К тому же я все время думаю обо всех этих людях, которые женятся, и мы тут совсем одни, и все такое. Тут все перепутается. Только мне показалось, что, когда ты мне все время твердил о Луизе, ты делал это нарочно и мне назло.
— Я никогда ничего не делаю нарочно и назло, — сказал он, — я рассказал тебе о Луизе только потому, что хотел тебя рассмешить.
— Да, но из этого ничего не вышло, — сказала она.
— Я знаю, что нет, — сказал он. — Совсем наоборот. Детка, а нам следует смеяться. Черт возьми, ягодка моя, ведь это наш медовый месяц. За чем же дело стало?
— Сама не знаю, — сказала она. — Мы ведь всегда пререкались по всяким пустякам еще до помолвки, да и после. Но мне все казалось, что после свадьбы все пойдет по-другому, все изменится. А теперь мне как-то не по себе, и все такое. Мне как-то одиноко.
— Видишь ли, в чем дело, дорогая, — сказал он. — Мы ведь по-настоящему еще не женаты. То есть… Я хочу сказать… ну, все потом будет казаться другим. О черт возьми! Я хочу сказать, мы еще не так давно женаты.
— Это правда, — сказала она.
— Ну, теперь нам недолго осталось ждать, — сказал он. — Я хочу сказать… что мы будем в Нью-Йорке примерно минут через двадцать. Там мы сможем пообедать и сообразим, что нам делать дальше. Я хочу сказать… Чем бы ты хотела сегодня вечером заняться?
— Чем? — переспросила она.
— Я хочу сказать, может быть, тебе хочется пойти в театр или что-нибудь в этом роде?
— Нет, что ты, решай сам, — сказала она. — Мне почему-то казалось, что люди не ходят в театры или кино, когда… я хочу сказать, что мне просто необходимо написать сегодня несколько писем. Напомни мне об этом.
— Ты собираешься сегодня вечером писать письма? — спросил он.
— Видишь ли, — сказала она. — Я была ужасно невнимательна. Ведь со всеми этими волнениями и всем прочим я так и не поблагодарила милую миссис Спраг за ее ложку, а Мак-Мастерсов за их подставки для книг. Это же просто бессовестно с моей стороны. Я должна написать им сегодня же вечером.
— А когда ты кончишь писать письма, — сказал он, — я принесу тебе журнал или жареных орехов.
— Что? — спросила она.
— Я хочу сказать, мне не хотелось бы, чтобы ты скучала.
— Как будто мне может быть скучно, когда ты со мной, — сказала она, — глупенький! Разве мы не женаты? Скучно!
— О чем я сейчас подумал, — сказал он. — Я подумал, что, когда мы приедем в Нью-Йорк, мы можем сразу отправиться в отель «Балтимор». По крайней мере, оставим там наши чемоданы и можем даже пообедать в своем номере, в тишине и покое, и потом уже делать, что нам вздумается. То есть я хочу сказать… давай поедем туда прямо с вокзала.
— Да, давай, — сказала она. — Я так рада, что мы остановимся в «Балтиморе». Я просто обожаю этот отель. Те два раза, что я была в Нью-Йорке, мы всегда там останавливались, папа, мама, Элли и я. Я была просто в восторге от этого отеля. Мне там всегда так хорошо спится. Стоит мне только положить голову на подушку, я тотчас засыпаю.
— Да неужели? — сказал он.
— То есть, во всяком случае, — сказала она, — там на верхних этажах так спокойно.
— Мы можем сходить куда-нибудь завтра, а не сегодня вечером, — сказал он. — Разве это не лучше?
— Да, пожалуй, лучше, — сказала она.
Он поднялся, постоял секунду, стараясь сохранить равновесие, и сел на сиденье рядом с ней.
— Тебе действительно нужно писать эти письма сегодня? — спросил он.
— Да, пожалуй, разница невелика, напишу я их сегодня или завтра, — сказала она.
Некоторое время стояла тишина. Они были заняты друг другом.
— И мы никогда больше не будем ссориться, правда? — спросил он.
— Ни за что, — сказала она. — Никогда! Я не знаю, что со мной сегодня случилось. Как-то все смешно получилось, словно во сне каком-то, когда я принялась раздумывать обо всех этих людях, которые все время женятся. И у многих все портится из-за ссор и тому подобного. У меня все в голове перепуталось, когда я о них начала думать, Я не хочу быть такой, как они. Мы ведь не будем такими, правда?
— Конечно, не будем, — сказал он.
— Мы не будем злиться по пустякам, — сказала она. — Не будем ссориться. Теперь, когда мы поженились, все пойдет по-другому. Все будет прекрасно. Дорогой, подай мне, пожалуйста, мою шляпку. Уже пора ее надеть. Благодарю. Как мне жаль, что она тебе не нравится.
— Она мне очень нравится! — сказал он.
— Ты сказал, что не нравится. Ты сказал, что считаешь ее просто ужасной.
— Я никогда не говорил ничего подобного. Ты с ума сошла.
— Хорошо, возможно, я сошла с ума, — сказала она. — Большое тебе спасибо. Но ты именно так сказал. Это мелочь, конечно, дело совсем не в этом. Но, когда подумаешь о том, что вышла замуж за человека, который говорит, будто ты выбираешь ужасные шляпки, становится как-то не по себе. А потом еще добавляет, что ты сошла с ума.
— Ну послушай же, — сказал он. — Никто не говорил ничего подобного. Я в восторге от этой шляпки. Чем больше я на нее гляжу, тем больше она мне нравится. Она просто восхитительная.
— Раньше ты говорил другое, — сказала она.
— Милая, — сказал он. — Перестань, хорошо? Зачем ты все это снова начинаешь? Мне нравится эта чертова шляпка. То есть я хочу сказать, мне нравится твоя шляпка. Мне нравится все, что ты носишь. Что еще ты от меня хочешь?
— Я не хочу, чтобы ты говорил об этом в таком тоне, — сказала она.
— Я же сказал, что считаю ее просто восхитительной, вот и все, что я сказал.
— Ты правда так думаешь? — спросила она. — Честное слово? О, я так рада. Мне было бы неприятно, если бы тебе не нравилась моя шляпка. Это было бы… Не знаю, право, но это было бы таким плохим началом.
— Что ты, я от нее без ума, — сказал он. — Ну слава тебе господи, этот вопрос наконец улажен. Крошка моя. Овечка моя. Мы начнем по-хорошему… ведь у нас медовый месяц. Скоро мы станем с тобой настоящими мужем и женой. То есть я хочу сказать, что через несколько минут мы прибудем в Нью-Йорк, а потом поедем в отель, и тогда все уладится. То есть я хочу сказать… Послушай! Вот мы и женаты, вот и все!
— Да, вот и все! — сказала она.
СЛАВА ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ
Мистер Мардек принадлежал к числу тех людей, которые не питают любви ни к пьесам, ни к их исполнителям, что было весьма печально, ибо в жизни маленькой миссис Мардек и то и другое играло большую роль. Она вечно находилась в состоянии благоговейного восторга перед окруженными ореолом славы, независимыми, пылкими служителями муз. И всегда она с толпой почитателей совершала обряд поклонения у подножия больших публичных алтарей. Однажды, правда, когда она была еще совсем маленькой девочкой, любовь заставила ее написать письмо мисс Мод Адамс, начинавшееся так: «Дорогой Питер», — в ответ на которое она получила от мисс Мод Адамс миниатюрный наперсток с надписью: «С поцелуем от Питера Пена»[3]. (Какое это было событие!) А еще как-то раз, когда они с матерью делали праздничные покупки, рядом с ней открылась дверца лимузина и мимо нее, ну прямо рукой подать, проплыло настоящее чудо в соболях и аромате фиалок, с бронзовыми крутыми завитками, которые, казалось, звенели как бубенцы от ветра; и впоследствии она всегда готова была поклясться, что находилась на расстоянии не больше шага от самой мисс Билли Бэрк. Теперь миссис Мардек была уже три года замужем, но эти два случая остались пока ее единственными воспоминаниями о встречах с людьми, окруженными ореолом славы.
И вот обнаружилось, что мисс Нойс — новый член маленького клуба игроков в бридж, в котором состояла и миссис Мардек, — была знакома с актрисой. Да, она на самом деле была знакома с актрисой — так, как любой из нас знаком с собирательницами кулинарных рецептов, или членами клуба садоводов, или любительницами вышивок.
Актрису звали Лили Уинтон, — имя широко известное. Это была ослепительная женщина, высокого роста, с медленными, плавными движениями. Она часто выступала в ролях графинь, а также в роли какой-нибудь леди Пэм или в роли досточтимой Мойры. Критики постоянно называли ее «королевой нашей сцены». Из года в год миссис Мардек посещала дневные спектакли с участием Лили Уинтон, проходившие всегда с неизменным успехом. И мысль о том, что в один прекрасный день ей удастся близко познакомиться с Лили Уинтон, никогда не приходила в голову миссис Мардек, так же как… ну, скажем, так же, как мысль о том, что она вдруг станет летать!
Но ее не удивляло, что мисс Нойс была на равной ноге с такими знаменитостями. Мисс Нойс была женщиной загадочной и таинственной и могла разговаривать, не вынимая сигареты изо рта. Она всегда занималась чем-нибудь трудным, как-то: придумывала фасоны для своих пижам, читала Пруста или лепила из пластилина торсы, а кроме того, великолепно играла в бридж. Она любила маленькую миссис Мардек и называла ее «крошкой».
— Приходите завтра выпить со мной чашку чаю, крошка. Лили Уинтон тоже, вероятно, заскочит, — сказала она миссис Мардек за бриджем в тот знаменательный вечер. — Вам, наверное, будет приятно с ней познакомиться.
Слова эти так легко слетели с ее уст, что она, видимо, и не ощутила их важности. Лили Уинтон придет на чашку чаю. Миссис Мардек, возможно, будет приятно с ней познакомиться. Маленькая миссис Мардек шла домой в ранних сумерках, и звезды пели в небе.
Когда она вошла, мистер Мардек был уже дома. Стоило только взглянуть на него, как сразу становилось ясно, что звезды в тот вечер в небе вовсе не пели. Он сидел с газетой в руках, развернутой на финансовой странице, и горечь разъедала его душу. Момент был неподходящий, чтобы радостно сообщить ему о проявлении гостеприимства со стороны мисс Нойс; отнюдь не подходящий, если вы рассчитывали, что ваше сообщение будет встречено благосклонно. Мистер Мардек недолюбливал мисс Нойс. Если у него допытывались о причине, он отвечал, что она ему просто-напросто не нравится. Иногда, в порыве откровенности, которая могла вызвать даже некоторое восхищение, он добавлял, что его просто тошнит от всех женщин с подобной внешностью. Обычно, когда миссис Мардек рассказывала ему эпизоды из повседневной деятельности клуба игроков в бридж, она старалась не упоминать имя мисс Нойс. Она заметила, что в таких случаях у мистера Мардека меньше портилось настроение. Но сейчас голова ее настолько закружилась от восторга, что, едва поцеловав мужа, она уже принялась рассказывать ему обо всем.
— Ах, Джим! — воскликнула она. — Что бы ты думал! Хэлли Нойс пригласила меня завтра на чашку чаю, чтобы познакомить с Лили Уинтон!
— Кто такая Лили Уинтон? — осведомился мистер Мардек.
— Ах, Джим! Неужели ты не знаешь, Джим, кто такая Лили Уинтон? Может, ты спросишь, кто такая Грета Гарбо?
— Актриса или что-нибудь в этом роде?
Плечи миссис Мардек поникли.
— Да, Джим, — сказала она. — Да, Лили Уинтон актриса.
Миссис Мардек взяла свою сумочку и медленно направилась к двери. Но она не сделала и трех шагов, как восторг снова охватил ее и поднял над землей. Она повернулась к мужу, глаза ее засияли.
— Право, — сказала она, — это вышло удивительно смешно. Только мы закончили последний роббер, — о, забыла тебе сказать, я выиграла три доллара, для меня это неплохо, правда? — как вдруг Хэлли Нойс говорит мне: «Приходите завтра на чашку чаю. Лили Уинтон тоже собирается заскочить». Именно так и сказала. Словно речь шла о простой смертной.
— «Заскочить?» — спросил он. — Как это можно «заскочить»?..
— Честно говоря, я даже не помню, что я ей ответила, — сказала миссис Мардек. — Кажется, я ответила, что с большим удовольствием. Думаю, что так. Но я была просто… Ну, ты знаешь, как я всегда относилась к Лили Уинтон. Еще девчонкой, я собирала все ее фотографии. И я видела ее в… о, чуть ли не во всех ее ролях и читала решительно все, что о ней писали, — и все интервью, и все прочее. Право же, когда я думаю, что познакомлюсь с ней… о, я просто умереть готова. Ну что я могу ей сказать?
— Ты можешь спросить ее, не хочет ли она теперь для разнообразия «выскочить», — заметил мистер Мардек.
— Ну ладно, Джим, — сказала миссис Мардек, — хочешь издеваться — издевайся.
Усталой походкой она направилась к двери и на этот раз дошла до нее, и только тогда обернулась. Глаза ее больше не сияли.
— Это… это ужасно бессовестно, — сказала она, — испортить другому удовольствие. Я была так взволнована. Ты не представляешь, что для меня значит познакомиться с Лили Уинтон. Встретиться с кем-нибудь из таких людей, посмотреть, что они из себя представляют, послушать, о чем они говорят, и, может быть, постичь их душу. Такие люди кажутся мне… ну, кажутся мне какими-то особенными. Они не такие, как все. Не такие, как я. С кем доводилось мне встречаться? С кем разговаривать? Всю жизнь хотелось мне познакомиться… я чуть не молилась, чтобы когда-нибудь встретить… Ну ладно, Джим, не будем об этом говорить.
Она вышла из комнаты и направилась в спальню.
Мистер Мардек остался наедине со своей газетой и со своим раздражением. Тем не менее он произнес вслух:
— «Заскочить»! Черт побери, «заскочить»!
За обедом царило если не гробовое молчание, то, во всяком случае, подчеркнутая тишина.
В неподвижной позе мистера Мардека было что-то напряженное; но маленькая миссис Мардек молчала просто потому, что мысли ее витали где-то далеко-далеко, в приятных мечтах. Резкие слова, которые она наговорила мужу, были позабыты, волнения и разочарования остались позади. Она с наивной непосредственностью упивалась видениями будущего, и ей казалось, что она слышит свой голос…
— На днях у Хэлли я видела Лили Уинтон, и она подробно рассказывала мне про свою новую роль; нет, мне ужасно жаль, но это секрет, я обещала ей никому не говорить название пьесы… Лили Уинтон заскочила вчера на чашку чаю, и мы с ней немного поболтали, и она рассказала мне интереснейшие случаи из своей жизни; она никак не думала, что будет кому-нибудь о них рассказывать… О, я бы с радостью пришла к вам, но я обещала пообедать с Лили Уинтон… Я получила от Лили Уинтон длинное-предлинное письмо… Сегодня утром мне позвонила Лили Уинтон… Когда у меня плохое настроение, стоит мне забежать к Лили Уинтон, поговорить с ней по душам — и все как рукой снимает. Лили Уинтон сказала мне… Лили Уинтон и я… Лили, сказала я ей…
На следующее утро, когда мистер Мардек ушел в свою контору, миссис Мардек еще лежала в постели. Такое случалось и прежде, но не часто. Сначала миссис Мардек испытывала некоторую неловкость, но потом решила, что, пожалуй, так лучше. Затем она стала обдумывать, какое выбрать платье для сегодняшнего чаепития. Она с глубокой горечью сознавала, что в ее скромном гардеробе нет наряда, подходящего для такого события, правда, такого события никогда раньше не случалось в ее жизни. Наконец, она остановила свой выбор на платье из темно-синей саржи, с гофрированными оборками из белого муслина у ворота и на рукавах. Это был ее стиль — вот все, что она могла сказать о платье, и все, что она могла сказать о себе. Синяя саржа и белая гофрированная отделка — в этом она вся.
Даже то обстоятельство, что платье шло к ней, понизило ее настроение. И платье обыкновенное, и сама она обыкновенная. Вспоминая свои вчерашние мечты, безумные надежды на близкую дружбу с Лили Уинтон, она заливалась горячей краской стыда. Сердце у нее сжималось от робости, и ей хотелось позвонить мисс Нойс и сказать, что она сильно простужена и не сможет прийти.
Обдумывая, как ей вести себя за чаем, она немного успокоилась. Она постарается не принимать участия в разговоре. Лучше промолчать, чем сказать глупость. Она будет слушать, смотреть и восторгаться и вернется домой сильной, смелой, обновленной за тот час, о котором она потом с гордостью будет вспоминать всю жизнь.
Гостиная мисс Нойс была обставлена в стиле раннего модерна. В ней было много кривых линий и острых углов, зигзагообразных предметов из алюминия и опоясывающих комнату зеркал. Все было выдержано в светло-желтых и стальных тонах. Все столы были из алюминия, а сиденья возвышались над полом не больше, чем на четверть метра. Побываешь в такой гостиной один раз и не захочешь больше, — правда, это можно сказать и о других более достойных местах.
Маленькая миссис Мардек пришла первой. Это ее обрадовало. Нет, пожалуй, следовало прийти после Лили Уинтон; нет, пожалуй, так лучше. Горничная проводила ее в гостиную, и мисс Нойс приветствовала гостью холодным тоном и теплыми словами — сочетание, которое удавалось только ей. На мисс Нойс были черные вельветовые брюки, широкий красный пояс и белая шелковая блузка с открытым воротом. К нижней губе прилипла сигарета, а глаза перед очередной затяжкой по привычке сощурились.
— Входите, входите, крошка. Входите, малютка, — сказала она. — Снимайте свой жакетик. Господи, да в этом платье вам дашь лет одиннадцать, не больше. Присаживайтесь здесь со мною рядом. Чай сейчас подадут.
Миссис Мардек присела на обширный, опасно низкий диван; она не умела откидываться на подушки и сидела выпрямившись, словно аршин проглотив. Места между ней и хозяйкой хватило бы еще на шестерых таких, как она. Мисс Нойс, положив ступню одной ноги на колено другой, развалилась на диване и смотрела на миссис Мардек.
— Я совсем разбита, — объявила мисс Нойс, — лепила до потери сознания всю ночь напролет как одержимая. Совершенно выдохлась.
— О, что же вы лепили? — воскликнула миссис Мардек.
— Да Еву, — сказала мисс Нойс. — Я всегда леплю Еву… А кого еще лепить? Вы должны как-нибудь попозировать мне, крошка. Вас будет приятно лепить. Да-а, вас будет очень приятно лепить, моя крошка.
— Но я… — сказала миссис Мардек и остановилась. — Во всяком случае, большое спасибо.
— Не пойму, где же Лили, — сказала мисс Нойс. — Она обещала прийти пораньше… Правда, она всегда обещает. Вы будете от нее в восторге, крошка. Это редкая женщина. Редкий человек. И чего только она не вынесла, через огонь и воду прошла. Боже, сколько ей пришлось пережить!
— Из-за чего? — спросила миссис Мардек.
— Из-за мужчин, — ответила мисс Нойс. — Мужчины; вечно ей попадались какие-то ничтожные. — Мисс Нойс мрачно уставилась на носок своей плоской лакированной туфли. — Куча паразитов! Все они паразиты. Бросали ее из-за первой попавшейся шлюхи.
— Но… — начала миссис Мардек. Нет, она, видимо, ослышалась. Как же так? Лили Уинтон великая актриса. Великая актриса — это всегда романтика. А романтика — это эрцгерцоги и кронпринцы, дипломаты с сединой на висках и стройные загорелые беспутные младшие сыновья пэров. Это жемчуга и изумруды, шеншеля и рубины, красные, как кровь, пролитая за них. Это — юноша мрачного вида, сидящий под заунывно жужжащим вентилятором среди полной ужасов индийской ночи и изливающий свою душу в письме к женщине, которую он видел лишь однажды. Изливающий свою исстрадавшуюся душу прежде, чем приставить к сердцу револьвер, который лежит рядом на столе. Романтика — это златокудрый поэт, чье мертвое тело, лежащее ничком, носят морские волны, в то время как в кармане у него лежит последний великий сонет к женщине с каменным сердцем. Это — отважные, прекрасные мужчины, живущие ради женщины и умирающие за женщину, посвятившую себя искусству, в чьем сердце и взоре они не находят ничего, кроме сострадания.
Куча паразитов. Ползают за шлюхами; эти последние сразу, хотя и не очень отчетливо, представились миссис Мардек в виде муравьев.
— Но… — начала маленькая миссис Мардек.
— Она отдавала им все свои деньги, — заявила мисс Нойс. — Она так всегда делала. А если не отдавала, они сами у нее забирали. Забирали все до последнего цента, а потом плевали ей в лицо. Ну теперь я ее, кажется, немного научила уму-разуму. О, звонок… Это Лили. Нет, сидите, крошка. Ваше место здесь.
Мисс Нойс поднялась и направилась к арке, которая отделяла гостиную от холла. Проходя мимо миссис Мардек, она вдруг остановилась, взяла гостью за округлый подбородок и быстро поцеловала в губы.
— Не говорите Лили, — чуть слышно шепнула она.
Миссис Мардек была озадачена.
Чего не говорить Лили? Неужели Хэлли Нойс могла подумать, что она способна выболтать Лили Уинтон странные откровения о жизни актрисы? Или она имела в виду… Но у миссис Мардек больше не было времени раздумывать. Лили Уинтон стояла на пороге.
Она стояла, опираясь одной рукой о деревянную резьбу арки, изогнув тело, в такой точно позе, как перед выходом на сцену в третьем акте ее последней пьесы, и точно так же полминуты, как там.
«Ее везде узнаешь, — подумала миссис Мардек. — О да, везде. Или по крайней мере скажешь: «Эта женщина чем-то напоминает Лили Уинтон». Ибо при дневном свете Лили Уинтон выглядела несколько иначе. Фигура ее казалась более грузной, более массивной, а лицо… — лицо было таким мясистым, что излишки свисали с широких, энергично очерченных скул. А ее глаза, эти знаменитые темные, бездонные глаза. Да, они, конечно, были темные и бездонные и лежали в складках кожи, словно в гамаках, ни к чему не привешенных, потому что вращались совершенно свободно во все стороны. И белки глаз, хорошо видные, были все в тонких алых прожилках.
«Наверное, свет рампы ужасно утомляет глаза», — подумала маленькая миссис Мардек.
Лили Уинтон, как и полагалось, была в черном атласе и соболях; длинные белые перчатки морщились у нее на запястьях, но в складках перчаток залегли тонкие полоски грязи, а на блестящем шелке платья тут и там видны были небольшие различной величины тусклые пятна. Кусочки пищи или капли питья, а может быть, и то и другое, упав откуда-то сверху, оставили следы своего временного пребывания на платье. А ее шляпа… О, ее шляпа. Это был целый романс, это была тайна, это была непонятная сладкая грусть; это была шляпа Лили Уинтон, единственная в мире, никто бы не осмелился надеть такую. Черная, с загнутыми полями, с большим мягким пером, ниспадающим на щеку и обвивающимся вокруг шеи. Волосы под шляпой переливали всеми оттенками давно не чищенной меди. Но ее шляпа, о!
— Дорогая! — вскрикнула мисс Нойс.
— Ангел! — отозвалась мисс Лили Уинтон. — Милочка!
Это был тот знаменитый голос. Грудной, нежный, полный страсти голос, «словно пурпурный бархат», — как писал кто-то. Сердце миссис Мардек затрепетало в груди.
Лили Уинтон упала на крутую грудь хозяйки и что-то пробормотала. Выглянув из-за плеча мисс Нойс, она заметила маленькую миссис Мардек.
— А это кто? — спросила она и высвободилась из объятий.
— Это моя крошка, — сказала мисс Нойс. — Миссис Мардек.
— Какая умная мордашка, — сказала Лили Уинтон. — Умная-преумная мордашка. Чем она занимается, дорогая Хэлли? Я уверена, что она что-нибудь пишет, правда? Да, я это чувствую. Она пишет прекрасные, очаровательные слова. Не так ли, дитя?
— О нет, по правде говоря, я… — сказала миссис Мардек.
— Вы должны написать для меня пьесу, — заявила Лили Уинтон. — Прекрасную, очаровательную пьесу. И я буду в ней играть и выступать по всему свету, пока совсем, совсем не состарюсь. И тогда я умру. Но меня никогда не забудут, потому что я играла в вашей прекрасной, очаровательной пьесе.
Она пересекла комнату. Шла она, слегка покачиваясь, как-то неуверенно, и, опускаясь в кресло, чуть было не села мимо, но вовремя успела сбалансировать и таким образом спасла положение.
— Написать, — сказала она, печально улыбаясь, миссис Мардек, — написать. Всего лишь маленькую вещицу, а для меня это будет такой большой подарок. О, какое счастье, но и какая мука. Какая боль.
— Но, видите ли, я… — начала маленькая миссис Мардек.
— Крошка не пишет, Лили, — сказала мисс Нойс. Она вновь возлежала на диване. — Она музейная редкость. Преданная жена своего мужа.
— Жена! — воскликнула Лили Уинтон. — Жена. Это ваше первое замужество, дитя?
— О да, — сказала миссис Мардек.
— Как трогательно. Как мило, мило, мило. Скажите мне, дитя, вы его очень, очень любите?
— Ну, я… — начала маленькая миссис Мардек и вся зарделась. — Я уже целый век замужем, — сказала она.
— Вы его любите, — сказала Лили Уинтон. — Вы его любите. И приятно с ним спать?
— О… — сказала миссис Мардек, мучительно краснея.
— Первое замужество, — сказала Лили Уинтон. — Молодость, молодость. Да, когда я была в вашем возрасте, я тоже имела обыкновение выходить замуж. О, лелейте свою любовь, дитя, берегите ее, упивайтесь ею. Смейтесь и танцуйте в лучах любви вашего мужа. Пока не обнаружите, что он на самом деле из себя представляет.
Казалось, неожиданное видение вдруг предстало перед Лили Уинтон. Плечи ее судорожно поднялись кверху, щеки надулись, глаза готовы были вылезти из орбит. С минуту она сидела в таком положении, потом постепенно все у нее вернулось в прежнее положение. Она откинулась на спинку кресла и стала нежно поглаживать себя по груди. При этом она печально качала головой. И взгляд ее, устремленный на миссис Мардек, выражал грусть и недоумение.
— Газы, — проговорила Лили Уинтон своим прославленным голосом. — Газы. Никто не знает, как я страдаю от них.
— О, мне так жаль вас, — сказала миссис Мардек. — Может быть, я могу вам чем-нибудь…
— Ничем, — сказала Лили Уинтон. — Ничем вы мне не поможете. Ничего нельзя сделать. Я испробовала все.
— Может быть, чашечку чаю? — спросила мисс Нойс. — Это помогает. — Она повернулась в сторону арки и крикнула: — Мэри! Где же, черт возьми, чай?
— Вы не представляете, — сказала Лили Уинтон, не отводя грустного взгляда от миссис Мардек, — вы не представляете себе, что значит желудочное заболевание. Никогда, никогда вам этого не понять, если, конечно, вы сами не болели желудком. Я страдаю этим уже долгие годы. Годы, годы и годы.
— Это ужасно, — сказала миссис Мардек.
— Никто не в силах понять, что это за мука, — сказала Лили Уинтон. — Что за боль.
Вошла горничная с треугольным подносом в руках. На подносе стоял гигантской величины чайный сервиз из блестящего белого фаянса. Каждый предмет этого сервиза имел восьмиугольную форму. Горничная поставила поднос на стол так, чтобы мисс Нойс могла до него дотянуться и вышла из комнаты — робко, как вошла.
— Дорогая Хэлли, — сказала Лили Уинтон, — моя дорогая. Чай… я люблю чай. Я обожаю чай. Но болезнь превращает его в моем желудке в желчь и горькую полынь. Желчь и горькую полынь. Дайте мне лучше чуточку, совсем чуточку вашего чудесного-расчудесного брэнди.
— Так ли тебе это необходимо, дорогая? — спросила мисс Нойс. — Знаешь…
— Ангел мой, — сказала Лили Уинтон. — Это единственное средство от повышенной кислотности.
— Хорошо, — сказала мисс Нойс. — Но не забудь, что у тебя сегодня спектакль. — И она закричала, снова повернувшись к арке: — Мэри! Принесите брэнди и побольше содовой, льда и все прочее.
— О нет, невинная моя, нет, нет, дорогая Хэлли. Сода и лед для меня настоящий яд. Ты что, хочешь заморозить мой несчастный больной желудок? Ты хочешь убить бедную, несчастную Лили?
— Мэри! — заорала мисс Нойс. — Принесите только брэнди и один стакан! — Она повернулась к маленькой миссис Мардек: — А вам что к чаю, крошка? Сливки? Лимон?
— Если можно, пожалуйста, сливки, — сказала миссис Мардек. — И два кусочка сахару, если можно.
— О, молодость, молодость, — сказала Лили Уинтон. — Молодость и любовь.
Вернулась горничная с восьмиугольным подносом, на котором стоял графин с брэнди и большой низкий толстого стекла стакан. От застенчивости горничная отводила глаза в сторону.
— Налейте-ка мне, дорогая, — сказала Лили Уинтон. — Благодарю. И оставьте этот миленький-премиленький графинчик здесь на этом очаровательном столике. Благодарю. Вы так добры ко мне.
Горничная в смятении исчезла. Лили Уинтон откинулась в кресле, держа в руке, затянутой в перчатку, большой толстый стакан, наполненный до самых краев коричневой жидкостью. Маленькая миссис Мардек опустила глаза в чашку, осторожно поднесла ее к губам, отхлебнула глоток и поставила чашку обратно на блюдце. Когда она подняла глаза, Лили Уинтон по-прежнему полулежала, откинувшись на спинку кресла, держа в руке, затянутой в перчатку, большой толстый стакан, — теперь он был пуст и прозрачен.
— Моя жизнь, — медленно произнесла Лили Уинтон, — сплошная грязь. Вонючая грязь. Всегда была грязь и всегда будет. Пока я не стану совсем, совсем старой. О умная мордашка, вы, писатели, и не знаете, что значит борьба за жизнь.
— Но, право, я не… — начала миссис Мардек.
— Писать, — сказала Лили Уинтон, — писать, располагать красиво одно слово подле другого! Какое счастье! Какой благословенный покой! О покой, о мир! Но, думаете, эти негодяи снимут пьесу, пока она приносит им хоть грошовый доход? О нет. Усталая, больная, я все равно должна тянуть эту волынку. О дитя, дитя, берегите свой драгоценный дар. Благодарите за него бога. Это величайшее счастье. Единственное счастье. Писать!
— Дорогая, я же объяснила тебе, что крошка ничего не пишет, — сказала мисс Нойс. — Неужели до тебя не доходит? Она жена своего мужа.
— Ах да, она ведь мне сказала. Она сказала, что пережила необыкновенную страстную любовь, — сказала Лили Уинтон. — Любовь в молодости. Это величайшее счастье. Единственное счастье. — Лили Уинтон схватила графин, и снова толстый низкий стакан стал коричневым до краев.
— Когда ты сегодня начала, дорогая? — спросила мисс Нойс.
— О, не брани меня, душечка. Лили была послушной, совсем послушной, хорошей девочкой. Я долго, долго-предолго не вставала. И, хотя меня томила жажда и внутри все горело, я выпила только после завтрака. «Это за Хэлли», — сказала я. — Она поднесла стакан ко рту, медленно опрокинула его и поставила пустой обратно.
— Ради бога, Лили, — сказала мисс Нойс. — Держи себя в руках. Ведь ты сегодня вечером играешь в театре, моя радость.
— «Весь мир — театр, — сказала Лили Уинтон, — в нем женщины, мужчины, все — актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Сперва — младенец, блюющий с ревом на руках у мамки…»
— Как пьеса? Имеет успех? — спросила мисс Нойс.
— О, отвратительно, — сказала Лили Уинтон. — Отвратительно-преотвратительно. А что не отвратительно? Что не отвратительно в этом ужасном-преужасном мире? Ну скажи. — Она потянулась за графином.
— Послушай, Лили, — сказала мисс Нойс. — Прекрати это. Слышишь?
— Пожалуйста, прелесть моя Хэлли, — сказала Лили Уинтон. — Красавица, прошу тебя. Бедная, несчастная Лили.
— Ты хочешь, чтобы я поступила так же, как прошлый раз? — спросила мисс Нойс. — Ты хочешь, чтобы я ударила тебя здесь в присутствии крошки?
Лили Уинтон величественно выпрямилась.
— Вам не понять, — ледяным тоном сказала она, — что значит кислотность. — Она наполнила стакан и подержала его, рассматривая словно в лорнет. Поведение ее вдруг изменилось, она посмотрела на маленькую миссис Мардек и улыбнулась ей.
— Вы должны дать мне ее почитать, — сказала она. — Вы не должны так скромничать.
— Почитать?.. — сказала миссис Мардек.
— Вашу пьесу, — сказала Лили Уинтон. — Вашу прекрасную, очаровательную пьесу. Не думайте, что я так уж занята. У меня всегда найдется время. У меня хватает времени на все. О боже, мне ведь надо завтра к зубному врачу. О, какую муку я пережила из-за моих зубов. Взгляните! — Она поставила на стол стакан, засунула указательный палец в перчатке за щеку и растянула ее. — Во-от! — настаивала она. — Во-от!
Миссис Мардек робко вытянула шею и мельком увидела сверкающее золото.
— Как жаль, — сказала она.
— Вот, что он мне прошлый раз сделал, — сказала Лили Уинтон. Она вытащила указательный палец, и рот ее принял прежнюю форму. — Вот что он мне прошлый раз сделал, — повторила она. — Какая мука. Какая боль. Вы не страдаете от зубной боли, умная мордашка?
— Нет, мне, кажется, страшно повезло, — сказала миссис Мардек. — Я…
— Вы не знаете, — сказала Лили Уинтон. — Никто не знает, что это значит. Вы писатели… и вы не знаете. — Она схватила стакан, вздохнула и осушила его.
— Ну что ж, — сказала мисс Нойс. — Тогда уж напивайся до бесчувствия, дорогая. До театра успеешь поспать.
— «Уснуть… — сказала Лили Уинтон, — и видеть сны». Какое счастье. О Хэлли, дорогая, дорогая Хэлли, бедная Лили так ужасно себя чувствует. Потри мне лоб, ангел мой. Помоги мне.
— Я принесу одеколон. — Мисс Нойс вышла из комнаты; мимоходом она слегка погладила миссис Мардек по плечу. Лили Уинтон откинулась в кресле и закрыла свои прославленные глаза.
— «Уснуть… — бормотала она, — и видеть сны».
— Боюсь, — начала маленькая миссис Мардек, — боюсь, мне пора домой. Я и понятия не имела, что так поздно.
— Иди, дитя, — сказала Лили Уинтон, не открывая глаз. — Иди к нему. Иди к нему, посвяти ему свою жизнь, люби его. Будь вечно с ним. Но, когда он начнет приводить их в дом, — уходи.
— Боюсь… боюсь, я не совсем вас понимаю.
— Когда он начнет приводить в дом своих шлюх, — сказала Лили Уинтон. — Тогда у вас должно хватить гордости. Вы должны уйти. Я всегда уходила. Но всегда делала это слишком поздно. Они забирали все мои деньги. Это единственное, что всем им нужно, — и мужьям и не мужьям. Они говорят, что это и есть любовь, но это не любовь. Любовь это главное. Храните свою любовь как сокровище, дитя. Идите к нему. Спите с ним. Это главное. И ваша прекрасная, очаровательная пьеса.
— Боже мой, — сказала маленькая миссис Мардек, — боюсь, что уже в самом деле ужасно поздно.
С кресла, где возлежала Лили Уинтон, донеслось в ответ мерное похрапывание. Царственный голос больше не сотрясал воздух.
Маленькая миссис Мардек подошла на цыпочках к стулу, где оставила свой жакет. Она заботливо расправила белые муслиновые оборочки на платье, чтобы они не помялись. Она испытывала нежность к своему платью. Ей хотелось его защитить. Синяя саржа и мелкое гофре — это ее собственное.
Подойдя к двери квартиры мисс Нойс, она на мгновение приостановилась, и хорошее воспитание взяло над ней верх. Набравшись смелости, она повернулась к спальне мисс Нойс и крикнула:
— До свиданья, мисс Нойс. Мне надо бежать. Я и не думала, что уже так поздно. Я очень приятно провела время и очень вам благодарна.
— А, до свиданья, крошка! — крикнула в ответ мисс Нойс. — Извините, что Лили легла бай-бай. Не обращайте на нее внимания… Право, она редкая женщина. Я вам позвоню, крошка. Я хочу повидать вас. Ну куда девался этот проклятый одеколон?
— Я очень вам благодарна, — сказала миссис Мардек и закрыла за собою дверь квартиры.
В сгущающихся сумерках маленькая миссис Мардек шла домой. Мысли ее были заняты, но она думала не о Лили Уинтон. Нет, она думала о Джиме; о Джиме, который ушел утром в свою контору, когда она еще лежала в постели, о Джиме, которого она даже не поцеловала на прощанье. Милый Джим. Таких на свете больше нет. Смешной Джим, упрямый, сердитый, молчаливый. Но это потому, что он так много знает. Потому, что он понимает, как глупо искать где-то далеко славу, красоту и романтику, когда все это здесь под рукой, дома. Как в «Синей птице», подумала маленькая миссис Мардек.
Милый Джим. Миссис Мардек остановилась и повернула к огромному магазину, где по баснословным ценам продавались самые экзотические продукты и деликатесы. Джим любит красную икру. Миссис Мардек купила банку особо приготовленных блестящих клейких яиц. Вечером они будут пить коктейли вдвоем, без гостей, и к коктейлям как сюрприз подадут красную икру; и на этой маленькой вечеринке вдвоем, без гостей, она отпразднует свое возвращение к Джиму, этой вечеринкой она отметит свой счастливый отказ от всей славы мира. Миссис Мардек купила также большую головку импортного сыра — необходимое дополнение к обеду. Заказывая в это утро обед, миссис Мардек не уделила ему должного внимания. «Ах, все, что хотите, Сигне», — сказала она служанке. Теперь ей было неприятно вспоминать об этом. С пакетами в руках она поспешила домой. Когда она вошла, мистер Мардек сидел уже с газетой, развернутой на финансовой странице. Маленькая миссис Мардек бросилась к нему, глаза ее сияли. Жаль, что когда глаза человека сияют — они только сияют и все, и никто не может угадать с одного взгляда — почему. Как узнать — сияют они при виде вас или по другой причине? Накануне вечером, когда миссис Мардек бросилась к мистеру Мардеку, глаза ее тоже сияли.
— А, здравствуй, — сказал мистер Мардек. Он снова уставился в газету и уже не отрывал от нее глаз. — Что ты делала? «Заскочила» к Хэнк Нойс?
Маленькая миссис Мардек остановилась как вкопанная.
— Ты прекрасно знаешь, Джим, что Хэлли Нойс зовут Хэлли.
— А для меня она Хэнк, — сказал он. — Хэнк или Билл. А эта, как ее там, явилась? То есть, извини, «заскочила»?
— Кого ты имеешь в виду? — с изумительным самообладанием спросила миссис Мардек.
— Ну эту, как ее там… — сказал мистер Мардек, — эту кинозвезду?
— Если ты имеешь в виду Лили Уинтон, — сказала миссис Мардек, — то она не кинозвезда Она актриса. Она знаменитая актриса.
— Ну ладно. Так она «заскочила»? — спросил он.
Плечи миссис Мардек поникли.
— Да, — сказала она, — да, Джим, она была там.
— Я полагаю, ты теперь тоже поступишь на сцену? — спросил он.
— О Джим, — сказала миссис Мардек. — О, перестань, Джим. Я совсем не жалею о том, что побывала сегодня у Хэлли Нойс. Это было… это было действительно большое событие познакомиться с Лили Уинтон. Я запомню это на всю жизнь.
— Что же такое она вытворяла? — спросил мистер Мардек. — Ходила на руках?
— Ничего подобного! — возмутилась миссис Мардек. — Если хочешь знать, она декламировала Шекспира.
— О господи, — сказал мистер Мардек, — это, наверное, было грандиозно.
— Ладно, Джим, — сказала миссис Мардек. — Хочешь издеваться — издевайся.
Усталой походкой она вышла из комнаты в холл. Приоткрыв дверь кладовой, она сказала маленькой хорошенькой служанке:
— Сигне! Добрый вечер, Сигне. Положите все эти продукты куда-нибудь. Я купила их по дороге домой. Может, они когда-нибудь пригодятся.
И маленькая миссис Мардек устало побрела к себе в спальню.
СЕРДЦЕ, МЯГКОЕ КАК ВОСК
Ни одно живое существо — будь то человек, или дикий зверь в клетке, или какое-нибудь избалованное домашнее животное — ни одно живое существо не видело миссис Лэнье иначе как в состоянии меланхолической задумчивости. Миссис Лэнье посвятила себя меланхолической задумчивости подобно тому, как другие, менее великие мастера посвящают себя краскам, мрамору или звукам. Миссис Лэнье не была творцом средней руки, — нет, это был подлинный талант. Что ни говорите, а неувядающий пример истинного жреца искусства дает нам Диккенс в образе того актера, который, чтобы сыграть Отелло, вымазался черной краской с головы до пят. Что касается миссис Лэнье, то мы можем с уверенностью предположить, что меланхолическая задумчивость не покидала ее даже тогда, когда она погружалась в ванну. Больше того: смежив веки под таинственным покровом ночи и погрузившись в легкую дремоту, миссис Лэнье и тут продолжала пребывать в меланхолической задумчивости.
Если с портретом миссис Лэнье кисти сэра Джеймса Уэйра ничего непредвиденного не произойдет, эта дама еще столетиями будет в меланхолической задумчивости глядеть с полотна.
Художник изобразил ее на портрете во весь рост и в желтом с головы до пят: изящное нагромождение локонов, элегантно-желтые, как два банана, стройные ножки с высоким подъемом, вечерний туалет, ослепительным каскадом ниспадающий с плеч… Вечерние туалеты миссис Лэнье, как правило, всегда были белого цвета, но изображать белую ткань красками на полотне, — дьявольски трудная задача, и нельзя в самом деле требовать от человека, чтобы он убил на это все полтора месяца, проведенные в Штатах. Меланхолическая задумчивость увековечена в темных глазах, которые глядят на вас с печальной мольбой, в трогательно зовущем рте, в наклоне маленькой головки на длинной нежной шее, отягощенной тремя нитками знаменитых лэньевских жемчугов. Когда портрет появился на выставке, некий критик, как известно, выразил в печати свое недоумение по поводу того, что женщина, обладающая такими жемчугами, может почему-либо пребывать в меланхолической задумчивости. Но, конечно, высказывания такого сорта объясняются только тем, что этот желтый писака продал свою бессмертную душу за несколько жалких грошей владельцу другой выставки — сиречь конкуренту. Конечно, пусть кто-нибудь попробует так изобразить жемчуг, как сделал это сэр Джеймс! Каждая его жемчужина единственная в своем роде, и все они неповторимы, подобно солдатам Мейсонье на его батальных полотнах.
После того как портрет был закончен, миссис Лэнье в течение некоторого времени носила вечерние туалеты только желтого цвета — ведь натура должна быть верна своему изображению. То были бархатные платья, напоминающие цветом густые деревенские сливки, и шелковые платья, блестящие, как лакированные лепестки лютика, и шифоновые платья, которые окутывали ее золотистой дымкой. Миссис Лэнье одевала эти платья и в смущенном изумлении выслушивала, как ее сравнивали с бледно-желтым нарциссом, или с бабочкой в солнечном луче, или еще с чем-то в том же роде. Но ее нельзя было сбить с толку.
— Это не мой цвет, — сказала она, наконец, со вздохом и возвратилась к своим белоснежным, как лепестки лилии, нарядам. У Пикассо был голубой период, а у миссис Лэнье — желтый. Однако и он и она сумели вовремя остановиться.
Днем миссис Лэнье обычно одевалась в черное. Черные прозрачные шелка благоухали, а огромные жемчужины покоились на груди, подобно каплям слез. Какому наряду отдавала предпочтение миссис Лэнье по утрам, о том знала только одна Гвени — горничная, подававшая миссис Лэнье завтрак на подносе. Но так или иначе, это, разумеется, было нечто в высшей степени изысканное. Мистер Лэнье — ведь должен был существовать и мистер Лэнье, и кому-то довелось даже его увидеть, — мистер Лэнье крадучись пробирался по утрам мимо двери миссис Лэнье, направляясь к себе в контору, и слуги ходили на цыпочках и говорили шепотом, дабы по мере сил отдалить для миссис Лэнье наступление дня с его беспощадным, резким светом. Лишь далеко за полдень, когда дневной свет смягчался и слабел, миссис Лэнье находила в себе силы подняться и встретить лицом к лицу извечные печали бытия.
Нужно было выполнять свой долг, и притом почти ежедневно, и миссис Лэнье героически заставляла себя не отступать. Нужно было садиться в машину и отправляться выбирать новые туалеты и примерять те, что были выбраны ранее. Такие туалеты, как у миссис Лэнье, не возникают сами собой — они, как всякая настоящая поэзия, требуют труда, но миссис Лэнье очень не любила покидать тихую пристань своего дома, ибо везде за его стенами было так много печального и безобразного, что это оскорбляло ее взор и терзало душу. Случалось, что она несколько минут простаивала у себя в холле перед высоким зеркалом в золоченой раме, не решаясь ступить дальше ни шагу, и лишь огромным усилием воли заставляла себя, наконец, набраться мужества и перешагнуть порог.
Нежных сердцем всюду подстерегает опасность, сколь бы ни были невинны их намерения и прям путь. Бывало не раз, что перед самым подъездом ателье портного, или белошвейки, или модистки, или меховщика, у которых одевалась миссис Лэнье, расхаживала кучка исхудалых женщин и тщедушных оборванных мужчин с плакатами в окоченевших руках. Неторопливым, размеренным шагом они ходили по улице туда и сюда, туда и сюда. У них были обветренные посиневшие от холода лица, утратившие всякое выражение от тоскливой однообразности их вынужденного шагания взад-вперед. Они казались такими нищими, заморенными, измученными, что миссис Лэнье невольно подносила руки к груди, и сердце ее сжималось от жалости. Сострадание светилось в ее глазах, а нежный полуоткрытый рот, казалось, шептал слова участия, когда она проходила сквозь строй этих несчастных и исчезала в ателье.
Нередко бывало и так, что на ее пути попадался калека, торгующий карандашами, — уродливая половинка человека на низенькой тележке, передвигающаяся по тротуару с помощью рук, — или слепец, еле волочащий ноги, нащупывающий дорогу — палкой, зажатой в трясущейся руке. В этих случаях миссис Лэнье вынуждена была остановиться и слегка отпрянуть назад, закрыв глаза и держась одной рукой за горло, как бы для того, чтобы ее прелестная головка не поникла под грузом невыносимой печали. А затем вы могли воочию убедиться в том, как мужественно берет она себя в руки. Сделав нечеловеческое усилие, от которого напрягалось все ее тело, она заставляла себя открыть глаза и одаряла этих несчастных — и зрячих и слепых равно — улыбкой столь нежной и грустной, столь проникновенно сочувственной, что она западала в душу вместе с изысканным и печальным ароматом гиацинтов. А порой — если нищий был не слишком гадок с виду — миссис Лэнье могла даже порыться в кошельке, дабы извлечь оттуда монетку и, изящно держа ее пальцами, славно серебристую головку цветка, только что сорванную со стебля, протянуть вперед тонкую руку и уронить монетку в шапку калеки. Если калека был молод и еще неопытен в своем ремесле, он предлагал миссис Лэнье за ее монетку карандаш. Но ведь миссис Лэнье просто творила добро, а карандаш ей был ни к чему. С неподражаемой деликатностью она ускользала от благодарности нищего, оставляя его жалкий товар нетронутым, а его самого — уже не просто бедняком, зарабатывающим свой хлеб чем придется, как миллионы ему подобных, а существом особого сорта, на которого повеяло духом высокого милосердия и благотворительности.
Вот что происходило, когда миссис Лэнье покидала свой дом. Ну просто на каждом шагу она натыкалась на этих несчастных — оборванных, отчаявшихся, погибших — и каждого одаряла взглядом, который был выразительней слов.
«Не падай духом, — говорил этот взгляд. — И пожелай… О, пожелай и мне того же!»
Нередко миссис Лэнье возвращалась домой совершенно обессиленная, поникнув, как лилия, и горничная Гвени умоляла ее прилечь отдохнуть, чтобы у нее хватило сил сменить костюм на что-нибудь паутинообразное и спуститься в гостиную. Миссис Лэнье спускалась вниз, и глаза ее были темны от невысказанной печали, но бесподобные груди высоко подтянуты.
Гостиная миссис Лэнье была ее святилищем. Здесь сердце миссис Лэнье справлялось от ударов, полученных в жестоком мире за стенами особняка, и могло предаваться целиком своей личной печали. Эта комната, казалось, парила в облаках над повседневностью. Присутствие газеты или книги, кои могли поведать или напомнить о чем-то неприятном, ни разу не оскорбило здесь нежнейших драпировок и бледных цветочных лепестков. Внизу, за огромным окном, вилась река, и по ней проплывали величественные шаланды с каким-то странным грузом, живописно-пестрым, как ковер. На шаландах везли отбросы, но никто не обязан был это знать, а тем более посвящать в это других. Как раз напротив окна находился остров, носивший приятное, звучное название. На нем, вытянувшись в ряд, стояли строгие, аккуратные здания, наивной простотой своих линий напоминавшие картины Руссо. Порой там можно было увидеть проворные фигуры сиделок и молодых врачей, игравших в мяч на площадке за живой изгородью. Возможно, что за окнами с чугунными решетками можно было увидеть другие, менее оживленные фигуры, но в присутствии миссис Лэнье не подобало этим интересоваться. Все, кто появлялся в гостиной, вступали сюда с единственной целью — защитить ее сердце от всего, что могло его ранить.
Здесь, в этой комнате, в голубоватых сумерках миссис Лэнье, опустившись на опаловый диван, являла собой олицетворение меланхолической задумчивости. И сюда, в эту гостиную, приходили молодые люди и старались помочь ей нести бремя жизни.
Посещения молодых людей протекали по строго установленному порядку. Молодые люди появлялись небольшими группами от трех до шести человек, и так продолжалось в течение некоторого времени. Затем из группы выделялся один молодой человек, который немного задерживался в гостиной, после того как остальные ее покидали, а в следующий раз появлялся в ней уже несколько раньше других. Потом наступали дни, когда миссис Лэнье не было дома для всех остальных молодых людей, и только один молодой человек оставался с ней с глазу на глаз в восхитительно голубых сумерках. А еще через несколько дней, когда бы этот молодой человек ни явился, миссис Лэнье, как на грех, никогда не было дома, и сколько бы он ни звонил по телефону, Гвени снова и снова отвечала ему, что миссис Лэнье уехала, что миссис Лэнье больна, что миссис Лэнье нельзя беспокоить. Снова появлялись молодые люди небольшими группами, но молодого человека, который приходил один, уже не было среди них. Зато вместе с ними приходил другой молодой человек, который вскоре начинал уходить несколько позже, а приходить несколько раньше остальных молодых людей, а потом принимался докучать Гвени по телефону.
Гвени (ее овдовевшая мать окрестила ее Гвендолой и тут же скончалась, осознав, как видно, что больше ни одна ее мечта не сбудется) была маленькая, крепко сбитая и неприметная. Она выросла на ферме, где-то в северной части штата, в семье своего дяди и тетки, людей суровых и жестких, как земля, с которой они сражались, чтобы уцелеть. Когда они умерли, она осталась одна на белом свете. Она приехала в Нью-Йорк, зная понаслышке, что тут можно найти работу. Как раз в этот момент кухарке миссис Лэнье понадобилась судомойка. Так случилось, что свое сокровище миссис Лэнье обрела в своем собственном доме.
В маленьких, твердых крестьянских пальцах Гвени игла клала не различимые глазом стежки, утюг превращался в жезл волшебника, а когда Гвени одевала миссис Лэнье или расчесывала ей волосы, прикосновение ее пальцев было нежней самого легкого ветерка. Она трудилась весь день напролет — а ее трудовой день нередко простирался от зари до зари, — и никогда не казалась ни усталой, ни опечаленной, всегда была весела, ничем не проявляя своего веселья. Словом, вид ее не мог растрогать чувствительного сердца, и ее присутствие не доставляло ни малейших неудобств.
Миссис Лэнье часто говорила, что она абсолютно не знает, что бы она стала делать без своей маленькой Гвени. Если маленькая Гвени когда-нибудь покинет ее, говорила миссис Лэнье, она просто этого не перенесет. И, говоря так, она казалась столь хрупкой, потерянной и беспомощной, что гости бросали на Гвени хмурые взгляды, испуганные скрытой в этой девушке возможностью умереть или выйти замуж. Впрочем, Гвени пока не давала никаких оснований для беспокойства, ибо была вынослива, как молодая лошадка, и не имела возлюбленного. Она не обзаводилась друзьями и, по-видимому, не чувствовала в этом нужды. Ее жизнь была посвящена миссис Лэнье, и, как все, кто был близок к этой даме, она старалась по мере сил оградить ее от страданий.
Этих соединенных усилий хватало на то, чтобы изгладить из сердца миссис Лэнье следы тягостных впечатлений, полученных извне, но глубоко личную печаль этой дамы утолить было куда труднее. Такая безграничная, затаенная тоска жила в ее сердце, что нередко проходили дни за днями, прежде чем миссис Лэнье находила в себе силы поделиться в голубых сумерках своей печалью с новым молодым человеком.
— Если бы только я могла иметь маленького ребеночка, — со вздохом говорила миссис Лэнье, — я, наверное, была бы почти совсем счастлива. — И она складывала у груди свои нежные руки и медленно, грациозно покачивала ими, словно убаюкивая малютку — драгоценное сокровище ее грез. А потом — несчастная Мадонна без дитяти! — она погружалась в столь меланхолическую задумчивость, что молодой человек готов был по ее приказу жить или умереть.
Миссис Лэнье никогда не говорила о том, почему это ее желание остается неосуществленным. Молодой человек должен был понимать, что она слишком деликатна, чтобы кого-то винить, и слишком горда, чтобы говорить об этом. И, конечно, находясь в столь тесной близости к миссис Лэнье в бледно-голубом сумеречном свете, молодой человек не мог не понять недосказанного, и кровь его закипала от ярости при мысли о том, что никто не отправил еще на тот свет этого олуха — мистера Лэнье. Молодой человек принимался молить миссис Лэнье — сперва сдавленным шепотом, затем громко и горячо — позволить вырвать ее из этого ада и попытаться сделать почти совсем счастливой. Вот после этого и наступали дни, когда миссис Лэнье больше не было дома для этого молодого человека, или она была больна, или ее нельзя было беспокоить.
Гвени никогда не входила в гостиную, если там находился только один молодой человек. Но, когда молодые люди снова появлялись небольшой группой, она неслышно и незаметно прислуживала им — задергивала портьеры, меняла бокалы. Все слуги миссис Лэнье ступали неслышно, прислуживали незаметно и обладали корректной, ничем не примечательной внешностью. Когда приходилось сменить кого-либо из слуг, Гвени вместе с экономом производила эту замену, не доводя ее до сведения миссис Лэнье, дабы не огорчать ее повестью черной неблагодарности или горя. Новые слуги всегда походили на старых, ибо точно так же умели не бросаться в глаза. Так было до тех пор, пока не появился Кейн, новый шофер.
Старого шофера пришлось сменить, потому что он был старым шофером слишком долго. Для нежного сердца невыносимо тяжело наблюдать, как день ото дня все глубже залегают морщины на знакомом лице, все более заостряется знакомый нос и горбится знакомая спина, все тоньше становится знакомая шея, торчащая из ставшего просторным ворота. Старый шофер и видел, и слышал, и исполнял свои обязанности ничуть не хуже, чем прежде, но миссис Лэнье была просто не в силах наблюдать происходящую в нем перемену. В голосе ее звучала подлинная мука, когда она сказала Гвени, что не в состоянии больше его видеть. И старый шофер ушел, а на его место пришел Кейн.
Кейн был молод, и тому, кто находился позади него в автомобиле, приятно было смотреть на его прямые плечи и круглую крепкую шею. Форма сидела как литая на его ладной широкоплечей, узкобедрой фигуре, когда он стоял, распахнув перед миссис Лэнье дверцу автомобиля. Кейн слегка наклонял голову, когда миссис Лэнье проходила мимо него и садилась в машину, но обычно он держал голову высоко и даже чуть-чуть набок, а на его ярких губах играла едва приметная вызывающая усмешка.
Не раз, в ненастные дни, когда машина ждала у подъезда, человеколюбивая миссис Лэнье говорила Гвени, чтобы она позвала Кейна на кухню обогреться. Гвени подавала ему чашку кофе и смотрела на него, пока он пил. Дважды она не услышала призыва эмалированного электрического звонка миссис Лэнье.
Гвени начала пользоваться своим правом уходить из дому по вечерам. Прежде она никогда этого не делала и из вечера в вечер прислуживала миссис Лэнье. Как-то раз миссис Лэнье, возвратясь из театра и поднявшись за полночь к себе в спальню после довольно продолжительной беседы приглушенным голосом в гостиной, не обнаружила Гвени на месте. Гвени не ожидала миссис Лэнье в спальне, чтобы снять с нее белое платье, убрать жемчуга и расчесать золотистые волосы, кудрявые, как лепестки хризантем. Гвени еще не возвратилась домой. Миссис Лэнье вынуждена была поднять с постели горничную первого этажа и удовольствоваться ее неумелыми услугами.
Гвени расплакалась на следующее утро, не выдержав душераздирающего укора, который она прочла в глазах миссис Лэнье, но вид слез был миссис Лэнье неприятен, и девушка тотчас взяла себя в руки. Миссис Лэнье снисходительно погладила ее по плечу, и тем дело и кончилось, — разве что глаза миссис Лэнье еще больше расширились и потемнели от этой новой обиды.
А Кейн мало-помалу сделался подлинным утешением для миссис Лэнье. После тягостного зрелища улицы приятно было увидеть Кейна — молодого, сильного, стройного, стоящего возле машины с таким видом, словно ему море по колено. Миссис Лэнье улыбалась ему почти благодарно, хотя и меланхолично, словно ей хотелось выпытать у него секрет, как жить, не ведая печали.
Но вот однажды Кейн не подал автомобиля в положенное время. Машина, вместо того чтобы ждать миссис Лэнье у подъезда и доставить ее затем к портнихе, стояла в гараже, а Кейн все не появлялся. Миссис Лэнье велела Гвени позвонить по телефону туда, где Кейн снимал комнату, и выяснить, что все это значит. Но в ответ девушка крикнула, — да, представьте, закричала во все горло, — что она уже звонила, звонила, звонила, и его Там нет, и никто не знает, куда он девался! Крик этот объяснялся, вероятно, тем, что Гвени потеряла голову от огорчения за миссис Лэнье, у которой был таким образом испорчен день. Впрочем, быть может, у Гвени просто было что-то не в порядке с голосом, — верно она схватила страшную простуду, потому что глаза у нее были красные, воспаленные, а лицо бледное и опухшее.
А Кейна и след простыл. Накануне исчезновения он как раз получил жалование, и с той поры о нем не было ни слуху ни духу. Он как в воду канул. Сначала миссис Лэнье просто отказывалась верить, что подобное предательство возможно. Ее сердце, мягкое и нежное, как сливочный крем, дрожало и трепетало в груди, а в глазах светилась глубоко затаенная боль.
— Как мог он так низко поступить со мною? — жалобно допытывалась она у Гвени. — Как мог он так обидеть меня, бедняжку? Предательство Кейна никогда не подвергалось обсуждению в гостиной — это был слишком больной вопрос, чтобы его касаться. А если кто-нибудь неосмотрительно спрашивал у миссис Лэнье, куда девался ее красавец шофер, веки ее опускались, она прикрывала глаза рукой и чуть-чуть морщилась, как от боли. Тогда гость готов был убить себя на месте за то, что невольно разбередил ее рану, готов был на все, лишь бы загладить свою вину.
Простуда Гвени держалась неслыханно долго. Проходила неделя за неделей, а у девушки каждое утро были красные глаза и бледное, опухшее лицо. Миссис Лэнье нередко вынуждена была отводить в сторону взгляд, когда Гвени подавала ей на подносе завтрак.
Гвени ухаживала за миссис Лэнье так же внимательно, как прежде, и по вечерам всегда оставалась дома и продолжала заниматься своим делом. Она и раньше была немногословна, а теперь стала и вовсе молчаливой, что уже само по себе было чрезвычайно отрадно. День-деньской она работала, не покладая рук, и это, очевидно, шло ей только на пользу, так как фигура у нее округлилась, и, если бы не эта загадочная простуда, девушка выглядела бы вполне здоровой.
— Обратите внимание, — с очаровательной шутливостью говорила миссис Лэнье своим гостям, когда Гвени прислуживала в гостиной, — обратите внимание, как пополнела моя маленькая Гвени! Она мила, не правда ли?
Прошло еще несколько недель, и в составе молодых людей произошла очередная перемена. Настал день, когда миссис Лэнье не оказалось дома для ее гостей. Новый молодой человек должен был прийти и впервые остаться один на один с миссис Лэнье в гостиной. Миссис Лэнье сидела перед зеркалом и, смочив кончики пальцев духами, слегка касалась ими хрупкого горла, а Гвени укладывала золотистые локоны у нее на голове.
Изысканно прелестное лицо, смотревшее на миссис Лэнье из зеркала, требовало к себе большего внимания, и она поставила флакон с духами и ближе придвинулась к зеркалу. Склонив голову к плечу, миссис Лэнье пристально вглядывалась в свое отражение. Она наблюдала, как задумчивые, тоскующие глаза становятся все более задумчиво-тоскующими, а губы складываются в трогательно-млеющую улыбку. Миссис Лэнье поднесла руки к своей нежной груди и стала медленно покачивать ими, словно баюкая ребенка. Она следила глазами за плавными движениями рук в зеркале и заставила их покачиваться еще чуть-чуть медленнее.
— Если бы только я могла иметь маленького ребеночка! — вздохнула она и меланхолично покачала головой. Потом откашлялась слегка, снова вздохнула и повторила, немного понизив голос: — Если бы только я могла иметь маленького ребеночка, мне кажется, я была бы совершенно, почти совершенно счастлива.
За спиной у нее раздался резкий стук, и она обернулась, пораженная. Гвени уронила на пол щетку для волос и стояла, закрыв лицо руками и покачиваясь из стороны в сторону.
— Гвени! — сказала миссис Лэнье. — Гвени!
Девушка опустила руки, и миссис Лэнье увидела, что лицо у нее такое бледное, словно она стоит под лампой с зеленым абажуром.
— Простите, — задыхаясь проговорила девушка. — Простите. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я… меня тошнит!
И она так стремительно выбежала из комнаты, что задрожал пол.
Миссис Лэнье сидела, прижав руки к раненому сердцу, и глядела вслед убежавшей Гвени, а затем медленно обернулась обратно к зеркалу. То, что она увидела в нем, заставило ее на мгновение замереть. Подлинный художник с одного взгляда распознает шедевр. Это было венцом всех ее стараний, подлинным апофеозом меланхолической задумчивости. Это трогательное выражение недоуменной печали, было как бы последним завершающим штрихом. Заботливо стараясь удержать его на лице, миссис Лэнье встала, отошла от зеркала и, все еще прижимая свои прелестные руки к груди и, словно щитом, прикрывая ими сердце, спустилась в гостиную к ожидавшему ее там новому молодому человеку.
СОЛДАТЫ РЕСПУБЛИКИ
В тот воскресный вечер мы сидели за столиком в большом кафе в Валенсии. С нами была молоденькая девушка — шведка. Мы пили вермут из толстых бокалов. В каждом бокале плавал серый кусочек ноздреватого льда, и официант был очень горд, что подает вермут со льдом, и никак не мог решиться поставить бокалы на столик и расстаться со своим льдом навеки. Но во всех углах зала посетители хлопали в ладоши и свистели, стараясь привлечь его внимание, и он наконец вернулся к своим обязанностям, однако все еще продолжал оглядываться через плечо на наш столик.
За окнами было темно. Ночь наступила внезапно, и, так как ей не предшествовали сумерки, а фонари на улицах не горели, казалось, что уже далеко за полночь и ребятишкам давно бы пора в постель. А в кафе было полным-полно ребятишек. Они сидели торжественно, чинно и с снисходительным интересом посматривали вокруг.
За соседним столиком я заметила совсем уж крошечного малютку — месяцев шести, не больше. Отец младенца — низкорослый паренек в большой не по росту солдатской форме, которая оттягивала ему плечи, бережно держал его на коленях. Младенец не делал решительно ничего. Однако отец и мать ребенка — молоденькая худощавая женщина, у которой под дешевым бумажным платьем уже снова обрисовывался большой живот, — в восторженном изумлении не сводили со своего малыша глаз, а кофе стыло в чашках на столике перед ними. Малыш был по-праздничному во всем белом. Платьице у него было так тщательно заплатано и заштопано, что его можно было бы принять за новое, если бы белые заплатки не были чуть-чуть белее платья. Голову ребенка украшал голубой бант из совершенно новой ленты, завязанный необыкновенно тщательно, так что все петли и концы были абсолютно одинаковой длины. Бант был, в сущности, совершенно бесполезен, потому что волосенки были совсем коротенькие и не могли бы лезть ребенку в глаза. Он служил украшением, и только, — это было сознательное, обдуманное маленькое кокетство.
«Ах, бога ради, перестань! — сказала я самой себе. — Ну да, у этого ребенка на голове завязан голубой бант. Ну да, мать не ела дня два, чтобы принарядить ребенка, когда отец приедет домой в отпуск. Ну так это ее личное дело и совершенно тебя не касается. Так чего же ты расчувствовалась?»
В большом, тускло освещенном зале было людно и шумно. Утром город бомбили. Всегда как-то страшнее, если это происходит среди бела дня. Однако сейчас в кафе я не заметила ни одного испуганного напряженного лица, никто не старался веселиться через силу. Все спокойно пили кофе или лимонад, наслаждаясь заслуженным воскресным отдыхом, и оживленно болтали о каких-то повседневных делах. Все говорили одновременно и все же слышали друг друга и отвечали нескольким собеседникам зараз.
В зале было много солдат, и сначала мне показалось, что у них разная форма, словно они все — из разных армий. Но, приглядевшись внимательнее, я поняла, что просто у одних форма выцвела и потерлась больше, а у других — меньше. Раненых было немного. Изредка проходил какой-нибудь боец, осторожно опираясь на костыль или на две палки, но вид у него был не такой уж изможденный — должно быть, здоровье хорошо шло на поправку.
Немало мужчин было и в штатском — солдаты, приехавшие домой в отпуск, государственные служащие и просто завсегдатаи кафе. Их жены — солидные, добродушного вида женщины, энергично обмахивались бумажными веерами. Старухи-бабушки сидели так же чинно, как их внучата. Я заметила несколько хорошеньких девушек и двух-трех настоящих красоток. Про таких никогда не скажешь: «Вот настоящий тип очаровательной испанки», а просто: «Какая красавица!» Платья на женщинах были поношенные и из такой дешевой материи, из которой не шьют у дорогих портних.
— Забавно, — сказала я шведке. — Когда кругом нет никого, кто был бы элегантно одет, не замечаешь, что все одеты очень скромно.
— Простите, как вы сказали? — спросила шведка.
Все, кроме двух-трех бойцов, были без головных уборов. Когда мы приехали в Валенсию, я некоторое время жила в состоянии недоумения и обиды, не понимая, почему на улицах все надо мной смеются. Ведь не потому же, что «Вест-Энд авеню» так отчетливо было написано на моем лице, словно рука таможенного чиновника вывела на нем эту надпись мелом. В Валенсии любят американцев, здесь познакомились с лучшими из нас — врачами, которые бросили хорошую практику и приехали предложить свою помощь, с молодыми умелыми санитарками, с бойцами Интернациональной бригады. Но, когда я выходила на улицу, мужчины и женщины вежливо прикрывали рот рукой, силясь сдержать улыбку, а ребятишки, еще не научившиеся притворяться, складывались от хохота пополам и кричали, тыча в меня пальцем:
— Ole!
Не сразу открыла я причину этого веселья. Но, когда я наконец догадалась оставить шляпу дома, никто больше надо мной не смеялся. И не подумайте, что это была какая-нибудь особенная, экстравагантная шляпа. Шляпа как шляпа.
Кафе было переполнено, а посетители всё прибывали. Увидав знакомое лицо, я вышла из-за столика и направилась в другой конец зала. Когда я возвратилась к нашему столику, за ним уже сидело шестеро солдат. Они сидели, тесно сдвинув стулья, и я еле протиснулась к своему месту. Лица у них были усталые, запыленные, и сами они казались маленькими, тщедушными, какими обычно кажутся мертвые. Мне почему-то прежде всего бросились в глаза их тонкие жилистые шеи, и я вдруг почувствовала себя толстой, как премированная свинья.
Все солдаты наперебой разговаривали со шведкой. Она умела говорить по-испански, по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-английски и на всех скандинавских языках. И постоянно вздыхала — если у нее хватало на это времени, — что позабыла голландский и уже не может объясняться на этом языке, а только читает. Так же, впрочем, как и по-румынски.
Солдаты говорят, сказала она нам, что они уже вторые сутки, как из окопов, и отпуск их подходит к концу. Собираясь в отпуск, они сложились, чтобы купить сигарет, но произошла какая-то заминка, и они так и не успели получить свои сигареты. У меня была при себе пачка американских сигарет, которые были в Испании на вес золота, и с помощью кивков, улыбок и разнообразной жестикуляции я постаралась объяснить этим шестерым мужчинам, исстрадавшимся без табака, что прошу их взять У меня сигареты. Поняв наконец, чего я от них добиваюсь, они встали и все по очереди пожали мне руку. Ах, какая я добрая — поделилась своими сигаретами с солдатами, которые возвращаются в окопы. Чувствительная, отзывчивая натура. Премированная свинья.
Все солдаты прикурили сигареты от желтого жгута, который, тлея, порядком вонял и применялся, как объяснила нам шведка, для зажигания гранат. Затем каждый солдат получил свой заказ — стакан кофе — и пробормотал нечто одобрительное по адресу поданного вместе с кофе микроскопического бумажного кулечка, похожего по форме на рог изобилия и содержащего несколько кусочков сероватого сахара. Потом солдаты разговорились.
Они беседовали с нами через переводчицу шведку, но тем не менее делали при этом то же самое, что делают все, когда разговаривают на своем родном языке с кем-нибудь, кто его не понимает. Они не отрываясь смотрели нам в лицо и говорили очень медленно, старательно выговаривая слова и как-то особенно усердно шевеля губами. Однако понемногу они воодушевлялись все больше и больше и вскоре уже стали рассказывать свои истории с таким жаром, что было ясно — по их мнению, мы не могли их не понять. Они были так убеждены в этом, что нам стало очень совестно, так как мы не поняли ни слова.
Но шведка все нам растолковала. Эти солдаты были крестьяне и сыновья крестьян и все — из самого нищего края, такого нищего, что страшно подумать. И все из одной деревни. А в соседней деревне произошло вот что: все женщины и дети и даже все старики и калеки отправились в праздник на бой быков. Налетели самолеты и сбросили бомбы прямо на арену, а стариков, и калек, и женщин, и детей было больше двухсот.
Солдаты, сидевшие с нами за столиком, все шестеро, воевали уже свыше года и почти все время находились в окопах. Четверо из них были женаты. У одного был один ребенок, у двоих — по трое детей, а еще у одного — пятеро. С того самого дня, как они ушли на фронт, ни один из них не имел никаких известий от своих близких. Связь была прервана. Двоих обучили грамоте товарищи по блиндажу, но они не решались писать домой. Все они были членами профсоюза, а если член профсоюза попадал в плен, его убивали. Деревня, где остались их семьи, была захвачена мятежниками, и кто мог знать, как поступят они с женщиной, которая получит письмо от мужа, члена профсоюза, сражающегося в рядах республиканской армии. Кто поручится, что они не расстреляют ее за это?
Солдаты говорили, что вот уже больше года они не имеют известий от своих близких. Они говорили об этом без трагизма, но и без напускного хладнокровия и без бравады. Они говорили об этом так, как если бы… Ну, словом, представьте себе, что вы уже год как в окопах, сражаетесь… Уже год, как вы не получаете вестей ни о жене, ни о детях. А ваша жена и дети тоже ничего не знают о вас — живы ли вы, или, быть может, убиты, или искалечены. И вы не знаете, где ваши близкие и кто из них еще жив. И вам хочется поделиться с кем-нибудь, поговорить. Вот так они и делились с нами.
Один из них полгода назад получил известие о своей жене и троих детях.
— Если бы вы только знали, какие у них красивые глаза! — сказал он вдруг. Известие пришло из Франции от его родственника. Тогда еще они все были живы, сказал он, и получали по чашке бобов на день. Его жена не жалуется на голод, писали ему. Одна беда — нет у нее ниток починить одежду, и ребятишки ходят оборванцами. Теперь это мучило его.
— Нет у нее ниток — вот беда, — все твердил он нам. — У моей жены нет ниток, чтобы починить ребятишкам одежду. Нет ниток.
Мы сидели и слушали, а девушка шведка переводила нам их слова. Внезапно один из солдат посмотрел на часы, и все заспешили. Они вскочили и стали звать официанта и что-то торопливо объяснять ему. Потом все по очереди пожали каждому из нас руку. Мы снова прибегли к жестикуляции и постарались объяснить им, что просим взять у нас оставшиеся сигареты — всего четырнадцать сигарет на шесть солдат, уходящих на фронт, — и тогда они снова пожали нам руки. После этого мы все сказали: «Салюд!» Сначала они все шестеро — нам, а потом мы трое — им, и затем они один за другим вышли из кафе — шестеро солдат с усталыми, запыленными лицами, и каждый из них в отдельности казался маленьким и тщедушным, но вместе они были солдатами могучей армии.
Когда они ушли, все примолкли, только шведка продолжала что-то говорить. Она была в Испании с самого начала войны. Она перевязывала раненых и таскала носилки в окопы, а из окопов в госпиталь — с нелегким грузом. Слишком многое прошло у нее перед глазами, и ее не так легко было ошеломить.
Пора было уходить, и, подняв руки над головой, шведка дважды хлопнула в ладоши, подзывая официанта. Официант подошел к нашему столику, но только отрицательно покачал головой и ушел обратно.
Солдаты уже уплатили за наш вермут.
НЬЮ-ЙОРК — ДЕТРОЙТ
— Детройт на проводе, — сказала телефонистка.
— Алло, — сказала девушка в Нью-Йорке.
— Алло? — сказал молодой человек в Детройте.
— Джек! — сказала девушка. — Милый, какое это счастье — слышать твой голос. Ты не знаешь, как я…
— Ты не слышишь меня? — сказала девушка. — А я слышу тебя так, словно ты здесь рядом со мной. Теперь лучше? Теперь ты слышишь меня?
— С кем вы хотите говорить? — спросил он.
— С тобой, Джек, — сказала она. — С тобой, с тобой. Это Джин, дорогой. О, пожалуйста, постарайся меня расслышать. Это я — Джин.
— Кто? — спросил он.
— Джин, — сказала она. — Разве ты не узнаешь моего голоса? Это я — Джин, дорогой. Джин.
— А, здравствуй. Кто бы мог подумать? Как ты поживаешь?
— Хорошо, — сказала она. — Хотя нет, совсем нет. Я… о, это просто ужасно. Я не могу этого больше выносить. Разве ты еще не возвращаешься? Ради бога, ну когда же ты вернешься? Ты не представляешь, какой это ужас быть без тебя. Целая вечность прошла, дорогой, — ты сказал, что уезжаешь всего на четыре-пять дней, а прошло уже почти три недели. Словно годы прошли. Это было так мучительно, милый, просто…
— Послушай, мне очень жаль, — сказал он, — но я не слышу ровным счетом ни одного слова. Неужели ты не можешь говорить погромче и пояснее?
— Хорошо, хорошо, — сказала она, — теперь лучше? Теперь ты меня слышишь?
— Да, теперь слышу, немножко, — сказал он. — Не говори так быстро, ладно? Так что ты сказала?
— Я сказала, что ужасно без тебя скучаю. Ведь уже столько времени прошло, дорогой. А я о тебе ничего не знаю. Я… просто голову потеряла, Джек. Ведь ни одной открытки, дорогой, или хотя бы…
— Честно говоря, у меня не было ни единой свободной минуты. Я работал как вол. Господи, да я с ног сбился.
— Правда? — сказала она. — Извини, дорогой, я глупая. Но это было просто… это было просто ужасно, ни одного слова. Я надеялась, что ты хотя бы иногда позвонишь мне по телефону и пожелаешь спокойной ночи, как ты всегда делал прежде, когда уезжал.
— Я и собирался, собирался много раз, — сказал он, — но все думал, что вдруг не застану тебя дома или еще что-нибудь такое.
— Я никуда не ходила, — сказала она, — я все сидела здесь одна, совсем одна. Это… это как-то лучше — быть одной. Я не хочу никого видеть. Все меня спрашивают: «Когда возвращается Джек?» или: «Что слышно от Джека?» И я боюсь, что разревусь при всех. Дорогой, если бы ты знал, как это больно, когда они меня о тебе спрашивают и я должна отвечать, что не…
— Ну и связь сегодня, будь она проклята, я так еще в жизни не разговаривал, — сказал он. — Что больно? В чем дело?
— Я сказала, что мне ужасно больно, когда знакомые меня о тебе спрашивают, и я вынуждена говорить… Не будем об этом. Лучше скажи мне, как ты себя чувствуешь, дорогой? Скажи мне, как ты там?
— Вполне сносно, — сказал он. — Устал как черт. А у тебя как, все в порядке?
— Джек, я… я как раз хотела тебе сказать. Я страшно обеспокоена. Прямо голову потеряла. Что мне делать, дорогой, что нам обоим делать? О Джек, Джек, дорогой!
— Алло! Ну разве я могу расслышать, что ты там бормочешь? — сказал он. — Неужели нельзя говорить погромче? Говори прямо в… трубку.
— Не могу я об этом кричать по телефону! — сказала она. — Неужели ты не догадываешься? Неужели не понимаешь, о чем я говорю? Разве ты не знаешь? Не знаешь?
— Я кончаю разговор, — сказал он, — сначала ты бормочешь, а потом начинаешь вопить. Послушай, это же ни к чему. Я ровным счетом ничего не слышу при такой плохой связи. Почему бы тебе не написать мне завтра утром письмо? Напиши, разве ты не можешь написать? И я тебе тоже напишу. Хорошо?
— Джек, послушай, — сказала она. — Послушай, что я тебе скажу. Мне надо с тобой поговорить. Говорю тебе, я почти сошла с ума. Пожалуйста, дорогой, дорогой, послушай, о чем я тебе скажу. Джек я…
— Минутку, — сказал он. — Кто-то стучит в дверь. Входите. Черт вас возьми. Входите, бездельники! Вешайте пальто прямо на пол и садитесь. Виски в шкафу, а лед вот в этом кувшине. Располагайтесь как дома — словно вы в баре. Сейчас я освобожусь. Послушай, тут ко мне ввалилась целая банда индейцев, и я уже ничего не соображаю. Ты напиши мне завтра письмо. Хорошо?
— Написать письмо? — сказала она. — О боже, неужели ты думаешь, я тебе не написала бы раньше, знай я куда писать? Я ведь даже не знала твоего адреса, пока мне сегодня у тебя на работе не сказали. Я так…
— О, они тебе сказали? — спросил он. — А я думал, что я… Эй, потише, слышите? Дайте человеку поговорить. Это ведь междугородный разговор, за него дорого заплатили. Послушай, этот разговор будет стоить тебе миллион. Зачем ты это делаешь?
— Неужели ты думаешь, что для меня это имеет значение? — сказала она. — Я умру, если не поговорю с тобой. Говорю тебе, что умру, Джек. Милый, что это значит? Ты не хочешь со мной разговаривать? В чем дело? Неужели… неужели ты действительно меня больше не любишь? Неужели нет? Это правда, Джек?
— Черт, ничего не слышно, — сказал он. — Что «нет»?
— Пожалуйста, — сказала она, — пожалуйста, пожалуйста, Джек, послушай. Когда ты думаешь вернуться, дорогой? Ты мне так нужен. Так ужасно нужен. Когда ты приедешь?
— Ну вот. Как раз об этом я хотел написать тебе завтра. Послушайте, нельзя ли на минутку заткнуть глотки? Хватит, хорошего понемножку. Алло! Хорошо меня слышишь? Видишь ли, сегодня дела обернулись таким образом, что мне, кажется, предстоит поехать на некоторое время в Чикаго. Там как-будто довольно важное дело, и это не займет много времени, во всяком случае, не думаю, что много. Похоже, что я поеду туда на… следующей неделе.
— Нет, Джек! — сказала она. — Не делай этого. Ты не должен этого делать. Ты не оставишь меня одну в таком состоянии. Мне нужно тебя видеть, дорогой. Мне нужно. Ты должен вернуться или я приеду к тебе. Я не могу этого переносить, Джек, я не могу, я…
— Послушай, давай лучше сейчас попрощаемся, — сказал он. — Не имеет смысла допытываться, о чем ты говоришь, когда ты так тарахтишь. Да здесь еще такой гвалт. Эй, нельзя ли наладить оркестр? Прямо ужас, что делается. Вы что, хотите меня отсюда выжить, что ли? Ты ложись и спи спокойно, а я тебе обо всем завтра напишу.
— Послушай, Джек, — сказала она, — подожди. Помоги мне, любимый. Скажи мне что-нибудь утешительное на прощанье. Скажи, что любишь меня, бога ради, скажи мне, что все еще любишь. Скажи мне это, скажи.
— Нет никакой возможности, — сказал он. — Это просто ужас. Завтра утром я как встану, так первым делом тебе напишу. Ну пока. Спасибо, что позвонила.
— Джек! — сказала она. — Джек, подожди. Джек, одну минутку. Мне нужно с тобой поговорить. Я буду говорить спокойно. Не буду кричать. Буду говорить так, чтобы ты меня понял. Прошу тебя, дорогой, пожалуйста…
— Разговор с Детройтом окончен? — спросила телефонистка.
— Нет, — сказала она. — Нет, нет, нет! Соедините меня с ним снова, соедините сейчас же! Сейчас же. Или нет, не надо, теперь мне ничего не надо. Не надо…
МАЛЫШ КЭРТИС
Миссис Мэдсон остановилась в вестибюле универсального магазина «Дж. Фосдик и сыновья». Она переложила маленький сверток из правой руки под левую подмышку, твердой рукой взялась за металлический замок своей хозяйственной сумки, открыла его привычным движением и вынула из этой содержавшейся в образцовом порядке сумки маленькую книжечку в черном переплете и отлично отточенный карандашик.
Покупатели, спеша в магазин и обратно, толкали миссис Мэдсон, но никому из них не удалось обратить на себя ее внимание или ускорить ее движения. Когда кто-нибудь из наиболее деликатных бормотал: «Ах! Прошу прощения!» — она не удостаивала его ответом. Спокойная, уверенная в себе, восхитительно неприступная миссис Мэдсон твердо стояла посреди вестибюля. Она открыла книжечку, аккуратно нацелилась карандашом и записала красивым почерком с легким изящным наклоном: «Четыре бонбоньерки из гофрированной бумаги с леденцами — $ 0.28».
Знак доллара получился такой нарядный, что миссис Мэдсон взглянула на него с чувством удовлетворения. Точка была поставлена четко, двойка имела изысканный завиток, а восьмерка вышла восхитительно пропорциональной. Миссис Мэдсон одобрительно поглядела на свою запись, все так же не спеша закрыла книжечку, положила ее вместе с карандашом в сумку, проверила, хорошо ли защелкнулся замок, и переложила сверток обратно — из-под левой подмышки в правую руку. Затем с приятным сознанием исполненного долга величественно направилась к двери, решительно толкнула ее и вышла из универсального магазина «Дж. Фосдик и сыновья» через вращающуюся дверь, над которой красовался большой плакат с призывом: «Просим выходить через дверь напротив».
Миссис Мэдсон неторопливо шагала по Мэпл-стрит. Яркое утреннее солнце заливало главную улицу города, но и оно не могло заставить миссис Мэдсон опустить голову или прищурить глаза. Она держала голову очень высоко и поглядывала по сторонам с таким видом, словно хотела сказать: «Мы сегодня довольны тобой, наш добрый народ».
Временами она останавливалась у витрин и тщательно разглядывала уже появившиеся в них осенние костюмы. Но сердце ее было свободно от зависти, заставлявшей страдать у витрин женщин помельче калибром, чем она. Хотя длинное черное пальто миссис Мэдсон, сохранившееся еще с того сезона, когда носили рукава с буфами и жакеты в талию, изрядно обтрепалось и лоснилось от времени и шляпа, потеряв форму, приобрела тот унылый вид, который неизбежно сопутствует преклонным годам, а черные перчатки, тоже весьма почтенного возраста, кое-где уже вытерлись и стали сизыми, — несмотря на все это, миссис Мэдсон нисколько не стремилась к обладанию этими новомодными элегантными костюмами, так соблазнительно выставленными напоказ. Ее тешила уютно угнездившаяся в сознании мысль о том, что в стенном шкафу у нее в спальне в образцовом порядке висят вполне свежие туалеты, каждый — в своем цветастом кретоновом чехле, каждый — на своей деревянной вешалке.
Миссис Мэдсон придерживалась очень определенных и твердых взглядов на тех людей, которые выбрасывали или отдавали кому-то вышедшие из моды костюмы, в то время как они еще могли служить по своему прямому назначению, так как согревали тело и помогали соблюдать приличие. Она считала, что «пускать в носку» новые платья — вульгарно и указывает на принадлежность к низшим классам. В этом было что-то неприятное, экстравагантное и даже разнузданное. На это способны только простые люди из рабочей среды, которые, — как нередко старалась растолковать миссис Мэдсон своим приятельницам, — всегда бегут покупать электрические холодильники и радиоприемники, стоит им только заработать немного денег.
Жуткая мысль о том, что преждевременная кончина может помешать ей износить хранящиеся в шкафу костюмы и полностью насладиться ими, ни разу в жизни не возникла у миссис Мэдсон. В ней жила спокойная уверенность, что люди, подобные ей, не подвержены превратностям жизни, — они покидают земную юдоль в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет. Случается им умирать и позже, но раньше этого возраста — никогда.
На улице появилась слепая негритянка. Она палкой нащупывала себе дорогу. На шее у нее висел подносик с карандашами. Миссис Мэдсон стремительно отступила к обочине тротуара, чтобы избежать встречи с попрошайкой и метнула на нее испепеляющий взгляд. В одно мгновение миссис Мэдсон уже составила себе мнение об этой женщине. Она была убеждена, что слепая видит ничуть не хуже ее. Миссис Мэдсон никогда ничего не покупала у попрошаек на улице, и ее чрезвычайно сердило, когда она видела, как это делают другие. Она всегда утверждала, что у всех этих нищих огромные вклады на текущем счету в банках.
Миссис Мэдсон направилась на другую сторону улицы к остановке троллейбуса, который должен был доставить ее домой. Ее великолепное спокойствие было омрачено встречей с нищенкой. «Не удивлюсь, если окажется, что она сдает квартиры внаем», — сказала себе миссис Мэдсон и снова метнула гневный взгляд в сторону слепой.
Однако хорошее расположение духа вернулось к миссис Мэдсон во время процедуры вручения платы за проезд учтивому кондуктору. Миссис Мэдсон любила одарять небольшими, установленными законом суммами тех, кто умел принимать их вежливо и с благодарностью. Миссис Мэдсон вручила кондуктору монетку с таким видом, словно подарила городу чудесный парк, и поплыла дальше по вагону к облюбованному ею местечку.
Удобно усевшись и поместив сверток в надежное место — между бедром и окном, — где он был хорошо защищен от воров и не мог затеряться, миссис Мэдсон снова достала записную книжицу и карандаш. «За проезд в троллейбусе —$ 0.05», — записала она. И снова аккуратно, изящным почерком выведенные цифры доставили ей чувство удовлетворения.
С королевским величием, не утруждая себя изъявлениями благодарности, миссис Мэдсон приняла, как нечто само собой разумеющееся, услугу кондуктора, который помог ей выйти из троллейбуса на перекрестке, и не спеша зашагала по залитому солнцем тротуару, время от времени отвечая на поклоны соседей, сидевших на крылечках с вязаньем в руках или заботливо склонившихся над цветочными клумбами. Медленный и величественный наклон головы, которым она их одаряла, не сопровождался ни улыбкой, ни словом приветствия. В конце концов она была миссис Альберт Мэдсон, урожденная мисс Лаура Уитмор, — «Уитморовский инструментальный завод», — и о таких вещах не приходится забывать.
Всякий раз, когда миссис Мэдсон приближалась к своему дому, один вид его наполнял ее сердце радостью. Он, как надежная прочная пристань, пробуждал ощущение безопасности и придавал миссис Мэдсон еще больше уверенности в себе. Солидный, квадратный, готовый к ее услугам, он стоял посреди аккуратно подстриженного газона, на котором не росло ни единого деревца. При взгляде на него перед вашим мысленным взором невольно возникали гравюры на стали, собрание сочинений Вальтера Скотта на книжных полках за стеклом и воскресные обеды тотчас после полудня.
И вы сразу с уверенностью могли сказать, что в этом доме никто никогда не бегает с грохотом вверх и вниз по лестницам, не хлопает дверьми, не крошит хлеба на скатерть, не роняет пепла на пол и не оставляет света в ванной комнате.
Всякий раз, когда миссис Мэдсон приближалась к своему домашнему очагу, она испытывала чувство приятного ожидания. Миссис Мэдсон всегда называла свой дом не иначе как домашним очагом.
— Вы непременно должны как-нибудь при случае посетить мой домашний очаг, — милостиво и любезно повелевала она, когда ей кого-нибудь представляли. Слово «очаг», по мнению миссис Мэдсон, звучало как-то солиднее, как-то основательнее, чем обыкновенное слово «дом».
Миссис Мэдсон всегда с удовольствием возвращалась мыслью к прохладным комнатам с высоким потолком, к деятельной, отлично вышколенной прислуге и маленькому Кэртису, поджидающему ее дома, чтобы приветствовать ее почтительным поцелуем. Она усыновила его примерно с год назад, когда ему было около четырех лет. И с тех пор еще ни разу, как говорила она своим приятельницам, ни разу не пожалела о том.
За ее спиной приятельницы шептались, делая скорбные лица:
— Как это грустно, что Мэдсоны бездетны, у них же куча денег, — все мэдсоновские и уитморские капиталы. Не век же они будут жить, — говорили приятельницы. И все это богатство перейдет к детям Генри Мэдсона! — И они повторяли слова самой миссис Мэдсон о том, что эта молодежь способна растранжирить все в один день.
Мистер и миссис Мэдсон были совершенно единодушны в вопросе о том, что неминуемо должно будет произойти, если их племянникам и племянницам дать волю распоряжаться мэдсоновскими и уитморовскими деньгами. Исполненные волнения и тревоги, они, как это часто бывает, приписывали другой ветви мэдсоновского рода стремления, планы и замыслы, которые тем ни разу не приходили в голову.
Чета Мэдсонов считала, что их родственники, проявляя неслыханное упорство и терпение, ждут их смерти и молятся, чтобы она быстрей наступила. Из года в год чета Мэдсонов рисовала себе все более зловещие картины того, как дети другой четы Мэдсонов единым махом разбазарят их капитал. На протяжении многих лет они только и думали о том, что их наследники страстно ждут их кончины и строят на этом планы чудовищного транжирства и разврата.
Так же как в этом вопросе, супруги Мэдсоны были единодушны и во всем остальном. Все их мысли, взгляды, манеры, даже самая их речь, были удивительно схожи. Многие отмечали, что мистер и миссис Мэдсон даже внешне похожи друг на друга. И все были согласны с тем, что это просто неслыханное несчастье — такие идеальные, словно самим богом предназначенные друг для друга супруги не имеют потомства! Да к тому же — волей-неволей всякий раз приходилось возвращаться к этому обстоятельству, слишком уж оно бросалось в глаза, — при таком-то капитале, как у Мэдсонов и Уитморов!
Впрочем, никто никогда открыто не выражал миссис Мэдсон соболезнования по поводу ее бездетности. В ее присутствии остерегались говорить о новорожденных. Когда же миссис Мэдсон приходилось лицезреть младенцев, она принимала их существование как непреложный факт, брезгливо оставляя без внимания способ их появления на свет.
Миссис Мэдсон никому из своих приятельниц не говорила о том, что собирается усыновить маленького мальчика. Об этом стало известно лишь после того, как все бумаги были подписаны, и ребенок водворился в доме Мэдсонов. Миссис Мэдсон объясняла впоследствии, что она раздобыла этого ребенка в Нью-Йорке, «в самом лучшем заведении». Это никого не удивило. Ведь если миссис Мэдсон отправлялась в Нью-Йорк за покупками, она всегда делала их только в самых лучших магазинах. Невольно приходило на ум, что и ребенка она выбирала точно так же, как и все прочие необходимые предметы, — выбирала хорошего, добротного, прочного ребенка.
Подойдя к калитке своего дома, миссис Мэдсон внезапно остановилась, и хмурая складка прорезала ее лоб. На самом солнцепеке, возле живой изгороди играли двое маленьких мальчиков. Они были так поглощены игрой, что не слышали ее шагов. Двое маленьких мальчиков, примерно одного возраста, одного роста, в одинаковых костюмчиках, упитанные, розовощекие — словом, хорошие маленькие мальчики. Игра была какая-то загадочная и бесконечная. В ней участвовали круглые камушки, кусочки веток и маленький жестяной троллейбус. Мальчики были очень увлечены игрой, — щеки у них разгорелись, волосенки на затылке взмокли.
Миссис Мэдсон вступила во двор.
— Кэртис! — позвала она.
Оба мальчика вздрогнули и посмотрели вверх. Один из них поднялся с земли и потупился под устремленным на него грозным взглядом.
— А кто, — спросила миссис Мэдсон, и голос ее прозвучал внушительно и глухо, — кто это позволил Джорджи приходить сюда?
Молчание. Джорджи, все еще сидя на корточках, вопросительно посмотрел на миссис Мэдсон, потом на Кэртиса. Он не обнаружил тревоги — только любопытство.
— Это ты разрешил ему, Кэртис? — продолжала свой допрос миссис Мэдсон.
Кэртис кивнул. Вы, верно, даже не заметили бы этого кивка, так низко была опущена его головенка.
— Да, дорогая мамочка! — сказала миссис Мэдсон.
— Да, дорогая мамочка! — пролепетал Кэртис.
— А сколько раз, — продолжала допытываться миссис Мэдсон, — сколько раз я говорила тебе, что ты не должен играть с Джорджи? Сколько раз я тебе это говорила, Кэртис?
Кэртис пробормотал нечто невнятное. Ему очень хотелось, чтобы Джорджи ушел. Хоть бы он ушел!
— Ты что, не знаешь? — Миссис Мэдсон просто отказывалась этому верить. — Ты не знаешь? После всего, что мама для тебя сделала, ты не знаешь, сколько раз мама говорила тебе, чтобы ты не играл с Джорджи? Разве ты не помнишь, что сказала мама? Ты помнишь, что мама должна будет сделать с тобой, если ты будешь играть с Джорджи?
Молчание. Робкий кивок.
— Да, дорогая мамочка! — сказала миссис Мэдсон.
— Да, дорогая мамочка! — повторил Кэртис.
— Так! — отрезала миссис Мэдсон. Она повернулась к Джорджи, который с живым интересом наблюдал за происходящим.
— А ты ступай домой, Джорджи, сейчас же ступай домой. И никогда сюда больше не приходи. Ты слышишь меня? Кэртису не разрешается играть с тобой никогда и ни под каким видом.
Джорджи встал.
— До скорого, — сказал он философски и пошел прочь. Его прощальные слова остались без ответа.
Миссис Мэдсон не отрываясь смотрела на Кэртиса. Скорбь исказила ее лицо.
— Подумать только! — сказала она срывающимся от волнения голосом. — Играть с сыном истопника! И это после всего, что мама для тебя делает!
Она схватила его маленькую слабую ручонку и устремилась к дому. Он покорно семенил рядом. В полном молчании они прошли мимо горничной, отворившей им дверь, и поднялись по лестнице к маленькой голубой спальне Кэртиса. Миссис Мэдсон втащила его в спальню и затворила за собой дверь.
Затем миссис Мэдсон прошла к себе в комнату, осторожно положила свой сверток на стол, сняла перчатки, спрятала их вместе с сумочкой в ящик комода, в котором все содержалось в образцовом порядке, и пошла в гардеробную. Там она сняла пальто, повесила его на вешалку, наклонилась и подняла с полу одну из своих войлочных домашних туфель, которые, как всегда, стояли в первой танцевальной позиции под висевшим на стене халатом. Туфли были нежно-сиреневого цвета с фестончиками и большими помпонами. Поперек легкой эластичной кожаной подметки красовалось название туфель, присвоенное им фирмой: «Уют».
Миссис Мэдсон твердо ухватила туфлю за каблук и, размахивая ею, зашагала к спальне мальчика. Еще не ступив за порог, она заговорила, поворачивая ручку двери:
— Мама не успела даже шляпу снять… — Дверь за ней захлопнулась.
Вскоре миссис Мэдсон снова появилась в дверях. Вслед ей летел отчаянный вопль.
— Довольно, прекрати! — повелела миссис Мэдсон, оглянувшись на дверь. Вопль послушно перешел в всхлипывание. — Хватит, спасибо! На сегодня хватит. Ты уже постарался доставить маме массу удовольствия. И ведь, как на грех, сегодня, когда мама ждет к чаю гостей, и ей надо обо всем подумать, и у нее столько хлопот! На твоем месте, Кэртис, я бы просто сгорела со стыда. Просто сгорела бы со стыда!
Миссис Мэдсон затворила за собой дверь и пошла снять шляпу.
Гости, три пожилые дамы, появились после полудня. Миссис Кэрли — хрупкая, седая, хлопотливая, вечно озабоченная отправкой поздравительных открыток каким-то именинникам и банок с супом — каким-то больным. Миссис Суон, золовка миссис Кэрли, приехавшая к ней погостить. Она была помоложе миссис Кэрли и отличалась пристрастием к вышитым кружевным воротничкам и шляпкам, украшенным маргаритками, а также пылким, целеустремленным, хотя и временным интересом ко всем делам своей родственницы и к ее светским знакомствам. И, наконец, миссис Кук. Впрочем, о ней не стоило бы и упоминать… Она была настолько туга на ухо, что ее присутствие практического значения не имело.
В свое время миссис Кук перебывала у бесконечного множества врачей, истратила кучу денег, подвергалась мучительнейшим исследованиям и процедурам — и все это ради того, чтобы получить возможность слышать то, что вокруг нее происходит, и принимать в этом участие. В конце концов ее снабдили длинной, гофрированной, извивающейся как змея слуховой трубой, чрезвычайно похожей на увеличенную в несколько раз двенадцатиперстную кишку. Один конец кишки вставлялся в ухо миссис Кук — в то, на которое она лучше слышала, — а другой предназначался для предполагаемого собеседника. Но блестящий черный микрофон, должно быть, приводил людей в замешательство и нагонял на них страх, ибо все, как один, кричали в него одно и то же: «А на дворе-то холодает, а?» или: «А вы неплохо выглядите!»… И вот, для того чтобы слышать сообщения такого сорта, миссис Кук претерпела годы мучений и страданий.
Миссис Мэдсон в весеннем туалете из голубой тафты приняла своих посетительниц в гостиной. Это был день, посвященный рукоделию и беседе. Позже предполагался чай с сэндвичами из мелко нарубленных остатков вчерашней курицы — по два треугольных сэндвича на каждую гостью — и кекс, пользовавшийся особым расположением миссис Мэдсон, потому что для его изготовления требовалось только одно яйцо. Миссис Мэдсон самолично наведалась на кухню, чтобы присмотреть за приготовлением кекса. У нее не было полной уверенности в том, что кухарка швыряет продукты на ветер, но она чувствовала, что за этой женщиной нужен глаз да глаз.
Бонбоньерки из гофрированной бумаги, наполненные круглыми мятными лепешечками, поставленные по углам стола, вносили приятное оживление в сервировку. Миссис Мэдсон надеялась, что у гостей хватит ума не воспринять их как преподношение и не унести с собой.
Они обсудили погоду и одобрили ее. Миссис Кэрли и миссис Суон соперничали друг с другом, наперебой ее расхваливая.
— Какой ясный погожий день! — говорила миссис Кэрли.
— На небе ни облачка! — присовокупляла миссис Суон. — Ну ни единого!
— Сегодня утром воздух был просто упоителен! — сообщала миссис Кэрли. — Я сразу сказала себе: какой прекрасный день, лучше не бывает!
— Воздух, прямо как бальзам! — восхищалась миссис Суон.
Миссис Кук заговорила внезапно — громким, странно неуверенным голосом, характерным для глухих.
— Уф, ну и пекло! — сказала она. — Жарища на дворе, просто ужас!
Беседа мгновенно перекинулась на литературу. Миссис Кэрли, как выяснилось, только что прочла прелестную книгу. К сожалению, название книги и фамилия автора вылетели у нее из головы, но тем не менее она была в полном восторге от этой книги и накануне никак не могла оторваться от нее до десяти часов вечера. Особенно высоких похвал удостоились описания итальянских пейзажей, содержавшиеся в этой книге. Она утверждала, что они «прямо как с картинки». Эту книгу рекомендовала ей библиотекарша «Уголка читателя». По ее словам, это одна из последних новинок.
Миссис Мэдсон нахмурилась, не поднимая глаз от вышивания. Слова привычно потекли с ее губ. Видимо, ей уже не в первый раз приходилось высказываться на эту тему.
— Я никогда не читаю этих новых книг, — сказала она. — В моем доме им нет места. Я просто не понимаю, как это люди могут сидеть и писать такой вздор. Мне кажется порой, что они сами не понимают и половины того, что написали. И о чем они только думают — кому нужны книги такого сорта? Уж, во всяком случае, не мне.
Она помолчала, давая своим словам глубже проникнуть в сознание слушательниц.
— Мистер Мэдсон… — продолжала она. Говоря о своем муже миссис Мэдсон называла его всегда только так. Ей казалось, что это звучит аристократично и возвышенно, убивая тем самым всякий намек на возможность животной интимности между супругами. — Мистер Мэдсон тоже не любитель этих новомодных книг. Он всегда говорит, что, если бы ему посчастливилось найти вторую такую книжку, как «Дэвид Хэрум»[4], он бы проглотил ее за один присест. Я была бы счастлива, — промолвила миссис Мэдсон мечтательно, — если бы в моем кошельке прибавилось столько долларов, сколько раз я слышала из уст мистера Мэдсона эти слова.
Миссис Кэрли улыбнулась, миссис Суон негромко и мелодично захихикала.
— Ах, как это верно! Не правда ли, это так верно? — сказала миссис Кэрли, обращаясь к миссис Суон.
— Ну конечно, это верно, — поспешила заверить ее миссис Суон.
— Право же, я просто не понимаю, куда мы идем! — провозгласила миссис Мэдсон.
Она с силой втыкала иголку в туго натянутое на круглых пяльцах полотно, и всякий раз под ударом ее пальцев оно издавало гнусавый стон.
Перерыв в беседе угнетающе действовал на миссис Суон. Она обернулась и поглядела в окно.
— Ах, какой прекрасный газон! — воскликнула она. — Он сразу бросился мне в глаза. У нас в Нью-Йорке это редкость.
— Я всегда говорю, что меня просто изумляет, как это люди могут запирать себя на всю жизнь в подобном месте, — сказала миссис Мэдсон. — В Нью-Йорке вы просто влачите существование, а мы здесь дышим полной грудью.
Миссис Суон засмеялась чуть-чуть нервно, а миссис Кэрли закивала головой.
— Правильно! — сказала она. — Как это тонко подмечено!
Миссис Мэдсон сама считала, что это стоит повторить. Она взяла слуховую трубку миссис Кук.
— Я сейчас говорила миссис Суон… — крикнула она и прогудела свое изречение вторично — в микрофон.
— Где, где? — переспросила миссис Кук.
Миссис Мэдсон терпеливо улыбнулась.
— В Нью-Йорке. Оттуда, как вы знаете, я привезла моего маленького приемного сыночка.
— О да, да, — сказала миссис Суон. — Кэри рассказывала мне. Какой это очаровательный поступок, миссис Мэдсон!
Миссис Мэдсон пожала плечами.
— Да, — сказала она. — Я сразу поехала в самое лучшее заведение. Ясли мисс Кодмен — это абсолютно надежное заведение. Вы можете получить там вполне приличного ребенка. У них есть целый список желающих, которые ждут своей очереди.
— Боже мой, боже мой, подумать только, что он должен был почувствовать, попав сюда! — воскликнула миссис Суон. — Вдруг сразу такой большой дом, и такой прелестный шелковистый газон, и все прочее.
Миссис Мэдсон довольно усмехнулась.
— О да… пожалуй, — сказала она.
— Надеюсь, он ценит это, — заметила миссис Суон.
— Надеюсь, что будет ценить, — отрезала миссис Мэдсон. — В конце концов, он еще мал, — снисходительно добавила она.
— Как это чудесно! — пробормотала миссис Суон. — Как это чудесно и мило, когда берешь такого крошку и он вдруг вырастает большой.
— Да, мне кажется, это самое лучшее, — согласилась миссис Мэдсон. — И, право, мне как-то даже нравится воспитывать его. Вы понимаете, раз он живет с нами, мы хотим, чтобы он вел себя как настоящий маленький джентльмен.
— Подумать только! — вскричала миссис Суон. — Чтобы такая крошка и вдруг получил все это! А потом вы пошлете его в школу?
— Да, конечно, — отвечала миссис Мэдсон. — Мы хотим, чтобы он получил образование. Ребенка нужно поместить в какую-нибудь небольшую приличную частную школу, где он будет встречаться только с самыми лучшими детьми. Он заведет там себе друзей, и впоследствии эти знакомства могут ему пригодиться.
Лицо миссис Суон приняло лукаво-проницательное выражение.
— Вероятно, вы уже все обдумали и решили, кем он будет, когда подрастет? — спросила она.
— Разумеется, — сказала миссис Мэдсон. — Он сразу поступит под начало мистера Мэдсона. «Мэдсоновские счетные машины» — это предприятие моего мужа, — пояснила она специально для миссис Суон.
— О-о-о-о! — протянула миссис Суон нисходящей гаммой.
— Мне кажется, Кэртис должен очень хорошо проявить себя в школе, — предрекла миссис Мэдсон. — Он отнюдь не глуп — очень быстро все схватывает. Мистер Мэдсон хочет, чтобы из него вышел хороший, здравомыслящий, практичный делец. Мистер Мэдсон говорит, что именно такие люди нужны сейчас стране. Поэтому и я стараюсь воспитывать его так, чтобы он знал цену деньгам. Я купила ему игрушечный банк. Я не верю, что какие-либо познания в этой области могут быть преждевременны. Ведь рано или поздно может случиться, что Кэртису придется… Кэртис, так сказать, получит…
Миссис Мэдсон вдруг овладело игривое настроение.
— Ах, они такие нелепые порой, эти малютки, — заметила она. — Как-то миссис Ньюман привела сюда свою маленькую Эми поиграть с Кэртисом. Я прихожу поглядеть, как они забавляются, и что же я вижу: Кэртис хочет подарить Эми своего фланелевого кролика — новенькую игрушку, прямо из магазина. Ну, я взяла его за руку, отвела к себе в комнату, посадила на стул и сказала: «Послушай, Кэртис, — сказала я ему. — Ты понимаешь или нет, что Мама уплатила почти два доллара за этого кролика. Почти двести центов! Быть щедрым это очень хорошо, конечно, но ты должен запомнить, что отдавать свои вещи другим — это вовсе не так хорошо, это просто глупо. А теперь ступай к Эми, — сказала я, — и скажи, что тебе очень жаль, но она должна вернуть твоего кролика обратно».
— И он пошел? — спросила миссис Суон.
— А как же, ведь я велела ему! — сказала миссис Мэдсон.
— Не правда ли, это замечательно? — Миссис Суон обвела взглядом собравшихся. — Вы только вдумайтесь в это. Такой малютка, и вдруг все эти блага сваливаются на него точно с неба. А ведь, может быть, его родители были совсем бедные люди. Они еще… живы?
— О нет, нет, — поспешно сказала миссис Мэдсон. — Это было бы совсем нежелательно. Но, конечно, я все проверила самым тщательным образом. Это были вполне приличные, добропорядочные люди. Отец мальчика был даже с образованием. Да, да, Кэртис круглый сирота, но тем не менее он происходит из очень приличной семьи.
— А вы собираетесь когда-нибудь открыть ему, что он не… что вы не… Вы скажете ему об этом? — полюбопытствовала миссис Кэрли.
— Боже мой, ну конечно, как только он подрастет, — сказала миссис Мэдсон. — Мне кажется, так для него же будет лучше. Он гораздо больше будет все ценить.
— А эта крошка помнит хоть немного свою мать или отца? — спросила миссис Суон.
— Понятия не имею, — отрезала миссис Мэдсон.
— Чай! — провозгласила горничная, внезапно появляясь в дверях.
— Чай подан, миссис Мэдсон! — сказала миссис Мэдсон, повысив голос.
— Чай подан, миссис Мэдсон, — как эхо отозвалась горничная.
— Просто ума не приложу, что мне с ней делать, — сказала миссис Мэдсон, когда горничная удалилась. — Вчера вечером она назвала гостей полную кухню, и они торчали там чуть ли не до одиннадцати часов. Беда в том, что я всегда слишком добра к прислуге. А с ними надо обращаться, как со скотом, иначе никакого толку не будет.
— Да, они не понимают другого обращения, — сказала миссис Кэрли.
Миссис Мэдсон спрятала свое вышивание в плетеную корзинку для рукоделия и встала.
— Выпьем по чашечке чаю? — предложила она.
— Чай? Как чудесно! — вскричала миссис Суон.
Миссис Кук, которая продолжала упорно трудиться над своим вязаньем, была с помощью слуховой трубы оповещена о том, что чай подан. Она тотчас отложила рукоделье и первой устремилась в столовую. За столом беседа велась преимущественно о выкройках и вышивках. Миссис Суон и миссис Кэрли воздали хвалы сэндвичам, кексу, бонбоньеркам, скатерти, сервизу и рисунку на серебряных ложечках, что было милостиво принято миссис Мэдсон.
Взгляд, брошенный на часы, вызвал возгласы изумления. Боже мой, как пролетело время! Собрав свои сумочки для рукоделья, гости с наигранной поспешностью двинулись в прихожую надевать шляпки. Миссис Мэдсон провожала гостей.
— Какой изумительный мы провели вечер! — Миссис Суон даже всплеснула руками. — Я просто не могу передать, какое огромное удовольствие я получила, когда вы рассказывали про вашего драгоценного малютку. Я надеюсь, вы позволите мне когда-нибудь поглядеть на него?
— Что ж, если хотите, можно позвать его хоть сейчас, — сказала миссис Мэдсон. Она подошла к лестнице и пропела:
— Кэр-тис! Кэр-тис!
Кэртис в опрятном бумажном матросском костюмчике, который из соображений бережливости был куплен «на рост», появился на верхней площадке. Он поглядел вниз. Слуховая трубка миссис Кук привлекла к себе его внимание, и он уставился на нее как зачарованный, широко раскрыв глаза.
— Спустись вниз, Кэртис, и познакомься с дамами, — повелела миссис Мэдсон.
Кэртис стал спускаться вниз. Деревянные перила повизгивали под его потной ручонкой. Он ставил правую ногу на ступеньку, затем осторожно присоединял к ней левую и снова пускал в ход правую. Наконец, он одолел всю лестницу.
— Может быть, ты поздороваешься с дамами? — спросила его миссис Мэдсон.
Кэртис протянул каждой даме по очереди маленькую вялую ручонку.
Миссис Суон неожиданно опустилась перед ним на корточки, и ее лицо оказалось у Кэртиса прямо перед глазами.
— Какой славный мальчик! — вскричала она. — Я ужасно люблю таких маленьких мальчиков. Ты знаешь? У-у, так бы тебя и съела!
Она стиснула его плечики. Кэртис в ужасе закинул голову назад и попятился.
— А как тебя зовут? — приставала она к нему. — Ну-ка послушаем, можешь ты сказать, как тебя зовут? Держу пари, что не можешь!
Кэртис молча глядел на нее во все глаза.
— Разве ты не можешь сказать этой даме, как тебя зовут, Кэртис? — спросила миссис Мэдсон.
— Кэртис! — сказал он, продолжая глядеть на даму.
— Ах, какое прелестное имя! — воскликнула та. Она подняла глаза на миссис Мэдсон. — Это его настоящее имя? — спросила она.
— Нет, — сказала миссис Мэдсон. — Они назвали его как-то иначе. Но я переменила ему имя, как только его взяла. Моя мать урожденная Кэртис.
Это прозвучало примерно так: «Моя девичья фамилия — Гвельф»[5].
Неожиданно раздался резкий голос миссис Кук.
— Счастливчик! — сказала она. — Счастливчик этот мальчуган, повезло ему!
— Да, ничего не скажешь, — подхватила миссис Суон. — Ах ты мой маленький хорошенький счастливчик! Ты счастливчик? Ты счастливчик? Ты счастливчик? — Она вдруг потерлась носом о его нос.
— Да, миссис Суон, — торжественно провозгласила миссис Мэдсон и, сдвинув брови, поглядела на Кэртиса.
Кэртис что-то невнятно пролепетал.
— Ах ты моя дуся! — сказала миссис Суон и выпрямилась. — Вот как украду тебя сейчас вместе с твоим матросским костюмчиком!
— Этот костюмчик купила тебе мама, не так ли? — обратилась миссис Мэдсон к Кэртису. — Мама покупает ему все его красивые вещи.
— О, так он зовет вас мамой? Как это мило! — вскричала миссис Суон.
— Да, мне кажется, так лучше, — сказала миссис Мэдсон.
На крыльце раздались чьи-то быстрые, уверенные шаги, и кто-то повернул ключ в замке. В прихожую вступил мистер Мэдсон.
— Ну как? — спросила миссис Мэдсон, обращаясь к своему супругу. Так она неизменно приветствовала его изо дня в день.
— Ничего, — отвечал мистер Мэдсон. Так он неизменно изо дня в день отвечал на ее приветствие.
Миссис Кэрли что-то проворковала. Миссис Суон чрезвычайно оживилась, замигала и прищурилась. Миссис Кук поднесла свою слуховую трубку к уху в надежде услышать что-нибудь новенькое.
— Ты, кажется, не знаком с миссис Суон, Альберт? — сказала миссис Мэдсон.
Мистер Мэдсон поклонился.
— О, я так много слышала о мистере Мэдсоне! — вскричала миссис Суон.
Мистер Мэдсон поклонился еще раз.
— А мы здесь подружились с вашим прелестным маленьким мальчиком, — сказала миссис Суон. Она ущипнула Кэртиса за щеку.
— Ах ты розанчик!
— Ну, Кэртис, — сказал мистер Мэдсон. — Разве ты не хочешь со мной поздороваться?
Кэртис протянул своему новому отцу руку и вежливо слабо улыбнулся. От застенчивости он опустил глаза.
— Вот так-то лучше, — изрек мистер Мэдсон. Исполнив отцовский долг, он обратился к своим светским обязанностям и храбро схватил разговорную трубку миссис Кук.
Кэртис внимательно наблюдал за ним.
— А на дворе холодает! — проревел мистер Мэдсон в трубку. — Я это предсказывал!
Миссис Кук закивала головой.
— Отлично! — прокричала она в ответ.
Мистер Мэдсон протиснулся вперед, чтобы распахнуть перед гостями дверь. Он был грузный мужчина, а прихожая была тесновата. Одна из пуговок на рукаве его пиджака зацепилась за слуховую трубку миссис Кук. Трубка с грохотом полетела на пол, извиваясь как змея.
Кэртис не выдержал. Он расхохотался. Звонко, неудержимо расхохотался. Он заливался смехом, невзирая на возгласы миссис Мэдсон: «Кэртис!», невзирая на грозно сдвинутые брови мистера Мэдсона. Он корчился от смеха, опираясь ручонками о загорелые коленки, и продолжал хохотать.
— Кэртис! — рявкнул мистер Мэдсон.
Смех оборвался. Кэртис выпрямился, и последний слабый стон восторга вырвался из его груди.
— Наверх! — загремел мистер Мэдсон, величественно вытянув вперед руку.
Кэртис повернулся и начал взбираться по лестнице. Он казался совсем крошечным возле высоких перил.
— Я не верю своим ушам… — сказала миссис Мэдсон. — С тех пор как он здесь, с ним еще никогда не случалось ничего подобного. Я ни разу не видела, чтобы он выкинул такое!
— С этим молодым человеком следует поговорить построже, — заявил мистер Мэдсон.
— С ним следует не только поговорить… — сказала его супруга.
Мистер Мэдсон наклонился, легонько крякнув при этом, поднял слуховую трубку и подал ее миссис Кук.
— Ничего, пожалуйста! — сказал он, предваряя ее благодарность, которая однако осталась невысказанной, и отвесил поклон.
— Прошу меня извинить! — тут же без дальних околичностей потребовал он и начал подниматься по лестнице.
Миссис Мэдсон направилась к дверям, замыкая шествие гостей. Вид у нее был озабоченный и огорченный.
— Никогда, — продолжала она твердить, — никогда не предполагала, что этот ребенок может так себя вести.
— Ах, дети выкидывают порой очень странные штуки, — заверила ее миссис Кэрли. — Особенно такие маленькие мальчики. Что с них возьмешь! Пустое, вы все это уладите. Я всегда говорю, что еще никогда в жизни не видала ребенка, который бы воспитывался лучше, чем ваш малютка. Ведь он у вас совсем как родной сын.
Сердце миссис Мэдсон снова исполнилось умиротворения.
— Ах, боже мой… — сказала она. Она улыбалась мягко, чуть ли не смущенно, затворяя за ними дверь.
ЧУДЕСНЫЙ ОТПУСК
Муж позвонил ей издалека и сказал, что ему дали отпуск. Она не ожидала этого звонка и растерялась, не зная, что ответить. Она тратила напрасно драгоценные секунды, объясняя ему, как удивлена, слыша его голос, рассказывая, что в Нью-Йорке идут сильные дожди, и спрашивая, не жарко ли там, где он находится. Он прервал ее — у него не было времени на длинные разговоры — и быстро сообщил, что их эскадрилью на следующей неделе перебрасывают на другой аэродром и по пути он получит суточный отпуск. Она с трудом разбирала его слова. Голос его сопровождался нестройным хором молодых голосов, выкрикивающих «эй!».
— Подожди, не вешай трубку, — сказала она. — Прошу тебя. Поговорим еще минутку, только минутку…
— Дорогая, нужно кончать, — сказал он. — Тут ребята все ждут очереди. Увидимся через неделю, около пяти. Пока.
Затем раздался щелчок, — телефон разъединили. Она медленно положила трубку, глядя на нее так, словно в ней была причина всех недоумений, разрушенных надежд и разлуки с ним. Через эту самую трубку она услышала его далекий голос. Все эти месяцы она старалась не думать о том огромном пустом пространстве, которое их разделяло; а теперь этот далекий голос доказал ей, что она только об этом и думала. Разговор был коротким и деловым. И в трубке раздавались веселые молодые голоса, голоса, которые он слышит каждый день, а она нет, голоса тех людей, с которыми он разделяет свою новую жизнь. И он послушался их, а не ее, когда она попросила его не вешать трубку. Она сняла руку с аппарата и отвела ее в сторону, с омерзением растопырив пальцы так, словно дотронулась до чего-то ужасного.
Пора прекратить эти глупости. Если постоянно выискивать что-нибудь, что причиняет боль и заставляет чувствовать себя несчастной и никому не нужной, то находить это с каждым разом становится все проще и в конце концов уже не замечаешь, что сама же этого искала. Одинокие женщины часто достигают в этом большого мастерства. Она не должна пополнять собой их унылые ряды.
Почему она, собственно, так огорчилась? Если времени на разговор у него не было — значит, не было, и тут уж ничего не поделаешь. Ведь он успел сообщить ей, что приедет сказать, что скоро они будут вместе. А теперь она сидит и сердито смотрит на телефон, на добрый, верный телефон, который принес ей такую приятную весть. Они увидятся через неделю. Всего лишь через неделю. Она почувствовала, как по спине у нее пробежали легкие мурашки, как будто раскручивались в спирали маленькие пружинки.
Надо, чтобы каждая минута этого отпуска была радостью. Она вспомнила, какое нелепое смущение нашло на нее, когда он приехал домой прошлый раз. Тогда она впервые увидела его в военной форме. Он стоял вот тут, в их маленькой квартире, бравый незнакомец в непривычном щегольском наряде. До его ухода в армию, они за всю свою совместную жизнь не провели порознь ни одной ночи, но, когда она увидела его в этой форме, она опустила глаза и начала смущенно мять носовой платок, не в силах выдавить из себя ничего, кроме каких-то нечленораздельных звуков. На этот раз они не должны так попусту терять драгоценные минуты. Нелепая застенчивость не должна украсть ни одного мгновения из этих прекрасных двадцати четырех часов, когда они будут вместе. Всего только двадцать четыре часа…
Нет, так думать нельзя, так не стоит думать. Именно таким образом она в прошлый раз все испортила. Как только застенчивость прошла и она снова почувствовала себя с ним как прежде, она начала считать минуты. Ее так переполняло отчаянное сознание того, что часы бегут — осталось всего двенадцать, всего пять, о господи, всего один час, — что веселому и спокойному настроению не оставалось места. Она потратила время, которое могло бы стать чудесным, на сетование по поводу того, что оно уходит. Когда наступил последний час, она казалась такой удрученной, говорила так медленно и печально, что он даже рассердился, что-то резко ей ответил, и произошла ссора. Тут он заторопился к поезду, они не обнялись, не сказали друг другу на прощанье нежных слов. Он подошел к двери, отворил ее и стал, прислонившись к косяку плечом, встряхнул свою фуражку и старательно надел ее, слегка надвинув на один глаз и на ухо. Она молча стояла посреди комнаты и безразлично смотрела на него. Когда фуражка его оказалась как раз на том месте, где ей надлежало быть, он взглянул на жену.
— Ну, — сказал он и откашлялся. — Мне, кажется, пора отправляться.
— Конечно, пора, — ответила она.
Он внимательно посмотрел на часы.
— Я как раз успею, — сказал он.
— Конечно, успеешь.
Она отвернулась, словно пожав плечами, подошла к окну и выглянула, казалось, для того, чтобы посмотреть, какая погода. Она услышала, как громко захлопнулась дверь, а затем раздался звук спускающегося лифта. Когда она поняла, что он ушел, невозмутимый и безразличный вид ее как рукой сняло. Она стала бегать взад-вперед по квартире, мучиться и рыдать.
Затем она два месяца провела в раздумьях о том, что произошло и как получилось, что она сама все разрушила. По ночам она плакала.
Нет, она не должна больше об этом думать. Она получила хороший урок; можно забыть о том, как она его получила. На сей раз его отпуск пройдет чудесно, они сделают все, чтобы он сохранился у них в памяти навсегда. Она может все поправить — они снова будут вместе двадцать четыре часа. В конце концов это не такой уж маленький срок; конечно, если не представлять его себе в виде коротенького ряда часов, которые осыпаются словно бусинки с порванной нитки. Надо представить себе целый длинный день и целую длинную ночь, наполненные радостью и счастьем, и тогда просто не поверишь, как тебе повезло… Много ли найдется людей, у которых были вот такие день и ночь, радостные и счастливые, воспоминания о которых они всегда хранят в своих сердцах?
Чтобы что-нибудь сохранить, нужно об этом заботиться и знать, как заботиться. Надо знать правила и не нарушать их. Она это может. В каждом своем письме к нему она доказывает это — вот уже сколько месяцев. Тут есть свои законы, которые необходимо усвоить, и первый из них, самый трудный, гласит: никогда не говори ему того, что тебе хочется услышать от него. Не рассказывай ему, как ты скучаешь без него все сильней и сильней, как каждый день, проведенный без него, наполняет тебя все большей тоской. Рассказывай ему веселые события твоей жизни, смешные происшествия, не обязательно выдуманные, но непременно остроумно приукрашенные. Не терзай его описаниями страданий твоего преданного сердца, потому что он твой муж, твой мужчина, твоя любовь. Ведь эти письма ты пишешь не мужу, не мужчине и не возлюбленному. Эти письма ты пишешь солдату.
Она знала все эти правила и готова была скорее умереть, чем излить жалобу, печаль или злость в письмо к своему мужу — далекому солдату, усталому и измученному, рискующему жизнью ради великого дела. И если в своих письмах она сумела быть совсем такой, как ему хотелось, то ведь, когда они будут вместе, это будет гораздо проще. Писать письма трудно; надо выбирать и обдумывать каждое слово. Когда они снова будут вместе, когда они снова смогут увидеть, услышать и обнять друг друга, всякая неловкость исчезнет. Они будут болтать и смеяться. Вновь их охватит нежность и волнение. Все будет так, словно они никогда не расставались. Может быть, они и в самом деле никогда не расставались? Может быть, эта странная новая жизнь, это странное пустое расстояние, разделяющее их, эти странные веселые голоса и не существуют для двоих, чьи души слиты воедино?
Она все тщательно обдумала. Она усвоила, чего не надо делать. А теперь она целиком отдастся радости ожидания. Впереди у нее чудесная неделя. Она считала часы, но теперь было приятно сознавать, что время проходит. Завтра, послезавтра, после послезавтра. Она лежала в темноте и не могла заснуть, но это бодрствование было упоительным. Днем она ходила, распрямив плечи, с высоко поднятой головой, гордясь своим воином. На улице она с удивлением и жалостью смотрела на женщин, которые шли под руку со штатскими.
Она купила себе новое платье — черное (он любил черные платья), простое (он любил простые платья) и такое дорогое, что она старалась не вспоминать о цене. Она купила его в долг, понимая, что в течение ближайших месяцев ей придется сократить расходы. Ну и пусть, сейчас не время думать о ближайших месяцах.
Его отпуск приходится как раз на субботу. Она испытывала глубокую благодарность к военному начальству за это совпадение: после часа дня в субботу она была свободна. Не задерживаясь на обед, она прямо по дороге с работы зашла в магазин и купила духи, туалетную воду и душистое масло для ванны. У нее еще оставалось немного всего этого в флаконах на туалетном столике и в ванной комнате, но ей хотелось купить побольше — так она чувствовала себя более желанной и более уверенной. Она приобрела себе ночную сорочку, — прелестную вещицу из нежного шифона, с узором из цветов и с забавными рукавами-фонариками, закрытым воротом и голубым пояском.
Эта сорочка не выдержит ни стирки, ни глаженья, надо будет отдавать ее французу в чистку, — ну и пусть. Она поспешила со своей покупкой домой, чтобы положить ее в атласное саше. Потом она снова вышла из дому и купила все для коктейлей и виски с содовой — дороговизна привела ее в ужас. Она прошла с десяток кварталов в поисках соленых бисквитов, которые он любил. На обратном пути она увидела цветочный магазин, в витрине которого были выставлены фуксии в горшках. Она даже не пыталась противиться соблазну. Фуксии были слишком очаровательны, — нежные опрокинутые чашечки бледно-желтого цвета, изящные красные колокольчики. Она купила шесть горшков. Следующую неделю придется остаться без завтраков, — ну и пусть.
Когда она закончила уборку своей маленькой гостиной, та обрела приветливый и веселый вид. Горшки с фуксиями она установила на подоконнике, раздвинула стол и расставила на нем бутылки и стаканы, взбила подушки и соблазнительно разложила кругом журналы в пестрых обложках. Это была комната, где ждали желанного гостя.
Перед тем как переодеться, она позвонила вниз швейцару, который одновременно исполнял обязанности лифтера.
— Я хотела предупредить вас, — сказала она, когда он в конце концов взял трубку. — Приедет мой муж, лейтенант Мак-Викер, так пусть он сейчас же поднимется ко мне.
В этом звонке вовсе не было необходимости. Усталый швейцар поднимал на лифте кого угодно, на какой угодно этаж без дополнительного указания по телефону. Но ей хотелось произнести эти слова. Хотелось сказать «мой муж», хотелось сказать «лейтенант».
Напевая, она прошла в ванную комнату, чтобы переодеться. Голос у нее был небольшой, но приятный, и мужественная песня, которую она пела, в ее устах звучала смешно:
Мы взмываем в пустоту небес, Разрезая голубую высь, высь, высь! Вон они, летят наперерез. Эй, стрелки, огонь! Теперь держись!Она продолжала напевать, сосредоточенно крася губы и ресницы. Потом умолкла и, затаив дыхание, стала надевать новое платье. Платье сидело хорошо. Платить такие деньги за эти простые, чудесно сшитые черные платья имело смысл. Она с глубоким интересом разглядывала себя в зеркале, словно какую-нибудь элегантную незнакомку, детали костюма которой ей хотелось запомнить.
Раздался звонок в дверь. Позвонили три раза, громко и отрывисто. Он приехал.
Чуть не задыхаясь от волнения, она стала шарить руками по туалетному столику, схватила пульверизатор и начала неистово опрыскивать духами голову и плечи. Она сильно надушилась, но ей хотелось повременить еще минутку, еще мгновение, совсем немного. Снова ее охватила эта непонятная, возмутительная робость. Не в силах заставить себя подойти к двери и открыть ее, она стояла вся дрожа и разбрызгивала кругом духи.
Снова три раза подряд громко и отрывисто позвонили, а затем начали звонить непрерывно, словно кто-то там за дверью потерял терпение.
— О, неужели нельзя подождать? — крикнула она, бросила пульверизатор, растерянным взглядом обвела комнату, словно ища места, куда бы можно было спрятаться, потом решительно выпрямилась и попробовала побороть дрожь. Трезвон, казалось, заполнил всю комнату, вытесняя из нее воздух.
Она бросилась к двери, остановилась по пути и, уткнув лицо в ладони, шепотом взмолилась: «Боже, пусть все будет хорошо, не дай мне наделать глупостей. Прошу тебя».
И открыла дверь. Трезвон прекратился.
Он стоял посреди ярко освещенной маленькой передней. Вот и конец всем длинным печальным ночам, мужественным благоразумным обетам. Он приехал, и вот она стоит перед ним.
— Господи! Я и понятия не имела, что ты здесь. Притаился, как мышь.
— Вот как! И долго ты думала мне не открывать? — спросил он.
— Надо ведь женщине надеть туфли.
Он вошел и закрыл за собой дверь.
— Дорогая моя, — сказал он и обнял ее.
Она скользнула щекой по его губам, прильнула лбом к его плечу и вырвалась из его объятий.
— Рада видеть вас, лейтенант. Ну как там на войне?
— Как ты? — спросил он. — Выглядишь ты прекрасно.
— Я? — удивилась она. — Посмотри лучше на себя.
На него действительно стоило посмотреть. Прекрасный китель подчеркивал его прекрасную фигуру. Он был прямо создан для военной формы, но, казалось, не сознавал этого. Выправка у него была отличная, движения уверенные и изящные, лицо коричневое от загара и худое, такое худое, что под кожей ясно проступали скулы, но напряжения в лице не было. Оно было спокойным, безмятежным и уверенным. Смотреть на этого американского офицера было приятно.
— Ну! — сказала она и заставила себя поднять на него глаза. Оказалось, что теперь ей это вовсе не трудно. — Ну, не можем же мы стоять тут вечно и говорить друг другу «ну!». Входи и располагайся. У нас впереди так много времени… О Стив, правда, это чудесно? Послушай, а где же твой чемодан?
— Видишь ли… — сказал он и умолк.
Он бросил свою фуражку на стол между бутылок и стаканов.
— Чемодан я оставил на вокзале. Боюсь, дорогая, что у меня для тебя неприятные новости.
Она едва удержалась, чтобы не схватиться за сердце.
— Ты… ты сразу поедешь за океан? — спросила она.
— О господи, нет, — сказал он. — Нет, нет, нет. Я же сказал, что у меня новости неприятные. Нет. Новый приказ, детка. Все отпуска отменены. Мы должны немедленно отправляться на новый аэродром. Поезд отходит в шесть десять.
Она опустилась на диван. Ей хотелось плакать; не молчаливо, тихими красивыми слезами, нет, ей хотелось реветь в голос, размазывая слезы по лицу. Ей хотелось броситься ничком на пол, бить ногами и визжать, а если кто-нибудь попытается ее поднять, лежать с безжизненным видом.
— Это ужасно, — сказала она. — Это просто гнусно.
— Знаю, — сказал он. — Но тут уж ничего не поделаешь. Армия есть армия, миссис Джонс.
— Неужели ты ничего не мог сделать? — спросила она. — Неужели ты не мог сказать, что отпуск у тебя бывает лишь раз в полгода? Неужели ты не мог сказать, что единственная возможность для твоей жены повидать тебя — только в эти несчастные двадцать четыре часа? Неужели ты не мог им объяснить, что это для нее значит? Неужели не мог?
— Послушай, Мими, — сказал он, — ведь сейчас война.
— Извини меня, — сказала она. — Я говорила и уже жалела, что говорю. Говорила и уже жалела. Но это так тяжело!
— Всем нелегко. Ты даже не представляешь себе, как ребята ждали своих отпусков.
— Ах, какое мне дело до твоих ребят! — воскликнула она.
— Ну если так рассуждать, то победы нам не дождаться, — сказал он.
Он уселся в самое большое кресло, вытянул и скрестил ноги.
— Единственное, что тебя беспокоит, это твои летчики.
— Послушай, Мими, — сказал он. — У нас нет на это времени. У нас нет времени, чтобы ссориться и высказывать друг другу то, что мы вовсе не думаем. Нам надо торопиться. На это уже не осталось времени.
— Я знаю, — сказала она. — О Стив, я ведь знаю!
Она подошла, уселась на ручку кресла и спрятала лицо у него на плече.
— Ну вот, так лучше, — сказал он. — Я все время мечтал об этом. — Не меняя положения, она кивнула головой. — Если бы ты знала, какое это удовольствие снова сидеть в удобном кресле, — сказал он.
Она выпрямилась.
— Ах, дело оказывается в кресле. Очень рада, что тебе оно нравится.
— В жизни не видывал таких дрянных кресел, как в комнате для летчиков, — сказал он. — Несколько провалившихся старых качалок, честное слово, просто качалок, которые великодушные патриоты подарили нам, чтобы освободить свои чердаки. Если на новом аэродроме не будет лучшей мебели, я что-нибудь предприму на этот счет, пусть даже самому придется ее приобретать.
— Будь я на твоем месте, я непременно бы так поступила, — сказала она. — Ходила бы голодной, не отдавала бы белье в стирку — лишь бы ребятам было удобно сидеть. Я бы экономила даже на почтовых марках и писала бы жене как можно реже.
Она поднялась и стала ходить по комнате.
— Мими, что с тобой? — спросил он. — Ты ревнуешь меня к летчикам?
Она сосчитала про себя до восьми, потом с улыбкой повернулась к нему.
— Да, мне кажется, ревную, — сказала она. — Мне кажется, что я испытываю именно это чувство. И ревную не только к летчикам. Ко всему военно-воздушному флоту. Ко всей армии Соединенных Штатов.
— Ты замечательная, — сказал он.
— Видишь ли, — осторожно начала она, — у тебя совсем новая жизнь, а у меня — обломки старой. Твоя жизнь так далека от моей, что я не представляю себе, как они снова сольются в одну.
— Чепуха, — сказал он.
— Нет, подожди. Мне немного не по себе… словно я боюсь чего-то, вот почему я говорю такие вещи, о которых потом пожалею. Но ты ведь знаешь, что я о тебе на самом деле думаю. Я горжусь тобой так… трудно даже это выразить. Я знаю, ты делаешь самое важное дело на свете, может быть даже единственно важное. Только… О Стив, мне бы так хотелось, чтобы ты не отдавался ему весь.
— Послушай, — сказал он.
— Нет! Не перебивай, когда говорит женщина. Это не к лицу офицеру, так же не к лицу, как таскать свертки по улице. Я просто хочу объяснить тебе свое состояние. Я не могу привыкнуть к тому, что ты совсем не уделяешь мне внимания. Ты даже не интересуешься, что я делаю, тебя не заботит, о чем я думаю… да что говорить, ты даже никогда меня не спросишь, как я себя чувствую!
— Неправда! — сказал он. — Я спросил тебя об этом, как только вошел.
— Это было очень благородно с твоей стороны.
— О, ради бога! — сказал он. — Мне не нужно было тебя спрашивать. Я мог судить об этом по твоему виду. Вид у тебя чудесный. Я тебе об этом сказал.
Она улыбнулась ему.
— Да, ты сказал. Разве я отрицаю? И у тебя это прозвучало искренне. Тебе в самом деле нравится мое платье?
— Ну конечно, — сказал он. — Мне всегда нравилось это твое платье.
Она прямо окаменела от изумления.
— Это платье, — сказала она с подчеркнутой издевкой, — с иголочки новое. Я его не надевала ни разу в жизни. Если тебя интересует, я купила его специально для этого случая.
— Извини меня, дорогая, — сказал он. — Конечно, теперь я вижу, что это не то платье. Оно просто великолепно. Я люблю тебя в черном.
— В такие минуты мне почти хочется, — сказала она, — надеть его совсем по другому случаю.
— Перестань, — сказал он. — Сядь и расскажи мне о себе. Что ты делала это время?
— Ничего, — сказала она.
— Как на работе? — спросил он.
— Тоска. Тоска и болото.
— С кем ты встречалась?
— Ни с кем.
— Так чем же ты занимаешься?
— По вечерам? О, я просто сижу здесь и вяжу или читаю детективные романы, которые, оказывается, уже читала раньше.
— Мне кажется, ты поступаешь неправильно, — сказал он. — Я считаю, что просто глупо сидеть в одиночестве и хандрить. Никому от этого нет никакой пользы. Почему бы тебе не ходить куда-нибудь?
— Я ненавижу ходить куда-нибудь с подругами, — сказала она.
— А почему обязательно с подругами? Разве Ральфа нет в городе? А Джона, Билла, Джеральда? Почему бы тебе не пойти с ними? Ты просто глупышка, что не делаешь этого.
— Мне не приходило в голову, — сказала она, — что хранить верность своему мужу считается глупостью.
— Зачем так преувеличивать? Разве нельзя пойти пообедать с мужчиной и не нарушить при этом супружеской верности? И не говори так возвышенно. Ты становишься ужасной, когда впадаешь в изысканный стиль.
— Знаю, — сказала она. — У меня никогда это не получается, сколько бы я ни старалась. Нет. Это ты ужасный, Стив. Я не шучу. Я пытаюсь дать тебе заглянуть в мое сердце, рассказать тебе, каково мне без тебя, как мне не хочется бывать ни с кем, если тебя нет со мной. А ты мне на это отвечаешь, что никому от этого нет никакой пользы. Приятно мне будет об этом вспоминать, когда ты уедешь. Ты даже не представляешь, каково мне здесь одной. Ты просто не знаешь.
— Я знаю, — сказал он. — Знаю, Мими. — Он потянулся за сигаретой к маленькому столику рядом, и внимание его привлек яркий журнал. — Последний номер? Я его еще не видел.
Он быстро перелистал первые страницы.
— Читай, читай, если хочется, — сказала она. — Я тебе мешать не буду.
— Я не читаю. — Он отложил журнал. — Видишь ли, я не знаю, как тебе ответить, когда ты говоришь о том, что раскрываешь мне свое сердце, и все такое. Я знаю. Знаю, что тебе должно быть плохо. Но не слишком ли ты сама себя жалеешь?
— Если я сама себя не пожалею, — сказала она, — то кто же меня пожалеет?
— А почему тебя, собственно, надо жалеть? — спросил он. — Не сиди все время одна, и все будет в порядке. Мне бы хотелось думать, что, пока я в отъезде, ты тут неплохо развлекаешься.
Она подошла и поцеловала его в лоб.
— Лейтенант, — сказала она. — Вы ведете себя гораздо благороднее, чем я. А может, за этим скрывается что-то другое!
— Ну, успокойся же, — сказал он, привлек ее к себе и обнял. Она нежно прильнула к нему и замолчала, а потом почувствовала, как он высвободил левую руку и повернул голову. Она посмотрела на него. Он вытянул шею, пытаясь через ее плечо взглянуть на свои ручные часы.
— Ах, вот как? — Она уперлась ему в грудь руками и резко оттолкнула от себя.
— Время просто летит, — тихо сказал он, не спуская глаз с часов. — У нас… у нас осталось так мало времени, дорогая.
Она снова растаяла.
— Стив, любимый, — шептала она.
— Мне очень хочется принять ванну, — сказал он. — Вставай, детка, ладно?
Она тут же вскочила.
— Ты хочешь принять ванну?
— Да, — сказал он, — ты ведь не против?
— О, ничуть, — сказала она. — Ты получишь удовольствие. Я всегда считала, что ванна — один из приятнейших способов убить время.
— Ведь после долгого путешествия в поезде всегда приятно помыться, — сказал он.
— О, разумеется.
Он встал и прошел в спальню.
— Я быстро, — крикнул он ей оттуда.
— Зачем спешить? — сказала она.
Она потратила минуту на раздумье, потом прошла за ним в спальню, ласковая, с заново принятым решением.
Он аккуратно повесил куртку и галстук на спинку стула и расстегнул рубашку. Когда она вошла, он ее снимал. Она посмотрела на красивый коричневый треугольник его спины. Ради него она сделает все, все на свете.
— Я сейчас пущу тебе воду.
Она прошла в ванную, отвернула краны и приготовила полотенца и коврик. Когда она вернулась в спальню, он как раз входил в нее из гостиной. Он был совсем раздет и держал в руке журнал, который перед тем смотрел.
Она остановилась.
— О, ты собираешься читать, лежа в ванной? — проговорила она.
— Если бы ты знала, как я мечтал об этом! — сказал он. — Черт возьми, настоящая горячая ванна! У нас там не было ничего, кроме душа. Принимаешь душ, а тебя уже ждет сотня ребят, и все кричат тебе, чтобы ты поторапливался и выметался.
— Наверное, они тяжело переносят разлуку с тобой, — сказала она.
Он улыбнулся.
— Я моментально, — он прошел в ванную и закрыл за собой дверь.
Она слышала, как плескалась и булькала вода, когда он ложился в ванну.
Она стояла не шевелясь. В комнате пахло разбрызганными духами, слишком сильно, слишком навязчиво. Взгляд ее остановился на ящике комода, где в мягком благоухании саше лежала ночная сорочка из шифона с узором из цветов и закрытым воротом. Она подошла к дверям ванной комнаты, и со всего маху ударила по ней ногой, так яростно, что затряслась дверная рама.
— Что такое, дорогая? — отозвался он. — Тебе что-нибудь нужно?
— Ничего, — отозвалась она. — Решительно ничего. У меня есть все, чего только может желать женщина, разве не так?
— Что? — закричал он. — Не слышу, дорогая.
— Ничего, — взвизгнула она.
Она стояла, тяжело дыша, посреди гостиной, впиваясь ногтями в ладони и смотрела на цветы фуксий, на их грязно-желтого цвета чашечки, на вульгарные ярко-красные колокольчики.
Когда он снова вошел в гостиную, она уже пришла в себя, руки ее успокоились. Он был в брюках и рубашке, галстук завязан по всем правилам. В руке он держал пояс. Она обернулась, хотела ему что-то сказать, но, увидев его, только улыбнулась. Сердце ее растаяло.
Он наморщил брови.
— Послушай, девочка. Нет ли у тебя политуры для чистки меди?
— Конечно, нет, — сказала она. — У нас нет в доме меди.
— Тогда, может быть, есть лак для ногтей — бесцветный? Многие ребята его употребляют.
— Представляю, как это, должно быть, им идет, — сказала она. — Нет. У меня есть только розовый лак. Позвольте вам предложить. Может, вам и розовый подойдет?
— Нет, — сказал он с каким-то озабоченным видом. — Розовый совсем не подойдет. Черт! Может быть, у тебя найдется «Блитц Клоз» или «Шайн-О»?
— Если бы я понимала, о чем вы говорите, — сказала она, — я была бы более интересной собеседницей.
Он протянул ей пояс.
— Хочу почистить пряжку.
— Господи… — сказала она. — Господи, у нас осталось всего десять минут, а тебе понадобилось чистить пряжку.
— Мне не хотелось бы явиться к новому начальству с нечищенной пряжкой, — ответил он.
— Но она достаточно блестела для того, чтобы явиться к жене?
— Перестань, — сказал он. — Ты просто нарочно ничего не хочешь понять, вот и все.
— Дело не в том, хочу или не хочу, — ответила она. — Нет, я просто забываю. Ведь я так давно не находилась в обществе бойскаута.
— Очень остроумно, не так ли? — Он осмотрелся. — Где бы мне взять тряпку? Вот эта, кажется, подойдет. — Он схватил со стола, где стояли нетронутые бутылки и стаканы, хорошенькую маленькую салфетку для коктейлей, уселся, положив на колени пояс, и стал салфеткой тереть пряжку.
Она с минуту наблюдала за этим, потом бросилась к нему и схватила его за руку.
— Пожалуйста, прости меня, Стив, я не хотела, чтобы так вышло.
— Пожалуйста, не мешай мне, хорошо? — сказал он и, выдернув свою руку из ее руки, стал снова чистить пряжку.
— Ты говоришь мне, что я не хочу понять, — крикнула она. — Это ты ничего не хочешь понять, если только дело не касается твоих дурацких летчиков.
— Они ничего. Отличные ребята. Из них выйдут прекрасные солдаты. — Он продолжал натирать пряжку.
— Я знаю, — сказала она. — Тебе известно, что я это знаю. Я совсем не это имела в виду, когда нападала на них. Разве я бы посмела? Они рискуют жизнью, зрением, здоровьем, они отдают все за…
— Не впадай в этот тон, хорошо? — сказал он, натирая пряжку.
— Я не впадаю в тон! Я просто пытаюсь тебе кое-что объяснить. Ты надел красивый костюм и вообразил, что с тобой ни о каких серьезных, печальных или неприятных вещах и поговорить нельзя? Ты мне противен, вот что! Я знаю, знаю… я совсем не пытаюсь что-нибудь у тебя отнять, я отдаю себе отчет в том, что ты делаешь, и ты знаешь, что я об этом думаю. Ради бога, не считай меня скверной, плохой, способной завидовать счастью и удовольствию, которые ты от этого получаешь. Я знаю, что тебе трудно. Но тебе никогда не бывает одиноко, вот все, что я хотела тебе сказать. У тебя есть дружба, которую никакая жена не может тебе дать. Мне кажется эта вечная спешка, а возможно и сознание, что вы живете на одолженное время… понимание, чем вы все вместе рискуете — вот что делает дружбу мужчин на войне такой тесной, такой крепкой. Но пойми же, каково мне. Пойми, что все это от растерянности, одиночества и… и, наверное, от страха. Пойми, что заставляет меня вести себя так, и почему я в тоже время сама себя за это презираю? Пойми меня, дорогой.
Он отложил салфетку в сторону.
— Я не могу больше этого выносить, Мими. И ты не можешь. — Он посмотрел на часы. — Мне уже пора.
Она стояла прямо и неподвижно.
— Конечно, пора, — сказала она.
— Мне пора одеваться, — сказал он.
— Одевайся, — сказала она.
Он встал, затянул ремень и направился в спальню. Она подошла к окну и выглянула, казалось для того, чтобы посмотреть, какая погода.
Она слышала, как он вошел в комнату, но она не обернулась. Потом шаги его замолкли, и она знала, что он стоит за ее спиной.
— Мими, — сказал он.
Она повернулась к нему, выпрямившись и откинув голову, холодная и надменная. И тут она увидела его глаза. Они уже не сияли больше весельем и уверенностью. Синева их затуманилась. Они стали печальными и смотрели на нее умоляюще.
— Послушай, Мими, — сказал он. — Неужели ты думаешь, что мне это приятно? Неужели ты думаешь, что мне хочется от тебя уезжать? Неужели ты думаешь, что я не жалею о том, что все так получилось? И это в те годы, — ну, словом, в те годы, когда мы должны быть вместе.
Он замолчал. Потом снова заговорил, но с трудом:
— Я не могу об этом говорить. Я даже не могу об этом думать… потому что иначе я не смогу работать. Но, если я не говорю об этом, это еще не значит, что я хочу делать то, что делаю. Я хочу быть с тобой, Мими. Мое место здесь. Ты ведь знаешь это, родная. Правда?
Он протянул к ней руки. Она бросилась в его объятия. На этот раз она уже не скользнула щекой по его губам.
Когда он ушел, она постояла минутку возле горшков с фуксиями, нежно дотрагиваясь До очаровательного бледно-желтого цвета чашечек, до восхитительных красных колокольчиков.
Зазвонил телефон. Она взяла трубку. Подруга спрашивала ее о Стиве, как он себя чувствует и как выглядит, просила, чтобы он подошел к телефону и поздоровался с ней.
— Он уехал, — ответила она. — Все отпуска отменили. Он не пробыл здесь и часа.
Подруга выразила сочувствие. Это же позор, это просто ужасно, это кошмарно.
— Нет, не говори так, — сказала она. — Времени действительно было мало. Но все было так чудесно!
КУЗЕН ЛАРРИ
Молодая женщина в платье из крепдешина, разрисованном маленькими пагодами и гигантскими васильками, перебросила ногу на ногу и с завидным удовольствием принялась рассматривать носок своей резной зеленой сандалии. Затем с таким же безмятежно спокойным видом, она уставилась на свои ногти — блестящие и столь густо-красного цвета, словно она голыми руками только что растерзала на части быка. Резко уронив голову на грудь, она стала теребить на затылке свои короткие, жесткие и сухие, как стружки, перманентные локоны и снова погрузилась в уютное довольство собой. Она закурила свежую сигарету; как и все вокруг, сигарета ей, видимо, понравилась, и тут она начала рассказывать все сначала.
— Нет, право, мне, честно говоря, чертовски надоели все эти разговоры вокруг Лайлы. Только и слышишь: «Ах, бедная Лайла это, ах, бедняжка-то». Если они хотят ее пожалеть… что Ж, я полагаю, мы живем в свободной стране, но могу только сказать: мне кажется, они просто посходили с ума. Я считаю, что все они абсолютно спятили. Если им непременно надо кого-нибудь жалеть, то пусть жалеют кузена Ларри. Почему они его не жалеют? Это хоть, по крайней мере, будет разумно. Послушайте, зачем жалеть Лайлу? Ей чудесно живется, ведь она никогда не делает того, чего ей не хочется. Вряд ли еще кому-нибудь живется так, как ей. И уж во всяком случае, она сама во всем виновата — ничего с ней не поделаешь: всему виной ее противный подлый характер. Ну, скажите, разве можно жалеть человека, если он сам во всем виноват? Ну разве это разумно? Я вас спрашиваю!
Видите ли, я знаю Лайлу. Знаю уже много лет. Я наблюдала ее чуть не каждый день; ну вы же знаете, как часто я гостила в их загородном доме. А когда часто гостишь у людей, их узнаешь очень близко. Вот именно так я знаю Лайлу. И мне она нравится. Честное слово, нравится. Мне Лайла вполне нравится, когда она держит себя прилично. Но когда она начинает сама себя жалеть и скулить, и соваться ко всем со своими вопросами, и портить всем настроение, вот тогда я выхожу из себя. Чаще всего она бывает вполне терпима. Просто она ужасная эгоистка. Эгоистка до мозга костей. А люди еще сплетничают про Ларри, что он живет в городе и бывает повсюду без нее! Уж поверьте мне, Лайла сидит дома потому, что ей так хочется. Она предпочитает рано ложиться спать. Я наблюдала это в течение многих вечеров, когда гостила у них. Я ее вижу насквозь. Попробуйте-ка заставить такую делать то, чего ей не хочется!
Честное слово, меня просто бесит, когда я слышу, как сплетничают по адресу Ларри. Вот пусть попробуют порочить его в моем присутствии. Нет, этот человек просто святой, настоящий святой. Прожить десять лет с такой женщиной и при этом остаться в живых и не заплесневеть — этого я просто понять не могу. Она не оставляет его в покое ни на секунду; вечно во все суется, вечно интересуется, кто что сказал и над чем это он смеется, и, о, скажите ей, скажите ей, чтобы она тоже могла посмеяться. А сама она из тех серьезных старых дур, которых ничто не может рассмешить, и шутить она не умеет, и тоже еще пытается кокетничать — ну на это уже просто смотреть невозможно. Бедный Ларри, ведь он такой остроумный и у него столько чувства юмора, и все такое. Мне кажется, она опротивела ему уже много лет назад.
И, если она замечает, что бедняге хоть на минуту с кем-нибудь стало весело, она… ну, не то, чтобы ревнует, — она чересчур самодовольна, чтобы кого-нибудь ревновать, — нет, у нее просто мерзкая подозрительная душонка и грязный ум. Так вот она не ревнует, а просто предпочитает портить всем жизнь. Из-за кого? Из-за меня. Ну, как вам это нравится? Ведь я знакома с Ларри всю жизнь, просто всю жизнь. Я зову его «кузен Ларри» в течение многих лет — это говорит о том, как я к нему отношусь. И в первый же раз, как я поехала за город погостить у них, она принялась допрашивать меня, почему я называю его «кузен Ларри», и я сказала: «О, я знаю его так давно, что чувствую себя вроде как родственницей», — и тут она вдруг стала со мной сюсюкать, старая дура, и сказала: ну хорошо, в таком случае мне придется тоже принять ее в семью, и я сказала — да, это будет чудесно или что-то в этом роде. И я пробовала называть ее «тетя Лайла», но это у меня как-то не вышло, и, во всяком случае, ее это не обрадовало. Нет, она просто принадлежит к той породе женщин, которые испытывают удовольствие от того, что они несчастны. Ей нравится чувствовать себя несчастной. Поэтому она всячески старается быть несчастной! Попробуйте-ка заставить ее делать то, чего ей не хочется!
Честное слово! Бедный кузен Ларри! Представьте, какую грязь сочинила эта мерзавка: пыталась приписать мне бог знает что только потому, что я называю его «кузен Ларри». Ну, я, конечно, не дала ей испортить наши отношения, я считаю, что моя дружба с Ларри выше всего этого. А он называет меня «радость моя», так как делал и раньше. Он всегда называл меня своей радостью… Ну разве трудно догадаться, что, если бы за этим что-нибудь крылось, он не стал бы постоянно в ее присутствии называть меня так.
Право, меня вовсе не трогает, что она меня в чем-то подозревает, — нет, просто мне ужасно жаль Ларри. Ноги бы моей в этом доме не было, если бы не он. Ведь он говорит… само собой разумеется, он в жизни не сказал о ней плохого слова, он из тех мужчин, которые плохого слова не скажут о женщине, раз уж она его жена. Так он говорит, никому и в голову не может прийти, что значит сидеть в загородном доме наедине с Лайлой. Главным образом поэтому я туда и отправилась. И сама убедилась. В первый же вечер она улеглась спать в десять часов. Мы с кузеном Ларри проигрывали старые граммофонные пластинки… Ну надо же нам было чем-то заниматься, а она не смеялась, не шутила, не делала ничего того, что делали мы, а просто сидела, словно аршин проглотив; и получилось так, что мне случайно попались старые песенки, которые мы с Ларри раньше пели и под которые танцевали, и все такое. Ну знаете, как бывает, когда вы близко знакомы с мужчиной, — у вас всегда найдутся какие-то вещи, которые вам о многом напоминают; и вот мы смеялись, и проигрывали эти пластинки, и как бы спрашивали друг друга: «Ты помнишь то время?» и «О чем это тебе напоминает?» — и так далее, ну так, как у всех бывает. И не успели мы оглянуться, как Лайла поднимается и заявляет, что мы, вероятно, не будем возражать, если она пойдет спать… Она так ужасно устала. И тут Ларри мне сказал, что она так всегда делает, если кому-нибудь весело. Ну, а когда она бывает вот такой ужасно усталой и в доме случайно оказывается гость — тем хуже для него. Такая ничтожная причина, как гость, для нее вовсе не помеха. Если она хочет ложиться спать, она идет и ложится.
Вот поэтому я там так часто и гостила. Вы себе представить не можете, какое это счастье для Ларри, если с ним кто-нибудь остается, когда в десять часов милая Лайла укладывается спать. К тому же днем бедняга может играть со мной в гольф. Лайла не играет в гольф, — о, у нее что-то неладно с желудком, ничего удивительного. Если бы не Ларри, ноги бы моей в его доме не было. Вы же знаете, как он падок до развлечений. А Лайла уже стара — не женщина, а просто развалина. Честное слово. Ларри… конечно, возраст не имеет никакого значения, то есть я хочу сказать: какая разница, сколько человеку лет, важно, как он себя чувствует. А Ларри еще совсем мальчишка. Я все время твержу Лайле, стараясь рассеять ее грязные, подлые подозрения, что мы оба с кузеном Ларри просто дети, проказливые дети.
Ну вот я вас спрашиваю, неужели она никогда не наберется ума и не сумеет понять, что для нее уже все кончено и единственное, что ей остается — это сидеть в сторонке и предоставлять людям веселиться, как им хочется. Себе-то она в удовольствии не отказывает. Ложиться рано спать — вот что ей нравится. И никто ей не мешает. Так неужели она не может не соваться в чужие дела и не приставать все время с вопросами — что да как.
Вы только подумайте! Однажды, когда я там гостила, на платье у меня были приколоты свежие орхидеи. Ну, Лайла и сказала: «О, какие прелестные орхидеи», и все такое, и спросила, кто их мне прислал. Честное слово, так именно нарочно и спросила, кто их мне прислал. Ну, я подумала: «Хорошо, я сейчас тебя проучу», и сказала ей: «Это мне подарил кузен Ларри». Я объяснила ей, что это как бы наша с ним маленькая годовщина, ну, вы знаете, как бывает, когда вас первый раз приглашают в ресторан, или впервые дарят цветы, или еще что-нибудь в этом роде.
Это было именно такой годовщиной, и я сказала Лайле, какой кузен Ларри чудесный друг, и как он всегда помнит такие вещи, и что он, видимо, получает огромное удовольствие, делая другим людям приятное. Так я вас спрашиваю: когда человек говорит так прямо, разве не ясно, что за этим ничего дурного не скрывается? А знаете, что она на это ответила? Вот честное слово, она сказала: «Я тоже люблю орхидеи». Ну, тут я подумала: «Будь ты на пятнадцать лет помоложе, крошка, возможно, и нашелся бы какой-нибудь мужчина, который прислал бы их тебе», — но я, конечно, не высказала этого вслух. Я просто сказала: «О, Лайла, приколите мои, хотите?» Или что-то в этом роде. И ведь это была любезность — я не обязана была говорить это. О нет, она не хочет, сказала она. Нет, она лучше пойдет и полежит немножко, если я ничего не имею против. Она себя чувствует ужасно усталой.
А потом, — о дорогая, я чуть не забыла вам рассказать. Вы сейчас просто помрете от смеха. Просто в обморок упадете. Последний раз, когда я там была, кузен Ларри подарил мне шифоновое трико: ничего прелестнее я в жизни не встречала. Вы видели, наверное, такое розовое трико с черной вышивкой сзади: «Mais l’amour viendra», что означает: «Любовь придет». Знаете? Он заметил их в какой-то витрине и взял ради шутки да и прислал мне. Он вечно такие вещи делает… Но только, ради бога, никому об этом не говорите, хорошо? Ей-богу, если бы за этим хоть что-нибудь крылось, я бы вам об этом не рассказала, вы же понимаете, но ведь люди злы. Только из-за того, что я иногда хожу с ним куда-нибудь, чтобы бедняга не скучал, когда Лайла ложится спать, — уже одно это вызывает достаточно пересудов.
Ну так вот, он прислал мне трико, и, когда я спустилась к обеду, мы оказались втроем: это она тоже любит устраивать. Ни за что не приглашает гостей, пока он твердо на этом не настоит. И я сказала Ларри: «А они на мне, кузен Ларри». Ну, ясное дело, Лайла услышала и тут же спросила: «Что на вас?» И она повторяла и повторяла свой вопрос, а я, конечно, не намерена была ей отвечать, и вдруг меня такой хохот стал разбирать, что я еле-еле сдерживалась, и каждый раз, как я взглядывала на Ларри, мы оба с ним так и прыскали со смеху. А Лайла все допытывалась, в чем дело, что тут смешного, ну скажите ей и скажите ей. И наконец, увидев, что мы не собираемся ей говорить, она, конечно, отправилась спать, не думая, приятно нам это или нет. Бог мой, неужели люди не могут пошутить? Разве мы живем не в свободной стране?
Честное слово. И она все хуже и хуже становится. Я просто страдаю за Ларри. Не знаю, что он намерен дальше делать. Знаете, ведь такая женщина и через миллион лет не даст мужчине развода, будь у него даже деньги. Ларри никогда ничего не говорит, но, честное слово, наверняка бывают минуты, когда он мечтает, чтоб она умерла. И при этом все твердят: «Ах, бедная Лайла, ах, бедная Лайла, какая бессердечность!» И все потому, что она всем по углам плачется, что у нее нет детей. О, как бы она хотела иметь ребенка. О, если бы только у них с Ларри был ребенок, бла, бла, бла, бла, бла. И тут же глаза ее наполняются слезами — вы видели, как она это умеет делать. Глаза наполняются слезами! А о чем ей, собственно, плакать, ведь она вечно делает только то, что ей хочется. Клянусь, это просто поза, насчет ребенка. Просто чтоб ей посочувствовали. Она настолько эгоистична, что ни за что не поступилась бы своими удобствами ради ребенка. В этом все дело. Ей бы тогда пришлось ложиться спать попозже, чем в девять часов.
«Бедная Лайла!» Честное слово, мне прямо тошно делается. Почему для разнообразия никто не скажет: «Бедный Ларри»? Кого следует пожалеть, так это его. Да. Что касается меня, то я всегда готова ему помочь. Это я знаю твердо.
Молодая женщина в набивном крепдешиновом платье вынула сигарету из мундштука и с еще большим интересом стала изучать свои густо накрашенные ногти. Затем она взяла с колен портсигар из золота или какого-то другого сходного металла, в крышку которого было вделано зеркальце, и стала изучать свое отражение так тщательно, словно это было не лицо, а стихотворение. Она сдвинула брови, сощурила глаза, верхние ресницы ее коснулись нижних, повернула голову, как будто скрепя сердце кому-то отказывала, скосила рот, наподобие того как это делают рыбы субтропических морей; и, когда все это было проделано, вид у нее стал еще более спокойным и удовлетворенным.
Затем, закурив новую сигарету, которая ей, видимо, показалась безупречной, она тут же принялась рассказывать все сначала.
СВЕТОЧ ИСТИНЫ И ДОБРА
Что это, Мона! Что с тобой, моя бедная больная крошка? Боже, какая ты маленькая, и беленькая, и крошечная, совсем крошечная в этой огромной-преогромной постели! Ну конечно, это на нее похоже — лежит себе, как маленькая девочка, и с таким жалобным видом, что не хватает духу ее бранить. А ведь тебя бы следовало побранить, Мона! О да, я просто обязана тебя побранить. Не известить меня о том, что ты больна! Ни слова своей лучшей подруге! Дорогая, ты должна бы знать, что я все пойму, что бы ты там ни натворила. Что я хочу сказать? Что я имею в виду? Позволь, а что ты имеешь в виду, спрашивая меня, что я имею в виду? Ну конечно; Мона, если ты предпочитаешь не говорить об этом… Даже со своей лучшей подругой… Я хотела тебе сказать только, что ты должна бы знать, как я отношусь к тебе, что бы там с тобой ни произошло. Признаться, конечно, я не совсем понимаю, как это тебя угораздило влипнуть в такую… Ну ладно, видит бог, я не собираюсь читать тебе нотации, когда ты так тяжко больна.
Ну хорошо, Мона, значит, ты не больна. Значит, ты не больна, если хочешь уверить в этом даже меня. Ладно, пусть будет так, дорогая. Я понимаю, понимаю — конечно, когда человек здоров, ему просто необходимо полежать в постели и притом недели две, никак не меньше. Я понимаю — только человек, который совершенно здоров, может выглядеть так ужасно, как ты. Ах, у тебя просто нервы разыгрались? Ты просто очень утомлена? Понимаю, понимаю, у тебя просто нервы разыгрались. Ты просто очень утомлена. Да, конечно. Ах, Мона, Мона! Почему ты не хочешь довериться мне?
Что ж… Если ты так относишься ко мне, пусть так и будет. Больше я не скажу об этом ни слова. Только мне кажется, ты могла бы дать мне знать о том, что тебе пришлось пере… Я хотела сказать, о том, что ты так переутомлена — так, кажется, ты хочешь, чтобы я это называла? Господи, да я ведь так ничего бы и не узнала, если бы не встретила случайно Элис Паттерсон и она не сказала мне, что звонила тебе по телефону, а твоя горничная ответила, что ты больна и уже десять дней не встаешь с постели. Конечно, я сразу подумала, что это довольно странно — почему ты ничего не сообщила мне. Но ты же знаешь, ты ведь всегда так — тебе просто нет дела до твоих друзей, и недели проходят за неделями, как, как… Ну словом, как целые недели, а от тебя ни слуху ни духу. Боже мой, да я могла бы двадцать раз умереть за это время, а ты бы так ничего и не узнала! Какой там двадцать — сорок раз могла бы умереть! Ладно, я не собираюсь бранить тебя сейчас, когда ты так тяжко больна. Но, честное слово, Мона, на этот раз я сказала себе: ладно, теперь ей придется подождать, прежде чем я ей позвоню. Видит бог, я слишком часто ей все спускала. Теперь уж ей придется позвонить мне первой. По чести и по совести, Мона, вот что я сказала себе!
И тут я встретила Элис и сразу почувствовала себя поросенком. По чести и по совести. И сейчас, когда я смотрю на тебя, как ты тут лежишь… Нет, знаешь, я чувствую себя просто настоящей свиньей. Вот как ты поступаешь с людьми, вот как ты заставляешь их мучиться даже тогда, когда ты одна во всем виновата, когда ты, как всегда, во всем сама виновата, противная девчонка, злючка противная! Ах, дорогая моя, бедняжка моя, ну что — тебе так плохо, так ужасно плохо, да?
Да не старайся ты храбриться, детка. Со мной это ни к чему. Не нужно себя мучить, поплачь, облегчи себе душу — тебе сразу станет легче. Расскажи мне все, что произошло. Ты же знаешь, я никогда никому ни слова не пророню. Во всяком случае, ты должна это знать. Когда Элис сообщила мне, что твоя горничная сказала ей, что ты так страшно переутомлена и у тебя нервы, я, конечно, никому ни слова, но про себя подумала: «А что, собственно, еще остается Моне говорить в таком положении? Какой еще предлог может она выдумать?» И, конечно, уж я-то никогда никому не скажу, что на самом деле это все не так. Но все же, пожалуй, лучше было бы сказать, что у тебя грипп или что ты нечаянно отравилась чем-то. В конце концов никто же никогда не лежит в постели по десять дней кряду только потому, что у него нервы расшалились. Хорошо, хорошо, Мона! Лежат, лежат, отлично! Все лежат, успокойся, дорогая.
О господи, только подумать, что ты должна была через все это пройти! И одна, совсем одна корчилась здесь, как раненый зверь или… или я уже и не знаю — кто. И никого, кто бы мог о тебе позаботиться, кроме этой цветной служанки, кроме твоей Эди. Дорогая, может, лучше пригласить к тебе опытную сиделку? Я серьезно тебя спрашиваю. Может, лучше пригласить опытную сиделку? Ведь теперь ты, верно, нуждаешься в очень, так сказать, необычном, очень тщательном уходе. Ну, Мона, Мона, прошу тебя! Дорогая, ты не должна волноваться! Ну, хорошо, хорошо, милочка, пусть будет все так, как ты говоришь — тебе решительно ничего не надо, никакого ухода. Я ошиблась, вот и все. Я просто подумала, что после такой… О Мона, ты не должна этого говорить! Ты не должна ссориться со мной. Я понимаю. Если на то пошло, я даже рада, что ты рассердилась. Когда больные сердятся, это хороший признак. Это значит, что дело идет на поправку. О, я понимаю! Ладно, ладно, оскорбляй меня, сколько твоей душе угодно.
Постой, где бы мне лучше устроиться? Я хочу сесть так, чтобы мы могли болтать и тебе не нужно было поворачивать головы. Ты лежи так, как ты лежишь, а я… Да потому, что тебе нельзя шевелиться, я уверена. Это, должно быть, страшно вредно для тебя. Хорошо, хорошо, дорогая, можешь шевелиться, сколько твоей душе угодно! Хорошо, хорошо, должно быть, я рехнулась. Ну да, я рехнулась. Пусть будет так. Только прошу тебя, молю тебя, не волнуйся ты так, ради бога!
Вот я возьму этот стул и поставлю его сюда… Ох, прости, я задела кровать!.. Я поставлю его сюда, чтобы ты могла меня видеть. Вот так. Но сначала я хочу поправить тебе подушки. Да нет, Мона, они совсем не в порядке. Как могут они быть в порядке, когда ты так вертелась и крутилась на них минут десять подряд. Ну, давай, малютка, я помогу тебе приподняться. Вот так — ти-хо-неч-ко, ти-хо-неч-ко. О! Мона! Ну конечно, ты можешь сесть сама, дорогая. Конечно, можешь. Никто не говорит, что ты не можешь. Кому придет в голову такая вещь. Ну вот, теперь твои подушки в порядке, и все так мило, и, пожалуйста, лежи спокойно, чтобы не наделать себе какой-нибудь беды. Ну скажи, разве так тебе не лучше? Ну еще бы, я думаю!
Обожди минутку, сейчас я достану свое рукоделье. Да, я захватила его с собой, чтобы нам было уютней. Ну скажи, по чести и по совести скажи, тебе нравится эта вышивка? О, я так рада! Это пустяк, просто салфеточка на подносик. Ну, такая вещь всегда пригодится. И потом эту мережку очень приятно делать — получается очень быстро. Ах, Мона, дорогая, я так часто думаю о том, как было бы хорошо, если бы у тебя был свой дом, своя семья и ты бы хлопотала в нем и вышивала разные хорошенькие безделушки, вроде этой. Это было бы так для тебя чудесно. Я так огорчаюсь за тебя! Как только ты тут можешь жить, в этих меблированных комнатах, где тебе ничего не принадлежит, где все чужое, ни одной фамильной вещи. Такая жизнь не годится для женщины. Это просто ужасно для такой женщины, как ты. О, как бы я хотела, чтобы ты могла позабыть этого Гарри Мак-Викера! Как бы я хотела, чтобы ты встретила какого-нибудь приличного, славного, воспитанного человека и вышла бы за него замуж. И у тебя был бы свой славный маленький домик… Вообрази себе, Мона, с твоим-то вкусом!.. И, может быть, даже двое-трое детишек. Ты ведь просто неподражаема, когда возишься с детишками, Мона… Что с тобой, Мона Моррисон, почему ты плачешь? Ах, у тебя насморк? У тебя еще и насморк вдобавок? А ведь мне показалось, что ты плачешь. Дать тебе мой платок, малютка? Ах, ты обойдешься своим! Да не сморкайся ты в розовый шифон, глупышка. Почему, скажи на милость, не пользоваться для этого туалетной бумагой, когда ты лежишь в постели и все равно никто тебя не видит? Ты просто дурочка, вот что. Маленькая глупенькая расточительная идиотка.
Нет, знаешь, я ведь вполне серьезно. Я уже не раз говорила Фреду: «Ах, если бы только мы могли выдать Мону замуж!» По чести и по совести, Мона, ты даже не представляешь себе, какое это счастье чувствовать, что ты живешь с мужем, как за каменной стеной, у тебя свой собственный дом, и такие чудесные дети, и такой хороший муж, который каждый вечер минута в минуту возвращается домой. Вот как должна жить женщина! А как ты живешь, Мона? Это же просто ужасно! Ты плывешь по течению. Чем же все это может кончиться, дорогая? Что с тобой будет? Да нет, ты ведь об этом не думаешь. Ты влюбилась в этого Гарри и больше ни о чем не думаешь. Знаешь, моя дорогая, ты все-таки должна отдать мне должное — ты ведь помнишь, как я говорила всем с самого начала: «Он никогда на ней не женится». Ты ведь знаешь, что я всегда это говорила. Что такое? Ты никогда и не помышляла о том, чтобы выйти замуж за Гарри? Ну, Мона, послушай! Нет такой женщины на свете, которая бы не помышляла о браке, которая не мечтала бы о браке с первой же секунды, как только она в кого-то влюбилась. Каждая женщина об этом мечтает, что бы она там ни говорила.
Ах, если бы только ты была замужем! Тогда все, решительно все было бы по-другому. Мне кажется, ребенок заменил бы для тебя все на свете, Мона. Видит бог, я просто не в состоянии даже учтиво разговаривать с этим Гарри после того, как он так с тобой поступил… Ну хорошо, ты же отлично понимаешь, что не только я, никто из твоих друзей не может ему этого простить… Но, по чести и по совести, если бы он только женился на тебе, я бы сказала — кто старое помянет, тому глаз вон. И я была бы так счастлива, так счастлива за тебя! Если, конечно, он то, что тебе нужно. И, знаешь, я должна сказать, что ты так миловидна, а он так красив, что у вас были бы, верно, просто восхитительные дети. Мона, деточка, у тебя вправду какой-то совершенно чудовищный насморк! Дать тебе другой платок? Не хочешь? В самом деле не хочешь?
Мне так обидно, что я не принесла тебе цветов. Но я думала, что здесь все будет просто завалено цветами. Ну ничего, по дороге домой я загляну в магазин и пришлю тебе оттуда. У тебя как-то мрачно здесь, ни единого цветочка. Неужели Гарри ни разу не прислал тебе цветов? Ах, вот как, — он не знает, что ты больна? Ну что ж, больна не больна, а разве он не посылает тебе цветов? Послушай, как же это он не знает, больна ты или здорова? Разве он ни разу не звонил тебе за это время? Ни разу за все десять дней? Ну хорошо, а почему ты не позвонила ему и не сказала? Ну, знаешь, Мона, это уже чересчур — не всегда можно изображать из себя героиню. Пусть бы и он немножко поволновался. Это, моя дорогая, было бы ему очень полезно. Может, в этом-то вся беда, что ты вечно все заботы берешь на себя. Не прислать цветов! Не позвонить! Хотелось бы мне сказать этому молодому человеку два-три слова. В конце концов кто же, как не он, во всем этом виноват!
Он уехал? Как, как? О, о, так он уехал в Чикаго две недели назад? Ну, знаешь, мне что-то сдается, — я слыхала, будто с Чикаго существует телефонная связь. Ну конечно… И мне сдается, что хотя бы по возвращении, но должен же он был что-то для тебя сделать… Должен же он был, по крайней мере, как только вернулся… Он еще не вернулся? Он еще не вернулся, не вернулся? Мона, зачем ты стараешься меня обмануть? Что такое ты мне говоришь, Мона? Зачем ты стараешься меня в этом уверить? Ведь только позавчера вечером… Так он сказал тебе, что, как только вернется, в ту же минуту даст тебе знать? Ну, знаешь, уж такой низости и подлости я еще в жизни не встречала. Это уж действительно… Мона, дорогая, прошу тебя, ляг, умоляю тебя! Да ничего я не хотела сказать! Не знаю я, что я хотела сказать! По чести и по совести, не знаю, что это такое может быть, о чем ты говоришь. Бога ради, перестань, давай поговорим о чем-нибудь другом.
Постой, о чем это я? Ах да, ты непременно должна посмотреть гостиную Джюлии Пост — она ее всю обставила заново. Стены коричневые — понимаешь, ни беж, и ни бордо или еще там что-нибудь, а действительно по-настоящему коричневые, — и кремовые портьеры из тафты, и… Мона, говорю тебе, я абсолютно не знаю, что такое я хотела сказать. У меня просто из головы выскочило. Значит это какой-то вздор, сама понимаешь. Лежи спокойно, дорогая, и постарайся ни о чем не думать. Прошу тебя, забудь ты наконец этого человека, хоть на минуту. Ни один мужчина не стоит того, чтобы так из-за него волноваться. Вот уж никогда бы не стала этого делать. Ты же очень долго не поправишься, если будешь так волноваться, сама понимаешь.
Что прописал тебе доктор, моя дорогая? Может быть, ты не хочешь мне сказать? Как, это твой постоянный врач? Твой постоянный врач, доктор Бриттон? Не может этого быть! Ну, знаешь, я никогда не думала, что он возьмется за такую… Да, да, дорогая, ну конечно же, конечно, он невропатолог. Да, да, моя дорогая! Да, моя дорогая! Да, конечно, моя дорогая, конечно, конечно, ты абсолютно ему доверяешь. Я бы хотела только, чтобы ты немножко доверяла и мне тоже. Как-никак, а мы учились в одной школе, и вообще… Ты не можешь не знать, что я очень тебе сочувствую. Я ведь понимаю, как бы в конце концов могла ты поступить иначе. Я знаю, ты всегда говорила, что больше всего на свете хочешь иметь ребенка. Но ведь это было бы так жестоко по отношению к малютке — произвести его на свет, когда ты незамужем. Тебе бы пришлось уехать куда-нибудь за границу, где бы тебя никто не знал… И все равно, рано или поздно, слухи бы дошли… Так всегда бывает. Я считаю, что ты сделала единственное, что было возможно в твоем положении. Мона! Христа ради! Что ты так кричишь, я же не глухая. Хорошо, дорогая, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, конечно, я тебе верю. Как это я ни во что не ставлю твои слова? Ставлю, ставлю. Только, пожалуйста, успокойся. Лежи и отдыхай, и мы с тобой так мило поболтаем.
Ах, ну что ты к этому прицепилась. Я уже повторяла тебе сто раз, что ничего я не хотела сказать. Ну говорят тебе, я не помню, что я хотела сказать. «Позавчера вечером»? Разве я сказала «позавчера вечером»? Ничего я подобного не говорила… Ну ладно. Может быть, так даже лучше. Ладно, Мона. Чем больше я об этом думаю, тем яснее вижу, что будет гораздо лучше, если ты узнаешь это от меня. В конце концов кто-то должен же тебе сказать. Такие вещи рано или поздно все равно выплывают наружу. Я знаю, что ты предпочитаешь услышать об этом от своей лучшей подруги, верно, Мона? И видит бог, я должна сделать все, что в моих силах, чтобы открыть тебе глаза на этого человека. Но только лежи спокойно, дорогая. Ну хоть ради меня. Так вот, дорогая моя, Гарри не в Чикаго. Мы с Фредом видели его позавчера вечером в клубе «Комета». И Элис видела его — во вторник вечером в «Эль Румба». И вообще сотни людей видели его и тут и там, и в театрах, и везде. Да он не пробыл в Чикаго и двух дней, если он вообще был там.
Так вот, слушай, детка: он был с ней, когда мы его видели. По-видимому, он все время проводит с ней. Никто ни разу не видел его с кем-нибудь еще. Ты должна наконец понять это, дорогая. Больше же ничего не остается делать. Я слышу со всех концов, что он просто заклинает ее выйти за него замуж. Впрочем, я, конечно, не знаю, насколько это верно. Откровенно говоря, я совершенно не понимаю, почему он так этого добивается. А впрочем, от мужчины такого сорта, как он, всего можно ожидать. И я говорю — если он на ней женится, — поделом ему. Вот тогда он запоет по-другому. Он у нее будет ходить по струнке, она сумеет прибрать его к рукам.
Но, боже мой, как она банальна! Когда мы их увидели, я сразу подумала: «Да ведь у нее совершенно заурядный вид, абсолютно заурядный». Что ж, должно быть, это в его вкусе. Признаться, сам он выглядит отлично. Никогда еще он не был так обаятелен. Ты знаешь, конечно, какого я о нем мнения, однако тут уж ничего не поделаешь — приходится признать, что он один из самых красивых мужчин на свете. Я понимаю, что он любой женщине может вскружить голову… Но ненадолго. Пока она его не раскусит. О, если бы ты только видела его с этой ужасной безвкусной женщиной, если бы ты только видела, как он не сводит с нее глаз и слушает ее дурацкую болтовню так, словно у нее что ни слово — то алмаз! Я чуть не…
Мона, радость моя, да ты никак плачешь? Но это же просто глупо, мой ангел. Этот человек не заслуживает того, чтобы хоть секунду о нем сокрушаться. Ты и так слишком долго о нем сокрушаешься. Вот в чем беда. Три года! Три лучших года ты отдала ему, всю свою молодость. А он все время обманывал тебя с этой женщиной. Ты вспомни, вспомни, чего ты только за эти годы не натерпелась. Вспомни, как он снова и снова обещал тебе расстаться с ней. И ты, жалкая, глупая дурочка, верила ему, а он прямо от тебя снова отправлялся к ней. И ведь все знали об этом. Подумай хорошенько и посмей теперь сказать мне, что из-за этого человека стоит проливать слезы! Право, Мона, я думала, что у тебя больше гордости.
Ты знаешь, я даже рада, что все это случилось. Я рада, что у тебя открылись глаза. То, что он сейчас себе позволил, это уж слишком. Он в Чикаго! Слыхали вы что-нибудь подобное! Как только вернется, он в ту же секунду даст тебе знать! Нет, это было самое доброе дело — сказать тебе все и заставить тебя наконец образумиться. Ни одной секунды я об этом не жалею. Стоит мне только подумать, что он там развлекается вовсю, а ты тут, по его милости, лежишь чуть ли не при смерти, я просто готова… Да, да, по его милости. Даже если у тебя не было… Хорошо, хорошо. Даже если я ошибаюсь и у тебя ничего такого не было… А я естественно могла это подумать, ведь ты устроила такую тайну из своей болезни. Даже если ничего такого не было, все равно он довел тебя до этого нервного упадка сил. Этого тоже достаточно. А ты все отдала этому человеку! Негодяй! Выкинь его сейчас же из головы!
А я говорю, что ты можешь, Мона! Тебе нужно только взять себя в руки, детка. Вот возьми и скажи себе: «Ладно, я потеряла три года жизни». И никогда больше не думай о нем. Боже мой, он же совсем не думает о тебе, моя дорогая.
Ты просто больна и очень ослабела — вот почему ты так разволновалась, крошка. Я знаю. Но ты поправишься, и все как-нибудь наладится. Ты еще можешь кое-как устроить свою жизнь. Ты просто должна это сделать, Мона. Ты же сама понимаешь, что в конце концов… Нет, конечно, ты и сейчас выглядишь прелестно, я вовсе не это хотела сказать… Но все же ты… Ну, словом, с годами ты же не становишься моложе. А ты так глупо, бесцельно проводила свои дни, забросила всех своих друзей, никуда не ходила, ни с кем не встречалась, сидела тут одна и ждала, ждала: когда Гарри тебе позвонит, когда Гарри к тебе придет… Придет от нечего делать, если не подвернется ничего более интересного! Целых три года ты не думала ни о ком и ни о чем, кроме этого человека. Ну а теперь забудь его.
Ах, детка, тебе же вредно так плакать. Пожалуйста, перестань. Он не стоит даже того, чтобы о нем говорить. Погляди на эту женщину, в которую он влюблен, и ты поймешь, что это за субъект. Ты была слишком хороша для него. Ты была слишком нежна с ним. Ты слишком легко уступила ему. И, как только ты уступила ему, в ту же секунду ты стала ему не нужна. Вот что это за человек. Он никогда тебя не любил. Во всяком случае, не больше, чем любую…
Мона, перестань! Не надо, Мона! Ну, прошу тебя, Мона! Ты не должна так говорить. Слышишь, не говори таких вещей! Ты совсем расхвораешься, если не перестанешь плакать. Ну перестань же, перестань, перестань. Ну, пожалуйста, прошу тебя, перестань! Боже мой, что мне с ней делать! Мона, детка… Мона! Господи, куда запропастилась эта дура-служанка!
Эди! О, Эди, Эди! Мне кажется, Эди, вам надо позвонить доктору Бриттону и попросить его приехать к мисс Моррисон и прописать ей что-нибудь успокаивающее. Я боюсь, что она довела себя до совершенно ужасного состояния.
ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Аннабел и Мидж не спеша, с надменным и праздным видом вышли из кафе. Впереди у них был свободный субботний вечер. Они только что пообедали, и как обычно в их меню вошли такие вещи, как сахар, крахмал, растительный жир и много сливочного масла. Чаще всего они съедали сэндвичи из свежего пышного белого хлеба с маслом и майонезом, толстые куски торта с мороженым и сбитыми сливками, шоколад с орехами. Для разнообразия они ели иногда пирожки, пропитанные дешевым жиром и начиненные жалкими кусочками мяса, застывшими в густом прозрачном соусе; потом они ели пирожные, — мягкие под слоем твердой сахарной глазури, сдобренные каким-то сладким веществом неопределенного желтоватого цвета, не совсем твердым, но и не жидким, как мазь, которую выставили на солнце. Иную пищу они не признавали и не проявляли к ней никакого интереса. И все-таки кожа их была гладкой, как лепестки лесных анемонов, животы подтянутые, а бедра стройные и худые, как у юных индейских воинов.
Аннабел и Мидж стали закадычными подругами почти с того самого дня, как Мидж устроилась стенографисткой в ту контору, где работала Аннабел. Аннабел, прослужив два года в стенографическом бюро, получала восемнадцать долларов пятьдесят центов в неделю; а заработок Мидж все еще не превышал шестнадцати долларов. Обе девушки жили со своими родителями и половину жалованья отдавали им.
Столы их стояли рядом. Днем девушки вместе обедали и по окончании рабочего дня вместе отправлялись домой. Почти все вечера и воскресные дни они проводили вместе. Часто к ним присоединялись двое молодых людей, но в этом квартете никогда не было постоянства; одни молодые люди уступали место другим молодым людям, и девушки расставались с ними без сожаления, да и сожалеть, по правде говоря, было не о чем, поскольку новые молодые люди почти ничем не отличались от своих предшественников. Приятные послеполуденные часы отдыха в знойные субботние дни девушки неизменно проводили вместе. Ткань, из которой была соткана их дружба не изнашивалась от времени.
Девушки были похожи друг на друга, но не чертами лица. Сходство крылось в линиях их тела, в осанке, в манере одеваться и в выборе украшений. Аннабел и Мидж делали, и весьма основательно, все то, что молоденьким девушкам, служащим в конторах делать не положено. Они красили губы и ногти, мазали тушью ресницы и обесцвечивали волосы, а воздух вокруг них всегда был пропитан благоуханиями. Они носили легкие, яркие платья, которые обтягивали им грудь и едва прикрывали колени, и туфли на высоких каблуках с затейливыми переплетами. Словом, в них было, много дешевого шика и подлинного очарования.
И теперь, когда они гуляли по Пятой авеню и жаркий ветер раздувал их юбки, вслед им летели восторженные замечания. Молодые люди, стоявшие в ленивых позах около газетных киосков, при виде их начинали перешептываться, издавать какие-то восклицания и даже — как знак высшего внимания — свистеть. Аннабел и Мидж проходили мимо, не ускоряя шага, — нет, до этого они не снисходили; они только еще выше подымали головы и решительно и гордо ступали по тротуару с таким видом, словно шли мимо коленопреклоненных рабов.
В субботние дни девушки всегда гуляли по Пятой авеню, потому что Пятая авеню была прекрасным местом для их излюбленной игры. В эту игру можно было играть где угодно, что они и делали, но около витрин больших магазинов искусство партнерш достигало особого мастерства.
Игру придумала Аннабел; или, вернее, просто усовершенствовала ее. По существу это было просто разновидностью старого словесного состязания: «Что бы вы сделали, будь у вас миллион долларов?» Но Аннабел ввела целый ряд новых правил, кое-что выкинула, кое-что уточнила, а кое-что и добавила. Как во всех играх, чем труднее в ней были правила, тем она была увлекательнее.
Вариант Аннабел сводился к следующему. Предположим, кто-то умирает и оставляет вам кругленькую сумму в миллион долларов. Но в завещании есть одно условие. Там оговорено, что всю эту сумму до последнего цента вы должны истратить на себя.
В этом-то и заключалась опасность. Если во время игры вы забывались и, предположим, причисляли к своим расходам плату за новую квартиру для своих родителей, вы проигрывали и очередь переходила к вашему партнеру. Удивительно, как у многих, и подчас даже у самых опытных игроков, из-за таких промахов сразу все шло насмарку.
Было, конечно, очень важно играть с полной серьезностью. Каждую покупку нужно было тщательно обдумывать и, если потребуется, уметь защитить в споре. Опрометчивость могла все погубить. Однажды Аннабел научила этой игре Сильвию — девушку, которая работала с ними в одной комнате. Она разъяснила Сильвии правила игры, а затем сделала первый ход: «Ну, что ты сделаешь в первую очередь?» Сильвия не раздумывала ни секунды. «Первым делом, — заявила она, — я пойду и найму кого-нибудь, чтобы он пристрелил миссис Гари Купер[6], а потом…» Сразу стало ясно, что с Сильвией играть не интересно.
Но Аннабел и Мидж были просто рождены для дружбы, ибо стоило только Мидж научиться этой игре, как она сразу сделалась чемпионом. Именно она внесла в нее такие штрихи, которые придали игре новую прелесть. Согласно выдумке Мидж чудак, который, умирая, оставлял вам деньги, был вовсе не ваш родственник и даже не ваш знакомый. Это был человек, который однажды, увидев вас где-нибудь, подумал: «Такая девушка просто создана для того, чтобы жить в роскоши. Перед смертью я завещаю ей миллион долларов». И кончина его была не безвременной, и умер он, не испытывая страданий. Ваш благодетель в преклонном возрасте и вполне подготовленный к отбытию в мир иной, должен был потихоньку скончаться во время сна и отправиться прямиком в рай. Эти новые нюансы позволили Аннабел и Мидж со спокойной совестью безмятежно наслаждаться своей игрой.
Мидж относилась к игре даже чересчур серьезно. Только однажды дружба девушек чуть-чуть не дала трещину. Это произошло, когда Аннабел вдруг заявила, что, имея миллион долларов, она прежде всего купит себе манто из чернобурых лис. Мидж сжалась, словно подруга ее ударила, а потом, придя в себя от потрясения, воскликнула, что она просто не представляет себе, — неужели Аннабел способна на подобную вещь? Манто из черно-бурых лис — ведь это же вульгарно!
Аннабел стала защищаться, утверждая, что манто из чернобурых лис вовсе не вульгарно. Но Мидж заявила, что их все носят, и, видимо немного сгоряча, добавила, что лучше умрет на месте, чем когда-нибудь наденет манто из чернобурых лис.
Несколько дней после этого девушки почти не разговаривали друг с другом, держались натянуто и ни разу не сыграли в свою игру. Но вот как-то утром, придя на работу, Аннабел сразу подошла к Мидж и сказала ей, что она передумала. Она не потратит ни цента из своего миллиона долларов на покупку манто из чернобурых лис. Как только она получит наследство, она немедленно купит себе манто из норки.
Мидж улыбнулась, и глаза ее просияли.
— И мне кажется, — сказала она, — ты поступишь совершенно правильно.
Теперь, гуляя по Пятой авеню, они снова затеяли эту игру. Был один из тех дней, за которые так часто клянут сентябрь; утомительно знойный, ветреный и пыльный. Прохожие еле плелись, изнемогая от жары, но девушки шли, гордо расправив плечи, ступая твердо и уверенно, как и полагается молодым богатым наследницам, совершающим послеполуденную прогулку. Им не было нужды начинать игру по всем правилам с самого начала. Аннабел сразу перешла к сути дела.
— Хорошо, — сказала она. — Ты получила этот миллион долларов. Итак, что же ты прежде всего сделаешь?
— Ну, прежде всего, я куплю себе манто из норки, — сказала Мидж. Но она сказала это машинально, словно давая заученный ответ на заранее известный вопрос.
— Да, — сказала Аннабел. — Мне кажется, тебе стоит его купить. Совсем темную норку.
Ее ответ тоже прозвучал как-то заученно. Было слишком жарко. О мехе, каким бы он ни был темным гладким и мягким, было даже страшно подумать.
Некоторое время они шли молча. Затем взгляд Мидж привлекла к себе витрина магазина. На строгом элегантном черном фоне лежало нечто прохладное, очаровательное, сияющее нежным матовым блеском.
— Нет, — сказала Мидж, — беру свои слова назад. Я не буду в первую очередь покупать манто из норки. Знаешь, что я сделаю? Куплю нитку жемчуга. Настоящего жемчуга.
Аннабел повернулась и посмотрела туда, куда смотрела Мидж.
— Да, — задумчиво произнесла она. — Пожалуй, это неплохая идея. И в этом есть смысл. Жемчуг можно надеть к чему угодно.
Они подошли к витрине и стали, прильнув к стеклу. В витрине был выставлен всего один предмет: двойная нитка жемчуга охватывала шею из розового бархата, а застежкой служил зеленый, как морская вода, изумруд.
— Как ты думаешь, сколько это стоит? — спросила Аннабел.
— Ну, не знаю, — сказала Мидж. — Наверное, дорого.
— Что-нибудь около тысячи долларов? — спросила Аннабел.
— О, мне думается больше, — ответила Мидж. — Ведь там изумруд.
— Что ж, значит тысяч десять? — спросила Аннабел.
— Не представляю себе, — сказала Мидж.
Тут словно кто-то толкнул Аннабел в бок.
— А ну, зайди и приценись, — сказала она.
— Ну и зайду, — ответила Мидж.
— Ну и зайди, — повторила Аннабел.
— Да ведь такие магазины, как этот, сейчас наверняка закрыты, — сказала Мидж.
— Нет, он открыт, — сказала Аннабел. — Только что оттуда кто-то вышел. И вон швейцар стоит. Зайди.
— Ладно, — сказала Мидж. — Но мы зайдем вместе.
Ледяным тоном они поблагодарили швейцара, когда он распахнул перед ними дверь. В магазине было прохладно и тихо; это была огромная роскошная комната с мягким ковром и стенами, обшитыми панелью. Но лица девушек выражали глубокое пренебрежение, словно они очутились в хлеву.
Стройный, безупречно учтивый продавец приблизился к ним и поклонился. Непроницаемое лицо его не выразило ни малейшего удивления при появлении девушек.
— Добрый день, — произнес он. Всем своим видом он словно хотел сказать, что, если они окажут ему честь и ответят на его любезное приветствие, он запомнит этот день на всю жизнь.
— Добрый день, — одновременно ответили Аннабел и Мидж одинаково холодным тоном.
— Не могу ли я?.. — начал продавец.
— О, мы просто зашли посмотреть, — точно королева уронила Аннабел.
Продавец поклонился.
— Мы с подругой случайно проходили мимо, — сказала Мидж и умолкла. Казалось, она прислушивается к своей фразе. — Мы с подругой, — продолжала она, — случайно заинтересовались, сколько стоит этот жемчуг, который выставлен у вас в витрине.
— А, та двойная нитка. Она стоит двести пятьдесят тысяч долларов, мадам, — сказал продавец.
— Понятно, — сказала Мидж.
Продавец поклонился.
— Необычайно красивое ожерелье, — сказал он. — Не желаете ли взглянуть?
— Нет, благодарю вас, — сказала Аннабел.
— Мы с подругой случайно проходили МИМО, — объяснила Мидж.
Они повернулись к выходу. Вид у них был такой, словно у подъезда их ждала карета. Продавец бросился вперед и распахнул перед ними дверь. Когда они величаво прошествовали мимо, он снова поклонился.
Девушки шагали по Пятой авеню, и на лицах их все еще было написано презрение.
— Подумать только! — воскликнула Аннабел. — Мне и в голову подобное не могло прийти.
— Двести пятьдесят тысяч долларов! — сказала Мидж. — Это же ровно четверть миллиона.
— Ну и нахал! — заявила Аннабел.
Они пошли дальше. Постепенно презрение совершенно исчезло с их лиц, а вместе с ним пропала их царственная осанка и поступь. Плечи их поникли, ноги еле волочились. Они толкали друг друга, не замечая этого и не извиняясь, и снова расходились в разные стороны. Они молчали, и глаза их сделались мечтательными.
Вдруг Мидж выпрямилась, вскинула голову и произнесла громко и уверенно:
— Послушай, Аннабел. Представь себе, что жил на свете ужасно богатый человек. Так? Ты не была с ним знакома, но он тебя где-то увидел и захотел что-нибудь для тебя сделать. Он был ужасно старый, понимаешь? И вот этот человек ложится спать и вдруг умирает и оставляет тебе десять миллионов долларов. Так вот, что же ты сделаешь прежде всего?
ИЗ ДНЕВНИКА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЛЕДИ, — который писался в дни Ужаса, Отчаяний и Мировых Потрясений
Понедельник. Завтрак в постели около одиннадцати; есть не хотелось. Накануне вечером шампанское у Амориса было удивительно противным. Но что поделаешь? Нельзя же иначе продержаться на ногах до самого утра. У Амориса были эти очаровательные венгерские музыканты в зеленых пиджаках, и Стиви Хантер снял башмак и стал им дирижировать, — и это было ужасно смешно. Остроумнейший тип этот Стиви Хантер; вчера он сам себя превзошел. Олли Мартин привез меня домой, и мы с ним вместе в машине заснули, — ну и умора! Около полудня зашла мисс Роз сделать мне маникюр, по горло набитая самыми потрясающими сплетнями. Моррисы вот-вот разойдутся, у Фредди Уоррена определенно язва, а Герти Леонард просто не спускает глаз с Билла Кроуфорда даже в присутствии Джека Леонарда, а насчет Шейлы Филлипс и Бэбса Диринг — все истинная правда. Мы восхитительно потрепались. Мисс Роз просто очаровательна: мне, право, кажется, что, как правило, люди такого сорта гораздо умнее многих других. Только после ее ухода заметила, что эта идиотка накрасила мне ногти отвратительнейшим лаком апельсинового цвета. Я просто взбесилась. Начала читать, но слишком расходились нервы. Позвонила и узнала, что мне могут достать два билета на сегодняшнюю премьеру «Бегай как заяц» — это будет стоить сорок восемь долларов. Сказала им, что большего нахальства не встречала, но что поделаешь? Вспомнила, что Джо приглашен сегодня к кому-то на обед. Позвонила нескольким очаровательным типам, чтобы пойти с кем-нибудь из них в театр, но они все были заняты. Наконец поймала Олли Мартина. Он долго ломался и отказывался, но что поделать, если больше никого нет? Никак не могла решить, какое надеть платье — зеленое из крепа или красное шерстяное. Каждый раз, когда смотрю на свои ногти, просто плюнуть хочется. Черт бы побрал эту мисс Роз!
Вторник. Джо ворвался ко мне в спальню чуть не в девять часов утра; я просто взбесилась. Начала с ним ругаться, но тут же перестала, и так едва жива. Сказал, что не будет дома к обеду. Весь день как выпотрошенная: ни рукой, ни ногой двинуть не могла. Вчера был упоительный вечер. Мы с Олли обедали на Тридцать Восьмой улице, — форменная отрава, и ни одной живой души — никого стоющего. «Бегай как заяц» — оказался неслыханной дрянью. Потащила Олли к Барлоу, у них собиралась компания; ну и зрелище! И полно всяких отвратительных субъектов. Там были эти венгерские музыканты в зеленых пиджаках, и Стиви Хантер дирижировал вилкой — все просто со смеху помирали. Стиви обмотал себе шею зеленой туалетной бумагой, которая болталась словно венок; Стиви был невообразимо интересен. Познакомилась там с совершенно очаровательным типом. Очень высокий, с таким действительно есть о чем поболтать. Сказала ему, что иной раз мне так все противно становится, ну прямо хоть вой с тоски, и я просто чувствую, что должна непременно что-то делать — ну хотя бы писать или рисовать. Он спросил, почему же я не пишу и не рисую. Домой возвращалась одна: Олли напился до бесчувствия. Три раза звонила этому новому типу, хотела пригласить его сегодня к обеду и на премьеру «Никогда не здоровайся по утрам», но сначала его не оказалось дома, а потом он ухаживал за своей мамашей. Наконец все-таки заполучила Олли Мартина. Попробовала читать, но не сиделось на месте. Не могла решить, какое надеть платье — красное с кружевами или розовое с перьями. Чувствовала себя вконец разбитой, — но что поделаешь?
Среда. Неслыханный ужас! Сломала ноготь. В жизни не испытывала ничего более страшного. Позвонила мисс Роз, чтобы она пришла и подточила ноготь, но оттуда ответили, что ее не будет весь день. Положительно нет на свете человека, которому бы так не везло! Теперь придется ходить с этаким ногтем целые сутки, но что поделаешь? Черт бы побрал эту мисс Роз.
Прошлый вечер прошел как в лихорадке, «Никогда не здоровайся по утрам» — чудовищная дрянь, в жизни не видывала на сцене таких бездарных костюмов. Потащила Олли к Баллардам: невообразимо здорово! Они пригласили этих венгерских музыкантов, и Стиви Хантер дирижировал кисточкой для бритья, — ослепительно! Стиви напялил на себя горностаевую шубу Пеги Купер и серебристую чалму Филлипс Минтон. Ну просто невероятно! Пригласила уйму очаровательных людей на пятницу. Взяла у Берти Баллард адрес этих венгерских музыкантов в зеленых пиджаках. Она посоветовала нанять их до четырех утра, а потом кто-нибудь даст им еще три сотни, и они будут играть до пяти. Просто дешевка! Поехала обратно с Олли, но вынуждена была отвезти его сначала домой, потому что он совсем расклеился. Позвонила сегодня этому новому типу, чтобы пригласить его на обед и на премьеру «Давайте веселиться», но он был занят. Джо сегодня куда-то уходит. Он, конечно, не потрудился сказать куда. Принялась читать газеты, но там абсолютно ничего интересного нет, разве только про Мону Уитли, она в Рено и подает на развод, обвиняя мужа в бесчеловечном обращении. Позвонила Джиму Уитли узнать, что он делает сегодня вечером, но он был занят. В конце концов условилась с Олли Мартином. Не могла решить, что надеть — белое атласное, черное шифоновое или желтое шерстяное. Совсем выбита из колеи, и все из-за этого сломанного ногтя. Не могу больше терпеть. Ну, с кем еще случаются такие невообразимые вещи?
Четверг. Просто валюсь с ног от усталости. Вчера вечер прошел божественно. «Давайте веселиться» — невообразимо очаровательно, непристойно до ужаса. Этот новый тип был там, он просто восхитителен, но меня он не заметил. Он был с Флоренс Кикер; на ней было омерзительное золотое платье, от Чипарели, фасон этот на каждой продавщице уже бог знает с каких пор. Он, верно, совсем спятил, — ведь она на мужчин и не смотрит. Затащила Олли к Уатсонам: невообразимо здорово! Все напились до чертиков. Они пригласили этих венгерских музыкантов в зеленых пиджаках, и Стиви Хантер дирижировал настольной лампой, а когда лампа разбилась, он вместе с Томми Томасом стал танцевать совсем как в балете — ну просто с ума можно сойти! Кто-то сказал, что врач советует Томми жить за городом, у него что-то невообразимое с желудком. Вот уж никогда бы не сказала! Поехала домой одна, — нигде не могла разыскать Олли. Днем пришла мисс Роз подточить мой ноготь и рассказала потрясающие новости: Сильвия Итон без подкожного укола не может выходить из дому; Дорис Мэсон знает все подробности о Даги Мэсоне и этой девице из Гарлема, Эйлин Норс нельзя оторвать от этих трех акробатов, а Стиви Рэймонд так болен, что у врачей язык не поворачивается сказать ему правду. Мне кажется, мисс Роз — счастливейшая женщина на свете. Какая у нее интересная жизнь! Заставила ее снять этот отвратительный апельсиновый лак с ногтей и покрыть мне темно-красным. Только когда она ушла, заметила, что лак при электрическом свете кажется почти черным; невообразимый ужас! Черт бы побрал эту мисс Роз!
Джо оставил записку, что дома обедать не будет, поэтому я позвонила этому новому типу, чтобы пригласить его на обед и пойти со мной вечером на новый фильм, но никто не ответил. Послала ему три телеграммы, чтобы обязательно пришел завтра вечером. В конце концов условилась на сегодняшний вечер с Олли Мартином. Просмотрела газеты, — абсолютно ничего, кроме разве того, что в воскресенье у Гарри Мотта закатывают чай с венгерскими музыкантами. Приглашу этого нового типа пойти туда со мной; у них, верно, просто вылетело из головы пригласить меня. Принялась читать книгу, но ужасно измочалена. Не могла решить, надеть ли новое голубое платье с белым жакетом или приберечь его на завтра, а сегодня надеть кремовое муаровое. Каждый раз, как вспомню о своих ногтях, прямо сердце разрывается. Злюсь невообразимо. Так бы и придушила мисс Роз, но что поделаешь?
Пятница. Подыхаю от хандры. Невообразимо мерзко. Вчера вечер прошел божественно, а фильм просто тоска зеленая. Потащила Олли к Кингслендсам. Невообразимо весело. Все просто подыхали от смеха. Кингслендсы пригласили этих венгерских музыкантов в зеленых пиджаках, но Стиви Хантера не было. У него тяжелое нервное расстройство. Умираю от беспокойства, успеет ли он поправиться, — он должен быть у меня сегодня вечером. Ни за что на свете ему не прощу, если он не придет. Повезла было к себе Олли, но пришлось отправить его домой, потому что он все время плакал.
Джо сказал дворецкому, что днем уедет за город на воскресенье, и, конечно, не снизошел, чтобы сказать — куда именно. Перезвонила всем очаровательным типам, хотела пригласить кого-нибудь пообедать и пойти на премьеру «Безрассудства белого человека», а после спектакля поехать куда-нибудь потанцевать — не выношу забираться к себе домой раньше гостей и сидеть одной. Но все были заняты. В конце концов уломала Олли Мартина. Чувствую себя невообразимо погано; ни в коем случае нельзя даже близко подходить к шампанскому, а тем более смешанному с виски. Взялась за книгу, но не могла усидеть на месте. Позвонила Эн Лаймен, чтобы справиться о новорожденном, и не могла припомнить, кто, собственно, родился — мальчик или девочка; непременно возьму себе на следующей неделе секретаря. Эн сама пришла мне на помощь, сказав, что не знает, как назвать ребенка — Патрицией или Глорией, и тут я, конечно, сразу догадалась, что у нее родилась девочка. Предложила назвать ее Барбарой — забыла, что у нее уже есть дочь Барбара. Весь день металась, как пантера, из угла в угол. Как вспомню о Стиви Хантере, так бы и разорвала его в клочья. Не могла решить, какое надеть платье — голубое с белым жакетом или пурпурное с чайными розами. Каждый раз, как посмотрю на свои отвратительные черные ногти, хочется просто выть от злости. Нет человека на свете, с которым случались бы такие ужасы, как со мной. Черт бы побрал эту мисс Роз!
ОДЕНЬТЕ НАГИХ
Большая Ленни работала поденно в домах богатых и праздных леди — стирала их шелковое и постельное белье. Выполняла она свою работу превосходно; иные леди даже говорили ей об этом.
Это была грузная, медлительная женщина; кожа у нее была ровного темно-коричневого цвета, только ладони и пальцы рук от пара и горячей мыльной пены выцвели и стали словно гуттаперчевые. Медлительной она была из-за своего роста и тучности, да и потому еще, что вздутые на ногах вены причиняли ей боль, и спина ныла почти беспрерывно. Она не сетовала на свои болезни, и не искала от них избавления. Так случилось — напала на нее хворь, и тут уж ничего не поделаешь.
Немало бед постигло ее в жизни. У нее рождались дети, и дети умирали. Умер и ее муж, — добрый он был человек, всегда довольный тем немногим, что даровала ему жизнь. Никто из детей не умер в младенчестве. Все они доживали до четырех, до семи или до десяти лет, когда у каждого из них формировался свой характер, и свои привычки, и умение заставить себя любить; а сердце Большой Ленни было всегда широко открыто для любви. Один ребенок погиб в уличной катастрофе, а двое других умерли от болезней, от которых можно было легко избавиться, если бы дети питались свежими продуктами, жили на природе и дышали свежим воздухом. Только младшей из них, Арлин, удалось остаться в живых.
Арлин, хоть и не столь темная, как мать, но с тем же стойким матовым оттенком кожи, была высокой девушкой и такой худой, что кости ее, казалось, шагали впереди тела. Ее тонкие соломинки-ноги и широкие ступни с торчащими пятками были как у тех человечков, которых рисуют дети цветными карандашами. Она ходила, низко опустив голову, вогнув грудь и выставив вперед плечи и живот. С самого раннего возраста за ней увивались мужчины.
Арлин всегда была скверной девицей, — в этом заключалась одна из бед, постигших Ленни. Так уж случилось, и ей оставалось лишь приносить домой подарки, делать Арлин маленькие сюрпризы, чтобы она не разлюбила свою мать и не убежала бы из дому. Она приносила маленькие флакончики резко пахнущих духов, и светлые чулки из блестящего шелка, и кольца с зелеными и красными стеклышками; она старалась выбрать такие подарки, чтобы угодить Арлин. Но каждый раз, когда Арлин приходила домой, на ней были кольца более массивные и чулки более тонкие, а духи пахли резче, чем те, что могла купить ей мать. Иногда Арлин оставалась дома с матерью только одну ночь, а иногда больше недели; а потом вечерами, приходя с работы домой, Большая Ленни обнаруживала, что дочери нет — она исчезала, и о ней неделями ничего не было слышно. Большая Ленни продолжала приносить домой подарки и раскладывать их в ряд на кровати Арлин, ожидая ее возвращения.
Большая Ленни не знала, что Арлин должна была родить. Дочь отсутствовала из дому около полугода. Большая Ленни отсчитывала время по дням. От девушки не было никаких вестей, пока однажды люди из больницы не прислали за Большой Ленни и не попросили ее навестить дочь и внука. Она пришла в больницу, чтобы услышать последнюю просьбу Арлин — назвать ребенка Раймондом — и увидеть, как дочь умирает. В честь ли кого-то младенец был назван Раймондом, или просто так, без всякой причины, Большая Ленни так никогда и не узнала.
Это был длинный, светло-коричневого цвета малыш, с большими светлыми глазенками, которыми он смотрел куда-то мимо бабушки. Только спустя несколько дней люди в больнице сказали ей, что он слепой.
Большая Ленни обошла всех леди, которые ее нанимали, и объяснила им, что не сможет некоторое время работать: ей нужно ухаживать за внуком. Неожиданный отказ Ленни причинил этим леди, которых она много лет добросовестно обслуживала, массу неудобств, но их возмущение выразилось только в холодном тоне и пожатии плеч. Все они, не сговариваясь, пришли к выводу, что слишком хорошо относились к Большой Ленни, за что теперь и расплачиваются. «Уж эти негры, — говорила каждая своим друзьям, — все они на один лад».
Большая Ленни продала почти все свои вещи и сняла комнатенку с печным отоплением. Туда, как только люди в больнице ей разрешили, она привезла Раймонда и стала за ним ухаживать. Он заменил ей всех ее детей.
Она всегда была бережливой — запросы у нее были небольшие, а желаний почти никаких, иона привыкла подолгу жить одна. Даже после похорон Арлин для Раймонда и Большой Ленни оставалось еще достаточно, чтобы протянуть некоторое время. Мысль о будущем долго не тревожила ее медлительный мозг. Вначале страх вообще не посещал ее, а потом стал подкрадываться к ней только на исходе ночи, когда она просыпалась в тихие, предутренние часы.
Раймонд был хорошим ребенком, спокойным и терпеливым; он лежал в своем деревянном ящике и протягивал тонкие ручонки навстречу звукам, которые заменяли ему дневной свет и краски. Казалось, прошло совсем немного времени, а для Большой Ленни оно промелькнуло и вовсе незаметно, и Раймонд стал ходить по комнате, вытянув вперед руки, быстро и уверенно переставляя ножки.
Те из друзей Большой Ленни, которые видели ребенка впервые, не могли догадаться, что он слепой, пока им об этом не говорили.
А потом — и снова время промелькнуло незаметно — Раймонд мог уже сам одеваться, и открывать бабушке дверь, и расшнуровывать ботинки на ее усталых ногах, и нежным голоском разговаривать с ней. Ей перепадала случайная работа — время от времени кто-либо из соседей узнавал, что где-нибудь требуется однодневная уборка, или иногда ей приходилось заменять свою больную подругу, но такое случалось редко и рассчитывать на это не приходилось. Она пошла к тем леди, у которых когда-то работала, спросить, не возьмут ли ее обратно; но после первого же посещения одной из них она потеряла почти всякую надежду. «Ну, знаете, это уж слишком, — говорили леди, — это уж действительно слишком!»
Соседи в комнате напротив приглядывали за Раймондом, когда Большая Ленни уходила искать работу. Он не причинял много хлопот ни им, ни самому себе. Сидя за своим любимым занятием, он мурлыкал себе под нос. Ему дали деревянную катушку, на шляпке которой были вбиты булавки; выпрямленной шпилькой он наматывал на булавки яркую пряжу, работая так проворно, что глаз не успевал за ним следить, до тех пор, пока через отверстие катушки не падала целая трубка сотканной пряжи. Соседи продевали ему нитки в большие тупые иглы, и он сплетал шерстяные трубки и сшивал из них коврики. Большая Ленни говорила, что они очень красивы, а когда она рассказывала ему, как быстро их раскупают, Раймонд весь сиял от гордости. Ей было нелегко по ночам, когда он спал, распарывать коврики, стирать шерсть и растягивать ее так, чтобы даже чувствительные пальцы Раймонда на другой день, когда он принимался за работу, не могли обнаружить, что шерсть не новая.
Страх терзал душу Большой Ленни, не давая ей покоя ни днем, ни ночью. Она не могла обратиться ни в какую благотворительную организацию, боясь, что Раймонда заберут у нее и поместят… — она не могла даже произнести это слово, и она и соседи понижали голос, когда говорили об этом между собой, — в приют. Соседи без конца рассказывали о том, что происходит за стенами некоторых опрятных на вид квадратных зданий, расположенных на дымных окраинах, и когда им приходилось проходить мимо этих зданий, ускоряли шаги, так, словно шли через кладбище, и домой приходили, чувствуя себя героями.
Стоит им засадить человека в один из таких домов, шептали друг другу соседи, они раздевают его и начинают бить плеткой по спине, пока мясо не повиснет кусками, а потом, когда человек падает, они проламывают ему череп.
Если бы кто-нибудь вздумал прийти в комнату Большой Ленни, чтобы забрать Раймонда в приют для слепых, соседи встретили бы его камнями и палками, облили бы кипятком.
Раймонд знал в жизни только хорошее. Когда он подрос настолько, что сам мог спускаться вниз по лестнице и выходить на улицу, каждый день стал для него сплошным праздником. Он выходил в маленький двор перед ветхим деревянным домиком, высоко поднимал голову и медленно поворачивал лицо направо и налево, словно омывая его прохладной влагой чистого воздуха. Грузовики и телеги не громыхали по их уличке — она кончалась тупиком, служившим свалкой для ржавых пружинных матрасов, дырявых котлов и прохудившихся чайников. Дети играли на булыжной мостовой, а мужчины и женщины сидели и болтали у открытых окон, окликая друг друга веселыми звучными голосами. Раймонд всегда слышал вокруг себя смех и тоже смеялся в ответ, протягивая навстречу голосам ручонки.
Первое время, когда он выходил на улицу, дети прекращали свои игры, молча окружали его и как завороженные во все глаза смотрели на него. Они слышали, какое несчастье постигло его, и испытывали к нему какую-то болезненную жалость. Некоторые тихо и нежно разговаривали с ним. Раймонд смеялся от удовольствия и протягивал свои ручонки с растопыренными пальцами — любознательные ручонки слепого — в ту сторону, откуда доносились голоса. Дети отступали назад в испуге, что он может коснуться их своими странными руками. Но потом им становилось немного стыдно, что они так шарахались от него, ведь он даже не мог их видеть, и они ласково прощались с ним и пятясь уходили, не спуская с него глаз.
Когда дети покидали его, Раймонд продолжал свою прогулку в конец улицы. Чтобы не сбиться с пути, он слегка дотрагивался рукой до поломанного забора, тянувшегося вдоль немощеного тротуара, и мурлыкал себе под нос песенки без слов. Иные женщины и мужчины окликали его, сидя у окон, и он отвечал им, махал рукой и улыбался. А когда дети, позабыв о нем, вновь принимались играть и смеяться, Раймонд останавливался и поворачивал голову в ту сторону, откуда доносился смех, словно там светило солнце.
По вечерам он рассказывал Большой Ленни о своей прогулке, хлопал себя по коленкам и радовался, вспоминая, как смеялись дети. А когда скверная погода мешала ему выйти на улицу, он садился за свою пряжу и целый день твердил о том, как завтра пойдет гулять.
Соседи делали все, что могли, для Раймонда и Большой Ленни. Они отдавали Раймонду одежду, которую не успели сносить их дети, они приносили ему еду, когда у них оставалась лишняя и даже когда лишней не было.
Большая Ленни кое-как протягивала неделю и молилась о том, чтобы протянуть следующую; так шли месяцы. А потом дни, когда ей удавалось найти работу, стали выпадать все реже и реже, и она уже не осмеливалась молиться о будущем, потому что боялась о нем даже подумать.
Миссис Эвинг — вот кто спас Большую Ленни и Раймонда. Благодаря ей они могли продолжать жить вместе. Большая Ленни без устали рассказывала потом об этом всем и каждому. Денно и нощно она готова была благословлять миссис Эвинг и молиться за нее, если бы в душе не была уверена, что любое заступничество за миссис Делабару Эвинг могло сойти за дерзость.
Миссис Эвинг была видной фигурой в городе. Когда она посещала Ричмонд или возвращалась из Чарлстона, где осматривала сады азалий, газеты всегда отмечали эти события. Это была женщина, твердо сознающая свои благородные обязанности. Она играла видную роль в Комитете общественного фонда, и именно ей принадлежала идея организации ежегодных кампаний по игре в бридж, сборы от которых шли на посадку сальвий вокруг орудий, охраняющих здание штаба «Дочерей американской революции». Это были лишь немногие из тех многочисленных общественно-полезных дел, которые она выполняла; в своей личной жизни она отличалась не меньшей требовательностью. У них с мужем не было детей, но хозяйство дома велось образцово, и даже в мелочах она не полагалась ни на одного домашнего подчиненного, каким бы заслуживающим доверия он ей ни казался.
Большая Ленни работала прачкой у миссис Эвинг еще задолго до рождения Раймонда. С тех пор у корыт миссис Эвинг перебывало много других прачек, но ни одна не могла сравниться с Ленни. И миссис Эвинг взяла Большую Ленни обратно к себе на работу. За этот свой шаг она извинилась перед друзьями испытанным методом самокритики. Она знает, что поступила глупо, говорила она, ведь прошло так много времени и к тому же Большая Ленни так дурно обошлась с ней. Но что поделаешь, — говорила она, при этом слегка посмеиваясь над собой, — любой, к кому она испытывает жалость, может обвести ее вокруг пальца. Она знает, что это ужасно глупо, но что поделаешь, так уж она устроена. Мистер Эвинг, говорила она, когда мужа не было поблизости, всегда называет ее просто глупышкой.
Большая Ленни не находила слов, чтобы благодарить миссис Эвинг, не знала, как объяснить ей, что для нее значат два дня в неделю верной работы. Во всяком случае, до какой-то степени верной. Ведь Большая Ленни, как пояснила ей миссис Эвинг, не стала за это время моложе, да и раньше она никогда не отличалась расторопностью. Миссис Эвинг держала ее в состоянии вечного страха, все время напоминая ей, — что вполне соответствовало действительности, — о целой армии более сильных и проворных женщин, тоже нуждающихся в заработке.
Работа два раза в неделю у миссис Эвинг давала Большой Ленни деньги на комнату и дрова и обеспечивала почти сытое существование для нее и для Раймонда. Ну, а на все остальное приходилось подрабатывать на стороне, и она постоянно узнавала, не нужны ли кому-нибудь ее услуги. Страх и благодарность заставляли ее работать так усердно, что иногда миссис Эвинг устно выражала ей свое удовлетворение безупречной белизной постельного и столового белья, а также своего белья и белья мужа.
Большая Ленни иногда мельком видела мистера Эвинга, когда она приходила, а он уходил или, наоборот, когда он входил, а она после работы уходила домой. Это был низкорослый мужчина, может быть чуть побольше Раймонда.
Раймонд вытягивался на глазах, с каждым утром, казалось, становясь все выше ростом. Он ежедневно совершал свою прогулку по улице, пополняя впечатления, а по вечерам рассказывая о них Большой Ленни, мечтал о новой. На улице на него перестали смотреть как на чудо; дети так к нему привыкли, что даже не глядели в его сторону, а взрослые, сидя у окон, настолько не замечали его, что даже перестали здороваться. Но он не знал об этом. Он продолжал приветственно махать рукой на каждый веселый крик, который слышал, и шел вперед, напевая свои песенки и поворачивая голову в ту сторону, где раздавался смех.
А потом эта череда радостных дней оборвалась так резко, словно кто-то выдернул их из пестрого календаря. Пришла зима, внезапная и такая суровая, какой не помнили жители города, и Раймонду нечего было надеть, чтобы выйти на улицу. Большая Ленни чинила, покуда было можно, его одежду, из которой он вырос, но материя так износилась, что расползалась на новых местах, когда она пыталась соединить обтрепанные края дыр. Соседи не могли больше снабжать ее одеждой; все, что у них осталось, нужно было сохранять для своих детей. В соседнем городе какой-то помешанный негр убил женщину, у которой работал, и паника распространилась повсюду, словно лесной пожар, толкая на крутые меры. Цветных служащих увольняли, и они не могли найти другой работы. Но миссис Эвинг, добросердечие которой, по всеобщему признанию, не знало границ, а может быть, даже и грозило ее жизни, продолжала держать свою черную прачку. Теперь, больше чем когда-либо, у Большой Ленни были основания считать миссис Эвинг своей благодетельницей.
Всю зиму Раймонд провел, не выходя из дому. Он сидел за своей катушкой и пряжей в накинутой на плечи бабушкиной старой кофте, а когда его вконец изношенные штаны совсем разорвались, Большая Ленни обертывала его талию своей ситцевой юбкой. Хоть лет ему было совсем мало, он жил только прошлым; теми днями, когда, гордый и счастливый, он гулял по улице и в ушах у него звучал смех. Всегда, когда он начинал об этом рассказывать, он, вспоминая этот смех, невольно смеялся сам.
С тех пор как он себя помнил, Большая Ленни всегда запрещала ему выходить на улицу, если считала погоду неподходящей. Он беспрекословно подчинялся этому и также беспрекословно переносил свое заключение в течение всех суровых зимних дней.
Но вот наконец пришла весна, такая явная, что Раймонд почувствовал ее даже в дымных вонючих комнатах их дома; и он вскрикнул от радости — ведь теперь он снова мог выходить на улицу. Большая Ленни должна была объяснить ему, что лохмотья не защитят его от холода, а так как дополнительной работы у нее нет, она не сможет купить ему одежду и обувь.
Раймонд не говорил больше о прогулках, и пальцы его стали медленнее перебирать пряжу.
Большая Ленни решилась сделать то, на что никогда бы раньше не отважилась, — она обратилась за помощью к своей хозяйке. Она попросила миссис Эвинг дать ей для Раймонда старую одежду ее мужа. Уставившись в землю, Большая Ленни бормотала себе под нос так тихо, что миссис Эвинг потребовала, чтобы она сказала, наконец, в чем дело. Когда миссис Эвинг поняла, она, как она выразилась впоследствии, была поражена. Она делает, сказала она, очень, очень много добрых дел и полагает, что уж кому-кому, а Большой Ленни это хорошо известно; она делает все, что в ее силах и, по правде говоря, даже сверх своих сил. Ведь стоит только палец протянуть, как тебе всю руку откусят.
Она сказала, что если и сможет уделить Большой Ленни что-нибудь, то пусть уж Большая Ленни потрудится запомнить, что это будет в первый и последний раз.
Когда в конце дня, закончив работу, Большая Ленки собралась уходить домой, миссис Эвинг собственноручно вынесла ей сверток. Тут, сказала она, костюм и пара ботинок; красивые, превосходные вещи, люди подумают, что она совсем с ума сошла, раздавая их таким образом. Она просто не знает, сказала она, как расценит этот ее безумный поступок мистер Эвинг. И пока Большая Ленни пыталась всячески выразить ей свою благодарность, миссис Эвинг твердила, что ее ничего не стоит обвести вокруг пальца и разжалобить.
Когда Большая Ленни принесла сверток домой, Раймонд совсем потерял голову от радости — Большая Ленни никогда не видела его таким. Он прыгал, плясал и хлопал в ладоши, пытался что-то оказать, но вместо этого просто визжал. Он сам сорвал бумагу с пакета и стал щупать пальцами плотную ткань, подносить ее к лицу и целовать. Он надел башмаки и стал топать в них по полу, усердно задирая носки, чтобы ботинки не свалились с ног. Он заставил Большую Ленни заколоть ему булавкой брюки на талии и засучить их. И, просто захлебываясь от смеха, непрерывно болтал о завтрашнем дне, когда он выйдет на улицу.
На следующий день Большая Ленни должна была работать у миссис Эвинг и думала попросить Раймонда подождать с прогулкой до тех пор, пока она будет дома и сама сможет надеть на него новый костюм. Но когда она услышала его смех, у нее не хватило духу просить его подождать. Она сказала ему, что он может выйти на улицу завтра днем, когда пригреет солнце, чтобы не простудиться, ведь он так долго сидел дома.
Соседка напротив поможет ему одеться. Раймонд веселился и пел свои песенки, пока не заснул.
Когда Ленни утром ушла на работу, соседка пришла к Раймонду и принесла ему на завтрак кусок кукурузного хлеба и холодной свинины на сковородке. Соседка должна была идти в полдень на работу и поэтому не могла проследить за тем, как Раймонд выйдет на улицу. Она помогла ему надеть брюки, заколола их, подвернула и как можно плотнее зашнуровала ботинки. А потом, приказав ему не выходить до тех пор, пока не раздастся обеденный гудок, она поцеловала его и ушла.
Раймонд был слишком счастлив, чтобы проявлять нетерпение. Он сидел и думал о прогулке, и улыбался, и пел свои песенки. Только дождавшись гудка, он подошел к ящику комода, куда Большая Ленни положила пальто, вынул его оттуда и надел. Он ощущал его мягкий ворс на своей голой спине, он двигал плечами, чтобы пальто мягко и свободно спадало с них. А когда он подворачивал рукава, болтавшиеся на его худых руках, сердце его билось так сильно, что материя на груди вздымалась.
Ему было трудно в своих больших ботинках спуститься по лестнице, но этот медленный спуск показался ему необыкновенно приятным. Предвкушение удовольствия было слаще меда.
Потом он вышел во двор и подставил лицо нежному ветерку. Опять все было хорошо, все было по-прежнему. Как можно быстрее он вышел на улицу и двинулся вперед, держась рукой за ограду. Он не мог ждать; он крикнул, чтобы услышать веселый ответ, он смеялся, чтобы услышать ответный смех.
И он услышал их. Радость настолько переполняла его, что он уже не шел вдоль забора, он повернулся и, широко раскинув руки, улыбался, приветствуя эти голоса. Он стоял так, и улыбка постепенно исчезала с его лица, а протянутые руки сначала словно онемели, а потом начали дрожать.
Нет, это был не тот смех, который он знал, не тот смех, которым он жил. Этот смех тяжелыми цепями бил его по лицу, острыми вилами срывал мясо с его костей. Он надвигался на него, чтобы убить. Он крадучись отступал, чтобы снова изо всех сил налететь на него. Он закружил вокруг него и над ним, сдавил его так, что мальчик не мог больше дышать. Раймонд испустил пронзительный вопль и попытался прорваться сквозь него, но упал, а он обрушился на него, завывая все сильнее. Одежда на нем расстегнулась, и ботинки шлепали на ногах.
Каждый раз, когда ему удавалось подняться, он снова падал. Ему казалось, что улица встала перед ним на дыбы, а смех прыгал у него за спиной. Он не мог отыскать забор, он не знал, в какую сторону ему идти. Он лежал и громко кричал, весь в крови и пыли среди кромешной тьмы.
Когда Большая Ленни пришла домой, она нашла Раймонда лежащим на полу в углу комнаты; он стонал и жалобно хныкал. На нем все еще был новый костюм, весь покрытый пылью и разорванный в клочья. На губах и на ладонях у него запеклась кровь.
Сердце Большой Ленни тревожно дрогнуло, когда он, услышав ее шаги, не открыл ей дверь; она так панически закричала: «Что случилось?» — что он испугался и неистово заплакал. Она не могла разобрать, что он ей говорил; что-то насчет улицы, и как кто-то смеялся над ним, и чтобы она прогнала их и никогда больше не пускала его на улицу, никогда, никогда больше не пускала. Она и не пробовала добиться от него объяснения. Она взяла его на руки, и баюкала его, и повторяла ему снова и снова: «Не надо, не надо плакать, все будет хорошо». Но ни он, ни она не верили этим словам.
Голос ее был мягким, а руки теплыми. Рыдания Раймонда сменились всхлипыванием и постепенно стихли. Она долго носила его на руках, тихонько баюкая. А потом осторожно поставила его на ноги и сняла с него старый фрак мистера Эвинга.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Л. Копелев
НОВЕЛЛЫ
Большая блондинка. Перевод Э. Питерской
Черное и белое. Перевод Н. Ветошкиной
Мистер Дьюрант. Перевод Н. Ветошкиной
Изумительный Старик. Перевод Т. Озерской
Песнь о рубашке. 1941. Перевод Т. Озерской
Телефонный звонок. Перевод Н. Ветошкиной
Вот и все! Перевод Н. Ветошкиной
Слава при дневном свете. Перевод Н. Ветошкиной
Сердце, мягкое как воск. Перевод Т. Озерской
Солдаты республики. Перевод Т. Озерской
Нью-Йорк — Детройт. Перевод Н. Ветошкиной
Малыш Кэртис. Перевод Т. Озерской
Чудесный отпуск. Перевод Н. Ветошкиной
Кузен Ларри. Перевод Н. Ветошкиной
Светоч истины и добра. Перевод Т. Озерской
Жизненный уровень. Перевод Н. Ветошкиной
Из дневника нью-йоркской леди. Перевод Н. Ветошкиной
Оденьте нагих. Перевод Н. Ветошкиной
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Памятник вблизи швейцарского города Люцерна, изображающий льва, убитого стрелой. (Прим. ред.)
(обратно)2
«Песнь о рубашке» (1844 г.) — знаменитое стихотворение английского поэта Томаса Гуда. В нем рассказывается о швее, которая работает с утра до ночи, и все-таки ей грозит голодная смерть. (Прим. ред.)
(обратно)3
Питер-Пен — главный герой популярной детской пьесы английского писателя Джеймса Барри.
(обратно)4
Роман, написанный американским банкиром Э. Уэскоттом (1846–1898); главный герой его — добродетельный банкир.
(обратно)5
Гвельфы (Вельфы) — княжеская фамилия в средневековой Германии.
(обратно)6
Гари Купер — известный американский актер.
(обратно)
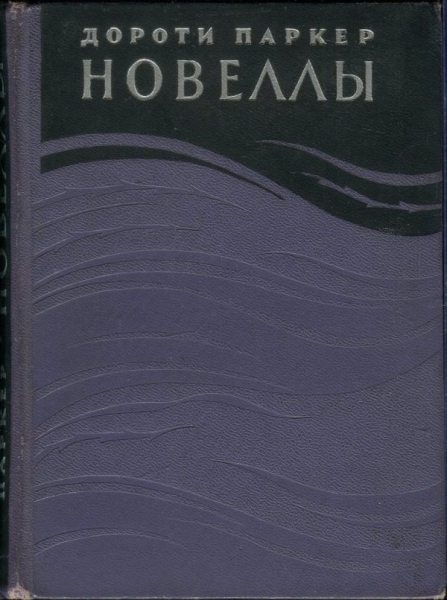




![Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](https://www.4italka.su/images/articles/487738/primary-medium.jpg)
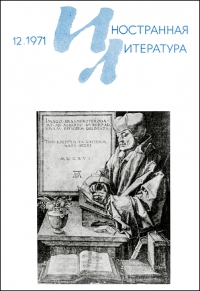
Комментарии к книге «Новеллы», Дороти Паркер
Всего 0 комментариев