Гюнтер Грасс Под местным наркозом
ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя Гюнтера Грасса впервые появилось на страницах прессы Федеративной Республики Германии в 1955 г., когда журнал «Акценте» напечатал в нескольких номерах одно его стихотворение и несколько рассказов. В последующие годы оно стало мелькать все чаще — Грасс читал свои стихи и «абсурдные» пьесы на собраниях «Группы 47», публиковал их отдельными сборниками.
Но внезапная и громкая слава настигла его в 1959 г., когда он выпустил в свет свой первый роман «Жестяной барабан», и с тех пор его вес и авторитет в литературе ФРГ прочно связаны прежде всего с прозой.
У писательских триумфов Грасса долгое время был привкус сенсационности: этому способствовала его устойчивая наклонность к эффектам гротеска, даже шока — пожалуй, самая броская черта его таланта. Но теперь, когда злободневные страсти отошли в прошлое, когда слава Грасса «отстоялась» и проза его заняла свое место в истории литературы, особенно отчетливо видно, что писатель отнюдь не жаждал сенсации ради дешевого успеха, что он так, и только так, умел и мыслить и писать. Лучшие, ставшие, можно сказать, уже хрестоматийными грассовские гротески рождались не из головы, не от умствования и оригинальничания — судьба наделила его, как некогда Гофмана, даром проникать внешний покров вещей и видеть противоестественную, антигуманную абсурдность тех ситуаций и тех социальных и моральных установлений, которые обыденному сознанию, целенаправленно формируемому официальной идеологией буржуазного мира, представлялись привычными и нормальными. А поскольку речь, как правило, шла не о каких попало ситуациях и установлениях, а об идеологии и морали либо фашистской, либо реваншистской — и всегда обывательски-приспособленческой, — то упомянутая сенсационность подогревалась вполне определенными силами извне, разжигалась порою до травли. Так, в течение десятилетия не утихали в ФРГ страсти вокруг романа «Жестяной барабан»: авторитетные литературные инстанции присуждали писателю самые влиятельные премии, а авторитетные официальные инстанции отказывались эти премии вручать; в 1965 г. фашиствующие юнцы сожгли этот роман на книжном костре в Дюссельдорфе, а в 1969 г. мюнхенский земельный суд в нашумевшем процессе оправдал неонацистского литератора Курта Цизеля, назвавшего Грасса «сочинителем свинств» и «осквернителем католической церкви». Среди подобного рода критиков Грасса были и весьма высокопоставленные представители официальной иерархии, вплоть до главы западногерманской евангелической церкви Отто Дибелиуса и федерального канцлера Людвига Эрхарда.
Эрхард сошел со сцены, а книги Грасса остались. Остались потому, что их громкий внешний успех всегда имел за собой еще и солидное внутреннее обеспечение: глубоко своеобразный художественный талант, проявлявшийся не только в собственно поэтическом, повествовательном даре, но и в обостренно чуткой реакции на дух времени, в умении уловить его явные и скрытые токи. Писательская судьба Грасса, поверх всех внешних экстравагантностей, воплощает в себе многие существенные черты духовной биографии его поколения. История литературы ФРГ с конца 50-х гг. до нынешнего дня, история ее духовных забот и кризисов без Грасса уже немыслима, не может быть понята во всей ее сложности.
Грасс родился в 1927 г. в тогдашнем Данциге, в 1944 г. был призван в гитлеровскую армию, в 1945 г. попал в плен к американцам; после возвращения из недолгого плена был сначала рабочим на калийных рудниках, потом каменотесом в Дюссельдорфе; в 1948–1949 гг. учился в дюссельдорфской Академии искусств, в 1953 г. — в Институте изобразительных искусств в Западном Берлине. Эти последние факты биографии писателя (от труда каменотеса до занятий художествами) существенны для понимания поэтики грассовской прозы: отсюда идет ее утонченно-грубоватая пластичность, осязаемость, отсюда — колющая резкость штриха (Грасс всю жизнь попутно занимался графикой и скульптурой). А вот первые биографические факты — опыт отрочества, проведенного в атмосфере фашистского рейха, юношества, травмированного войной и тяготами первых послевоенных лет, — определили идеологический фундамент этой прозы: она всегда, несмотря на внешне нигилистическую браваду ранней манеры писателя, была гражданственной в своей основе, в своем исходном импульсе; Грасс с самого начала столь же яростно развенчивал и фашизм, и реваншистские амбиции христианско-демократических боннских кабинетов, сколь решительно он в последнее время выступает против угрозы ядерного уничтожения человечества, против насаждения заокеанских ракет на земле своей страны[1].
Для понимания остропарадоксального, сатирически-пародийного художественного мира Грасса и его места в литературе ФРГ важно и другое. Этот писатель, чьи сочинения сразу ошеломили публику сочной полнотой материальной жизни, грубой, плотской вещественностью, оказывается на поверку еще и одним из самых «литературных» писателей своего времени. Он не просто изображает и критически оценивает те или иные явления и процессы социальной жизни ФРГ или фашистской Германии — он всегда примысливает к нарисованной им картине собственную писательскую проблематику, шире — саму принципиальную возможность убедительного и действенного вмешательства художника в жизнь, влияния на нее. Помимо потока осязаемой и зримой (только всегда по-грассовски заостренной, укрупненной, шаржированной) «вещественной» жизни — помимо собственно сюжета, — в романах и повестях Грасса постоянно движется поток писательской рефлексии; иногда подземный, глубинный, как преимущественно в ранних произведениях («Жестяной барабан», «Кошки-мышки», «Собачья жизнь»), иногда то и дело неудержимо вырывающийся на поверхность («Под местным наркозом»), а иной раз и вовсе затопляющий, размывающий канву традиционного романического сюжета волнами уже откровенно авторских, чисто публицистических размышлений, как в некоторых поздних книгах («Из дневника улитки», «Рождаемся из головы»).
И это опять-таки не просто модный литературный прием, давно уже ставший расхожим в литературе XX в. Конечно, этой традиции Грасс тоже обязан; но все же его больше волнует не проблема писательства как такового (в силах ли литература адекватно отразить жизнь вообще), а именно проблема воспитательных возможностей литературы, еще конкретнее — возможностей писателя немецкого языка, писателя, адресующегося к соотечественникам прежде всего. Есть глубокий символический смысл в названии романа «Под местным наркозом»: предлагая вместо строгого медицинского термина с иноязычными корнями (Lokalanästhesie — местная анестезия) его чисто немецкий описательный синоним (Örtlich betäubt), Грасс как бы напоминает об исходном, первичном значении составных частей термина — о корнях «Ort» (место) и «taub» (глухой). Вот это место в пространстве — и мы им «оглушены», заворожены, ничего больше не видим и не слышим. К тому же место это для нас больное.
Еще один многослойный символ — упомянутое выше название последней книги Грасса: «Рождаемся из головы» — «Kopfgeburten». (Заодно, читатель, мы с вами уже входим и в чисто художественную мастерскую Грасса, в сферу его поэтики, ибо символические образы такого рода являются и основой основ, как бы первичным стройматериалом, «молекулами» этой поэтики.) Речь идет опять о немцах, об их традиционно отмечавшейся наклонности к умозрительному философствованию («нация поэтов и мыслителей»); они, иронизирует Грасс, рождаются не обычным, нормальным, а рассудочным путем, из головы (как богиня мудрости Афина родилась в древнем мифе из головы Зевса), и потому так часто попадают впросак в своей посюсторонней истории, в сфере не теоретической, а практической. Но Грасс и себя самого отнюдь не вычленяет из этой специфической общности; многозначность слова Kopfgeburten он обыгрывает в полную меру — герои этой книги не только «умородки» (то ли «самородки», то ли «выродки») в указанном выше смысле, они еще и порождения его, грассовской, головы, его ума и фантазии; снова всплывает тема писательства, снова, как в магнитном поле, возникают и взаимодействуют сразу два полюса — реальная жизнь и осмысляющий ее писатель. Мы, читатели, не просто погружаемся в изображенную автором картину жизни — мы постоянно присутствуем при его единоборстве с жизнью, при решении мучительно-сложной для него проблемы: что может литература, способна ли она научить, воспитать, помочь читателю (и прежде всего немецкому!) извлечь уроки из истории (и прежде всего немецкой — трагической истории буржуазной Германии XX в., да и более ранних эпох).
* * *
Свою проблему и свою манеру Грасс, однако, не совсем уж «родил из головы» — их оформлению немало способствовал исторический час.
Время прихода Грасса в литературу — вторая половина 50-х гг. — ознаменовалось глубоким кризисом сознания у значительной части интеллигенции ФРГ. Тот расчет с прошлым, который прогрессивная литература ФРГ вела в течение первого послевоенного десятилетия (творчество Носсака, Бёлля, Кёппена, Рихтера), как будто не привел к ощутимым результатам; напротив, стабилизация потребительского общества с одновременным усилением реваншистских тенденций в социально-политической жизни ФРГ, распространение конформистской идеологии «экономического чуда» — все это оформилось в сознании писателей в комплекс «непреодоленного прошлого» и породило настроения разочарованности и пессимизма, ощущение своего бессилия в борьбе с возрождающимся злом. Все более решительное выдвижение на литературную авансцену фигуры шута, клоуна, темы эксцентриады и донкихотства; обращение к философии и художественной технике литературы абсурда по французскому образцу; распространение эзотерического, сугубо формального принципа в литературе — таковы самые броские внешние приметы этой кризисной ситуации.
Все эти явления так или иначе фиксируют новое, весьма специфическое мироощущение, главный импульс которого — недоверие к воспитательным притязаниям литературы. Но в то же время, утратив веру в воспитательные возможности искусства, новая литература нередко втайне и скорбит об этом крушении идеалов — она безыдеальна с отчаяния. Неудивительно, что тогда ее предпочтительным орудием становится клоунада, сарказм, подчас даже цинизм; она может быть остросатиричной, но язвящее острие направляется не только на достойные осмеяния явления внешнего мира, но и на все попытки изменить его, на писательскую позицию моралиста и исправителя нравов, воспринимаемую теперь как не оправдавшая себя претензия, как наивный идеализм.
Месть солгавшим кумирам и есть сквозной импульс раннего творчества Грасса, вплоть до середины 60-х гг. «Немецкий идеализм» — идеализм как в самом обыденном, так и в сугубо философском смысле слова — один из главных врагов Грасса, преследуемый писателем на всех уровнях, во всех проявлениях.
Отметить эмоциональные и психологические истоки грассовской манеры чрезвычайно важно. Дело в том, что Грасс — особенно ранний — сатирик по преимуществу и, как всякий последовательный сатирик, избегает однозначно-положительных образов в своем художественном мире и весьма редко расставляет в нем прямые, всем очевидные нравственные ориентиры, по-кантовски полагаясь на присутствие в сознании читателя неких априорных и непреложных моральных представлений: например, что фашизм — это зло, что убийство людей, индивидуальное или массовое, — тоже зло, и так далее. Но в случае с Грассом положение осложняется еще и тем, что он воюет не только со злом и уродством мира (воплощенными для него прежде всего в фашизме), а и с любыми «идеальными» системами, убедив себя в полной дискредитированности идеологии вообще. На социальную сатиру у него накладывается идеологическая пародия, принцип низвержения кумиров. И если сатира — это позиция, то пародия, да еще в форме буффонного выворачивания наизнанку всех высших ценностей, — это прежде всего поза или, что в данном случае особенно значительно, маска.
Отделять позу от позиции, маску от лица писателя Грасса особенно важно при рассмотрении раннего этапа его творчества, времени создания так называемой данцигской трилогии (1959–1963) — романов «Жестяной барабан», «Собачья жизнь» и повести «Кошки-мышки». Позже Грасс сам отложит маску и неоднократно будет комментировать свои ранние произведения со всей возможной ясностью. Но в данцигской трилогии высшая моральная инстанция, точка опоры лежит в значительной степени за пределами мира писательских гротесков: Грасс судит немецкую историю и «немецкую идеологию» самым безжалостным судом, уповая лишь на самоочевидность тех нравственных истин, во имя которых этот суд вершится.
Тематически роман Грасса «Жестяной барабан» как будто естественным образом подхватывает и продолжает предшествующую традицию антифашистской и антиреваншистской литературы ФРГ. Здесь снова воскрешается история Германии XX в. — от начала столетия и первой мировой войны через годы Веймарской республики, фашизма и второй мировой войны к послевоенной Западной Германии. Как Носсак, и Бёлль, и Кёппен, Грасс отчетливо ощущает роковую преемственность в этой истории, неслучайность, историческую обусловленность прихода фашистского варварства.
И все же грассовский роман демонстрирует совершенно иной художественный принцип осмысления прошлого. Автор с самого начала прячется за маску, и маску очень необычную. Оскар Мацерат, повествователь в романе, — пациент психиатрической лечебницы, намекающий, однако, что попал он сюда не без собственной инициативы — в надежде обрести желанную тихую пристань посреди житейских и исторических бурь. Вдобавок он карлик — и опять-таки по собственному почину: когда ему минуло три года, он якобы сознательно решил не расти дальше и инсценировал случайное падение в погреб, по забывчивости не закрытый отцом; после этого его рост прекратился. Наконец, Оскар не просто рассказывает или пишет повесть своей жизни, как это обычно происходит в литературе, — он все отбивает на детском жестяном барабане, его любимой игрушке с трехлетнего возраста и неразлучном «спутнике жизни».
Итак, автор создает фигуру явно двусмысленную, интригующую, перепоручает ей повествование и тем самым с первых же страниц ввергает читателя в атмосферу принципиальной необычности всего, что касается авторской точки зрения, позиции. Традиционное содержание предстает в весьма своеобразной инструментовке: трагическая история Германии XX в. дается как соло на барабане, и отбивает его то ли дурак, то ли мудрец — то есть, конечно же, разновидность шута, потешника, клоуна.
Но уже за этим фейерверком экстравагантностей можно разглядеть невеселую, в сущности, эскападу, порожденную отталкиванием именно от опыта «назидательной» литературы. Роман Грасса как бы стремится самой формой своей внушить читателю, что история Германии — не поучительная трагедия, а мрачный и абсурдный фарс, ей более пристало переложение для барабана, на темп марша, и жестяной барабан здесь куда более подходящее средство, чем жгущий сердца глагол. Не патетическая поза всеведущего учителя морали приличествует летописцу этой истории, а скорее поза добровольного инфантилизма, ибо людей, немцев, все равно ничему не научишь; не взгляд с высот мудрости и идеалов, а взгляд снизу — Оскар любит запрятываться под стол, под трибуны, под бабушкины юбки, и тут уж он в своем рассказе не брезгует никакими подробностями человеческого «низа».
Стихия пародийности захватывает и собственно содержательную сферу романа. Основная линия поведения Оскара — намеренное кощунство, оскорбление всех святынь современного ему германского буржуазно-филистерского мира: семьи, религии, позолоты духовных традиций; и этому кощунству придает особенно вызывающий характер пародия — потому что, развенчивая спекуляцию на ценностях, Грасс попутно каждый раз метит и в тех «идеалистов», которые всерьез на них уповают. Например, один из таких резких выпадов против морализаторского искусства содержится в последней части романа, в сценах, рассказывающих о том, как Оскар в голодные послевоенные годы подрабатывал натурщиком в Академии художеств. Там профессор проповедует своим ученикам «искусство как обвинение, экспрессию, пафос, страсть»: «Этот был помешан на экспрессии, подавай ему экспрессию, все кричал: черная, как ночь, экспрессия отчаяния, — а про меня говорил, что я, Оскар, являю собой разрушенный образ человека, что во мне воплощена обвиняющая, вызывающая, вневременная и все же выражающая безумие нашего времени экспрессия, и прямо гремел поверх мольбертов: вы не рисуйте этого калеку — нет, вы его измордуйте, распните, пригвоздите углем к бумаге!» Это, конечно, насмешка и над традицией экспрессионистического искусства (сам Грасс учился графике у одного из патриархов немецкого экспрессионизма Отто Панкока), и над патетикой возвращенческой литературы первых послевоенных лет.
И все же было бы упрощением рассматривать этот разгром идеологии лишь как свидетельство крайнего мировоззренческого цинизма Грасса. Западногерманское филистерство самых разных рангов неспроста ополчилось на роман Грасса под лозунгом «защиты национальной чести и морали». Грасс, можно сказать, спровоцировал его на эту реакцию, и она вполне подтвердила сомнения писателя в абсолютности понятия национальной чести и понятия морали: именно тут, в этой реакции, и обнаружилось, что бывает мораль, допускающая фашизм, и бывает понятие национальной чести, оправдывающее национальный позор. Грасс, конечно, стремится релятивировать не саму мораль, а ее окостенелый образ в индивидуальном и национальном мышлении, выхолощенный абсолют, допускающий любое наполнение: немцы должны помнить, что тягчайшие преступления в их недавней истории освящались тоже именем чести и морали.
Именно поэтому определяющая реакция Оскара на все, связанное со сферой морали, — провокация. На эту провокацию он «запрограммирован» с самого начала. Обнаружив в себе сверхъестественный «телекинетический» дар — раскалывать своим пронзительным голосом стеклянные предметы, — Оскар тут же находит ему прикладное применение: притаившись ночью в переулке, он раскалывает витрины магазинов и со злорадством наблюдает, как добропорядочные прохожие неминуемо поддаются искушению воровства. Это, конечно, аллегорически-ироническое переосмысление роли художника; само это непереводимое на русский язык обозначение дара Оскара — Zersingen («разрушение пением») — пародирует исконные претензии поэтов на магическую силу: грассовский герой, этот гротескный Орфей-нигилист, тоже чарует, но чарует двуногих животных, высвобождая и выставляя напоказ таящиеся во тьме их душ низменные инстинкты. Вот так и сам Грасс спровоцировал своим романом бешеную ярость тех, кто уже почел было прошлое забытым, преодоленным, и заставил их в запальчивости «морального» возмущения открыть свое истинное лицо.
Эта аморальность изображаемого Грассом мира, размытость в нем всех критериев нравственности и порождает терпимость ко злу, попустительство ему, медленное и неуклонное сживание с ним как с нормой. Тут на первый план выдвигается вопрос о социальном статусе населения грассовского мира.
После выхода в свет всей данцигской трилогии Грасс в интервью 1965 г. сказал: «В центре трех моих прозаических произведений находится тот общественный слой, который мы называем обывателями, мелкой буржуазией». Помимо этого вполне нейтрального определения, есть у Грасса и более резкое — «обывательский смрад», «обывательская духота».
Это определение очень точно. В огромном мире «Жестяного барабана», на этих обширных эпических просторах — нечем дышать. Здесь не только заведомо исключен освежающий озон высоких идей, не только господствует «вид снизу» — здесь затхлость атмосферы нагнетается с каждой страницей, с каждой главой, здесь под назойливую дробь барабана обывательство и посредственность утверждают свое право быть эпосом. Только в такой атмосфере, по убеждению Грасса, и могло вырасти страшное зло — в атмосфере самодовольства и ограниченности, замкнутости на органических, животных интересах. Когда небосвод обозначен бабушкиными юбками, не стоит удивляться, что и мораль извращается в попустительство злу.
Этой общей установке соответствует и специфическое обращение Грасса с историей: собственно исторические события если и упоминаются в романе, то чаще всего мимоходом, во вставных предложениях, в скобках — и в принципиальной перемешанности с деталями мещанского быта. Здесь также властвует закон обывательской перспективы.
Однако именно в этой, «исторической» линии романа возникают несколько эпизодов, на мгновение будто озаряющих жестоким светом истины плотную атмосферу «обывательской духоты». Это эпизоды ключевые, ударные, и если можно говорить о каких-либо однозначных ориентирах в грассовском гротескном мире всеобщей относительности и перевернутости, то они отчетливей всего обнаруживаются в эти редкие мгновения.
Приход фашистов к власти совершается в первой книге романа, но, в полном согласии с отмеченной выше художественной установкой Грасса, совершается так незаметно, что читатель едва успевает это осознать. Изображаемая Грассом среда самым естественным образом фашизм приняла и абсорбировала. Но вот в последней главе этой части, главе, начинающейся в приподнято-лирическом, сказочном тоне: «Жил-был однажды музыкант по имени Майн, и он удивительно прекрасно умел играть на трубе», — происходит первый в романе взрыв. Здесь после гротескной истории нацистского трубача Майна, по требованию «Общества друзей животных» выгнанного из отряда штурмовиков за то, что он спьяну перебил своих четырех котов, пространно описывается вакханалия надругательств и убийств во время «хрустальной ночи» — ночи погромов, когда Майн старался реабилитироваться, но тщетно: ему так и не простили убийства четырех котов.
Редко в каком из гротесков Грасса так отчетливо обнаруживается трагическая основа всей его клоунады. Здесь-то и приоткрывается маска, здесь-то и обнаруживается, что писатель Грасс вполне осознает всю серьезность своей темы и прекрасно знает постулаты морали, границы добра и зла. Не надо только отождествлять автора с его циничным героем-повествователем, а именно на этот «обкатанный ритуал критики» пожаловался Грасс в 1970 г. в одном из своих интервью.
В то же время проблема соотношения автора и героя-рассказчика в «Жестяном барабане» вовсе не так проста. Если здесь нет и не может быть тождества, то есть, однако, многозначительные перекрещивания, и Грасс далеко не с чистой совестью может протестовать против «ритуала критики»: он внес в перипетии судьбы Оскара многочисленные факты из собственной биографии. Грасс, конечно, играет и тут, но играет, так сказать, с собственной репутацией. Правда, он знает, что делает.
Грассовский герой — фигура принципиально противоречивая, двусмысленная. Оскар издевается над фашизмом и обывательским приспособленчеством — но и над всякой идеологией вообще, «барабанит против всех и вся». И, громя все идеологические клише, он в то же время ловко пользуется ими, чтобы отвести от себя подозрения в приспособленчестве. В частности, он упорно проводит идею абсурдности истории, создавая тем самым «философский» фон для своего самооправдания — раз мир абсурден, то индивид в нем бессилен и в конечном счете ни в чем не виноват.
Между тем концепции абсурдного мира суждено будет играть все более существенную роль и у самого Грасса в его последующем творчестве: каждое очередное жизненное разочарование писателя будет ее заново питать и усиливать. Так что в «Жестяном барабане» уже маячит вопрос не только о вине мещанина, но и о вине художника (ибо Оскар, конечно же, еще и символ немецкого художника XX в.). Абсолютное отрицание весьма родственно высокопарному самооправданию, и Грасс это чувствует очень остро. Вот почему сама бунтарская поза его героя тоже то и дело подвергается пародийному снижению. И потому так многозначительна ироническая диалектика обывательского и художнического в образе Оскара, потому так двойственно отношение автора к этому персонажу, которого он не может ни решительно оправдать, ни решительно осудить.
В цитировавшемся выше интервью 1965 г., где Грасс говорил об изображении «мелкой буржуазии» в своих романах, он на вопрос о том, рассматривает ли он себя как «грозу обывателей», ответил отрицательно: «Нет. Категории обывательства и элиты мне чужды. Я сам вырос в мелкобуржуазной, обывательской среде. Я изображаю литературными средствами то, что знаю и что сам видел. Что при этом получается гротеск — это само собой разумеется. Но с антибуржуазных позиций обывателя невозможно изобразить. Это привело бы лишь к нежизнеспособному, чисто литературному критицизму».
Такое прокламирование взгляда изнутри показательно. Грасс и обличает «обывательскую духоту», и в то же время ощущает свою «экзистенциальную» сопричастность ей. И это, несомненно, один из источников наклонности раннего Грасса к амплуа отчаявшегося шута.
Правда, в следующем прозаическом произведении Грасса — повести «Кошки-мышки» (1961) — сложная проблематика немецкого прошлого трактуется в более серьезном тоне, без нарочитой двусмысленности, характерной для «Жестяного барабана». Если там проблема воспитания представала преимущественно в карикатурном освещении — в горьком высмеивании «святынь» и воспитательных принципов, в фантасмагории оскаровского «вечного детства», — то в «Кошках-мышках» рассказывается история всерьез покалеченной, искривленной фашизмом человеческой жизни.
Двигателем сюжета и здесь является типично грассовский гротеск. У героя повести Иоахима Мальке большой кадык — предмет насмешек сверстников, однажды даже напустивших на него кошку. Как только этот внешний знак отличия был воспринят окружающими, он, подобно утраченной тени Петера Шлемиля в давние времена, сразу вырвал Мальке из общего фона, из окружения и переменил всю его жизнь: замкнутый, физически скорее хлипкий, витающий в мире странных религиозных фантазий мальчик оказался у всех на виду. Зловещая игра в кошки-мышки началась.
Поначалу история Мальке — как будто бы иллюстрация чисто психологических, возрастных проблем: чтобы компенсировать свой «изъян», мальчик стремится перещеголять сверстников в физической силе и выносливости. Но это самоутверждение происходит в специфической среде — в атмосфере предвоенной нацистской Германии с ее культом «нордической» мужественности и силы. Тут, чтобы даже просто быть на общем уровне (и не отделяться от фона!), требовалось уже немало: вступить в гитлерюгенд, участвовать в «утренних маршах», возглавлять «молодежные взводы». А у Мальке еще и дополнительная забота — лезущий в глаза кадык, который не так-то просто прикрыть.
Но вот начинается война, и в гимназию приходит вернувшийся с фронта бывший ее выпускник — с Рыцарским крестом на шее. Мальке крадет этот крест — идеальное прикрытие найдено!
История с нацистским крестом — одна из самых дерзких гротескных фантазий Грасса, и он извлекает из нее максимум возможных эффектов, символический смысл которых убийствен для гитлеровских «героев» и их послевоенных западногерманских преемников. Их шок и их ярость легко понять. Мальке, хвастаясь перед приятелем, нацепляет крест на шею, прикрывая им кадык, — высший знак армейской доблести как компенсация комплекса неполноценности! Но он еще и прикрытие наготы, срама — в функции фигового листка он в этой сцене тоже выступает!
Однако пародия очень скоро оборачивается трагедией. Мальке возвращает крест — он должен добиться «этой штуковины» сам, он ее заслужит. И он идет добровольцем в гитлеровскую армию, и совершает там «чудеса героизма», и получает желанную награду. Но его лишают последнего, завершающего триумфа: выступить перед учениками в том самом классе, где он сидел за партой, в роли кавалера Рыцарского креста. Давнюю мальчишескую проделку с кражей креста ему не забыли. Тогда, избив директора гимназии, Мальке кончает с собой.
В беседе с английским критиком Джоном Реддиком Грасс сказал: «История Мальке разоблачает церковь, школу, систему фабрикации героев — все общество. В истории с Мальке отказало все». Но для понимания писательской позиции важен и образ рассказчика в этой повести — Пиленца, приятеля Мальке, вместе с другими сверстниками завороженно следившего за его «путем наверх». В воспоминаниях Пиленца о Мальке обращают на себя внимание его странные отношения с комплексом вины. Пиленц не раз говорит по ходу дела о своей вине, говорит вроде бы с искренним раскаянием, но в то же время и странно неуловимо, неадекватно. Вина снова и снова заклинается — и ускользает от прямого определения. Пиленц, собственно, не делал Мальке зла; он, напротив, сопутствовал и сочувствовал ему до конца.
Но именно о недоказуемой вине и идет в повести речь — о вине, заключающейся в самом присутствии при вершащемся преступлении. Вине присутствия, пассивности и молчания. Пиленц следит за приключениями Мальке удивленными, восхищенными, недоумевающими глазами, тон и манера повествования нагнетают это впечатление зрелища, действа, рассказчик то и дело роняет — будто бы мимоходом — фразы и образы из сценической сферы: то вспомнит, что Мальке заявлял о своем желании стать клоуном, то усомнится в том, что Мальке «хоть малейший жест сделал когда-нибудь не на публику». Мальке в самом деле оказывается «на публике», перед неотступным взором извне, и он входит в роль, попадает во все большую зависимость от зрителей.
Один из «приступов вины» случается у Пиленца при воспоминании об очень характерной ситуации и подается весьма знаменательно. Просмотрев очередной «сеанс» — с украденным крестом, — Пиленц советует Мальке теперь спрятать крест, советует из самых лучших побуждений, по принципу «от греха подальше». Но Мальке принимает на первый взгляд вопиюще безрассудное и, пожалуй, самое роковое для себя решение: отнести крест директору, сознаться. И вот комментарий: «Конечно, приятно разводить художества на белой бумаге — но что толку от белых облаков, ветерка, торпедных катеров, входящих в гавань в точно назначенный час, и стаи чаек, которая исполняет роль греческого хора; на что мне все эти фокусы с грамматикой; даже если бы я все писал с маленькой буквы и без знаков препинания, мне все равно пришлось бы сказать: Мальке не спрятал эту штуку…»
Интонация самообвинения здесь очевидна — но и механика провинности тоже. Пиленц без всякого намерения, самой своей ролью зрителя провоцирует Мальке на безрассудство, ибо он непроизвольно предлагает Мальке действие, которое для того ассоциируется с трусостью и потому вызывает противительную реакцию. Но важно здесь и другое: непосредственное сопряжение рассказа Пиленца с принципом писательства, напоминание уже не о Пиленце и не о Мальке, а, по сути, о Грассе. Еще более прямая отсылка к Грассу делается в зачине повести: «Но я, подсунувший твой кадык этой и всем другим кошкам, теперь обязан писать… Тот, кто в силу своей профессии выдумал нас, заставляет меня снова и снова брать в руки твое адамово яблоко…»
Пиленц со своим присутствием, со своим бездействием — это в первую очередь представитель безликой, пассивной массы и силы, которая допустила зло. Но он и не ординарный обыватель: он интеллектуален, он причастен к религиозным сферам — не просто служит при церкви, но и читает «Блуа, гностиков, Бёлля»; он весьма искушенный рассказчик. Не стоит, конечно, впадать в «обкатанный ритуал» отождествления героя-повествователя с рассказчиком; но следует отметить, что бытийный статус нового рассказчика гораздо прямей соотносится со статусом самого Грасса и его коллег и что на этот слой общества писатель тоже распространяет вину. Впоследствии он скажет совершенно четко: «Все три повествователя от первого лица во всех трех книгах пишут из чувства вины — вины, которую вытесняют, вины, над которой иронизируют». Пиленц — это и есть символ такой вины.
Роман «Собачья жизнь» (1963) в тематическом и художественном отношении примыкает к «Жестяному барабану» и «Кошкам-мышкам». Как и Оскар Мацерат, один из центральных героев нового романа Эдди Амзель — художник, и тоже весьма необычный: если Оскар перелагал немецкую историю на барабан, то Амзель воплощает ее в живописно-пластических образах — он создает огородные пугала, запечатлевая в своих «птицеустрашающих» творениях сначала образы односельчан, потом — типы прусско-немецкой истории (королей, юнкеров, гренадеров). Правда, когда он, актуализируя свое творчество, одевает пугала в коричневые униформы, шутки для него кончаются: парни в масках ночью выволакивают его из ателье на улицу и выбивают ему все зубы.
Столь же очевидно сатирический характер носит и другой центральный гротескный мотив романа — история собачьей династии, последнего отпрыска которой, черного пса Принца, благодаря незапятнанной чистоте его расы, городские власти Данцига от имени признательных граждан преподносят в подарок фюреру. И когда в беспокойные апрельские дни 1945 г. пес вдруг исчезает, на ноги ставится вся государственная, полицейская, военная машина рушащегося рейха, чтобы координировать военные действия (русские у ворот!) с организованными поисками гитлеровского любимца; безумные приказы фюрера о борьбе за Берлин до победного конца оказываются продиктованными не заботой о «судьбе нации», а тревогой за «собачью жизнь».
В свою очередь повествование о послевоенной Западной Германии организовано также вокруг гротескно-символических сюжетных ситуаций, обыгрывающих тему «непреодоленного прошлого». Пресловутым «экономическим чудом» ФРГ оказывается обязанной простому мельнику, умеющему по шуршанию мучных червей в мешке делать прогнозы насчет будущего урожая и, следовательно, положения дел на рынке и бирже. Мельник этот становится одной из ключевых фигур западногерманской экономики, на его скромную мельницу едут сановные паломники: промышленные тузы, духовные чины, государственные министры, в том числе будущий федеральный канцлер, «отец экономического чуда» Людвиг Эрхард (журнал «Шпигель» представил потом галерею фотопортретов официальных лиц, пользовавшихся услугами грассовского героя).
Но червиво не только «экономическое чудо», а вся духовная и нравственная атмосфера послевоенной Западной Германии. Грасс изображает, например, погребок-люкс под названием «Мертвецкая», где состоятельные клиенты обедают в стилизованной атмосфере морга, среди муляжей трупов, и официанты в марлевых масках подают вместо ножей скальпели. Память о трагедии стала бизнесом и в случае с «очками прозрения», которыми чуткие к конъюнктуре предприниматели заваливают рынок, поскольку дети жаждут теперь разобраться в прошлом отцов, а в этих очках они могут видеть их насквозь.
Наиболее резкая и пространная пародия на конъюнктурный расчет с прошлым дается в образе центрального героя третьей части, Вальтера Матерна. Вальтер — друг детства Эдди Амзеля; но в отличие от цинически-насмешливого, артистичного Эдди Вальтер — сосредоточенный, угрюмый «идеалист» от мещанства, туговатый в соображении, но тяжелый на руку. Считая себя «социалистом» по убеждениям, он тем не менее постоянно оказывается в организациях национал-социалистов; но, поскольку он под влиянием алкоголя бранит то фюрера, то его пса, он кончает штрафным батальоном. И когда, вернувшись с фронта, Вальтер отправляется мстить за свою неудачную жизнь, то у одного врага он убивает любимую канарейку, у другого сжигает коллекцию почтовых марок, пока не находит наиболее привлекший его способ мщения: соблазняя жен и дочерей своих идеологических противников, он награждает их предосудительной, хотя и излечимой болезнью.
Грасс продолжает и в этом романе войну против «идеологии», против «идеализма» вообще как не оправдавшей себя системы «нас возвышающего обмана». Воплощением, знаком такого рода идеализма предстает в романе философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер, пародия на которого составляет одну из важнейших стилистических и содержательных доминант романа.
Для Грасса страшно само сосуществование этой высокопарно-абстрактной («уморожденной»!) теории с конкретной практикой нацизма — сосуществование «невинного», «отрешенного» философствования с кошмаром реального бытия.
Как и в «Жестяном барабане», писатель обличает прежде всего среду, которая породила фашизм и способна возродить его снова. И это не только «высокие», философские сферы, но и более обыденная сфера «обывательской духоты». Идея обыденности доминирует и в самих образах главных персонажей, и в воссоздании течения окружающей их жизни. Претензии на необычность, конечно, у грассовских персонажей есть, но в развитии сюжета они непременно рано или поздно обернутся банальностью. Язвительный критик фашизма Амзель, обломав себе на этой критике зубы, вставит золотые и станет циничным бизнесменом от интеллекта; угрюмый «идеалист» и «мститель» Матерн станет приспособленцем еще более низкого ранга, на уровне алкогольной и сексуальной мании. Протест, бравада — все растворится в быте, подобно тому как, с другой стороны, и концентрационный лагерь Штутхоф становится для окрестных жителей нормой, всего лишь темой для грубоватых шуток, и всякий, даже самый страшный и трагический гротеск становится естественной, привычной деталью повседневности.
Но у этой решительности отрицания есть и оборотная сторона. Дело в том, что от фиксации конкретных трагических просчетов немецкой истории определенного этапа Грасс именно благодаря этой своей внешней безжалостности и всеохватности совершает переход к утверждению абсурдности человеческой истории вообще. В заключительной части романа «золотозубый» Амзель подводит итог своему горькому жизненному опыту, создавая гигантскую подземную лабораторию по конструированию пугал, которая становится пародийным образом не только Германии, но и всего человечества; ибо «в конце концов не будем забывать, что пугало создано по образу и подобию человеческому». Также и в блужданиях «мстителя» Матерна по послевоенной Германии, в этих «матерниадах», не только сатирически развенчивается мир «непреодоленного прошлого». За историей Вальтера Матерна не случайно встает тень другого «возвращенца» — трагическая фигура Бекмана, героя известной драмы Борхерта «На улице перед дверью» (имя этого персонажа, здесь лишь подразумеваемое, прямо будет названо в романе «Под местным наркозом»). По сути, здесь в сферу пародии вовлекается сама идея сопротивления фашизму. «Собачья жизнь» — закон человеческого существования, утверждает Грасс. Всякие попытки очеловечить ее смехотворны. Это даже не донкихотство, это — «матерниады».
Грассовская сатира в этом романе абсолютизируется, насыщается откровенно нигилистическим подтекстом. Амплуа циничного шута-пародиста исчерпало свои возможности. Жанр вселенской пародии никого не в силах воспитать. А с идеей воспитания — воспитания более эффективного и радикального, чем все прежние его системы, — Грасс, этот вроде бы записной нигилист, все-таки не хочет расставаться.
* * *
В середине 60-х гг. в общественной позиции Грасса произошел перелом, ошеломивший западногерманскую публику. Писатель, высмеивавший все идеологические системы и все попытки воспитания своих соотечественников, теперь бросается в самую гущу политической борьбы: отправляется в предвыборное турне, чтобы агитировать за социал-демократическую партию. Правда, он тут же заявляет, что он и СДПГ считает всего лишь единственным реальным, но отнюдь не идеальным шансом и что социализм «как идеология» его не интересует. Он вообще претендует на некую срединную позицию и отправляется в политику, надеясь обойтись без идеологии.
Но идеология, естественно, следует за ним по пятам, и срединная позиция создает столь характерный для всего позднего Грасса заклятый круг противоречий: так, в эти годы он, выступая за нормализацию отношений с ГДР и другими социалистическими странами, нет-нет да и позволяет себе полемические выпады против ГДР и социализма — протестуя против «догматического антикоммунизма», писатель нет-нет да и повторит какой-нибудь из пропагандистских его штампов, с наивной убежденностью принимая это за чистую монету.
На этом-то повороте грассовской судьбы на политическую арену ФРГ вступила сила, вызвавшая у писателя прилив нового разочарования в возможностях прямого воздействия на общество. Это молодежное движение «новых левых». Оно очень скоро отпугнуло Грасса, и тут немалую роль сыграли, конечно, анархические эксцессы молодежных демонстраций, подстрекательские призывы к террору, исходившие от маоистских группировок. В этом незрелом молодежном бунте писатель увидел призрак того «фанатического максимализма», очевидцем которого он был в своей юности, во времена гитлерюгенда. Анархизм молодых бунтарей, их жонглирование марксистской терминологией дало Грассу лишний повод заговорить об «угрозе не только справа, но и слева». Теперь главная опасность, по мысли Грасса, в «экстремизме»; отталкивание от него окончательно приводит писателя к формуле «среднего пути», постепенного, «ненасильственного» прогресса, «реформизма».
В своей критике экстремизма Грасс мог быть и весьма проницательным полемистом. Обрушиваясь на левачествующих идеологов молодежного движения, он называет характерную для их платформы смесь маоизма и троцкизма «книжной революционностью». Для Грасса это очередная и далеко не безобидная ипостась того, что он называет «нашим коренным пороком»: «Откуда же еще возникают эти требования — все или ничего! — как не из ухоженной, удобренной почвы парников немецкого идеализма, и разве не было так всегда — сначала устремиться ввысь в титаническом юношеском порыве, а потом в изнеможении упасть на плюшевый диван консерватизма?» В противовес этому Грасс все настойчивей выдвигает свою программу умеренности и компромисса, выносит ее в заголовки своих статей и речей: «Я против радикальных методов лечения» (1968); «Наша сила — в терпимости» (1969).
Молодежь бурно реагировала на эти выступления писателя и в свою очередь возвращала ему обвинения в филистерстве и консерватизме, что весьма больно уязвляло воспитательские амбиции Грасса. И, возвращаясь с трибун к уединению своего писательского стола, он в эти годы думает и пишет прежде всего о молодежи, снова и снова вступая с молодым поколением в пристрастный и нелегкий для себя спор. Плодом этих раздумий и стал роман «Под местным наркозом» (1969).
Роман этот подчеркнуто актуален, он весь держится на принципе идеологической дискуссии, и знаменитая грассовская образность, пластичность, плотскость оттесняется здесь на периферию, в частные эпизоды.
Правда, повествовательный ракурс здесь, как всегда в прозе Грасса, необычен: рассказчик, Эберхард Штаруш, сидит в кресле у дантиста и, подвергаясь болезненной процедуре лечения, то мысленно, то открыто ведет с врачом упомянутую дискуссию. Перед ним экран телевизора, наводящий Штаруша по ассоциации (иногда одним своим наличием — ибо изображение часто выключено) на воспоминания о прошлом и размышления о настоящем. Телевизионный экран — это в структуре романа своего рода современный общий фон, диалоги в кабинете дантиста — как бы надсюжетный авторский комментарий, голос «за кадром»; а крупный план представлен историей Филиппа Шербаума, ученика Штаруша, — ибо Штаруш преподает немецкий и историю в школе. Центр идейной проблематики романа, таким образом, образует коллизия «ученик — учитель».
Перед нами снова символика — на этот раз с очевидным элементом дидактизма: события современности (и отчасти прошлого) как источник боли, процесс лечения которой тоже весьма болезнен и к тому же совершается посредством — и ценой! — временной, искусственно вызванной блокады чувствительности, «местного наркоза».
Диалог Штаруша с дантистом — это, по сути, история внутренних противоречий самого Грасса, его диалог с самим собой. В молодости Штаруш (он одногодок Грасса) был участником анархистской (но с антифашистским «уклоном») молодежной шайки и, хотя уже давно остепенился, с идеей «радикальных» способов устранения зла еще не распрощался окончательно. Когда экран телевизора высвечивает эпизоды, связанные с фашистской Германией, или с «непреодоленным прошлым» современной Западной Германии, или, наконец, с бездуховным состоянием технической цивилизации вообще, сознание Штаруша мгновенно обращается к мысли о насилии, и тогда фантазия живописует ему, например, как он убивает свою невесту — достойную дочку бывшего гитлеровского генерал-фельдмаршала, одержимого идеей реванша, — или как гигантский бульдозер сметает с лица земли все современное западное общество потребления. Поскольку, таким образом, принцип насилия носит у Штаруша антифашистский и — шире — антибуржуазный характер, он не прочь временами признать для себя привлекательной и марксистскую идеологию — прежде всего как идеологию революционной перестройки мира. Но эти симпатии он сразу и подавляет как некий свой подспудный комплекс. И тут его энергично поддерживает оппонент, дантист, развивающий своеобразную программу-минимум — план постепенной, организованной ликвидации кариеса; это хоть внешне и скромный, но уж зато и верный «ненасильственный» шаг ко всеобщему излечению.
Любопытна и еще одна идейная прокладка этого диспута, заимствованная из духовной истории прошлого. Ранний Грасс всякую воспитательную традицию в этой истории подвергал сомнению, даже осмеянию. В романе «Под местным наркозом» постоянно присутствует образ Сенеки, чьи «Нравственные письма к Луцилию» неоднократно цитируются и перефразируются. Привлечение Сенеки в качестве некоего высшего нравственного авторитета не случайно; Грасс явно входит в новую жизненную роль: роль философа-стоика, готового принять все разочарования, ждущие его на нелегком поприще исправления общественной морали.
Идея разочарования и главенствует в центральной, стержневой части романа. Именно здесь теоретические предпосылки первой части проверяются на конкретной ситуации, причем Грасс снова прибегает к шоковому эффекту: юный герой Грасса, Шербаум, чтобы публично выразить свой протест против американской интервенции во Вьетнаме, собирается сжечь на площади перед фешенебельным кафе свою таксу. Аргументация его убийственна и заставляет вспомнить самые горькие выпады Грасса против немецкого филистерства: Шербаум и себя бы сжег, но считает такую акцию неэффективной — людей, привыкших в свое время к дыму крематориев, не удивишь смертью человека; зато убийство собаки их может встряхнуть — они ведь так любят животных!
Грассовский гротеск, как подчас случалось и раньше, балансирует на грани допустимого. Но сама проблема для писателя очень серьезна. Штарушу импонирует возмущение Шербаума и социальным злом, и равнодушием своих сограждан. Однако в то же время Штаруша (и, конечно, Грасса вместе с ним) пугает это анархическое бунтарство, этот фанатизм. Не случайно писатель придает протесту Шербаума столь извращенную форму, как не случайно живописует — и весьма ярко, хлестко — окружение Шербаума, всех этих незрелых девиц и юнцов, щеголяющих левацкими фразами и ссылками на Мао. Штаруш пока еще относится к ним со снисходительной иронией, и психологически ситуация очерчена тонко: учитель слегка завидует энтузиазму учеников, он не хочет представать перед ними совсем уж безнадежным «стариком», консерватором, тем более что и его самого искренне возмущает все то, против чего протестуют они. Мы видели, что он втайне как бы примеряется к их настроению, когда предается в кресле дантиста фантазиям о насильственном разрубании всех гордиевых узлов. Но опыт зрелости заставляет его думать и о тех возможных последствиях, о которых, конечно, не думают задиристые школьники: например, о том, что инерция такого анархического возмущения может привести и к открытому терроризму. История ФРГ, как известно, вскоре эти опасения подтвердила.
Грасс, дорожа своими отношениями с молодежью и не желая ее отпугнуть, не высказывает прямо подобных опасений, отводит им статус фантазий, призраков, и его Штаруш, напротив, стремится быть предельно объективным, выделить и по достоинству оценить то искреннее и честное, что есть в молодежном протесте за всеми наслоениями и перегибами. Понятно, что он пускает в ход весь свой авторитет, чтобы отговорить мальчика от задуманного им безумного шага. Но когда в конце романа юношеский максимализм ученика уступает житейской мудрости учителя, то далеко не ясно, насколько это победа, а насколько — поражение. Потому что Шербаум, сломленный в затяжных идеологических спорах со Штарушем, становится всего-навсего прилежным учеником, «постепеновцем» в миниатюре — он борется теперь на страницах стенной газеты за разрешение устроить в школе специальный курительный уголок. И учителя теперь мучат новые сомнения: если эта метаморфоза — венец его усилий, его мудрости и трезвости, то многого ли стоит такая трезвость? С другой стороны — многого ли стоит этот энтузиазм, если он так легко испарился?
Концовка романа намеренно многозначна, авторское отношение к героям запугано со всей возможной тщательностью. Шербаум: тут есть и очевидная симпатия к нему (Штаруш видит в нем еще и возродившийся образ собственной «бунтарской» юности), и критика его фанатизма, и — еще один вираж — затаенная разочарованность непрочностью его одушевления, тем, что нравственный запал так быстро улетучился. Штаруш: он и предотвратил очевидный абсурд, но он же и потушил юношеский запал, уверил Шербаума в тщете всякого нравственного возмущения.
Но главное поражение Учителя (уже как собирательного образа) в этом романе — не в том, конечно, что он погасил идею возмущения; оно — в отсутствии у него самого твердых критериев воспитания, в его собственной закомплексованности. Все центральные персонажи этой истории — учитель Штаруш и его коллега Ирмгард Зайферт, ученик Шербаум и его подружка анархистка Веро — живут как бы в атмосфере кривых зеркал, заклятого круга; взрослые смотрят в глаза юных, юные в глаза взрослых, и все видят собственные прошлые и будущие искаженные образы. Как уже говорилось, это жертвы «местного наркоза», символы национальной судьбы.
Не опровергнут в романе один лишь безымянный дантист. Польза от всеобщей профилактики кариеса не подлежит сомнению. Правда, эта профилактика устранит только зубную боль.
Роман «Под местным наркозом» фиксировал не только противоречия нового, политического сознания Грасса, но и осознание писателем этих противоречий — прежде всего его сомнения в эффективности того принципа постепенных реформ, который он начал исповедовать как панацею от всех бед. Оттого и разлита в романе атмосфера неуверенности, комплекса неполноценности.
Неутешительные для писателя итоги его экскурса в сферу политической борьбы запечатлены в книге «Из дневника улитки» (1972). Книга эта — наполовину публицистический репортаж об участии Грасса в предвыборных кампаниях минувших лет, наполовину беллетристическое повествование о фашистском прошлом Германии. Ее наиболее сильные страницы — это эпизоды, повествующие об антисемитских преступлениях нацистов. Но они существуют, по сути, совершенно самостоятельно, обособленно. В целом же книга посвящена оправданию и защите реформистского кредо Грасса. Символом такого постепенного прогресса и предстает в ней образ улитки. Медленному, но зато «безвредному» шагу улитки Грасс противопоставляет все формы революционной перестройки общества — их он отрицает.
Но разочарование угнездилось и в этой программе защиты социал-реформизма. Оно воплощается в двух аллегорических образах, двух героях — Скепсисе и Меланхолии. Скепсис, Сомнение (Zweifel) — это говорящее прозвище носит главный герой беллетристической части книги. Меланхолия — это персонаж с известной гравюры Дюрера, воплощающий, в истолковании Грасса, перманентное состояние «усталости от прогресса».
Дюреровский образ Меланхолии, так впечатливший Грасса, в самом деле выразителен: могучая, величественная женщина, в лавровом венке и с крыльями за плечами, сидит в глубокой задумчивости, подперев щеку рукой, в окружении символических атрибутов цивилизации и прогресса: циркуля, пилы, рубанка, лестницы; вдали, за просторами моря, — сияние солнечных лучей и надпись «Меланхолия». Если допустить ироническое снижение образа, можно сказать: крылатая эта мечтательница сидит у разбитого корыта.
Грасс такой ассоциации не упустил. Его следующее крупное произведение — роман «Камбала» (1977) — своим названием обязано немецкой народной сказке, сюжетно соответствующей русской «Сказке о рыбаке и рыбке».
Комплекс «разбитого корыта» — главная идейная доминанта «Камбалы». Символика заглавного образа функционирует в сюжете следующим образом. Камбала — в немецком языке эта рыба мужского рода, что крайне важно, — предстает перед «женским трибуналом» за то, что, согласно народной сказке, она всегда помогала рыбаку (мужчине — и мужской половине человечества вообще) потакать требованиям жены (и, соответственно, женской половины вообще), чем и привела эту последнюю, а тем самым и все человечество, к «ситуации разбитого корыта». Отдельные этапы этого движения к катастрофе, расследуемые на суде, запечатлены в девяти главах романа. Каждая из них соответствует определенному этапу развития истории и цивилизации, демонстрируемому в большинстве случаев на ключевых событиях немецкой истории, иногда, однако, получающей общеевропейское расширение: тут и переселение народов, и Реформация, и Тридцатилетняя война, и эпоха Фридриха Великого, и наполеоновские войны — вплоть до современности.
В истории Германии и Европы Грасс видит лишь нескончаемую повесть насилия, фанатизма, неумения учиться на ошибках — тот же хоровод абсурда, что кружился в «Собачьей жизни». Но удивительней всего та система противовесов, которую все-таки выдвигает здесь Грасс.
Идея Грасса подкупающе доходчива и по-своему, «по-простому» гуманна. Испокон веков были мужчины и женщины. В первобытную эру, в эпоху матриархата, их отношения ограничивались только удовлетворением естественных потребностей, и дикий нрав мужчин смягчался законным владычеством женщин. С развитием цивилизации все нарушилось, и не столько даже потому, что, узурпировав власть, мужчины дали волю своим разрушительным инстинктам; главное — вот коварство камбалы! — женщины тоже начали перенимать замашки мужчин: ударившись в эмансипационные амбиции, они стали вмешиваться в политику; все это вместе каждый раз и обусловливало трагическое завершение очередного витка истории.
Между тем исконное предназначение женщин — кормить мужчин и рожать детей. Проблема кормления — одна из центральных в романе, она поднята на уровень мировоззрения, философии. Все героини Грасса, в каждой главе, — прежде всего кухарки, поварихи, «кормилицы». Подробно, вкусно, с ретроспекциями, с повторами описываются кулинарные способности и рецепты каждой из них. Материальная, плотская стихия — «знак фирмы» Грасса — снова празднует здесь триумф, и не только в создании своего рода эпоса кулинарии, но и в отражении всех других аспектов плотского существования человека. Человек мыслится прежде всего как совокупность его естественных функций; это — единственная неоспоримая в нем ценность и человечность, все остальное — от духа, от лукавого. Стихия плоти, царящая в романе, приобретает принципиальный смысл именно как противовес «абсурду» истории, идеологии, политики. В ней, этой стихии, Грасс и пытается теперь черпать оптимизм, здоровое раблезианское начало.
Так предпринимается попытка построить некий приватный Ренессанс на почве тотальной меланхолии, посреди мировоззренческих руин — перехитрить комплекс усталости и разочарования с помощью оптимизма и жизнеутверждения на самом нижнем, элементарном уровне. Свыкнуться с трагедией и устроить на руинах по возможности уютный очаг и вкусную кухню — вот мораль этой пространной притчи, и она находится в резком контрасте с тем взрывом нравственного возмущения, с которого Грасс начал свой писательский путь.
Думается, не будет преувеличением сказать, что уход от «местной» конкретики к глобальным обобщениям, к умозрительным конструкциям не идет на пользу таланту Грасса; силу свою этот талант всегда черпал из национальной почвы, из осязаемого, зримого, вещественного, и «головорожденная» философия ему противопоказана. Как только он поддавался ее соблазнам, его образы лишались плоти и крови и превращались в рупоры идей, многослойная и пропитанная реальными жизненными смыслами символика уступала место плоскому и довольно искусственному дидактическому аллегоризму. Как бескровен и безлик безымянный морализирующий дантист в романе «Под местным наркозом» рядом со Штарушем, Шербаумом и их окружением!
А вот возвращение к «местной» проблематике, к этому постоянному грассовскому «наркозу», сразу же сообщает дыханию и почерку писателя свободу, уверенность и легкость — хотя боль по-прежнему остается и «наркоз» ее лишь на время приглушает. Одна из последних вещей Грасса — повесть «Встреча в Тельгте» (1979) — тому свидетельство. И поразительно, что пластический дар прозаика Грасса обретает себя на этот раз в произведении, имеющем откровенно литературную основу. Мы уже видели, что, по сути, в каждой беллетристической книге Грасса присутствовал — более или менее прикрытый маской — образ художника, осознающего жизнь и историю. Во «Встрече в Тельгте» Грасс остался верен этой проблематике, только теперь она впервые подана прямо, без характерных грассовских пряток. Герои повести — поэты, сюжет ее — история, ими осмысляемая.
Но Грасс не был бы Грассом, если бы обошелся без трюка. На этот раз трюк заключается в следующем: пожелав воссоздать в художественном произведении историю и духовный опыт «Группы 47» — литературного объединения, с благословения и в русле которого Грасс сам пришел в литературу ФРГ, — он не просто рассказывает эту историю, а перемещает ее в XVII в., в Германию эпохи Тридцатилетней войны. И подобно тому, как в 1947 г. собрались и основали литературное сообщество западно-германские писатели и поэты, так и в повести Грасса собираются в 1647 г. (за год до окончания Тридцатилетней войны) немецкие писатели, поэты и музыканты той поры: Грифиус, Логау, Гергардт, Гриммельсгаузен и другие.
Грасс не мог не написать этой повести, он будто с самого начала шел к ней — как к некоему заранее прозреваемому итогу — все тридцать с лишним лет своего писательского пути. Она возникла и оформилась в совпадениях дат, в сплетении годовщин, она будто продиктована ему извне, гороскопом самой судьбы. Можно представить себе, как после выхода в 1977 г. «Камбалы» писатель, работая над «Встречей в Тельгте», вспоминал юбилеи: двадцать лет назад, в 1958 г., он работал над «Жестяным барабаном» и получил за чтение главы из романа премию «Группы 47»; выход «Встречи в Тельгте» он приурочил к 1979 г., к двадцатилетию со дня выхода в свет «Жестяного барабана». И конечно, для Грасса, всегда любившего числовую символику, неодолим был соблазн соотнести два 47-х года, две эпохи, в которые немецкая литература осмысляла трагический опыт мировой войны (ибо в европейском масштабе Тридцатилетняя война XVII в. тоже была «мировой»).
Обращение Грасса к той эпохе не случайно еще и вот почему: он интересовался ею давно, поэтике ее художественного стиля — барокко — был как писатель многим обязан, Гриммельсгаузена не раз называл в числе своих учителей; подступом к художественному воплощению темы был один из важных эпизодов романа «Камбала».
Грасс, таким образом, создает повесть-притчу, сопрягая две эпохи. Но швы здесь глубоко запрятаны, модернизация минимальна и как бы органична, провоцируется самим подобием ситуаций. Конечно, поэты XVII в. никогда не собирались такой многолюдной кучкой (хотя в принципе поэтические сообщества были в те поры весьма в моде), но Тридцатилетняя война действительно наложила глубокий отпечаток на всю немецкую литературу XVII в. Уместно напомнить здесь, что та же параллель много раньше Грасса осмыслялась Бехером, назвавшим, например, свой знаменитый цикл сонетов по заголовку стихотворения Грифиуса «Слезы отчизны», а также Брехтом — в не менее знаменитой пьесе «Мамаша Кураж и ее дети»; так что Грасс продолжает здесь весьма представительную традицию.
Впечатления натяжки в повести Грасса не возникает еще и потому, что писатель, хорошо зная язык и нравы той эпохи, заставляет ее ожить перед нашими глазами во всех сочных деталях, на которые Грасс всегда был мастер. И когда его поэты, съехавшиеся в Тельгте, читают по очереди свои произведения и потом обсуждают их, в точности повторяя ритуал собраний «Группы 47», это, по сути, и единственный художественный анахронизм, потому что творческий облик каждого поэта сохранен таким, каким он и был, своеобразие его манеры воссоздано чуть ли не с литературоведческой точностью. Повесть действительно дает живую и впечатляющую картину немецкой литературы той поры и в этом смысле имеет серьезные основания называться исторической.
Но, конечно, поэтически активен и принцип притчи, он приподнимает жанровые сцены на уровень более широкого обобщения. На этом уровне Грасс пишет повесть о величии и бессилии поэзии перед суровой поступью истории. Истерзанная Тридцатилетней войной и конфессиональными распрями Германия здесь не просто место и фон действия: реальная жизнь то и дело врывается в возвышенные декламации и словопрения этого Парнаса известиями об убийствах и грабежах, зрелищем проплывающих по реке трупов, картинами мародерства солдат. Ирония пропитывает повествование: мало того, что поэты не могут из-за этих досадных помех сосредоточиться на тонкостях своего ремесла, — выясняется еще, что даже подаваемый им (той самой мамашей Кураж) роскошный обед организован посредством ходового в ту пору мародерства. А когда поэты решают в заключение опубликовать коллективное «мирное воззвание», после бурных дебатов обнаруживается, что они могут выдержать его лишь в самых общих, декларативных выражениях: всякая конкретика сразу же грозит кого-то задеть, чью-то веру обидеть. Но и этому манифесту не везет: в последнюю минуту, в последней главе загорается харчевня мамаши Кураж, приютившая поэтов, и сгорает забытый в спешке на столе манифест — «так и осталось невысказанным то, чего все равно никто бы не услышал».
Как видим, и давняя боль Грасса тоже осталась, вечная его проблема не снялась. Но странным образом повесть эта не просто в очередной раз констатирует разочарование Грасса в возможностях литературы повлиять на ход истории. Полифония повести сложней. Есть в тоне повествования и сострадательная усмешка, и ностальгическая тоска по бурным дебатам первых лет существования «Группы 47», и, вопреки всему, затаенная гордость званием поэта, принадлежностью к этому цеху. Грасс не ставит своих поэтов на котурны и пьедесталы (над такой операцией он всегда иронизировал и собственные претензии поэтов на котурны тоже не признавал) — они у него живые люди, со своими слабостями и грешками, своим тщеславием, своими обидами. Но иначе они не могут, как бы говорит Грасс, — на то они и поэты. Зато они все-таки стараются делать, что могут; они как будто берут на себя труд Сизифа — но берут его снова и снова!
Образ Сизифа возникнет затем у Грасса в книге «Рождаемся из головы, или Немцы вымирают» (1980), и он процитирует Камю: «Оставляю Сизифа у подножья горы! Камень его вы всегда найдете». Вот так и сам Грасс, пережив очередной приступ разочарования, всякий раз начинает снова. Казалось бы, только что на страницах его повести сгорело воззвание поэтов XVII в., а Грасс уже снова зачинивает перо и в книге «Рождаемся из головы», вмешиваясь в очередную предвыборную кампанию, буквально сечет Штрауса, а в своих публичных выступлениях последних лет страстно и убежденно протестует против размещения «першингов» в ФРГ, подписывает «Манифест мира — 83», призывает к самому решительному сопротивлению угрозе войны: «… я буду заниматься тем, что в свое время называли «разложением вооруженных сил». Я призываю моих сыновей и их друзей отказаться от службы в бундесвере… Я отрицаю способность Федеративной республики защищать мир, поскольку вследствие размещения на нашей земле оружия «первого удара» отсюда может начаться пожар третьей, и последней, войны. Я хочу научиться сопротивляться»[2].
Нет, повесть «Встреча в Тельгте» если и завершила некий круг, то не подвела окончательного итога; если тот манифест мира сгорел, все равно литераторы не устанут писать такие манифесты. «Это героично» — таков комментарий Грасса к процитированным им словам о камне, который к услугам каждого, кто готов «учиться сопротивляться».
Сложен, противоречив облик Грасса-художника. Еще сложнее, еще противоречивее облик Грасса-политика. Но какие бы виражи ни проделывала «антидогматическая», «антиидеологическая» мысль Грасса, хочется верить, что в книгах своих он всегда будет последовательным противником войны и фашизма.
А. Карельский
ПОД МЕСТНЫМ НАРКОЗОМ
1
Я рассказал все это моему зубному врачу. Держа рот широко открытым, я сидел напротив телеэкрана — он был так же безмолвен, как и я, но выдавал рекламу: лак для волос, охрянокрасный, белеебелого… И еще морозилка, где между телячьими почками и молоком покоилась моя невеста — на губах вскипали пузыри с надписями: «Не встревай в это. Не встревай».
(Святая Аполлония, заступница, помоги!) Своим ученицам и ученикам я сказал: «Попытайтесь проявить снисходительность. Я вынужден обратиться к зубодеру. Это может затянуться. Стало быть, дайте передохнуть, имейте жалость».
Негромкие смешки. Умеренная непочтительность. Шербаум, паясничая, продемонстрировал свою ученость: «Глубокоуважаемый господин Штаруш, ваше выстраданное решение делает для нас, сочувствующих вам учеников, понятным, почему вы вспомнили о святой Аполлонии-мученице. В году двести пятидесятом при правлении римского императора Деция эта милая особа была сожжена на костре в Александрии. Поскольку ихняя шайка выдрала ей клещами все зубы, она стала заступницей всех мающихся зубной болью и — о несправедливость! — также дантистов. На фресках в Милане и в Сполето, под сводами шведских церквей, равно как и в Стерцинге, Гмюнде и Любеке, она изображена с щипцами, зажимающими коренной зуб. В добрый путь и будьте покорны судьбе! Мы, ваш класс 12 «А», станем молить за вас святую Аполлонию!»
Класс забормотал нечто изображавшее благословение. Я поблагодарил их за остроумие, правда не очень высокого пошиба.
Веро Леванд сразу же потребовала от меня ответной услуги: обещания проголосовать за курилку под навесом рядом со стоянкой велосипедов, вопрос о которой дебатировался уже много месяцев. «Неужели вам нравится, что мы дымим без всякого присмотра в уборных?»
Я пообещал классу, что на следующем педсовете и родительском собрании буду ходатайствовать за право курить на переменках, если Шербаум согласится стать главным редактором школьной газеты по просьбе ученического комитета ШНО[3]. «Извините за сопоставление, но мои зубы и ваша паршивая газетенка нуждаются в помощи».
Однако Шербаум покачал головой: «До тех пор пока ученики имеют лишь право нести ответственность, но не получили права голоса, я пальцем не пошевелю. Чепуха на постном масле не поддается реформам, или вы верите в реформы чепухи на постном масле?.. А насчет святой, между прочим, все так и есть. Можете справиться в церковном календаре».
(Святая Аполлония, заступница, помоги!) Ведь обращаться к великомученице всего один раз бесполезно. Далеко за полдень я отправился в путь, но взывать в третий раз до поры до времени не стал и только на Гогенцоллерндамме, в нескольких шагах от того средней руки доходного дома с табличкой и соответствующим номером, на третьем этаже которого меня ждал практикующий зубной врач, да нет, уже в самом парадном дома под сладострастно изогнутым орнаментом в стиле модерн, образующим бордюр и поднимавшимся вместе со мной наверх, только здесь, покривив душой, я в третий раз воззвал: «Святая Аполлония, заступница, помоги…»
Мне порекомендовала его Ирмгард Зайферт. Она сказала, он человек сдержанный, осторожный и тем не менее твердый. «И, представьте себе, во время приема он включает телевизор. Сперва мне этого не хотелось, пока я сижу в кресле. Но теперь должна признать, что телек блестяще отвлекает, уносишься мыслями далеко… И даже экран без изображения волнует… почему-то волнует…»
Вправе ли зубной врач расспрашивать своих пациентов об их детстве, отрочестве?
— Молочные зубы у меня выпали в портовом пригороде Нойфарвассер[4]. Тамошний народ — грузчики и рабочие с верфи — жевали табак, зубы у них выглядели соответственно. И повсюду они оставляли свою метку — вязкую, как деготь, слюну, на морозе она не замерзала.
— Вот оно как, — сказал тот, в парусиновых бахилах, — однако с повреждениями, вызванными жевательным табаком, мы теперь почти не имеем дела.
И сразу перекинулся на другое: на мою артикуляцию и на мой профиль: начиная с переходного возраста мой так называемый прогенный подбородок сулил сильную волю, каковой я не обладаю, но это не могло, впрочем, предотвратить раннее зубоврачебное вмешательство. (Моя прежняя невеста сравнивала мой подбородок с тачкой; ныне он стал не только мишенью для карикатуры, распространяемой Веро Леванд, но выполнял еще другую функцию: являлся основанием для обратного прикуса. Вот именно. Я всегда знал, что мои зубы рубят. Я не размалываю. Собака рвет зубами. Корова размалывает. Человек, жуя, производит обе эти операции. Мне не дано жевать нормально.)
— Вы рубите, — сказал зубной врач.
И я даже обрадовался, что он не сказал: вы рвете пищу зубами, как собака.
— Поэтому сделаем рентгеновский снимок, закройте, пожалуйста, глаза. Но мы можем включить звук…
(«Спасибо, господин доктор», не исключено, что я уже с самого начала сократил это обращение до более фамильярного: «доктор». Позже, попав в зависимость к нему, я кричал: «Помогите, док! Что мне делать, док? Вы же все знаете, док!»)
Наконец одиннадцать раз прожужжавшая бормашина добралась до моих зубов, и он, болтая, предложил:
— Хотите, я расскажу вам некоторые эпизоды из предыстории зубоврачебной науки?
Но я, глядя на молочно-белую выпуклость телеэкрана, увидел много всякой всячины, например пригород Нойфарвассер, где напротив корабельной верфи я утопил в жиже из тепловатой глины мой молочный зуб.
Его картинка была другой:
— Начать надо с Гиппократа. Он рекомендовал чечевичную кашицу против абсцессов в полости рта.
Моя матушка покачала головой на телеэкране. «Нет, больше топить мы не станем. Спрячем-ка их лучше в красивую коробочку, выложенную голубой ватой». Слегка выпуклая матушка лучилась добротой. А в это время мой зубной врач говорил как по писаному, читая лекцию по истории зубоврачебного дела: «Полоскание настоем перца, согласно Гиппократу, должно способствовать рассасыванию опухолей». Но моя матушка, нимало не смущаясь этим, продолжала, стоя посреди нашей кухни: «А гранатовую брошь я переложу из коробочки к янтарю и к орденам дедуни. Все твои молочные зубы мы соберем в одно местечко, и когда-нибудь ты скажешь своей женушке и ребятишкам — вот видите, какие они у меня были».
Врач не обращал внимания ни на мои передние зубы, ни на задние. Ибо из всех коренных мои зубы мудрости — восьмой нижний, восьмой верхний — оказались самыми надежными: на них будет держаться мост, а с помощью мостовидного протеза немного исправится и мой прикус.
— Вмешательство, — сказал он, — придется нам решиться на серьезное вмешательство, не желаете ли вы, пока моя помощница готовится сделать вам рентгеновский снимок и пока я удаляю камень, включить изображение и звук?
Но я повторил:
— Спасибо.
Он был готов поступиться даже своими принципами.
— Могу включить программу из ГДР…
Но пустой телеэкран предоставлял мне неограниченные возможности: я все снова и снова видел, как медленно погружается в глиняную жижу мой молочный зуб. И еще мне понравилась моя семейная хроника, она как раз началась с молочных зубов. «Конечно, матушка, у меня здесь торчит один зуб, другой уже тю-тю, я утопил его в порту. И его проглотил не судак, а сом, он пережил на дне все трудные времена и теперь засел в засаде, поджидает, когда появятся мои остальные молочные зубы. Однако эти остальные, так и не узнавшие, что такое зубной камень, ныне переливаются перламутром на красной ватке, а гранатовая брошь и янтарь, так же как и дедулины ордена, пропали…»
Зубной врач в это время обретался всего лишь в одиннадцатом столетии, повествуя об арабском лекаре Альбукасисе из Кордовы, который первый обратил внимание на зубной камень. «Его надо скалывать». И еще я вспоминаю фразы наподобие следующей:
При остатке окиси в щелочном растворе, если, стало быть, pH больше семи, образуется зубной камень, поскольку слюнные железы нижней челюсти выделяют слюну на резцы, а околоушные слюнные железы — на шестые верхние; особенно сильно при экстремальных движениях рта, в частности при зевании.
— Зевните, пожалуйста. Да-да, отлично…
Я делал все, что он велел: зевал, выделял слюну, которая образует зубной камень, но никак не мог вызвать сочувствие зубного врача.
«Ну, доктор, как вам нравится мое маленькое сокровище?.. Спасенные молочные зубы? Ведь матушке в январе сорок пятого пришлось паковать вещички, чтобы с последним военным транспортом покинуть Нойфарвассер — отец служил лоцманом и мог позаботиться о семье. Конечно, перед тем как покинуть город, матушка побросала все самое необходимое, стало быть и мои молочные зубы, в большой отцовский флотский мешок, который по ошибке — так часто случается в отчаянной спешке, когда люди готовятся к бегству, — погрузили на «Пауля Бенеке», на колесный прогулочный пароходик, и как раз этот пароходик не подорвался на мине; целый и невредимый, хоть и перегруженный, он приплыл в Травемюнде; ну а моя матушка так и не увидела ни Травемюнде, ни Любека; то военное транспортное судно, которое я назвал последним, южнее Борнхольма налетело на мину, было торпедировано, и — отвлекитесь, пожалуйста, на секунду от зубного камня и посмотрите назад — вместе с моей матушкой оно прямехонько пошло на дно, тогда сквозь ледяное крошево, а сейчас сквозь ваш телеэкран. По слухам, всего лишь нескольким господам из местных нацистов, руководителям «гау» (округа), удалось вовремя пересесть на миноносец…»
Зубной врач сказал:
— А теперь полощите.
(Во время длительных сеансов он просил, требовал, выкрикивал: «Еще раз!», позволял отвести взгляд.) И теперь изредка мне удавалось мысленно следовать за картинками, воссозданными моим воображением, и переключаться на них, к примеру, от соскочившего зубного камня, так называемого конкремента; расстояние между телеэкраном и плевательницей, ее посверкивание при одновременном сильном слюноотделении было полно малозаметных препятствий и всякого рода, как бы взятых в скобки, фраз: реплик моего ученика Шербаума, шпилек, которыми обменивались в частных беседах я и Ирмгард Зайферт: всякой повседневной школьной словесной шелухи, вопросов, задаваемых на втором государственном экзамене на замещение учительских должностей, и вечного вопроса «быть или не быть». Все это мелькало в виде цитат. Но как ни трудно было переключиться с телеэкрана на плевательницу, а после полосканья снова восстанавливать связную картину минувшего, мне почти всегда удавалось сосредоточиться на прошлом:
— Ну и как водится, доктор, мои молочные зубы, можно сказать, сохранились для потомства. (То, что раз спасли, не скоро пропадает…)
— Не будем обольщаться: против зубного камня нет средств…
— Сын искал родителей, а ему вместо них вручили флотский мешок…
— Поэтому сейчас мы и будем бороться с зубным камнем, с врагом номер один…
— И каждой девушке, которая видела во мне будущего жениха, я показывал спасенные молочные зубы…
— Поскольку лечить зубы, не удалив камень при помощи инструментов, a priori[5] невозможно…
— Однако далеко не всякая девушка считала, что молочные зубы Эберхарда должны обязательно нравиться или возбуждать интерес…
— В последнее время практикуется лечение ультразвуком. Ну, а теперь пополощите.
Но тут случился один, как мне поначалу казалось, досадный сбой: я уже сумел с помощью спасенных молочных зубов выманить на экран свою прежнюю невесту и завести с ней разговор (вот теперь-то наконец я хочу заныть) — зубной врач возразил: «Чересчур рано». Пока я долго-долго полоскал, он развлекал меня анекдотами. Так, он рассказал о некоем Скрибонии Ларгусе, который придумал для первой жены императора Клавдия Мессалины зубной порошок — смесь жженых оленьих рогов с хиосской смолой и аммиачной солью. Когда он признался, что уже Плиний считал толченые молочные зубы самым верным порошком счастья, у меня в ушах опять зазвучал голос матушки: «Ну вот, деточка, я положу их на зеленую ватку. Когда-нибудь они принесут тебе счастье!»
Что значит в данном случае суеверие! В конце концов, я происхожу из семьи моряков. Мой дядя Макс так и остался лежать на Доггер-банке[6]. Отец пережил «Кёнигсберг»; все то время, что Данциг был «вольным городом», он прослужил лоцманом. А меня ребята всю дорогу звали Штёртебекером. До самого конца я был их предводителем. Мооркене пришлось играть вторую скрипку. Из-за этого он и подкапывался под нашу шайку-лейку, хотел ее расколоть. Но я этого не допускал. «Слушайте меня, ребята…» Так шло до тех пор, пока мы не завалились: этот скелет, этот сукин сын настучал на нас. Пришлось мне выложить все как на духу, по порядку, как в кино. Обычные эффекты — взлет и падение нашей банды возмутителей спокойствия — меня не прельщали; скорее я предпочитал научный анализ: подростковые банды в третьем рейхе. Досье пиратов «Эдельвайс» в подвале кёльнского полицай-президиума до сих пор еще никто как следует не изучил. («Что вы думаете на этот счет, Шербаум? Вашему поколению не мешало бы этим поинтересоваться. Нам тогда было семнадцать, столько же, сколько вам сейчас. И некоторое сходство нельзя не отметить: отрицание собственности, общие девочки, к которым мы не подпускали других, а главное — единый фронт против всех взрослых: да и господствующий в 12 «А» жаргон сильно смахивает на наш тогдашний язык».) Разумеется, в ту пору была война. И речь шла не о курилках и прочей детской муре. («А вот когда мы распатронили хозяйственную контору… А вот когда мы забрались в придел церкви Сердца Иисусова… А вот когда мы на зимнем плацу…») Мы оказывали сопротивление по-настоящему. С нами никто не мог справиться. Пока Мооркене на нас не настучал… Или же эта жердь с ее клыками! Следовало бы их обоих заложить самим или дать категорический приказ — никаких баб! Кстати, мои молочные зубы я носил тогда в мешочке на груди. Каждый, кого мы принимали, должен был поклясться на моих молочных зубах. «Из Ничего вырастает ничтожество». Надо было бы принести их с собой.
— Вот видите, доктор, как время идет. Еще только вчера я был предводителем юношеской шайки, наводящей страх на целый имперский «гау» Данциг — Западная Пруссия, а сегодня я штудиенрат, преподаю немецкий и еще историю, хотел бы уговорить своего ученика Шербаума отойти от молодежного анархизма. «Вам надо заняться школьной газетой. Вашему критическому уму требуется соответствующее поле деятельности». В сущности, штудиенрат — это переквалифицировавшийся предводитель юношеской шайки, который — если вы не возражаете, я сойду за эталон — уже давно не чувствует никакой другой боли, кроме зубной, — сплошная зубная боль…
Дантист объяснил причину моей хоть и терпимой, но непрекращающейся зубной боли — строение челюсти ведет к опуханию десен и обнажению чувствительных шеек зубов. Ввиду того что очередная историйка дантиста меня не проняла — «От зубной боли Плиний рекомендовал класть в ухо пепел от черепа бешеной собаки», — зубной врач махнул каким-то своим инструментом.
— Может быть, нам все же включить теле…
Но я настаивал на том, что мне больно… Громкий стон. Такую жалобу никак не пропустишь мимо ушей. («Извините, пожалуйста, но я так рассеян».)
По телеэкрану ведет велосипед мой ученик.
«Ох, уж эта мне ваша зубная боль. А что происходит в дельте Меконга? Вы читали?»
«Да, Шербаум, читал. Ужасно. Ужасноужасно. Но должен признаться, что эта ноющая боль, эта все время как бы давящая на один и тот же нерв струя воздуха, эта локализованная, даже не очень острая, но неотступная боль затрагивает и огорчает меня больше, нежели фотография, на которой изображена необозримая и все же абстрактная, не касающаяся непосредственно моего нерва мировая скорбь».
«Разве она не вызывает у вас гнев или хотя бы печаль?»
«Часто я пытаюсь вызвать у себя печаль».
«Вас не возмущает это, не возмущает несправедливость?»
«Я стараюсь почувствовать возмущение».
Шербаум исчез. (Он поставил свой велосипед под навес на стоянку.) Зубной врач вдруг оказался рядом.
— Если больно, дайте мне, пожалуйста, знать, но негромко.
— О боже, ноет.
— Позже мы примем арантил.
— Можно мне пополоскать, доктор, только разок пополоскать?
(И принести извинение. Я больше никогда не буду…) В ушах у меня опять звучит голос невесты:
«Ты и твои болячки! Когда я о них слышу, мне хочется с тобой расстаться, пусть это и будет больно. Скажи номер твоего текущего счета, я пролью бальзам на твои раны. Рента будет тебе к лицу. Придумай что-то новое. И ты сможешь заняться своим хобби — например, кельтскими орнаментами на надгробиях».
(Прочь, плевательница, я уношусь к базальтовому карьеру на Майенском поле. Нет, базальт сверкает на кладбище в Круфте. А может, это склад пемзы, и она между пустотелыми плитами…)
«Будешь приносить пользу, могу поспорить, что из тебя выйдет классный училка…»
(Нет, это не склад пемзы, а Андернах. Променад у Рейна, где всегда гуляет ветер. Хожу между городскими укреплениями и автопаромом и считаю подстриженные платаны. Бесконечные разговоры, слова.)
«Ты вылил на одну меня целый ушат педагогических откровений: не грызи ногти. Читай медленно и по определенной системе. Осмысли пройденное, прежде чем отклоняться от темы. Ты меня закормил Гегелем и твоими Марксом и Энгельсом…»
(Застывшие черты, в лице что-то козье, на губах вскипают пузыри, чуть не лопающиеся от осколков зубного камня, щебенки воспоминаний, шлака ненависти. Ах, любимица публики Лоис Лейн!)
«Я уже взрослая. Избавилась от тебя. Наконец-то избавилась. Тряпка, бездарь, супертрус…»
(А позади этого граммофона с одной и той же пластинкой на реке движение — вверх по течению, вниз по течению. Пых! Пых!)
«Ты был хороший, малость слезливый учитель».
(Лойтерсдорф на правом берегу Рейна, бугры коричнево-черных, залитых дождем клумб — розарий. Вздох! Еще вздох!)
«Прояви себя как-нибудь, сообразно твоим дарованиям. Перестань возиться с пемзой и цементом — пока не поздно. Как ты хочешь получить эти пятнадцать тысяч?»
(У подножья клумб, внизу, — товарняк и снующие машины. Движение заменяет задний план. Слова пролетают справа и слева мимо меня и, подобно плевкам, падают на пустую веранду гостиницы «Траубе». Тук-тук.)
«В рассрочку или все сразу?»
(Я стою на ветру в своем непромокаемом плаще. Карманные деньги для супермена.)
«Ну, телись. Скажи номер твоего текущего счета».
(Когда-то в старину андернахские укрепления были таможенным бастионом на Рейне у правителей кёльнской земли…)
«Считай это компенсацией за нанесенный ущерб и прекрати свое нытье».
(…Много позже они стали памятником воинам, павшим в четырнадцатом — восемнадцатом годах. Кинокамера поворачивается. Новый кадр. Ассистент режиссера уговорил мою невесту покормить чаек! Кра! Кра!)
Она мне их выплатила разом. И я распорядился этими деньгами весьма толково. Студент-перестарок перешел на другой факультет. Боннский университет — я хотел остаться поблизости от нее — превратил инженера-механика, специалиста по центробежным фильтрам, в референдария, потом в асессора, который с осени этого года стал штудиенратом и преподает немецкий и историю. «Разве не лучше было бы, если бы вы при ваших знаниях, — давали понять студенту, — выбрали бы в качестве основного предмета математику?» И тот, в парусиновых бахилах, тоже отвлекся на секунду от моего зубного камня.
— Как вы могли, закончив машиностроительный факультет, поставить на этом крест? Так можно сидеть за партой до скончания века.
Я долго полоскал. Если уж переучиваться, то в корне. Пусть не считает, что выбросила деньги на ветер. Приблизительно три тысячи еще остались. (Позже я должен буду перевести эти деньги на его текущий счет, больничная касса согласилась взять на себя только половину расходов.) Вот во что обойдется мне неправильный прикус. Зато я сижу в его полуавтоматическом кресле системы «Риттер», благодаря этому сооружению все разнообразные инструменты у него всегда под рукой, под его умелой рукой, и он работает, в то время, как я нет, в то время, как мы оба наслаждаемся визитерами, посещающими мой мозг.
— Как по-вашему, доктор, неужели я должен был наотрез отказаться от денег?
Моя невеста прекратила передачу из Андернаха:
«Только что мы видели, какое губительное действие оказывает зеленый криптонит на зубную эмаль супермена. А как будут реагировать зубы супермена на красный криптонит?.. Об этом вы узнаете из нашей следующей передачи «Супермен». А пока бросим взгляд на кабинет владельца криптонита…»
И она охарактеризовала предметы, которые меня окружали:
«Этот красиво изогнутый слюноотсос с убирающимся шлангом приводится в действие водяным насосом и демонстрируется на всех зубоврачебных выставках-продажах, так как славится своей исключительно высокой производительностью отсасывания…»
Она говорила таким сладким голоском, словно нахваливала елочные украшения, а не прополаскивающее устройство плевательницы или двухколенчатый отросток «Риттера», извергающий фонтанчики воды. «Плевательница благодаря особому механизму может передвигаться и по вертикали…» Моя бывшая невеста на телеэкране и помощница с влажными пальцами давали указания, нажимая на специальную кнопку, находившуюся на передней стороне навесного столика. Ах, как они вились около меня! Как ловко поднимали опустившийся отсос! С удовольствием я прислушивался к тому, как он сосал и булькал, будто истомленный жаждой, прежде чем досыта напиться моей слюной.
— Будьте добры, не напрягая, опустите язык вниз…
Зубной врач склонился над моей особой, заслонив своим телом четыре пятых телеэкрана; правый локоть его шарил в поисках опоры между ребрами и бедром, а рука ковыряла в моих покрытых зубным камнем шейках верхних резцов.
— Не глотать, все сделает отсос. Дышите глубже, вот так… Может быть, мне все же включить…
— Нетнетнетнет.
(Сегодня еще нет.) Я хочу услышать, как будет соскакивать всякая дрянь с моих зубов…
Видите ли, Шербаум, и это стоит описать: я накапливаю пенящуюся слюну и кровь, дробленые похрустывающие осколки. С любопытством пробую их на язык, а потом, испугавшись, выплевываю все вместе в плевательницу и беру стаканчик, ухватистый, сравнительно небольшой — пациент не должен, держа его, поддаться искушению и полоскать чересчур долго, — да, я полощу и рассматриваю свои отходы, вижу больше, чем есть на самом деле, прощаюсь с раздробленной массой зубного камня, ставлю стакан на место и с умилением наблюдаю за тем, как он автоматически наполняется тепловатой водой. «Риттер» и я работаем согласованно и планомерно.
Видите ли, Шербаум, синхронность многочисленных действий стоит описать: в то время, как я разеваю рот, повторяя про себя «плач Иеремии», левый отросток «Риттера» переставляет навесной столик, а этот в парусиновых бахилах выдвигает скользящую подставку с инструментами, на которой все они уже лежат в полной боевой готовности. К примеру, слаботочный ручной прибор для электронной проверки зубов автоматически заряжается и совершенно портативен. Мой врач мог бы гулять, держа его в кармане, по лесным дорожкам вдоль Грюневальдского озера или вдоль Тельтов-канала, посещать «зеленую неделю»[7], словом, бывать повсюду, где рыщут дантисты в поисках богатой добычи.
— Позвольте, я быстренько. Ладно? Вот моя визитная карточка. У вас, говорю напрямик, обратный прикус. В сочетании с сильно выдвинутым вперед подбородком он делает вашу внешность чересчур волевой. Можно подумать, что вы человек жестокий. Но недостатки для того и существуют, чтобы их устранять. Моя рекомендация — мостовидные протезы. Вам достаточно снять телефонную трубку. Мы сразу договоримся о часе, удобном для вас и для меня. Всего шесть-семь сеансов, если не будет осложнений, которые затруднят лечение. Доверьтесь мне и моей ассистентке, в ее скромности можете не сомневаться. А уж телевизор позаботится о том, чтобы вы отвлеклись. Телеэкран направит ваши мысли в другое русло, даже если он не будет включен. Прошу вас только об одном: доверьтесь мне и моей бормашине системы «Риттер» — она сама быстрота и натиск… моя бормашина делает пятьдесят тысяч триста оборотов в минуту, а приводящий ее в движение мотор гарантирует приглушенный звук.
— Правда?
— Буквально играючи я меняю насадку: сверло на шлифующий диск.
— Больно будет?
— А местная анестезия на что?
— Без нее не обойтись?
— В конце мы еще немного пошлифуем, и тогда вы поймете, что ваша невеста не зря дала вам отступного.
— Как-никак мы были помолвлены два с половиной года.
— Давайте выкладывайте, дорогой мой, выкладывайте!
— Дело было в 1954 году…
— Отличное начало.
Вот что я рассказал моему зубному врачу.
— Но предупреждаю вас, доктор, речь пойдет о туфе, о пемзе, извести, мергеле и трепеле, о шифере и клинкере, о деревнях Плайдт, Крец и Круфт, об эттрингском туфе и о коттенхаймском месторождении базальтовой лавы, о карьере пемзы у Корельсберга и о поздневулканических образованиях на Майенском поле, да, прежде… прежде чем я расскажу о себе, Линде и Шлоттау, о Матильде и Фердинанде Крингс — прежде, предупреждаю вас, доктор, речь пойдет о цементе.
Зубной врач сказал:
— Я работаю не только с гипсом, но и с определенными сортами цемента. Цемент — основа всех используемых мною материалов. Мы еще с этим встретимся.
Ну вот, тут я и начал:
— Цемент, используемый в промышленности, — это продукт естественных материалов: мергелей и известняков. Он создается из измельченной извести, клинкера и трепела, из равномерно обожженной до спекания углекислой извести и трепела при перемешивании с водой и обжига сырья во вращающихся печах.
(Как здорово я все еще помню. У меня мелькнула мысль: порази учеников своими техническими познаниями. Наверняка Шербаум считает тебя человеком не от мира сего, если не чокнутым.)
(Я посоветовал своему стоматологу собирать дентиновую пыль. Он возразил, что при обточке зубов и при одновременном выделении слизи количество отходов не очень велико.)
— Возможно. Но наша цель — полное пылеулавливание. Цементные заводы очищаются от пыли с помощью пылеулавливающих камер, с помощью центробежных установок и фильтров, далее вступают в действие установки для гранулирования, а оставшаяся пыль выводится к Рейну и выпускается на территорию между Кобленцем и Андернахом.
— Я бывал в предгорьях Эйфеля. Лунный ландшафт.
— И все же, как вы знаете, там неплохо получаются натурные съемки.
— Во время стоматологического конгресса я и мои коллеги совершили экскурсию в аббатство «Мария Лаах»[8].
— Монастырь бенедиктинцев попадает в зону распространения пыли, обе дымовые трубы на крингсовских цементно-туфовых заводах до меня имели высоту лишь тридцать восемь метров. В ту пору выброс оседал в непосредственной близости от завода, ныне же, после увеличения высоты труб, а особенно с переходом к сушке материалов при помощи вибрационных газовых ионообменников и использования охлаждающих башен, выброс цементной пыли снизился до девяти десятых процента; кроме того, обеспечено равномерное распределение пыли у Рейна на всем протяжении Нойвидской низменности…
— Да, хозяева заводов показывают пример заботы о своих согражданах.
— Лучше назовем это примером здорового стремления к извлечению выгоды, ибо массы пыли, улавливаемые системой электрофильтров, дают до пятнадцати процентов всего производимого цемента.
— А я думал, что установка фильтров на промышленных предприятиях вызвана исключительно заботой о благе ближних; психология маленького человека, черпающего информацию из газет.
(Позже я познакомил мой 12 «А» с проблемой все растущего загрязнения атмосферы. Даже на Шербаума это произвело впечатление. «Не понимаю, почему вы стали учителем; занимаясь вопросами борьбы с пылью, вы могли бы добиться гораздо большего».)
— Мне кажется, доктор, мы в данном случае можем говорить о двояком процессе… Благодаря своевременно проявленной мной инициативе в середине пятидесятых годов удалось, с одной стороны, работать рациональнее, используя в высшей степени ценную пыль, а с другой — сбить ту волну справедливых нареканий со стороны органов местного самоуправления, которые доставляли много беспокойства руководству предприятием. Сначала Крингс с ходу отвергал все мои предложения. Дескать, в старину были извержения вулканов, и эрозия почвы, и пыльные бури, сейчас на смену им пришли выбросы дыма и пыли в местах сосредоточения промышленных объектов. Что ни говори, мы не можем жить без пемзы, глины, цемента, стало быть, не можем жить и без пыли.
— Современный стоик.
— Крингс хорошо знал Сенеку.
— Этот философ и сегодня может кое-чему научить.
— Чтобы более наглядно проиллюстрировать свое заключение — Крингс признавал только примеры из практики, — я вставил в доклад об интенсивном загрязнении воздуха следующую картинку: Если атмосфера станет главным резервуаром для взвешенных, твердых и газообразных частиц материи и если загрязнение будет по-прежнему происходить в близлежащих от земли слоях, то есть в воздухе, которым дышат, из коего черпают кислород не только люди и животные, то со временем вся природа будет вправе обвинять нас… Взгляните, доктор, на сфотографированный обычным фотоаппаратом бук в парке виллы Крингса, который в народе прозвали «Серым парком». Площадь листьев этого дерева со множеством ветвей достигает ста пятидесяти квадратных метров. В связи с тем, что гектар букового леса за год при постоянном накоплении пыли принимает на себя груз приблизительно в пятнадцать тонн, на примере одного этого бука нетрудно показать, какую нагрузку будет нести парк, площадью с гектар, — парк, наполовину состоящий из хвойных деревьев; один гектар соснового леса должен будет вынести тяжесть примерно в сорок две тонны пыли в год… Не стану скрывать, что мой доклад заставил Крингса согласиться на сооружение электрических пылеуловителей.
— Безусловно, вы одержали победу.
— И все же крингсовский парк из-за того, что он находится поблизости от завода, так и остался «Серым парком», хотя благодаря моему упорству есть надежда, что буки останутся зелеными.
Сообщение это стоматолог заключил фразой, которая заставила меня усомниться в том, что его интересует предмет разговора.
— Природа поблагодарит вас за все.
(Страх не быть принятым всерьез преследует меня и на школьных уроках; достаточно нескольких смешков в классе или склоненной набок головы Шербаума — и я прерываю фразу на полуслове или отвлекаюсь от темы, довольно часто кто-нибудь из ребят, обычно Шербаум, возвращает меня на землю небрежным замечанием: «Мы остановились на Штреземане». В этот раз на дальнейший рассказ меня подвиг вопрос зубного врача: «Ну а что стало с вашим Крингсом?»)
— Только прежде, будьте добры, пополощите разок…
Дальше все было уж не столь интересно. Ошметки зубного камня. Шуршание бумаги. Пресыщение — точно как в романах. После этого попытка воссоздать на столике для инструментов между нагревателем для ампул и качающейся бунзеновской горелкой пейзаж раннего лета. Размышление штудиенрата на общие темы. Напрасные потуги почувствовать грусть, гнев, смущение. Струя воздуха, давящая на шейки зубов. Ямочки на щеках Шербаума.
— Вот как, доктор, все это началось.
Общий план: пейзаж предгорий Эйфеля от Плайдта по направлению к Круфту. Заголовок «Проигранные сражения» вырисовывается на фоне летних облаков. Медленное движение камеры по иссеченной впадинами, прорезанной рвами территории, где добывается пемза, к заводу Крингса, с его двумя трубами, мы движемся к новым главам с новыми заголовками. Теперь я говорю так, будто веду экскурсию:
«Заводы Крингса производят стройматериалы для вновь созданной западногерманской строительной промышленности, используя для этой цели богатые и разнообразные полезные ископаемые вулканического происхождения в Эйфеле: мы поставляем материалы для подземных и наземных сооружений, для дорожного строительства. Расцвет цементного производства перед последней войной и в военные годы — здесь я позволю себе напомнить о строительстве автострад, а в дальнейшем — о строительстве укреплений на наших западных границах, и не в последнюю очередь — о создании бетонных дотов на Атлантическом валу — благотворно повлиял на нынешний расцвет этой отрасли: на производство туфовых цементов и на применение в строительстве так называемого предварительно напряженного бетона. Требование момента гласит: капиталовложения и, стало быть, модернизация производства. И нашим крингсовским заводам отнюдь нельзя отставать от времени. Если сегодня тонны, десятки тонн высококачественной цементной пыли в буквальном смысле этого слова вылетают в трубу и тем самым пропадают для производственного процесса, то уже завтра электрофильтры…»
Голос инженера постепенно микшируется. Кинокамера следует за шлейфом дыма из заводских труб. Общий план: клубящиеся газообразные отходы, прослеженные в их динамике. Далее опять общий план: с птичьего полета сквозь дымные завесы видны предгорья Эйфеля между Майеном и Андернахом до самого Рейна; потом панорама суживается: птицы пикируют на крингсовский парк рядом с крытой шифером базальтово-серой виллой Крингса; крупным планом: цементная пыль на листьях бука; бугры и впадины; кое-где мокро-грязные ноздреватые островки — следы недавнего дождя. Клубящаяся цементная пыль постепенно улеглась. Растрескавшиеся слои цемента на скукожившихся листьях. В кадре цементные оползни и пыльные лавины, за кадром беспричинный девичий смех. Перегруженные листья никнут. Смех, облачка пыли, смех. Только сейчас мы видим трех девушек в шезлонгах под запыленными буками. Камера остановилась, движется дальше.
Инга и Хильда прикрыли лица газетой. Зиглинда Крингс — все зовут ее просто Линда — сидит, выпрямившись, в шезлонге. У нее удлиненное лицо с замкнутым выражением, в его неподвижности есть что-то козье; Линда не принимает участия в общем смехе, доносящемся из-под газетных листов. Инга приподнимает газету. Если быть объективным, она красива; Хильда ей под стать. Пухлая, несколько сонная здоровая девушка, часто щурится. На столике для шитья между стаканами с кока-колой, накрытыми общими тетрадями, лежит еще один газетный лист, на котором возвышается нечто вроде детского «куличика» из цементной пыли. Камера задерживается на этом натюрморте. На скомканном газетном листе видны отдельные слова броских газетных заголовков: «Олленхауэр», «Аденауэр», «Перевооружение». Приятельницы Линды хихикают, а она в это время сложила газету так, что с нее тонкой струйкой сыплется цементная пыль на «куличик».
Хильда. Глядите-ка, еще немного — и мы соберем целых полкило крингсовского цемента.
Инга. Подарим Харди на день рождения.
Теперь они болтают о планах на каникулы, решают, не предпочесть ли им Тирренское море Адриатике.
Хильда. А куда собирается наш маленький Харди?
Инга. Не заинтересуется ли он наскальной живописью?
Смех.
Хильда. А ты?
Пауза.
Линда. Я останусь здесь.
Пауза. Шорох медленно осыпающейся цементной пыли.
Инга. Потому что приедет твой отец?
Пауза. Цементная пыль.
Линда. Да.
Инга. Сколько времени он, собственно, провел там у них?
Линда. Около десяти лет. Сперва в Красногорске, а под конец в лагере под Владимиром восточнее Москвы.
Хильда. Ты считаешь, это его сломило?
Пауза. Цементная пыль.
Линда. Я его совсем не знаю.
Идет прямиком, не разбирая дороги, к вилле.
Объектив камеры следит за тем, как она удаляется, становясь все меньше.
Монумент. Только во время визита к зубному врачу мне удалось расчленить существующую в моем сознании, неподвижную, как статуя, невесту. Наплыв, еще наплыв — в промежутках она меняла юбки, реже джемпера; иногда появлялась одна или с ее Харди в зарослях дрока в заброшенном базальтовом карьере, иногда на постоялом дворе «Дикарь» почти сразу за Нойвидской дамбой или в Андернахе на променаде у Рейна, бродила среди пенистой лавы в долине Нетте; но чаще всего я вижу ее крупным планом на складе пемзы. А Харди требует иного показа: знаток истории искусств, он смотрится на фоне римских и раннехристианских базальтовых развалин или же тогда, когда объясняет Линде на макете, который сам смастерил, свой любимый проект — устройство электрических пылеуловителей. Наплыв: оба далеко-далеко на противоположном берегу озера Лаах. Еще наплыв: дождь загнал их в заброшенную хибару каменотесов на Белльфельде (спор, который кончился объятиями на шатком деревянном столе). Опять наплыв: она в наполовину восстановленном Майнце после лекции в университете. Наплыв: Харди фотографирует крест на переданном светским властям старинном аббатстве.
— А кто такой этот Харди? — спросил зубной врач.
И его помощница не сумела скрыть свое любопытство, невольно нажав сильнее мокрыми холодными пальцами.
— Тот самый сорокалетний штудиенрат, которого его ученики и ученицы добродушно-покровительственно называют «Old Hardy», тот самый «старик Харди», которому вы, пока ваша помощница холодными пальцами раскрывает рот, снимаете зубной камень, кусочек за кусочком.
Я и мои своевременно прерванные занятия германистикой плюс историей искусств, я и мой полученный в Аахене диплом инженера-машиностроителя, я и мои тогдашние двадцать восемь лет, я и мои прежние романы, а теперь моя почти безоблачная помолвка, словом, я — благополучный молодой человек в окружении таких же благополучных послевоенных молодых людей.
Лишь наполовину осмыслив свой фронтовой опыт, восемнадцатилетний Харди в августе сорок пятого был отпущен из американского плена в Бад-Айблинге у подножья гор, всегда затянутых пеленой дождя… С тех пор к нему пристала кличка Харди. Харди переселился с востока с пропуском беженца под литерой «А» и устроился жить у своей тетки в Кёльне-Ниппесе, где поспешил сдать экзамены на аттестат зрелости. Став студентом и работая по вечерам, чтобы как-то прожить, он вспомнил слова отца: «Будущее человечества в строительстве мостов». Итак, он решил выполнить в Аахене завет отца: зубрил статику, не задумываясь переходил от одного романа к другому, незадолго до последних экзаменов вступил в студенческую корпорацию, после чего его представили так называемому Старому Господину.
Инженер-машиностроитель Эберхард Штаруш, которого война лишила родителей, отчего он стал вдвойне энергичным, сразу же рванул и приземлился у «Диккерхоффа — Ленгериха», в фирме, которая производила клинкерный цемент мокрым способом; впрочем, Харди, который не отказался от своих увлечений историей искусства, изучал камни «экстерны»[9] в расположенном неподалеку Тевтобургском лесу; потом он познакомился с обжигом по методу Леполя, ибо у «Диккерхоффа» уже был своевременно запланирован переход всех предприятий с мокрого на сухой способ. Харди выдвигают, Харди готовит исследование об опыте использования цементов при глубоком бурении и туфовых цементов при строительстве противоподлодочных укреплений в Бресте; наконец, Харди предлагают, предварительно расширив, изложить свое исследование на специальном научном конгрессе перед общественностью, иными словами — перед ведущими деятелями западногерманской цементной промышленности. Для своего возраста он крупный специалист, у него приятная наружность, он удачлив, и вот он знакомится в Дюссельдорфе, на том самом ставшем уже историей конгрессе, с двадцатидвухлетней Зиглиндой Крингс, а на следующий день — за чашкой чая в перерыве между заседаниями — и с ее теткой Матильдой, немногословной дамой в черном, верховной правительницей предприятий Крингса. Харди как бы невзначай заводит разговор с обеими дамами. Старый Господин из аахенской студенческой корпорации в беседе лестно отзывается о нем. Харди использует прощальный прием в отеле «Рейнишер Хоф»: он довольно часто, но не слишком назойливо, приглашает на танец Зиглинду Крингс; Харди умеет вести светский разговор — не только о центробежных фильтрах, но и об архитектуре, о красоте романских базальтовых сооружений между Майеном и Андернахом. После полуночи, когда в залах устанавливается влажно-цементно-интимная атмосфера, Харди срывает с губ Зиглинды всего один-единственный поцелуйчик. (И тут Зиглинда Крингс произносит сакраментальную фразу: «Послушайте, если я в вас втюрюсь, вам это дорого обойдется…») Как бы то ни было, он произвел большое впечатление и вскоре после этого покинул с хорошими рекомендациями предприятия «Диккерхофф — Ленгерих»; и теперь целиком и полностью, то есть чрезвычайно успешно, внедрился в фирму Крингса; с той же быстротой и осмотрительностью, с какой он интегрировался в крупнейшем в Европе замкнутом кругу потребителей цемента, он устроил и свою помолвку, проявив здоровый инстинкт и одновременно цепкость; она состоялась весной пятьдесят четвертого года; учитывая, что будущий тесть все еще находился в плену, они отпраздновали ее подальше от дома, в долине Ара и в Лохмюле: на серо-выпуклом матовом стекле выстроились в ряд Зиглинда в костюме цвета серого шифера и Харди в базальтово-сером однобортном пиджаке; светская, немного чересчур бесконфликтная парочка; быстрые подстраховывающие друг друга взгляды искоса; представители поколения, известного под названием «скептического», в них все чаще видят рыцарей успеха. И впрямь, под моим влиянием Зиглинда стала серьезно заниматься в Майнце — она систематически, но вполне равнодушно, изучала медицину… А я в это время с фанатической основательностью и одновременно столь же равнодушно исследовал туфы в долине Нетте, вникая в крингсовское производство цементов; особенно усердно я занялся нашим устаревшим оборудованием для переработки пемзы и вообще пенистыми лавами…
Дантист велел мне прополоскать еще раз…
— А потом будем полировать, чтобы зубной камень не мог нарасти слишком быстро.
Наступившую паузу я использовал как приглашение к короткому докладу сперва о туфовых постройках римлян в сотых — пятидесятых годах до рождества Христова.
— По сей день между Плайдтом и Крецем можно обнаружить подземные штольни с нацарапанными на латинском языке надписями римских рудокопов.
А потом, пока он полировал, я в перерывах заговорил о пенистых лавах.
— Пенистые лавы геологически относятся к пористым туфам, полезным ископаемым Лааха…
Дантист сказал:
— Добросовестная полировка дает гарантию того, что самый верхний слой зубной эмали сохранится…
Я рассказывал о среднем галоцене, о белых туфах и о вкрапленных в них лёссовых скоплениях; он еще раз указал на мои обнаженные шейки зубов и возвестил:
— Вот, дело сделано, мой милый. А теперь возьмите-ка зеркало…
На вопрос моего зубного врача: «Ну что вы сейчас скажете?» — мне не оставалось ничего иного, как ответить: «Замечательно, просто замечательно».
Тем временем он ретировался за рентгеновский аппарат, а помощница начала делать снимок за снимком, словно хотела устроить междусобойчик с демонстрацией диапозитивов. Снимки показали смутно обрисованные неровные зубы мудрости. Только промежутки в области коренных зубов, слева, справа… наверху, внизу доказывали, что это именно мои зубы, доступные для обозрения. Я продолжал:
— Всего метровый слой перегноя отделяет нас от туфовых пород.
Но зубной врач не дал себя отвлечь:
— Хотя рентген показал, что зубы, на которые будут опираться мосты, в приличном состоянии, я должен сказать: у вас типичная, стало быть, врожденная прогения, что в переводе означает неправильный прикус.
(Я попросил зубного врача показать мне очередную телепередачу.)
С экрана повалила реклама, она заняла восьмушку моего восприятия. Дантист смазывал растревоженные десны и все еще подводил итоги:
— При нормальном прикусе зубы верхней челюсти перекрывают нижнюю максимум на полтора миллиметра. У вас же…
(С тех пор я запомнил, что мой неправильный прикус, который врач назвал врожденным, поскольку он является типичным, можно отличить по горизонтальному зазору шириной в два с половиной миллиметра.)
Догадывается ли, собственно, этот зубодер, что в его точильные и полировочные эликсиры добавляется пемза в порошкообразном виде? И знает ли эта дикторша с козьей мордочкой, которая кажется мне знакомой, подозрительно знакомой, что рекламируемые ею средства для чистки и мытья содержат пемзу, нашу отечественную пемзу с предгорий Эйфеля?
Зубного врача заклинило на моей прогении:
— Это ведет, как ясно показывают ваши рентгеновские снимки, к атрофии челюстной кости или альвеолярного гребня…
Та, на телеэкране, обязательно хотела продать мне морозилку. А в это время стоматолог предлагал хирургическое вмешательство…
— Мы просто-напросто скусим выступающий гребень челюстной кости и, восстановив ее таким образом, ликвидируем неправильности в вашем прикусе…
…А у Линды в телевизоре был свой припев: «Всегда свежие, полные витаминов…» При этом она предлагала рассрочку. Потом она открыла свою морозилку, и в ней вперемешку с очищенным горошком, телячьими почками и калифорнийской клубникой лежали мои молочные зубы, школьные сочинения, пропуск беженца под литерой «А» и мой научный труд о туфовых цементах и цементах, применяемых при глубоком бурении, сгустки моих желаний и мои разлитые по бутылкам неудачи — все уже готовое к употреблению. А на самом дне между окуневым филе и шпинатом, как известно богатым железом, покоилась обнаженная, покрытая инеем она сама, та, которая только что рекламировала свой товар, в юбке и в джемпере… О, Линдалиндалиндалинда… (Завтра я предложу 12 «А» такую тему для сочинения: «Основное и побочное назначение морозилок».) Как она долго держится в холодных испарениях. Как хорошо сохраняется боль при сильном охлаждении. «Как потускло золото…»[10]
Зубной врач предложил выключить телевизор (Ирмгард Зайферт представила меня как человека крайне впечатлительного). Я кивнул. Тогда он вернулся к моей прогении…
— И все же я не посоветовал бы вам соглашаться на хирургическое вмешательство…
И тут я тоже кивнул. (И его мокро-холодная помощница кивнула.)
— Теперь мне можно идти?
— Лично я советую вам поставить мостовидные протезы в области боковых зубов…
— Прямо сейчас?
— Зубной камень отнял у нас достаточно времени.
— Значит, послезавтра, незадолго до вечерних передач?
— И примите на дорогу две таблетки арантила.
— Но мне было почти не больно, доктор…
(Его помощница — отнюдь не моя невеста — протянула таблетки и стакан воды.)
Придя домой, я невольно стал проводить языком за зубами, пытаясь нащупать исчезнувшие шероховатости; у себя на письменном столе я увидел рядом с пепельницей тетради с уже исправленными сочинениями учеников 12 «А», несколько книг, которые я начал читать, и недописанную памятную записку для комитета «Школьники несут ответственность» с полемическим разделом «Где и когда ученику разрешается курить?», а рядом между брошюрами с директивами насчет реформ 11–13 классов, перед пустой рамкой для фотографий, на столе, заваленном газетными вырезками и ксерокопиями, лежала до обидности тощая папка с условным заголовком, выведенным огромными буквами. Под кусками древнеримского базальта — чаще всего осколками ступок, — кусками, которые я использовал в качестве пресс-папье… я обнаружил лист бумаги…
О боже, мой зуб. О боже, мои волосы в расческе. О боже, моя промелькнувшая куцая идейка… Ах… Сколько потерянных сражений. Впрочем, новая боль заслоняет старую. Но что же всплывает и вспоминается потом? Прежде всего карп на новогоднем вечере в прошлом году. О боже, эти тени, о боже, галька. О боже, зубная боль, о боже…
При том я хотел всего-навсего удалить зубной камень, хотя догадывался: он уж что-нибудь да найдет. Они всегда находят что-нибудь. Это известно.
Вскоре после моего возвращения позвонила Ирмгард Зайферт:
— Ну, как это было? Не так уж страшно. Правда?
И я подтвердил, что врач не садист. Что он человек, хоть и разговорчивый, но все же достаточно тактичный. Нахватанный. (Слышал о Сенеке.) Когда становится больно, прерывает лечение. Немного наивно верит в прогресс — надеется на появление всеисцеляющей зубной пасты… Но все это терпимо. А телевизор и впрямь действует замечательно, хотя и несколько комично.
Словом, говоря по телефону с Ирмгард Зайферт, я нахваливал зубного врача, который стал отныне нашим общим врачом.
— Голос у него мягкий, и только тогда, когда он начинает поучать, в нем появляется эдакая назидательная интонация.
Вот как он разглагольствовал: «Наш враг номер один — зубной камень. Торопимся мы или медлим, спим или зеваем, завязываем галстук, перевариваем пищу, молимся, наша слюна непрестанно производит зубной камень. Из-за языка он откладывается и накапливается. Язык постоянно прихватывает неорганические вещества, он тянется ко всему шероховатому: таким образом, он питает и укрепляет нашего врага — зубной камень. Покрывая коркой шейки зубов, камень душит их. Камень испытывает слепую ненависть к зубной эмали. И вообще, не притворяйтесь, меня не проведешь. Один взгляд — и мне все ясно: ваш зубной камень — это ваша окаменевшая ненависть. Его создала не только микрофлора в полости рта, но и ваши путаные мысли, ваше настойчивое желание копаться в прошлом; вы всегда хотели отомстить, хотя намеревались всего лишь отмести; стало быть, предрасположенность ваших десен к атрофии и к образованию карманов, где скапливаются бактерии, не что иное, как сочетание физиологии с психологией; камень выдает вас с головой, в нем заложена ваша потенциальная жестокость, подспудная жажда крови… А теперь полощите! Теперь полощите. Зубного камня вам хватит с избытком…»
Я все это оспариваю. Как штудиенрат, преподающий родной язык и еще, значит, историю, я ненавижу всякого рода акты насилия, всей душой ненавижу. И своей ученице Веро Леванд, которая в течение года занималась так называемым «собиранием звездочек» в районах Целендорфа и Далема, я сказал, когда она выставила в классе свою коллекцию звезд, отпиленных с «мерседесов»: «Ваш вандализм — просто самоцель».
Шербаум объяснил мне, что его подружка подыскивала соответствующие духу времени украшения для рождественской елки. «Она старалась ради школьного праздника в актовом зале».
Вскоре после рождества оказалось, что ножовка Веро Леванд вышла из моды. (Позже Шербаум написал песенку, которую исполнял под гитару: «Когда за звездами гонялись мы, гонялись мы, гонялись мы…»)
Не призывая на помощь святую заступницу всех страдающих зубной болью, я тем не менее хорошо подготовился к визиту; у меня были заранее составлены фразы, если уж мне понадобится хирургическое вмешательство, то и врачу придется учесть мои пожелания. «Не правда ли, доктор, вы ведь интересовались пемзой?», «Точно так же, как вы интересуетесь распространением кариеса среди детей школьного возраста…»
Утром я поневоле отвечал на вопросы в моем 12 «А». (Веро Леванд: «Сколько зубов он вам выдрал?») А я спросил:
— О чем бы вы думали, если бы вам пришлось сидеть в кресле дантиста, разинув рот, перед телевизором и по телевизору передавалась бы, к примеру, реклама морозилки?
Ответы были не очень находчивые, ребята явно растерялись.
Я отказался от намерения задать им сочинение на эту тему, хотя за мысль, которая пришла в голову Шербауму, можно было бы ухватиться: он предложил замораживать некоторые еще не совсем созревшие идеи и планы, пусть в один прекрасный день они оттают, будут додуманы до конца и воплощены в жизнь.
— Какой именно план вы имеете в виду, Шербаум?
— Потом сообщу, сейчас еще нельзя говорить об этом вслух.
На мой вопрос, не касается ли этот ныне замороженный план его намерения стать все же главным редактором ученической газеты, Шербаум ответил отрицательно.
— Муть. Оставьте его в замороженном виде.
В конце урока, когда я стал распространяться о кариесе: «Кариес означает необратимое поражение твердых тканей зуба…», класс, как я и ожидал, слушал меня снисходительно, а Шербаум насмешливо склонил голову набок.
Зубной врач был менее деликатен.
— Это мы сразу сточим… Четыре коренных зуба в нижней челюсти: восьмой и шестой слева, а также шестой и восьмой справа…
(Деловитое позвякивание стерильных инструментов свидетельствовало о том, что он ни на секунду не усомнился — я опять приду. «Начинайте, доктор, обещаю сидеть тихо».) Его помощница уже наполнила шприц.
— Ну вот. А теперь маленький неприятный укольчик. Почти не было больно… Верно?
(Еще не хватало, чтобы я, увешанный слюноотсосами, с набитым марлевыми тампонами и сведенным спазмой ртом, стал бы непринужденно болтать: «Ваши укольчики — сущий пустяк. Ну, а те, в Бонне… Вы читали газету? На дне долины… Закручивать гайки… Не на жизнь, а на смерть… А студенты уже опять, ох уж эти студенты, на своем общем собрании они…»)
Указание врача на необходимость второй инъекции обернулось очередной избитой фразой:
— А теперь кольнем еще разочек. Вы даже не почувствуете…
(Только не томи, да не томи же. И включай изображение, пускай мелькает, но без звука.)
— Минуты две-три нам придется подождать, пока десны полностью не потеряют чувствительность, а ваш язык не станет мохнатым на ощупь.
— Он пухнет!
— Это только кажется.
(Раздутая свиная почка. Что с ней делать?)
На безмолвном телеэкране появился премилый господин духовного звания, который, поскольку была суббота, решил произнести воскресную проповедь, хотя эту передачу показывают после двадцати двух часов. И всегда до программы западноберлинских «Вечерних известий».
«Да, да, сын мой, знаю, что тебе больно. Но вся боль этой юдоли слез не в состоянии…»
(Какие у него изящные фаланги пальцев, как иронично он поднимает бровь. Или медленно качает головой. Шербаум прозвал его «Наш Среброуст».)
А потом вступили воскресные колокола: бим! — и в небо взлетели голуби, — бим-бам! Ах, а сейчас маленькие жестяные колокольчики в моей голове, которая сама себе голова, стали вызванивать: бем-пем-пемза.
Когда язвительно усмехавшаяся дикторша с козьей мордочкой объявила о передаче-репортаже «Пемза — серое золото предгорий Эйфеля», зубной врач стал обтачивать восьмой зуб.
— Хорошенько расслабьтесь. Мы начнем с жевательной поверхности, потом сошлифуем вокруг, опять перейдем к жевательной поверхности.
В моем фильме о вулканических лавах, сиречь пемзе, было показано, как сырье из карьеров переходит на обогатительную фабрику и, освободившись от тяжелых компонентов, обрабатывается патентованным вяжущим «Эйби», идет в бетономешалки, превращается в бетонную смесь, далее в автоматах из него формуются строительные детали…
Мой зубной врач сказал:
— Ну вот, видите. Ваш восьмой уже готов. (Прежде чем он заставил меня полоскать, я сумел, правда в большой спешке, показать складирование в специальных помещениях готовых строительных деталей, а потом продемонстрировать их на катках на открытом воздухе.)
— А здесь, доктор, между нашими стандартными пустотелыми блоками, пемзобетонными перекрытиями, полыми и массивными плитами, между нашими железобетонными панелями и кессонированными плитами, которые, не говоря уже о малом весе, обладают следующими достоинствами: высокой звукоизоляцией, способностью «дышать», пористостью и огнестойкостью, а также гвоздимостью и шероховатой поверхностью, что обеспечивает надежное сцепление со штукатурным раствором; итак, среди складов с современными строительными материалами, которые гарантируют беспрепятственную интеграцию будущих квартиросъемщиков в жилых помещениях западного плюралистского общества, точнее сказать в пространстве между нашими стандартно-форматными плитами, из которых возводятся наши дома, называемые в просторечии «коробками», — как-то раз встретились Линда Крингс и заводской электрик Шлоттау.
Мой зубной врач сказал:
— Я вижу…
И я тем самым основательно подготовился: с высоты птичьего полета засек склады сырья, пенистой лавы, раскинувшиеся между заводом и виллой Крингса, включая парк. На границе между заводом и парком стоит неправильным полукругом кучка людей, одетых в штатское. Заводской инженер Эберхард Штаруш в белом халате и в защитном шлеме объясняет процесс производства пемзовых строительных материалов. А в это время от «Серого парка» в направлении завода движется Зиглинда Крингс. По ее летнему платью в мелкий цветочек видно, что за решеткой парка гуляет ветер. Идя от завода, на территорию складов вступает электрик Хайнц Шлоттау. Зиглинда бредет по подъездной дороге без видимой цели. Шлоттау, наоборот, шагает навстречу Зиглинде с таким видом, словно ищет ее, то есть вполне целеустремленно.
Их постепенное сближение на местности, еще замедляемое разного рода случайностями, происходит при сильном порывистом ветре и доносящейся речи инженера: «Более шести тысяч лет назад, когда в Эйфеле происходили извержения вулканов, по-видимому, господствовали западные и северо-западные ураганы. Иначе не могли бы образоваться залежи пемзы восточнее и юго-восточнее кратеров вулканов. Если раньше крестьяне в предгорьях Эйфеля сами добывали пемзу, то ныне фирма Крингса взяла в аренду все окрестные месторождения. И вот сейчас мы с вами находимся на границе обширнейших залежей пемзы…»
Теперь видно лишь место встречи Зиглинды и Шлоттау среди тесно поставленных штабелей стандартных блоков. Между Зиглиндой и Шлоттау сохраняется известная дистанция. Они оценивают друг друга, делая вид, что смотрят в сторону. От смущения Шлоттау усмехается. Руки Зиглинды, заложенные за спину, ощупывают поверхность блоков. Голос инженера Штаруша сейчас слышен слабее, он как бы удаляется; Штаруш охотно и часто начинает осмотр предприятия речами-экспромтами — это отзвук его молодости, когда он был предводителем подростковой шайки, когда его звали Штёртебекером и он любил держать площадку. Но это также и предзнаменование того, что в будущем он станет штудиенратом — преподавателем немецкого и истории.
— А что вы в данное время проходите со своими учениками?
— Мы пытались осмыслить социальный фон шиллеровской драмы «Разбойники»…
— Стало быть, опять-таки отголоски вашей деятельности в качестве предводителя разбойничьей шайки?
— Сознаюсь, я несвободен от давних впечатлений.
— А ваши ученики?
— Шербаум хочет в соавторстве со своей подружкой сделать из «Разбойников» рок-оперу. Речь там пойдет о мерседесовских звездах, которые спилят на всей территории ФРГ. Мэри Лейн должна сыграть роль Амалии, а супермен…
— Интересный эксперимент…
— Однако у Шербаума не хватает терпения. У него только идеи. Только идеи… — (И их он хочет заморозить, чтобы в один прекрасный день они оттаяли, тогда он додумает их до конца и воплотит в жизнь.) — …Точь-в-точь как этот Шлоттау на складе пемзобетонных блоков…
Линда. Вы работаете у нас?
Шлоттау. Заводской электромонтер с пятьдесят первого года. В свое время был в некотором роде подчиненным вашего уважаемого папаши.
Линда. Не можете ли вы выражаться яснее?
Шлоттау. Конечно, с удовольствием, барышня. Центральный участок фронта, сорок четвертый год. Ваш папаша сказал: «Бреслау[11] надо удержать». Вы когда-нибудь слышали, как болтают о геройстве, барышня?
Линда. Что вы хотите?
Шлоттау. К примеру, сходить с вами в киношку. И справиться, когда же он наконец явится, наш господин генерал-фельдмаршал?
Линда. Не тратьтесь зря на билеты. Партия, с которой он вернется, ожидается в конце недели в лагере Фридлянд… Что вы задумали?
Шлоттау. Ничего особенного. Несколько моих дружков-однополчан с нетерпением ждут встречи.
Линда. Я хочу знать, что вы задумали.
Шлоттау. А может, нам все же сходить в киношку в Андернахе?
Линда. Не вижу, с какой стати…
Шлоттау. А вы вообще знаете своего папашу?
Линда. В последний раз он приезжал в отпуск в сорок четвертом.
Шлоттау. Тогда он орудовал в Курляндии[12].
Линда. Он пробыл дома дня три и все время спал…
Шлоттау. Примерно в это время он командовал «Лосиной головой», одиннадцатой пехотной дивизией. Исключительно Восточная Пруссия… Могу вас уверить, ваш папочка отчаянный малый, барышня.
Линда. Теперь я с ним наконец познакомлюсь.
Шлоттау. Я мог бы вам многое порассказать. Веселенькая история.
Линда (прерывая разговор, уходит). Как-нибудь потом, если я соглашусь прошвырнуться с вами в кино…
— Как вы считаете, доктор, может ли, должен ли заводской электрик, который остался стоять в одиночестве между пемзовыми плитами, заключить эту сценку фразой: «Вылитый старик»?
Зубной врач сказал:
— Вы держались молодцом. С нижним левым мы управились.
— Ну так как же? Нравится вам концовка предыдущей сцены или нет?
— А теперь сделаем инъекцию внизу, справа. Вы почти ничего не почувствуете, ведь первые уколы захватили обширную область. Ну вот.
— Или, может, их диалог требует более приподнятого тона? Обвинений, крупномасштабной ненависти, взывающей к отмщению…
— Скажите, пожалуйста, а этот Шлоттау, к которому вы проявляете подозрительное сочувствие, в общем, не кажется ли вам, что его можно счесть за революционера…
— Только если вы будете рассматривать его по стандартам, принятым в этой стране…
— Стало быть, он скорее эдакий пустозвон, горе-революционер…
— Он существовал лишь потому, что существовал Крингс.
(Зубной врач попросил, чтобы, ожидая действия инъекции и глядя на телеэкран, где по первой программе опять показывали передачу «Пемза», я скупыми мазками нарисовал бы двойной портрет этих двух взаимосвязанных персонажей.
— А я тем временем оберну медной фольгой обточенные зубы, хочу убедиться, что они подготовлены правильно.
Я предусмотрительно пополоскал, но со стаканом возникли трудности; мне казалось, что губа у меня распухла и потеряла чувствительность, поэтому я неправильно оценил расстояние между губой и краями стакана и пролил воду. Помощнице зубного врача пришлось обтереть мне губы бумажной салфеткой. Неприятно.)
Хайнц Шлоттау родился в 1920 году в католической области Эрмланд, которая подобно занозе торчала в протестантской Восточной Пруссии; что касается будущего генерал-фельдмаршала, то он появился на свет божий в 1892 году в предгорьях Эйфеля, а именно в Майене, и был сыном мастера-каменотеса, которому принадлежало множество базальтовых месторождений. И Хайнц и Фердинанд росли, не вызывая особого интереса у окружающего мира. Да и наше участие в их судьбе проявится на более поздней стадии, а пока что мы можем рассказать разве что о годах ученичества Шлоттау во Фрауэнбурге и крингсовских прерванных занятиях философией, о работе Шлоттау в качестве электрика, о том, как лихо он танцевал фокстрот в Алленштейне[13] и как лейтенант запаса Крингс отличился в годы первой мировой войны, в частности в двенадцатом сражении на Изонцо.
Но поскольку до того времени, когда начнется обточка двух нижних зубов справа, осталось всего ничего, нам придется перепрыгнуть через несколько ступенек в военной карьере Крингса и в карьере электрика Шлоттау. Посему сообщим нижеследующее: гарнизонными городами знаменитой 11-й пехотной дивизии, именуемой также «Лосиная голова», в мирное время были Алленштейн, Ортельсбург, Бишофсбург, Растенбург, Летцен и Бартенштейн[14]. И вот в 44-й пехотный полк, дислоцированный в Бартенштейне, осенью тридцать восьмого направили рекрута Хайнца Шлоттау, а в то же самое время подполковник, командир горнопехотного полка, который уже успел без потерь участвовать в «аншлюсе» и, оккупировав Чехословакию, создать «протекторат Богемии и Моравии», оказался в Меммингенском гарнизоне.
И Шлоттау и Крингс готовились к дальнейшему. Первый — на песчаном казарменном плацу, второй, согласно приказу, склонившись над топографическими картами, из которых он должен был почерпнуть необходимые сведения о состоянии дорог и укреплений на карпатских перевалах.
И Шлоттау и Крингс выступили одновременно: 1 сентября; погода в тот день была еще по-летнему мягкой.
Первый из них — пехотинец, участвовал в прорыве пограничных укреплений под Млавой, в боях за переправы через Нарев и в преследовании противника по восточной Польше до самого капитулировавшего Модлина[15]; второй начал штурмовать Львов; на высотах Львова в оборонительных боях против польского полка уланов ему впервые представилась возможность оправдать свою будущую кличку «генерал-ни-шагу-назад».
Шлоттау, хоть и сорвиголова, но довольно осторожный малый, заработал в бою за Модлин легкое ранение — в сущности, царапину, царапину предплечья, — и Железный крест второй степени; героя Львова упомянули в военной сводке вермахта, он не был ранен и нацепил на свою почти богатырскую грудь рядом с наградами, полученными в первой мировой войне, новехонький Железный крест первой степени.
И Шлоттау и Крингс отправляли домой письма по полевой почте. Тогда еще не было никаких видимых причин для того, чтобы простой пехотинец, в будущем заводской электрик Хайнц Шлоттау в июле 1955 года так уж рвался встретить на главном вокзале в Кобленце полковника, а в будущем генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса.
Зубной врач, видимо, остался доволен нарисованным мною двойным портретом, свою работу он, наоборот, не одобрил.
— На основании отпечатков на фольге совершенно ясно, что при обточке образовалось несколько зазубрин. Придется эти недоделки ликвидировать при шлифовке. А теперь промываем…
«Как вы считаете, доктор, может быть, нам вставить наплывом главный вокзал в Кобленце и несколько массовых сценок в фильм «Пемза», который все еще передают по телевизору. И…»
— Расслабьтесь, будьте добры. А язык, прижав, опустите.
Общий план: фасад главного вокзала в Кобленце. Закопченная кладка из песчаника. Над гранитным цоколем грубая каменная крошка. Скульптурные орнаменты. Все еще заметны следы военных разрушений. (На крытые толем крыши давит чересчур близкий задний план — цейхгауз, часть старой кобленцской крепости.) На привокзальной площади лихорадочное движение, сама кинокамера недвижима, стоит на месте. А на площади в это время стихийно возникают группки, перемещаются, рассыпаются, то тут, то там лозунги; иногда их развертывают, иногда свертывают. (Голуби, видя, что площадь занята, расселись по карнизам домов, склонив головы набок.) Шум: неразборчивое скандирование, выкрики («А ну, иди сюда, Шорш…»), дружный смех, бульканье пива, бутылки передаются из рук в руки. (Воркованье голубей.) Полицейские стоят наготове около городской сберкассы. Всего две полицейские машины. Домохозяйки возвращаются из магазинов. Подростки ведут велосипеды за руль сбоку. (Продавец лотерейных билетов с засунутой за ленточку шляпы двадцатимарковой бумажкой.) Газетчики. На возвышении из ящиков кинохроника устанавливает свою камеру. Отрывочные возгласы, напоминающие команды. Волнообразное движение толпы; теперь транспаранты развернуты, и на них можно кое-что прочесть: «Арктика нам нипочем!», «Сила через террор», «Курляндия тебя приветствует!», «Крингс-ни-шагу-назад!» Скандирующие люди почувствовали ритм: «Покончим навсегда с болтовней о геройстве! Покончим навсегда с болтовней о геройстве!», «Без нас! Без нас!» (Многие разочарованы, видя, что кинохроника бездействует. Воркотня по адресу киношников: «Начинайте же, вы, подонки…» Голуби улетают и прилетают.)
Средний план — видна кучка людей, которую привел электрик Шлоттау. «Крингса назад в Сибирь! Крингса назад в Сибирь!»
На углу Маркенбильдхенвег в толпе домашних хозяек стоит Зиглинда Крингс. На ней темные очки. Она медленно проталкивается сквозь толпу мужчин, по большей части инвалидов войны. (Кто на костылях, у кого — искусственный глаз, у кого — пустой подколотый рукав, у кого изуродовано лицо.) Толпа встревожена, выкрики у входа в вокзал. Людская масса протискивается в здание вокзала. Водовороты. Ругань. Толкотня. Того и гляди вспыхнет потасовка. Смех у окошка касс; покупаются и раздаются перронные билеты. (Методы ярмарочных зазывал: «Ктоещехочетукогоещенет!»)
Полицейские не вмешиваются, они следуют за толпой, движущейся к контролю, где предъявляются перронные билеты, здесь опять же толкотня. Один из полицейских регулирует движение:
«Полегче, господа, полегче, ваш Крингс от вас не уйдет…»
Топот ног и быстрые хромающие шаги в главном тоннеле, из которого ведут лестницы на разные платформы; все устремляются к четвертой платформе.
В то время, когда толпа движется с привокзальной площади к вокзалу, доносятся обрывки фраз: «И почему эти русские отпустили его…», «Палач, загонял в самое пекло…», «Собака, сколько подорвалось на минах…», «В Восточной Германии они его…», «Вместе с Нушке в одном эшелоне…», «Из-за перевооружения…», «Могу побожиться, в международном вагоне…», «Почему бы у них не быть армии, раз они у нас…», «Без меня!..», «Дураки всегда найдутся…», «Эту скотину я знаю по Заполярью, с Северного фронта…», «Арьергардные бои в Никополе…», «Меня эта свинья в Курляндии…», «Когда же он приедет…», «Врежь ему протезом…», «Нас он в Праге…», «Путь свободен…», «Чего уставился, дружище…», «Поезд подходит…»
Толпа молча ждет прибытия поезда. Взгляды устремились назад, опять вперед. С поезда сходят всего несколько пассажиров. Люди, щурясь, высматривают знакомое лицо. Несколько человек ходят по купе, ищут… Старший проводник, стоя на ступеньке последнего вагона отходящего поезда, кричит: «Зря трепыхаетесь, ребята! Ваш Крингс подхватил свой картонный чемодан и сошел еще в Андернахе».
Вокзальный шум покрывают отдельные негодующие возгласы. (А все это заглушает неумолчный треск наконечника для шлифования, работающего на самых высоких оборотах. Дантист шлифует жевательную поверхность моего нижнего зуба мудрости. Самое время пополоскать. Зубной врач тоже против того, чтобы делать поспешные выводы, несмотря на разочарование, нескончаемое, как железнодорожный перрон.)
— Одним словом, люди с митинга протеста разошлись столь же организованно, как они разошлись на прошлой неделе с митинга против Кизингера[16]. Я был там с несколькими учениками и своей коллегой-учительницей. Еще одна бесполезная затея: этот господин возложил свой веночек не перед Памятником жертвам на Штайплаце, как предполагалось, согласно газетным сообщениям, а украдкой отнес его в тюрьму Плётцензее. Ирмгард Зайферт тем не менее осталась довольна: «Наш протест будет услышан». Шербаум отнесся к происшедшему трезво: «Пустой номер». А когда я на следующий день хотел показать значение протеста, пусть даже и безуспешного на первый взгляд, и выступил перед своим 12 «А», Веро Леванд прервала меня, зачитав цитату из Маркса и Энгельса. (Она всегда носит с собой бумажки с цитатами.) Мелкобуржуазные революционеры склонны принимать отдельные этапы революционного процесса за его конечный результат и поэтому участвуют в революции… Мелкий буржуа — это я. И вы тоже, доктор. С этой классификацией нам придется смириться, если вы пожелаете прийти в мой класс, да еще, чего доброго, с Сенекой…
— А вы бы ответили вашей ученице, любительнице цитат, словами Ницше: переоценка ценностей может быть достигнута лишь тогда, когда возникает связь между людьми, нуждающимися в новом, и новыми людьми, которые становятся нуждающимися…
— Неважно, что заставило людей выйти на улицу. Неделю назад это был протест против Кизингера, летом пятьдесят пятого — протест против Крингса, результат один: пустой номер…
— А мы все же сточим ваш нижний зуб мудрости конусом к жевательной поверхности.
— Газеты пестрели заголовками. Один из них был такой: «Генерал-фельдмаршал Крингс ускользнул от солдатского гнева…» Другой ироничный: «Крингс сказал: «Без меня!». Третий обстоятельный: «В Кобленцской трагикомедии отсутствовал главный исполнитель…» «Генераль-анцайгер» деловито констатировала: «Поезд прибыл по расписанию, но без генерал-фельдмаршала. Еще одна демонстрация протеста окончилась ничем…»
— А что было с вашим другом Шлоттау?
При сошлифовке жевательной поверхности нижнего шестого я вызвал в памяти наплыв: бывшие солдаты расходятся с четвертой платформы. В толпе, скопившейся у лестницы, ведущей к главному тоннелю, столкнулись Линда и Шлоттау.
Линда. Захватить вас с собой?
Шлоттау. Вот дерьмовое положение, черт возьми!
Линда. Моя машина стоит за гостиницей Хоймана.
Шлоттау. С такими, как вы, куколка, нам не по дороге.
Линда. А я-то думала, что вы приглашаете меня в кино.
Шлоттау. Это в его духе, драпануть вовремя.
Теперь новый наплыв: видно, как Шлоттау и Линда, спускаясь по лестнице, исчезают в тоннеле.
Разумеется, они все же поехали вместе. И между прочим, в «боргварде»; машин этой марки сегодня и не встретишь. Правда, на привокзальной площади он вдруг бросил ее; точнее, ни слова не говоря, круто повернул и пошел в другую сторону (через стайки голубей), она продолжала, уже в одиночестве, следовать прямым ходом вперед. Но это не обязательно показывать в фильме. Лучше вырезать. Так же, как и короткие фразы, которыми перебрасывается со своим однополчанином Шлоттау: «Старик показал нам кукиш…», «Мы с ним еще поговорим…» (Кстати Шлоттау купил на привокзальной площади лотерейный билет — пустой.)
Перед нами андернахское шоссе, машина — «боргвард» — идет по направлению к Майену. Зиглинда Крингс за рулем, рядом с ней на переднем сиденье Хайнц Шлоттау. За их спиной установлена неподвижная кинокамера.
Линда. Навряд ли он станет ждать меня в Андернахе.
Пауза, во время которой можно порассуждать на тему о том, сколько ответвлений у шоссе на Андернах, и о банкротстве автомобильных заводов Боргварда, не помню уж в каком году.
Шлоттау. Допускаю, что он остался в Восточной Германии. Может, они его наняли. Им теперь понадобятся люди с опытом. Паулюс у них.
Пауза, во время которой, подобно надписям на карикатурах, появляются буковки — контрреволюционный тезис Тэн-цзо: «Да здравствуют ученые всех мастей», и как иллюстрация к нему — сценка на Восточном вокзале в Берлине: «Крингса встречают в ГДР».
Линда. Когда же вы наконец пригласите меня в кино?
Шлоттау. Если Крингс согласится создавать новую армию…
Линда. Я хочу знать, когда вы пригласите меня в кино. Кино — моя страсть, и вообще…
Пауза, во время которой читатель пытается вспомнить, какие ленты показывали в середине пятидесятых: «Зисси», «Лесничий в Зильбервальде»…
Шлоттау. Ну, а ваш жених, барышня, я хочу сказать…
Линда. Всякий раз, когда он свободен от меня, он только радуется.
Пауза. Шлоттау предоставляется возможность догадываться об отношениях Линды с женихом.
Я полощу, так как меня просит об этом зубной врач; беловатая пена, крови нет, полосканье прерывает реплика моего ученика Шербаума: «Я все это усек: НСКК, БДМ, РАД, ХКЛ…[17], но скажите, что творится в дельте Меконга…» — «Конечно, Шербаум, конечно. Это важно… Но только если мы поймем, почему покушение на Гитлера[18] в главной ставке фюрера (аббревиатура ФХКВ)…»
Шлоттау. Между прочим, вы слышали, барышня, анекдот о пруссаке-крестьянине, который повел свою корову на случку. А когда жена спросила его…
Линда. И вообще мой жених интересуется исключительно использованием базальта и туфов в Древнем Риме.
Пауза, во время которой не успеваешь даже задуматься над тем, до какой степени было развито производство жерновов у древних римлян, особенно после неудачного восстания треверов[19], ибо «боргвард» обгоняет велосипедиста, Шлоттау оглядывается назад. На его лице удивление, беспокойство, ненависть сменяют друг друга.
После долгой паузы, которая может быть использована для размышлений о концовке анекдота с коровой, Шлоттау говорит довольно ровным голосом:
«Это был он… А теперь остановитесь… Я хочу выйти».
Линда тормозит.
«Вы могли бы представить меня отцу».
Шлоттау. Поджилки затряслись, струсили перед стариком.
Линда. Да… Я боюсь. Точь-в-точь как вы… Ну давайте, сматывайтесь.
Шлоттау не торопясь вылезает из машины.
«Если соберетесь опять на склад пемзы… Словом, около двух я возвращаюсь с контрольного обхода и могу на полчасика…» — Не окончив фразу, он пускается в путь по направлению к Плайдту.
Шлоттау идет, но я отказываюсь следовать за ним, зубной врач отводит от моего зуба шлифовальный наконечник, потому что ему звонит пациентка, а Линда включает «дворники», словно хочет стереть со стекла изображение Шлоттау. При этом она не отрываясь смотрит в зеркало заднего вида, и в этом зеркальце кинокамера запечатлевает входящего в легкий вираж велосипедиста, который энергично нажимает на педали. Он катит против ветра. Три мотива звучат одновременно: шум ветра, дыхание Линды, голос зубного врача, который никак не может договориться о часе приема.
Считая от сегодняшнего дня, примерно двадцать два года назад, а от тогдашнего времени более десяти лет, то есть 8 мая 1945 года, за несколько часов до капитуляции великогерманского вермахта, генерал-фельдмаршал Крингс в сером штатском костюме покинул свои все еще сражавшиеся войска и свою ставку в Рудных горах, покинул на последнем имевшемся в наличии самолетике «физелер-шторхе»; он полетел в Миттензиль в Тироле, чтобы там, согласно приказу фюрера — так он заявил на суде, — взять на себя командование «Альпийской крепостью»; однако не нашел в тех местах ни крепости, ни даже боеспособных дивизий, что подтверждается свидетельскими показаниями; посему Крингс, не потерявшись, сменил свой штатский серый костюм на местную одежду: кожаные шорты и все прочее — и удрал в горы, где засел в альпийской хижине, ожидая там, видимо, чуда или, как он показал на суде, «естественного развития событий — братания американских вооруженных сил с остатками немецких вооруженных сил». Однако 15 мая, поскольку американо-германского альянса не произошло ни естественным путем, ни путем чуда, генерал-фельдмаршал реквизировал у одного местного жителя велосипед, на котором и покатил в одежде простого крестьянина, без армий и орденов в Санкт-Иоганн, чтобы сдаться в плен американцам, точно таким же образом десять лет спустя он покатил к себе домой на велосипеде, который ему не так уж трудно было одолжить в Андернахе; он катил против ветра по направлению к Майену; сейчас мы видим в зеркале заднего вида «боргварда», как сильно и равномерно он нажимает на педали; фигура Крингса с каждой минутой увеличивается…
(Как вы считаете, можно ли, надо ли оставить теперь Линду одну в «боргварде» — она не отрывает взгляда от зеркала заднего вида и лепечет что-то вроде: «Что мне делать, броситься ему на шею? Или просто зареветь…»)
Тем временем мой зубной врач утряс наконец по телефону час приема. Телефильм «Пемза» с восторгом живописал пейзажи предгорий Эйфеля; я и генерал-фельдмаршал на велосипеде наслаждались встречей с Корельсбергом. Когда Линда вышла из машины, аппарат зубного врача сточил еще один слой с моего нижнего шестого зуба. Линда открыла багажник. Отодвинула запаску. Повернулась лицом к велосипедисту, фигура которого надвигалась на нас. Час истории пробил. Гегелевский «мировой дух» скакал по полям, под которыми покоились залежи пемзы, ждущие, когда их наконец начнут добывать.
— Хватит, доктор, миленький, хватит!
Велосипедист затормозил. Линда застыла на месте. Ее отец грузно слез с велосипеда, сохранив два шага дистанции между собой и ею. (Ветер, мелькание кадров на телеэкране, пауза и перескок назад, в зубоврачебный кабинет, а оттуда к моему 12 «А», ибо еще совсем недавно мы беседовали о прототипе бывшего солдата: «Неизгладимый отпечаток на мое поколение наложил борхертовский Бекман»[20]. «Каково ваше отношение к Бекману, Шербаум? Говорит ли вам что-то этот образ сегодня?..»)
И этот бывший солдат носит очки. Вот он стоит в сером костюме, который ему тесен, без шляпы, в грубых башмаках со шнурками. Велосипедные зажимы для брюк он, наверно, одолжил в Андернахе. Бросается в глаза новый, чересчур элегантный галстук. К багажнику велосипеда размочаленной веревкой привязан картонный чемодан. Твердое лицо Крингса ровным счетом ничего не выражает.
Линда. Мы можем уложить велосипед в багажник машины. Я — ваша дочь Зиглинда.
Крингс. Как мило, что меня встречают.
Линда. Мы, очевидно, разминулись в Андернахе. Сначала я поехала в…
Крингс. Я не хотел явиться без галстука, я был…
Подбородком указывает на свой галстук.
Линда. Красивый.
Она не улыбается.
Крингс. Сестра писала мне, что у тебя длинные волосы и что ты заплетаешь их в косу.
Линда. Я постриглась перед помолвкой. Давайте я вам…
Крингс. Пожалуйста.
Без суеты, деловито Линда пытается уместить велосипед и чемодан в багажник. Крышка багажника не закрывается. Крингс смотрит на Корельсберг. Что-то его забавляет; видимо, тот факт, что гора стоит на том же месте. В это время зритель может поразмыслить о содержимом чемодана: не возбраняется также подумать о зияющем багажнике, об его откинутой крышке, которую Линда пытается с помощью размочаленной веревки прикрепить к заднему бамперу. (Между прочим, когда я познакомился с Линдой, у нее была прическа a la Моцарт. По моей просьбе она остригла косу.)
Линда. Несколько километров проехать можно, он не вывалится… Многое за это время изменилось, вы увидите…
Крингс. Картофельная ботва по-прежнему покрыта цементной пылью.
Линда. И это скоро, наверно, изменится.
Крингс. Твой жених… Он, кажется, служил у «Диккерхоффа»?.. Хочет, чтобы завод работал без пыли.
Линда. Сначала его надо перестроить, цемент будет производиться сухим способом, а потом…
Крингс. Сначала нам надо доехать. Посмотрим все на месте. Не так ли?.. Моей дочери положено говорить со мной на «ты». Разве это трудно?
Линда. Я сама хотела попробовать.
Крингс. Так давай.
Линда. Хорошо, отец.
Они садятся в машину.
Нельзя ли переместить всю эту сцену в «Серый парк», но уже без велосипеда, пейзажа и машины?
— Как вы считаете, доктор? Крингс появляется с чемоданом… Может быть, он ведет велосипед… Натыкается на Линду под ветвями буков, поникших от тяжести цементной пыли. Без запинки он выпаливает: «Как мило, что меня никто не встретил». На это Линда отвечает: «Я была в Кобленце. Там собралась толпа. Могли возникнуть беспорядки».
Крингс. Полиция этого странного государства попросила меня сойти с поезда в Андернахе.
Линда. Я была рада, что поезд пришел без вас, кое-кто…
Крингс. Сестра писала мне, что у тебя длинные волосы и что ты заплетаешь их в косу…
Зубной врач был против «Серого парка», ведь на самом деле Линда подхватила его по дороге.
Итак, они едут по направлению к Плайдту. Камера следует за ними только до тех пор, пока они не исчезают, и на экране крупным планом видны лишь Корельсберг и заводы Крингса с обеими трубами, из которых валит дым, на фоне предгорий Эйфеля.
— Дело сделано, мой дорогой. Теперь нам нужны лишь формы из фольги для проверки. Потом мы наполним их «руварексом» и таким образом получим точные копии ваших зубов.
Я попытался ощутить радость. Крингс прибыл. Боли я не чувствовал. Полоскать было почти приятно. За окнами, я знал, тянулся Гогенцоллерндамм от Розенэка до Бундесаллее. И рядовая реплика моего ученика Шербаума: «Почему вы вообще стали преподавателем?», а также слова подыгравшей ему Веро Леванд: «Откуда ему знать?» — не побудили меня ответить как-нибудь невпопад.
А потом зуб за зубом был изолирован тканью, пропитанной жидким «тектором». Надевая на все четыре обточенных зуба временные металлические коронки, дабы предохранить их от внешних воздействий, зубной врач говорил:
— Сперва вам будет не по себе, особенно когда отойдет заморозка и язык наткнется на металлическое инородное тело.
Пока он говорил, она опять стала давать рекламу, строго по минутам, как предписано телепрограммой. Начала с шампуней, потом перешла к хвойному экстракту, а под конец стала втирать ночной питательный крем. Я видел ее профиль под душем — голова в шапке пены. На голой коже переливались и поблескивали капли, вызывая эдакое волнение. Протестую! Почему нагота дозволяется только при рекламе гигиенических средств?
— Почему, доктор, нельзя с помощью обнаженного тела рекламировать все на свете? Например, так: голый зубной врач обтачивает тридцатидевятилетней преподавательнице — моей коллеге Зайферт — по два коренных зуба снизу, слева и справа, а потом надевает на них металлические коронки, предохраняющие от внешних воздействий… А потом рекламируют похоронных дел мастера Гринайзена: нагие гробовщики с лямками через плечо несут открытый гроб, в котором наконец-то смирно лежит генерал-фельдмаршал при всех регалиях… А вот и я рекламирую реформу старших классов западноберлинской гимназии: голый, очень волосатый штудиенрат дает урок истории одетым по-разному ученицам и ученикам, и тут его ученица Веро Леванд, вся в пестрых вязаных вещах, вскакивает: «Перечисленные вами признаки тоталитаризма целиком совпадают с признаками авторитарных школьных порядков, при которых мы…» А может, лучше рекламировать лампочку «ОСРАМ»[21]: электрик Шлоттау в чем мать родила стоит на стуле и ввинчивает в патрон шестидесятиваттную лампочку, а в это время барышня в спортивном костюме — Линдалиндалиндалинда — смотрит на него. Или лучше займемся рекламой болеутоляющих таблеток арантила: голая влюбленная парочка сидит на диване и смотрит на телеэкран, на котором одетые актеры разыгрывают детективную историю: известный женоубийца — он же брачный аферист — бежит от правосудия и по дороге влетает в сарай, залезает прямо в одежде в сено и громко стонет — у него болят зубы и нет арантила, а в то же время на улице — это он видит сквозь щелку в дощатой стене — голая батрачка решительно проходит по двору, чтобы подоить черно-белых коров… Вообще, обратимся к животному миру. Я спрашиваю вас, доктор, почему бы в рекламе зоопарка не показать, как широконосые, узконосые и игрунковые обезьяны, естественно, неодетые, занимаются перед клетками тем, что ведет к деторождению…
— Ну вот, держится хорошо. Металлические коронки были подогнаны заранее… — (Чулки из фольги для моих зубов.) — А теперь сомкните зубы. Еще раз. Спасибо.
Его помощница (в белом халатике) своевременно убрала свои пальцы — три морковины.
— Ей-богу, лицо у меня перекосилось и еще оно чудовищно отекло.
— Обман зрения. Вы заблуждаетесь, посмотрите в зеркало и сами убедитесь.
Когда я собрался домой, зубной врач (в парусиновых бахилах) напутствовал меня — велел принять арантил вовремя.
— Иначе вам предстоит малоприятный субботний вечер и в воскресенье может побаливать.
(Его помощница, подавая в прихожей пальто, от себя посоветовала, деловито и негромко, не есть чересчур горячего и не пить чересчур холодного, ведь металл теплопроводен… Теперь эта помощница показалась мне более симпатичной, все же немного более симпатичной.)
Итак, я со своими четырьмя инородными телами во рту возвратился домой, побрился, переоделся и перевязал шелковой ленточкой подарок (бокал в стиле модерн с растительным орнаментом), после чего сел на девятнадцатый автобус и доехал до Лейнинской площади; меня пригласили на рождение; сначала я весело общался с коллегами (обсуждались вопросы культурной политики), даже сказал хозяйке дома (это был ее день рождения) что-то остроумное насчет аквариума и его унылых, прожорливых обитателей — впрочем, Ирмгард Зайферт не удостоила меня улыбкой; с помощью арантила я продержался до полуночи; придя домой, увидел подкарауливавший меня письменный стол и написал на листке бумаги: «Узнать, нет ли и там чего-нибудь скрытого…»; скоро заснул как убитый, но проснулся рано, так как действие лекарства кончалось, однако принял свои две таблетки только после завтрака (чай, кефир с корнфлексом) и, просматривая воскресные газеты, начал обычные причитания: Ох уж это воскресенье… Эти обои… Эти утренние возлияния в пивной…
Все последующее я прочел в «Вамсе»[22]: они его поймали. Нет. Он сам явился с повинной. Ведь они никогда не схватили бы его, несмотря на объявления о розыске с указанием примет, напечатанных на меловой бумаге, не поймали того, кто задушил свою жизнерадостную, капризничавшую только при западном ветре невесту. Он задушил ее велосипедной цепью — на фото был запечатлен этот предмет. Без двух минут тесть убийцы, согласно показаниям, одолжил велосипед в Андернахе, когда вернулся наконец на родину после десятилетнего пребывания в русском плену и когда оказалось, что на последнем отрезке пути у него нет других средств передвижения. Велосипедная цепь, состоявшая из многих звеньев — точь-в-точь четки, — была найдена на месте преступления (на складе пустотелых блоков); последние двенадцать лет убийца жил за счет краж со взломом, которые совершал без специальных инструментов, но мастерски, хотя и неохотно. (Мир забыл о нем… но следственный отдел в Кобленце ничего не забывал.) Давно скрываясь, он постарел, однако дело о его преступлении — минутное дело — не могло быть прекращено за давностью. И поскольку ему не хватало не только продуктов питания, но и духовной пищи, он взялся за философские трактаты, в частности углубился в изучение философии стоиков (и мог бы сейчас слыть специалистом по Сенеке). Прячась и будучи всегда настороже, он читал, ночуя в сараях или в домиках на садовых участках, где, кстати, часто находил на полках за книгами любимых авторов деньги: бумажные купюры и мелочь. Таким образом, он ездил по железной дороге в то время, как полиция считала, будто он ходит пешком или «голосует» на дорогах. Тщательно одетый, с книгой в руках, откинувшись на мягкую спинку в спальном вагоне, он исколесил Западную Германию от Нассау до Фленсбурга, от Кобурга до Фёльклингена. Каждый раз, когда он покидал какой-нибудь город, он менял одежду. Словом, кражи, совершаемые им с отвращением, поскольку они претили его натуре, должны были обеспечить ему средства не только на пропитание, на книги, на железнодорожные и карманные расходы, но и на то, чтобы решить проблему одежды; стандартная фигура облегчала покупку костюмов соответствующего размера, он мог спокойно выбирать их в магазинах готового платья. Да, он часто менял содержимое чемодана. Однако ко всякой собственности был равнодушен; кроме нескольких рубашек и смен нижнего белья, вперемежку с книгами, он ничего не имел; путешествовал налегке.
Стригся ли он каждые три недели?.. Да, стригся в аэропортах и на главных вокзалах, где мог быть уверен в том, что увидит в зеркале парикмахера-итальянца (интерес к сообщениям о розыске — наша национальная особенность). Фасонную стрижку сменила стрижка с помощью бритвы, под конец он предпочел короткий ежик без пробора на американский лад.
И несмотря на это — так было написано несколько месяцев назад в «Вельт ам зоннтаг», и я видел его фото: холеный мужчина лет под сорок, который мог занять крупный пост в цементной промышленности, — и несмотря на это, он явился с повинной.
«Целых девять лет я обретал поддержку в учении стоиков, я выносил тяготы, на которые обречен каждый беглец, но вот уже два с половиной года, как меня мучает зубная боль».
(«Не правда ли, доктор, это рецепторы нервных центров, на которые следует воздействовать?..»)
Известно, что арантил выдается только по рецепту врача, поэтому убийце невесты приходилось довольствоваться более слабыми средствами, снимающими боль лишь ненадолго. Обратиться к зубному врачу он не рискнул. Зубные врачи читают иллюстрированные журналы. Зубные врачи в курсе всех событий, им известен каждый еще не обнаруженный убийца, стало быть, и он тоже: ведь «Квик» и «Штерн», «Бунте» и «Нойе» популяризировали убийцу, помещая его фото. Журналы этого рода, подобно волкам, всегда собираются в стаи — и вот, прогнав его сквозь свои «сериалы» по всей территории, где шла охота, и обложив со всех сторон подписчиками и читателями, они в конце концов загнали его в полицию. Фотографии были сделаны способом глубокой печати с подтекстовками: он и его невеста в ту пору, когда на шее у нее красовался искусственный жемчуг, а не велосипедная цепь. Он и она на тенистом берегу озера Лаах. Он и она на рейнском променаде по дороге к Андернаху в аллее, по обе стороны которой подстриженные платаны. А также жених и невеста с будущим тестем — незадолго до убийства — рядом с моделью центробежного электрофильтра. И наконец, он один на фотографиях, сделанных в давно прошедшие счастливые времена. Убийца — брачный аферист без шляпы, в шляпе, в профиль, в три четверти; на одной фотографии он смеется во весь рот, видны зубы. (Их изъяны заметил бы каждый дантист. «Вы тоже много лет спустя помнили бы просвет между двумя резцами в верхней челюсти и неправильный прикус, эту настоящую — поскольку она врожденная — прогению, она ведь бросается в глаза».)
Ему пришлось прожить два с половиной года без зубоврачебной помощи, терпя боли, которые имели обыкновение повторяться и которые с каждым разом усиливались, ведь ему нечем было их утишить, разве что золотыми словами Сенеки: «Только бедняк считает свой скот», но и эти боли перебивала и перекрывала другая непрекращавшаяся боль — по задушенной невесте. Без арантила, цинично утешаясь поздним Ницше — Сенека иногда переставал действовать, — повторяя слова Ницше: «С точки зрения морали мир фальшив. Но поскольку мораль сама часть этого мира, она тоже фальшива…», он перебирался из одного домишки на дачном участке в другой, искал и находил в домашних аптечках разные таблеточки, все, кроме арантила, ибо его выдают только по рецепту врача. («Итак, я ворочался в заброшенных сторожках каменотесов на Майенском поле, в продуваемых сквозняками сараях в предгорьях Эйфеля, ворочался, будто меня терзали не боль, а страсть, и сжимал в объятиях свою невесту — охапку шуршащего сена — о, Линдалиндалиндалинда — и слышал ее шепот: «Не встревай, ради бога. Это касается только отца и меня. Я ему все докажу. Тебе до этого вообще дела нет. Пусть я десять раз с этим Шлоттау. И перестань угрожать мне своей дурацкой велосипедной цепью…»)
И тогда он пошел в следственный отдел в Кобленце и сказал: «Это я!» После чего убийца родом из Западной Пруссии вежливо положил на стол свое истрепавшееся за долгие годы беженское свидетельство за литерой «А».
Полиция сперва не поверила. Только когда он засмеялся, несмотря на боль, засмеялся, обнажив тем самым просвет между верхними резцами, равно как и явную прогению, только тогда они стали чуть ли не радушными: «Давно пора, старина».
Не хочу долго распространяться о научных заслугах так называемого брачного афериста-убийцы (он передал полиции созданную им за двенадцать лет рукопись весьма солидного объема: «Ранний Сенека как воспитатель будущего императора Нерона. Философские заметки беглого преступника»).
Хочу огласить его мольбу о помощи, зафиксированную в протоколе: «Находясь под следствием, прошу, чтобы меня показали тюремному дантисту. Считаю уместным любое вмешательство, и в случае, если окажется необходимым, удаление причиняющих мне боль зубов. Если же вмешательство будет отложено, покорнейше прошу прописать арантил, ибо арантил не выдают без рецепта врача…»
Благодаря арантилу — двадцать драже за две марки тридцать — я писал, не испытывая боли, окрыленный побочным действием этого лекарства: Забыты поражения! Теперь мы пораскинем мозгами и начнем побеждать.
Незадолго до того времени, когда я обычно распивал пиво, я снова стал причитать: Ох уж это воскресенье… Эти обои… — и предавался воспоминаниям о всяких старых историях, о неизменном шепоте на андернахском променаде. Но тут две таблетки помогли мне переключиться с бесплодного воскресного самокопанья на частный случай с одной моей коллегой. (Как мы уличаем сами себя… Как все ударяет рикошетом…) Ведь если бы Ирмгард Зайферт не нашла этих писем, она была бы счастливей и, пожалуй, ничего не знала бы о себе; но она их нашла и теперь все знала…
Визит с субботы на воскресенье к ее матери в Ганновер, необходимость хвалить их любимое семейное блюдо — говяжье жаркое с картофельными клецками — и без конца выслушивать уговоры: «Возьми еще кусочек, Ирмгард. Раньше, детка, ты всегда уплетала за обе щеки…» А потом мать решила вздремнуть после обеда (казалось, она на часок вообще ушла из жизни), и вдруг она осталась одна среди старой мебели и обоев, которые, собственно, должны были бы вызывать у нее умиление, и этот преследовавший ее повсюду, никогда не выветривавшийся запах мастики для полов, и внезапное сердитое чириканье целого выводка воробьев в палисаднике; еще во время обеда, когда сладковато-приторный вкус грушевого варенья на языке уже стал ослабевать, ее матушка обронила несколько слов насчет школьных табелей дочери, фотографий класса, тетрадей для сочинений и писем — в сущности, старого хлама, связанного в пачки и мирно покоившегося на дне сундука в чердачном помещении, — все эти случайности, сложенные воедино, и побудили Ирмгард Зайферт, которая так же, как и я, преподает немецкий и историю (и еще дополнительно ведет уроки музыки), подняться на чердак их одноквартирного домика, надеть в предвидении пыли фартук матери и открыть большой, даже не запертый сундук.
На моем листке бумаги стали в ряд отдельные фразы: косой солнечный луч, падавший через чердачное оконце. Заржавевшие полозья ее детских санок. Семейные дела — покойный отец Зайферт был начальником отдела доставки в фирме Гюнтера Вагнера. (По сию пору она покупает карандаши со скидкой.) Аквариум Ирмгард: барбусы, вуалехвосты и гуппи, пожирающие свое потомство.
Мы с Ирмгард Зайферт ровесники. В конце войны нам стукнуло по семнадцать, но мы уже были взрослые. Несмотря на общность профессии, многое мешает нам сблизиться, но в одном мы едины — в нашем отношении к новейшей германской истории и ее влиянию на все события, вплоть до сегодняшнего дня. Только в нашей оценке «большой коалиции» и в том, что Кизингер стал канцлером, ощущается известная разница — я воспринимаю все это скорее цинично, скаля зубы, Ирмгард Зайферт склонна протестовать.
Некоторые высказывания на телевидении, заголовки в газетах вызывают у нее однозначную реакцию: «против этого надо протестовать, резко, недвусмысленно протестовать».
Ее и мои ученики — она дает уроки музыки моему 12 «А» — добродушно прозвали Ирмгард Зайферт Архангелом, зачастую ее речи и впрямь можно уподобить пламенному мечу. (Только когда она кормит рыбок в аквариуме, можно заметить, что в ней проглядывает нечто женственное.)
Дать знак. Показать пример. Еще два года назад она шла в одной колонне с демонстрантами из ГДР. Поскольку в Западном Берлине НСМ[23] не выставляет своих кандидатов на выборах, она вообще из чувства протеста не участвовала в местных выборах. В своем классе, а также и в моем 12 «А» она при случае ссылается на Маркса и Энгельса и в то же время озадачивает учеников критикой Ульбрихта, которого она обвиняла в склонности к бюрократии и догматизму. Не на моего Шербаума, но на его приятельницу, малышку Леванд, она оказывает большое влияние.
В ту пору Ирмгард Зайферт встревала во все споры. Заводила бесплодные дискуссии о планах школьной реформы с консервативными коллегами, да и с нашим директором, который считает себя либералом. Споры с Архангелом он сводил на нет одной фразой, которая превратилась у нас чуть ли не в поговорку: «Как бы вы ни относились к гамбургскому опыту унифицированной школы, нас, милая коллега, объединяет одно: бескомпромиссный антифашизм».
И вот Ирмгард Зайферт нашла между безобидными сочинениями и ничем не примечательными групповыми снимками своего класса перевязанную крест-накрест пачку писем, которые она писала в феврале — марте сорок пятого, будучи фюрером союза немецких девушек и заместительницей начальника лагеря для эвакуированных из города детей. Мысли ее, запечатленные каллиграфическим почерком на линованной бумаге, все время кружили вокруг образа фюрера, которого она называла не иначе как «величественным». Большевизм она трактовала как еврейско-славянское порождение и жаждала выступить против него с пламенным протестом (уже тогда — истый Архангел). Известная цитата из Баумана[24]: «…Голод засел в наших глазах: новые земли, новые земли должны мы завоевать…» — послужила эпиграфом к одному из ее мартовских писем; советские армии стояли уже на Одере. (Вообще правоэкстремистские красоты, характерные для позднего экспрессионизма, определяли ее стиль; даже сегодня коллега Зайферт тяготеет к броским, но теперь уже ударяющим в левизну определениям: «Победоносное освобождение от ига капитала и торжество социалистов — это и есть четкая, устремленная в будущее цель всех неколебимых борцов…») «Моя белокурая ненависть, — писала тогда фройляйн Зайферт, в волосах которой за это время уже успели появиться серебряные нити, — не знает границ и уносится, подобно песне, к звездам».
Я пытался свести все к шутке, когда она через несколько дней после уик-энда в Ганновере не в силах успокоиться цитировала эти экзальтированные фразы. А потом, расширив глаза, сказала: «В моих письмах встречаются абзацы, которые я не хотела бы прочесть никому, даже вам».
(«Одним словом, доктор, Ирмгард Зайферт в ту пору предприняла вмешательство») Разумеется, она помнила, что руководила отрядом в союзе немецких девушек. Во всех деталях помнила, как жила тогда в Гарце, часто рассказывала, что заботилась об эвакуированных детях из больших городов — Брауншвейга и Ганновера, что на нее легла тяжелая ответственность, ведь с продовольствием становилось все хуже и истребители-бомбардировщики ежедневно бомбили близлежащую деревню; они рыли убежища-траншеи, где дети спасались от осколочных бомб; она возмущалась ортсгруппенляйтером, который в начале апреля хотел забрать тринадцати-четырнадцатилетних мальчишек и отправить их в фольксштурм.
Мы часто говорили, вернее, болтали об эпизодах ее юности, так же как и о моих приключениях в банде, болтали, гуляя вдвоем по берегу Грюневальдского озера или у меня дома за рюмкой мозельского. Она помнила, что заявила во всеуслышание, мол, ортсгруппенляйтер использует в преступных целях доверие детей, она протестовала против его действий. «Я пламенно протестовала»; слово в слово повторила она речь в защиту своих тогдашних питомцев: «Под конец этот хмырь вообще испарился. Эдакий отвратительный нацистский бонза. Вы, конечно, знакомы с подобным типом людей, дорогой коллега…»
Ирмгард Зайферт даже использовала с педагогической целью эту свою тогдашнюю ситуацию, в которую попала не по своей воле, рассказывала ученикам — своим, да и моим (на уроках музыки) — о «мужестве как о преодоленной трусости».
В тот день она без конца ворошила бумаги в сундуке, но так и не нашла того, что искала, — прежние бунтарские тезисы, или, как она называла их, «антифашистские»; она будто бы не только высказывала эти тезисы вслух, но и заносила на бумагу. Ничего такого обнаружить не удалось. Только письма. И в последнем письме она рассказала о своем триумфе: обучившись стрелять из гранатомета, она, на сей раз по своей воле, стала усердно обучать других. В письме говорилось: «Неколебима наша готовность. Парни, которых я вместе с ортсгруппенляйтером научила стрелять из противотанкового гранатомета, — все как один — будут до последней капли крови защищать наш лагерь. Мы выстоим или погибнем. Третьего не дано».
«Но вы ведь вовсе не защищали свой лагерь?»
«Конечно, нет. При всем желании не успели».
Стараясь отвлечь ее, я заговорил о своей ребячьей шайке.
«Представьте себе, милая коллега, меня в роли предводителя банды. В ту пору, когда вокруг царила одна сплошная организованная «народная общность», нам не оставалось ничего другого, как стать асоциальным элементом, мы и впрямь чуть не докатились до уголовщины».
Но ничто не могло остановить коллегу Зайферт в ее жажде саморазоблачиться.
«Существуют и другие письма, они еще хуже…»
И она вспомнила об одном крестьянине, который отказался предоставить свое поле, граничившее с детским лагерем, под противотанковый ров.
«На этого крестьянина я донесла окружному руководству в Клаусталь-Целлерфельде, написала донос».
«И это имело последствия? Я хочу сказать, его…»
«Нет, не имело».
«Ну вот видите!» — вырвалось у меня.
(Разговор происходил в моей квартире. Я подлил мозельского. Поставил пластинку.) Но и Телеман[25] не помешал Зайферт довести до конца свое самобичевание.
«Я вспоминаю, как была разочарована, более того, возмущена из-за того, что донос не возымел действия».
«Но это же чисто умозрительно».
«Я уволюсь из гимназии».
«Этого вы не сделаете».
«Мне нельзя доверить преподавание…»
Я начал произносить всякие утешительные слова:
«Именно ваша вина, милая коллега, дает вам право указать молодому поколению правильный путь. Многие из нас всю жизнь не знают, кто они есть на самом деле, и даже не подозревают этого!.. При случае я расскажу вам о себе. И об одном «вмешательстве», последствия которого я только сейчас осознаю. Внезапно брошенное слово, например такое, как трепел, или пемза, или туф. Или вид детей, играющих с велосипедной цепью. И вот уже ты теряешь покой и стоишь голенький и беззащитный…»
Тут она заплакала. И поскольку мне казалось, что я знаю, как хорошо Ирмгард Зайферт владеет собой, я с облегчением подумал: слезы — это тот же арантил.
— Ах, доктор, какое звучное название! (Я приму еще два драже.) Арантил могла бы быть сестрой этрусской принцессы Танаквил. Юную невесту Арантил возненавидела старшая сестра Танаквил, и все еще усугублялось тем, что жених Арантил внезапно влюбился в Танаквил и буквально стал ее рабом — и вот бедняжку сбросили со стен города Перуджи, так она погибла. А потом ее именем назвалась певица. Вы помните певицу Арантил, равную Тибальди, равную Каллас. Она проникала во все сердца и во все дискотеки. Впрочем, скорее она поражала не голосом, а лицом (она была не просто миловидной, а по-настоящему красивой). Что привлекало в ней: разрез глаз или странный рассеянный взгляд? Кто из нас вспомнит ее фигуру? Талант ее неотделим от лица. Увеличенные портреты Арантил на высоких, как колокольня, стендах были намечены пунктиром, но мы издалека глядели на них во все глаза, пытаясь воссоздать ее черты. В одной провинциальной дыре, кажется в Фюрте, я встретил ее портрет на афишном столбе — он намок от дождя и потерял всякий вид; ведь со времени концерта прошло уже три недели. (Кто-то выцарапал ей на плакате глаза.) Что только не выделывали с ее фотографиями! Их прятали в молитвенники. Их вставляли в рамки и водружали на письменные столы могущественные директора концернов. Рекруты бундесвера прикрепляли их кнопками к своим тумбочкам. Ее лицо было везде: то размером в почтовую открытку, то величиной с киноэкран. Оно постоянно смотрело на нас, нет, смотрело сквозь нас. Смотрело, не замечая чужой боли, абсолютно равнодушное, но исцеляя и смягчая страдания. (Это болеутоляющее действие и побудило, наверно, впоследствии одну фармацевтическую фирму выпустить специальное лекарство — из группы анальгетиков, помогающее при зубной и челюстной болях, лекарство, которое вы, доктор, ежедневно прописываете. «Я даю вам рецепт на две упаковки арантила…») И при всем том внешность ее была ужасающая, а конец трагический.
Кстати, о молодом человеке, которого бульварная пресса назвала ее убийцей, долгое время вообще ничего не было слышно. Кажется, он ходил тогда в ее женихах. Моментальный снимок этого человека — фотографа по профессии — перепечатали все вечерние газеты и иллюстрированные журналы, особенно носился с ним «Квик», да, «Квик» сделал из этого сенсацию. И именно пресса — а она-то и была повинна в ее смерти — назвала его убийцей. Но разве, скажите на милость, он совершил нечто предосудительное? Простой фотограф, он, как и все мы, грешные, боролся за кусок хлеба.
Преодолев множество препятствий, он проник в ее апартаменты в отеле. Там он со своей аппаратурой спрятался под кровать и, скрючившись, дожидался ее возвращения. Но это еще не все: он ждал, пока она не переоденется на ночь и не заснет, — всецело полагаясь на свой слух. Только потом я покинул свое тайное убежище. (Обычно она спала как убитая.) Я нацелил на нее «аррифлекс» и сделал один, всего один-единственный снимок со вспышкой. Моя милая стала звонить горничной и кричать, но я уже спустился на лифте, намереваясь засесть у себя в темной комнате и проявлять. Судя по тому, что я знал — а я знал ее хорошо, даже чересчур хорошо, — она уже была приговорена! Ведь снимок при вспышке принес мне не только сумму, выражающуюся в многозначной цифре (сейчас я могу благодаря ей поставить мостовидные протезы), эта вспышка стоила ей жизни. С тех пор у нее началась бессонница. (Я навсегда лишил ее сна этой вспышкой.) Как жениху, мне разрешили полистать ее историю болезни: за семь месяцев, две недели и четыре дня, прошедших с того времени, когда я запечатлел лицо моей спящей невесты Арантил в отеле «Хилтон» в Западном Берлине, она угасла, истаяла в Цюрихе — сорок один килограмм живого веса.
При том ее лик во сне был прекрасен, хотя и по-другому прекрасен, нежели наяву. Теперь он принадлежал всем, был общедоступен, открыт, и это детски-упрямое выражение лица, не напряженное, а мягкое, тоже вышло на снимке; таким было лицо моей невесты Зиглинды Крингс, когда я заставал ее спящей в «Сером парке» — повсюду были разбросаны эти идиотские военные труды, — наяву же ее лицо казалось по-козьи застывшим. Но я ни разу не фотографировал ее спящей, не осталось у меня и карточек бодрствующей, всегда целеустремленной Линды. К чему фотографии? Все миновало. Жизнь идет своим чередом. Моя коллега Зайферт по-прежнему преподает. С трудом удалось отговорить Ирмгард от задуманной ею публичной исповеди. «Незачем обременять своими откровениями мальчишек и девчонок. Каждый должен сам набираться опыта…» Под конец она сдалась: «В данное время у меня вообще не хватит решимости предстать перед классом такой незащищенной…»
Мой отдых кончился, лишь только я попытался выпить кружку пива за стойкой в баре Раймана. Помощница зубного врача, которая предупреждала меня, чтобы я не ел чересчур горячего и не пил чересчур холодного, оказалась права: инородные тела из металла — четыре колпачка на моих обточенных для коронок огрызках зубов — были теплопроводны; я расплатился, не допив полкружки.
Дантист, который стал моим другом, объяснил, почему зубы у меня болят.
— Разве вы не знали? В каждом зубе находятся нерв и сосуды — артериальный и венозный. — Его голос был точь-в-точь такой, какой положено иметь владельцу кабинета — пять метров на семь при высоте в три тридцать.
— И вот что еще вы должны запомнить: под эмалью, не обладающей чувствительностью, дентин пронизан множеством канальцев с нервными волокнами, которые при работе бормашины или при обточке затрагиваются по касательной.
(После довольно томительного уик-энда образ зубного врача совершенно поблек, и, когда утром в понедельник я попытался объяснить 12 «А», что нет ничего более безликого, нежели приветливый дантист, который спрашивает о твоем самочувствии, стоит тебе переступить порог его кабинета, класс ответил мне дружным смехом: ребята отнеслись к моему заявлению иронически.)
Едва успев поздороваться и не отходя от навесного столика с инструментами, он без всякого перехода начал:
— Ваши обнаженные шейки зубов болят, потому что туда доходят зияющие канальцы.
Его метод наглядно разъяснять решительно все (даже происхождение боли) следует применить и мне на уроках.
— Глядите-ка, нерв опоясывает зубную коронку, а потом входит в пульпу.
Однако, когда я мельком упомянул о предгорьях Эйфеля и о деревушке Круфт среди пемзовых карьеров, он перестал говорить о зубных нервах; таким образом, Крингсу наконец-то удалось вернуться домой.
— Одним словом, доктор, он оккупировал виллу за «Серым парком» и собрал всю семью — тетю Матильду, Зиглинду и меня — у себя в кабинете, который до сих пор был заперт на ключ и неизменно фигурировал под названием «спартанская обитель отца»: походная кровать, полки с книгами, рулоны топографических карт. На столешнице, поставленной на козлы, лежала штабная карта излучины Вислы — войска перед прорывом у Барановичей. Напротив окон была во всю стену распластана карта, а на ней флажками отмечена линия фронта в районе «Курляндского котла», когда командование принял Крингс.
Мой зубной врач сразу понял, что к чему.
— Да, октябрь сорок четвертого. Юго-восточнее Преекульна. Там стояла моя часть…
— Ни пылинки. Тетя Матильда перед возвращением брата натерла полы и проветрила помещение. За спиной Кригса Курляндия, на козлах, отделяющих его от нас, — центральный участок фронта; он дает нам понять, что ему не до родственных чувств, где уж тут. Его сестра, впрочем, выразила удовлетворение видом генерала, он отнюдь не кажется дряхлым, наоборот, держится молодцом. «Я рада, Фердинанд, что эти долгие тяжкие годы тебя не изменили», но Крингс ее оборвал: «Меня не было. Теперь я опять здесь». Линда ничего не сказала, сидела молча. Я осмелился спросить, не угнетает ли человека, особенно военнопленного, безлюдье русских просторов. Сначала я подумал, что вообще не получу ответа. Крингс, раздвинув циркуль, мерил излучину Вислы, затем, показывая на Барановичи, изрек: «…Этого ни в коем случае не должно было случиться!» И потом поднял глаза: «Сенека сказал: все блага жизни принадлежат другим, лишь время — наша собственность. Я приказал себе мысленно оживить и впрямь однообразные равнинные просторы юго-восточнее Москвы — наступательными действиями». С тем же успехом он мог сказать: «Безлюдие нам нипочем», ведь сказал же он «Арктика нам нипочем».
Зубной врач, стоя рядом с навесным столиком для инструментов, перебирал четыре наполненных шприца.
Его реплика: «Как вы знаете, при Клавдии Сенеку сослали на Корсику, только мать Нерона Агриппина вернула его из изгнания, продолжавшегося восемь лет», напомнила мне, что учение стоиков, можно сказать, созрело в тюрьмах и приобрело последователей благодаря им же. (Кстати, моего дантиста тоже освободили из плена только в середине сорок девятого.) Я ждал в роскошном риттеровском зубоврачебном кресле короткого неприятного укольчика и боялся, что местная анестезия увлечет дантиста на стезю Крингса, он займется вариациями на тему: «Боль нам нипочем…», но врач не стал упорствовать и похвалил меня в присутствии помощницы:
— Вы относитесь к тем немногим пациентам, которые упорно интересуются причиной и направлением болей! Зубной нерв соединен с нервусом мандибулярисом в подбородочной области, собственно, с третьим ответвлением лицевого нерва, который в конце концов ведет к коре головного мозга, откуда боль иногда отдает даже в затылок…
Пустой телеэкран слегка поблескивал. Кого мне вообразить на нем: брачного афериста? Или коллегу Зайферт, выуживающую из материнского фибрового сундука старые письма? А может, страдающую бессонницей певицу Арантил?.. Или же поездку вчетвером на том же «боргварде» в Нормандию?..
— Видите ли, доктор, если до прибытия генерала наши отпускные планы были неопределенны: я мечтал об Ирландии, Линда говорила: «Я вообще никуда не поеду», то как только Крингс занял свою «спартанскую обитель» и разостлал поверх карты центрального участка фронта новую карту, где были обозначены места высадки союзников, он сразу же дал нам точные указания: «Обождем, пока я получу паспорт, и немедленно в дорогу, хочу взглянуть на плацдарм между Арроманшем и Кабуром, он оказался не по зубам этому Шпейделю, который уже опять пошел в гору». Как только Крингс получил новенький паспорт, мы отправились в путь. Французы не чинили нам препятствий, ведь во время кампании во Франции Крингс особой роли не играл.
— Во всяком случае, мы переехали границу без приключений, Линда крутила баранку. И спустя полтора дня достигли цели. При том темпе, который задал Крингс, у меня не оставалось времени удовлетворить свой интерес к памятникам старины. И все же, так как я сидел рядом с Линдой, я время от времени рассказывал своим спутникам кое о каких соборах и о множестве французских замков, а позже — об особенностях норманнской архитектуры, мои истории не вызывали возражений со стороны Крингса (равно как и тети Матильды). Но Линда вдруг возмутилась. Она знала о моей неодолимой потребности толкать речи и все объяснять: «Прекрати наконец свои дурацкие лекции по эстетическому воспитанию».
(Отчасти она была права. Собственно, только на побережье я должен был воспрянуть духом и показать крупным планом вещественные доказательства достижений немецкой цементной промышленности, показать их в полном блеске. Это заинтересовало бы и мой 12 «А». «Поверьте, Шербаум, как они стояли, так и стоят: огромные бункеры, покосившиеся от артобстрелов, которые вели с кораблей, многие пробиты насквозь. Бетонные сооружения стали частью пейзажа. Каждый кинооператор мог бы только мечтать о такой натуре — невозмутимые серые плоскости, говорящие сами за себя. Резкие тени. Насыщенный цвет впадин. Ничуть не выцветшие бетонные плиты. То, что мы называем сегодня артбетон. Возможно, вы не согласитесь с моими впечатлениями, сочтя их за эстетское кривлянье, и все же я склонен говорить о стоической невозмутимости бункерных контуров. Разве бетонный бункер нельзя назвать исконным прибежищем стоика?»)
Я всерьез предложил Крингсу, внимательно выслушавшему мое сообщение о развитии немецкой цементной промышленности на основе вулканических туфов в годы последней войны, назвать наш новый сорт цемента, предназначенный для высотных железобетонных зданий, туфтой имени римского философа Сенеки. Однако он не согласился. (Возможно, уловил в моих словах насмешку.) Ибо, когда я — мы стояли в ту секунду на правом берегу в устье Орна — начал восхвалять строительство огромных бункеров, объясняя, что подобная архитектура и есть единственная художественная ценность, созданная XX веком, когда я пропел гимн во славу неподкупно-сурового бетона и лишенных украшательств оборонительных сооружений, он одернул меня, крикнув: «Ближе к делу!»
Позже зубной врач заметил:
— Вы вспоминаете о Крингсе с иронией, изо всех сил стараясь скрыть восхищение.
Пока мы с Крингсом осматривали крутой берег у Арроманша, дантист говорил по телефону с коллегой насчет цикла лекций о кариесе, который он начал читать в народном университете в Темпельхофе. «Посещаемость, увы, оставляет желать лучшего, к сожалению, оставляет желать лучшего…»
Я распрощался с нормандским пейзажем и с бункерами и опять встретился с Хильдой и Ингой у бука, клонящегося под тяжестью цементной пыли. Девушки, щебеча, рассказывали о каникулах в Италии.
«Ну а как наш милашка Харди?»
«Что происходило на суровом Севере?»
Я описал пребывание в Кабуре и поездки оттуда к бетонным свидетелям былых военных действий.
«До чего увлекательно».
«Неужели там еще остались самые настоящие бункера, куда можно зайти, если хочешь?»
Я ответил, что посетителям отнюдь не возбраняется осматривать изнутри бункера, основательно загаженные любовными парочками, более того, при желании можно влезть на накат и держать оттуда речь.
«Тогда изобрази папашу Крингса на накате бункера…»
Я взял садовый стул — допустим, это бункер, — взобрался на сие шаткое сооружение и довольно верно передразнил Крингса: «Я сбросил бы их всех в море! Зачем говорить о превосходстве в воздухе? Разве в Курляндии у нас было превосходство в воздухе? Я ввел бы в бой и штабы, и финчасть, словом, все тыловые службы! Ах, уж этот Шпейдель с его интеллигентиками из генштаба! Что угодно, лишь бы быть подальше от фронта. Разжаловать в солдаты и отправить на передовую. Тогда враг не продвинулся бы ни на метр, не продвинулся бы ни в Арктике, ни в низовьях Днестра, ни после третьего сражения за Курляндию, ни на Одере…»
Только тут появляется Линда. За всю поездку моя невеста не проронила ни слова. Однако сейчас Линда заговорила (Крингс: «В чем дело, Зиглинда? Ты иначе оцениваешь обстановку?»), нет, не просто заговорила, а вступила в игру: «Если мне не изменяет память, тебе пришлось убраться с предмостного укрепления в Никополе. Твоя карьера в Курляндском котле началась с отвода армейской группы «Нарва». Нет никаких оснований считать, что ты смог бы предотвратить высадку во Франции, ведь оборону на центральном участке Восточного фронта ты не сумел удержать. Вспомни прорыв маршала Конева между Мускау и Губеном. Без него наступление через Шпремберг и Котбус на Берлин было бы невозможным. Сплошные проигранные сражения. Пора сдаваться, отец».
Ни я, ни девушки в «Сером парке» не предполагали, что Линда (Зиглинда) может быть такой. Я слез со стула и прекратил спектакль. Хильда и Инга сперва разинули рот, потом захихикали — их познабливало. Собрали разбросанные журналы мод. Но Линда не дала нам смущенно удалиться.
«Что вас, собственно, удивляет? Отец хочет выигрывать сражения, которые проиграли другие. А поскольку наш друг Эберхард — большой ценитель прекрасного — восхищается им как неким ископаемым, придется мне наносить отцу поражения, и притом на всех фронтах, о которых он только упомянет».
Я остановил киноленту. (Линда молчала, стоя в неестественной позе. Она уже все решила. Подружки были явно растерянны. Цементная пыль оседала повсюду — это, я полагаю, само собой разумеется.)
— Вы, конечно, понимаете, доктор, что позиция Линды способствовала возникновению болевых точек.
— Нельзя так легкомысленно бросаться словом «боль».
— Перемена, происшедшая с моей невестой, ее внезапное охлаждение — ведь с тех пор я стал ей в тягость — все это превратилось для меня в постоянный источник боли.
— Давайте вернемся к другому примеру, к зубным нервам…
— Кто здесь рассказчик, доктор…
— Как правило, конечно, пациент, но, если у меня есть другая версия…
Кризис в вашей помолвке подобен нерву в больном зубе: когда в пульпу вносится инфекция, образуются газы, вывести их наружу можно, только просверлив отверстие. Но если человек будет без конца откладывать визит к зубному врачу, газы проложат себе дорогу к корню зуба. Вместе с жидким гноем они будут давить на челюстную кость, поражая ее. Это приведет к так называемому флюсу, который превратится в абсцесс или — давайте вернемся к вашей помолвке — в некую вспышку тотальной ненависти. Часто через много лет ненависть выливается в действия (в желание расквитаться, а это значит, что ненависть растет). Ведь вам, не правда ли, доставляет удовольствие представлять себе, что все в вашей власти — вы можете удушить бывшую невесту велосипедной цепью или ослепить магниевой вспышкой. Причина: давно пережитое чувство неполноценности. То, что дети называют «бо-бо», ничего необычного. Поэтому и я прошу не злоупотреблять словом «боль». По-настоящему болезненное вмешательство вам вообще не выдержать. Вспомните жанровые сценки на полотнах «малых голландцев», например у Адриана Брауэра[26]. На его картинах зуболом — так в средние века называли дантистов — влезал щипцами, какие мы в наши дни вообще не держим в своих ящиках с инструментами, прямо в рот крестьянину, чтобы сломать ему коренной зуб. Тогда зубы не удаляли, их ломали. Корень медленно догнивал, за исключением тех случаев, когда это приводило к заражению крови со смертельным исходом. Можно предположить, что лет триста назад смерть от гнилых корней была весьма частым явлением. Да, еще сто лет назад извлечение коренного зуба считалось серьезной операцией. У нас, в берлинской клинике Шарите, четверо здоровенных мужчин держали пациента, и только тогда пятый без местной анестезии — в крайнем случае мазали нёбо кокаином — мог удалить коренной зуб. Я вспоминаю рассказы моего отца — врача: один человек держал левую руку пациента, второй упирался ему коленом в живот, третий водил правую руку несчастного над пламенем свечи — эта боль хоть немного отвлекала от основной, — четвертый готовил инструменты, как-нибудь я вам эти инструменты покажу на картинке. В наш просвещенный век мы не нуждаемся в таких силовых приемах благодаря широко развитой технике анестезии. Итак, сейчас я сделаю первую инъекцию. Основа основ всякой местной анестезии — жидкость под названием новокаин, одно из производных аминобензойной кислоты. Однако, чтобы этот противный укольчик оказался не слишком чувствителен, могу призвать на помощь телеви…
(По первой программе шла передача, в которой знаменитая собака обнюхивала бараки.)
— Неважно, кого она ищет. Неважно, что там в этих бараках. Главное — первый барак будто по заказу пуст. Именно в таком бараке, из которого все вынесено, Крингс приказал поставить ящик с песком, достаточно длинный, чтобы расположить северный участок фронта, и достаточно широкий, чтобы поместить центральный. Установить ящик и соответственно оборудовать его с помощью электрика было довольно сложно — все сооружение напоминало детскую железную дорогу с целым лабиринтом путей, одну из тех игрушек, для которой надо иметь бешеные деньги и адское терпение, там были предусмотрены электромеханическая централизация стрелок и сигналов, четырехполюсный главный распределительный щит, множество переключателей и контрольных щитов, ибо все происходящее на фронтах: атаки и контратаки, отводы войск и выравнивание линий фронта, прорывы и отход на промежуточные позиции и временные рубежи обозначались сигнальными лампочками различных цветов; обе воюющие стороны имели специальные пульты управления для того, чтобы командующие могли включать и выключать сигнальную систему. Словом, денег не жалели. А теперь угадайте-ка, доктор, как звали электрика, который только что прогнал эту телевизионную псину из барака и построил Крингсу его игрушку… Вот именно, Шлоттау. Крингс вызвал к себе заводского электромонтера и сказал: «Справитесь?» И Шлоттау, у которого был свой счет к Крингсу, встал навытяжку: «Так точно, господин генерал-фельдмаршал!»
Мой зубной врач сказал:
— А теперь сделаем в нижней челюсти проводниковую анестезию, это значит, что нерв будет на время блокирован у входа в канал…
(Еще сегодня я горжусь — укол не помешал мне увидеть то, что я хотел, короткий противный укольчик: рядом с Крингсом стояла Линда, а я в это время стоял рядом с Линдой, которая встала напротив Шлоттау. Именно она порекомендовала Шлоттау отцу: «Обратись к заводскому электрику. Энергичный парень…»)
— А теперь, чтобы дополнительно анестезировать десну, применим опять же местное обезболивание…
(Для тренировки они выбрали «линию Метаксаса»[27] — Крингс и его 6-я горнострелковая дивизия совершили прорыв этой линии 6 апреля 1941 года; два атакующих клина — своего рода ударные войска.)
— А теперь повторим эту процедуру внизу слева…
(Шлоттау построил Крингсу первую и вторую линию обороны — в общем, старику было что прорывать. Ах, как он разбомбил позиции греческих бригад, вооруженных только легкой, артиллерией, с помощью авиационного корпуса пикирующих бомбардировщиков, корпуса под командованием самого Рихтхофена[28], а потом, когда зажглась зеленая лампочка, ввел в бой 141-й горнострелковый полк. Любо-дорого смотреть!)
«Здорово получилось, Шлоттау. А теперь займемся Демянском…»
Не успел Шлоттау сказать: «Но тут нам понадобится новый пульт для…», как мой зубной врач попросил меня пройти в приемную и посидеть там, пока не подействует обезболивание…
— Минутку, доктор, минутку. Исходный плацдарм для наступления в Демянске мог быть достигнут лишь при успехах операций «Наводка моста» и «Забортный трап»…
— Будьте добры пройти все же в приемную…
— Линда в первый раз села за второй пульт управления, который смастерил Шлоттау. Она перерезала сильно выдвинутые вперед подразделения отца и пробила в его фронте брешь протяженностью в шесть километров…
— Ну а теперь прошу вас серьезно, дорогой друг…
— Иду, иду, сию минуту…
— В комнате вы найдете журналы для чтения…
(А я хотел всего-навсего добавить, что Крингсу наконец пришлось почувствовать волю дочери. С большим трудом, прочесав тылы и бросив на передний край даже полевые кухни, он сумел ликвидировать прорыв. И все же генерал не желал уйти из Демянска. Но кого вообще в наше время может заинтересовать Демянск? Разве что мой 12 «А».) Когда я уходил от зубного врача, телевизионная собака Ласси уже снова обнюхивала барак — она явно кого-то искала… Но кого?
«Квик», «Штерн», «Бунте», «Нойе». (Торопливо, иногда пропуская страницы — ведь я ждал чего-то, — я перелистывал эти иллюстрированные журналы, взятые зубным врачом на дом из библиотеки. То шелест, то шорох страниц и бесконечный плеск на одной и той же ноте, не захочешь — побежишь в уборную. Этот звук шел от подсвеченного фонтанчика, который должен был успокаивать нервы пациентам. Я не хотел, чтобы в этой комнате у меня появилась боязнь замкнутого пространства, и старался заглушить шелестом бумаги плеск фонтанчика. Да, слух мне еще не изменил. Только нёбо, язык и даже глотка, в общем, вся пасть, были как бы покрыты пленкой — бараньим салом.) Чтение сквозь жир.
Заголовки: «Противозачаточная пилюля — за и против», «Рак излечим», «Еще одна версия убийства Кеннеди». Сидя в приемной зубного врача, можно ждать в страхе вместе со всем миром — не потеряет ли Софи Лорен второго ребенка. Это беспокоит нас так же, как и запутаннейшая история с судебной ошибкой — это был он… да, кто же это был? — которую удалось раскрыть лишь спустя двенадцать лет. Фотография — ужасное последствие ошибки — вопиет к небу, но я быстро перелистываю страницу. Нефтяную кому — к черту. И Южный Судан тоже. Но вот этот разворот не зачеркнешь. Вызывает целую цепь ассоциаций. Ширах[29] сказал, что он был ослеплен, раскаивается и предостерегает, врет довольно искренне. Исправляет историю, как надо. В Веймаре — в первый раз. Обед из пяти блюд в «Кайзерхофе»[30]. Крахмальные манишки — освещенная рампа в Байрёйте. Сентиментальные семейные сценки. Он в коротких штанишках. «Вот как выглядел, Шербаум, мой имперский фюрер, вождь всей немецкой молодежи…» Налитые икры в белых гольфах. Только в Шпандау[31] он стал стоиком. (Ведь еще Сенека советовал своему ученику Луцилию[32] уйти с государственной службы: «Никто не может вплыть в свободу с поклажей на спине…») И он только и делал, что сбрасывал с себя груз прошлого; аналогично мог бы поступить и Крингс: начать все сначала, взяв за исходную точку трудное детство. Небезызвестный генерал-фельдмаршал, еще будучи гимназистом — «В вашем возрасте, Шербаум!» — должен был защищать почти разоренное отцовское дело — мастерскую каменотеса — от напора кредиторов. Оборона стала его жизненной позицией. Так он и превратился в «генерала ни-шагу-назад». От базальтовых карьеров до Майенского поля, от фронта на Севере до укреплений на Одере. Он всегда в обороне. Не считая единственного прорыва на «линии Метаксаса», он ни разу не наступал. Бедняга Крингс… Если бы я захотел написать его историю, этакий сериал для «Квика» или «Штерна», то обязательно развил бы в ней мысль о «комплексе Крингса». Я мог бы сравнить этот комплекс с другими (например, с наполеоновским комплексом Иосифа Прекрасного) и задать такой вопрос: чего избежал бы мир, если бы экзаменаторы в императорско-королевской Академии художеств в Вене не провалили бы абитуриента Гитлера, а наоборот, зачислили бы его… ведь, в сущности, он хотел стать живописцем. Да, наши соотечественники никак не могут смириться, признать неудачу. Неудачниками у нас хоть пруд пруди, и все они жаждут мести. Выдумывают себе врагов и разные истории, в которых эти выдуманные враги уничтожаются ими. Пулемет — естественный аргумент этих узколобых. В разных вариантах они убивают одного и того же противника. На своих зеркальцах для бритья малюют слово «переворот». В книгах видят только себя. Не успев расхлебать одну кашу, заваривают новую. И не забывают обиду, даже самую мелкую, потерявшую за давностью лет силу. Они тщательно взращивают свое мрачное хотенье. А желают они только одного: уничтожать, упразднять, затыкать рот. Когда же им снимают зубную боль, они торопливо и жадно набрасываются на иллюстрированные журналы…
Вот он!.. Вот он здесь и намерен поставить точки над «i» с помощью армейского револьвера, того самого, из которого в годы второй мировой войны солдаты вермахта стреляли в ближнем бою и которым размахивали. Знаменитым «ноль восемь», еще находящим применение в странах Ближнего Востока и в Латинской Америке, старым добрым шестизарядным армейским револьвером, который я приобрел за довольно крупную сумму в бытность мою водителем такси, после того как в Гамбурге только за один месяц укокошили трех водителей — на газовые пистолеты я никогда не полагался и не полагаюсь, и на перегородки между шофером и пассажирами тоже, — словом, с этим вполне действенным, хоть и запрещенным таксистам оружием в руках я покинул нашу спальню в семнадцать с чем-то часов в одной пижаме (предварительно сунув руку под подушку и сразу нащупав револьвер), а потом, стоя босиком в одной пижаме, я сперва застрелил своего трехлетнего сына Клауса, чей писк и визг много раз будил меня, пока не разбудил окончательно, а ведь я лег только в шестнадцать часов, отработав целую смену — двенадцать часов подряд. Пуля вошла около правого уха ребенка, падая, он перевернулся, и я увидел под левым ухом выходное отверстие, рану величиной с мяч от настольного тенниса, из него хлестала кровь. Только теперь тремя выстрелами, один за другим, я убил мою двадцатитрехлетнюю невесту Зиглинду, которую я и все наши друзья зовут Линда. Когда я стрелял в ребенка, невеста вскочила, и мои пули попали ей в живот, да, в живот и в грудь, после чего она повалилась в кресло, где сидела до этого и читала иллюстрированные журналы «Квик», «Штерн», «Бунте», «Нойе», взятые домой из библиотеки; да, она читала вместо того, чтобы негромким голосом утихомиривать Клауса, и в результате пришлось сунуть руку под подушку, выйти из спальни босиком и застрелить нашего ребенка, а потом и ее, мою невесту. Закричала не только моя будущая теща, закричал и я: «Дайте спать! Поняли? Дайте спать!» Вслед за тем двумя последними пулями (на меня пуль не осталось) я смертельно ранил ее мамочку, прострелив ей левую руку у предплечья и шею; правда, сонную артерию мамочки, пятидесятисемилетней вдовы, сидевшей за швейной машиной, я не затронул; после выстрелов мамочкина голова с накрученными бигуди ударилась о крышку швейной машины и только потом очутилась возле нее на коврике. Сама вдова боком сползла со стула, потянув за собой шитье, и начала издавать (после выстрела в Клауса и трех выстрелов в Линду она неоднократно вскрикивала «Харди!») булькающие и свистящие звуки, которые я опять же пытался заглушить криком: «Дайте спать! Понятно? Дайте спать!» Случилось все это на третьем этаже новостройки, в Берлин-Шпандау. Квартплата за двухкомнатную квартиру с большой кухней составляла 163,50 западных марок без отопления. Три с половиной года назад мы отпраздновали помолвку с Линдой. По существу, квартира принадлежала ее мамочке и Линде с ребенком. (Меня они третировали как жильца и, соответственно, обирали.) Сначала я работал у «Сименса», а потом поменял профессию; надеялся, что, став водителем такси, буду больше зарабатывать и смогу жениться, потому что я привязан к ребенку. Комнаты у нас довольно светлые. И иногда летом мы сидим по вечерам на балконе и глядим, как за крышами нашего нового района, в Берлине, в ГДР, поднимаются в небо разноцветные ракеты — тот Берлин от нас совсем близко. У меня совершенно незапятнанная репутация. С Линдой я познакомился у «Сименса». Какое-то время она работала там мотальщицей, но ей пришлось уйти, так как она училась на парикмахершу и от химической завивки у нее всегда были влажные руки. Скандалов у нас с ней почти не бывало. А если и случались, то только из-за квартиры; из-за страшной слышимости. (Но я всегда брал себя в руки. Только в семнадцать лет я был агрессивный малый. Но в ту пору шла война и молодежь повсюду одичала.) Когда я еще работал у «Сименса», даже Линда мне говорила: «Уж слишком ты покладистый, мужчина должен уметь постоять за себя». Она была права; по существу, я человек скромный и бережливый. Например, я читаю только те газеты, которые пассажиры забывают в машине. (После работы, по вечерам, я никогда не позволяю себе пропустить две-три кружки пива — не то что другие шоферы.) Охотней всего я разъезжаю в районе Шпандау и в его окрестностях, но с тех пор, как провели автостраду через город, езжу и по центру. И при том без аварий. По существу, я хотел бы продолжать учебу, но это никак не получалось. Жилищные условия, и ребенок вечно пищит. Вот уже два года, как я не отдыхал по-настоящему. Только раз, вскоре после помолвки, мы съездили в Западную Германию в Андернах, это место нравилось мамочке. Она находила, что там красиво. Мы стояли на променаде у Рейна и наблюдали за пароходами. Это было незадолго до рождения мальчика. У меня заболели зубы, ведь на берегу всегда ветрено. Но Линда обязательно хотела иметь ребенка. После войны я, собственно, решил пойти в таможенники. Но меня провалили на экзамене. Потом все шло просто. С ключом от машины, но по-прежнему в одной пижаме (в коридоре я надел, правда, шлепанцы), держа в руке свой «ноль восемь» с пустой обоймой, я вышел из квартиры, из нашего дома-новостройки, не встретив никого из соседей. Машина стояла внизу, но это было без заранее обдуманного намерения, я собирался везти ее на профилактику. Я ездил почти до полуночи: сперва поехал в Ной-Штаакен, потом миновал Пихельсдорф, проехал по Хойерштрассе до Вестэнда и от Шарлоттенбурга вверх через Юнгфернхайде, Райникендорф и Виттенау до Хэрмсдорфа, а после отправился в обратный рейс. Во всяком случае, я сразу перешел на прием. С двадцати одного часа меня стали вызывать в парк. И мои коллеги тоже пытались уговаривать меня. Полицейские машины остановили мою машину, когда с площади Теодор-Хейсса я опять поехал по Хойерштрассе, чтобы свернуть на Хавельское шоссе и двинуть в гору к дому. Кажется, я сказал: «Это не я. Они не давали мне покоя. Моя невеста нарочно не утихомиривала мальчишку, когда он пищал. Решили меня доконать, давно этого хотели.
И почему мне не дали стать таможенником? Вот у меня и не выдержали нервы. Вдобавок болят зубы. Уже очень давно. Да, застрелил их из «ноль восемь». Бросил его в Штёссензее. Прямо с моста. Ищите там».
По существу, я этим летом собирался опять в Андернах. Нам тогда там понравилось. Фирме я задолжал за холостой пробег. Пусть вычтут, а меня оставят в покое. Хотя за эти деньги (только не спрашивайте, сколько стоит револьвер) я мог бы ходить к зубному врачу. У моего стоит телевизор для отвлечения. Эту историю им следовало бы использовать для «Панорамы»: «Удешевленное социальное строительство и его последствия». Я изображу, как сунул руку под подушку. А не то для «Квика» или «Штерна». Это им сгодится. И люди увидят меня повсюду, даже в приемной у зубного врача, рядом с фонтанчиком, который специально журчит, чтобы успокаивать пациентов; в приемной поневоле листаешь и перелистываешь всякую макулатуру до тех пор, пока не подействует инъекция, и у тебя не распухнет язык и помощница не встанет на пороге и не скажет:
— Теперь пора, давайте приступим.
Зубной врач меня похвалил:
— Ваше наблюдение правильно — от проводниковой анестезии язык тоже немеет, если инъекция распространяется и на подъязычный нерв.
(Боль отпустила, все кончилось, даже не вспомнишь. Один раз как будто дернуло — но это мог быть просто рефлекс, — потом успокоилось.) На Гогенцоллерндамме мела метель — слева направо. (Я это видел не по телевизору — кабинет дантиста выходит окнами на улицу.) Немо поблескивал телеэкран. А мой пересохший рот тоже онемел. («Случалось, что при анестезии особо недоверчивые пациенты для пробы кусали язык и калечили его».) Голос врача звучал как сквозь алюминиевую фольгу. («А теперь мы снимем с зубов колпачки…») Мой вопрос: «Что значит снимем?» — тоже звучал приглушенно, словно изо рта шли, булькая, пузыри с надписями. Только когда врач вплотную придвинулся ко мне и обдал своим дыханием, сказав: «Их снимают пинцетом, откройте, пожалуйста, пошире рот», — я сдался и громко произнес: «Да».
Пальцы-морковины опять тут как тут. Навесили слюноотсосы, прижали язык куда-то к нёбу. (Хотелось укусить. Вообще отреагировать. Или искать утешения у Сенеки.)
— Как вы считаете, доктор, не повлияла ли зубная боль на некоторые исторические события, ведь более или менее доказано, что сражение при Кёниггреце[33] Мольтке выиграл, несмотря на сильную простуду, да в связи с этим следовало бы, наверно, проверить, помешала или помогла Фридриху Великому подагра в конце Семилетней войны. Особенно если учесть, что для Валленштейна подагра играла роль допинга. Что касается Крингса, то этого видного мужчину, как известно, язва желудка побудила удерживаться изо всех сил, то есть быть в обороне. Не спорю, конечно, что подобная интерпретация противоречит общепринятому в нашей стране взгляду на историю; даже мои ученики, особенно малышка Леванд, называют ссылки на личные обстоятельства в жизни исторических деятелей антинаучными, обвиняют меня в персонификации истории: «Вы возвращаетесь к преувеличению роли личности». И все же я спрашиваю себя, не способствовала ли зубная боль в частности и всякая боль вообще…
— Может быть, нам все же обратиться к телевизору?
Не только на улице, но и на телеэкране мягкий снег мел слева направо. (Ах, ребятишки не желают идти спать. Все время что-то придумывают. Хотим Песочного человечка[34]! Хотим Песочного человечка!) Посреди забавного, сделанного из ваты пейзажа паслось не ведающее боли стадо. Шел ватный снег. Коровьи колокольчики не были слышны. Бесшумные движения одно за другим. (Песочный человечек в Западной Германии и Песочный человечек в Восточной Германии — и тут и там двадцать пять кадров, — но они не знаются друг с другом.) Песочный человечек — маленький скромный помощник на все случаи жизни. У Песочного человечка одно желание — приносить счастье. Он легко протирает ваткой лицо моей бедной невесты, в которую я пустил три пули, лицо это уже оставила боль. (Разбудить поцелуем! Разбудить поцелуем!)
И когда зубной врач сказал: «А теперь полощите, пожалуйста, полощите как следует!», я не хотел полоскать, хотел увидеть Песочного человечка, Песочного человечка…
Свое видение я вместе с плевком отправил в плевательницу.
«Нет, Линда. Этого ты не должна была делать…»
«Чего не должна?»
«Ну, с электриком, за то, что он выдавал тебе планы наступления, которые твой папа намерен был осуществить в…»
«Электрик снабжает меня информацией».
«И из-за этого ты ложишься с ним на мешки с цементом…»
«Если я его не допущу, он язык проглотит».
«По-моему, это называется быть продажной девкой…»
«Чепуха. Я думаю о чем-то постороннем: о Петсамо[35] или о прорыве под Тулой через Оку».
«Какая гадость!»
«Меня это мало трогает…»
(Тут зубной врач объявил, что с полосканьем пора кончать.)
— Еще немножко здесь. И здесь. Теперь примерим сделанные вчерне платиново-золотые коронки. Хотите подержать их?..
Для пробы я так и сделал — подержал и взвесил на руке. Линда (на мешках с цементом) не появлялась все то время, что я подкидывал платиновые коронки на правой (не онемевшей) ладони. («Видите ли, Шербаум, в вашем возрасте не понять, какой вес имеет зубной протез в чуткой руке сорокалетнего штудиенрата».)
— Очень даже впечатляет, доктор.
Врач заявил, что теперь он намерен с помощью особого розового гипса снять слепок с зубов (и с корней) моей нижней челюсти.
— Когда гипс затвердеет, слепок выламывают и соединяют уже вне полости рта.
Я прицепился к одному слову.
— Вы сказали «выламывают»?
— К сожалению, этой процедуры не удастся избежать…
— Что означает «выламывают»? Объясните.
— Иначе не назовешь, как ни крути.
— А я?
— Вы ничего не почувствуете. Будет немного жать, потом появится неприятное, хотя и обманчивое ощущение, будто вместе с гипсом выламывают и челюсть.
— Нет. Я больше не хочу.
(«Вы правы, Шербаум. Это не по мне. Пусть класс проголосует, жизнь или смерть…»)
— Моя помощница уже замешивает гипс…
— Я и так настрадался… — (Мой 12 «А» уже — все до единого — опустили большие пальцы, и Веро Леванд подсчитывает голоса.) — Если бы вы познакомились с моей невестой… — (Только Шербаум даровал мне жизнь.)
— Ладно, выкладывайте все как на духу…
— Она завела шашни с заводским электриком…
— Кажется, его звали Шлоттау?
— Точь-в-точь как в детективе. Плотские утехи в обмен на секретные военные сведения. Постойте, доктор, не замешивайте гипс. Она тащила его за собой. На склад пемзы. И там между катками. Она смотрела через его плечо и видела две трубы завода Крингса, а стало быть, и выброс цементной пыли. Кончено.
Реплики зубного врача касались исключительно его работы. Он просил открыть рот пошире, еще шире, дышать носом, а в это время накладывал маленькой специальной ложечкой особый гипс на зубы и корни нижней челюсти.
— Только не глотайте, пожалуйста. Гипс быстро твердеет.
Бедный Шлоттау. Какими способами его заставляли говорить. «Где под Тулой? Какие дивизии он бросит в бой? Кто будет осуществлять фланговое прикрытие?» Линда записывала.
(И мой зубной врач тоже углубился в свою картотеку.)
— Две-три минуты придется подождать. Гипс, твердея, быстро остывает, вы почти ничего не почувствуете. Расслабьтесь и по-прежнему дышите носом.
По телевизору показывали рекламу; Линда между глыбами туфа на катках говорила: «„ОСРАМ“ сияет как ясное солнышко». И под занавес выведывала последнее: «Откуда он получил зимнее обмундирование для 4-й армии? Где дислоцирована 239-я сибирская стрелковая дивизия?» И Шлоттау, не обращая внимания на другую Линду с ее: «Диппэли-ду, диппэли-ду — новый лак для волос», рассказывал о наметках Крингса — наступление из района Тулы с целью окружения. Не обращая внимания на охрянокрасную рекламу, он своими пальцами электрика показывал, как передовые части Крингса намерены атаковать Москву через Каширу. Линда в телевизоре смеялась, причмокивая, сосала через соломинку, громко ликовала: «Нет ничего вкуснее нашей „Фанты“, нашей „Фанты“, „Фанты“…» После она рекламировала известное моющее средство: «Замачивайте белье в „Ариэле“». А теперь заявила: «Я вообще остановлю его на линии Тула — Москва». И показывала на карте соответствующую железнодорожную линию, уговаривая: «Наденьте хоть раз ботинки „Медикус“ и убедитесь — только, Медикус“». А сейчас она фотографировала своей «лейкой» (можно подумать, она рекламировала «лейку») секретные планы Крингса. Шлоттау, ухмыляясь, опять предлагал свои услуги. «Я вроде бы не прочь повторить…» Но Линда уже получила нужную информацию. Она стерла Шлоттау с экрана и провозгласила: «Маргарин необходим, как хлеб насущный», а потом втолкнула в кадр морозилку и улеглась там сама между шпинатом, морожеными курами и пакетами с молоком.
Ах, как она законсервировалась. Верна себе, прекрасно сохранилась. И как бойко рекламировала свежезамороженные продукты, стало быть, самое себя. «…Правда, свежие овощи еще дороги, но как вспомнишь, что в мясе не будет ни отходов, ни костей и не придется нудно перемывать продукты — сколько трудов стоит приготовить хотя бы красную капусту, — то окажется, что даже готовые изделия, которые прямо из морозилки можно сунуть в духовку, относительно дешевы: словом, не упустите шанса, используйте морозилку и для себя лично: добро пожаловать туда часика на два-три, вы выйдете из нее омоложенным, словно испили живой воды».
С легкостью истой спортсменки она выпрыгнула из морозилки и начала вытаскивать оттуда замороженные продукты. «Сейчас, к примеру, я покажу вам своего бывшего жениха. Я держала его в самом низу, под фаршем, стручковой фасолью и окуневым филе. Вид у него несколько окоченевший, и он покажется довольно старым, но стоит ему оттаять, как вы сразу заметите, до чего же он хорошо сохранился для своих сорока лет. Скоро он уже начнет молоть языком — перечислять даты и мирные договоры, отличительные черты архитектурных стилей и разные принципы. Ибо свой дар экспромтом произносить речи об исторических вехах, об искусстве для искусства, о педагогике и об абсолюте, об Арчимбольди[36], о Марксе и Энгельсе и еще о туфовом цементе и вращающихся фильтрах-пылеуловителях он отнюдь не утерял, так же как и свое обаяние и несколько ханжеское правдолюбие. Вот разве что зубы у него слегка подкачали. Его так называемый обратный прикус, можно сказать, законсервировался. Придется ему пойти к зубному врачу и вытерпеть вмешательство. Его ученики — ведь он стал штудиенратом, типичным штудиенратом — того же мнения, что и я. Они опустили большие пальцы, проголосовав против него. Теперь ему надо помалкивать и дышать носом. Если бы он только не был таким трусом и нытиком…»
Зубной врач заслонил телевизионный экран своей мерно вздымавшейся грудной клеткой и сказал:
— А теперь пора, давайте…
После чего ухватился обеими руками за мою онемевшую челюсть. (Почему только он не пристегнул меня к креслу ремнями?) Его помощнице пришлось силой удерживать меня в этом зубоврачебном сооружении. Ну начинай же, начинай! (Сейчас и речи не могло быть ни об автоматике, ни о разбрызгивателе с теплой водичкой. Средние века вернулись, врач и пациент снова меряются силой.) Боли я не чувствовал и потому решил ее домыслить: впечатление было такое, что они принимали у меня неправильные роды, вот-вот изо рта появится гипсовый эмбрион; да, они хотят извлечь из меня тайный плод на седьмом месяце. (Ладно, доктор!) Я во всем признаюсь, все расскажу! Когда Линда путалась с этим Шлоттау, я хоть и без особого пыла, но проделывал то же самое с ее приятельницами, сначала с Ингой, нет, извиняюсь, сначала с Хильдой, а потом уже с Ингой; но это не помогало. Тогда я сказал Линде: «Окозаокозубзазуб», и она все сразу поняла: «Как я рада, что ты наконец утешился и не будешь больше лезть между мной и отцом. Тебя это не касается, это наше дело. Ведь ты понятия не имеешь, что он задумал там, на Тереке. Не знаешь, где находится Терек и где предмостное укрепление в Моздоке, которое он хочет оставить у себя в тылу, чтобы по старой Военно-грузинской дороге пойти на Тифлис и Баку. Ему мерещится нефть, кавказская нефть. Не лезь ты в это дело. А еще лучше — вообще убирайся. Я желаю тебе добра. Нужны тебе деньги?»
В эту секунду помощница приложила влажную ладонь к моему лбу: адские родовые муки кончились, на столике для инструментов появился слепок моей нижней челюсти с обточенными и необточенными зубами; вид у слепка был чрезвычайно ехидный, ибо в нем таилось множество противоречий.
— Скажите, доктор, каково ваше мнение о советской системе?
— Нам, западным немцам, не хватает глобальной поголовной профилактики на базе социального обеспечения. Будьте любезны, не забывайте полоскать.
— Но при какой системе должна существовать эта ваша поголовная профилактика?..
— Она заменит все нынешние системы…
— Разве ваша поголовная профилактика — она очень напоминает мой проект глобальной Педагогической провинции[37] — не является сама по себе системой?
— Поголовная профилактика на основе социального обеспечения не имеет касательства к идеологиям; она и есть базис и надстройка всего человеческого общества.
— Тем не менее моя Педагогическая провинция, в которой будут только учащиеся и не будет учащих…
— И она волей-неволей подчинится нашей новой терапии…
— Но ведь поголовная терапия предназначена только для больных людей…
— Будьте любезны, в промежутках полощите… Все люди болели, болеют, заболевают и умирают.
— К чему лечение, если нет системы, которая учит человека, побуждает его подняться над самим собой?
— К чему нам такие системы, которые не дают людям болеть в свое удовольствие? Ведь все системы считают высшим критерием и целью здоровье.
— Но раз мы хотим устранить человеческие недостатки…
— …тогда придется устранить и самого человека. Ну а теперь, будьте любезны, еще раз…
— Не хочу я больше полоскать.
— Подумайте о металлических колпачках.
— Но можно ли изменить мир без какой-либо системы?
— Отменим все системы — вот он и изменится сам.
— Кто их отменит?
— Больные. Чтобы наконец-то можно было провести глобальную профилактику на базе социального обеспечения. Она будет не править нами, а печься о нас, захочет не менять, а помогать и, как было сказано Сенекой, даст нам досуг предаться недугам…
— Вы хотите превратить мир в больницу…
— …в которой больше не будет здоровых и никто не заставит вас сохранять здоровье.
— А что будет с моими педагогическими принципами?
— Вы хотели покончить с различием между учащимися и учащими, а мы намерены раз и навсегда ликвидировать различие между врачом и пациентом… И притом действуя планомерно…
— Планомерно.
— Ну а теперь мы опять наденем металлические колпачки.
— Наденем металлические колпачки.
— Ваш язык привыкнет к инородным телам.
— Привыкнет.
(Мохнатая колода. Пусть его социальное обеспечение обеспечит меня яблоком.) Впрочем, даже нежное мясо вскормленного на одном шалфее барашка покажется моему омертвевшему нёбу резиной, я, который так любил предвкушать, вкушать, раскусывать и закусывать, не различаю даже вкуса гипса.
(«Ах, доктор, разгрызть бы с хрустом яблоко, вернув молодость, любопытство и нормальные десны…»)
Но ничего не произошло, зато я увидел на экране повара, который демонстрировал пылающие телячьи почки, политые ромом. А потом начал выдавать очень даже аппетитные рецепты, которые все время прерывал мой зубной врач, разъясняя защитную роль металлических колпачков:
— Надеюсь, у вас нет отвращения к потрохам… Не забывайте ни о холодном, ни о горячем. И никаких фруктов, ведь фруктовая кислота…
Мое нёбо по-прежнему ничего не ощущало, а в это время повар, ведущий передачу, разрезал телячью почку, он откусывал от нее маленькие кусочки и смаковал; хорошо, что врач закончил леченье, иначе я на всю жизнь возненавидел бы телячьи почки…
…С чувством благодарности к врачу и к повару я закончил наш разговор:
— Как бы то ни было, Крингс начал разыгрывать в ящике с песком одно сражение за другим. И естественно, противником стала его собственная дочь…
Потом я оставил в покое прошлое (временно) и вернулся к настоящему, к боли, — вполне законное право каждого.
— Здесь тянет, доктор. Во всяком случае, я что-то чувствую.
Мой зубной врач (он все еще мой друг) пожертвовал мне арантил.
— В порядке социального обеспечения, мой милый… Но прежде чем я отпущу вас совсем, давайте быстренько выберем по таблице цвет для ваших фарфоровых мостов. Мне кажется, этот белый цвет с легкой желтизной, переходящий в теплый серый, подойдет лучше всего… Как он вам?
Помощница (которая должна была досконально изучить мои зубы) одобрила выбор врача кивком головы, и я не стал спорить.
— Хорошо. Остановимся на этом цвете.
Зубной врач попрощался со мной, дав на дорогу совет (в порядке профилактики):
— На улице не открывайте рот.
Я смирился с суровой действительностью:
— Конечно, ведь все еще идет снег.
— Кружку светлого, кельнер, кружку светлого!..
И к тому же подбросьте какую-нибудь идейку, не растворяющуюся в воде, по возможности с синей мигалкой, как у полицейской машины, которая мчится вперед, невзирая ни на что, придумайте что-нибудь совсем новенькое, необходимо перебить эту вонючую зубную тягомотину, дабы все мы…
— Кельнер, где же мое пиво!
…Дабы все мы, и те, кто оглядывается назад, и те, кто нетвердо держится на ногах, чтобы все мы смогли вернуться домой, как по автостраде, по вздыбленному Красному морю, вернуться домой, сквозь вздыбленные слева и справа волны Красного моря…
— Кельнер, где же пиво…
«Разве, доктор, история учит нас чему-нибудь и когда-нибудь! Ну хорошо, я не послушался врача и не сделал выводов из своего опыта; на улице шел снег, я оставлял следы на снегу, к тому еще выпил по дороге кружку холодного пива, пришлось принять еще две таблетки арантила, запив их тепловатой водой… История нас не учит. Прогресса не существует, в лучшем случае следы на снегу…»
Зубной врач не оставлял меня и в моих четырех стенах. Он рассказывал одну историю за другой об успехах зубоврачебного дела, нанизывал их на цепочку, словно жемчужины. На мой насмешливый вопрос: «Что появилось в продаже раньше: зубная паста или зубные щетки?» — он разразился критикой по адресу «Хлородонта»:
«Правильно, он освежает. Но как быть с кариесом?»
И начал рассуждать о пройденном дантистами пути, от старой бормашины с медленным вращением сверла до самых современных:
«Скоро «Сименс» продемонстрирует на зубоврачебной выставке-продаже бормашину, делающую пятьсот тысяч оборотов, тогда мое кресло покажется жалким ископаемым».
А когда он перешел к лечению зубов ультразвуком и к перспективе окончательной победы над кариесом, я позволил себе вставить слово:
«У вас, может, и впрямь дело движется вперед, но что касается истории… как бы упорно ни развивались системы вооружений, история ничему нас не учит, полное отсутствие логики, как в лотерее. Все ускоряющийся бег на месте. Куда ни кинешь взгляд. Неоплаченные счета, припудренные поражения, наивные попытки выиграть проигранные войны задним числом. Если я, к примеру, вспоминаю бывшего генерал-фельдмаршала Крингса и то, как упрямо его дочь…»
Даже когда я сидел за письменным столом в окружении милых моему сердцу вещиц, своего рода амулетов, которые должны были защищать меня, зубной врач, лишь только я произносил имя «Линда», ложка за ложкой запихивал мне в пасть розовый гипс. (А сейчас он просит меня не глотать и по-прежнему дышать носом, пока гипс не застынет во рту…)
Неподалеку широко и спокойно раскинулся батюшка Рейн. Он несет на своей поверхности корабли, то туда, то обратно. И мы с ней ходим взад-вперед по променаду в непромокаемых плащах на теплой подкладке. (Опять мы выясняем отношения под платанами с подстриженными ветками на старом крепостном валу, где повсюду висят таблички с молитвами, обращенными к деве Марии.)
«Что ты сказал? Повтори еще раз. Я хотела бы еще раз услышать это четко и ясно».
Два профиля. Задницы уже приземлились на скамейку (чтобы выяснять отношения не на ходу). Головы неподвижны. Только волосы на ветру создают видимость движения. И прибавим к этому грузовые суда, которые на заднем плане проплывают слева направо и справа налево.
«Только не прикидывайся. Я знаю, что тебе хочется услышать. Ты лучше его. Доволен?»
Теперь они считают пароходы. Четыре идут из Голландии вверх по течению. Три прошли через Бинген и плывут вниз по течению. По крайней мере это точно.
И время года: март. Коричнево-серая капель — вот и все прелести природы. (Напротив по-прежнему Лойтесдорф.)
«Как вы считаете, доктор, стоит ли мне поехать на экскурсию с моим 12 «А» в Бонн — осмотр бундестага? Беседы с действующими политиками. А потом дальше, в Андернах…»
(Теперь и он и она молчат: вверх-вниз по течению.)
Движение на Рейне убеждало больше, нежели мои доводы: медленно проплывают уютные суденышки с колышущимся мокрым бельем на корме и медленно затвердевает гипс на обточенных корнях, в которых убиты нервы. Собственно, то, что я собирался сказать: Шлоттау хотел свести с Крингсом счеты — ведь в Курляндии Крингс разжаловал его из фельдфебелей в рядовые, — ушло из кадра, вместе с грузовыми судами уплыло прочь, исчезло из виду. Я всегда легко отвлекался. (На экране то и дело кадры, введенные наплывом: Ирмгард Зайферт кормит декоративных рыбок.) Задолго до того, как у меня появилась невеста… (Трудности с наглядными пособиями.) Прежде чем я поступил в фирму «Диккерхофф — Ленгерих»… (Моя ученица Вероника Леванд: «Это субъективизм!») Будучи студентом в Аахене, я зарабатывал на жизнь, разнося продуктовые карточки вверх-вниз по лестницам. Моей епархией была Венлоуэрштрассе…
Жил да был на свете студент, который за плату разносил продуктовые карточки. Он разносил их по девятиквартирному доходному дому, который торчал один посреди развалин. Левой рукой студент Высшего технического училища придерживал клеенчатый портфель с талонами на хлеб, мясо, жиры и другие продукты, со списком жильцов и с несколькими учебниками по статике, а большим пальцем правой руки нажимал на кнопку звонка.
«Войдите же на минутку».
В квартире этой вдовы студент, уже учась на первом курсе, отчасти утратил врожденную застенчивость, а также научился сосредоточиваться. С той поры в памяти у него застряла фотография беззаботно смеющегося обер-фельдфебеля — ведь время от времени он отводил взгляд, — фотография в рамке стояла на тумбочке у кровати среди безделушек.
Фамилия вдовы была Лёвит, нет, вовсе нет, так звали женщину в квартире напротив, которая сказала студенту, когда он большим пальцем правой руки нажимал на кнопку звонка: «Входите же, молодой человек, моя сестра пошла брать ордера в хозотделе, но я не прочь тоже». Скоро — и чем дальше, тем лучше — студент научился вытаскивать бигуди из ее волос, довольно-таки рыжих.
Нет, золотисто-рыжей была девочка в квартире слева на втором этаже, которой он помогал делать уроки, и она благополучно перешла в следующий класс. А вот девочка в квартире напротив осталась на второй год, потому что студенту не разрешали заниматься с ней. Он должен был заниматься с ее мамашей, пока не вмешался сын и не пригрозил: «Подожди, вот вернется отец из плена, он тебе покажет…»
Да, еще студентом я любил такого рода перепалки, тем более что у госпожи Подцум водился натуральный кофе, и не только кофе, а еще и свиное сало со шкварками и с яблоками, часть этой вкуснятины, пожалуй, с кило, а может и больше, студент уносил на третий этаж, да так ловко, что госпожа Подцум ничего не замечала; возможно, впрочем, что, будучи женщиной умной, она просто не желала замечать.
Там он отдавал свою добычу — нечто вроде приданого — студентке, снимавшей комнату у хозяйки, но она не шла впрок жиличке: от сала у нее высыпали прыщи. Она вообще была закомплексованной, смущалась по пустякам и вела дневник, который студент без зазрения совести прочел и сказал, что она его здорово насмешила, чем довел студентку до слез.
Совсем иначе вела себя Хайде Шмитхен, на этом же этаже, но справа. У нее была пишущая машинка, и она разрешала студенту печатать. Почти такая же молодая, как студент, она относилась к нему по-матерински, может быть, потому что у нее не было детей и потому что ее муж (я до сих пор вижу, как он уходит, стоит мне войти) ничем подобным не интересовался.
А вот на четвертом этаже — и об этом можно было догадаться уже на третьем — детей хватало, и там всегда пахло брюссельской капустой. В тех квартирах две женщины, по-разному побитые жизнью и в халатах с разными узорами, встречали меня словами: «Входите, не бойтесь, молодой человек». Здесь студент многому научился; говоритьда, говоритьнет, обнадеживать, неглядетькуданенадо, думатьочемтопостороннем. Он проводил время под стенными часами или около напольных часов, и те и другие пережили две войны. Где подавали такую вкусную жареную картошку? У кого был волнистый попугайчик? (Я утверждаю, что в квартире слева, там, где стояли напольные часы, ведь, когда я вспоминаю квартиру справа, на телеэкране не видно ничего, кроме сурового лица женщины лет сорока пяти в очках и настенных часов.) Да, студент потерял, по-видимому, куда больше времени у госпожи Зицмански; во-первых, потому, что сначала волнистый попугайчик еще был здоров (теперь я вижу, как он заболел и, грустно нахохлившись, сидит на жердочке), а потом, когда он выздоровел — его долго выхаживали, — перышки снова заблестели и он стал весело порхать по своей клетке, вот тут-то, во-вторых, госпожа Зицмански предложила мне поселиться у нее насовсем; однако студенту предстояло еще отнести продовольственные карточки в квартиру под крышей. Кому, собственно говоря? Чем там пахло? И какие были обои?
(«Согласитесь, доктор, что мне представлялись возможности, которые грех было не использовать».) Без звука на телеэкране приоткрывается дверь. Рука — на ней целых три тяжелых перстня — манит зайти сквозь образовавшуюся щель. Как он научился для вида медлить. От руки пахнет духами. Он стаскивает самое маленькое кольцо — его гонорар. Теперь рука может потрепать студента по затылку. И еще — поиграть его волнистыми, всегда немного взъерошенными волосами. А вот она расстегивает пуговицы. Вот наполняет рюмки. Вот рвет бумагу. Вот дает пощечину студенту — на руке все еще блестят два перстня. Потом остается уже только один перстень… Второй он стянул с пальца — его гонорар. Вот она опять наполняет рюмки. Вот они спят. Время идет. Вот она наливает воду для кофе. Вот плачет перед треснувшим зеркалом — лицо у нее раскололось надвое. Опять идет время. Вот она покрутила ручку радиоприемника. Вот она снимает последнее кольцо, вот расписывается (и я ставлю галочки: талоны на хлеб, на мясо и на жиры). Вот она открывает дверь и выталкивает студента; он повзрослел и знает, что к чему. Он все предвидел заранее, даже печаль, которая наступит потом. Он умеет сравнивать, и он уже не новичок. Студент освоил эту науку. Из-под чердака он сбегает по лестнице, минуя этаж за этажом, и выходит из дома. (Я еще раз вспоминаю все подряд, ведь я уже начал забывать кое-какие детали, к примеру какой где рисунок на занавесках и где выщерблена штукатурка.)
«Нет, уже не студент, доктор, а инженер-машиностроитель Эберхард Штаруш поражен, как много домов выросло на Венлоуэрштрассе, еще недавно наполовину разрушенной бомбежками. По обе стороны того доходного дома пустыри застроены (вы сказали бы: там поставлены мостовидные протезы). В витринах громоздятся товары — скоро начнется распродажа по сниженным ценам. Потребление растет. (И пока вы снова и снова будете выламывать у меня изо рта гипс, мой клеенчатый портфель с продовольственными талонами превратится в новый портфель свиной кожи и разбухнет от дипломной работы на тему: «Фильтры-пылеуловители на цементных заводах», работы, удостоенной хорошей оценки, ибо, пока я разносил по девятиквартирному доходному дому продуктовые карточки, а гипс затвердевал, я работал без устали, сдал все экзамены и стал мужчиной, хотя несколько позже моя невеста скажет: «Ты все еще ходишь в коротких штанишках».)
«Чем не тема для сочинения, как вы считаете?»
Пусть мой ученик Шербаум представит себе, что в сорок седьмом году он был студентом и разносил по доходному дому в Нойкёльне продуктовые карточки.
(В пятьдесят первом, когда я бросил это занятие, у Шербаума как раз начали резаться молочные зубы.) Пожалуй, я приму лучше две таблетки арантила — я поступил опрометчиво, выпив кружку холодного пива, — и позвоню Ирмгард Зайферт, но, прежде чем мы опять будем пережевывать ее историю со старыми письмами, сбегу-ка я в Крец, Плайдт и Круфт, пройдусь с Линдой вдоль речки Нетте, поднимусь с ней (еще влюбленный в нее) на Корельсберг, или попячусь назад еще дальше (всегда было что-то раньше) и сделаю доклад о туфе на конгрессе цементников в Дюссельдорфе, или снова пойду работать в фирму «Диккерхофф — Ленгерих», пропущу Аахен (доходный дом) и, пока арантил еще действует (и Ирмгард Зайферт не докучает по телефону своими жалобами), буду старательно пятиться назад: когда мне было восемнадцать, я сидел в вонявшем хлоркой американском лагере поблизости от Бад-Айблинга в Альгойе, где я, коротко остриженный военнопленный, который при пайке в девятьсот пятьдесят калорий в день и при наличии всех зубов… (Ах, доктор, какие у меня были зубы!), а главное, радуясь, что уже не заставят заниматься разминированием без огневого прикрытия, усердно посещал всевозможные учебные курсы!
Ведь мы, немцы, благодаря своей организованности можем употребить себе на пользу даже однообразную лагерную жизнь. (Мои коллеги говорят, что я, к примеру, мастер составлять расписания, в которых согласовано решительно все.)
В бараке, где шли занятия, мы набивались как сельди в бочке; стремясь заглушить вульгарный голод, военнопленные грызли гранит науки. «Иностранный язык для начинающих и для тех, кто его уже изучал». «Двойная бухгалтерия». «Соборы в Германии». «Свен Гедин — исследователь Тибета». «Поздний Рильке — ранний Шиллер». «Краткий курс анатомии». (Ваши лекции по кариесу в бад-айблингском лагере собрали бы куда большую аудиторию, чем в народном университете в Темпельхофе.) В это же время возникли кружки «Умелые руки»: как смастерить из пустых консервных банок если не гранатомет, то хотя бы пылесос? Первые легкие мобили, вырезанные из американской белой жести, вращались в теплом воздухе над нашими чугунными печурками. Интенданты читали курс «Введение в философию». (Вы правы, доктор, Сенека приносит утешение, особенно в лагерях.) А по средам и по субботам бывший шеф-повар отеля — сейчас его все знают, он ведет передачу по телевизору, дает кулинарные рецепты — читал лекции для начинающих. Брюзам уверял, что он учился у Захера в Вене. Он был родом из Трансильвании, и то и дело пересыпал свои рекомендации словами: «У меня на родине, в прекрасной Трансильвании, хорошая хозяйка, умелая стряпуха, берет…»
Нехватка учебного материала заставляла повара учить нас готовить свои блюда из взятых с потолка продуктов: он рисовал воображаемую говяжью грудинку, телячьи почки, жареную свинину. Словами и жестами он показывал, как можно поджарить сочный кострец барашка. А его фазан в виноградных листьях, а его карп в пивном соусе: отражение отражения. (Там я и научился фантазировать.)
Широко раскрыв глаза, одухотворенные недоеданием, мы застывали на табуретках в бараке, где шло обучение, и слушали Брюзама, а наши блокнотики в одну восьмую листа — дар американцев — постепенно заполнялись кулинарными рецептами, из-за которых десять лет спустя мы так разжирели.
«На моей родине, — вещал Брюзам, — в прекрасной Трансильвании, хорошая хозяйка-стряпуха, покупая гуся, умеет отличить откормочную птицу от обычной…»
Засим следовал весьма поучительный экскурс, посвященный польским и венгерским гусям, обладающим свободой передвижения и потому меньшим весом, но зато мясистых, и о жалкой доле насильно откармливаемых гусей в Померании. «В прекрасной Трансильвании, где я родился, хорошая хозяйка никогда не выберет откормочного гуся».
После этого Брюзам демонстрировал, как большим и безымянным пальцами распознать по гузке и грудке, что это за гусь. «Несмотря на то что гузка заплыла жиром, в ней должна прощупываться железа».
(Вы должны понять, доктор, что, когда ваша помощница всовывает мне в рот три пальца, вызывающие у меня спазм жевательных мышц, я невольно вспоминаю, как прощупывают гузку, или как раз наоборот, когда, согласно науке Брюзама, я нащупываю железу воображаемых гусей, пальцы вашей помощницы вызывают у меня спазм.)
«Придя домой, — продолжал Брюзам, — надо выпотрошить гуся, и тогда его можно фаршировать».
Огрызками карандашей — на трех человек один карандаш, все делилось поровну, — мы записывали: «Чем бы хорошая хозяйка ни начиняла гуся, она обязательно положит эстрагон, три приятно шелестящих, пахучих веточки эстрагона».
И обращаясь к нам, а мы были счастливы, если удавалось нарвать около бараков одуванчиков и сварить похлебку сверх того супчика, что выдавали в лагере, к нам, кто смиренно вылизывал свои миски, Брюзам перечислял различные начинки для гусей. Мы внимали и записывали: «Яблочная начинка. Начинка из каштанов…»
И один из нас, кому не хватало не менее семи кило до нормального веса, спросил: «А что такое каштаны?»
(Вот бы так выступать теперь Брюзаму по первой программе.)
«Глазированные каштаны, засахаренные каштаны, пюре из каштанов. Красная капуста не подается без каштанов. В прекрасной Трансильвании, на моей родине, продавцы каштанов жарили их на древесном угле… И зимой в морозный день на базарной площади, когда горячие каштаны…» И пошло-поехало, целая серия каштанных историй: «Когда мой дядя Игнаций Бальтазар Брюзам переехал в Германштадт[38] в Трансильванию, на мою родину, переехал, привезя с собой каштаны… в общем, в ноябре, в день святого Мартина, неоткормочный гусь просит, нет, требует каштанов — и его начиняют глазированными каштанами на меду и посыпанными корицей яблочными дольками, ну и, конечно, кладут шуршащие веточки эстрагона — ведь гусь без эстрагона и не гусь вовсе, — а начиненное изюмом сердце отечественного гуся, так же как и польского, набитое до отказа сердце, придает грудке гуся тот вкус, который не может придать ему даже драгоценная гусиная кожа, подрумяненная в духовке и снизу и сверху и хрустящая на зубах — сладковатый вкус каштанов…»
(Ах, доктор, как бы нам пригодился в те времена, когда у всех нас щеки ввалились от голода, ваш слюноотсос!)
Брюзам ни на секунду не оставлял нас в покое, пытка становилась все нестерпимей:
«А теперь перейдем к мясной начинке: хорошая хозяйка у меня на родине берет триста пятьдесят граммов свиного фарша, две мелко нарубленных луковицы и три яблока, а также гусиные потроха, включая вкуснейшую гусиную печенку, посыпает все это эстрагоном, добавляет три сдобные булочки, предварительно вымоченные в теплом молоке, натирает лимонную цедру, кладет средней величины зубчик чеснока, вбивает два яйца, добавляет три столовые ложки белой муки в тщательно перемешанную и слегка подсоленную массу, чтобы она стала как крутое тесто, после чего и фарширует гуся».
(Так началось перевоспитание одураченной молодежи.) Мы без устали учились. Из развалин и нищеты то и дело появлялись полуголодные педагоги и вещали: «Нам надо опять научиться жить, жить по-человечески. Например, гусей не фаршируют апельсинами. Остается на выбор либо классическая яблочная начинка и ее южный вариант — начинка из каштанов, либо так называемая мясная начинка. Однако в трудные времена, когда количество гусей явно превышает количество свиней или когда внешнему рынку закрыт доступ и он не поставляет на внутренний каштаны, сгодится и картофельная начинка» — так говорил Альберт Брюзам, бывший шеф-повар в отеле, а ныне повар, ведущий на телевидении специальную передачу. «…Тогда она заменяет и яблочную и каштановую начинки и начинку из свиного фарша, особенно если прибавить для вкуса натертый мускатный орех и эстрагон — без эстрагона гусь и не гусь вовсе! — да, тут картофельная начинка будет так вкусна, что пальчики оближешь».
Осенью пятьдесят пятого года моя невеста и я отправились в Познань на осеннюю ярмарку — это была наша последняя совместная поездка, — в Познани я должен был убедить нескольких инженеров, специалистов по цементу, что вращающиеся пылеуловители чрезвычайно рентабельны. И вот оттуда мы с Линдой ненадолго заглянули в бывшую Рамкау, округ Картузы, юго-западнее Гданьска, чтобы нанести визит моей тетушке Хедвиг, которая в свою очередь после неимоверно пространных рассуждений о сельском хозяйстве у кашубов[39] и после того, как мы сели за стол в узком семейном кругу, подтвердила отличные качества картофельной начинки для польских гусей; ее разъяснения напомнили мне разъяснения Брюзама десятилетней давности; однако тетушка не очень-то разбиралась в мускатных орехах, для вкуса она добавляла в картошку тмин.
Моя невеста опасалась этой утомительной, чреватой неудобствами поездки, для которой надо было преодолеть всякие бюрократические формальности, но я вырвал у нее согласие, сказав: «Как-никак я приноравливаюсь к твоей отнюдь не простой семье, поэтому и тебе не мешает пойти мне навстречу»; после чего она поворчала, но согласилась, и мы посетили этих простых и по-деревенски радушных людей. (Поскольку речь шла о моих последних еще оставшихся в живых родственниках, я отправился в путь, испытывая чувство умиления; мы посетили также Нойфарвассер, портовый пригород бывшего Данцига. «Вы же помните, доктор, что давным-давно я утопил там во все еще мутной жиже около гавани напротив островка мой молочный зуб».)
«Ну, паренек, здорово же ты подрос» — этими словами меня приветствовала тетушка, которая, собственно, была сестрой моей бабушки с материнской стороны, урожденной Курбьюн, она вышла замуж за ныне покойного Риппку, крестьянина-бедняка, а ее сестре, моей бабушке, повезло — она нашла себе мужа в городе по фамилии Бенке, десятника на лесопилке, и моя мама стала горожанкой и выскочила замуж за Штаруша; три поколения Штарушей жили в городе, но так же, как и Курбьюны, были кашубами; в начале XIX столетия Штаруши селились неподалеку от Диршау[40].
«Скажи-ка, чем ты занимаешься? — спросила сестра моей бабушки и поискала глазами мою невесту. — Стало быль, влез в цементное дело. Почему же ты не привез с собой цемента? Он нам нужен позарез. Видишь?»
(После нашего возвращения мне удалось преодолеть дурацкие препоны не только с польской, но и с западногерманской стороны и послать в Картузы десять мешков цемента. Идея Линды.)
Хотя моя невеста обещала тетушке Хедвиг прислать цемент для ремонта разрушенного снарядами сарая, тетушка продолжала сокрушаться: «Ничего-то у нас нет; всего-навсего немного ржицы, корова, теленочек, квашеные яблоки, если не побрезгуешь, ну и, конечно, уточки-курочки и несколько гусей, но мы их не откармливаем…»
Однако гусей не подали. Зато из стеклянных «закатанных» банок вынули и поставили на стол жилистую курятину; сестра моей бабушки считала, что заготовленные впрок куры куда более аристократическая еда, нежели парные куры, которых только что прирезали и кудахтанье которых мы, значит, слышали бы за сарайчиком с инвентарем, прежде чем им свернули бы шеи. Может быть, моя тетушка угостила нас консервированным куриным мясом из уважения к моей невесте, ведь позже в огороде, между грядками с кормовой капустой, она сказала: «Ну и даму ты подцепил, сразу видать — из благородных».
Разумеется, мы нащелкали множество фотографий. Дети дяди Йозефа, двоюродного брата моей мамы, по просьбе Линды то и дело выстраивались перед разрушенным снарядами сараем. А под вечер мы поехали на автобусе в Картузы, к брату тетушки, дяде Клеменсу, который был братом моей покойной бабушки с материнской стороны, и к его Ленхен, урожденной Сторош, — с ними я, значит, состоял в двойном родстве. Вот это была встреча! «Ну, паренек, какая жалость, что твоя бедная мама померла так ужасно. Любила тебя без памяти, надо же, собирала твои молочные зубки. Все пропало. И у меня ничего не осталось, только аккордеон и пианино, на нем играет Альфонс, сын нашего Яна, младшенький. Потом послушаем его…»
Перед домашним концертом нам опять подали курятину из стеклянной банки, а к ней картофельный самогон, который совершенно испортили мятным ликером — ради моей невесты из благородных. (А ведь кашубы — народ со старой культурой, более древний, чем поляки. Кашубский диалект восходит к старославянскому языку, но он мало-помалу исчезает. Тетушка Хедвиг, дядя Клеменс и его Ленхен еще говорили на нем, но уже Альфонс, флегматичный парень лет под тридцать, не знал ни старого кашубского, ни той разновидности кашубского диалекта, на каком изъяснялись когда-то в Западной Пруссии, и лишь изредка вставлял польское слово. И все же специалистам по древнеславянским языкам стоило бы создать до сих пор отсутствующую грамматику кашубского; Коперник — или, как его звали, Кубник, а то и Копник — был, строго говоря, не поляк и не немец, а кашуб.)
За семейным ужином мы вели себя чересчур тихо — всех стеснял литературный язык Линды, да и я весьма нерешительно переходил временами на диалект данцигского предместья, поэтому мой дядя Клеменс, от которого через родню с материнской стороны я унаследовал оптимизм и педагогическую жилку, сказал: «Знаешь, вспоминать о грустном — толку нет. Давайте споем, да так, чтобы чашки в шкафу звенели».
И мы запели всей семьей: тетя Хедвиг, ее дочка Зельма, двоюродная сестра моей матери, ее чахоточный и потому неработоспособный муж по имени Сигизмунд, дядюшка Клеменс и его Ленхен, а также их взрослый внук, мой троюродный брат Альфонс, у него на заду вскочил фурункул, из-за этого он не соглашался сесть за пианино, но ему не удалось отвертеться: «Давай, парнишка. Перестань ломаться. Вдарь по клавишам». Нас с Линдой усадили по-семейному в серединку — будто мы уже муж и жена, а не жених с невестой, — и все мы запели хором в сопровождении дядиного аккордеона и пианино Альфонса, опустившего на круглую табуретку лишь половинку своего зада, — мы пели часа два, главным образом песню «Лес шумит, лес шумит, сердце бедное стучит». При этом мы пили картофельный самогон, который забивал мятный ликер.
(В каждом глотке этого национального напитка кашубов с переменным успехом брал верх то вкус химического экстракта, на котором настаивали ликер, то шибавший в нос сивушный дух, словно ты заглянул в картофелехранилище. Иногда тебе казалось, будто ты смакуешь переслащенный ликер, но тут его вкус заглушал плохо очищенный самогон, а когда твое нёбо привыкало к деревенской сивухе, мятный экстракт напоминал о достижениях современной химии. Впрочем, все эти вкусовые противоречия объединяла и примиряла песня «Лес шумит, лес шумит».)
Доливая стаканы, тетя вдруг спросила: «Как ты думаешь, парнишка, фюрер еще жив?»
(Такой прямой заход в историю считается у нас неприличным, ведь мы стараемся оценивать исторический материал с холодной объективностью, и мои ученики, когда я не так давно по легкомыслию процитировал тетушку Хедвиг, очень низко оценили ее политическую сознательность; если их послушать, то мне следовало ответить тете цитатой из Гегеля.)
«Конечно же нет, тетя», — сказал я, потупив глаза. И моя невеста, которую держали под руки Ленхен, жена дяди Клеменса, и чахоточный железнодорожник Сигизмунд — распевая «Лес шумит, лес шумит», мы качались в такт музыке, — моя невеста Линда одобрительно кивнула: мы с Линдой были одного мнения.
«Вот видишь, — тетушка ударила кулаком по столу, — он бы говорил и говорил… а теперь его нет. Правда?»
(Перед этим логическим умозаключением не устоял и сам Шербаум: «Ну и дает ваша тетушка!»)
И мы — моя родня и Линда — спели еще раз с начала до конца «Лес шумит, лес шумит, сердце бедное стучит…».
Напоследок пришел домашний врач — его позвала двоюродная сестра моей мамы Зельма, — он должен был разборчивым почерком написать список лекарств, необходимых моей родне. Сердечные гомеопатические капли для тетушки. Что-нибудь для легких железнодорожника Сигизмунда. Лекарство от дрожания конечностей для дяди Клеменса. (Хотя конечности у него вовсе не дрожали, пока он играл на аккордеоне.) И для всех, кроме железнодорожника, какое-нибудь средство от ожирения.
Врач, приставив руку ко рту, тихо сказал: «Они просят лекарств только потому, что лекарства западногерманские. Пользы никакой. Пусть поменьше жрут и почаще поют «Лес шумит». Вам бы следовало приехать сюда в ноябре, когда начинают резать гусей…»
Моя тетушка подхватила последние слова врача: «Да, паренек, приезжай-ка еще раз поскорей со своей невестой из благородных. На святого Мартина у нас такая обжираловка — лопнуть можно. Наши кашубские гуси. Сегодня ты видел их на лужку. Ты еще помнишь, как их начиняют?»
И тут я перечислил все то, чему меня когда-то учил Брюзам — бывший шеф-повар в отеле, а ныне повар, ведущий программу на телевидении, — учил в лагере для военнопленных в Бад-Айблинге: «Существуют следующие начинки: яблочная, замечательная начинка из каштанов и еще так называемая мясная начинка. Но каждая начинка требует эстрагона; гусь без эстрагона и не гусь вовсе».
Тетушка Хедвиг обрадовалась: «Эстрагон — это правильно. Но мы фаршируем гусей картошкой, сырой картошкой, чтобы она пропиталась жиром. Язык проглотишь. Приезжай с невестой к рождеству…»
Но Линда не хотела больше приезжать. От курятины из стеклянных банок у нее пошли прыщи, началась отрыжка, изжога и рези в животе. (Я уж подумал было, не хочет ли она отдать концы. Мысль эта не кажется мне странной.) Только в Западном Берлине ей стало лучше. Но все равно скоро мы расстались. Уже весной пятьдесят шестого она дала мне отступное: «Хочешь в рассрочку или все деньги сразу?»
Я решил взять всю сумму целиком. В денежном отношении у нас не было претензий друг к другу.
И сегодня я честно признаю: искусство фаршировать гусей преподал мне Брюзам, повар высокого класса. В девятиквартирном доходном доме я стал мужчиной: все знал заранее и предчувствовал печаль, которая наступит потом. Но последний глянец навел дядя Клеменс, он же научил меня житейской мудрости: «Надо веселиться и жить в свое удовольствие». Однако только на деньги моей невесты я смог стать педагогом.
(Притом я долго колебался — брать ли от нее деньги, доводить ли до разрыва.) Между мной и Линдой состоялся откровенный разговор на Майенском поле на краю заброшенного базальтового карьера. Дело в том, что Линда сразу после нашего возвращения из Польши опять занялась так называемым производственным шпионажем, и Шлоттау появился снова. Я сказал: «Если ты не перестанешь путаться с ним, я тебя убью». Линда даже не засмеялась, она встревожилась: «Такими вещами не шутят, Харди. Хотя ты меня и не убьешь, но в твоей башке слова «я тебя убью» могут застрять и вызвать последствия, которые не останутся без последствий…»
«Как мы растекаемся мыслями. Как нас загоняют в угол. Как мы заплываем жиром».
На телеэкране шла большая чистка. Бульдозеры, которые раньше мирно паслись на воле, рванули вперед и стали крушить готовые изделия, косметику, давить мягкую мебель, туристское снаряжение, громоздить друг на друга лишние машины, фотоаппаратуру для любителей, встроенные кухни, вышибать из-под сложенных штабелями коробок со стиральным порошком «Перзиль» основания, переворачивать игрушечные бары и большую морозилку — из морозилки повалили овощи, мясо, фрукты и быстро оттаивавшие потребители: моя невеста, которую уже считали умершей, старик Крингс в мундире, недовольная тетка Линды, Шлоттау, прикрывавший стыд рукой, а вслед за ним мои ученики, коллеги, родственники, они переползали еще с четырьмя-пятью или девятью женщинами через груды основных и сопутствующих товаров (среди них расхаживали польские гуси), и все это катилось и все это катили куда-то прочь. …На холостом ходу бушевала стиральная машина, ученики хлопали ладонями в такт.
И всю честную компанию, и все это изобилие товаров бульдозеры толкали из-за кулис на передний план, к самому экрану, пока экран от напора не разлетелся вдребезги и содержимое не вывалилось наружу, прямо в комнату; и вот уже кабинет зубного врача забит до отказа. Я пытаюсь убежать, протискиваюсь сквозь нагромождения хлама, сквозь сгрудившихся людей, которые пристают ко мне с разговорами: «В чем дело, Шербаум?» …Я бегу, но куда бежать? Некуда, кроме как на телеэкран, воссозданный силой моей веры: там меня ждут зубной врач и его помощница и просят сесть в кресло; сегодня мне должны вставить два мостовидных протеза — акция с точки зрения акустики вполне терпимая, ее будет прерывать лишь бульканье при полоскании; однако диалог между врачом и пациентом, задним числом слегка подредактированный, начинается уже сейчас — изо рта врача идут на сей раз пузыри сложных конфигураций, те, что называются платоническими фигурами, врач призывает к умеренности и к вере в постоянный прогресс, пациент же (штудиенрат, которого подстегивают скандирующие ученики), наоборот, требует радикальных изменений и революционных действий.
Например, Штаруш хочет своротить бульдозером весь этот утиль со всеми его причиндалами, запчастями, излишествами и льготными платежами — «В кредит! В кредит!», — своротить эту хромированную сталь и ассигнования на рекламу, удалить их из поля зрения потребителей, чтобы (как написала мелом на доске его ученица Веро Леванд) можно было изменить базис и создать предпосылки для гармоничного существования.
Однако зубной врач тоже не лыком шит: он считает, что все злоупотребления властью пошли от Гегеля, которого опровергает, ссылаясь на происходящий в зубоврачебном деле прогресс, достигнутый мирными средствами.
— У нас слишком много противоречащих друг другу теорий спасения человечества, и мы слишком мало думаем о практической пользе… — сказал он и опять предложил заменить весь государственный аппарат глобальной профилактикой.
И тут штудиенрат обнаружил, что у них общая платформа:
— В сущности, мы с вами придерживаемся одного мнения, тем более что мы считаем себя гуманистами, сторонниками humanitas…[41]
Но зубной врач потребовал, чтобы пациент отказался от своих призывов к насилию:
— Самое большее, на что я согласен, — это на окончательное уничтожение всех зубных паст типа «Хлородонт», которые якобы являются действенным средством против кариеса.
Штудиенрат помедлил, сглотнул слюну, но не захотел брать свои слова назад. (12 «А», хихикая, воззрился на меня.) Штаруш бессистемно процитировал Маркса и Энгельса и даже старика Сенеку, который проклинал изобилие, тут он был одного мнения с Маркузе[42]… (Я не остановился и перед тем, чтобы дать слово позднему Ницше: «В конечном счете переоценка ценностей…»)
Однако зубной врач настаивал на полном отречении от насилия и угрожал, в случае если пациент заупрямится, лечить нижнюю челюсть без анестезии.
(Отказ от поголовной терапии. Демонстрация орудия пыток. Зубоврачевание без обезболивания, как в средние века.)
— Если вы будете защищать насилие, друг мой, я удалю вам металлические колпачки без местной анестезии и, кроме того, оба мостовидных протеза тоже…
Тут штудиенрат, по существу либерал, а вовсе не какой-нибудь заядлый радикал, капитулировал. (Мой 12 «А» так зашикал, что я чуть не провалился сквозь землю.) И попросил дантиста не принимать всерьез историю с бульдозерами, а отнестись к вышеозначенным полезным (я сказал бы даже «жизнеутверждающим») землеройным машинам как к гиперболе.
— Сами понимаете, я не иконоборец и не сторонник анархизма, который хочет все разрушить…
— Стало быть, вы отказываетесь от своих слов.
— Отказываюсь.
(Немедленно после моей капитуляции зубоврачебный кабинет сам собой избавился от утиля, то есть от товаров широкого потребления и всех посторонних лиц, коих изрыгнула морозилка.) С недовольным ворчанием отступил 12 «А». Моя невеста насмешливо попрощалась со мной: «И такому типу доверяют преподавание!» (Даже польские гуси с начинкой, сдобренной эстрагоном, покинули кабинет дантиста.) Теперь он стал такой, каким был всегда, почти квадратная комната, пять метров на семь при высоте три метра тридцать. Все зубоврачебные принадлежности стояли и лежали на своих местах; пациент, сидя в сооружении фирмы «Риттер», мог оторвать взгляд от телеэкрана, на котором, не успел он опустеть, сразу же опять замелькала реклама ходовых товаров: рекламировали мягкую мебель, стиральную машину, туристское снаряжение, а также — между рекламой стройбанков и стиральных порошков — морозилки, в которых под овощами, телячьими почками, свежезамороженными готовыми блюдами покоилась бывшая невеста штудиенрата, а из ее рта выходили пузыри с надписью: «Эх, ты, супертрус…»
Зубной врач собирался сделать первую инъекцию внизу слева, а телевизор упорно показывал рекламу морозилок и вызывающе часто — их содержимое, посему пациент, не вылезая из кресла фирмы «Риттер», вновь попытался заняться великой чисткой.
— Бульдозер, — сказал он, — много тысяч бульдозеров должны убрать весь этот утиль, убрать с глаз долой.
Но призыв к насилию на этот раз не подействовал. Правда, морозилку вытолкнула с экрана какая-то телегеническая, то есть призрачная рука. Однако бульдозеры так и не двинулись ни слева, ни справа, не появились, резвясь, на заднем плане, не пошли вперед и не начали великого преобразования нашей действительности. Телеэкран ничего подобного не предлагал. (Да и мой 12 «А» отказался войти.) Молочно-белое поле экрана слабо мерцало. Пустая пустота.
— Вы что-нибудь видите? — задал вопрос зубной врач, взвешивая на руке шприц.
— Я ничего не вижу, — ответил пациент.
— Тогда давайте притворимся, будто во второй раз вы воздержались и не призвали к применению силы. Правда, вы основательно испортили текущую телепередачу. Западноберлинские «Вечерние новости» мы в наказание смотреть не будем. Я вообще переключу экран на зеркальное отражение. Лучше, чем ничего.
Воцарилась полная гармония: пациент в окружении помощницы и зубного врача, сидя в кресле фирмы «Риттер», увидел, как помощница сунула ему в рот три пальца левой руки, вызвав спазм жевательных мышц, — увидел, как перед экраном, так и на самом телеэкране: средний палец отодвинул язык назад, безымянный придерживал верхнюю челюсть, а указательный прижимал марлевые тампоны к нёбу. Зубной врач и тут и там всаживал в нижнюю челюсть штудиенрата иголку шприца — первый укол.
Звуковое сопровождение было просто великолепно: одновременно и в зубоврачебном кабинете, и на телеэкране шел разговор нормальной громкости.
— Мы начнем с проводниковой анестезии и блокируем нерв у входа в канал.
(Я видел, как трудно ему всадить иголку.)
— Конечно, ваши десны, как вы сами понимаете, из-за предыдущих инъекций в довольно плачевном состоянии.
Кинокамера — ведь должна же где-то стоять кинокамера! — приблизилась почти вплотную к деснам пациента; экран заполнили три пальца и передвигающаяся в поисках нужного местечка иголка шприца в онемевшей полости рта. Вот она нашла такой участок десны. Предчувствие последующего настигает настоящее. Я ощущаю (уже ощутил) и на экране, и взаправду. Ой-ой-ой-ой.
— А вы помните, что за этим последует?
Скрытая камера перестает показывать фрагмент, ставший при увеличении прямо-таки лунным ландшафтом, и опять дает изображение пациента в кресле фирмы «Риттер», а по бокам от него дантиста и его помощницу.
— Теперь укол начал действовать…
— Ну хорошо. Хорошо. Мы, стало быть, в курсе дела…
— Скажите, доктор, те инъекции, что мне еще предстоят, ничем не отличаются от прежних? Значит, звуковое сопровождение больше не нужно. Я имею в виду не только телевизор.
— Если я вас правильно понял, вы хотите продолжить штабные игры…
— Моя невеста Зиглинда Крингс…
— Не лучше ли предположить, что у вашего Крингса неслух сын, а не дочь…
— Воздержитесь, пожалуйста, от советов, доктор…
— Как вам угодно…
— Я больше не буду вспоминать о бульдозерах, зато вы не пытайтесь подсунуть Крингсу сына.
— Договорились при свидетелях.
(Правда, как показал экран, договорились, не ударив по рукам.)
— Могу нарисовать вам портрет Линды: цепкая горная коза, которая способна удержаться на самом крутом склоне. Ее план потребовал жертв. Она бросила медицину. (Первоначально ей хотелось стать детским врачом.) А позже дала отставку и своему жениху. Новая идея завладела Линдой всецело. (Мне приходилось доставать ей пухлые тома по стратегии и тактике.) Линду надо показывать склоненной над военными дневниками, историями отдельных дивизий, фотокопиями старых секретных документов и штабными картами. Она похоронила себя в четырех стенах, в комнате, которая все больше и больше теряла особенности, свойственные девичьей комнате, и все сильнее походила на «спартанскую обитель отца». Иногда она в одиночестве сидела в «Сером парке». Часто она казалась измученной и подавленной фактами и противоречивыми сообщениями. Только что Линда — какой ценой, мы знаем — выведала у заводского электрика Шлоттау, что ее отец задумал повторить танковое сражение на Курской дуге и… выиграть его. Крингс также был вынужден прибегнуть к шпионажу, завербовав для этой цели своего будущего зятя. (Я и впрямь передавал ему различные сведения, ведь меня это не касалось.) Вся семья начала действовать, стала агрессивной. Тетку Линды, тоже по очереди, использовали то генерал, то его дочь — ей надлежало распространять ложные слухи. Согласно планам, передвигались фигуры. Изобретались военные хитрости. За ужином на что-то намекали. Я удерживался на поверхности лишь благодаря тому, что стал двойным агентом и снабжал информацией и Линду. Разумеется, не отказываясь от встречных услуг. (Я поступал точь-в-точь как Шлоттау. Вернее, она превратила меня во второго Шлоттау, подпускала к себе только тогда, когда я знал больше его.) Иногда я покупал у него информацию. Наподобие того, как у меня покупал ее Крингс. Только тетя Матильда работала бескорыстно — она не очень-то понимала, что к чему. Зиглинда Крингс систематически посещала военный архив в Кобленце. Заказные письма вручались лично фройляйн Зиглинде Крингс. Да, так ее нарекли, но операцией «Зиглинда» назвали и отвлекающий маневр на фронте под Нарвой в конце сорок четвертого. Успех этого наступления на небольшом участке фронта, который позже приписывался генерал-полковнику Флисснеру, до Крингса командовавшему группой армий «Север», отнюдь не помешал Крингсу, после того как был отвоеван отданный ранее Лаубан[43], назвать ключевую позицию — ее Держали, несмотря на огромные потери, — «позиция Зиглинды». (Еще будучи в тундре, он намеревался присвоить своей медленно вымерзавшей 6-й горнострелковой дивизии победную руну ϟ и назвать ее дивизией «Зиглинда», однако верховное командование вермахта отклонило это предложение.)
Ящик с песком дал Крингсу возможность взять реванш: сражение на Курской дуге, кодовое название «Цитадель», его проиграли летом 1943 года Модель, Манштейн и Клюге, Крингс выиграл на песке, окрестив его «наступлением Зиглинды», выиграл потому, что его дочери так и не удалось выведать расположение советских минных полей.
«Перестань, Линда. У тебя ничего не получится. Тут не деньги летят на ветер, тут призраки встают. Спроси себя хоть раз, нет, не раз, а сто раз подряд: что такое генерал? Или произнеси быстро-быстро: генерал, генерал, генерал… Пустой звук. Примерно то же, что и выражение «лёссовый слой», хотя «лёссовый слой» — это все-таки конкретное понятие, а слово «генерал»…»
Когда на Корельсберге я попытался объяснить, что такое генерал, она резко оборвала меня:
«Ты кончил? Генерал генералу рознь. Этот наш не желает признавать себя побежденным».
«А я докажу тебе, что от этого генерала ничего, кроме судебных издержек, не останется. Вели ему освободить барак. Складское помещение нам всегда понадобится. Пусть пишет свои мемуары. Теперь наконец я понял, что такое генерал: особь, которая после пестрой жизни, приносящей людям смерть, пишет свои мемуары. Хорошо. Дай ему возможность побеждать на бумаге…»
Я говорил, глядя на Лаахское озеро, она говорила, глядя на Нидермендиг. (А между тем мы были хорошей парой. Иногда она казалась совсем другой. Здорово нелепой, вовсе не такой закомплексованной. Любила вкусно поесть. И даже не боялась прослыть сентиментальной: читала запоем бульварные романы в иллюстрированных журналах. А в кино ходила на дешевые мелодрамы.
Ее героем был Стюарт Грейнджер[44]. И при том она была неглупой. Взгляды на политику у нас совпадали. Как и я, она считала, что человечество терроризировано перепроизводством ширпотреба и стремлением обогащаться.) То самое, что ныне проповедует моя ученица Веро Леванд — староста 12 «А», Линда говорила лет десять назад, стоя на Корельсберге… «Даешь десять тысяч мощных бульдозеров, чтобы сокрушить весь этот утиль, все это изобилие!» Вот видите, доктор, она плохо кончит.
Моя хитрость — провозгласить необходимость радикальных перемен чужими устами — не удалась. Когда я захотел смягчить сказанное и невинно заметил: «Собственно, перед первой мировой войной Крингс собирался стать учителем…», звук пропал. Правда, на экране осталось изображение комнаты, правда, изо рта у меня шли надписи, но звук как корова языком слизнула. Зато пузыри врача были озвучены.
— Послушайте-ка, любезный, все то время, что я делал вам четыре инъекции, я не перебивал, не возражал. Я сам разрешил во время лечения выдумывать, что хотите. Но сейчас чаша моего терпения переполнилась. Призывов к насилию я не потерплю, даже если вы вкладываете их в уста вашей прежней невесты или в уста несовершеннолетней ученицы, я не дам уничтожить плоды маленького, быть может иногда до смешного маленького, поступательного движения, стало быть, и мою зубоврачебную практику, построенную на принципах профилактики, не дам смешать все это с грязью только потому, что от вас убежала невеста и вы оказались несостоятельным, потому что вы неудачник, который хочет с помощью своих запутанных фантазий объявить весь мир несостоятельным, с тем чтобы уничтожить его на законном основании. Я вижу вас насквозь. Достаточно взглянуть на ваш зубной камень. Уже по рентгеновскому снимку я понял: опять кто-то требует переоценки ценностей, опять кто-то хочет возвыситься над людьми. Опять кто-то намерен ввести одну абсолютную мерку. И при том выдает себя за человека современного. Нет, он не собирается подновлять списанного со счетов сверхчеловека и ловко увертывается от разговоров о новом социалистическом человеке, но он зевает, он воротит нос от всяких, пусть незначительных, но все же полезных усовершенствований; его страсть разрубать узлы быстрыми и вместе с тем беспорядочными взмахами руки, его неодолимое желание увидеть как можно более пышный закат человечества, его старомодное неприятие цивилизации, которое, рядясь в одежду прогресса, не что иное, как тоска по временам немого кино, его неспособность тихо и усидчиво работать во имя блага людей, его педагогика — она всегда готова превратить пустоту в утопию, а этот самый воздушный замок опять низринуть в зияющую пустоту, — его неуемность, его капризный умишко, его злорадство, если что-нибудь не ладится, и его все время повторяющиеся призывы к насилию выдают его. Бульдозеры! Бульдозеры! Ни слова больше. Сейчас же идите в приемную. Только после того, как инъекция подействует, я опять готов разговаривать с вами.
(Я жестикулирую. Ему доставляет удовольствие смотреть на пузыри, в которых нет текста. Но я ни в коем случае не хочу туда, где журчит фонтанчик и где лежат иллюстрированные журналы «Штерн», «Квик», «Бунте» и «Нойе»… Никогда больше я не стану читать того, что удосужился вспомнить мой бывший фюрер, фюрер германской молодежи, да и о том, что он так и не вспомнил. Великое сопротивление можно начать в любом месте; чем плохо зубоврачебное кресло фирмы «Риттер»? Я окаменел, всем своим видом показывая, что не хочу уходить. Пускай вызывает полицию!.. Но дантист наказал пациента иначе — проявил терпимость и движением мизинца опять включил звук.)
Зубной врач. Вы хотите что-нибудь сказать?
Пациент. Меня пугает ваша приемная.
Зубной врач. Скорее, в вас говорит страх перед все новыми выдумками, за которыми вы прячетесь. Правда?
Пациент. Вы не хотите понять. Ведь моя потребность при случае сокрушать существующие порядки — впрочем, только на словах — имеет свою предысторию…
Зубной врач.…которая известна: в семнадцать лет, незадолго до конца войны, вы стали главарем одной из молодежных банд, тогда они стихийно возникали повсюду.
Пациент. Мы выступали против всех и вся!
Зубной врач. Но сейчас, будучи сорокалетним штудиенратом…
Пациент. Мой 12 «А» в данное время находится на той же стадии — тоже хочет сам все выяснить. Непрекращающийся диалог с моим учеником Шербаумом не может не касаться и темы насилия.
Зубной врач. При том, что я за поголовную профилактику на базе социального обеспечения, предупреждаю…
Пациент. Вот почему я и прошу вас поверить: мои ученики и я хотим произвести переворот, с тем чтобы установить еще больший порядок, а именно порядок педагогический. После сравнительно короткого периода насилия…
Зубной врач. Придется мне все же настоять на том, чтобы вы посидели некоторое время в приемной.
Пациент. Нет. Прошу вас!
Зубной врач. Вы сильно затрудняете мою задачу по линии социального обеспечения.
Пациент. В сущности, я человек, сочувствующий мирному поступательному развитию, хотя мне трудно поверить в прогресс…
Зубной врач. Вы извлекаете прямую выгоду из прогресса!
Пациент. С этим я охотно соглашусь, если мне не придется сидеть в приемной…
Зубной врач. Зубное протезирование прошло большой путь. Я охотно назвал бы его революционным, хотя, конечно, не в том устаревшем смысле, какой вы в это вкладываете.
Пациент. Согласен. Если только мне не придется…
Зубной врач. Ну хорошо, останьтесь.
Пациент. Спасибо, доктор…
Зубной врач. Но звук я выключаю, иначе вы опять начнете то и дело вставлять это дурацкое слово.
(И вот я сижу, немой как рыба, в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер» и вижу, как я сижу, немой как рыба, в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер». Правда, мне казалось, что проводниковая и инфильтрационная анестезия нижней челюсти привела к тому, что язык и обе щеки у меня распухли. Я вытянул губы трубочкой и надул щеки, вроде они у меня отекли, но телеэкран знал свое дело: лицо не раздулось и щеки были как щеки, я показал язык — он был такой же, как всегда: узкий, длинный, подвижный, любопытный и восприимчивый. Да, я высунул язык. То, что могла позволить себе моя ученица Веро Леванд в семнадцать, я делаю и в сорок. Мой язык манил: «Иди сюда, Линда. Иди…»)
В модном костюмчике, с модной прической (начес), она заговорила, подчеркивая в нужных местах слова:
«Дорогие телезрители, друзья, любители наших викторин! В нашей сегодняшней передаче «Помните ли вы еще?» речь пойдет о военных сражениях, которые определили судьбу Германии, Европы и, пожалуй, всего мира…»
Начав серьезным тоном, она потом быстро перешла в оптимистический регистр:
«А теперь позвольте мне представить наших гостей. Сегодня они пришли в студию из западноберлинской гимназии. Потрясающе молодая дама — фройляйн Вероника Леванд…»
Пока публика аплодировала, камера показала средним планом: три старших класса нашей гимназии, а в первых двух рядах — родительский совет и педсовет.
«А теперь, фройляйн Леванд, разрешите, я буду называть вас просто Веро, почему вы интересуетесь историей?»
«Я считаю, что для формирования нашего сознания история чрезвычайно важна, особенно если дело касается недавнего прошлого. Мой друг того же мнения…»
«А сейчас, дорогие любители викторин, я представлю вам друга Веро, юного Филиппа Шербаума, которого его школьные товарищи зовут просто Флип. Сколько вам лет, Флип?»
Ответ Шербаума: «Семнадцать с половиной» — потонул в веселом смехе. Доверительное обращение «Флип» помогло создать непринужденную атмосферу, но Линда тут же перешла к делу:
«А кто пробудил в вас интерес к истории?»
«История всегда была моим хобби. Но наш учитель истории, штудиенрат Штаруш…»
«Стало быть, учитель… А теперь вторая команда. Она состоит из одного участника. Я приветствую бывшего генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса».
После вежливых хлопков Линда отбросила генеральский титул.
«Господин Крингс, в конце войны вы командовали группой армий, Центр“».
«Так точно. Мне удалось удержать фронт на Одере. Конев, его армии стояли тогда против моих, сказал: Если бы не Крингс, я продвинулся бы до Рейна…»
«Итак, мы с вами в гуще сражений. В связи с этим и мой первый вопрос. Вернемся на два тысячелетия назад: после какой битвы Цезарь обнаружил письма противника и что он с ними сделал? Ну, Филипп? Тридцать секунд…»
«Это произошло во время сражения при Ларисе в Фессалии. Цезарь, победив Помпея, обнаружил в лагере его письма и сжег их, не читая».
«Может быть, господин Крингс расскажет, кто поведал нам об этом воистину благородном поступке?»
Ответ бывшего генерал-фельдмаршала: «Краткое упоминание о письмах Помпея есть у Сенеки» — вызвал такие же аплодисменты, как и разъяснения Шербаума.
Линда записала очки, а потом сказала:
«А теперь вернемся к этому сражению. Как построил свои войска Цезарь, фройляйн Леванд? Тридцать секунд».
Моя невеста — она прекрасно выглядела, — обращаясь к очередному участнику викторины, ловко вставляла ободряющее словечко и переходила от одного сражения к другому.
Сознаюсь, каждый правильный ответ Филиппа преисполнял меня гордостью. (Почему он здесь такой раскованный, а на уроках из него слова не вытянешь: «Какое дело нам до ваших Клаузевица, Людендорфа и Шёрнера[45]?»)
Он просто-таки замечательно умел отвечать по существу. Много раз меня подмывало прервать зубного врача, который делал записи в историях болезни, и сказать ему: «Вот видите, доктор, мой ученик кладет Крингса на обе лопатки. От его сообщения о метеорологических условиях во время битвы при Кёниггреце старик лишился дара речи…» Но, согласно договоренности, звук был выключен, и я взял себя в руки. Тем более что Шербаум потерял немало очков после того, как моя невеста спросила его о двенадцатом сражении на Изонцо. Зато Крингс с мельчайшими подробностями описал все этапы захвата высоты 1114. Публика вежливо наградила его аплодисментами — даже Ирмгард Зайферт слегка похлопала генералу. Счетчики неохотно выдали предварительные результаты: генерал набрал двадцать четыре, а класс — двадцать одно очко.
На сей раз моя невеста начала с шутки:
«Есть одно могучее животное, которое в наши дни водится лишь в зоопарках или в заповедниках. Но поскольку мы собрались сегодня не ради викторины «В мире животных», я сама открою секрет: речь идет о буйволе… Итак, какая операция получила в марте сорок третьего это условное обозначение?»
Крингс улыбнулся с высоты своей генерал-фельдмаршальской эрудиции:
«Речь шла об отводе 9-й армии и половины 4-й армии на выдвинутый вперед наступательный плацдарм под Ржевом».
Дополнительный вопрос Линды показал, что она сомневается в правильности ответа:
«Генерал-фельдмаршал упомянул об операции «Буйвол», на которую пошли для того, чтобы создать плацдарм для наступления. Как вы, Филипп, расцениваете ржевскую операцию?»
«Сама формулировка: Ржев — фланговая опора Восточного фронта — кажется мне неправильной. Ржев точно так же, как и Демянск, всегда находился под угрозой окружения и, когда Цейтцлер, тогдашний начальник генерального штаба…»
Крингс нарушил правила игры, вскочил и частично вылез из плоскости экрана:
«Трус проклятый, тыловая крыса! Цейтцлер, Модель — все они предатели! Разжаловать и послать на передовую! Нам не пришлось бы оставить предмостное укрепление на Волге, если бы не они, ни в коем случае. Мобилизовав все имеющиеся резервы, я бы…»
Я восхитился элегантностью, с какой моя невеста остановила разбушевавшегося генерала и утихомирила молодежь, которая дружно зашикала. В следующем раунде Веро Леванд доказала, что Крингс намеревался бросить в бой дивизии, которые либо растаяли, фактически сравнявшись с батальонами, либо вообще были в то время вне пределов досягаемости.
«По-моему, вы черпаете свои сведения из рапортов о потерях».
А Шербаум сказал: «Вы не учли, что еще в середине февраля наступила оттепель и, кроме того, бросили на фронт авиадивизию, предназначенную для борьбы с партизанами в лесистых местах западнее Сычевки».
Наконец, когда Веро Леванд объяснила, что движение по шоссе Вязьма — Ржев было прервано уже со второго марта, Линда — ведущая викторины — стукнула молотком по столу, как это делают на аукционах перед объявлением о том, что вещь продана, и дала понять, что атаки Крингса захлебнулись, несмотря на огромные потери, которые он нес. «Мы уже получили конечный результат, вот он перед нами. Гимназисты победили с убедительным счетом. Позвольте вас поздравить».
Конечно, я радовался успеху Шербаума в этой передаче. Ему и его приятельнице присудили премию — экскурсию по Рейну с заездом в Кобленц, чтобы посетить военный архив.
Линда изобразила полуулыбку: «Не будем, однако, забывать и второго участника. — И ободряюще продолжала: — Все это случилось в далеком прошлом, господин генерал-фельдмаршал». С этими словами она вручила Крингсу в качестве утешения карманное издание «Писем к Луцилию» на рисовой бумаге. Не раскрывая книги, он сразу стал цитировать, и у телеоператоров хватило вежливости не прерывать передачу до тех пор, пока генерал не закончил: «Не надеясь на пощаду, мы вступаем в жизнь».
Мое разочарование было велико, когда я увидел, что остался на телеэкране один-одинешенек и сижу в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер». Даже мои гримасы, неконтролируемые из-за обезболивания, мне не понравились. Перерыв между передачами. А на улице даже снег не шел. Я слышал, как за моей спиной водит пером по бумаге дантист, он торопливо заполнял карточки — истории болезни. Его помощница диктовала вполголоса цифры, данные анализов, зубоврачебные термины. Собственное изображение порядком мне надоело. («Доктор, милый доктор, разве капиталистическая экономика неизбежно не…») Но как в зубоврачебном кабинете — семь метров на пять при трех метрах тридцати высоты, так и на телеэкране мои слова пропадали втуне (надо бы набраться смелости и сказать «бульдозер»). Вместо этого я прислушивался к бормотанию дантиста где-то у меня в тылу:
— …типичный глубокий прикус в мезиальном положении… Активизация косой плоскости благодаря стираемости окклюзионных поверхностей… экстракция четырех верхних… открытый прикус спереди… перекрестный прикус с боков… палатинальная окклюзия… типичная прогения.
А ведь уже настало время для Песочного человечка. От жалости к себе нервы натянулись как струны (одинокий пациент попытался выдавить из себя две слезы в знак протеста против навязанного безмолвия). Я мог только подмигивать телеэкрану. Тогда я еще раз попробовал проделать эксперимент с языком: показал свой анестезированный обрубок самому себе и всем сонным в тот час ребятишкам; мой язык, отражаясь на молочной, как бы затянутой тучами выпуклости экрана, ловко выполнял упражнения, продолжая играть роль своего рода манка: «Иди сюда, Линда, иди…»
И она явилась мне из телевизионной трубки в скромной кофточке в образе сказочницы. И материализовавшись в телевизионной трубке, заговорила своим таким домашним голосом, что все стало оттаивать, все, хранившееся в морозилке; она заменила мне Песочного человечка.
«Жил да был король, и росла у него дочь, ничегошеньки он для нее не жалел, всегда хотел ее чем-нибудь порадовать. И вот он затеял великую войну против семерых соседей, думая отрубить у них языки и преподнести их дочке ко дню рождения. Но королевские генералы воевали скверно и проигрывали сражения одно за другим, а потом король и вовсе проиграл войну против своих семерых соседей. Усталый, понурый, в худых башмаках, он возвратился домой без обещанных подарков. С мрачным видом сел за стол перед кубком вина и так долго глядел на него мрачным взглядом, что вино потемнело и скисло. Напрасно утешала короля его дочка — ведь все это ничего не значит, папа, не надо мне соседских языков, я и так счастлива и довольна, — ничто не могло развеселить короля, так он приуныл. Прошел год, король запасся тьмой оловянных солдатиков — ведь все настоящие королевские солдаты полегли — и снова выступил в поход в ящике с песком, построенном по специальному заказу за большие деньги для его забав; он выигрывал все те битвы, которые проиграли королевские генералы. После каждой победы в ящике с песком король смеялся все громче и громче, но вот поди ж ты, его дочка, всегда веселая и милая, загрустила и немножко рассердилась на отца. Надулась, отложила в сторону свое вязанье и сказала: «Твоя песочная война — ужасно скучная, враги твои ненастоящие. Позволь уж мне воевать с тобой вместо семерых соседей, как-никак ты обещал подарить к моему дню рождения их аккуратно отрубленные семь языков…» Разве мог король отказать своей дочке! Пришлось ему опять разыгрывать все прежние сражения, но дочь всякий раз побеждала его. Тогда король заплакал и сказал: «Ах, как плохо я вел эту войну. Я еще бездарней, чем мои генералы. Теперь я буду день и ночь сидеть за кубком вина и глядеть на него, пока вино не почернеет и не скиснет». И тут дочка перестала сердиться, повеселела, подобрела. Отодвинула кубок, чтобы на него не падал мрачный отцовский взгляд, и сказала: «Пусть другие короли ведут войны, а я лучше выйду замуж и рожу семерых детишек!» К счастью, как раз об эту пору мимо замка, где стоял дорогостоящий ящик с песком, проходил молодой учитель, и ему понравилась дочь короля, ведь она была взаправдашней принцессой. Неделю спустя он на ней женился. И король решил построить супругам прекрасную школу, на нее пошли доски, из которых был сколочен ящик. То-то было радости у детей погибших солдат. Да и семеро соседей обрадовались. Ведь отныне и навек они перестали бояться за свои веселые розовые языки…»
(…И если учитель не задушил королевскую дочь цепью от велосипеда или еще как-нибудь по-чудному, то она живет по сию пору.)
Только-только кончилась передача для малышей и Линда пожелала детям спокойной ночи, только-только я опять увидел себя на телеэкране, как она уже снова появилась в кабинете и одновременно в телевизоре. Именно она коротко скомандовала: «Пора, анестезия уже подействовала полностью». Именно она, сунув три пальца мне в рот, привычным жестом вызвала у меня спазм жевательных мышц. Вложила слюноотсос, прижав нижнюю, онемевшую губу. Скоро подошел и он, оставив свою картотеку, но странно, куда бы я ни скашивал глаза — направо или налево, куда бы ни смотрел — на телеэкран или мимо, он казался мне незнакомым и в то же время знакомым (от него несет козлом, дело известное). «Доктор, это и впрямь вы?» Они обращались друг с другом подозрительно фамильярно. (Неужели мне показалось, что он сказал ей «ты», прежде чем, прищелкнув пальцами, потянулся за пинцетом?) Ну и парочка! Я подмечал все их взгляды — мой зубной врач и его скрытная помощница никогда не позволили бы себе ничего подобного. (Фривольные жесты. Сейчас он вдруг ущипнул ее за зад.) «Почему вы не примете меры, доктор?..» Но пузыри с текстом все еще не появлялись, я не мог протестовать. Тогда я решил обратиться прямо к нему: «Послушайте, Шлоттау, если уж вы выдаете себя за зубного врача, то разрешите мне хотя бы смотреть телевизор. Сейчас как раз передают «Последние известия». Я хочу знать, что происходит в Бонне. И не стали ли студенты опять…»
Победа! Звук включен. (Впрочем, лишь частичная победа: на телеэкране зубоврачебный кабинет.) На губах у меня растут пузыри с текстом, и в кабинете слышен мой голос нормальной громкости. «Прекрати сейчас же мельтешить, Линда. Понятно?» (Она послушалась.) «А вы, Шлоттау, оставьте свои скабрезные шутки. Включите «Последние известия», прошу вас!» (Шлоттау пробурчал: «Пока еще дают рекламу». Но Линда нажала на кнопку: «Пусть смотрит, пока мы будем выкручивать эти его металлические штучки».)
Она сказала «выкручивать». (Еще сегодня я готов биться об заклад, что она имела в виду «выкручивать».) Прежде чем я успел поправить Линду, Шлоттау отбросил пинцет моего зубного врача за пределы телеэкрана и вытащил из кармана свой инструмент — вульгарные клещи. Передавали рекламу, и я не смотрел на электрика в белом врачебном халате, орудовавшего своими инструментами. («Ладно, парень, начинай. Я и это стерплю».)
Мой правый глаз присматривался к тому, как пульсирующая струйка воды орошала нёбные ткани, а в то же время (Это вы, доктор, рекламировали на телеэкране: «Ирригатор «Аква» очищает и освежает»), а в то же время левым глазом я следил за электромонтером Шлоттау, который держал свои клещи над пламенем бунзеновской горелки. Неужели он и впрямь?..
«Шлоттау, что это еще за чепуха?»
Сухие пальцы вжали меня еще глубже в риттеровское кресло. Теперь я почувствовал, основательно почувствовал (ведь ничего другого я не чувствовал), как ее острый локоть впился в мои ребра. И тут Шлоттау пустил в ход раскаленные докрасна щипцы.
(На экране возникли вы в роли диктора, читавшего рекламу, вы и возвестили: «Ирригатор «Аква» снабжен электронасосом». Но в эту же секунду запахло жареным.)
«Здесь что-то горит, Шлоттау. — (Только мои губы, челюсти и язык потеряли чувствительность, обоняние я не потерял.) — Пахнет горелым. Неужели раскаленные щипцы да в мою губу…»
Нет, боли я не ощущал, только ярость. Он это делал нарочно. Решил выжечь на мне свое клеймо. По ее желанию. (В ярости я не находил подходящих слов.) На смену ирригатору «Аква», а вместе с ним и моему дантисту, пришел «Ржаной хлеб без примесей», но в комнате по-прежнему пахло… яростью. Теперь рекламировали большую посудомоечную машину, показывали смеющуюся домохозяйку, которой посудомойка сэкономила массу времени, но ярость моя все возрастала, хотела обрушиться на встроенную мебель, разбить ее в щепки. Ярость прокалывала автопокрышки «Данлоп», сбивала лампочки «ОСРАМ». Из собравшихся гармошкой носков, по штанинам ярость поднималась кверху. Еще не выплеснувшаяся ярость, накатывающая ярость, заглушает ярость отбушевавшую. Ярость, доводящая до судорог. Ярость, которая, хоть и молча, вопиет к небесам. (Никогда мой 12 «А» не вызывал у меня такой ярости, несмотря на все провокации Веро Леванд.) Ярость эта была сорокалетней давности, хорошо выдержанная, постепенно накапливающаяся, выбивавшая пробку из бутылки. Ведь ей надо было выйти наружу, эссенция ярости. Черно-белая ярость, без полутонов, пласт за пластом. Ярость-против-всех-на-свете. Мазок ярости. Эскиз ярости — бульдозеры! Я рисовал, воссоздавал в уме десять тысяч яростных бульдозеров, которые очищали телеэкран, вообще все вокруг; они крушили, мяли, громоздили друг на друга весь этот утиль, изобилие и комфорт, этот застой, а потом, перевернув вверх дном, толкали с заднего плана через средний к выпуклости телеэкрана. И дальше опрокидывали — куда дальше? — опрокидывали в зубоврачебный кабинет, нет, в то же пространство, нет, в пустоту…
Мне это удалось еще раз. Они меня послушали. Несчетное число бульдозерных бригад утюжило торговые центры, складские помещения для новых товаров и для запчастей, здания холодильников, где потели горы масла, заводские корпуса, где наматывались рулоны, научно-исследовательские институты, где равномерно гудели агрегаты; я сказал — утюжили, да, сравнивали с землей прокатные станы и конвейеры. Универмаги падали на колени и поджигали друг друга. А над всем этим разносились пение «Burn, ware-house, burn»[46] и голос зубного врача, который уверял меня, что, снимая колпачки, он допустил маленькую оплошность — из-за его раскаленного пинцета я получил ожог.
— Да, мне очень жаль. Смею заверить, со мной этого никогда не случалось. Но нам поможет специальная мазь от ожогов.
И вовсе ему не было жаль. Человеку, который сразу вспомнил мазь от ожогов и всегда держит ее под рукой, незнакомо чувство жалости, он все делает сознательно; но и я хотел того, что сделали бульдозеры. Мне так основательно удалась радикальная чистка, что даже Линда и Шлоттау исчезли. Признаться, я обрадовался, что не тот, а этот снимал последний колпачок. Я смирился с тем, что помощница — у нее были пальцы как железные зажимы — не давала мне закрыть рот. И поскольку зубной врач извинялся все снова и снова, я смягчился:
— Оплошность может случиться с каждым, доктор…
Я ему простил, но дантисту трудно было примириться с тем, как я очистил телеэкран.
— Вам и на этот раз удалось вызвать из небытия пустую пустоту.
— Что ни говорите, доктор, людей всегда тянет начать с нуля, пускай чисто умозрительно.
— Стало быть, вам нравится эта ваша… пустота?
— Прежде всего, я освободил площадку.
— Путем насилия, мой милый. Путем насилия!
— …А теперь уже можно кое-что построить, нечто кардинально новое…
— Что именно, разрешите спросить?
— По-настоящему бесклассовое общество, а в качестве надстройки — всеобъемлющую педагогическую систему. Она явно напоминает вашу профилактику на базе социального обеспечения…
— Ошибаетесь. Глобальная профилактика и терапия — результат медленных, часто запоздалых реформ, а не результат слепых сил, которые могут создать лишь пустоту. Мы позволили себе зафиксировать ваш процесс уборки бульдозерами. Пока моя помощница и я будем готовиться к установке двух ваших нижних мостовидных протезов — взгляните, отличная работа! — вы увидите, как после пустоты — и из пустоты! — появится то самое, что было раньше, до пустоты.
(Я пытался познакомить его с требованиями радикального крыла моего класса, 12 «А»: специальная курилка, право голоса для учеников, право увольнять реакционных педагогов по требованию школьного комитета… Но он заговорил меня до смерти, повествуя о сообщениях клиник, проводивших опыты по использованию дентального цемента «Эба № 2», который закрепит мои мостовидные протезы.)
— Да, «Эба № 2» пришла к нам не из пустоты, она результат многих серий экспериментов, иногда кончавшихся неудачей. Поэтому мы можем на нее положиться. Тем более что «Эба № 2» благодаря входящему в ее состав кварцу нетеплопроводна — она защищает даже от ледяной воды, чего никак не скажешь о всех других дентальных цементах, продающихся у нас. Но ведь вы не верите в поступательное движение. Хотите создавать диктаторскими методами. Начинать с нуля. Просто смех. Впрочем, пожалуйста. Посмотрите, что вам примерещится взамен пустоты…
Он от меня хитро отделался, и все пошло обратным ходом: из пустоты выросли пастбища для потребителей, сожженные универмаги («Burn, ware-house, burn!») загорелись снова. Потом огонь стих, и показались целехонькие, набитые до отказа магазины. Мои бульдозеры, только что прилежно сравнивавшие с землею продуктовые склады и силос из масла, пятясь назад, возрождали все заново. Раньше они крутили и сминали, теперь ставили на попа и разглаживали. Из профессионалов-разрушителей выросли мастера-реставраторы. Разбитую в щепки встроенную мебель, расплющенные мягкие гарнитуры, раздавленные фургончики-прицепы и сбитые электролампочки «ОСРАМ» они сейчас сколачивали, обивали заново, чинили и ввертывали в патроны. Равномерно загудели агрегаты в научно-исследовательских институтах. И в морозилке опять собрались ее прежние постояльцы. (В самом низу она сохраняла в свежезамороженном виде мою невесту.) Песнь песней рекламы звучала одинаково, что сзаду наперед, что спереди назад. И когда «Ржаной хлеб без примесей» начал себя рекламировать, я уже ожидал ирригатора «Аква»: «…Пора кончать с устарелыми зубными щетками! Надо навсегда убрать этот балласт-бациллоноситель. Мы закончили эру щетины и провозгласили революционную эпоху пульсирующей водяной струи. Наступает новое бесклассовое время. Разбрызгиватель «Аква» доступен для всех, практичен…»
И вот уже мой зубной врач держит в руке удобный, изящной формы предмет.
— С помощью «Аквы», этого бесценного подарка медиков человечеству, я, пока на охлажденной стеклянной пластинке смешивают цемент, еще раз хорошо почищу вам рот, ведь «Аква» проникает в каждую щелку, трещинку, «карман».
Врач одновременно чистил и лечил. Потом высушил зубы струей теплого воздуха и надел мостовидные протезы сперва слева внизу, потом справа внизу.
— Разве это не успех? Четыре зуба мы обточили, превратив в опоры, а на них надели шесть новых зубов.
У меня было одно желание — очутиться на Гогенцоллерндамме, а он в это время расписывал свои мостовидные протезы, называя их «прогрессивными», а потом перешел к жакетным коронкам, которые охарактеризовал как «традиционные».
— А вы знаете, почему их так называют?
Мысленно я уже вел беседу с Шербаумом: «Разве вам не интересно, став главным редактором захудалой школьной газетенки, сделать из нее нечто?»
— Обтачивая зуб, вы создаете как бы уступ — нечто вроде плеча, на который надевается жакет…
«Это далеко не простая задача, Филипп!»
— Но такого рода коронки не выдерживают экстремальных нагрузок.
«Вы могли бы опубликовать в новой газете свое предложение: заменить закон божий уроками философии…»
— Скажем, наступает осень. Вы охотно едите диких уток, куропаток, рагу из зайца? Да? Ну вот, стоит зубу попасть на дробинку, и фарфор ломается.
Однако Шербаум уходил от разговора насчет газеты. У него, мол, другие планы. Пока еще рано их обсуждать. («Временно он положил их в долгий ящик».) Мой ученик покинул меня в зубоврачебном кресле.
— Ну, а при ваших мостовидных протезах поломка, напротив, исключена, так как фарфор связан с платиново-золотым основанием с помощью окиси. Тем более, здесь применено специальное легирование. Оно-то и держит продукцию «Дегуссы»[47], тс-с, ее патенты — государственная тайна. Вот, а теперь опять включим изображение. Однако будьте осторожны в выборе слов. Можно повредить только что поставленным мостам. Все пойдет коту под хвост. Придется нам опять начинать с нуля… пользуюсь вашим выражением. Ну? Видите? Классная работа. Не правда ли?
Да, ничего не скажешь. Переливаются перламутром, прямо голодный оскал. А как он подобрал цвет — белизна с легкой желтизной, переходящей в серое. Артист в своем деле. Зубы более натуральные, чем настоящие зубы. («Как вы считаете, Шербаум? Стоила овчинка выделки? Или мне опять следовало пустить тягачи и экскаваторы, чтобы…»)
— Я ничего не говорил, доктор. Ничего!
(Только сейчас я заметил на своей нижней губе под прозрачным, как стекло, слоем мази от ожогов большое латинское «L», выжженное дантистом. Он хотел оставить на мне свою мету. Я уже меченый. О Линдалиндалиндалинда.)
— Вы перенесли все, как истый стоик.
Его помощница аккуратно отсчитала мне две таблетки арантила.
— Теперь сделаем перерыв на неделю, а потом займемся вашей верхней челюстью.
Я попытался слизнуть мазь от ожогов.
— Мне очень хотелось бы растянуть перерыв недельки на две.
Врач и помощница ждали, когда я уйду.
— Ну что ж, и через две недели я смогу выкроить время, чтобы вас принять.
— Мне необходимо заняться моим 12 «А». Особенно тревожит меня один ученик.
— Позвоните, если что-нибудь не так. Ваши довольно слабые десны склонны к воспалительным процессам.
— Шербаум должен взять на себя школьную газету, но пока сопротивляется.
— Рецепт на мазь от ожогов я вам выписал. Ну и, конечно, рецепт на ваше постоянное лекарство.
— При том Шербаум одаренный юноша. Он что-то замышляет.
— Две упаковки болеутоляющего — надежные костыли на эти две недели…
Я пошел. Однако в дверях еще раз обернулся, чтобы в последний разок подразнить его — призвать к радикальной чистке бульдозерами, но, обернувшись (увидел на телеэкране, как я оборачиваюсь и собираюсь что-то сказать), ничего не сказал и вышел из кабинета.
2
Штудиенрату Эберхарду Штарушу пришлось заняться лечением зубов, дантист предпринял вмешательство, коснувшееся нижней и верхней челюстей пациента, с тем чтобы исправить его прикус.
Закончив лечение нижней челюсти, зубной врач договорился со штудиенратом о двухнедельном перерыве; штудиенрат покинул кабинет дантиста со словом «перерыв» на своем опухшем языке. И с ощущением того, что местная анестезия постепенно отходит.
— Вы ведь знаете, что вам еще предстоит. Попытайтесь хоть немного передохнуть.
Когда штудиенрат подъезжал на такси к своей улице, две таблетки арантила, которые он принял в кабинете зубного врача, еще не подействовали. Выходя из такси и вставляя в замочную скважину свой ключ от парадного, он чувствовал боль. Перед домом рядом с пуговками звонков — по шесть квартир на каждом из восьми этажей — штудиенрата ожидал ученик, который хотел с ним поговорить: ученикам нередко надо поговорить со своими учителями.
— Срочно, — сказал он.
Штудиенрату пришлось открыть рот при температуре минус Два.
— Только не сейчас, Шербаум. Я возвращаюсь от зубного врача. Это так спешно?
Ученик Шербаум ответил:
— До завтра может подождать. Но разговор все-таки срочный. — Он держал на поводке собаку, длинношерстную таксу.
Прежде чем я вошел в дом, они убежали.
Он учил, ходил гулять, готовился к, надеялся на, подводил итоги, приводил примеры, оценивал, воспитывал.
Учитель — это понятие. От учителя чего-то ждут. От определенного учителя ждут еще большего. Учителей не хватает. Ученики садятся за парты и глядят перед собой в пространство.
Когда учителю пришлось обратиться к зубному врачу, он сказал ученицам и ученикам: «Подумайте о своем бедном преподавателе, он попал в лапы зубодера, он страдает».
Учитель как таковой. (Сидит под стеклянным колпаком и проверяет сочинения.) Учитель, разложенный по полочкам: учитель начальной школы, педагог реального училища, штудиенрат, учитель в школе-интернате, учитель профессионального училища. Воспитатель или педагог. (Когда мы здесь говорим об учителе, мы подразумеваем германского учителя.) Он обитает в Педагогической провинции, размер которой никто так и не узнал, которая, еще будучи в проекте, уже нуждалась в реформах и которая, несмотря на ограниченность, претендовала на мировой масштаб.
Учитель — это фигура. Раньше учителя были чудаками. Даже сейчас не задумываясь говорят «училка», вспоминая о своем учителе; впрочем, и я называл своего зубного врача «зубодером», желая придать ему эдакую садистскую черту. (Когда мы болтали с ним, мы воспринимали «зубодера» и «училку» как нечто абстрактное, не задумываясь над грубостью этих слов.)
Он сказал:
— Конечно, существует множество разных анекдотиков, в которых вся соль вот в чем: дантист, дескать, чуть ли не палач. Словом, коновал.
Я заметил:
— Перед учителем всегда стоит — независимо от того, в какой класс или в какой школьный двор он входит, независимо от того, на каком родительском собрании дает объяснения, — перед ним стоит фигура Учителя. Учителю надо всегда помнить о своих предшественниках. Не только о тех, кто преподавал ему самому, но и о литературных образах. О докторе Виндхебеле писателя Клуге[48] или о персонажах Отто Эрнста[49]. Да, так называемый обобщенный образ учителя является мерилом для нас. Вот, например, учитель у Иеремии Готхельфа[50]. (До сих пор нас еще меряют радостями и горестями его сельского учителя.) Учитель — сын другого учителя, как, скажем, у Раабе[51] в его «Хронике Воробьиной улицы». Уверяю вас, все эти учителишки: Вуц, чахоточный Карл Зильберлёффель, даже Флаксман как воспитатель, — все, кто бросал нам педагогические крохи со своего богатого стола, к примеру, шульрат Поллак и учитель Карстен, преподававший в глуши, а также учитель Гримма Рёльке, вообще все штудиенраты, о которых говорят, они филологи, а стало быть, находятся в особом положении, штудиенраты у Вихерта[52] и у Биндинга[53],— все они засели в нашем сознании, и именно по ним мерят нас, грешных. И говорят: «Мой был совсем другим…», «Мой напоминает…», «Чтобы понять моего, надо прочесть, Фельдмюнстера“». Вот почему я и утверждаю, те учителя, какие мне запомнились, вели себя совсем не так, как ведут себя их собратья в книгах или в кинолентах: разве бедного учителя Вендта можно сравнивать с его коллегой Гнусом; как-никак Вендт читал о Гнусе, а Гнус о Вендте — нет… Интересно, с кем будут сравнивать меня мои ученики? Ведь и я, наверно, останусь у них в памяти.
На все это мой зубной врач ответил, что в моем перечне не хватает учителя из книг современных авторов.
— Впрочем, ничего странного я в этом не вижу, ведь и зубные врачи почти не встречаются сейчас в литературе, даже в комедиях. (За исключением, может быть, детективов: например, «Микрофон в мостовидном протезе».) Мы никого не интересуем. Точнее — в данное время мы никого больше не интересуем. В лучшем случае — мы играем второстепенные роли. Мы работаем слишком незаметно и не причиняем боли. Благодаря местной анестезии мы уже не кажемся оригиналами.
При том в приверженности моего дантиста к эволюционному развитию я видел что-то чудаковатое, очевидно, и он воспринимал мои бунтарские порывы тоже как нечто комичное или просто глупое. Он придумал поголовную профилактику. Я придумал глобальную Педагогическую провинцию. Два утописта, не видящие недостатков в своем деле, один — чокнутый, другой — дурень. (Неужели я правда такой? Вызывает ли тот, кто учит, кто чувствует себя ничтожным по сравнению со своим предметом, который он преподносит буквально по крохам, вызывает ли он насмешку у собственных учеников?)
Мои ученики посмеивались, когда я начинал сомневаться в учебниках.
«В них нет смысла, только внешне упорядоченный хаос… Почему вы улыбаетесь, Шербаум?»
«Потому что вы, несмотря ни на что, продолжаете преподавать и — как я не без оснований полагаю, — несмотря ни на что, ищете смысла в истории».
(А что мне остается делать? Сбежать с уроков, встать посреди школьного двора или на ближайшем педсовете и закричать: Прекратите! Прекратите! «Правда, я сам не знаю, что правильно, еще не знаю, что правильно, но это надо прекратить…»)
На бумажке написано: «Этого ученика я люблю. Он меня беспокоит. Чего он хотел? Что именно может подождать до завтра?»
(Согласен ли он наконец заняться школьной газетой? Согласен ли стать ее главным редактором?)
Часто Шербаум относится ко мне не без снисходительности.
«Не надо воспринимать все столь трагически, историю и прочее. Ведь и весна бессмысленна. Разве нет?»
Может быть, я и впрямь чудак. Мне надо было пропустить мимо ушей известие о том, что у моего ученика возник план.
Зубному врачу я сказал по телефону:
— У одного из моих учеников возник план. Послушайте-ка. После урока мальчик подошел ко мне и сказал: Я кое-что задумал». Я спросил: «Могу я узнать, что именно? Уж не хотите ли вы эмигрировать?» А он ответил: «Я сожгу своего пса». Я произнес: «Тактак», что могло означать: «Довольно-таки странно». Тогда он пояснил: «Сожгу на Курфюрстендамме перед кафе Кемпинского. И притом после обеда, когда там полно народу». Тут я должен был бы покачать головой. («Ваше дело, Шербаум».) Или просто повернуться к нему спиной. («Хватит болтать глупости».) Но я не ушел, я спросил: «А почему именно там?»
«Чтобы пронять этих дам в модных шляпках, которые жрут у Кемпинского пирожные».
«Собак нельзя сжигать».
«Людей тоже нельзя».
«Согласен. Но причем здесь собака?»
«При том, что в Западном Берлине любят только собак, и никого больше».
«Но почему как раз вашу собаку?»
«Я привязан к Максу».
«Стало быть, жертва?»
«Предпочитаю назвать это „наглядное просвещение“».
«Собаку сжечь не так просто».
«Я оболью ее бензином».
«Но ведь она живое существо. Речь идет о живом существе!»
«О бензине я позабочусь. Созову газетчиков, телерепортеров и вывешу плакат: «Это всего лишь бензин, а не напалм…» Пусть поглядят. Когда Макс загорится, он побежит. Вспрыгнет на столы с пирожными. Может, что-нибудь подожжет. Надеюсь, они поймут тогда…»
«Что им надо понять?»
«Поймут, что значит сжигать».
«Вас убьют на месте».
«Не исключено».
«Вы этого хотите?»
«Нет».
Я говорил с Шербаумом минут десять. По правде, я был уверен, что его таксе ничего не угрожает. Но своему дантисту я сказал:
— Как вы считаете, к этому надо отнестись серьезно или только сделать вид…
Он спросил, не прошло ли воспаление, как мои десны, заживает ли маленькая ранка от ожога на нижней губе. А потом прочел мне целое наставление:
— Спросим себя сперва, почему вообще что-нибудь должно случиться? Раз ничего не случается, что-нибудь да должно случиться. Помните слова Сенеки о боях гладиаторов? «Ведь сейчас перерыв… Значит, пора перерезать людям глотку, чтобы заполнить пустоту!» Для заполнения перерыва годится и огонь! Хотя публичные сожжения не отпугивают, они пробуждают похоть.
(Это я скажу Шербауму, это я скажу Шербауму…)
Сделай, что ты задумал. Когда никто ничего не делает, все идет своим чередом. Я на твоем месте точно сделал бы и еще кое-что посерьезней. Вот, например, та плавучая база для подводных лодок. Тогда шла война. Всегда идет война. Для этого хватает причин. Хватало. Правда, я не уверен, что это были мы, а не ученики у Шихау[54], которые под предводительством Мооркене создали свой собственный ферейн, их пускали на территорию верфи, ведь плавучую базу поставили в сухой док на ремонт, но на ней осталась команда; пожар занялся сперва на палубе, потом перекинулся внутрь, фенрихи и кадеты пытались было протиснуться через иллюминаторы, люди говорили: они так орали, что их пришлось расстреливать с баркасов. Доказать насчет нас (и насчет тех ребят) оказалось невозможно. Да, мы и не то еще делали. И у нас был свой талисман. Мы называли его Иисус. Иисус помогал от огня…
На школьном дворе я сказал Шербауму:
— Публичные сожжения не отпугивают, они пробуждают похоть.
Он стоял, склонив голову набок.
— Когда сжигают людей, это, возможно, так и есть. Но, ручаюсь, западные берлинцы не выдержат вида горящей собаки.
Я дольше собирался с мыслями, чем он.
(Веро Леванд зигзагами вела свой велосипед по школьному Двору.)
— Вы, значит, решили? — (Она со своим велосипедом втиснулась между нами.) — Представляете, какой вой поднимут газеты, к примеру «Моргенпост».
— Ну и что? — Это сказала Веро.
— Все давно известно. — Это сказал Шербаум.
— Люди скажут: он трус. Пусть бы лучше сжег себя, если хотел предостеречь от напалма.
— Раньше вы уверяли, что сожжение людей пробуждает похоть.
— И продолжаю стоять на этом. Давайте вспомним давнее прошлое. Жестокие бои гладиаторов. Сенека сказал…
(Веро прервала меня, повторив: «Ну и что?»)
Шербаум заговорил тихо, но убежденно:
— Горящая собака их проймет. Ничто другое их не проймет. Они могут читать все подряд, рассматривать иллюстрации с лупой или придвигаться вплотную к телеку, бормоча: «Плохоплохо». Но когда они увидят, как горит мой пес, то пирожные вывалятся у них из пасти.
Веро Леванд предостерегла его:
— Внимание, Флип. Теперь он начнет тебе заливать насчет объективности…
В ответ я стал рыться, так сказать, в анналах истории:
— Послушайте меня, Шербаум. Во время войны — я имею в виду последнюю войну — в моем родном городе саботажники подожгли плавучую базу для подлодок. Команда — сплошь фенрихи и кадеты — попыталась было покинуть судно через иллюминаторы, но люди застряли, протиснувшись только наполовину… Огонь охватил их снизу… Вы представляете себе? Или, например, Гамбург; там бросали зажигалки, и загорались целые улицы, горел асфальт. Люди выбегали из горящих домов и попадали прямо в огонь. Вода не помогала. Горящих людей закапывали в песок, чтобы прекратить доступ воздуха. Но как только воздух опять проникал, они снова начинали гореть. Теперь это никто не может себе представить. Вы меня понимаете?
— Точно. И именно потому, что это никто не может себе представить, я должен облить бензином своего Макса на Курфюрстендамме и поджечь, и притом в часы пик.
Мы по-прежнему связывались по телефону.
— Неужели я должен сообщить властям о Шербауме?
Зубной врач посоветовал не делать этого.
— Да я и не смог бы, при всем желании. Неужели я, именно я, буду сообщать? Да я скорее…
Он перемежал зубоврачебные рекомендации ироническими замечаниями, как бы в скобках.
— Давайте учиться у католиков, будем больше слушать.
После моего урока Шербаум сразу покинул класс. Я склонился над классным журналом. Из учительской был виден школьный двор. Ребята стояли кучками, Шербаум подходил то к одной, то к другой — раньше он избегал этого. Немного погодя он отошел в сторону с Веро Леванд к крытой велосипедной стоянке. Она что-то говорила, он молчал, склонив голову набок.
Мне хотелось завести разговор с Ирмгард Зайферт.
— Знаете, — сказала она, — иногда я надеюсь, что произойдет нечто такое, что разрядит атмосферу. Но ничего не происходит.
Зайферт оставила лютеранскую церковь — она совершила это в ту пору, когда у нас началось перевооружение, стало быть, более двенадцати лет назад, по ее словам, это был спонтанный ответ на согласие ее церкви с созданием бундесвера, — после этого гневного отречения она еще чаще стала мечтать об очистительной грозе. («Сегодня, уже сегодня должно что-нибудь произойти!») Она слепо верила в своих семнадцати-восемнадцатилетних учеников, возлагала на них все надежды.
— Новое, ничем не отягощенное поколение, поверьте мне, Эберхард, покончит со всеми этими призраками прошлого. Нынешние парни и девушки хотят начать с самого начала. И они не станут, как мы, без конца оглядываться назад, они не побоятся реализовать свои возможности.
(Сейчас, как и прежде, она говорит так, словно перед ней гулкие залы.)
— Мы должны уповать на новое поколение, отважное, полное созидательных сил, и притом деловое.
Мне оставалось только одно: преподнести ей в ответ свои кислые замечания и стоять на своем.
— Оглянитесь вокруг. Война сделала нас трезвыми скептиками. Не правда ли? Разве мы не следили за каждым шагом взрослых, разве не встречали их слова недоверчиво? Но толку все равно чуть. В возрасте от тридцати пяти до сорока мы стали солидными бюргерами, которые не желают вспоминать о своих поражениях. Мы научились оценивать обстановку. Когда надо, расталкивать всех локтями, приспосабливаться, держать нос по ветру. Ни в коем случае не связывать себя. Теперь мы не только хитрые тактики, но и хорошие специалисты, которые стремятся достичь успеха и даже — конечно, если не возникнет непредвиденных трудностей, — и даже добиваются его. Вот и все, что из нас вышло.
Разговор начался в учительской, а продолжали мы его у меня дома. В моей «холостяцкой берлоге», как называет ее Ирмгард Зайферт. Все, что стояло в комнате, прислушивалось. Письменный стол с неоконченной рукописью. Полки с кельтскими черепками. Между ними были и римские черепки из предгорий Эйфеля. Книги, пластинки. На моем новом берберском ковре тоже валялись книги и пластинки.
Как всегда, мы сидели на диване, держа в руках рюмки с мозельским, сидели на некотором расстоянии друг от друга и — осмысленно или, наоборот, двусмысленно — не приближались друг к другу. Ирмгард Зайферт, глядя поверх рюмки, сказала:
— Я с вами согласна, хотя мне и не хочется в этом признаться. Несомненно, наше поколение оказалось банкротом. Но разве те, кто надеялся на нас, на самом деле ждали от нас избавления, а не искали тут удобной лазейки для себя? Нами пожертвовали, вот почему мы не смогли принести себя в жертву. Уже в семнадцать лет на нас было клеймо преступного режима, и мы не могли повернуть историю, да, мы не могли.
В этом она была вся… до сих пор еще она вся в этом.
Повернуть историю. Спасение. Очищающая гроза. Жертва. Но стоило мне заговорить о Шербауме и его плане, как она начала проявлять признаки рассеянности — протянула руку к книгам и пластинкам, опять положила их на ковер. С нетерпением она слушала, как я досконально разбирал план Шербаума со всеми вытекающими из него последствиями. Едва я кончил, как она уже снова принялась в высокопарном стиле изобличать порочность нашего поколения.
— Мы уже были сломлены, прежде чем успели начать строить заново. Теперь нас уберут с дороги.
— Кто нас уберет с дороги?
— Новые люди, еще не знаемые нами, грядущее поколение…
— Я думаю о своем ученике Шербауме…
— Нас выбросят на свалку истории…
— …который, кстати, и ваш ученик одновременно…
— …вместе с прочим мусором истории, оставленным…
— …когда я думаю о нем и его отчаянном плане…
— Вы должны понять, Эберхард. Мне минуло семнадцать. И я была, как выразились бы вы, правоверной ослицей из союза немецких девушек. Да, была уже мечена, они выжгли на мне свое клеймо…
— …тем не менее мы обязаны помешать Шербауму.
— …да, мне казалось, что я поступаю правильно, стремясь уничтожить в лице того крестьянина врага…
Я не дал Ирмгард Зайферт погрузиться с головой в воспоминания о лагере для эвакуированных детей, изменив тему разговора: мы проболтали о школьных делах за полночь. Сперва поговорили о градациях поощрений и о тестах для выявления способных детей, потом о наглядности учебного материала, не без иронии помянули о том, что воспитание это, в сущности, диалог, обсудили новые правила, по которым будет проводиться второй государственный экзамен на замещение учительских должностей. Не обошлось, конечно, и без анекдотов, они были в ходу, когда я и она работали стажерами. Весело, хоть и с несколько вымученным весельем, мы изобразили кое-кого из наших коллег. Я разыграл целую сценку — педсовет, на котором обсуждался «вечный вопрос»: обеспечение учебными пособиями. Ирмгард Зайферт смеялась:
— Да, мы бедные трудяги на ниве просвещения…
Ну а потом мы перешли к своей излюбленной теме: к гамбургскому эксперименту создания унифицированной всеобщей школы, тут мы придерживались одного мнения — с помощью такой системы можно будет отменить все устаревшие формы вступительных экзаменов и перевод из одного класса в другой; в общем, выяснилось: мы оба хотим идти одной и той же дорогой реформ, и я было решил, что ободрил свою коллегу. Но когда Ирмгард уже уходила — задержалась между входной дверью и лифтом, — она опять затосковала по очистительной грозе:
— Не появляется ли у вас время от времени безумное желание: пусть что-нибудь случится, нечто совершенно новое, чему нет названия, пожалуйста, не смейтесь, Эберхард, нечто, что сокрушит всех нас…
(На бумажке я записал: Как робко и невнятно моя всегда столь трезвая коллега призывает к своей погибели.)
Что за странная идея разводить декоративных рыбок? Их сложно кормить, поддерживать определенную температуру воды, подавать в аквариум кислород, бороться с паразитами… а потом смотришь — какой-нибудь вуалехвост уже плывет брюхом кверху, а завтра находишь в том же положении золотистого ерша. Гуппи пожирают собственных детей. Отвратительное зрелище, хотя видишь его в преломлении.
— Надо вам бросить эту чепуху, Ирмгард.
— Разве нравы в вашем 12 «А» более цивилизованные?
Я позвонил своему зубному врачу и в ответ на его вопрос о моем самочувствии сказал:
— Хорошее.
Хотя десны у меня болели и каждые четыре часа приходилось полоскать. После этого я изложил ему свой план, который он назвал «типичным планом учителя», но все же согласился с ним и дал ряд практических советов, вполне по-деловому, кратко, словно речь шла о лечении больного корня. Он по буквам продиктовал адрес одного довольно зацикленного чудака, я разыскал этого субъекта в Райникендорфе, взял из его частного собрания пожелтевшие мерзопакостные картинки, заглянул в ульштайнский[55] архив и в земельную фототеку; всего я набрал около двадцати пяти черно-белых и цветных диапозитивов, которые показал Шербауму после уроков в нашем биологическом кабинете.
Сперва он пренебрежительно махнул рукой:
— Могу себе представить, что вы там выкопали. Все знаю.
Тогда я стал взывать к его благородству:
— Вы познакомили меня со своим планом, Шербаум. Так дайте же и мне, вашему учителю, тоже шанс.
Он уступил и обещал прийти.
— Ну хорошо. Только для того, чтобы вы могли сказать впоследствии: «Я сделал все, что было в моих силах».
Он пришел и привел свою длинношерстную таксу («Макс тоже хочет поглядеть»). И вот я показал им всю намеченную программу: сперва примитивные гравюры на дереве с изображением костров, на которых в средние века сжигали ведьм и евреев. Потом погружение в кипящее масло для умерщвления похотливой плоти. Потом сожжение на костре Яна Гуса. Потом зверства испанцев в Южной и Центральной Америке. Потом сожжение вдов в Индии. Потом документальные снимки — действие первых огнеметов, жертвы зажигалок во второй мировой войне, кадры, снятые во время больших пожаров и после аварий самолетов; Дрезден, Нагасаки; под конец — самосожжение монахини во Вьетнаме.
Шербаум стоял рядом с диапроектором и не задавал вопросов, а я отбарабанивал все, что узнал об этой теме: из каких пород дерева складывали костры для ведьм (из дрока, потому что у него зеленоватый дым), о церемонии «очищения огнем» (преддверие ада), о жертвоприношениях на кострах, в общем и в частности (не только в Библии можно об этом прочесть), и о кострах из книг, начиная с костров инквизиции после соответствующих папских булл, кончая национал-социалистским варварством, рассказал и о празднике Солнцеворота, когда прыгали через огонь, и прочей чертовщине, а также о печах в нацистских крематориях. («Вы понимаете, Шербаум, что мне не хотелось бы подробно останавливаться на Освенциме».)
Когда я показал ему все диапозитивы, он заметил, держа на руках Макса:
— Но ведь это люди. А я хочу собаку. Понятно? Насчет людей все известно. Они это проглотили. Только приговаривали: «плохоплохо». Или: «как в средние века…» Но если я сожгу живого пса, и притом здесь, в Западном Берлине…
— Вспомните голубей. Их отравили. Назвали это широкомасштабной акцией, и тоже здесь, в Западном Берлине…
— Совсем другое дело, ясно. Их было множество. Они мешали людям. Все запланировали заранее, оповестили, у каждого было время приготовиться и не смотреть. И они это в упор не видели. Стало быть, порядок…
— О чем вы говорите, Шербаум…
— Говорю об умерщвлении голубей… Я знаю также, что раньше поджигали крыс, чтобы прогнать крысиные полчища. Случалось, что устраивали пожар, запуская горящих кур. Но никто ни разу не видел горящую и воющую на бегу таксу, да еще в Западном Берлине, где все помешались на собаках. Если они увидят собаку, объятую пламенем, то наконец поймут, что американцы сжигают во Вьетнаме людей, сжигают ежедневно.
Шербаум помог мне сложить диапозитивы. Надев клеенчатый чехол на диапроектор, он поблагодарил за показ, устроенный для него:
— Было, прямо сказать, интересно.
Отдав обратно одолженные диапозитивы (я отослал их заказной бандеролью) старому чудаку в Райникендорфе, я понял всю смехотворность моего поражения (так, наверно, чувствует себя Ирмгард Зайферт, которая ежедневно терпит фиаско с аквариумом).
Потом позвонил зубному врачу и выслушал его соболезнования по поводу моего неудачного эксперимента.
— Но мы не будем сдаваться и не позволим судьбе играть с нами свои дурацкие штучки. — Засим последовала цитата из Сенеки, а также сказанные в сторону слова: — Выступающие верхние зубы…
(Его помощница, видимо, записывала что-то в карточке пациента.) Он опять вернулся к нашему разговору.
— Не заметили ли вы у своего ученика признаков жалости к собаке?
— Пожалуй, да. Пожалуй-пожалуй. Шербаум проводил меня до остановки автобуса, ведя свою таксу на поводке. И впрямь забавное животное. Незадолго до того, как автобус пришел, он поклялся, что история с Максом — так зовут пса — мучает его. Таксу эту он взял уже четыре года назад.
— Стало быть, еще есть надежда, — сказал зубной врач.
— «Спутник надежды — страх».
Дантист прокомментировал это изречение:
— Сенека ссылается здесь на некоего Гекатона, который сказал: «Когда перестанешь надеяться, перестанешь бояться…» Но поскольку ваш ученик нас беспокоит, мы имеем право надеяться и — что ни говори — существует повод для страха. Не так ли?
— Я лично надеюсь на то, что парень подхватит тяжелый грипп и его уложат в постель…
— Все-таки вы надеетесь. Все-таки.
После этих слов зубной врач дал мне понять, что у него на письменном столе лежит еще много десятков не до конца заполненных карточек больных.
— Вы ведь знаете, что я с особым вниманием отношусь к лечению детей дошкольного возраста. Кариес перешел в наступление. Число детей, у которых поражены молочные зубы, ужасающе велико. Статистики утверждают, что у девяноста процентов подростков, миновавших переходный возраст, гнилые зубы. Согласен, это болезнь цивилизации, но уйти в джунгли — тоже не выход…
Прежде чем мы оба положили трубки, дантист не преминул осведомиться насчет арантила:
— Хватит ли вам его?
(У меня был достаточный запас арантила.) А также запас бумажек, которые я складывал одну к другой. «Мальчик губит себя. Мальчик губит меня». Как я буду себя чувствовать, когда он это сделает. Надо считаться и со мной тоже. Как будто я этого не хочу. Или, может, ударить самому, устроить генеральную уборку. (Десять тысяч бульдозеров…) Очистить атмосферу. Опять начать с нуля. Этот нутряной мятежный порыв охватывает меня после того, как я уже почистил зубы, и до того, как сел завтракать. Покончить с ханжами реформаторами и ощутить горячее дуновение мятежа, чтобы новое общество… Сейчас пора подготовиться к школьной экскурсии. Ну что же, пусть в Бонн. Сидя на галерке, мы сможем прослушать дебаты о среднесрочном планировании в области финансов. А потом я предложу им написать сочинение на тему «Как работает бундестаг?». Или «Если бы я был депутатом бундестага…». Можно придумать и провокационную тему: «Парламент или говорильня?..» Из Бонна стоило бы позвонить Линде: «Линда, это я. Да, я. Твой бывший… Да, знаю, уже давно. И не только голос у меня изменился. Нет, твой совершенно не изменился. Не встретиться ли нам? Где? Лучше всего в Андернахе на променаде у Рейна. Я буду ждать на крепостном валу. Между табличками с молитвами, обращенными к деве Марии. Ты еще помнишь? На два-три часа я могу отлучиться. Не хочешь со мной наедине? Управляющий в отеле «Траубе»? Ах, так. Понимаю. Я должен быть паинькой и приличия ради привести с собой одного из учеников? Есть у меня на примете очень одаренный юноша по фамилии Шербаум. Рассказывал ему о нас, конечно намеками. Я имею в виду, о тебе и обо мне тогдашних. Утром были в бундестаге. Довольно-таки удручающее зрелище. Этот юноша, представь себе, хочет облить свою собаку бензином и сжечь. Публично. Нет, не в Бонне. У нас на Курфюрстендамме перед знаменитым кафе Кемпинского. Он говорит, потому что в Западном Берлине все помешались на собаках…»
Да, между прочим, я могу предложить Шербауму, если он не откажется от своего намерения. Дескать, Шербаум, моя прежняя невеста советует публично сжечь вашего пса не в Западном Берлине, где вы смутите всего лишь нескольких лакомок, а в Бонне, где находятся политики, власть имущие. Это можно устроить аккурат перед каким-нибудь важным заседанием бундестага, тогда, когда явятся сам канцлер и его министры…
Я поделился своей идеей насчет главного входа в бундестаг с Шербаумом и его подружкой Веро и услышал, что он сам уже об этом подумывал.
— Почему же тогда все-таки здесь, а не в Бонне?
— Там это пройдет незамеченным в общей сутолоке.
— Они просто посмеются, увидев, как горит Макс, и скажут: «Ну и что?» Такие истории они именуют «нарушением общественного порядка».
— Но в Бонне находятся власть имущие.
— На собаках помешаны только в Западном Берлине.
Я попытался высмеять Шербаума за его желание привязать эту акцию к определенному месту. Сказал, что она стала для него навязчивой идеей и что он, как и многие, переоценивает ситуацию в Западном Берлине.
Веро Леванд решила убить меня цифрами:
— Слыхали ли вы вообще, сколько собак здесь зарегистрировано?.. Ну так вот.
Она знает почти все. Ровным голосом (чуть в нос) произносит свои поучения. Не просит, а требует, и говорит всегда во множественном числе:
— Мы требуем решающего голоса при составлении учебных программ…
Она входит в группу, в которую Шербаум не вошел, носит ядовито-зеленые колготки и требует ввести новый предмет в школе — сексологию. Отнюдь не ограничиваясь физиологической стороной. Еще вчера она бегала с ножовкой, собирала «звездочки», а сегодня бросила эту игру. Чрезвычайно прилипчивая особа — впилась в свитер Шербаума, как клещ. («Иди к черту, от тебя воняет стадным инстинктом».) Впрочем, он относится к ней добродушно, так же добродушно, как и ко мне.
— Шербаум, я настоятельно рекомендую вам отказаться от этой безумной затеи…
Ирмгард Зайферт слушала, глядя мне прямо в лицо, склонив голову так, как ее обычно склоняют люди, внимательно следящие за ходом мыслей собеседника. Я распространялся насчет истории с Шербаумом, и она кивала в соответствующих местах. Мне казалось, что я читаю у нее в глазах удивление-понимание-потрясение. Но когда я спросил, что она думает обо всем этом и не может ли дать мне дельный совет, Ирмгард сказала:
— Вы, вероятно, поймете меня: эти старые письма в корне изменили мою жизнь…
Я попытался было вставить несколько словечек («Опять рецидив, прямо какой-то комплекс»), чтобы вернуть ее к истории с Шербаумом, но она, слегка повысив голос, продолжала:
— Вы, наверно, помните! Во время поездки к матери в Ганновер в одно из воскресений я наткнулась, роясь на чердаке во всяком хламе, на школьные тетради, детские рисунки, а потом и на письма, которые писала незадолго до конца войны как заместительница руководителя лагеря для детей, эвакуированных из городов…
— Вы мне уже рассказывали. Лагерь в Западном Гарце. В ту пору вам было столько же лет, сколько сейчас нашему Шербауму.
— Вы правы. Мне было всего семнадцать. Признаюсь, что я слепо верила в фюрера, в германскую нацию и отечество, но это было тогда чрезвычайно распространено. Тем не менее я краснею до сих пор, вспоминая свой истерический призыв дать нам противотанковые гранатометы. У меня хватало совести учить четырнадцатилетних мальчуганов стрельбе из этих орудий убийства…
— Но ведь ваша боевая группа, милая Ирмгард, так и не была введена в бой…
— Это не моя заслуга. Американцы не дали нам опомниться…
— И благодаря этому вашу историю вообще следует зачеркнуть. Кто может сегодня обвинить тогдашнюю семнадцатилетнюю девчонку, если наш нынешний федеральный канцлер, несмотря на свое прошлое, считается вполне приемлемым…
— Я потеряла всякое право судить о Кизингере. И никто не может меня оправдать. В конце концов, это я донесла крайсляйтеру на крестьянина, на простого крестьянина, только из-за того, что он отказывался, решительно отказывался, отдать свое поле, чтобы там выкопали противотанковый ров…
— Ваш справный крестьянин, как вы недавно рассказывали, умер лет десять спустя после этой истории естественной смертью. И я вас оправдываю, если вы не решаетесь сделать это сами.
Благодаря своему оправдательному вердикту я получил возможность увидеть Ирмгард Зайферт во гневе. Только что она сидела, но тут вскочила:
— Невзирая на всю нашу дружбу, я запрещаю вам решать мою проблему так поверхностно.
(Позже, все еще рассерженный, я отпустил несколько колких замечаний по поводу порядков, царивших в ее аквариуме: «Ну, а как обстоят дела у ваших жизнерадостных декоративных рыбок? Кто кого пожирает в данное время?»)
В учительской я был по-прежнему любезен:
— Ваша коллизия и комплекс вины должны дать вам силы, чтобы бережно руководить молодыми людьми, которые еще не могут направить свое все растущее недовольство в нужное русло, вот именно, бережно руководить ими.
Она помолчала немного; воспользовавшись паузой, я продолжал:
— Прошу вас, попробуем вместе представить себе: нашему Филиппу Шербауму всего семнадцать лет. Мир заставляет его страдать. Несправедливость, даже если ее совершают где-то далеко, травмирует его. Он не видит выхода. Или только один выход: публично сжечь свою собаку. И показать всему свету — или хотя бы западноберлинским обожателям собак, — подать им знак…
Тут она заговорила опять:
— Какая чепуха!
— Точно. Точно. И все же мы обязаны понять, что мальчик в безвыходной ситуации.
Сидя в учительской, где все дышало порядком, она сказала:
— Какая безответственная чепуха!
— Кого вы в этом убеждаете? И все же мне до сих пор не удалось отговорить мальчика от его намерения.
Архангел сказал:
— Тогда считайте, что вы обязаны сообщить об этом куда следует…
— Вы думаете…
— Я не думаю, я настоятельно советую вам.
— Кому же сообщить? Школьному начальству?
— При чем здесь школа! Пригрозите ему полицией. Тогда посмотрим. В случае необходимости, если не решитесь вы, я возьму это на себя.
(Ирмгард Зайферт связана с полицией… Следует считать — все еще связана?) Моему зубному врачу, с которым я говорил по телефону, идея Зайферт пришлась не по вкусу.
— Зачем же сразу обращаться к блюстителям порядка? Продолжайте убеждать мальчика словами. Разговоры отвлекают от действий.
Таким образом, я должен стать поборником правопорядка. Дантист рассуждал обо всем так, словно это кариес:
— Главное — это предупреждать. Никакого хирургического вмешательства, зубоврачебная профилактика. Когда мы наконец научимся бороться с болезнью на самой ранней стадии? Отлучим детей от сосок. Отучим дышать ртом. Дыхательные упражнения против дистального прикуса. Слишком много действий и мало результатов. Бросок на Луну — и в то же время отсутствие по-настоящему эффективной зубной пасты. Слишком много людей, рвущихся действовать. Не является ли любое действие актом отказа? Что-то назревает, еле-еле проклевывается, но вот приходит человек действия и с ходу распахивает окна теплицы.
— Стало быть, вы отрицаете, что ветер перемен (проветривание) в любом случае благотворен?
— Но ведь из-за этого прервался процесс развития, который все-таки обнадеживал.
Действие как лазейка. Необходимость перемен. Зло-действо как юридическое понятие. Прекратить болтовню. Начать действовать. (Мой зубной врач хочет утопить все в разговорах, исходя из того, что лучше слова, чем действия.) Помню, что он сказал, бросив взгляд на мой зубной камень. «Скверное зрелище. Камень надо ликвидировать радикально». Не уподобить ли капитализм зубному камню, который необходимо ликвидировать?
И все же. Разве вмешательство с целью исправления моей прогении не было действием — ведь дантист назвал мою прогению настоящей, поскольку она врожденная. Он сказал бы: в данном случае я руководствовался накопленным опытом плюс мастерство; однако поспешное удаление зубов — это мания: пациент согласен на дырку, лишь бы не болело. Опять же действие без учета накопленного опыта; глупость рвется действовать.
Стало быть, прилежание, сомнения, здравый смысл плюс опыт, осмотрительность, беспрерывное возвращение к исходной точке, едва заметные сдвиги, заранее предусмотренные ошибки, поступательное движение шаг за шагом. Одним словом, церковное шествие в троицын день[56]. Что касается человека действия, то он перепрыгивает через ступеньки, отбрасывает знания, ибо они его сдерживают; он ветрен и ленив: лень — трамплин для зло-действа.
А теперь посмотрим, что такое страх: развитие кажется нам (так оно и есть) незаметным. Часы не бьют и не оповещают о маленьком будничном прогрессе. Именно застой и холостой ход создают то, что получило печально знаменитое наименование — кладбищенский покой; моя коллега Ирмгард Зайферт нарушает его, выкрикивая: «Ах, если бы что-нибудь случилось!..» Затишье, а потери все растут, страшная, давящая тишина. Шербаум хотел бы ее взбаламутить — страх тоже толкает к действиям.
Зубной врач рассмеялся в телефонную трубку:
— Дети аукаются в лесу. Даже сотворение мира — оно было не единовременным действием, его растянули на несколько дней, — можно приписать страху, который выдавал себя за творчество. Дурные примеры заразительны. Люди действия называют себя творцами. До сотворения мира следовало бы побеседовать со старым джентльменом там, наверху. Вы ведь знаете мой тезис: разговоры мешают действовать.
На старости лет Сенека рекомендовал нам бездеятельность как итог накопленного опыта, раньше он писал речи Нерону, облекая его злодейство в слова. (Это было вроде тех советов, которые дает мне зубной врач.) Может, предложить им тему для сочинения «Что такое действие»? Или попытаться превратить Шербаума в Луцилия, чтобы он поучал, позабыв о деле… Хорошо говорить все это деловому дантисту, который удаляет зубной камень, борется со злом, предпринимает одно вмешательство за другим. Люди деятельные проповедуют бездействие.
Они собирались в кучки; Шербаум, постояв чуть-чуть, переходил от одной к другой. С начала года держалась холодная сухая погода. Ребята жались друг к другу. («Холодрыга» — на их языке, смахивавшем на язык диснеевского утенка Дональда, — означало, что им холодно, они говорили — какими-то усеченными словами: будьспок, чмок, тип-топ, блеск…) Веро Леванд закурила и передала сигарету по кругу («Ну и что?»). Даже воробьи собирались в стайки между стайками ребят.
Я задержал Шербаума на школьном дворе, задержал в буквальном смысле слова, преградив ему дорогу, когда он хотел перейти от одной кучки ребят к другой, стоящей неподалеку. Я начал с заранее приготовленных слов:
— Очень жаль, Филипп. Но если вы не откажетесь от вашего плана, мне придется сообщить о нем, причем сообщить в полицию. Вы понимаете, к чему это приведет?
Шербаум засмеялся так, как может смеяться один только Шербаум: даже не оскорбительно, скорее добродушно-снисходительно и с оттенком беспокойства, будто он хотел меня пощадить.
— Вы наверняка не сделаете это ради себя самого. Вы слишком себя уважаете.
— И все же я всерьез размышляю, как в случае необходимости сформулировать свое заявление…
— Вы просто не сможете это сделать, не сможете преодолеть путь до полицейского участка и прочее.
— Я вас предупреждаю, Филипп…
— Это никак не вяжется с вами.
(Веро оставила ребятам чинарик и приблизилась к нам в своих ядовито-зеленых колготках.)
Я стал как попало выкладывать свои доводы: бессмысленный, бесчеловечный, опасный, жестокий, глупый план. Я говорил и говорил: с одной стороны… именно поэтому… неправдоподобно… показатель бессилия… нереально.
Шербаума не удовлетворил ни один мой довод.
— Знаю, — заметил он. — Вы должны так говорить, вы же педагог.
Когда я сказал, что эта дурацкая выходка не принесет ему ничего, кроме дешевой славы, Веро Леванд влезла со своим:
— Ну и что?
— Госпожа штудиенрат Зайферт, если бы вы рассказали ей о вашем плане, сделала бы то же самое…
— Ах так. Архангел уже знает.
Прежде чем я успел придумать что-нибудь, вмешалась Веро Леванд:
— Она вообще пусть помалкивает. Она все время говорит о сопротивлении, о долге. — Веро довольно ловко передразнила Ирмгард Зайферт, но не пыталась воспроизвести ее голос. Она подражала ее языку, стилю, как бы цитировала. — Даже в самые мрачные часы нашего прошлого постоянно находились люди, которые действовали. Подавали знак. Грудью преграждали путь несправедливости. — Прищелкнув пальцами, Веро Леванд подала мне знак: — Ну, а теперь ваша очередь.
Перебираясь через сложные языковые конструкции: «Вы теперь наверняка считаете…» — или: «Сейчас вы могли бы заметить…», я построил длинный монолог, нечто вроде карточного домика, который Шербаум, потеряв терпение, разрушил в один миг.
— Почему вы не скажете: сделай это? Почему не скажете: ты прав? Почему вы не вселяете в меня мужество? Ведь на это нужно мужество. Почему вы мне не помогаете?
(Молчание, наступившее потом, было трудно выдержать. Никакие словесные ограды ни от чего не спасали. Решайся! Решайся же!)
— А теперь, Шербаум, мое последнее слово. Я возьму собаку в собачьем питомнике Ланквица, подожду, пока она ко мне привыкнет, а потом на том самом месте, которое вы выбрали, оболью ее бензином и подожгу. И я принесу с собой ваш плакат. При этом будут присутствовать газетчики и телеоператоры. Вместе с вами мы сочиним листовку, по-деловому проинформируем публику о действии напалма. Эту листовку вы и ваша приятельница сможете разбросать на Курфюрстендамме после того, как меня арестуют или — это тоже не исключено — изобьют до полусмерти. Согласны?
Школьный двор опустел. К нам подобрались воробьи. Мой язык нащупал оба инородных тела: мостовидные протезы производства «Дегуссы» по специальному заказу. Веро Леванд дышала ртом. А Шербаум глядел сквозь голые ветви каштанов, росших во дворе. (Так и я когда-то стоял глазел. Но не искал в воздухе точку опоры, я упирался взглядом в землю. Штёртебекер уже опять что-то задумал. У него есть план. У него есть план…) Последний звонок. А над всем этим самолеты панамериканской авиакомпании, летящие в Темпельхоф.
— Согласны, Филипп, согласны?
— Внимание, Филипп. Мао предостерегает нас от ученых всех мастей.
— Не суйся… Это еще надо обмозговать.
— Нет, отвечайте сейчас, Филипп. Согласны?
— Без Макса я это не могу решить.
Они ушли, я остался один. Моя рука нашарила в кармане арантил. Хоть какое-то подспорье.
— Понимаю, понимаю! — сказал мой зубной врач. — Вы хотите выиграть время, завести собаку, приучить ее к себе. А тем временем план Шербаума может перезреть. Или вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Всегда остается надежда на перемирие. А не то, глядишь, папа римский преподнесет человечеству энциклику, призывающую к миру. Биржа отреагирует нервно. Чрезвычайные послы встретятся на нейтральной почве. Недурственная тактика, недурственная!
— Я ни в коем случае не могу допустить, чтобы мальчишку линчевали, что не исключено.
Но зубного врача я не смог убедить.
— Я ведь говорю — это не безнадежно. Имея в виду вашу тактику.
Но я сам только на протяжении полуфразы верил, что хочу спасти Шербаума. (А ведь стоя перед зеркалом и бреясь, я твердо решил сделать это, сделать это.) Да, дантист, видимо, знал меня лучше. Изучил отскочивший с моих зубов камень.
— Попросите в Ланквице суку после случки. Таким образом, у вашего ученика появится возможность освободить вас от обещания. Не захочет же он, чтобы вы сожгли беременное животное.
— Такие циничные предложения могут прийти в голову только медику.
— Что вы. Я просто логически развиваю вашу мысль. А пока что с нетерпением будем ждать, что решат мальчик и такса.
А вдруг он и впрямь скажет: действуйте? Вдруг это ляжет на мои плечи. Вдруг он очень даже просто скажет «да», придя и сразу уйдя. Путей для отступления уже не будет (даже в частном порядке). Назвался груздем — полезай в кузов. Западноберлинский штудиенрат, 40 лет, протестует против войны во Вьетнаме и в знак протеста публично сжигает свою собаку, шпица… Но не на Курфюрстендамме. Лучше уж сделаю это у бундестага. Протест прозвучит весомей, серьезней. Все следует запланировать заранее. Сообщения для прессы через агентства. Предварительно официальный запрос в парламент. И еще, наверно, следовало бы написать моей бывшей невесте: «Милая Линда, приезжай, пожалуйста, в Бонн, и подойди к главному входу бундестага. И возьми с собой, пожалуйста, детей. И своего мужа, если это необходимо. Я хочу тебе кое-что показать, нет, нет, доказать: пойми наконец, что я не тот хоть и приятный, но возбуждающий жалость underdog[57], из которого ты во что бы то ни стало решила сделать учителя: в действительности, я настоящий мужчина, человек дела. Приезжай, Линда, приезжай! Я подам миру знак…»
Мой класс — вот кто выиграл от сложных отношений между учителем и учеником. Опираясь на факты, я пытался познакомить Шербаума с хаосом, царившим в истории. (Кроме него и Веро Леванд, класс был довольно средний; ученики медленно продвигались вперед или, скорее, тянулись кверху и не имели особых запросов.) Я старался показать абсурдность некоторых, казалось бы, вполне разумных действий. Сверх программы мы занимались Французской революцией и ее последствиями. Я начал с выявления причин. (Идеи просветителей: Монтескье, Руссо. Физиократы, которые критиковали меркантилизм в экономике и раз навсегда установленное сословное строение общества.) Без устали я обращал внимание Шербаума на столкновения между представителями либеральной и «тотальной» демократии. (Позднейший вариант — противоречия между парламентской — формальной — демократией и властью Советов.) Мы говорили и о моральном оправдании террора. Целый урок я посвятил звучащему во все времена лозунгу: «Мир хижинам, война дворцам!» Наконец, обратившись к документам, я разъяснил, как — и с какой жадностью — революция пожирает своих детей. (Тема бюхнеровского «Дантона» как доказательство абсурдности!) Да, все кончалось реформизмом. Проявив терпение, можно было бы достичь того же меньшей ценой. Именно так появился Наполеон. Революция и ее наследники. Небольшой экскурс — Кромвель. Абсурдная закономерность: революция сделала возможной реставрацию, которую должна уничтожить опять же революция. Аналогичные явления не во Франции: Форстер[58] в Майнце. (Как он там задыхается, как подыхает, как Париж его принимает, а потом выплевывает.) И еще я привел в пример Швейцарию — Песталоцци[59] отвернулся от революции из-за того, что она застряла в реформах и реформочках, а он стремился к великим преобразованиям, к созданию нового человека. (Сравни с Маркузе. Бегство в философию исцеления, удовлетворенность собственным существованием.) Осторожно я процитировал Сенеку, прежде чем цитировать павшего духом Песталоцци. «Когда люди станут лучше, они поставят во главе лучших людей…»
Еще до этого я записал свои опасения: «Не исключено, что Шербаум посмеется над тем, что я осторожно преподношу Сенеку. И подробно рассказываю о Песталоцци. Пусть смеется, смех тоже мешает действовать».
Но он слушал внимательно и, как всегда, чуть скептически. Однако ямочки на его щеках так и не появились.
По бокам от въезда в питомник Ланквица находилось собачье кладбище. Надгробия (величиной с детские могилы) рассказывали о Путци, Ральфе, Харрасе, Бианке. Туда ходят старушки и шебуршатся в плюще. Иногда в мрамор вставлены фотографии. И надписи говорят о верности, о незабвенной верности.
Перед началом занятий Шербаум поджидал меня на автобусной остановке.
— Мы все обдумали. Не выгорит.
— Тогда объясните причину. Причины.
— Ваше предложение и так ослабило нас.
— Простительная слабость…
— Согласен: конечно, нам страшно…
— Поручите это мне, Шербаум. Пусть это и звучит чересчур самонадеянно, но мне не страшно.
— Точно. И именно потому дело не выгорит.
— Казуистика…
— Такие вещи должен делать только тот, кому страшно.
— Раньше мне тоже было страшно…
— Мне теперь яснее ясного: то, что совершается без страха, не в счет. Вы хотите это сделать, только чтобы этого не сделал я. Вы в это не верите. Вы взрослый, и у вас одна задача — предотвратить худшее.
(И вот я стоял перед ним, штудиенрат Эберхард Штаруш, лишенный страха, желавший предотвратить худшее, стоял со всеми моими болячками, заглушенными арантилом. Мне следовало признать все же, что я боюсь зубной боли… И местного наркоза тоже, боюсь маленького неприятного укольчика…)
— Вы считаете, значит, что, будучи взрослым, я потерял свою чистоту. Посему я — нечистый и не имею права приносить жертвы.
Шербаум искал точку опоры в воздухе и, между прочим, нашел.
— Значит, так: с чистотой и с жертвой это вообще не имеет ничего общего. Иногда вы говорите тем же языком, что и Архангел, — сплошная риторика. Ведь жертва — это нечто символическое. А наше предприятие имеет определенный смысл, и все может получиться, только если человеку страшно.
Вопрос был в терминологии.
— Шербаум, если человек чего-то боится и, несмотря на это, совершает, — из политических или, скажем, из гуманных соображений, — то, стало быть, он приносит жертву, жертвует собой.
— Ну хорошо. Во всяком случае, мотивы должны быть абсолютно чистыми.
В коридоре меня остановила Веро Леванд:
— Перестаньте наконец нервировать Флипа, прекратите ваши нечистые махинации…
Точно так же на меня напала и Ирмгард Зайферт в свободный вечер.
— Мне не нравится ваша манера, Эберхард, решать мои проблемы, давая всякого рода легкомысленные советы. Если и есть для меня выход, он должен быть стерильно чистым. Вы понимаете?
Зубной врач, утешая меня, научно опровергал само понятие чистоты, о чем я знал и без него. К дантисту я обратился: «Ради проверки…»
Он усмехнулся, строя из себя эдакого всезнайку, и рассердил меня, объединив нас обоих словечком «мы».
— Мы, два нечистых, — сказал он, намекая на мои мостовидные протезы в нижней челюсти. — Даже платина и золото, которые должны исправить ваш прикус, не совсем чистые, правда в переносном смысле этого слова: их специальное легирование произведено по патенту фирмы «Дегусса», которая поддерживает довольно-таки подозрительные деловые связи с Южной Африкой. Куда ни глянешь — всюду какая-нибудь заковыка. Меня удивляет вот что: ваш ученик, которого я, несмотря на его юношеский максимализм, считал трезвым пареньком, выдвигает бескомпромиссные требования.
Прежде чем проверить мостовидные протезы, прежде чем смазать мои все еще воспаленные десны, а также покрыть прозрачной мазью ранку от ожога на нижней губе, дантист достиг со мной соглашения:
— У нас растет новое поколение, которое хоть и притворяется деловым, в действительности жаждет мифа. Осторожно! Осторожно!
(Она предваряет мои намерения. Угадывает мои желания: сегодня яркий тому пример.) Незадолго до полуночи она очутилась рядом со мной за стойкой бара на углу.
— Я так и подумала: либо вы будете у Раймана, либо здесь.
Мне было разрешено заказать ей бутылку кока-колы и рюмку пшеничной. (Только не выспрашивать. Пусть сама расколется. Старое мужицкое правило: хочешь купить свинью, говори о погоде.)
— Раньше, до того как я имел удовольствие стать педагогом, мне довелось работать в цементной промышленности. И цементники — так называют рабочих на цементных заводах — опрокидывали уже за завтраком одну или две рюмочки водки: впрочем, они не запивали водку кока-колой. Зато они потребляли в больших количествах пиво «нетте». Нетте — речушка в предгорьях Эйфеля. Живописно извиваясь, она протекает по самому крупному в Германии району пенистой лавы, используемой в строительстве. Пемза вызывает жажду. Я, разумеется, не знаю, интересуетесь ли вы пемзой. Как бы то ни было, пемза относится к лаахским туфовым горным эффузивным породам. После извержения этих туфов вулканическая деятельность в Лаахском озерном крае пришла к концу…
— Почему вы не оставляете в покое Флипа?
(Это говорит она, на пемзу ей наплевать.)
— Насколько я знаю, фройляйн Леванд, вы называете себя марксисткой. Поэтому мне непонятно, почему вы не проявляете никакого интереса к условиям труда рабочих, занятых в пемзообрабатывающей промышленности. И я, как марксист…
— Вы — либерал. А Мао говорит о либералах: «Они выступают за марксизм только на словах, а претворять его на практике не готовы». Не могут на это решиться.
— Правильно. Я либеральный марксист, ни на что не могу решиться.
— Марксизм у вас только на языке, а действуете вы как либерал. Поэтому вы и пытаетесь своими речами загнать Флипа в угол. Но вам это не удастся.
(Будем и дальше валять дурака? А ведь она довольно хорошенькая в своем пальтишке с капюшоном.)
— Кельнер, кружку светлого.
— Мне водку.
— Милая Вероника. Я считаю, что действую в ваших интересах, указывая вашему Филиппу на те последствия, которые будет иметь его бессмысленная жертва.
(Эта ее занудливая манера цедить слова в нос.) Веро Леванд говорила тихо — я сказал бы, проникновенно, глядя на батарею бутылок позади стойки.
— В «Юй Гунь[60] мог и горы своротить» Мао сказал: «Быть твердым, не бояться жертв и преодолевать все трудности во имя достижения победы». Вот в чем суть. А теперь я пойду. Вы только и умеете, что все истолковывать, изменять жизнь вы не умеете. А при этом мы стоим на пороге третьей революции. Только кучка реакционеров этого еще не понимает.
После ее ухода мне принесли кружку светлого. Я с удовольствием рассказал бы ей, как печально быть умным. Рассказал бы о колебаниях, о робости, мешающих бросать слова на баррикады. (И как у меня навязло в зубах слово «жертва»: «После того как 6-я армия в течение многих месяцев, принося неисчислимые жертвы, сдерживала…», «Маленькая жертва для «Зимней помощи»…», «Дорогажертвдорогажертв…»[61]) «Как потускло золото».
И все же мое предложение омрачило чистоту и целенаправленность жертвенной идеи Шербаума — он позвонил ко мне в дверь, войти не захотел; держа на поводке Макса, сказал:
— Это с собакой из питомника меня убедило. Совсем не обязательно, чтобы был Макс. Я сам поеду в Ланквиц и, если у них найдется, куплю белого шпица. Как вы думаете, сколько они сдерут за шпица без родословной?
Он хотел одолжить у меня денег, намекал на это весьма прозрачно.
— В конце месяца с деньгами всегда туго.
В квартиру он так и не зашел, хотя я попросил у него несколько минут на размышление.
— Выпьем чашку чая, Филипп, а потом трезво обсудим ваше предложение.
— Веро ждет внизу. Деньги можете дать и завтра утром.
— Вы слишком многого требуете, хотите одолжить деньги, купить на них шпица, облить его бензином и публично сжечь и не желаете посвятить меня в ваши — должен признаться довольно-таки сумбурные — планы. Это нечестно.
— Если вы не хотите, то…
— Еще вчера все должно было быть «абсолютно чистым», а уже сегодня вы готовы пойти на гнилой компромисс: просите денег у взрослого, который в это вовсе не верит и даже не испытывает страха. Вы только запятнаете свою жертву. Зачем?
— Не надо спрашивать, надо помогать.
— Хорошо. Вы боитесь за Макса, понятно. Но за вашу жалкую трусость должны заплатить я и какой-то безымянный шпиц из питомника Ланквица, и еще не исключено, что шпиц окажется сукой после случки.
— Ланквиц — ваша идея.
— Я готов осуществить ее в полной мере ради вас.
— Но ведь и вы, возможно, купили бы шпица.
— Не для того, чтобы спасти вашего Макса. Речь идет о вас, Шербаум, о вас! Что касается вашего плана, то он построен на корысти, на эксплуатации. Империализм в чистом виде. Пощадить собственную собаку и погубить другое животное. Нет, ваш расчет мне не по вкусу.
— Мне тоже нет. Наверно, вы правы.
Я так и остался стоять перед открытой дверью, а Шербаум, даже не взглянув на лифт, побежал по лестнице, нет, не побежал, а помчался со своим Максом, словно за ним гнались…
Я налил себе чаю, выпил несколько глотков и отставил недопитый стакан — пусть остынет.
(Я доволен собой. Доволен ли я собой? Днем — маленькие успехи, с наступлением сумерек они рассыпаются в прах.)
— Вам следовало бы одолжить парню деньги, — сказал мой зубной врач. — Сколько времени он на это убил бы: поездка в Ланквиц. Выбор собаки. Покупка. Покупка поводка. Белый шпиц появляется в квартире родителей. Парень объясняет свой поступок матери, которая должна объяснить его отцу… Или наоборот. Ну а потом — разберем самый благоприятный вариант, — потом между таксой и шпицем возникает дружба. Собаки смешно играют, для вида кусаются, обхаживают друг друга. Возможно, у вашего ученика есть маленькая сестренка…
— У него нет сестренки. Нет сестренки.
— Я просто предположил. И вот девочка полюбила шпица, она считает его своим, в чем девочку поддерживают родители. Все эти не поддающиеся учету факторы вторгаются в план вашего ученика, совершенно расстраивают его замыслы.
— Бесплодные рассуждения. Абсолютно бесплодные.
— Но это еще не все. Вновь возникшая ситуация помогла бы вам противопоставить таксу шпицу. Например, вы задаете такой ехидный вопрос: «А почему бы не сжечь обеих собак?» Или: «Пусть собаки сами тянут жребий — какую бумажку вытащат». Или: «Разве можно счесть нормальным такое самовластие?» Или: «Разве это нормально — присваивать себе право распоряжаться жизнью и смертью животных?» Тут очень простой расчет, мой милый. Две собаки больше, нежели одна. Все становится сложней, и тем самым легче подключить здравый смысл.
Мы затронули в нашем разговоре также зубоврачебные темы. Потом перешли к текущим политическим событиям («Этот Любке[62] — конец света…»), а под самый занавес, как всегда, обменялись цитатами.
Он. Сенека сказал, говоря об этике: «Наше человеческое общество можно уподобить сводам: оно бы обрушилось, если бы все камни в отдельности не…»
Я. Мотив свода Клейст подхватил позднее в одном из писем к своей сестре…
Он. И дальше, послушайте: «В жизни важно только ее нравственное начало, а не ее продолжительность. Часто, однако, это начало заключается как раз в том, чтобы не жить слишком долго».
Я. Если это услышит Шербаум, он станет стоиком, дескать, ваш старикан Сенека совсем не так уж не прав. Завтра я сожгу Макса. Семнадцать лет жизни более чем достаточно.
Зубной врач рассмеялся. Я засмеялся вслед за ним. (Два смеющихся человека на одном проводе.) Он начал первый и первый оборвал смех.
— Вы, конечно, правы. Древнеримские этические заскоки могут помешать стать долгожителем. Но вернемся к вашему молодому человеку, я стою на своем: мальчику следовало одолжить деньги.
(До сих пор, каждый раз когда я принимаюсь за пиво у Раймана, мостовидные протезы дают о себе знать. Ничего горячего! Ничего холодного! Инородное тело теплопроводно… Советы дантиста настолько разумны, что до первого неприятного ощущения их не слушаешь вовсе. Я советую вам… Лучше не советуйте, доктор… Помогают ли вообще чьи-либо советы… Что же мне делать, доктор?)
День спустя — у меня был пустой урок — я вызвал Шербаума с занятий пением, которые проводит в моем 12 «А» Ирмгард Зайферт. Он был бледен, напустил на себе благовоспитанный вид.
— Я передумал, Филипп. Можете взять у меня деньги. Я позвонил в Ланквиц. Шпиц без родословной стоит от 70 до 80 марок.
— Считайте вчерашнее минутной слабостью, тысячу раз извиняюсь. Либо Макс, либо вообще никто…
— Но мое предложение ни к чему вас не обязывает…
— Тогда можно взять и матерчатую собаку. Еще лучше: несколько таких собак. У Веро Леванд их целая коллекция. Между прочим, не такая уж глупая идея. Спрошу как-нибудь, готова ли она расстаться со своим зверинцем. Мог бы начать с них, вполне безобидная штука. Модные шляпки решили бы: матерчатые собаки. Детские игры. Один из этих дурацких хэппенингов. А потом я пожертвую Максом… И пирожные сразу вывалятся у них из пасти.
Я глядел на него во все глаза. Идея с матерчатыми игрушками овладела им. Он заговорил голосом диснеевского утенка (трах-чмок-тыр-пыр), притворился, будто его тошнит от пирожных (ох-ик-ой-ой). Надо было уйти. Но после моей меланхоличной заключительной фразы: «Как жаль, Филипп, я хотел вам помочь», я дал Шербауму повод остановить меня:
— Знаю, что вы желаете мне добра.
Сказав это, ученик мой опять пошел на урок музыки. В коридоре я услышал, что пели Карла Орфа[63].
Он способный мальчик. (Все желают ему добра.) Он быстро схватывает. (Слишком быстро схватывает.) Занимается только тем, что ему нравится. (У него была замечательная работа о символах в рекламе: «Звездочки на „мерседесах“— рождественские звездочки».) Ростом он с меня, но все еще растет. (Штёртебекер был немного ниже.) Когда он смеется, на щеках у него появляются ямочки. Родители у него живы. Отец занимает крупный пост в фирме «Шеринг»[64]. Мать я знаю по родительским собраниям, это моложавая дама лет сорока пяти, которая считает своего сына еще «совершенным ребенком». У Филиппа два старших брата, оба они учатся в западногерманских университетах. (Один изучает в Аахене машиностроение.) Несмотря на то что успехи Филиппа по моим предметам куда выше среднего и на музыкальной ниве он тоже процветает (играет на гитаре), он и в этом году со скрипом перейдет в следующий класс. Дружба Шербаума с Веро Леванд не сделала его радикалом. (Правда, он требует — что вполне разумно — отмены уроков закона божьего и введения в качестве обязательных полноправных дисциплин философии и социологии.) Его склонность к иронии иногда оборачивается некоторым перебором. Так, например, в одном сочинении он написал: «Мой отец, разумеется, не был нацистом. Он был всего лишь уполномоченным по противовоздушной обороне. Уполномоченный по противовоздушной обороне — это еще, разумеется, не антифашист. Уполномоченный по противовоздушной обороне — это нуль. Я — сын уполномоченного по противовоздушной обороне, следственно, сын нуля. Теперь мой отец стал демократом, так же как раньше был уполномоченным по противовоздушной обороне. Он всегда поступал правильно, хотя говорит зачастую: «Мое поколение наделало много ошибок». Говорит, безошибочно выбрав нужную минуту. Мы с отцом никогда не спорим. Иногда он замечает: «И ты со временем приобретешь опыт». Это тоже правильно, ибо нетрудно предугадать, что я приобрету опыт. И притом в качестве нуля или в качестве уполномоченного по противовоздушной обороне, а это, как я доказал ранее, одно и то же. («Что вы делаете сейчас?» — «Приобретаю опыт».) Моя мать часто говорит: «У тебя великодушный отец». Иногда она говорит: «У тебя слишком великодушный отец». И тогда мой великодушный нуль замечает: «Оставь мальчика в покое, Элизабет. Кто знает, что еще будет». И это опять же правильно. Я люблю своего отца. Он умеет здорово грустно глядеть в окно. Потом он говорит: «Да, вам хорошо. Вы живете почти что в мирное время. Надо надеяться, что все так и будет. Наша молодость прошла иначе, совсем иначе». Да, я и впрямь люблю своего отца. (Себя я тоже люблю.) Будучи уполномоченным по противовоздушной обороне, он, наверно, спасал людей. Это здорово и опять же правильно. Интересно, вышел бы из меня хороший уполномоченный по противовоздушной обороне? Летом, когда мы ходим купаться на Ванзее…»
За такое сочинение трудно было поставить отметку. (Под тем предлогом, что сочинение очень подражательное, я кое-как отвертелся от этого.) А ведь мальчик действительно способный.
Ирмгард Зайферт тоже считает Шербаума способным. («У мальчика художественная натура…») Но прежде чем я изыскал возможность поговорить с ней о Шербауме, она опять (и все в том же покаянном тоне) завела волынку насчет старых писем; с тех пор, как она открыла и проанализировала эти письма, она без конца перечитывает их и подвергает анализу. На сей раз она особо ловко истолковала одну фразу, а именно: «Наконец я готова принести жертву». Не доказывает ли слово «наконец», что раньше она не была готова принести жертву, стало быть, сомневалась? Я посоветовал ей особо выпятить слово «сомневалась».
— Ведь оно сводит на нет все последующее, во всяком случае, делает крайне проблематичным.
Разговор этот произошел между охотничьим замком и гостиницей Паульсборна. Она заехала за мной на своем «фольксвагене», мы договорились прогуляться вокруг Грюневальдского озера. Поставив машину у Розенэка, мы пошли. Ничего необычного в этом не было, во время моего стажерства мы с ней каждый день перед началом занятий прогуливались вокруг Грюневальдского озера. И разговоры, которые мы вели, были типичными разговорами дамы-штудиенрата и ее ровесника, но всего лишь учителя-стажера. Мы держались на расстоянии, были то серьезны, то веселы; иногда, правда, впадали в развязность и в несколько натянутую игривость, что, впрочем, грозило перейти в другую крайность — в отдававшую холодом неловкость. (Я считал себя обязанным, учитывая человеческую природу и нашу неразлучность, перевести служебно-дружеские отношения между ней и мной во влюбленность, еще вполне допустимую в наши годы. Нам было под сорок. Но это приводило к тягостным паузам, которые удавалось перебить разве что деланной шутливостью.) Сначала мы с явным удовольствием и в хорошем темпе огибали озеро, впрочем не очень напрягаясь, дистанция между нами сохранялась, но потом, когда Ирмгард Зайферт совершила свое открытие на материнском чердаке, она потеряла спокойствие, опять начала курить — и прогулки «одинразоквокругозера» стали нам в тягость. Тут я начал изыскивать и даже создавать ситуации (отчасти из каприза, отчасти потому, что она мне нравилась), которые вели или могли вести к интимным отношениям. Она пошла и на это. Теперь мы без предупреждения являлись друг к другу в гости. Беседуя на разные темы, вдруг начинали целоваться, а потом так же неожиданно меняли тон и переходили на дела. Насмехались над нашей «звериной похотью», а потом иронизировали над неспособностью «отдаться чувству». «Ложная тревога, Эберхард. Избавим себя от приступа меланхолии, который, как мы предчувствуем, наступит потом».
Мы не только посмеивались и иронизировали, но и жалили друг друга, ведь прогулка наша, о которой мы договорились еще вечером, началась ранним утром, а накануне я опять неожиданно посетил Ирмгард. Мой визит затянулся до поздней ночи, никак не кончался.
— Вы благополучно добрались домой?
— Я позволил себе выпить еще две кружки пива и испробовал новую смесь — бутылку кока-колы и рюмку обыкновенной водки.
— Какое легкомыслие! Я вас не узнаю, как-никак наши отношения строятся на полной умеренности.
— Может быть, мы боимся нарушить эту тишь да гладь хоть каким-то действием?
— Ну что вы! И нарушать нечего, разве что бесконечные разговоры обо всем на свете, сдобренные капелькой симпатии друг к другу, которая так и остается нереализованной. Вы только и делаете, что пятитесь назад, вспоминая ваше жениховство, прямо скажем нелегкое. Что касается меня, то с тех пор, как нашлись эти письма, я выслеживаю семнадцатилетнюю девушку, которая совершила от моего имени нечто такое, чего я никогда не совершила бы.
— Вы забываете, Ирмгард, что ко времени моей помолвки я был уже не мальчиком, мне минуло двадцать семь, стало быть, я оказался несостоятельным, будучи уже, слава богу, взрослым…
— Разница в возрасте ни при чем, когда речь идет о поражении, которое ни вы, ни я, несмотря на все попытки сжульничать, не можем изобразить победой. Я, к примеру, вот уже много дней бьюсь над тем, чтобы истолковать в свою пользу одну чудовищную, хоть и короткую фразу в письме. «Наконец-то я готова принести жертву». Мое положение просто-напросто смехотворно. Я представляю в одном лице и обвиняемую, и защитника. Что вы на это скажете? Не правда ли, это поставленное спереди словцо «наконец» представляет интерес… Разве нет?
Охотничий замок остался у нас за спиной, мы брели к Паульсборну. Светало как-то неохотно, день все еще не желал наступать. Смерзшийся за ночь снег гулко звенел. Там, где Лангес-Лух образовывал ледяную перемычку между Крумме-Ланке и Грюневальдским озером, рабочий из лесничества выбивал во льду лунки для уток. Белое облачко, вылетавшее у него изо рта, относило через плечо. Сразу после того, как мы свернули направо, двигаясь в затылок друг другу, и пошли по тропинке вдоль северо-западного берега озера — чтобы сократить дорогу, — мне пришли в голову подходящие разве что к воскресному дню умиротворяющие слова:
— Вот видите, каким плодотворным было ваше сомнение: все то, что предшествует слову «наконец», осталось, а ваш необдуманный и, как мы сейчас знаем, не имевший никаких последствий поступок вообще затерялся и должен быть похерен.
Однако в Ирмгард Зайферт уже опять проснулось поистине воловье упрямство — до конца озера, а именно до самого деревянного мостика через ручей, который соединял наше озеро с Хундекельским, она втаптывала себя в грязь. И хотя на мостике, по обе стороны которого шумели утки около своих лунок, я в ярости заткнул ей пасть поцелуем, да, заткнул ей пасть, я услышал, едва успев оторваться от нее, конец прерванной фразы:
— …И при том, чем дальше, тем больше я убеждаюсь: я была тогда разочарована тем, что после моего заявления ничего не последовало. Очевидно, я сделала вторичное заявление. Нет, назовем это прямо доносом. Я удвоила свою вину.
Поскольку мы опаздывали, я подталкивал ее по направлению к Розенэку.
— Но ведь крестьянин благополучно перенес и ваше первое, и ваше второе заявление — неизвестно, было ли оно вообще.
— Дело не в этом. Поймите же!
— Кто-кто, а я вас хорошо понимаю.
— Одни слова и предполагаемые причинные связи.
— Вот именно. Как вы мне сказали, крестьянин умер десять лет спустя после второго удара. Вы живы, я совершенно случайно тоже пережил те времена, а мой ученик, нет, наш Филипп Шербаум попал в беду…
— Прекратите наконец пересказывать мне эту дурацкую школьную белиберду. Ничто не может меня оправдать. Эти письма, особенно этот ужасающий абзац в письме…
(Позже я записал: «Сегодня утром, через несколько минут после восьми тридцати, я сперва поцеловал свою коллегу Ирмгард Зайферт, в результате чего у меня открылась медленно заживавшая ранка на нижней губе, а потом влепил ей пощечину. Было четыре градуса ниже нуля, мы стояли между заснеженными соснами и березами, чуть выше обледеневших ступенек, которые ведут к шоссе, соединяющему этот лес с аллеей Кляй, и тут я оборвал ее фразу, отвесив левой рукой оплеуху. Треск пощечины, но птицы не вспорхнули с веток. Когда я служил на аэродроме, в наземных частях, и меня называли Штёртебекером, я однажды влепил пощечину девочке, но больше это не повторялось. Сразу после того, как я ударил Ирмгард, я пожалел, что это не произошло в присутствии зрителей, нет, не зрителей, а Линды… Как ни смехотворна пощечина, она все же есть действие. От камня, коснувшегося водной поверхности, идут круги: замелькали кадры. Я еще раз врезал Ирмгард Зайферт по другой щеке, а потом раз за разом справа-слева залеплял пощечины Линде, справа-слева Линде, то на променаде у Рейна, то на складе пемзы, то на Майенском поле между глыбами базальта, то в гостиничных номерах… а однажды — на глазах у отца Линды, ведь это можно повторять бесконечно. «Великолепно, — сказал он. — Великолепно. Только так можно ее образумить».)
Ирмгард Зайферт тут же полезла за сигаретой.
— Ты прав. Извини.
Той же рукой я помог ей прикурить.
— Мне очень жаль. Иначе я не мог.
Она раза три затянулась и бросила сигарету.
— Ты хотел поговорить о Шербауме.
До самого Розенэка мы обращались друг к другу на «ты», лишь в «фольксвагене», едва включив зажигание, она опять перешла на «вы».
— Я придерживаюсь того же мнения, что и вы, — мальчик чрезвычайно одаренный, по меньшей мере у него музыкальные способности.
— Даже доктор Шмиттхен, который имеет все основания жаловаться на Шербаума, говорит: «И по моему предмету его успехи могли бы быть значительно выше, ему следует сделать лишь небольшое усилие. При его способностях мы вправе ждать от него многого».
Мы с натугой посмеялись. Она ехала уверенно, но, пожалуй, слишком быстро.
— Еще полгода назад Шербаум рассказывал мне, что он сочиняет песни, аккомпанируя себе на гитаре, и, когда я попросила его, даже исполнил их: он не очень самостоятелен. Мировая скорбь плюс ангажированность. Чуть-чуть Брехта, в истоках Вийон. Но при этом, безусловно, своеобычно, и — повторяю еще раз — он мальчик одаренный.
(Песенку Шербаума «Мы собираем „звездочки“» намеревались опубликовать в антологии «Школьная лирика».)
— Но он больше не сочиняет.
— Значит, нам надо позаботиться о том, чтобы он снова стал сочинять.
— Стихи против напалма, и тогда ему не придется сжигать свою собаку.
— Признаюсь, я не мыслила столь прямолинейно, однако усиленные занятия искусством могли бы придать известную форму его сумбурной и далеко не целенаправленной критике… Ну а если процесс творчества заполнит его жизнь, он принесет и тот побочный эффект, которого мы ждем.
— Вы рассматриваете искусство как трудовую терапию…
— Милый Эберхард, разрешите напомнить, что это вы попросили меня поискать вместе с вами какой-то ход, какой-то выход для юного Шербаума. Не правда ли?
— Я вам, разумеется, благодарен…
Остаток дороги мы проехали молча. Даже после того, как она поставила машину на стоянку, ни слова. Но на коротком отрезке от ворот до школьного подъезда она начала вполголоса, почти робко:
— Скажите, Эберхард, вы можете представить себе меня семнадцатилетнюю, как я сижу за чисто выскобленным деревянным столом и пишу каллиграфическим почерком донос, который может стоить человеку жизни?
Почему я столь решительно отвожу ее от этих мыслей? (Пусть себе купается на здоровье в затхлой трясине.) У нее тонкие интеллигентные пальцы, которыми она вылавливает из аквариума гуппи, когда они всплывают брюхом кверху. (Под этим я могу подписаться: мне нравятся ее руки, я знаю их досконально, ведь, сидя у меня на диване, мы держимся за ручки, не переставая, впрочем, молоть языком, молоть языком…)
Мой класс писал. (Шепот, шорох бумаги, покашливание, расчлененная тишина.) Я стоял лицом к окну и мысленно втолковывал стеклу: Послушайте, Шербаум. Я уже давно не слышал ваших новых стихов. И госпожа штудиенрат Зайферт считает, что вы должны особо серьезно заниматься песнями, тем более что вы играете на гитаре. Стало быть, пишите песни, Шербаум. Вы так же, как и я, знаете, какая сила, какая политическая сила таится в лирических стихах. Вспомните Тухольского, Брехта, «Фугу смерти» Целана. Как-никак у нашей политической песни огромные традиции, она ведет свое начало от Ведекинда[65]. Поэтому песни протеста, особенно в Западной Германии, должны получить новый толчок. Я хотел бы, чтобы при ваших способностях…
Примерно то же самое я сказал Шербауму во дворе на перемене. Он стоял неподалеку от крытой стоянки для велосипедов рядом с Веро Леванд. Я сделал вид, будто не замечаю, что она курит. Она не отходила, делая вид, будто не замечает меня.
— Послушайте, Шербаум. Я уже давно не слышал ваших новых стихов…
Он прервал меня только тогда, когда я углубился в анализ отдельных песен протеста, заговорил о «messages»[66], о Джоан Баэз[67], о «If I had a hammer»[68] и о «flower — power»[69].
— Песни эти просто убаюкивают. Вы ведь сами в них не верите. Ничего не меняется. Если попадешь в жилу, то таким способом можно зарабатывать деньги. Они действуют только на слезные железы. Этот опыт я проделал с Веро. Ты не дашь соврать? Я исполнил свой самый суровый зонг, он называется «Песня нищего», и в нем говорится о хлебной западне для мира… И вот, когда я пел, она выла и повторяла: фантастика, просто фантастика!
— Эта песня и впрямь фантастика. Но ведь ты не выносишь, когда что-нибудь твое хвалят.
— Тебя интересуют только эмоции. У тебя создается соответствующее настроение, вот в чем фокус, создается настроение.
— Ну и что? Раз мне это нравится.
— Слушай внимательно. Я хочу сказать своей песней, что подачки только увеличивают обездоленность, подачки приносят пользу лишь тем, кто их раздает, а именно богачам и угнетателям…
— Представь себе, я все усекла. И как раз это я нахожу просто фантастикой.
— Соплячка.
(Слово прозвучало хоть и снисходительно-насмешливо, но добродушно. Собственно, ласковое словечко. Когда она несла чепуху о базисе и надстройке: «У нас сегодня собрание, Флип. Сегодня вечером мы будем разбирать прибавочную стоимость. Приходи тоже», в его терпеливом отказе слышалась явная симпатия: «Ты соплячка, чего от тебя ждать…»
С легкой руки Филиппа возникли всякие прозвища, и это тоже доказывает его способности, меня он назвал Old Hardy. Не кто иной, как Шербаум, окрестил Ирмгард Зайферт Архангелом. Что касается Ирмгард Зайферт, то Архангел неоднократно с похвалой отзывалась о его «Песне нищего».)
— И госпожа штудиенрат Зайферт считает, что вы должны работать над политической песней…
— Зачем? Если даже Веро не сечет…
Я признал правым с одной стороны Шербаума, с другой — Веро Леванд, одобрительно отозвался об их споре, назвав его закономерной дискуссией, которая, собственно, уже сама по себе доказывает, какую силу представляет собой подвергаемая сомнению политическая песня.
— Ну хорошо, Шербаум. Вы не верите в слова. Хотите действовать, совершать поступки. Предположим, вы сделаете то, что задумали. Сожжете вашего Макса перед кафе Кемпинского. Вас либо убьют на месте, либо так отделают, что вы заляжете в больницу. Ничего не попишешь: спонтанная реакция общественности. Броские заголовки. Общество «Друг животных» требует наложить на вас штраф. Несмотря на то что несколько голосов будут против, гимназия вынесет решение — исключить. Придется уйти и мне, что, впрочем, не самый худший вариант… Ну, а через две недели ни одна живая душа не вспомнит обо всем этом, ведь произойдет что-то новое, и опять оно будет подано под броскими заголовками, к примеру родится теленок о двух головах. Ну, а теперь возьмем другой вариант: вы садитесь и пишете балладу о таксе по кличке Макс. В наивно-народном духе и вполне обстоятельно. Восстанавливаете события поэтапно. Макс — шаловливый щенок. Макс подрастает. Филипп читает Максу газеты. Макс дает понять: сожги меня. Филипп говорит «нет». (Пусть даже приводя мои негодные доводы.) Но Макс настаивает. Он больше не слушает Филиппа, он презирает его. И так далее и так далее. Если песня вам удастся, она останется, переживет броские заголовки.
Оба слушали совершенно безучастно. (Возможно, идея баллады чересчур увлекла меня самого.) Но тут Шербаум медленно пожал плечами и объяснил своей подружке:
— Old Hardy верит в бессмертие. Ты слышала — я должен создать шедевр.
— Типичные для него слова, что еще может сказать учитель немецкого. Он — бумажный тигр.
— Тоже красиво. И ваш бумажный тигр согласен даже с тем, что стихи в большинстве случаев не оказывают сиюминутного действия, они действуют медленно и зачастую чересчур поздно…
— А мы хотим действовать немедля!
— Стало быть, броские заголовки, которые вытеснят завтра другие броские заголовки.
— Не знаю, что такое завтра…
— Дешевая отговорка, Филипп, недостойная вас…
— И что такое быть достойным, я тоже не знаю…
— По меньшей мере попытайтесь понять мир в его многообразии и противоречивости…
— Я ничего не хочу понять, поймите же меня! — (Вдруг он посуровел. Прямая складка прорезала лоб, никаких ямочек.) — Сам знаю, что все можно объяснить. Как у нас говорят? «Поскольку затронуты жизненные интересы американцев…»
(И тут я предпринял пошлую, заранее обреченную на провал попытку спустить все на тормозах.)
— Вот именно. К сожалению. Когда затрагивают интересы социалистических стран, то со всей строгостью…
(Его гнев медленно нарастал.)
— Знаю. Знаю. Все можно объяснить. Все можно понять. Раз они так, то и мы эдак. Да, это скверно, но чтобы воспрепятствовать самому скверному. За мир надо тоже платить. Нашу свободу нам никто не обеспечит задаром. Если мы сегодня уступим, то завтра настанет наша очередь. Читали: напалм предотвращает применение ядерного оружия. Локализация войны знаменует победу разума. Мой родитель говорит: если бы не было атомной бомбы и так далее, то давно разразилась бы третья мировая война. Он прав. Во всяком случае, и это можно доказать. Мы должны быть благодарными и писать стишки, которые окажут действие лишь послезавтра, если вообще окажут, если вообще окажут. Нет. Ничто не меняется. Людей медленно сжигают каждый божий день. Я сделаю это. Собака их проймет.
Веро Леванд прервала столь закономерно наступившую тишину:
— Фантастика, твои рассуждения, Филипп, — фантастика.
— Соплячка!
Я задержал левую руку Шербаума (только я мог себе это позволить) и отвел ее назад. Потом обратил внимание обоих на то, что школьный двор опустел, перемена кончилась. Они пошли, и уже через несколько шагов Филипп Шербаум обнял левой рукой Леванд. Я медленно побрел за ними, ощупывая языком десны, оба инородных тела.
У меня был пустой урок, поэтому я ввел в курс дела своего зубного врача. Он слушал, не выказывая нетерпения, захотел узнать подробности.
— Скажите, подружка вашего ученика дышит через рот?
С удивлением я подтвердил это и заговорил о полипах в носу. Однако, когда я хотел расширить свое сообщение, подведя под него теоретическую базу, он сухо прервал меня. Я сказал:
— Ну да, если удастся применить всеобъемлющий педагогический принцип…
— Мальчик нравится мне, — заявил он.
— Но он это сделает. Он это правда сделает.
— Весьма возможно.
— Как мне поступить? Будучи классным руководителем, я отвечаю.
— Вы слишком много думаете о себе. Не вы, а мальчик хочет это сделать.
— И мы должны ему помешать.
— Почему, собственно? — раздалось в телефонной трубке. — Что мы выиграем, если этого не произойдет?
— Они его убьют. Эти бабы из кафе Кемпинского заколют его вилочками для пирожных. Растопчут. А телевизионщики нацелят на него свои камеры и будут просить, чтобы им создали условия для работы. «Сохраняйте благоразумие. Подвиньтесь самую малость. Как мы можем дать объективный репортаж, если вы нам мешаете…» Уверяю вас, доктор: в наше время в часы пик на Курфюрстендамме, скажем на углу Иоахимсталер, вы можете распять Христа и поднять его распятого — люди всего-навсего поглазеют, щелкнут разок фотоаппаратом, если он будет при них, протолкнутся вперед, чтобы лучше разглядеть, порадуются хорошему месту, ведь как-никак это щекочет нервы. Но стоит тем же самым людям увидеть, что кто-то сжигает здесь, в Западном Берлине, собаку, да, собаку, как они начнут избивать этого человека, не остановятся до тех пор, пока он еще будет шевелиться, но и потом они не перестанут наносить удары.
(С Голгофой — это был мой коронный номер. Я позаимствовал его у Ирмгард Зайферт. «Поверьте мне, Эберхард, изо дня в день на каком-нибудь городском перекрестке распинают Христа, и прохожие глазеют, одобрительно кивая».)
Мой зубной врач был по-прежнему холоден. (Религиозные реминисценции пришлись ему не по душе.)
— Полагаю, ваш ученик знает, что его ждет при столь неумеренной любви к животным, какая существует у широких слоев населения.
— Тогда мне все же придется сообщить о нем.
— Могу понять, что вы обеспокоены тем, как бы не потерять свое место штудиенрата.
— Но что же я, по-вашему, должен?
— Позвоните мне еще раз в обеденное время. Понимаете, у меня идет прием. Мое дело не останавливается ни на минуту. Даже если земной шар вдруг перестанет вращаться, люди все равно будут приходить ко мне, жалуясь и крича от зубной боли…
Вышагивать по берберскому ковру, моему недавнему приобретению. Цитировать Иеремию: «Как потускло золото». Знать, что за тобой следит письменный стол, на котором папки с начатой рукописью стремятся порождать новые. А ну иди, иди сюда. Сочини маленькое, отлично выполненное убийство. Разве можно допустить, что твоя невеста с этим Шлоттау? Да, надо было подложить подрывную шашку под сигнальную электроустановку для ящика с песком; и тогда, едва Линда начнет контрнаступление под Курском, и она, и он, и Крингс, а также весь барак взлетят на воздух… А может, надо было, строго придерживаясь фактов, писать о Шёрнере. …Еще лучше сидеть у Раймана, заказав кружку пива. Или новую смесь: бутылку колы и рюмку водки…
Что же мне делать? Написать сенатору, занимающемуся школами? «Глубокоуважаемый господин Эверс, чрезвычайное обстоятельство, выходящее за рамки моих возможностей и способностей, вынуждает меня просить Вашего совета; мне кажется, именно Вы призваны к тому, чтобы внести ясность в данный вопрос. Позвольте мне для начала напомнить, что в интервью нашей западноберлинской «Учительской газете» Вы сказали: «Я исхожу из того, что существуют и отдельная личность, и общество в целом. И никто из них не является вышестоящей инстанцией. И индивид и общество взаимозависимы, накладывают отпечаток друг на друга…» И вот один из таких индивидов, а именно мой ученик, принял решение выразить свой протест против общества в весьма грубой форме: он намерен облить свою собаку бензином и сжечь ее в публичном месте, с тем чтобы жители этого города — он обвиняет их в равнодушии — поняли бы, что значит сгореть живым. Мой ученик надеется, что таким образом он продемонстрирует действие современного боевого средства — напалма. Он ожидает, что его акция просветит людей. На вполне обоснованный вопрос, почему он собирается сжечь собаку, а не какое-либо другое животное, к примеру кошку, ученик отвечает: особая, известная всем любовь западно-берлинских жителей к собакам не оставила ему другого выбора; ведь публичное сожжение голубей, например, вызвало бы в Западном Берлине разве что дискуссию на тему: а не целесообразнее ли было бы отравить голубей, как это делали обычно во время соответствующих крупномасштабных операций, ведь летающие горящие голуби представляют собой явную опасность… Мои попытки образумить ученика с помощью различных аргументов, с одной стороны, и указать ему на последствия его поступка — с другой, не привели ни к каким результатам. Несмотря на то что ученик признает: да, он боится, все равно он готов претерпеть любое насилие со стороны населения, которое особенно бурно реагирует на жестокое обращение с собаками. Всякое посредничество он расценивает как политику умиротворения и компромиссов, политику, которая ведет лишь к продолжению военных преступлений во Вьетнаме — в них он обвиняет исключительно американские вооруженные силы… Прошу Вас поверить, что я не в состоянии действовать обычным административным путем, ибо спонтанное стремление к справедливости, свойственное моему ученику, вызывает у меня сочувствие. (Конечно, все мы, особенно западные берлинцы, должны быть благодарны американским силам, ведь они защищают нас, но те же наши союзники в других местах ежедневно и ежечасно попирают наши представления о морали; не только мой ученик, но и я страдаю от этого трагического противоречия.) …В июле прошлого года Вы, достопочтенный господин сенатор, на одном из митингов воскликнули: «Давайте же поучимся гражданскому мужеству у Адольфа Дистервега!»[70] Ваши, столь достойные одобрения, откровенные слова врезались мне в память. Посему я хотел бы попросить Вас сопроводить вместе со мной моего ученика, когда он вступит на свой тернистый путь; ведь благодаря Вашему присутствию публичное сожжение собаки приобретет тот просветительский характер, которого все мы неустанно взыскуем, которого взыскует мой ученик и к которому всегда стремится истинная просветительская политика, являющаяся, по Вашим словам, «обязательно политикой социальной».
С совершенным почтением Ваш…»
(К сожалению, не существует статистических данных о количестве неотправленных писем, о количестве просьб о помощи, которые не были запечатаны в конверты с марками. Существует лишь зубная боль и… арантил.)
А теперь хочу добавить: обнаружив свою несостоятельность, я сразу же стал оправдывать любую несостоятельность: я тревожусь из-за Шербаума — ведь он человек, однако западных берлинцев встревожит лишь собака — ведь она не человек.
Далее пошли многочисленные попытки заменить слово «человек», равно как и общий термин «западный берлинец», или же, не изменяя, зачеркнуть их вовсе; меня тревожит Шербаум, но общественное сочувствие будет на стороне собаки. (Неужели мое отношение к Шербауму можно сравнить с отношением любителя собак к своему песику? У меня есть фотография Шербаума. Как-то я отдал снимок класса фотографу и попросил увеличить Шербаума и все его ямочки. Иногда я вставляю снимок в рамку, которая уже много лет стоит пустая, вставляю снимок величиной с почтовую открытку, и у меня при этом такое чувство, будто я совершаю нечто недозволенное; мой Шербаумчик склонил голову набок.
Ирмгард Зайферт давно говорила: «Ваше отношение к Шербауму кажется мне неправильным, вы не сохраняете должной дистанции. Нельзя же держать мальчика на таком коротком поводке».)
Проекция чувств. Суррогаты любви. Принято считать, что собаки способны на большую верность, нежели люди; кладбище в Ланквице. Надписи на надгробьях: «Моя возлюбленная Зента…», «Мой незабвенный, единственный друг…», «Верность за верность». Не потрясла ли бы западных берлинцев (спросим себя) статистика собачьих потерь за время войны во Вьетнаме больше, чем превосходящие во много раз потери человеческих жизней в тех же районах военных действий? Bodycount[71]. Согласно официальной bodycount…
Сенека говорил о собаках: «Даже бессловесное животное — носитель добра, в нем есть и добродетель, и своего рода совершенство, но животное никогда не может быть в полной мере ни добрым, ни добродетельным, ни совершенным. Сия привилегия выпала на долю разумных существ. Только им одним дано постичь: Почему? Каким образом? Зачем? Истинное добро заключено лишь в разумных существах…»
Вот так все просто. Я мог бы (должен был бы, решил) с помощью родителей Шербаума отравить длинношерстную таксу Макса и таким образом лишить ученика Шербаума подопытного животного. (В ответ на радикальные намерения надо действовать радикально.)
Днем я позвонил зубному врачу, но он не дослушал меня до конца, когда я излагал мое, как я выразился, «решение покончить с этой историей в силу необходимости насильственным путем». Резко бросив: «С меня довольно», он продолжал весьма невежливо:
— Я рекомендовал бы вам как можно скорее выбросить из головы это капитулянтское предложение. Невольно кажется, что вы задались честолюбивой целью превзойти своего ученика с его сумбурными планами, придумав уже нечто вовсе по-детски бессмысленное. Просто-таки смехотворно — отравить собаку!
Я указал на свое безвыходное положение, согласился с тем, что проявляю беспомощность, упомянул об идее написать сенатору Эверсу, от которой, впрочем, уже отказался. В ответ на это зубной врач громко и бесцеремонно расхохотался. Тогда я пожаловался вскользь на ноющие и дергающие боли, на то, что принимаю все больше арантила, а под конец вышел из себя и заорал в трубку:
— Бога ради, доктор! Что же мне делать, доктор? Помогите же мне. Черт побери! Помогите же мне!
Сперва я слышал только, как он дышит, а потом он соизволил дать совет:
— Предложите своему ученику, пусть осмотрит вместе с вами предполагаемое место действия. Не исключено, что из этого можно будет кое-что извлечь.
Еще до конца уроков я предложил Шербауму осмотреть место запланированного действия.
— Ну хорошо. Но не возлагайте на это несбыточных надежд. Что только не сделаешь ради своего учителя.
Я спросил, не собирается ли он привести свою подружку.
— Веро это вообще не касается. Кроме того, я уже начертил для нее план местности. И пусть не встревает.
Мы договорились встретиться после обеда. Дома я выпил чашку чая.
Готовиться заранее или держаться индифферентно и будь что будет? Ходить взад и вперед, мерить шагами ковер, раскрывать книги и читать по нескольку строчек наугад? Бреясь, держать речи перед зеркалом, пока оно не запотеет?
«Как тебя убедить, Филипп? Даже если ты прав, игра не стоит свеч. Когда мне минуло семнадцать, я и сам… Мы были против всех и вся. Я не хотел, чтобы мне хоть что-нибудь объясняли, как и ты. И я не хотел стать таким, каким стал сейчас. И хотя я такой, ты знаешь какой, но тогда и я знал, глядя на других, какие они. Даже теперь я понимаю, что стал таким, каким не хотел стать и каким не хочешь стать ты. Но если бы я захотел сейчас стать таким, как ты, то должен был бы сказать: Сделай это! Почему я не говорю: Сожги его!?»
«Да потому, что вы завидуете, хотели бы сами, но не можете. Потому что вам уже нечего ждать. Потому что вы больше не боитесь. Потому что вам в глубине души безразлично, сделаете ли вы это или не сделаете. Потому что вы человек конченый. Потому что все у вас позади. Потому что вы лечите зубы загодя. Потому что всегда стремитесь держаться в стороне. Потому что вы видите последствия еще до того, как начинаете действовать, и учитываете эти последствия заранее. Потому что вы себя не любите. Потому что вы благоразумны, но это не мешает вам быть глупым».
«Хорошо, Филипп. Сделай это. Сделай ради меня. Я больше не могу. Ведь раньше, когда мне минуло семнадцать, я тоже мог. Тогда я был человеком действия. Тогда шла война…»
«Война идет всегда».
«Хорошо. Теперь твоя очередь. Но это не поможет. Станет твоим воспоминанием, небывало огромным. Ты через него не перешагнешь. Всегда будешь повторять: когда мне минуло семнадцать, я это сделал. Когда мне минуло семнадцать, я был человеком действия. Ну хорошо. Теперь я пойду с тобой туда, чтобы ты увидел, что ждет тебя там, у кафе Кемпинского…»
Мы условились встретиться без собаки, но Шербаум привел с собой таксу. Январский день был холодным, солнечным и безветренным; и наше дыхание развевалось перед нами, как флажок. Люди, шедшие навстречу, обгонявшие нас или перерезавшие нам дорогу, также подавали сигналы — белые облачка; они как бы говорили: Мы живы! Мы живы!
Перед нами открылось нечто вроде широкой площадки: угол Курфюрстендамма и Фазаненштрассе. Мостовую обрамляли снежные сугробы с черными краями, исчерченными собачьей мочой, что явно волновало длинношерстную таксу Шербаума. (Порядок и веселье.) Терраса кафе Кемпинского была забита до отказа. Под крышей террасы жарко горели спирали электрокаминов; они обогревали сборище полных, но подтянутых дам, поглощавших изделия из теста, — туловище в тепле, ноги в холоде. Между уменьшающимися в объеме горами пирожных теснились сахарницы, молочники со сливками, кофейники, а также чашечки с кофе-мокко и — как следовало предположить — кофейники с кофе без кофеина. Модные наряды дам подчеркивали их полноту; туалеты этих дам либо шились у дорогих портных, либо покупались в дорогих магазинах. Мы увидели много меховых манто, большей частью каракулевых, не меньше было и пальто из верблюжьей шерсти, их цвет кофе с молоком гармонировал с цветом венских тортов и бисквитных пирожных, с тонкими ломтями кекса и со столь излюбленными этими дамами корзиночками с ореховым кремом. (Веро Леванд дала чеканную формулу: пушнина пожирает пирожные.) Когда мы вместе с Максом подошли к тому месту, которое Шербаум избрал для своей акции, начали дергаться собаки, привязанные поводками к ножкам стульев. Впрочем, кроме них, нас никто не замечал, ибо дамы, по-видимому, привыкли к тому, что собаки дергаются у них под стульями, ведь мимо террас проводили множество псов.
(В общей сложности в Западном Берлине 63 705 собак. На 32,8 жителя приходится одна собака. Теперь собак стало меньше. Еще в шестьдесят третьем году в Западном Берлине держали 71 607 собак; на 29,1 жителя приходилась одна собака. По-моему, их теперь не чрезмерно много. Собственно, я считал, что собак гораздо больше. Повсюду наблюдается одна и та же тенденция — спад. Вот что мне следовало бы сказать Шербауму: «Вполне нормально, Филипп. В районе Кройцберга их и вовсе негусто: одна-единственная собака на 40,6 жителя. Цифры эти показывают, что говорить о собакомании западных берлинцев — значит поддерживать легенду, которая давно изжила себя».)
Мы разглядывали кафе — со стороны могло показаться, что мы ищем знакомых. Пирожные убывали. На столики ставили новые горы теста. Чтобы осмотр места действия потерял свою торжественную законченность, я призвал на помощь чувство юмора:
— Если исходить из того, что порция берлинских оладий с вареньем содержит двести калорий, то вопрос о калорийности порции шварцвальдского вишневого торта со взбитыми сливками просто смешон.
(Веро Леванд правильно определила: «На каждой из дам навешано по меньшей мере полтора кило украшений. А о чем они говорят, когда говорят? Ну конечно, о том, сколько весят, и о том, как сбросить лишний вес! Фу-у-у!»)
Дамы в шляпках поглядывали вокруг, одновременно ели и разговаривали. Малоаппетитное зрелище, порой карикатурное, но вполне безобидное. Сторонний наблюдатель, к примеру Шербаум со всей его предвзятостью, мог при взгляде на сие одновременное и беспрестанное обжорство представить себе единственный эквивалент — одновременное и беспрестанное извержение экскрементов, ведь чрезмерное изобилие яблочных слоеных пирогов, миндальных рожков, безе со сливками и ватрушек была способна уравновесить только одна, обратная картина — дымящаяся куча дерьма. Я еще взвинтил себя:
— Правильно, Филипп. Грандиозное свинство. Сплошная гадость… И все же нельзя забывать, что это только частность.
Шербаум сказал:
— Вот они сидят.
Я сказал:
— Они объедаются с горя.
Шербаум:
— Знаю, затыкают все прорехи своей жизни пирожными.
Я:
— До тех пор, пока они жуют пирожные, они довольны.
Шербаум:
— Эту обжираловку надо прекратить.
Некоторое время мы наблюдали за всей этой механикой: вилочки для пирожных поднимались и опускались, дамы без конца пили маленькими глотками, отставив мизинец. (Они называли это «лакомиться».)
Я попытался побороть отвращение Шербаума (а также свое):
— Собственно, это может только насмешить.
Но Шербаум различал за всем внутренние закономерности.
— Таковы ваши взрослые. И вот предел их мечты. Они достигли его. Свободно выбирают и свободно заказывают, вот что они понимают под демократией.
(Должен ли я был опровергать его сильно утрированный вывод с помощью сложных рассуждений о плюралистском обществе? Скажите, доктор, что бы вы сделали на моем месте?)
Я попытался развеселить мальчика:
— Представьте себе, Филипп, что эти дамы с их расплывающимися телесами голые…
— Нет, они не будут больше уплетать за обе щеки пирожные. А когда захотят приняться за старое — подавятся, перед глазами у них встанет Макс, горящий, катающийся по земле Макс.
Я сказал:
— Ошибаетесь. На этом самом месте они вас и прикончат. Заколют зонтиками и каблуками. Посмотрите на их когти. А другие, те, кто просто прогуливался, встанут в кружок, будут проталкиваться вперед, а потом затеют спор: какой породы собаку сжег этот валяющийся на мостовой кровавый комок — пинчера, терьера, таксу или пекинеса? Некоторые прочтут ваш плакат, разберут слова «бензин» и «напалм», скажут: «Какая безвкусица!» Конечно, большинство дам, поглощавших пирожные, расплатятся сразу же после того, как они вас прикончат, и, выразив свое недовольство директору, покинут кафе Кемпинского. Но их место займут другие дамы в похожих шубах и шляпках, они закажут яблоки в тесте, безе со взбитыми сливками и пирожные с кокосовой мякотью и медом. Размахивая вилочками, они будут показывать друг другу, где это случилось. Здесь, здесь, где мы стоим!
Шербаум ничего не говорил, смотрел неотрывно на то, как таяли горы пирожных и как приносили все новые и новые порции тортов, а я продолжал расписывать последствия его поступка:
— Пойдут разговоры о бесчеловечной жестокости, и, сидя перед пирожными со взбитыми сливками и чашечками мокко, дамы будут с упоением расписывать происшествие с собакой, ведь Макс не станет тихо, терпеливо и быстро гореть. Я вижу, как он прыгает и катается, слышу, как он визжит.
Шербаум все еще не сказал ни слова. Макса мои речи не трогали. А меня прямо понесло. Надо говорить, говорить не умолкая.
— Разумеется, имело бы смысл попытаться, чтобы дамы уменьшили потребление пирожных. Но тогда следовало бы написать на специальной табличке, сколько калорий содержится в каждом кондитерском изделии. Например, один кусок струделя с изюмом содержит 424 калории. Не мешало бы установить и компоненты изделий — углеводы, белки, жиры. Не так глупо, Филипп. Просветительский поход против общества изобилия.
Когда я приступил к перечислению ингредиентов и калорий в шварцвальдском вишневом торте, Шербаума начало сильно тошнить — его несколько раз вырвало на мостовую перед террасой кафе. В механизме движения вилочек для пирожных произошел сбой. Шербаум давился, но ничего не получалось. Прежде чем нас окружили люди — прохожие уже стали останавливаться, — я протащил Филиппа и визжащего Макса через Фазаненштрассе, и мы смешались с толпой, праздно прогуливающейся в это послеобеденное время. (Как быстро можно скрыться!)
В автобусе я заметил:
— Это произвело на них куда большее впечатление, чем произвела бы горящая собака.
— Но они понятия не имели, почему я блевал.
— Все же шутка удалась. Как они смотрели, Филипп, как они смотрели!
— Не я, а они должны блевать, когда Макс будет гореть.
— Нуда, нуда. Это может случиться с каждым. Внутреннее раздражение…
— Вы просто не хотите признать: я оказался слабаком.
Я предложил ему не идти сразу домой, выпить у меня чаю. Он кивнул, но продолжал молчать. В лифте он держал Макса на руках; я заметил, что на лбу у него выступили капли пота. Я сразу же поставил кипятить воду, но он отказался от чая, хотел всего лишь прополоскать рот. Я предложил:
— Отдохните немножко, Филипп.
Он послушался и лег на диван.
— Хотите одеяло?
— Нет, спасибо.
Он заснул. А я сел за письменный стол, так и не открыв папку с начатой рукописью. (Пустая рамка для фотографий, вместо пресс-папье обломки ступки.) На желтом картоне с заголовком «Проигранные сражения» я стал выводить фломастерами унылые завитушки. (Как этот торт… Как это воздушное печенье… Как эти взбитые сливки… Как эта доступная всем сладость…)
Шербаум проснулся около шести. Лампа на моем письменном столе отбрасывала круг света. Но Филипп оставался в полутьме.
— Я пойду. — Он прикрепил поводок к ошейнику Макса, который спал на берберском ковре. Уже надев пальто, он бросил: — А теперь мне следовало бы сказать: большое спасибо.
Пошел ли он к Веро Леванд? («Я ничтожество. Скажи, наконец, что я — ничтожество».) Станет ли она его утешать, без устали утешать, как всегда говоря в нос? («Ну что ты, Флип. Ты просто должен это сделать. Неужели не понял? Почему ты это не делаешь? Ведь все совершенно ясно. Ясно как апельсин. Отступаешь от теории. Но доказываешь практикой, Флип. Сделай это».) Лягут ли они вместе среди тряпичных зверей Веро?
К счастью, зубной врач не рассмеялся, когда я поведал о рвоте Шербаума в публичном месте. Его диагноз по телефону гласил:
— Осечка только утвердит вашего ученика в его намерении. Знакомая реакция — вопреки всему… Не хотите ли прийти с мальчиком ко мне?
Вот какой он отзывчивый. Я могу выложить ему все, что взбредет на ум, пересказать даже самый дурацкий план, к примеру такой: пусть мой ученик Шербаум для пробы сожжет какую-нибудь другую собаку, тогда он поймет, что значит сжечь хотя бы чужую, возможно самую шелудивую, шавку. Даже это предложение он выслушал с полным хладнокровием, а потом стал задавать вопросы: «Какую собаку?», «Кто купит собаку?», «Когда и в какое время это должно произойти?», своими вопросами он расчленил мою идею (не первую и не последнюю!) на столько составных частей, что я уже не в состоянии был собрать ее воедино. Он помог мне теоретически реконструировать этот вариант без всяких зазоров, назвал его «в основном» разумным, похвалил мою педагогическую изобретательность: «Достойно восхищения, как неутомимо вы ищете выход», а под конец перечеркнул все — и мою мысль, и свою реалистическую версию:
— Чепуха, надо поскорее выбросить это из головы, ибо кто поручится, что сей эксперимент, обещающий относительный успех, не приведет к обратным результатам. Не исключено, что ваш ученик выдержит испытание и со свежими силами и приобретенным благодаря нам же опытом устроит сожжение собственной собаки. Несмотря на то что ваше предложение можно реализовать, оно относительно опасно.
То и дело он вставляет словечко «относительно». Все (не только боль) кажется ему относительным. Когда я описывал сцену на Курфюрстендамме и попутно покритиковал дам, которые потребляют в неумеренных количествах пирожные, зубной врач прервал меня:
— Я совершенно не понимаю, чего вы хотите. Эти дамы — пусть они и едят неразумно много пирожных и тортов — относительно милые, и каждая из них в отдельности даже вполне, ей-богу, разумна. С ними можно говорить. Вероятно, не обо всем. Но с кем вообще удается поговорить обо всем? Моя матушка, например, — пруссачка, трезвая женщина, не лишенная, впрочем, чувства юмора и обаяния, — взяла себе за правило два раза в месяц, сделав все покупки, посещать кафе «Бристоль». Я сопровождал ее относительно редко. К сожалению. После ее смерти два года назад я упрекал себя за это, ведь больше всего она любила ходить в кафе с сыном, «злословить и грешить» — так она это называла. В кафе матушка съедала всего один кусок торта, обязательно песочного и без взбитых сливок. Даже вы признаете: сей грех был относительно невелик, зато в злословии она не проявляла такую умеренность.
Он рассказал, как его матушка в годы войны во время бомбежек и позже, когда действовал «воздушный мост», училась искусству злословия.
— Однако в последние годы жизни именно часочек в кафе, своего рода пауза, давал ей возможность проявить свое злоязычие, не щадя никого на свете. Я вспоминаю: однажды с ней вместе сидела ее школьная приятельница, очаровательная старая дама, в облике которой еще сохранилось нечто девичье, она курила сигареты в янтарном мундштуке. Хотелось бы мне, чтобы вы послушали разговор этих дам. Любой шпик решил бы: здесь обосновались две анархистки, две отравительницы, которые в скором времени взорвут и межевую канцелярию, и моабитский суд. Нет, нет, милый мой. Ваша страсть к обобщениям вас подводит. Общество, даже если оно валит валом на террасы кафе, относительно многослойно. Не надо делать пугало из таких атрибутов цивилизации, как модные шляпки, горы тортов и пирожных, ожирение. Вашему ученику может только повредить, если вы воспримете его искаженную оптику.
Мой зубной врач женат, у него трое детей, он стоит обеими ногами на земле, получил профессию, дающую зримые результаты. На его счету много чего хорошего: удачное лечение зубов, удаление зубного камня, исправление неправильной артикуляции, профилактика среди детей дошкольного возраста, лечение и спасение коренных зубов, которые считались безнадежными, установление мостовидных протезов, закрывающих уродливые дырки между зубами; он может снять даже боль… («Ну как, вы еще что-то чувствуете?..» — «Ничего. Я больше ничего не чувствую».)
Я сказал:
— Вам хорошо, доктор. Вы воспринимаете людей как некую уязвимую, довольно несовершенную конструкцию, которая нуждается в разумном попечении. Однако человек, желающий большего, требующий, чтобы мы переросли самих себя, осознающий, что его угнетают, человек, который ждет, что человечество готово изменить мир и созданные в нем порядки, словом, такой, как мой ученик, видит вокруг лишь тупую сытость. Для него механическое пожирание пирожных становится уже само по себе частью механизма капиталистического общества…
Он вздохнул. Явно хотел опять заняться своей картотекой.
— Я согласен, что это относительно закрытое общество потребления может показаться семнадцатилетнему юноше жутковатым, ведь оно ему непонятно. Но вам, опытному педагогу, не следует смотреть как на своих мнимых, так и на действительных противников — при этом безразлично, о ком идет речь: о дамах, поглощающих пирожные, или о средних партийных функционерах, — как на неких демонов. Я не собираюсь, поместив вас в категорию «учитель», поставить на вас крест, но взамен прошу, чтобы и вы не списали меня со счетов под рубрикой «зубной врач», ведь мы и впредь не должны облегчать себе задачу, категорически заявляя: все зубные врачи — садисты. Или: все немецкие учителя из поколения в поколение оказывались несостоятельными. Или: немецкие женщины сначала проголосовали за Гитлера, потом за Аденауэра и едят чересчур много пирожных.
Я возразил:
— Пусть и я как учитель, и вы как зубной врач, и ваша почтенная матушка как «редкая посетительница кафе» относительно редкое явление, своего рода исключение. Вы знаете, насколько высоко я ценю многих моих коллег. Все равно обобщения, приведенные вами, имеют под собой почву, так же как имеет под собой почву, к примеру, приблизительное обобщение: «Немцы плохо водят машины», хотя есть тысячи немцев, которые уже много лет не попадали в аварию, в то время как — я уже снова обобщаю, — в то время как у бельгийцев, согласно статистике, куда чаще случаются дорожные происшествия.
(Может быть, мы все же негодная пара — зубной врач и учитель. Он привык лечить без боли, я рассматриваю боль как средство познания, хотя сам не переношу зубную боль и, лишь только зубы начинают ныть, хватаюсь за арантил. Он вполне может обойтись без меня, я в нем нуждаюсь. Я говорю: «Мой зубной врач», он в лучшем случае говорит: «Один из моих пациентов…») Стало быть, я не повесил трубку, а сказал доверительно:
— Да, доктор. Так оно и есть. Именно так оно и есть!
Мой зубной врач никогда не говорит: вы не правы. Он и на этот раз сказал:
— Возможно, вы правы. Как-никак статистика на вашей стороне. Результаты выборов, число дорожных происшествий, чрезмерное потребление пирожных — все сие можно подверстать под определенную статью и сделать соответствующие выводы, ну, скажем: немецкая женщина отдает предпочтение политикам диктаторского типа, ест слишком много пирожных и варит самый лучший в мире кофе — это последнее утверждает в рекламных объявлениях по телевизору добрый «дядя Чибо». Но таким образом можно доказать только относительную правильность вышеперечисленных обобщений. Рекламу и политическую пропаганду удовлетворяет эта удобная полуправда, они используют ее в своих целях, идя навстречу потребностям людей в обобщениях. Но вы и ваш, как я полагаю, в высшей степени способный ученик не должны столь быстро соглашаться с этим. Учтите, это говорю я, зубной врач. А ведь не кто иной, как я, изо дня в день борюсь с гнилыми зубами, которые портятся или продолжают портиться из-за неумеренного потребления пирожных и вообще всяких сладостей. Тем не менее я против того, чтобы людям запретили есть вишневый торт или солодовую карамель. Единственное, что я считаю себя вправе делать, — это призывать к умеренности и пломбировать больные зубы, если еще не поздно, а также предостерегать от поспешных обобщений. Из-за них создается видимость бурного движения, но в конечном счете они ведут к застою.
(Позже я записал: «Скромность специалистов, сообщающих о своих трудностях и ограниченных успехах — так проявляется в наши дни высокомерие. Они похлопывают по плечу: нудада, все мы трудимся в виноградниках господа бога… Они вечно требуют дифференцировать, даже во сне. Они видят относительность даже самой большой угрозы…»)
— Ну а как вы оцениваете напалм, доктор?
— По сравнению с известным всем нам ядерным оружием напалм еще можно счесть относительно безобидным.
— А каковы, по-вашему, условия жизни крестьян в Иране?
— Если рассматривать их в сравнении с Индией, можно, даже соблюдая осторожность, говорить об относительно передовой аграрной структуре, хотя Индия по сравнению с Суданом является передовой страной, охотно идущей на реформы…
— Вы, стало быть, видите прогресс повсюду?!
— Умеренный, мой милый, умеренный…
— К примеру, новую эффективную зубную пасту.
— Ее я как раз и не заметил, но фирма «Грюндиг» выбросила на рынок полезный аппарат. ЭН-3. Вы уже слышали о нем? Со вчерашнего дня я его законный владелец. Для меня это — говорящая записная книжка — значительно облегчит ведение картотеки. Мне рекомендовали приобрести диктофон на последнем конгрессе по челюстному протезированию в Сен-Морисе: он легкий, удобный, даже полный профан с ним справится. Отменная игрушка, с ее помощью я, кстати, записал наш телефонный разговор. Вы очень ярко изобразили, как вашего ученика рвало в публичном месте. Хотите послушать разок: «…Мы условились встретиться без собаки, но Шербаум привел с собой таксу…» Однако шутки в сторону: пусть мальчик придет ко мне. Я хотел бы с ним познакомиться.
Прогрессист. Умник несчастный. Энергичный кретин-специалист. Обходительный технократ. Филантроп в шорах. Просвещенный дремучий обыватель. Щедрый крохобор. Реакционер. Модернист. Заботливый тиран. Ласковый садист. Зубодер-зубодер…
Мимоходом в школьном коридоре я сказал:
— Шербаум, мой зубной врач хотел бы с вами познакомиться. Конечно, я могу понять, что вы не рветесь посетить его.
— Почему бы и нет? Чтобы доставить вам удовольствие.
— Это была его идея. Я рассказал о вашем плане, разумеется очень вскользь и не называя вас. Вы же знаете, теперь я решил больше не отговаривать вас, но с любопытством жду, на что будет подговаривать вас мой зубодер. Профилактика — его конек. Иногда он чересчур много болтает.
Мы шли пешком, так как от Эльстерплац до кабинета зубного врача было совсем близко, и на Гогенцоллерндамме Шербаум сказал, словно хотел предупредить:
— Надеюсь, вы не рассчитываете обратить меня в свою веру. Я иду только из духа противоречия.
Мы застали конец приема. Пришлось подождать несколько минут в приемной. (Прежде чем оставить нас там, помощница выключила фонтанчик.) Шербаум полистал иллюстрированные журналы. Подвинул ко мне раскрытый номер «Штерна»:
— Ваш фюрер, фюрер нацистской молодежи.
Я сделал вид, будто не следил за этой публикацией из номера в номер.
— И это чтение будет иметь кое у кого успех.
— У меня, например.
— Ну и как? Каково ваше мнение?
— Этот дядя старается жульничать искренне… как и вы.
Я сразу почувствовал боль под мостовидными протезами, хотя принял дома две таблетки арантила.
— Просто констатация факта. Я могу сказать это и о себе, если откажусь от своего плана. Но с некоторых пор это исключено. Я сделаю, как решил.
— Будьте осторожнее, Филипп. Мой зубной врач умеет убеждать.
— Понял это уже. Заигранная пластинка: сохраняйте благоразумие. Не теряйте благоразумия. Оставайтесь в рамках благоразумия. Проявляйте благоразумие. Где же ваше благоразумие?
Мы засмеялись, словно два сообщника. (Лучше бы его помощница не выключала фонтанчик.)
Мой зубной врач, как всегда, держался непринужденно, почти весело. Он поздоровался с Шербаумом, не бросая на него испытующих взглядов, а меня пригласил сесть в кресло фирмы «Риттер»; он сказал:
— Ну вот, стало уже значительно лучше. Воспаление проходит. Но, быть может, мы еще немного передохнем…
После этого зубной врач отослал свою помощницу в лабораторию и незаметно перешел к делу:
— Слышал о вашем намерении. И хотя лично я не мог бы так поступить, тем не менее стараюсь вас понять. Если вы должны это сделать, — но только действительно должны, — то делайте.
Потом он начал объяснять Шербауму, а заодно и мне — можно подумать, что я был новичком, — устройство кресла фирмы «Риттер». Откидывающаяся спинка. Полная автоматика. Триста пятьдесят тысяч оборотов в минуту — аэродинамика. По левую руку столик с инструментами. Щипцы для коренных зубов. Щипцы для корней. А также движущаяся в разных направлениях плевательница со струйкой воды. И целая коллекция еще не поставленных мостовидных протезов.
— Вот видите, людям явно нечем кусаться — не хватает зубов.
Вскользь он упомянул о том, что экран телевизора всегда перед глазами пациента.
— Небольшой эксперимент, который, как я считаю, удался. А по-вашему?
Я отбарабанил свой текст:
— Великолепно отвлекает. Мысли уносятся куда-то вдаль. И даже экран без изображения волнует, не знаю почему, но волнует…
Шербаум интересовался решительно всем, стало быть, и функцией телевизора, успокаивающей и отвлекающей пациентов во время лечения. Потом он захотел узнать, как работали прежде.
— Я имею в виду обезболивание и тому подобное…
Я побоялся, что услышу дежурную историю о ШаритЕ — как четыре дюжих мужчины держат одного больного, — но зубной врач набросал вместо этого четкую и ясную картину развития зубоврачебного дела за последние пятьдесят лет и закончил не без иронии:
— Современная медицина в противоположность политике может продемонстрировать и успехи, которые недвусмысленно доказывают: прогресс и впрямь существует, если только строго и неуклонно придерживаться выводов естественных наук и результатов эмпирических исследований. Однако любая спекуляция, которая выходит за пределы возможностей естествознания — и тут я должен признать, что пределы эти весьма ограничены, — неизбежно ведет, нет, заводит в дебри идеологической мистификации или — как мы это называем — ошибочных диагнозов. Только если политика, подобно медицине, ограничит свою задачу глобальной профилактикой…
Шербаум сказал:
— Вы правы. Я об этом тоже думал. Вот почему я и намерен сжечь свою собаку в публичном месте.
(Так, стало быть, можно заставить его замолчать. Он даже не покашлял, не пробормотал: «Гм-гм». В кабинете всего три человека, и в каждой голове роем проносятся мысли: Как он поступит теперь? Как я поступлю, если он? Как поступит он, если я ему? Что сделаю я, если он мне? Что я сделаю, если они оба? Что там жужжит? Только бунзеновская горелка по-прежнему настойчиво гудела на одной и той же ноте. Сейчас! Сейчас!)
— Кстати, мне кажется, нет, я уверен, что ваши передние зубы… Скажите-ка: маргаритка… Да-да. Конечно. В детстве вы кусали губы? Я хочу сказать: захватывали передними зубами нижнюю губу?.. Ведь у вас дистальный прикус… Разрешите.
С этих пор я вижу Шербаума в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер».
— За это надо будет платить?
До чего подкупающе умеет смеяться мой зубной врач.
— Для сторонников естественных наук бывают исключения: иногда их лечат бесплатно.
Шербаум все же чем-то похож на меня.
— Только не делайте больно.
Дантист ответил так, будто зубоврачебной практикой занимается не он, а сам господь бог в застегнутом доверху белом халате и в парусиновых бахилах:
— Делать больно — не моя профессия.
А как он нагнулся над ним. Как осветил лампочкой его полость рта. И как мой Филипп послушно произнес долгое «А-а». (Мне надо было бы попросить врача включить телевизор: «Вы не возражаете, если я посмотрю немного западноберлинские «Вечерние известия», а потом рекламу?»)
— Вам следовало бы показаться мне еще ребенком с молочными зубами.
— Разве все обстоит так худо?
— Нуда, нуда. Сейчас мы сделаем ни к чему не обязывающий снимок. И тогда посмотрим.
Зубной врач и его помощница, которую он вызвал звонком, сделали рентгеновские снимки всех зубов Шербаума. Портативный рентгеновский аппарат «Риттер» пять раз прожжужал, когда врач нацеливал его на нижнюю челюсть Шербаума, а потом прожжужал шесть раз — столько снимков верхней челюсти было сделано. И каждый снимок регистрировался. Как и в случае со мной, зубной врач зафиксировал на одной пластинке четыре нижних резца Шербаума — второй, первый, первый, второй.
— Ну как? Было больно?
Оставить большие поля для дополнений, которые позже вычеркнуть. Отмечать галочками воспоминания. Пройти вторично, на сей раз при моросящем дождике, по променаду вдоль Рейна к Андернаху — крестный путь, этап за этапом. А не то взять лист седьмой:
«…фон Дёрнберг показывает, что подсудимый требовал от него противозаконной акции — приводить в исполнение смертные приговоры не путем расстрела, как предписано Военно-уголовным кодексом, а через повешение, причем подсудимый будто бы заявил, что в районе дислокации 18-й армии и армейской группы «Нарва» (Грассер) приговоренных к смерти уже вешают…» Может быть, все же назвать Шёрнера, поскольку речь идет о Шёрнере. «…Подсудимый приказывал, чтоб вешали перед фронтовыми командными пунктами, перед домами для солдат, получивших увольнительные, или на узловых железнодорожных станциях. Он велел также, чтобы к повешенным прикрепляли дощечки с надписями, например: «Я — дезертир»…»
А может, забросить все это? А может, приземлиться у Ирмгард Зайферт и вместе с ней пережевывать старые письма? А может, вставить в рамку фотографию Шербаума и приклеить к ней скотчем табличку: «Я дезертир, так как сел в зубоврачебное кресло…» Не додумав до конца эту фразу, я ушел.
— Кельнер, кружку светлого! — Я прилепился к стойке, чтобы не быть в одиночестве. Когда в пивную заглянули Шербаум и Веро Леванд, по подставкам уже было видно, что я выхлебал три кружки светлого.
— Мы звонили вам несколько раз по телефону, а потом подумали…
(Стало быть, известно, где я сижу, когда меня нет дома.)
— Собственно, нас пригласили на вечеринку. И мы подумали, не захотите ли вы…
(В таких случаях вполне уместно указать на огромную разницу в возрасте: «В кругу молодежи следует быть молодежи».)
— Там бывают люди из университета. Преподаватели и кое-кто из профессоров. Тоже не самые юные.
(Еще немного поломаться: «Я неохотно хожу в гости без приглашения».)
— У них открытый дом. Можно приходить и уходить когда вздумается. И приводить кого хочешь.
(И вообще, стоику скорее приличествует сидеть в пивной.)
— Кельнер, счет.
— Сила, что вы идете с нами.
— Но только на минутку.
— Мы тоже не собираемся поселиться там навек. Возможно, это вообще дохлый номер.
В почти пустой квартире старого дома в Шёнеберге теснилось человек шестьдесят за вычетом тех семи, которые как раз уходили, и плюс те одиннадцать, которые как раз входили или пытались войти. Без Веро нам бы это вообще не удалось. Мы так и не разделись, ибо вешалка, где складывали пальто, по-видимому, находилась в глубине квартиры, но туда нельзя было пробраться. Можно было только предположить, что там в глубине что-то происходит, что-то более значительное. Что именно? Очевидно, то самое, да, то самое! Между стоящими, сидящими на корточках и проталкивающимися людьми с ищущим взглядом стояло, сидело и проталкивалось с ищущим взглядом — ожидание. (Ожидание чего? Ну да, того самого.) Не только я, но и Шербаум чувствовал себя здесь не в своей тарелке. (Что уж тут было говорить о шуме, спертом воздухе, духоте и вони или о внешности присутствующих, например об экстравагантном единообразии их одежды, о прическах, об их явном желании перещеголять друг друга пестротой и необычностью нарядов, отчего наряды выглядели однообразно. Бросались в глаза судорожное веселье, размашистые жесты, словно бы люди позировали перед скрытой камерой; вообще, эта вечеринка была мне вроде бы знакома, казалось, я видел сцену из старого фильма для ночного показа или даже из многих родственных фильмов.)
«Как же называется этот фильм?»
Отнюдь не Филипп, а Веро Леванд знала режиссера, оператора, исполнителей.
— Политически они все крайне левые. Наши люди. Вот этот в фуражке, как у Кастро, самый левый из всех издателей литературы underground[72]. А вот этот только что приехал из Милана, где он встречался с парнями, которые прибыли прямо из Боливии, там они говорили с Че.
Итак, отправные точки. (Ежеминутно я встречался взглядом с каким-нибудь Христом, каждый раз с другим.)
— О чем они, собственно, говорят?
— Ну, о себе.
— Но что они, собственно, хотят?
— Ну, изменить, изменить мир.
Мне представили типа, работавшего на радио. («Ведет религиозные передачи, но крайне левый!») Он дал понять, что очень спешит. Ему до зарезу нужен Олаф, тот самый, кто привез информацию из Стокгольма. («Наше досье об Анголе, понимаете…») Веро знала, в каком именно углу среди шестидесяти стоящих, сидящих, толкающихся людей находится нужный человек с Севера.
— Он там сзади, еще дальше, за вешалкой, где складывают пальто.
(Узнав это, человек с радио уплыл от нас, словно судно, разрезающее килем воду.)
— Веро, объясните, пожалуйста, кому принадлежит эта квартира? Я хочу сказать, кто разрешил снимать здесь сцену, которая уже не раз появлялась на экранах?
Веро показала на человека, который смеялся эдаким заокеанским смехом и излучал во все стороны флюиды счастья, хотя его оттопыренные уши — в давке их прижимали к черепу — все время громко взывали, прося освободить, наконец, квартиру.
— Он здесь живет. Но, собственно говоря, квартира общая.
(Напрягая память, я вспоминал соответствующие места у Достоевского, но здесь было на порядок ниже; «Пенни Лейн», густо перемешанная с «All you need is love…», да, девятнадцатый век никак не желал отступать: «Yesterday, yesterday…»[73].)
Шербаум притих настолько, что я стал бояться, как бы это не бросилось в глаза всем. (Надеюсь, его не стошнит опять.) Видимо, гости решили окончательно доказать мне, что я и впрямь нахожусь среди крайне левых интеллектуалов: в центре комнаты какая-то группка стала выкрикивать: «Хо Ши Мин», а после того затихла и вдруг запела «Интернационал». (Вернее, строки из первой строфы, повторяя эти строки без конца, как будто пластинку заело. А я в это время — дело, конечно, заключалось во мне — почему-то слышал все громче, отчетливей и яснее популярную песню «О ты, дивный Вестервальд…»[74], да и здешние девицы мне совсем не нравились.) Слишком стар. Ты слишком стар. Только не быть несправедливым. Ты просто завидуешь им — они такие левые и так умеют веселиться. Присоединяйся к ним. Погляди-ка на этого церковного радиодеятеля, на левого издателя и еще на нескольких слегка пожухлых мужчин лет под сорок. Они включились, подхватили девушек под руки; раскачиваясь в такт, подвыпившие рейнландцы плещутся в источнике вечной молодости. «Вставай, проклятьем заклейменный…» («… Ветер северный гуляет над твоей дорогой…») Старый критикан. Новоявленный реформист. Типичный учителишка. (Ну-ка давай, пробуй. Хо-хо-хо!)
Мне почудилось, будто Филипп рядом со мной с каждой минутой становится все старше и старше, и все это не говоря ни слова. Нам пора уходить. Но тут его закадрили две девицы.
— Это он, Веро? Ты и есть тот Шербаум, о котором все говорят? Ну силен! И прямо перед кафе Кемпинского? Обольешь бензином? Чирк! И наших нет. Но ты, Веро, обязана нас оповестить, когда это состоится. Фантастика, силен парень! Просто фантастика!
Из шестидесяти человек осталось всего пятьдесят семь — Шербаум потянул за собой Веро, я поплелся за ними. Но навстречу нам по лестнице уже поднималось человек шесть-семь.
Еще на лестнице Шербаум залепил Веро пощечину. Однако гости, направлявшиеся наверх, восприняли это как добрый знак. Стало быть, там в квартире происходит что-то из ряда вон.
Во дворе Шербаум вцепился в Веро (по щекам больше не бил, просто дубасил ее), пришлось их разнять. Я сказал:
— А теперь довольно!.. Выпьем по кружке пива в знак примирения.
Веро не заплакала. Я протянул Шербауму свой носовой платок, потому что у нее пошла кровь носом. Когда он вытер ей лицо, я услышал:
— Только не гони меня домой, Флип, ну пожалуйста…
(Зря я просвистел несколько тактов из «Интернационала», когда мы поспешали прочь от того дома, просто глупость и подлость.) В первой попавшейся пивной на Хауптштрассе мы заняли свободные места у стойки. Филипп и я говорили, не обращая внимания на Веро, которая судорожно держалась за свою бутылку кока-колы.
— Как вам понравился мой зубной врач?
— Совсем не плох. Знает, чего хочет.
— При его профессии это необходимо.
— Классная идея — телепередачи во время приема.
— Да, очень даже отвлекает. Вы решили у него лечиться?
— Возможно… Когда это уже будет позади.
— Еще не передумали, Филипп?
— Эти девицы меня не отпугнут. Ну нет. Неужели вы всерьез решили, что я сделаю финт ушами только потому, что несколько соплячек, которые изображают из себя левых, кричали: «Фантастика! Просто фантастика!»?
Подготовиться к уходу и заказать всем еще по кружке пива. Веро подвывала, склонившись над своей бутылкой колы. (Вытье в нос из-за полипов.) Я дождался, пока Шербаум не положит ей левую руку на плечо и не скажет:
— Пошли. Прекрати же. Все уже в порядке.
Тут и я отправился восвояси.
(«Помиритесь скорее. Когда левые ссорятся, это производит плохое впечатление».)
Было по-прежнему холодно. И рот сводило от сухости. Человек, который покидает в такую погоду пивнушку, спасается бегством. Согнуть спину. Обзавестись привычками. (Например, класть спичку в узел галстука — про запас.) Выходя из пивной, я огляделся: прежде чем окунуть большой палец в пиво, все они кивали друг другу. А когда кричали: «Кельнер, счет», то вид у них был такой, словно они просадили целое состояние. (Мне захотелось послать все к черту, сесть на самолет панамериканской авиакомпании, вылетающий утренним рейсом, и думать только о полете.)
Дома на том же месте лежало то же самое — начатая рукопись. Я открыл папку, просмотрел главу «Шёрнер в Арктике», вычеркнул несколько прилагательных, захлопнул папку и набросал отзыв, который запросит защитник ученика Филиппа Шербаума, когда дело дойдет до этого.
Я долго не знал, как его озаглавить: В судебную коллегию по уголовным делам Западного Берлина? Или, может, написать: Генеральному прокурору? (Лучше я вообще опущу обращение.)
Вокруг акции Шербаума я воздвиг ограду из литературных примеров, которые были связаны друг с другом, а также с делом мальчика. Я цитировал манифесты сюрреалистов и футуристов, привлек в качестве свидетелей Арагона и Маринетти. Процитировал монаха-августинца Лютера, нашел полезные отрывки в «Гессенском сельском вестнике»[75]. Хэппенинги назвал жанром искусства. Несмотря на весь свой скептицизм, приписал огню (жертвенному животному) символическое значение. Определение «черный юмор» вычеркнул и вместо него вписал «шутка без пяти минут студента», вычеркнул это тоже и получил неожиданную поддержку от классика: дал Шербауму роль Тассо, а суду порекомендовал исполнить роль обладающего здравым смыслом светского Антонио. Я писал: «Подобно тому как здравомыслящий могущественный Антонио, поступками которого управлял разум, относился к поэтическим гиперболам сбитого с толку и прислушивавшегося лишь к голосу чувства Тассо, подобно этому должен вести себя и западноберлинский суд — его задача примирить крайности и великодушно подвести под делом черту в духе Иоганна Вольфганга Гёте: „Так корабельщик крепко за утес / цепляется, где должен был разбиться…“[76]».
И хотя я вынужден был в качестве эксперта осудить поступок Шербаума, который я назвал заблуждением, проистекавшим из желания пожертвовать собой, мне все же удалось придумать либеральную концовку. «Государство, которое считает явной опасностью для себя смятение юноши, нашедшее выражение в означенном поступке, юноши, столь высоко одаренного и сверхчувствительного, как Шербаум, лишь доказывает неуверенность в себе и желание заменить благотворную терпимость демократии жестоким самовластием».
(С сознанием исполненного долга я лег спать.)
В классном журнале я обнаружил анонимку: «Перестаньте наконец нервировать Флипа», а в учительской в моем ящике лежала записка, подписанная: И. З. «Мы видимся так редко. Почему, собственно?»…Два почерка, обе спешили; в их просьбах звучала угроза. Во время уроков я делал вид, будто не замечаю свою ученицу. (Избитый прием, показуха: я вас в упор не вижу… Ну и что?) А свою коллегу я поразил активностью и многословием. (Шутливо-высокомерно описал предреволюционную вечеринку.) Потом я испробовал себя в качестве исследователя скрытых пружин.
— Может быть, это наведет нас на след: отец Шербаума был во время войны солдатом противовоздушной обороны…
— Это как-никак доказывает…
— Меня интересует не политический аспект его деятельности. Он гасил пожары, его даже наградили медалью «Крест за заслуги» второй степени, Шербаум написал это в своем сочинении об отце черным по белому. Отец спасал людей. Вы, конечно, понимаете, куда я клоню…
— Несмотря на это, ваша параллель: солдат противовоздушной обороны — сожжение жертвенного животного, не кажется мне убедительной.
— И все же в том сочинении солдат противовоздушной обороны своего рода ключ к разгадке. Вот вам одна выдержка: «Когда мы отправляемся купаться на Ванзее или, как два года назад, на Санкт-Петер, мой родитель, солдат противовоздушной обороны, всегда идет с нами, но он не раздевается, а так и сидит в одежде и наблюдает за нами». Ну? Что вы на это скажете?
— Наверно, вы предполагаете, что отец Шербаума получил ожоги во время войны и стесняется показываться на людях без одежды, быть может ожоги покрывают его целиком.
— Именно к такому заключению я и пришел. В сочинении Шербаума встречается еще одна фраза, которая подтверждает мою гипотезу. «Когда я был маленьким, я однажды видел отца голым. Голый солдат противовоздушной обороны».
— Стало быть, вы должны поговорить с отцом.
— Имел это намерение. Твердое намерение…
(Нет, я больше не хочу. Боюсь, что тело его отца покрыто следами от ожогов. Одно тянет за собой другое. А я не намерен копать вглубь. Я всего лишь учитель. Мечтаю, чтобы это кончилось…)
Предложение Ирмгард Зайферт «пойти как следует поесть» дало нашим мыслям другое, но отнюдь не новое направление. Мы решили, что способны одолеть две порции свиных ножек. Я с этой задачей справился. Ирмгард оставила много чего на тарелке, ведь она то и дело залезала в фибровый сундук своей мамаши, вытаскивала оттуда старые письма и как попугай повторяла фразу за фразой…
(«Это никогда не кончится. Моя вина, Эберхард. Это не может кончиться…») Прежде чем мы заплатили и пошли (она угощала меня), я извинился, мне нужно было выйти на две-три минутки — позвонить по телефону.
— Ну что показал рентген, доктор?
Мой зубной врач заговорил о Шербауме с теплотой: мол, учить и воспитывать такого юношу — огромная радость.
— Поверьте. Поистине, он Луцилий, который, впрочем, еще не нашел своего Сенеку. Ну а что касается рентгеновского снимка — сущие пустяки. Но вы ведь знаете, что все начинается с пустяков. И еще: дистальный прикус. Кое-что придется сделать. Кстати, мальчик уже звонил.
— Значит ли это, что Шербаума интересует, что у него с зубами?
— А кого это не интересует?
— Я имею в виду, заглядывает ли он в будущее? Или думает только о той минуте? Вы ведь понимаете…
— Ваш ученик спросил, не следует ли ему обратиться к школьному врачу.
— Ой как разумно.
— Я сказал: ну конечно, этот путь для вас всегда открыт. Но и я могу в любое время принять вас у себя.
— Он согласился?
— Я не хотел настаивать.
— А о собаке ни слова?
— Прямо о ней не упоминал. Но поблагодарил за то, что я укрепил его в этом намерении — так он выразился… Мы должны еще решительней ободрять вашего ученика. И вселять в него мужество. Понимаете? Неустанно вселять мужество.
(Подавая Ирмгард Зайферт пальто и благодаря ее за свиные ножки, я сказал: «Теперь он перекинулся на педагогику. Что же мне, переквалифицироваться в зубного врача? Моя ревность просто смешна. Так или иначе, Шербаума я потеряю…»)
Представим себе: миром управляют зубной врач и педагог. Наступает век профилактики. Все недуги благополучно предотвращаются. Поскольку каждый учит, каждый также учится. И поскольку всех поражает кариес, все дружно ведут борьбу с кариесом. Предусмотрительность и осмотрительность умиротворяют народы. На вопрос о сути бытия отвечают не религия и не идеология, а гигиена и просвещение. Люди избавились от чувства неполноценности и от запаха изо рта. Представим себе, что…
Наша конференция заседала два дня подряд в Шёнебергском замке. Во время перерыва между заседаниями я позвонил своему зубному врачу и описал (подчеркнуто критически) весь ход церемонии: вступительные слова, приветствия, обращенные к гостям, ответные приветствия гостей, финансовый отчет казначея, шесть докладов в связи с введением унифицированного обучения, гессенский акцент кое-кого из выступавших, выделение нескольких основных задач, потом резолюции: о введении обязательного десятого года обучения, об урегулировании практических занятий в школе и о первой фазе переподготовки учителей и стажеров (включая обращение к палате депутатов). Потом я разъяснил ему — скорее в шутливом тоне, нежели в форме лекции, — неповоротливость нашей «динамичной» школьной политики; я насмешливо процитировал коллегу Эндервица, с мнением которого был, в сущности, согласен: Унифицированное обучение — оптимальное средство противопоставить школу нынешней социально-политической ситуации». И вот я благополучно закончил свой оперативный обзор, но тут мой зубной врач, видимо, решил отомстить мне — он выдал подробную информацию о конгрессе челюстной ортопедии в Сен-Морисе, перемежал цитаты из вступительной речи на тему «Челюстные деформации» подробными описаниями пейзажей, детальнейшими сведениями о тамошних прогулочных маршрутах, о лиственных лесах и об альпийских лугах: «Густая синева озер произвела на меня неизгладимое впечатление. Очаровательный уголок земли».
Одним словом, говоря по телефону, мы друг у друга в долгу не остались: каждый нес свое. Собственно, то, что я хотел узнать: «А Шербаум? Он вам опять?..» — так и потонуло в дуэте двух профессионалов. Мы повесили трубки.
— До скорого.
(Представим себе: зубной врач и педагог управляют миром. Первый слушает второго, второй — первого. Их обычное приветствие: «Даешь профилактику!» — на всех языках станет обязательным для всех. Приемные часы будут постоянно… Как он сказал? «Звоните мне в любое время, не стесняйтесь…»)
Когда я вернулся к Ирмгард Зайферт в парадный зал прелатской резиденции, прения уже начались. Правда, против унифицированного обучения мало кто высказывался, но все же выступавшие то и дело нахваливали традиционную школу и каждый раз, вспоминая о ней, буквально разливались соловьем.
— Несмотря на то что мы безусловно приветствуем стремление кое-кого к новациям, нельзя забывать, что…
Ирмгард Зайферт и я отметили «легкое движение в зале». (Позже оно было зафиксировано в протоколе.) И демонстративно отвернулись. В зале шаркали ногами, покашливали, чихали, что, очевидно, должно было вызвать смех, — словом, обычная ученическая реакция. Мы начали рисовать рожицы на листках с повесткой дня, потом придумали себе новое развлечение — игру, в которую играли, будучи еще стажерами, когда гуляли вокруг Грюневальдского озера.
Она. Порядок перевода в следующий класс. Параграф А. Общие определения. Четвертый раздел.
Я. Плохо успевающий ученик, получивший оценку «неудовлетворительно», имеет меньше шансов на перевод в следующий класс, нежели ученик, получивший оценку «не вполне удовлетворительно».
Ирмгард поставила мне крестик, следующий вопрос получил право задать я.
Я. Второй государственный экзамен на замещение учительских должностей, параграф пятый, раздел первый.
Она. Экзамен начинается с допущения к нему.
Ирмгард Зайферт тоже получила крестик. Теперь была ее очередь спрашивать.
Она. Наказание в школе, права школьников, ШНО, раздел первый.
Я. В школах и воспитательных домах Западного Берлина запрещены телесные наказания… Иными словами, мне не разрешено отлупить своего ученика Шербаума, между тем не далее как вчера я серьезно размышлял: не лучше ли было затеять основательную потасовку, во время которой сломать ему кисть левой руки. Больница, гипсовая повязка, вынужденный досуг… И в результате сожжение собаки в публичном месте не состоится. Я с улыбкой получаю дисциплинарное взыскание. Что вы на это скажете?
Но Ирмгард Зайферт, оказывается, именно сейчас открыла для себя Шербаума. (Или открыла себя в нем?) Во всяком случае, в прелатской резиденции — на трибуне в это время зачитывали дополнительные предложения — она вполголоса завела ту же песню, что и он. Еще до конца заседания мы смылись, но она продолжала в этом же духе. Зайферт лепила Шербаума по своему образу и подобию, она превратила его чуть ли не в распятого Христосика. Он, видите ли, должен совершить то, что ей не удалось совершить в семнадцатилетнем возрасте.
— Не может быть, чтобы вы говорили серьезно!
— Правда, Эберхард. Я верю в этого мальчика.
И она сообщила о «своем все увеличивающемся понимании Шербаума». Почти дословно повторила стратегические наметки моего зубного врача.
— Если бы я могла придать ему мужества. Мне хотелось бы без устали вселять в него мужество.
Да, она за словом в карман не лезет, и аргументы у нее всегда наготове. И она не боится говорить о «внутренней задаче». Может, это из-за общения с декоративными рыбками? Я знаю, что она готовится к урокам, сидя перед аквариумом. Наверно, прислушивается к советам вуалехвостов и золотистых окуньков. Кого же ей еще слушать? Если говорить напрямик — Ирмгард Зайферт одинока.
А я, доктор! А я?.. Крошка Леванд уже опять подсунула мне записку. «Если вы не оставите в покое Флипа, ваше контрреволюционное поведение будет иметь последствия». Открытая угроза, доктор! И никто мне не помог. Бросить всю эту муть и уединиться. С меня довольно! С меня довольно! Пора придумать себе какое-нибудь бессмысленное хобби и уйти в него с головой: например, устраивать состязания в беге для улиток…
В переменку в десять часов она прижала Шербаума к задней стене крытой стоянки для велосипедов, отрезав ему пути к отступлению. И начала вселять в него мужество.
— Вы правы, Филипп. Разве вам помогут наши эрзац-решения, ежедневная капитуляция взрослых?
Меня она использовала в качестве подопытного кролика.
— Мы — не правда ли, дорогой коллега, — мы вот уже много лет как не способны к спонтанным действиям?
(В эту минуту я вспомнил только ту пощечину: «Я способен. Я способен». Так мне и следовало сказать. Однако я промолчал и нащупал языком свои мостовидные протезы.)
— Как часто я собиралась встать перед классом и дать показания: да, такой я была в свои семнадцать лет. Так я поступала, будучи семнадцатилетней… Помогите мне, Филипп. Покажите пример. Укажите дорогу, укажите нам дорогу, тогда наша несостоятельность не распространится на новые поколения.
Шербаум, казалось, не знал, смеяться ему или плакать.
— Я буду с вами, когда вы вступите на ваш тернистый путь.
Он заморгал и попытался было, отведя взгляд от ее блестящих глаз, проследить за мелькавшими в воздухе воробьями. Но ловушка была закрыта наглухо.
— Глядите на меня, Филипп. Я понимаю, что скромность мешает вам признать величие задуманного вами.
Стараясь спастись, он изобразил ухмылку — ямочки так и не появились. Прежде чем я помог ему выйти из этого дурацкого положения, сообщив, что перемена кончилась, Шербаум сказал:
— Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Мне совершенно все равно, что вы делали в свои семнадцать лет. Наверняка что-то делали или не делали, в семнадцать лет все что-то делают.
Подобно Зайферт, Шербаум тоже превратил меня в подопытного кролика.
— Вот вам, например, господин Штаруш. Когда я объясняю ему, что происходит во Вьетнаме, он рассказывает о своей шайке подростков и читает лекции о раннем анархизме семнадцатилетних. Но мне ни к чему его юношеская шайка. Что касается анархизма, то я его вообще не признаю. Решил стать врачом или чем-то в этом роде…
Шербаум от нас ускользнул. И мы с Ирмгард Зайферт пробегали весь пустой урок по школьному двору. То, чего не захотел выслушать он, пришлось проглотить мне, слово за словом.
— Мальчик даже не догадывается, что он воистину велик. Он видит лишь свой план, свой поступок и не понимает, какое эхо это вызовет, не понимает, что он наш спаситель…
(В ее голосе никаких колебаний.) Школьный двор почти пуст, и чуть слышно выдохнутое слово «Спаситель…» зависло в воздухе в виде идеально круглого пузыря…
— Действительно, Эберхард, с тех пор как появился юный Шербаум, во мне опять проснулась надежда. В нем такая сила и чистота, что он нас — да, я не боюсь это произнести, — что он нас спасет: мы должны вселить в него мужество.
Трезвый январский холод не дал ее словам улетучиться. (Ходить по морозу взад и вперед, открывать рот и повторять: «сила-чистота-мужество».) Я требовал, чтобы Ирмгард Зайферт оставалась на почве реальности, обращаясь к ней на «ты».
— Ты не должна накручивать Филиппа, он и так взвинчен, и это вполне понятно. Неблагородно взваливать на мальчика еще и нашу ношу. Кроме того, нечестно с твоей стороны превращать твой, прямо скажем, не очень благородный поступок в эдакую рождественскую елочку. Праздничная иллюминация здесь не к месту, дорогая. В конце концов Шербаум — не мессия. Спаситель… Курам на смех. Речь идет просто о пареньке с тонкой кожей, он чувствует не только несправедливость, с которой сам сталкивается, но и ту несправедливость, которая совершается далеко от него. Для нас Вьетнам в крайнем случае — результат скверной политики или неизбежное проявление продажной социальной системы, а его не интересует причина, он видит горящих людей и хочет это пресечь, во что бы то ни стало пресечь.
— Именно это я и называю, с твоего разрешения, подвигом во имя спасения…
— Никакого подвига не будет.
— Почему не будет? Время пришло…
— Возьми себя в руки. В конце концов мы, как педагоги, обязаны ясно растолковать мальчику последствия его поступка.
Но Ирмгард Зайферт нравились и она сама, и возможность отрешиться от земных расчетов. Не только холод вызвал румянец на ее щеках. Она смеялась, заполняя школьный двор тем оживлением, которое приписывают раннехристианским мученикам.
— Если бы я еще к тому же была верующей, Эберхард, то сказала бы: святой дух отметил мальчика, от него исходит сияние.
(При этом она такая тоненькая в своем пальто и жесты у нее робкие и неуверенные. Истерия молодит Ирмгард. Если я еще немного подожду, не поставлю ее на место, она, как переволновавшаяся девчонка, окончательно разнюнится в этот мороз, захнычет: «Но ведь это необходимо… Мы ведь должны… Пускай хоть какой-то отблеск… Это чудо, чудо…» Что она там плетет о чуде? Я сам был бы до смерти рад, если бы одного дерева вдруг не оказалось на месте, но голые каштаны стоят ровной шеренгой — без просветов.)
Когда я пересказал зубному врачу наш душещипательный разговор и шаманские заклинания на школьном дворе, он кратко и убедительно подвел итог:
— Способность вашей коллеги впадать в транс заставит мальчика задуматься, какого рода сторонников привлечет к нему его поступок. Чем больше она будет восторгаться, тем труднее ему будет чиркнуть спичкой… Держите меня и впредь в курсе. Ничто так не сердит героя, как рукоплескания до того, как он совершил задуманное. Таковы они все, эти герои.
Нет. Он не таков. Не герой. Не хочет вести за собой других. Не гонится за сторонниками. В его глазах не горит фанатизм. Он даже не умеет быть невежливым. Он не резок, не грубиян, не сильная личность. Никогда не захватывает первенство. (Его сочинения не в счет.) И не лезет вперед. (Ему без конца предлагают стать главным редактором школьной газеты, но он каждый раз отказывается: «Это не по мне».) При том он не робкого десятка, не стеснителен и не лентяй. Ни разу не случалось, чтобы он отстал от класса. И в то же время он никогда не старался казаться бесстрашным, вызывающе храбрым, не говорил, что не боится высоты. Его насмешки не оскорбительны. Его расположение не навязчиво. (Никогда он не был мне в тягость.) Он не лжет ни при каких обстоятельствах. (Только в сочинениях, но это не в счет.) Его трудно невзлюбить. И он не пытается нравиться. Внешность у него не броская. Уши не оттопырены. Он не говорит в нос, как его подружка. И он не вещает. Он не мессия. Не несет людям весть. Он совсем другой.
Мое прозвище было Штёртебекер. Я ловил крыс голыми руками. Когда мне минуло семнадцать, меня призвали отбывать «трудовую повинность». В то время я и моя шайка уже попали под следствие. Меня допрашивали. Обер-фельдмайстер прочел утром перед строем приговор — отправка на фронт для искупления вины, стало быть штрафной батальон. Я обезвреживал мины. Мне приходилось обезвреживать мины под носом у противника. (Штёртебекер остался в живых, Мооркене подорвался на мине.) Теперь Штёртебекер — штудиенрат, и голова у него полна всяких старых историй.
Я только и умею, что рассказывать эти истории, я без конца рассказываю их Шербауму, который умеет хорошо слушать, и я верю в эти истории. Между Шербаумом и его замыслом я выкладываю камешек за камешком точно датированные, научно обоснованные, стало быть, вполне исторические истории. Я предложил ему пройтись немного. Мы отправились от поселка Айхкамп сперва к Чертовой топи, потом к Щебенчатой горе (пик Обломков); с искусственно насыпанного холма катались на санках, мы обошли американскую радарную установку, и, перечислив все, что открывалось нашим глазам (жилые дома концерна «Симменс», Европейский центр со звездой — рекламой «мерседеса» — и все еще строящаяся телебашня в демократическом Берлине), мы сказали:
— Вот он Берлин, здорово большой.
Но я гнул свою линию.
— Видите ли, Филипп, в сущности, все время встает один вопрос: можно ли передать свой опыт? Мы уже некоторое время изучаем на уроках Великую французскую революцию и ее последствия. Говорили о разочаровании Песталоцци и о трагическом поражении Георга Форстера в Майнце. Волны революции докатывались даже до моего благополучного родного города, ибо жители Данцига, всегда озабоченные тем, как бы не попасть в зависимость к кому бы то ни было — будь то польская, шведская или русская корона, — находились тогда в зависимости от пруссаков. Не только простой люд, но и весьма самонадеянные бюргеры с сочувствием следили за событиями во Франции. Но они ни в коем случае не хотели допустить переворота, разгула силы, баррикадных боев, Комитета общественного спасения[77], гильотины — словом, всего болезненного революционного процесса; но вот семнадцатилетний гимназист Бартольди решил с помощью нескольких однокашников и портовых рабочих, в большинстве своем поляков, — они жили в Хакельверке, — решил провозгласить в Данциге республику, однако он потерпел поражение еще до того, как осуществил свой план 13 апреля 1797 года, когда заговорщики встретились на Бойтлергассе — там находился дом родителей Бартольди, хорошо обеспеченных торговцев-буржуа, — соседи заметили «скопление лиц с целью совершения противозаконных действий», так они это назвали. Были вызваны судейские. Начались аресты. Бартольди приговорили к смерти, и спас его только указ королевы Луизы о помиловании — на следующий год она вместе с Фридрихом Вильгельмом III посетила город и была встречена всеобщим ликованием, — указ заменил Бартольди смертную казнь заточением в крепости. Очевидно, он просидел в крепости Торгау двадцать лет. Даже поражение Пруссии и последовавшее затем превращение города Данцига в республику не изменили его участи. Мальчиком я пытался разыскать отчий дом Бартольди на Бойтлергассе. Мемориальной доски там не было. В хроники города дело Бартольди вошло не как историческое событие, а как некий курьез. Нет, нам не хотят лишний раз напоминать о Бартольди.
Мы спускались вниз. Шербаум молчал. Вороны над Щебенчатой горой многозначительно напоминали о причинах возникновения этого насыпного холма, часть которого уже успела порасти лесом. (Я предложил выпить «чего-нибудь горячительного» в лесничестве Шильдхорн.)
— Вы спросите себя, Филипп, что он хотел сказать этой историей. Наверно, вы полагаете, что я пытаюсь отговорить вас от вашего намерения… На днях ваша подружка Веро обвинила меня в своем подметном письме в том, что я «хочу лишить вас уверенности». Нет, это в прошлом. Действуйте, пожалуйста, действуйте. Но и мне должно быть разрешено проводить параллели между задуманным вами поступком и историческими фактами. Надеюсь, вас интересует эта история?
— Точно. Я буду задавать вопросы позже.
— Я считаю вот что: попытка Бартольди начать революцию и провозгласить республику была, в сущности, опрометчивой и глупой. Он вверг в несчастье не только себя, но и польских портовых рабочих. (Только его однокашники — таково предание — были оправданы.) Бартольди не хватало трезвости революционера. Правда, юноша не мог знать, что даже сам Маркс далеко не сразу понял, что только класс, которому нечего терять, кроме своих цепей, и который может приобрести весь мир, призван совершить победоносную революцию. И вы, Филипп, зная все это — ведь вас заранее предостерегли, — должны понять, что ваш замысел — сожжение собаки в публичном месте — только тогда окажется эффективным, когда широкие слои населения — я сознательно избегаю понятия «класс» — сумеют истолковать этот поступок как призыв к дальнейшим действиям. Но об этом и речи нет. Вы же видели, что приятельницы Веро рассматривают это просто как спектакль, как сенсацию. И вы видели, что моя уважаемая коллега, госпожа Зайферт, как ни крути, понимает вас совершенно превратно.
— А как звали вашего Бартольди?
— Даже имени его история не сохранила.
(Мы уже сидели в лесничестве Шильдхорн за горячим пуншем.) Шербаум спрашивал об экономическом положении города. Я рассказывал о спаде в торговле лесом и о долговом бремени (два миллиона прусских талеров), которое, впрочем, уменьшилось в 1794 году благодаря государственным субсидиям. Тут он захотел узнать поподробней о регулярных частях, составлявших данцигский гарнизон. Мой ответ произвел на него большое впечатление: в гарнизоне постоянно числилось в общей сложности шесть тысяч солдат и офицеров, в том числе артиллеристы, крепостные войска и лейб-гусары; и всему этому оккупационному войску противостояли всего лишь тридцать шесть тысяч гражданских лиц; что касается вооруженных отрядов горожан, являвшихся в прошлом важным орудием в руках ремесленных гильдий, то им пришлось разоружиться. Я открыл свою папку, показал материалы «К истории Бартольди» и процитировал путевые заметки одного иноземца, попавшие ко мне: «Французская государственная система имеет здесь много приверженцев. Но я не думаю, что они когда-нибудь решатся пойти на измену прусскому правительству, если оно будет проявлять заботу об умеренно мягком правлении». И тут Шербаум понял, к чему я клоню.
— Не так уж много изменилось с того времени.
— Вот почему, Филипп, я считаю: история Бартольди не должна повториться.
(Но опыт нельзя передать даже за пуншем.)
— Во-первых, я не стремлюсь к революции. Во-вторых, я все логически вычислил. Не знаю, имеете ли вы представление о математической логике…
— Мне известно, что у вас плохие отметки по математике.
— Это относится только к прикладным разделам. Во всяком случае, моя формула верна. Сначала, правда, у меня ничего не получалось, потому что основная посылка была — это произойдет в субботу. Но даже воскресные газеты не успели бы откликнуться. Понедельник вообще отпадает. Теперь я разрабатываю вариант со средой: в среду днем. И тут все вдруг заиграло. Уже в четверг соберется палата депутатов. В пятницу я опять буду в состоянии давать интервью, соберу в больнице пресс-конференцию. И обнародую заявление. Состоятся первые манифестации солидарности. Не только в Западном Берлине, но и в Западной Германии. В некоторых крупных городах сожгут собак. Позже к этому присоединится и кое-кто за границей. Веро называет это ритуализированной формой вызова. Ну да ладно, ведь мою историю надо как-то окрестить. Я покажу вам формулу. Но только потом, когда все будет позади.
— А если пойдет по-другому, Филипп? Если тебя убьют на месте?
— Стало быть, формула была неправильной, — сказал мой зубной врач. — Ох, уж эти ваши истории. Поступок Бартольди прямо-таки взывает к повторению.
— Вы считаете, он станет действовать…
— Если ясная и морозная погода продержится до следующей среды, у меня не будет времени заняться его дистальным прикусом и — по мере возможности — исправить его.
— Мне бы ваши заботы.
— Скажите, милый мой, отвлекаясь от тех исторических примеров, которым вы, как педагог, призываете следовать, есть у него какой-либо живой пример? Вы ведь знаете, у нас всегда перед глазами идеал. Я почти убежден, что гимназист Бартольди довольно долгое время служил для вас опорой. Угадал?
Мы направляем воспоминания в определенное русло. (В поисках утерянного образца.) Вот я уже опять надел короткие штанишки и стою перед старинными домами с остроконечными крышами на Бойтлергассе. А он уверял, что его идеалом был чудо-бегун Нурми. (Мы сошлись на том, что потребность иметь живые примеры в профилактических целях должна удовлетворяться передачей из поколения в поколение этих живых примеров, примеров «Даешь профилактику!».) Я изложил ему свое построение, созданное, так сказать, по аналогии: мой отец был лоцманом, сына называли Штёртебекером; его отец, став солдатом противовоздушной обороны, тушил огонь, сын хочет принести жертву — разжечь огонь; и тут зубной врач согласился со мной:
— Разумеется, вся цепь ваших умозаключений смётана на живую нитку, но я все же не исключаю, что предполагаемые ожоги и увечья его отца смогут нас на что-то натолкнуть. Не мешало бы вам хоть разок напроситься к мальчику в гости…
Она живет среди тряпичных собак и читает изречения председателя Мао. В ее комнате, которая, очевидно, меньше, чем его, среди множества самоделок привлекает внимание большое «крупнозернистое» фото Эрнесто Че Гевары. Все это я знаю со слов Шербаума, который называет ее комнату «детсадовской», а тряпичную коллекцию — «зверинцем». Он говорит об этом добродушно-снисходительно:
— Нуда, дело вкуса.
С коллекцией мерседесовских «звездочек» она до сих пор не хочет расстаться, хотя он не раз повторял:
— Это уже пройденный этап.
А она привязана к старым трофеям.
— Собственно, то было хорошее время. Хорошо собирать «звездочки».
Он говорит:
— Иногда мне здорово надоедает: она читает Мао, как моя мама — Рильке.
Хмурого Че Шербаум называет «pin-up»[78] Веро.
Когда он оглядывается назад, в серые, еще доисторические времена, в нем всплывает воспоминание:
— Раньше там висел Боб Дилан. Я сам подарил ей его портрет. И написал на нем: «Hes’so damn real…»[79] Нуда, это было давно.
У Филиппа Шербаума тоже прикреплена кнопками в простенке между окнами фотография: вернее, газетная полоса небольшого формата — три узкие колонки; в средней колонке, как бы разделяя текст, помещен портрет примерно в два раза больше, чем обычная фотография на паспорте. На ней юноша лет семнадцати: твердое круглое лицо, волосы сначала смочены, а потом тщательно зачесаны назад, пробор слева. Открытое и серьезное лицо, обычная фотоулыбка; лицо мальчика тридцатых годов, мальчика моего поколения.
— Кто это?
(Я спросил Шербаума: «Могу ли я как-нибудь зайти к вам в гости, Филипп?» И он ответил, как всегда, вежливо: «Ясное дело. Ведь я у вас уже был. Только я не умею заваривать чай». И когда я и впрямь пришел к нему — и даже принес его матери цветы, которые оставил в передней, — он отвечал на все мои вопросы, ничего не приходилось повторять дважды.)
— Этот? Гельмут Хюбенер. Член какой-то секты. Вроде мормонов. Она называлась «Святые последнего дня». Родом он был из Гамбурга, но напечатано о нем в Киле. В их группе было четверо: подмастерья, служащие. Продержались они довольно долго. Только двадцать седьмого октября сорок второго его казнили здесь, в Берлине, в Плётцензее, ну, а до этого, конечно, пытали.
Шербаум разрешил мне снять со стены статью — я хотел прочесть и то, что было напечатано на оборотной стороне: увидеть фотокопию официального объявления о его казни. (Статья среди других статей. Справа на оборотной стороне рубрика «Новости вкратце» кончалась заметкой о конкурсе молодых ученых «Молодежь исследует».) Рядом с колонцифрой я прочел: «Дойче пост».
— С каких пор вы читаете профсоюзную печать?
— Наш почтальон рекламирует эту газетку. Довольно скучную, но она бесплатная. Все же я благодарен, без нее я бы о Хюбенере нипочем не узнал.
Я смутно вспомнил, что о Хюбенере говорилось в статье «Свидетельства Сопротивления», которую дала мне прочесть Ирмгард Зайферт, — да, там было написано что-то о семнадцатилетнем практиканте-служащем и его группе Сопротивления. (Почему я на своих уроках не…? Почему всегда только о слишком позднем офицерском заговоре[80]? И к чему вся эта путаная чепуха о моей шайке?)
Шербаум не дал мне чересчур долго ломать голову. Поскольку я молчал, он нанес удар:
— Да, такое тоже было. По сравнению с этим ваша юношеская шайка — пустой номер. А они больше года печатали листовки и распространяли их. Причем среди самых разных людей. Во-первых, среди портовых рабочих. Во-вторых, среди французских военнопленных, разумеется в переводе. В-третьих, среди солдат-фронтовиков. Он начал уже в шестнадцать. И он не занимался разрушением церквей и прочей мурой. Ничего похожего на ранний анархизм. И он не был таким уж простачком, как ваш Бартольди. Умел стенографировать и даже знал азбуку Морзе.
(А я, дурак, надеялся и боялся, что мое прошлое — главаря шайки — станет для него примером или что примером станет его отец, солдат противовоздушной обороны, с этими его предполагаемыми ожогами.) Правда, я все еще продолжал искать в комнате Шербаума доказательства, подтверждающие цепь моих мотивировок, например фотографии руин или снимки, которые показывали бы его отца на дежурстве. И я напомнил ему, что меня в мои семнадцать лет запихнули в штрафной батальон.
— Знаете, что значит разминирование без огневого прикрытия?
Но Шербаум по-прежнему твердо хотел учиться у практиканта Хюбенера.
— Он стенографировал сообщения, которые передавало лондонское радио. Кстати, я тоже закончил курсы стенографии. Когда история с Максом будет позади, я научусь передавать на коротких волнах и займусь азбукой Морзе.
(И то и другое я не умею. Хотя осенью сорок третьего в военном лагере допризывников поблизости от Нойштадта в Западной Пруссии они меня хотели научить азбуке Морзе. Может быть, я даже умел передавать и принимать телеграммы: семнадцатилетние часто делают то, о чем в сорок лет с трудом могут вспомнить, — пример тому Ирмгард Зайферт. Шербаум музыкален: ему легко научиться выстукивать сообщения на телеграфном аппарате.)
После того как я опять прикрепил кнопками к стене страничку из профсоюзной газеты, мы замолчали. Филипп играл со своей таксой. Приятная комната, убранная не слишком тщательно, сразу понятно, что хозяин комнаты — Шербаум. (Рубрика называлась «Голос молодежи». Я запомнил имя журналиста, его звали Зандер, и решил ему написать.) Левой рукой Филипп отбивался от своей длинношерстной таксы. Я сделал несколько выписок. После оглашения приговора Хюбенер, по имеющимся сведениям, бросил судьям «народного трибунала»: «Подождите, придет и ваш черед».
Позже домработница принесла нам чай и печенье. Между двумя глотками Шербаум стал считать по пальцам:
— А сколько лет было, собственно, Среброусту, когда казнили Гельмута Хюбенера?
— В тридцать третьем он вступил в нацистскую партию, тогда ему исполнилось двадцать девять.
— И теперь он канцлер.
— Говорят, за прошедшие годы он осознал…
— И теперь ему опять позволили…
— Он не вызывает опасений…
— Он, именно он.
Постепенно в Шербауме нарастал гнев, вот-вот взорвется. Сперва он сидел, потом вскочил, но не повысил голоса:
— Нет, его я не признаю. Вонючка. Когда я его вижу по телевизору, мне хочется блевать, как перед кафе Кемпинского. Он, именно он расправился с Хюбенером, хотя судью, который с ним расправился, звали иначе. Я это сделаю. Бензином я уже запасся. И специальной зажигалкой, чтобы не задувал ветер. Слышишь, Макс? Нам придется…
Филипп запустил руку в длинную шерсть собаки. Могло показаться, что они опять играют.
Даже если он этого не сделает, наше болото он все равно взбаламутит. Мне придется уволиться со службы. И отказаться от прочих планов. Но разве может человек, который уже перешел какую-то черту, начать с нуля? Желание поменять обстановку создает, правда, видимость движения. Но что значит движение само по себе? Ее декоративные рыбки тоже все время движутся в одном и том же ограниченном пространстве. Чрезвычайно оживленный застой.
Не я позвонил ему, он набрал мой номер.
— Я попал в трудное положение…
(Отказала его машинерия? Или какой-то пациент укусил его за палец? А может, хочет уйти помощница?)
— Ваш ученик требует от меня того, на что я, как врач, не могу согласиться…
(Я готов расхохотаться ему в лицо: «Ну что, доктор? С этим парнем не соскучишься…»)
— Трудно представить себе, что ваш ученик сам набрел на эту мысль. Наверно, вы ему посоветовали?
(Я чист как ангел, ничего не понимаю: «Как вы могли заметить, я уже давно вышел из доверия у Шербаума».)
— Или вы дали понять ему не прямо, а косвенно, что такая возможность существует, конечно чисто теоретически?
(«Какая же, доктор, какая?!» Что его так здорово смущает? Что лишает такого прагматика радостно-привычного чувства самонадеянности? «На что вы жалуетесь? Чем я могу вам помочь?..»)
Оказывается, мой ученик — или, скажем лучше, без пяти минут пациент моего зубного врача — попросил об обезболивающем или частично обезболивающем средстве для его длинношерстной таксы Макса. Он будто бы сказал: «Вы ведь пользуетесь инъекциями, снимающими боль. Должны же быть такие инъекции и для собак. Чтобы он ничего не почувствовал, понимаете? И вы наверняка знакомы с каким-нибудь ветеринаром, а может, вы получаете эти лекарства просто так, в аптеке».
— Думается, несмотря на известные опасения, вы не отказали мальчику в его маленькой просьбе. Ведь вы должны вселять в него мужество, неустанно вселять мужество.
— Странные у вас идеи!
— Сущий пустяк. Всего лишь местная анестезия.
— Вы просто понятия не имеете!
— Не понял. Вы поможете ему или нет?
— Конечно, мне пришлось отказать…
— Конечно…
— Мальчик, похоже, впал в отчаяние… Он даже слегка зашепелявил.
— Так ужасно обмануть его доверие…
— Тем выше мы должны ценить стремление парня понять. Он сказал: «Я могу вас понять. Вы врач и должны оставаться врачом при всех обстоятельствах». И впрямь поразительный мальчик. Образцово-показательный.
Мой Шербаумчик бьется головой об стену. (Сопротивление врача не сломишь.) Значит ли это, что я должен достать ему лекарство для инъекций? Но я больше не хочу. Задергиваю занавес. Ползу назад до тех пор, пока не наткнусь на пемзу-туф-цемент. Вот-вот! Здесь она стоит. Между сдвинутыми почти впритык штабелями пустотелых плит…
А может, купить черепаху и наблюдать за ней? Как ей удается жить так замкнуто, не вылезая из своей скорлупы? Сколько жалости надо вобрать в живую плоть, чтобы плоть превратилась в панцирь? Обижать запрещено… Таким образом возникли бетонные бомбоубежища. Надежные массивные укрытия. И так называемый бункер-ячейка, самый маленький бункер, рассчитанный на одного человека, его черновые наброски были сделаны одним французским военнопленным, потом в сорок первом году проект доработали и по нему выстроили огромное множество этих бункеров…
А что, если переписать начатую рукопись? 28 января 1955 года его переправили в Федеративную республику. Два года спустя суд присяжных в окружном суде Мюнхен I возбудил против него дело. (Он расстреливал и вешал солдат без суда и следствия.) Прокурор потребовал восемь лет тюрьмы. Приговор гласил: четыре с половиной года заключения. Его кассационную жалобу отклонили, и Шёрнер отсидел свой срок в тюрьме Ландсберг на Лехе. Сейчас ему семьдесят и он живет в Мюнхене. Таковы факты. (Или то, что зовется фактами.)
Шербаум подошел ко мне.
— Я хочу вас предостеречь. Веро что-то задумала. И она это выполнит.
— Спасибо, Филипп. А что еще новенького?
— Некоторые трудности… Но повторяю, раз Веро что-нибудь задумала, она это выполнит.
— Вам надо расслабиться. Почему бы вам не поболеть недельку, не отойти от всего…
— Во всяком случае, вы теперь в курсе. Я против того, что она задумала.
(У него усталый вид. Ямочки исчезли. А я? Кого интересует, как я выгляжу? Нахожу языком маленький след от ожога на нижней губе и убеждаюсь, что ранка зажила.)
Третье угрожающее послание было засунуто в виде закладки в мою книгу, во второй том «Писем к Луцилию». Она изъясняется все более кратко: «Мы требуем покончить с политикой расслабления!» Нашла, что прочтения заслуживает восемьдесят второе письмо, против страха смерти: «Я больше о тебе не тревожусь…»
Хоть бы мороз ненадолго ослабил свою хватку, хоть бы опять пошел снег во всех районах города, хоть бы он окутал город снежным покрывалом и прикрыл бы всё и вся, хоть бы, наконец, великий соглашатель снег заглушил угрозы.
Без всякого предупреждения она пришла, нет, оккупировала мою квартиру.
— Я должна с вами поговорить, обязательно.
— Когда именно?
— Сейчас, немедленно.
— К сожалению, это невозможно…
— А я не уйду, пока вы…
В общем, я прервал едва начатую работу, более того — поспешно захлопнул рукопись; ведь, ежели подружка моего ученика хочет поговорить со мной «обязательно», я должен превратиться в слух, в одно сплошное педагогическое ухо.
— Что произошло, Вероника? Кстати, большое спасибо за ваши краткие и столь замечательно недвусмысленные письма.
— Почему вы путаетесь под ногами у Флипа? Разве не понимаете, что он должен это сделать обязательно? Неужели вы вечно будете все портить своими вечными «с одной стороны… с другой стороны…»?
— Это вы уже однажды сформулировали более метко: я расхолаживаю, я — соглашатель…
— От вашего реакционного жеманства просто тошнит!
Она села. При всей выдержке я чувствовал себя не в своей тарелке и стал выкладывать прежние аргументы неуверенно — у меня не было другого выбора, — аргументы эти, с одной стороны, были направлены против плана Шербаума, а с другой — отчасти признавали его правоту. Так складывалась наша беседа: она заявляла «обязательно», я советовал лучше употребить выражение «не обязательно»; ей все было ясно, а я нагромождал противоречащие друг другу точки зрения, не испытывая в них недостатка.
— Ясно как божий день: капиталистическая система эксплуатации должна быть уничтожена.
— Это зависит от точки зрения и от более или менее оправданных интересов различнейших групп и объединений. Что ни говори, мы живем при демократии…
— Ох, уж это ваше плюралистское общество.
— И у учеников есть свои особые интересы, и они должны выражать их четче. Например, в школьной газете…
— Детские забавы!
— Разве вы не предлагали Филиппа в главные редакторы?..
— Раньше я сдуру считала вас левым…
— …И даже выступили с речью?
— …Но с тех пор, как вы пытаетесь внушить Флипу неуверенность в своих силах, я поняла, что вы доподлинный реакционер, и притом реакционер того сорта, который сам не предполагает этого.
Она все еще сидела в своем коротком пальтишке с капюшоном. («Не хотите ли снять пальто, Вероника?») Сидела не сдвинув колени, как это делают девушки, а по-мальчишески, расставив ноги в ядовито-зеленых колготках, говорила в нос, и потому казалось, будто она хнычет, хотя она намеревалась устроить мне разнос. (Надо решить, насколько я левый, если я нахожусь левее своего зубного врача. «Не правда ли, доктор, с этим и вы согласитесь?» Зато Шербаум стоит левее меня, но пока он не решился сжечь таксу — правее Ирмгард Зайферт, которую, однако, нельзя считать более левой, нежели Веро Леванд. А коли так, где же, собственно, Веро обретается?) Хотя она пришла ко мне одна, за ней выстроилась целая группа!
— Мы требуем, чтобы вы раз и навсегда оставили Флипа в покое.
Я говорил, обращаясь к каучуковому профилю ее подметок, стоящих стоймя, нет, противостоящих мне:
— Будьте благоразумны. Его убьют на месте. Наши сограждане его убьют.
— В определенных ситуациях жертвы неизбежны.
— Но Филипп не мученик.
— Мы требуем, чтобы вы раз и навсегда прекратили его деморализовывать.
— Я не исключаю, что вы хотели бы превратить его в мученика.
— А я хочу, чтобы вам было ясно: я люблю Флипа.
(А я ненавижу признания, ненавижу жертвы. Ненавижу символы веры и вечные истины. Ненавижу все однозначное.)
— Милая Вероника, если вы по-настоящему любите своего Филиппа, как вы это сейчас с похвальной откровенностью признали, то именно вы должны помешать ему исполнить задуманное.
— Флип принадлежит не только мне.
— Помните, как в брехтовском «Галилее» один из героев говорит, что народ, который нуждается в героях и в героических подвигах, достоин сожаления.
— Нуконечно. Нуразумеется. Все эти места я знаю наизусть. Флип как попугай повторяет ваши побасенки. Иногда мне кажется, что он вообще разочаровался в своем плане. Еще одна среда прошла — и опять ничего. Теперь новоеновое: сначала он намерен анестезировать собаку. Половина эффекта пропадет. Вы его переделали на свой лад. Парень совсем размяк. Одолели сомнения. Возможно, скоро заревет.
Я предложил подружке Филиппа сигарету. Пальто с капюшоном она упорно не желала снимать. Мне не оставалось ничего иного, как ходить вокруг да около и рассказывать разные истории, начинавшиеся словами: «Как-то раз…» Конечно, я рассказал и о себе.
— Да, раньше и я считал: если ты всегда соглашаешься — конец авторитету.
Я говорил о жизненных крушениях, о том аде, который зовется штрафным батальоном, о разминировании без огневого прикрытия.
— И хотя я не погиб, время меня сокрушило, я приспособился. Постоянно искал компромиссов. Цеплялся за здравый смысл. Так отчаянный главарь шайки превратился в умеренного штудиенрата, который вопреки всему считает себя прогрессивным.
Я хорошо говорил, потому что она хорошо слушала. (Возможно, из-за того, что Веро дышит ртом, кажется, что она само внимание, можно сказать — жадно внимает тебе.) В моей однокомнатной квартире — тут тебе и кабинет, тут тебе и гостиная, тут тебе и спальня — установилась особая атмосфера: мутная смесь изрядного самосожаления и мужской меланхолии. (Усталогероическаямуть.) Я уже хотел было вытащить из недр памяти несколько цитат из Дантона, хотел наполнить пузыри на губах текстом — настоятельной просьбой о нежном участии, уже собирался предложить разделить мое одиночество. Однако, когда Веро Леванд в своем пальтишке с капюшоном вдруг поднялась со стула и бросилась на берберский ковер, я буквально одеревенел. (Она была от меня в трех с половиной метрах — слишком большое расстояние.)
Нелепо и неумело елозила по ковру, говорила дурацкие слова:
— А вы не хотите, Old Hardy? Не решаетесь? А ковер у вас просто классный…
Ничего оригинального мне в голову не приходило.
— Что за чепуха? Не пора ли вам взяться за ум, Веро?
(И вдобавок я снял очки, чтобы протирать их до тех пор, пока она не перестанет кувыркаться на моем ковре. Смущенная возня с очками, дышанье на стекла — все это я часто наблюдал у своих коллег; наверно, педагоги, потеряв точку опоры, хватаются за дужки очков.)
Вероника Леванд засмеялась. (Наросты в носу придают ее смеху нечто жестяно-дребезжащее.) Она перевернулась:
— Ну давайте, Old Hardy! Или вы уже не можете?
Перед уходом Веро я снял с ее пальтишка с капюшоном несколько ворсинок — из моего ковра вылезает ворс.
Отказаться — признать себя несостоятельным — расписаться в этом. Уйти в себя. Умыть руки. Предпочесть всему чистое созерцание. Погрузиться в размышления. Ничем не возмущаться. Ведь нет даже течения, против которого стоило бы плыть; только вонь от множества стоячих водоемов, пусть даже изобилующих рыбой, и каналы, движение в которых регулируется. Сейчас я не гляжу на это сквозь пальцы, вгляделся хорошо. И знаю теперь, что вода убывает здесь, если там она прибывает. Стало быть, надо взорвать шлюзы. (Тогда нам объяснят, что они и без того собирались перейти на железнодорожное сообщение. Что транспорт можно повести в обход… «Мы просили бы вас в ходе запланированных вами эксцессов, называемых также революцией, первым делом разрушать те учреждения и промышленные комплексы, которые в рамках нашего долгосрочного планирования и без того предполагается заморозить. Всего вам доброго во время этой работенки. Не исключено, что она окажется утомительной».) А может, сломить Шербаума, пока он сам не сломится? Глобальная профилактика: Хватит, Шербаум!
«Послушайте, Филипп. Что было — то было: я переспал с вашей девушкой на моем берберском ковре. Вот какая я свинья. Пользуюсь тем, что предлагают. Ибо предложение исходило от нее. Честное слово. Вы должны больше заниматься Веро. А вы только и говорите что о таксе, которую вы еще неизвестно когда обольете бензином и сожжете, Веро этого мало. Вы должны наконец решить: либо собака, либо любимая девушка».
(Что мне с того, что Шербаум махнет рукой: «Меня не волнуют ваши забавы на ковре. Стенография куда интересней».)
На школьном дворе я заговорил с Шербаумом о все возрастающем числе демонстраций против войны во Вьетнаме.
— Завтра еще одна. На Виттенбергплац.
— Ну да. А после все разбегаются по своим делам.
— Говорят, в демонстрации примут участие пять тысяч человек.
— Выпустят пар — только и всего.
— Мы могли бы пойти вместе. Я и без того собирался…
— Не выйдет. Завтра у меня стенография.
— Тогда мне придется одному…
— На вашем месте я бы так и поступил. Вреда, во всяком случае, не будет.
И Шербаум превращается в стоячую воду. Поскольку мир его травмирует, мы прилагаем усилия к тому, чтобы он жил под местным наркозом. (В конце концов родительский комитет и педсовет согласятся создать для учеников курилку — отведут совершенно определенное место за крытой стоянкой для велосипедов.) Все останется по-прежнему: отказаться — признать себя несостоятельным — расписаться в этом… Или же читать письма Сенеки к Луцилию и разговаривать по телефону с зубным врачом: стоики промеж себя.
— Послушайте, доктор, старый бородач говорит: «Более того, философ не может жить без государства, даже если он живет в уединении…» Меня прямо-таки тянет уйти со службы и давать частные уроки.
Зубной врач назвал мое желание уйти в отставку «изворотливостью софиста». Когда я сказал, что ему, мол, хорошо — его приемная ломится от народа, он сослался на обращение Сенеки к быстротекущему времени. Большое число пациентов доказывает, по мнению зубного врача, что его деятельность полезна. А мою меланхолию он назвал старомодной чепухой. (Она и впрямь была какая-то странная: словно бы ее вызвал непреднамеренный коитус.)
(«Пора вам возобновить прогулки вокруг Грюневальдского озера или по крайней мере начать играть в настольный теннис…») В лекции по телефону он сказал еще:
— Вы, конечно, знаете, что учение стоиков рассматривает мир как самое большое государство. Уход с государственной службы всегда значил освободиться для служения миру, обязательства по отношению к которому являются наиважнейшими.
Я упрямо продолжал брюзжать:
— Но ведь все это гроша ломаного не стоит. Что мы делаем? Меняем расписание.
На это он возразил сентенцией из семьдесят первого письма:
— «Будем усердны и упорны».
Я напомнил ему о том, что и Шёрнер «ни-шагу-назад» угощал под Мурманском своих полуобледеневших солдат изречениями наподобие сенековских: «Арктика нам нипочем!»
Пациентам пришлось еще подождать.
— Ни один философ не огражден от ложной хвалы. Мудрецу это безразлично. В день своего провала на выборах в преторы Катон играл в мяч на Марсовом поле. И Сенека говорит…
— Нет. Хватит цитат! Ваш Сенека чуть ли не всю жизнь вел правительственные дела кровавой собаки Нерона и писал ему цветистые речи. Только на старости лет, когда в нем угасли страсти, он стал мудрым. С тощим пенисом легко выбрать добровольную смерть. И дать разжиженным добродетелям вытечь из бренного тела. Предаваться безделью и не моргнув глазом взирать на мирские горести. Увольте, доктор! Я не отдам на растерзание своего ученика. Пусть катится к чертям все их стоическое спокойствие.
В трубке раздался смех зубного врача:
— Таким вы мне больше нравитесь. Кстати, мальчик был у меня совсем недавно, всего два часа назад. Об инъекциях для собаки и не заикался. По моему совету, он решил ознакомиться с «Письмами к Луцилию». Как вы думаете, что этот парнишка там вычитал? Ну? Как вы думаете? Ваш ученик нашел, что Сенека так же оценивал римское общество времен упадка, как Маркузе — капиталистическое общество потребления. Вы припоминаете, в сорок пятом письме говорится: «Может, они и нашли бы необходимое, если бы не искали лишнего…» Я посоветовал мальчику и впредь, читая Маркузе, обращаться к писаниям старика стоика.
Положив трубку, я остался один на один с животрепещущим вопросом: неужели раздумал? Слегка раздосадованный, прикинул: неужели то был всего-навсего холодный бенгальский огонь! И из-за этого ты волнуешься, говоришь горькие слова, выходишь из себя. Разочарован ли я? Если он и впрямь — во что я не могу поверить — изменит своим убеждениям, если он — а это как раз вполне возможно, хотя маловероятно, — уступит или пойдет на попятную — надеюсь, этого не случится, впрочем, это я могу понять, — я постараюсь не показать своего разочарования: «Вы достойны восхищения, Филипп. Из разумных соображений отказаться от смелого поступка — значит проявить еще большую смелость, принести еще большую жертву».
Шербаум остановил меня после уроков:
— Веро была у вас. Я вас предостерегал.
— Неважно, Филипп. Она обязательно хотела поговорить со мной, это ее формулировка.
— Вы и так теряете столько времени со мной, ведь я все еще не могу решиться.
— Мы бьемся, стараясь найти правильное решение. Поэтому и вашей подружке следовало предоставить шанс выслушать мой совет.
— Ну и что? Она отколола свой любимый номер?
— Вела себя довольно развязно, но я к этому привык.
Шербаум шел рядом со мной, делая то большие, то маленькие шаги. А я, переходя от дерева к дереву, мучительно размышлял: не проболталась ли она?.. Прикинулась эдакой сироткой и нажаловалась… Он лез ко мне… Хотел обязательно показать, каков он… Сделал ерш, намешал водку с кока-колой… Потом колготки… Я уже рисовал себе, чем это пахнет для меня в школе: принуждение к сожительству несовершеннолетней, да еще использование служебного положения… И придумывал броские заголовки для «Бильд-цайтунг»: «Школьный урок на берберском ковре…», «Штудиенрат любит ядовито-зеленые колготки…», «Каждый раз, когда она говорит в нос…» И уже сочинял в уме хоть какое-то объяснение для смущенного школьного директора, но тут Шербаум остановился. (Вид у него был измученный. И движения беспокойные. Никогда он не мерз, но на этот раз его познабливало. И он слегка шепелявил, что уже отметил мой зубной врач.)
— Веро хочет вас доконать. Переспит с вами, чтобы вы перестали меня отговаривать. Ей это нипочем.
(Я, кажется, что-то сказал? Нет, я опять схватился за очки. Дурацкий рефлекс, словно от фразы, сказанной в лоб, могут запотеть стекла.)
— Разумеется, я пытался отговорить ее от этой глупости. Во-первых, Веро наверняка не в вашем вкусе, а во-вторых, вы побоитесь путаться с несовершеннолетней. А может, нет?
(Он оскалил зубы; мой Шербаумчик, который обычно весело ухмыляется, двусмысленно скалил зубы.) Я скрыл свои чувства за маской шутливого превосходства. Не отвечая на его реплику, может ли меня привлечь Веро Леванд в известных ситуациях, я стал насмешливо жаловаться на опасности, нередко подстерегающие учителей:
— Не всегда легко, Филипп, быть у всех на виду, и притом всегда на высоте. — А позже спросил Шербаума прямо, перейдя, как и подобало педагогу, на свой обычный серьезный тон: — Но коли у нас пошел такой откровенный мужской разговор, скажите: вы находитесь с вашей подружкой в интимных отношениях?
Шербаум сказал:
— Сейчас нам не до того. История с Максом отвлекает нас. И потом, для нас это никогда не было главным. — Вдруг он остановился и стал разглядывать голые каштаны, которыми был обсажен школьный двор. — Тут я, наверно, чего-то недопонимаю. Вероятно, женщинам это необходимо регулярно, иначе у них заходят шарики за ролики.
— Одним словом, Филипп, не беспокойтесь о вашей подружке. Даже если она опять захочет «обязательно» поговорить со мной, я буду твердокаменным.
Но Шербаума волновало совсем другое.
— Не в том дело. Если вам обязательно хочется с ней — пожалуйста. Меня это не волнует. Но только я не хочу, чтобы эта дурь, эта чепуха была как-нибудь связана с Максом. Это совершенно разные вещи. И смешивать их нельзя.
С преувеличенным прилежанием я склонился над своей рукописью, чтобы замаскировать ожидание. (Похоже на то, как монтер Шлоттау копался в своих электромеханических схемах, дабы отвести войска с фланга во Ржеве, в общем, топтание на месте.) А в промежутках я придумывал короткие предложения. Не хотите ли снять пальто, Веро?.. Как мило, что вы пришли и нарушили мое одиночество… Должен признаться, что я — каким бы сильным ни было мое влечение — намереваюсь в дальнейшем противостоять вашей приводящей в оторопь непосредственности… Правда, я не прочь, но это невозможно — не должно — не нужно делать. Нам необходимо вместе научиться воздержанию… Хотите, я вам кое-что прочту?.. Вот несколько писем к жене Георга Форстера, выдающегося человека, хотя он потерпел трагическое фиаско, и жена к тому времени — он лежал больной в Париже — уже списала его со счетов; она в ту пору жила с другим… Не хотите, чтобы я прочел? Лучше, чтобы я рассказывал? Потому что мой голос хорошо звучит? О войне? О том, как я совершенно один, отрезанный от всех, очутился в рощице позади русской линии фронта? Не хотите о войне? Хотите услышать о моем жениховстве?.. Кстати, вы все больше напоминаете мне мою тогдашнюю. Правда, она не дышала ртом, но вполне могла бы. Такая целеустремленно-прямолинейно-несгибаемая. Например, она спуталась с заводским электромонтером для того, чтобы узнавать у него — пока он развлекался с ней, стоя между строительными плитами, — узнавать у него, что задумал ее отец, который во время войны был сначала под Мурманском, потом в Курляндии, а потом на юге Украины… Ах да, мы решили не говорить о войне… Может быть, угостить вас сигаретой? Так вот, этот заводской электромонтер сконструировал электромеханическую систему переключения для огромного ящика с песком. Не надо садиться на ковер. Он линяет, Веро… И притом весьма хитроумную систему. Вы что-нибудь смыслите в переключениях, в рычагах и стрелках, в аппарате сигнализации? Но пусть это останется между нами. Веро… Слышишь? И мне правда не надо остерегаться?
Под вечер пришла Ирмгард Зайферт. И она хотела поговорить со мной «обязательно». И она не желала снимать пальто. Стоя в пальто, она сказала:
— Одна ученица — думаю, имя называть излишне, — намеками дала мне понять, хотя я запретила ей об этом говорить, но все же я хотела попросить вас, Эберхард, объясните мне, каким образом вы позволили себе попасть в такое двусмысленное…
Почему я был так спокоен?
— Милая Ирмгард. Полагаю, что болтливая ученица, намекавшая бог знает на что, это фройляйн Леванд. На что же она намекала? И почему вы не садитесь?
Ирмгард Зайферт внимательно разглядывала мой берберский ковер.
— Эта дуреха поймала меня сразу после конца уроков. И как обычно гнусавя — сами знаете, — спросила: «А вам нравится ковер, который лежит перед письменным столом господина Штаруша?» Когда я сказала, что это ковер берберский и, стало быть, отличного качества, то услышала в ответ: «Но он лезет…» И чтобы я могла убедиться в том, сняла со своего пальто несколько ворсинок, которые могли быть от вашего ковра. Что вы на это скажете?
(Она положила тебя на обе лопатки. Сперва распалила, как старого павиана… а потом продала. Чмок-чмок! Чао-чао!)
Я рассмеялся. Мне правда было смешно, когда я вспоминал, как снимал очки — дышал на стекла — протирал стекла.
— Девчонка знает, чего она хочет. Возможно, что условия в семье, окружающая среда сделали ее такой своенравной и что именно этим вызваны ее столь впечатляющие, хотя и дерзкие выходки. Вот, значит, почему она каталась на этом ковре! — Я покачал головой. — Она пришла ко мне. Позавчера. Без предупреждения. Хотела обязательно поговорить со мной. Не дала себя выставить. Села там, где вы сейчас стоите, в пальто… А вы не хотите снять пальто, Ирмгард, не хотите сесть?.. И взяла меня в оборот, да, обругала самыми последними словами. Я должен оставить в покое ее Флипа. Я реакционер, я соглашатель… Представьте себе. Ирмгард, она так и выразилась: вы — соглашатель… — Я смеюсь и несколько раз повторяю это обвинение. — И так далее и так далее. Под конец она бросилась на ковер. Я невозмутимо смотрел на нее. Предложил сигарету. Закурил сам. Наука о поведении утверждает, будто совместный перекур ослабляет агрессивные инстинкты. Говорить было больше не о чем. И когда девочка уходила, я — не предполагая, как она это использует, — обратил ее внимание на то, что мой ковер не выдержал такого яростного натиска, оставил на пальтишке с капюшоном несколько волоконец… Вот и все.
Ирмгард Зайферт решила мне поверить. Сняла пальто, но все еще не садилась.
— Представьте себе, Эберхард, эта дуреха спросила меня буквально так: не переспала ли я с вами на этом линяющем берберском ковре?
Сразу после этого мы сели с Ирмгард на диван и закурили. Коротали вечер под приглушенные звуки проигрывателя (Телеман, Тартини[81], Бах), воскрешая прошлое, что, увы, не возвращало нам наши семнадцать лет. Как мы ни держались за ручки, как ни прижимались ладонями, расстояние между нами все росло; непонятно было только, каковы же размеры моего дивана.
Я громоздил эпизод за эпизодом из истории моей шайки, она писала и писала донос на того крестьянина в Гарце, и притом каждый раз каллиграфическим почерком; я углубился в дебри, описывая, как мы разрушали алтарь из бокового нефа в одной католической церкви, и пытался нарисовать общий вид железной арматуры внутри гипсовой новоготической Мадонны; она утверждала, что и второй донос — вернее, напоминание, потому что первый прошел незамеченным, — послала опять же заказным письмом в Клаусталь-Целлерфельд; я вспоминал, как трудно было управляться с шайкой подростков, и доказывал, что присутствие в шайке девчонки привело к предательству; она разъясняла боевые качества противотанкового гранатомета, хотела, но не могла понять одного — неужели именно она обучала стрелять из этого оружия ближнего боя четырнадцатилетнего подростка? Ну а когда я попытался все же сбросить с нас обоих венок вечнозеленых воспоминаний, рискнул заговорить о Веро Леванд и о своем линяющем берберском ковре, Ирмгард Зайферт отмахнулась от позавчерашних открытий Веро на ковре, объявив их бреднями, и немедленно нацепила венок снова.
— Поверьте, Эберхард, мне придется встать перед классом и все выложить. Разве я могу учить дальше, скрывая эту ложь, затрагивающую самое существо моей жизни? Да, мне по-прежнему нужен толчок. Признаюсь, я слабый человек. Но лишь только юный Шербаум покажет пример, я последую за ним, наверняка последую. Так дальше продолжаться не может.
Я опять подлил в рюмки мозельского и поставил новую пластинку. Походил по комнате, правда не наступая на берберский ковер, а потом преодолел прямо и молча то расстояние, которое мы сами создали этой говорильней; но когда я без перехода сел рядом с Зайферт, повернулся к ней лицом и правым коленом стал раздвигать ее сдвинутые колени, она быстро и на корню разрушила мой замысел.
— Послушайте, Эберхард. Я и так верю, что вы всё можете. Не надо доказывать.
Немного позже сквозь короткий смешок, нет, сквозь девичье воркованье, до меня донеслись слова:
— Будь я моложе и не имей преград как учитель, словом, будь я свободна и намного моложе, поверьте, Эберхард, я остановила бы свой выбор на Филиппе. Обнимая его, я вселяла бы в мальчика мужество, любила бы его, горячо любила бы… Ах, если бы я обладала его несгибаемой верой, то не побоялась бы сказать во всеуслышание голую правду.
(Они присасываются. Облепили стенки ее аквариума. Живут за счет других и размножаются. Такова же и вечнозеленая омела с ее стекловидными ягодами, которые, если их раздавить, превращаются в стекловидную слизь, да и омела паразит, хотя у верующих над дверью она — символ, освящающий дом.)
Ирмгард Зайферт ушла вскоре после полуночи. Под конец мне пришлось принять таблетку арантила. Ни об уже закончившемся курсе лечения у зубного врача, ни о еще предстоящем она не захотела говорить. На пороге поцеловала меня.
— И пожалуйста, не сердись за то, что я наговорила тебе в начале вечера.
(«Какие пустяки. Я еще немножко поработаю».)…Когда дело дошло до процесса, от шестидесяти шести пунктов обвинительного заключения осталось только два: неудавшееся подстрекательство к ликвидации полковника Шпарре и майора Юнглинга, короче: «Дело о крепости Нейссе» — так его назвали. И расстрел обер-ефрейтора Арндта, которого Шёрнер обнаружил спящим в грузовике. Подсудимый сослался на так называемый приказ о «чрезвычайных мерах», на указ фюрера № 7 от 24 февраля 1943 года: «Тот, кто действует смело, не подвергается наказанию и тогда, когда превышает предписанные полномочия».
Возвращаясь из советского плена, Шёрнер, по совету полиции, сошел со скорого поезда Хоф — Мюнхен уже во Фрайзинге, где его встретила дочь Аннелизе. На мюнхенском Главном вокзале наблюдалось скопление бывших солдат вермахта с целью совершения противозаконных действий.
Я больше не хочу. Сначала боишься боли, потом мучаешься от боли. Неуютно, и передыха нет. Я знаю устройство своей памяти: слова влетают и открывают ящички, где покоятся слова, которые только и ждут своей очереди влететь в другие ящички и открыть их. Да, я все понимаю и, прежде чем сказуемое, раздувшись, не займет сцену, лишь киваю головой. Нуда… Сейчас я пойду спать. Это ложе отвратительно.
Проснуться и найти карандаш. Полная нечувствительность при точном знании, что такое боль и как действуют болеутоляющие. Эпикур упрекал греческих стоиков, особенно Стилпона, за апатию, в то время как Сенека, почитатель Эпикура (и вероятно, тайный эпикуреец), все же признавал, что он чувствителен к несчастьям, хотя преодолевать эти несчастья его заставляет мудрость, а не impatientia[82], неумение страдать, свойственное киникам. Что касается меня, то при малейшей зубной боли я хватаюсь за арантил; несчастье равнозначно зубной боли!.. Могло ли так случиться, что Нерон, последовательный ученик Сенеки, велел поджечь Рим, потому что у него болели зубы?
Стало быть, спать не в кровати, а на этом мерзком ковре. Гнаться за сном, как будто это что-то вещественное. Поговорим, Веро. Вы же не станете просто лежать на моем берберском ковре… Почему нет?.. От него несет козлом… Не чувствую. У меня в носу полипы… А если я тоже лягу на эту шкуру?.. Тогда будет вонять вдвойне… Но я вас предостерегаю… От чего предостерегаете?.. От меня на ковре… Но вам ведь не позволено… Кто сказал?.. Я несовершеннолетняя, и вдобавок вы используете свое служебное положение. Мои родители развелись. Я вечно мотаюсь между ними. Кроме того, я закричу и расскажу все вашему Архангелу. Вам нельзя! Никак нельзя!
(На моем ковре мне все можно. Даже лежать одному, гнаться за сном и найти отнятую возлюбленную, которая сжалась до размеров жирных катышков пыли и угнездилась в этом козлином ковре. Иди-сюда-иди!)
Моя ошибка: я не должен был разрешать тебе остаться в пальто, берберский ковер чересчур новый, он еще долго будет вылезать. Теперь о нас знают все, и госпожа Зайферт говорит: Будьте добры дать объяснения, коллега Штаруш. Мне не хотелось бы опять сообщать об этом куда следует, ведь уже в семнадцать лет, незадолго до конца войны, я сочла себя обязанной донести в соответствующие инстанции на крестьянина, который покушался на мою честь… Скажите, Веро, почему вы всегда и везде носите ядовито-зеленые колготки?.. Чтобы лучше вас слышать.
И еще я обезвреживал мины на открытой местности. И блуждал среди базальтовых глыб на Майенском поле. И еще: видел на телеэкране розовый гипс для слепков, видел свою пасть, залепленную розовым гипсом для слепков. А потом увидел похороны на Лесном кладбище в Целендорфе. Отец Шербаума и я вели под руки за гробом Шербаумову мать. За спиной у меня шептались: Там впереди — его учитель, он был его учителем… В конце концов меня сморил сон на берберском ковре, к счастью, я заснул.
Утром, бреясь, подумал: пусть действует. Я буду молча глядеть на него и хранить спокойствие.
Утром я соскребал с себя отросшую щетину и все отросшие за ночь добрые намерения, и тут как раз позвонил мой зубной врач.
— С этим покончено. Ваш ученик отказался от своего плана.
(Выплюнуть горькую слюну. И громко возликовать в трубку:
— Ну слава богу! Честно говоря, я ничего другого не ждал, люди всегда пасуют в последнюю минуту.)
— Он отказался, и вы тому причиной. Не стройте себе иллюзий. Мальчик объяснил: он не хочет, как вы в сорок лет, торговать вразнос подвигами, совершенными в семнадцать. Ведь именно этим, по его словам, вы и занимаетесь.
(Я обратился к Сенеке, получил от него подкрепление в виде цитаты и подвел итог:
— Он повзрослел, стало быть сломался.)
— Ничего подобного. Он полон планов, планов, которые, как я охотно признаю, могли возникнуть на основе моих осторожных советов. Хочет возглавить школьную газету. Просветительские статьи! Злая сатира! Возможно, даже манифесты!
(Похвальное решение. Наш совершенно захиревший листок можно сравнить разве что с шутливыми газетками, какие выпускают по случаю юбилеев.)
— Какая цель, какая задача!
(Вот уже много месяцев, как у нас дебатируется один-единственный вопрос: разрешено ли ученикам курить на переменках и где именно?)
— Ваш ученик будет бережно относиться к своему времени и формировать свое сознание.
(Что говорил воспитатель малолетнего Нерона: «Правильно, Луцилий! Посвяти себя самому себе, береги время, не растрачивай его попусту».)
— Кстати, мне придется надеть мальчику пластинку на передние зубы. Завтра уже приступлю к лечению. Вы ведь знаете, при позднем вмешательстве редко удается исправить дистальный прикус. Лечение требует от пациента большой выдержки. Я предупредил его: мы добьемся успеха только при том условии, если вы, так сказать, совершенно освоитесь с инородным телом во рту. Он обещал набраться терпения. Много раз обещал.
(Он все равно не сдюжит, доктор. У него ни на грош стойкости. В этом мы могли сейчас убедиться. И со школьной газетой тоже не выдержит. Уже после трех номеров… Хотите поспорим, доктор? Будет заниматься курилкой, и ничем больше!)
Мой врач сказал:
— Поживем — увидим! — И напомнил о моем прикусе. — И мы тоже скоро опять начнем. Маленькая передышка, очевидно, была вам полезна. Кстати, занятно, что дистальный прикус ученика является как бы антиподом по отношению к настоящей — как же иначе, ведь она врожденная! — прогении учителя.
Он всегда прав. Само благоразумие. Пусть даже его прогнозы не оправдаются, свои ошибки он сочтет частичными победами. Он относительно уверен в своем деле. Ходит на лыжах, играет в шахматы и с удовольствием ест говяжью грудинку. Он тщательно готовится к своим не слишком хорошо посещаемым лекциям в народных университетах Штеглица, Темпельхофа и Нойкёльна. Такого, как он, поражения не убьют. Уверенный в том, что со своей профессией он не пропадет, дантист дружелюбно возвещает: «Кто следующий? Прошу…»
После собрания — утомительная говорильня: речь шла об обеспечении учебными пособиями, — я сообщил Ирмгард Зайферт:
— Между прочим, Шербаум отказался от своего плана. Он займется школьной газетой.
— Стало быть, опять победил так называемый здравый смысл. Браво!
— А кого вы хотели бы видеть в роли победителя?
— Я сказала: «Браво! Да здравствует школьная газета!»
— А вы случаем не ждали, что Шербаум проявит то самое мужество, которого так не хватает ни мне, ни вам? Вот именно — вам тоже.
— А я-то уже решила начать все сначала.
— С нуля, что ли?
— Хотела встать перед классом и прочесть ребятам эти ужасные письма строчка за строчкой… Но теперь уже не стоит. Я тоже отказываюсь.
— Зря отчаиваетесь. Пожертвуйте письма главному редактору Шербауму. Пусть напечатает их в школьной газете. Чем не гвоздь номера?
— Вы хотели причинить мне боль. Не правда ли?.. Вы причинили мне боль.
Она страдает чересчур охотно, чересчур легко, чересчур громко. Теперь мне придется просить прощения.
— Вырвалось, сказал не подумав, давайте забудем…
Недавно мы слушали у нее грегорианские хоралы. После «Аллилуйи» она сказала: «Это словно сияние святого Грааля. Не здесь ли скрывается глубочайшее таинство пасхи? Как вы считаете, Эберхард? Кровь агнца могла бы расцвести и принести нам избавление…» Когда я снял ее долгоиграющую пластинку и исцарапал открывалкой для пива, ее удивлению и обиде не было предела. «Рассказывайте это своим декоративным рыбкам, перед тем как они подохнут». — «Да, — сказала она, — пора переменить воду»…
Шербаум созвал первое собрание редколлегии. Было решено не помещать в газете объявлений, чтобы сохранить самостоятельность. Кроме того, листок надо было переименовать.
— Ну, Филипп? Как же будет называться ваша газета?
— Я предложил назвать ее «Азбука Морзе».
— Понимаю.
— Моя первая статья будет о группе Сопротивления Гельмута Хюбенера. Я хочу сравнить деятельность Хюбенера с деятельностью Кизингера в тысяча девятьсот сорок втором году.
— А как поживает Макс?
— Спасибо, уже лучше. Видимо, сожрал какую-то гадость. И это ему навредило. Но теперь он опять стал жрать.
— А ваш дистальный прикус?
— Мне вставят специальную пластинку. Довольно сложная штуковина. Но я это вытерплю. Наверняка.
— Ну конечно, Филипп… С завтрашнего дня и я опять начну у него лечиться. Он намерен обточить мне шесть зубов. Пойдем по второму кругу.
— Желаю приятно провести время.
(Мы попытались дружно засмеяться. И нам это удалось.)
При чем здесь бетон! Построить из глубоко эшелонированных книг неприступный бастион. Взять за образец идеальную крепость Вобана[83]. Снова начать работу над рукописью или опять заняться историей Форстера. (Между Нассенхубеном и Майнцем…) Книги и прочие западни.
Почему я не купил оба тома в Фриденау? Почему, несмотря на холодную и сырую погоду, потащился в центр, чтобы приобрести книги на Курфюрстендамме? (В наличии был только один том, другой пришлось заказывать.) У Вольфа я купил бы оба.
Выйдя из магазина и преодолев некоторое внутреннее сопротивление, я двинулся к Кемпинскому. Сухой мороз держался долго, но теперь моросил дождь. На площадке перед кафе почти не было народа, а те, что проходили по ней, не задерживались. Какая-то сила, которую я счел сентиментальностью, но с которой не мог сладить, заставила меня остановиться, выжидая, на том участке мостовой, который Филипп выбрал в качестве места действия. (Неизвестный в твидовом пальто.) Подняв воротник пальто и поглядывая на часы, я делал вид — перед кем? — будто у меня здесь назначено свидание. Оттепель и моросящий дождь разрушили-продырявили-зачернили сугробы, обрамляющие площадку. На мостовой ничего не было. Только сырость, которая проникала сквозь подошвы. Неужели я надеялся обнаружить следы? Здесь в январе 1967 года семнадцатилетнего гимназиста Филиппа Шербаума стошнило при виде дам, объедавшихся пирожными.
На террасе сидело не так уж много людей. Ничего похожего на тот день: несколько пожилых женщин, два-три одиноких господина, на заднем плане за сдвинутыми столиками стайка медицинских сестер, а впереди, как истинная приманка для глаз, — индиец с дамой в экзотических шелковых одеяниях. Они пили чай, но пирожных не ели. Зато Веро Леванд ела пирожное.
Она сидела в своем пальтишке с капюшоном, вытянув ядовито-зеленые ноги, и быстро, ложка да ложкой, заглатывала ореховый торт со взбитыми сливками. Наши взгляды встретились; я увидел, как она ест… и она увидела, что я вижу, как она ест. Веро не прекратила орудовать ложечкой, хотя я наблюдал за тем, как она орудовала ложечкой. И движения ее не стали ни более быстрыми, ни менее равномерными. А я не снял очки, не стал дышать на стекла, протирать их. Она ела из протеста. Я понимал, что она ест ореховый торт со взбитыми сливками из протеста. Пожилые дамы за соседним столиком пили кофе и не ели пирожные. Ни у одной из дам не было собаки.
— Ну как, Вероника, вкусно?
— Все дорогое вкусно.
— Разве это может быть вкусным?
— Хотите тоже кусок?
— Придется, видно.
— Я угощаю.
Я выбрал шварцвальдский вишневый торт. Веро Леванд заказала еще и для себя:
— Безе со взбитыми сливками.
Мы молчали, глядя в разные стороны.
Когда принесли торт и безе, мы молча принялись за еду. Честно говоря, торт оказался вкусным. На ее пальто с капюшоном уже ничего не было видно. Индийцы рассчитались и ушли. Медицинские сестры, что сидели за нами, время от времени смеялись — через разные промежутки времени, но зато одновременно. Группы гостей из Западной Германии в прозрачных облегающих дождевиках замедляли шаг на площадке перед кафе, но потом шли дальше — жалели деньги. Электрорадиаторы под потолком террасы не переключили, они работали, как будто все еще стоит мороз. Слева, через три стола от нас, сел негр в верблюжьем пальто — он сел прямо под раскаленными радиаторами. Его знаний немецкого хватило на то, чтобы сказать:
— Порцию шварцвальдского вишневого торта.
— Ну как, Веро? Заказать еще?
— Достаточно.
— Может, что-нибудь полегче? Песочное печенье?
И опять мне не осталось ничего другого, как угостить Веро сигаретой «рот-хэндл». Она курила, не глядя на меня. Я курил, не глядя на нее. В паузах вверх поднимались пузыри, в которых могли бы уместиться диалоги на продуваемом ветром рейнском променаде по дороге в Андернах. (Вероятно, моя прежняя невеста имеет право участвовать во всем этом на равных; кто сосчитает, сколько раз я сидел у нее за столом незваный.)
— Скажите, Веро, вы были когда-нибудь в Андернахе на Рейне?
— А вы были когда-нибудь в Хапарандо, господин штудиенрат Штаруш?
(Она всегда так говорит, погода здесь ни при чем — это не от насморка.)
— Скажите, Веро, почему вы, собственно, не удаляете полипы в носу?
— А почему вы их не выращиваете?
(Теперь она вертит в руках серебряную ложечку; сейчас ложечка исчезнет.)
— Между прочим, госпожа Зайферт обратила мое внимание на то, что мой ковер лезет.
— Раньше вы этого не знали?
(Позже, много позже, она подарила мне эту ложечку.)
— А теперь я заплачу. Согласны?
На столе лежала листовка: «Пожар!» Мы вышли из кафе, ноги у нас окоченели, а во рту была приторная сладость.
3
Остались рожки да ножки. Пустые промежутки, которые легко заполнить. Позже стали торговать воспоминаниями. Что-то должно было случиться и частично произошло, но не у нас. Позже стали приходить неоплаченные счета. Никто не признавался. Позже продолжали проводить профилактику. В каждом Раньше заключено Позже.
Курс лечения верхней челюсти мало чем отличался от курса лечения нижней. Даже сейчас, когда это ушло в область предания и оплачено сполна, мой зубной врач отвечает на все вопросы. Вчера я сказал, что он должен признать: при всем его дружелюбии он был со мной резок, иногда обрывал, и тут он излил на меня целый поток красноречия:
— Относительно неважно, что именно было сказано. Главное — не играть в прятки. Я говорил не то, что вам хотелось бы услышать. И старался, чтобы вы говорили то, что я нахожу правильным, то, на что я наталкивал вас. Даже поправки, внесенные вами позднее — вы любите исправлять ошибки, — это мои не понятые вами вначале идеи. Вот видите, вы смеетесь!
Я сказал, что при том множестве пациентов, с которыми он должен беседовать и на вопросы которых он дает ответы, наверняка возникает путаница, память может подвести.
— Вы забываете о картотеке. Передо мной ваша карточка: после долгого перерыва и после того, как трудности с вашим учеником удалось ликвидировать, — давайте будем точны: с седьмого по тринадцатое февраля мы лечили вашу верхнюю челюсть и если не полностью выправили, то все же ослабили прогению. Тогда же я начал заниматься дистальным прикусом вашего ученика Шербаума и, обтачивая вам коренной зуб, сказал: Милый мой штудиенрат Штаруш, после того, как вы немного успокоились — ведь ваш ученик заколебался… Кстати, мальчик сумел даже меня кое в чем убедить. Итак, после всего этого вам пора проститься и с вашими путаными россказнями. Этот Крингс — как бы там ни звали его на самом деле — по всему тянет лишь на полковника, обойденного по службе. Он, как и многие другие военные, не получившие настоящей профессии, попытался внедриться в промышленность. Подобные случаи нам известны. С этими крингсами мы совсем закрингсовались. Но вашему Крингсу было мало успехов на гражданке, поэтому он в кругу семьи за столом старался выиграть те сражения, которые его начальники проиграли. (Мой парикмахер, в прошлом капитан, предается похожим победным фантазиям, стоя перед зеркалом.) И вот из-за этих хвастливых бредней между полковником и его дочерью иногда возникали ссоры. Дочь вы теперь хотите изобразить в виде эдакого монстра, но лично я представляю себе вашу невесту хоть и трезвой девушкой, но отнюдь не сухарем, просто ее все больше и больше раздражали бесконечные любовные похождения жениха…
(Он обточил мне шесть зубов конусом — можно было надевать колпачки. Когда экран не занимали картины, нарисованные моим дантистом, я смотрел по телевизору передаваемый западноберлинской радиостанцией фильм-концерт «Встреча с Рудольфом Шоком». Камерный певец разевал рот, пел, но мне казалось, что он шепчет.)
— Припомните, вы водили тогда «мерседес», привлекавший в предгорьях Эйфеля всеобщее внимание, «мерседес» с откидным верхом, год выпуска 1932-й. Будучи истинным пижоном, вы часто оставляли этот свой шикарный старый драндулет на солнце — мол, глядите, — а сами располагались рядом, демонстрируя свой прогенический профиль. Кому придет в голову упрекнуть глупенькую госпожу Шлоттау за то, что она втюрилась в драндулет вкупе с его водителем в замшевых перчатках и подбородком, как у самого дуче? (Тогда в вас еще что-то было.)
И вот случилось так, что однажды в ясное апрельское утро вы поехали через Крец и припарковали ваш чудо-автомобиль перед еще не оштукатуренным домишком супругов Шлоттау. Резко затормозили, так что брызги полетели во все стороны и куры захлопали крыльями. (Ни одно облачко не омрачало глянец машины.) Глава семьи, бравый водитель самосвала Шлоттау, возил бетонную смесь андернахской строительной фирмы, тесно связанной с близлежащими цементными заводами, он возил бетонную смесь на большую стройку в Нидермендиге и был в дороге, когда вы заявились к Лотте Шлоттау; и если бы водитель самосвала в то апрельское утро не забыл дома свои водительские права, вам и на этот раз удалось бы самоутвердиться. Однако, едва миновав Круфт, Шлоттау хватился своих прав, развернулся и, доехав до населенного пункта Крец, увидел чудо-автомобиль среди своих кур перед неоштукатуренным домишком; он тоже затормозил (но не так резко) и не стал тщательно, профессиональным оком обозревать «мерседес»; вместо этого он быстро шмыгнул в дом и обнаружил свое супружеское ложе занятым, но не умер от удара, не стал бить посуду, хрипеть, реветь как разъяренный бык, вообще беситься, он молча повернулся на каблуках, оставив парочку лежать в оскверненной постели; распугав кур, вскочил в свой тяжело нагруженный самосвал, завел сильный мотор, проехал немного вперед, свернул вправо, переключил скорости и, подав назад, поставил машину так, чтобы с наибольшей вероятностью вывалить полторы тонны бетонной смеси прямо в открытый «мерседес», в черно-серебристый чудо-автомобиль, в эту быструю, известную каждому жителю от Майена до Андернаха козлиную колесницу, гордость инженера Эберхарда Штаруша.
Когда гидравлическая установка, опрокидывавшая платформу самосвала, поставила ее в нужное наклонное положение, Шлоттау вылез из кабины и стал смотреть, как медленно выползающая смесь заполняет и переполняет «мерседес», как она заливает радиатор с его звездочкой и хоронит под серой массой изящно изогнутые грязезащитные крылья, откидной верх и багажник с прикрепленной к нему запаской. А потом за бетонным покрывалом скрылись и четыре быстрых колеса. Бетона хватило и на то, чтобы заполнить пространство между автомобильной ямой и участком Шлоттау. Куры склонили головы набок. Шлоттау все еще не произнес ни слова, только прикусил нижнюю губу.
Вот это глыба так глыба! Местные газеты с издевкой требовали, чтобы сию причудливую окаменелость установили в краеведческом музее в Майене. Пусть это чудище красуется в музейном дворике, где всегда был наплыв посетителей, пусть красуется между римским и раннехристианским базальтовым хламом. Школьники целыми классами приходили и глазели на памятник вашего поражения до тех пор, пока пневматические молоты не расколошматили его и не вывезли наконец (за ваш счет). (Даже ваши замшевые перчатки лежавшие в ящичке для перчаток, оказались навек замурованными в бетон Шлоттау.)
И вдобавок — правда, за это никто не поручится — ваше козлиное дело вы, увы, не завершили. Так по крайней мере рассказывали в предгорьях Эйфеля. Совершенно недоказуемый слух. Конечно. Но факт остается фактом: вас уволили. Ваша помолвка расстроилась. И только потому, что у вас хватило наглости угрожать судом по трудовым конфликтам, фирма, боясь за свое реноме, решила выплатить вам компенсацию, хотя цементные заводы наверняка выиграли бы процесс; отец невесты участвовал в выплате — от вас хотели избавиться быстро и, поелику это еще было возможно, без особого шума. Чего бы это ни стоило. Вот как становятся штудиенратами. Ну, а теперь полощите…
Даже если тебе смешно, не очень посмеешься, когда у тебя разинут рот, когда ты обвешан слюноотсосами и когда у тебя обтачивают зубы. (Пускай болтает вздор!)
Я терпеливо сносил россказни своего зубного врача, возразил только против некоторых деталей.
— Замечательная выдумка. Но не я, а Крингс ездил в открытом «мерседесе». (Мне достался «боргвард».) И не мою машину, а машину старого Крингса превратили в бетонную глыбу. Не из-за каких-то там амурных дел (хотя не поручусь, что старикан был на них не способен), а из мести; да, бывшие фронтовики из мести использовали бетонную смесь не по назначению. Я все еще полагаю, что Шлоттау не имел к этому отношения. (Старик его окончательно приручил.) Произошло это на большой стройке в Кобленце. (Одной из тех стеклянных коробок, что воздвигали в середине пятидесятых.) Итак, праздник по случаю окончания строительства. Мы, как поставщики бетона и других строительных материалов, были почетными гостями. Даже тетя Матильда обрядилась в свое черное шелковое. Линда и ее приятельницы были в полосатых летних платьях, хотя на дворе уже стоял сентябрь. И Шлоттау, который привез старика — он водил «мерседес», — мог сойти в своем темно-синем однобортном костюме за гостя. По плоской крыше — дом был двенадцатиэтажный — гулял ветер. Традиционный праздничный венок пришлось хорошенько закрепить. Разносили пиво в бутылках. Девушки мерзли в прозрачных платьицах. Один раз мы со Шлоттау оказались в сторонке. Речь артельного старосты каменщиков тянулась бесконечно. И Шлоттау, этот вонючий козел, сказал мне: «Ваша невеста — дамочка что надо, она мне нравится. Честно, господин инженер. Прошла хорошую школу, этого у вас не отнимешь».
…Мне удалось недолго постоять и бок о бок с Линдой, которая перегнулась через перила. (Внизу лежали наши пемзобетонные перекрытия, армированные железобетонные балки, кессонные плиты.) Но я только подумал, а сделать — не сделал. Хотя свидетелей не было, все слушали речь Крингса; хорошая видимость с крыши новостройки развязала ему язык. Глядя в направлении Эренбрайтштайна и перекрикивая ветер, он одерживал очередные победы. Заговорил о предательстве под Курском. О неласковой Арктике. О «красном потоке», на пути которого стоики должны возвести дамбу. А под конец дошел до Сталинграда. Его слова, подкрепленные цитатой из Сенеки, прозвучали бодро и прямо победоносно: «Исход этой борьбы еще не решен!» Аплодисментов не последовало, и я услышал шипенье Линды: «Я из тебя сделаю Паулюса, Паулюса!»
Внизу, рядом со штабелями наших типовых строительных блоков, мы нашли «мерседес», погребенный под быстро застывавшим бетоном. («Поглядите-ка, доктор! Крингс хохочет».) Его не проймешь. «Великолепно! Великолепно! Ну что, Шлоттау? Ваша постановка, не правда ли? Маленькая порция мести поутру. Но теперь мы в расчете? Да?» («И глядите-ка, доктор, глядите-ка!») Не только Шлоттау, который, возможно, все же являлся зачинщиком этой акции, но и другие ее участники, бывшие солдаты в спецодежде каменщиков, громко и дружно ответили: «Так точно, господин генерал-фельдмаршал!»
Вот и вся история забетонированного «мерседеса». Но быть может, пока я буду полоскать рот, вам придет в голову еще один, третий вариант? Как он вам нравится? Линда сидит за рулем «мерседеса», который остановился за самосвалом с бетонной смесью, ибо перед моим самосвалом и ее «мерседесом» закрылся шлагбаум…
Первый день лечения, можно сказать, окончился вничью. От зуба к зубу и в промежутках между зубами врач и пациент нанизывали свои противоречащие друг другу версии и теории. Иногда они отдыхали, занимаясь рассуждениями общего характера: о педагогике или о зубоврачебной профилактике среди детей дошкольного возраста. Речь зашла и о Шербауме.
— Представьте себе, доктор, с недавнего времени он стал говорить о себе во множественном числе: «Мы единогласно решили…», а набросок его первой статьи «Что натворил Король Среброуст» начинается примерно так: «Мы — ученики. Мы учимся в школе совсем неплохо. На нас стоит возлагать надежды. Иногда мы хотим забежать вперед. Это можно понять. На то мы и ученики. Но иногда мы вообще ничего не хотим, потому что уж очень много дряни вокруг. И это тоже можно понять, потому что дряни вокруг и впрямь много, а мы всего-навсего ученики. И ученикам разрешено ставить точку, если вокруг много дряни. Жил да был на свете король, которого ученики прозвали Король Среброуст…»
Но мой зубной врач хотел говорить только о дистальном прикусе Шербаума. Я попытался было заинтересовать его ученицей Веро Леванд, но он махнул рукой:
— Этот случай для специалиста по уху-горлу-носу…
Камерный певец Рудольф Шок пел: «Искать любви любовь велит…»
В первой статье Шербаума (ее так и не напечатали) было написано: «Мы хороший выпуск. Говорят, мы кем-то станем. Но иногда мы хотим стать никем. И это понятно. Ученики, которые хотят стать никем, наверняка кем-то станут. И Король Среброуст не хотел стать никем, а потом стал очень даже кем…»
Сейчас мне трудно четко и ясно рассказать о создании церкви в бомбоубежище. Уж очень много всего вклинилось (отнюдь не только камерный певец Рудольф Шок и мой зубной врач). Шербаум наступает на меня, потому что он сам отступил. Ирмгард Зайферт зачастила ко мне. Одна ученица катается по моему берберскому ковру, заставляя меня снимать очки, дышать на стекла, протирать их.
Когда я говорю: «Госпожа Матильда Крингс, сестра генерал-фельдмаршала, тетка моей прежней невесты Зиглинды Крингс, пожертвовала деньги на создание подземной церкви в Кобленце…», я одновременно думаю: «Став главным редактором школьной газеты «Азбука Морзе», мой ученик Филипп Шербаум не сумел напечатать целиком свою первую статью, где сравнивал деятельность национал-социалиста Курта Георга Кизингера в 1942 году с деятельностью борца Сопротивления Гельмута Хюбенера; ему пришлось сократить статью, хотя он предусмотрительно вывел Кизингера под другим именем…»
Когда я говорю: «Во время строительства железобетонного высотного дома разбились стекла» (а камерный певец поет арию из оперетты «Летучая мышь») — и когда Матильда Крингс, обозревающая вместе с нами и духовными лицами высокого сана постройку, спрашивает: «Как ты находишь здешнюю акустику, Фердинанд?», я слышу и Веро Леванд: «Ну давайте, Old Hardy! Или ты уже не можешь?..», а также признание моей коллеги Ирмгард Зайферт: «Я люблю вас, Эберхард» — и даже ее заключительную фразу: «Только не говорите, пожалуйста, что и вы меня любите…»
Пожертвование на церковь и самоцензура, попытка соблазнить и объяснение в любви не противоречат друг другу. Как бы громко Веро Леванд ни называла своего прежнего друга «гнилым оппортунистом», как бы настойчиво ни пытался Шербаум втолковать мне, почему ему пришлось уступить доводам членов редколлегии, как бы самозабвенно ни объяснялась в любви Ирмгард Зайферт во время прогулки вокруг Грюневальдского озера, находя такие слова, как «служа тебе — со скорбью — готовая к отречению», я все равно предоставляю слово Крингсу, который проверяет акустику церкви в бункере вслед за камерным певцом, уже проверившим эту акустику.
Крингс процитировал своего любимого Сенеку: «Давайте приучим наш ум хотеть того, чего требует создавшееся положение».
Потом он повторил свое: «Арктика нам нипочем!» — в помещении объемом в пятьдесят тысяч кубических метров, целиком из железобетона, в помещении, которое когда-то защищало немцев против тех, кто имел абсолютное превосходство в воздухе над территорией рейха.
Слова Крингса, произнесенные не слишком громко, прогремели в железобетонной церкви наподобие победоносной сводки о положении в Сталинграде; можно было подумать, что Крингс сменил Паулюса и принял на себя командование армией. «Военная инициатива опять в наших руках!»
Сегодня мне ничего не стоит поместить своего ученика Шербаума в освященное железобетонное пространство и заставить его публично исповедоваться: «Среброуста пришлось вычеркнуть. Они заявили: для первого номера чересчур полемично. Если нападаешь на Кизингера, надо напасть и на Брандта. Говорят, он тогда дошел до того, что носил норвежский военный мундир. Но тут я им и сказал: Начхать мне на вашего Кизингера. Но все, что написано о Хюбенере, останется, иначе я складываю с себя полномочия…»
(Обозревая подземную церковь, я сказал Линде: «Если мы все же обвенчаемся, то только здесь…»)
Пока они снимали со всех шести обточенных зубов мерку с помощью фольги, пока наносили кисточкой на усеченные конусы целительную жидкость «тектор», пока на зубы надевали металлические колпачки, которые должны защищать их от внешнего воздействия, я черпал мужество лишь в зажигательно-веселой «Встрече с Шоком», передаче, стоившей, как я потом подсчитал, сто пятьдесят восемь тысяч марок. Господин Шок получил около десяти тысяч, дирижер по фамилии Айсбреннер положил в карман три тысячи. Грим, включая шиньоны, парики и собственно грим, стоил четыре тысячи триста марок. Главный осветитель и его десять помощников получили за шесть съемочных дней пять тысяч шестьсот девяносто восемь марок. Все это я выстроил в ряд: оформление — веерообразные пальмы (купленные, взятые напрокат старые костюмы, новые костюмы, специально изготовленные костюмы, равно как задники, плюс пожарник); ничего не стоила только операторская тележка радиостанции «Свободный Берлин»[84]. Впрочем, все это, вместе взятое, мало что говорило о моем самочувствии, когда мне надевали металлические колпачки. Пока шла передача, и по мере того, как она становилась все более дорогостоящей, меня занимало, в сущности, лишь одно слово — «стушеваться».
Да, мне хотелось стушеваться. Стать ниже травы, тише воды. Уменьшиться до полной незаметности. Словно некоторые люди, которые быстро исчезают за углом (закуривая сигарету), а потом их уже никогда не обнаружишь, потому что они по собственной воле (куда же?) стушевались. Стушеваться — это больше, чем испариться. Возьмем, к примеру, школьный ластик, который с радостью стирает и стирается, обнаружив ошибку; так же и я сотрусь на школьном фронте до полной незаметности, останутся одни только крошки; эта пылинка, нет, эта, нет, та, — типичный Штаруш. Он стерся до конца из-за своего ученика. (Теперь Шербаум винит меня в своем поражении.) Штудиенрат, который целиком растворяется в работе, который хотел все сделать одновременно. Но теперь уже не стоит. («Я разочарован, Филипп, огорчен и разочарован…»)
Лечение успешно продолжалось; спустя три дня, когда врач опять снял у меня металлические колпачки и примерил пробные мосты и когда мне опять накидали в рот ложкой розовый гипс, я снова возненавидел своего зубного врача.
(В тот день по телевизору показывали feature «Политическое убийство: Малькольм Икс»[85].)
Когда гипс у меня во рту стал затвердевать, он сказал:
— Закомплексованность, которую вы испытываете по отношению к своей коллеге, объяснима: из-за Шлоттау вы ничего не можете.
Я стал разоблачать его по пунктам: он, который самонадеянно утверждает, будто намерен осчастливить мир глобальной профилактикой, он, который видит себя на переднем крае борьбы против кариеса, он, который громогласно проповедует обязательный осмотр зубов в дошкольном возрасте, он — именно он — в часы приема то и дело куда-то исчезает: прячется в уборной. Я показал ему, что он там делает: быстро, жадно, по-детски, по-звериному набрасывается на липкие сладости и поглощает их в огромном количестве. В этой крохотной каморке он, стоя, лакомится, громко и торопливо жуя, тая от блаженства. А иногда, между приемом одного пациента и другого, садится на стульчак, а потом опять жрет сладости.
— Вы, — сказал я, — вы хотите убедить меня в том, что у меня комплексы, что я, вероятно, чуть ли не импотент, а сами сидите в уборной — вот! — в уборной и, причмокивая, сосете сливочную карамель. С влажным блеском в глазах смакуете шоколадное ассорти, брызгая слюной, похотливо грызете глазированные орехи, потом приходите в неистовство из-за того, что кулек пуст, и хватаетесь — вот, вот! — хватаетесь сразу же после ваших оргий за ирригатор «Аква», чтобы пульсирующей струйкой воды смыть следы обжорства, следы свинства… И вы считаете себя врачом?
Зубной врач попытался оправдаться, говоря, будто безобразие в туалете не что иное, как научный эксперимент для опробования ирригатора «Аква», но тут его помощница захихикала. Потом он заговорил о некоторых навязчивых идеях: при длительном процессе лечения они передаются от пациента к врачу.
— Речь идет о психологическом заражении. Вспомните, что вы делали примерно неделю назад, когда отношения между вашим учеником и вами подверглись болезненным испытаниям на разрыв. Как вы переносили боль?
И тут я признался, что, чувствуя себя несчастным, ибо я и впрямь был несчастен и покинут всеми в моем несчастье, впав в глубокое отчаяние, я за какие-нибудь пять минут сжевал две плитки молочного шоколада.
— Вот видите, — сказал он, — ваше несчастье заразительно. — И вместе с помощницей извлек специальный розовый гипс из полости моего рта.
Теперь мы с зубным врачом опять говорим по телефону как ни в чем не бывало.
— Что новенького у Шербаума?
Он деловито сообщил, как долго надо лечить дистальный прикус, если его не захватить вовремя, и похвалил упорство моего ученика.
— Тяжелая пластина на передних зубах с уродливым валиком спереди — весьма обременительное инородное тело, особенно для юноши, которому скоро минет восемнадцать. При длительном ношении она становится также психологической нагрузкой — не каждый может это вынести.
Я рассказал ему о деятельности Шербаума на посту главного редактора.
— После всех компромиссов он сумел записать в свой актив маленький успех. Не кто иной, как он, добился разрешения на устройство школьной курилки. Теперь они могут дымить на законном основании. Даже Ирмгард Зайферт проголосовала «за». И при этом сам Шербаум — некурящий, убежденный противник курения.
Иногда от него приходит письмо с газетными вырезками. Несколько строк подчеркнуты красным карандашом. Два-три телефонных разговора в неделю. Как-то раз мы вместе были на выставке в Ганзейском квартале. Однажды встретились случайно на Курфюрстендамме и выпили по чашке чая в кафе «Бристоль». Дважды он заходил ко мне, чтобы поглядеть кельтские черепки и римские базальтовые обломки. Но ни разу не пригласил меня к себе.
Мы бережно обходимся друг с другом. Политические волнения в городе, уход в отставку правящего бургомистра и тот факт, что полиция превысила власть, комментируем довольно осторожно:
— Этого давно надо было ожидать.
Далее я слышу в его словах легкий намек:
— Определенного рода комплексы можно излечить теперь на улице.
Только с иронией, и не прямо, а косвенно, мы упоминаем о времени моих визитов к нему, когда мы были чересчур откровенны друг с другом и слишком близко сошлись.
— Признаю, доктор, что первая попытка вступить в интимные отношения с Ирмгард Зайферт окончилась ничем, несмотря на двухчасовые усилия. «И все же, — сказала она, когда мы снова закурили, — это не помешает мне любить тебя. Нам обоим надо проявлять терпение». Терпение мы проявляем. Да, проявляем. Но вся беда в том, что уж очень много перебивок. Она постоянно вторгается, да, именно она. Сообщает разные военностратегические сведения, и тогда я принимаюсь читать лекцию о туфовых цементах и о возможности их использования при строительстве подводных сооружений. Даже убогий пейзаж предгорий Эйфеля, при его живописном уродстве прямо созданный для натурных съемок — равнины, изрезанные карьерами, а посредине две дымящиеся трубы заводов Крингса, — даже это мешает нашим отношениям. К тому же с некоторых пор я встречаю в заброшенных базальтовых карьерах не только свою прежнюю невесту, но и свою ученицу Веронику Леванд. Линда и Веро что-то задумали. Наверно, готовят акцию против меня. Вот видите, доктор?
Мой зубной врач вскользь упомянул о телеочерке «Убийство Малькольма Икс».
— Вероятно, будущее за насилием. — А потом сказал: — Оставим в стороне ваши вполне обычные неполадки в сексуальной сфере и поговорим о цементе. Я навел справки. Заводов Крингса нет и в помине. В Круфте расположены туфоцементные каменоломни «Туб АГ», которые на все сто процентов являются дочерним предприятием фирмы «Диккерхофф». Эта основанная в 1922 году крупная фирма по производству строительных материалов все еще находится в руках семьи Диккерхофф и выпускает ныне продукцию чрезвычайно широкого профиля. Однако по сравнению с однотипной фирмой в Нойвиде количество цемента, поступаемое из «Туб АГ», относительно невелико. Но это я говорю просто так, между прочим, чтобы объяснить соотношение сил в данной отрасли. На запрос, посланный в Андернах, тамошняя биржа труда ответила, что в студенческие каникулы в пятьдесят четвертом и в пятьдесят пятом годах ваше имя значилось в списках персонала фирмы в Андернахе. Вы были студентом-вечерником, выходит, таким образом, что о должности главного инженера не могло быть и речи.
Мой зубной врач подготавливал металлические колпачки на столике для инструментов и, видимо, ждал, осмелюсь ли я возражать. Но мне ничего не пришло в голову, кроме довольно беспомощного иронического замечания:
— Вам следовало бы работать в уголовной полиции. Правда, вам следовало бы работать в полиции.
Он улыбнулся. (А может, он и впрямь служит в полиции?)
— Раздобыть эти документы было относительно легко. Сами видите, я сделал фотокопии. Мы, зубные врачи, поддерживаем между собой довольно тесные связи. И коллега в Андернахе, доктор Линдрат, признался, что одна из его дочерей — сейчас она замужем, детский врач в Кобленце, — помнит, хоть и смутно, студента с такой фамилией. Но это может быть просто совпадение. К тому же ее имя Моника. Ну? Вам это что-нибудь говорит? Моника Линдрат? Вот ее фото в профиль. Вот — анфас. Здесь она снята с подругами в Андернахе, на рейнском променаде. Так и не вспомнили?.. Красивая девушка.
Я не шелохнулся, и он прекратил допрос, ухватив пинцетом первый металлический колпачок.
— На нет и суда нет. Охотно верю, что если не в Андернахе, то в Майене жила девица по имени Зиглинда. Все мы были когда-то помолвлены. В мои намерения отнюдь не входит ограничить полет вашей фантазии. Не расскажете ли вы, пока я буду надевать защитные колпачки, о грандиозной военной игре «Сталинградская битва», о том, как дочка Крингс выступала против папаши Крингса?
«Как потускло золото…»…Мне бы следовало предложить моему 12 «А» написать сочинение, взяв в качестве темы эту строчку из плача Иеремии или хотя бы одно словечко «как». Сочинение о выражениях: как так, как-никак, вот как. Или о «какбожемой», или о значении «как» в жалобных причитаниях. Сочинение о «как», которые произносятся с удивлением — чуть слышно — сердито. О «как» у Клейста и об ироническом «как» у Томаса Манна. О «как» у детей и «как» у дряхлых стариков. О том, чем отличается «как», которым встречают особо красивый закат — как прекрасно! — и «как», которое произносят при виде моря. Сочинение на тему «как» в песне: «Как я потерял тебя…» — и «как» в политике: «Как, дорогой коллега Барцель…» Разумеется, «как» играет свою роль и в рекламе: «Как так, вы не полощете рот нашим «Прилем»?..» И еще: «как» в жизни женщины: как-как-как-как. Это «как» Шербаум уже слышал. (Не забыть бы «как» перед именами собственными: «Как, Ирмгард, разве мы должны были бы…», «Как, Веро, разве мне не хотелось бы…», «как Линдалиндалиндалиндалинда…»)
Пока он надевал металлические колпачки, я описывал генеральную репетицию «Сталинградской битвы» и мою акцию перед кафе Кемпинского. В цементном бараке «Д» Крингс победил Линду на ящике с песком. На углу Курфюрстендамма и Фазаненштрассе после обеда наступили часы пик. Линда казалась безучастной. Я держал белого шпица на коротком поводке. Линда велела разыграть на ящике с песком «метель» — терраса кафе была переполнена, — горючего в окруженной армии не хватало, так что ни о каких наступательных операциях не могло быть и речи. Шпиц вел себя тихо, и я смог вылить ему на мохнатую спину бутылочку бензина. Электромеханическая система переключения Шлоттау действовала безотказно — впечатляющее зрелище. Предварительно я накачал шпица валиумом, поэтому он не проявлял признаков беспокойства. Особо впечатляюще это выглядело при одновременных контратаках обеих сторон. (Кто-то из зевак спросил: «Это против блох?») Выиграв генеральную репетицию, Крингс разослал приглашения; и пока читался вслух список приглашенных и читалась вслух моя листовка «Пожар!», я вводил наплывом то сцену прибытия первых гостей к Крингсу, то вспышку моей зажигалки. Приехали высокие правительственные чиновники из Майнца, офицеры бундесвера, ушедший на пенсию обер-штудиенрат, журналисты и, как всегда, генеральные директора. Язычок пламени обжег мне левую ладонь и опалил твидовое пальто; на собачьем поводке теперь крутился огненный шар. В бетонном бараке люди, стоя, непринужденно болтали, словно на приеме. (Надо подуть на ладонь.) По обрывкам разговоров нельзя было догадаться о предстоящем спектакле на ящике с песком, да и прохожие перед террасой кафе Кемпинского сначала ничего не понимали. (Человек предусмотрительный непременно захватил бы с собой мазь от ожогов.) Гости говорили на профессиональные темы — об экономических прогнозах, кадровых вопросах, острили насчет ведомства Бланка[86] и вспоминали об отпуске. Сначала даже раздался смех: «Очевидно, это опять хэппенинг». В бетонном бараке царило веселье, но, разумеется, сдержанное. Мне пришлось отпустить поводок из-за обожженной ладони. (Кто-то с юмором изображал федерального президента.) Шпиц катался, вскакивал на столики с пирожными. Один столик опрокинулся. Кроме Линды в бежевом вечернем платье и тети Матильды в черном шелковом, дам не было. Отдельные возгласы: «Вот он! Я его видел. Тот, в очках…» Специально приглашенный официант обносил гостей напитками. Кто-то набросил скатерть на тлеющего шпица; он уже только слабо вздрагивал. Линда наливала слишком полные рюмки. Меня толкали, и (когда я начал разбрасывать листовки) меня стали бить. Шлоттау проверял исправность лампочек. Я потерял очки. Как и во время репетиции, премьера крингсовского наступления проходила планомерно и успешно. Они били меня зонтиками-кулаками-портфелями. Он соединился с Готом[87] и создал плацдарм для прорыва на Астрахань. (Пузырь от ожога на моей ладони все раздувался.) Незадолго до полуночи отбыли последние гости. Я кричал: «Прочтите сначала мою листовку!..» Тетя Матильда тоже удалилась. На Курфюрстендамме я оказался весь в крови. (Моя правая бровь была рассечена.) А в бетонном бараке «Д» мы со Шлоттау стали свидетелями того, как Линда разбила отца на ящике с песком в пух и прах… «Это бензин, а не напалм!» — кричал я. Линда уличила Крингса в том, что он хотел поставить во главе атакующих войск части, которые уже были перемолоты во время операции «Удар грома»[88]: «Теперь ты капитулируешь?» Я попытался прорваться к Фазаненштрассе, но тут меня сбили с ног. «Никогда!» (Мне стало страшно.) Крингс повторил слово «Никогда!». На мостовой (я все еще кричал) я вдруг нашел свои очки. Они не разбились. Зиглинда положила на барьер ящика с песком, где стоял отец, немецкий армейский револьвер («ноль восемь»): «Тогда будь последователен». На площадке перед террасой кафе Кемпинского я обрадовался, заслышав полицейскую сирену. (Иначе мне бы несдобровать.) В бетонном бараке «Д» стояли мы со Шлоттау — два столпа. Парни из полиции тоже дали волю рукам. (Хотя я не оказал ни малейшего сопротивления.) Трансформаторы электромеханической установки для ящика с песком равномерно гудели. Кто-то закричал: «Его надо было прикончить на месте!..»
Крингс взял револьвер «ноль восемь» и сказал: «А теперь оставьте меня одного». Я крепко держал свои очки. Линда тут же ушла. Прежде чем полиция оттащила меня, я еще успел выкрикнуть несколько раз. Шлоттау хотел было запротестовать, но они загоготали: «Это мы знаем». Крингс махнул рукой. В полицейской машине я все еще кричал: «Напалм!». Даже цитаты из Сенеки не мог вспомнить. Потом я провалился куда-то во тьму. (К своему смущению.) На душе у меня было весело. Перед бараком мы со Шлоттау выкурили по две сигареты. Только в полицейском участке я опять пришел в себя. (Спички у меня были.) Моя ладонь. Выстрела так и не раздалось. Они спросили, кто я по профессии, и, когда я ответил: учитель, штудиенрат, один из полицейских ударом сбил с меня очки. Мы пошли. (Только теперь очки оказались на месте.) Шлоттау пожелал мне спокойной ночи.
— Но это, — сказал я своему зубному врачу, — еще не конец.
(По телевизору показывали рекламу; «Убийство Малькольма Икс» мы прозевали.) Шесть металлических колпачков уже были поставлены.
— Не хватает еще нескольких деталей: Шербаум посещает меня в больнице, приносит с собой плитку шоколада, а также газеты. Ну а с Крингсом вот что: чем сильнее он ощущает свое поражение, тем больше налегает на шоколадное ассорти, пытаясь побороть начавшуюся депрессию.
Зубной врач сразу понял:
— Вот оно что, больно… Но мы останемся верны арантилу. Ну-ка примите еще две таблетки на дорогу…
И еще это и это. (И я, и я.) А потом наступает чувство легкости, и я жадно ловлю ртом воздух. И еще о погоде, и о шпице, что с ним случилось. И кто-то закричал: «Пусть себя сжигает!» А один чиновник из Майнца спросил: «Разве мосты через Волгу не взорваны?» И переброски и перемены места. Шлоттау ударил меня, и я нашел свои очки между танков Гота. (И здесь, и здесь.) И языки пламени, выбивающиеся из трансформаторов, и терраса Кемпинского — все перемещается в ящик с песком. И еще аплодисменты и возгласы одобрения. Так этому следовало быть: наконец кто-то нашел в себе мужество. В мае и в январе. Небо прояснилось, было солнечно, морозно и ясно…
Скажите, Шербаум, вы рады, что до этого не дошло?.. Не знаю… Но если бы вы сейчас спросили себя: должен ли я?.. Не знаю… А если бы другое и в другом месте?.. Понятия не имею, как я… А если бы не вы, а я, может, не так, а иначе действовали?.. Нет, вы никогда ни на что не решитесь.
Три недели спустя после лечения, три недели спустя с уже исправленным прикусом и вдобавок, как мне казалось, с некоторыми другими улучшениями: в первый раз мне удалась близость с Ирмгард Зайферт, во всяком случае нечто такое, что относительно удовлетворило нас обоих; три недели спустя после курса лечения у стоматолога и через несколько дней после того, как я прекратил принимать арантил — отвыкание было трудным и даже отразилось на моей работе в школе, — в общем, в начале марта, а именно четвертого числа, я сделал предложение Ирмгард Зайферт.
Поскольку я использовал в качестве плацдарма нашу обычную прогулку вокруг Грюневальдского озера, решающие слова были сказаны на деревянных мостках через рукав, соединяющий Это озеро с Хундекельским, — теперь рукав уже не был скован льдом.
— Мне очень хотелось бы, милая Ирмгард, пойти к ювелиру и купить два кольца разной величины.
Ирмгард Зайферт попросила у меня сигарету.
— Несколько недель назад именно на этом месте вы дали мне пощечину, поэтому я, наверно, должна понимать, что у тебя серьезные намерения.
Я был благодарен ей за шутливый тон.
— Милая Ирмгард, пощечина была прелюдией к нашей помолвке. Но если вы сейчас скажете «нет», я полезу в драку, откажусь от помолвки и в наказание женюсь на тебе сразу же.
Она затянулась только что закуренной сигаретой и сразу бросила ее.
— Дабы предотвратить худшее, скажу «да», хоть и вполголоса и без особой торжественности.
Мы решили не праздновать наше обручение, хотя несколько дней меня прямо подмывало устроить вечер; я даже хотел пригласить зубного врача. Мы ограничились тем, что разослали открытки с оповещением. Он поздравил нас и подарил первое издание шмекелевского «Учения Средней Стои»[89].
Своему 12 «А» я сказал о помолвке, начав со слова «кстати…». На следующий день Веро Леванд протянула мне (молча) серебряную чайную ложечку, гравировка на ложечке указывала на ее прежнего владельца. (Так получаешь памятные подарки.)
В апрельском номере школьной газеты «Азбука Морзе» была помещена шутливая заметка Шербаума: «Что молвят помолвленные?» В своей обычной манере, короткими фразами, он так играл словами «состоялась помолвка», что довел все до полного абсурда. «Состоялась помолвка. В основе всякой расстроившейся помолвки находится состоявшаяся помолвка. Когда хотят, чтобы вместо расстроившейся помолвки снова состоялась помолвка, надо сперва устроить расстроившуюся помолвку. Таким образом, цена расстроившейся помолвки выше, нежели состоявшейся…»
Ирмгард Зайферт нашла заметку «довольно безвкусной». Она попросила меня ходатайствовать о созыве собрания, которое приняло бы решение изъять апрельский номер. Я попросил Шербаума извиниться перед ней.
— Вы должны понять, Филипп, госпожа Зайферт уже не такая молоденькая, чтобы спокойно относиться к вашей игре слов, зачастую довольно-таки язвительной.
Став главным редактором, Шербаум по-прежнему старается щадить меня.
— Ну конечно. Я так и сделаю. Ведь я вовсе не хочу, чтобы она проела вам плешь.
Наша помолвка еще не расторгнута. В майском номере школьной газеты под рубрикой «Точка-тире» было помещено короткое сообщение о среднесуточном потреблении сигарет в «легальной» курилке, после него несколько строк о государственном визите: «Иранский шах прибывает в Западный Берлин[90]. Мы его не приглашали». А потом, перед объявлением о школе танцев «Антуан», под заголовком «Объявление» была напечатана фраза, которая не так уж неправильно охарактеризовала нашу ситуацию: «Госпожа Зайферт и господин Штаруш все еще помолвлены».
На сей раз и Ирмгард попыталась превратить это в шутку:
— Думаю, шпильки исходят не от Шербаума, а от малышки Леванд. Как ты считаешь, Эберхард?
(Да, от нее, и она все еще жалит. Она сейчас на подъеме. В школьном комитете ШНО за ней большинство. И она предложила вынести вотум недоверия Шербауму. Хочет сместить его. Сразу после визита шаха решила выпускать свою контргазету. «Мы не намерены впредь идти ни на какие компромиссы…»
Она еще больше выдвинулась. И много раз я видел ее на газетных полосах; взяв под руки своих товарищей, она бежит бегом, всегда впереди…)
Мысль обручиться с Ирмгард Зайферт возникла у меня в последний день лечения. Я еще раз услышал его позывные: «Сейчас вы почувствуете маленький гадкий укольчик…», «А теперь прополощите…» И еще раз произнес свой внутренний монолог, от которого на телеэкране появились пузыри с надписями. Мы с зубным врачом обошли вокруг всей земли. Осуществили свои модели социального обеспечения плюс профилактика в медицине, предложенные им, и реформы в педагогике, предложенные мной; словом, взвинчивали и подбадривали друг друга. Были чрезвычайно смелы и притом весьма реалистичны.
Оросили Сахару. Осушили болота, которые были нам известны. Он еще намеревался побороть агрессивные инстинкты.
— В рамках глобального социального обеспечения жестокость, иными словами, ее рецепторы будут обезврежены, выражаясь по-простому — они окажутся под местным наркозом.
Я умиротворял все путем педагогики.
— С помощью масс-медиа, в рамках всемирного учебного процесса, статус ученичества будет продлен до глубокой старости.
Но как бы усердно мы ни прыгали выше головы, остаток земного притяжения вынуждал нас сталкиваться лбами.
По первой программе передавали фильм для лыжников и для людей, которые хотели бы ими стать: «От телемарка до христиании».
Он обдирал меня, как луковицу, слой за слоем, и я становился все меньше и прозрачней; поэтому я и решил заменить порошкообразный искусственный снег и быстрые лыжи документальным фильмом о спиритическом сеансе, в котором принимали бы участие также зубной врач и его помощница (в качестве медиума): обычное столоверчение.
Едва он успел сделать мне четыре укола, как в пространственном изображении, кроме нашего хорошо спевшегося трио, появилась масса народу, в зубоврачебном кабинете возникла давка. Иногда то были текучие, иногда плотные тела, сверхчувствительные астральные объекты, которые, к моему разочарованию, совпадали с расхожими представлениями о призраках в белых ночных балахонах: они явились на телепатическое свидание.
И моя матушка оказалась тут же. Я спросил ее, не стоит ли мне обручиться, и получил истинно материнский совет: сперва все прояснить. После долгого обмена репликами, который проходил с помощью медиума-помощницы, я понял, что матушка знает об Ирмгард Зайферт. «Только смотри, не вляпайся. Сперва надо выбросить ее старые писульки. Не то толку не будет, она тебя заговорит вусмерть — и про то, что тогда было, и про то, что она делала…»
Три недели спустя я последовал совету матери: как только мы решили обручиться, попросил Ирмгард Зайферт отдать пачку тех старых писем.
Она сказала:
— Ты хочешь их уничтожить. Так, что ли?
Хотя я, собственно, собирался всего лишь запереть их у себя, я сказал:
— Да, хочу освободить тебя от них.
Уже на нашей следующей прогулке вокруг Грюневальдского озера она отдала эту пачку. В лощинке на песчаном восточном берегу я сложил письма в кучу. Они быстро сгорели.
По дороге домой Ирмгард Зайферт обратила внимание на соответствующую табличку с надписью «Запрещено».
— Нам повезло, хорошо, что люди из лесничества не застали нас на месте преступления…
В увеличившемся благодаря телекинезу кабинете моего зубного врача матушка дала мне еще несколько полезных советов, прежде чем врач удалил металлические колпачки. На телеэкране в это время появилось нечто туманно-призрачное, возможно, это объяснялось тем, что фоном служил фильм о лыжниках. (Астральные тела совершали телемарк — приземление с выпадом.)
Матушка призывала меня пить меньше пива и поменять прачечную. Состояние моих рубашек ее явно не удовлетворяло. Она передала мне с того света дословно следующее: «Глянь-ка хоть раз на уголки. Они теперь совсем отучились гладить воротнички».
Потом она велела тщательно присматривать за одним из моих учеников, которому в начале лета в связи с предстоящим визитом «высокого гостя» может угрожать опасность: «Знаешь, мальчик, он такой же, каким ты был тогда. Всегда забегал вперед, ветер в голове, лез на рожон. Намаялась я с тобой…»
Я попросил прощения у матушки и обещал следить за Шербаумом. (С ним, кстати, ничего не случилось на площади перед Оперой, зато Веро Леванд могла похвастаться сильными ушибами и кровоподтеками.)
Зубной врач снял металлические колпачки. Я попытался продолжать диалог с умершими.
— Они ведь все еще живы, доктор. Хотя Крингс взял револьвер, который дочь положила на борт ящика с песком, он, как и Паулюс, стреляться не стал. На следующий день он созвал всю семью — стало быть, и Шлоттау и меня тоже — к себе в кабинет и признался, что потерпел фиаско, после чего ознакомил со своим решением, предварительно упомянув о самоубийстве Сенеки, равно как и о том, что смерть нам нипочем. «Я решил, — сказал он, — добиться победного перелома в другой области: посвящу себя политике!»
После этого я тоже принял решение — расторг помолвку с его дочерью. Он согласился, дав понять, что это его вполне устраивает. А Шлоттау, которого никто ни о чем не спрашивал, сказал: «Разумно».
Так закончились эти семейно-военные игры. Но если позволите, доктор…
Зубной врач был против вариантов на ту же тему, не хотел знать и о моем последнем объяснении с Линдой.
— Ваша песенка спета, дорогуша. Точка. Занавес. Добавления излишни. Как зубной врач, я ежедневно выслушиваю подобного рода истории о любовных треугольниках. Герои их изображают себя либо в исторических костюмах, либо в почти современных. И конечно, обязательно маскируют этот неизменный жалкий треугольник: иногда экономико-теоретическими рассуждениями, иногда религиозными, иногда даже уголовно-правовыми или налогово-правовыми. Однако все эти переодевания имеют лишь одну цель — замаскировать вечный треугольник. Прежде чем вы заставите нас присутствовать на свадьбе Линды и Шлоттау, давайте посмотрим лучше на лыжников, они оживлены: совершают телемарк, поднимают облачка снега, оставляют следы, смеются, а под конец выпьют свои питательные дрожжи «Ово». Словом, пора наконец похоронить вашу прежнюю невесту. Договорились?
— Я сделал то же, что во времена Оны сделал художник Антон Мёллер из моего родного города с дочерью бургомистра, своей суженой.
— Значит, вы все же хотите рассказать еще одну байку?
Веро Леванд называет это «переключением». То время, что он приготавливал специальный цемент, высушивал мои обточенные зубы струей горячего воздуха, устанавливал два мостовидных протеза, я посвятил перенесению на экран телевизора, так сказать для сравнения, притчи о художнике Мёллере.
Я рассказал не только историю о классическом любовном треугольнике (мой зубной врач с удовольствием принес бы ее в жертву прогрессу), я еще позволил себе одновременно некоторые намеки на его личный треугольник. Разве могло укрыться от моих зорких глаз, что зубной врач — один из углов типичного старомодного треугольника? Ведь он разрывается между своей супругой, матерью его детей, и своей помощницей.
— Итак, вот что случилось с моим земляком, талантливым Антоном Мёллером, который в 1602 году должен был написать для данцигского магистрата «Страшный суд»; то была заказная работа; живописец, увлекавшийся до сей поры маньеризмом и писавший лишь аллегорические фигуры, получил ее по протекции бургомистра. Он должен был жениться на дочери этого патриция, лишь только будет выдан соответствующий ганзейским обычаям гонорар.
Часть поверхности, где следовало изобразить скучный рай, Мёллер написал быстро — хотел поскорее избавиться от этой темы — и по моде того времени. Художник заранее радовался работе над чистилищем и над спуском в ад: будучи истым сыном порта, он решил изобразить грешников плывущими на кораблях. Они должны были сошествовать в ад вниз по реке на зафрахтованных лодках, баркасах и изящных ладьях; натурой для реки послужила Мотлау — приток Вислы. А в одной из ладей он решил написать голую женщину — воплощение греха. Мёллер не мог без аллегорий.
Однако и грех нельзя было как в ту пору, так и сейчас изобразить без живой натуры. Дочка паромщика, простая пышнотелая деваха, послушно позировала художнику, и Мёллер во всех отношениях неплохо воспользовался ее прелестями; но когда невеста живописца захотела своими глазами увидеть, насколько продвинулось сошествие в ад, она сразу же попала в двусмысленное положение, оказалась в любовном треугольнике, который вы, милый доктор, считаете изжившим себя и хотели бы упразднить — хотя сами герой такого же точно треугольника; тем не менее треугольник этот помог художнику Мёллеру в его творчестве.
Невеста подняла шум. Отец, члены магистрата и городские судебные заседатели хором потребовали от Мёллера, чтобы он взял в качестве натуры для греха свою невесту, смазливую, но не такую пышнотелую девицу. Художника принудили изменить своему искусству. Его поставили перед выбором: либо сделать известную всему городу легкомысленную дочку паромщика неузнаваемой, либо… отказаться от гонорара и от доченьки бургомистра.
И вот искусство пошло на свой первый компромисс. И я избрал тот же путь, когда пытался рассказать о Фердинанде Крингсе, хотя и оригинал, не смущаясь, носит имя Фердинанд. Мёллер пририсовал паромщице лицо, похожее на лицо невесты: как иначе мог изобразить он грех, ведь ему запретили запечатлевать на картине хохочущую мордашку потаскухи из предместья — паромщики жили около Санкта-Барбары, в нижней части города.
Однако, когда прототипом грешного образа стала дочка бургомистра, опять поднялась буча, да такая, что она нашла свое отражение даже в хронике города. Цеха и ремесленники, стоявшие на стороне Мёллера, громко ржали и распевали шуточные песенки. В воздухе запахло политическим скандалом. (Суть дела была в разрешениях варить пиво и арендовать рыбные склады.) И тут патриции позабыли о своих угрозах и под предводительством бургомистра перешли на просительный тон.
Таким образом, художнику Мёллеру пришлось согласиться на второй компромисс; его не миновал и я, поместив папашу Крингса и Крингсову дочку в декорации из цемента, пемзы и разных пород туфа. Мёллер, оставив нетронутым обнаженное тело дочери паромщика, закрыл стеклянным колпаком с рефлексами хорошенькое глупенькое личико своей невесты — сегодня нам представляется загадкой, что общего между нежной, скорее худой козьей мордочкой, мистически расплывающейся под стеклом, со столь соблазнительно округлым туловищем. (Поглядите-ка, на какое преломление способен стеклянный колпак: все в нем отражается — и мир, и его противоречия…)
А Мёллер, войдя в раж, написал именно в той ладье, что держала путь в ад и везла грех, всех членов магистрата вкупе с бургомистром, и получились они до ужаса похожими и даже не под стеклом.
Так дело дошло до третьего компромисса в искусстве, который предстоит и мне: ведь я боюсь назвать по имени вас и вашу помощницу — что скажет на это ваша жена? Что касается Мёллера, то он не захотел отправлять в ад городских патрициев вкупе с бургомистром и его доченькой; он написал себя в реке Мотлау, превращенной им в адскую реку, сиречь в Гадес. Художник изо всех сил упирается в нос ладьи и при том смотрит на нас: мол, если бы не я, вся компания быстро полетела бы в тартарары.
Человек искусства в роли Спасителя. Ведь не согрешив, не покаешься. Не дает он погибнуть любовному треугольнику. Кстати, и вы втайне связаны с тригоном. Правильно, доктор? Честно? Правильно?
Но тут мои мостовидные протезы были поставлены, и зубной врач выключил телевизор. Его помощница поднесла мне зеркало.
— Ну что вы скажете?
(С такими зубами не стыдно показаться людям. Есть чем щелкать. А при эдаком прикусе можно все начать сначала. И смеяться стало веселее. И аппетит разыгрывается. Аппетит на все, даже на то, чтобы сыграть в ящик. Теперь можно по-настоящему обручиться. «Да, скажи скорее, да“. Да. Скажи скорее, да“». Так много зубов, и все наготове. Сейчас я выйду с ними на улицу…)
Зубной врач — не его помощница — подал мне пальто.
— Как только отойдет наркоз, ваш язык начнет шарить в поисках привычных дырок. Но потом это пройдет.
Я уже стоял в дверях, когда он протянул мне рецепт.
— Предусмотрительно выписал вам двойную упаковку. Ее хватит… Вы были приятным пациентом…
За дверью и впрямь оказался Гогенцоллерндамм. По дороге к Эльстерплац я увидел Шербаума, который шел мне навстречу.
— Ну как, Филипп? Я уже освободился и теперь кусаю всеми зубами.
Для наглядности я показал на свою почти выправленную прогению. Шербаум в свою очередь продемонстрировал мне дистальный прикус, не исправленный вовремя.
— Это валик спереди. Довольно неприятная штука.
У меня все еще была неправильная артикуляция.
— Желаю удачи.
— Перетерплю как-нибудь.
Мы засмеялись без особых на то причин. Потом он пошел, потом пошел я, щелкая зубами…
Линдалиндалиндалинда… (У меня за пазухой покушение на убийство.) Я поехал за ней. Январь 1965-го. Госпожа Шлоттау решила провести зимний отпуск со своим супругом и с детьми на острове Зильт — так посоветовал врач. Ежедневные прогулки среди дюн, отшлифованных ветром. С закрытым ртом навстречу ветру, открывающему все поры, по пустынной земле Северо-Фризских островов. Вдыхать йод, обходя бухту или оконечность Хёрнума, где береговая полоса Северного моря и море сливаются воедино, образуя множество водоворотов. Отец ежедневно отмечает их маршруты по туристской карте. Давайте посмотрим на эту семейку: мальчики в резиновых сапогах впереди, в центре — мать в спортивной куртке с капюшоном, замыкает шествие отец, вооруженный биноклем. Они ходят по пляжу туда и обратно в поисках раковин и здоровья.
А я их подкарауливаю, упершись языком в образующийся зубной камень, лежа пластом в шуршащей траве, растущей на песке, хихикаю, ибо мальчуганы не находят ничего, кроме электрических лампочек, которые море щедро выбрасывает на берег. А вот они увернулись от дрожащих хлопьев пены, которые ветер бросает им вдогонку по обнажившемуся во время отлива пляжу. «Возьмем!.. Папуля, возьмем!»
(Вчерашний день еще придет и предъявит счет за электричество.)
Преподавая в кёльнской спортивной школе, я во время каникул нанялся смотрителем купален. Обслуживал машину, которая поднимает волны. В знаменитом бассейне с морской водой и с волнами. Шаркая, ходил по тепловатым плиткам в парусиновых кедах. Но исподтишка бросал взгляды на ресторан при бассейне, над душевыми и кабинками для раздевания, — бросал взгляды на ресторан, где за стеклом, нагуливая прохожим аппетит, сидели пожилые курортники и местные жители, которые не умели плавать. Там сидели одна-две семьи, но семью Шлоттау я ни разу не видел.
Когда она и ее семья попадут в мой кильватер?
Она раздалась в бедрах, но по-прежнему похожа на выносливую горную козу, суровую и нескладную вблизи загона, но зато грациозную на кручах. Когда же она наконец появится, отдавая краткие приказания, которые идут от самого сердца: «Улли, ты пойдешь купаться только тогда, когда я скажу: сейчас мы пойдем купаться…», «Папочка, нельзя пялить глаза на посторонних…», «Нырять я не разрешаю, Вольфхен, слышишь? Нырять я не разрешаю».
Но пока что их клан в резиновых сапогах бродит по окрестностям, заходя в Кайтум, Морзум. Сначала они хотят акклиматизироваться — так советовал врач. Они все еще глазеют на крытые камышом крыши фризских домиков. Они все еще показывают друг другу суденышки на горизонте. «Посмотри-ка, вон маяк! Посмотри-ка, реактивный самолет. Посмотри-ка, чайки на разрушенном бункере…»
Едят они, естественно, дары моря: палтусов, камбалу, густеру. Папочка хочет заказать угря; мамочка поправляет его и заказывает треску. Его тянет на мидии, она считает, что сегодня они обойдутся без супа. Детям скармливают по полпорции, и преимущественно окуневого филе — ведь оно без костей. Вкусную и дорогую еду у Кифера они чередуют с едой попроще в пансионе: телячье фрикасе с мучной подболткой. А на десерт — манный пудинг с малиновым сиропом.
Семья быстро освоилась в чужой обстановке. Отдыхают, не ходя в кино. (Папочка и мамочка посылают цветные открытки с чайками и тюленями дедушке и тете Матильде.) Удачный брак. Вечером, прежде чем лечь в постель, она читает… Что она, собственно, читает? (Романы с продолжениями в истрепанных иллюстрированных журналах; Клаузевиц, Шрамм[91] и Лиддль-Гарт[92] давно забыты.)
В своей кабине рядом с пультом управления машины, поднимающей волны, лжесмотритель купален складывает в портфель Маркса и Энгельса и жадно глотает страница за страницей Ницше.
Ребятишки канючат: «Мамочка, когда мы пойдем купаться в волнах?..», «Ты же обещал, папочка. Когда мы пойдем купаться в волнах, купаться в волнах?..» Язык лжесмотрителя, еще недавно вялый, тут же начинает энергично тереться о зубной камень, образующийся все снова и снова. (Ну приходите же, приходите!) Язык беспокойно движется, цепляя за шершавую зубную эмаль и опасные просветы между обнаженными, боящимися холодного и горячего шейками зубов. Хозяин желает, чтобы язык лениво покоился, а он встает стоймя, шарит и находит именно этот один клык, чувствительный из-за поврежденной десны, и расшатывает его все сильнее и сильнее вкрадчивыми толчками и легоньким подталкиваньем.
Но вот они входят — через дверь мужского и через дверь женского отделений, уже вымывшись с мылом, слегка смущенные длинной инструкцией для купальщиков: теперь они у него в руках.
Нет ничего проще, чем устройство машины, поднимающей волны: две болванки поочередно падают на нагретую до двадцати двух градусов морскую воду. (После двадцати минут мертвого штиля десять минут штормит.) Наивный принцип морского прибоя, переведенный на язык техники. (Слишком сильный напор уменьшается с помощью изменения подъема и спуска болванок.) Возможно, изобретатель подсмотрел за играющими детьми, которые бросают в пруд с разного расстояния камешки и поднимают волны. Машину очень легко обслужить, знай себе нажимай на разные кнопки. «Купаться в волнах, купаться в волнах!»
Какое ликование царит в этих облицованных кафелем стенах. Здесь и следящие за собой пожилые мужчины, и расплывшиеся матроны, здесь свыше десятка призывников бундесвера из Хёрнумер-Экке (они заранее договорились и прошли по общему пропуску со скидкой), и молодежь из Вестерланда, которой сейчас, в январе, разрешено купаться на льготных условиях без курортного удостоверения, просто по удостоверению личности. И среди всех: она-она-она. До пояса наседка, от пояса девушка. Она со своим выводком, которому потом достанется наследство. Она и ее уже обрюзгший хахаль.
Вот они входят в бассейн — наседка первая. Пусть сперва окунутся, пусть поликуют. «Ой, мамочка, какая прелесть купаться в волнах». Отвести язык от зубного камня, пусть получит разбег. «Не ныряй, Вольфхен. Улли, не отходи от папочки, не отходи!»
Первая скорость: умеренные волны прибоя выплывают из своих решеток — расстояние между ними соблюдено. «Не отходите от мамочки, держитесь рядом, а то вы сейчас же вылезете и уже больше никогда…»
Только теперь преподаватель из Кёльна мизинцем переключает с первой скорости на вторую: у машины, поднимающей волны, три скорости.
(Полистать книгу и найти: «Все умышленно происходящее должно быть соотнесено с умыслом умножения власти».)
Поэтому быстро, пока в настроении купальщиков не произошел перелом и они в страхе не сбежали на кафельный бортик бассейна, включить третью скорость и поставить обе болванки так, чтобы они работали в одинаковом ритме: только тогда прилив разыграется вовсю. Большие гребни, гребни, как в открытом море при шторме. Всю эту вышедшую из душа публику с латунными номерками на запястьях ждет тяжелое испытание: и жирных дам, и господ с благородной сединой, и призывников бундесвера, и молодежь из Вестерланда, и ее клан.
Уже первая волна прибоя — вторая скорость — кидает их — ой, как больно! — на облицованные кафелем ступеньки бассейна. Жалобные вопли. Следующая волна тащит назад. И третья скорость не подводит: волны подхватывают их, переносят через ступеньки и бросают на торцовую стену бассейна, вошедшего в строй меньше года назад. Нет, ломаются не ручки, покрытые глазурью, сломались ребра.
(Только что лжесмотритель нашел соответствующие строки в наследии того, кто творил в восьмидесятых годах прошлого века, и теперь, подняв глаза от книги, скользит взглядом по застекленной стене ресторана при купальне — там все прилипли к стеклу, видны только расплющенные носы.)
Отлив хочет забрать обратно, отнять то, что натворила волна прибоя, но сестрица волна прожорлива: ничего не возвращает назад. Расторгнутое обручение — расторгнуто. (Зубной камень — окаменевшая ненависть.)
После четвертой, ударившей в торцовую стену волны у деток уже переломаны кости. Еще раз раздался ее крик: «Вольфхен, Улли, о боже!» О папочке ни звука… А потом никто больше и не пикнул, не закричал; шторм не остановишь, благословенную морскую гладь у неба не вымолишь.
Даже в ресторане при бассейне люди в благоговейном молчании застыли за застекленным фасадом — в аквариуме и то беда, и там беда.
У официантов остыл пунш. Кое-кто из посетителей щелкает фотоаппаратом. Лжесмотритель кладет в книгу закладку и обращается к реальной жизни. Он уперся языком в свой уже качающийся клык: клык пружинит, поддается. Не худо было бы и вовсе выломать его. А стена в полкирпича уже зашаталась. Ведь ни архитектор, ни курортное управление, которое разрешило строительство этого здания, создавая проект нового бассейна, не предполагали, что разразится такая буря. Ну, а теперь они поплатятся за свою беспечность: строительный раствор не выдерживает, сдается. Мощная волна прилива вылетает напоследок из погнутых решеток, перекрывает гребни отлива, мимоходом увлекает за собой бессильных, безгласных купальщиков и, проломив стену, вышвыривает их наружу в январский полдень. От этого броска, поднимая фонтан соленых брызг, они шмякаются на каменные плиты площадки позади курортного променада. Легкие тельца детей долетают до самого аквариума, в котором маленькие тюленчики мечтают о все новых и новых косяках селедок. («Мамочка, когда мы пойдем кормить тюленей, кормить тюленей…») И вот уже порыв ветра, а вместе с ним и чайки. Позже прибегают фотокорреспонденты. Еще три-четыре раза из зияющего торца выливаются волны. И вот уже бассейн пуст. Только теперь обслуга мужских и женских раздевалок, набравшись смелости, входит в бассейн, где гуляют сквозняки, — ее мучит любопытство. В ресторане за стеклянным фасадом, помутневшим от дыхания множества людей, гости поспешно расплачиваются. Болванкам все еще мало, они беснуются на холостом ходу. Лжесмотритель выключает машину. Он устал и не вполне удовлетворен; укладывает свои книги, идет к себе в кабину, стараясь почувствовать печаль.
Немного разочарованный — ведь все произошло так быстро, — я покидаю этот летне-зимний курорт еще до того, как вмешалась полиция и оцепила место происшествия: в скором поезде Гамбург — Альтона я мчусь над Гинденбургдаммом.
На своем письменном столе я обнаружил начатую рукопись «Пароль: ни-шагу-назад, или История Шёрнера»… Спустя два года (перед самым экзаменом на аттестат зрелости) Веро Леванд бросила школу и вышла замуж за канадского лингвиста. Шербаум изучает медицину. Ирмгард Зайферт все еще ходит в невестах. А у меня внизу слева образовался гнойный очаг. Мостовидный протез пришлось распилить. Нижний шестой удалили. Очаг выскоблили. Мой зубной врач показал мне висевший на кончике корня мешочек, наполненный гноем. Ничто не вечно под луной. И боль постоянна.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
См.: Грасс Г. Избавить друг друга от страха. — «Литературная газета», 26 января 1983; Грасс Г. Я восхищен их мужеством. — «Литературная газета», 7 ноября 1983; «Манифест мира — 83»: угроза ядерной войны с территории ФРГ — смертельная опасность. — «За рубежом», 1983, № 30; Грасс Г. Нами правят безответственные невежды. — «За рубежом», 1984, № 3; Грасс Г. Моя совесть не может молчать. — «За рубежом», 1984, № 7.
(обратно)2
См.: Грасс Г. Нами правят безответственные невежды. — «За рубежом», 1984, № 3.
(обратно)3
«Школьники несут ответственность».
(обратно)4
Пригород г. Данцига (теперь г. Гданьск, ПНР). Здесь и далее автор употребляет старые немецкие обозначения городов и населенных пунктов.
(обратно)5
Изначально (лат.).
(обратно)6
Подводная отмель в Северном море.
(обратно)7
Ежегодная выставка сельскохозяйственной продукции в Западном Берлине.
(обратно)8
Знаменитое аббатство бенедиктинцев на озере Лаах, построено в XI веке.
(обратно)9
Камни из группы 13 утесов на опушке Тевтобургского леса с высеченными на них наскальными рисунками XII века.
(обратно)10
Плач Иеремии, гл. 4, 1.
(обратно)11
Теперь г. Вроцлав (ПНР).
(обратно)12
Официальное название Курземе до 1917 г., западная часть Латвийской ССР.
(обратно)13
Теперь г. Ольштын (ПНР).
(обратно)14
Теперь гг. Щитно, Бискупец, Кентшин, Гижицко, Бартошице (ПНР).
(обратно)15
Теперь г. Новы-Двур-Мазовецки (ПНР).
(обратно)16
Кизингер, Курт Георг — реакционный западногерманский политик, с 1966 по 1969 г. канцлер ФРГ; в годы фашизма был членом нацистской партии, руководил отделом пропаганды в гитлеровском министерстве иностранных дел.
(обратно)17
Национал-социалистские организации: национал-социалистский моторизованный корпус, союз немецких девушек, а также сокращения, означающие трудовую повинность и передний край обороны.
(обратно)18
Речь идет о покушении на Гитлера 26 июля 1944 г.
(обратно)19
Кельтское племя, жившее на территории Галлии.
(обратно)20
Главный персонаж пьесы В. Борхерта «На улице перед дверью».
(обратно)21
Osram (нем.) — осмие-вольфрамовый сплав, применяемый в электрических лампочках.
(обратно)22
«Вельт ам зоннтаг» — воскресное приложение к шпрингеровской газете «Вельт», выходящей огромным тиражом.
(обратно)23
Deutsche Friedensunion (нем.) — Немецкий союз мира.
(обратно)24
Автор песен, получивших широкое распространение в фашистской Германии.
(обратно)25
Телеман, Георг Филипп (1681–1767) — немецкий композитор и органист.
(обратно)26
Брауэр, Адриан (1605 или 1606–1638) — фламандский живописец.
(обратно)27
Метаксас, Иоаннис (1871–1941) — премьер-министр Греции, в 1936 г. осуществил фашистский переворот; построил систему укреплений, названную его именем.
(обратно)28
Фашистский ас, один из любимцев Геринга.
(обратно)29
Один из нацистских фюреров, военный преступник, руководитель гитлерюгенда, в ФРГ публиковались его мемуары.
(обратно)30
Берлинская гостиница, где останавливался Гитлер перед захватом власти.
(обратно)31
Тюрьма, где отбывали свой срок осужденные Нюрнбергским трибуналом нацистские военные преступники, в том числе Бальдур фон Ширах.
(обратно)32
Луцилий — молодой друг Сенеки, прокуратор Сицилии.
(обратно)33
Теперь г. Градец-Кралове (ЧССР). Здесь в 1866 г. прусские войска одержали победу над войсками Австро-Венгрии.
(обратно)34
Сказочное существо, которое, засыпая детям глаза песком, погружает их в сон. Непременный участник детских передач наподобие «Спокойной ночи, малыши». В передаче использован образ из сказки Гофмана «Песочный человек».
(обратно)35
Теперь г. Печенга.
(обратно)36
Арчимбольди, Джузеппе (1527–1593) — итальянский художник, писал аллегории: составлял портреты и натюрморты из фигурок животных и изображений растений; считается предшественником сюрреалистов.
(обратно)37
Автор пародийно использует утопию Гёте из романа «Годы странствий Вильгельма Майстера», которая является воплощением мечты великого просветителя о совершенно новой системе воспитания. В литературе XX века к этой утопии — «Педагогической провинции» — обращается Г. Гессе в романе «Игра в бисер».
(обратно)38
Теперь г. Сибиу (СРР).
(обратно)39
Этнографическая группа поляков, живет в приморской части Польши, говорит на кашубских диалектах польского языка.
(обратно)40
Теперь г. Тчев (ПНР).
(обратно)41
Человеческая природа, человеческое достоинство (лат.).
(обратно)42
Маркузе, Герберт (род. в 1898 г.) — немецко-американский философ и социолог, во многом определил идеологию левоэкстремистских элементов на Западе.
(обратно)43
Теперь г. Любань (ПНР).
(обратно)44
Популярный голливудский киноактер.
(обратно)45
Нацистский генерал-фельдмаршал, один из самых верных Гитлеру вояк, в мае 1945 г., став главнокомандующим, пытался продолжать сопротивление в Чехословакии; в романе прототип Крингса.
(обратно)46
«Гори, Товарный Склад, гори!» (англ.) Автор, очевидно, имеет в виду террористическую акцию экстремистов — поджог 22 мая 1967 г. универмага «Инновасьон» в Брюсселе; по поводу этой акции в Университете Западного Берлина были распространены листовки, в которых одобрялась эта варварская акция и содержался призыв учинить ее и в Западном Берлине. Кончалась листовка словами: «Гори, Товарный Склад, гори!» Под «Товарным Складом» подразумевалось «общество потребления».
(обратно)47
Фирма во Франкфурте-на-Майне, существует с 1873 г., занимается обработкой драгоценных металлов.
(обратно)48
Клуге, Курт (1886–1940) — немецкий писатель, писал романы, рассказы, пьесы.
(обратно)49
Эрнст, Отто (1862–1926) — псевдоним немецкого писателя Отто Эрнста Шмидта; писал рассказы, эссе, пьесы. В 1901 г. вышла его сатирическая комедия «Флаксман как воспитатель», направленная против казарменной муштры в школах.
(обратно)50
Готхельф, Иеремия (1797–1854) — швейцарский педагог и писатель. В 1837 г. вышел его роман «Горести и радости школьного учителя».
(обратно)51
Раабе, Вильгельм (1831–1910) — один из крупнейших немецких прозаиков конца XIX — начала XX века.
(обратно)52
Вихерт, Эрнест (1887–1950) — немецкий писатель, прозаик и поэт. Участвовал в антифашистском сопротивлении.
(обратно)53
Биндинг, Рудольф (1867–1938) — пронацистски настроенный писатель, автор милитаристских, националистических книг.
(обратно)54
Шихау, Фердинанд (1814–1896) — владелец машиностроительных заводов и верфей.
(обратно)55
«Ульштайн-ферлаг» — одно из крупных западногерманских издательств.
(обратно)56
Участники шествия проходят вперед три шага, а потом на два отскакивают назад.
(обратно)57
Ничтожество (англ.).
(обратно)58
Форстер, Георг (1754–1794) — немецкий просветитель и революционный демократ. Автор декретов 1793 г. о провозглашении Майнца республикой и присоединении его к революционной Франции.
(обратно)59
Песталоцци, Иоганн Генрих (1746–1827) — швейцарский педагог-демократ; развил идею соединения обучения с производительным трудом.
(обратно)60
Юй Гунь — герой древнекитайской мифологии, усмиритель потока. Один из его подвигов — пробитый в горе туннель «Ворота дракона». Кроме того, ему приписывается и разделение на три части одной из гор, мешавших течению реки Хуанхэ.
(обратно)61
Имеется в виду 6-я армия Паулюса, разбитая советскими войсками под Сталинградом. «Зимняя помощь» и т. д. — лозунги нацистской пропаганды.
(обратно)62
Любке, Генрих (1894–1972) — западногерманский политик, в 1959–1969 г. президент ФРГ. В годы второй мировой войны участвовал в создании лагерей смерти и «рабочих лагерей».
(обратно)63
Орф, Карл (род. в 1895 г.) — известный композитор ФРГ, разработал систему детского музыкального воспитания.
(обратно)64
Западноберлинская фирма, основана в 1937 г. Производит фармацевтические товары, а также гербициды.
(обратно)65
Ведекинд, Франк (1864–1918) — немецкий писатель, поэт и драматург, писал сатирические стихи.
(обратно)66
Песни-призывы (англ.).
(обратно)67
Известная американская певица мексиканского происхождения.
(обратно)68
«Будь у меня молот» (англ.) — молодежная песня протеста.
(обратно)69
Букв.: «Власть — цветам» (англ.). Лозунг одной из групп молодежного движения в США в 60-х годах.
(обратно)70
Дистервег, Адольф (1790–1866) — немецкий педагог-демократ.
(обратно)71
Подсчет убитых и раненых прямо на поле боя (англ.).
(обратно)72
Подпольное искусство (англ.) — один из видов контркультуры на Западе.
(обратно)73
«Пенни Лейн»; «Любовь — вот что тебе нужно…» (англ.); «Вчера…» (англ.) — известные песни группы «Битлз».
(обратно)74
Старая солдатская песня.
(обратно)75
Брошюра-прокламация, написанная немецким писателем, революционером-демократом Георгом Бюхнером в 1834 г. Эпиграфом прокламации был лозунг «Мир хижинам, война дворцам!».
(обратно)76
Гёте. Торквато Тассо. Перевод С. Соловьева.
(обратно)77
Комитет общественного спасения (1793–1795) — один из комитетов французского Конвента. В период якобинской диктатуры фактически играл роль правительства.
(обратно)78
Фотография кинозвезды (англ.).
(обратно)79
Черт возьми, он как живой (англ.).
(обратно)80
Имеется в виду заговор 20 июля 1944 г. — неудавшееся покушение на Гитлера полковника Штауффенберга.
(обратно)81
Тартини, Джузеппе (1692–1770) — итальянский скрипач, композитор.
(обратно)82
Бесстрастие (лат.).
(обратно)83
Вобан, Себастьян Ле Претер де (1633–1707) — французский военный инженер, изложил научные основы фортификации, построил и перестроил 300 крепостей.
(обратно)84
Sender «Freies Berlin» (нем.) — западноберлинская радиостанция «Свободный Берлин».
(обратно)85
Телеочерк (англ.). Малькольм Икс — борец за права негритянского народа США, один из руководителей националистического движения «Черные мусульмане», убит в Нью-Йорке 21 февраля 1965 г.
(обратно)86
Ведомство Бланка — прообраз будущего военного министерства в ФРГ. Существовало до 1955 г.
(обратно)87
Гитлеровский генерал танковых войск.
(обратно)88
Кодовое название, которым германское командование обозначило план прорыва 6-й армии Паулюса из окружения под Сталинградом.
(обратно)89
Средняя Стоя (II–I вв. до н. э.) — один из периодов стоицизма, школы древнегреческой философии, в которой этика занимает ведущее место, опираясь на физику (натурфилософию) и логику.
(обратно)90
Речь идет о визите шаха Ирана в 1967 г. в Западный Берлин, вызвавшем мощные демонстрации протеста. 2 июня полицией был убит студент Бено Онезорг.
(обратно)91
Шрамм, Перси Эрнст (1894–1970) — западногерманский военный историк.
(обратно)92
Лиддль-Гарт, Бэзил Генри (1895–1970) — известный английский историк, писавший популярные книги о войне.
(обратно)



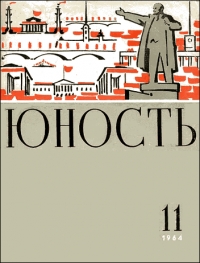

Комментарии к книге «Под местным наркозом», Гюнтер Грасс
Всего 0 комментариев