Мацей Патковский Скорпионы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Девятого августа 1945 года, через два дня после варварского уничтожения Хиросимы, американский самолет сбросил атомную бомбу на Нагасаки. Так был совершен еще один акт бессмысленной жестокости, в котором не было никакой военной необходимости.
В огне адского взрыва погибли 73 000 человек. Этого могло бы не произойти, если бы летчики, направляемые рукой Пентагона, задумались над тем, что и они будут в ответе за соучастие в новом массовом убийстве.
С тех пор мировую общественность волнует проблема личной ответственности «простого солдата», сидящего у пульта ракетной установки или за штурвалом атомного бомбардировщика, причем в последние годы эта проблема стала особенно острой. И это вполне понятно. В наше время, когда американский империализм готовит самое страшное преступление перед человечеством — мировую термоядерную войну, при теперешнем уровне развития военной техники даже любая случайность может быть чревата непоправимыми последствиями. Н.С. Хрущев предупреждал с трибуны XXII съезда КПСС: «Достаточно, чтобы сдали нервы у какого-либо военного типа, дежурящего где-то на Западе у «кнопки», и могут произойти события, которые навлекут немало бед на народы всего мира».
Вместе с передовым человечеством пристально следят за происками врагов мира литераторы многих стран. Сопоставляя антивоенные произведения, созданные в разные годы и разными авторами, мы видим, какие видоизменения претерпевает психология рядового исполнителя политики атомного шантажа. Американские летчики из рассказа Василия Гроссмана «Шестое августа» преспокойно рассуждают перед полетом на Хиросиму о том, что техника освобождает от моральной ответственности. Они убеждены, что отвечает не тот, кто стреляет.
Несколько иначе чувствуют себя пилоты американских атомных бомбардировщиков из повести «Скорпионы» молодого польского писателя Мацея Патковского, которая предлагается вниманию советского читателя.
Эти летчики уже не тешат себя, подобно «героям Хиросимы», иллюзиями безответственности. И даже не надеются на загробную жизнь. Майор Герберт — центральный персонаж книги — говорит об этом в кругу своих товарищей с горьким сарказмом: «Рай для нормальных людей, а мы возим «мандарины».
Время действия повести «Скорпионы» — наши дни, и персонажи ее, по вполне понятным причинам, «умудреннее», чем их коллеги в 1945 году. Между ними не только два города, сметенные с лица земли атомным смерчем, сотни тысяч убитых, сгоревших заживо и пораженных радиоактивным излучением. Они не могут не считаться с мировым общественным мнением, решительно осуждающим агрессивные планы американской военщины.
У атомных пилотов явно сдают нервы. Недаром участились аварии и случаи помешательства. С большой реалистической силой написан эпизод, в котором офицеры за стаканом рома подводят печальные итоги: сначала разбился Франк, потом Шредер не вернулся на базу, за ним Майковский упал в море. Ханке и Ленцер сгорели прямо на старте. Еще трое угодили в дом умалишенных. Кто-то вспоминает, как извлекали из самолета обезумевшего Портера: санитары выволакивали его за волосы и заталкивали ногами в карету. От одного этого зрелища можно было спятить.
Все хотят вырваться с базы, перейти в гражданскую авиацию, быть подальше от «мандаринов». Таковы заветные мечты и кадровых офицеров, и Герберта, выходца из Европы, человека в общем-то случайного в армии — бывшего авиаконструктора, попавшего в ловко расставленные сети Пентагона. Предысторию Герберта мы узнаем из его воспоминаний. Он охотно обращается к прошлому — своему единственному достоянию. Ведь у пилотов проклятой базы нет ни будущего, ни настоящего. Ими безнадежно утрачена связь с землей, ощущение которой всегда окрыляло летчиков.
Ярко, публицистически страстно изображает Мацей Патковский трагедию людей, прикованных к американской военной машине. Герберт, ненавидящий войну, которая отняла у него мать и отца, и мечтавший посвятить себя мирному творческому труду, чуть не становится виновником чудовищной катастрофы. Он осознает свою вину перед человечеством и проклинает тех, кто превратил его в атомного скорпиона.
Бунтующий, гневный молодой человек, эдакое капризное дитя атомной эпохи, стал сейчас модным персонажем буржуазной литературы. Но если «бунт» в сочинениях подавляющего большинства различных битников и «сердитых молодых людей» от литературы, собственно, безобидное абстрактное словоборчество, то протест Герберта психологически оправдан и придает повести «Скорпионы» социальную остроту. Гнев Мацея Патковского имеет вполне конкретный адрес. В этом одно из коренных отличий социалистического гуманизма от всякого рода псевдогуманных поделок Запада.
Интерес Мацея Патковского к антивоенной тематике не случаен. Дело тут не только в верности благородным традициям польской литературы, многие представители которой внесли ощутимый творческий вклад в борьбу за мир, но и в самой биографии писателя. Патковский принадлежит к тому поколению поляков, чье детство было растоптано гитлеровской оккупацией. В юности он видел зарево напалмовых пожаров, отраженное в глазах корейских сирот, нашедших убежище на польской земле. Наконец, древний Вроцлав, где живет писатель, все чаще упоминается в подстрекательских речах боннских реваншистов, этой основной ударной силы НАТО. Словом, у Мацея Патковского достаточно поводов ненавидеть войну!
Вот почему, будучи юристом по образованию, он избрал темой своей магистерской диссертации антиправовую сущность ядерной войны. Поэтому и первая повесть Мацея Патковского «Скорпионы» посвящена разоблачению провокационных полетов американских бомбардировщиков с оружием массового уничтожения на борту.
Кроме «Скорпионов», Патковским написаны еще две повести — «Гармоника» и «Юг», рассказывающие о жизни польской молодежи. Произведения его популярны и за пределами Народной Польши. Они переводились на русский, украинский, немецкий (ГДР) и итальянский языки. Сейчас молодой писатель работает над книгой о Советском Союзе, где он побывал дважды. Мацей Патковский принадлежит к тем литераторам, творческий принцип которых — верность актуальной, современной теме.
По сообщениям американской печати, недавно один из участников варварского уничтожения японских городов, майор Клод Изерли, заявил, что человек должен нести ответственность за свои поступки, а попытки прикрыться полученным приказом напоминают доводы Эйхмана. Признания реально существующего американского майора Изерли сродни тому, что пережил майор Герберт из повести «Скорпионы», осознавший свое преступление и вынесший себе приговор от имени народов всего мира.
М. Игнатов
I
Герберт допил вторую чашку кофе и отодвинул поднос. Потом достал из планшетки маленький конверт и визитную карточку.
«Приходи завтра вечером в «Новые астры», — написал он. — Обязательно. Это очень важно».
Подозвав кельнершу, он расплатился и вручил ей конверт.
— Передайте, пожалуйста, не позже завтрашнего утра.
— Не беспокойтесь, господин майор.
Он посмотрел вслед пухленькой кельнерше, перекинул планшетку через плечо и вышел из офицерской столовой.
Маленькая базарная площадь уже опустела, хотя только начинало смеркаться, Кельнеры в белых кителях вносили в бары плетеные кресла и свертывали маркизы. Из узкой улочки вынырнула машина и хлестнула пенистыми струями воды по остывающим камням мостовой. Грязные потоки смывали в водосточные канавы накопившуюся за день пыль. Дрожащие огни реклам танцевали над витринами магазинов. Даже они потеряли свою яркость под толстым слоем пыли, которая оседала на городок с нависшего над ним угрюмого каменного плоскогорья, изрезанного глубокими оврагами. Плоскогорье, дышащее зноем и гарью сожженных солнцем трав, оттеснило городок на самый край склона, подошва которого уходила в воду залива.
Автобуса еще не было, и Герберт пошел вниз, по разбитой мостовой, зажатой между каменными стенами серых зданий. Улочка террасами спускалась к берегу и скоро вывела его на деревянный мол.
На самом краю шаткого помоста дрожал огонек сигнального фонаря. На фоне залива он казался негасимым язычком лампадки перед алтарем в огромном темно-синем зале храма.
Герберт сел возле фонаря и стал смотреть на тающие во тьме очертания старых суденышек, которые ежедневно доставляли в город продукты, вино, минеральную воду. Над портом, точнее, над наспех сколоченной пристанью нависло замысловато расчлененное кольцо огней. Вверху, у маленькой базарной площади, желтые огоньки сплелись в бессмысленный рисунок. Это говорило о поспешном и небрежном строительстве.
Герберт глубоко вдохнул свежий, холодный воздух. Только здесь, у моря, можно было забыть о бесплодной холмистой пустыне, которая отрезала эту подлую дыру от нормального мира, населенного нормальными людьми.
Пожалуй, он выпил слишком много кофе. Врач разрешал четыре чашки в неделю. Для Герберта это было дневной нормой. Он сжал руку в кулак, потом разжал пальцы — они не дрожали. Проклятые пальцы — почему они и в кабинете врача никогда не дрожат?
Тишину порта нарушил рокот мотора. Как будто провели палкой по прутьям ограды.
Герберт возвращался на площадь, умиротворенный этим кратким мигом спокойствия и бездумной легкости. Да, бездумное мгновенье — далеко не последнее удовольствие в этих местах. Минуты, когда забываешь о четырех улочках, где на тротуарах валяются обрывки газет, смятые коробки от сигарет, разбитые винные бутылки, о четырех улочках, которые очерчивают границу здешнего мира. Его мир! Это звучит парадоксально: даже портье в отеле или повар в офицерской столовой знают, что, прежде чем погрузятся в сон первые окна городка, Герберт будет за тысячи километров отсюда… и, однако, четыре улочки, базарная площадь, отель — этот сущий клоповник, — офицерская столовая, террасы склона, покрытого известковой пылью, — это действительно границы его мира…
Сейчас он испытывал большое удовлетворение от того, что послал записку сегодня, не отложил до возвращения.
Возле офицерской столовой, выставив тупоносую мордочку, уже ждал неказистый маленький автобус. Но роскошные и удобные машины застряли бы здесь на первом же повороте узенького шоссе. В автобусе уже сидели офицеры. Герберт небрежным жестом приветствовал их.
— Где шофер?
— Какого черта мы тут торчим?
— Зовите его!
— Свинья. Они там с барменом тянут уже по пятой рюмке…
— Нам бы тоже не помешало пропустить по маленькой, а?
— Господа офицеры…
Великолепный ром — импортный, итальянский — на время разрядил обстановку. Затем общими усилиями офицеры извлекли шофера из бара, и вскоре автобус уже катил мимо светлых вилл, расположенных вдоль круто поднимающегося в гору шоссе.
Герберт безучастно смотрел в окно. Они проезжали как раз мимо погруженного в темноту фабричного здания. Его хозяин давно уже свернул свое дело и отправился в мир нормальных людей.
Точно так же встретили последние перемены в городке врачи, адвокаты, учителя, небольшая горсточка квалифицированных рабочих, — одним словом, все те, кто имел хоть немного денег и мог куда-нибудь выехать. На смену им в городок потянулись другие люди, выросли новые строения: госпиталь, пристань, почта, отель, ресторанчики и разные притоны, где из-под полы продавали спирт. Все обитатели городка приспособились к новой функции: обслуживать чертову базу, построенную в нескольких километрах отсюда в каменистой пустыне, среди лишенных растительности, лысых холмов. Конечно, за исключением тех, у кого сдали нервы. Эти бежали в мир нормальных людей.
Автобус давил желтые прямоугольники света, падавшего на шоссе из широких окон госпиталя. За этими окнами ждала Доротти. Сегодня она дежурит. Завтра у нее будет свободный день, и вечером она придет в «Новые астры».
«Хорошо я придумал с запиской. Не к чему было откладывать до завтра. Эта толстуха кельнерша может уже через час-другой отнести записку, и когда Доротти вернется домой, то ее получит».
Шоссе опять как бы нависло над огнями города, и Герберт увидел внизу миниатюрную картину: базарная площадь, улочки, сползающие к порту, дрожащий огонек на краю мола и дальше — неподвижно-матовая гладь залива.
Шофер вцепился в баранку, как хищник в жертву. Машину резко бросило в сторону, и она взяла новый подъем. Склон кончился. Ручеек асфальта запетлял по каменистому плоскогорью.
— Закуришь, Герберт?
— Нет… Мне сегодня лететь.
— Знаю. Зачем бы тогда ехать на базу? Уж не везешь ли ты в кармане рапорт, а? Слышишь, майор? А не подать ли тебе и в самом деле рапорт? Напишешь: расшатанная нервная система. Такие рапорты действуют безотказно — не позже чем через две недели уедешь на старой посудине, которая возит жратву! Нет, ты подумай — всего две недели, и ты в нормальном мире!
— Заткнись, черт возьми!
— Ладно… только нечего злиться. Сам подписал свинский контракт, так не о чем и говорить.
— Почему свинский?
— Потому что нужно иметь свинячьи мозги и свинячью смекалку, чтобы позволить себя сюда загнать.
— Заткнешься ты наконец или нет?!
— Да я так. Просто надоело таращить глаза, как рыба, на эти мертвые камни.
— Пошел ты со своими камнями! — рассвирепел Герберт. Болтовня капитана раздражала его, хотя он знал, что оба они мучаются одинаково и не стоит друг друга оскорблять. — Все равно я выберусь отсюда раньше, чем ты.
— Ну чего ты кипятишься? Мы все хотим, чтобы ты скорее получил ответ.
В сторону собеседников повернулось несколько человек; на их лицах изобразилось вялое оживление.
— Ну, как твой рапорт?
Герберт выругался. Кто-то сказал:
— Вот именно. Каждому хотелось бы перевестись на гражданские линии.
— А я не только хочу, но и переведусь.
— Дай бог.
— Вот увидите.
— Дай, бог, дай бог.
— Увидите. Когда я выпиваю слишком много кофе, у меня дрожат руки — верный признак, что я выберусь из этой дыры.
Воцарилось молчание. Наверное, каждый думал в этот момент о том, куда выбираются из этой дыры, когда начинают дрожать руки. В одну прекрасную ночь человека увозит карета — и прощай мечты! Потом уже только госпиталь да кругом глухая каменная стена, утыканная битым стеклом.
— Герберт?
— Ну?
— Не говори больше так.
— Почему?
— Ты же знаешь. В этом городишке все решают сплетни. Узнают в комендатуре, о чем ты трепался в автобусе, и тебе крышка.
— Оставь ты эти сплетни. Говорю просто, чтобы говорить что-нибудь, но я все равно отсюда выберусь. Вот увидите.
— Дай бог.
Автобус тряхнуло на выбоине, и он осел, чуть подавшись назад.
— Эй, шеф, рессора!
Шофер затормозил и вышел осмотреть машину. В открытую дверь ворвался запах, тяжелый запах длинных, колючих, засохших трав. Днем все здесь обугливалось от испепеляющего зноя, а к вечеру чадило — удушливо, как нераздавленный окурок. Запах, проникший в машину, шел от распрямляющихся на вечерней прохладе длинных стеблей бурьяна, который нескончаемыми зарослями покрывал северные склоны холмистого плоскогорья.
Вместе с запахом трав в машину проникли далекие еще и потому приглушенные и искаженные отзвуки базы. Через четверть часа автобус будет на месте, но отсюда еще нельзя было разглядеть даже лучей прожекторов, хотя их фиолетовые клинки уже сносили головы первым звездам. Низко, у самого горизонта, тлел пурпур заката… А может быть, это горела степь?
Шофер снова уселся за руль, и автобус рванулся с места.
На задних сиденьях трясло, офицеры проклинали шофера и рессору и перебирались на передние места.
От выхлопных газов в автобусе висел какой-то тошнотворно кислый запах. Невыносимо резало глаза. Герберт протер свои темные очки.
— Эй, шеф! — крикнул он. — Если вы все время собираетесь так смердеть, то я по вашей милости глаз лишусь!
— А меня это не касается. Я обязан вас доставить на место даже с поломанной рессорой. А про глаза у меня приказа не было!
— Тебе ясно? — вмешался в перебранку капитан. — Вот наш городишко, вот принцип нашего вонючего существования. Здесь все, как роботы, делают только то, за что им платят. Больше их ничего не касается. Шофера не интересуют твои глаза, а тебя не интересует ничего, кроме гражданских линий, которыми ты бредишь. И знаешь почему? Не знаешь? Так я тебе скажу. Потому и именно потому, что на этот паршивый клочок земли всем наплевать в нормальном мире. Даже когда там грузят на старую посудину ром, сало или капусту, там думают о капусте, которая должна быть доставлена на место, а не о людях, которые будут ее есть.
— Ты еще долго собираешься болтать, капитан?
— Долго. Всему виной эти часы радиоприема — сидишь молча и ожидаешь человеческого голоса, преобразованного в точки и тире. С ума сойти от этого можно. Клянусь тебе.
— Знаю, черт возьми, и не только от этого.
— Прости, — пробормотал капитан. — Я, конечно, понимаю, что тебе тяжелее всех, майор. Ты видел последнюю картину?
— Я в кино не хожу. Оно меня раздражает.
— Жаль. Чудесный фильм, а что за ножки…
— Ну, хватит, наконец, болтать. Эй, шеф, неужели нельзя без этой вони? Вы совершенно не умеете водить машину!
— Ну чего вы привязались? Везу так, как мне нравится. Мне платят за то, чтобы я вас доставил на место. И главное — не опоздать, а как я вас везу — это уж мое дело. А если вы не заткнетесь, я так завоняю, что врач запретит вам сегодня лететь.
— Как вы со мной разговариваете?!
— Господа, — вмешался кто-то, — ну к чему эти ссоры? Майор, этот автобус всегда чертовски смердел, вас это до сих пор почему-то не раздражало.
— Простите, — смущенно сказал Герберт. — Все из-за этой рыжей пустыни.
Никто не понял, что он имел в виду, но переспрашивать никому не хотелось.
Герберт задумался. «А может быть, из-за записки, посланной через кельнершу, или из-за той минуты отдыха на молу, или виноваты травы, вернее, запах гари, ворвавшийся в дверь автобуса?» И вдруг мелькнула мысль: «Это кофе. Слишком много кофе. Оно возбуждает». Он подумал, что вел себя глупо, но, в сущности, все это было ему глубоко безразлично. «Не в первый раз, в конце концов, я еду по этой рыжей пустыне при свете заката и придираюсь ко всякой чепухе».
Он протер платком очки, подышал на них, крохотные капельки испарины покрыли стекла.
Автобус слегка потряхивало на потрескавшемся от зноя асфальте. Дрожали сиденья, дрожали стекла, даже голоса разговаривающих дрожали. Впереди у обочины показались кусты. Здесь все растения начинали свой рост буйно, их стебли, как в броню, одевались в грубую кожицу, но вскоре они никли от жажды и, истлевая, падали на землю. Люди перепахивали землю и сажали новые кустики. Мудрая забава!
Заросли напомнили, что база рядом.
Шофер затормозил так резко, что тормоза заскрипели.
— Бездарный тип, — пробормотал Герберт и сам удивился тому, что его снова подмывает к ссоре. Где-то впереди замигал огонек. Автобус съехал на обочину шоссе, мотор замолчал.
Солдат в шлеме, надвинутом по самые брови, заглянул в машину. Увидев знакомые лица, он захлопнул дверцу. Герберт услышал лязг упавшей цепи, в следующее мгновение колеса автобуса прижали ее к асфальту.
Часовой осветил машину сзади и снова натянул цепь.
II
Один за другим они спустились с подножки на бетонные плиты и беспорядочной группой направились к убежищу.
Снаружи оно напоминало длинный вал вспученной земли, покрытой чахлой растительностью. Совсем как картофелехранилище гигантских размеров.
Бетонные ступени вели в командный пункт. Служебные и подсобные помещения, штабные кабинеты, холлы, клубы, салоны — все здесь было оборудовано скромно, удобно и изящно, работающие тут люди не ощущали, что они живут в огромной кротовой норе.
Шарообразные светильники напоминали о знойном юге, но воздух под землей был прохладным. Здесь всегда было одинаково прохладно — и в июльский день, и в декабрьскую ночь, даже когда пустынное плоскогорье покрывалось узорным инеем.
Герберт простился с капитаном и направился в лазарет.
— Добрый вечер, доктор.
— Здравствуйте. У вас сегодня ночной полет? Прошу.
— Не стоит, доктор.
— Мне за это платят. Снимите, пожалуйста, рубашку.
— К сожалению, я совершенно здоров.
— Ничего, мы только проверим пульсик, давление и все. Дайте-ка руку. Что вы видите там на стене?
— Ничего интересного. Полка, плакат, немного грязи.
— Почувствовали что-нибудь?
— Укол.
— Точнее.
— Два легких укола — один за другим.
— Можете лететь. Сейчас запишем в книжечку.
Когда Герберт уже открыл дверь, врач спросил:
— Вы не волнуетесь, майор?
— С какой стати мне волноваться?
— Нет, нет, ничего. — Врач задумчиво покачал лысеющей головой.
Герберт подумал, что врач что-то скрывает от него. Но он не любил этого старого фанатика-покериста и, ни о чем не спросив, вышел из кабинета.
Он доложил о своем прибытии офицеру-диспетчеру, тот приказал ему одеваться к полету.
Оставалось немного свободного времени, и Герберт заглянул в клуб.
— Добрый вечер, господа.
Никто не отозвался. Герберт расположился поудобнее в неглубоком кресле. Молчание продолжалось. Тогда он громко выругался и сказал:
— Два месяца такая отличная погода, что все внутри переворачивается. Ну хоть бы раз отложили мой полет из-за погоды.
Но и тут никто не отозвался. Это стало удивлять его.
— Вы что? Мумии?
— Вы ничего не знаете? — спросил молоденький щуплый лейтенантик, казавшийся мальчишкой среди атлетически сложенных офицеров.
— Что случилось?
— Ленцер!
Герберт понял. Он уставился на блестящие носки своих ботинок, оперся ладонями в колени. Сам не зная зачем, спросил:
— Как?
— Разве в городе ничего не знают?
— Нет. Я прямо из столовой.
— Странно, что в городе еще не знают.
— Как это было?
— Очень глупо, — заговорил лейтенант. — Он взлетал при боковом ветре. Поднялся на несколько десятков метров и попал в чудовищную «яму». Я сам видел, как он плюхнулся на взлетную дорожку. С неба будто что-то соскользнуло. И сгорело в несколько секунд. В детстве я видел такие пожары, я вырос в деревне. Идешь, бывало, из лесу или с реки, тащишь банку, удочки, пустую сетку и вдруг — гриб дыма вылезает из-за деревьев и расходится над домами. Бежишь, задыхаясь, и всегда уже поздно — ни дома, ни огня, только толстая баба воет, вся измазанная даже не черной, а темно-синей сажей, да парень обтесывает уцелевшие тлеющие бревна. Ленцер еще быстрее горел. Всего несколько секунд.
— Глупая история, — сказал Герберт.
— Невероятно глупая, — подтвердил капитан, высокий полнеющий брюнет.
Лейтенант снова затараторил пискливым тенорком:
— А я как раз с Ленцером договорился. Он обещал пойти со мной завтра к нотариусу. Как свидетель. Мне надо оформить один важный документ. Теперь я уже не смогу этого сделать завтра. Скотская жизнь.
— И кончают здесь не лучше, — снова загудел капитан.
Теперь уже все беспорядочно заговорили:
— Пятый экипаж в этом году.
— Уже пятый?
— Вот именно, пятый. Сначала разбился Франк, потом Шредер не вернулся на базу, за ним Майковский где-то над морем закашлялся на смерть. Ханке — прямо на взлетной дорожке, и вот сегодня — Ленцер.
— Вы забыли, господа, еще о трех офицерах.
— Разве?
— Ну, конечно. Портер, Бланш, Карст. Эти уже совсем глупо кончили.
— Теперь они грызут утыканную стеклом стену.
— Помните, как Портера санитары выволакивали из машины?
— Ну и здоровый же был парень. Одного санитара отделал так, что тот сразу помчался на перевязку.
— Его втискивали в карету, как ошалелого петуха. Я думал, что сам ошалею, когда санитары тянули его за волосы и заталкивали ногами в карету. Все это время надрывалась сирена, чтобы заглушить вопли Портера.
— Пять экипажей — это, пожалуй, многовато. Вам не кажется? Учтите, до нового года еще далеко.
— Ленцер сегодня глупо кончил.
— Ему повезло… Теперь он уже предстал пред Христовы очи.
— Пред дерьмовы очи он предстал! — взорвался Герберт.
Собеседники с любопытством посмотрели на него. Все время, пока он сумбурно и торопливо, не договаривая слов, бросал фразу за фразой, в клубе стояла тишина, нарушаемая лишь треском помигивающей люминесцентной лампы. Только один раз щелкнула чья-то зажигалка, и дым окутал сидящих фиолетовыми петлями.
— О каком Христе речь? Он появляется всего два раза в году, и то в нормальном мире. На рождество и на пасху. Правда, каждый раз перед пасхой его оплакивают во время поста, но он все равно живет, потому что о нем помнят. Потому что благодаря ему люди имеют отпуска, хорошую жратву на столе и хотя бы пару дней без семейных скандалов. Если бы бога не было, у людей не было бы праздничных отпусков. Но в этой дыре, на краю плоскогорья, среди этих известковых холмов? Нет, я лично предпочел бы не видеть неба. Самый ничтожный, замшелый клерк и тот из кожи вон лезет, чтобы после смерти сделать посадку на небе. И знаете почему? Ему осточертела его улица, дом, толстая жена, распутная дочка, болтовня соседа, лай пса во дворе и вечные ссоры с почтальоном, которому неохота тащиться на пятый этаж. Поэтому его рахитичные мозги вздыхают о небе. Но мы, мы, господа офицеры, мы же не жалуемся на однообразие? Еще бы! В небе каждый блудный пастырь, которому господь бог на смертном одре простил грехи онанизма, будет тыкать в нас пальцем и опять бубнить проповеди. Не нужно мне памятника — ни при жизни, ни после смерти. Меня раздражают эти пальцы, указующие на меня всему остальному райскому сброду. Никто из нас не думает о смерти, а если бы пришлось задуматься, я бы лично не мог не вспомнить эти пальцы, направленные на меня, как дула пистолетов. Я не хочу, чтоб меня расстреливали каждый день. Даже фашисты и те расстреливают только один раз, а потом засыпают землей. Рай — для нормальных людей, а мы возим «мандарины»… Hallo, Fräulein! — крикнул он кельнерше-немке. — Zwei Rum, bitte![1]
Все офицеры внимательно изучали носки своих ботинок. Один только майор, уже пожилой человек, поддакнул:
— Герберт прав. Я тоже не помню, чтобы в священном писании что-нибудь говорилось о спасении таких душ, как наши.
— Однако, майор, — возразил капитан, — Христа забросали камнями за спасение и наших душ.
— Вы ошибаетесь, капитан. Христос кончил на кресте, и вовсе не за нас. Попросту господь бог просчитался. Вы играете в шахматы, капитан?
— При чем тут шахматы?
— Сейчас объясню. Вы, конечно, знаете, что такое жертва в шахматах? Вы отдаете фигуру, рассчитывая на выигрышную позицию. Потом вы убеждаетесь, что просчитались. Господь бог не умел играть в шахматы. Вот оттого все и получилось. На кресте прикончили человека — одного, заметьте, — а две тысячи лет спустя мы возим «мандарины»! Какого же черта его распяли?
Кто-то возразил:
— А хотя бы затем, чтобы мир мог дождаться двадцатого века, пусть мы и возим «мандарины». — Последние слова говоривший произнес с ударением.
— Да не в этом дело. «Мандарины» мы возим недавно, а твой двадцатый век и без того гроша ломаного не стоит… И вряд ли Христос вернется на землю.
— А зачем? Теперь ведь не распинают. Сегодня его раздавил бы на шоссе какой-нибудь подвыпивший молокосос или он умер бы в больнице от рака. Студенты вскрыли бы труп — и все. А если бы он отважился назваться Христом, его заткнули бы туда же, куда засадили Портера, Бланша и Карста.
— А я вам говорю, что это все оттого, что господь бог не умел играть в шахматы!
— Идите вы к черту со своими шахматами!
— А вы со своим Христом! Я им сыт по горло! Все это просто глупая болтовня, а Ленцер погиб на самом деле.
Застекленная дверь тихо скрипнула, и офицеры повернули головы.
Вошедший майор крикнул:
— Кому сегодня лететь?
— Мне, — ответил Герберт.
— Скажите, что у вас расходились нервы. Идиотский день!
— Что случилось? — спросил кто-то, и офицеры, как по команде, поднялись с кресел.
Майор объяснил:
— Хайфе кружит над аэродромом. Тройка у него кашляет. Сейчас будет садиться. Я лопну от смеха, если его угораздит шмякнуться на ту кучу мусора, которая осталась от Ленцера.
Не говоря ни слова, все бросились из комнаты и взбежали по каменной лестнице наверх.
Была уже ночь, терпкая, холодная, бесконечная и в то же время мертвая, как вода залива, подмывающего склон. Она казалась еще темнее, потому что была рассечена светящимися клинками прожекторов. Один из них наносил косые удары по звездам, и они тут же гасли, а другой настойчиво искал что-то в зените, будто силился найти там сокровенную правду небесных глубин.
Тянул ровный ветер. Он нес с собой горький запах сожженных трав с остывающего плоскогорья. Издалека донеслись гортанные крики ночных птиц. Днем, слепые, они укрывались от смертельного зноя, а ночью, прозревшие и голодные, вылетали на промысел. Герберт бросил в небо ненавидящий взгляд. Ему хотелось увидеть темные громады облаков, которые не появлялись уже много дней.
Низко над землей он заметил два огонька — один возле другого. Красный и зеленый. Они неслись быстро, свободно, плавно. «Хайфе садится с кашляющей тройкой», — подумал он. Огоньки опишут круг над аэродромом, уйдут к горизонту, чтобы потом еще ниже прижаться к земле. Потом они прильнут к бетонной полосе, сейчас она сверкает, совсем как лунная дорожка на воде.
Но цветные огоньки не обежали аэродром. «Видимо, горючее кончается, — подумал Герберт. — Сейчас он выключит двигатели и будет садиться».
Все вглядывались в след, прочерчиваемый огоньками машины. Она скользила теперь над горбатыми холмами, над кустарником, над стеной, окружающей базу. Хайфе шел против ветра, поэтому звуки относило назад. Свист машины не был слышен.
«Если двигатель сейчас закашляет, машину собьет с курса, и ему придется рвануть вверх. Но вряд ли он сможет это сделать. Не думаю, чтобы эту беспомощно падающую массу можно было рвануть. Но ветер небольшой, по крайней мере здесь, внизу. Тянет равномерно, лучшего и желать нельзя».
Теперь уже можно было видеть, что огоньки прильнули к серебристо-стальной поверхности бетонной реки.
Еще несколько сот метров, и Хайфе выбросит парашют. Тогда уже никакая сила не стянет его с бетонной полосы на изрезанный грунт, покрытый мягкой и мелкой травой. В нем машины, зарываясь по самые оси, вспахивали глубокие борозды. В этих случаях самолет неизбежно переворачивало вверх колесами.
Хайфе выпустил парашют, который тянулся теперь за машиной, совсем как издевательски привязанная сзади тряпка. Он сбивал скорость, сметая с бетонной полосы занесенные ветром стебли трав.
У входа в командный пункт заворчал джип и рванулся в темноту.
— Поехали за Хайфе. Представление окончено.
Герберт попрощался со всеми и направился к другому входу. Ему, однако, пришлось еще раз остановиться. С посадочной полосы длинной вереницей возвращались пожарные и санитарные машины. На сей раз они не понадобились. «Хайфе сидит на бетоне, снимает, наверно, свой блестящий шлем, отирает пот с лица и вдыхает холодный воздух нормального давления».
В эту минуту сзади раздались поспешные шаги и голос молодого лейтенанта:
— Господин майор!
— Ну?
— Не согласились бы вы пойти завтра со мной к нотариусу? Ленцер обещал, но вы же видели, что он натворил. Дело спешное, а тут такое невезенье!
Мысли Герберта все еще были с Хайфе, поэтому он не отозвался. Лейтенант истолковал это по-своему.
— Ох, прошу прощения. Я только сейчас сообразил. Я забыл, что у вас ночной полет.
— Что такое? — Герберт понял и возмутился. — Зелены вы еще соображать! — Потом внимательно посмотрел на смущенного лейтенанта. — Хорошо, завтра я пойду с вами к нотариусу. Позвоните мне. — И не дожидаясь выражений признательности маленького лейтенанта, он пошел прочь.
«Почему я терпеть не могу этого клопа? Такой же офицер, как все мы, и так же не известно, когда ему будет конец, как и всем нам».
По лестнице, как колодец уходившей вниз, он снова спустился в убежище, миновал часовых и толкнул раздвижные двери раздевалки. Молча обменялся рукопожатиями с членами экипажа.
Второй пилот, старший сержант Раф, подал ему комбинезон, затем помог натянуть высотный костюм. Герберт тщательно зашнуровался.
— Вы уже слышали, что сегодня натворил Ленцер? — спросил Раф.
— Да.
— Счастье еще, что у него не было «мандарина».
— Ему-то теперь уже все равно, а для нас было бы лучше, если б он был.
— Что вы!
— Тогда базу закрыли бы по меньшей мере на неделю, и я бы съездил в нормальный мир посмотреть на нормальных людей.
— Да, может, вы и правы.
Герберт повернулся к радисту.
— Пожалуйста, захватите мой шлем в машину.
Он застегнул замки-молнии на штанинах и подтянул ремешки на ботинках. Сколько бы раз он ни надевал этот костюм, он всегда казался себе камерой, вложенной в автомобильную шину. Его смешило, что, садясь, он не ощущал кресла. Летчики, выпив рома после благополучной посадки, тузили друг друга по толстым задам, хохотали до колик и орали: «Ни черта не чувствую, двинь-ка посильнее!»
Из коридора донесся голос:
— Майор Герберт!
Чье-то анемичное лицо заглянуло в дверь.
— Майор Герберт?
— Да.
— Вас вызывает комендант.
— Какого черта?
— Не могу знать. Велел вызвать майора Герберта.
Наконец Герберт справился со своим обмундированием и заковылял за вестовым.
Они прошли длинным коридором с многочисленными поворотами и спустились этажом ниже. Высотный костюм затруднял движения. Встречные оглядывались на Герберта, хотя все штабисты отлично знали людей в резиновой броне.
Герберт стал гадать, зачем его могли вызывать в комендатуру. Он перебирал в уме все служебные поручения последних недель, поданные рапорты, даже частные разговоры. Городишко сплетен и болезненно настороженных штабистов. Здесь каждое слово могло стать предметом серьезного внимания и нескончаемых домыслов руководства базы. «Слишком много я болтаю в последнее время, и ко мне стали хуже относиться. Стал грубым, раздражаюсь из-за всякого пустяка и слишком много пью кофе. Все из-за кофе. И из-за этой рыжей пустыни! Чтоб ее солнце совсем сожгло!»
Он знал, что напрасно копается в памяти. Все равно он будет продолжать болтать то, что не нужно, возмущаться по пустякам и исходить злобой. «А ведь именно теперь, — подумал он, — я должен быть спокойным. Именно теперь, когда я послал записку и окончательно решился…»
Комендант кивнул на кресло.
Это был длинный, тощий, как щепка, человек в чине полковника. На удивление подчиненным, он ни за что не хотел расстаться с пышными, мягкими, вечно нерасчесанными поседевшими усами. Лысый череп он оберегал от солнца, и поэтому кожа у него на голове была такой же белой, как усы.
— Прошу, майор.
Герберт доложил и стал устраиваться в кресле. У него было такое ощущение, будто он повис в воздухе над креслом. Воздушные полости в костюме отделяли его от сидения.
— Полет?
— Как видите.
— Огорчил вас Ленцер?
— Я над этим не задумывался.
— Я был в штабе… — начал комендант.
Герберт подался к столу. Он ожидал известия с гораздо большим нетерпением, чем офицеры, подавшие рапорт об отпуске.
— Я говорил о вашей просьбе.
— И…
— Обещали, что рассмотрят в ближайшее время.
— Только и всего?
— Обещали.
— Немного. Если вы помните, господин полковник, несколько месяцев назад они сказали абсолютно то же самое.
— Припоминаю. Действительно. Тогда мне сказали то же самое. Что же делать, майор!
— Не знаю. Не хочу знать. Я больше не могу.
— Насчет этого лучше помалкивайте. Этим вы можете серьезно навредить себе.
— Хорошо, я буду молчать, хотя мне чертовски хочется выругаться.
— И все же подумайте, ведь вы получаете уйму денег. О таком доходе мечтает не один мелкий хозяйчик во Франции или в Италии. Вам не так уж плохо живется. Разве что работа немного нервная.
— Вы это довольно мягко определили, господин полковник. Но привлекать внимание к себе я не буду, А деньги — это ерунда. Сейчас меня интересуют гражданские линии и больше, пожалуй, ничего.
— Я еще имел неофициальный разговор с одним человеком. Есть некоторые шансы, что вас переведут на гражданские линии.
Герберт вышел из комендатуры окрыленный надеждой. Правда, рапорт его лежал в штабе уже несколько месяцев. «Но если меня все-таки отпустят, не жаль потерянного времени». Внезапно им овладело странное, злорадное чувство. Он с радостью поиздевался бы над всей компанией из офицерской столовой. Ему всегда казалось, что он среди этих людей — чужой человек, попавший в этот городок по ошибке. И вот теперь он покидает вонючую базарную площадь, пыльное плоскогорье с обожженной травой, аэродром, откуда время от времени увозят гробы с прахом товарищей. Иногда только воспоминания и знаки отличий. А чаще всего только знаки отличий. Прах брали просто из кучи пепла, которая оставалась от разбившейся машины. Щепотки настоящего праха от кого-нибудь из членов экипажа нельзя было бы сыскать и под микроскопом.
Герберт направился в диспетчерскую.
И вдруг перед его глазами возник огромный вокзал Термини в Риме. Вот он выходит из экспресса. Носильщик тащит чемоданы. Герберт садится в такси и едет через Корсо на Монте-Марио. Потом, опершись на балюстраду бульвара, он ожидает захода солнца. Стаями проносятся автомобили. Маленькие юркие фиаты с курносыми носами. Толпы женщин и молодых людей заполняют бульвар, бары; на белых скамейках под деревьями рассаживаются старички. Туристы стрекочут кинокамерами и показывают друг другу на забитую машинами узкую улочку, которая замыкается Иглой Клеопатры. А когда стемнеет, фонари зальют янтарным светом площадь перед собором святого Петра, взметнутся фонтаны реклам, справа замигает глазок телевизионной вышки.
Когда он будет спускаться с Монте-Марио по крутой узенькой улочке, в неосвещенных автомобилях будут целоваться влюбленные парочки.
Потом он возьмет билет до Базеля, а оттуда отправится в Вену. Выпьет кофе в подвальчике возле оперы. Накупит безделушек у знакомого продавца сувениров. До изнеможения будет фланировать по Кертнерштрассе в штатском костюме.
Он объездит, наверно, всю Европу, где живут в общем-то нормальные люди.
Может быть, это поможет ему хоть на миг забыть известковое плоскогорье, городок среди камней, кислый запах обугленных кустов вокруг базы.
III
Когда Герберт вернулся из комендатуры, в диспетчерской, кроме старшего офицера-диспетчера, находилось четверо: его второй пилот Раф и экипаж, которому предстояло лететь на несколько часов позже Герберта. Офицер-диспетчер уже знал от Рафа, куда был вызван первый пилот, и все ожидали возвращения Герберта.
Герберт доложил о причине опоздания и уселся за маленьким столиком. Из служебного блокнота он вынул автоматический карандаш. Вдруг все встали, не ожидая команды. Герберт машинально сделал то же самое.
Офицер зачитал наименование, номер и дату приказа. Когда летчики снова сели, он начал монотонно, но добросовестно выговаривать каждое слово текста, лежавшего перед ним на пюпитре.
И летчики и офицер великолепно знали весь приказ наизусть, все его пункты, лаконично определяющие действие экипажей. Ведь менялись только даты, фамилии и часы старта. Но офицер-диспетчер был обязан зачитывать приказы. Вот почему он читал их так, как сектанты — библию. Он ни разу не заглянул в текст. Он отлично знал, что летчики все равно не слушают. Если б предстояло сообщить о каких-нибудь изменениях в приказе, ему пришлось бы сначала предупредить об этом.
Слова трещали в ушах Герберта. Он не вникал в их смысл. Он все еще размышлял о недавнем разговоре, вспоминал компанию, собравшуюся в клубе. И Ленцера, который никогда уже больше не выпьет рома. Вспомнил перебранку с шофером и глупую болтовню капитана. Неужели это было сегодня, а не месяц назад? Может быть, этого вообще не было? Может быть, кто-то рассказал Герберту всю эту историю о городке, пустыне, рессоре, вони и Ленцере?
Он взглянул на свои руки. Из рукавов прорезиненной формы высовывались две человеческие руки, чуть загорелые, узкие, с длинными пальцами. Он перевел взгляд на сидевших рядом людей.
«Обезьянья забава», — подумал он. Люди в коричневой форме, изображающие на лице внимание, напоминали волосатых обезьян. А одна обезьяна, зеленая, что-то бубнила с кафедры, забавлялась бамбуковой палочкой, водя ею по карте, растянутой через всю стену. Карта, да и приказ нужны были всем как собаке пятая нога. Они и без того все знали. Летали по радио, радару и часам. Картой никто не пользовался. Для Герберта карта почти ничего не значила. Только цифры и еще раз цифры. Те, что на приборах, должны совпадать с теми, что в памяти. Тогда все в порядке. И его вовсе не интересовало, куда он летит. Он привык измерять расстояние часами, а не милями или километрами. Ему хотелось бы только не знать, что он возит на борту своей машины.
Офицер подчеркнул:
— Подписано.
И снова все встали, не ожидая команды. Зеленая обезьяна сложила бумаги, а волосатые двинулись к выходу.
На улице заметно похолодало. Герберт, не читая, сунул метеосводку в планшетку. И вчера и неделю назад метеосводки были совершенно одинаковы. А ему хотелось густого тумана или бури, чтобы оживились воды залива, а на базе замерла жизнь.
Он уселся рядом с Рафом в открытом джипе. Шофер дал газ, и они помчались по асфальтовой ленте к огромным коробкам ангаров. Их остановил красный огонек. Вспыхнул и погас.
— Кто в машине? — услыхали они.
— Экипаж! — крикнул шофер.
— Обождать! — приказал тот же голос.
Раф достал портсигар и зажигалку. Предложил Герберту.
— Не хочется.
Раф закурил, пряча огонек в ладонях, чтобы часовые не заметили.
— Еще не подготовили.
— Копаются сегодня, — ответил Герберт.
— Эй, там!
— Что такое?
— Немедленно погасить сигарету!
Раф придавил розовый огонек ботинком.
— Заметили, сволочи!
Герберт не ответил. Он вышел из джипа. На ощупь поискал ногой асфальт — машина съехала на траву. Он шел почти вслепую — после яркого света командного пункта он не ориентировался в ночном мраке, а снимать темные очки раньше времени не хотелось. Раф тоже выпрыгнул из машины, шофер отъехал. Казалось, что оба они остались ночью одни на этом холмистом плоскогорье, покрытом редкой чахлой травой. Где-то очень далеко ворчал измученный автомобиль. Блеклое желтое зарево стояло в стороне городка. Ночь над ними была наполнена терпкими запахами.
— Господин майор?
— Ну…
— Знаете что? Предстоит выпивка.
— Разумеется, на поминках Ленцера.
— На поминках само собой. Я имел в виду совсем другое.
— Что?
— Я сегодня отвез жену в больницу.
— Уже подошел срок?
— Может, родит сегодня ночью.
— Как время-то бежит…
— Я думал попросить отпуск. Но нет смысла. Ей я все равно не помогу…
— Это верно. Возьмешь отпуск, когда она выйдет из больницы.
Помолчали. Потом Раф громко крикнул в темноту громоздившейся над ними ночи:
— Эй, вы там!
— Чего?
— Долго еще?
— Сейчас.
— Что за идиотство, — проворчал Герберт. — Когда грузят, так нас даже не подпускают, а ведь потом, наверху, груз все равно в наших руках. Мы там хозяева.
— Э, господин майор. Летим-то мы по приказу.
— Ну да, конечно. Это я так, к слову сказал. И груз берем с собой по приказу.
— Не стоит много рассуждать об этом, господин майор.
— А я и не рассуждаю. В конце концов, тут все болтают черт знает что. Кто будет слушать всякую болтовню?
— Портер, Карст и Бланш свихнулись из-за этой болтовни, — продолжал Раф.
— Но мы ведь еще летаем.
— Что правда, то правда, пока летаем. Так не забудете про выпивку, господин майор?
— Ну, конечно, Раф. И брось ты наконец это «господин». Я столько раз тебе об этом говорил. Как можно? Я тебе — «Раф», а ты мне — «господин майор».
— Хорошо, господин майор.
— Эй, вы! — опять раздался окрик.
— Ну!
— Экипаж на борт!
Луч фонаря долго тыкался им в лица. В конце концов часовой опознал летчиков. Молча пропустил их. Герберт нащупал поручни трапа. Поднимаясь, он все время боялся упасть — костюм сковывал движения.
За спиной он слышал шаги Рафа и кого-то третьего. Наверно, радист ждал где-то неподалеку. Может быть, он даже слышал весь разговор.
Внутри самолета была кромешная тьма. Он не стал включать свет. Здесь даже в полной темноте он двигался совершенно уверенно. Здесь он не мог споткнуться, заблудиться или удариться головой. Он толкнул дверцу люка, ведущего в кабину. Сел в свое кресло. Только теперь снял темные очки.
— Где мой шлем?
— Пожалуйста, господин майор, — ответил радист.
Герберт задвинул светофильтр шлема, потом надел шлем, подключил микрофон, приладил наушники и опустил прозрачный щиток на лицо.
— Закрепи, — попросил он Рафа.
Затем он помог Рафу справиться с его шлемом. Оба одновременно щелкнули замками привязных ремней и приняли то самое полулежачее положение, которое так смешило летчиков почтенных винтовых машин.
— Ну как?
— В порядке.
Герберт проверил показания приборов. Потом взглянул через боковое стекло на взлетную дорожку. Сигнальный фонарь равномерно мигал, его бледный луч блуждал в глубине машины, скользил по стеклам, облизывал приборы. Герберт подал знак. В тусклом свете скачущего огонька он разглядел чью-то руку с поднятым пальцем.
— Давай первый, — сказал он.
Двигатель взревел и вскоре ритмично затрещал короткими выстрелами.
Поднятая рука человека на бетонной полосе показывала теперь три пальца.
— Включаем тройку.
Все шло хорошо. Фонарь мигнул, на этот раз значительно дальше. Герберт запросил разрешение выруливать на старт. Он добавил двигателям газа. Отпустил тормоза. Где-то за машиной сверкнул, как огромный алмаз, прожектор. Река белого света потекла по синеватому бетону. Герберт рванул машину в этот огненный туннель, она грузно и беспомощно осела своими тремя колесами на бетон. Фонарь мигал зеленым глазком все дальше и дальше. Промелькнули массивные силуэты дегазационных, пожарных и санитарных машин. Они двигались вдоль бетонной полосы, готовые при малейшей опасности залить самолет сотнями кубометров пены.
Герберт знал — хоть звуки и не проникали в машину, — что на крыше командного пункта заревела сирена. Сигнал тревоги. Офицеры, техники — весь персонал спускался в убежище. Стартовая команда натягивала маски — чего доброго, налетит инспекторская проверка.
С этой минуты Герберт становится совершенно одиноким. Нет уже аэродрома, городка, друзей и знакомых. Лишь фосфоресцирующие приборы и белый шлем второго пилота… даже лица не видно… за стеклами кабины целый рой огоньков. Товарищи спустились в убежище, а ничего не подозревающие обитатели городка по-прежнему сидят в барах и потягивают ром или фруктовый сок.
С этой минуты Герберт доверяет только своим рукам и глазам. Он еще раз смотрит в боковое стекло. Машины спасательной службы тянутся двумя длинными рядами. Они уже не раздражают его. Ему даже кажется, что так действительно безопасней. Это, конечно, чепуха, но он привык к их виду, и к зеленому огоньку фонаря, и к залитой белым светом прожектора бетонной полосе.
На стартовой площадке Герберт остановился.
— Прогрей двигатели, — крикнул он Рафу.
— Понял, — проскрипел резкий голос в наушниках.
Герберт еще раз проверил приборы. Через несколько минут Раф доложил:
— Готово.
Но вскоре раздался его взволнованный голос:
— Майор, синхронизатор!
Герберт проверил синхронизаторы. Контакта не было.
— Контроль, контроль! — закричал он в микрофон. — Какой идиот делал технический осмотр! Докладываю о неисправности синхронизаторов, выключаю двигатели.
— Повторите, — услышал он, — записываю на ленту.
Герберт повторил.
— Приказываю возвратиться в район подготовки, взять машину из группы боевой готовности. Отдаю распоряжение загрузить новую машину.
— Понял.
Герберт переключил контакт и передал Рафу:
— Возвращаемся на внешних. Разворот вправо.
Машина повернулась на месте. Теперь она снова бежала по бетонной полосе. Прожектор погасили, чтобы не слепить пилота. Один только фонарь мигал вдалеке.
В районе подготовки они подняли щитки шлемов. Спрыгнули на землю, держась за поручни алюминиевого трапа. Перед ними уже стоял часовой. Он ткнул пальцем в сторону — надо отойти. Они услышали шум приближающегося автомобиля. Подошел шофер. Раф сказал, что они не возвращаются на командный пункт, будут ждать второй самолет.
— Господин майор!
— Что?
— А может, вернемся?
— Чего ради?
— Скажем, что после неудачного старта у нас сдали нервы. Я в детстве слышал, если вернуться с полпути, будет несчастье.
— Не дури!
— Да нет, я только так.
— Я как раз сегодня спокоен как никогда, — добавил Герберт.
Они отошли в сторону и сели на траву. На какое-то мгновение Герберту показалось, что он, уже выполнив задание, вернулся на аэродром и сейчас отправится на вонючем тупоносом автобусе в городок. Он выпьет в офицерской столовой двойной ром и решит, как убить оставшееся время. Ему очень хотелось, чтобы этот полет был позади и чтобы было уже завтра.
— Господин майор.
— Ну.
— Я хотел спросить, не будете ли вы возражать.
— Что такое?
— Да вот, я договорился с офицером радиослужбы. Когда позвонят из госпиталя, он сообщит нам.
— Конечно, Раф. Мне самому интересно, что тебе жена преподнесет…
— Эй! — раздался чей-то незнакомый голос.
— Да.
— Экипаж в машину.
В кабине они снова помогли друг другу закрепить шлемы. Снова вырулили на старт в сопровождении машин спасательной службы. Наверно, сирена вторично подняла тревогу, и офицеры, спускаясь в убежище, отчаянно ругались. На стартовой площадке Раф снова прогрел двигатели, Герберт проверил приборы. Потом он доложил о готовности к старту.
— Взлет разрешаю, — заскрипело в ухо.
Герберт добавил газу внешним двигателям. Машина описала дугу и остановилась на краю длинной взлетной дорожки. Привычным движением он перевел остальные сектора газа, и ему показалось, что он швыряет одну за другой связки гранат и они взрываются за его спиной.
Герберт отпустил тормоза. Стрелка радиокомпаса прильнула к центральной риске. Цифры, выведенные на взлетной дорожке, проносились теперь так стремительно, что прочесть их было невозможно. С обеих сторон машины рвались полотнища света. Здесь начинался четвертый километр бетона. Герберт сильнее потянул штурвал.
Машина оторвалась от земли.
IV
Едва ощутимая тошнота подкатывала к горлу. Машина лезла вверх, увеличивая скорость. Герберт дал газ до упора. Насосы теперь качали топливо во все камеры сгорания, поддерживая в них непрерывное горение. Указатель высоты показывал все новые и новые цифры. Земля уже теряла свои очертания. Отсюда, сверху, все внизу казалось светло-желтым, песчаным, потом затянулось янтарной дымкой. Стрелка радиокомпаса подошла к красной черте и чуть подрагивала. Но в машине эта ничтожная вибрация совсем не чувствовалась.
— Должно быть, сильный ветер, — сказал Раф.
— А внизу было совершенно тихо, помнишь? Когда ты курил сигарету, дым вился вокруг нас, а потом уплывал со слабым ветром, предвещавшим еще дня два ненужного спокойствия.
— Да.
Вскоре земля совсем утратила свой песчаный глянец. Теперь это был тусклый платок, брошенный в пространство. Зато небо все гуще наливалось чернотой. Совсем исчезла та темная синева, которая открывалась со стартовой площадки. Все вокруг было черной бездной, и глубина ее казалась беспредельной оттого, что вся она была пронизана лунным светом. Сверкающие снежнобелые потоки его падали косым, мертвенно холодным дождем. Металлический свет полосами кружил по кабине, задевая лица, теряясь в коричневых комбинезонах, ложась на приборы, ослепляя пилотов.
Коротким уверенным движением Герберт повернул штурвал. Машина легла на крыло. Будто мгновенно исчезли все сверкающие воздушные шарики. По крайней мере так показалось пилотам… В кабине как-то сразу стало тихо. Обернувшись, можно было увидеть, что крылья по-прежнему окаймлены сиянием, а луна заглядывает в кабину через другое стекло. Она постепенно переместилась вперед. Стрелка радиокомпаса сдвинулась на шкале. Когда она вернулась к красной риске, Герберт выровнял машину. И еще раз он повторил свою игру с луной.
Теперь на очереди был указатель высоты. Как только его стрелка дошла до нужной цифры, Герберт разрешил двигателям отдохнуть. Скорость тоже была такой, какая полагалась. Но вдруг стрелка радиокомпаса дернулась и приняла обратное положение. Это они прошли радиомаяк.
Герберт доложил в микрофон:
— Контроль! Контроль! Достиг боевой высоты. Прошу сообщить время старта.
В наушниках трещали цифры. Герберт даже не смотрел на часы — все они работали точно. Одни показывали время на часах на командном пункте, другие — длительность полета до цели, третьи — время по Гринвичу, четвертые не показывали ничего, пока в них не было необходимости. Эти часы, как говорили пилоты, были рассчитаны на психа. Это были аварийные часы. Ими никогда не пользовались. Даже при аварии. Потому что пилоту надо было тогда одновременно сделать столько движений, что он обычно забывал включить эти часы.
— Перехожу на местный контроль. Связь кончаю.
Он получил подтверждение того, что его рапорт принят, и выключил микрофон. Микрофон больше не был нужен. Потом он выключил и радиокомпас. Задумавшись, откинулся в кресле. Посмотрел на Рафа. Поблескивающий серебром зайчик, казалось, хотел прожечь его шлем.
Он обернулся, но не увидел радиста. В глубине кабины царил такой же мрак, как и за ее стеклами.
Чуткие пальцы Герберта лежали на штурвале. Он не ощущал ни малейшей вибрации.
— Раф!
— Да.
— Включаю автопилот.
— Понял.
Теперь машину вел автомат.
Герберт скрестил руки на груди и глубоко вдохнул насыщенный кислородом воздух из прохладного горла дыхательного аппарата. Полулежа, он чувствовал, как расслабляется все его тело. Теперь он мог совершенно спокойно перебирать в памяти события вечера: последние минуты неуверенности в офицерской столовой; конверт с запиской, переданный через толстуху кельнершу; приятное возбуждение, будто он только что выпил горячего кофе; автобус, трясущийся на потрескавшемся асфальте, а вокруг — известковые складки, вонь бензина и чад от сгоревших трав; история с Ленцером; ссора в клубе; суеверные бредни Рафа, когда они ждали вторую машину. Часы бессмысленной болтовни там, на земле, в городке и на базе, казались еще более бессмысленными, совсем нестоящими по сравнению с теми немногими минутами изнурительного душевного напряжения, которые приходилось испытывать здесь, в машине. Тем более, что он ведь решился послать в конце концов записку, и вдобавок комендант обещал поддержать его просьбу о переводе на гражданские линии. Точно ли он сказал, что поддержит? Герберт уже не помнил. Но ему все-таки казалось, что старый полковник говорил что-то в этом роде. Или, может быть, ему, Герберту, хотелось услышать эти слова?
Не все ли равно? Они должны удовлетворить его просьбу. Ведь иначе все кончится глупо. Ему совсем не хотелось кончать так глупо, как Портер или Карст. Это было бы хуже всего… хотя, как правило, то, что случается с человеком, именно и есть наихудшее. Вот Раф — отец! Дай ему бог здоровья! Как он может быть отцом и летать вместе со мной? Видно, в его голове это все же укладывается.
— Раф!
— Да.
— Ты хотел бы удрать отсюда?
— Нет.
— Почему?
— Я могу летать еще с год. Я так оцениваю свои нервы. Потом я уеду с женой и ребенком куда-нибудь в нормальный мир.
— Все-таки уедешь?
— Конечно. А как же вы думали, господин майор? Мне совсем не хочется кончить так, как Портер.
— Понятно.
«Значит, и он, — думал Герберт. — Никто не хочет здесь оставаться. Странно. Интересно было бы поговорить с полковником. Неужели он тоже мечтает удрать домой? Черт его знает. В конце концов, меня это не интересует. Главное, меня интересуют гражданские линии. Пусть хоть все они тут свернут себе шею и кончат так же, как кончил Портер. Пусть этот городишко ящерицы сожрут, пусть эту пустыню солнце сожжет, пусть всю базу трясущиеся руки разнесут, пусть море поглотит все их «мандарины». Я все равно удеру отсюда.
Вот луна, которая ослепляет, как полуденное солнце. Надо мной черное небо, которого не знают люди, никогда не бывшие летчиками-высотниками. Внизу должна находиться земля. Я ее не вижу — разве что вот эта набрякшая темно-синяя часть неба и есть земля? Как раз такая, как небо, каким его видят люди нормального мира. Местами пространство внизу чуть желтеет, а там, где дрожат пучки огоньков, становится янтарным, искрится в лунном свете, как настоящая пустыня. Это мешает ориентироваться. Кажется, что летишь между двумя сомкнутыми куполами. Эти купола заполнены лунным светом, который создает ощущение пространства и заставляет помнить, что ты летишь с чудовищной скоростью, а не повис неподвижно над базой…
Еще несколько изнурительных часов, и я вернусь к ним на землю. Я мог бы смело сказать: я нигде не был. Это ведь не ложь. Ведь я действительно замкнут внутри двух куполов — черного неба и темно-синей земли…
Как приятно было бы тешить себя иллюзией, что я повис в бесконечности над базой и все, что происходит, просто милая игра для взрослых детей. Увы! Я хочу перейти на гражданские линии именно потому, что не верю в сказки. Портер был романтик и вдобавок фантазер. Поэтому-то он так глупо кончил. Но это не имеет значения. Я отсюда удеру. Портер тоже так говорил. Но ведь ему отказали перед тем, как его втиснули в карету. Портер тоже хотел перейти на гражданские линии.
Это будет, наверно, замечательное чувство, когда я смогу убедиться, что я самый обыкновенный, нормальный летчик. Как все другие. Те, что летают со скоростью новорожденной улитки. И висят совсем низко над землей. Ночью они различают ленточки поездов с желтыми полосками окон. Они размышляют как нормальные люди. Курят в кабине, просят стюардессу: «Принеси-ка черного кофе». Боже мой! Почтенные, добрые винтовые утки. Хорошо было бы стать извозчиком… или развозить молоко… Поздно… Вместо того чтобы спокойно развозить молоко, я стал отличным пилотом дальней авиации. Жаль! Пропади она пропадом, эта дальняя авиация! Сейчас я торчу над базой. Это абсолютно точно. Лысая башка луны качается за стеклом. Жаль, что облака ее не прикроют. Внизу, наверно, катятся валы облаков. Но на той высоте, на которой нахожусь я, луна вечно выставляет морду и сует лапы в кабину. А теперь она ощупывает мой комбинезон. Чего вытаращила бельмы, идиотка! Пустить бы в тебя «мандарином» — сразу бы переменила мнение насчет рода человеческого. Ручаюсь, такой «мандарин» вышиб бы тебе один глаз на веки вечные. А два — оба глаза, и перестала бы ты пялиться после захода солнца на лижущихся дураков на Монте-Марио. Дай тебе бог здоровья! Пока ты безлюдная пустыня, ты хоть можешь быть уверена, что тебя никто не поздравит «мандарином». А на земле тесно стало, вот люди и придумали большие потолки, и я должен мучиться в высотном костюме, в котором так трудно двигаться. Ужасно смешно — сидеть в кресле и не чувствовать его задом. Интересно, Портеру тоже было смешно?»
— Раф!
— Да?
— Летим?
— Да.
— А зачем?
— Не стоит, господин майор, говорить лишнее, ничего хорошего из этого не получится. Помните, как на ленту записали ту речь, что Портер произнес в машине?
— Портер был большой глупец.
— И глупо кончил, — добавил Раф.
— А мы не глупцы.
— Но мы ведь тоже летим?
— Это верно, мы тоже летим.
Герберт опустил руки на колени. Посмотрел на свои ладони. «Все это неправда. Очень легко определить, что правда. Вчера я послал записку — это правда. Комендант говорил, что поддержит мою просьбу. Это тоже правда. Я перейду на гражданские линии. А перед этим куплю билет до Рима. После всей этой глупой истории — иначе не назовешь мои развлечения на базе — хорошо будет поехать в Рим. Это город, где живут нормальные люди, которые плодятся уже тысячелетия, о чем убедительно говорят старинные развалины возле площади Венеции!»
Герберт посмотрел на часы.
«В это время там, на площади, царит всеобщее оживление. Молодые девушки идут с работы или спешат на свидание. Старые ловеласы не прочь увязаться за ними. Троллейбусы вышвыривают людей у белой лестницы Мавзолея. Полиция, лучшая в мире полиция, если судить по мундиру, прогуливается вдоль тротуаров. Форма не мешает им любезничать с женщинами, которые сами управляют автомобилями. Уж такая это дрянь, полиция. Вот это все — правда. Я поверну в сторону площади Венеции, смешаюсь с оживленной толпой. Мы пойдем вместе. Вчера я послал записку — это сущая правда; и мы удерем отсюда».
Для Герберта наступали привычные часы одиноких бесед с самим собой. Он боялся мыслей об аэродроме, о полете, о душном автобусе и чадящем плоскогорье.
«Но почему же я должен бояться всего, что составляет понятие «база». Может быть, если я сумею еще раз прочесть эту сказку, эту чудную сказку о нормальном человеке, которым я, безусловно, был когда-то, может быть, тогда я быстрее пойму, что правда, а что только глупая история. Даже если это не даст ничего, все равно стоит прочитать. Скоро мы сбежим отсюда вместе, и нужно соединить то, что было давно, и то, что ждет нас впереди, в одно целое. Так будет лучше, во всяком случае спокойнее».
Он все охотнее поддавался этой обманчивой правде. Теперь он старался вспомнить, с чего нужно начать, чтобы быть уверенным, что это действительно было начало.
V
Поезд дальнего следования на этот раз задержался на маленькой станции дольше, чем обычно. Здесь они сошли, большая группа мальчиков. Пока они выбрасывали из окон свои вещи, пока вытаскивали из багажного вагона палатки и прочее оборудование, железнодорожники обстоятельно и в очень обидных выражениях вспоминали всех их предков до пятого колена.
Весь личный состав станции состоял из одного-единственного дежурного, который по совместительству продавал также билеты, встречал приезжающих, обслуживал багажное отделение и толстую барменшу — свою жену. Кроме станционного здания, был еще здесь маленький домик, сложенный из пустотелого кирпича, за ним пакгауз, красивые и гордые тополя вдоль вытоптанной дорожки, ведущей к уборной. Уборная была просторная, прохладная, посидеть в ней было подлинным удовольствием, даже для тех, кто привык к комфортабельным городским клозетам.
Начальник лагеря распределил ношу. Герберту, которому всегда не везло, досталось опекать тяжелый шест для палатки.
Вместо заказанных двух автобусов приехал только один. Шофер пошел побалагурить с женой дежурного. Ребята тем временем грузили палатки на крышу, бросали в автобус рюкзаки. Те, кто был посильнее, уехали первым рейсом. Остальным, в том числе и Герберту с его тяжелой ношей, пришлось ждать возвращения автобуса.
Несколько ребят оккупировали уборную. Ясно было, что они там курят. Те, кому родители дали денег на карманные расходы, отправились в бар.
Герберт положил шест на усыпанный гравием перрон и вышел со станции. Неподалеку в густой зелени винограда прятался желтый домик, окруженный грядками картофеля, капусты и хилых подсолнухов. По булыжной дороге удалялась бричка. Мелькнули черные одежды и белые полотняные платки двух монахинь. Они приехали этим же поездом.
Бричка уже приближалась к первым домикам деревни.
А на полях неторопливо жужжали жнейки. Зерно сверкало, как раскаленный песок.
Прямо на Герберта вперевалку шли гуси. Это были настоящие гуси, к тому же совершенно безнадзорные. И Герберт подумал, что тетка, пожалуй, была права, когда говорила, что деревня — это совсем не то, что их вонючий район. Но зато у них в городе только на соседней улице было два кинотеатра. А здесь вряд ли отыщешь хоть один захудалый экранчик.
Но зато гуси остановились прямо у самых его ног. Вытянули шеи и вытаращили глазки. «Чего им от меня нужно?» Он сделал попытку ногой отогнать их. Один из гусаков клюнул подошву, потом с усердием принялся за шнурки. Видимо, ему понравилось. Герберт был так поражен, что не сообразил отступить в сторону перрона.
Он стоял, не двигаясь, разинув рот. Глаза резало песчаное марево полей, искрящихся солнечными брызгами.
Шнурки были уже почти съедены, когда Герберт увидел вдали рыжее облако пыли. Оно быстро приближалось. Раздался свисток начальника лагеря. Нужно было строиться.
— Эй, ты! — закричали ребята. — Чьи это гуси?
— А я откуда знаю?
— Так чего ж ты их тянешь за собой?
— Они сами идут. Шнурки у меня съели.
Построились в две шеренги. Герберт поднял шест. Взвалил его на плечо и ждал. Начальник что-то кричал, но ничего не было слышно. Ребята галдели куда громче. А гуси уже добрались до ботинок первой шеренги и торопливо подкреплялись шнурками, аккуратно выплевывая жестяные кончики. Забавно было смотреть, как эти твари атаковали первую шеренгу.
Со станции выбежал дежурный и закричал:
— Оставьте моих гусей!
— Они сами!
— Мерзкая скотина. Помешались на шнурках. Даже монахиням не дают прохода. Дьявол их попутал. Начальник, учтите, что я убытки не возмещаю уже несколько месяцев. Мне бы пришлось половину жалованья растратить на шнурки. Пошли вон! Скоты! Эй, мать! Забери гусей, товарный идет.
Толстая баба с полотенцем выбежала из домика и принялась гонять гусей, которые разбрелись по путям.
— Старик, — кричала она, — закрой семафор, а то мне их не загнать.
Начальнику лагеря она пыталась объяснить:
— Моя птица, как нажрется шнурков, так ей море по колено, как мужчине после коньяка.
Дежурный закрыл семафор как раз вовремя, потому что товарный уже показался.
Ребята подняли рюкзаки и другую поклажу. Автобус вернулся. Герберт пристроил шест на крышу. Кинул в окно рюкзак и забрался в автобус. Шофер немного поспорил с начальником лагеря, и наконец автобус тронулся.
Пшеничные поля, сады со смородиной и крыжовником, сады с бумажным ранетом, снова пшеница, уже сжатая машинами, жара и песок, великолепно хрустящий на зубах, — все это осталось позади. Дорога была вся в выбоинах. Ребята приникли к окнам в надежде, не покажется ли обещанное озеро.
Потянулись выгоревшие на солнце луга.
Должно быть, уже недалеко!
Через несколько минут автобус остановился на околице деревушки. В кювете валялся привезенный первым рейсом багаж. Но ребят почему-то не было видно. Возле багажа ждал только учитель.
— Где ребята? — спросил начальник лагеря.
— А где озеро? Нам ведь обещали, — загудели вновь прибывшие.
— Озеро рядом, за гумном. И ребят вы наверняка там найдете, если только они не забрались в чей-нибудь сад.
Косые лучи солнца доходили уже только до половины тополей, и поэтому все энергично схватились за колышки, веревки, брезент и лопаты.
Герберт, зачисленный в группу старших, ставил палатку на краю лагеря. Дальше простирался луг, буйно заросший клевером, викой и пыреем, а за ним — картофельное поле. Оно тянулось до небольшого ручья и заболоченных кустов.
Из школьного здания выносили топчаны. Вкопанный в землю шест, отягощенный тяжелым брезентом, качался из стороны в сторону. Но ребята уже натягивали веревки и вбивали колышки. Герберт раздавал одеяла: каждому по два. Ребята вытряхивали вещи из рюкзаков, под подушки, набитые сухим сеном, прятали пижамы. Кто-то намалевал на брезенте одной из палаток великолепное коровье вымя. Перед палаткой вкопали табличку с надписью: «Отряд имени коровьего вымени». Шутка всех развеселила, и в палатке воцарилась подлинная лагерная атмосфера. Но начальник лагеря пригрозил выбросить табличку. Ребята загудели:
— Много он на себя берет, этот начальник!
— Вот именно!
— Нечего ему разоряться, пусть будет доволен, что мы еще шум не подняли.
— Глупо было сюда приезжать!
— А чего же ты приехал?
— Почем я знал.
— Слушайте, а какие здесь яблочки в садах! Сам видел.
— А озеро?
— Сейчас посмотрим.
— К черту озеро! Чуете, какой ветер?
— Ага. Это ветер с моря. Я даже слышу, как волны шумят…
— И чего они нас сюда завезли?
— Пару часов ходьбы — и мы на берегу моря.
— За деревней есть указатель. Всего несколько километров до портового городка. А там настоящие шлюпки и катера — утром они уходят в море на охоту, — длиннющие волнорезы, где гуляют люди, чайки кружатся у берега, и еще там есть настоящие кабачки…
— Ох, не растравляй, а то здесь совсем муторно станет.
— Стройся!
— Опять строиться?
— Да что мы, в армии?
Герберт слушал молча. Он свернул рюкзак, сунул его под подушку. Перебросил полотенце через плечо.
Ребята вышли из палатки. Солнце уже скрылось, зато теплый, освежающий ветерок ласкал их обнаженные плечи, руки и спины. Они поднялись по песчаному склону, заливным лугом пошли к озеру.
Ряды пихт окружали берег. А за ними вдаль тянулся камыш — зеленый или цвета спелой кукурузы.
На краю откоса ребята разделись. Один за другим они сползали в воду и отплывали от берега.
Герберт зашел в воду по пояс. Добрался до камня, выступавшего над водой. Положил на него мыло и полотенце. Потом долго еще блаженствовал в воде. Ему совсем не хотелось браться за мыло или выходить на берег. Невозможно было решить, холодна или тепла вода. Пожалуй, она была такой же, как воздух после знойного дня страдной поры. Казалось, что над озером повис запах сжатой пшеницы. И вода тоже пахла, или, может быть, это ветер доносил с противоположного берега запах истлевших камышей и сожженных солнцем трав.
Герберт посмотрел на запад, потом перевел взгляд на воду. Она отражала пылающий отсвет неба. Будто кто-то рассыпал лепестки мальв, дрожавших на крохотных складочках водной глади. Огромное остывающее солнце вытянулось, стало похожим на розовое пасхальное яйцо. Оно легло на коричневую полосу холмов. Но не надолго. Разогретая дневным зноем, земля расплавила сплющенный диск. Зной, который еще звенел и дрожал над полями, сожрал солнце.
Герберт намылил ладони, вымыл лицо. Погрузил голову в воду. Лег на спину и поплыл, слегка подгребая руками. Неподалеку слышались голоса ребят. Их начальник стирал носки. А чуть дальше все тонуло в фиолетовой дымке.
Герберт подумал, что приехал сюда именно для того, чтобы лежать вот так, вытянувшись, на воде и всем своим телом ощущать, что отдыхаешь. Он дал себе слово каждый вечер проводить на озере. Когда ребята выкупаются и вернутся в палатки, он заберется на откос, сядет, поджав ноги, и будет смотреть на тот берег.
В городе он ни за что не подумал бы, что в состоянии провести хоть четверть часа, ничего не делая. Конечно, не дома. Чужой дом, тесный и шумливый, вынуждал что-нибудь делать, хотя бы совершенно механически. Даже во время скучных уроков истории и литературы он или просто следил за звуком чужого голоса, или украдкой читал книгу. Во всяком случае, он был чем-нибудь занят. Вечерами он бегал в кино или слонялся по улицам. Он любил мостовую, залитую потоками машин, асфальт, на котором сверкали отражения реклам и неоновых огней. Домой он возвращался поздно. Тетка, если просыпалась, ворчала на него. На цыпочках он проскальзывал в ванную. Плескался под краном, ждал, когда тетка заснет снова. В ванной он хранил даже журналы и книги. Искупавшись, он читал, когда все уже спали и ванная принадлежала ему одному. И все-таки тетка была права, и, в сущности, не такая уж она была злая. Это все из-за тесноты — ведь в войну весь город превратился в развалины, а новые квартиры чертовски дорого стоили. Здесь, в деревне, все совсем иначе, чем в задымленном городе.
Герберт последним вышел на берег. Он досуха вытер голову, надел штаны и носки.
Он шел замыкающим. Перед его глазами качались белые пятна полотенец, переброшенных через плечи ребят. На мокром лугу хлюпала под ногами вода. Неподалеку пронзительно кричала какая-то зверюшка. Кто это? Лягушка? Кузнечик? Герберта радовал этот новый неведомый мир. Ему хотелось разгадать все его тайны.
Вечерняя линейка тянулась очень долго. Даже дольше, чем ужин в специально оборудованном для этой цели школьном зале. Начальник лагеря произнес целую речь, и все отчаянно скучали.
Наконец с мачты спустили флаг, и ребята отправились по палаткам.
Хилый огонек свечи едва касался брезентовых стен. Герберт вытянулся на топчане и ждал, что будут делать другие. Некоторые натягивали шерстяные свитеры.
— Айда в деревню за яблоками.
— Принесите и нам.
— Само собой.
Кто-то достал из рюкзака карты.
— Сыграем?
Герберт уселся играть. Но он играл плохо, и ребята прогнали его. Он снова лег на топчан. Закрыл глаза, хоть спать и не хотелось, несмотря на усталость.
— Слышите? — спросил Герберт.
— Что?
— Шумит.
— Ну так что?
— Море так шумит.
— Дурак. Это ветер гуляет по брезенту и веревкам.
— А мне кажется, будто шумит море.
— Дурак, потому и кажется.
Герберт повернулся на бок, чтобы видеть сереющую щель, там, где был вход в палатку. Опустил руку и коснулся пальцами травы.
В палатку заглянул дежурный, посветил фонариком, велел убрать карты и стелить постели. Свеча догорала.
Герберт ногами нашарил ботинки. Вышел из палатки.
Уже вызвездило. По деревенской улице прогромыхала телега. Копыта лошади мягко шлепали по пыльной дороге. Телега проехала, и стало слышно, как гудит ветер, казалось, будто вдалеке шел поезд. Это было море. Герберт отчетливо слышал его и благоговейно повернул голову в ту сторону, откуда плыл ветер.
Подошел дежурный.
— Ты что? — спросил он.
— По нужде.
— Ну, ну, прогуляйся.
Постояв немного на дороге, Герберт побежал по песчаному склону. Потом он бродил по лугу, окутанному туманом, пока не оказался на берегу озера.
Зеркало воды, сонное и гладкое, серебрилось у берегов, а дальше темнело, приобретая металлический блеск. «Асфальтовое озеро», — подумал Герберт.
Наконец он повернул назад и бегом домчался до лагеря. Остановился. Перед ним расстилался луг, за ним — картофельное поле, а еще дальше — ручей и темнота.
«Жду чего-то и сам не знаю чего». То ли кто-то шепнул ему эти слова, то ли это мелькнуло в его сознании? Вокруг ни души. Где-то рядом сады, за спиной — палатки, впереди — луга, небо и звезды. Вдалеке лает собака. Ребята отправились за яблоками… Нет, собака, наверно, просто так брешет. Теперь он знает, в какой стороне ручей. Отчаянно квакают лягушки…
Герберт пошел напрямик, потом побежал. Он бежал все быстрее, пока не свалился на мягкий травяной ковер.
Он почувствовал холодные капли на лице. Это были частички вечера, приникшего к земле.
Герберт вспомнил это, и ему показалось, что все началось именно тогда.
VI
В палатке еще было темно, но сквозь узкие щели в брезенте просачивался бледный свет. Герберт проснулся. Провел ногой по простыне. Она была холодная и влажная. По телу пробежали мурашки. Он пощупал одеяла. Кое-где они промокли насквозь. Рукава пижамы тоже были мокрые.
Минуту он лежал не шевелясь и прислушивался. Дождь колотил по крыше и скатам палатки, и тяжелые капли падали на постель.
— Эй, ребята!
У других постели тоже промокли. Только в углу палатки было сухо. Ребята сдвинули туда топчаны, поставили их друг на друга. Набросали на них одеяла. Улеглись по трое на топчан и укрылись грудой тяжелых, набрякших одеял.
Герберт заметил у своего соседа огромный синяк под глазом и еще несколько поменьше на руках и шее.
— Э, что это с тобой?
— Чертовски не повезло.
— Ну?
— Пошли мы за яблоками.
— Ну?
— Ну, и там влипли. Оказывается, сады сторожат. Подумать только — сторожить сад! Натрясли мы шикарных яблок, тяжелых, сочных, как апельсины, и, когда лезли через забор, тут-то нас и накрыли. Хочешь яблоко?
— Нет.
— Хорошее.
— Потом попробую. Мне надо выйти. Все из-за этого окаянного холода.
— Ну, иди. Только смотри поосторожней. Ведь они могут подкарауливать около лагеря, как бы камнем не угостили.
— Хорошенькое дело!
— Вот пойдем всем лагерем да так вздуем этих деревенских, что они сами будут яблоки нам приносить и еще уговаривать, чтоб мы взяли.
— Оптимист! Посмотри лучше на свой глаз.
— Глаз — это что. Вот как сегодня вечером в деревне камни засвистят да зазвенят стекла, тогда посмотрим, оптимист я или нет.
— Ладно, посмотрим. Но мне все же надо выйти.
— Так иди.
— А если они караулят?
— А ты иди в угол палатки и валяй через щелку, все равно дождь.
Остальные таким же образом вышли из положения. И снова заснули, потому что из-за дождя подъем перенесли на час позже.
Завтрак прошел в гробовом молчании. Правда, дождь перестал, но холод пронизывал до костей, тучи ползли низко, чуть не задевая тополя. Казалось, на земле вдруг стало тесно.
Ребята сидели на своих постелях. Размышляли, что бы предпринять. В соседней палатке раздавался смех — не иначе, как хохотали над анекдотами. Начальник предложил спеть, но никто не поддержал его. Один из мальчиков привез с собой банджо и теперь наигрывал какие-то сумбурные мелодии.
Герберт посоветовал соседу приложить к синяку мокрый лист подорожника. Он оттянет жар, и глаз не будет опухать.
— Да, кстати, как тебя зовут?
— Карл. Карл Портер. Ты играешь в шахматы?
— Ага.
— Вот здорово. Я привез шахматы, можем устроить матч. Пять партий. Идет?
— Идет.
Они расставили фигуры и начали первую партию.
— Ты высоко забрался? — спросил Карл.
Герберт понимающе ответил:
— Через год экзамены на аттестат.
— У меня тоже.
— А потом что ты собираешься делать?
Карл, не задумываясь, ответил:
— То же, что и мой старик.
— А старик?
— Извозчик.
— Что?
— Извозчик. Дальних рейсов. Афины, Будапешт, Мадрид, даже Дакар. Понял?
— Конечно, мой старик тоже был летчиком.
— Вот это да!
— Мы еще поговорим об этом, идет?
— Конечно. А ты что собираешься делать?
Герберт ответил не сразу. Не потому, что он задумался, он твердо знал, что будет делать, когда получит аттестат зрелости. Только ему трудно было объяснить это приятелю.
— Понимаешь, — сказал он, — я хочу сэкономить немного бензина.
— Не понимаю.
— Ты помнишь ласточек, которых немцы запускали на Лондон?
— Допустим. Но я все равно не понимаю.
— Крылья переносятся назад и ставятся углом к фюзеляжу. А вместо старых винтов будут две собачки.
— Как ты сказал?
— Будут собачки. Которых кормят болтушкой.
— Ах ты, дьявол. Реактивный?
— Вот именно.
— Ну, тебе здорово придется помучиться в политехническом.
— Ничего. Собачки мне покоя не дают. Я бы хотел, чтобы они отлаяли людям скорость звука.
— Ты подумай, — воскликнул Карл, — стоит одному из семьи стать летчиком, как все потомство наследует профессию — совсем как графский титул.
— Ты прав, — ответил Герберт. — Мы, летчики, чтим традицию.
Карлу, видно, так понравилось это «мы, летчики», что он даже не заметил ошибки, которую Герберт допустил в игре.
Третью партию они отложили в ничейной позиции. После обеда Герберт попросил у Карла непромокаемую накидку и решил отправиться в деревню. «Один бог знает, что меня там ждет. Ну, в худшем случае, буду ходить с фонарем, как Портер».
Дорога превратилась в топкое болото. Моросил дождь, и деревня казалась безлюдной. Только телеги изредка пропахивали колесами колею в густой грязи. В кювете бежала грязная вода. Из-под ног лениво выпрыгивали лягушки. Они прятались в придорожную траву или хлюпали по дороге к мутному потоку.
В магазинчике он купил ребятам сигарет. Постоял у красной кирпичной церкви, заглянул в дверь прокуренного, тесного, грязного кабачка. Спустился к реке.
К деревянному помосту было привязано несколько лодок. Рядом, в просторном сарае, висели сети и валялись другие рыбацкие снасти. Пахло гнилым камышом, тухлой водой и рыбьими внутренностями.
Он осторожно ступал по деревянному помосту, опасаясь, как бы прогнившие доски не провалились. В нос ему ударил тошнотворный запах протухшей воды. Он глубоко вздохнул. Ему хотелось запомнить этот запах как можно отчетливей, так же, как вчерашний закат над озером.
Сегодня противоположный берег едва различался, будто сквозь плотную пыльную мглу.
— Тебе чего? — услышал Герберт сзади хриплый голос.
Он обернулся. За ним стоял крепкий мужчина в поношенной рыбацкой робе. Только потом Герберт разглядел лицо — совсем молодое, но уже с задубленной кожей и тусклыми, усталыми глазами.
— Чего тебе здесь надо? — Голос рыбака приобретал задиристые нотки. Герберт не был уверен в том, что ему не доведется немедленно испробовать, насколько холодна вода.
— Пришел вот поглазеть… — Рыбак молчал, и Герберт продолжал, придумывая на ходу. — Мне всегда хотелось стать рыбаком, а я даже на пристани никогда не был. Хотелось бы посмотреть, как ловят рыбу. Наверно, чертовски трудная работа?
— А плавать умеешь?
— Откуда я знаю.
— Ну, так попробуем. А?
— Нет, сейчас чересчур холодно.
— Хочешь быть рыбаком, а боишься холода. А ну, давай в воду!
— Я тебе сказал, что холодно.
— Лезь в воду и не разговаривай.
— Пошел ты со своей водой. Хочешь пива, пошли выпьем! Мне что-то захотелось теплого пивца.
— Ты, парень, сначала поплавай, потом можно и теплого пива. Может, тебе еще и яблочка хочется?
— Не плохо бы! Давай!
— Ишь ты какой! Твои вчера ночью вдоволь натрясли.
— Но мне не дали.
— А ты, что ли, не тряс?
— Зачем? Я с ребятами в деревне познакомлюсь, они мне и так дадут. За это я могу их научить классной игре в карты.
— Так ты не ходил за яблоками?
— Зачем это мне!
— А к бабам?
— Нет еще.
— А тех, из лагеря, — он ткнул рукой в неопределенном направлении, — тех знаешь?
— Которых?
— Ну, тех, что пару дней назад приехали.
— Как же, знаю, — солгал Герберт.
— А Марлену знаешь?
— Это какая?
— Да есть там одна.
— Ты мне ее покажи. Я что-то не припомню.
— Тогда пошли.
Парень помог Герберту спуститься в старую лодку, на дне которой колыхалась грязная вода. Герберт уселся на мокрой доске, переброшенной поперек лодки. «Уж не затем ли мы сюда сели, — подумалось ему, — чтобы эта дубина выкинул меня, как только отчалим?»
Парень схватил весло и оттолкнул лодку от помоста. Он греб равномерно, стеклянные веера не поднимались за лопастями, хотя вода топорщилась маленькими сердитыми складками.
Через несколько минут они въехали в камыши.
«Здесь эта скотина меня прикончит за яблоки», — подумал Герберт.
— Позовешь ее в лодку?
— Если покажешь.
— Покажу.
Лодка ткнулась носом в прибрежный ил. К берегу бросились куры. Видно, они привыкли, что в лодке привозили рыбу.
На берегу вокруг площадки стояли красные дома, просторные, но одноэтажные. Этакие кирпичные сараи с окнами. Посреди площадки торчала мачта, на которой болталась измятая тряпка, некогда именовавшаяся флагом.
По площадке торопливо пробегали девочки, укрываясь накидками, хотя дождя уже не было.
Герберт и его спутник подкрались к одному из домов и заглянули через окно в зал. Девочки стояли полукругом у рояля. Какой-то плешивый человек что-то говорил, потом махнул рукой, и девочки запели.
— Которая?
— Чернявая, с золотым зубом, та, что смеется.
— Ага.
— Знаешь?
— А что?
— Позови.
— Зачем?
— А тебе какое дело?
— Зачем ее позвать?
— Позови, и все.
— А мне что за это будет?
— Договоримся.
В эту минуту девочки стали показывать пальцами на окно. Плешивый повернул голову, увидел лица ребят и вышел на порог.
— Вам чего?
— Холодно, — сказал Герберт.
— Входите.
— Спасибо. Я из мужского лагеря и пришел договориться насчет общего костра, — врал Герберт.
Он рассказал, что они вчера приехали, что ребята ходили ночью за яблоками, а сегодня пропадают от скуки и не знают, куда себя девать. Поэтому решили устроить костер, настоящий костер, вечером, над озером.
— А это приятель из деревни. Они тоже придут на костер.
Пока плешивый совещался с девочками, Герберт стал подавать знаки Марлене. Потом он подобрался к ней и шепнул:
— Хочешь яблок?
— Конечно.
— А в лодку?
— Конечно.
— Тогда пошли. У этого парня есть яблоки и лодка.
— Пошли.
Тут Герберт заметил черненькую девочку в форменной школьной юбке и белой блузке. Нос у нее был чуточку великоват, но зато все остальное — что надо. Даже грудь вырисовывалась совсем отчетливо. Ему понравились длинные, тонкие пальцы ее узких рук.
— Какая ты красивая! — шепнул он ей.
Когда она улыбнулась, то понравилась ему еще больше.
— Хочешь яблок?
— Ага.
— А на лодке?
— Еще бы.
— Так пошли. Есть яблоки и лодка.
— Ой, вот здорово.
— Ну, идем.
Они плыли недолго. Было холодно, воздух был сырой, сырость проникала во все поры, как песок во время песчаной бури.
Девочки замерзли под своими накидками, щеки у них побледнели, прямо-таки позеленели, стали цвета осеннего поля.
— Эй, приятель, давай-ка к берегу, — сказал Герберт. — Холодно. Веди нас за яблоками или куда хочешь, лишь бы не было так холодно.
По деревянному помосту, с которого парень предлагал Герберту прыгать в воду, они прошли в кирпичный сарай, заваленный рыбацкими снастями.
— Тут не дует.
— Подождите. Я сбегаю в сад и чего-нибудь притащу.
Потом они хрустели яблоками и улыбались друг другу. Герберт говорил черненькой девочке:
— Будешь танцевать со мной, когда устроим костер?
— Кто пригласит, с тем и буду.
— А я хочу, чтоб со мной.
— А ты попроси хорошенько.
— Скажи, имя у тебя таксе же красивое, как и глаза?
— Да ну тебя!
— Ее зовут Доротти.
— Доротти. Красиво.
Они выбросили огрызки и потянулись к корзине за новыми яблоками.
— Я обожрался, — сказал Герберт.
— Заберите остальное с собой, — сказал рыбак.
— Возьмешь нас на лов?
— Если погода будет.
— А когда она будет?
— Завтра.
— Завтра едем ловить рыбу!
— Приходите пораньше, как только солнце взойдет.
Герберт проводил Доротти до лагеря. У ворот отдал ей часть яблок.
— Придешь завтра?
— Не знаю.
— Приходи.
— Посмотрю.
— Ты красивая.
— Да ну тебя!
— Приходи. И когда устроим костер, будем танцевать с тобой.
В палатку Герберт вернулся нагруженный яблоками. Те, что были в кармане, он отдал Доротти, а те, что за пазухой, оставил для ребят. Он высыпал яблоки на одеяло.
— Вот вам. И глаз мне не подбили.
— Я сразу понял, что ты классный летчик, — сказал Карл.
VII
Они сидели на одеялах, принесенных из палаток.
Костер трещал, и искры плясали вокруг кучи горящих сучьев. Пахло землей и смолой. И еще пахло мокрой травой и прелыми прибрежными камышами.
В деревне ударил колокол и спугнул стаю галок. Они покружили, крича, потом спустились к сараю с рыбацкими снастями и к помосту, где были привязаны лодки.
— Чем это пахнет? — спросил Карл.
— Землей, — ответил Герберт.
— Да ну! Земля не пахнет.
— Ты думаешь?
— Так в школе учили.
— Значит, плохо учили. Здесь все пахнет.
— Здорово ты это придумал с костром.
— Еще бы.
— Давай послушаем. Девчонки сначала споют, а потом потанцуем.
Костер снова затрещал. Языки пламени взмыли вверх и упали. Герберт встал. Бросил в огонь охапку сучьев. Повалил дым. После дождя сучья еще не совсем просохли.
Девочки пели какие-то народные песни. Герберт не знал их и слушал с интересом. У Доротти был альт, глубокий и в то же время мягкий. Для такой девчушки очень даже хорошо поставленный голос. «Славная девчонка эта Доротти, — подумал Герберт. — А земля и вправду пахнет. Пахнет бодрящей свежестью. Тетка была права, когда говорила, что в деревне все иначе».
У костра расположился деревенский оркестр, подкрепленный баянистами и гитаристом из лагеря. Скошенная лужайка заменила паркет. Ребята утоптали кротовые норы, срезали лопатами бугорки, прочесали граблями траву.
Вдалеке послышался стук мотора. Звук приближался. Показались две лодки, направлявшиеся к костру.
Старые рыбачьи лодки зарылись носами в песок. Кормы опустились так низко, что вода лизала ручки рулей, но зато лодки не могли сползти в озеро.
Рыбаки остановились на берегу, начальник лагеря пригласил их в круг. Оркестр заиграл вальс. Герберт поспешил к Доротти. Доротти была красивая и понравилась ребятам, так что Герберт торопился не без основания. Они были первой парой. За Гербертом и другие ребята стали приглашать девочек. Трава мешала танцующим. Ботинки не скользили. Танцевать было сплошной мукой.
— Тебе нравится? — спросил Герберт.
Доротти подняла голову. В отсветах костра лицо ее казалось оливковым, губы потемнели.
— Очень.
— И мы теперь будем всегда вместе?
Она опустила голову. Он коснулся подбородком ее гладких волос, которые пахли еще сильней, чем земля.
В костре опять громко треснуло.
Герберт подошел к огню и палкой разгреб угли. Доротти помогла ему набросать новых сучьев. В нос ударил сладкий аромат смолы.
Когда оркестр смолк, Герберт сел рядом с Доротти. Робко коснулся ее руки, она не отстранилась, и они продолжали так сидеть, всматриваясь в светлый круг подрагивающего пламени и вслушиваясь в безмолвную молитву рук.
Знакомый рыбак тронул Герберта за плечо.
— Эй, ты!
— Чего?
— Пошли!
Герберт понял. Потянул Доротти, которая не знала, следует ли ей смутиться или, не скрывая радости, бежать к лодке.
Веслом они оттолкнулись от берега. Вода чуть охлаждала пальцы, а воздух здесь, на воде, был как в фруктовом саду. Берег и костер, издалека напоминавший спичку, вспыхнувшую в глубокой темноте, быстро удалялись.
Рыбак выключил мотор и закурил.
Они отчетливо слышали лай собак, скрип телеги, чей-то голос, затянувший песню. У костра царило веселье. А их окружали молчаливые воды озера. Вода была изумрудной с розовым и фиолетовым отливом.
Герберт снял ботинки, перекинул ноги через борт и опустил их в воду. Затем он быстро сбросил одежду и бесшумно погрузился в темные глубины, обступавшие лодку.
— Герберт, что ты делаешь, ты с ума сошел! Простудишься.
— Не бойся, Доротти, лезь в воду!
Сначала он кружил вокруг лодки. Потом лег на спину и, мерно работая руками, плыл и плыл, пока не перестал различать голоса.
— О-го-го! — крикнул Герберт.
Он услышал кашель запускаемого мотора, затем ритмичное постукивание. Вскоре он различил надвигающуюся на него черную массу.
— Влезай!
Он схватился рукой за борт. Рыбак помог ему вскарабкаться в лодку.
— Осторожней, ты весь мокрый, — закричала Доротти.
— А теперь ты, — сказал Герберт и перекинул ее ноги за борт.
— Ай! — вскрикнула Доротти и обеими руками обхватила Герберта за шею. На губах он почувствовал ее мягкие волосы. Но, испугавшись собственной смелости, Доротти тут же отдернула руки. Оба, смущенные, тяжело дышали.
Герберт сел на дно лодки. Рубахой вытер спину, плечо, грудь. Рыбак, как ему показалось, целовал свою девушку. Но он, Герберт, ведь не сделал ничего дурного. Почему же он чувствует себя виноватым?..
Вскоре лодка вошла в густые камыши.
— Куда мы забрались?
— Да тут мысок такой, — сказал рыбак. — Вы здесь подождите. Может, мы яблок раздобудем.
Он сошел на берег и исчез в камышах вместе со своей девушкой. Герберт и Доротти ждали их не меньше часа. Наконец послышались чавкающие звуки — кто-то шел по размокшей земле.
— Принесли яблок?
Рыбак рассмеялся и сказал, что они ничего поблизости не нашли.
Было уже за полночь, когда они привязали лодку к помосту.
Герберт проводил Доротти. Возле ворот они подали друг другу руки. Герберт подумал: может, поцеловать? И тут же решил, что еще рано. Он сделает это через пару дней.
— Пока, Доротти!
— Угу!
В палатке он раздевался на ощупь, в темноте. Небрежно бросил одежду и нырнул под одеяла.
— Герберт! — Это Карл еще не спал.
— Ну?
— Ты где был?
— На озере.
— Дерьмо ты, а не летчик.
— Ты что…
— А меня почему не взял?
Герберту стало совестно. Он не знал, что ответить другу. Из-за Доротти он совершенно забыл о нем.
— Мировая у тебя девчонка, — помолчав, сказал Карл.
— Тебе понравилась?
— Что будем завтра делать?
— Слышишь? — Герберт приподнялся на постели. Где-то поблизости, как будто в соседнем саду, нарастал глухой шум и постепенно заполнял палатку. Казалось, до них докатился далекий рокот моря.
— Гроза?
На стене палатки мелькнула короткая фиолетовая вспышка. Раз и еще раз.
— Гроза.
К рассвету гроза прошла. На дороге валялись сломанные ветки. Ослабли веревки палаток. В столовой было разбито окно.
День начинался ненастьем. Воздух был насыщен запахом моря.
Герберт выиграл матч с перевесом в полтора очка. После обеда они начали новую партию.
— Слушай, — сказал Карл. — Давай сыграем на что-нибудь.
— Идет. На что?
— Не знаю.
— Я тоже.
— Давай сыграем на то, кто будет на следующем костре ухаживать за твоей девушкой.
Герберт задумался. Матч он выиграл с перевесом в целых полтора очка, Карл как шахматист не был ему страшен.
— Идет! А если ты проиграешь?
— Возьмешь из моей библиотеки в городе самую лучшую книгу. У меня есть кое-что, можно выбрать.
— Договорились.
Герберт проиграл эту партию. Он и сам не понимал, как это случилось.
Он предложил еще партию — отыграться.
— Если я выиграю, первая не считается. А если проиграю — отказываюсь от Доротти в твою пользу до конца лагеря.
— Ну что ж, это меня устраивает, — ответил Карл после долгого раздумья.
Расставили фигуры. Герберт играл черными. Уже через несколько ходов он потерял коня. Он нервничал. Не мог придумать ни одной комбинации. Через час ему пришлось сдаться.
Он встал с постели, на которой была разложена шахматная доска. Набросил куртку и вышел из палатки. После ночной грозы было прохладно, а небо, на котором громоздились тяжелые тучи, было цвета жженой умбры. «Что за погода? — злился Герберт. — И кому это пришло в голову разбивать лагерь в такой дыре, где море можно только слышать?»
На Карла он, в общем, не сердился. Напротив. Доротти — только девчонка, а Карл — друг. «Здорово это у нас получилось насчет летчиков. Только зря я играл. Хоть в шахматах я разбираюсь лучше, чем он, это факт, но я слишком нервничал. В шахматы нельзя играть «на что-то». Тогда совсем глупеешь. Шахматы — сами по себе удовольствие. Жаль Доротти. И все из-за этого дождя, из-за этой грязи, которая хлюпает под колесами телег!»
По обочине дороги он медленно шел в сторону деревни. Ему не хотелось угодить в лужу или съехать в кювет, где в грязной воде блаженствовали зеленые лягушки.
Перед церковью — пусто и сонно. Намокшие рекламы болтаются перед входом в кино. В кабачке — теснота, вонища. Он поспешил выбраться оттуда. Увязая в глине, спустился к помосту. И здесь никого. Волны прибили стебли камыша, ветки, листья, солому. Все это, облепленное грязно-коричневой пеной, колыхалось у берега, качалось возле помоста, окружало пузатые рыбачьи лодки.
Герберт вернулся в деревню. Проходя мимо женского лагеря, замедлил шаги — не зайти ли?.. Он толкнул неподатливую калитку, обошел лужу и встал под навес…
Вдруг из дома выбежала Доротти. Увидела его.
— Ну, что скажешь?
— Ничего.
— Почему?
— Так.
— Ну, тогда и я так.
— Погода… — он неопределенно махнул рукой.
— Вот именно. Ну и что?
— Домой вот иду.
— Ну и иди.
— Доротти!
— Что, Герберт?
— Нет, ничего. Может, прийти вечером?
— Зачем?
— Так просто.
— Приходи.
Герберт возвращался в лагерь раздраженный. Он охотно дал бы Карлу в морду. Еще лучше было бы дать в морду самому себе. Зачем он согласился на это идиотское предложение? И, главное, почему проиграл, ведь Карл играет как ремесленник, без вдохновения, без полета. Э, да разве это имеет теперь значение?
В палатке он тут же повалился на топчан, подложил руки под голову. Запах свежей зелени, идущий из сада, доносился даже сюда, в палатку.
Брезент протекал. Пузатые капли срывались на одеяло. Герберт машинально ловил их, раньше чем они успевали упасть на постель.
VIII
Видимо, хор девочек действительно был неплохой. После того как они съездили в соседний городок и выступили там, в лагере то и дело стали появляться разные гости с просьбами дать концерт.
Несколько миль разбитого асфальтового шоссе (лишь по обочинам сохранились ленточки асфальта, да и те день ото дня таяли под стальными ободьями крестьянских телег) соединяли и в то же время разделяли деревеньку и крохотный портовый городок.
Именно оттуда приехали двое — один в гражданском, другой в морской форме. Обещали тягач с прицепами, зал с неплохой акустикой, обед, ужин и двухчасовую прогулку по морю на старой, дымящей, как заядлый курильщик, посудине — вместо гонорара.
Герберт — язык у него был хорошо подвешен — ездил с девочками, как их конферансье. Со сцены он рассказывал крестьянам всякую всячину, держался свободно, непринужденно. Крестьяне слушали с удовольствием, хохотали и хлопали в ладоши.
Начальство женского лагеря охотно приглашало его в поездки с хором.
Герберт очень обрадовался, когда плешивый учитель пения сказал однажды:
— Герберт, мы едем в порт.
— Петь?
— Ну, ты-то петь не будешь!
— Но я поеду?
— Приготовь самые веселые шутки для рыбаков.
— Тогда все девчонки разбегутся.
— Я тебе задам. Ты придумай что-нибудь культурное.
— Только, пожалуйста, договоритесь с начальником нашего лагеря. А то ребята злятся, что я все езжу. Им ведь тоже хочется.
— Кто же виноват, что они не умеют держаться на сцене!
Эта поездка в порт была последней перед закрытием лагеря. Герберт был рад, что Карл не едет. Ему нравился Карл, за эти недели они сдружились, привыкли друг к другу, обещали, что будут встречаться в городе после каникул.
Но в порт Герберту хотелось поехать без Карла. Ему неприятно было смотреть, как Карл на каждом костре обнимает Доротти, танцует с ней, ерошит ей волосы, а она улыбается ему так, будто он, Герберт, перестал существовать, будто это не он открыл ее, не он показал ее Карлу и другим ребятам.
После завтрака Герберт помчался в женский лагерь. Тягач запаздывал. Думали, что он уже не приедет. Но, как выяснилось, что-то в нем испортилось, и пришлось еще ждать.
В полдень, в самую жару, наконец выехали. В прицепах вместо скамеек были положены поперек бортов доски. Трясло. Крестьяне на полях разгибали спины и приветливо махали им руками.
Проезжали через деревеньки, пугали уток, гусей, бродивших по улице. Наконец показалась железная дорога.
— Уже недалеко.
Предместье маленького городка трудно даже назвать предместьем. Это, скорее, деревня. Дома, правда, каменные, антенны, горбатая мостовая, фонарные столбы, словно надломленные стебли. Но за домами хлева, коровы, сморенные жарой, стога сена, раскиданная солома, собачий лай, белье, развешанное на заборе.
На главной улице дома двухэтажные. Садики с клумбами. За деревьями в глубине — виллы с террасами, пестреющими полотняными шезлонгами.
— Доротти?
— Ну?
— Пойдем…
— Куда?
— Порт посмотрим…
— Нет…
— Ну, идем, идем. Только в порт. Мы давно с тобой не разговаривали. Тебе не хочется поболтать?
— Не знаю.
— Ну, тогда пошли.
Доротти явно жеманилась, он взял ее за руку и потянул в боковую улочку.
— Не опоздайте на концерт!
— Не беспокойтесь!
Солнечным жаром обдавало плечи, лица; рубаха прилипала к телу.
— Хочешь мороженого?
— В порт сюда?
— Не знаю. Кажется, сюда. Городишко-то крохотный. Порт не трудно найти, оттуда должно нести вяленой рыбой.
— Так пойдем есть мороженое? — спросила Доротти.
— Конечно, — ответил Герберт. — Я же предлагал тебе. У нас в деревне нет мороженого. Зато здесь, в городе, вот увидишь, каким я тебя угощу.
— Ну да! Забудешь. Как всегда.
— Что — как всегда?
— Никогда не приглашаешь меня на танцах, только очень странно смотришь.
— Портер разве тебе не нравится?
— Карл очень хороший. Вы оба хорошие, но ты всегда так странно смотришь, когда Карл приглашает меня танцевать.
— Зато здесь я тебя угощу мороженым.
— Через несколько дней лагерь закроется и все кончится.
— Не стоит загадывать, что будет через несколько дней. Смотри-ка!
Узкая улочка расступилась. Открылся широкий волнорез; бетонные причалы; узкоколейка, на ней несколько вагонов-самосвалов; на канале — катера: желтые, голубые и цвета воды в пасмурный день; на берегу — ящики для рыбы, одни сложены в штабеля, другие разбросаны в беспорядке. Воняет рыбой.
Герберт все еще держал Доротти за руку. Они вышли на мол. Шли прямо в море — море окружило их со всех сторон, только узенький мол связывал их с землей, которая осталась позади, метрах в двухстах, может быть, даже больше.
В конце мола волны рушились друг на друга. Та, что шла с моря, опрокидывалась на ту, что медленно возвращалась от берега, и, пенясь, они вгрызались друг в друга. Потом усталая волна уходила обратно в море. Мерно повторялся хлюпающий звук воды, бившей о сваи мола.
Они уселись прямо на досках. Герберт прислонил голову к столбу сигнального фонаря.
Появились чайки. Герберту почудилось, что они возникли из ничего. Просто возникли, и все. И сразу — огромной стаей. Кричащие, голодные, встревоженные.
— Доротти.
— Ну?
— Смотри.
— Вижу. Море.
— Да. Оно совсем как небо.
— Но…
— Такое же громадное и выпуклое. Интересно, какое оно сверху.
— Тебе хочется увидеть?
— Я увижу.
— У тебя есть деньги на самолет?
— Нет. Я сам буду летать.
— Ты?
— Всякий уважающий себя авиаконструктор должен отсчитать из своей жизни несколько тысяч часов на полеты!
— Как ты хорошо сказал! А я, наверное, буду врачом. Если попаду в институт.
— А ты попробуй.
— Обязательно попробую. Вот увидишь.
— Доротти!
— Ну?
— Ты не сердишься?
— За что?
— За то, что я только смотрю, когда Карл приглашает тебя танцевать?
— Так если ты сам не хочешь… Разве можно за это сердиться!
— Да нет же, я очень хочу!
— Что-то я до сих пор не замечала.
— Доротти!
— Да.
— У тебя нет с собой хлеба?
— Хочешь покормить чаек?
— Ага.
— Карл тоже говорит, что будет летчиком.
— Он хочет быть летчиком, а я конструктором.
— Вы еще передумаете.
— Я не передумаю. Это у меня в крови.
— В крови?
— Да. Мой старик тоже летал. Перед войной он натаскивал всяких пижонов на старых спортивных клячах. А потом он летал на «спитфайерах». А когда на «спитфайерах» нечего стало делать, он перешел на «Ланкастеры», почтенные, старые «Ланкастеры». Тут-то и случилось несчастье.
— Он разбился?
— Да. Однажды его машина не вернулась из полета на Эссен.
— Так кому нужна эта традиция!
— Я не могу иначе.
— Почему?
— Не знаю. Не могу. Я должен — и все, хоть мой старик и плохо кончил. Мама тоже погибла. Я успел спрятаться в погреб, а она замешкалась в комнате, когда грохнуло.
— Ну вот, а теперь ты выдумал…
— А вдруг именно мне повезет. Ведь не может же быть, чтобы в семье все одинаково кончили. Правда, от рака или другой какой гадости тоже не хочется умирать.
— Какие у тебя ужасные мысли. Мне даже мороженого расхотелось.
— Пойдем все-таки.
Мороженое было вкусное. И концерт прошел удачно. Все были довольны вечером. Начальник порта лично поблагодарил девочек и в знак благодарности пригласил всех прокатиться к маяку. Их ожидала прогулка на «пароходе» — старой, ободранной лайбе, по неведомым причинам покосившейся на правый борт.
Девочки расположились на палубе. К ним присоединились еще несколько туристов и отдыхающих. Герберт захватил место на носу.
В машинное отделение полетели звонки. Сначала два длинных, потом несколько коротких. Вымазанный машинным маслом матрос отдал концы, и между лайбой и берегом появилась полоска воды с разводами… Полоска расширялась, «пароход» не совсем уверенно двигался вперед. При выходе из порта его раз-другой качнуло. Дальше море было гладким, как сельский пруд.
За кормой кружили чайки. Они кричали так же пронзительно, как старый дребезжащий граммофон, из чрева которого вырывалась старая заигранная мелодия. Внизу, в машинном отделении, как-то озадаченно постукивали двигатели.
Над морем догорало солнце. Иссиня-пурпурные облака на западе громоздились фантастической цепью гор с округлыми склонами.
Порт походил теперь на игрушечный.
— Хоть бы качнуло! — злился Герберт. — Эти европейские лужи — пародия на настоящее море.
— Тоже нашелся знаток морей!
— Доротти. Пойдем на палубу. Потанцуем.
Невдалеке вспыхнул маяк. Потом нервно замигал. Словно кто-то придумал себе развлечение. Быстро спускались сумерки.
— Я только надену свитер, а то холодно.
Он обнял Доротти, навертел на палец прядку ее волос.
— Ну что, галчонок?
— Ничего.
Она покорно отдавалась его объятиям. Он зарылся лицом в ее волосы, добрался до крохотного ушка и легонько укусил его.
— Перестань.
— Чудная ты моя!
Они стояли на носу. Смотрели на облака, на берег, который все поворачивался и вдруг появился прямо перед ними. Значит, возвращались. Красный и зеленый огоньки мигали у входа в порт. Они были такими же яркими, как вблизи, только мигали совсем рядом друг с другом: не то что настоящая, даже бумажная лодка, казалось, не прошла бы между ними.
Начинался вечерний бриз.
Где-то впереди раздались удары колокола. Он бил сильно, металл звучал чисто и будил в груди легкое волнение.
— Что это?
— Почем я знаю.
— Уж не «Ангел господень» ли?
— Вряд ли… Сейчас увидим.
Загадка скоро разрешилась. Они проходили рейд. На суденышке дважды хрипло взвыла сирена.
Колокол был совсем рядом. Показалась странная железная конструкция, качающаяся на воде. Мигнул тусклый огонек, и язык колокола ударил по металлу.
— Это сигнальный буй.
На западе и небо и вода были пурпурными. Таким густым пурпуром наливаются только очень спелые вишни.
Колокол остался за кормой. Голос его тонул вдали. Герберту показалось, будто что-то кончается. Догорает, как закат, затихает, как этот колокол на море, проходит… Он посмотрел на Доротти. Она была рядом, и все было по-прежнему. И все-таки что-то осталось позади, стало воспоминанием. И когда-нибудь уйдет из памяти совсем вместе с юношескими восторгами, которые сначала волнуют сердце, а потом уходят, оставляя лишь чувство неловкости и усмешку.
В лагерь возвращались ночью. Герберт укрыл Доротти своей курткой. Сам он дрожал от холода, но ему было приятно, что ей тепло.
Тягач притормозил у ворот мужского лагеря, и Герберт спрыгнул.
Через несколько дней Герберт и Карл отправились на станцию. Девочки уже были там.
Багаж, лагерное оборудование, суета, возбужденные голоса. Наконец начальнику женского лагеря удалось водворить тишину. Он дал команду девочкам построиться в две шеренги и рассчитаться. Затем он произнес прощальную речь, трудно сказать, которую по счету в своей жизни.
Теперь осталось дождаться поезда.
На сей раз дежурный запер своих гусей в сарай, так что можно было не опасаться нападения.
День был ясный, солнечный, один из тех дней, в которые крестьяне спешат вывезти с поля пшеницу.
Карл долго разговаривал с Доротти. Видно, им нужно было что-то очень важное сказать друг другу. Герберт ждал неподалеку, прислонившись к дереву.
Послышался шум приближающегося поезда. Уже можно было различить ритмичное постукивание колес. Слабый гудок паровоза перед шлагбаумом. А Карл все не отходил от Доротти.
Показалась морда электровоза. В дежурке затрещал телефон. Открылось окошко в будке стрелочника. Красный флажок повис неподвижно — день был безветренный.
Из-под колес вагонов рассыпались искры.
Девочки хватали чемоданы и рюкзаки. Доротти в последний раз пожимала руку Карла.
Герберт отошел от дерева.
Доротти передала девочкам свой рюкзак. Быстро обвела взглядом перрон. Увидела Герберта. Может быть, она видела его уже давно, только ей не хотелось прерывать разговор с Карлом?
— Герберт!
— Доротти! — крикнул он, и ком подступил у него к горлу.
Он подбежал к ней. Они смотрели друг на друга, не находя нужных слов.
Он поцеловал ее ладони, одну, потом вторую. Ему казалось, что все, кто был на перроне, и Карл и дежурный по станции смотрят, как он целует девчонке руки.
— Доротти!
— Запиши быстрей адрес!
— Прошу садиться!
— Доротти, осторожней, трогается!
— Возьми адрес у Карла!
— Помни!
— Отправление!
— Двери, барышня, двери!
— Возьми у него!
— Доротти!..
— Пошли, что ли? Пора возвращаться.
Поезд набирал скорость. Замигали сигнальные огоньки на последнем вагоне. Вот и все. Перрон опустел. Дежурный направился к сараю. Карл, всегда спокойный, уравновешенный Карл, напомнил, что пора возвращаться в лагерь. Автобус сейчас отходит.
Герберт окинул взглядом пустой перрон. Он казался чужим. Поезд был уже далеко. Слышался только неясный шум и затихающее постукивание колес.
— Герберт, пора возвращаться.
— Да, да, идем. — Когда они садились в автобус, он добавил: — А мы остались.
IX
А что потом? Что же было потом?
Были экзамены — Герберт получил аттестат с отличием. Как лучший ученик, он мог продолжать образование за границей…
Это было, кажется, так: экзамены, награда, фотограф, полиция, заграничный паспорт, трогательное прощание с теткой, игрушечный истребитель — подарок Портера, — а потом пестрые платочки, взлетающие над толпой, — последний прощальный привет выходящему в море судну.
Вот и все, что сберегла память. Ничего больше он не мог вспомнить. Нет, еще одно… Очень не хотелось покидать родину и вообще Европу. Он хотел бы остаться. Но на родине не хватает хороших специалистов — конструкторов реактивных двигателей. И вот он с чемоданами на палубе большого теплохода.
Несколько дней безделья. Шахматы, беседы с респектабельными пассажирами в коктейль-холле, вечерами — танцевальная музыка в дансинге. Она слышна даже на нижней палубе, где Герберт коротал вечера, вглядываясь в плавные линии длинных, гибких волн Атлантики.
Где-то далеко за кормой была родина. Он оставил там немногое и вдруг почувствовал, что жалеет об этом. Не о том, что уехал, а о том, что так мало там оставил.
Он боялся, что в Штатах земля не так пахнет, что там не будет пурпурно-вишневых закатов, что никогда он уже не увидит тихих, ухабистых улочек с одиноким фонарем, льющим густой, янтарный свет. Когда он вернется домой, вряд ли заметит все это. Он будет слишком стар, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Вот этого-то он и боялся. Подсознательно, ни разу даже в мыслях не решившись облечь в слова свои опасения. Незнакомой дотоле тяжестью давили они на виски, на мозг. Ощущение было очень странное.
Шли дни, но ничего вокруг не менялось. Все так же кидались в левый борт волны, все так же за кормой серебрилась и кипела вода…
Только это и сумел он сохранить в памяти, только это привез с собой на другую сторону океана. Слишком мало, чтобы чувствовать себя достаточно уверенным в незнакомом городе.
Он поселился в отдаленном предместье Уорренвилл, и ежедневное путешествие к центру Чикаго занимало много времени.
Уорренвилл — дыра, предместье, но со своей главной улицей, магазинами, зеленными лавками, кафе, вокзалом. В Европе наверняка считали бы Уорренвилл городком. В беспорядке разбросанные дома — большие и маленькие, богатые и скромные — тянулись куда хватал глаз.
В одном из таких домов и поселился Герберт.
Дом был неказистый. Он принадлежал отставному капитану авиации, который жил отчасти на скудную пенсию, отчасти на дань со своих квартирантов.
Герберт приехал с рекомендательным письмом от тетки, но тетка сама не знала Пирсона. Знал капитана отец Герберта. Они когда-то летали в одном полку на «ланкастерах».
Пирсон очень сердечно принял сына своего товарища, погибшего где-то над Эссеном. Наконец-то, хоть на старости лет ему будет с кем поговорить. В комоде он прятал коробочку с боевыми орденами и охотно рассказывал историю каждого из них. Герберт был внимательным слушателем.
В Уорренвилл он возвращался поздно вечером. Целые дни он просиживал в аудиториях, и у него не было ни малейшего желания шататься по шумным улицам Чикаго. Уорренвилл почему-то ассоциировался у него с Европой: старые дома, узкие, грязные улочки, белье, развешанное поперок улиц, и над всем этим — ласковое солнце.
Друзьями он еще не обзавелся. Учеба в чужой стране поглощала всю его энергию. У него не было ни минуты свободной. Врожденная аккуратность и даже некоторый педантизм заставляли его выполнять буквально все требования кафедр, ассистентов и профессоров. Поэтому-то, придя домой, он сразу же садился за книги и за чертежную доску и только во время кофе позволял себе слушать рассказы Пирсона.
Пирсон купил машину для стрижки газонов, и поэтому свои разговоры они перенесли в сад. Старик тщательно ухаживал за газонами, стриг их, подравнивал и часто спрашивал у Герберта, хорошо ли получилось.
Так прошло несколько месяцев. Герберт отлично сдал экзамены. На каникулы он не поехал домой. Дорога в Европу стоила несколько сот долларов, жалко было отдавать такие деньги за место в Сабене. Он предпочел прокатиться по Штатам: Иллинойс, Кентукки, обе Каролины, Джорджия. В малярийном Джэксонвилле деньги кончились, и, как ни досадно было, он возвратился в Чикаго.
Его ожидало письмо от Портера. Карл писал: «В офицерской летной школе мне далеко не все нравится, но, может, привыкну. Напиши, черт возьми, как ты там. Как твои двигатели? Доротти тебя целует».
Герберт давно догадывался, что Карл встречается с Доротти. Еще до его отъезда Карл признался ему, что влюбился в Доротти по уши. Герберт тогда промолчал: не мог же он сказать, что и он тоже втюрился, правда по-своему. Во всяком случае, это не помешало ему уехать на несколько лет.
Он послал на родину открытку — привет Карлу, поцелуй Доротти. Написал и тетке.
Пирсон заболел. Радикулит. Пришлось дать телеграмму в Мемфис и вызвать племянницу. Пирсон — так по крайней мере считал Герберт — был скуп и не хотел тратиться на сиделку. В течение нескольких дней Герберт сам подавал ему лекарства, газеты, еду и ночной горшок.
А потом приехала племянница. Люси оставался год до окончания школы, и мысль о том, что ей придется провести все каникулы у постели старика, приводила ее в отчаяние.
Комната Люси была в глубине дома, рядом с комнатой Герберта. Но ее вещи были разбросаны даже в гостиной. Дом, как принято говорить в таких случаях, ожил. Вернее, его покинула тишина. Только когда Люси по вечерам убегала в город, тишина возвращалась в дом и становилась почти осязаемой. А раньше ни Герберт, ни старик этого не замечали. Оба они теперь особенно полюбили такие вечера.
Однажды эта юная особа решила ближе познакомиться со вторым обитателем дома.
— Мистер Герберт, пригласите вы меня наконец в кино или в бар? Невежливо быть таким букой. Разве вы не понимаете, что я здесь умираю от скуки?
Герберт несколько раз возил ее в Чикаго. Люси быстро освоилась в городе и вскоре прекрасно знала все недорогие увеселительные места…
X
Связь Герберта и Люси продолжалась полтора года, а потом Люси ушла. Для него это было удачей — и то, что она была его любовницей, и то, что ушла от него. Герберт был мужчиной, а каждый мужчина в этом возрасте страстно желает обладать женщиной. Благодаря Люси он избавился от всех психологических осложнений, которые возникают по мере того, как неудовлетворенное желание врастает в организм, словно дерево в землю.
Люси была взбалмошная девчонка. Она хорошо сделала, что ушла. Но прежде она освободила Герберта от наивной веры, которую он привез в Америку, как болезнь. Теперь он понял, что в Доротти не был заключен смысл всей его жизни, понял также, что вообще не существует женщины, в которой мог бы заключаться смысл чьей-либо жизни.
Карл очень удачно выбрал время, чтобы прислать весточку.
Герберт прочел письмо и сунул его в пачку бумаг, лежащих на столе.
Итак, Доротти — жена Карла. Но это уже не имеет значения. Для него теперь важно другое. Он стал ассистентом, без протекций, без знакомств, без взяток, ценой многих месяцев упорной работы, работы под руководством крупнейших специалистов.
И снова, уже в который раз, он не поехал в каникулы на родину, а проводил их в Уорренвилле и Чикаго. Пухли рулоны чертежей, исписывались горы бумаги, счетная машина стучала над ухом у Пирсона.
И вот одна из кафедр объявила конкурс на лучший технологический метод производства некоторых частей мощного реактивного двигателя.
Герберт выполнил работу и успел в срок представить проект с расчетами. Он дал себе слово, что в ожидании результатов конкурса съездит наконец на родину.
Но вышло иначе.
Всеми силами он пытался разузнать решение жюри и судьбу своей работы. Хорошо бы, какая-нибудь частная фирма заинтересовалась его детищем! Он следил за всеми попытками применения реактивного двигателя в гражданской авиации. Экспериментировали много, и в Америке и в других странах, попадались интересные проекты, а люди продолжали летать из Европы в Токио вокруг света со смехотворной скоростью — триста километров в час.
Он прекрасно знал, что гражданские фирмы почти никогда не располагают средствами на новые модели, которые не то будут летать, не то так и останутся на бумаге. А если даже модель и готова к серийному производству, то всегда возникают какие-нибудь неожиданные препятствия.
Тысячи людей ежедневно покупают билеты на самолеты и оставляют фирмам толстые пачки банкнот, а тем, видите ли, все не хватает средств.
Военные… вот это другое дело. У них всегда есть средства, хотя никто не платит им за билеты. Мы, например, ездим на автомобилях довоенного производства, а в армии они обновляются каждые два года. Откуда у них берутся средства? Глупый вопрос. Берутся, и все.
И Герберт старался, чтобы его идею можно было осуществить быстро, без больших затрат, и в широком масштабе. В таком случае гражданские фирмы не смогут не клюнуть… Если конечно, сам проект выдержит все испытания. И он продолжал ежедневно ездить в Чикаго и наводить справки.
Наконец наступил долгожданный день.
Однажды Герберту позвонил знакомый преподаватель.
— Присуждены три премии. Твой проект в этой тройке. Что? Я думаю, ты рад. Купит ли кто-нибудь? А я почем знаю? Частные фирмы уже несколько дней роются в проектах. В тех, которые им можно показать. На всякий случай возьми патент и жди. Что? Не знаю. Да они всегда так — вынюхивают, высматривают, а потом ничего не берут. Это же нищие! Они хотели бы делать хорошие самолеты без затрат. Сборище нищих. Да, да. Приезжай.
Вечером Герберт поехал в город. Клуб института был переполнен. Все обернулись, когда он распахнул дверь. Несколько профессоров поздравили его.
Через неделю и сам ректор поздравил его с успехом. В разговоре он упомянул о месте старшего ассистента, если Герберт захочет готовить докторскую диссертацию…
Герберт решил прежде всего отдохнуть. Вместе с Пирсоном, который уже поправлялся после болезни, но ходил еще с палкой, они привели в порядок дом.
Собственно, «порядок» — это не то слово: что-то переставили, где-то подкрасили, вскопали клумбу перед террасой, посадили какие-то веники, которые вскоре должны были зацвести. Вечерами они прогуливались по тихим улицам, заросшим густой зеленью.
Потом Герберт купил билет в Денвер.
По приезде в Денвер он сразу же понял, что хорошо сделал, выбрав именно это место. После смрадного Чикаго он просто упивался живительным воздухом гор, издали казавшихся облаками на закате. Он всем существом чувствовал, что отдыхает.
От нечего делать он стал изучать здешнюю публику, и местных жителей, и тех, что приехали отдохнуть, промотать деньги, заключить торговую или иную сделку.
В Денвере он понял, что он уже не мальчик-зубрила, что он освободился от той наивной экзальтации, которая обуревала его на родине, что он человек, как все, человек, который уже кое-что успел сделать и еще кое-что сделает в будущем.
В памяти у него промелькнула Люси. Он не жалел о ней и ни в чем ее не упрекал. Он забыл вечера и рассветы, забыл даже цвет ее волос, забыл ее запах, а когда человек забывает запах другого человека, с которым был близок, значит, всего этого будто бы и не было. Он много размышлял над этим.
Герберт избегал шумных и многолюдных ресторанов. Охотнее всего заглядывал в небольшой бар неподалеку от отеля, в котором он остановился. Заказывал кофе со сливками. Присматривался к редким посетителям. Иногда читал газеты, но чаще только листал страницы, просматривая заголовки.
Однажды он позвонил Пирсону, поинтересовался, не спрашивали ли его. Старик ответил, что нет. Тогда Герберт написал письмо ректору, попросил предоставить ему место старшего ассистента. Начал обдумывать докторскую работу.
Он с прискорбием констатировал, что совсем забросил пилотирование. Обязательный курс он прошел и получил звание пилота-спортсмена. Но потом все реже ездил на аэродром и наконец совсем перестал там бывать. Ведь он целыми днями стоял у чертежной доски над проектом… проектом, который сейчас не покупала ни одна фирма.
Здесь, в Денвере, он старался не думать об этом. Не хотелось портить отдых. Он уходил далеко в горы, чтобы испытать свое сердце. Горы притягивали его, и он дал себе слово приехать сюда когда-нибудь туристом.
По утрам он ездил за город. После обеда ходил в ближайший лес. Ложился на траву и, закинув руки за голову, смотрел сквозь кроны деревьев на небо, казавшееся то изумрудным, то бледно-зеленым.
Однажды он получил письмо с родины. Пирсон переслал его из Уорренвилла. Письмо, к удивлению Герберта, было официальное: его призывали в армию. Несколько месяцев службы, и он получит младший офицерский чин. Наверное, сержанта, — на большее нечего и рассчитывать.
Герберт спрятал письмо. Что же теперь делать? Вернуться? С удовольствием, но не для того же, чтобы тянуть лямку в пехоте или в саперах. В Чикаго его ожидало место старшего ассистента и докторская диссертация.
Он решил еще несколько дней пробыть в Денвере: бродить по лесу, пить кофе в маленьком баре, по вечерам совершать променад по центральным улицам среди провинциальных щеголей.
Позвонил Пирсону — тот советовал не возвращаться. Дать кому-нибудь взятку и продлить паспорт.
Это было разумно, но Герберт был слишком ленив и слишком неопытен, чтобы найти нужного человека.
Как-то он ужинал в ресторане отеля. Равнодушно наблюдал за парочками, потягивающими ликер. В углу сидела женщина, явно чем-то взволнованная. К еде она еще не притронулась и то и дело бегала к телефону. Посетителей было мало.
Поэтому он очень удивился, когда невысокий, коренастый мужчина попросил разрешения сесть за его столик.
Герберт не скрывал неудовольствия. Незнакомец заказал кофе. Сидели молча, пока кельнер не принес его.
— Вы живете в этом отеле, — полувопросительно сказал он, помешивая кофе серебряной ложечкой. — Вам здесь нравится?
— Это дело вкуса, — неохотно ответил Герберт.
— Разрешите представиться. — Он протянул руку; рука была слишком маленькой для его грузного тела.
— Я так и думал, — добавил он, когда Герберт пробурчал свою фамилию.
— Вы меня знаете?
— Теперь знаю. Но я много слышал о вас.
Герберт с любопытством посмотрел на собеседника.
— Не столько о вас, сколько о вашем проекте. Даже просматривал его.
— Да?
— Простите, мне кажется, вы очень утомлены или измучены женщинами.
— Нет.
— А, знаю, — письмо.
— Что?
— Письмо с родины.
— Откуда вы знаете?
— Я был у Пирсона. Но вы не беспокойтесь, в наше время, да еще в Штатах, и не такие дела можно уладить.
— Не понимаю.
— Вы хотите вернуться?
— Странный вопрос.
— Чтобы служить в пехоте?
— Конечно, не хочу, но…
— Мы это устроим.
— Но…
— Не беспокойтесь.
— Но…
— Давайте обсудим.
— Не понимаю.
— Видите ли, все эти частные авиационные фирмы — нищий сброд. Лавочники. Сто раз будут прицениваться, а потом скажут — дорого. А мы не торгуемся. Хотите довести свой проект до конца? То есть до выпуска первой партии двигателей? Я слышал, вы хотите получить докторскую степень? Вы понимаете, конечно, что без практики это будет чертовски трудно. Вы ведь инженер-конструктор. То, что создается на чертежной доске, нужно испытать в лаборатории, в цехе, в полете. Не так ли?
— Я ничего не понимаю.
— Мы не торгуемся. Нас интересует ваш проект, точнее — патент на ваш проект. Сколько вы за него хотите?
— Но кто это «мы»? Торговцы бананами из Гватемалы?
Незнакомец назвал фирму.
Герберт посмотрел на него тяжелым, пристальным взглядом. Это была известная военная фирма, которая выпустила уже не один дальний бомбардировщик. Хорошие машины, и фирма хорошая.
— Я приехал сюда отдыхать.
— Понятно. Я предлагаю вам встретиться в Уорренвилле в удобное для вас время.
— Вы же знаете, я уезжаю на родину.
— Господин инженер, в Штатах и не такие дела можно уладить. Разве вы не можете отслужить у нас? С пользой для себя и для нас.
— Вы готовы это устроить?
— Сейчас же, как только вы дадите согласие. Вы могли бы отдыхать спокойней. Я хотел только информировать вас относительно нашего предложения. Мы не лавочники: мы не торгуемся. Сколько вы хотите за патент?
— Не знаю, сколько он может стоить. Мне надо навести справки.
— Не хотите ли получить аванс? Это позволило бы вам уехать от старика Пирсона, да и отпуск в Денвере вы сможете закончить повеселее.
— Благодарю, через несколько дней я возвращусь в Уорренвилл.
— Итак, до встречи?
— Возможно.
— Прошу прощения, что помешал вашему ужину.
Герберт остался один. Он прекрасно понимал, что примет все условия фирмы, которая им заинтересовалась… Он предпочел думать о ней именно так: «фирма, которая заинтересовалась моей особой».
XI
Галифакс — отвратительный город. Следовало бы отменить все средства сообщения — как морские, так и воздушные — Европы с Западом через Галифакс. Тем, кто пользуется услугами Сабены или САС, еще ничего, но горе тем, кто переплывает океан на старом теплоходишке. Несколько дней вы бесцельно шатаетесь по верхней палубе, но в конце концов вам становится так тошно, что вы уже проклинаете Европу, вас мучительно тянет на какую угодно, но твердую землю; тогда-то, после долгих часов ожидания, проведенных на верхней палубе под голубыми облаками, плывущими с северо-востока вместе с течением, как будто их гонит не ветер, а вода, появляется Галифакс.
Здесь начинается американская болезнь. Ее можно назвать западной разновидностью сплина. Унылый город, аккуратно разрезанный на ровные квадратики, сразу же вызывает слезливые сентименты ко всему, что осталось по ту сторону океана.
Герберт помнил, что после старта в Галифаксе он никак не мог уснуть. Он так все это отчетливо представил, что ему показалось, будто он все еще летит на той же машине и худая бледная стюардесса вот-вот принесет ему коктейль.
Воспоминания бывают разные. Что вообще стоит вспоминать? Ничего. Что чувствует сытый человек, когда ему показывают хороший фильм? Ему попросту хорошо. А когда воспоминания врываются в память непрошеными и причудливо переплетаются, получается плохой монтаж кадров: город, бесноватые огни центральных улиц, скамейка в лунном свете, паутина меж ветвей, волосы девушки, ее ноги, внезапный смех и телефонный звонок, и опять город — но уже провинциальный, и все мелькает как фейерверк на церковном празднике.
И на фоне этого хаоса воспоминаний была одна ясная мысль — Доротти. Опять Доротти. Он думал о ней не как мальчишка, глупеющий от одной мысли о девушке. «Да… если бы все сложилось иначе, если бы она была свободна, я бы женился на ней». Об этом он не переставал думать.
Но Доротти приехала в Чикаго с Карлом и дочкой. Это его не огорчило и не разочаровало. Совсем наоборот. Он был рад, что она приехала, что они могли ездить на озеро, на пустой пляж, когда Карл был в офицерской школе или на аэродроме. Он сказал ей как-то: «Поедем со мной в Европу, побродим по Риму, Неаполю, Базелю и Венеции». — «Поедем, если Карл не будет возражать». Но Карл возразил, и опять Герберт не почувствовал ни огорчения, ни разочарования. Он полетел один, довольный, что может лететь, что ему есть куда лететь и на что лететь, и этого ему было достаточно.
Год назад Карл написал: «Приезжаю». Но когда и куда — понять было трудно.
И вот однажды, спустя несколько недель, Пирсон позвал:
— Герберт, к телефону.
Герберт устроился в кресле, аппарат поставил на колени.
— Алло!
— Герберт?
— Алло! Кто…
— Доротти, помнишь?
— Боже мой, что за вопрос — конечно!
Это было вечером. Утром Герберт поехал в отель, но Карла не застал, он не вернулся еще из школы. Доротти приготовила кофе и коктейль. Просила Герберта рассказывать, но он сам хотел послушать.
— Карл говорит, — начала Доротти, закуривая сигарету, — что на родине он никогда не научится летать на реактивных самолетах. У нас нет таких машин. И вот мы в Чикаго. Утром я была в больнице — обещают взять на полставки. Когда мы снимем квартиру и возьмем для ребенка няню, нам всем будет здесь хорошо. Замечательно, что мы опять встретились.
— Только поздно.
— Почему?
— У тебя Карл и дочка.
— Ну и что? Это не помеха. Нам всем будет чудесно. Карл милый, только честолюбив чересчур. Ну зачем ему эта офицерская школа? Мог бы летать дома на гражданских линиях.
— Он хочет стать первоклассным летчиком. Так пусть учится. Здесь этому можно научиться. Во всяком случае, есть на чем учиться. Я это по себе знаю.
— Ты тоже летаешь? Я слышала, что ты способный конструктор.
— Сейчас летаю. Нужно испытывать то, что конструируешь. Почему другие должны ломать шеи на моих ошибках.
— Ну что ты болтаешь.
— Я не болтаю. А летать приходится, потому что фирма приказывает.
— Вот как ты рассуждаешь. А для Карла летать — это все.
— А ты?
— Я потом, в свободное время.
— Почему ты меня не дождалась?
— О, долго пришлось бы ждать.
— Это, пожалуй, верно. Но я тебя любил.
— Я тоже.
— Доротти! Не шути так.
— Да нет же, я не шучу.
— А сейчас?
— Перестань, девочка может проснуться и услышать, тогда…
— Помнишь колокол?
— Какой?
— Колокол. На рейде, когда мы возвращались на пароходе.
— Нет, зато я помню, как мы танцевали.
— А я помню все.
Герберт почти каждый день встречался с Карлом и Доротти. Чаще с Доротти, у нее было больше свободного времени. Она охотно ездила с ним за город. Они отыскивали укромное местечко на берегу, где можно было спокойно посидеть, вспомнить родину, лагерь в деревеньке и многое другое.
У Карла было гораздо больше летных часов, но Герберт быстро его нагонял. Кроме того, Герберт летал на новейшей, необлетанной машине, на машине опытной, которая еще только должна была поступить в серийное производство.
Вскоре он получил удостоверение летчика-испытателя и даже среди профессиональных летчиков-испытателей прослыл человеком с талантом. «Он чувствует машину, — говорили о нем, — носом чует любую неполадку. Еще ничего не случилось, а он уже знает, что машина неисправна. Но ведь нельзя же, гром его разрази, угадать это только умом и ощущением пальцев?»
Но Герберт как-то угадывал. Случалось, что летчики бросали машину и с парашютом прыгали в поле, на аэродром или совсем далеко от полигона, а на базу возвращались поездом или автомашиной. Он же всегда предвидел аварию и посылал рапорт: «Прошу разрешения возвратиться на аэродром, обеспечьте аварийную посадку». В ответ он слышал: «Сообщите данные». И тогда докладывал: «Чтоб ей пусто было. Чувствую, хоть левая собачка еще тявкает, но скоро сдохнет, возвращаюсь, жалко старушку».
И как только Герберт возвращался на базу, тут же вызывал товарищей конструкторов. Они развешивали чертежи, просматривали записи, проверяли расчеты и эскизы и через несколько дней находили причину неполадок.
Фирма была довольна Гербертом. Только здесь он понял, как много у него конкурентов — молодых, способных людей, стремящихся работать на благо мировой авиации. И все они рано или поздно встречались в военной фирме; здесь неплохо платили, но зато не давали ни минуты покоя: у фирмы всегда были под рукой деньги и новые предложения.
С огромным трудом Герберт добился этого отпуска и поездки в Европу. Видно, поверили, что для поправки здоровья ему необходимо выехать на другой континент, — иначе бы не отпустили.
Вот тогда-то он сказал Доротти об отъезде. Они сидели в маленьком баре недалеко от больницы, где она работала. Герберт уже знал, что, если бы все сложилось иначе, она бы стала его женой.
Они молча пили кофе. Доротти торопилась на дежурство. А Герберт был совершенно свободен. У него было состояние депрессии после многих месяцев работы за чертежной доской и в кабине пилота.
— Поедешь со мной?
— Куда?
— Сначала в Рим.
Она задумалась. Он был уверен, что ей хочется поехать. Но она не знала, как отнесется к этому муж. Портер не очень-то баловал свою очаровательную супругу. «Наверное, не поедет».
Она говорила с мужем. Тот возразил. Герберт тоже говорил с ним. Карл ни за что не хотел, чтобы ребенок в течение нескольких недель находился на попечении няньки.
И Герберт поехал один.
Накануне отъезда он встретился с Доротти.
Ни из бара, ни с узкой улочки они не могли увидеть неба. Поэтому пошли в парк. Собственно, это был не парк, а всего несколько деревьев, еще не вырубленных предприимчивыми владельцами земельных участков в центре города.
Дул южный ветер, теплый и ласковый, он нес запахи, наверно, с самих низовий Миссисипи, с далеких ферм, раскинувшихся по ее широким берегам.
Он купил бутылку манхеттена. С трудом они поймали такси и поехали по шоссе на Рейсен.
Он поглаживал пальцы Доротти. Они улыбались друг другу. Им казалось, что этот южный ветер несет запахи спелой пшеницы, которыми был напоен воздух в деревеньке над озером.
Они увидели впереди рой болезненно вздрагивающих огоньков, казалось, дрожат не они, а нагретый воздух. Это был Эванстон. Как только выехали за Эванстон, Герберт дотронулся до плеча шофера.
— Направо, вниз.
— К воде?
— Ну да.
Остановились на перекрестке, вышли из машины. Герберт нес сетку с бутылкой, пуддинг и коробку пирожных.
Тропинка, как ручеек, круто бежала вниз среди густых кустов с острыми иголками на ветках. Слева высился глухой забор, затянутый сверху колючей проволокой. На углу блестела лампочка, тусклый свет ее падал на тропинку и кусты.
Внизу виднелась голубая, почти бирюзовая вода. Лунный свет растекался по ее глади.
Спустившись по тропинке вниз, они уселись на берегу. Доротти поджала ноги и накрыла их краем юбки. Герберт выбил пробку и налил в стаканы вина.
— На, пей.
Она сначала пригубила, потом выпила все. Герберт один за другим выпил два стакана. Теперь они молча сидели, глядя вдаль и прислушиваясь к долетавшим звукам. Стук электрички напоминал о том, что уходит время. То в одну, то в другую сторону бежали освещенные вагончики. Когда поезд замедлял ход, грохот превращался в шум, как будто ветер сеял по улице листья.
Вдали справа молочно-розовое зарево повисло над Чикаго. Воды Мичигана только у берега серебрились в лунном свете, а дальше совсем сливались с ночью, приобретали свой обычный темный цвет…
Но самое главное было то, что пахло пшеницей, а когда ветер волной набегал с озера, тянуло гнилью, травой, водорослями.
— У меня голова кружится.
— Ну…
— Очень кружится, Герберт, держи меня.
Она оперлась о его ноги, и он привлек ее к себе, чтобы она могла положить голову ему на колени.
— Уедешь?
— Да.
— Жаль.
— Почему?
— Так.
— В бутылке есть еще немного, хочешь?
— Нет, у меня и так уже голова кружится. Как хорошо.
— А сейчас?
Он наклонился и коснулся губами ее щеки. Она не отвернулась и не спрятала губ, и он долго-долго целовал их, пока они не стали влажными, мягкими, усталыми.
Тогда она поднялась и сказала, что нужно возвращаться.
— Поедем в Уорренвилл.
— Что ты, Карл ночует дома.
— Ну и что?
— Не могу. Кто будет купать ребенка?
— Иди сюда.
— Нет, здесь — нет.
— Почему?
Но она не ответила и пошла по дорожке.
Он быстро догнал ее, да она и не собиралась убегать.
Они стояли, обнявшись, и вдруг услышали голоса.
Шли рыбаки на вечерний лов. Они сказали «добрый вечер» немного не так, как обычно говорят «добрый вечер».
— Если бы не Карл или если бы все сложилось иначе, я бы женился на тебе. Я всегда об этом думаю, когда смотрю на тебя.
— Ты поздно об этом вспомнил. Идем.
— Хорошо.
— Привези мне кирпичик из Колизея.
— Там нет кирпичей, там камни, и их сторожат.
— Ну, не привози ничего. Когда будешь целовать красивую девушку, подумай обо мне. Если вообще сможешь в такой момент думать.
— А ты передай привет Карлу. Хотел бы я быть сегодня на его месте.
— О! Тогда бы ты сначала читал книги, потом долго мылся в ванной, опять читал и в полночь заснул бы в своем кабинете.
— Так поедем в Уорренвилл.
— Нельзя. Кто знает, может быть, как раз сегодня он не захочет читать.
— Все это ерунда, галчонок. Вы чудные оба, и я очень вас люблю, хоть Карл и помешался на дальних полетах.
Потом, в вагоне, они уже не разговаривали. Оба чувствовали легкое опьянение.
Герберт прекрасно помнил этот вечер. Он не знал только, думал ли о нем по пути из Галифакса в Европу или возвращаясь с континента в Новый свет с его пошлой столицей.
Но разве это имеет какое-нибудь значение?
XII
После возвращения Герберта прошло почти полгода.
Вместе с группой старших конструкторов он выполнял специальное задание. У фирмы были странные вкусы. Даже не вкусы, а капризы. Ее требования смешили конструкторов, забавляли, как забавляют родителей первые каракули детей.
Фирме нужна была новая машина. И в этом не было ничего удивительного. Но какая? Вот что было самое главное…
Машина должна быть дешевой, простой, но абсолютно надежной. Другими словами, в самых трудных условиях полета она должна вести себя именно так, как задумали конструкторы, и это еще не все. Большой потолок. Громадный радиус действия. Несколько тысяч километров, заправка горючим в воздухе, снова несколько тысяч километров и возвращение на базу. Гигантская грузоподъемность как непременное условие, с этим условием и делается заказ. Итак, должна быть гигантская грузоподъемность, громадный радиус действия и большой потолок. Три взаимно исключающих качества!
Надежная… Чтобы вела себя так, как задумали конструкторы. Если машина не будет надежной, вся работа пойдет насмарку. Она будет возить чрезвычайно ценный груз. Даже трудно представить себе его стоимость. Скажем, груз этот стоит столько же, сколько большой промышленный район радиусом в несколько десятков километров вместе со всеми населяющими его людьми.
Фирма уже давно занималась этой работой, но шла она вяло, так как никто ею особенно не интересовался. И вдруг началась дьявольская спешка. Почему? Фирма, которая годами мирилась со спячкой, сейчас бросала колоссальные средства, чтобы ускорить работу.
Говорили, что чрезвычайно ценный груз создан, только нет машин, на которых можно было бы его перевозить. Отсюда такая спешка. Но, не зная груза, трудно создавать машину. А груз все накапливался, и потому лихорадочно выбрасывались все новые средства и в конструкторских бюро даже ночью не гас свет.
Новая работа вынудила Герберта забросить докторскую диссертацию. Он ругал фирму на чем свет стоит, но что он мог поделать — контракт был подписан. К его диссертации относились весьма пренебрежительно. «Машина прежде всего, — говорили ему. — Машина нам важнее, чем ваша докторская диссертация, а платим мы больше, чем вы получили за все ваши опубликованные труды».
Он все еще жил у Пирсона, хотя мог уже купить собственную виллу или снять приличную квартиру в центре города. Купил только автомобиль — ему осточертела электричка и ежедневное хождение на вокзал. Автомобиль был малолитражный, французский. Огромные американские мулы были ему не по вкусу.
Пирсон совсем поправился и ходил уже без палки. Он все еще стриг траву на газонах и подумывал сменить мебель в гостиной, хотя гостей у него не бывало. Только иногда приезжала Люси. Она, как и прежде, переворачивала все вверх дном, и Пирсон долго потом приводил дом в порядок.
Летом Герберт пользовался террасой. Он поставил там удобный шезлонг. Читал или просто лежал долгими вечерами при лунном свете, наслаждаясь легким ароматом цветов. Тогда он впервые задумался над тем, не расторгнуть ли контракт с фирмой, и даже кое с кем советовался на этот счет.
Он скоро понял, что не стоит затевать этого дела: фирма не согласится на разрыв контракта.
А с машиной творились непонятные вещи.
В один прекрасный день работы приостановили. Странно, их перестали подгонять! Даже взяли двух конструкторов на другую работу. Все было готово к первым испытаниям. Но дело застряло на мертвой точке, как сор в мусоропроводе.
Однажды часть конструкторов куда-то перевели. Поговаривали о базе, чертовой дыре, где не было ни нормальной жизни, ни нормальной работы.
Приезжал Карл, спрашивал, как идут дела с новой машиной.
— Не знаю, — отвечал Герберт.
— Не знаешь?
— Нет.
Карл первый узнал обо всем.
— Так вот, — сообщил он, — вы делаете машину, у которой будет большой потолок, громадный радиус действия, гигантская грузоподъемность, она будет проста в управлении и достаточно дешева. Одного вы не сможете запланировать. Этого не смогут запланировать даже самые гениальные головы в ваших конструкторских бюро. Речь идет о том, что груз ваш исключительно дорогой. А вы же не можете дать гарантии, что машина при всех ее качествах достигнет цели. Правда?
— Такой гарантии никто не давал с тех пор, как летают люди. Не пойму, к чему ты клонишь.
— А вот к чему. Вам платят за то, чтобы вы сделали такую машину. А в другом месте другим людям платят за то, чтобы они выдумали что-нибудь такое, и тоже с гарантией, что бы помешало вашей машине достигнуть цели. Те люди ломают голову над ракетами, которые должны уничтожать любые машины при любом потолке.
— Очевидно.
— Тебе понятно, что это такое?
— Да. Как будто понятно. Ракета быстрее доставит к цели этот груз, чем наша машина.
— Авиация отмирает, а с ней и летчики.
— Не болтай глупостей, — вдруг рассердился Герберт. — Смотря какая авиация. Люди еще долго будут летать на машинах, которые годятся на слом.
— Глупая болтовня о гражданских линиях.
— Вовсе не глупая. Я серьезно подумываю о том, чтобы возвратиться на родину и работать на гражданских линиях, как большинство пилотов. Все дело в контракте, понимаешь?
— Да.
— А ты?
— Что я? Я офицер. Это моя профессия. Дальние полеты. Когда налетаю свою тысячу часов, стану инструктором, и все. Я всегда хотел летать на самолетах большой дальности. Вот это, я понимаю, полеты! Это тебе не старая дорожка от Брюсселя до Лондона. Не успеешь взлететь, как под тобой пригороды Лондона.
— Кому что нравится.
— Герберт!
— Да?
— Я хочу уехать из Чикаго.
— Куда, черт побери?
— Надо немного полетать всерьез. Может, поеду на какую-нибудь базу, где летают всерьез.
— Ну что же, поезжай. Жаль только, что заберешь Доротти. Я привык к вам. Выпей, вино хорошее, настоящее итальянское.
— Давай плюнем на все и сыграем в шахматы?
— Охотно.
— Только без королевского гамбита: не терплю драк на доске.
— Идет, разыграем староиндийскую.
Через месяц Портер получил назначение. Уже было известно, куда его посылают. Доротти уволилась из больницы — она уезжала с мужем. На базе ей обещали место в военном госпитале.
— Поедем с нами, — предложил как-то Карл.
— Ты с ума сошел!
— Хоть полетаешь наконец по-настоящему.
— Мне и тут неплохо.
— Знаешь, я познакомлю тебя с ребятами, которые едут вместе со мной. Они наверняка тебе понравятся. Это мировые ребята, настоящие ассы.
Но Герберт не выразил особого желания знакомиться.
Однажды днем они сидели, изнемогая от скуки. Доротти не было дома, у нее были какие-то дела в городе. Выпили кофе и спустились к автомашине Герберта.
— Ну, так где живут твои ребята?
— Не знаю.
— Как же ты собираешься меня с ними знакомить?
— Один из них наверняка сидит в пивной. Мировой парень. Чудно как-то его зовут, да и хозяина пивной тоже. Он — Майковский, а хозяин пивной — Барановский или что-то в этом роде. Он, кажется, поляк, все его называют просто Майк.
— А где эта пивная?
— На Милуоки.
— Поищем.
Они долго ездили по Милуоки, пока не нашли вывеску: «Ресторан — Барановский».
— О, — сказал Карл, — я же говорил, что Барановский, только ресторан, а не пивная.
Они спросили кельнера, нет ли здесь капитана Майка.
— Нет. Наверное, он в другом польском ресторане.
— Где это?
— Здесь же, на Милуоки. Ресторан господина Ленарда. — И он объяснил им, как туда проехать.
У Ленарда они действительно нашли капитана. Оказалось, что он много слышал о Герберте и весьма лестно отзывался о машинах, в проектирование которых и Герберт вложил свой труд.
— Вы едете с нами? — спросил капитан.
— Нет, зачем же?
— Вам повезло.
— А Карлу не терпится поскорее уехать.
— Карл — романтик. Потом он поймет. А я еду, потому что должен.
— Тут вам не на чем летать?
— Выходит, что так. Придется теперь возить этот ценный груз туда и обратно. Забава кретина. Как подумаю, что надо будет тащить его в воздух, болтаться там с ним сколько положено, а потом приносить под брюхом назад, на базу… Но хоть машины дают хорошие. Конечно, из-за груза, а не из-за людей.
— Как всегда.
— Да я и не жалуюсь. Так, к слову пришлось.
— Где Ленцер? — спросил Карл.
— Сейчас придет. Выпьем чего-нибудь?
— Можно манхеттена, — предложил Герберт.
— Нет. Здесь пьют фирменную водку с польскими этикетками. Угощаю вас польской хлебной. Она покрепче манхеттена.
— Ну что ж, раз крепче, давай.
— Наконец-то!
— О, Ленцер приехал!
Майор Ленцер был небольшого роста худенький человек с продолговатым аристократическим лицом. В линии бровей, в плотно сжатых губах угадывалось превосходство. Герберт почему-то подумал, что он француз по происхождению и в его жизни была какая-то семейная драма.
Но он несколько ошибся. Ленцер не был чистокровным французом, француженкой была только его бабка; шотландец, с которым она связала свою судьбу, эмигрировал в Штаты и оттуда — на Филиппины. Ленцер участвовал в японской кампании, очевидно, с тех пор и застыло на его лице трагическое выражение.
Майк действительно оказался мировым парнем. Он чертовски всем нравился. Все охотно пили с ним водку, а он пел забавные песенки на языке, напоминавшем журчание ручейков в осеннюю пору.
Майк заставил Портера рассказывать о своей жене, и ему так захотелось увидеть Доротти, что он ночью поехал на машине Герберта домой к Карлу. Назад его повезла Доротти, так как почувствовала, что в машине сильно пахнет водкой.
Майк знал в ресторане почти всех и разговаривал с ними на языке, на котором пел свои песенки. По большей части это были пожилые, люди, со скудными средствами, но самолюбивые и очень предупредительные. И все с титулами. Герберта удивило, что в Польше перед войной было столько полковников авиации и морских офицеров. Интересно, они все здесь собрались или кого-нибудь оставили на родине?
В тот день Майк был в ударе. Ему пришла идея написать письмо на родину — вот уж когда посмеялись! Каждый дал по доллару, и в конверте оказалась толстая пачка денег, которая, правда, тут же перекочевала в буфет: все равно бы на границе не пропустили.
Когда вышли из ресторана, над Чикаго стояла ясная ночь. Холод, резкий, пронизывающий холод с Мичигана пробирал до костей.
Улицы давно опустели. Только перед ночными ресторанами еще стояли цепочки автомашин. Герберт завез Портеров домой. Возвращался на большой скорости. От выпитой водки мысли путались в голове. Майк — мировой парень, Ленцер тоже мировой, хоть у него и трагическое лицо, Портер уезжает, и он опять останется один со старым Пирсоном. Вспомнил, что Доротти кокетничала с Майком, и ему стало чуточку обидно. Странно, ему нисколько не было обидно, когда Карл распрощался с ним в машине и пошел к воротам с Доротти, а вот когда Доротти кокетничала с Майком, ему было обидно.
Но все это в общем было неважно. Он гнал машину в Уорренвилл и думал, что вечер все же провел неплохо.
Как оказалось, это был его последний приятный вечер в Чикаго.
Через несколько дней Герберта вызвали к шефу. Он сразу почуял недоброе. Несколько летчиков-испытателей уже проклинали день, когда их послали неизвестно на какое время, неизвестно на какую базу.
И теперь фирма посылала его на ту же базу и обещала через год вернуть на конструкторскую работу, когда окончится какой-то там кризис в управлении, контролирующем деятельность всех военных авиационных фирм.
Герберт понимал, что ему подложили свинью, что его лишили воли, права выбора. Он давно был в плену. Он был пленник — когда и почему это случилось? Так или иначе, он должен был ехать. Уже тогда, в Денвере, он предполагал, что все это глупо кончится, ведь вся работа в фирме не имела никакого смысла. Разве что исторический. Вот, мол, что сделали люди. Это достижение человеческого разума. Бессмысленное достижение, если, разумеется, не считать работы на базе, — она-то была кое-кому нужна.
XIII
— Господин майор.
Он ответил не сразу, оглядел кабину.
Циферблаты. Голубое, болезненное мерцание приборов. Стрелки часов передвинулись на одно деление. Стрелка указателя скорости чуть-чуть сдвинулась назад. Металлические блики лунного света сползли с манжетов комбинезона на руки. За стеклами кабины по-прежнему бескрайняя черная ночь, а луна словно ртутный шар.
Герберт слетка повернул голову и увидел темную фигуру. Шлем Рафа уже не поблескивал. Все его кресло тонуло во мраке. Свет дрожал на приборах, стоящих по бокам. Казалось, что тут и там в беспорядке развешаны грязно-белые тряпки.
Спиной Герберт чувствовал третьего человека. Его не было видно в темноте. Герберт не слышал стука аппарата, но чувствовал неуловимый для других, характерный шорох. Он знал, что это стрекочет передатчик.
Стрелки приборов беспрерывно подрагивали. Хотя Герберт и слышал, как дышат двигатели, он еще раз проверил, равномерно ли поступает горючее, не перегреваются ли камеры. Но почему упала скорость? Второй пилот снова повернулся к нему.
— Господин майор.
— Гм…
Раф поднял спинку кресла. Минуту он не двигался, то ли задумался, то ли, может быть, зевал.
— Выключите автопилот, — сказал он, — я поведу.
— Зачем? — удивился Герберт.
— Скорее время пройдет. Скучища страшная.
— Что-то тебе сегодня не терпится. Посмотри на часы. На то, чтобы потрепать себе нервы, времени у нас достаточно.
— Как вы думаете, почему с базы нет известий?
— Каких известий? О чем это ты?
— Неужели она еще не родила?
— Ах да, я совсем забыл. Конечно, еще нет. Это тебе не картошку сварить.
— Выключите все же автопилот.
— Веди. Прибавь скорость — мы опаздываем.
— А, ерунда.
— Знаешь, я во всем люблю порядок, а указатель скорости упал. Выключаю автопилот.
— Понял.
Вновь наступило молчание.
Раф резко прибавил газ. Герберт увидел, как стрелка указателя скорости прыгнула далеко за цифру, названную в приказе, а потом медленно вернулась назад. Двигатели заработали ритмично.
Герберт зевнул. Ему показалось, что Раф сделал то же.
Герберт очень устал, его клонило в сон. Но почему? Не от размышлений же?
И вообще, зачем он ворошил в памяти весь этот хлам? Он никак не мог припомнить, до чего хотел докопаться. До чего-то, что уже было, произошло, что имело когда-то свой смысл, но давным-давно его потеряло и сейчас бесполезно, ненужно.
Плохо то, что каждый раз в полете он все это припоминает, обдумывает, видит перед глазами, а потом не может понять, для чего это ему нужно.
Три года. Можно выучить наизусть свое прошлое или придумать совсем другое, постепенно забывая, что было и что придумано. Своеобразный вид самообмана. Но это уже слишком. В таком случае все обман. Библия, жена, обеды, дети…
«Беспрестанная игра воображения — удел всех людей, способных думать. И мне от этого не уйти. Нравится мне это или нет, но всегда во время полета я буду думать. Любоваться луной, может, и интересно, но не летчику-высотнику. Однако, рассуждая здраво, три года перебирать, словно четки, собственное прошлое — это уже слишком. Это угнетает, пока не перейдет в привычку. Тогда уже не угнетает, а раздражает, даже злит».
Вот и сейчас Герберт злился. И совсем это ему ни к чему, нервы еще пригодятся.
Он поудобнее устроился в кресле. Почувствовал, как машина слегка накренилась на левое крыло и Раф тут же ее выровнял.
Хотелось курить. Сейчас же в воображении возникла небольшая базарная площадь, вся в цветных зонтиках. Столики и ром. Ему еще больше захотелось курить.
В городке сейчас поздний вечер. Гаснут окна. В порт входит старая лайба с новым запасом продовольствия. Маленькие трехколесные автомобили развозят его по кафе, отелям и магазинам. Начинается тихое, ночное деловое движение.
Лайба гудит хриплым басом, далеко слышен сигнал, поданный с капитанского мостика машинисту. Фанатики рыболовы вытаскивают поплавки, чтобы волна не загнала их под сваи. Волна шумно бьется лбом о причал, и поплавки опять подрагивают на жирной, застоявшейся воде.
Доротти снимает халат, прячет в сумку стетоскоп. Долго моет руки. Нет, наверное, уже бежит домой и боится встретить подвыпивших рыбаков и матросов со сторожевого катера. Нянька давно уложила ребенка и сама спит. Когда Доротти войдет в комнату, она увидит на столе письмо, которое уже принесла та толстуха из офицерской столовой. Разорвет конверт и прочтет. А может, уже прочла и сейчас моется в ванной, а крепкий чай стынет на подносе.
Герберт почувствовал, как машина опять скользнула на левое крыло и Раф снова выровнял ее. Но толчки повторялись, они шли снизу, легкие толчки, как удар ребенка.
В нашем городишке давящая тишина. Небо чистое, и луна похожа не на ртутный шар, а на янтарную тарелку с резным узором. Там, внизу, не бывает такого бодрящего, вкусного воздуха, какой поступает из кислородного аппарата.
Он поднял голову и огляделся. Увидел искрящееся крыло и черные пасти двигателей.
Машина снова слегка наклонилась на левое крыло.
— Раф.
— Да…
— Почему ты так трясешь? Не чувствуешь? — Герберт машинально взглянул на указатель скорости.
Раф положил руку на сектора газа.
— Это не я, она сама трясется. Наверно, сильный ветер.
Герберт посмотрел вниз. Там, где должна была быть земля, он отчетливо различил бурый планктон облаков.
— Чепуха. На такой высоте…
— Попробуйте сами, господин майор.
Герберт поднял спинку кресла и положил руки на штурвал.
— Хорошо. Дальше веду я.
— Понял.
Он вел машину мягко и плавно. Через минуту левое крыло чуть дрогнуло; по самолету словно кто-то ударил кулаком. Герберт резко выровнял машину.
— Да, черт возьми, ветер сильный, — сказал он, — и на такой высоте!
— А в нашем городишке люди забыли, как выглядит облако.
— Сейчас их внизу целые громады.
— Я видел, когда мы на них вышли. А разряды там какие! И зверски, должно быть, тянет.
— Когда вернемся на базу, будет опять чистое небо.
— Как всегда, — добавил Раф.
Герберт молчал. Смотрел прямо перед собой: не то в стекло кабины, не то на приборы. Потом он понял, что смотрит на часы, отмеряющие время до цели; большая стрелка их давно уже начала последний круг.
— Господин майор.
— Гм.
— Закурим?
— Не слышу.
— Закурим?
— Что это пришло тебе в голову? Нельзя сейчас курить.
— Спустимся ниже и закурим. Правда, там здорово, видно, тянет, но не так, чтобы нельзя было лететь.
— С ума сошел. Мы же курим, только когда пройдем эту чертову точку поворота.
Раф замолчал. Вытянув шею, он смотрел в стекла кабины, словно мог что-нибудь увидеть за ними.
За спиной Герберта опять началась возня. Он не слышал, но чувствовал инстинктивно, как радист принимает очередную радиограмму. Молча он протянул назад руку — темная фигура подала ему листок. Герберт пробежал глазами ряды цифр и молча вернул бумажку.
Все было в порядке. Цифры из приказа совпадали с этими, на листке, и с теми, на приборах, мерцающих голубым светом. Может, в этом и есть искусство пилотажа? Все то, что надо или не надо сделать, чтобы цифры на бумажке, именуемой приказом, не расходились с цифрами на приборах и рядами цифр на листке радиста, похожими на примеры по арифметике из школьного задачника.
«Давно пора, — думал он, — заменить меня и Рафа каким-нибудь автоматом… от прогрева двигателей на стартовой площадке до возвращения к месту стоянки самолета после того, как выполнен приказ. Приказ? Приказ дается только людям. Автомату нельзя давать приказ в той форме, как это делает зеленая обезьяна из диспетчерской. Автоматом можно только управлять. Я же должен точно выполнять определенные операции, хотя и мог бы делать все, что мне заблагорассудится. Но я получил приказ и должен поступать именно так, как сказано в приказе. Это и называется выполнением приказа. Автомат же не может выбирать, он не знает принуждения — у него нет воли. А всякое принуждение есть функция свободной воли. Например, Майк… Возвращаясь на базу, он подал аварийный сигнал. Это было еще над Европой. Майк мог прыгнуть с парашютом, но по сути-то он не мог этого сделать. Мог и не мог приземлиться на поле, засеянное мягкой травой. Майк дотянул на своей развалине до самого моря. А тогда уже было поздно прыгать. Вот примерно как можно истолковать принуждение как функцию свободной воли».
«Ну, хорошо, а какой во всем этом смысл? — продолжал размышлять Герберт. — Трудно сказать что-нибудь определенное. Нелеп сам вопрос. А вообще-то что имеет смысл? И почему во всем должен обязательно быть какой-то смысл?
Если бы было именно так, я бы не летел сегодня над матовым планктоном облаков навстречу ослепительному бело-голубому шару луны. Попробую во всем этом разобраться, тем более что уже три года я думаю об этом, когда стрелки часов, отмеряющие время до цели, делают последний круг.
Каждый вечер, когда люди возвращаются домой, ужинают, смотрят телевизор, разинув рот, разговаривают или попросту любят друг друга, каждый вечер сотни, именно сотни машин стартуют со множества аэродромов. Они плетут над миром невидимую паутину. Одни несут поздравительные открытки, газеты, документы и разные ценности. Другие развозят людей, хотя разграничение ценностей и людей противоестественно и дико. И каждый день с базы, расположенной в глубине выжженной пустыни, в нескольких километрах от каменного городишка, стартуют машины с «мандаринами» на борту. Летят до заданного пункта и возвращаются обратно. И так неделями, месяцами все двадцать четыре часа в сутки кто-то из них держит «мандарин» над головами людей, читающих, любящих, готовящих ужин или спешащих на работу.
Трудно представить, что какая-нибудь машина минует точку поворота и полетит дальше. Все на базе, а особенно пилоты, отлично знали, что эта машина не смогла бы донести груз до цели. Но даже если бы она достигла цели и сбросила груз, то попала бы в чуткие и цепкие пальцы радара. А если бы выскользнула из радарового кольца и вырвалась на простор, ей бы уже некуда было возвращаться: не было бы базы и еще многого, и машина повисла бы между черно-пурпурным небом и грязно-синей землей.
Пилоты с базы и нормальные люди с континента понимали, что эти болезненные фантазии лишены всякого смысла. И поэтому пилоты с базы могли мечтать о гражданских линиях, а люди с континента покупать детские коляски, писать книги, бегать в кино и служить в армии.
Вот в чем великий смысл и великая бессмыслица того, что делаем мы с Рафом».
Новый толчок встряхнул машину, и снова она подпрыгнула и скользнула, как плоский камень, брошенный на поверхность воды.
Герберт посмотрел вниз. Стало светлее, ночь засеребрилась, будто сзади, за хвостом машины, вставало огромное, слепящее солнце. Под ними неподвижно распластались облака, они пытались согреть свои пушистые брюшки в свете, лишенном тепла. Вокруг простиралось холмистое плоскогорье, похожее на большое и шершавое матовое стекло.
Герберт зевнул. Машинально поднес руку к шлему, чтобы прикрыть рот. Он заметил, что Раф через минуту сделал то же самое. Герберт громко рассмеялся. Он смеялся долго, не выключив микрофона. А когда успокоился, еще долго слышал смех в наушниках. Они поняли друг друга без слов.
«Одно меня удивляет, — думал Герберт. — Почему я предаюсь воспоминаниям именно во время полета? Неужели так было всегда?»
Герберт старался припомнить, что он чувствовал во время полета, когда только начал летать. «Кажется, не думал вообще. Начал пережевывать эту жвачку, как старая корова, с тех пор как попросился на гражданские линии. Вполне возможно, что база вблизи вонючего городка и есть моя судьба, и я не могу от нее убежать. Ни люди, ни я не виноваты, что я рано, очень рано начал разбираться в машинах, особенно в реактивных двигателях. Лучше бы я был посредственностью и каждый день, лишь забрезжит рассвет, развозил в двухколесной тележке молоко. Вместо того чтоб ставить у порога бутылки, я летаю над головами людей. Дались же мне эти реактивные двигатели! Был бы я обыкновенным летчиком, таким, каких много, был бы таким, как любой машинист, ничем не выделяющийся среди других, или вагоновожатый в большом городе — все они одинаково хорошо справляются с мотором. Но мне не повезло, не повезло потому, что я способный летчик, и потому, что меня выделили — послали на базу, где работают лучшие из лучших летчиков.
Майка уже нет в живых, нет Ленцера, и Портера тоже фактически нет. Я последний из нашей компании. Еще недавно мы вчетвером пили водку, и Доротти кокетничала с Майком».
Недавно? Это он помнил отлично, а вот о трех годах, проведенных на базе, совсем почти забыл. Они прошли… как один день, пасмурный, серый. День, который легко забыть, перепутать с другими, который может длиться три года.
«Ленцер сегодня плохо кончил, впрочем, все на базе плохо кончают. И не только на базе. Все же Ленцера жаль. Майка тоже, он был мировой парень. Портера тоже жаль, хотя его романтические бредни могли вывести из себя даже самого стойкого летчика. Эх, закурить бы…
Или было бы сейчас на два часа позже. Прекрасная мысль — во время каждого полета сокращать себе жизнь на два часа. На худшие два часа. Или хотя бы на пятнадцать минут, которые стоят многих месяцев, а то и лет жизни. Портер не выдержал этих минут, Раф говорит, что продержится еще год — так он оценивает свои силы. А я? Каждый полет сокращает нам жизнь настолько, что два часа — это мелочь. Доротти я написал, полковник, кажется, обещал помочь. Все остальное волнует меня не больше, чем содержимое сточных канав в нашем городишке.
С меня довольно! И городишки, и вонючей пустыни с обуглившейся травой, и ночей, исполосованных лучами прожекторов, и черных стекол, всегда закрывающих глаза. Ночной летчик-высотник. Это звучит красиво только для молокососов. У нормальных людей это должно вызывать лишь сострадание. Но нормальных людей вокруг нас нет, они там, откуда лайба по вечерам привозит капусту, ром, картофель и мясо.
Если бы не шершавая пелена облаков, несущаяся внизу, словно взбесившаяся река, могло бы показаться, что машина повисла над нашим городишком. Но на самом деле я сейчас лечу над европейскими городами. Не трудно проверить, вошел ли я уже в район моря или все еще лечу над континентом. Но лень протянуть руку к радисту и взять листок. Раскаленный шар перекатывается вправо, это значит, что время бежит».
— Господин майор.
— Гм…
— Летим.
— Пожалуй, сделаем этот чертов полет.
— Еще как! С минимальным расходом топлива.
— Какое тебе дело до топлива, черт возьми!
— Я имел в виду нервы.
— А-а-а…
— Я просто подумал, что все это — бег на большие дистанции. Кто прибежит первым: мы или наши нервы. Моя дистанция — один год.
— Мы все расстояния измеряем временем. Привычка.
Раф не ответил.
Герберт обратил внимание на то, что толчки прекратились. Облака теперь неслись под машиной, как чистая, быстрая река без порогов и водоворотов.
«Прошли болтанку», — подумал Герберт. Он посмотрел на указатель скорости. Стрелка подвинулась вперед. Автомат включил сигнализацию. Герберт отрегулировал газ и вновь включил автопилот. Сложил руки на коленях и сидел, ссутулясь.
— Господин майор.
— Гм…
— Ничего. Мне показалось, что вам плохо.
Герберт ослабил ремни. Уселся поудобнее. Костюм жал под мышками. Он машинально протянул руку, чтобы почесаться. Но сообразил, что это бесполезно. Пошевелил плечом, стало легче. Подумал: «Хорошо бы залезть сейчас в холодную воду, в бассейн например, или хотя бы стать под сильный душ. Подставить спину, чтобы крепкие струйки били по туго натянутой коже». Приборы приятно холодили руки.
Раф громко зевал в микрофон. Герберт зевнул так же сладко.
— Раф.
— Да.
— Ты выпил бы сейчас рому?
— Да.
— Хорошо. Выпьем на базе.
— Господин майор.
— Ну?
— Что бы вы хотели сейчас сделать?
— Влезть в холодную воду.
— А я — передвинуть стрелки на полный оборот.
— Глупое желание.
— Я знаю, это я так.
— Вот закончим этот полет.
— Конечно, закончим, и все, черт побери.
— Что «все»?
— Как что? Он будет позади.
— Ну что ты мелешь. Впереди будет следующий.
— Правда.
— Раф!
— Да…
— Долго так можно выдержать?
— Откуда я знаю? Портер выдержал недолго, но мы пока не поддаемся.
— Вот именно.
— Господин майор.
— Гм…
— Сейчас выйдем к морю.
Герберт посмотрел на часы — еще осталось четверть оборота. Он вздохнул и откинулся на спинку кресла.
XIV
Звук летящего самолета напоминал орган, точнее, органную музыку. Так по крайней мере казалось Герберту. Человеку, который никогда не водил самолета, рев его двигателей казался бы бесстрастным гудением работающей где-то вдалеке лесопилки или глухим, теряющимся во влажном воздухе хриплым жужжанием комаров. Судорожные выхлопы двигателей на старте звучали для него, как рев тревожной сирены на борту пассажирского самолета, его сначала раздражала бы надоедливая дрожь стекол, кресла, стакана, поставленного рядом, потом он привык бы и… уже не замечал. Как шофер не замечает шума мотора на пятом часу езды.
Но летчик знает, что, если он потянет на себя ручку секторов газа, двигатель зазвучит тоном ниже, запоет почти торжественно и, постепенно замирая, перейдет в тихое мурлыканье. Толкни он ту же ручку вперед, — звук, нарастая, разгладится, станет напевным, почти мелодичным; пилот знает эту мелодию, он может воспроизвести ее в памяти.
Герберт вспомнил сейчас орган. Почему именно орган, а не виолончели? Виолончели тоже могут сыграть полет бомбардировщика. Быть может, потому, что орган — это не только звук, это еще и образ, запечатленный памятью. Мощный, захватывающий, волнующий. Когда начинают литься звуки органа, когда он набирает силу, дыхание, а воздух дрожит, как струна, тогда, как в камертоне, пробуждается слабое эхо голоса. Этот голос в нас самих. Это значит, что музыка взволновала нас, проникла нам в душу. Может, поэтому он подумал теперь об огромном венце серебряных труб, которые рождали этот голос.
Не нужно быть музыкантом, чтобы понять, что двигатели ведут свою мелодию. Для этого нужно быть летчиком и знать двигатель, как органист знает клавиатуру органа.
Он отчетливо слышал простой, короткий и как будто монотонный, но вместе с тем сдержанно-страстный мотив! Это было переживание. И так всегда — двигатели воспроизводят только мелодию переживания. Как тот, кто привык слушать только Дебюсси, Рахманинова или Листа, не понимает электролу, так и тот, кто никогда не водил машину в сверхдальние полеты, не услышит в мелодичном ворчанье двигателей нежного мотива переживаний.
Герберт слушал без напряжения. Он мог пропеть мелодии каждой из четырех струн своего инструмента.
Переживание, в которое он вслушивался сейчас, называлось одиночеством.
И совсем не потому, что он летит внутри шара — сверху черно-пурпурного, снизу грязно-синего, и за стеклами кабины лишь белый кружок, словно дыра, прожженная в этом огромном шаре раскаленным прутом…
И не потому, что внизу лежат сине-молочные пласты облаков или ржавеет клочок глубоко утонувшей земли… На ней нельзя разглядеть мечущихся городских огней и волн горных хребтов с притаившимся в седловинах туманом.
Рядом сидит второй пилот, а за спиной инстинктивно чувствуешь присутствие еще одного человека. И этот человек, сидящий рядом, нем, пусть микрофон исправлен и наушники работают безотказно. Второй пилот ничего не может сказать, потому что ему нечего сказать. Можно хоть сейчас бросить в микрофон: «Раф!» — и услышишь протяжное: «Да-а». «Летим», — скажешь. И тогда в наушниках протрещат слова: «Сделаем этот чертов полет, и все».
Вот так говорят друг с другом люди, чувства которых немы.
Нет, не потому он вслушивается в мелодию одиночества.
Где-то очень далеко и в то же время невероятно близко расстилаются многомиллионные города старого континента. Можно ли представить, что в этом огромном живом муравейнике ни один человек не думает о том, что над ним пролетает машина и ей остается еще целых пятнадцать минут до точки поворота.
«Четверть часа — или бесконечность? Через четверть часа я положу машину на левое крыло, пол рванется вверх, исчезнет опора, все повиснет, как недосказанное слово.
Люди не знают, когда я положу машину на крыло, чтобы повернуть. Они знают только, что я лечу и что я поверну обратно. А завтра ночью следующая машина в назначенное время опишет дугу, потом следующая и следующая; и каждый раз машина будет приближаться к тому месту, где надлежит описать широкую дугу… до тех пор, пока кому-нибудь не надоест эта забава. И никогда не случается, чтобы хоть одна машина прошла хоть одну минуту сверх этих пятнадцати, отмеченных на циферблате вторых часов, часов, показывающих время полета до цели.
Потому что тогда… все стало бы нереальным и неправдоподобным и все дела людей там, внизу, стали бы бессмысленными и ненужными.
Да, я знаю, что те, внизу, не могут не думать обо мне с ненавистью, как о мерзавце.
Портер этого не вынес. Портер прежде всего был честным человеком, а потом уж романтиком. Он не мог устоять перед хорошей машиной и трудным делом. Но не перед таким делом, о котором люди думали бы с ненавистью, не перед таким делом, одна лишь возможность выполнения которого не укладывалась в сознании всех людей без исключения, даже самих исполнителей… И еще годы он бы грыз в ярости ногти, и у него впереди были бы тысячи летных часов, и неустроенная жизнь, и горящие глаза при виде новой машины и расширенные от ужаса при виде искореженной дымящейся стали — памятника другу. Были бы годы чадящей пустыни с тлеющей травой, и духоты вонючего автобуса, и рома, текущего в городишке ошалелой рекой. Но нужно трезво смотреть на вещи и понять, что эти годы научили бы людей только ненавидеть и в конце концов их ненависть обратилась бы против них же самих.
Портер произносил в кабине долгие, нескончаемые монологи. Такие же бесконечные, как последние пятнадцать минут на часах цели. Его перевели в другую группу. Он полетел без «мандарина». Но ему казалось, что он снова несет груз. И он снова просил людей, чтобы они не показывали на него пальцами. Второй пилот посадил машину на аэродроме, а когда Портер вышел из кабины, слюна ползла из углов его рта грязными струйками. Его с трудом затолкали в карету, а один из санитаров сразу побежал на перевязку, двое других потирали синяки. Портер до самого конца верил, что его переведут на гражданские линии. Когда-нибудь он, возможно, и дождался бы этого. Ведь на базе нельзя работать слишком долго. Но он проиграл в беге, в беге, о котором говорил Раф. А потом они словно сговорились. Бланш, Карст. Они кончили еще глупей, чем сегодня Ленцер. Стена, утыканная битым стеклом. Неумолимая логика судьбы, результат приобретенного мастерства, плата за высокие профессиональные качества».
Вот почему двигатели играли одиночество.
Герберт смотрел на часы и наблюдал, как сокращаются эти пятнадцать минут.
За спиной его находился маленький аппарат, говорящий на языке тире и точек.
Аппарат не заговорит сейчас, нет, никогда он не заговорит в это время. Ведь через несколько минут Герберту предстоит повернуть машину. Впереди, через двадцать минут полета, начинаются радарные поля, и сети экранов напрасно прощупывают пустое небо.
Каждый винтик машины работал точно, ритмично, почти монотонно, послушно, как хорошо запрограммированный робот.
Взгляд Герберта скользил по приборам. Сознание одновременно регистрировало малейшие перебои четырех сердец металлического организма.
А потом, по мере того как шли минуты, он все напряженней и напряженней прислушивался, не отзовется ли за спиной маленький аппарат. Прислушивался — это, пожалуй, не то слово, ведь все равно он не услышал бы перестука тире и точек. Но он знал, что почувствует их, инстинктивно, безошибочно. Аппарат молчал. Нервы Герберта напряглись до предела. Сознание вот-вот оцепенеет в шоке.
Маленький аппарат был синонимом зла. В любую минуту он мог заговорить. Он не будет долго стучать. Сначала — вызов машины, зашифрованный номер комендатуры базы, потом — «приказываю выполнять». Эти слова пришли бы не как звуки, а как ровная строчка фиолетовых знаков на, узенькой полоске, сбегающей с барабана.
Лучше не думать об этом. Ни один передатчик мира не вышлет такую радиограмму. Лучше думать хотя бы о Доротти, потому что она чУдная. У нее великолепные волосы, в полдень они сверкают на солнце, кожа на ногах и руках почти кофейного цвета. И когда вечерами она проходит по тропинке, пробитой в скалах крутого берега залива, встречные оборачиваются ей вслед. И не только потому, что она красива, даже трудно передать, что больше всего привлекает в ней. В ее лице есть что-то по-детски доверчивое и по-матерински спокойное …В ее губах, в глазах, в волосах… Маленькая девочка семенит рядом с ней и повторяет извечное «а почему», и Доротти останавливается, объясняет ей, показывает, иногда погладит темную головку и идет дальше неторопливой, легкой походкой… Так они выходят на выступ скалы — мать и ребенок — и видят фиолетово-красную дугу солнца и синеющее в наступающих сумерках плоскогорье.
Можно думать обо всем. О красном огоньке на рейде. О машине, смывающей мусор и пыль в водостоки, о хозяйчиках, свертывающих цветные маркизы над витринами своих магазинов, о рюмке первосортного итальянского рома или о раскатистом смехе офицеров, часами простаивающих у входа в бар.
«Можно было бы думать обо всем этом, если бы только я мог сейчас думать. Но мои ощущения кружатся в кошмарном вихре бесплодной символики и ничем не походят на мысли».
Все внимание пилота, сосредоточенное на маленьком аппарате, было словно парализовано. Аппарат и только аппарат различал пилот среди множества предметов, находившихся вокруг него, хотя именно аппарат был невидим из его кресла. Он находился за его спиной, там, где глубина кабины сливалась с глубиной ночи. Все, что могло случиться с машиной, наверно, не прошло бы незамеченным для его опытного глаза. Но не сейчас. Сейчас он способен был выловить из всех шумов только неслышный звук жужжащего аппарата, хотя это был единственный прибор на борту, который не внушал опасений.
Он поймал себя на том, что уставился невидящим взглядом в циферблат часов, даже не в циферблат — только в секундную стрелку, бегущую по кругу.
Рядом был Раф, упрятанный в шлем и высотный костюм. Он не видел Рафа. Бледно-голубые полосы света чуть дрожали в кабине.
Секундной стрелке осталось еще полтора оборота.
Тогда сквозь звучание органов на крыльях, сквозь шум в ушах, идущий откуда-то от висков, он распознал новый, совершенно отчетливый звук.
Радиоаппарат принимал текст.
Но Герберт все еще находился в оцепенении. Мелькнула мысль: может быть, нервное напряжение лишило его способности различать звуки. Но рядом медленно поворачивался шлем Рафа. Значит, и Раф тоже — нет, не услышал — ощутил эти звуки.
Аппарат принимал текст. В эту минуту во всем мире произошло нечто странное, противоестественное, хотя об этом еще никто не знал. Только аппарат. Сейчас рука радиста поднимет ленту с приказом, и об этом первые узнают пилоты, а потом и другие люди, но только потом…
Невыразимое ощущение ужаса наполнило сознание и прошло по всем нервным каналам. Рядом с ним мерк обычный человеческий страх… Страх — совершенно особый, неповторимый, отвратительный и чудовищный — стремительно нарастал в кабине.
Не только глаза, не только сознание и каждый нерв горели этим страхом, как горит в жару смертельно больной человек, но куда бы ни падал обезумевший взгляд, он натыкался всюду на тот же страх, смотревший с приборов, наполнявший ночь за окнами машины.
Человек, охваченный страхом, становился частью мертвого мира приборов, которые источали страх, как ядовитый газ.
Аппарат все еще тянул ленту.
Герберт внезапно ощутил глубокую острую боль ниже левого плеча. Боль нарастала во всей левой половине тела. Она сжала легкие мертвой хваткой — Герберт перестал дышать, она сдавила горло — он почувствовал шедшую снизу тошноту, серебристый звон в ушах, глаза застлала зеленая пелена. А боль все росла, как будто что-то разбухало слева в груди и наполняло собою все тело.
Он ощутил эту боль в плече. Левая рука немела. И вдруг ее как будто не стало — это длилось мгновение. Боль уходила вниз по руке. Левая сторона тела была теперь только измученным, бессильным, рассыпавшимся воспоминанием о том, что минуту назад было живым сплетением мускулов, нервов, сосудов, наполненных кровью.
Страх рос вместе с болью в груди, в глазах, в мозгу, в нервах.
Сквозь зеленую пелену Герберт увидел темную руку радиста, подавшую ленту Рафу.
Секундная стрелка на часах цели начала свой последний круг.
Следовало выключить автомат и вести машину… согласно приказу.
Что читает Раф?!
Раф держал ленту перед глазами. Опустил ее, потом снова поднес к глазам.
— Господин майор! — скрипнуло в наушниках.
Последним усилием воли Герберт нащупал языком ложечку, укрепленную под микрофоном внутри шлема. Втянул ее в рот. Капсула нитроглицерина растаяла в желчи и слюне.
— Господин майор!
Он хотел пробормотать «Гм» и не смог — голоса не было. Боль снова сжимала грудь. Нитроглицерин таял.
Секундная стрелка ушла вниз и теперь взбиралась вверх, к нулю, на котором уже покоилась минутная стрелка.
«Нужно выключить автомат, выключить автомат, автомат», — стучало у него в голове.
Он чувствовал, как постепенно начинала пульсировать кровь. Сначала в шее, в голове, потом все ниже. Боль отступала, а страх начал сползать с мертвых предметов, хотя все еще жил в глазах, на губах и в мозгу пилота.
— Господин майор!
Наконец ему удалось выдавить первое слово, неясное, изуродованное зажатой под языком ложечкой.
— Автомат!
— Понял! — услышал он.
Мгновенное облегчение, как будто решено что-то очень трудное и важное.
— Понял, — повторил Раф.
Но Герберт поднял правую руку. Он не был уверен, что левая поднимется хотя бы на миллиметр. Мысль, что это можно проверить, просто не пришла ему в голову.
Правой рукой он выключил автомат. Раф принял управление.
— Господин майор… Дочка!
Стрелка кончила круг. Циферблат вспыхнул красным сигнальным огоньком и тотчас погас.
— Поворачивай! — крикнул Герберт.
Он выключил циферблат вторых часов, часов цели, — тех, которые еще ни в одной кабине, ни одному пилоту не мигали красным сигналом.
Раф потянул на себя ручку секторов газа.
Двигатели стихли. Глубокая, торжественная органная мелодия оборвалась на полутакте. Издали голос машины напоминал теперь свистящее дыхание старого астматика. Указатель скорости прыгнул вниз. Тогда Раф положил машину на левое крыло.
Луна поспешно выдернула руки из кабины и исчезла.
Ночь за стеклами кабины казалась теперь бездонной.
Кабина стала почти боком, но машина по инерции еще мгновение шла прямо и только потом вышла на дугу поворота.
Герберт вытолкнул изо рта ложечку. Языком отбросил ее в гнездо. Кровь пульсировала уже в пальцах рук и ног и свободно разливалась по всем клеткам тела.
«Нужно поздравить Рафа. Для него это важное событие».
Он перегнулся в кресле. Левое крыло светилось серебристым блеском. Вдали виднелась медная лента сожженного топлива, дымными кольцами выбрасываемого из сопел двигателей. Медная лента четко пересекала небо широкой дугой.
Там, в самом ее начале, лежала Точка Поворота.
XV
«Огни реклам. Ошалевшие автомобили, как ножницами, разрезают улицу на две длинные полосы. Прохожие пытаются проскочить между шеренгами фар. Открытые бары. Толпа на Корсо… Так это еще будет?
Оливковые рощи. Виноградные гроздья, забравшиеся на плечи деревьев. Стук колес экспресса, серые глыбы Апеннин, крохотные селения на холмах, забавно петляющее шоссе. Духота в вагонах и перебранка в коридорчиках. И это будет?
Солнце над Монте-Марио…
Белье, развешанное на веревках, протянутых поперек улиц.
Кошки, греющиеся на солнце в корзинах с фруктами.
Лотки с макрелью и всякой зеленой пакостью.
Оборванцы-карманники, шныряющие в толпе.
Все это еще раз спасено для меня?»
После недавнего приступа изредка пробирала нервная дрожь.
Раф вел машину очень точно, хотя и без воодушевления. То и дело он поглядывал на Герберта. Наконец решился.
— Господин майор?
— Гм?
— Спустимся перекурить?
— А как внизу?
— Облака.
— Спускайся.
— Понял.
Раф аккуратно сделал все, что полагалось для снижения. Потом рука его снова легла на рукоятку сектора газа. В кабину, как сквозняк в комнату, ворвался свист. Внизу посветлело. Бездонное ночное небо постепенно приобретало едва заметные очертания, это уже был фиолетово-синий свод.
— Двенадцать тысяч, — доложил Раф.
Облака были уже совсем близко. Они напоминали огромный клубок змей.
«А в городишке, — думал Герберт, — даже шоферы, развозящие ночью товары, уже плетутся, усталые, домой. Рыбаки возвращаются с ночного лова. Последние пешеходы этой ночи. Уже на рассвете вывалятся солдаты из некоего каменного дома и из другого, стоящего напротив. Эти дома обычно покидают на рассвете. В это время первый хозяин натягивает цветную маркизу у витрины своего магазина. Солдаты атакуют хозяина, и тот неохотно достает бутылку рома, выбивает пробку, и первая утренняя порция живительной влаги наполняет солдатское брюхо, мускулы которого отяжелели от ночной работы.
В полночь я вернусь в городишко на тряском автобусе. Боже, с каким наслаждением я растянусь на кровати!»
— Девять тысяч, — докладывал Раф, — восемь тысяч пятьсот… семь тысяч… шесть тысяч пятьсот.
Машина вошла носом в первые клочья растрепанного облака. Молочно-синего, искрящегося. Облако мягкое, как губка, как пушистый снег, самолет вошел в него и уничтожил, как только струи газа из камер сгорания вонзились в его губчатое тело.
Теперь они шли по огромному голубому заливу среди медных облаков с посеребренными краями. По сторонам, внизу, ниже машины, мчались невысокие холмы, одинаковые, как булыжники мостовой. Машина быстро снижалась.
— Шесть тысяч, — доложил Раф. — Ах, черт! — крикнул он и показал рукой.
Герберт приник к стеклу и всмотрелся. Перед ними стеной стояло грязно-бронзовое облако. Машина вошла в него на полном ходу. Дрогнули приборы. Кресла задрожали, закачались. Обоим показалось, что свет внезапно погас.
— Черт побери!
— Пять пятьсот.
— Попробуй спуститься ниже.
— Понял, пять двести.
Раф включил щетки, которые стремительными движениями принялись счищать воду со стекол.
— Четыре шестьсот. Трясет.
— Трясет.
— Черт!
— Сейчас нельзя включать автомат. Попробуй спуститься еще ниже.
— Четыре двести. Тройка вышла из режима.
— Слышу. Ерунда.
«Может, в городишке наконец-то льет, — подумал Герберт. — А в общем-то какое это имеет значение! Да и до городишки отсюда несколько часов полета. Там сейчас — душная ночь, наполненная шумом оживающего плоскогорья. Доротти спит… Доротти спит… Уже недолго».
Они встречались часто. С кем можно встречаться в городишке? Пока Карл еще летал, они раз или два в неделю устраивали дружеские вечеринки. Обычно — в доме Портеров. Приходили офицеры. Теперь из их компании остался только Герберт. Пили ром, изысканные вина. Магнитофон раскручивал ленты с хорошей музыкой. В большой комнате мебель отодвигалась к стенам и посреди можно было танцевать. У стола с закусками столбом стоял табачный дым. Захмелевшие мужчины уже в который раз проклинали базу и свою окаянную работу и задавали один и тот же вопрос — когда всему этому придет конец. От подобных разговоров их не могло отвлечь даже очарование глаз Доротти. Каждая такая встреча походила на поминки.
А Дороти вдруг ни с того ни с сего заинтересовалась Майком. Карл догадывался, что в те часы, когда он сидит в машине, Доротти, прихватив одеяло, отправляется с Майком за город, туда, где растут рахитичные деревца, толстые и огромные агавы. Портер узнал об этом, но скандала не произошло, потому что Майк «закашлялся насмерть» где-то над морем.
А еще позже Портера забрала карета. Доротти хотела немедленно уехать из городка. С нее было достаточно. Правда, теперь ей не нужно было волноваться за Карла — он больше не летал. Но она волновалась за Герберта, Ленцера, Бланша, Карста. Герберт вел ее под руку, когда на кладбище везли прах кого-нибудь из их товарищей. Если же очередного забирала карета, они совсем не показывались в городке, сидели в комнате, пили ром, молчали.
— Три девятьсот.
— Держи так. Попробуй включить автомат.
— Ага!
Прошел год, а Доротти все еще жила в городке. Ее мать писала ей коротенькие письма с родины. Доротти хотела вернуться к ней. Но Герберт знал, что будет не так. Они уедут вместе. С тех пор как забрали Карла, они оба знали, что уедут вместе. Наверно, уже тогда, в заброшенной деревушке, у озера, им суждено было не разлучаться. Они никогда не говорили об этом, но оба так думали.
В этот вечер Герберт послал ей записку. Сначала он хотел написать все, что решил сказать, потом передумал. Он предпочел объясниться, глядя ей в глаза.
Завтра она придет в «Новые астры».
Они сядут за маленький столик, закажут мороженое и коктейль.
Тогда он закурит и скажет: «Мы ведь поедем вместе. Постарайся объяснить все это дочке. Хорошо?»
Доротти, наверно, не ответит, только опустит глаза, но потом взгляды их встретятся, как это обычно бывает в пошлых кинофильмах.
Они вернутся домой вдвоем. Впервые они вернутся домой вместе, думая только о том, что уезжают, ушлют девочку играть в садик и останутся одни. Именно об этом ему хотелось сейчас думать. Они будут одни. Вдали от базы, от ее людей, от машин, от вонючего плоскогорья, от каменных холмов.
«Полковник обещал заняться моим переводом на гражданские линии. Может быть, через несколько недель я уже буду водить пассажирские самолеты в Афины, Рим, Вену, Варшаву…»
Он расстегнул замки привязных ремней. Снял наушники со шлема, а потом и шлем. Перед этим он выключил кислородный аппарат. Наушники он надел снова и посмотрел на Рафа. Тот тоже уже управился со шлемом и освободился от ремней. Он сидел теперь боком, небрежно, как сидят в кресле в клубе базы, и с наслаждением болтал ногой. Глуповатая улыбка словно приклеилась к его лицу, она делала его похожим на типичных «нормальных людей» с континента, Раф полез в карман, достал пачку сигарет. Протянул Герберту.
Лучше бы закурить свои, у Рафа были слишком крепкие. Но ведь это был символ — протянутая рука с пачкой сигарет, совсем как в клубе — с рюмкой рома.
Герберт щелкнул зажигалкой.
Они быстро и глубоко затянулись — несколько раз подряд.
Дым синими полосками поплыл по кабине.
— Поздравляю, — сказал Герберт.
— Спасибо, господин майор. Ну, этот полет мы сделали.
— Почти сделали.
— Придете ко мне? Ребенка надо окрестить, а самое главное — будет выпивка.
— Ну, конечно. Пойдем на похороны Ленцера, а потом к тебе. Крестины так крестины.
— Перестало трясти.
— Вышли из болтанки.
— Посмотрите-ка, господин майор. Вон те рыжие пятна на синей земле. Города.
— Да-a. Еле стветятся, как сквозь туман.
Огоньки сигарет заблестели веселей.
XVI
Они снова летели в шлемах.
Раф доложил:
— Достигли заданной высоты.
Герберт включил автопилот. Воздушное пространство было неоднородным, широкие полосы разрежений рассекали его. То и дело машина проваливалась в «ямы». Она падала, как кошка, — плавно и мягко.
Снизу, с земли, люди смотрели в небо и видели звездную ночь.
Облака остались далеко позади. Здесь, в машине, перед глазами пилотов быстро проносились желтые пятна на бронзовой с синеватым отливом земле. Время от времени мелькали фиолетовые сполохи, напоминавшие бледные болотные огоньки. Не иначе — промышленные центры. Толстые жилы рек золотились в лунном свете.
Герберт обхватил колени руками и задумался. Он отдыхал. Теперь он почувствовал, что вспотел. Рубаха прилипала к телу, рукава были влажными до самых локтей.
Янтарные огни городов исчезли. Земля начала горбиться, покрылась бесформенными возвышенностями.
Кое-где вершины сверкали ледяным ореолом. Огромные скалистые массивы, залитые желтым лунным светом, напоминали острова на рассвете, проступившие на фоне темного еще океана.
Далеко впереди показался еле заметный огонек, который быстро приближался. Потом он разделился на два огонька — красный и зеленый, — несшихся рядом. Это далеко внизу, пересекая трассу Герберта, проходил самолет.
Герберт потянулся к экрану радара. Включил его и следил за полетом неизвестной машины до тех пор, пока она не вышла из поля зрения.
Когда он снова взглянул в стекло кабины, то сначала ничего не мог различить. Металлический блеск экрана ослепил его.
— Высоко шел? — спросил Раф.
— Двенадцать тысяч.
Раф, не выключая микрофона, громко зевнул. Герберт старался сдержаться, но тоже широко открыл рот.
Через несколько минут горы совсем неожиданно оборвались. Снова за стеклами кабины бледные островки света над городами сливались в своеобразную, едва намеченную скупыми красками карту.
Машина провалилась в глубокую «яму». Автопилот выключился. Герберт схватился за штурвал. Выровняв машину, он снова включил стального помощника.
Опять можно было отдыхать. Не думать о душном городишке, о полете, о том, что полет закончен и ему предстоит глубокой ночью ехать на трясущемся автобусе по холмистому плоскогорью.
Герберт мельком взглянул на приборы.
И вдруг ему показалось, что произошло какое-то изменение, которое ускользнуло от его внимания. Он инстинктивно почувствовал, что в машине что-то не в порядке.
Медленным, внимательным взглядом он обвел кабину.
Рукоятка сброса груза едва заметно дрогнула.
Это было невероятно. Он хотел крикнуть: «Смотри, Раф!» — и не успел.
Машина, освобожденная от груза, рванула вверх, словно мощная рука исполина ударила снизу в ее брюхо.
Рукоятка опять чуть вздрогнула, но с места не сдвинулась.
Однако непрекращающийся сигнал сброса ясно говорил о том, что груз отделился от самолета.
Все, что теперь делал Герберт, он делал машинально.
Эти движения он знал наизусть, хотя до сих пор ему не приходилось их выполнять. Сами по себе они были просты, основное заключалось в быстроте реакции.
Он перевел газ на режим сверхзвуковой скорости. Выровнял качающуюся машину, включил автопилот. Кресла сами откинулись назад, и пилоты оказались в полулежачем положении. Двигатели взревели, залились почти непрерывным воем, переходившим в высокий свист.
Цепенеющей рукой Герберт успел включить аварийные часы, и в ту же секунду радист начал передавать аварийный сигнал.
Прошло всего лишь несколько секунд. Груз, сам собой отделившийся от машины, по огромной параболе несся сейчас к земле. Скорость самолета уже превзошла все допустимые цифры, перечисленные в приказе, и стрелка на приборе медленно входила в ту часть шкалы, где были обозначены красным цветом сверхзвуковые скорости.
Герберт отлично понимал, что, несмотря на максимальную скорость, машина не успеет выйти из зоны взрыва. Слишком малой была скорость в тот миг, когда что-то испортилось в устройстве сброса.
Еще через несколько секунд в углах кабины, за стеклами, появится вначале белая, затем зеленовато-фиолетовая вспышка. Она охватит все небо, проникнет в кабину, наполнит ее, ударит в глаза — и уже ничего больше тогда не увидишь. А в следующую секунду взорвутся баки с горючим.
Сознание отсчитывало секунды.
От внезапного ускорения в желудке поднялась волна тошноты, хлынувшая к горлу. Руки стали тяжелыми. Первые капли пота скатились от подмышек к локтям.
Герберт закрыл глаза, хоть знал, что это не спасет их от ослепляющей вспышки.
Он ждал, когда кончатся оставшиеся секунды.
Сейчас груз уже летит не по параболе, а почти вертикально, чтобы через секунду врезаться в землю.
По всему корпусу облегченной теперь машины время от времени проходила дрожь, но машина оставалась на курсе, можно было не выключать автопилота, не принимать управление и не снижать скорости.
Прошли еще две секунды, потом еще одна.
Герберт ждал зеленоватой вспышки, которая должна быть видна даже сквозь опущенные веки.
В наушниках что-то треснуло. Раф икнул.
Герберт открыл глаза. Он видел бегущую по циферблату секундную стрелку аварийных часов. Уже… Он с силой зажмурился. Новые капли пота текли по рукам. Ожидание было бесконечным. «Наверно, сильный ветер тормозит его полет», — подумал Герберт.
Раф как-то страшно заикал. Он издавал звук, похожий на звериный рык. «Увидел, — мелькнуло в голове Герберта. — Сейчас увижу и я».
И еще три секунды.
Машина шла плавно, без дрожи, как плывет в звездную ночь лодка по тихому озеру. Герберт чуть приоткрыл глаза, чтобы посмотреть на аварийные часы, — в его сознании время мчалось слишком стремительно.
Он перевел взгляд на стекла и краем глаза увидел что-то зеленоватое. Голова его метнулась назад, ища опоры. Измученное недавним приступом сердце снова захлебнулось. Нервы атрофировались, кровь будто остановилась. Но вдруг сердце ударило сильней и снова забилось ровно. А вся кровь хлынула в голову. Шум в ушах заглушал даже грохот двигателей, казавшийся орудийными залпами.
Груз должен был уже врезаться в землю. Значит, взрыва не произошло.
Оба пилота лежали неподвижно, пока автомат не уменьшил подачи газа. Скорость падала вместе со стрелкой прибора. Кресла сами собой поднимались, пилоты снова сидели. Измученные двигатели то и дело сбивались с ритма, как только что сердце Герберта.
Автомат еще снизил подачу газа. Радист продолжал передавать аварийный сигнал. Первым отозвался Раф:
— Спускаемся…
— Нельзя.
— Мне нужно.
— Нельзя!
Раф начал расстегивать ремни. Герберт следил за его движениями. Затем второй пилот поднялся с кресла. Качаясь, он исчез в проходе за спиной Герберта.
Пот стекал на веки. Резало глаза. Протереть их он не мог. Вся одежда прилипла к телу.
Рафа не было.
Радист протянул ленту.
Герберт прочел сообщение. Успела отозваться комендатура базы. Требовали передать аварийные данные.
Он начал диктовать радисту. Когда, при каких условиях полета, на какой высоте произошло самоотделение груза. Как вела себя машина, экипаж, что было сделано после аварии, каково состояние машины.
Из комендатуры подтвердили, что донесение принято, и приказали продолжать полет согласно предписанию.
Герберт сказал радисту:
— Пусть сообщат нам о результатах аварии.
Рафа все еще не было. Тогда Герберт расстегнул ремни, снял наушники. Внимательно осмотрел приборы стального пилота. Осторожно встал. Потом, опираясь руками о стены коридорчика, двинулся в глубь машины. Миновал радиста. Навстречу в темноте двигался Раф. Но здесь они не могли даже словом перекинуться — для этого нужно было вернуться в кресла.
Раф шел, шатаясь. Герберт поддержал его. Помог сесть. Посмотрел ему в лицо. Но увидел лишь матовое стекло, будто внутри шлем был пустой… Будто у Рафа совсем не было лица.
Герберт вздрогнул. Он наблюдал, как Раф медленно усаживался, потом секунду сидел неподвижно, наконец потянулся за наушниками. Герберт сделал то же самое, подключил микрофон.
— Раф.
Ответа не было.
— Раф! Раф, ты забыл микрофон…
Рука второго пилота потянулась к проводу. В наушниках раздался треск и наконец голос:
— Угу…
— Ну?
— Сделайте то же самое, господин майор…
— Да что с тобой?
— Не знаю. Когда я застегивал скафандр, кровь носом пошла. И с правым ухом что-то творится. Кажется, тоже кровь. Немного шумит в голове. Ох, господин майор, я ничего не вижу, совсем ничего!
— Раф!
— Угу!
— Посиди минутку спокойно, не шевелись. Сейчас зрение вернется. Не жмурься сильно. Только слегка прикрой веки.
— Угу.
И через минуту:
— Господин майор.
— Ну?
— Уже!
— Что, уже?
— Уже вижу.
— Ну вот, видишь.
— Господин майор.
— Ну?
— Сделайте то же самое. Я все из себя выбросил. Меня так скрутило, что я ничего не мог поделать. У меня не было сил застегнуть комбинезон, но я должен был это сделать и вам советую — это помогает.
Они замолчали. Радист принимал радиограмму.
Перед глазами Герберта появилась рука радиста с лентой, испещренной точками и тире. Герберт прочитал сам, потом передал Рафу. Тот прочел быстро про себя, потом еще раз вслух, то и дело разражаясь истерическим смехом.
— «Ничего существенного не произошло». — Смех. — «Груз упал на католическое кладбище за городом». Кладбище! «Задавило парочку в кладбищенской часовне». — Смех. — «Население в панике бежит из города. Химические отряды заняли пораженный район. Передвижные радиостанции призывают население сохранять спокойствие и возвращаться по домам. Временно, пока груз не извлечен из земли, движение по железной дороге возле кладбища приостановлено».
Раф заливался истерическим смехом, то и дело повторяя первые слова радиограммы: «Ничего существенного не произошло».
— Интересно, а это парочка успела хоть?..
Герберт выключил наушники. Внезапно он все это увидел совершенно отчетливо. Неотвратимая волна тошноты подкатила к горлу. Его стошнило прямо в шлем, и он испугался — в любую минуту мог оказаться забитым шланг дыхательного аппарата, мог отказать микрофон.
Перед его глазами возникла часовня. Мертвые лики святых. Двое людей… И потом — страшный грохот, валится свод и медленно оседает пыль от сбитой штукатурки.
Он снова включил наушники. Раф уже успокоился и только тяжело дышал — в наушниках слышался тихий шелестящий звук.
Потом перед глазами Герберта встало шоссе, уходящее из города… мчащиеся по нему легковые автомобили, грузовики, телеги, заваленные рухлядью, плачущие дети, рев сигналов. «Это что-то напоминает, — подумал он. — Военные сводки тоже обычно начинались словами: «Ничего существенного не произошло».
— Ничего существенного не произошло, — сказал он громко, чтобы проверить микрофон.
Сзади послышался щелчок. Он обернулся, но ничего не увидел. «Показалось?»
Раф тоже обернулся. Потом расстегнул ремни, встал и пошел посмотреть, в чем дело. Вернулся, сел и снова надел наушники.
— Что такое?
— Радист застрелился.
XVII
Связь с землей была прервана.
Можно было, правда, приказать Рафу занять место радиста, но Герберт не хотел этого делать. Он не хотел чтобы Раф, глядя на труп, размышлял о всяких ненужных вещах, потому что тогда и Раф мог бы, в конце концов, что-нибудь выкинуть, а он еще нужен был — при посадке.
Машина уже приближалась к базе, и через несколько минут с землей можно будет разговаривать непосредственно по радиотелефону.
«Возле ворот, где вход на территорию базы преграждают часовой и толстая цепь, стоит толпа. Прибывают одна за другой автомашины. Некоторые, с пропусками, въезжают на территорию. Длинная бетонная полоса вся светится красными огнями, и самолеты один за другим идут на посадку. Собираются комиссии, инспекторские группы, группы саносмотра, группы контроля, толпятся парни с узкопленочными киноаппаратами; вопросы, возмущенные возгласы; шныряют репортеры в надежде заработать — ведь дельце из ряда вон выходящее.
И вся эта свора — от генералов до жалких репортеришек из жалких газеток — бросится на нас и мгновенно проглотит, как лакомый кусок. Черт! Радист знал, как нужно поступить, как проще всего выпутаться из этой истории.
А люди все идут и идут к этим воротам с цепью. Скоро там соберутся все жители городишки. Это похоже на паломничество, правда без священника. Впрочем… священники тоже придут. Может быть, они даже будут стараться спасти наши души — еще при жизни. Мою и Рафа. Тот, третий, теперь уже успокоился, и если бы он мог хоть что-нибудь сказать, то, наверно, сказал бы, что ему повезло.
Люди у ворот чем-то напоминают забастовщиков. Ночью они так же, как забастовщики, усядутся по обеим сторонам шоссе, на сыром асфальте, и будут ждать. Вдоль шоссе вытянется цепочка тлеющих огоньков сигарет, едва будет различаться тихий говор, изредка тишину может нарушить громкий возглас…
Военные машины с трудом пробираются сквозь толпу к воротам, комендатура наверняка усилила охрану.
Те, что стоят впереди, тоже, наверно, будут пытаться проникнуть за ворота. В конце концов дело дойдет до потасовки, приедет полицейская машина и будет настоящая забастовка, как тогда в Неаполе.
По радио уже успели сделать сообщение. О происшествии стало известно во всех домах, сейчас, наверно, только и разговору, что об «этом экипаже». Боже, увидеть бы все это Портеру! Тогда бы он поступил так же, как радист, и успокоился бы. Лучше уж такое, чем стена с битым стеклом! Если и Раф сейчас сделает то же самое, мне трудно будет посадить машину. Но, может, он не такая свинья, как радист?
Сейчас, наверно, к воротам подходят те, кто не мог сразу бросить работу. Они расспрашивают, не было ли каких-нибудь новых сообщений, и присоединяются к тем, кто пытается прорваться за ворота. Среди них Доротти. Хотя ее, наверно, впустили на территорию. Ведь она уже прочитала записку. Она, конечно, сразу догадалась, что я хотел сказать ей завтра. Семьи экипажа всегда впускали на территорию, если что-нибудь случалось. Когда забирали Портера, ее тоже впустили, и сегодня она, наверно, уже ждет возле убежища.
Офицер из диспетчерской прочел репортерам и штабистам сообщение о результатах аварии. «Ничего существенного не произошло…». Это неплохо звучит. Кто бы мог подумать, что на базе есть такие великолепные стилисты? Наконец-то им представился случай проявить свой талант!
О чем думает Доротти? Может быть, она молит бога, которого никогда и не было, чтобы он был добр ко мне? Она лучше всех знает, что только чудо доброго бога может помочь посадить машину благополучно… чтобы потом мы могли пойти домой вместе, темной ночью среди холодных камней, где кричат голодные птицы и прочая разбуженная тварь… Чтобы мы могли возвратиться домой вместе и уложить вещи… Но будет иначе. Хриплый гудок… и старая лайба отдаст концы и в который раз потащится в рейс за провизией в нормальный мир. С его борта Доротти и ее дочь еще раз взглянут на разбросанные огни городишки, который забрал у них двух дорогих людей.
Может быть, она поверила на мгновение в доброго бога, если уже больше не во что верить? Как это говорили сегодня в клубе? Если бы он вернулся на землю, то никто бы все равно не поверил, и он бы умер в больнице от рака или его раздавил бы на шоссе какой-нибудь подвыпивший молокосос. А не я ли сам это сказал? Впрочем, это не имеет значения. Кто-то сказал, и ладно! Хорошо сказал, но Доротти сейчас верит в доброго бога, потому что это все, во что нам осталось верить, черт побери! Жаль, что нет бога, можно было бы на него свалить всю вину, и пусть бы у него мозги сохли! А мы б тогда плевали на всю эту историю! Радист знал, что поздно на кого-нибудь сваливать. Теперь, когда уже случилось… Да, теперь наверняка поздно. Черт возьми, опоздал на один день. Почему я не уехал с ней до сих пор? Неужели нельзя было просто удрать из городишки? Разрази меня гром, если это не моя вина! Каждый из нас знал, чем все это пахнет, но мы сидели на базе и по очереди летали. То и дело кто-нибудь гробился, только его и видели. А остальные все равно летали и летали. Вот хотя бы этот идиот Раф. Надо же — высчитал, что он еще год может это делать. Каждый знал, чем это может кончиться, но никто не думал, что когда-нибудь наступит такой день, что будет уже… Как католики — те тоже верят, что бог вернется, но если бы он вернулся, они бы первые не поверили, во всяком случае, очень бы удивились. Люди, выдумавшие это, не в состоянии будут постичь простейшего следствия своей собственной фантазии. Какая примитивность рядом с утонченностью! С ума можно сойти, черт побери!
Доротти знает, о чем я думаю сейчас. Она достаточно хорошо меня знает. И знает, как это началось у Портера. Ну, вот мы и опоздали, то есть вся эта история произошла раньше. Мы знали, что когда-нибудь она произойдет, но это слово «когда-нибудь» усыпляло нас.
Ведь мы все знали, что мы — большие, умные скорпионы. Но никто не верил, что эти большие скорпионы могут выпустить жало, — ведь большие скорпионы умны! Во всяком случае, они умнее тех маленьких, настоящих скорпионов, которые ночью лезут по ножкам стульев… И вот тебе! Большой скорпион нечаянно выпустил жало, и — случилось, черт бы его побрал!
Не понимаю, почему именно я влип в эту историю? Что у меня общего с ними и со всем этим? Портер — тот хоть всегда мечтал стать первоклассным военным летчиком. Он не понимал, что уже в этом стремлении — начало его жалкого конца. Но я — я всегда думал только о прогрессе гражданской авиации. Что же я здесь делаю, почему весь эфир гудит моим именем, почему во всех домах на материке молчат так, что мне не хотелось бы сейчас войти ни в один дом — ни в Вене, ни в Риме, ни в Варшаве, ни в Базеле.
Не нужно было мне подписывать контракт с фирмой… Но что бы тогда изменилось? Подписал бы кто-нибудь другой, а меня забрили бы в солдаты. Когда я учился и когда работал в городе, у меня еще был шанс — найти такую гражданскую фирму, которая мне подойдет. Разве я виноват, что с фирмой что-то произошло? Фирма тоже не виновата. Слабые не виноваты. Так в чем же дело? Может быть, все началось с того, что я поехал тогда в лагерь над озером? Встретил Портера и сам себя убедил, что мое призвание — дальние рейсы, перелеты через полюс на реактивных самолетах и прочая чушь…
А здесь, на базе, уже ничего нельзя было поделать. Конечно, это ерунда, будто бы полковник устроит мне перевод. Он ничего подобного не обещал, это я сам себя уговорил поверить в небылицу. Полковник, если б только мог, сам удрал бы отсюда без оглядки. А тогда уже ему плевать было бы на мой рапорт. Пришлось бы уговаривать нового полковника. Нет. Из этой дыры трудно выбраться. Разве что так, как Портер…
Чего же мы все ждали? Каждый думал, что это случится, когда его уже здесь не будет. Мы походили на католиков, которые ждут возвращения бога, совсем не желая его возвращения.
Что я здесь делаю, среди всей этой компании? Недоразумение и случай привели меня сюда. Почему же именно я должен был влипнуть в историю? Я совсем не в восторге от этой роли: уж лучше бы я спокойно развозил по утрам молоко и оставлял бы бутылки у дверей… Ведь все знали, что это когда-нибудь произойдет.
Те, на материке, тоже знали, но старались не думать о базе вообще и о том, что на ней делается. Они как-то рассчитали в своих черствых и богобоязненных рантьерских душах, что их это минет, а о потомках — за всю историю человечества кто же о них думал всерьез?
Здорово они просчитались. Но откуда и впрямь им знать, что это может произойти? Только сейчас, когда произошло, они будут знать… Знать, что это может повториться каждый день и каждый час. А это значит — везде, в любую минуту. Возможно, какой-нибудь болтун из газеты украсит свой комментарий заголовком: «Перманентное состояние потенциальной возможности катастрофы» и еще решит, что открыл какой-то закон человеческих отношений. Ничего нового он не откроет, ведь об этом знали уже давно. Только как-то… всем это было крайне безразлично… И завтра опять будет безразлично… Люди прочтут газеты, поговорят в трамваях, на работе, если дети за столом спросят, что-нибудь зло буркнут в ответ и снова им станет безразлично.
До каких пор, черт возьми!
Я никогда не думал, что мой радист так широко мыслит. Он быстро додумался до этого самого места, до этого «до каких пор» и сам себя прикончил. Он свое дело уладил.
Если бы тем, внизу, все это не было так безразлично… Если бы они поменьше носились с собой, с собственными мыслями и желаниями… я мог бы еще вернуться на базу, может быть, даже смог бы уехать вместе с Доротти. Но они, черт бы их побрал, утешатся, если я смогу забыть. Иначе они приговорят меня к избиению — камнями слов. Только за то, что я буду им вечным напоминанием. Вся эта история будет связываться у них с тем, не проговорюсь ли я, а у меня — с их стиснутыми зубами. Я не могу жить под вечно направленным на меня указательным пальцем. В конце концов, что мне до всего этого? Что до этого полковнику, что штабистам, что диспетчерам? Все знают, что приказ глуп. Но покажите мне такого смельчака, который почувствовал бы свою ответственность и отменил бы приказ? Черта с два, не он издавал, ему какое дело! Ему наплевать, черт побери!
А те внизу уже настроили радио и телевизоры на легкую музыку…»
— Раф! — крикнул он.
Ответа не было.
— Раф! — повторил он снова.
— Угу…
— Приготовить машину к посадке согласно предписанию!
— Понятно.
Герберт перешел на радиотелефонную связь и вызвал базу. Через несколько минут земля отозвалась.
— Майор, почему прервали связь с базой, почему не отвечаете?
Герберт доложил о смерти радиста.
— Сообщите данные, прием, — закончил он.
Данные с базы сообщили. Он сопоставил с приказом.
— Раф!
— Угу…
— Идем с опозданием в полторы минуты. Ну-ка, толкни вперед.
Он внимательно следил за Рафом. В наушниках что-то треснуло дважды. Он понял, что у Рафа икота. После выключения автопилота машину то и дело сотрясала мелкая дрожь. Герберт знал, что это дрожат руки Рафа.
— Раф!
— Угу…
— Успокойся, черт возьми. Я беру управление.
Герберт сделал несколько маневров. Машину продолжало трясти. Он посмотрел на свои руки, которые тоже дрожали, несмотря на то, что он то напрягал, то расслаблял мускулы в надежде, что к ним вернется прежняя упругость.
Он снова включил автопилот и беспомощно откинулся на спинку кресла. «Мы не сможем сесть», — подумал он.
Раф икал все громче.
Радиокомпас уже поймал луч маяка, и стрелка, дрожа, ползла по шкале. «Нужно вывести машину на курс, что это творится с моими лапами?»
— Господин майор.
— Ну?
— Дайте мне управление. Я выведу машину на курс и посажу сам. Вы ничего не делайте.
Раф взялся за штурвал, но приступ икоты лишил его руки точности движений.
Машина, отпущенная неосторожным движением пальцев, свалилась на правое крыло, опрокинулась вниз и медленно входила в штопор. Кровь ударила в глаза от внезапного ускорения. Герберт схватил обе рукоятки и с трудом выровнял машину. Движения его рук обрели прежнюю уверенность.
Раф возился в своем кресле.
Вдруг он бросился на Герберта, пытаясь вырвать у него штурвал.
Машина снова завалилась вниз. Раф визжал:
— Отдай штурвал! Отдай штурвал! Я сяду! Ты разобьешь машину на полосе! Я должен сесть! Я должен бежать в госпиталь! Забрать их… удирать… удирать! Отдай штурвал!
Герберт увидел, что другой рукой Раф дергает кобуру пистолета, пытаясь ее открыть.
Герберт выхватил свой пистолет и выстрелил дважды. Тело Рафа обмякло и повисло на ремнях. И тут Герберт подумал: «Зачем я стрелял в лицо, ведь в лицо можно было и не стрелять…»
Он выровнял машину, снова вывел ее на курс.
Далеко впереди, на самом краю неба, он увидел фиолетовые вспышки прожекторов.
XVII
Он описал широкий круг над базой.
Разговор с комендатурой был окончен. Можно было выключить рацию. Она больше не была нужна — до самого момента посадки. Он увел машину к радиомаяку и начал кружить над ним.
Предстояло сойти с высоты полета на ту высоту, где обычно ждали получения разрешения на посадку. Герберт выключил газ. Машина со свистом перешла на планирование. Внезапное замедление вызвало новую волну рвоты, которую Герберт не смог сдержать. Стрелка указателя высоты прыгала с цифры на цифру, а Герберта все еще сотрясали приступы рвоты. Он задыхался в тесном шлеме. Если бы можно было уже снять его, сбросить!
Рафа не было. Рядом было только его безжизненное тело. «Черт бы его побрал! — подумал Герберт. — И тех, внизу, вместе с ним!»
Ему предстояло начать приготовления к посадке. Нужно было проделать несколько десятков действий, причем некоторые — одновременно. Он не представлял себе, как он справится со всем этим без помощи второго пилота и радиста, который обычно при посадке стоял за спиной пилота, выполняя функции штурмана. Предписание, которое выдавалось в полет, не предусматривало подобных случаев.
Он снова проверил скорость и, выровняв машину, включил автопилот. С облегчением потянулся к наушникам и снял их. Не было Рафа, чтобы помочь открепить шлем. Он долго возился с герметичными клапанами, наконец снял тяжелый шлем и положил его за креслом. Снова взял наушники и шланг дыхательного аппарата. Кабина медленно наполнялась холодным ночным воздухом нормального давления. Герберт дышал то носом, то ртом, втягивая живительную струю из аппарата.
Он отыскал в кармане пачку сигарет. Затянулся, и снова его начало тошнить. Он откашлялся, отдышался и стал готовить машину к посадке. Он делал все не спеша, спокойно.
Внизу показалась убегавшая назад светящаяся полоса бетона. Там все было готово. Люди, машины; группа радионаблюдения непрерывно сопровождала самолет, хотя Герберт и не мог распознать ее сигналов.
Он сообщил по радио, что видит сбоку, с другой стороны базы, другую машину — два прижавшихся друг к другу огонька кружили много ниже, — он готов был подождать, пока сядет вторая машина. Комендатура приказала идти на посадку ему.
Он посмотрел на светящуюся полосу бетона, и внезапно в его теле появилась и стала нарастать какая-то дрожь.
Одежда липла не только под мышками, но и на груди, на спине. Голова зудела, он то и дело почесывался.
«Значит, уже сейчас, — думал он, — даже не дадут ни на секунду побыть одному, приготовиться к тому, что будет…»
Ему захотелось еще раз пронестись над землей, увидеть желтые острова городов, сверкающие в серебряном свете вершины гор, их темные склоны, золотистые жилы рек… Но все это осталось позади. Сейчас он описывал большие круги над базой, куда должен был возвратиться.
Он боялся земли, боялся встречи с ней. Ведь это была та же самая земля, в которую ушло ядовитое жало скорпиона.
Он не понимал себя. Он все ждал чего-то, что, по его мнению, должно было произойти в ту минуту, когда его машина коснется колесами земли. Земля уже не такая, какую он оставил на старте. К той земле нет возврата. Поняли ли те внизу, что это не та земля — добрая и пахнущая, по которой проходишь жизнь и на которую возвращаешься, как ребенок возвращается в дом, где осталась мать. «Наверно, они понимают и ждут меня, ждут пилота, чтобы на него свалить всю вину. Нужно найти виновного и уничтожить его, чтобы земля снова стала прежней…»
В наушниках послышался голос, приказывающий садиться. Посыпались цифры, данные.
Теперь нужно было превратиться в мыслящего робота, нужно было спешить, чтобы управиться с десятками приборов.
Для размышлений не было больше времени, уже ничего нельзя было отменить или хотя бы отсрочить. Голос в наушниках подгонял, правда, слово «торопитесь» не было еще произнесено ни разу.
Он положил машину в разворот, отошел от базы. Сбоку промелькнули огни второй машины, ожидающей в воздухе его посадки.
Над плоскогорьем он описал огромную дугу. Открыл сливные краны баков и выбросил все запасы горючего, чтобы в случае аварии при посадке избежать по крайней мере взрыва. Ведь у него не было ни второго пилота, ни радиста.
Прямо перед ним протянулись две цепочки огней. Широкие под машиной, они сходились впереди в узкое горло, заканчивавшееся вдали посадочной полосой.
Он выпустил шасси. В этот миг левая рука чуть дрогнула. Он пробовал унять дрожь в пальцах. Бессильно смотрел, как они трясутся. Было что-то детское в беспомощном взгляде человека, потерявшего власть над своим телом.
Он потер руки, как пианист перед началом игры.
Затем впился взглядом в стрелку радиокомпаса. Только на ней было сейчас сосредоточено все его внимание. Если она дрогнет хоть на мгновение в ту или иную сторону, ему придется поднять машину, чтоб не сойти с плит посадочной полосы на неровную мягкую землю. А запасы горючего выброшены.
Цепочки огней сближались, туннель между ними сужался. Уже можно было распознать холмы плоскогорья. Шоссе, как замерзшая асфальтовая река… Вот уже плита. Земля близко, близко, быстрая и неуловимая, убегающая назад, все еще недосягаемая.
Машина ударилась о бетон. Отпрыгнула от него под углом чуть большим, чем дозволялось инструкцией. Упала еще раз и теперь уже цепко прижалась к светлой полосе бетона. Шасси все-таки выдержало этот удар!
Герберт ждал последних секунд, вперив взгляд в стрелку компаса. В нужную секунду он выбросил парашют, который помчался за машиной, наполняясь ветром и страхом.
Километры бетона бежали все медленней. На самом его краю Герберт толкнул машину правым двигателем и вывел ее с главной полосы. Пробормотал в микрофон: «Сообщите время посадки» — и не стал дожидаться ответа.
Отстегнул ремни. Встал, ощущая, как кровь отхлынула от головы. Неуверенно ступая, вышел из кабины. Открыл дверь. Автоматически выдвинул дюралевый трап. Герберт спустился на бетонную плиту, постоял немного, потом шагнул в сторону, на траву.
Ночь была холодной, и ветер, тянувший с залива, тоже был холодным и сочным, даже казался солоноватым — на губах оставалась горечь. Из пустыни доносился звериный вой голода, засады, животной страсти.
В той стороне, где лежал городок, цепляясь, как водоросль за скалу, небо светлело, как будто от зарева. Другое зарево, розовое, неровное, дрожало над убежищами базы. Вокруг Герберта простерлась черная, как вода в знойный вечер, земля.
Он словно угорел. От воздуха, ночи, внезапной тишины, спокойствия, твердой, надежной земли под ногами, от воя голодной пустыни, но больше всего — от тишины и спокойствия.
Ноги не слушались, колени будто были лишены суставов.
Герберту пришлось остановиться. Голова кружилась. Он потер глаза. Огни базы совсем расплылись, будто дождевая капля растеклась по ресницам.
Внезапно земля под ним закачалась.
Он вытянул руки, чтобы сохранить равновесие. Все перед ним завертелось, он перестал понимать, где бетон, где огни базы, где небо. Виски пронизывала острая боль.
Это длилось мгновение. Он пришел в себя, стоя на коленях посреди ярко освещенной посадочной полосы. Далеко вперед убегала блестящая, как стекло, река бетона.
Ему показалось, что там, где начинался мрак, что-то шевельнулось.
Он сделал несколько шагов туда.
И вдруг ему почудилось, что он идет по шоссе, по гладкому асфальтовому шоссе. По обеим его сторонам стоят стройные деревья. А прямо на него мчатся с головокружительной быстротой огненные глазки.
Он снова протянул руку, чтобы укрыться от этого вихря разъяренных огней. Мимо него проносились автомобили, неуловимым был тот миг, когда они должны были налететь на него, уничтожить, сровнять с землей.
В ушах стоял звон, шум, гудение, лязг железа, тонкий посвист шин, чмоканье копыт, детский крик…
Он заслонился рукой и крикнул хриплым голосом:
— Нет!..
До боли сжал веки, а когда вновь открыл глаза, шоссе уже не было.
Зато вдали на стартовой площадке он увидел ожидающих его людей. Он пошел туда. Присмотревшись внимательней, он увидел, что люди не ждут, а идут ему навстречу, медленно, но неумолимо приближаясь. Уже можно было различить силуэты идущих впереди: серые кители, черные мундиры, песочные плащи.
Герберт остановился. Они были уже совсем близко.
Внезапная дрожь прошла по всему его телу, как иголочками закололо в голове, в ушах, в кончиках пальцев.
У тех, кто шел навстречу, были крысиные морды. Это вообще были не люди — это были крысы, поднявшиеся на задние лапы. Только руки у них были, как у людей…
Он смотрел на морды, таившие в себе смерть. У него подкосились ноги. Он упал на руки и ждал. Повсюду, куда хватал глаз, он видел уродливые, неведомо откуда появившиеся морды.
Вот первые ряды, они уже на расстоянии вытянутой руки. Удушливый смрад ударил в нос.
Он упал, чтоб не видеть их.
Когда он поднял голову, никого уже не было, лавина прошла над ним, перевалила, исчезла.
Поспешно, насколько позволяли не гнущиеся в коленях ноги и трясущаяся голова, Герберт шел вперед. Он все ускорял шаг, из груди его вырывалось неровное, хриплое, все более учащенное дыхание.
Он остановился. На бетонной полосе снова кто-то был.
Маленький красный глаз. Чем больше Герберт присматривался к нему, тем больше он оживал; его блеск, хоть и слабый, казалось, пронизывал насквозь. И прежде, чем Герберт успел что-либо подумать, стало уже два глаза, один возле другого. Они казались раскаленными углями, висящими над бетонной полосой.
Он шагнул вперед. Вдруг дыхание у него сперло, кровь ударила в голову.
Ниже красных глаз появились длинные усы, потом ноги, за которыми притаилось туловище скорпиона. Огромного скорпиона, который своими растопыренными лапами способен повалить человека, чтобы потом вонзиться в него острым концом длинного брюшка, наполненного смертью.
Скорпион сидел на бетонной дорожке и смотрел на Герберта своими красными глазами. Взгляд у него был тусклый, бесстрастный, холодный, но настороженный.
Чуть поодаль показались новые зрачки — словно мертвые кораллы. Выполз второй скорпион и притаился за первым.
Герберт не знал, как долго он смотрел на них, — он потерял чувство времени.
А твари с широко расставленными глазами и задранными хвостами все прибывали.
Они улеглись на дорожке и ждали, что будет делать первый.
Герберту даже в голову не приходило, что можно повернуться и бежать, пока выдержит сердце. Сзади, казалось, была пустота. А вперед он боялся двинуться, боялся и стоять на месте, чтобы не рассердить скорпионов — особенно того, первого.
Герберт просто-напросто перестал существовать. Он весь превратился в зрение! Его взгляд был прикован к коже скорпиона, покрытой отвратительной шерстью.
Глаза Герберта разбегались, он не мог уследить одновременно за двумя вытянутыми клешнями.
В этот миг красные глазки шевельнулись. Они сузились, сблизились, клешни дрогнули.
Герберт рухнул лицом на бетон.
Слабый ветерок подхватывал на поле сухую траву, нес ее по бетонной полосе, кидал в сигнальные лампы, сверкавшие красными глазами по обеим сторонам дорожки. Косые лучи луны, висевшей над самыми холмами, скользили по гладкой бетонной поверхности. Минуты исчезали, как бледные звезды с небосклона.
Когда Герберт пришел в себя, он ощутил ласковую прохладу бетона, касавшуюся лба, щек, губ. На зубах хрустел песок и, смешиваясь с кровью и слюной, превращался в кашицу.
Он поднял голову, все еще дрожа нервной дрожью. Потом попытался подняться на руках, но они не подчинялись ему. Он снова упал на твердую холодную дорожку.
Сильно пахла земля. В этом запахе он различал и запах скошенных трав над озером, и запах берегов Мичигана в летний вечер, и запах сгоревших, обуглившихся трав пустыни. Это была та же самая земля, которая столько раз манила его и которую он поразил своим смертоносным жалом, и вот она вновь принимала его, обдавала его своим дыханием, наполняла уверенностью и спокойствием.
Он приподнялся на локтях, встал на колени, отер с комбинезона следы слюны и крови и поднялся на ноги.
Глубоко вздохнул и огляделся.
Тут он понял, что стоит посреди двух рядов огней посадочной полосы.
Только сейчас он услышал нарастающий сзади грохот.
Машина, зиявшая пустыми глазницами реактивных двигателей, коснулась колесами бетонной плиты и стремительно помчалась на Герберта. «Те не успеют подняться, я не успею отскочить. Значит, в конце концов, мне все-таки повезло».
_____
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Алло, фрейлейн! Двойной ром, пожалуйста! (нем.)
(обратно)
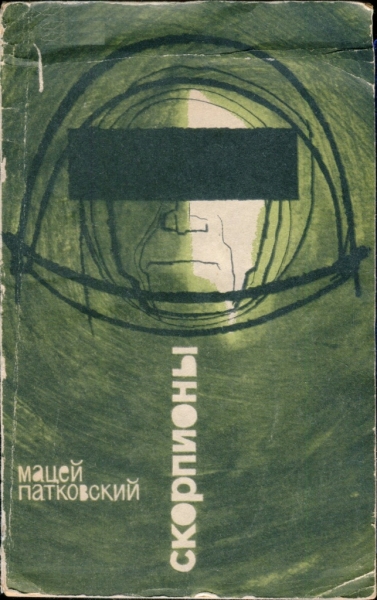


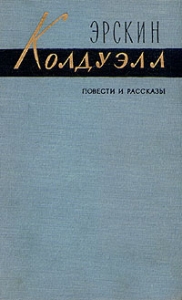
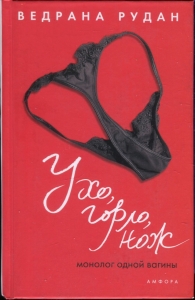

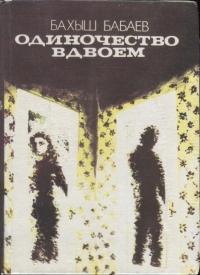
Комментарии к книге «Скорпионы», Мацей Патковский
Всего 0 комментариев