Марина Нефедова
Лесник и его нимфа
От редакции
Была «Дикая собака динго». Были «Два капитана». Но это когда было написано и про какое время… Позже еще молодой Аксенов сочинял что-то прекрасное про юность и любовь, и Искандер. А потом в современной литературе на эту тему - тишина. Полный вакуум. Даже обидно – нам уже по сорок лет, а про нашу молодость, про наши чувства и поступки, про то, как мы жили, что слушали и читали, вообще про наше поколение - почему-то ничего. Что мы, не любили? Не дружили, не горевали? Не задыхались от окружающего маразма? И кроме «Generation „П“» про нас и написать нечего?
И вот наконец нашелся человек, написал.
Про юную, сложную талантливую девочку Литу, ее друзей, ее любовь, ее музыку, про Москву середины и конца 80-х. Да как написал! Словно вновь оказываешься в том времени, спускаешься в грязный московский переход, видишь этих худых бледных ребят в джинсах, с длинными волосами, фенечками и гитарами, и среди них девочку с голосом Дженис Джоплин и застывшим одиночеством в глазах. Они поют в переходе, пьют дешевый портвейн, все время курят, прогуливают школу, университет, мотаются «стопом» и поездом в Питер на флэтовые концерты, не ладят с родителями, уходят из дома.
И еще они никому не верят. Ну, или почти никому. Взрослый мир фальшив в силу идеологии и враждебен в силу возраста. И сер. Чудовищно, однообразно сер. Поэтому так привлекают крыши. Там много неба, оттуда и город немного цветнее, а если еще вымазать лицо зеленкой, как это делает Лита, тогда вообще можно хотя бы на время нарушить, прервать триумфальное шествие серого, и наплевать, кто что подумает. Главное, чтобы он ее понял - тот, кто стоит рядом с ней на крыше, Лесник. Кто зацепил по-настоящему, хоть он совсем и не хиппи, кто ломает стереотипы, потому что, оказывается, он любит серый цвет, и кому, наконец, не страшно поверить. Однако жизнь непредсказуема, и очевидное вдруг становится невероятным, и судьба может изменить свой вектор за один день. Как замечательно сказал о книге священник Сергий Круглов: «Вспомним миф о пещере, рассказанный Платоном: там всегда сумрак, истина проступает только в виде смутных теней на стенах; те, кто родился и живет в пещере, не могут даже помыслить, что существует свет за ее пределами. Тот, кто попытается найти выход, непременно обретет его, но первая встреча со светом будет для него, полуслепого уроженца темноты, подобна ослепительной смерти... Путь героини романа Марины Нефедовой - поиск выхода из пещеры теней к свету, путь души сквозь многообразное умирание жизни временной, земной, со всеми поворотами так называемой "судьбы", которые человек так хочет просчитать, предугадать, но никогда не может, - к жизни вечной. К жизни, которая обретается - через любовь. Это - роман о любви. О той самой, о которой сказал апостол Павел в Первом послании к коринфянам: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит"».
Написанная Мариной Нефедовой история пробивает насквозь, оглушает искренностью. Как точно сказал главный редактор «Никеи» Владимир Лучанинов, она «производит какое-то феерическое впечатление, извлекая пиковые переживания прямо из подсознания». Такое случается редко, но с этой книгой произошло: мы всей редакцией совершенно единодушно и бесповоротно полюбили ее.
Love is not a victory march,
It's a cold and it's a broken Hallelujah.
(Любовь – это не победный марш,
Это холодное и разбитое Аллилуйя.)
Песня Леонарда Коэна «Аллилуйя»
Часть I
Глава 1
***
Когда Лите исполнилось семнадцать лет, мама устроила ей день рождения, пригласив на него родственников и знакомых. Никаких приятелей! Именинница была удивительно сговорчива, только сказала: «Ты опять наприглашала своих друзей на мой день рождения?..»
Но больше возражений не было. Лита с каменным лицом отсидела за столом в окружении мамы, ее друга жизни Сергея Ивановича, маминой подруги Ларисы, своей тети, двоюродной сестры и двоюродной тети из Ленинграда с мужем, и даже под всеобщее одобрение задула семнадцать свечек.
День рождения, казалось, удался и уже близился к концу, когда Лариса вдруг ляпнула:
– Лидка, а скажи нам, какое у тебя самое заветное желание?
Мама с ужасом посмотрела на Ларису, но та была немножко пьяная и ничего не заметила.
– Нет, я не поверю, что в семнадцать лет у девушки нет заветного желания. Ладно, можешь не говорить его вслух. А мы за него выпьем. За его исполнение. Правда? – Лариса разошлась. – Наливайте! Выпьем за исполнение желаний в семнадцать лет!
Все выпили, улыбаясь и поддакивая.
– Ну, Лид, может, скажешь, за что мы пили, а? – не унималась Лариса. – Ну, чего ты больше всего сейчас хочешь?
И тут Лита, которая молчала весь свой день рождения и ни разу даже не улыбнулась, вдруг произнесла:
– Хорошо, я скажу, если вам так хочется.
Все замолчали и почему-то напряглись. Лита посмотрела в окно, потом на торт с остатками свечек, потом на Ларису, и спокойно сказала:
– Я хочу, чтобы меня не было. Нет, не то чтобы я умерла, а просто не было. Никогда.
***
В общем, все оказалось напрасно. Подростковое отделение психиатрической больницы,
из которого Литу только что выписали и где она летом, в жару, провела почти три месяца, похоже, не очень ей помогло.
На следующее после идиотского дня рождения утро за Литой заехал ее приятель Кремп,
и после недолгих колебаний она оставила маме записку и укатила с Кремпом автостопом в Крым. До школы оставалась еще неделя.
К первому сентября, когда весь десятый «Б» пришел первый раз в свой последний класс, Лита
не вернулась. Вернулась только к пятому. Прямо с поезда, в который они вписались пятнадцать человек на десять билетов, в джинсах и с гитарой, но без учебников и тетрадей, она заявилась на уроки.
Классная Зинаида Петровна, в обиходе десятиклассников – Зинка, которая Литу за что-то любила, после химии отозвала ее и сказала:
– Лид, пожалей себя, а?
Зинка знала про психушку. Лита ничего ей не ответила, но была благодарна. Зина была чуткая тетка. Она понимала больше других.
***
Литино безоблачное, как всем казалось, детство, протекало в одном из арбатских переулков, в коммуналке на восемь семей. На самом деле ее звали Лида Литовченко. Имя свое она ненавидела, поэтому из имени и фамилии получилась Лита. Лет с тринадцати она себя называла только так. Родители были людьми обыкновенными: мама – фармацевт и папа – младший научный сотрудник из НИИ. Самой заветной их мечтой была мечта об отдельной квартире. У Лидочки было детсадовское младенчество и пионерское детство. В целом о детстве у нее остались воспоминания приятные. Родители тогда еще, кажется, любили друг друга, их большая квартира была целым миром с огромным коридором, по которому можно было кататься на велосипеде, если там не спал пьяный сосед, в длинном узком туалете было наглухо заколоченное окошко в соседний подъезд, а ванная была хоть и ржавая, но зато на львиных ножках. И воздух старинного московского особняка, которым Лита дышала с рождения, был особым.
Она была впечатлительной девочкой, но очень скрытной. Поэтому снаружи все было нормально, училась Лидочка хорошо и была в меру послушной. К тому же она подавала большие надежды в музыкальной школе. Мама всегда мечтала, чтобы ее дочь стала музыкантом. Поэтому Лидочку в шесть лет отдали учиться музыке. И дальше каждый день, даже летом в каникулы, чтобы не потерять навык, три часа занятий были обязательными. Соседям по коммуналке пришлось смириться. Из нее делали серьезную пианистку. Правда, руководитель хора говорила, что из Лидочки выйдет прекрасная вокалистка. У нее оказался замечательный голос. Но мама больше хотела пианистку.
Хотя пение – тоже хорошо. Лидочка была в хоре солисткой. Она стояла перед хором, в косичках у нее было по большому белому банту, и она чистым голосом пела про Алешу, который стоял над горою… Лидочка пела, и маме в зале в эти минуты казалось, что жизнь удалась.
***
– Алло, Кремп! Слушай, у меня тут все очень стремно. Мне нужно передать лекарства одной матушкиной знакомой. Должен кто-то от нее прийти. А его все нет. Нет, я не могу уйти. У нас вчера был очередной скандал. А знакомая, кажется, достает матушке билеты на поезд… А, Кремп, Кремп, слушай, кажется, кто-то вышел из лифта. Кремп, если ты меня не дождешься, я тебя убью. Все, привет.
Лита уже минут сорок провела в ожидании, она опаздывала, коробка с лекарством для маминой знакомой – а мама всем знакомым доставала лекарства, они же в свою очередь платили ей тем, что тоже что-то доставали, – так вот, эта коробка ломала все ее планы. Она открыла дверь и увидела длинного молодого человека, который собирался позвонить в их звонок.
– Здрасьте… – Лита смерила его мрачным взглядом. Вид у него был а-ля нищий студент. – Вы чуть не остались без ваших «колес».
– Здравствуйте, – сказал он, похоже, не испытывая никаких угрызений совести, как будто не он украл у Литы драгоценное время. – Я от Екатерины Георгиевны…
– Я догадалась…
– Простите, виноват. Я почему-то никак не мог найти ваш дом…
«Потому что ты придурок…» – про себя сказала Лита.
Она зашла на секунду в квартиру за лекарством и гитарой.
– Извините, пригласить вас не могу, – она захлопнула дверь у него перед носом, отдавая коробку. – Спешу! До свидания!
И, не слушая, что он ответит, поскакала вниз по лестнице, прыгая через ступеньки.
Уже выйдя на улицу, она вспомнила, что не взяла у него деньги за лекарство, рубль тридцать, что ли, или рубль пятьдесят. Она посмотрела в проем подъезда, подождала секунды три, потом развернулась и быстро пошла к метро. Ладно, деньги можно будет забрать и потом.
***
Все рухнуло в один год, который так хорошо начинался – их семья наконец-то получила отдельную двухкомнатную квартиру в доме на Шаболовской.
Лита тогда училась в шестом классе. Мама была счастлива, папа тоже – он никогда не уклонялся от маминого курса. Для Литы же это событие стало почти катастрофой. Она страшно скучала по Арбату, по старой школе и друзьям. Отдельная комната ее совсем не радовала. Новая школа ей совсем не нравилась. Новый класс ее не очень принял.
Но самое страшное событие случилось через полгода жизни в новой квартире – от них ушел папа. К другой женщине, которая, как потом выяснилось, была у него давно.
Сначала Лита просто отказывалась верить, что такое бывает. Когда она была маленькая, она говорила соседям: «Когда я вырасту, я женюсь на своем папе». Больше всех на свете она любила его. Самыми счастливыми были походы в зоопарк, или еще куда-нибудь, не важно куда. Главное, чтобы рядом был папочка. А он ушел.
Он был очень мягким. Он никогда не возражал маме, ни в чем. У них никогда не было скандалов. Лита знала о том, что люди могут выяснять свои семейные отношения, только потому, что они жили в коммуналке, и соседи периодически ругались. И вдруг папа ушел. Он, может быть, никуда бы и не ушел, если бы в один прекрасный день мама случайно обо всем не узнала. Она сказала: «Уходи». И он ушел. Он никогда не возражал маме, ни в чем…
Потом Лита с папой ходили мрачными весенними вечерами по улицам, и он пытался ей объяснить, что поступить по-другому было невозможно. Но она упорно не понимала. «Понимаешь, мама никогда не любила меня!» –– восклицал он. Нет, она не понимала.
Постепенно встречи с отцом прекратились, за ними последовали телефонные звонки, которые становились все более дежурными: «Как в школе?.. Не болеешь?» Часто после таких звонков ей хотелось плакать, но у нее не получалось. Она вдруг обнаружила, что разучилась плакать. Совсем.
***
На Гоголевском бульваре падали листья. Кремпа не было. То ли он ее не дождался, то ли еще не пришел.
Лето кончилось. Лита ненавидела лето. Осень она тоже не любила. Любила только весну, и то ее начало. И зиму немножко. Потому что в детстве любила Новый год. Но это было давно.
Лита села на лавочку и стала смотреть на солнце через ресницы. Солнце было не такое, как летом, и уж совсем не такое, как в Крыму недавно. Впрочем, солнце в Крыму она помнила совсем чуть-чуть. На пляж они ходили ночью. А так все время куда-то переезжали, играли, с кем-то пили, пели, снова пили. Лита вспомнила мальчика, который ходил за ней и говорил: «Я понял, ты – реинкарнация Дженис Джоплин». «Пипл, – сказал ему наконец Кремп, когда мальчик их уже достал, он больной был, что ли, или просто никогда не выходил из состояния нирваны, – отстань от Литы. Дженис Джоплин была лесбиянкой». - «Да какая разница, – грустно сказал мальчик. – У Литы ее голос…»
Странно, солнце она плохо помнит, а море помнит. Синее. Значит, днем она все-таки видела море. До этого на летнем море она была с родителями сто лет назад. Потом в прошлом году была зимой. Зимой ей больше понравилось, чем летом. А в этот раз они с Кремпом доехали до Крыма без денег, путевок и билетов.
А на Мангупе, кажется, моря не было. Точно, когда она хотела пойти поплавать, ей кто-то объяснил, что до моря отсюда километров двадцать. Зато там был Фредди Крюгер. Так звал его Кремп. Хотя на «убийцу с улицы Вязов» этот человек совсем не был похож. Он был таким уставшим интеллигентом с музыкой на первом месте и портвейном на втором.
Лита слышала об этом Крюгере раньше. Слушала на ободранной кассете его песни с какого-то квартирника. Кассету дал ей Кремп, рассказав заодно байку, как какое-то время назад у этого Феди – на самом деле его звали Федя, Лите показалось это ужасно смешным – был роман с дочкой партийной начальницы. Дочка партийной дамы сбежала к нему из дома, бросила учебу в институте и стала носить фенечки. Начальница подняла всех на уши – в результате Фредди чуть тогда не посадили. Как-то чудом ему удалось скрыться и отсидеться, пока все не утихло. Кстати, с этой дочкой он расстался через два месяца – и не из-за могущественной мамы, а просто потому, что он так захотел.
Но Лите все это было не очень интересно. Песни – вот что ее поразило. Ни на что не похожие песни. И играли с этим Федей Крюгером потрясающие музыканты. Лита готова была биться головой об стенку – как ей нравилось то, что они делают. И вот она встретила их на Мангупе. Там была безумная тусовка, и поначалу она боялась к ним подойти. Но выпито было немало, и Лита что-то пела... Оказалось, Крюгер это слышал. Потому что потом так получилось, что они курили вместе, и Лита потихоньку присматривалась к нему, а он вдруг сказал – она специально вокруг посмотрела, кому это он говорит, оказалось, что ей: «Вы как из Америки шестидесятых. Я на русском языке такого никогда не слышал».
И Лита оказалась в безвоздушном пространстве – так с ней случалось, иногда совершенно не вовремя, и из этого состояния было только два выхода – впасть в ступор или все-таки что-нибудь сделать через себя. И тогда, чудом избежав ступора и глядя в прекрасное крымское небо, она спросила: «Но вам же не нужна солистка?» На что он вдруг ответил: «Как знать».
Больше Лита с ним не разговаривала. На следующий день Кремп сказал, что у него есть московский телефон и адрес Крюгера, и тот их приглашал.
Там, в Крыму, все было какое-то нереальное. Какое-то «наступление яблочных дней».
И вот сегодня они должны были встретиться с этим Фредди у него дома, в Москве. Адрес и телефон, написанный им самим на какой-то бумажке в линеечку, лежал у Литы в ксивнике – она забрала этот листочек у Кремпа, потому что он бы обязательно его потерял. Они договорились без пятнадцати шесть пересечься на Гоголях и вместе поехать. Сейчас было уже полседьмого. Кремпа не было.
Лита с гитарой в холщовом чехле наперевес походила кругами вокруг памятника Гоголю, потом постояла, разглядывая что-то на лице у Николая Васильевича – и быстро пошла к метро. Она решила, что поедет к Крюгеру одна.
***
Меньше чем через год после ухода отца мама устроилась на хорошее место, завела себе каких-то элитных знакомых – дефицитные лекарства нужны были всем.
Для Литы же с четырнадцати лет жизнь стала невыносимой. Особенно новая школа, в которой она должна была хорошо учиться. Она не вписалась в класс, с первого же дня влипнув в конфликт с его лидером, девочкой по имени Алиса. Этим она заслужила себе независимость и одиночество. Друзей у нее здесь не было.
Этот седьмой класс Лита еле пережила. Оказалось, что жизнь – это вопросы без ответов, самый главный из которых: почему со мной все не так?
В четырнадцать лет были в жизни небольшие просветы – например, книги, которые она читала по несколько килограмм в неделю, или подружка детства, Манька. Они жили на Арбате в соседних домах, учились раньше в одном классе. Манька была единственным Литиным другом.
Ну и еще пара подружек была в музыкалке. И вот однажды одна из них, презрев фортепиано, на новогоднем чаепитии спела под гитару Окуджаву. После этого Лита, узнав несколько аккордов и выпросив у подружки на две недели гитару для тренировки, стала учиться играть – с перебинтованными пальцами, периодически впадая в отчаяние. Ей было очень нужно научиться. Потому что втайне от всех она писала музыку. На чужие стихи – брала их из толстой, раздобытой мамой в обмен на лекарства книги «Поэты Серебряного века». Читала и чувствовала, что вот для этого стихотворения может придумать музыку. И придумывала. И стихи начинали в этой ее музыке жить. Только чтобы их спеть, пианино не годилось. Нужна была гитара.
Лита попросила маму подарить ей гитару на день рождения. Было тут же поставлено условие – седьмой класс закончить на одни пятерки. Ну, максимум с двумя четверками. Условие было выполнено, гитару она заслужила.
Дальше все лето, сидя в душной Москве (мама хотела отправить ее в пионерский лагерь, но наконец-то Лита смогла категорически отказаться, из-за чего мама не разговаривала с ней три дня), она часами по добытому у знакомых самоучителю училась играть, и, закрыв все форточки, чтобы, не дай Бог, какие-нибудь соседи не услышали, пела. Сначала она подобрала несколько песен Окуджавы, которого слушала все детство, потому что папа его любил. Потом Хлебников и Бальмонт зазвучали под гитару. Потом она написала несколько стихов сама. Родила музыку к ним. К концу лета она играла уже очень хорошо. Но слушателей у нее не было – Манька исчезла куда-то, все лето Лита не могла до нее дозвониться. А маме она не спела бы свои песни и под угрозой расстрела.
***
Когда они встретились с Манькой после лета, осенью восьмого класса, случилось то, чего Лита так боялась – Манька стала какая-то другая. Она очень скупо рассказывала о новых друзьях, и вообще вела себя как человек, перешедший в новое качество. Лита с отчаянием поняла, что нить их дружбы почти порвана – и эту нить нужно срочно, пока есть возможность, спасать. Мало того, ей показалось, что это «новое качество» – результат какой-то новой Манькиной жизни, в которой Лите тоже должно было быть место. И тогда Лита сделала первый шаг к этой новой жизни – спела Маньке свои песни.
– Это действительно твое? – потрясенно говорила новая Манька, по-старому глядя на Литу.
Надорванная нить была завязана и стала еще прочнее. Маня курила на балконе, в первый раз обнаружив эту свою привычку, необходимость «нового качества», и восхищенно говорила:
– Слушай, это... это гениально! Я всегда знала что ты… ну, ты меня понимаешь… У меня просто слов нет.
Теперь Лита имела полное право попросить:
– А ты познакомишь меня со своими друзьями?
На следующий же вечер они пришли с Манькой и Манькиным другом, молодым человеком странного вида, в большую квартиру. Там были люди, которые общались совсем не так, как Литины одноклассники. Ничего особенного они не делали, просто пили и разговаривали, но все отношения, как Лита сразу поняла, были по принципу «раз ты здесь, значит, ты – пипл, а раз ты пипл, значит, ты не чужой». Лите так надоело быть всем чужой, что она сразу и безоговорочно вошла в систему. Это было первое, ради чего она готова была перенять весь этот образ жизни. Второе – песни со старых кассет, от которых за два метра пахло куревом, было зачеркнуто «Алла Пугачева», «Александр Дольский», и торжественно Манькиной рукой нацарапано «Битлз». Жизнь обретала цвет и звук.
***
В начале восьмого класса мама ничего не замечала. Пока ей не позвонила классная Зинаида Петровна и не сказала, что ее дочь много прогуливает. Был большой скандал, во время которого Лита заявила, что она после восьмого класса пойдет работать уборщицей, а на школу ей плевать.
Постепенно выяснилось, что Лита снова стала общаться с отцом, он давал ей деньги, и она покупала себе странную одежду в комиссионках. В детстве она боялась выглядеть смешной. Сейчас стала выглядеть смешной специально.
Невзирая на школьное возмущение, она заявлялась в школу в рваных джинсах и старом растянутом свитере, с распущенными волосами и в хайратнике. Иногда нацепляла на голову шляпу или даже откопанную где-то тюбетейку. Ее выгоняли, водили к директору, пугали милицией, дома были страшные скандалы – но Лита была непреклонна.
Она начала петь в переходах. Сначала одна. Страшно было только в первый раз. Потом она перестала замечать вокруг себя людей. Она слушала, если удавалось стрельнуть у кого-то кассеты, записи западных джазовых и рок-певиц, но пела именно так, как хотела сама. Иногда, когда она пела, очень спешащие по переходу прохожие останавливались.
***
Первый настоящий шок мама испытала, когда ей позвонили из милиции, куда забрали Литу с какой-то тусовки. Весь ужас был в том, что ее дочь была совершенно пьяной.
Однажды она не пришла ночевать домой. На следующий день позвонила, сказала, что придет завтра, и бросила трубку. На третий день явилась как ни в чем не бывало. Бедная мама накинулась на нее, кричала и в конце концов обозвала Литу «шлюхой». С этого момента их отношения сломались окончательно.
Восьмой класс отличница закончила с кучей троек, шокируя учителей. Ее еле взяли в девятый – только потому, что мама умудрилась уговорить директора. «Вашу хиппи нужно в детскую комнату милиции на учет ставить, а не в девятый класс», – сказала ей директор. И все-таки Литовченко оставили в школе. Но ей это было как будто все равно. Ее уже знали немножко на Гоголях, Арбате и даже в питерском «Сайгоне». Это было важно. А не какая-то там школа.
Она делала все, чтобы быть не такой, как все. Могла станцевать рок-н-ролл на сиденье в автобусе. В тридцатиградусную жару ходила в черной куртке с длинными рукавами, а в мороз надевала плащ. В час пик в толпе могла во все горло начать что-нибудь петь. Одна во всем классе не вступила в комсомол. Выходила через окно и курила на переменах. Заставила себя презирать мнение одноклассников. Она как будто ничего не боялась. Несколько раз ее забирали в милицию. Один раз она получила сотрясение мозга – их били те, кто ненавидел пацифистов: неважно, какого те были пола и возраста. Полежав с сотрясением мозга в больнице, Лита не перестала везде ходить в хипповском прикиде, обращая на себя внимание. Только остригла чуть покороче свои длинные волосы. На вопрос мамы «зачем?» лаконично объяснила, что длинные волосы удобно наматывать на руку и бить головой об асфальт, а с короткими так не получится.
Вообще это был вызов миру, в котором «все, кроме рок-н-ролла, ложь».
Только внутри она оставалась все той же девочкой, которая больше всего на свете хотела ходить с папой в зоопарк.
***
С Кремпом они познакомились в начале Литиного девятого класса. Ей было шестнадцать, ему двадцать четыре. Они спели у кого-то в гостях вдвоем – этого было достаточно, чтобы понять, что они могут дальше существовать вместе. Он играл на гитаре и писал стихи. С ним было легко и можно было попасть туда, куда раньше она не попадала – на всякие тусовки.
С Кремпом и его приятелем рыжим Васей Йодом они стали играть на Арбате. Когда Лите какие-то гопники в переходе разбили гитару, Кремп подарил ей свою.
Они репетировали ночами в химчистке, где Кремп работал ночным сторожем. Это была удачная работа. В химчистке можно было петь хоть всю ночь в полный голос – только машины слушали их и иногда отвечали эхом. Машины были живые – днем они стирали и чистили пиджаки и пальто, а по ночам по-человечески вздыхали. Лита много раз это слышала.
***
Кремп называл ее Хаска – за светло-голубые глаза, и еще Эллой – из-за Эллы Фицджеральд, после того, как Лита спела ему «Get ready». Когда Вася Йод увидел фотографию Эллы Фицджеральд, он очень смеялся. Потому что в отличие от Леди Эллы Лита была худой и бледной голубоглазой брюнеткой с синяками под глазами.
Кремп сочинял стихи, Лита – музыку к ним. Они играли на двух гитарах, Лита пела, Кремп подпевал. Лита даже научила его петь в терцию, только в химчистке у него это получалось, а на улице он почти никогда в эту терцию не попадал. Вася Йод умел играть на губной гармошке, но лучше всего ему удавалось стучать по чему попало. Они даже записали целую кассету песен в Литином исполнении – Кремп добыл откуда-то иностранный диктофон.
Еще Кремп жрал «колеса», которые непонятно где доставал. Лита все это попробовала – что-то еще до него, что-то вместе с ним. Но вместо кайфа ей обычно становилось очень плохо, и все. Поэтому Кремп категорически запретил ей «переводить добро». Лита же, через месяц вытаскивания его из подворотен и луж, где он «ловил рыбу», стала прятать от него таблетки – и этим, наверное, спасла его от полного помешательства.
У нее внутри был такой поплавок, который не давал ей погрузиться слишком глубоко. Несмотря на то, что она часто оказывалась в невероятных тусовках, до Кремпа она никого близко к себе не подпускала. Когда появился Кремп, она плюнула и на этот свой принцип. Не потому что любила его, а просто так. На самом деле она убедилась очень быстро, что постель и все такое – это ерунда. Единственное, ради чего стоило жить, – это музыка.
***
Вечер был прохладный, с неба что-то капало, но Лите было все равно. Она медленно шла по улицам, сунув руки в карманы.
Она так и не попала к Фредди Крюгеру. Она простояла минут десять под дверью его квартиры, глядя на звонок. И ушла.
Пусть все остается как раньше. Пусть они будут снова вымучивать с Кремпом из двух гитар свою туфту, ну еще Вася Йод будет им подыгрывать на губной гармошке и стучать обо все что попало, и пусть они снова будут играть в переходах и на Арбате.
Крюгер – гений, зачем она ему нужна?
Вернувшись из Крыма, Лита снова раздобыла кассету с его песнями. Подобрала две из них. Последние дни пела дома только их. Интересно, понравилось бы ему, как она их пела? Они могли бы сыграть сегодня что-то вместе. Они – вместе! Ведь он же ее позвал.
А она не пошла. «Потому что ты полная, абсолютная дура», – сказала себе Лита.
Она остановилась, закуривая и глядя в фиолетово-оранжевое московское небо – облака в отсветах фонарей. Потом развязала шнурки, сняла кроссовки и встала босиком на влажный асфальт. Дальше она пошла босиком, вглядываясь, чтобы не наступить на осколки. Асфальт был мокрый и холодный, неприятный на ощупь. Но Лита все равно шла босиком.
Глава 2
***
Почти две недели прошло с того дня, когда Лита не позвонила в квартиру музыканту своей мечты. Почти две недели она промучилась. В очередной раз кинувшись к звонящему телефону, она наткнулась на Екатерину Георгиевну, у племянника которой никак не могла забрать несчастные рубль тридцать за лекарство.
Екатерина Георгиевна нервничала, что должна маме деньги, и звонила уже не в первый раз. «Вы знаете, Саша работает и учится, он не может все время к вам ездить. Он уже один раз к вам приезжал, а дома никого не было, хотя он предварительно звонил!» Это была правда, они договарились, но Лита его кинула – в последний момент ей понадобилось срочно уйти. «Позвоните ему сами, пожалуйста, вот его рабочий телефон».
Лита, слегка мучаясь угрызениями совести, позвонила.
Оказалось, он работает неподалеку от места, где Лита собиралась быть в пятницу. Они договорились в три часа около входа в ДК.
Но ничего не получилось. В ДК была выставка одного художника, а какие-то идиоты стали курить прямо на выставке травку. Приехал ОМОН. На маленькой площади перед ДК собралась толпа пиплов. Лита оказалась в центре событий.
Она залезла на парапет, который был вокруг ДК, и стояла там, сунув руки в карманы плаща. ОМОН был с дубинками, Лите совершенно не хотелось попадать ни под дубинки, ни в милицию, тем более что она тут была вообще ни при чем. В какой-то момент она вспомнила про Екатерину Георгиевну и ее племянника, но был уже четвертый час, а к входу в ДК подойти было невозможно.
– Я пацифист, за мир отрываю башку, – кричал какой-то мальчик, стоя рядом с Литой на парапете. Неожиданно с другой стороны, откуда ни Лита, ни мальчик не ожидали, подбежал омоновец и со всего размаха двинул мальчика по ногам дубинкой – выше он не достал.
– Дяденька, вы чего деретесь?! – закричал пацифист.
Следующим ударом омоновец сбил его с парапета.
Лита поняла, что пора бежать. Парапет был довольно высокий. Она спрыгнула, но, запутавшись в полах своего длинного плаща, потеряла равновесие и упала. Ударилась она не сильно, но когда поднималась, не заметила арматуру, торчащую из стены, и со всего маху двинулась об железки лбом и щекой. От сильной боли Лита снова села на асфальт и на несколько секунд перестала соображать, что происходит. Когда она вернулась в реальность, то увидела, что к ней направляются два парня в форме ОМОН.
– Вы целы? – услышала Лита с другой стороны. Она обернулась и увидела студента с рублем тридцать – она узнала его. Ему как-то удалось пробраться.
– Слушай, пипл, скипаем, – еле произнесла Лита, прижимая ладонь к лицу.
Он дал ей руку, помог подняться, и они рванули за Дом культуры.
Вслед им неслось усиленное в громкоговоритель требование очистить площадь – в сочетании с трехэтажным матом.
В сквере за ДК, куда они прибежали, было, кажется, безопасно. Лита рухнула на лавочку, не отнимая руку от лица, и, переведя дыхание, сказала:
– Кажется, скипнули.
– Вы, кажется, ударились…
Лите очень не хотелось убирать руку от лица. Наконец она решилась и посмотрела на ладонь. Там была кровь. Острым краем арматуры она распорола себе лоб. Слава Богу, хоть не посередине, а сбоку.
– Да, бывает, – пробормотала она, разглядывая руку.
– Так, вот, возьмите, это чистый, – студент порылся в карманах и протянул ей сложенный носовой платок. – Берите, берите. И пойдемте ко мне на работу, я здесь рядом работаю.
– У вас там что, медпункт?
– Нет, но какую-нибудь перекись водорода найдем.
– А…
Он смотрел на нее с сочувствием, от которого не было тошно. И говорил как человек, которому небезразлично, что она чуть не осталась без глаза. Литу это купило.
– Ну пойдем, раз ты такой тимуровец, – сказала она, поднимаясь с лавочки.
Они пошли в обход ДК.
– Ты, кстати, случайно не пипл, нет? – спросила она, мельком разглядывая его, когда они прошли молча пол-улицы. Чем-то он был похож.
– Что?
– Нет, ничего. Я забыла, как тебя зовут?
– Саша.
– Лита, – она протянула левую руку, потому что правой прижимала платок к своей раненой голове. Он остановился и пожал ее протянутые пальцы.
– Cаша, вы спасли мне жизнь! Вы – Робин Гуд. Только не забудьте мне отдать эти деньги за лекарство уже наконец-то!.. Как, кстати, поживает ваша тетя? Как ей лекарство, помогает?
***
Студент работал неподалеку, в филиале какого-то научного института – Лита не успела толком прочитать вывеску.
– А что там такое произошло около Дома культуры? – спросил он, когда они, проскочив мимо охранника, поднимались по лестнице старого особняка, в котором расположился Сашин отдел.
– А, – рассеянно сказала Лита, одной рукой прижимая к лицу платок, а другой трогая покрашенные зеленой краской стены. Она очень любила такие старые здания. – Да там была выставка одного пипловского художника. И какие-то чуваки забили косячок, прям там, на лестнице. Ну, и выставку закрыли. Менты устроили облаву. Долго еще подниматься?
Подниматься нужно было на четвертый этаж – комната студента располагалась под самой крышей. В комнате было несколько рабочих мест, но из людей уже никого – пятница, короткий день, как объяснил Саша, ища в ящике перекись и вату.
Лита пошла мазаться перекисью перед зеркалом в какую-то подсобку.
– Будете чай? – спросил студент.
– Да, я с утра ни разу не ела, только полпачки сигарет. А что это за место?
– Филиал научно-исследовательского института. Закрытое, вообще-то, учреждение.
– Заметно, – усмехнулась Лита, вспомнив, что когда они проходили мимо охранника, тот печально смотрел в окно. – И что ты тут делаешь?
– Работаю лаборантом. Еще делаю чертежи.
– И что чертишь?
Она подошла к кульману, около которого он стоял. На кульмане был прикреплен лист миллиметровки с тонкими линиями.
– Это твое? – спросила Лита почти восхищенно, разглядывая чертеж. – Вот это да! Какое-то произведение искусства. А я ненавидела в школе черчение. Для меня ровную линию провести всегда было проблемой.
Молодой человек ничего не ответил. Он явно не стремился общаться.
Вообще-то можно было уже и уйти, но Лите ужасно хотелось чаю, а алюминиевый электрический чайник как-то неуверенно шумел и не спешил закипать. Лита, сунув руки в карманы, стала ходить между столами и бесцеремонно рассматривать всякие фотографии, открыточки, фигурки и штучки на столах.
– Это что за лепетулечка? – спросила она, разглядывая фото на одном из столов под стеклом.
– Дочка заведующей.
– А… Здесь кроме тебя одни женщины работают? Целых раз, два, три, четыре, пять тетенек?
– Да, – ответил он, выкладывая в тарелку печенье.
– А твой стол этот? – она показала на стоявший в углу маленький стол бедного лаборанта. Он был один без всяких штучек. С бумагами и какими-то книжками.
– Вы угадали, – ответил он, не отрываясь от насыпания сахара из пакета в банку.
Лита остановилась напротив окна.
– Клевый вид. Покурить бы. Где у вас тут курят?
– На лестнице.
– Ты куришь?
– Нет.
Она вышла на лестничную площадку. Вверх вела пожарная лестница. Лита пригляделась, затягиваясь, – люк был не заперт.
– Слушай, а крыша у вас тут есть? В смысле, вылезти на нее можно? – крикнула она ему в комнату.
– Зачем?
– Просто так. Там люк открыт. Ты лазил здесь на крышу когда-нибудь? Я лично очень люблю лазить на крыши всяких старых зданий. Давай? Или я одна.
Он вышел на площадку и в первый раз посмотрел на нее с любопытством. Потом молча зашел в комнату, вышел со стулом. Первая ступенька пожарной лестницы была довольно высоко.
Он постоял немного, посмотрел на люк. Потом поставил стул и перелез с него на лестницу. Лита быстро докурила, не сводя глаз с люка. Лаборант, забравшись по лестнице, аккуратно его открыл.
– Тут чердак.
Лита полезла следом. На чердаке было темно. Она стала зажигать спички и обнаружила дверь на крышу - но на ней висел замок.
– What a pity1 , – сказала Лита, освещая замок.
– Посвети, пожалуйста, – лаборант покопался с замком. – Он не заперт. – И он открыл дверцу в белый день. Там шел мелкий дождь.
Саша осторожно встал на старое железо. Лита вылезла следом.
Крыша была мокрая и почти плоская. По краю шел бортик, правда, с редкими перекладинами. Но было неопасно. Лита пошла по крыше, взмахивая руками, как птица. Лаборант шел следом. Напротив был дом. Вид сверху на окна и балконы. На одном балконе лежало штук сто зеленых бутылок. Лита закурила и стала молча на них смотреть.
– Четвертый этаж, невысоко, – наконец проговорила она.
Она стояла, уставившись на эти зеленые бутылки, потом подошла к самому бортику и взглянула вниз. Внизу шла какая-то женщина.
– Ну как? – вдруг спросила Лита. – Тоска, правда? Ненавижу все это. Серые дома, серый город, серая жизнь. Каждый день одно и то же. Можно сдохнуть. Правда?
Она повернулась к лаборанту и посмотрела ему в лицо. Он молчал.
Действительно, вокруг все было серым. Даже глаза у лаборанта. Серо-зеленые. Как море в Крыму зимой.
– Да? – снова спросила Лита.
– Нет, – после некоторой паузы ответил он. Лита отвела взгляд и снова стала смотреть на бутылки. Она догадалась, что на самом-то деле он понял, о чем она говорит.
– Я вообще-то люблю серый цвет, – вдруг сказал он. – Пойдемте вниз. Чайник, наверное, уже давно кипит.
Они вернулись на чердак, спустились по пожарной лестнице. Когда Лита спускалась, у нее почему-то дрожали руки. С непривычки, наверное.
Потом они пили чай, и Лита болтала без передышки. Ей нужно было как-то заболтать то ощущение, которое у нее возникло на крыше.
– Когда я жила на Арбате, – говорила она, раскачиваясь на стуле, – у меня из окошка можно было вылезти на крышу соседнего дома – он стоял впритык. Это было очень клево. Лучшее, что есть в доме, это крыша.
– А я всю жизнь прожил на первом этаже двухэтажного дома. И никогда не был на крыше. До сегодняшнего дня.
– В Москве?
– Нет, я жил на Урале. В Свердловской области.
– А… А давно в Москве?
– Второй год.
– И что делаете?
– Учусь в институте на вечернем. И вот тут работаю.
– Ну и как вам Москва?
– Ну, так…
Лита встала и стала ходить с чашкой по комнате. Подошла к его столу. Стала рассматривать книги, которые там лежали.
– Можно? – спросила она, беря верхнюю книгу.
– Конечно.
– А чего тебя в Москву занесло? В Свердловске нет институтов?
Лита стала перекладывать книги, читая названия. Какие-то умные учебники.
– Есть, – ответил он. Лита поняла по его тону, что он не рад Москве. Она хотела еще что-то спросить, но тут увидела среди учебников тоненькую сиреневую брошюрку с фотографией на обложке. На брошюрке большими буквами было написано «Знание», а мелкими - «Туринская плащаница. Чудо или научная загадка?».
– Что это?
– Книжка про Туринскую плащаницу. Мне сегодня дали почитать.
– Что такое Туринская… что?
– Изображение Христа на ткани.
– А... Это Христос? – спросила Лита, показывая на фотографию.
– Да.
Лита аккуратно положила книжечку на место.
– Можно мне потом тоже почитать?
– Это не моя, но я спрошу. Я думаю, да, конечно.
– И на кого ты учишься?
– На инженера.
– А...
– Я вообще-то меньше всего хотел бы быть инженером.
– Да? А кем бы хотел?
– Лесником, – вдруг сказал он.
– Кем?? – Она уставилась на него, подняв длинные брови.
Он перевел разговор:
– А вы чем занимаетесь?
– Отбываю срок. В десятом классе.
– А это? – он кивнул на ее запястья, на каждом из которых было штук по десять разноцветных фенечек.
– А это – жизнь. Система.
– Что?
– Да так, неважно.
Допив чай, Лита пошла к зеркалу и стала смотреть на свое раненое лицо.
– Да, надо же было так влипнуть. Но вообще-то можно сделать так... – она прикрыла часть лица прядью волос. -- Вот.
Еще минуту себя поразглядывала.
– Слушай, а зеленки у вас тут нет?
– Зачем?
– А намажусь зеленкой. Наверное, будет не так стремно.
– Что?
– Зеленку дай, пожалуйста.
Он подошел к шкафчику с лекарствами, порылся.
– На, – сказал очень удивленно.
Лита взяла ватку, открыла зеленку, перепачкав все пальцы, и аккуратно, почти не морщась, намазала себе лицо.
– Вот, – сказала она. – Так лучше?
И тут он наконец улыбнулся, посмотрел на нее почти восхищенно и ответил:
– Потрясающе. Правда.
– Ладно, – Лита сделала серьезное лицо. – Все, я пошла, спасибо.
Через пять минут они молча спускались по старой лестнице.
– Я просто первый раз вижу, – вдруг сказал он, когда они уже подходили к первому этажу, – чтобы девушка мазала себе лицо зеленкой…
***
Они вместе шли до метро. Толпа у ДК почти рассосалась.
– До Москвы, – сказал Саша, глядя на площадь, – я в толпе ходил только с флажками на демонстрацию.
– Смешно, – отозвалась Лита. – Да, деньги мне срочно отдай, а то твоя тетя все мозги мне проела, когда звонила: «Саша учится в институте, Саша работает, он очень занят». Ты правда так занят?
– Нет. – Он достал из кармана деньги.
– А на Урале хорошо? – вдруг спросила Лита.
На самом деле странно было узнать, что он с какого-то там Урала. Он совсем не был похож на провинциала. У него был как раз довольно московский, скорее даже питерский, интеллигентный вид. Недаром Лита приняла его за пипла.
– Смотря где.
– Ты правда хотел быть лесником или это шутка?
– Правда.
Она подумала, что он еще что-нибудь про это расскажет, но он молчал.
Один вопрос вертелся у Литы на языке, наконец она решилась его задать.
– А у тебя есть еще какие-то книжки вроде той, про… не помню названия.
– Туринскую плащаницу?
– Ну да… Евангелие, например.
– Да, Евангелие есть.
– Есть? Здорово. А ты в Бога веришь?
Наверное, очень глупо было так спрашивать человека, но Лите очень хотелось это у него узнать.
Он помолчал, потом ответил:
– Скорее да, чем нет.
– Везет. А откуда у тебя Евангелие?
– Друг подарил. Мы вместе учились в институте.
Они прошли еще оставшиеся сто метров до метро молча. Вдруг он сказал:
– Он недавно ушел в монастырь.
– Ну ни фига себе…
– Тебе в метро?
Пока Саша доставал проездной, Лита очень профессионально прошла через выпрыгивающие заграждения, просто придержав их руками, без всяких пятачков. Тетушка из стеклянной будки даже ничего не заметила – она, правда, смотрела в другую сторону. Зато Лита поймала короткий взгляд студента с Урала, в котором было не то чтобы снова восхищение, но по крайней мере -- любопытство.
В вагоне она уселась на единственное свободное место, не вынимая рук из карманов плаща и закрыв глаза. Как бы не замечая, что по крайней мере половина пассажиров ее рассматривает. Девушка с зеленкой на лице.
Через две остановки Лита выходила. Студент ехал дальше.
– Привет, – сказала ему Лита, подняв на прощание руку. Он кивнул в ответ.
Она шагнула на платформу, но вдруг, что-то вспомнив, обернулась.
– Стоп, слушай, а книжка? Ты мне обещал книжку!
«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция…»
– Спокойно, – Лита уперлась рукой в дверь, не давая ей закрыться.
– Я тебе передам… Где и когда? – спросил он, уперевшись рукой в другую дверь.
Лита стала соображать, где и когда. Двери не могли закрыться. Поезд стоял. Ситуация была идиотская.
«Отпустите двери!» – закричал в микрофон машинист. Весь вагон смотрел на них с негодованием. Пауза продолжалось несколько секунд. Наконец Лита сжалилась над всеми:
– Мы по воскресеньям днем иногда играем на Арбате. Приходи. Часа в три. Придешь? Ну, привет.
Она отпустила дверь и сделала пионерский салют. Он отпустил свою половину. Двери захлопнулись.
– Больные, – громко сказал пассажир средних лет, глядя на Сашу.
Поезд постоял еще две секунды и нерешительно тронулся. Лита так и стояла с салютом.
***
Лита открыла, что нужно искать место, чтобы напротив была стена, от которой бы отражался звук. Тогда на улице было лучше слышно.
На улице Лита свои песни не пела. Свои песни она берегла для всяких сейшенов. На улице они с Кремпом пели что-нибудь с драйвом и известное. От русского народного до Битлов. Или иногда не совсем известное большинству москвичей – ту же Дженис Джоплин или Баэз. У них в школе был сильный английский, поэтому Лита без особого труда разучивала со слуха эти песни. Кассетами ее снабжал в основном Кремп. Где он их брал, Лита не знала, но они регулярно переписывали что-нибудь с магнитофона на магнитофон. Два магнитофона – его и Литин, один провод и чистая кассета, которые дарил Лите папа, – все, что было нужно. Дальше часы прослушивания. Дальше она подбирала то, что ей нравилось. Потом с Кремпом и Васей они репетировали. В результате репертуар у них был немаленький.
Лита любила петь на улице. Несмотря на то, что милиция их иногда гоняла. Несмотря на осень, когда руки минут через сорок начинали ныть от холода. Ей нравилось, что собиралась случайная толпа - и ее можно было вогнать в состояние всеобщего кайфа. Лита почти не боялась этого. Когда получалось, и ее ощущения переходили к другим, она уже ничего не боялась.
В это воскресенье они пели на Арбате. Лита втайне надеялась, что вдруг Фредди Крюгер окажется тут. Но нет, никакого Крюгера не было.
Закончили они довольно быстро, потому что руки уже отваливались от холода, толпа частично рассосалась, частично перешла в тусовку. Лита сидела на корточках, прислонившись к стене, и крутила в руках сигарету. Надо было встать, чтобы у кого-нибудь прикурить, но сил не было подняться. Чьи-то ботинки подошли и остановились рядом.
– Здравствуйте.
Лита подняла голову. Это был Лесник с Урала.
– Я принес вам книжку.
Это было очень неожиданно. Лита растерялась. Медленно поднялась.
– Вот это да! Вот это клево! Я не думала, что ты придешь.
Он вынул из кармана сиреневую брошюрку.
– Спасибо, – повисла пауза, потому что у Литы в руках была сигарета, и она не решалась взять эту брошюрку с Христом на обложке. Наконец она засунула сигарету за ухо.
– Это что? – бесцеремонно влез Вася и сунул нос в книжку.
– Ничего, – сказала Лита, быстро беря книжку и пряча в чехол с гитарой. – Да, а как мне тебе ее вернуть? Я телефон твой потеряла.
– Хасочка, пойдем отсюда туда, где тепло, – сказал, подходя, Кремп.
– Кремп, дай ручку с бумажкой.
– Откуда у меня ручка с бумажкой? Я забыл, как это выглядит.
– У меня есть ручка и бумажка, – сказал Лесник.
Он записал телефон и протянул ей.
– Это ваш новый поклонник? – влез Кремп.
– Не слушайте его, он идиот, – сказала Лита Леснику. Кремп, к счастью, на кого-то уже переключился.
– Здорово, спасибо, – Лите хотелось еще что-нибудь ему сказать. Или спросить.
– Ну ладно, я пойду, – сказал он.
– Ну давай.
– Ты очень здорово поешь, – вдруг сказал он.
– Ты слышал?
– Да, я давно пришел… – он как будто еще хотел что-то добавить. Лите, по крайней мере, так показалось. Но он сказал только: – Пока.
И пошел к метро по серому Арбату. Ни разу даже не обернулся. Лита специально смотрела.
Глава 3
***
У Литы в старой школе была странная учительница математики. Она была больна какой-то неизлечимой болезнью, руки и лицо у нее были изуродованы, периодически на уроках она падала в обморок, говорили, что она должна была умереть пятнадцать лет назад, но жила только благодаря работе. Ее не любили, она была нервная и строгая, но при этом на уроках единственная из всех учителей устраивала пятиминутные перерывы – все закрывали глаза, а она что-нибудь рассказывала. Обычно ничего выдающегося – например, предлагала представить море и расслабиться. Но никто особо не расслаблялся, потому что потом она вызывала к доске и лепила пары.
Однажды, это было классе в пятом, математичка в эту свою пятиминутку вдруг стала рассказывать историю о том, что был такой человек, Иисус Христос, что он делал много чудес, а потом его распяли на кресте, и он умер. А у него были ученики, они его тело украли, а всем рассказали, что он воскрес, и с тех пор считается, что Христос воскрес. Лита в первый раз тогда услышала про это. Эта история ей в одно ухо влетела, из другого вылетела, но в душе что-то осталось.
А потом на день рождения, в двенадцать лет, Лита с родителями поехала в Питер – это, кстати, оказалась их последняя совместная поездка. И в Исаакиевском соборе эта история у нее вдруг всплыла. Маму интересовал тогда маятник Фуко, а Лита поминутно ее дергала и спрашивала про росписи: «А это что? А это кто?» Достала ее до того, что мама, хоть и была любителем искусства, наконец раздраженно сказала:
– Возьми Библию и почитай, если тебе это так интересно.
Потом они, кажется, пошли с родителями в ресторан, но Лита все никак не могла успокоиться.
– А где мне взять Библию?
– Не знаю.
Библию взять было негде.
***
В эту мерзкую погоду в школе было даже лучше, чем на улице. Но сегодня она не могла не прогулять, потому что была физра, а физрук над ней просто измывался. Полдня она провела в книжном магазине, греясь там и заодно читая все подряд. Потом магазин закрылся на обеденный перерыв, но еще и до перерыва продавщицы стали смотреть на Литу подозрительно, все равно надо было уходить.
Она стала бродить по улицам, сунув поглубже руки в карманы своего негреющего плаща. От дождя ее спасала дурацкая шляпа с широкими полями, которую дала поносить Манька. В этом прикиде – черном плаще и шляпе, и еще из-под шляпы свешивались длинные волосы, которые загораживали две трети лица, - она была похожа на старуху Шапокляк в молодости. Так ей вчера сказал Вася Йод.
Лита думала про Лесника. «Ты веришь в Бога?» - «Скорее да, чем нет». «Друг ушел в монастырь». Как-то это все интересно. Лита до него не встречала ни одного человека, который на вопрос о Боге отвечал хотя бы так. У Кремпа много было всякой фигни про карму, но все это было не то.
Ей очень хотелось с кем-нибудь поговорить об этом. Была какая-то каста избранных, которая про это знала и понимала. Но никто из этой касты ей не встречался.
В тринадцать лет она прочитала «Мастера и Маргариту», маме по блату кто-то дал. И после этого снова стала думать о Христе и о смерти.
На самом деле о смерти она думала все время. В четырнадцать лет ходила по улицам и обдумывала, как ей повеситься. Потом был просвет на год с небольшим. А потом как будто ничего сильно не изменилось, но у нее – она даже не заметила, когда это началось, – появилось странное ощущение, что внутри как будто выключили свет.
Только иногда во сне она слышала невероятную музыку. И днем пыталась родить хоть какие-то ее отблески. Иногда как будто удавалось. Но все равно все чаще ей хотелось заняться медленным самоуничтожением вместе с Кремпом. Однако внутренний предохранитель не давал так просто взять и закончиться.
В результате Лита оказалась в подростковом отделении психиатрической больницы, куда ее положила мама, потому что к концу девятого класса Лита почти перестала спать, есть и разговаривать. Почему-то любое действие, которое нужно было совершить, казалось ей таким трудным и невозможным, что она впадала в оцепенение и не делала ничего. Она становилась замороженным деревом.
После больницы свет не свет, но какое-то мутное освещение внутри все-таки включилось. Иногда в этой мути были вспышки – яркие и короткие – и после них становилось еще темнее. Как сейчас.
Нужно было вернуть этому Саше брошюрку о Туринской плащанице, где с полунаучной точки зрения обсуждалась подлинность личности Христа. Научно обоснованная тайна.
Лита прочла эту книжечку два раза и таскала в сумке уже несколько дней.
***
Охранник сегодня был другой, тот смотрел в окно, а этот уставился на Литу.
– Вы к кому?
– Я? К Саше. Он работает на последнем этаже. Он лаборант.
– Фамилия как?
– Моя?
– Его!
– Не знаю… Он еще чертит.
– Номер комнаты хотя бы какой?
– Не помню… Там еще лестница на чердак рядом.
– Твою бабушку… Девушка, можно поконкретнее? Вы по какому вопросу?
– Я? – Лита замолчала. Она не знала, что ответить.
Охранник почесал голову, подумал, посмотрел на нее, вздохнул и позвонил кому-то, спросил, какой номер комнаты возле пожарной лестницы. Потом еще куда-то позвонил и сказал Лите:
- Сейчас выйдет.
Лита уселась на подоконник. Вокруг стояла куча стульев, но на подоконнике было теплее. Лита вспомнила, что у Кремпа были стихи, посвященные теплым батареям.
К выходу прошли, разговаривая, несколько женщин. Одна из них посмотрела на Литу как на городскую сумасшедшую. Ну конечно, видок у нее был еще тот. Может, лучше слинять, пока не поздно?
Но было уже поздно. Она увидела, что Саша спускается по лестнице. И смотрит по сторонам, потому что он же не знает, кто к нему приперся.
– Привет, Лесник, – закричала Лита на весь вестибюль. И все, кто был неподалеку, человек десять, повернулись и стали на нее смотреть. Лита тут же пожалела, что так завопила, но останавливаться было не в ее правилах, и она снова крикнула на весь вестибюль. – Я принесла тебе твою книжку!
Интересно было, удивился он или обрадовался, или, может, ему жутко стыдно, что к нему зашла юная старуха Шапокляк? Но по нему ничего нельзя было понять.
– Я тут прогуливаю школу, – быстро заговорила Лита, когда он подошел к подоконнику, – а на улице холодно. Вот, книжка, в целости и сохранности.
– Привет. Спасибо.
– Я посижу тут немножко? Очень теплый подоконник...
Тут повисла короткая пауза, и Лите захотелось сказать: «Мне очень хреново все время, мне некуда идти, я не знаю на самом деле, что ты за пипл, но мне очень хочется посидеть тут и поговорить про что-нибудь. Хоть про что-нибудь…» Но она, конечно, ничего этого не сказала. Зато он, подумав пару секунд, вдруг очень вежливо предложил:
– Так может, пойдем к нам наверх? Чай будешь?
Лита не знала, соглашаться ей или нет: хотелось чаю, но она предполагала, что сейчас все Сашины сотрудницы на месте, и это было стремно. Никто ведь не знает, что на самом деле она робкая и стеснительная.
В этот момент к ним подошла девушка. И, посмотрев на Литу, громко спросила:
– Саш, ты сегодня в институт поедешь?
– Да…
– Ты не забыл, что у нас завтра колок по физике?
– Нет…
– Ты мне обещал помочь. Помнишь? Я тебе позвоню вечером, – и пошла к лестнице.
Так показывают, что это вообще-то мое.
Девушка, судя по всему, работала здесь.
«Елы-палы, – с тоской подумала Лита. – Везде одно и то же». И вслух сказала:
– Не, к вам я не пойду.
– Тогда подожди две минуты. Не уходи. – Он быстро пошел вверх по лестнице.
Лита послушно осталась сидеть.
***
Он вернулся с чашкой чая и двумя конфетами. Сел рядом с ней на подоконник. Чай был не очень горячий, Лита пила его, грея руки о чашку. Она пила, он просто сидел и смотрел в окно. Молча. Лита еще в первый раз заметила: с ним было несложно молчать. Но при этом не покидало ощущение, что он был как будто за стеклом. Причем не очень прозрачным.
– Ну ладно, – сказала она, допив чай. – Спасибо. Пойду дальше прогуливать.
– Подожди.
– Что?
– Знаешь, я в принципе сейчас хотел уйти. Хочешь, можем заехать ко мне. Попьешь нормального чаю. Даже суп есть. Потом я, правда, должен ехать в институт. Но время есть.
Лита оторвалась от чашки, в которой разглядывала дно, и прямо посмотрела на него. Нельзя сказать, что до этого она его не видела толком – видела, конечно, но она давно замечала, что лица имеют странное свойство: первое впечатление почти всегда не такое, какое открывается через некоторое время. И если сначала она видела просто хорошего человека, вполне благополучного и приятного, то сейчас вдруг поняла, что этот человек совсем не так благополучен, как старается показать, что вся его доброжелательность дается ему большим усилием, и глаза у него невеселые, хотя и прекрасные, это она еще на крыше заметила.
Лита пожала плечами:
– Мне все равно.
– Это здорово, – ответил он, беря у нее пустую чашку. – Тогда пойдем.
Глава 4
***
Лита, кажется, бывала в этой квартире у Екатерины Георгиевны. Они ведь были знакомы с ее мамой. Маленькая такая двухкомнатная квартирка. Сама Екатерина Георгиевна была на работе.
Лесник пошел ставить чайник и что-то там разогревать на кухню, а Лита в комнате села на стул и стала смотреть на книжную полку, туда, где стояла черно-белая фотография женщины. У Лесника были ее глаза, это точно. Без сомнения, это о ней, когда они сейчас шли к метро, он сказал, что она попала под поезд четыре года назад.
Лита невольно вывела его на этот разговор. На самом деле ей хотелось поговорить с ним про то, что она прочитала в сиреневой брошюрке, но нельзя же было вот так в лоб об этом спрашивать. Поэтому она начала издалека и спросила что-то про родителей – типа, они там на Урале, а ты тут с тетей? А он вдруг сказал, что на Урале у него осталась только сестра, отца у него нет, а мама погибла, попала под поезд.
Лита не знала, что в таких случаях надо говорить, поэтому тупо, как ей показалось, спросила:
– Как это?
– У нас там железная дорога почти через поселок проходит, через нее есть мост. А она в тот день торопилась, пошла через железку не по мосту. А там поворот, и поезда не видно, а если ветер, то и не всегда слышно…
– Сколько тебе тогда было лет?
– Шестнадцать.
Потом они спустились в метро, и уже нельзя было разговаривать на такие темы, потому что в метро, чтобы слышать, нужно либо кричать, либо стоять очень близко, а они стояли далеко и молча, а когда вышли – уже как-то не получилось вернуться к этому разговору. И сейчас Лита сидела и смотрела на фотографию. Красивое и необычное лицо... Попала под поезд…
Лесник вошел в комнату и, похоже, заметил, куда она смотрит, но ничего не сказал, и она ничего не спросила, а переключилась на стоящий здесь же кульман с прикрепленной миллиметровкой.
– Слушай, как это у тебя получается? – спросила она, разглядывая чертеж.
– Просят помочь. Платят за это. Это вот к кандидатской диссертации одной девушки. Многие не любят чертить.
– А ты любишь?
– Вообще мне карандашом больше нравится рисовать не по линейке.
– Ты рисуешь?
– Немножко, как все.
– Почему как все? Я вот, например, совершенно не рисую.
– Зато ты поешь как художник, – вдруг сказал он и вышел из комнаты.
– Что?
Он вернулся со свитером.
– Вот, это из верблюжьей шерсти. Очень теплый. Советую не отказываться и надеть под ваш плащ. Мама моя вязала когда-то.
Лита взяла свитер.
– Спасибо. У меня вообще есть теплая куртка. Завтра ее надену, и свитер верну… А с чего вообще такое гостеприимство?
– Ну просто если человек не хочет идти домой, а готов часами ходить в холод по улицам, значит, ему нужен теплый свитер. Пойдемте есть суп.
***
Суп был правда очень вкусный. На самом деле Лита терпеть не могла есть с малознакомыми людьми. Но с Лесником это было не очень стремно.
– Интересно, а чертить можно научиться, или это такой талант?
– Не знаю.
– А ты сразу поступил в этот твой мати, мути, миу… как его там…
– Нет, я приехал поступать в Суриковское, – вдруг сказал он.
– Куда?
– В Суриковский институт.
– Куда? Ты же хотел быть лесником. И при этом приехал поступать в Суриковское?
– Да.
– Значит, ты все-таки рисуешь…
– Не знаю.
– Ты приехал поступать – и провалился? Понятно, в Суриковское просто так мальчики с Урала не поступают. Ты не сдал экзамены?
– Я даже не стал их сдавать.
– Почему?
– Ну, увидел тех, кто пришел поступать. Такие мальчики и девочки с мамами и папами. Еще нужно было принести свои работы.
– Ты принес?
– Принес.
– И?..
– Потом увидел, какие работы принесли другие…
– И?..
– И. Положил свои рисунки под лестницу и ушел.
– Как? – Лита положила ложку. – Оставил и ушел?
– Ну да. Порвать и выбросить я не смог.
– Там были все твои рисунки?
– Нет. Но мне казалось, что лучшие.
– Так… Елы-палы… А сейчас ты рисуешь?
– Да, иногда.
– А… можешь что-нибудь показать, – очень осторожно спросила Лита, боясь не тех интонаций.
– Могу, – сказал он. – Только вы должны доесть суп.
– Ты прям как моя бабушка… Где ты учился рисовать?
– Нигде. Но я все время рисовал. В интернате, кстати, это вообще очень пригодилось.
– Где?!
– Ну, мама умерла, меня отправили в интернат. Потом через полгода сестра оформила надо мной опеку, я вернулся.
– Когда я лежала в психушке, у нас там были девочки из московских интернатов. Представляю себе, что такое провинциальный… Ой, извини, я не предупреждала, что я лежала в психушке.
– Я догадался…
– Что-о? – рассмеялась Лита. – Я произвожу такое впечатление?
– Нет, извини… Нет, я имел в виду, что тетя, когда вся эта эпопея с лекарством тянулась, что-то говорила про дочку Ольги Ивановны, про тебя то есть, как я понимаю, что… ну, что-то про больницу.
– А… Да, представляю, что она про меня говорила. Но ты ей не верь. Хотя... можешь верить… Так вот, девочки из московских интернатов… Как-то сложно тебя в этом представить.
– Тебя в психушке тоже сложно представить.
– Ну вот и хорошо. Покажи, плиз, рисунки.
Он ушел, вернулся с папкой, молча сунул ей и снова вышел из кухни.
Лита раскрыла папку. Рисунков было немного. В основном на небольших листах. Карандашом. Лита ничего не понимала в рисовании, но в красоте кое-что понимала. Это было очень красиво. Такие легкие линии – люди, дома, животные, деревья. Очень просто и изящно. Вот город – дома, дома, больше ничего – какое-то каменное одиночество.
– Слушай, – сказал он, входя, – мне нужно ехать в институт.
– Да, конечно. И много этого осталось под лестницей?
– Да не важно.
– Как все-таки странно сделаны люди, – сказала Лита, рассматривая рисунок, где были холмы вдалеке, какие-то строения и домики. – Это место, где ты жил?
– Да.
– Ты вместо Суриковского пошел в этот свой институт?
– Ну да.
– А при чем тут лесник, я не поняла…
– Это вообще другая история…
– А все-таки?
– А все-таки… У меня был друг, Илья.
– Это тот, который в монастырь ушел?
– Нет. Другой. Просто там, где мы жили, единственным нормальным местом был лес. А
у Илюхи папа был лесником.
– Настоящим?
– Абсолютно. Они жили в сторожке, папа каждый день возил Илюху в школу на таком раздолбанном уазике. Я у них почти все время проводил. И тогда решил стать лесником.
Пойдем, я по дороге расскажу.
***
И всю дорогу до метро он рассказывал про лес, про то, как ходил туда чуть ли не с младенчества.
– Там у нас карьеры есть заброшенные. Мы там камни всякие собирали. У нас у каждого такая коллекция была – не хуже, чем в минералогическом музее. В восемь лет я заблудился. За грибами пошел один. Через два дня вышел к воинской части где-то в глуши.
– В восемь лет на два дня потерялся в лесу? Ты не умер от страха?
– Нет. Мне кажется, я даже не очень испугался.
– Не верю.
– Правда. Если с детства в лесу пропадаешь, не страшно. Ты сейчас куда?
Они подошли к метро. Недалеко от входа стояла тетка и кричала без остановки:
– Горячие булочки с сосисками! Горячие!!!
Зачем-то каждый раз в конце она впечатывала это слово: «горячие».
Лита уставилась на нее. Несколько дней назад она уже видела ту же тетку, и она так же самозабвенно кричала. Лита была потрясена. Оказывается, можно с таким драйвом всю жизнь орать про сосиски.
– Ты сейчас куда?
Лита оторвала взгляд от тетки.
– Никуда… слушай, можно тебя попросить? Можешь позвонить мне домой? Мне нужно понять, дома ли моя мама. Если ответит – можешь спросить меня.
Он вошел в телефонную будку. Лита через разбитое окно продиктовала ему номер.
Пока он его набирал, Лита, глядя в небо, пела:
– Горячие булочки с сосисками. Горячие!
Мама была дома.
– И что теперь?
– Не поеду домой.
Он посмотрел на нее, как будто хотел что-то спросить. Но не стал. Вместо этого после некоторой паузы предложил:
– Хочешь, поедем со мной в институт? Там тепло…
Лита согласилась с видом человека, которому все равно – туда так туда, сюда так сюда.
– И ты про Евангелие спрашивала. Я взял сейчас с собой. Нужно?
***
Они снова ехали в метро. Лита, честно говоря, была под впечатлением. Рисунки Лесника–художника, который, не обращая ни на кого внимания, сейчас читал учебник по физике, как-то подействовали на нее. Ну и вообще. Плюс Евангелие у нее в сумке, которое оставил человек, ушедший в монахи…
Но она не хотела, чтоб про нее подумали, что она навязывается. Тем более она вспомнила про девушку у Лесника на работе. Поэтому, как только они приехали в институт и он показал ей уединенный подоконник, Лита быстро и холодно попрощалась с ним.
– Я тут увидела знакомых, – сказала она. – Пойду с ними покурю.
Он ушел на семинар. А она уселась с ногами на подоконник и стала смотреть, как растворялся день за окном. Потом поглядела со всех сторон на Евангелие, не решаясь открыть. Потом поизучала оглавление. Наконец открыла наугад и прочитала: «…Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу…»
От этих слов сердце у нее почему-то заныло. Особенно от «измученных» и «свободы». Лита поняла, что больше не хочет читать. Больше не вместится. Закрыла книгу и стала думать.
Литины родители были члены партии, хотя не верили в коммунизм. Или нет, папа, кажется, немножко верил. Мама точно нет. Лита с какого-то момента тоже перестала верить. Из-за бананов. Классе в пятом они сидели с одноклассницей на подоконнике возле столовой, ели булочки и болтали. «Я вот не понимаю, как это – не будет денег?» – говорила одноклассница, слизывая повидло. «Ну, – объясняла ей подкованная Лита, – всем будет по потребностям. Будешь приходить в магазин и брать, что тебе нужно и сколько хочешь». - «Я не понимаю, – говорила подружка, – вот привезут в овощной магазин бананы – и все ведь кинутся их хватать, всем же не хватит – а еще и бесплатно...» Лита не знала, что ответить. Действительно, непонятно. Спросила вечером у папы. «Понимаешь, – объяснил он, – бананы будут на всех. Их будет так много, что никто толкаться за ними не станет».
Ага, два раза в год маме удавалось отхватить зеленые бананы, их держали потом в темном шкафу, чтоб дозрели… Проще было перестать верить в коммунизм, чем признать папу дураком. В общем, в коммунизм никто у них почти не верил. А в Бога тем более.
Лита почему-то вспомнила себя маленькой. Она помнила себя с очень раннего возраста. Например, как стояла в детской кроватке с прутьями. Она очень хорошо помнила свои чувства в тот момент – ей было очень тоскливо. По-взрослому тоскливо. Все было то же самое – хоть в год, хоть в семнадцать. Еще она помнила себя в больнице. Сколько ей тогда было? Три, четыре? Она лежала без мамы. Там были и большие девочки, взрослые и далекие, а Лита сама должна была выливать свой горшок. Однажды она пролила все это на себя, и нянечка на нее орала, а Лита беззвучно плакала посреди коридора – она была уверена, что произошло что-то смертельно страшное.
И эта тоска ведь так никуда и не делась. Она как будто ходила за Литой всю жизнь, прячась, и ждала удобного случая – а случаи наступали очень часто. В пионерском лагере. В новой школе. Просто в жизни. Вдруг эта сволочь выходила из тени и говорила – а я тут. И Лита тогда могла только замереть, как замороженное дерево. Больше ничего. А в последнее время эта гадина ее все время ждала у кровати по утрам. Лите было страшно просыпаться. Потому что тоска стояла около кровати и набрасывалась на Литу, как только она открывала глаза. И еще сильней набрасывалась, если Лита ночевала не дома и просыпалась где-то в чужой квартире. Когда накануне казалось – вот оно, что-то неуловимое, ради чего стоит жить, а потом приходило утро, и оказывалось, что «все прокурено и серо, подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера». Короче, жить не стоит ни ради чего.
Лита поняла, что ужасно устала за этот последний год. Она прожила один год, как проживают целую жизнь. Зачем? Ей казалось, что можно было поймать что-то неуловимое. А оно не ловилось. Столько сил было потрачено… Все силы на всю жизнь. И они закончились. Лите иногда казалось, что ей лет сорок, она уже все понимает и знает. И только музыка – это то, ради чего стоило еще жить. Но и тут все как-то очень сложно.
Лита снова открыла Евангелие наугад: «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел: блаженны…»
Блаженство, блаженство… Все хотят блаженства на самом деле. Поэтому все время влюбляются, ищут кого-то, спят с кем попало. Ищут блаженства…
Лита снова стала смотреть в окно. Ей казалось, что за словами текста скрывается гораздо больше, чем написано. От этого было как-то беспокойно. На самом деле она знала, что такое блаженство. Внутри у нее был домик. И там, совсем глубоко, было очень хорошо. Оттуда, из этого домика, она и жила. Самое лучшее было оттуда. Музыка чаще всего была оттуда. Когда она забиралась туда, ей было не страшно думать. Она редко туда попадала. Но иногда удавалось.
А от брошюрки о Туринской плащанице тоже было как-то беспокойно. Там вроде все конкретно и понятно написано. Научно обоснованная тайна. Но с этим еще нужно как-то разобраться.
***
– Девушка, вы тут поселились?
Лита вздрогнула.
Лесник стоял напротив. В куртке, с сумкой на плече – явно уже собирался уходить.
– А что?
– Ну просто уже поздно.
– Все пары закончились?
Елы-палы, получается, что она опять навязывается. Вроде как сидит тут ждет его.
– Ну да. Скоро тут все закроется вообще-то.
– Ну и хорошо. Тут хороший подоконник.
– Но за ночь он вам надоест. Пойдемте отсюда.
Он сунул руку в карман, чтобы что-то из него достать, и вдруг с удивленным видом вынул вязаную перчатку, которая начала распускаться – длинная нитка тянулась и тянулась. Лита рассмеялась.
– Да, – сказал он, – как в мультике про варежку.
– Это где девочка хотела собаку, а вместо собаки у нее была варежка?
– Да. Ты смотрела?
– Еще бы… Жуткий мультик. Я все детство от него рыдала. Когда она клала варежку на блюдечко и гладила ее, я начинала рыдать и до конца мультика не могла остановиться.
Он как-то странно на нее посмотрел.
– Я тоже все детство хотела собаку, – продолжала Лита. – Девочке, кстати, собаку купили. А мне нет… Ладно, не смотри на меня так, сейчас я точно не буду рыдать. Вот, – она помахала книжкой, – читаю Евангелие.
– Ну и как?
– Не знаю… А ты все читал и все понимаешь?
– Все читал, понимаю не все.
– Но ты же в Бога скорее веришь, чем нет?
– Наверное. Просто, мне кажется, невозможно выдумать Бога, который умер. Значит, это должно было быть на самом деле.
– Да? Интересно. А друг твой здесь с тобой учился?
– Да. В детстве у меня было дерево одно в лесу, которое я считал богом. И ходил ему молиться.
– Ну, это какое-то язычество…
– Не знаю. Я это дерево считал как бы таким местом, где Бог – настоящий. Бред, конечно.
– Не, почему? Очень интересно.
– Мне просто казалось, что в школе, или дома, или на улице – это такая обязательная жизнь, ну, от нее никуда не денешься. Но в лесу жизнь настоящая. Поэтому Бог там.
– А этот твой друг, с чего он в монастырь ушел?
– Захотел. Говорит, что настоящая жизнь там.
– И он не жалеет?
– Не знаю. Пока не вернулся… Мы просто вместе поступали, так получилось, что познакомились при поступлении. Он тогда только собирался креститься. Я крестился с ним, за компанию. Потом он пошел вперед семимильными шагами. А я никуда не пошел… Но он мне книжки всякие давал читать. Правда, я всегда в чем-нибудь сомневался. Хотя на меня подействовала одна фраза… Что Христос – дерево, а человек – ветка. Если ветку прививать к дереву, на дереве нужно делать надрез. Из-за этого дерево все изранено.
Лита молчала. От окна дуло.
– А душа? – наконец спросила она.
– Что душа?
– Душа есть?
– Есть, – уверенно ответил он.
– В душу поверить проще?
– Наверное.
– А я вот поняла, – вдруг сказала Лита, – что душа существует, этим летом. В психушке. У нас там лежала одна девочка. Такая, совсем... Полная идиотка, как сказала бы моя классная. Она как бы идиотка, и не разговаривает, и ничего как будто не понимает. Ума у нее как бы нет. Но с ней можно общаться. С чем-то в ней можно общаться. Значит, что-то в ней есть, кроме ума? Я тогда подумала, что это и есть душа…
На самом деле Лита вообще про дурдом никому не рассказывала. То есть рассказывала, но не это.
– А эта Катя, – Литу понесло, – понимала очень много. Например, я помню, к ней приехала мама, хорошая такая мама. И вот они сидят, мама с Катей, в коридоре, и мама у врача, наверное, что-то спросила, и эта завотделением стоит перед ними и орет на весь этаж: «Ваша дочь никогда не будет нормальной, поймите вы, это родовая травма!» Надо было видеть лицо этой Кати. Все она понимала.
– И долго ты там лежала?
– Три месяца. Там на самом деле интересно было. Кое-что было интересно. Нет, там в принципе ничего страшного, не надо на меня так смотреть… Ну, аминазина сначала ударную дозу несколько дней колют, размазывают тебя по стенке. Потом начинают лечить. То есть к аминазину добавляют еще кучу таблеток.
Еще была одна девочка – она два года там лежала, безвылазно. Ее интернат положил и забыл. Никто не навещал ее за два года ни разу. А она всегда была всем довольна… Хотя с мозгами у нее, конечно, тоже… Она, наверное, и сейчас там лежит.
Он вдруг спросил:
– Сколько тебе лет?
– Семнадцать. Вообще я старше всех в классе. Может, поэтому мне так неинтересно со всеми в школе? Я просто в школу пошла в восемь лет. Сначала пошла в семь, и заболела очень сильно в первом классе. Болела полгода. Ну, и снова пошла в первый класс. Такая фигня… Я, кстати, совсем не общаюсь с одноклассниками. Они про меня ничего не знают. Я недавно встретила двух мальчиков из класса на Арбате, они меня не узнали… Смешно… Ладно, пойдем, я тебя заболтала.
Лита замолчала. Он тоже молчал. Никто никуда не двигался.
– Мне кажется, – вдруг сказал он и посмотрел куда-то мимо Литы в окно, – что если бы Бога не было, человек просто умер бы от одиночества.
– Что?
Как раз сегодня, таскаясь под дождем по улицам, она думала почти про то же самое.
– Это ты в лесу своем придумал?
– Наверное.
– Пойдем, а то нас правда тут закроют.
Лита слезла с подоконника и быстро пошла к лестнице. Нужно было как-то остановить этот разговор. Иначе еще чуть-чуть – и придется пускать Лесника в свой домик.
***
Всю дорогу до метро она курила нон-стоп, прикуривая одну сигарету от другой, и несла какую-то чушь про школу. Он молча слушал.
– Ты домой? Или снова маме позвонить? – спросил он, когда они дошли до метро.
– Нет. Я не домой.
– И куда же?
– К Кремпу, в химчистку.
– Кто есть Кремп?
– Мой друг. Он работает ночным сторожем в химчистке. Когда он дежурит, я у него ночую.
Можно было, наверное, этого не говорить. Но Лита решила скорее уже снять эти розовые очки.
– А, – сказал Лесник. – Это человек, с которым вы играли на Арбате?
– Да.
– Такой человек с отсутствующим взглядом?
Это было очень точное замечание.
Лита посмотрела на него – и ей показалось, что в лице у него появилось какое-то презрение. Или она подумала, что он должен сейчас начать ее презирать.
– Да. Потому что он жрет таблетки. Пачками. И скоро, кажется, совсем превратится в растение.
– А ты?
– Что я? Превращусь в растение?
– Нет, тоже жрешь таблетки?
А вот презрения в свой адрес Лита простить не могла.
Она отошла на шаг и, глядя ему в лицо, жестко сказала:
– Да, и я жру… Знаешь, если бы твоя тетя узнала, что я была у вас дома, она бы тебе сказала… Знаешь, все виды дерьма, какие есть, я вообще-то попробовала. И кое-что мне даже нравится. Вот…
Она быстро залезла в сумку, вынула Евангелие, сунула ему в руки.
– На, я не буду читать.
Повернулась, не прощаясь, и быстро пошла прочь.
***
Лита не пошла к Кремпу. Она села на кольцевой в метро, закрыла глаза и долго каталась. Потом поехала все-таки домой.
Дома были мама и Сергей Иванович. Это было прекрасно. Значит, ее никто не будет трогать, мама занята.
Она сразу легла в кровать. Стала смотреть на людей из далекого мира, которые прикидывались узором, а на самом деле танцевали на ковре. Она смотрела на них уже столько лет, что они были как родные.
Свитер Лесника аккуратно свернула и положила рядом. Погладила его рукой и сказала его маме «спасибо».
Лита почти забыла психушку, а сегодня из-за этого Лесника снова вспомнила. Еще вспомнила, что давно не плакала. Не плакала уже несколько лет. Даже когда было очень больно или очень страшно. Кстати, в детстве, когда она, наоборот, от всего ревела много и долго, она ведь все равно часто впадала в ступор. Мама про нее тогда говорила, если очень злилась, что «из этой заразы слова не вытянешь».
Конечно, психушкой ее никто не хотел ломать. Все хотели ей только добра. Просто она так заморозилась, что все испугались. Надо было что-то делать.
Когда мама приехала первый раз в отделение и увидела свою дочь, выключенную из жизни аминазином, она еле сдержалась, чтобы не зарыдать и не забрать Лидочку отсюда немедленно. Лита ходила по стеночке и говорила заплетающимся языком.
– Тебе плохо здесь? – спросила мама.
– Нормально. Как везде.
Кто бы мог подумать, что это та же восторженная девочка, которая, послушав «Оду к радости» Бетховена, рыдала после этого два дня. Спросили бы ее, чего она рыдает, – она не знала. Может, от красоты? От того, что тебе эту красоту приоткрыли, но она недосягаема?
С ней много раз было такое. Например, лет в одиннадцать ей снесло крышу от «Лебединого озера». Они сходили с родителями на балет – и Лита после этого заболела. Свалилась по-настоящему, с температурой. Понятно, никто не думал, что это из-за балета – была зима и вирус гриппа… Но Лита-то знала. В температурном бреду она все видела белые пачки и взлетающих лебедей. Это было ужасно больно. С этим надо было что-то делать. Пойти в балетную школу? Лита никогда не отличалась нормальной координацией и тем более изяществом, хотя и была тощей, как будущая балерина. Она умолила маму купить ей пуанты в специальном магазине и мучилась, топая в них, как новорожденный теленок, по квартире. Потом она решила, что единственное, что может ее спасти от балетного помешательства, – это если она научится садиться на шпагат. И она научилась! Всего два месяца тренировок – и, пожалуйста, шпагат. Правда, только продольный и только если правая нога впереди. Зачем ей это было нужно? Непонятно. Но стало легче.
А музыка – это была особая статья. Музыка, невероятная, такая же, как «Ода к радости», ей снилась. Снилась и в психушке, и сейчас. В этих снах она обычно находилась в каком-то золотом пространстве, и музыка звучала, и она понимала, что нужно ее как-то взять и перенести сюда. Но это было невозможно…
***
Диагноза ей так никакого и не поставили, кстати. Так, подростковые заморочки. Нарушение поведения и эмоций.
За все почти три месяца больницы она ни разу не пожаловалась ни на что. Другие девчонки, особенно в первое время, рыдали часами о своей жизни. Лита понимала, что у нее, видимо, тоже что-то сломалось, раз она сюда попала. Но она не плакала. Девчонки ругались на своих родителей, что те их сюда упекли. У Литы не было никакой обиды на маму. Ей, наоборот, было почему-то ужасно маму жалко, когда та приносила в больницу дорогие клубнику и черешню. В этом было что-то очень печальное.
Черешню и клубнику в их палате приносили только ей. Эти супер-ягоды имели право на существование лишь потому, что можно было поделиться ими с идиоткой Катей и Машей из детдома, у которой не было не то что черешни, а зубной пасты, мыла и трусов – все это приносила ей Литина мама.
С мамой Литу даже отпускали гулять. Она пару раз сходила и перестала – слишком большой контраст был между летом на улице и жизнью внутри.
Один раз приехал папа. Лита не помнила, о чем они говорили, – очень хотелось спать. Кремпа не пускали, Маньку не пускали. Никого больше не пускали. Лита убедила маму, что здесь все хорошо. Мама даже как-то сказала папе: «Слушай, не переживай ты за нее. Ей море по колено».
Это была неправда.
Было какое-то унижение, которое Лита глубоко чувствовала, например, в том, что все должны были вставать в семь утра и ждать полтора часа завтрака в холле. До тихого часа ложиться было нельзя. Нужно было сидеть в специальной комнате, читать журналы или смотреть телик. Некоторые, в том числе Лита, которой было очень плохо от лекарств, ложились на жесткую лавочку. Или просто на пол. Это почему-то, к счастью, было можно. А на кровать – нельзя.
Она общалась с девчонками, которым передавали втихаря сигареты, – курила с ними в туалете. Медсестры знали, но делали вид, что не знают. Девчонки были после побегов из дома и попыток суицида. Разговаривающие матом и рассказывающие подробности своей интимной жизни (тут Лита обычно старалась исчезать из разговора). Жесткие и делающие вид, что они очень сильные. Пациентки от пятнадцати до восемнадцати - самый цвет жизни - в своих одинаковых халатах здесь были абсолютно равны.
Еще были медсестры и врачи, которые искренне считали, что тут, в этой больнице, они кого-то лечат. Эти тетки – обычные, со своими теткинскими проблемами, приходили в отделение – и надевали маски аминазиновых терапевтов.
***
Лита вспомнила все это, глядя на узоры на ковре. А засыпая, вдруг подумала: а если ее посадят в тюрьму, как там будет? Она совершенно не исключала этого. У Кремпа был приятель, которого посадили – то ли за тунеядство, то ли за гомосексуализм. Федю вот тоже чуть не посадили. Как там будет в тюрьме? Эти мысли всерьез ее занимали.
А завтра надо идти в школу. Как же ужасно, ужасно жить. И главное, надо прожить так еще лет пятьдесят.
Глава 5
***
Сентябрь уже заканчивался. Фредди Крюгер в ее жизни никак не появлялся. Лита не написала за последнее время ни одной песни. Ни разу не сходила к Кремпу в химчистку. В школу ходила через день, гуляла целыми днями одна по городу. Поднималась на крыши и смотрела вниз. Высоты она боялась, но специально приучала себя смотреть на землю. Так, на всякий случай. Вокруг, как обычно, все было беспробудно серым. Но Лита все время вспоминала, как Лесник сказал: «Я вообще-то люблю серый цвет». Серый цвет просто надо полюбить, вот и все.
Наконец, выпив с Васей Йодом какого-то шмурдяка, она попросила две копейки и позвонила Леснику. Листочек, на котором он написал ей на бумажке еще тогда, на Арбате, свой номер, она носила в ксивничке все время. Телефон Фредди, кстати, лежал там же.
Лесник ответил очень вежливо и доброжелательно, что да, узнал ее и очень рад слышать. Человек за стеклом.
– Я хотела завтра зайти, отдать свитер.
– Завтра я уезжаю в командировку.
– А…
– На один день, в Загорск.
– Здорово. Я никогда не была в Загорске, – зачем-то сказала Лита.
– Хочешь, – вдруг сказал он, – поедем со мной?
– Да…
– Тогда завтра в восемь утра у касс на Ярославском вокзале. Только не опаздывай, пожалуйста. Там электричка в 8:10, мы на нее должны успеть.
Она опоздала. Она проспала, потому что заснула только под утро. Потом бежала по переходам, как дура, хотя было понятно, что она не успевает. Вдобавок она забыла свитер. В 8:25 Лита обреченно вошла в здание пригородных касс.
Он стоял около расписания. Сердце у нее чуть не выскочило – все-таки она бежала только что вверх по эскалатору…
– Привет, Лесник, – сказала она, стараясь говорить как можно спокойнее. – Ты меня дождался?
Он улыбался, как будто старый друг, перед которым не надо оправдываться.
Ладно, наверное, можно считать, что прошлого дурацкого разговора про Кремпа не было. Какая, действительно, разница, к кому она ходит ночевать в химчистку? Лесник – просто очень хороший человек. Пусть не из системы, зато с Урала.
– Я должен был отвезти документы на конференцию, которая начинается в десять. Теперь меня убьют, – сказал он, улыбаясь.
– А я забыла свитер… И вообще я только сейчас поняла, что надо было как-то по-другому одеться – мы же зайдем в монастырь, который там? Ну вот, в таком виде меня, наверное, не пустят.
У нее была тюбетейка на голове, джинсы и незаменимый черный плащ.
– Посмотрим, – ответил он.
***
Они договорились, что пока он относит документы, Лита идет в Лавру. А он подойдет сразу, как освободится, то есть часам к двенадцати.
– А если меня не пустят, погуляю около входа, – сказала она.
Они решили, что если Лита не маячит у ворот, значит, ее пустили, и они встречаются у храма, «в котором мощи Сергия» – так он сказал.
– Откуда я знаю, где там этот храм? – мрачно спросила Лита.
– Там все знают, – коротко ответил он.
В общем, Лита оказалась одна в Лавре. Ее пустили – никто ей ничего не сказал, хотя некоторые и глядели неодобрительно. Она походила туда и сюда, посмотрела на монахов, думая про Сашиного друга, на семинаристов, на двух бабушек, которые выясняли отношения («Я вот только исповедовалась, а ты меня раздражаешь»), на каких-то полусумасшедших дяденек, на туристов и на всяких других людей. Здесь вообще-то было хорошо.
Лита была второй раз в монастыре. Несколько лет назад они с мамой и ее подругой были в Пскове и поехали на экскурсию в Печоры. Тогда она в первый раз увидела монахов, которые все время куда-то торопились и бегали по монастырю в развевающихся мантиях. Тот день она запомнила, потому что вечером, когда они ехали в поезде в Москву, ей было невозможно хорошо. Так, как бывало всего несколько раз в жизни. Она стояла в коридоре поезда, а на самом деле в своем домике, смотрела в окошко, а там был закат, состоящий из всех цветов радуги, – совсем темное уже фиолетовое небо, потом оно переходило в синее, потом в голубое, и перед тем, как перейти в желтое, на небе почему-то была узкая неяркая зеленая полоска. Потом прямо над солнцем, которое уже почти дошло до горизонта, небо было желтым, само солнце и небо вокруг него – оранжевым, а у земли – красным. Радуга.
Лита неожиданно вспомнила об этом, глядя на кучку людей около источника. Рядом бабушки продавали бутылки для воды по двадцать копеек. Одна бабушка, как какой-то изгой, стояла в стороне со своими бутылками. Лита вообще не собиралась ничего покупать, но не удержалась, купила посудину у бабушки-изгоя и пошла наливать воду.
Потом пристроилась к группе с экскурсией и походила с ними. В какой-то момент, когда она уже совсем расслабилась, мимо их группы, которой что-то вещала экскурсовод, проходила бабуля с палкой. Поравнявшись с группой, она остановилась почему-то прямо напротив Литы и сказала, зло глядя на нее: «Нехристи. И чего вы только понаехали».
Литу это задело.
Потом она пошла в церковную лавку. Стала наблюдать, как там кто что покупает. Через некоторое время осмелилась, подошла к витрине. Там лежали маленькие иконочки-картоночки с наклеенным изображением на фотобумаге. Лита никогда так близко не смотрела на иконы. Она задержала дыхание и стала их рассматривать. На одной иконе у Богородицы глаза были ярко-голубыми, а сама Она была в красной одежде. Очень красивая.
Лита решилась и заняла очередь. Торговал монах лет сорока, который не смотрел никому в глаза. Когда подошла Литина очередь, она сказала:
– Дайте, пожалуйста, икону Богородицы.
Монах, глядя куда-то вниз, вдруг спросил:
– Вы крещеная?
– Нет, – ответила Лита.
– Я не могу продать вам икону, – сказал он, не глядя на нее.
Лита растерялась.
– Ну, я, может быть, собираюсь креститься, – сказала она.
– Вот когда соберетесь, тогда и приходите.
– Ну, может быть, я пока не верю в Бога, – сказала Лита уже более вызывающе. Больше всего ей не нравилось, что человек смотрел мимо нее, как будто ее тут нет.
– Поверите, – сказал монах, не глядя ни на кого. – Поверите… Что вы хотели? – обратился он к стоящей за Литой женщиной.
Лите пришлось отойти без всякой надежды как-то разжалобить монаха, который ее отфутболил, ни разу на нее не посмотрев. До нее прошла куча народу, он у всех брал записки с именами, что-то им давал, и никого не спрашивал, крещеные они или нет.
Она медленно вышла на улицу. У них тут своя жизнь. Она в ней ничего не понимает.
В храм она решила без Лесника не заходить. Пошла подальше, к забору семинарии.
Там были какие-то одинокие лавочки. Лита села на одну из них.
Неожиданно из кустов вылез человек.
– Сестра, – сказал он сипло, – у тебя поесть нет чего-нибудь?
Вокруг совсем никого не было, а парень был очень странный. Но, по крайней мере, он показался Лите более близким, чем все остальные, с кем она сегодня здесь разговаривала. В кармане со вчерашнего распития шмурдяка у нее остались карамельки – она молча их ему сунула.
– Спаси тя Христос, сестра, спаси тя Христос, – просипел парень и тут же смылся обратно в кусты.
Лита посидела еще чуть-чуть на лавочке и пошла узнавать, где же здесь Сергий.
***
Храм ей показали, но Саши у входа не было. А время было уже первый час. Вот, Лесник тоже ее кинул.
Пошел дождь, и вообще она уже замерзла. Лита вздохнула и вошла в храм.
Она помаячила в нерешительности недалеко от двери, на случай, если ее будут выгонять. Потом прошла поглубже. Налево был вход в другую часть церкви, но Лита решила пока туда не соваться, села на лавочку поближе от выхода. Через минуту к ней подошла женщина с косынкой в руках.
– Дочка, – сказала она, давая Лите платок и глядя на тюбетейку у нее на голове, – надень, а то в церкви так некрасиво.
Она говорила так мягко, что Лита решила не сопротивляться. Натянула на голову платок, как смогла. Тюбетейку спрятала в сумку.
Минут через десять она осмелела, стала ходить по этой части храма, рассматривать иконы. В углу был столик, где писали записки, Лита подковыляла туда потихоньку.
Там на стене висел плакатик, она решила почитать, что пишут. На плакатике крупными буквами было написано: «Как подготовиться к Таинству Причастия».
Дальше что-то написано было мелко.
Рядом, неподалеку, стояли два человека – священник и просто какой-то парень. Они разговаривали. Лите, чтобы почитать плакатик, пришлось довольно близко к ним подойти. Они не обращали на нее внимания.
Она стала читать, но невольно отвлеклась на их разговор.
– Вы хотели бы стать монахом ради духовных ощущений? Не ради Христа? – спрашивал священник.
Парень что-то ответил, Лита не слышала.
– Но ведь духовные подвиги сами по себе не нужны… – говорил священник.
Тот опять что-то ответил.
– Монахом может становиться только тот, кто уже научился любить, – сказал вдруг священник. Лита замерла и напрягла весь свой слух. – Если вы можете о себе сказать, что умеете любить, тогда можете идти в монахи. А если нет, то женитьба – отличная школа любви, – и священник дружески похлопал юношу по плечу. – Мне кажется, это для большинства современных людей более подходящий…
– Девушка, я вас не узнал, – вдруг сказал Лесник. Он подошел с другой стороны.
– Привет… Я думала, ты про меня забыл навсегда. Стремно у вас тут, – ответила Лита, очень обрадовавшись.
– Я еле сбежал с этой конференции. Прости, пожалуйста. Пойдем? Или, хочешь, подойдем к мощам?
– Куда?
– К мощам Сергия Радонежского.
– Что это? Где это?
***
Они вошли в темную часть храма. Там стояла очередь, они встали в конец. Стояли молча. Тут читали и пели. Очередь медленно двигалась. Когда они уже были близко, к ним вдруг подошла женщина с маленьким ребенком и сказала Лите шепотом:
– Девушка, вы ребеночка моего не приложите, а то я не могу... Это, в нечистоте…
– Что? – не поняла Лита.
– Давайте, – вдруг сказал Лесник и взял ребенка на руки. Ребенок был какой-то замороженный и даже не сопротивлялся.
Они продвинулись еще на несколько шагов. Наконец Лита сказала.
– Я же некрещеная… Мне нельзя, наверное, подходить.
– Почему?
– Сейчас тот монах меня прогонит.
– Не прогонит.
Она замолчала. Они продвинулись на два шага.
– И что я должна делать? Целовать стекло?
– Можешь что-нибудь сказать. Или попросить.
– Что?
– Что хочешь.
Ребенок на руках у Лесника сидел смирно.
– Ты так хорошо умеешь держать детей…
– У меня племяннику четыре года. Я с ним на руках сто километров прошел.
Какая-то женщина впереди обернулась и строго посмотрела на них. Лита замолчала на минуту. Очередь неумолимо продвигалась.
– И о чем мне просить?
– О чем хочешь.
– А если я хочу играть в группе с гениальным чуваком…
Женщина впереди снова выразительно обернулась.
Еще три шага.
– Я не пойду, – наконец сказала Лита.
Тут ребенок заплакал. Очень тихо и жалобно, как дети обычно не плачут.
Лесник переключился на него, стал ему что-то говорить. Лита смотрела, как этот малыш странно плакал. Он, видимо, был не совсем здоров. Лита тут же вспомнила про психушку. Очередь приближалась.
Лита представила, как сейчас монах возле раки скажет ей на весь храм: «А ты-то что сюда приперлась, Лита?»
Очередь двигалась. Лесник разговаривал с ребенком. Лита потихоньку перемещалась за ним.
– Лесник, – наконец сказала она, – я боюсь.
Он ответил как-то очень тепло:
– Не бойся.
Наверное, он ребенку это сказал. Потому что тот после этих слов перестал ныть.
Они подошли уже к ступенькам. Деваться было некуда. Лита поднялась вслед за Лесником, подошла к раке.
Не глядя никуда, поцеловала стекло.
Монах ничего ей не сказал.
И она тогда попросила: «Я хочу поверить в Бога».
И поцеловала еще раз стекло.
***
Потом Лесник купил ей картоночку с Богородицей в красных одеждах и с голубыми глазами. Пошел с ней в лавку и купил – после того, как Лита пожаловалась ему, что монах на нее даже не посмотрел, а иконочку не продал. Леснику он дал икону без разговоров.
– Интересно, как он вычислил, что ты некрещеная?
– Не знаю…
Лита близко поднесла икону к глазам и посмотрела на Богородицу.
Потом они пошли в город, в столовую. Почти всю дорогу Лесник молчал, Лита болтала без остановки.
Лесник в Загорск периодически ездил в командировки, поэтому знал местный общепит и привел ее в столовку-стекляшку. Здесь на раздаче стояла тетенька-повар с «бабеттой» из марли на голове и раскладывала на тарелки прекрасную столовскую еду – гречку и вареную в кипятке колбасу, которая из-за кипятка была похожа не на кружочек, а на шапочку.
Это был пир. Лита на самом деле очень замерзла и хотела есть.
– И что, – спросила она во время их пира, – Сергий Радонежский помогает всем?
– Наверное. Мне рассказывал вахтер у нас на работе, как ему приснился однажды какой-то человек, так строго посмотрел на него и сказал: «Не пей». Он пошел после этого в храм, рассказал про сон – там ему стали иконы показывать, и он узнал Сергия. Уже год не пьет.
– Да, повезло. Мне вот всякая фигня снится в основном.
– Священник ему в храме сказал, что это кто-то за него молился.
– Да… Я же говорю – повезло. Боюсь, у меня с этим – полный оплот.
– Что?
– Ну, в смысле облом. Я в детстве думала, что это одно и то же. Когда в гимне пели «надежный оплот», я думала, что это то же самое, что «облом».
И Лита пошла на улицу курить. Потом походила кругами вокруг столовки. Потрогала рукой иконочку в кармане. Проверила, не положила ли сдуру случайно сигареты в тот же карман. Нет, слава Богу.
Лита вернулась в столовку. Лесник сидел спиной к входу и рисовал ручкой в блокнотике. Он рисовал семью, которая расположилась по диагонали через несколько столов – мама и двое детей. Скорее всего, рисовал одну из девочек – та с ложкой наперевес замерла перед тарелкой и смотрела куда-то в себя, другой рукой смешно подперев голову. Рисовал он быстро, иногда поднимая голову.
Лита подошла. Он убрал блокнот.
– А если, – сказала она, садясь и многозначительно глядя на ручку, которую он продолжал держать в руке, – все кинуть и пойти в Суриковское? Или на худграф?
Он как-то помрачнел и стал рассматривать ручку.
– Я подумаю, – наконец сказал он, оторвавшись от ручки и подняв на нее глаза.
У кого-то ведь она уже видела такой взгляд.
– Электричка через двадцать минут. Если быстро пойдем, то успеем… – он убрал ручку вслед за блокнотом.
– Хочешь, я поговорю со своими друзьями, которые учатся на худграфе? Познакомлю тебя с ними.
– Нет, не хочу.
– Да… Ты все-таки как-то мало похож на человека из какого-то поселка на Урале.
– Почему? Каким должен быть человек из какого-то поселка на Урале?
– Не знаю… Ты какой-то очень умный для этого.
Он усмехнулся.
– Нет, я хотела сказать…
– Моя мама была библиотекарем.
– А…
– Что, тогда все понятно? Тогда можно быть умным? – и он улыбнулся как-то печально.
И замолчал. Лита тоже молчала. «Была…» В общем, четыре года – это же совсем недавно.
– Ты скучаешь по ней? – наконец спросила она.
– Да, – он стал рассматривать сухофрукты из компота в стакане.
Лите казалось, что он хочет еще что-то сказать. То есть она прямо физически это почувствовала. Нельзя же все время молчать.
А он вдруг рассмеялся:
– Ты прямо как Момо…
– Что??
– У меня в детстве была книжка. Там было про девочку, которой все всё рассказывали, даже если не хотели. Ты сейчас похожа на Момо…
– Что?! Ты читал про Момо??
– Ну да. Это была моя любимая книжка.
– Что?! И моя…
– Как?!
Они уставились друг на друга.
– Слушай, я первый раз встречаю человека, который читал эту книжку.
– Ну да, у мамы в библиотеке была.
– А у меня у знакомых. Я в детстве ее просила у них каждый год почитать. Потом они
ее еще кому-то дали – и потеряли… А я хотела еще.
Они замолчали. Это было откровением. Он читал ее любимую книжку. Она читала его любимую книжку. Она была сейчас как Момо. Момо была нищей девочкой, сиротой, которая жила в каморке под старым амфитеатром. Она носила рваную одежду и пиджак с чужого плеча. То есть одевалась примерно как Лита сейчас. У нее были темные волосы и светлые глаза. Тоже совпадение. Потом Момо пришлось спасать все человечество от страшных серых господ…
А серый цвет, между прочим, надо просто полюбить.
В общем, на электричку через двадцать минут они не попали. Зато он рассказал ей про маму и про свое дерево. Ну и про жизнь в поселке. Без особых подробностей. Но она и так все поняла.
***
Саша родился в маленьком рабочем городишке в Свердловской области. Трудно было найти более неподходящее место. Сашина мама оказалась тут какой-то волей судьбы, - точнее, советского государства, которое девушку-филолога отправило по распределению в Свердловскую область, преподавать русский и литературу детям рабочих горнодобывающей промышленности. Ее звали тут «странная Анька». Она была ни на кого не похожа в этом рабочем поселке. «Очень красивая баба». Не по-местному.
Она почему-то не уехала отсюда через три года, хотя была явно инородным телом, а вышла замуж и родила дочку. Муж пил. Они развелись, он свалил из поселка куда-то на севера. «Странная Анька» уволилась из школы, стала работать в библиотеке. Одна растила дочку, выдавала книги и заполняла формуляры.
А потом появился он. Будущий Сашин папа.
Он был геолог из Москвы. Геологи приезжали сюда нередко. Они разъезжали по всему району на ГАЗ-66, и вот каким-то ветром будущего Сашиного папу занесло в библиотеку. И образовалась неземная любовь геолога-москвича и странной Аньки. И в результате этой яркой любви появился Саша. Но его папа-геолог об этом не знал. Он уехал через полтора месяца после встречи с прекрасной библиотекаршей, командировка закончилась. Исчез навсегда.
А Саша родился в рабочем городке. И его мама растила теперь двоих детей. И по-прежнему выдавала книги и заполняла формуляры. Еще подрабатывала уборщицей. Еще бесплатно занималась русским с соседскими двоечниками, которые на одной странице делали сорок ошибок.
***
Сашу воспитывал рабочий поселок. Курить он попробовал в семь лет, водку в восемь. Играл во всякие «детские игры» типа залезть по ржавой лестнице на огромную страшную трубу котельной, на самый верх. С компанией ходил драться с теми, кто жил за «железкой». Не пойти было нельзя… «Это поэтому ты такой правильный теперь?» – не удержалась Лита.
Он вполне вписывался в ту жизнь. Хотя не без усилий. Он был немножко «не таким».
В классе, например, всегда сидел сзади и все время читал под партой. Как оказалось, интеллигентские корни неубиваемы. Но ему удалось избежать участи «не таких» – его не унижали. Приходилось драться, молчать, как партизан на допросе, если взрослые спрашивали: «Кто тебе разбил губу?», жить по правилам улицы, неизвестно кем установленным. Но он не боялся. Поэтому не был жертвой.
Читать в четыре года его научила старшая сестра. Она была совсем не в маму, а в своего отца, очень бойкая девочка – может, еще и поэтому Сашу не трогали? Самый большой кайф лет до девяти был: сидеть в библиотеке между полками на маленькой табуреточке и читать все подряд. По-настоящему он любил три вещи – маму, книги и лес. Уральский светлый лес, который окружал поселок.
А еще он все время ждал, когда папа вернется из командировки.
***
В пятом классе у них появился новенький – сын лесника. Этого Илью посадили за парту с Сашей, потому что Сашин сосед тогда болел. Новенького стали «проверять на вшивость», а Саша как раз только проглотил «Трех мушкетеров». В общем, он помог новенькому. С этого момента у него появился друг.
Илюхин отец, дядя Миша, часто брал мальчиков с собой в лес. Иногда на несколько дней, без всего, кроме спичек и ножа, – такая школа выживания. Илья, его родители и еще младшая сестра жили не в поселке – лесник возил детей в школу на уазике. Он научил мальчиков водить этот уазик – в двенадцать лет они разъезжали за рулем по проселочным дорогам. Еще у них с Илюхой был тайный дом в лесу, который они сами построили.
Дядя Миша много их чему научил. И сказал однажды то, что Саша всегда интуитивно знал: главное – не бояться, даже если тебя убьют или покалечат.
***
Илюхин папа был самым лучшим.
А Сашин папа так и не появлялся.
Еще до Илюхи у Саши было такое маленькое деревце в лесу, которому он ходил молиться о своем папе. А однажды он выведал у соседки, что папа – в Москве. И его сразу осенило – раз папа в Москве, то все очень просто: он едет в Москву, встречает его на улице, они с ним сразу друг друга узнают – и все. Это была идея фикс. Этой мыслью он жил целый год. Сначала намеками, потом напрямую постоянно говорил маме, что очень хочется в Москву. Она прониклась – мальчик хочет в столицу. Тем более в Москве жила троюродная мамина сестра Катя, с которой они созванивались четыре раза в год по праздникам. Мама стала откладывать по чуть-чуть со своей зарплаты, и летом они поехали. А до этого ведь Саша даже в Свердловске ни разу не был. Не был никогда в большом городе.
В поезде он не мог спать и чуть не умер от мысли, что едет к папе. И вот его стали водить по всяким музеям, а он только все смотрел на мужчин в метро и в толпе и пытался догадаться, где же папа.
Почти сразу он, конечно, понял, что бездарно ошибался. Что в Москве слишком много мужчин. Он даже представить себе не мог, что их столько. В этой толпе даже если он его встретит, то никогда не узнает. Когда он это понял, первый раз в жизни рыдал несколько часов. (Этого он, конечно, Лите не сказал.)
Когда он вернулся из Москвы, то первым делом пошел в лес и сломал там свое дерево. И больше не ходил ему молиться.
***
А когда им с Илюхой было по тринадцать лет, дядю Мишу убили. Говорят, на охоте, случайно. Илюха после этого уехал из проклятого поселка с мамой и сестрой. Саша его больше никогда не видел. И тогда он пообещал Илюхиному папе около своего сломанного дерева, что станет лесником.
Потом прошли еще два с лишним года, которые почему-то почти целиком выпали у него из памяти.
А потом мама попала под поезд.
Саше было шестнадцать лет, и он ходил на опознание в морг, потому что сестра была уже замужем и ждала ребенка.
Дальше жизнь как бы продолжалась. Он ходил в школу. Потом уходил каждый день в лес, хотя была осень и было холодно. Никто его теперь не мог остановить. Да и дела до него особо никому не было.
***
Через месяц после смерти мамы его забрали в интернат прямо из школы. Сестра не знала, что нужно было сразу оформлять над ним опеку. Пришли с милицией, чего-то сказали, он ничего не понял, посадили в машину и увезли в интернат в другом районе.
Он хотел сбежать, но не было сил.
В интернате Саша вдруг начал рисовать. Вообще он и до этого всегда немножко рисовал, но тут выяснилось, что он рисует хорошо. Это его спасло. Благодаря стенгазетам его не раздавили воспитатели. Благодаря умению рисовать наколки можно было жить среди сверстников. Он выжил, не сломав внутреннего достоинства – того, что в интернатах и тюрьмах часто ломается. Еще помогли слова дяди Миши про «не бояться, даже если убьют или покалечат».
Через полгода сестра оформила над ним опеку и забрала его домой.
Муж сестры пил. Отчим мужа сестры был уголовник – он в молодости в драке убил человека. Его падчерица от него родила ребенка. Отчим обещал, что если она кому расскажет, он повесит ее на колготках. Это по пьяни Саше рассказал муж сестры, оборачиваясь все время на дверь, как будто оттуда должен был войти его батя с колготками. В общем, такая была жизнь.
Саша устроился работать на горно-обогатительный комбинат, приходил домой еле живой после смены – дома была злая и уставшая сестра, потому что ее маленький ребенок все время плакал. Ее муж сидел на кухне в клубах «Беломора» и говорил:
– Саня, мой тебе совет – никогда не женись.
Саша брал племянника и уходил с ним в лес. Теперь он любил племянника, лес и возможность рисовать.
Ночью вставал к ребенку часто тоже Саша. Ходил с ним на руках по квартире и пел колыбельные. В одну ночь, глядя на заснувшего у него на руках младенца, он вдруг подумал, что у них во всем их дурдоме поселился младенец Христос. Откуда ему пришло это в голову – непонятно… Тогда же, в ту ночь, он понял, что нужно уезжать отсюда. В Москву. От леса. От племянника. От своего обещания стать лесником.
Весь год с ним занималась математикой подруга его мамы, математичка из их школы. Говорила, что мозги-то у него хорошие, и пока не погибли, надо поступать в институт, в Москву. К лету сестра ушла от мужа и уехала в Свердловск. А Саша поехал к троюродной тете в Москву. Где первым делом похоронил свою последнюю мечту – не пошел в Суриковское. Поступил в технический вуз и вот второй год жил в Москве.
Его ценила на работе заведующая, и сессию он сдавал без троек. Он помогал по хозяйству своей тете, у которой жил, и брал дополнительную работу, чтобы зарабатывать деньги. Он жил так, как будто не было ни поселка, ни опознания попавшей под поезд «странной Аньки», ни интерната, ни жизни с сестрой и ее мужем-алкоголиком. В Москве – он так решил – он начал жизнь как бы с чистого листа. На самом деле это оказалось несложно – детство и отрочество, особенно то, что было после смерти лесника дяди Миши, почти напрочь выпали из его памяти. В московскую жизнь он вписался довольно легко. Интеллигентские корни неубиваемы.
***
Он никому ничего не рассказывал, и сейчас бы не рассказал. Но Лита читала про Момо. Она была похожа на Момо. Она слушала, как Момо. И вообще, она ведь могла намазаться зеленкой и ехать так в метро… Почему-то это имело значение.
– Эй, молодежь, на дискотеку вон идите, столовая закрывается!
Видимо, колбасу всю выловили из кипятка, и тетенькам пора было снимать «бабетты» и идти домой.
Пришлось встать и пойти к выходу. Лита напоследок только не удержалась, спросила:
– Как ты выжил во всем этом?
– Прекрасно. Я не стал лесником, не стал художником. Вот, теперь буду инженером.
***
В обратной электричке они сидели друг напротив друга. Лесник, кажется, заснул. Лита смотрела на него потихоньку. Ей первый раз за последние два года захотелось плакать. Мальчик из рабочего поселка. Который оказался не в то время не в том месте.
Что надо чувствовать, чтобы сломать своего бога-дерево?
Она закрыла глаза. Когда открыла, увидела, что Лесник смотрит на нее. Но он тут же отвернулся и стал смотреть в окошко.
– У тебя есть кассетный магнитофон? – спросила Лита.
– Нет. Но я могу взять у соседей.
Она порылась в сумке, достала кассету.
– На, послушай, если хочешь.
– Что это?
– Послушай.
– Это ты поешь?
– Ну да, мы.
Он взял кассету, убрал в карман.
– Тебе не страшно петь на улице?
– Нет, наоборот. Это единственное, что мне нравится делать.
Лита поизучала грязное стекло.
– Скажи, вот есть человек… Он гений. На самом деле. У него музыканты все очень клевые. Может быть, они взяли бы меня к себе. Хотя это бред, конечно… Они пригласили меня познакомиться, а я не пошла. Зря?
Он тоже поизучал грязное стекло. Потом сказал:
– Может, надо попробовать? А там как получится.
Он сказал это, и Лите стало вдруг очевидно – действительно, попробовать лучше, чем так мучиться.
– Знаешь, – вдруг сказал он. – У меня вот это какой-то выпавший кусок из жизни. Я не слушал никакой музыки, не знаю никаких групп. Ничего не знаю. Можешь устроить краткий ликбез для рабочих с Урала?
Лита, конечно, могла – и до самой Москвы, помогая себе руками и голосом так, что на них оборачивался весь вагон, рассказывала ему краткую историю мировой рок-музыки.
***
Но когда они вышли из электрички, она быстро слиняла. Попрощалась на ходу и убежала в метро. Она поняла, что ей надо все переварить. Вся эта Сашина история – это слишком много. Она не могла больше с ним рядом находиться. Какой-то перенасыщенный раствор.
Не доехав до дома, она зачем-то вышла на «Дзержинской» и стала ходить кругами вокруг «Детского мира». Никак не могла успокоиться. Во-первых, она помнила, как сказала монаху, что не верит в Бога. И весь день ей было почему-то стыдно за это перед Богом. И вторая заноза, которая прямо стала нарывать, – Лесник. Он какой-то слишком концентрированный. Надо держаться от него подальше. Лита обошла магазин уже в пятый раз, когда наткнулась вдруг на старуху, просящую милостыню. И Лита обрадовалась ей, как родной, как будто старуха могла облегчить ее терзания. Лита выскребла всю мелочь по карманам и сложила в протянутую руку. И ей стало как-то меньше стыдно перед Богом. Глупость какая-то – можно подумать, что эта мелочь могла ее оправдать.
***
Лежа в кровати, кроме узора на ковре можно было еще смотреть на лампочку в ночнике. Лита с детства любила смотреть на горящую лампочку. Лежала и смотрела, как младенец, прямо на яркий свет.
Она смотрела, смотрела – и вспомнила, у кого был такой же, как у Лесника, взгляд. Сын дворничихи. У них во дворе на Арбате был сын дворничихи – хулиган с ангельским лицом. Однажды он что-то натворил, его мать была в запое, соседи на него ругались, а Литу поразил его взгляд. Она тогда почти влюбилась в него. Ей даже ужасно захотелось пожалеть его, но сделать это было невозможно.
Точно. У Лесника были глаза беспризорника, сына дворничихи. А интонации и поведение – мальчика из хорошей семьи. Сын библиотекарши с глазами бездомной собаки.
Или это так кажется. Нет, он совсем другой. Наоборот, он очень хороший. Он слишком хороший.
И что он мог знать о той изнуряющей тоске, которая завтра будет ждать Литу около кровати? Но она поняла, что он знает про это, и, может, побольше, чем она. Взгляд его выдавал.
Встретились, блин, два одиночества.
Глава 6
***
Надо было как-то отдать свитер. И три рубля, которые она заняла у него, когда они ездили в Загорск.
Пипл собирались иногда в длинном переходе на «Проспекте Маркса». Пока не гоняли, можно было пожить здесь несколько часов. Через два дня после Загорска Лита как раз оказалась в этом месте. Была гитара, кто-то пел. Они выпили бурды, которую почему-то называли портвейном, и Лита из автомата позвонила Леснику. Попросила его приехать сюда.
– Я так никогда не соберусь тебе отдать свитер. Можешь подъехать, и мы за ним сходим?
И он приехал.
Приехал и встал в стороне.
Лита, когда его увидела… Свет включился у нее внутри. На одну минуту.
Потому что он не подошел к ней. Так и стоял в стороне. Она сначала хотела подойти к нему сама. Сказать: «Хочешь, уйдем отсюда?» Он бы ответил ей: «Хочу», и они пошли бы гулять по Москве. Лита показала бы ему всякие интересные места. Они могли бы разговаривать хоть десять часов… Но Лита вдруг поняла, что он – отдельно. Он не с ней и не с ними.
Она была на этой стороне, со своими друзьями, которые представляли для нормальных людей «жалкое и отвратительное зрелище», как сказал им недавно один мент. Но Лита знала, что это не так. Она любила этих людей, хотя и говорила часто, что всех ненавидит. Она понимала их очень хорошо. Да, они вели пустые разговоры и занимались всякой хренью. Но среди них были талантливые и тонкие люди. И по крайней мере, никто не имел права их презирать. Но она была на этой стороне, а Лесник – на той.
Он стоял, прислонившись к стене и сунув руки в карманы. Не подходил и не уходил. Прекрасный сын свободного геолога. Вернее, несчастный сын библиотекарши. Или наоборот… На самом деле никто ему не нужен, это же очевидно.
Лита уже месяц, наверное, жила впотьмах. Как говорила бабушка: «Лида, не читай впотьмах». В этих потьмах у нее музыка не писалась, петь не хотелось, жить не хотелось. Еще и этот Лесник… Какая-то заноза. Как «Ода к радости», от которой было невыносимо хорошо и восторженно больно.
Лита стояла по одну сторону, а Лесник – по другую. Посредине был мрачный переход с месивом из грязи и первого снега. Похоже, границу было невозможно перейти. Надо было что-то сделать.
И Лита сделала. Она делала иногда сногсшибательные глупости.
Она дождалась, когда мальчик, который что-то там мяукал, допоет, подошла и попросила гитару. Встала и громко, на весь переход, сказала:
– Песня. Посвящается человеку по имени Саша. Который скоро будет инженером.
И все, надо сказать, обратили на нее внимание. Вообще этот переход не раз слышал Литу. И шелестящие по грязи прохожие часто останавливались, когда она пела.
Сейчас ее несло.
– Саша среди нас. Он настоящий герой. Он всегда придет к вам на помощь. Он лучше всех. Посвящается Саше, – еще раз громко объявила она и запела.
Это была песня, которую сочинил Кремп. Лита пела ее раньше один или два раза, когда было совсем мерзко. Весь смысл песни сводился к тому, что «лирический герой» встречает разных девушек, но когда дело доходит до «дела», все идет не так.
Припев там был: «Ну почему он не встает?!» Припев предполагалось орать – по крайней мере, когда Кремп эту песню иногда пел, какие-то придурки самозабвенно ему подпевали. Сейчас Лита пела очень самозабвенно. И припев орала громко и мощно.
Пусть все видят, сколько она стоит. То есть пусть он видит.
Она мстила ему за то, что он похож на благополучного беспризорника, что он любит серый цвет, что он не переходит эту границу посреди перехода, что он выжил в интернате, а она ходит ночевать (хотя уже не ходит!) в химчистку…
Он не уходил, она видела краем глаза. Дослушал все до конца.
Наконец она закончила. Тут же отдала гитару. Отошла к стеночке. Кураж весь прошел. Лита достала сигарету. Она увидела, что Лесник направляется к ней, и с ужасом стала рассматривать, что там написано на сигарете. Интересно, что же там написано?
Он подошел, Лите пришлось оторваться от сигареты и посмотреть на него. Глядя ей прямо в лицо своими прекрасными глазами, он улыбнулся и, разделяя слова, сказал:
–Ты. Просто. Дура.
Развернулся и ушел.
И у Литы так все заболело в груди, там, где душа. («Сердце слева, а душа посередине», – серьезно говорила Манька. Да, болело обычно посередине.) Так стало больно, как будто каких-то битых кирпичей туда засунули. И захотелось рвануть за ним, но она осталась стоять на месте. «Стой где стоишь, – сказала она себе. – Ты же получила, чего хотела…»
Жизнь окончательно кончилась.
***
Она смогла выдержать только один вечер. На следующий день, соврав маме, что нужно три рубля в школе, взяла деньги и потащилась к нему в институт. Вычислила его группу, посмотрела расписание и стала ждать под дверью аудитории, чуть от тревоги и тоски не съев эту трешку.
Он вышел из аудитории последним. Один. Лита подошла и встала перед ним.
– Привет, – сказала она как можно непринужденнее, размахивая у него перед носом зеленой трешкой. – Я принесла деньги. Помнишь, я тебе должна? Вот, на панели заработала.
Он так посмотрел, что у нее внутри все упало.
– Ты мне ничего не должна, – и пошел дальше.
Лита догнала его, снова преградив дорогу.
– На меня нельзя обижаться, – сказала она с отчаянием. – Я больная, понимаешь? Я все лето пролежала в психушке. На идиотов не обижаются, понимаешь? Ты правильно сказал, что я дура… Прости меня… – добавила она уже совсем упавшим голосом.
Если бы он знал, что она сейчас сделала! В жизни она не могла ни у кого попросить прощения. То есть она знала, что виновата, она смотрела издалека на человека и мысленно, не произнося слов, мучилась. Но сказать это вслух – это было невозможно. И вот она произнесла это вслух.
Он выслушал всю тираду, не глядя на нее.
– Я ничего не помню… Извини, у меня контрольная, – и снова пошел вперед.
Лита пошла рядом. Когда они дошли до подоконника, она снова преградила ему дорогу и сказала:
– Я не уйду с этого подоконника, пока ты не возьмешь у меня деньги и не простишь меня. Здесь, между прочим, очень дует.
С этими словами она залезла на подоконник с ногами и села, уже не глядя на него, отвернувшись к окну.
Он ничего не ответил и пошел дальше. Лита осталась сидеть.
Здесь правда было очень холодно. Правда дуло из окна. Но Лита сказала себе, что все равно терять ей нечего. Пусть она сдохнет тут. Впереди была суббота. Значит, в понедельник уборщица обнаружит ее труп. Прекрасно.
Сначала мимо ходили какие-то люди. Потом, видимо, началась пара, Лита осталась одна. Она достала книжку и стала пытаться читать. Но ничего не понимала. Через некоторое время ее начало трясти от холода. На улице стемнело. Лита забыла завести часы, и они остановились. Она сидела, тряслась и смотрела в окно. Тряслась и сидела. Обычно ее спасало то, что от безнадежности она умела впадать в ступор. В анабиоз. Ей, наверное, можно было бы стать космонавтом для дальних перелетов. Лететь на Марс. Может быть, в этом ее призвание?
В какой-то момент Лита повернула голову – Лесник стоял напротив.
– Что так рано? – спросила Лита, боясь поверить, что он пришел.
– Пошли отсюда. Уже поздно.
– Как контрольная? Написал?
– Нет.
– Почему?
– Думал про то, что ты тут сидишь… Пойдем.
– Нет, сначала возьми деньги. И скажи, что ты меня простил.
Он ничего не ответил, но вдруг быстро – раз, взял ее на руки, снял с подоконника и поставил на пол. Она рванула было обратно, но он перегородил дорогу.
– Все, обратно уже нельзя.
Лита сделала несколько попыток прорваться к подоконнику, но он не пустил ее. Так они постояли напротив друг друга. Потом он взял ее сумку и просто сказал:
– Все, пошли, – и двинулся к лифту.
Лита послушно пошла за ним.
***
По дороге они говорили о всякой ерунде. Он спросил, куда она будет поступать. Лита вдруг серьезно ответила:
– У меня папа – физик-ядерщик. Он хотел, чтоб я шла куда-нибудь тоже в науку. На физфак, даже о физтехе для меня мечтал. Ну, с физтехом сейчас, слава Богу, все понятно… Ну, я и на физфак теперь уже не поступлю, хотя собиралась. Я до восьмого класса училась даже в физматклассе. Потом меня оттуда поперли, перевели в другой класс, для тупых. Бедный папочка… Так вот, когда я училась в классе для умных, папочка мне пытался вдолбить что-то из квантовой механики. Даже умудрился туда Высший Разум вплести. И знаешь, у него это так интересно получалось, что я в какой-то момент даже захотела заниматься наукой. И Высшим Разумом… Вообще по-настоящему заниматься наукой – это клево.
Она сделала несколько шагов в сторону, взяла в руки снег и стала лепить снежок.
– Ну так и что же квантовая механика? – мягко спросил Лесник.
– А ничего. – Она зашвырнула снежок в небо. Достала сигареты и закурила. Несколько минут они шли молча. Вдруг она с вызовом сказала: – Это, конечно, все замечательно. Бог, который создает Вселенную, которая повторяется в атоме. Высший Разум, красота, тра-та-та… Только какое отношение все это имеет ко мне? Высший Разум, Бог – сам по себе, а я сама по себе. В моей жизни его нет.
– Я послушал твою кассету, – вдруг неожиданно сказал Лесник. – Взял у соседей магнитофон.
– Да? И чего? – спросила она, стряхивая пепел ему под ноги.
– Я подумал, что очень странно – ты такая мрачная по жизни, а песни у тебя совсем другие… Это же твои песни?
– Ну да…
– При этом ощущение, что человек, который их написал, что он сделал это… от какой-то боли.
– Чего?
Он не ответил.
Они снова пошли молча. Лита глядела вниз и загребала снег ногами – просто само изящество. Наконец она сказала:
– Вообще любое дело человек делает от боли… Мне так кажется. Даже посуду моет. Его раздражает, что у него в раковине грязная посуда и не из чего поесть. А раздражение – это тоже боль. Такая... совсем маленькая. Ну, и с музыкой как-то похоже. Иногда кажется, что тебя просто разорвет. Ну вот, надо что-то с этим делать. Никак не успокоишься, пока не найдешь этому применение. Мучаешься от какой-нибудь фигни, пытаешься превратить это в музыку. Если получается – уже легче. Иногда вообще кайф после этого наступает. И так до следующего раза. Пока снова не накроет… Собачья жизнь. Но в результате иногда получается красиво.
– Я тебе завидую, – вдруг сказал он.
– Ну и зря. Собачья жизнь. Я правда не понимаю, почему, когда я вижу что-то очень красивое, мне больно. Кажется, что я должна что-то с этим сделать. Как-то на это ответить. Показать кому-то. И если я не знаю, как и чем ответить, это очень мучает. Но можно петь – это хоть как-то оправдывает существование.
Они дошли до Литиного подъезда и остановились. Ветер раскачивал фонарь, под которым они встали. Такой был сильный ветер.
Лита посчитала этажи.
– Ура, дома никого нет… Ну, пока?
– Пока, – сказал он неуверенно, как будто надеялся, что нельзя вот так просто взять и расстаться.
– Подожди, а свитер?! – закричала вдруг Лита. – Свитер! Ты здесь подождешь? Или, хочешь – пойдем ко мне пить чай? Помнишь, я у тебя ела суп? Теперь твоя очередь.
***
Он рассматривал Литины книги, пока она заваривала чай.
– Ты закончила музыкальную школу? – наконец спросил он, нарисовав на пыли на пианино узор.
– Да, – ответила она, входя в комнату. – Только я тебя умоляю, не говори это: «музыкальная школа».
– А кроме переходов ты где-нибудь поешь? – неожиданно спросил он.
– Это ты к чему?
– Ни к чему. Просто. Интересно.
– Конечно. Где могу, там и пою. На квартирниках. Один раз была на фестивале. На Урале, кстати, где-то – не помню город…
– И больше тебе ничего не надо?
– В смысле?
Он не отвечал.
– Что ты хочешь у меня узнать? Не хочется ли мне, чтобы кто-нибудь про меня, например, сказал, что я новая Дженис Джоплин? Это? – спросила наконец Лита.
Он продолжал молчать, но улыбнулся и посмотрел на нее так, как будто был готов именно это ей и сказать. Хотя вряд ли он знал, кто такая Дженис Джоплин.
– Слушай, пойдем пить чай, – Лита быстро вышла в кухню. – Любишь конфеты «Мечта»? – крикнула она ему оттуда. – Ну вот, будем жрать мечту… Ты из большой чашки любишь пить или из маленькой?
– Из большой, – ответил он, входя за ней на кухню.
Лита разлила чай.
– У вас очень уютно, – сказал Лесник.
– Спасибо. Это не моя заслуга.
Лита стала рассматривать розовую конфету.
– Я классе в четвертом, – сказала она, – этой «Мечты» съела целый килограмм. Какое-то кино смотрела – там очень страшно было. Я не заметила, как килограмм закончился. С тех пор ненавижу эту «Мечту». Но мама ее почему-то все время покупает.
Он сделал из фантика маленький кораблик и поставил на крышку сахарницы. Лита развернула свою конфету, тоже стала делать кораблик. У нее ничего не получилось, она смяла фантик и запустила им в мусорку. Не попала. Фантик от «Мечты» улетел за шкаф.
– Знаешь, – вдруг сказала Лита, – на самом деле я могу петь стенке. Потому что все равно ты всегда поешь себе. Потом всем остальным. Я на этом фестивале первый раз пела перед кучей народа, перед полным залом. Первый раз в жизни пела в микрофон… Мне почему-то сначала показалось, что в зале никого нет. И я поняла, что мне все равно, тысяча человек или никого нет. Но кайф все-таки в том, что ты что-то делаешь – а ловят это другие. И им хорошо от этого. Понимаешь? Это не слава. И не власть. Я не знаю, что это. Одни психи пишут и поют о своем для других психов. Те их понимают. Те, кто с ними на одной волне. И тогда всем гораздо легче жить…
Тут в комнате зазвонил телефон.
Лита остановилась и посмотрела на Лесника. Он смотрел как будто через нее. В какую-то бесконечность.
– Хотя, – продолжила она, – каждый все равно получает столько, сколько он стоит.
Телефон надрывался.
«Не подходи», – сказала себе Лита.
Лесник молчал.
Телефон трезвонил.
Лита вздохнула, зашла в комнату и сняла трубку. Это был Кремп.
***
– Лита, мы едем прямо сейчас в Питер, – сказал Кремп без предисловий. – Завтра там будет квартирник. И... – он назвал Федину группу, – туда приедут из Москвы. И... – и он назвал еще несколько потрясающих слух имен. – Давай, полпервого ночи у лысого камня.
– Да, хорошо, – ответила Лита и положила трубку. Она знала, что не сможет не поехать. Потому что там будет Фредди Крюгер.
Она вернулась в кухню.
– Лесник… Поедем в Питер? Прямо сейчас. Позвонишь тете. Впереди выходные.
– Это Кремп звонил? – спросил он, и глаза у него стали как у сына дворничихи.
– Да.
– Если ты едешь с ним, зачем должен ехать я?
– Я еду не с ним. Я еду просто. И ты – поедем просто. С нами. Нас несколько человек едет. Там будет сейшен, на котором мне обязательно надо быть. Поедем, – сказала она почти умоляюще.
Он встал, прошел по кухне, посмотрел в окно, потом сунул руки в карманы, прислонился к подоконнику и вдруг спросил:
– Ты его любишь?
Повисла пауза.
– Зачем ты меня это спрашиваешь? – наконец произнесла Лита.
Он молчал.
– Зачем ты это спрашиваешь? – повторила Лита с отчаянием. – Хочешь покопаться в чужом грязном белье?
– Ты не можешь сказать да или нет?
– Зачем?
– Хорошо. Ты можешь остаться?
– Нет. Я хочу поехать. Ты понял? Я хочу поехать!
– Зачем? Если ты можешь петь стенке, зачем тебе сейшен?
Они замолчали. Наконец Лита сказала с отчаянием:
– Поедем с нами.
– Нет, – ответил он.
Лита поняла, что все, собственно, кончено.
– Хорошо, – сказала она глухо. – Я тебе отвечу на твой идиотский вопрос. Я никого не люблю. Я всех ненавижу. И больше всех себя. Я всех ненавижу, – повторила она, глядя на него. Глаза у нее стали совершенно холодными. – Ты не понимаешь, что никто никому не нужен? Никто никому не нужен! Все только делают вид. А по большому счету – никто никому не нужен. Никто никого не любит. А я не собираюсь делать вид. Я просто всех ненавижу. Это честно. Так гораздо легче жить. Я раньше так мучилась, прям как ты сейчас, а потом я поняла, что когда всех ненавидишь – гораздо легче жить.
– А как же психи, которые поют для других психов? – вдруг спросил он.
– Знаешь, что такое любовь? – продолжила Лита, не обращая внимания на его слова. – Любовь – это когда в одной комнате поют что-то под гитару, а в другой под это пение трахаются.
– А ты, – вдруг ответил он, – ты больше всего боишься быть правильной. Ты так хочешь быть неправильной, а у тебя не получается.
– Заткнись…
– И ты… ты в полной иллюзии по поводу себя, – и он вдруг рассмеялся. – Ты повязана по рукам и ногам. Рабыня Изаура свободнее тебя.
И он попал в точку. Он попал в точку, гад. Он говорил то, что мучило Литу. Она несвободна. Она ничтожество. И он говорил ей об этом!
И тут ее накрыло. Так бывало с ней. Ей становилось нестерпимо плохо, будто случилось что-то жуткое и непоправимое. И крыша казалась единственным выходом из всего.
Она поняла, что поедет сейчас в Питер, чтобы утопиться там в дерьме.
Почти на ощупь она подошла к входной двери, открыла ее нараспашку, сделала три шага назад и сказала:
– Пошел на …!
Он посмотрел ей прямо в глаза. Лита не выдержала, отвернулась и в отчаянии крикнула:
– Пошел на …!
Ей показалось, что перед тем, как выйти, он усмехнулся.
Она захлопнула дверь за ним так, что задрожали шкафы, лампочки, тумбочки, зеркала, полки и антресоли, где хранились Литины детские рисунки. Мама, папа, я…
Глава 7
***
До квартирника и Фредди Крюгера Лита не доехала. По дороге она поссорилась с Кремпом и благодаря каким-то пиплам оказалась сначала на Ротонде, а потом в питерской квартире, похожей на бомжатник. Тут много пили и курили травку. Все остальное время вели философские разговоры, пели и периодически блевали с балкона. Лита не очень понимала, зачем она сюда попала.
На третью, кажется, ночь, ей приснился очень яркий сон. В нем Лита будто перетекала из одного пространства в другое, и точно знала, что в мире никого нет. И никогда не было. Только она одна. Ни людей, ни животных, никаких существ. Ни Бога. Ни в прошлом, ни в настоящем. Никогда нигде никого. Во всей Вселенной, во всех галактиках. Никого.
Когда она это поняла, она такое почувствовала... Даже во сне она была уверена, что страх и ужас раздавят ее, и она не сможет проснуться.
Потом все-таки оказалось, что она лежит на полу на матрасе. В комнате больше никого не было, но за полуоткрытой дверью разговаривали вполголоса. Было почти темно, светило чуть-чуть только от уличных фонарей.
Лита посидела на матрасе минут десять, пытаясь забыть сон. Потом медленно, с трудом встала и пошла в соседнюю комнату посмотреть на живых людей. Там на каком-то ковре сидели совершенно голые молодой человек и девушка и разговаривали по-французски. Лита дико на них посмотрела и побрела по длинному темному коридору. Через несколько метров наткнулась на полуоткрытую дверь, нащупала выключатель. Это была ванная – облезлая и страшная. Зато тут был душ и стоял какой-то заграничный шампунь. Вода, видимо, подогревалась колонкой, и сейчас была ледяная. Лита разделась, влезла в ржавую ванну и стала с остервенением мыться заграничным шампунем под ледяным душем.
Потом, натянув на мокрое тело одежду и трясясь от холода, снова пошла бродить по квартире. Наткнулась на вешалку, чудом нашла свою куртку, которая валялась на полу. Еще после десяти минут ползанья по полу нашла свой холщовый рюкзак. В нем был ксивник с документами и десяткой, которую она стрельнула у Кремпа еще по дороге сюда.
Она уже хотела уйти, потом все-таки зашла в комнату, где сидели голые молодые люди,
и сипло спросила, испугавшись своего голоса:
– Сигареты есть?
Девушка изящно встала и протянула Лите почти целую пачку.
– Берите все, – сказала она по-русски, улыбаясь, – у нас есть еще.
Лита молча взяла пачку и, не переставая трястись, медленно пошла к выходу, на улицу, в холод. Ее тошнило, идти было очень трудно – почти как в ее кошмарном сне. Она блуждала по чужому Питеру. Людей не было.
Наконец ей удалось выйти на ярко освещенную улицу, и по фонарям она догадалась, что это Невский. Тут стали попадаться люди. Еще минут через двадцать она добрела до Московского вокзала.
На Москву поезд был через полчаса. Лита в него вписалась с помощью кремповой десятки.
***
Когда поезд тронулся, Лита вышла в грязный тамбур. Сил стоять не было, она села сначала на корточки, потом, сунув под себя рюкзак, села прямо на пол. Она просидела так час или больше, выкурив полпачки сигарет. Даже в поезде, где были люди, ощущение тотального одиночества не покидало. Кошмар из галлюцинации перетек в жизнь.
Наконец Лита с трудом поднялась с пола и стала смотреть в окно, в полную темноту. Потом машинально взялась за ручку двери, нажала на нее и подергала. Дверь была заперта. Она перетекла к противоположной двери, нажала ручку, подергала – заперто. Дальше через грохочущий резиновый коридор она перешла в тамбур соседнего вагона, проделала там с дверями то же самое – везде было заперто.
Она прошла, качаясь, через спящий вагон. Повторила то же самое в другом тамбуре. Заперто. Снова прошла через резиновый коридор. Снова двери. Снова заперто. Дальше на нее нашло какое-то умопомрачение. Не закрывая за собой двери, она проходила, качаясь, через спящие плацкартные вагоны, в которых в проходе торчали чьи-то ноги, и как будто пустые купейные, в которых стук колес был тише.
Никому не было до нее дела. Поезд спал. Все спали. Спала Литина мама дома у Сергея Ивановича. Спал на питерском флету Кремп, еще не зная, что Лита его кинула навсегда. Спал, обнимая свою очередную очарованную даму, Фредди Крюгер, который, кстати, искал Литу через своих знакомых и уже почти нашел. И даже Лесник спал, хотя он только недавно лег, сломав перед этим пополам свой самый лучший карандаш. Он взял очередной чертежный заказ на дом – заказ оказался очень сложным. К тому же он не мог ни о чем думать, кроме этой дуры Литы. И промучившись с чертежом и с мыслями до трех ночи, сломал карандаш и заснул. А Лита бежала через поезд, и дергала ручки, и некому было ее остановить.
И вдруг одна из дверей – тридцатая, сороковая? – открылась. Рука привыкла к сопротивлению, а тут вдруг – пожалуйста, выходите, не заперто. Она не ожидала этого. В открывшуюся щель прорвался ледяной черный воздух. Поезд стал громче греметь своей сотней колес. За спиной у Литы, в тамбуре, горела лампочка. Впереди проносилось черное и холодное пространство. Лита вцепилась в ручку мертвой хваткой. А в голове все громче долбилась мысль – ну, давай, ты же так хотела этого, давай. Она наклонилась вперед, держась одной рукой за ручку, другой за поручень. Она наклонилась так, что видела только пустоту, ничто. Стояла так, замерев, и в какой-то момент ей вдруг показалось, что она уже спрыгнула – и это ничто и есть смерть.
А дальше все как-то начало крутиться. В пустоте появились цветные пятна. И лампочка на мгновение мелькнула перед глазами. А потом Лита почувствовала затылком удар. И увидела над собой рожу какого-то мужика. Он стоял и матерился. И она, не сразу, но поняла, что не умерла, а лежит на полу в тамбуре. Мужик этот вышел покурить, увидел, как она зависла, и понял своими пьяными мозгами, что тут не шутки – схватил ее и оттащил от двери. Ну, не рассчитал силы, уронил. Лита лежала сейчас и смотрела на него. Через несколько секунд появились еще один мужик и проводница. Втроем они орали на Литу. Она с трудом села. Проводница стала закрывать дверь, второй мужик размахивал у Литы перед носом руками. Проводница исчезла, потом, вернувшись, стала совать Лите в лицо какую-то тряпку – оказывается, из носа у нее шла кровь. Лита машинально взяла тряпку и прижала к носу, но больше никаких разумных действий и слов от нее добиться было невозможно. Поорав, они оставили ее в покое, предварительно еще раз проверив, заперты ли двери. Потом, минут через пять, добросердечная проводница снова вышла, повела Литу в туалет, что-то говорила и качала головой, пока та умывалась, потом посадила ее в свое купе и налила стакан чая. Лита не сказала ни слова за все это время. Проводница, видимо, поняла, что девочка не в себе, отвела ее на пустое место и отстала. Лита легла и заснула тяжелым сном.
***
С восьми часов утра она сидела в Москве на Ленинградском вокзале. Она ощущала себя каким-то презренным червяком, который был наполовину раздавлен, но должен как-то дальше жить. Шевелиться не было сил. Потом ей как будто захотелось есть. Она поплелась в метро, доехала до следующей станции – она помнила, что там на улице рядом с метро был хлебный. Наскребла по карманам девять копеек, купила половинку черного. В магазине было тепло. Она села на корточки возле батареи и стала есть хлеб прямо здесь, глядя в одну точку и вызывая своим видом настороженность кассирши.
Она не могла поехать домой. В Питер она уехала, просто оставив записку, и дома ждал скандал. А сил на него не было. Лита решила, что домой не поедет ни за что.
Она поехала на Гоголевский бульвар в надежде встретить кого-нибудь из приятелей и хотя бы напиться с ними, что ли. Но на Гоголях в этот момент никого не было, кроме продрогших голубей и Николая Васильевича, который смотрел на Литу и улыбался.
Лита начала бродить по арбатским переулкам, миру своего детства, потом вышла на Калининский проспект. Там была толпа людей. Но ей казалось, что она идет по пустыне. Никто не обращал на нее внимания.
Потом она оказалась на мосту. Стояла и смотрела с него на машины. В одну строну – рубинчики, в другую – алмазики. Так Лита говорила в детстве. Интересно, откуда она знала про рубинчики и алмазики? Наверное, папа рассказывал. Папа, где ты, папа?..
Уже начало темнеть. Лита села в первый попавшийся троллейбус. Она ехала в никуда, смотрела в окно. В домах светились окна, там жили люди. Среди этих коробочек с огонечками был где-то и ее дом. Но все это тепло было недосягаемо, как миражи.
Что бы произошло, если бы она умерла сегодня ночью?
«Если бы Бога не было, человек умер бы от одиночества». Но ведь она не умерла...
У нее были мокрые ноги, сил становилось все меньше, мысли путались все больше,
голова раскалывалась, и страшно хотелось пить.
Сколько длилась эта вечерняя прогулка по Москве, Лита не знала.
Она вышла из троллейбуса – и, оказывается, очутилась у зоопарка. Когда она это поняла, сердце у нее как-то запрыгало. Здесь рядом жил Лесник. Лита пыталась весь день не давать себе об этом думать. Но единственная мысль, на которую сердце реагировало, была – зайти к нему. Просто попросить попить.
***
Дом она искала почти час. Она точно помнила, что крайний подъезд, и последний этаж, и расположение квартиры. И три раза попадала не туда. Хорошо еще, лифт везде работал. В какой-то момент, переходя от дома к дому, она ко всему прочему упала в лужу.
Наконец, тихонько подвывая от отчаяния, она вышла на очередном последнем этаже и поняла, что точно вот эта коричневая дверь – его. Лита позвонила.
Дверь открыла Екатерина Георгиевна. Из квартиры пахло теплом, домом и жареной картошкой.
– Здрасте, – сказала Лита, вложив в это слово все последние силы. – А Саша дома?
– Здравствуйте, – Екатерина Георгиевна, похоже, не узнала ее. – Нет… Он будет часов в девять. А что… вы хотели?
– Ничего, – Лита быстро развернулась и пошла вниз.
– А что же передать? – крикнула вдогонку тетя. Лита не ответила.
На улице на нее подуло таким холодным ветром, что она решила – лучше умереть в его подъезде, чем на улице. По крайней мере тепло. Она вернулась. С последнего этажа шел еще один пролет на чердак. Лита поднялась на несколько ступенек и уселась на лестнице. Его дверь была видна отсюда. Вот и хорошо. Еще бы попить…
***
Лита заснула на ступеньках, и ей снился вокзал. Как она любила в детстве вокзал! Это было лучшее место в Москве. Как она любила этот потусторонний голос: «Скорый поезд 504…» Лите казалось, что это голос самого вокзала. В реальной жизни таких интонаций ни у кого не было.
А мрачный туннель, по которому потом попадаешь к зеленому, пахнущему чем-то восхитительным поезду! Поезд вызывал восторг и ужас, потому что в детстве Лита жутко боялась под него упасть. Для нее перешагнуть с платформы в вагон было настоящим подвигом. И сейчас, во сне, она никак не могла перешагнуть эту щель между перроном и вагоном. А в вагоне стояла мама и говорила голосом Лесника: «Лита, проснись, пожалуйста».
Наконец Лита открыла глаза и поняла, что живой Лесник сидит перед ней и трясет ее за плечо. Несколько секунд она смотрела на него красными больными глазами. Потом испугалась, вцепилась в лестницу и быстро сказала:
– Я хотела пить... поэтому зашла… Я сейчас еду обратно в Питер.
– Что с тобой?
– Я хочу пить.
– Тебе плохо?
– Нормально.
Он внимательно посмотрел на нее и ладонью потрогал ее лоб.
– Да у тебя температура…
– Не трогай меня, – сказала Лита, отстраняясь.
– Пойдем.
– Куда?
– В квартиру.
– Нет, там твоя тетя.
– Ну и что. Пойдем.
– Нет…
Он взял ее за руку, поднимая с лестницы. Сопротивляться Лита не могла.
Они вошли в квартиру. Там было так тепло, так уютно... Пахло жареной картошкой с луком.
Тетя вышла в прихожую.
– Здрастье, – еле сказала Лита. – Я на секундочку.
Тетя внимательно на нее посмотрела, и, о ужас, кажется узнала. По крайней мере лицо у нее как-то скривилось.
Тут зазвонил телефон.
– Это Леночка, – громко сказала тетя Саше, который уже прошел на кухню, чтобы налить Лите воды. – Она звонила уже раз пять. Ты с ней виделся сегодня?
Расплывающимися мозгами Лита поняла, что вот это уже слишком.
Когда через двадцать секунд Лесник вышел с чашкой в коридор, Литы там уже не было. Он бросился на лестничную площадку – лифт закрылся и поехал вниз.
Он быстро вернулся в квартиру.
– Объясни, что это происходит? – спросила тетя.
– Потом. Где можно взять банку?
– Зачем?
– Налить воды.
– Куда? Зачем?
Он уже нашел какую-то литровую банку, наливал в нее воды.
– Это дочка Ольги Литовченко?
– Да.
– Вы что, знакомы?
– Ну конечно, она же лекарство нам передавала, – сказал Саша, быстро обуваясь. – Я скоро вернусь.
– Саша, ты же не ел… Саша…
***
Лита сидела в зале ожидания Ленинградского вокзала, согнувшись пополам.
– Эй, Лита…
Она медленно подняла голову. Лесник сидел напротив. Бред, бред…
– Если это ты, то как ты меня нашел?
– Ну ты же сказала, что поедешь в Питер. Здесь не так много залов ожидания.
– Я так сказала?
– Я принес тебе воды.
– Что? Ты псих?
– Псих – это ты. Ты же хотела пить. Ты заболела, или я не знаю, что там с тобой… у тебя температура. Ты понимаешь это? На.
Он протянул ей банку.
– Я попила в туалете из-под крана.
– Тебе нужно уйти отсюда.
– Я никуда не пойду. Мне здесь хорошо.
– Ладно, тогда я тоже здесь посижу.
– Ты идиот. Будешь изображаешь из себя тимуровца?
Он промолчал. Минуту они сидели молча.
– Что ты меня мучаешь все время? – с отчаянием наконец сказала Лита. – Ты, типа, такой хороший, а на самом деле тебе ведь никто не нужен, так? Ты бы, если б мог, прям сегодня послал бы всех и уехал в свой лес… Да? «Леночка тебе звонила пять раз. Ты не виделся сегодня с ней?» – повторила она тетины интонации.
Он молчал.
– Я же ведь рабыня Изаура. Да?
– Нет, ты хуже.
– Господи, лучше бы я тебя никогда не встречала… Ты, такой весь прекрасный, помогаешь такому говну, как я, да? Хочешь, я тебе расскажу, что я делала два дня назад?
Она уставилась на него. Он не отводил взгляд. Потом вдруг рассмеялся и сказал:
– У тебя плохо получается изображать Настасью Филипповну.
Лита просто задохнулась от этих его слов. Вырвала у него из рук банку, открыла ее и со всего размаху плеснула воду ему в лицо. Но поскольку она была не в себе и делала все медленно, а он догадался, что она собирается сделать, он успел увернуться, и она промахнулась, вода только чуть-чуть на него попала. Он рассмеялся.
Сидящие рядом люди стали пересаживаться от них подальше.
Лита сидела, сжимая банку в руках.
– Ну, – спросил он, – что дальше?
– Ничего, – ответила Лита и вдруг сказала: – Видишь, я таскаюсь за тобой все время непонятно зачем… Может, я не могу без тебя?
Взгляд у него дрогнул.
– Но если ты сейчас не уйдешь, я разобью эту банку об твою башку… – Она вылила остатки воды ему под ноги.
– Давай, – сказал он.
– Я не шучу. Я считаю до пяти. Ты понял? Я не шучу. Раз. Два. Уходи… Ты же пришел сюда из какого-то придурочного чувства долга. Ты мне не нужен. Четыре… – Она подняла банку. Конечно, было понятно, что он не уйдет. И Лита знала, что, конечно, не сможет его ударить. Но куда-то же ей нужно было опустить эту посудину?
– Пять, – сказала она, и, вцепившись в банку мертвой хваткой, грохнула ее со всего размаха об подоконник, около которого сидела. Она хотела просто ее бросить, но забыла разжать руку и не рассчитала, что подоконник так близко. Банка разбилась на несколько кусков, и Литина рука как раз с силой удара попала на острые края осколков. Будто в замедленном кино она увидела, как эти острые края вошли ей в руку.
Боли Лита не почувствовала сначала. Она ме-е-е-едленно вынула осколок из руки. Кровь закапала огромными алыми каплями на подоконник и на пол. Бедная Лита мельком увидела лицо Лесника и поняла, что наконец-то он испугался. Но разум, похоже, совсем ее покинул, потому что она вскочила и кинулась бежать. Он вскочил за ней.
Сжав руку и сунув ее зачем-то в карман, она пробежала метров пятьдесят, потом опомнилась и остановилась. Обернулась и увидела, что трое здоровых мужиков, по виду настоящих зеков, сидевших неподалеку от них, перегородили Леснику дорогу. Она постояла несколько мгновений и быстро пошла обратно. Подошла и встала рядом с ним.
– О, вот и лепетуля, – сказал один из зеков. – Детка, тебя обидели?
– Нет, – ответила Лита.
Они стояли друг против друга, Лесник молча смотрел в лицо этому хмырю, тот смотрел на Лесника с какой-то странной улыбкой. Лита переводила взгляд с одного на другого. В кармане очень ныла рука.
Так прошло несколько секунд, потом Лита взяла свободной рукой Лесника за руку и сказала:
– Вам что-то показалось. Это мой друг.
Она вспомнила, как он говорил, что главное – не бояться. Она подумала, что их трое и наверняка у них есть ножи. Можно было конечно, начать кричать – может, кто-нибудь вызвал бы милицию – а может, и нет. Бежать было бесполезно. Они стояли так, и этот хмырь и Лесник смотрели друг на друга и о чем-то там договаривались без слов, на непонятном Лите языке. И, видимо, договорились. Потому что Лесник вдруг сказал, не спуская глаз с хмыря и крепко держа Литу за руку:
– Дайте пройти.
И хмырь, не переставая улыбаться, отодвинулся, и они прошли мимо него и пошли к выходу. Лита шла по инерции, Лесник вел ее за руку. Когда они вышли на улицу, Лита наконец обернулась. Нет, их никто не догонял.
***
– Стой, здесь светло, – сказал Лесник, когда они поравнялись с фонарем.
Лита остановилась.
– Покажи руку, – сказал он очень строго. Лита замотала головой, продолжая в оцепенении стоять под фонарем и сжимая руку в кулак. – Дай сюда руку, – повторил он тихо, но так, что Лита медленно потянула кулак из кармана.
Карман промок от крови насквозь.
– Мамочки, – шепотом сказала Лита, мельком глянув на свою истерзанную кисть.
– Отвернись, – сказал Лесник так же строго.
Она послушно отвернулась.
Лесник аккуратно взял руку в свои и поднес ближе к свету.
– Да, – выдохнул он. – Молодец… – и стал разматывать с себя шарф.
– Что там? – с ужасом спросила Лита.
Он, поддерживая ее кисть, попросил:
– Пальцами пошевели.
Пальцы вроде шевелились.
– Сейчас замотаем, дома посмотрим. Держи руку вот так. Выше подними. – Он туго забинтовал ей руку шарфом. – Идем.
Лита послушно сделала шаг – и поняла, что сейчас упадет. Перед глазами у нее засиял зелено-розовый салют. Лесник быстро подхватил ее, как будто знал, что она непременно начнет заваливаться. Она постояла с полминуты, прислонившись к нему, потом выдавила:
– Все, могу идти.
– Так, сейчас поймаем такси.
– Куда мы… – сознание снова начинало у Литы плыть.
– Ко мне домой.
– Там же тетя…
Он ничего не ответил. Взял ее под здоровую руку и повел куда-то. Лита шла как без ног. Они шли, и шли, и шли. Салют все сиял. Потом он поймал машину, можно было сесть, но Лите все равно было очень плохо.
***
Зайдя в теплую квартиру, она первым делом сползла по стеночке и села на пол.
Тетя еще не спала, но, к счастью, лежала в постели с выключенным светом и смотрела телевизор. Саша заглянул к ней, предварительно переведя Литу в свою комнату прямо
в обуви и куртке.
– Картошка на плите, – сказала тетя. – Вообще я хотела с тобой поговорить.
– Потом, – ответил Саша. – Что смотришь?
– Кино про любовь, – тетя повернулась к телевизору.
– Про любовь – это прекрасно… – Саша быстро вытащил теплое одеяло из шкафа. – Я
там по телефону разговариваю, извини, – сказал он. – И завтра не буди меня, мне на работу можно попозже, я отпросился.
Лита сидела на полу, положив голову на кровать и сжимая раненую руку. Ее почему-то так и тянуло на пол. Лесник постоял несколько секунд, глядя на нее, потом сел рядом и стал снимать с нее мокрые кроссовки.
– Нет, я сама, – испугалась Лита.
Он все же помог ей снять и кроссовки, и куртку, потом бодро сказал:
– Идем смотреть твою руку.
С трудом она доковыляла до ванны и села на край. Он принес какие-то пузырьки, вату и бинт. Взял ее замотанную в шарф руку. Посмотрел ей в лицо.
– Отвернись.
– Я постараюсь не орать. А то твоя тетя очень удивится. А если она, кстати, решит пойти
в туалет – а тут такое?
Туалет был совмещенный.
– Да, точно, – Лесник закрыл дверь на щеколду. – Придется сказать, что у меня понос.
Лита почти рассмеялась, потом закусила губу и приготовилась терпеть. Он что-то там делал с рукой, мыл, чем-то обрабатывал. Как будто каждый день имел дело с порезанными руками.
– Я думаю, – наконец сказал он, – что здесь без врача не обойтись. Надо зашивать.
– Что?! Нет, только не это.
– Хорошо, завтра решим.
Когда он бинтовал, Лита повернулась и смотрела, что он делает. Руки у него были очень красивые, с длинными сильными пальцами – это Лита заметила еще в первый день, когда они у него на работе пили чай.
– Вам бы хирургом быть, – сказала она.
Когда правая рука была забинтована, он взял левую, стал мыть с мылом под краном. С руки текла черная вода.
– Хорошо, что мне плохо, – сказала Лита, отворачиваясь от этого позора. – А то бы я умерла от стыда. Но сейчас мне все пофигу.
– Это хорошо. Есть хочешь?
– Нет. Голова дико болит.
– Чай?
– Да.
– Тебе нужно лечь. Я тебе принесу чай. И таблетку от головы.
– И куда же я лягу?
– Это ты не беспокойся. Я все равно сегодня не собирался спать – у меня колок завтра по физике.
– Ах да, колок. Кстати, а как же Леночка?
Он проводил ее в комнату, дал какие-то тренировочные штаны, шерстяные носки. Мягко попросил переодеться и вышел, захватив ее куртку.
Когда он вернулся, Лита сидела на кровати, завернувшись в одеяло, и смотрела в одну точку.
Он положил ее куртку на батарею – оказывается, он постирал ту часть, где был окровавленный карман.
– Хорошо, что мне плохо, – снова сказала Лита. – А то мне было бы жутко стыдно.
– Вот чай. И градусник.
Лита взяла чашку в здоровую руку, градусник – в перебинтованную, и сидела так, не соображая, как одновременно что-то сделать с этими двумя предметами. Наконец она сказала:
– Я поеду домой.
Он взял у нее из рук чашку.
– Ты как царь со скипетром и державой. Градусник ставь.
Лита послушно поставила градусник.
Он вручил ей чашку и сел за стол. Смотрел в свои учебники, периодически глядя на нее. Она молча пила чай. Вдруг он сказал:
– И выкинь из головы все, что я тебе говорил. Ну, что ты там рабыня Изаура… И всякую другую чушь.
– Нет, ты был прав. Ты попал в точку. Я не свободная совсем. Ты попал в точку… Ты презираешь меня?
– Что?
– Я поеду домой. Скажи, пожалуйста, честно только – ты презираешь меня?
– Думаешь, мне больше нечего делать?
– Презираешь, да?
– Господи, нет, конечно! Ты бредишь? Лита, ложись, пожалуйста.
Она осталась сидеть, тихонько раскачиваясь. Через минуту спросила:
– А Леночка – это кто? Это та девушка у тебя на работе?
– Какая та девушка?
– Лесник, у тебя есть девушка?
– Нет. Давай я налью тебе еще чаю.
– А почему? Почему у тебя нет девушки? У тебя непременно должна быть девушка.
– Хорошо, заведу девушку. Лита, тебе нужно лечь.
Лита легла, накрывшись одеялом.
– Ты посидишь здесь?
– Конечно.
Он сидел с ее чашкой. Настольная лампа чуть-чуть освещала его. Лита смотрела на свет.
– А когда я болею, мама на меня всегда ругается, – вдруг сказала она. – Говорит: я тебе говорила не ходить без шапки! Лесник… а я сегодня хотела спрыгнуть с поезда. А какой-то мужик меня спас. Не говори мне только ничего… – она снова села. – Зато я поняла, что умирать не хочу. И жить тоже не хочу. Я хочу стать своей бабушкой…
– Дай-ка термометр. – Он поднес его к свету. – Господи, у тебя тридцать девять и девять.
– Да? И что это значит?
Он с тревогой стал на нее смотреть. Лита продолжала:
– Бабушка ничего не хочет и ничего не может. Это лучше всего.
– Лита, так, все-таки выпей аспирин. И… Ладно, он сейчас подействует, там посмотрим… У тебя болит что-нибудь?
– Да, кирпичи. Лесник, не уходи, – она снова легла.
– Я не ухожу, я здесь. Может быть, лучше вызвать скорую?
– Нет, нет, нет. Если ты вызовешь скорую, я убегу через окно. Утеку… А знаешь, что бездомную собаку если погладишь, нужно потом обязательно мыть руки.
– Так…
Потом она снова села и вдруг, глядя на него сухими глазами, без перерыва с жутким отчаянием стала говорить:
– Я не хочу жить. Я не могу так жить. И по-другому не могу. Я не хочу кончать с собой. Но и жить не хочу. Не хочу. Не хочу жить, понимаешь? Не хочу жить.
Она как будто не находила себе места, стала вставать куда-то с кровати. Он быстро сел рядом, обнял ее и держал так, а она все повторяла и повторяла эту фразу про «не хочу жить», потом наконец замолчала, но он не отпускал ее, пока, наверное, аспирин не подействовал и она не заснула у него в руках. Он уложил ее, укрыл одеялом – и сидел рядом, не сводя с нее глаз. Если бы она видела, с какой нежностью и печалью он смотрел на ее лицо.
Потом, как будто очнувшись и взяв себя в руки, он решительно встал, сел за свой стол, раскрыл учебник физики – и так сидел, глядя на одну и ту же страницу. Ни к какому коллоквиуму он так и не подготовился.
***
Тетя вставала в семь. Саша к этому времени перенес все Литины вещи в свою комнату. Когда Екатерина Георгиевна стала копошиться в кухне, он, как настоящий конспиратор, разделся, вышел, изобразив из себя вылезшего из кровати человека, поздоровался и сказал тете, что пошел спать дальше. В комнату тете больше незачем было заглядывать. Он вернулся, оделся и снова сел за стол, пытаясь читать учебник.
Лита больше не разговаривала, только все время крутилась и стонала во сне.
Несколько раз она просыпалась, смотрела на него безумными глазами, пила воду и снова засыпала. Утром она начала сильно кашлять, но тетя к этому моменту уже ушла на работу.
***
К десяти утра Лита проснулась окончательно. Вышла, завернувшись в одеяло, на кухню, где Лесник с видом человека, который прекрасно спал всю ночь, жарил хлеб.
– Доброе утро, – сказал он весело, как будто это не Лита несколько дней назад его послала, а вчера хотела убить банкой.
Он ее простил? Лита села на стул.
– И что вчера было? – наконец спросила она.
– Тебе с какого момента рассказывать?
– Нет, лучше не надо ничего рассказывать. Господи, ужас, ужас. Надо ехать домой.
– Сначала едем в травмпункт.
– Нет, я не поеду.
Он взял стул, сел напротив:
– Тебе нужно обязательно показать руку врачу.
И стал на нее молча смотреть. Лита тоже молчала, рассматривая стены, полки, стол, подоконник – только чтобы не столкнуться с ним взглядом. Наконец не выдержала:
– Это гипноз? – и тоже уставилась на него.
– Конечно, – ответил он и рассмеялся.
Лита сдалась первая.
– Хорошо, – сказала она, отрываясь от его взгляда. Иначе можно было туда провалиться. – Если мне там отрежут руку, ты будешь виноват. Ты поедешь со мной?
– Конечно… Вот чай.
Она стала медленно жевать хлеб, глядя в стол. Потом наконец спросила:
– И много чуши я вчера наговорила?
– Нет, не очень.
Лита снова взглянула на него. Как-то он умел смотреть сквозь нее. В какую-то бесконечность.
***
Температура у Литы оказалась не очень высокая по сравнению со вчерашней, всего тридцать восемь и семь. Перед травмпунктом они еще ее сбили.
Руку все-таки пришлось зашивать. Литу, правда, больше всего волновал вопрос, сможет ли она играть на гитаре.
– И на гитаре, и на мандолине, – весело сказал врач.
Ее уложили на операционный стол, вкололи промедол и несколько уколов новокаина. Леснику разрешили посидеть с ней во время экзекуции. Зашивал молодой совсем хирург, практикант какой-то, который беспрерывно болтал. В общем, была не операция, а дружеская посиделка. Лите было ужасно весело.
Потом они ехали в метро в переполненном вагоне.
– Я сейчас попрошу кого-нибудь уступить место, – сказал Лесник.
– Нет, я не сяду, – ответила Лита тоном, с которым спорить бесполезно. Так они стояли в толпе, совсем близко, он держал Литу за здоровую руку, она прислонилась к нему, потому что держаться ей было нечем – одна рука зашитая, другой она не могла дотянуться до поручня. Кто-то проходил мимо, их толкали. Лита не чувствовала ничего, кроме него. Она готова была так стоять три часа – с температурой, зашитой рукой, которая начала ныть и болеть, уколом промедола, после которого голова так и не перестала кружиться. И даже, может быть, пять часов. Или восемь. Дальше она бы, наверное, умерла, но это было бы уже неважно.
Но все кончилось очень быстро, потому что они доехали до ее станции, дошли до дома, поднялись до квартиры, и Лита должна была попасть в руки правосудия, потому что мама была дома. А Лесник должен был поехать домой.
К счастью, температура у Литы зашкаливала, и правосудие на нее не действовало.
Глава 8
***
Дальше были сутки высокотемпературной эйфории. Но она тоже быстро закончилась – мама давала ей антибиотики, температура спала, реальность вернулась. Ничего хорошего в этой реальности не оказалось.
Во-первых, на третий день явился Кремп и разбил Литину гитару у нее на глазах. Сначала он был вполне нормальный, нес какую-то чушь, потом вдруг сказал:
– Фредди Крюгер твой тебя искал и спрашивал про тебя. Не может тебя забыть.
– Федя?!
– Федя!.. – передразнил Кремп. – Ну что, кинешь все и побежишь к нему?
– И что, если да?
– А он тебя съест. От тебя ничего не останется.
– И что он говорил?
– Не знаю, я не слушал, – ответил Кремп и вдруг неожиданно спросил: – Почему ты уехала из Питера и кинула меня?
Лите вдруг стало Кремпа жалко. Он был сумасшедший. Несчастный талантливый наркоман. Она не знала, что ему ответить. Она молчала, молчала, потом неожиданно сказала:
– Мне надоела система.
– Надоела? Давно?
– Не знаю.
– А Фредди твой?
– А он не в системе.
– Это он-то не в системе?!
– Он сам по себе… Мне надоело, что нужно быть в каких-то правилах. Говорить сутками о всякой чуши и считать, что это и есть настоящая жизнь.
Лита посмотрела на свои руки. Одна была забинтована, и феньки на ней срезал ей в травмпункте Лесник по просьбе хирурга.
– Он сам по себе? Да он мажор просто.
– Мне плевать, кто как называется.
– Значит, – спросил Кремп, – все, что мы делали, дерьмо?
– Нет.
– Значит, я дерьмо?
– Нет.
Кремп не стал, к счастью, продолжать этот дебильный разговор. Он молча сидел на стуле, сидел, сидел, сидел, потом встал, взял ее гитару и со всего размаху треснул об пол. Бедная гитара вскрикнула по-человечески и разлетелась на несколько кусков.
Лита вскрикнула вместе с ней.
– Ты что?! Что ты делаешь? – закричала она.
– Это же я тебе подарил? Ну вот, я забираю это обратно.
И он ушел, хлопнув дверью. Перед тем, как переступить порог, обернулся и сказал:
– Он тебя съест.
Лита стояла посреди квартиры, глядя на убитую гитару. Ей казалось, что это убили человека.
***
Два дня она мучилась. Накрывалась одеялом с головой и лежала там, в темноте. Но мучилась она не из-за Кремпа и гитары. То есть из-за них тоже, но главное – Лесник ей не звонил! Не позвонил ни разу! Не спросил, как она себя чувствует. Вообще, жива ли она? Никто не звонил. Но никто – это ладно. Он не звонил. Значит, все, что он делал, он делал просто как порядочный человек, который, понятно, не бросит же больную идиотку посреди улицы. Но какое это отношение имеет к тому, о чем она, не переставая, думала все первые сутки, когда вернулась домой и плавала в растворе из болезни и счастья? Сейчас эти мысли становились невыносимыми. С чего она взяла, что нужна Леснику? Доказательств никаких не было. Зато было очевидно, что невозможно ходить ногами по небу. И лучше даже не надеяться на это, а то потом будет хуже.
И Лита думала и думала об этом. Наконец она сползла с кровати и потащилась к телефону – звонить ему сама. И вот тут она обнаружила, что телефон не гудит – просто он был сломан… Да, и Кремп ведь говорил, что не мог дозвониться до нее. Мама была чем-то там сильно занята в своей далекой от Литы жизни и даже не заметила, что дома у них уже несколько дней сломан телефон.
На следующее утро пришел мастер – оказалось, дело было в каком-то телефонном проводе. И когда все починили, телефон прямо минут через пятнадцать и затрезвонил. Лита кинулась к нему, как к родному.
– Здравствуйте, Лита, – сказали в трубке. – Я безумно счастлив вас слышать. Наконец я вас нашел.
Это был Фредди Крюгер.
***
После его звонка Лита сутки не спала. Он пригласил ее приехать к нему завтра.
Она с ужасом вспомнила, что завтра ей снимают швы.
– Послезавтра, – выдавила Лита.
Она попросила Маньку дать ей ее гитару – заехал Манькин теперь уже почти муж и привез гитару и привет от Маньки, у которой был токсикоз. Лита стала снова слушать Федины записи и почти сутки играла на гитаре с зашитой правой рукой – благо пальцы не до конца были перебинтованы. К концу суток она поняла, что готова отдать все, что у нее есть, за возможность играть с этим человеком. Да!
***
И вот когда она это поняла, ей позвонил Лесник. Сказал, что болел все это время. (Заразился от нее – этого, конечно, он не сказал, но Лите эта мысль пришла в голову, и она почувствовала себя виноватой.) Еще сказал, что звонил ей, но не мог дозвониться. Спросил, как она себя чувствует. И в довершение очень трогательно пригласил ее в кино.
И когда Лита услышала его голос, она почти забыла про великую музыку и гения Фредди. Она бежала на встречу с Лесником после травмпункта, где ей, наконец, сняли швы, и когда они встретились, она вместо кино потащила его на крышу.
***
Почему-то он был очень бледным. Но Лита тогда не придала этому значения. Зато она сияла, как никогда. Он даже сказал ей, что у нее глаза - как фотовспышка. Крыша была Литина любимая, отсюда было видно пол-Москвы.
– Я на самом деле жутко боюсь высоты, – сказала Лита, когда они поднялись наверх.
– Это хорошо.
– Суицид с помощью крыши мне не грозит?
Он не ответил.
– Знаешь, – сказал он вдруг. – Мне почему-то в последнее время кажется, что мир картонный и развалится в любой момент, – и он посмотрел на нее как-то странно.
– Мне тоже все время так кажется, – радостно ответила Лита.
– Смотри, вон в той стороне твой дом.
– Где? Ха. Так вон же он. Вон он, мой домик…
Ветер был очень сильный. Лита надела капюшон.
– А Манька на этой крыше устроила один раз идиотскую проверку. Пошла сюда с человеком, который ее очень любил. Хороший человек. И подстроила так, что их тут как будто закрыли.
– Зачем?
– Хотела его проверить так. Представляешь – холодно, дождь, а они теперь должны на этой крыше провести остаток своей жизни. Ну вот закрыли их. Высоко, кричать почти бесполезно. Короче, у этого ее друга началась какая-то неприличная истерика. Он начал обвинять ее, что это она его сюда затащила, ну и всякая такая ерунда.
– И?..
– Ну и она его после этого бросила. Стала встречаться с другим человеком. Сейчас ждет от него ребенка. Этого, другого, на крышу уже решила не водить. А тот человек, Леша, ее любил. И сейчас, по-моему, любит. Манька сделала большую глупость… А твой дом в какой стороне? Там?
– Моего отсюда не видно… Почему глупость?
Лита молчала, глядя вдаль.
– Почему глупость? – снова спросил он.
– Потому что любой человек имеет право быть слабым. И испугаться. Любой имеет право быть слабым. – Она повернулась к нему. Он стоял и смотрел на нее. Стекла не было.
Она сделала шаг и подняла глаза. И еще сделала маленький шаг. И коснулась кончиками пальцев его лица. И сделала то, что давно уже хотела сделать, – утонула пальцами в его густых волосах. Лита еще не поверила, что это происходит, а они уже целовались, а был, между прочим, очень сильный ветер тут, на крыше, а они целовались очень долго, пока Лита наконец не уткнулась ему в грудь лицом, но куртка была холодная, и он расстегнул ее, и она уткнулась ему в теплый свитер, он обнял ее, и она стояла так, и не могла прервать этого, и поняла – никакая музыка, никакой кайф, когда получается сыграть то, что надо, не сравнится с тем, что с ней сейчас происходит. Музыку нельзя так обнять – у нее нет рук, глаз и губ.
– Это все неправда, – наконец сказала Лита.
– Ты лучше нечего не говори, – ответил он.
– Не могу.
– А выход наверняка уже закрыт, – тихо произнес он.
– Это было бы лучше всего.
– Мы спустимся по пожарной лестнице.
– Нет, только не это. Мне в кошмарных снах снится, как я лезу по пожарной лестнице.
– Я полезу первым. Если что – я поймаю тебя.
– Не поймаешь…
Она все-таки первая отпустила его и быстро пошла к выходу. Нет, он был не заперт.
***
И когда они ждали лифта, сидя на корточках друг напротив друга, Лита вдруг сказала:
– Мне вчера позвонил Фредди Крюгер.
Повисла пауза.
– Да? – наконец отозвался Лесник. – Видишь, он тебя нашел… – Лита посмотрела на
него – взгляд у него стал как у сына дворничихи. – И что же он сказал?
– Сказал, что хочет мне предложить с ними петь. Но я не верю. Это невозможно.
Он ничего не ответил.
– Скажи, мне идти завтра к ним?
Он поднялся. Лита осталась сидеть.
– Это я должен решить?
Лита промолчала. Он тоже молчал. Лифт все не ехал, громыхал где-то внизу своими дверями.
Вдруг он спросил:
– Чего ты хочешь больше всего?
– Я не знаю.
– Хочешь, я за тебя скажу?
– Да, – ответила Лита испуганно.
– Ты хочешь, чтобы эти люди, этот, как ты говоришь, гениальный чувак, взяли тебя к себе. Похоже, ты не можешь без этого жить.
Лифт ехал, было слышно. Лифт приближался.
– Да, – ответила Лита. – Это правда.
– Ну вот. Хочешь, значит будешь.
Лифт приехал. Они вошли в него. Он нажал на первый этаж и стал внимательно изучать кнопочки. Они спускались, стоя в разных углах лифта. Посредине кабины образовалась стеклянная стена, Лита ее видела.
На самом деле петь с Фредди Крюгером – это было второе, что она больше всего хотела. Больше этого она хотела, чтобы Лесник ей сказал, что она ему нужна. Но он не сказал.
И когда они спустились вниз, она повернулась к нему и, стараясь не столкнуться с его мучительным взглядом, вдруг сказала:
– А вообще я спешу. Пока.
И пошла быстро к трамвайной остановке.
Он ее не догонял.
Глава 9
***
На следующий день Лита пришла к ним. Там была какая-то тусовка, Лита никого почти не знала. Она пыталась изо всех сил держаться независимо и по-взрослому. Она понимала, что она тут – маленькая девочка, которая должна еще что-то доказать. Она, конечно, могла производить впечатление, если очень старалась, но на самом деле всегда боялась, что ее разоблачат.
Спасти ее могло только то, что просто Лита и Лита, которая пела, – это были два разных человека. Поэтому она сразу, не сильно всматриваясь в них, чтобы не впасть от страха в ступор, сказала Крюгеру:
– Давайте я что-нибудь спою, а вы сразу скажете, устраивает вас это или нет.
– Нет, – ответил он. – Сначала мы выпьем.
***
Пили они тогда кстати, мало. Зато играли почти всю ночь. И это было то, о чем Лита мечтала, играя в грязных переходах и под дождем на Арбате. То, что невозможно было сделать с Кремпом в его химчистке.
Этих людей она понимала даже не с полуслова, а с одного взгляда. Играть с ними, ловя бриллиантовые нитки вдохновения, какого-то потустороннего вдохновения, – это было лучшее в жизни. Лучшее за всю ее жизнь происходило сейчас.
Под утро Фредди проводил ее до метро. Лита уже почти перестала его бояться. Перестала думать, что он над ней смеется. Сейчас больше всего на свете она хотела бы двигаться дальше – с ним. Лесник был прав.
По дороге к метро Федя сказал ей, что вспомнил про нее неожиданно. Вспомнил про ее интонации.
И уже возле самого входа в метро он вдруг, не обращаясь к ней, скорее как будто сам себе, произнес: «Рок-н-ролл – жестокая вещь. Всегда приходится выбирать между ним и чем-то еще… Получалось только у тех, кто все отдавал».
После этого, трясясь в почти пустом вагоне первого поезда, она вспоминала, как вчера, уткнувшись в свитер Леснику, думала, что жизнь – это. А если это – только гормоны? Разве музыку можно променять на гормоны?
***
Утром, почти избежав скандала по поводу того, во сколько она пришла домой, она отправилась как бы в школу. Потом, рассчитав, что мама ушла на работу, вернулась и легла в кровать.
Она заснула – и проснулась с мыслью: как можно пусть даже самое клевое – Фредди Крюгера – променять на живого Лесника? Она лежала и думала про Лесника, и ей хотелось плакать.
Елки, ну почему то ничего, то все сразу? Хотя на самом деле целоваться – это еще ничего не значит. Какой идиот не станет целоваться с девушкой на крыше? И потом – что вообще дальше? Он же не сказал ей, что она ему нужна. Ничего вообще не сказал.
Она снова заснула. Проснулась как пьяная. Что, непременно надо выбирать? Лесник – ее друг. Просто друг. Может же так быть? Можно даже больше не целоваться, если надо…
Это было какое-то помешательство.
Потом позвонил Федя. Сказал, что они ждут ее вечером. После его звонка Лита вышла на балкон, босиком и в ночнушке, хотя сегодня был маленький мороз. Она стояла, глядя в небо, и улыбалась, как дура.
Потом снова легла и опять провалилась в нервный сон.
Проснулась с ощущением душевного похмелья. Чтобы опохмелиться, ей нужно было увидеть Лесника.
Она собралась, вышла из дома и поехала к его работе. День был удивительный, с каким-то золотым воздухом. Такой воздух бывает иногда поздней осенью перед закатом. По дороге от метро к его работе была небольшая лесенка, Лита прыгала по ней и говорила на каждой ступеньке вслух:
– Лесник, Лесник, Лесник.
И почему-то восторга это вызывало больше, чем битловское «Let It Be», которое они пели вчера ночью. Хотя, надо признаться, и та степень восторга зашкаливала. А эта была просто запредельной.
***
Лита допрыгала в этом золотом воздухе до Сашиной работы. Она не знала еще, что ему скажет. Главное – его увидеть. И когда ей оставалось только перейти улицу, вдруг дверь здания, где он работал, открылась – и вышел он. Вышел не один, а с девушкой.
И они пошли по той стороне улицы. Они шли и о чем-то разговаривали. Лита двинулась параллельно с ними с этой стороны. Шла, как привязанная за веревочку, и смотрела на них. Девушка была прекрасная – в белой курточке и белой шапочке. И с длинной косой. Это была какая-то настоящая Снегурочка. В какой-то момент Лесник взял у нее сумку. Потом они перешли на эту сторону, на троллейбусную остановку. Лита спряталась за остановкой и не сводила с них глаз.
И было очевидно сейчас, когда она смотрела на них двоих, что именно такая девушка ему и нужна. Такая вот девушка с косой. Она наверняка теплая и заботливая. Ведь ему очень нужно, чтобы о нем кто-то заботился.
«Получалось только у тех, кто все отдавал». Ей даже и отдавать ничего не надо. Просто не надо брать, вот и все.
И дело было не в девушке. Но что-то перещелкнуло у Литы в голове, и она вдруг поняла, что гусь свинье не товарищ. Гусь свинье не товарищ. И он не примет того, что для нее слишком ценно. Вот странно, почему она не видела этого раньше?
Пришел троллейбус, Лесник с девушкой сели в него, Лита села в тот же троллейбус через другую дверь.
Через пару остановок они вышли и куда-то пошли по улице. Лита тоже вышла, остановилась и стала смотреть им вслед. Она стояла и смотрела, как они удалялись. В детстве она прочитала в какой-то книжке и почему-то запомнила фразу: «Прощай, мой единственный друг».
Был закат. Свет из желтого превращался в оранжевый. Они шли в этом апельсиновом свете. Прощай, мой единственный друг… Наверное, навсегда.
«Получалось только у тех, кто все отдавал».
***
Когда они скрылись за поворотом, Лита медленно-медленно дошла до стены ближайшего дома и прислонилась к ней. Вдруг она увидела себя какой-то жалкой и нелепой, какой-то курицей с отрубленной головой.
– Дура, – сказала она вслух. Проходившая мимо женщина обернулась с недоумением. – Дура, – повторила Лита с такой горькой усмешкой, что женщина посмотрела на нее еще раз с сочувствием, но прибавила шагу.
«Ты читала "Алые паруса?"» – как-то спросил ее Кремп.
«Да, конечно».
«Жаль. Советую сегодня же выкинуть эту книжку в помойку. Такие книжки ломают девушкам жизнь».
Кремп, несмотря на свои убитые мозги, иногда был по-настоящему прав.
***
Лита шла в гаснущем оранжевом воздухе, глядя под ноги, и видела только грязный асфальт. Вернувшись домой, она села прямо в прихожей, не раздеваясь, на стульчик, и просидела так часа два. До телефонного звонка.
Когда телефон затрезвонил, она медленно поднялась и сняла трубку.
– Привет, – это был Лесник.
Лита молчала.
– Алло, Лита, ты меня слышишь?
– Да…
– Я говорю – привет.
– Да.
– Как дела?
– Хорошо…
– Ну как, ты ходила к этим ребятам, музыкантам, как их там?
Лита молчала, слушая его голос.
– Лита! Ну как? Как там этот твой Федя?
– Хорошо, – наконец сказала Лита. – И я хочу тебе сказать… я хочу тебе сказать, что я тебя больше не знаю. Хорошо? Ты понял? И чтобы ты больше никогда мне не звонил. И никогда со мной не общался… Никогда. Ты понял? Ты понимаешь меня? Не вздумай мне позвонить! – последнюю фразу она зачем-то крикнула и хряснула трубкой по аппарату. Потом постояла несколько секунд, взяла в руки телефон и со всей силы кинула его об пол так, что бедный новенький импортный аппаратик, который мама где-то достала по блату, треснул, как яйцо.
Лита вернулась обратно на стульчик в прихожей.
В конце концов, у нее всего одно сердце, и что ей делать, если в него не вместится два мира? И потом – сколько можно будет терпеть этот беспризорный взгляд сына дворничихи каждый раз, когда она говорит о музыке?
Эти качели должны уже наконец остановиться.
***
Саша однажды нашел фотографию своего папы. Он был уверен, что это и есть его отец.
В школе зачем-то нужно было свидетельство о рождении, он полез туда, где у мамы хранились документы. Он хорошо знал свое свидетельство о рождении, изучал его не раз – там, где должны были быть имя-фамилия-отчество его отца, у него была нарисована красивая буква Z. Когда им позже рассказывали про английский алфавит, он уже знал, что вот эта буква – его папа.
Среди бумаг он нашел маленькую фотку на документы. На фотке был какой-то мужчина. Рядом хранился на листке бумаги рисунок, сделанный шариковой ручкой. На рисунке был явно портрет его мамы. Сопоставив это, он понял, что вот это и есть фото отца.
Мама никогда о нем ничего не рассказывала. Да он и не спрашивал. Зато с тех пор стал иногда лазить в документы и смотреть на папу. Он запомнил его лицо наизусть. Это было очень важно. Если в поселке появлялись геологи, Саша всегда крутился возле них и смотрел им в лица. Однажды он вдруг увидел кого-то очень похожего на человека с фотки. Он стал охотиться за ним, подкарауливал его возле городской столовой, возле комбината – и все смотрел на него. Наконец этот человек не выдержал тотальной слежки, подошел и прямо спросил:
– Пацан, тебе чего?
Саша уставился на него. Нет, кажется, это был не папа с фотографии.
А человек вдруг приблизил к нему лицо и зло сказал:
– Не ходи за мной больше. Понял?!
После этого папа несколько раз ему снился. Сны были примерно одинаковые – Саша видел его на каком-то холме. Бежал к нему, задыхаясь, – и каждый раз отец оборачивался, смотрел отчужденно и зло говорил: «Не ходи за мной больше. Понял?» Потом поворачивался спиной и сбегал с горы. А Саша стоял на вершине и плакал, хотел и не мог догнать отца – ноги врастали в землю.
Потом сон сниться перестал, но ощущение уходящего человека, которого ты не имеешь права догонять, осталось. И еще он запомнил острый ветер в спину, когда шел после маминых похорон в лес. Этот ветер как будто выгонял его. Ему как будто больше не было нигде места.
Поэтому, если от него уходили, он не мог, не мог догонять – даже если очень хотел.
***
Лита так и сидела в прихожей. Внутри была какая-то черная кислота. Самое страшное – это выбор. Особенно если ты его уже сделал.
Вдруг она вспомнила: в ящике, завернутые в бумажку, у нее лежали таблетки, которые давно дал ей на хранение Кремп. Она медленно, чтоб не плескать кислоту, подошла к своему письменному столу, вынула верхний ящик, вывалила все из него на кровать и стала шарить в куче вещей. Наконец нашла – в бумажку было завернуто штук десять маленьких таблеточек. Она пошла на кухню и методично запила каждую глотком воды, считая про себя «раз, два, три…», пока все они не кончились. И снова села в прихожей на стульчик.
Из оцепенения она вышла, когда у нее начало двоиться в глазах и стало сильно тошнить. Тут она испугалась. Почти на ощупь дошла до телефона, подняла его – он был разбит, он не работал. Какими-то остатками сознания она сообразила взять в прихожей баночку, в которую мама складывала двушки – Сергей Иванович завел такой порядок, все-таки какая-то польза от него была, – вывалила двушки и копейки на полку в прихожей, взяла несколько и вышла из квартиры, не закрывая дверь. Держась двумя руками за перила, она стала спускаться и так доковыляла до улицы. Там прямо напротив подъезда был телефон-автомат. Чудом она дошла до будки и набрала без ошибки Манькин номер. И когда Манька ответила, Лита из последних сил завопила в трубку:
– Манька, приедь ко мне. Можешь? Приедь ко мне. Пожалуйста…
– Где ты?
– Пожалуйста, – говорила Лита как заведенная. – Пожалуйста…
– Где ты? Дома?
– Рядом… В телефоне.
Манька была беременная на третьем месяце. У нее был ужасный токсикоз и куча проблем. Но когда она услышала, каким странным голосом Лита разговаривала в трубке, она, забыв про токсикоз, вылетела из дома, поймала машину и приехала к Литиному подъезду. Напротив Литиного дома была только одна телефонная будка. Манька побежала сразу к ней и обнаружила там Литу – та сидела на полу, завалившись на один бок и глядя перед собой открытыми глазами. Манька все поняла, выволокла несчастную за будку и сунула ей пальцы в рот поглубже. Видимо, в конечном счете именно эта процедура Литу спасла.
Когда приехала скорая, умная Манька не говорила ни про какие «колеса», которых, как она предполагала, нажралась Лита. Она рассказала какую-то придуманную на ходу историю про дядю с Дальнего Востока, который привез рыбу, она, Манька, есть не стала, а подружка поела, и вот ей стало плохо. Говорила она так убедительно, а врач на скорой был такой молодой, что они без всяких разговоров Литу увезли. Это потом уже разобрались, что к чему.
Лита слышала, как Манька разговаривала с врачом и плакала в скорой, но у нее не получалось пошевелиться. И в голове колотились всякие мысли: «Манька ждет ребенка, ей нельзя волноваться…Если я умру, я не специально... Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы я не умерла... Пожалуйста… Господи, я не хотела. Господи, я не хочу умирать, пожалуйста, пожалуйста…» Но сказать она тоже ничего не могла.
Запивая таблетки водой, она не думала о смерти. Ей просто надо было как-то быстрее забыть Лесника. Ну дура, дура, ну что с нее взять.
***
Литу довольно быстро и бесцеремонно откачали, пропустив через всякие промывания желудка и капельницы. Мама приехала и все уладила, чтоб никуда не сообщали и на учет не ставили. Через несколько дней Литу выписали.
На самом деле вначале, не признаваясь себе, она ждала Лесника. Все-таки девушки устроены очень странно.
Но на третий день в больницу приехал Федя. Через Маньку, ее друга и приятеля ее друга узнал, где Лита и что с ней. Он был старше Литы на десять лет и много чего понимал. И хотя они просто поговорили – почти ни о чем, – после его приезда она Лесника ждать перестала.
Из больницы ее никто не встречал, она ехала домой одна, стоя в переполненном автобусе на задней площадке и думая про странный разговор с санитаркой прямо перед выпиской.
Они сидели под дверью завотделения, Лите нужно было подписать какую-то бумажку, санитарке этой тоже нужно было к заведующей. И вдруг санитарка сказала:
– Что ж ты, боговерующая, такой грех чуть не сделала – отравиться хотела?
– Я? Я не хотела отравляться… А с чего вы взяли, что я верующая?
– Так ты вслух все молилась, когда тебя привезли – я ж дежурила тогда. Все говорила: «Господи, прости меня, Господи, прости меня…»
– Я так говорила? – опешила Лита.
– Ну да. Я думаю – вот бедная, грех такой чуть не сделала, – и санитарка посмотрела на нее очень строго.
И сейчас, трясясь в битком набитом автобусе, Лита подумала, что не умерла, потому что просила об этом. Ее пожалели.
Она стояла в толпе и смотрела на потолок – больше было некуда, кругом были люди. И вдруг через чьи-то плечи мелькнуло окошко. И она увидела в окошке кусок неба. И этот голубой кусок вдруг вселил в нее что-то, похожее на надежду. Даже какое-то предвкушение счастья.
Мама боялась, что у нее опять начнется это оцепенение, как полгода назад весной. Но ничего подобного – Лита в тот же день, как ее отпустили из больницы, поехала к Фредди Крюгеру. И началась у нее потрясающая, удивительная и невозможная жизнь.
А Лесник больше не позвонил ни разу, как она его и просила.
Часть II
Глава 10
***
Прошло почти полгода. По московским улицам стала дуть ветром весна. Такая весна бывает один раз в жизни, Лита это чувствовала. Смесь из эйфории и тоски.
Меньше чем через месяц после первой встречи они выступили на квартирнике. Потом Лита уже не считала, сколько раз и где они играли. Они мотались между Питером и Москвой, на квартирники иногда набивалось по сто с лишним человек.
В школе из-за прогулов у Литы начались проблемы. Но это волновало ее меньше всего. Так же, как и мамины стенания по поводу Литиного будущего. Так же, как и само будущее.
Вообще ей было всего семнадцать лет. Чтобы быть на уровне той жизни, в которую она ввязалась, ей необходимо было что-то с собой делать. Расти, что ли… Это было трудно и больно, и временами она доводила себя просто до исступления. Ко всему прочему Фредди Крюгер был довольно авторитарный человек. Временами замороченный. Временами просто невозможный.
Но, похоже, один из признаков гения – вокруг него иногда бывает много счастья. В это время у Литы довольно часто случались приступы переживания полноты бытия.
***
В самом начале Крюгер дал ей несколько листочков со своими стихами. Это были черновики, но написаны стихи были практически без зачеркиваний. Сразу, с ходу. Он так писал. Ощущение от стихов было такое же, как от музыки из золотого пространства. И эта музыка Литиных снов смогла, наконец, найти выход. Мелодия иногда появлялась у нее за полчаса. Иногда было достаточно одной гитары – она только успевала записывать аккорды, просто подбирала аккорды к тому, что уже давно, оказывается, родилось, только ждало этих стихов Фредди.
Потом он нередко что-то переделывал и менял. Он знал, как должно было получиться в конце. В это время Лите хотелось его убить. Ей почему-то казалось, что от того, что получится, зависит, может быть, весь мир. Когда они репетировали, она ужасно мучилась.
Но то, что делал этот человек, было необъяснимо. В результате в песнях как будто начинали звучать Литины сны, ее детская тоска и вся Вселенная.
Когда получалось то, что должно было получиться, – она могла петь из своего домика.
***
Фредди Крюгер жил в коммуналке. Соседом был полуглухой дед. Это спасало ситуацию – нередко они репетировали у него дома, днем, пока остальные - не глухие, к сожалению, - соседи были на работе. Второе место репетиций – их пускал к себе Федин друг, художник. У него была мастерская, где их не трогали, – видимо, еще не добрались.
У Феди была какая-то своя логика и свои отношения с жизнью, часто совершенно непонятные Лите. Например, у него была очень странная личная жизнь. Не в смысле постели – тут у него все было как раз очень конкретно. У него были разные девушки, которые сменялись довольно часто. Хотя и здесь была странность – девушки как на подбор все были какие-то дуры. По крайней мере, Лите так казалось. Хотя сам Крюгер был очень умный и цитировал иностранных поэтов в оригинале. Оказалось, что он учился на филфаке, потом его оттуда выгнали.
Странной была его просто жизнь. Быт. С бытом у него были особые отношения. Официально он нигде не работал. Собирал бутылки, работал курьером, иногда даже разгружал вагоны. Иногда что-то кому-то переводил. Даже, очень редко, занимался репетиторством. При этом мало-мальское благополучие вообще как будто не имело для него значения. Лита с удивлением узнала, что у него были жена и ребенок. Жена, правда, ушла от него пару лет назад.
В том, что не касалось его песен, он был заурядный, даже неинтересный человек. С ним не очень получалось просто поговорить за жизнь.
Но однажды он вдруг сказал Лите:
– У меня постоянно ощущение, что я дорогой одеждой вытираю помои.
– Так ты скоро дойдешь до ручки, – ответила она.
– Я уже давно дошел. Но я рад, что мои песни поешь ты.
***
Он был маргиналом, изгоем общества. И хотя призрак перестройки уже бродил по СССР, Фредди был вынужден как-то справляться со своей маргинальностью. Вот Кремп, например, тоже был маргиналом, но существовал в этом органично. Фредди Крюгеру это было трудно. Похоже, отсюда были и бесконечные бабы – надо же как-то чувствовать, что ты вообще живой.
Лита интуитивно считывала эту его тоску изгоя. За нее Фредди Крюгер был ей даже ближе, чем за музыку. Сама она не успела еще вкусить плодов выбора пути «не как все». У нее был только опыт школьного изгнанничества. Да, еще психушка. Но это были мелочи. По счастью, она еще не выясняла отношений с обществом и историей. Ей хватало того, что она постоянно выясняла отношения с собой.
***
Время было уже не такое острое, как несколько лет назад, когда с концерта могли сразу увезти в кутузку. Хотя с милицией они иногда сталкивались. По счастью, для Литы это каждый раз проходило безболезненно. Однажды они играли на какой-то старой большой даче – почему-то нагрянули менты, Федю и еще пару человек увезли, отпустили лишь на следующий день. Лита хорошо запомнила, как Крюгер, когда только появились люди в сером, сказал Кларнетисту: «Ребенка только им не отдавайте».
Ребенком он называл Литу. Обижаться на него за это было бесполезно.
***
Иногда она ночевала в каких-то странных квартирах, или у Феди, или еще у кого-то из своих новых знакомых. Но жила она только с музыкой. По поводу нее было как будто негласное табу. После одного выступления в Питере, которое перетекло в чей-то день рождения с заливанием портвейном, Лита слышала, как хозяин квартиры, разговаривая с Фредом, спросил:
– И с кем спит ваша солистка?
На что тот ответил:
– Она – эльф. Спит одна. В кроватке из цветов.
Временами ей правда начинало казаться, что она эльф.
***
Откуда у нее брался драйв – это было загадкой. Она могла превращаться в мышку, которую никто не замечал после концерта, могла сидеть в углу с книжкой во время грандиозной попойки, патологически избегала всяких знакомств. Она изменялась, только когда брала в руки гитару. Из тормоза превращалась в человека, способного довести людей до экстаза.
Когда кто-то спросил Крюгера, за что он так проникся к Лите, тот ответил:
– За интонации.
***
Бытовые и незначительные картинки той жизни почему-то вспышками застряли у нее в памяти. Например, они сидят у Фреда на кухне. Вокруг царит сигаретный дым и восхитительный бардак, который никого не напрягает. Ударник Митя, толстый и добрый, лежит на топчанчике. Митя, когда пьяный, стучит божественно. Когда трезвый, попадает мимо. Сейчас он в переходном состоянии.
Лита сидит на этом же топчанчике с ногами и читает самиздатовского «Властелина колец», которого дал ей Кларнетист.
Митя своей лохматой головой лезет ей в машинописные листы «книжки», Лита, не отрываясь от Фродо, отодвигает его голову. Митя жаждет общения.
– Сестренка, – говорит он, – вот откуда у тебя этот блюз, а? У тебя есть родственники в Африке? Нельзя просто так уметь хрипеть как черная. Откуда этот блюз, а?
Кларнетист входит в кухню с видом сомнамбулы, играя на флейте.
Митя снова лезет головой в Средиземье:
– Не читай это. Там все будет хорошо. Там все победят. А тут всем плохо… А вот откуда у тебя этот термоядерный блюз, а?
– Митя, отстань от ребенка, – говорит Крюгер, который сидит тут же, со взглядом шамана перебирая аккорды на гитаре.
Кларнетист, продолжая играть, выходит из кухни.
– Это термоядерный ребенок, – говорит Митя, с блаженной улыбкой глядя в потолок. – Сестренка, где ты хранишь эту свою энергетику, а?
– Все там же, – отвечает Лита, не отрываясь от книги.
Митя хохочет. Крюгер загадочно улыбается. Лита наконец поднимает голову и смотрит на них удивленно. Похоже, каждый из них имеет в виду что-то свое.
***
Однажды Кларнетисту на неделю кто-то одолжил синтезатор. Лита всю неделю не отходила от этой штуки. Спала рядом с ним. После этого даже Кларнетист вынужден был признать, что она сумасшедшая.
Когда они первый раз увиделись у Крюгера, Кларнетист смотрел на нее, как смотрят на насекомое в чае (Лита так тогда подумала). Когда Лита открыла рот и спела, то заслужила от него одно слово: «Круто». Это была высшая похвала.
Кларнетист учился в консерватории и мог играть, кажется, на всем, во что можно было дуть. При этом он был из семьи с папой-дипломатом и в детстве жил с родителями за границей. Он любил про это рассказывать, Лита любила про это слушать. Она ведь умела слушать. Непонятно, на чем они больше сошлись – на музыке или на этих рассказах.
Вообще, когда она разговаривала с Кларнетистом, ей приходили в голову всякие интересные мысли. Например, если она испытывает восторг и приступы полноты бытия – значит, это должно быть где-то изначально? Должен быть первоисточник?
***
В феврале Лита крестилась. Креститься она поехала с Манькой за компанию. Манька к тому моменту уже успокоилась по поводу своей беременности, повеселела и ходила животом вперед.
За два дня до крещения Лите приснился сон – церковь, и в ней сделан эскалатор, обычный длинный эскалатор, как в метро. Она одна ехала вверх. А навстречу ей ехало много людей. Лита знала, что все они ехали с крещения – у них были какие-то удивительные лица. Они все ехали вниз, а она одна на пустом эскалаторе – вверх.
***
Они приехали к храму на час раньше – Лита как всегда все перепутала. Манька, несмотря на свое почтенное состояние, совершенно не изменилась. Она забралась с ногами на лавочку в скверике перед храмом, потому что само сиденье было мокрым, и достала из сумки роман про любовь.
– У меня тут очень клево, – сказала она, уткнувшись в книгу.
Интересно, Маньке не хватало любви в обычной жизни, чтобы так вбиваться в роман?
Лита молча сидела рядом и разглядывала деревья.
Но во время крещения Манечка была очень серьезной, не присела ни разу, несмотря на седьмой месяц, и в конце даже заплакала.
Священник, который их крестил, уже после вдруг грустно сказал, глядя на Манькин живот:
- А у меня дочка – ваша ровесница. Уехала вот с каким-то художником…
И вздохнул. Лита не удержалась, вздохнула вместе с ним.
После крещения она ехала в метро на эскалаторе и чувствовала – через куртку – запах мира, которым ее мазали.
Потом проводила Маньку и поехала одна на ту крышу, где они последний раз были с Лесником.
Внизу было уже почти темно, но когда она вылезла наверх – заорала от восторга. Здесь, над самым горизонтом, над домами и всеми обитателями серого города сияла огромная розовая полоса. Лита стояла на крыше, как на башне Бальмонта, и смотрела на этот след от солнца.
Первый раз в жизни у нее было ощущение, что ее домик расширился до неба. До всего мира.
***
В начале марта Лита познакомилась с Фединым сыном. Фединой жене нужно было лечь
в больницу, и на четыре дня она оставила ребенка у папы.
Лита заехала к Крюгеру за какой-то ерундой – а там оказался Егорка. Он первый стал ей что-то рассказывать, Лите оставалось только к нему проникнуться.
Ему было почти пять лет – то есть столько же, сколько племяннику Лесника. Лита вдруг вспомнила, как Лесник сказал про племянника – «как будто младенец Христос у нас поселился».
В общем, четыре дня она гуляла с ребенком в парке, читала ему, играла в прятки и даже что-то готовила – кашу, например, варила первый раз в жизни. Домой она уезжала только ночевать. Фредди, похоже, был ей благодарен. Сам он как-то участвовал в жизни своего сына, но без энтузиазма.
На четвертый день, когда Лита вернулась с Егоркой из парка – они ввалились в квартиру все в снегу, – к ним в прихожую вышла женщина.
– Мама! – заорал Егорка.
Лита тогда в первый раз увидела бывшую Федину жену. Она была очень худая и очень красивая. Обняла заснеженного сына.
– Ну что, едем домой? – спросила она.
– Давай Литу возьмем? – попросил Егорка.
Лита и Федина жена рассмеялись.
Потом Федина жена стала собирать Егоркины вещи. Лита молча на все это смотрела.
– А где Фред-то? – наконец спросила она.
– Не знаю, – ответила его жена. – Как он вообще?
Что Лита могла на это сказать?
– По-разному.
– А ты – Лита? – вдруг спросила Федина жена. – Про тебя все говорят.
– Да? – тупо спросила Лита. – Кто – все?
Федина жена не ответила. Продолжала собирать вещи. Потом как-то странно посмотрела на Литу. Хотела что-то сказать. Но почему-то не стала. Хотя было же очевидно, что Лита вне этой череды Фединых девиц. И Лите показалось, что эта женщина все еще любит его. Или не его уже, а то пространство, которое он создавал вокруг себя.
Конечно, быть Фединой женой невозможно.
А Егорка перед уходом вдруг крепко обнял Литу и сказал: «Люблю тебя…» Это было первое в жизни признание в любви, которое Лита услышала.
***
Все у них получалось из какофонии, бардака и творческого безумия. На одном из первых выступлений в каком-то приличном месте вроде ДК они так разошлись, что сломали стойку от микрофона.
Тогда у них был еще блаженный акустический состав. Лита, открыв рот, слушала, как звучат вместе баян и виолончель. Крюгер умел соединять несоединимое.
И ведь ничего почти не сохранилось от того короткого периода с Литой. Никаких записей. Это осталось только в памяти тех, кто видел и слышал.
***
Лита, как ни странно, полюбила тех, с кем она играла. Это был ближний круг. С ними было не страшно жить. И не было того, чего она больше всего боялась. Как это называлось… Потерять себя? Этого не было.
Еще был круг дальний. В нем были какие-то музыканты, диссидентствующие поэты и художники, были голубые и те, кто любил женщин… Какие-то толпы людей, которые проходили мимо Литы. Но все это было на поверхности. А она часто забивалась в глубину, в угол. Сидела там, как птичка на веточке. К этому все привыкли, ее никто не трогал. Вокруг что-то происходило, какая-то суета и жизнь, а она забиралась в свой домик.
Там хорошо было думать. Для нее вдруг открылось столько всего, о чем можно было думать часами.
Еще она думала там про Лесника.
***
Вообще она думала про него везде. Сначала она считала, что забудет его. Потом обнаружила, что это не получается. Что-то о нем болело у нее почти все время. Иногда отпускало. Потом с новой тоской возвращалось.
Она вспоминала о нем в самых неожиданных местах. Например, на эскалаторе. Ведь это он научил ее, когда они ехали вниз, задирать голову, чтобы лицо было параллельно потолку, и смотреть на этот потолок. И тогда появлялось ощущение, что ты летишь.
Лита проделывала этот фокус всегда, когда стояла на эскалаторе. Однажды она все-таки потеряла равновесие и упала.
Он же говорил ей, что надо держаться за поручень.
***
Так вот, о Леснике она думала чем дальше, тем больше. В какой-то момент ей пришлось даже себе признаться, что все, что она делает, делает для него. Что она давно уже смотрит на мир его глазами. Обо всем, что происходит, она думает: а что бы он про это сказал? А какой был бы у него взгляд, когда бы он это увидел?
Иногда ей снилось, что она просит у него прощения. Но никогда она не видела, простил он ее или нет.
Все, что у нее осталось в память о нем, – это шрам на руке и иконочка Богородицы с голубыми глазами.
В какой-то момент тоска по Леснику заставила ее приехать к его дому. Она знала, что не сможет подняться к нему. Может только подержаться за ручку двери в его подъезде. Это была единственная возможность дотронуться до него. Ведь он тоже прикасался к этой ручке. Она стояла и чувствовала, как металл в ее руке становится теплым.
Потом просто смотрела на его окна. Там горел свет.
***
Непонятно, что грело ее все эти месяцы. Может быть, мысль, что она вернется к Леснику?
Станет другой и вернется. Какой другой она хотела стать для него? Она не знала.
Еще она никак не могла понять одного. Она вытянула счастливый билет делать то, что всегда хотела. Вокруг были потрясающе интересные люди. А ее сердце выбрало человека, которому, казалось, нужен был только его лес.
Наконец она поняла, что больше так не может, иначе она задохнется. Она должна к нему придти. И что сделать? Побиться головой об стенку? Может, это поможет, и он наконец скажет ей, что она ему нужна?
Не важно. Надо просто придти. Прыгнуть в воду. И пусть там будет Леночка, Снегурочка… плевать.
И Лита решила: когда в Москве начнется настоящая весна, она пойдет к нему. Просто так. Иначе она задохнется.
Глава 11
***
И вот в московские переулки пришла настоящая весна. Лита шла из школы и дышала этой смесью из эйфории и тоски.
Придя домой, она обнаружила, что у них в гостях мамина подруга Лариса. И Лита - небывалое дело – села с мамой и Ларисой обедать. Весна была всесильна.
Мама с Ларисой ели и болтали, Лита молчала. И вдруг Лариса среди потока болтовни спросила:
– Слушай, а как там Катин племянник?
– Чей?
– Ну, Кати, которая мне билеты в Анапу доставала. Ты в тот раз говорила, что у ее племянника рак.
– А... Она давно заезжала, лекарства заказывала. Да, говорила, рак, операцию ему делали. Но все как-то плохо. Представляешь, парню двадцать лет.
– Да, – многозначительно ответила Лариса, – болезнь никого не щадит.
Она мельком глянула на Литу, хотела еще что-то спросить у мамы, но вернула взгляд к Лите:
– Лидка, ты че такая бледная?
Мама тоже посмотрела на нее:
– Да. Ты заболела?
– Она много курит и мало спит, – вставила Лариса. – Это сказывается у девушек на лице.
– Что ты сказала? – наконец выдавила Лита. – Что у племянника Екатерины Георгиевны?
***
Это был какой-то разрыв сознания. Обрыв пространства, как у разведенных мостов.
Вечером Лита зашла к маме в комнату.
– Екатерина Георгиевна заказывала у тебя лекарство?
– Да...
– Я завтра зайду к тебе на работу за ним. Мне нужно его увидеть.
– Кого?
– Ее племянника. Мне нужно его увидеть.
Ночью Лите снились кошмары. Ей снился Лесник без ног.
***
На следующий день Лита стояла с лекарством перед дверью Лесника. Она старалась себя убедить, что ничего особенного не происходит. Она просто принесла лекарство.
Какой-то лекарственный роман…
Она не могла позвонить минут десять.
Может, там прекрасная Снегурочка с косой? Или… Ну что там еще может быть?
Наконец она позвонила.
Не открывали довольно долго. Потом послышались шаркающие шаги и кашель. Наконец дверь открылась. За дверью стоял Лесник. Ноги были на месте. И вообще он вроде не изменился. Хотя здесь было мало света.
– Я принесла лекарство, – быстро сказала Лита, выставляя коробку как белый флаг.
Он смотрел на нее и ничего не отвечал. Лита приготовилась ко всему. Был полумрак, поэтому плохо было видно, сколько там и каких чувств отразилось на его лице. Наконец он отстраненно сказал:
– Привет, – и отодвинулся, пропуская ее.
Лита вошла в прихожую, он включил свет, но дальше не собирался, похоже, ее приглашать. Она потопталась на месте, потом посмотрела ему прямо в лицо. Нет, он не изменился.
– Вот, – она протянула коробку.
– Тетя мне не говорила, что кто-то принесет лекарство.
Повисла пауза.
– Сколько денег нужно отдать? – наконец спросил он.
– Там на коробке написано.
Он взял у нее эти злосчастные таблетки, даже не коснувшись ее руки. Коротко сказал:
– Сейчас, – и пошел на кухню.
Не было его довольно долго. Наконец он снова вышел, протянул ей деньги.
– Здесь без сдачи.
Лита подставила руку.
– И еще мелочь.
Бац.
Мелочь просыпалась, когда он пересыпал ее Лите в руку. Она никогда не отличалась ловкостью.
– Эх.
Лита села на корточки и стала ее собирать. Собирала целую вечность.
Наконец она поднялась. Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел на нее. И Лита прямо физически почувствовала, что вокруг него какое-то безвоздушное пространство. Через которое вообще не пробиться.
– Саш, – сказала она, не решаясь назвать его Лесником. – Можно я пройду?
Он ответил, но не сразу:
– Проходи.
И пошел на кухню.
– Ты один? – спросила она, быстро сняв куртку и ботинки и входя за ним. Он зажигал газ, ставил чайник на плиту.
– Нет, у меня тут полный дом гостей, – ответил он, показывая на пустые табуретки.
При дневном свете от окна было заметно, что вид у него все-таки больной. И жуткие синяки под глазами. И глаза вообще какие-то не такие.
Возле мойки стояла старушечья палка.
– Как ты поживаешь? – бодро спросила она.
– Хорошо, – в тон ей ответил он. Повисла пауза. Потом он добавил: – То есть никак. А ты?
– Я? – Лита помолчала. – Я не знаю…
Надо было что-то спросить.
– А ты работаешь все там же?
– Нет, я уволился.
– А учишься? – уже без энтузиазма спросила Лита.
– Нет, я взял академ. Я уезжаю через неделю.
– Уезжаешь? Куда?
– Домой, в Свердловск.
– Надолго?
– Навсегда.
– Да?
Лита замолчала, пытаясь понять, что он только что сказал. Потом, когда до нее дошло, она наконец посмотрела ему прямо в глаза и спросила уже совсем другим тоном:
– Как это ты уезжаешь?
– Обыкновенно, на поезде, – он отвел взгляд.
«Он врет», – подумала Лита. И почувствовала какое-то нехорошее отчаяние.
– Ты врешь, – сказала она.
Он удивленно на нее посмотрел и спокойно ответил:
– Нет.
Лита помолчала, помолчала, потом не выдержала:
– Поедешь исполнять свою мечту жить в лесу?
– Нет, – ответил он, – хочу сдохнуть на родине.
Чайник закипел, из носика повалил пар, но Лесник не снимал его с огня.
Он вдруг с трудом, медленно стал говорить:
– Что ты еще хочешь у меня спросить? Как я себя чувствую? Хреново. Что я буду делать дальше? Лягу в Свердловске в больницу, сестра договорилась через знакомых с каким-то там онкологом. Почему я не уехал раньше? Искали этого врача. Просто так же у нас нельзя ложиться в больницу… Что еще тебя интересует? Ты ведь пришла, потому что узнала, что у меня рак. Так? Тетя же трещит на всех углах, какое ее постигло несчастье. Одни после этого делают вид, что все окей, при этом стараются со мной не общаться. Другие бегут исполнять свой последний долг…
– Когда ты заболел? – перебила его Лита.
– Не знаю. В больницу первый раз попал в начале зимы. Про рак узнал недели две назад.
– Ты выходишь на улицу? Там весна…
– Нет.
– Может быть, нужно что-то купить? Продукты?
– Нет, спасибо.
– Может, куда-то съездить? За документами там…
– Нет, не нужно.
– Можно, я приду еще?
– Зачем?
Он сел на табуретку. Было видно, что ему тяжело стоять.
– Лесник, – сказала Лита, глядя на него. Она поняла, что полгода назад закрутила у себя какой-то кран, и теперь он потихоньку откручивался.
У него изменился взгляд.
– Наверное, тебе нужно идти, – вдруг сказал он.
– Нет, я не хочу, – неожиданно спокойно ответила Лита. – У тебя чайник уже весь выкипит сейчас, а я хочу чаю.
Он встал, снял чайник, наткнулся на старушечью палку.
– А я вот хожу с палочкой, – вдруг сказал он с вызовом. – Вот, – и помахал палкой перед ней.
– Очень страшно, – отозвалась Лита.
Он снова сел напротив и вдруг спросил:
– А что там твои музыканты? Федя? Система? Кремп? Фак, драг, автостоп?
Лита рассмеялась.
– С Фредди Крюгером все хорошо. Без фака и драга, если тебя это интересует, – добавила она. – Ты мне чаю дашь?
– Да, извини…
Неуверенными какими-то движениями взял чашку, налил заварку, кипяток, достал печенье. Все он делал медленно. Поставил это перед ней, сел. Лита молчала. Он вдруг сказал:
– Знаешь, я каждый день вспоминаю твою фразу про то, что никто никому не нужен.
Лита посмотрела на него. Много бы она отдала, чтобы вернуть все на полгода назад.
– Знаешь, – продолжал он, – я зимой еще, когда работал, сделал халтуру, купил магнитофон… И слушал твою кассету почти каждый день.
Лита молчала.
– На самом деле хорошо, что все так вышло. Иначе бы я думал, что ты ушла, потому что рак. А так – музыка. Это святое. Ты все сказала. Я тебя понял. А ты…
В это время в дверь позвонили. Лита вздрогнула.
Лесник медленно встал, взял палку и пошел, опираясь на нее.
Лита вышла за ним в прихожую.
– Я приду завтра? – быстро спросила она.
Он не ответил. Постоял секунду, потом открыл дверь.
Это была соседка.
– Саш, – сказала она, – я Пашку на полчасика оставлю у тебя? Мне на почту надо сходить.
– Конечно.
– Я через пять минут его приведу, сейчас, Саш, спасибо.
Он закрыл дверь. Повернулся к Лите.
– Ну вот, – и замолчал. Они постояли так немножко, вдруг он странно улыбнулся
и сказал: – Знаешь, как-то я оказался не готов к такому повороту событий. В смысле, что я могу заболеть.
И снова замолчал. Они стояли друг напротив друга. Лита смотрела на него – и видела человека, который жил за стеклом в безвоздушном пространстве. Беспомощного человека, который сломал в лесу свое дерево. Вдруг очень ясно она почувствовала, что с ним было все это время. И когда она это почувствовала, она подошла к нему и обняла его. И заполнила пустоту.
И дурацкое стекло исчезло.
Она в жизни никого не утешала, это было как-то невозможно сделать, это было неловко. Но не сейчас.
Он замер сначала, потом обнял ее в ответ. Потом заплакал. Он старался всячески скрыть это, но Лита все прекрасно чувствовала.
Они стояли так, пока в какой-то момент Лита не поняла, что у него нет сил стоять. Они не сговариваясь сели прямо на пол в прихожей.
С пола прихожая казалась огромной, где-то далеко была вешалка с зонтиками. И, сидя посреди ботинок и сапог и глядя на зонтики, Лита сказала:
– Лесник. Я тебя люблю.
Она в первый раз в жизни произнесла эти слова вслух. Вообще. Ну вот так получилось.
В семье у них было не принято говорить о любви. Ее удивляло, что Манька в конце телефонного разговора всегда говорила: «Целую, люблю тебя, мамулечка»… Когда какое-нибудь слово произносишь в первый раз, оно непривычно. Как будто на иностранном языке.
Лита наконец оторвала взгляд от зонтиков и посмотрела на Лесника.
У него были уставшие и больные глаза. Цвета зимнего моря. Сейчас в них было концентрированное счастье.
В дверь затарабанили. Соседский внук пришел в гости.
***
– Дясаша, я сказку у тебя посмотрю? – сказал соседский внук, пробегая сразу в комнату. – Сейчас идет.
Лесник включил ему в комнате телевизор и вернулся к Лите – она стояла на кухне около подоконника.
– Помнишь крышу? – спросила Лита, когда он вошел.
– Еще бы.
Лита сделала к нему два шага.
– А ты не боишься… – начал он.
– Ты совсем уже… – сказала Лита тихо, подходя к нему совсем близко и закрывая глаза.
***
Уже стемнело почти на улице. Они целовались, потом просто сидели на полу и говорили. Непонятно, что было важнее. Соседский внук смотрел за стенкой про царевну Несмеяну.
***
– Почему ты ушла?
– Потому что я тебе не нужна была.
– С чего ты это взяла?!
– Ну ты же мне никогда не говорил, что нужна.
– А разве ты этого хотела?
– А разве нет?
– А если бы я тебе это сказал, что-то бы изменилось?
– Я не знаю…
– Я знал, что рано или поздно ты исчезнешь. Уйдешь в эту свою другую жизнь с головой. А я не мог от тебя услышать «нет». Хотя в результате так и получилось. Ты сказала все… Я тебя понял.
***
– Я видела тебя со Снегурочкой.
– С кем?!
– Это был знак.
– Лита, ты о чем?
– Это была такая прекрасная девушка с косой.
– Девушка с косой – это, конечно, актуально для меня сейчас.
– Лесник, я серьезно!.. Очень красивая. В белой куртке и шапочке…
– Вот, я же говорю, еще и в белом…
– Вы шли с ней куда-то. Это был знак.
– Что?.. Вообще у нас была на работе одна девушка с косой. Она живет со мной в соседнем доме. Она, кстати, замужем. А при чем…
– Лесник, знаешь, самая главная правда, которую ты мне сказал, – что я просто дура.
***
– Помнишь, мы лазили на крышу у меня на работе? Ты еще тогда намазалась зеленкой.
– Конечно.
– Тогда я понял, что пропал.
– Тогда?!
– Да.
– Все дело было в зеленке?
– Конечно, в чем же еще.
– Надо мной потом в школе долго издевались. Видишь, я не зря терпела.
– Но потом я понял… Как там… каждый – кузнец своего счастья? Ну вот, я не кузнец.
***
– А что твоя Леночка? Я помню, речь шла про какую-то Леночку.
– Не было никакой Леночки. Это тетя хотела, чтоб была.
– Не было? Совсем?
– Леночка – это моя сотрудница, плюс мы с ней вместе учились в институте. Она даже приходила один раз к нам сюда. Звонила мне регулярно. Потом, к счастью, нашла себе нормального кавалера. Все это уже сто лет назад было.
– Ну, ты ей нравился.
– Ты откуда знаешь?
– Я видела ее у тебя на работе. Помнишь, я к тебе заходила?
– Конечно. Я тогда так офигел, что ты пришла…
– Да? А по тебе было совсем не заметно, что ты офигел.
***
– Ты не разлюбила свой рок-н-ролл?
– Нет. И ты этому рад? Только честно.
– Да… Честно.
– Почему?
– Иначе я подумал бы, что это не ты.
***
– И почему ты не звонил?
– А что бы я сказал? Привет, у меня рак?
– Да.
– И дальше пригласил бы тебя на свои похороны?
– Дясаш, сказка кончилась, можно я еще что-нибудь посморю? Можешь мне переключить? – спросил соседский внук, входя в кухню.
Лесник пошел переключать ему телик. Потом вернулся к Лите.
***
– Мне иногда кажется, что я вообще здоров. Что я все это придумал. Что я могу встать и пойти, жить обычной жизнью. Работать…
– У тебя температура? – спросила Лита, прижимаясь лбом к его лбу.
– Да, кажется.
– Высокая?
– Не знаю. Я выкинул градусник.
– Можешь мне сказать, насколько все серьезно?
– Я не знаю. Правда, не знаю. Мы все надежды возложили на этого онколога из Свердловска.
– Но в Москве же лучше врачи…
– Не знаю. Те, с кем я сталкивался, – вряд ли.
– Почему ты кашляешь?
– Это бронхит… наверное.
– У тебя что-то болит?
– Лита, какая разница?
– Пожалуйста…
– Ну, почему-то болит спина.
– И все?
– Да.
– Кажется, что у тебя вообще нет сил.
– Может быть. Но сейчас гораздо лучше. Раньше мне казалось, что проще умереть, чем дойти до кухни и попить воды.
– Ну ты же лечишься?
– Как бы да.
– Как бы?
– Сначала я лежал в одной больнице. Потом в другой. Потом в реанимации, после операции. Там все было как-то совсем плохо. Сначала меня лечили от одного. Потом от другого. Во второй больнице, там, где реанимация, вообще был дурдом…
– Лесник, а кто-то приходил к тебе? Ухаживал за тобой?
– Тетя… Помнишь, ты сказала, что каждый получает столько, сколько он стоит. Ну вот, все правильно. Да, потом тетя сдалась. У нее гипертония.
– Поэтому ты должен уехать?
– И поэтому тоже. Сестра нашла какого-то врача в Свердловске, какое-то светило. Возможно, надо будет делать химию. На химии должен присутствовать кто-то из родственников. Тетя не может, у нее гипертония. Сестра не может, она должна рожать второго ребенка. Извини, я не могу связно рассказывать...
– Саша, привет! – раздался вдруг из прихожей голос Екатерины Георгиевны. Она вернулась с работы.
Они вздрогнули оба. Лита быстро встала с пола. Лесник остался сидеть.
Тетя вошла в кухню.
– Здравствуйте, – очень вежливо сказала Лита. – Я принесла лекарство.
Повисла пауза. Тетя переводила взгляд с Лесника на Литу и обратно.
– Добрый вечер, – наконец ответила она.
– Деньги я отдал.
– Ну, я пошла, – пробормотала Лита и быстро ушла в прихожую.
Лесник поднялся, вышел за ней.
– Я приду завтра, после школы, – сказала она тихо и выскользнула за дверь.
***
Лита ушла, чтобы четыре часа ходить потом по московским лужам. Она не поехала, как обычно, к Феде, позвонила из автомата, сказала, что не приедет, и повесила трубку. Без объяснений. Бродя по улицам, она начала потихоньку возвращаться в реальность.
То есть, получается, пока она жила на вершине Эвереста, он лежал в реанимации.
Один. Все это время он был один. Больной. Все это не укладывалось у Литы в душе.
Ей хотелось вернуться и лечь у него под дверью. До завтра провести это время так.
Глава 12
***
На следующий день ко всему прочему Литу вызвали на педсовет в школе. Директор, завуч, еще кто-то из гороно. В общем, все, кого нужно бояться. Лите было все равно. У нее на дверях, на доске, даже на асфальте под окном было написано светящимися буквами «Лесник». Больше она ни о чем не могла думать. Вела себя на этом педсовете так, как будто она тут ни при чем.
– Конец третьей четверти выпускного класса, – сказала директриса. – У Литовченко три двойки в четверти – математика, физика, литература. Прогулы, ненаписанные контрольные, ненаписанные сочинения. Что мы будет делать?
И тут за Литу вступилась классная, Зинка.
– Мы с Лидой говорили, – сказала она. – У нее были сложные семейные обстоятельства...
Лита с удивлением на нее воззрилась. Когда это они говорили? Зинка ответила ей таким взглядом – мол, попробуй только что-нибудь возрази.
– ...Лида в каникулы все наверстает. – Снова взгляд на Литу. – Она возьмет все задания, все контрольные, напишет все сочинения. Она умная девочка, все сможет наверстать…
В общем, ее отпустили. В коридоре ее догнала Зинка:
– Литовченко, – сказала она, – твой последний шанс.
– Спасибо, – ответила Лита. – У меня, правда, на каникулы были планы поинтереснее.
– Твой последний шанс, – ледяным тоном повторила Зина. – Или хочешь кончить школу со справкой вместо аттестата?
***
После школы Лита, не заходя домой, поехала к Леснику.
Но как будто не было вчерашнего дня со всеми объяснениями. У него снова был взгляд беспризорника, сына дворничихи. Он снова был в себе. Как черная дыра, которая сама себя съела. Человек, у которого все связи с внешним миром порваны. Тотальное одиночество, как в Литином питерском сне.
Он чертил какой-то чертеж.
Когда Лита почувствовала, сколько там всего стоит за его молчанием, ей больше всего захотелось впасть в ступор. Но сейчас она не могла заморозиться. Лесник был один. Ему было плохо. И ко всему прочему он уезжал.
– Меня выгоняют из школы, – сообщила она радостно. – Единственный выход – все каникулы, которые начнутся с понедельника, кучу всего сдавать.
Он отвлекся от чертежа и мрачно на нее посмотрел. Потом сказал:
– У меня есть почти неделя. Если там физика или математика, могу попробовать что-нибудь посмотреть. Тетя всю эту неделю будет работать.
Есть! Один - ноль.
– Спасибо! Что она вчера сказала, кстати?
– Я не помню.
Да, похоже, ничего хорошего. Один - один.
– Может, прямо сейчас начнем? – бодро спросила Лита, усаживаясь и раскладывая учебники.
Он ничего не ответил, потом отбросил свой карандаш, сел, взял подсунутые Литой книги и тетради, стал внимательно смотреть. Она сидела рядом, не сводя с него глаз. Он так погрузился в эти ее тетрадки, что можно было на него уставиться.
– Лита, – в какой-то момент он оторвался от тетради и даже почти улыбнулся, два - один. – Я так не могу сосредоточиться.
– Почему? – наивно спросила Лита.
– Потому что у меня и так мозги не работают.
Это два - два или три - один?
Он стал снова смотреть в учебники, тетради, смотрел на Литину пару за самостоятельную, трояк за домашку, хмурился, потом вдруг отложил тетради и как-то невнятно сказал:
– Нет, я, наверное, не смогу.
Вот тебе раз. То есть два - три.
– Почему? – упавшим голосом выдавила Лита.
Он не ответил, медленно встал и вышел из комнаты.
Лита сидела, сидела, потом поплелась за ним. Он стоял на кухне, смотрел в окно.
– Ты уверена, что не должна быть сейчас в другом месте? – вдруг спросил он, не отрываясь от окна, когда она вошла.
Елки, откуда он все знает? Да, она должна была сейчас быть у Фреда.
– Ты за ночь успел чего-то себе надумать, да?
Он промолчал.
– Хочешь, – вдруг резко сказала Лита, – чтобы я ушла и не мешала тебе тут утопиться в твоем одиночестве? А вот хрен тебе. Я буду тут сидеть.
Она вернулась в комнату, села за стол. У нее была дурацкая привычка, когда она сильно волновалась, раскачиваться на стуле. И в тот момент, когда он входил в комнату и хотел что-то сказать – что-то тяжелое, Лита это почувствовала, - она как раз качнулась назад, и тут стул под ней сломался и она полетела спиной на пол, по дороге головой ударившись о спинку кровати.
Этот стул их спас.
Потому что Лита упала и захохотала, хотя было очень больно. Лесник кинулся к ней.
– Господи, ты ударилась?
Лита смеялась, лежа на полу, и не могла остановиться.
– Это французская кинокомедия, – говорила она. – Я не буду вставать. Я хочу заниматься с тобой математикой. Ма-те-матикой. А стул сломался. Придется заниматься на полу… – и она хохотала. Это было похоже на истерику.
Лесник постоял немного, глядя на нее – и лег на пол рядом с ней. Потом обнял ее.
От этого, конечно, Лита быстро притихла. Только сказала:
– Я не уйду. Даже не пытайся меня выгонять.
***
В принципе, лежать здесь было удобно – ковер был мягкий. Они лежали рядом на полу, настольная лампа светила в потолок.
– Знаешь, кто мы? – наконец спросила Лита.
– Космонавты, – вдруг серьезно ответил он.
– Правда?
И Лита стала смотреть на свет от лампы на потолке. Действительно, они одни в космосе. Рядом, с той стороны, где нет Лесника, на расстоянии вытянутой руки уже начинается вакуум. Никого нет.
Похоже, она начала заражаться его тотальным одиночеством.
***
– Сегодня тетя разговаривала с сестрой. Знаешь, что сказала Юлька? – спросил Лесник, глядя в потолок. – Она сказала: почему вообще каждый раз, когда я должна рожать, случается какая-нибудь беда?
– Беременные женщины невменяемые, – отозвалась Лита.
– Но она права… Интересно, если я умру, меня будет кто-то хоронить, или я останусь в морге в холодильнике? Ты не знаешь, что вообще делают с трупами, которые никто не забирает?
– Лесник, ты тоже невменяемый. Что ты несешь?
– Знаешь, получается, что чтобы ты ко мне пришла, я должен был заболеть. Я согласен на такой расклад. Но только если я умру – какой во всем этом смысл?
– Что ты заладил, что умрешь? Кто тебе сказал, что ты умрешь?
– Мне иногда кажется, что я уже умер. Если ты ни в ком не отражаешься, то тебя как бы нет. Это как зеркало. Знаешь, что когда нет человека, который смотрит в зеркало, то в зеркале тоже ничего нет?
– Да? – Лита села. – Я никогда об этом не думала… У тебя есть зеркало? Я хочу проверить.
Он рассмеялся.
– Лита, ты ужасно смешная.
Она снова легла рядом с ним на пол. Так было спокойнее.
– А знаешь, из чего состоит человек? – вдруг спросил он.
– Из воды… – отозвалась Лита.
– Нет, из страха.
– Что?
– Из страха. Вот я, например, боюсь, что ты будешь приходить ко мне из какого-нибудь чувства долга. Еще я ненавижу, когда больно. Я боюсь, что будет так же, как после операции. Когда в лучшем случае придет медсестра и наорет на тебя. И если мне станет совсем плохо… Ладно, неважно.
Он снова замолчал. Космос надвигался.
– Лесник, скажи, ты сейчас рисуешь?
– Нет.
– Почему?
– Тетя мне сказала, что мой отец хорошо рисовал. Это ей мама, оказывается, рассказывала. Мне она этого никогда не говорила … И я понял, что почему-то не могу больше рисовать.
Лита посмотрела на него и поняла, что это опасная тема.
– А у моего папы родился ребенок, – быстро сказала она, чтобы перевести стрелки на себя. – Типа, мой брат. А мне это пофигу. Хотя я раньше мечтала о брате. Папа мне недавно звонит и говорит: «Мы летом с малышом и Наташей, – это его жена, – поедем на море». И позвал меня с ними. Смешно.
– А я, – вдруг отозвался он, – никогда в жизни не видел моря.
– Да??
Лита не знала, что ответить. Не чушь же какую-нибудь: «Ну, у тебя еще все впереди…»
– Но зато, – вдруг сказал он и сел, – спорим, ты никогда не видела столько земляники, сколько я? У нас в лесу ее можно собирать и есть столовой ложкой. Ты бы ела ее столовой ложкой?
Лита посмотрела на него, и ее прямо пронзило – столько тоски было у него в глазах, сколько, похоже, никогда не стояло у Литиной кровати по утрам.
– Лесник, ты что?
– Не обращай внимания. Ты же говорила, что каждый имеет право быть слабым. Ну вот. Ела бы ее столовой ложкой?
Лита не ответила.
– Знаешь, я как в Москву переехал, все пытался его найти… Ну, своего отца. Но так и не нашел. Так и не нашел. Теперь уже не найду…
Он замолчал, потом продолжил совсем про другое:
– А мне тетя вчера устроила про тебя допрос. Сказала, что никогда не видела у меня такого безумного лица.
– Да?
– А я ей сказал, что лучше журавль в руках, а не в небе. А она начала плакать и говорить, что я, видимо, совсем тронулся. Она меня не поняла. А мне тоже иногда кажется, что я совсем тронулся…
– А я согласна на землянику столовой ложкой, – ответила Лита.
***
Потом все-таки они вылезли из своего космического корабля, сели за стол и стали заниматься математикой. Лесник принес из другой комнаты стул покрепче. Лита, правда, не могла сосредоточиться и ничего не понимала, и Леснику было плохо, это было очевидно. Но он упорно объяснял ей какие-то примеры с логарифмами. Пока наконец она не швырнула ручку и не сказала:
– Я больше не могу.
Он выдохнул и положил голову на стол. Так они сидели в тишине, а потом он вдруг сказал, не поднимая голову:
– Я хочу сходить в церковь.
Лита оторвала взгляд от настольной лампы и уставилась на него. Он добавил:
– Я весь год выяснял отношения с Богом. Больше не могу.
– Хочешь, я с тобой? – после паузы спросила Лита.
– Да. В воскресенье, послезавтра. Ты сможешь? Я уеду в следующую пятницу. И неизвестно, что будет дальше...
Он помолчал.
– Я тут один раз решил сходить. Вышел… И на улице потерял сознание. Пьяный сосед шел, помог мне дойти обратно до дома… – Он поднял голову и посмотрел на Литу. – Интересно, Богу я тоже не нужен?
Лита молчала, рисуя в тетрадке круги. Потом сказала:
– Если бы Бога не было, человек бы умер от одиночества. Помнишь? Это ты говорил.
– Да, я еще жив. Есть надежда.
– Лесник, скажи… А что будет, если ты не поедешь в свой Свердловск, а ляжешь в больницу тут? Если мы найдем хорошего врача? Тебе не обязательно зависеть от тети с сестрой. Одна беременная, другая устала. А я здесь, Лесник, – продолжила Лита почти с отчаянием. – Я не устала и не беременная. Думаешь, я не смогу делать то, что надо делать на этой твоей химии?
Он молчал. Потом вдруг рассмеялся.
– Ты все-таки Момо из нашей книжки.
– Лесник!
– Мне иногда кажется, что чем хуже, тем лучше... Знаешь, как я всех ненавидел, когда лежал в реанимации?
– И что?
– И то... Помнишь, в «Момо» Серые господа воровали время у людей, делали из него сигары и курили? Превращали жизнь в ничто… Думаешь, я хотел бы, чтобы ты видела, как я превращаюсь в ничто? В ничтожество…
Лита уходила от него с тяжелым сердцем. Время всей жизни сжалось до одной недели.
Глава 13
***
Вечером Лита не пришла, а скорее приползла домой – так было тяжело там, где душа. Проклятые битые кирпичи... Только она вошла – зазвонил телефон.
Мама была дома.
– Да, пришла, наконец, – сказала она кому-то и вышла к Лите. – Тебе тут обтрезвонились.
Лита взяла трубку. Это был Кларнетист.
– Блин, наконец-то! – закричал он. – Куда ты делась? Мы тебя ищем с фонарями.
– Я заболела, – сказала Лита. Это было недалеко от правды.
– Да? Ты помнишь, что мы завтра едем в Питер?
Бац!.. До Литы вдруг дошло. В это воскресенье, послезавтра, они должны быть в Питере. Да, да, да. Там что-то такое должно быть. Что-то очень важное. Квартирник? Запись? Кажется, и то и другое. Собственно, все, что они делали эти полгода… В это воскресенье они должны быть в Питере! Именно тогда, когда Лесник попросил ее сходить с ним в церковь.
Когда Лита это поняла, у нее вдруг зажало что-то в голове и стало тошнить.
Она легла на кровать.
Какой-то четырехугольник – Лесник со своей болезнью и Лита со своей музыкой.
Можно, конечно, Леснику отказать. Он пойдет один. Снова потеряет сознание, разобьет голову, попадет под машину… Просто не дойдет до храма, он из комнаты в комнату-то еле переходит… Или вообще не пойдет. Потом уедет на свой Урал, будет мучиться там в больнице и знать, что не попал в церковь, потому что Лита поехала записывать с Фредди Крюгером альбом.
– Я ухожу, – мама заглянула в комнату. Лита с удивлением на нее воззрилась. Мама сияла, от нее пахло духами. – Я хотела картошки пожарить, но я опаздываю, – сказала мама. – Дочисти и пожарь сама. Или, хочешь, свари.
Уже из прихожей она крикнула:
– Может быть, я приду очень поздно.
И она ушла. Она не сказала ничего про Литину школу. И про то, что у Литы сигареты открыто валялись на столе. И вообще ничего не сказала про Литу. Интересно, она в курсе, что ее дочь выгоняют из школы? Вот будет оплот, когда она обо всем узнает. И Лите на этот раз, похоже, не вырулить…
А что вообще с мамой?
***
Месяца три назад мама рассталась с Сергеем Ивановичем. Лита это поняла, когда обнаружила, что исчезла его зубная щетка. До этого он исправно ночевал у них два раза в неделю. Увидев, что щетки нет, Лита тогда вышла из ванной и радостно спросила:
– Сергей Иванович от нас свалил?
Мама сидела в кресле к ней спиной. Она обернулась. Лита увидела, что она плачет.
Вообще Лита этого не выносила. Когда ей было лет пять, она однажды назвала маму «дурой». Мама после этого кинулась на кровать и зарыдала. Большего ужаса Лита не помнила. Она зарыдала вместе с мамой, стала просить прощения… С тех пор не выносила этих взрослых слез.
После своего бестактного вопроса про Сергея Ивановича Лита только вздохнула и ушла обратно в ванную. А ночью ей приснилась плачущая мама. И тогда, во сне, она, Лита, почувствовала какую-то невероятную острую жалость. Она бросилась к маме, обняла ее, заплакала тоже и все говорила: «Мамочка...» Ничего этого уже давно Лита не делала – не называла маму мамочкой, не обнималась с ней и не плакала. А мама, посмотрев на нее во сне, сказала: «Мне так одиноко…»
А когда Лита проснулась, то обнаружила, что глаза у нее мокрые. Значит, во сне она плакала? Значит, она могла плакать во сне! И до утра это чувство жалости не уходило. Лита лежала и думала про маму – про то, что папа ее бросил, Сергей Иванович ушел, и Лита от нее далеко, хотя и в соседней комнате.
Потом все как-то смазалось их обычной жизнью. Но сон свой Лита помнила. И вспомнила его сегодня, совсем некстати.
Лита лежала, и мысли сами собой думались в ее голове. И потихоньку наваливалась на нее мрачная тоска. Потому что ей нужно было решить: выходить ей в открытый космос без скафандра или нет?
Часа через два она медленно встала и поплелась на кухню – чистить картошку. Она автоматически водила ножиком по картофелине, и вдруг среди этого мысленного хаоса, который часто предшествовал состоянию «дерево под снегом», она вспомнила взгляд Лесника, когда он говорил про землянику.
– А!!
Это ножик соскочил, и она порезалась.
Сунула руку по кран. Текущая вода всегда на нее удивительно действовала. Она смотрела на убегающую из-под крана воду и думала, что Фредди Крюгер – гений. Но в космос она полетит с Лесником.
В кухне вдруг зажужжала муха. Откуда она взялась? Хотя сегодня был теплый день... Наверное, залетела через открытую форточку вместе с уличной весной.
Лита сидела около помойного ведра с недочищенной картошкой. И слушала музыку мухи.
Она слушала и понимала, что поедет вместо Питера в Свердловск.
***
Потом муха устала, присела куда-то и замолкла. Лита выкинула картошку в ведро к очисткам, взяла телефон и набрала Федин номер.
Когда он ответил, она начала нести что-то несвязное – про Кларнетиста, про концерт. Про то, что она не знает, как у нее получится поехать в Питер. То есть не получится, наверное…
– Я не понял ничего, – наконец сказал Крюгер.
Тогда Лита зажмурила глаза и рассказала ему про Лесника. Про рак, про то, что он уезжает. И что она уедет с ним.
Он выслушал все молча. И продолжал молчать, когда она закончила. Лите показалось, что от напряжения у нее сейчас лопнет голова.
Наконец он сказал:
– Я знал, что рано или поздно появится какой-нибудь Петя. Или Саша. И ты пошлешь все в п-ду… – Потом после паузы добавил: – Вперед, Лита. Тебе пойдет быть женой декабриста.
И повесил трубку.
Даже тут он угадал. Лита не говорила ему, что Лесника зовут Саша.
Ночью она почти не спала. Утром проснулась от крика ворон. Крик ворон – это воплощенная в звуке тоска.
***
На следующий день прямо с утра она пришла к Леснику. Села в прихожей и, не раздеваясь, спросила:
– У тебя выпить есть?
Он с тревогой на нее посмотрел. Потом сказал:
– Да, у меня есть одна бутылка. Со мной расплатились недавно за чертеж. Какой-то крутой коньяк. Пойдет?
– Пойдет.
Тетя была дома. Похоже, она смирилась с Литиными появлениями в своей квартире. По крайней мере, поздоровалась и больше ничего не сказала.
Они закрылись у Лесника в комнате и стали пить этот коньяк. Прямо с утра. Вернее, пила в основном Лита. Она пила и говорила, не останавливаясь.
Он слушал и не спрашивал, что случилось.
Лита говорила про Фредди Крюгера. Рассказывала всякие истории про Кларнетиста. Про Егорку. Про то, как они однажды почти подрались с Федей, когда репетировали. Как после первого квартирника она не могла спать двое суток. И даже про Фединых девиц.
Ей надо было все это рассказать. Она фонтанировала, как проснувшийся вулкан.
Сначала он слушал легко. Даже что-то уточнял. Даже пытался шутить. Говорил, что коньяк ей идет. Потом постепенно стала находить на него какая-то печальная медленная тень. Он замолчал, но слушал внимательно и жадно. Иногда в глазах у него застревал вопрос – но он молчал.
– Мне кажется, – сказала вдруг Лита, – что есть какой-то колодец, и там вода – оттуда, – она показала наверх. – Если удается из него зачерпнуть, это сразу понятно. Это ни с чем не спутаешь. То, что делает Фред – оттуда. Я это знаю…
После этого он наконец спросил:
– Почему ты говоришь так, будто это уже в прошлом?
Лита уставилась на него. Самого-то главного она ему и не сообщила!
– А, – сказала она как можно спокойнее, – ты знаешь, да, что я еду с тобой?
После этого она в первый раз увидела, как люди бледнеют прямо на глазах.
– Что? – наконец произнес он. – Что это ты такое придумала? Как это?
– Обыкновенно, на поезде. Твоей тете ведь не сложно достать мне билет?
Он посмотрел на нее, потом встал, прошел по комнате, сел обратно. Лита наблюдала за ним, не отрываясь.
Наконец она рассмеялась.
– Думаешь, это пьяный бред? Нет, я не настолько пьяная. Я вчера решила. Я решила, – повторила она серьезно. – Из школы меня все равно выгонят. И так и так. Я не смогу все это сдать...
Он молчал.
– Я могу жить на вокзале, – обреченно добавила она. – И не из чувства долга…
Он смотрел на нее и молчал.
Она тоже замолчала и стала глядеть через горлышко бутылки на коньяк. Потом произнесла с горечью:
– Ты мне не веришь? Ну, имеешь право… Ты, наверное, боишься, что через месяц мне все надоест и я тебя брошу, да?
Он не ответил.
– Конечно, – Лита поставила с грохотом бутылку на стол, встала, подошла к кульману и стала смотреть на чертеж. Чертеж – это ведь не рисунок. Кажется, тут все строго и без эмоций… – Конечно, ты же никому не веришь… Даже мне. Ну и дурак.
Она отвернулась от чертежа, достала из сумки учебник по истории, села обратно за стол, открыла учебник и стала яростно его читать. Через минуту подняла голову и сказала:
– Я хочу курить.
Он подошел к окну – оно было еще заклеено на зиму. Постоял перед ним несколько секунд, потом поднял шпингалет и дернул створки. Высохшая за зиму бумага с треском разорвалась. С подоконника на пол посыпались какие-то книжки. В комнату тут же влились весна и холод.
– Кури, – сказал он.
Лита подошла, закуривая. Прямо напротив окна были деревья – еще спящие, но уже размороженные.
Он стоял рядом. Лита посмотрела на него. Такого лица у него она никогда не видела. Там было полное смятение.
– Вообще, – наконец произнес он, – я еду в никуда.
– Отлично, – отозвалась Лита. – Значит, мы вместе едем в никуда. Я никогда не была в никуда.
– А… школа?
– Что-нибудь придумаем. Я поговорю с Зинкой. У нас же есть несколько дней? Что-нибудь придумаем.
– А... – он хотел еще что-то сказать, но закашлялся. У него начался какой-то просто приступ. Он отошел к другому краю окна и, не переставая кашлять, облокотился на подоконник.
Лита молчала.
Наконец он на короткое время остановился, обернулся к Лите, неожиданно рассмеялся и с трудом выговорил:
– Только без жертв, ладно?
Лита очнулась и кинулась к нему.
– Дурак ты, Лесник.
***
Потом они сидели на подоконнике, свесив ноги наружу, на улицу. Это, конечно, была Литина идея. Он держал ее – все-таки она выпила чуть ли не полбутылки коньяку.
– Ты же не сможешь без всего этого. Без музыки. Без этих людей. Ты загнешься.
– Посмотрим.
– Мне кажется, что ты разбиваешь что-то... Скидываешь вон туда, вниз.
Внизу была пропасть из шести этажей.
– Знаешь, – сказала Лита, зажигая одну за другой спички и глядя, как они чернеют, сгорая, – тоска – это такой вид страха. Но почему-то сейчас я не боюсь.
Это была правда. Тоска исчезла. Смятения, сомнения и вопросов не было. Все мучительные мысли, которые она думала всю ночь, растворились.
Может быть, это и есть свобода? Или это просто коньяк?
Хорошо, пусть коньяк. Не важно. У нее было острое и мощное ощущение человека, который много лет рыл подземный ход – и наконец вышел на свободу. Эта свобода – ее. Она до нее дорыла. Она может делать все что хочет. Невероятная свобода.
– Это время вошло в меня, – сказала Лита, кладя голову ему на плечо. – Я его съела, не успев прожевать как следует. Но я не забуду его никогда.
***
На следующий день, встав в какую-то рань, Лита надела мамину юбку, подвязав ее веревочкой, – у самой Литы не нашлось приличной юбки – и поехала к Леснику. Она очень боялась опоздать.
Он ждал ее в прихожей уже одетый. Взял с собой палку, на которую опирался. Они поплелись в храм.
Идти ему было очень тяжело, это Лита поняла сразу. Почему-то даже от медленной ходьбы он задыхался.
А нужно сначала было дойти до троллейбуса, потом проехать три остановки, потом еще сколько-то пройти пешком.
Началось с того, что троллейбуса не было и не было. Электричество, что ли, все в Москве кончилось? Хотя неудивительно – воскресенье, раннее утро. Можно было бы поймать машину – но у них не было денег.
Наконец троллейбус приполз.
Путь от троллейбуса до храма оказался вообще невыносимым. Это было покорение Эвереста.
Он почти не мог идти. У него не было сил. Ему не хватало воздуха. До Литы начало доходить, насколько все серьезно. Он садился на все лавочки по дороге. Сидел, потом они шли до другой лавочки. Когда не было лавочки, он садился то на ступеньки, то на заборчик. Лита пыталась как-то разрядить обстановку, шутила и говорила всякие глупости. На самом деле ей было не по себе. Главное, они уже ушли далеко от дома, и теперь ни туда, ни сюда. Он молчал, на шутки и глупости не реагировал.
В очередной раз сев на лавочку и опустив голову на палку, он сказал:
– Все, мы уже опоздали.
Когда, наконец, оставалось уже чуть-чуть, только перейти дорогу, и они ждали зеленый свет на светофоре, Лесник вдруг быстро сказал: «Только не пугайся…» – и стал падать. Лита вцепилась в него и заорала на всю улицу:
– Помогите!
Хорошо, какой-то мужик оказался поблизости. Они посадили Лесника на лавочку на автобусной остановке, он почти сразу пришел в себя. От скорой отказался.
Наконец они вошли, скорее вползли, в храм.
Там что-то происходило.
Он сел на скамейку в конце храма и с трудом сказал Лите:
– Спроси, где тут исповедь. И про Причастие.
Лита обратилась к какой-то женщине:
– Скажите, а чтобы причаститься…
– Так это исповедоваться надо.
– А где?
– Так вы опоздали. Сейчас «Отче наш» будет.
Лита посмотрела на Лесника. Он сидел, бессильно прислонившись головой к стене. Она испугалась, что он сейчас потеряет сознание, села рядом с ним, не зная, что теперь делать. Впереди что-то происходило, пели, кто-то ходил мимо.
– Вот, Причастие уже, – сказала женщина, обращаясь к Лите. – Чашу вынесли.
Лита встала, походила по храму, посмотрела на выстроившуюся очередь.
– Не уходи никуда, – наконец сказала она Леснику. Он сидел с закрытыми глазами, серый как стена. Похоже, он не смог бы никуда уйти, даже если бы очень захотел.
Она подошла и встала в конец очереди. Подвязанная юбка сползла, Лита периодически ее подтягивала руками, медленно приближаясь к священнику с чашей. Наконец подошла ее очередь.
– Вы исповедовались? – спросил ее священник.
Никого до этого не спрашивал! Конечно, у нее платок сполз, юбка на сторону, видок еще тот.
– Я – нет. Но я не сама, – заговорила Лита быстро. – Просто там мой друг. Он болеет. Он уезжает на Урал в больницу. Мы опоздали, потому что он не мог идти. Ему стало плохо по дороге. Он хочет причаститься. Ему очень плохо…
Повисла пауза. Наконец священник спросил:
– Где он?
– Там.
Священник развернулся с чашей, отнес ее в алтарь и вышел. Весь храм смотрел на них, Лита это чувствовала. Хор перестал петь. Народу, кстати, было немало. Лита пошла к Леснику через толпу, священник в развевающихся одеждах шел за ней.
Лесник сидел там же. Вид у него был, как будто он уже умер.
– Вот, – сказала Лита.
Надо было видеть лицо Лесника, когда он открыл глаза и увидел всю эту картину.
– Вы хотели причаститься? – спросил священник.
– Да, – сказал ошалевший Лесник и стал медленно вставать, опираясь на палку и подоконник.
– Вы готовились?
Лесник что-то ответил.
– Исповедуйтесь, – сказал священник. Потом обернулся к хору: – Хор, пойте стихиры.
Хор начал что-то петь, Лесник – что-то говорить. Говорил он недолго. Священник накрыл его, прочитал молитву.
– Помогите подойти ему к Причастию.
– Я сам, – сказал Лесник и пошел вперед, опираясь на палку. Лицо у него было… наверное, почти как у Моисея, когда тот смотрел на Землю обетованную.
Лита была счастлива.
После службы их отвез домой на машине какой-то человек из храма. Всю обратную дорогу Лесник молчал.
Потом они сидели перед подъездом на лавочке. Солнце грело почти по-настоящему. Лита смотрела на солнце через голые ветки.
– Как все-таки красиво устроено дерево, – наконец сказала она.
– Знаешь, что мне сказал этот священник? – произнес Лесник. – Он сказал, что мне нужно простить своего отца.
***
Во второй половине дня Леснику явно стало лучше. Тетя куда-то ушла, а Лита решила проявить хозяйственность и пошла на кухню чистить картошку. Лесник в это время решал ее уравнения по алгебре. Лита чистила картошку и думала, как будет жить с ним на Урале. Там будет он. Остальное как-нибудь. Лучше, конечно, не думать про остальное. А вообще – вот, она же умеет жарить картошку… Они не пропадут.
Зазвонил телефон. Через пять минут он вошел в кухню и, сияя, сказал:
– Все отложилось. Я уезжаю не в эту пятницу, а в следующую – этот врач заболел. Ура!
– И-и-е-ес!!! – закричала Лита, бросаясь к нему с ножом.
– Только не зарежь меня раньше времени...
– Подожди, – Лита сделала шаг назад, – но ведь это плохо. Так бы ты уже начал лечиться по-нормальному.
– Да плевать. Неделя ничего не решит.
Он очень ошибался.
Глава 14
***
На следующий день она привезла ему свою детскую коллекцию разноцветных стеклышек. И еще гитару. Потому что он попросил ее об этом.
В общем, это был праздник. Они смотрели на все через разноцветные стеклышки. Лита пела ему то, что должна была петь в воскресенье в Питере. В какой-то момент он снова стал очень печальным. На что Лита сказала:
– Ничего, еverything is gonna be all right2 .
Потом они орали под гитару вместе все, что знал Лесник и что громко поется. Вечером он вдруг сказал:
– Может быть, мне мерещится – но я нормально себя чувствую. Может быть, я уже выздоровел?
***
Потом было три дня, перевязанных золотой ленточкой. Ему правда стало немножко лучше.
За эти несколько дней Лита наконец увидела Лесника настоящего. Очень неровного, но очень близкого. Трогательного, но сбитого с ног. С ним было тепло – не всегда, не все время, но того, что было, было достаточно.
Они много говорили. Садились на кухне друг напротив друга и разговаривали. Обо всем – о детстве, фильмах, школе, математике, людях, животных, любви, болезни. Друг о друге.
Иногда он проваливался в какие-то свои мысли. Смотрел в себя – что-то там его мучило. Однажды Лита не выдержала и рассказала ему про сына дворничихи. Он выслушал очень внимательно, потом рассмеялся и сказал:
– Это просто дурацкая привычка... Дурацкая привычка страдать.
Часто они говорили о всякой ерунде и даже смеялись. Даже много смеялись. Один раз хохотали из-за какой-то глупости до слез.
В тот день, когда тетя пришла с работы, Лита не ушла сразу, как делала это обычно, а осталась пить чай. Лесник был веселый, всех смешил.
– Боже мой, – сказала тетя, глядя на них. – Какой-то пир во время чумы. Как будто мозгов у них вообще нет.
Это тоже было смешно. Какие еще мозги?
***
Лита пыталась сдавать «хвосты». Зубрила по дороге от Лесника историю. Поздно вечером дома пробовала читать физику. Но все это было тщетно. Вместо физики, глядя в окно, она продолжала разговаривать с Лесником.
Днем они занимались алгеброй и геометрией. Лесник что-то терпеливо объяснял, Лита раскачивалась на стуле, рискуя разломать им всю мебель, и почти ничего не понимала. Периодически он и сам зависал над какой-нибудь задачей. Лита это очень любила – можно было смотреть на него и не думать про математику.
Иногда она сама решала какие-то уравнения, просила его проверить. Он садился рядом, смотрел, потом говорил:
– Нет, у тебя тут ошибка…
– Где?!
– Здесь, – говорил он и тихо целовал ее волосы. Лита швыряла ручку, поворачивалась к нему. Они целовались, и вся алгебра шла лесом.
***
Но Лита уходила – он ложился и смотрел в одну точку. На ночь жизнь останавливалась. На следующий день она приходила оттуда, где была весна, и снова приносила жизнь с собой. В прихожей ее встречал сын дворничихи. Лите иногда казалось, что он так и ждал ее в этой прихожей. Потом он снова становился Лесником.
Однажды он сказал:
– Ты очень живая. Ты живешь сейчас. А у меня еще в интернате было ощущение, что меня нет. Меня тут нет. Я не знаю, где я.
– Нет, ты есть. Я тебя вижу очень хорошо.
Она приходила, начинала болтать, что-нибудь рассказывать – что-нибудь, что только что видела. Например, про ребенка, который упал в лужу и был очень доволен, шлепал рукой по воде, а его бабушка этого не видела – стояла, отвернувшись и болтая с другой бабушкой…
Она знала, что приносит жизнь. Она держала его обеими руками в этом потоке жизни, но - она видела – он все равно выпадал из него. Ей казалось, что он – то дерево в лесу, которому маленький мальчик ходил молиться о своем папе. Дерево почти сломалось. Лита его поднимала каждый день и держала. А когда отпускала – оно снова падало.
Иногда ей казалось, что он ее обнимает и отталкивает одновременно. Такие были качели.
Но если случалось, что ее тоска вдруг выходила из-за угла, он это считывал. И тогда они менялись местами. Он общался с ней так, что ее отпускало. У него был запас тепла. Может быть, внутри у него был вулкан?
***
Случайно Лита обнаружила, что тайком от нее он пил сильные обезболивающие таблетки.
– Что у тебя болит?
– Спина.
– Сильно?
Глупо было спрашивать, раз он пил трамал.
Еще иногда он заводил разговоры о смерти. Как будто примеривался к теме. По чуть-чуть, осторожно. Лита не могла это слушать. В какой-то момент он вдруг сказал:
– Думаешь, если не говорить и не думать об этом, все само собой устаканится?
***
Часто у нее было ощущение, что они оказались вдвоем на необитаемом острове. Все мосты сгорели с какой-то невероятной скоростью, Лита даже испугаться не успела. Предыдущие полгода она летала – сейчас спустилась на землю. Честно – тут было лучше. Но тут надо было ходить, а временами это было больно.
Почти каждую ночь ей снилось, что она поет с Крюгером. Но днем она ничего не могла вспомнить. Днем был только Лесник.
***
В четверг тетя была весь день дома, они сидели в комнате Лесника. Лита училась, Лесник чертил. Часов в семь вечера, когда тетя ушла, он вдруг сказал, что тетя сегодня работает в ночь.
– Да? И я остаюсь? – спросила Лита почти равнодушно, но внутри у нее все как-то затрепетало.
Он посмотрел, как голодный, которого дразнят едой, и сказал:
– Как хочешь.
***
Через час Лита позвонила домой.
– Не приедешь? – спросила мама. – Ну ладно. Ты хотя бы не голодная?
Такое Лита слышала в первый раз.
– Офигеть, – выговорила она, кладя трубку. – Может, она и на мой отъезд так же прореагирует? «Ну хорошо, дорогая. Ты хотя бы не голодная?»
После разговора с мамой Лита села писать сочинение, которое должна была завтра утром сдать. Лесник чертил. Лита писала, ругаясь вслух на ту чушь, которая у нее получалась. Потом положила голову на учебники и задремала.
Он разбудил ее.
– Ложись на кровать.
Она послушно, не раздеваясь, переместилась на кровать. Легла специально к стеночке. Она не ошиблась, он лег рядом.
Сквозь сон она потянулась к нему, обвила руками, почувствовала, как он жадно обнимает ее в ответ. Сердце у нее заколотилось, хотя она и делала вид, что спит. Вдруг он как будто замер, осторожно освободился от ее рук, отстранился, поцеловал ее куда-то в лоб и встал.
Лита открыла глаза – он стоял и смотрел в окно.
– Что? – спросила она, хотя поняла уже, что кино не будет.
Он, конечно, молчал. Вообще он вполне мог бы быть разведчиком. Разведчик на допросе.
– Детям до восемнадцати вход воспрещен? – наконец спросила Лита.
Он вернулся, сел с ней рядом. Нащупал в темноте ее руку.
– Лесник, – сказала Лита, – я этого хочу.
– Лита, молчи.
Рука у него была горяченная.
– Почему? – спросила она с отчаянием.
Он не ответил.
– Почему нет? – уже грозно произнесла Лита, выдергивая руку.
– Потому что…
– Ну?!
– Потому что я не могу брать то, что мне не принадлежит, – вдруг сказал он.
– Что? – Лита села. – Можно без философии?
Он молчал.
– А кому это «то», по-твоему, принадлежит? – наконец спросила бедная Лита.
Он медленно встал, опять подошел к окну.
– Мне кажется, – сказал он глухо, – что я не выздоровлю… Поэтому не мне… Все.
Он включил свет, подошел к кульману и стал чертить.
Призрак смерти стоял перед ним. Маячил с шестнадцати лет. А месяц назад возник резко и очень близко, уже не прячась. Этот призрак не давал ему жить.
***
Лита сидела, думая, что ей делать. Запустить в него чем-нибудь тяжелым? Встать и уйти? Заплакать?
Она молча легла, отвернулась к стенке и накрылась с головой. Папа в Литином детстве иногда говорил: «Нельзя, но если очень хочется, то можно». Это был его тайный метод воспитания. Эта фраза приводила Литу в восторг. Сейчас получалось как-то наоборот. Можно. И очень хочется. Но почему-то нельзя.
В конце концов она все-таки заснула.
***
Она проснулась, когда было еще темно. Горела настольная лампа, и Лесник, сидя перед кульманом, чертил. Он так и не ложился. Лита лежала и смотрела, как он сосредоточенно чертит свои линии.
– Привет, – наконец сказала она.
Он оторвался от чертежа.
– Привет… Представляешь, там пошел снег.
– Да?
Она встала, отодвинула штору. Снег в свете фонарей валил, как зимой.
Он подошел, встал рядом.
– Я хотел бы, чтобы всегда было так, – вдруг сказал он, не отрываясь от снега. – Чтобы ты всегда спала тут.
– Да? Что же этому мешает?
– Что? Да так, ничего... – он горько усмехнулся.
– Ладно, мне надо в школу.
И она быстро ушла в ванную. Стояла там под горячим душем, хотя ее все равно почему-то знобило.
Она поняла, что он не верил до конца, что кому-то нужен.
На самом деле это катастрофа.
Но он же сам только что сказал, что хочет, чтобы она всегда спала тут.
И полететь – это очень просто. Надо просто полететь.
Лита так долго стояла под душем, что он спросил под дверью с тревогой:
–– У тебя все нормально?
–– Да, а что?
–– Просто тебя уже целый час нет.
–– Да? А я тут думаю.
–– Слушай, думай лучше снаружи.
–– Хорошо…
Через минуту она вышла из ванной, не одеваясь, босиком, и вошла в комнату.
Лесник искал что-то в ящике стола. Потом поднял голову и застыл.
–– Ты можешь считать, что я сошла с ума, – сказала Лита. – Я знаю, что ты не пойдешь на это первый. Потому что ты что-то там себе… решил.
Вообще вот так заявиться – это было очень по-Литиному. Вот так встать перед кульманом в умопомрачительном и беззащитном виде. И плевать на всю его философию.
Он стоял, не двигаясь, глядя на нее, и в глазах у него было такое, что нельзя назвать никакими словами, потому что любое слово тут будет пошлостью.
Она медленно подошла к нему. Когда осталось три шага, она остановилась.
Эти последние несколько шагов он сделал к ней сам.
Через две минуты раздался звук закрывающейся входной двери и тетин голос закричал:
– Саша, это я. Ты не спишь? Я пораньше приехала!..
***
Лита уехала, умудрившись быстро и как будто незаметно одеться. Но тетя, похоже, все равно все поняла. Лита с ней быстро поздоровалась, сказала, что заехала на минутку. И сбежала. Хотя он говорил с отчаянием:
– Не уходи, пожалуйста…
Она не помнила, как доехала домой. Приехала, легла под одеяло и провалилась в сон.
Он оборвал ей весь телефон. Она не подходила.
Вечером он поймал машину и приехал сам.
Дверь открыла мама. Там стоял худой и мокрый молодой человек – на улице вместо снега теперь шел дождина. Он, держась за стеночку, спросил Литу. Мама предложила ему войти – он отказался.
Через какое-то время вышла Лита. Она была тихая, бледная и убитая. Почему-то в черном, и волосы у нее были убраны в пучок – он никогда ее такой не видел. Казалось, что она, не став еще женой, сразу стала вдовой.
Они молча сели прямо на ступеньки.
– Вот это был оплот, да? – наконец сказала Лита и рассмеялась. Потом провела рукой по его мокрым волосам. – Прекрасный мокрый принц.
Он с трудом, но улыбнулся в ответ:
– Я думаю – может, это мне в очередной раз приснилось?
Лите показалось, что он еле говорит.
– В очередной раз?
– Конечно… Это хотя бы был не сон?
– Как ты умудрился доехать?
– Поймал машину.
– Тебе плохо?
– Не важно.
Он помолчал чуть-чуть, потом спросил:
– Ты правда поедешь со мной в Свердловск?
– Когда ты мне уже поверишь?!
– Ну, ты понимаешь, что это сумасшествие?
– Нет.
– Знаешь, если через две недели - или через три дня - ты передумаешь и уедешь обратно, это будет правильно.
– Хорошо, договорились.
Из двери высунулась на лестничную клетку мама.
– Молодые люди, вы с ума сошли? – воскликнула она.
– Да, – ответила Лита.
– Зайдите в квартиру, пожалуйста…
– Сейчас.
– Дурдом, – сказала мама, ныряя обратно.
Но они не пошли в квартиру. Так и сидели на лестнице. Лита поняла, что Леснику снова плохо. И что эта ее утренняя идея была совершенно безумной.
Когда стало совсем поздно, Лита поехала провожать его домой.
***
То ли все эти потрясения так на нее подействовали, то ли дождь и ледяные лужи, в которых Лита промокла, когда, проводив Лесника, добиралась домой, – ночью у нее поднялась температура. Одновременно в ту же ночь Леснику стало стремительно плохо. Как будто его организм снялся с предохранителя.
А между тем до отъезда оставалось всего несколько дней.
***
Четыре дня они не виделись. Лита все порывалась встать и поехать к нему. Каждый день начинался с того, что она одевалась, доходила до двери – и возвращалась, падая на кровать. Температура не спадала. Сил у нее хватало только на то, чтобы мучительно скучать и рваться к нему. Еще можно было говорить по телефону. Но одного голоса было слишком мало.
Зато когда она засыпала, те две минуты, так бесцеремонно прерванные заявившейся пораньше тетей, длились и длились.
***
В остальное время она валялась в полусне и пыталась что-то решить с отъездом. Обрывочно думала о том, что нужно было как-то сообщить обо всем маме. Что-то сказать в школе. Взять хотя бы свой аттестат за восьмой класс… Нужно было попрощаться с Манькой. И со всеми. И с Крюгером. Это особенно мучило Литу.
Но она была рада, что ей сейчас плохо. Во-первых, так она хоть чуть-чуть была как он. Во-вторых, это было оправданием ее бездействия. В-третьих, это немножко смягчало странное чувство, которое все-таки иногда накатывало, – там, впереди, в этом Свердловске, маячила тошнотворная неизвестность.
Глава 15
***
На пятое утро Лита проснулась и поняла, что ей гораздо лучше. Температуры не было. Это был последний день каникул, в который она просто обязана была что-то досдать и поговорить с Зинкой.
В восемь утра ей позвонил Лесник.
– У тети умерла ее лучшая подруга, – сказал он. – Она сейчас уезжает в Белгород на два дня. Ты можешь ко мне приехать?
– Конечно!
Лита помчалась.
Дверь была не заперта. Он еще по телефону ей сказал: дверь будет открыта, не звони.
Он лежал в постели. Она не видела его четыре дня. Всего четыре дня. За это время с ним что-то произошло. Она так и знала, что нельзя было его оставлять!
– Ты хочешь есть? – спросил он. – Там тетя что-то оставила.
– А ты?
– Я – нет.
Рядом с ним на тумбочке валялась ополовиненная упаковка трамала.
– Опять спина? – спросила Лита.
– Да.
Он как-то осунулся. Но больше всего Литу испугал его взгляд. Это был взгляд очень страдающего человека, который сосредоточен на своей боли.
– И что делать?
– Ничего. Подождать три дня. Надеюсь, этот свердловский врач поможет.
Лита подавила очередной надвигающийся приступ ощущения, что жизнь кончилась, и бодро сказала:
– Я все-таки решила что-то сдать до отъезда. Так что у меня до фига уроков. Вот, буду ботанеть.
Она села и стала пытаться учиться. Он лежал и молчал. Кашлял и тяжело дышал. Вздыхал, с трудом поворачивался и молчал. Это было невыносимо. Лита физически ощущала, что он страдает, страдает сильно. Похоже, он сдерживается из-за нее. Ему было очень плохо, это было очевидно.
– Я тут понял, – наконец сказал он, – что уже несколько дней мне как-то хуже, чем раньше.
– У тебя по-прежнему нет термометра?
– Есть, тетя купила.
– Давай померяем температуру?
– Я мерил утром.
– И что?
– Тридцать семь и восемь. Слушай, всего три дня подождать… Я поговорил с тетей. Она достанет тебе билет. И Юльке все сказал. Она рада, что ты приедешь… Лита, поешь, там должна быть какая-то еда.
– Только с тобой.
– Я не могу…
Потом он отвернулся к стене и больше ничего не говорил. За два часа не сказал ни слова.
Лита сделала уже всю алгебру, химию, в физике ничего не поняла и захлопнула учебник.
– Лесник, мне нужно отъехать на два часа. Сдать, наконец, это сочинение. И контрольную написать. Будь проклята эта учеба.
– Конечно, езжай, – сказал он, не поворачиваясь.
Ей показалось, что он даже обрадовался, что останется один.
– Я быстро. Хорошо?
– Конечно.
С тяжелым сердцем она уехала. Писала контрольную вместе с двоечником Ларькиным. Между логарифмами и функциями у нее стоял уходящий в себя взгляд Лесника.
Заглянула Зинка.
– Ну что, Литовченко? Сдаешь свои хвосты?
– Все хорошо, Зинаида Петровна.
Надо было что-то сказать про отъезд. Спросить, что делать. Считать, что она ушла после восьмого класса? Все, два последних школьных года прошли зря?
– Молодец, – Зинка исчезла.
Ладно, потом.
Когда Литу наконец отпустили, она бегом кинулась обратно к Леснику.
***
Он мотался по кровати туда-сюда и тихо стонал. Лицо у него стало бледно-серым, волосы мокрые, взгляд какой-то невнятный. В руке он сжимал острую и жесткую пустую упаковку от трамала. Вторая пачка валялась начатая.
– Господи, – Лите стало страшнее, чем утром.
– Есть еще какие-то таблетки? Эти не действуют, – сказал он.
Трамал не действует?
–– Саш, – Лита села рядом, – давай вызовем скорую.
–– Не надо.
–– Почему?
–– Она заберет меня в больницу. А мне нужно уезжать.
Господи, куда же уезжать в таком состоянии… Больше суток в поезде.
Он вдруг сжал ее руку и сказал сиплым каким-то голосом:
– Если так будет дальше, я сойду с ума.
– Лесник, – Лита перевела дух, – нужно отказаться от этой идиотской идеи ехать в Свердловск. И ложиться в больницу тут.
Он сначала не отвечал. Лите даже казалось, что он ее не слышит.
Наконец он выговорил:
– Я не могу ничего решить.
Потом добавил тихо:
– Я даже до туалета не могу дойти… Я ничего не могу…
– Я тебе принесу сейчас банку, – ответила Лита. – И не вздумай меня стесняться. Понял?
***
К вечеру взгляд у него стал невыносимым.
Лита ходила туда-сюда по кухне и повторяла вслух:
– Господи, мы все идиоты, мы – идиоты…
Ведь она должна была в какой-то момент посмотреть на все открытыми глазами. И эта идея – не лечиться здесь, а ждать врача на Урале – это идиотская безумная идея. Все они – он, она, тетя – идиоты. И вот они дождались… Его недавнее улучшение было просто оттепелью, которая кончилась. Когда Лита все это поняла, у нее началась паника. Как же ей снова захотелось стать деревом… Но деревом сейчас был Лесник. Два дерева – это уже слишком.
Она вернулась к нему.
– Иди спать в тетину комнату, – сказал он, не глядя на нее.
– Конечно. Ты будешь мучиться, а я спать.
– Иди, – снова сказал он, – иди спать, пожалуйста.
Лита поняла, что ему легче, когда он один.
– Хорошо. Я пойду. Но ты меня зови, если что.
Она ушла в другую комнату, села там на стул. Выдержала пять минут. Вернулась к нему.
Он метался в кровати – и плакал.
Лита молча села рядом. Он сказал только:
– Когда мне станет совсем плохо, ты будешь со мной?
***
Лита думала, что утро никогда не наступит. В шесть часов она позвонила Маньке. Та посоветовала дать взятку врачу и просить направление в лучшую онкологическую больницу Москвы.
Но до врача Лита должна была взять у мамы какое-то сильное обезболивающее. И встретиться с папой, чтобы попросить у него деньги «на репетитора». На самом деле на взятку.
Лита позвонила домой. Мамы не было, хотя она в это время обычно еще не уходила на работу.
Господи, мама совсем загуляла…
***
Оставив Лесника, перед отъездом умоляя его потерпеть и подождать, Лита рванула домой.
Дома на видном месте лежала записка: «Я у Бориса» – и был написан телефон.
У кого?
Лита набрала номер. Бодрый мужской голос ответил:
– Халло?
Лита попросила маму, сбивчиво стала ей что-то объяснять. Мама что-то параллельно объясняла этому «халло». Потом вдруг он взял трубку:
– Лидия! Вы можете подъехать к нам? Запишите адрес.
Слава Богу, это было в центре. Лита помчалась туда. Дверь ей открыл какой-то седовласый мачо.
– Заходите, заходите, очень рады вас видеть.
Вышла мама. Она была испуганная и смущенная.
– Что случилось?!
Они сели на кухне за стол. Лите пришлось вкратце все рассказать. Про Лесника. Про то, что у него очень сильно болит спина.
–– Это метастазы, наверное, – сказала мама, глядя то на Литу, то на мачо. Тот хранил дипломатическое молчание.
– Метастазы – это очень серьезно, – продолжала мама каким-то не своим голосом. – Боль может быть запредельной. Больнее, чем ломать кости. И позвоночник, кстати, может ломаться. И паралич может быть…
– Хватит уже, – умоляющим голосом перебила ее Лита. – Дай мне лучше какое-нибудь сильное обезболивающее.
Мама стала думать.
– Есть в ампулах. У меня сегодня отгул – но я могу позвонить Вале. Она даст. И шприцы одноразовые возьми у нее. Укол надо в вену делать…
– Сделаю как-нибудь.
– И вообще, – мама стала говорить как заведенная, по нарастающей. – В больницу надо. А что вообще Екатерина Георгиевна? И почему ты этим всем занимаешься? – она вдруг уставилась на Литу. – И почему ты вообще не в школе?!
– Мам, – Лита взглянула на мачо. Он понимал, с кем имеет дело? – Все хорошо.
Она уже ерзала. Она думала про Лесника, как он там один.
И когда она уже почти вскочила и побежала, мачо вдруг многозначительно посмотрел на Литу и произнес:
– Лида, я вас задержу еще буквально на одну минуту. Понимаете… Лидочка, я сделал вашей маме предложение. И она согласилась.
Лита онемела. Она ошарашенно смотрела на свою маму и на этого странного человека. Мама смотрела в стол. Мачо, сияя, смотрел на Литу.
Лесник сходил с ума от боли. Лита сходила с ума вместе с ним. А тут, оказывается, мама нашла свое женское счастье. Блин, как все вовремя!
– Поздравляю, – выдавила она. – Я пойду?
***
Потом она встречалась с папой. Врала ему нагло про физфак. «Я все-таки решила попробовать поступать, да». Было очень противно. Но денег на репетитора он ей дал.
***
С лекарством, шприцами и деньгами Лита вернулась к Леснику. Когда она его увидела, она забыла и про папу, и про маму.
Он лежал на полу.
– Не пугайся, – сказал он, – я упал с кровати. Я не могу встать. И на полу чуть-чуть легче. Не пугайся… Я полежу пока так.
Он лежал на холодном полу, где дуло, и не мог встать. И некому было его поднять. И даже накрыть одеялом. Апофеоз бессилия.
Лицо у него было серым, глаза ввалились. Его сильно знобило. Она взяла одеяло и подушку, накрыла его на полу.
– Сейчас, Лесник, сейчас…
Лита снова набрала Маньку.
– Мань, рассказывай, как делать укол в вену. Сейчас, Лесник, сейчас, – приговаривала она, сидя рядом с ним на полу, зажав ухом телефонную трубку, судорожно распаковывая шприц, вскрывая ампулу, набирая в шприц лекарство. – Господи, помоги мне!
Лита до ужаса боялась делать уколы. Тем более в вену. К тому же у Лесника были очень плохие вены, исколотые капельницами после недавней операции. Надо было попасть куда надо.
– Манька, – сказала Лита с тихой истерикой. – Я боюсь все испортить. Я боюсь не попасть.
– Спокойно, – ответила Маня, которая сегодня-завтра должна была отправиться в роддом. – Расслабься и не психуй. Находишь вену – и как будто вдеваешь нитку в иголку. В иголку с толстым ушком. Это просто иголка с ниткой, – говорила Маня голосом сфинкса.
– Момо, – вдруг сказал Лесник, – давай, Момо.
Она нашла-таки одну вену, собрала всю свою волю…
Потом положила его горяченную голову себе на колени и сидела так с ним. Похоже, у нее получилось попасть куда надо, потому что минут через пятнадцать она почувствовала, что его отпускает потихонечку. Он и сам стал говорить заплетающимся языком, что ему легче.
С трудом она помогла ему перелечь на кровать. Измученный почти сутками боли, он заснул. Она в оцепенении сидела рядом. Мамины слова про метастазы не шли у нее из головы.
***
Потом зазвонил телефон – это Манька узнала адрес онкологического диспансера, куда был прикреплен Лесник. Лита потащилась добывать направление в больницу.
Она отсидела длиннющую очередь, но врач не хотела ничего понимать.
– Как я дам направление? Я должна его посмотреть.
– Понимаете, ему очень плохо, – собрав все чувства и засунув их куда подальше, говорила Лита.
– А вы, собственно, кто?
– Я – его сестра, – не моргнув глазом, отвечала Лита. – Но вот же выписка из больницы. Вот результаты анализов, биопсии. Что еще нужно?
– Я понимаю, – отвечала врач, – но я так просто не могу дать направление. Я должна его посмотреть.
Лита не знала, как давать эту проклятую взятку! Она не думала об этом ни разу в жизни.
– Ну так придите и посмотрите.
– У меня прием. Я не хожу каждый день по домам. У меня для этого есть определенное время.
– Но ему плохо! Он не сможет сидеть у вас тут в очереди.
– Пройдете без очереди.
Елки, надо что-то такое специальное сказать…
– Вызывайте скорую, если что.
– Но нам нужно направление в больницу!
– Девушка, – наконец раздраженно сказала врач, – вы меня задерживаете. Меня больные ждут. Я вам уже все сказала.
И тут Лита вспомнила наконец слышанную где-то – в кино? – фразу: «Может быть, мы как-нибудь договоримся?» Договариваться было чем – в сумке у Литы лежала, наверное, треть месячной зарплаты этой врачихи.
– Может быть, мы как-то договоримся? – дрожащим голосом спросила Лита и вынула завернутые в тетрадный листок деньги.
Через десять минут она в полном шоке, но с направлением, бежала к Леснику.
Он спал и стонал во сне. Через несколько часов все началось по новой, лекарство перестало действовать. Лита сделала еще один укол.
Пока укол не заработал, он больно сжимал ее руку. Но ей хотелось, чтобы он сжимал еще больнее. Ей казалось, что так она хоть немножко может ему помочь.
До утра они как-то дожили.
Утром приехала тетя.
***
Она была уставшая и расстроенная – приехала с похорон своей подруги. Но Лите было не до дипломатии. Почти с порога она сказала:
– Мне нужно с вами поговорить.
Тетина сумка, которую она пять секунд назад поставила на табуретку, с грохотом свалилась на пол.
– Дай хоть пройти! – сказала Екатерина Георгиевна в сердцах.
Лита отодвинулась, пропуская ее.
Тетя прошла на кухню, тяжело села.
– Сашка как? – спросила она.
– Плохо. То есть ужасно. Он не может ехать в Свердловск. – И, не дожидаясь, пока тетя на это что-то скажет, Лита продолжила: – Вы не волнуйтесь. У нас есть направление в хорошую больницу. Я буду ухаживать за ним, сколько нужно. Если что, моя мама, кажется, выходит замуж, надеюсь, она переедет к мужу, Саша может переехать к нам. Он ляжет в больницу завтра.
– Что? Как вы все это решили… – сказала шокированная Екатерина Георгиевна. – Мы уже давно договорились с очень хорошим врачом в Свердловске. Сашку там ждет сестра. Я бы попросила тебя, девочка, не лезть в то, что пока тебя не касается.
– Он никуда не поедет, –– еще раз сказала Лита, на всякий случай взявшись за ручку двери. – Он не доедет в поезде. Если бы вы не боялись, что вам придется за ним ухаживать, – Лита покрепче взялась за ручку, – и не пытались бы его сбагрить к сестре, которой он тоже не нужен, то давно положили бы его в больницу здесь. Для этого ничего особенно не надо было делать. Просто взять направление. И…
– Господи, что ты говоришь? – воскликнула, наконец перебивая ее, тетя. – Что ты говоришь?! – и она заплакала. Слезы у нее были близко.
Лита не реагировала на слезы.
–– Я приеду завтра утром, и мы поедем с ним в больницу, – сказала она. – Он ляжет завтра. Здесь.
На этих словах она вышла и пошла к Леснику. Он был в полусне и почти не стонал – лекарство работало.
Тетя зашла в комнату за ней.
– Саш, – позвала его тетя.
Он медленно открыл глаза.
– Привет.
– Саш…
Тетя посмотрела на него внимательно и быстро вышла – плакать, понятное дело, что же еще ей было делать. От его вида сейчас можно было только плакать.
***
Минут через двадцать тетя снова заглянула.
– Лида, пойди сюда.
Они снова вышли в кухню. Тетя закрыла дверь.
– У меня давление сто восемьдесят, – сказала она, показывая на тонометр. – Пусть ложится здесь, если у тебя есть направление.
И она снова заплакала.
– Господи, – говорила она, плача. – За что все это ему, а? Я ведь люблю его. Просто сил моих уже нет. Уже третий месяц. Господи… Он ведь тогда чуть не умер после операции. И все по новой.
Лита молчала.
Тетя вдруг посмотрела на нее.
– Ты, небось, передумала с ним ехать? Я сразу поняла, что это блажь.
Лита подняла на нее глаза. Она вдруг почувствовала, что страшно, невыносимо, смертельно устала за эти двое суток.
– Думайте, пожалуйста, все, что вы хотите, – ответила она через силу.
Тетя удивленно замолчала, потом все-таки сказала:
– Чего он тебе сдался, а? У него же нет ничего. Одна душа…
– Сдался, сдался, – ответила Лита, глядя в окно.
Они помолчали. Тетя шмыгала носом, Лита качалась на стуле. Потом тетя вдруг медленно заговорила:
– У них весь род такой несчастный. Анька, мать его, всю жизнь мучилась. И умерла страшно, под поездом этим. Московский, между прочим, поезд был… Мать Анькина вышла замуж за какого-то кондитера, еще до революции. За француза. Почему они не уехали, не знаю… Дочь у них первая умерла, Аньку они родили уже в тридцать пятом. И что? Посадили перед войной сначала ее отца, потом мать. Соседи, похоже, постарались. Аньку наша тетка спасла, на свою фамилию записала, вырастила. А что вырастила… Тетка умерла, когда Аньке было шестнадцать. Ты понимаешь – Анька в шестнадцать одна была, и Сашенька в шестнадцать без матери остался. Вот что это, а? А?
И она снова стала плакать, закрыв глаза рукой.
– Лесник немножко француз? – машинально спросила Лита.
– Кто? Сашка? Господи, да какой француз… Хотя да, конечно. На четверть.
Обе они снова замолчали. Лита качалась на стуле.
– Ты ведь не справишься, – наконец сказала тетя.
– Справлюсь, – глухо ответила Лита, – не волнуйтесь.
Глава 16
***
Ночью Лита не смогла уснуть. А утром в шесть часов позвонила Екатерина Георгиевна.
– Лида, – сказала она и зарыдала. У Литы все оборвалось внутри. – Лидочка, ему так плохо ночью было, он так кричал... О-о-ой… Я думала, он умрет. Господи… Я скорую вызвала, дала денег, они должны его были отвезти в вашу больницу, – каждая фраза у нее прерывалась рыданиями. – Я направление твое им дала… Я не знаю, жив он сейчас… – она заголосила в трубку еще сильнее. – Я в больнице сама, из автомата звоню… Себе потом скорую вызвала – давление двести двадцать. Я не знаю, что с ним. О-о-ой... Господи, я не знаю, что делать.
–– Так, – сказала Лита, стараясь говорить как можно спокойнее. –– Я все поняла. Я еду в больницу. Оставьте телефон соседки, я ей позвоню оттуда. И вы ей звоните. Будем через нее... Все.
Через десять минут она ловила машину, сжимая в кармане две трешки, которые остались от папиных «репетиторских» денег. Еще через сорок минут она поднималась в лифте больницы.
***
Палата была на двоих. Лесник лежал у двери и смотрел в потолок. Лита вошла и остановилась. Тихонько позвала его. Он перевел на нее взгляд. В глазах у него были страдание и страх. И что-то еще. Обреченность?
Он узнал ее. Сказал:
– Лита… Привет, – и зашелся кашлем.
Вошла медсестра.
– Вы кто? Родственница?
– Да, – ответила Лита.
– Хорошо. Вот вещи его, – медсестра положила пакет на тумбочку. – Из приемного покоя передали.
Она бесцеремонно сняла с него одеяло. Он был без одежды, без всего.
Лита задохнулась на мгновение.
Нет, здесь просто другая реальность.
– Сверху надень на него чего-нибудь – футболку там. Снизу не надевай ничего, все равно катетер сейчас ставить буду.
Лита вдруг вспомнила их жуткие халаты в психушке. Когда она надела этот халат в первый раз, то поняла, что больше не принадлежит себе.
Но обнаженный человек был еще беззащитнее.
***
Соседом оказался какой-то лысый неопределенного возраста.
– О, к нам пришла Дюймовочка! – воскликнул он, когда медсестра ушла. – Слушай, сигаретки нет?
– Есть.
– Слушай, не угостишь? Да... Павлик, – он протянул руку. – Да не смотри на него так, ему наркотик вкатали. Ему сейчас нормально. Пойдем, покурим.
Лита постояла еще около Лесника, потом как во сне пошла с Павликом в курилку.
– Да... – лысый, куря, с интересом разглядывал Литу. – Лечащий врач искал родственников. Где вообще родственники?
– Нет никого. Я за них.
– Зовут его как?
– Саша.
– Вот, Дюймовочка, твой Саша так, бедный, орал сегодня, что я не мог спать. С ним тут полночи носились. Врач хороший, сразу говорю. Пойдем, покажу тебе, где найти врача.
***
На врача Лита смотрела с ужасом. Потому что он говорил:
– Как вы умудрились дотянуть его до такого состояния? Почему он не лег раньше? Почему его не обследовали после операции? Ему давно нужно было лечь, сразу после результатов биопсии. Почему…
– Я не знаю… – сказала наконец Лита.
Он посмотрел на нее как на идиотку.
– Так, значит. Лечение нужно начинать срочно, прямо сейчас. Химиотерапию. Дорог каждый час. Вы слышите? – он повысил голос, потому что Лита не реагировала. – У него метастазы в легких и позвоночнике.
– Он не умрет? – вместо ответа спросила Лита. Это был ее единственный вопрос.
– Об этом позже. Услышьте меня. Ему нужно сейчас достать вот это лекарство, – он написал на бумажке. – Свяжитесь с родственниками. Как достанете – сразу поставим капельницу. Все, идите.
– А… Откуда можно позвонить?
Он молча поставил перед ней телефон и вышел.
И началось. Мама, единственная надежда – никогда, наверное, с самого детства Лита не нуждалась в ней так, – не подходила к домашнему. На работе сказали, что она взяла несколько дней за свой счет. Ах да, у мамы же роман! А телефон этого мачо Бориса Лита забыла переписать, его номер остался дома! Чтоб они все…
Лита зачем-то еще раз позвонила домой – никого. Еще раз позвонила на работу – «Ольги Александровны нет и не будет». Позвонила Леснику домой – никого. Маньке – никого. Лита села и впала в ступор.
Через какое-то время вошел врач.
– Позвонили родственникам?
– Да. То есть нет.
– Так.
Он сел напротив.
– Тогда я вам скажу так. У него есть десять процентов. Если мы сегодня не начнем делать химию, завтра они превратятся в пять.
– Десять процентов чего? – тупо спросила Лита.
– Десять процентов остаться на этом свете.
****
В коридоре Лита встретила лысого соседа.
– Ну как? – спросил он.
Лита рассказала, путаясь в словах. От страха и волнения она стала забывать русский язык.
– Так, – сказал лысый. – На самом деле тут с лекарствами никаких проблем.
– Как это?!
– Так это. Срочно ищи старшую медсестру, если она еще не ушла. Идешь к ней. Даешь немножко денег. У нее этих лекарств – завались. Остается. Люди умирают, лекарства остаются. Родственники же не будут обратно свои ампулы забирать.
***
У старшей медсестры в кабинете был такой специальный шкафчик. Лите даже снилось потом, как она его открывает и оттуда сыплются коробочки. Сыплются и сыплются. Там много было лекарств. Лита смотрела на них и понимала, что все эти люди не долечились и умерли. Все они умерли.
Написанное на бумажке лекарство нашлось. Хватило трешки. Капельницу поставили почти сразу.
Но обезболивающее действовало все меньше, а химия – все больше. К тому же оказалось, что Лесник эту химию переносит просто жутко. То есть все три часа его просто выворачивало наизнанку.
В какой-то момент Лита подумала, что лучше бы ей сейчас сразу сойти с ума, чтобы ничего уже не понимать. Когда медсестра потом что-то спросила у нее, Лита поняла, что не может говорить – так сильно у нее были сжаты зубы.
***
Лита боялась, что вся эта обратная сторона жизни, всякая там физиология оттолкнет ее. Оказалось, нет, это была просто часть жизни, совсем не вызывающая отвращения. Наоборот, сочувствие. Судно – это просто такое участие в жизни человека. Все эти утки, судна и катетеры – все это была ерунда.
А вот ощущение, что есть человек, и жизнь уходит из него, и ты ничего не можешь сделать, и врачи по большому счету не могут, – оно было невыносимым.
Жизнь уходила из него.
***
Вообще родственники были нужны только на три часа химии. Но Лита не уходила. Ей казалось, что стоит только уйти – и он умрет.
Его перевели в отдельную палату. Лите разрешили поставить три стула рядом – это была ее кровать.
На третий день приехала мама – привезла Лите расческу и чего-то там еще, у Литы же ничего не было.
Они стояли в коридоре возле стенки. Лита была с уткой в руке и по виду не сильно отличалась от пациентов. Мама пыталась уговорить ее уехать домой. Зачем-то говорила с ней про школу… Лита смотрела на дверь палаты и ничего не отвечала.
– У меня сегодня Лариса спросила знаешь что? – вдруг сказала мама. – Она спросила, какое у тебя будет платье на выпускном…
– Что? – Лита наконец оторвалась от двери.
В это время какой-то мужик, шаркая по коридору, остановился недалеко от них, схватился рукой за стену, наклонился вперед – и его начало рвать.
– Господи, – вскрикнула мама с ужасом, отворачиваясь от этой картины.
Лита посмотрела на нее, потом усмехнулась и сказала:
– Ларисе привет… Интересно, она хоть иногда говорит что-то не идиотское?
Мама ушла ни с чем. Под конец только спросила:
– Ты не много на себя взяла, а?
***
Самое страшное было, что обезболивающее действовало не все время. Когда оно действовало, можно было жить. Когда переставало – Леснику невозможно было смотреть в глаза. Они были как открытая рана.
Лита бегала, умоляла сделать еще укол. Но это был наркотик, и уколы делали строго по расписанию.
Медсестра отвечала ей что-то про ослабленный организм. Лита не верила. В какой-то момент у нее появилась безумная идея, за которую она чуть не поплатилась, – Лита в отчаянии сказала медсестрам, что купит «на точке» героин и вколет ему сама.
Такого трехэтажного мата в ответ она никогда не слышала.
***
Каждый день Леснику ставили капельницу с химией часа на три. Один раз Лите пришлось три часа провести на стуле в позе статуи Свободы – медсестра как-то там неправильно поставила этот «шампунь», и он капал слишком быстро, а вынимать и переставлять почему-то было уже нельзя, можно было только под углом держать закрепленный на стойке флакон. Спасибо, санитарка с тазиком помогла Леснику мучиться с последствиями химии.
***
Страшнее всего было на вторые сутки. Под утро Лесник стал так кричать, что Лита не выдержала, убежала на лестницу. Когда она вернулась, он стал говорить ей что-то несвязное.
– Что? – она наклонилась к нему.
– Сломай мне что-нибудь, – сказал он диким каким-то голосом. -- Что-нибудь сломай мне. Пальцы. Пальцы сломай, – и он вдруг стал пытаться ломать себе пальцы. Что-то там хрустнуло.
Лита закричала и стала разнимать ему руки. Она кричала так, что с поста прибежала медсестра.
Честное слово, если бы был пистолет, Лита бы застрелила врача, медсестер, Лесника и себя.
***
Потом, когда ему поставили химию, он вдруг стал убеждать ее, что ничего не поможет, и что он хочет домой, просто домой. Он говорил так убедительно и горячо, что Лита стала его зачем-то слушать.
– Это только заставляет меня еще больше мучиться, – говорил он. – Я хочу уже умереть наконец-то. Вынь, пожалуйста, эту иголку.
– Нет, Лесник… Пожалуйста, Лесник, – говорила Лита как можно спокойнее, держа его лицо двумя руками.
Он вдруг посмотрел на нее безумно, потом выдернул иголку из вены и закричал:
– Да я хочу уже сдохнуть наконец!
Когда после Литиных криков «Помогите!» медсестра с очередным трехэтажным матом вернула на место капельницу – в другую руку, Лита посмотрела в яркое голубое небо за окном и уже без звука крикнула туда: «Господи, почему ты все так сделал?»
***
Но когда обезболивающее работало, было не легче.
На третий день, когда Лесник лежал измученный после химии, он вдруг сказал:
– Я в детстве не выносил слова «никогда». Детям любят говорить: «Ты никогда не будешь… там что-нибудь делать…» Я ненавидел, когда мне так говорили. Знаешь, когда потеряешь какую-то фигню, кошелек, например – его жалко. А я должен потерять все.
Лита вдруг вспомнила, что хотела когда-то, чтобы ее не было «никогда». Все это ведь была только игра. Игра отчаяния.
– Я не думал, что буду так жить, – продолжал Лесник. – Сейчас у меня есть только ты. И тебя я должен потерять. Зачем я вообще жил? – он замолчал, потом медленно повторил, глядя Лите в глаза: – Зачем? Я? Жил?
Лита понимала, что это вопросы не к ней. Но слушать их должна была она.
Потом он вдруг сказал:
– Бог хочет показать мне, что я дерьмо? Я готов в это поверить и так... Господи, я готов в это поверить и так, – повторил он громко и заплакал.
Когда он орал, что хочет сдохнуть прямо сейчас, это было не так страшно.
Потом он стал пытаться встать. Лита помогла ему приподняться, обняла его и сидела так с ним, как с ребенком на руках. Он плакал, а у нее от постоянного запредельного напряжения сознание было уже немного не на месте. Ей вдруг начали приходить в голову какие-то книжные ассоциации. Ей стало казаться, что это плакал Маленький принц, который терял и свою Розу, и свою Планету.
На пороге возник Павлик.
– Дюймовочка, я принес тебе поесть, – он размахивал пакетом с каким-то холостяцким ужином. Потом вдруг замер и уставился на них:
– Блин. «Пиета» Микеланджело...
Лита очнулась.
– Что?
– Вот, принес тебе поесть.
Он сложил из пальцев рамочку и стал смотреть на них через рамочку.
– А я все думал – на кого же ты похожа?
Кажется, все-таки он был сумасшедший.
***
Лесник говорил ей когда-то, что боится превратиться в ничтожество. «Я превращусь в ничтожество, и ты будешь это видеть». Но за всеми его криками и страданиями она не видела никакого ничтожества. Ни в какое «ничто» он не превращался. За всем этим она видела то, что вызывало преклонение.
***
Дня через три Лесник перестал кричать от боли, но все равно не находил себе места. Сил
у него не было, все муки ограничивались кроватью, в которой он метался. Если бы были силы, он, наверное, бегал бы по этажам и разнес тут все. Может, обычная боль нужна, чтобы меньше чувствовать эту – смертельную тоску?
***
Жизнь уходила из него. Это было видно, например, по глазам. Если раньше в них были пусть боль, и страх, и отчаяние, и какое-то взывание о помощи, то потом остался только взгляд в себя. Но Лита все равно была уверена, что если просто быть рядом – эту жизнь можно удержать.
В какой-то момент он вдруг сказал:
– Чудеса на самом деле не нужны. Что они доказывают? О Боге по-настоящему знаешь не из чудес. Разве, когда любишь человека, надо, чтобы он делал что-то необычное?
Он посмотрел на нее – или сквозь нее. Потом добавил:
– Иногда кажется, что случилась беда. Но это только так кажется. Беда не всегда беда... Знаешь, что перед закатом бывает самая красивая радуга?
***
Наверное, способность впадать в ступор спасала ее. Иногда были как будто небольшие паузы – когда Лита могла вообще о чем-то думать. По чуть-чуть.
Про домик свой она вообще забыла. Здесь для него было слишком страшно.
Еще ей хотелось поговорить с Лесником о чем-нибудь. Хоть о чем-нибудь. О какой-нибудь ерунде. Но не получалось. В основном он молчал.
На пятый день, отмучившись с химией, – он мучился уже молча, уже не жаловался и не плакал, – Лита не выдержала и начала петь. Он никак не реагировал, жил своей мучительной жизнью – кашлял, стонал, задыхался, медленно, с невероятным мучением менял положение, – Лита пела.
Когда она замолчала – он повернул к ней голову:
– Момо, пожалуйста, не молчи.
Потом улыбнулся – первый раз за все эти дни – и сказал:
– Одни психи поют о своем для других психов. Те их понимают. Те, кто с ними на одной волне…
Лита пела до вечернего обхода. Это был самый длинный сейшен.
***
Лита боялась заснуть. Ей казалось, что если она заснет, он умрет. Она, конечно, периодически проваливалась в какое-то подобие сна, лежа на своих стульях, но ненадолго и неглубоко.
На шестой день Лесника увезли на какое-то обследование. Лита осталась одна.
Ей стало так пусто, как будто он уже ушел навсегда.
Она сидела на его кровати. Потом встала на пол на колени.
Она подумала, что если кто-нибудь войдет, она сделает вид, что что-то уронила.
Она встала на колени перед тумбочкой, а за тумбочкой была стена. Лита смотрела на эту отвратительную больничную белую стену и молчала. Она не знала, что говорить и о чем просить. Она чувствовала, что с Лесником происходит то, во что она не имеет права вмешиваться.
Она молчала, потом смогла наконец сказать: «Господи, помоги Саше». Она несколько раз это повторила: «Господи, помоги Саше». Больше она не могла ничего просить. Она не могла просить жизни, потому что чувствовала, что тут без нее разберутся. Господи, помоги ему. Что помоги? Выжить или легко умереть?
Потом она, стоя на коленях, положила голову на тумбочку и застыла.
***
И вдруг в какой-то момент она подумала о том, что Христос был распят на Голгофе. И она остро и ясно почувствовала, что все страдания всего человечества – они там, перед Голгофой. Собраны все в одном месте. И все страшные страдания Лесника – тоже там. И даже ее, Литины, кирпичи и тоска по утрам – тоже. И вся боль всех убитых и измученных, всех преданных и отвергнутых – там. ОЧЕНЬ много боли. И с ней – Бог, висящий на показ всем. Вся боль всех людей – там. Страдания всех – на Одного.
И когда Лита это почувствовала, она не выдержала и заплакала.
***
Когда Лесника привезли с обследования, Лита сидела на своих стульях и смотрела в окно. Там было яркое голубое небо. Праздник жизни. Лита сидела без сил, потрясенная своим видением и своими слезами.
Лесник был в полусне.
– Химию сегодня не делаем, – сказала, входя, медсестра. – Перерыв.
– Я полежу чуть-чуть, – еле проговорила Лита.
– Лежи, пока врач занят, – отозвалась медсестра.
Лита легла на свою импровизированную кровать из стульев. И уже через минуту она летела в колодец сна. Видимо, настал час икс, когда организм сказал: все, извини, больше не могу. Она погружалась все глубже и глубже, оставляя Лесника в этом мире одного.
***
Когда Лита открыла глаза, вокруг было почему-то темно. Несколько секунд она вообще ничего не понимала. Потом вдруг, все вспомнив, вскочила как ошпаренная – и тут же рухнула на пол: видимо, долго пролежала в одной позе, и ноги затекли так, что она не могла на них стоять.
Упав, она стала смотреть вокруг себя, пытаясь сообразить, что происходит. Стояла тишина. Потом она с трудом поняла, что на кровати как будто кто-то лежит – но лежит абсолютно тихо и спокойно – так, как Лесник не лежал обычно. Он не метался и не кашлял. Если это вообще был он. Лита полулежала на полу, машинально растирая ноги, которых не чувствовала, и погружалась в ужас. Что происходит? Почему темно? Почему так тихо?
И вдруг она поняла, что это случилось.
Он умер.
Она же знала, что нельзя засыпать.
***
Лита в ужасе на четвереньках обползла как можно дальше его кровать, выползла в коридор, там еле встала на ноги и, держась за поручни, которые шли вдоль стены, поковыляла к посту медсестер. На посту их не было. Рядом была открыта дверь в комнату. Лита зашла туда и остановилась. Одна сестра лежала на диванчике, другая сидела за столом и что-то писала. Лита стояла и молчала. Та, что писала, толстенькая, в какой-то момент подняла голову и ойкнула.
– Господи, ты че пугаешь! - Потом, вглядевшись Лите в лицо, спросила: – Че случилось?
Лита молчала. Какой-то предмет застрял у нее в горле.
– Ну? – снова спросила толстенькая.
Лита молчала. Но долго молчать было невозможно.
– Он… умер? – наконец произнесла она.
Повисла пауза, все замерли. Через три секунды старшая вскочила и почти выбежала из комнаты. Младшая встала с диванчика и быстро вышла за ней. Лита осталась одна. Она стояла, не шевелясь.
***
– Ты что, совсем дура? – вдруг услышала она слова медсестры. Та вошла и стояла напротив, глядя Лите в лицо.
Лита, ничего не понимая, смотрела на нее.
– Он спит! – наконец медленно и громко сказала медсестра, приблизя к Лите свое лицо – так говорят с бабушками в маразме. – Он. Просто. Спит!
– Идиотка, – сказала, входя за ней следом, младшая.
– Спит? – переспросила Лита.
– Спит! Че ты тут устроила – «умер, умер». Тронулась уже совсем. Герда наша, блин… Дай ей нашатырь, сейчас завалится…
Лита посмотрела еще немножко на них, потом отодвинула младшую, с нашатырем, и поплыла в палату.
Сестры включили там свет. Лесник лежал на боку, по-детски сложив руки. Он не лежал и не спал так уже давно. Он не кричал и не стонал. Просто спал, вот и все.
– Ну, мы тут не дурака же валяем, – толстенькая зашла вслед за Литой. – Наконец-то хоть смог заснуть…
Лита села на край кровати.
– Нервная ты очень. Домой тебе надо. Иначе отсюда – сразу в дурдом.
Лита молчала.
Потом она еще раз взглянула на Лесника, на медсестру – и выскочила из палаты.
Еле добежала до лестницы, уткнулась там головой в стену и начала плакать навзрыд.
– Девушка, вам плохо?
Лита медленно оторвалась от стены, развернулась – перед ней стояла красивая женщина в белом халате и – в пять утра! – с макияжем.
– Мне?
Лита зависла между двумя пространствами. В одном звучала золотая музыка. В другом поезд стучал сотней колес.
– Нет, – наконец ответила она. – Нет. Мне не плохо.
***
Когда она вернулась в палату, Лесник еще спал.
Она села на свои стулья и стала плакать. Она плакала, и плакала, и плакала, и плакала… За всю прошлую жизнь, свою и Лесника.
– Че ты ревешь-то? – спросила, наконец входя с градусниками, медсестра. – На вот, ставь ему, семь часов уже.
Лита взяла градусник и продолжала реветь.
– Ох, Боже ж ты мой, – вздохнула медсестра, садясь с ней рядом. – Да выживет твой… Вот поверь мне, у меня опыт. И интуиция. Я тут уже двадцать лет работаю и ни разу не ошиблась. И врач говорил, что улучшения есть. Томографию вчера делали, пока ты дрыхла. Действует шампунь-то… Ну, лысый походит, ничего.
Но успокаивать Литу было не нужно. Она и так все поняла.
Она поняла, что ее услышали. Это было очевидно. Ее услышали.
Там, за тумбочкой, за белой стеной. Там, в бесконечности, на Голгофе.
Она не знала, что ждет их там дальше. Сколько там химий и операций.
Она знала только, что к смерти они уже прикоснулись. Что теперь, наверное, можно попробовать начать жить.
Лита плакала. Лесник спал.
Notes
[
←1
]
Какая жалость (англ.).
[
←2
]
Все будет хорошо (англ.). Фраза из песни Боба Марли «No, Woman, No Cry».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


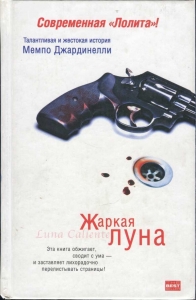
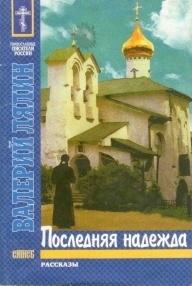
Комментарии к книге «Лесник и его нимфа», Марина Евгеньевна Нефедова
Всего 0 комментариев