Петер Розай Вена Metropolis
Часть I
Глава 1
В восьмом районе Вены на углу Шёнборнской и Йозефштедтской улиц стоит дом в шесть этажей. Здание окрашено в желтый, «шёнбруннский» цвет и на первый взгляд ничем не отличается от соседних домов, построенных в последнюю треть девятнадцатого века, в эпоху грюндерства. Барельефы из женских головок — сплошь богини, имена и деяния которых забылись с ходом времен, — украшают фриз, протянувшийся тонкой рифленой полосой над окнами последнего этажа по всему фасаду, а над прическами богинь вьются гипсовые ленты и гирлянды, которые в легком ритме, словно обретшие материальность звуки легковесной, слегка затасканной мелодии, более или менее скрашивают невзрачность стен. На углу дома со стороны Йозефштедтской, примерно на уровне мезонина, присутствует еще один декор — огромная мужская голова с развевающейся бородой ветхозаветного пророка, с плотно сжатых губ которой, сочетающихся с широко раскрытыми, но застывшими, невидящими глазами, не слетает никаких прорицаний, разве что свидетельствуют они о потерявшей саму себя душе, бездумно и весело прилепившейся к бытию.
В доме этом, в маленькой квартирке на пятом этаже с окнами на Йозефштедтскую, проживали в ту пору два господина, и звали их Франц Иосиф Пандура и Георг Оберкофлер. До войны Оберкофлер, человек военный, служивший тогда еще в австрийской армии, жил тут со своей женой. Соседи помнили, как высокий и щеголеватый обер-лейтенант сходил вниз по широким ступеням лестницы под руку со своей женушкой-блондинкой, разодетой чересчур броско, и отправлялся на прогулку, навстречу летнему вечеру, притягательному и многообещающему, ступая, как и положено офицеру, несколько церемонно и сдержанно, но не без элегантности.
Квартира состояла всего из двух просторных комнат, с ванной и кухней в придачу, и была в этом доме скорее исключением. В других квартирах было по четыре комнаты, а то и больше, и принадлежали они весьма важным господам.
Во время отступления немецких армий в районе Ольштина в польской Мазурии, то есть ближе к концу кровавых сражений Большой войны, — при этом грядущие месяцы оказались особенно кровавыми, — случилось вот что. Солдаты немецкой части, отведенной в Вену на переформирование, обнаружили светящееся в ночи окно в доме, незадолго до этого оставленном жильцами. Прикладами солдаты выбили дверь в парадную и вломились в дом. В камине огромного зала, под тонким и ломким слоем серой золы, — вероятно, здесь жгли какие-то бумаги, — еще тлели красные, источающие тепло комочки. Один из солдат обнаружил лестницу, ведущую в подвал. Когда к дому подтянулся арьергард, которым командовал сам Оберкофлер (Пандура, штабной вахмистр, был среди тех, кто вломился в дом первыми), то обер-лейтенант застал своих людей, в том числе и вахмистра, за мародерством. Хотя Пандура выстрелами из пистолета продырявил все обнаруженные в подвале бочки, все же во всеобщей толчее ему не удалось воспрепятствовать тому, чтобы несколько солдат подставили кухонную посуду или какой другой черепок под холодные и темные струи вина, бьющие из пробоин. Оберкофлер не стал даже пытаться пресечь начавшуюся попойку, он лишь обронил в сторону Пандуры несколько слов, но так громко, чтобы слышали все: «Того, кто завтра утром не будет стоять на ногах, расстреляют русские». Затем он бросил на стол перчатки и опустился в кресло, широко расставив ноги.
Было уже совсем поздно, когда солдаты утихомирились; кто-то свернулся калачиком прямо на полу, кто-то в полном облачении заснул на стульях или на диванах. Пандура с бутылкой чистого как слеза шнапса сидел у темного, потрескивающего от холода окна и смотрел в ночной сад, раскинувшийся под неестественно бледным светом луны: лужайки были укрыты снегом и льдом, голые и черные ветви деревьев походили на плетки, застывшие от стужи в огромной невидимой руке. Обер-лейтенант Оберкофлер, давно уже наблюдавший за Пандурой, поднялся с кресла, приблизился к вахмистру и положил ему руку на плечо, — жест совершенно непривычный и в общем-то невозможный, — и хрипло произнес: «Иди спать!» — В голосе звучали дружелюбные нотки, а хрипота — так это от долгого молчания. Пандуру словно дернуло электрическим током, однако его удивление было наигранным, ведь на самом деле он, сидя у окна, ждал, что Оберкофлер к нему подойдет.
Пандура (происходивший, кстати, из дворян, фон Пандура) и Оберкофлер были знакомы уже давно. Вскоре после начала войны они оказались в немецкой армии в одной и той же части. Однако в прямом подчинении один у другого очутился не сразу, а после переформирований полка, связанных с большими потерями в боях. До этого они долгое время присматривались друг к другу, то при раздаче пищи на полевой кухне или при оглашении приказов по полку, то во дворе казармы или в поезде, идущем в Вену, где они однажды случайно оказались вместе, получив краткосрочный отпуск с фронта. К их знакомству, — если это можно так назвать, ведь они только замечали друг друга, — примешивались определенная осторожность и противоречивое чувство, — ведь один был офицером, а другой относился к нижним чинам.
Однажды Пандура, — дело было во время марша по Украине, года два назад, если считать от событий под Ольштином, — так вот, Пандура чуть отстал от колонны на улице какого-то пыльного городка и остановился перед витриной магазина, потому что в ней, словно напоминание о другой, прошлой жизни, была выставлена пара ботинок. В отражении витринного стекла он увидел, как обер-лейтенант Оберкофлер тоже остановился посреди улицы и пристально и долго смотрит на него. Позднее, — во всяком случае, так объяснял себе Оберкофлер, — оправданием такому вниманию к Пандуре послужило то, что тот был его земляком, из Вены, ведь по большому счету в Пандуре не было ничего такого, что могло бы вызвать к нему интерес.
Собственно, было в облике Пандуры что-то скользковатое, в его широкой и смуглой физиономии, почти округлой, в его полноватой приземистой фигуре, в его походке вразвалочку. Выправка у него была нарочито никудышная. Но в бою он был решителен. Да, Пандура был храбр, и при этом был человеком жалостливым. Немолодые, умудренные опытом солдаты, у которых дома остались семьи, считали его чудаком. Во время этих своих вспышек отчаянной храбрости он весь словно менялся: как будто лев сбрасывал с себя ослиную шкуру. Лучше не скажешь, — думал Оберкофлер. В такие минуты Пандура словно уменьшался в росте, сжимался как пружина, все в нем словно затвердевало, как камень; и в то же время он был легок и подвижен, как стрелка компаса, — но при этом было ясно, что его не остановить. Во время наступления он был словно надежный щит, за которым можно было укрыться.
Поля сражений пахли разлагающимися трупами. В такие моменты Пандуре было все равно, какую цену придется заплатить.
В часы затишья он вел себя замкнуто, уходил в себя. Только блеск его больших карих глаз обнаруживал, что в нем что-то происходит, в его душе. В душе игрока и записного пьяницы! Оберкофлер поначалу заметил его глаза: темные и порой, если Пандуре досаждали или мешали, враждебно дикие и сверкающие.
Солдаты Пандуру не любили, а вот Оберкофлера — очень даже уважали. Пандура по своей сути был человек несдержанный и грубый, ото всех отгораживался, мог выкинуть любой фортель и был склонен к крайностям.
— Я, собственно, вырос в крестьянской усадьбе, в горах, в Пинцгау. Со двора у нас было видно все вершины: и Висбаххорн, и Шварцкопф, и Глокнер. В погожие летние дни, по утрам, когда воздух над долиной еще прозрачный, а не мутный, в глубине долины видно, как сверкает Целлеровское озеро. В стороне над нами — селенья Брук и Фуш, как разноцветные пятна или заплаты, — там потом проложили Глокнеровское шоссе.
Оберкофлер продолжал говорить, посматривая на Пандуру.
— Обнищание рабочих в долине в конце концов коснулось и крестьянских хозяйств. В самый пик большого кризиса отец отвез меня на вокзал в Таксенбахе. Он взял мне билет на поезд до Вены. Оттуда мне следовало отправиться на восток, в Брук-на-Лейте. Там тогда находилось военное училище. Наш священник из церкви Святого Георга исхлопотал мне бесплатное место.
Оберкофлер с Пандурой сидели в задней комнате летнего кафе в Пратере, куда они забрались несмотря на хорошую, даже прекрасную погоду. В теплом весеннем воздухе, проникавшем сквозь открытые окна, танцевали пылинки, поднимавшиеся от плохо пропитанных олифой, скрипящих половиц. Они заказали кружку пива на двоих и по очереди отхлебывали из нее.
— Когда поезд под Лендом въехал в ущелье и ничего, кроме скал со свисающими ветвями елей и сумрачной бурлящей горной речки вдоль железнодорожного полотна, не было видно, я вдруг представил себе, будто я уезжаю от себя самого и дорога моя ведет в ад. По крайней мере, ребенком я именно так себе ад и представлял.
Пандура был родом из семьи, когда-то весьма состоятельной и солидной. Отец его, получивший дворянское звание в последние годы Габсбургской монархии, во время Первой мировой войны, был крупным землевладельцем; он, будучи родом из Румынии, разбогател на торговле сельскохозяйственной продукцией, а в годы экономического подъема на рубеже веков многократно увеличил свой капитал, играя на бирже. Он женился на красивой, но обедневшей дворянке и вложил свои деньги в земельные участки. Он обладал гениальным предвидением или тонким нюхом, назовите как хотите, и скупил к югу от столицы самые унылые и пустынные земли, где на скудных склонах холмов паслись козы и овцы. А вскоре эти земли превратились в золотое дно: на них построили кирпичные заводы, для строительства разраставшейся столицы.
— Я имею в виду, что тут такого выдающегося? — риторически вопрошал старый Пандура, запивая миндальное пирожное добрым глотком игристого вина из бокала с красивой огранкой и витой ножкой, и потом продолжил: — Если одна из вас разлеглась в воде, ну, к примеру, в ванне, — мне эти штуки известны! — и волосы свисают за край — вы, стервы такие, это умеете! — то тонкие волосы плавают вокруг полураскрытых роз, словно это сердце Матери Божьей! — Мальчишкой я однажды в церкви во время Таинства Причастия не проглотил облатку, как положено, — это было еще в Колошваре, в Румынии, — да, так вот, с облаткой на языке, плотно сжав губы, я вышел на железную дорогу, было лето, какие-то жуки гудели в воздухе, и эту облатку, тело Христово, выплюнул на рельсы. — И ничего, ничего со мной не произошло! Такой вот был случай, в ту-то пору!
Старый господин фон Пандура опускает бокал на гладкую, богато инкрустированную поверхность отливающего черным и перламутровым блеском столика в восточном стиле, улыбается предмету своей страсти, пышной рыжеволосой красавице, а потом сквозь слегка колышущиеся от сквозняка занавески смотрит на пустынный вечерний Грабен[1].
Старый барон при любой возможности одаривает своей любовью не только баронессу, свою супругу, но и всякое существо женского пола, попадающееся ем на пути. Как он сам говорит, всех, кроме собачек и курочек! Сегодня настал черед молодой работницы с его кирпичного завода. Чем старше Пандура становится, тем больше он охоч до молодых баб. Сегодня у него черноволосая толстушка с широким лицом и большими щеками.
— Ты, наверное, из Боснии родом? Из Мостара?
Она даже этого не понимает. Старый Пандура прижимает ее к стене, задирает халат и устремляется вперед получать свое удовольствие.
Работница поначалу повизгивает, а потом прилежно включается в процесс, на всю катушку, и вот ее сотрясает дрожь, даже бедра у нее дрожат: он добирается, он на самом деле добирается до точки!
Когда Пандура протягивает ей десять шиллингов, она берет деньги, потупив глаза, и, не поблагодарив, уходит по тропинке мимо буйных зарослей сорняка, поправляя на ходу сбившийся и скособочившийся халат.
Первое время в Вене Оберкофлер и Пандура за недостатком занятий и средств на другие развлечения отправлялись в долгие пешие прогулки и дни и ночи напролет вели бесконечные разговоры. В этих рассказах представала вся их жизнь, они соревновались друг с другом в честности, каждый хотел открыть собеседнику всю правду о своей жизни, о своем характере и своих стремлениях, но зачем? Только это как раз и остается непроясненным.
Если течение их разговоров иссякало и они умолкали, то лишь для того, чтобы подумать, что же еще пропущено, что не рассказано. Все эти рассказы были как будто взахлеб, наперегонки, без оглядки и какой-либо последовательности. Они шли по главной аллее Пратера, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, над их головами расплывались белые и розовые свечи цветущих каштанов, и листва, пышно торчащая, колышущаяся от легкого ветра, то светлая, то темная, уже отбрасывала тень.
Трое мужчин за столом подняли тост. В то время как двое, — один прямой как свечка и такой длинный, что смотрел на остальных свысока, другой невысокого роста, — итак, в то время как они, возможно, ожидая, что им вновь нальют, держали свои рюмки на уровне груди, третий в их компании, серый и какой-то помятый человек, снова поставил свою рюмку на стол и повернулся к свету, тускло падающему из окна.
— Погода могла бы быть и получше — в честь открытия! — сказал он.
— Когда же мы наконец распахнем двери нашего заведения? — спросил приземистый, и в голосе его, нарочито прочувствованном, прозвучала издевка. Высокий и худой, словно в смущении, поднялся из-за стола и, не глядя на собеседников, стал прохаживаться по залу, касаясь рукой то одного, то другого предмета. Серый человек, одетый, кстати, в новехонький, с иголочки, деловой костюм из отливающей блеском, еще не замятой ткани, на заданный вопрос никак не отреагировал: то ли он мысленно устремился куда-то дальше и был уже где-то далеко отсюда, то ли был слишком занят чем-то, стоя у буфетной стойки, занимавшей всю узкую сторону помещения. Он достал обычную пивную бутылку без этикетки, закупоренную вместо пробки затычкой из газетной бумаги.
— Это что там у тебя? Отрава какая-то? Или машинное масло?
— Сейчас узнаете! Сейчас узнаете!
— Наливай, — буркнул приземистый и протянул серому пустую рюмку.
Где и когда они познакомились? На венском рынке Нашмаркт, чуть в стороне от Рингштрассе[2], есть пустынная площадка, которую обычно занимают приезжие крестьяне со своими лотками. Лейтомерицкий, наделенный тонким психологическим чутьем, сразу же понял, что вон с теми двумя типами, которые стояли у края площадки, облокотившись на ограждение набережной, — что с ними он может провернуть дела посерьезнее, чем купля-продажа позолоченных дамских сережек, поношенной каракулевой накидки или театрального бинокля с мутными стеклами.
Оберкофлер и Пандура бесцельно шлялись по рынку, то останавливаясь, то вновь беспокойно прохаживаясь: на Оберкофлере вполне еще приличный костюм из добротной ткани ручной выделки, на Пандуре его старая шинель, и она невольно выдает недавний род занятий их обоих. Нашивки с шинели Пандура спорол, воротник поднят, защищая его от еще холодного, порывистого весеннего ветра, дующего с запада, — за вздымающейся громадой домов можно различить нечеткие облачные контуры Венского леса.
Высокое и бледное небо над ними, массивные и четко очерченные облака на нем, тени от этих облаков бегло пересекают широкую площадку, небесная синь на короткие мгновения отражается на раздуваемых ветром простынях, на позолоте декора богатых домов на улице.
В то время как Оберкофлер в своем явно слишком легком для этого времени года одеянии (почему, Боже праведный, он не оделся теплее?) движется подпрыгивающей походкой, втянув голову в плечи, его спутник, Пандура, словно спущенный с привязи, то забегает на несколько шагов вперед, то отстает от него на несколько шагов, и взгляд его жадно прочесывает местность и скользит по лицам окружающих людей.
Лейтомерицкий, протискиваясь сквозь уличную и рыночную толпу, медленной и победоносной поступью приближался к ним.
Потом уже, за столом, в тускло освещенном подвальном помещении дешевого ресторанчика, — Лейтомерицкий заказал для них гуляш, да еще и пиво за свой счет, — оба господина без всяких экивоков признались, что они весьма голодны.
— Проголодались — не то слово! У меня внутри кишки завернулись!
— Ну, я имею в виду, что на пару монет, которые я могу вам дать за часы, вы ведь далеко не уедете, — сказал Лейтомерицкий.
Часы, предмет сделки, лежали на столе — мужские наручные часы с порванным ремешком.
— Вы на рынок часто захаживаете? Может, через пару деньков объявитесь? — Оберкофлер с надеждой взглянул на Лейтомерицкого. — Может, возьмете у нас шубу или пальто?
— Предлагаю вам кое-что получше!
Город с западной стороны окаймляет зеленый Венский лес. Географы толкуют о бассейне, о раковине, в которой располагается город. И в самом деле, если с холмов Венского леса взглянуть вниз на город, то он, главная его часть, действительно уместился в мягкой, открытой на восток форме, ограниченной с юга плоскими холмами, а с севера — высоко вздымающейся горой Каленберг, у подножия которой протекает Дунай. Бывают дни, весной или осенью, когда город с его крышами, куполами и башнями словно плывет в сверкающем голубом воздухе и коричневой, золотистой листве — или это буро-зеленоватые побеги молодой виноградной лозы, вьющейся вокруг натянутой проволоки и торчащих кольев? И если глядеть на город сверху — или прогуливаться по его залитым солнцем, хорошо знакомым улицам, — то все это вскоре перемешивается друг с другом, запутанное и мягкое, и то, что было внизу, выпирает наверх, а все, что было наверху, опускается вниз.
Все выглядит так, будто весь город расположен не там, снаружи, на этих все же не вечных выступах, холмах из известняка и глины, нет, он словно движется и колышется в самой середине, как волны огромного моря; и бурозеленоватые дубы, нежные липы, неуклюжие каштаны возвышаются в нем, словно беспорядочно разбросанные ноты, словно беглые записи на черных линейках партитуры, и все, что ты слышишь и воспринимаешь, предстает как звучание и сущность неслыханной, никогда еще не звучавшей музыки!
Естественно, что город, расположенный между гор, прочерчен сбегающими вниз долинами и ложбинами. Прежние речки и ручьи, правда, текут теперь в подземных каналах Дуная или же, чаще всего, вливаются в рукав Дуная, в Дунайский канал. В поверхностную форму города вписаны склоны холмов. В долинах движется городской транспорт, и лишь ближе к центру, к примеру в Йозефштадте, где перепад высот между горой и долиной сравнялся, все смешивается воедино и превращается в некое серое и в своей серости пестрое, колышущееся туда и сюда, словно бесцельно вздымающееся целое.
Через несколько дней после рандеву на рынке Нашмаркт они снова встретились — Оберкофлер, Пандура и Лейтомерицкий. Лейтомерицкий шиканул: он пригласил Оберкофлера и Пандуру на ужин в солидный бюргерский ресторан — и атмосфера за столом с самого начала была весьма и весьма доверительной.
За супом, самым настоящим, на говяжьем бульоне, с нарезанными полосками блинов, с добавлением яиц, — Бог знает, где хозяин ресторана все это раздобыл? — Лейтомерицкий хранил молчание. Ел он быстро и как-то рассеянно.
— Оберкофлер и Пандура — отличные фамилии, разве не так? — произнес он вдруг.
— А Лейтомерицкий чем хуже? — возразил Пандура.
— Нет, «Оберкофлер и Пандура» — это совсем другое дело! Согласитесь!
За тафельшпицем, нежной говядиной, поданной, как и положено, с яблочным хреном и петрушкой, Лейтомерицкий с подкупающей улыбкой возвестил о своих планах:
— Еще тогда, на рынке, когда мы познакомились, когда я впервые узнал, как вас зовут, меня словно осенило! Я подумал: не может быть! Это перст судьбы. И оба к тому же — бывшие офицеры!
— Я был всего-навсего унтер-офицером, — уточнил Пандура.
— Нечего скромничать! — Лейтомерицкий откинулся на стуле и с шумом выдохнул. Потом он снова склонился над тарелкой и тщательно отрезал кусок говядины. Прожевав его и наконец проглотив, неторопливо продолжил:
— Итак, я намерен открыть школу танцев и благородных манер. И в этом-то вся и соль: как раз в такие времена, как наши, — ведь война и военные годы оставили нам после себя одичание и грубость нравов, — самое время открыть подобное заведение. Как вы считаете?
Оберкофлер, не отрывавший взгляда от Лейтомерицкого, пока тот говорил, одобрительно кивнул и спросил:
— Но мы-то к этому делу каким боком?
Пандура вмешался в разговор и громко, язвительно, воздев горе вилку и нож, бросил в лицо Лейтомерицкому:
— А чем ты занимался во время войны?
Лейтомерицкий не ожидал такого вопроса. И уж точно не здесь и не сейчас. Однако он сразу взял себя в руки и стал подробно рассказывать о Франции, о тыловом обеспечении, — и о том, какая у него была прекрасная жизнь.
— Я так и думал, — пробурчал Пандура, опустил голову и снова принялся за еду.
Предложение Лейтомерцикого в общем и целом состояло в том, что он приглашал их в свое дело, в организацию школы танцев, во-первых, из-за их фамилий, которые прекрасно подходят для вывески: «ОБЕРКОФЛЕР И ПАНДУРА» — звучит великолепно, правда? — во-вторых же, в качестве учителей танцев.
— Так ведь я в танцах не слишком ловок, — выдавил из себя Оберкофлер.
Пандура не сказал ничего. Он потягивал вино, заказанное Лейтомерицким, задумчиво, даже умиротворенно погрузившись в себя.
По дороге домой они продолжили разговор. На плохо освещенной улице они держались друг от друга на расстоянии: Йозефштедтская — одна из главных в Вене, и на тебе, такое освещение!
Пандуру слегка покачивало. Он говорил о Польше:
— Был привал, не помню где, — где-то восточнее Вислы. Мы вошли в какую-то деревню и расположились на главной площади. — Ты представляешь себе: вдоль канавы, заполненной водой, несколько домишек, невысоких, в пыли барахтаются домашние утки. Подходит обоз с провиантом.
Он остановился посреди улицы и задумчиво произнес:
— Так трудно подобрать подходящие слова. Ну так вот, я отправился за один из домов, забрался в кусты — опростаться хотел! Там луг такой, и вот я под ивами нашел себе местечко. Присел я, гляжу, а в воде, в ручейке, глубины там не выше щиколотки, лежит молодой парень, с первым пушком на губе, щеки ввалились, руки на груди скрещены, ноги босые — и как есть мертвехонький!
Когда они подошли к дому, Оберкофлер, не проронивший ни слова, неторопливо открыл ключом дверь, а Пандура, словно завершая рассказ, добавил:
— Этому Лейтомерицкому я ни на слово не верю. Он и на войне-то толком не был. Он ведь, если ты меня спросишь, он ведь — самый настоящий жид!
Когда Оберкофлер утром, — а теперь у него утро начинается часов в одиннадцать, а то и в половине двенадцатого, — появляется на кухне своей квартиры на Йозефштедтской улице, Пандура чаще всего там уже сидит, в одних брюках, с голым торсом, босиком, и курит. У него особая манера курить: он сильно затягивается сигаретой и потом выдыхает плотное облако дыма. Пандура сидит либо притулившись к столу, либо откинувшись на спинку стула, ремень расстегнут — в таком виде он и встречает Оберкофлера, когда тот появляется из своей комнаты.
Квартиру они поделили так, что Оберкофлер — собственно, ее хозяин — спит в спальне, на широкой двуспальной кровати, оставшейся от его семейной жизни, а Пандура ночует на софе в просторной гостиной.
— А что, кстати, случилось с твоей женой? — Пандура этот вопрос задал еще тогда, на Южном вокзале, когда они — война закончилась — шли вдоль его разрушенных стен в сторону привокзальной площади. Он потом еще не раз задавал этот вопрос, когда они садились вместе завтракать, запивая бутерброды с мармеладом, а иногда и с колбасой, дешевым кофейным напитком, — однако ответа он ни разу не получил.
— Она исчезла, как видишь! — Оберкофлер отвечал так всякий раз и при этом пытался бодро улыбаться. Если же он замечал бутылку со шнапсом, обычно стоявшую на буфете, и видел, насколько в ней снова убавилось содержимое, то гневался на своего друга.
— Что ж ты пьянствуешь в такую рань?
— Ничего я не пьянствую! — отвечал Пандура, однако красные ободки вокруг глаз свидетельствовали об обратном.
— Меня это, впрочем, не касается.
— Разумеется, тебя это не касается.
— Мне тебя просто жаль!
Пандуру разбирает смех, и он никак не может остановиться.
До сих пор их совместное житье было нарушено одним-единственным происшествием: поздно ночью, когда они, хорошо подвыпившие, вернулись после танцевальной школы Лейтомерицкого и последовавших затем посиделок в ночных кафе, Оберкофлер услышал, как в «салоне» (так они называли гостиную) Пандура громко что-то говорит, причем настолько громко, что Оберкофлер проснулся. Что он там вещает? «Париж! Париж!» — кричал Пандура, он произносил это слово так, словно взывал о помощи, и в пустой квартире ночью голос его звучал жутко. «Это не я! Не я! Нет!»
Оберкофлер в пижаме выбежал в гостиную и разбудил Пандуру. И тут Пандура, еще не очнувшись от сна, обхватил Оберкофлера за шею и повалил его на постель. Оберкофлер и предположить не мог, что Пандура обладает такой силой, хотя и знал, что тот силен и находится в хорошей форме.
Их губы сблизились.
После завтрака Оберкофлер убирает посуду. Оба они по-разному ведут себя и в школе танцев. Оберкофлер безупречно выполняет свою роль учителя, и к тому же лучше, намного лучше, чем он мог себе это представить, и уж явно лучше, чем Пандура, которого Лейтомерицкий просто терпит как довесок к Оберкофлеру. Пандура же весьма усердно пользуется вниманием дам и за пределами своих обязанностей в школе танцев. Свидания и встречи, начало которым, разумеется, положено в школе танцев, проходят обычно во второй половине дня, ближе к вечеру, и, готовясь к ним, Пандура основательно чистит перышки. Оберкофлер посматривает на него с любопытством, но не без неодобрения и укора.
Иногда сразу после завтрака они отправляются в кофейню, чтобы сыграть партию-другую в карты. Ночью, после занятий в школе танцев, тоже играют. Если у Пандуры выдается свободный от очередной дамы день, то он начинает пить уже с двух часов пополудни.
— В Париже, там мы обычно начинали на авеню Фридланд, — рассказывал Пандура, — эта улица продолжает бульвар Осман, она в престижном районе. Мой отец арендовал там маленький дворец. Мой отец, ярый монархист, последовал в Париж за молодым императором, за Отто фон Габсбургом, хотя тот, правда, уже давно не владел троном. В Париже монархисты пытались организовать сопротивление Гитлеру, а поскольку мой отец, старый барон, не обладал ничем, кроме денег, ну, если не считать его манеры жить, то он и давал им деньги, деньги, деньги! На какие только затеи не давал! Я возил папу на авто. На «хорьхе». Австрийских фашистов, людей Дольфуса[3] с их легитимистскими лозунгами, мой отец ненавидел столь же сильно, как и их немецких собратьев. Он их всех ненавидел, это сметье, ненавидел самую их суть! Однако у австрийских легитимистов кроме раздувания пены ничего не вышло. «Они украли мою родину!» — сказал папа после того, как Гитлер вступил в Австрию. Но к тому времени мы сами, после всевозможных переездов и переселений, очутились в небольшой квартирке с окнами на задний двор, в районе Северного вокзала. Промотали и растренькали все огромное состояние. И ничего толкового добиться не смогли. У отца я только одному мотовству и научился. И как раз для этого у меня сейчас нет никакой возможности!
Пандура прервал свой монолог и засмеялся. Потом он постучал себя пальцем по лбу и произнес:
— Жизнь — сплошной анекдот! Мой отец, — продолжил он свой рассказ, — будучи румыном и католиком, был жутким антисемитом. Я сначала этого не понимал. В тридцать девятом я вернулся в Вену, записался в армию. Все эти легитимистские штучки меня просто достали! Эти здравицы в честь императора во время банкетов в разных отелях! Гитлер был мне больше по душе. Видел бы ты моего отца, как он ковылял по тротуару, опираясь на палку, весь уже скособоченный и молью траченный, но все еще пытающийся сохранить гордую осанку, окруженный всякого рода прихлебателями и паразитами, продолжающими надеяться, что им еще что-нибудь перепадет! Когда-то он был самым богатым человеком в Вене! А теперь все его состояние — старая соломенная шляпа! Правда, хоть погода весной была приличная. С бабами, понятное дело, давно было покончено. Он ходил на Северный вокзал, поскольку вместе с беженцами туда прибывали свежие известия о положении в Германии и Австрии. С Богом он, как истинный католик, мир уже заключил. Умер он, когда немецкие войска вошли в Париж. Я тоже шел с войсками на Париж. Но не к отцу.
Лейтомерицкий был покладистым работодателем. Он сумел установить отношения между собой и обоими учителями танцев таким образом, что никто толком не мог бы сказать, каковы они на самом деле: с одной стороны, танцевальная школа на Пиаристенгассе, недалеко от Йозефштедтской, называлась именами Оберкофлера и Пандуры, да к тому же на здании красовалась дорогая вывеска «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА ОБЕРКОФЛЕРА И ПАНДУРЫ», выполненная печатью на стекле, золотыми буквами прописью на темно-зеленом фоне, с другой же — оба упомянутых господина не имели никакого представления о финансовой стороне дела, о расходах и доходах, да и о том, что в конце концов получалось в остатке, они не имели никакого понятия.
Большой зал танцевальной школы по распоряжению Лейтомерицкого был выкрашен в белый цвет. Роскошная буфетная стойка вишневого дерева протянулась вдоль стены почти на всю ширину зала. Помещение освещено небольшими лампами с шелковыми абажурчиками, и, разумеется, посередине с потолка свисает обязательная люстра. Если подойти к одному из окон и отодвинуть белую штору, напоминающую, вероятно, не без умысла, подвенечную фату, то увидишь замощенную булыжником узенькую улицу, на которую из окон соседних домов падает желтый, теплый свет.
Публика в школе большей частью состоит из отпрысков буржуазных семей восьмого района Вены, разбавленная несколькими пожилыми парочками, желающими освежить былые танцевальные таланты — а еще, что до войны было совершенно немыслимо, ходят сюда и одинокие дамы, и господа, использующие танцевальную школу как клуб для встреч, в беззастенчивых поисках удовольствий, как они их понимают.
У входа, перед дверью, посетителей приветствует Лейтомерицкий, в темном костюме, в начищенных до блеска лаковых ботинках. Хотя он и целует дамам ручки, а мужчин приветствует по именам, то там, то сям вставляя шутливое словечко, все же выглядит он как-то утомленно и не на месте — скособоченное, желтоватое лицо, весьма болезненное, большой нос, тронутые сединой виски и красные, вечно влажные губы. А вот Пандура производит совсем иное впечатление! Хотя и одет небрежно и в самом начале вечера предстает уже в слегка растрепанном виде, однако движется он, несмотря на свою приземистую фигуру, вполне уверенно и свободно, наверняка этому способствует алкоголь, и если он во время танца слегка ошибается или сбивается с ритма, то он небрежно и легко исправляет оплошность, отпустив остроумную реплику или шутливо махнув рукой.
По дороге на службу, а начинают они обычно часов около шести, они частенько заводят речь о Лейтомерицком и, как правило, кроют его во все корки. «Ведь в договоре записано, что мы — совладельцы этой лавочки!» Эта фраза звучит в их устах довольно часто, однако и она, и прочие их речи на эту тему не имеют никаких последствий.
Когда начинаются занятия и Пандура объясняет выстроившимся в зале ученицам, как даме следует протягивать руку для поцелуя и вообще что означает поцелуй руки в обращении с дамой и в отношениях между дамой и кавалером, или когда Оберкофлер, собравшись и устремив взор вперед, подняв вверх правую руку, обхватив левой за талию воображаемую партнершу, с большим подъемом демонстрирует начальные па танго, Лейтомерицкий в это время обычно уже скрывается в небольшой, покрытой белым лаком пристройке у гардероба, которую он именует своим бюро и из которой сквозь вставленное в переднюю стенку оконце он следит за происходящим. Правда, чаще всего его мало заботит происходящее в зале, и он в основном сидит на телефоне.
Идет ли речь о покупке партии американского рома в русской оккупационной зоне или о приобретении бэушных форменных рубашек у американцев, идет ли речь об автомобиле (в отличном состоянии, правда, в данный момент не на ходу), о занавесках из тяжелого шелка, об аугартеновском фарфоре или о рулоне линолеума — обращайтесь к Лейтомерицкому, не ошибетесь. Он ведет торговлю и с крестьянами из окрестных деревень, и тогда речь идет о картошке, вишне, яйцах или о квашеной капусте — в зависимости от времени года. У него, у Лейто, все отыщется — и детские коляски, и гладильные доски, и пуховые перины с постельным бельем. Но не стоит думать, что его энергия полностью расходуется на такую мелочевку. Эти дела он делает походя и от скуки. С чашкой кофе в одной руке и с горящей сигаретой в другой он большую часть времени восседает в своей пристройке и молча про себя что-то обдумывает.
С недавнего времени в танцевальной школе появилась фрау Штрнад. Они с Лейто, кажется, давно знакомы. Во всяком случае, в общении с ней он выглядит несколько скованно. Когда заходит речь об оплате, — а речь всегда идет только о наличных, — и ученики протягивают ему купюры сквозь окошечко в бюро, то с фрау Штрнад платы не требуется, он машет ей рукой, и она свободно проходит в танцевальный зал.
Ей лет сорок, у нее черные волосы, и когда ее спрашивают, чем она занимается, она отвечает, что заведует бюро по управлению частной недвижимостью. Стройная фигура, пышная грудь, красивые плечи, гладкая белая кожа, маленькие подвижные руки и изящные ножки, — в ее-то возрасте, а то и благодаря ему, она просто красавица, да еще какая! Она так улыбается, что от ее улыбки замирает сердце, она держится свободно и независимо, при этом есть в ней что-то от сорванца, и с юмором у нее все в порядке. Как сверкают из-под локонов ее прически крохотные алмазы в серьгах, как сияют ее серо-зеленые, обычно слегка прищуренные глаза, когда она через зал подходит к партнеру, как она наклоняет голову, словно глубоко задумавшись, а потом вдруг поднимает глаза и смотрит на своего визави открыто и в упор — все это производит впечатление уверенности в себе и непринужденности, вызова и одновременно некоторого кокетства, так что искра проскакивает. Обалденная женщина! В этом мнении все мужчины были едины.
Ничего удивительного в том, что почти сразу фрау Штрнад становится средоточием танцевальной школы, она возведена на трон и особенно обожаема юными девицами, она — образец для подражания и заводила во всех мыслимых эскападах.
Лейтомерицкий сидит в своем бюро и что-то пишет. Длинные колонны цифр тянутся по листку бумаги. Лампа с зеленым абажуром световым кругом заливает его письменный стол, но снаружи, из танцевального зала, этого не видно. Кофе, налитый в огромную чашку, давно уже остыл. Он прикуривает одну сигарету от другой.
Для Оберкофлера интрижка с фрау Штрнад не проходит столь гладко и безболезненно, как для других ее ухажеров. С самого своего появления Штрнад рассматривала танцевальную школу как свои охотничьи угодья, флиртовала то с одним, то с другим, назначала свидания — это не осталось незамеченным, к этому привыкли и, не без доли зависти, в меру об этом сплетничали.
В один прекрасный вечер Оберкофлер столкнулся с фрау Штрнад в коридорчике, ведущем к туалетным комнатам. Поравнявшись с ним, она остановилась и спросила, нельзя ли ей брать у него танцевальные уроки частным образом.
— А где мы будем заниматься? — спросил ошеломленный Оберкофлер.
— У меня, — с улыбкой ответила женщина и проследовала мимо Оберкофлера к лестнице, ведущей в зал.
Шуршание ее платья, вернее, ее юбки, которое он услышал, когда она уходила, станет затем опознавательной мелодией их встреч. Оберкофлер уже давно тайком бросал на фрау Штрнад задумчивые взгляды, примерно так, как посматривал он в свое время на Пандуру. Правда, внешне он вел себя вполне уверенно. Он никогда не выделял ее среди танцующих, не оказывал знаков особого внимания и всегда старался сохранять в общении с ней деловой тон, чтобы никак себя не выдать. Пандура вел себя совершенно иначе, явно за ней ухаживал, как и большинство мужчин, — но ничего у него не вышло. Впрочем, Пандура не слишком расстраивался, ему было с кем утешиться.
Фрау Штрнад открывает дверь, дружелюбно здоровается с Оберкофлером и приглашает его войти. Живет она в доме на Райхсратштрассе сразу за зданием парламента и рядом с ратушей — весьма престижный адрес. Она проводит его по комнатам, походя обращая его внимание на несколько вещей, память о муже, оставшемся лежать на поле брани, как она выражается. Оберкофлер хотел было спросить, в каких частях тот служил, но сдержался, решив, что еще будет повод.
Наконец они останавливаются посреди гостиной, и Штрнад негромко, но внятно говорит Оберкофлеру:
— Хватит комедии. Ложись-ка на пол! Впрочем, лучше давай-ка туда, там можешь раздеться. — Она машет рукой в сторону двери, ведущей в небольшую каморку.
Оберкофлер послушно уходит и возвращается в совершенно голом виде. Он растерян, и одновременно он в восторге и счастлив преклонить перед этой женщиной колени, целовать ее туфли. Иногда она командует, чтобы он улегся на пол лицом вниз и наступает ему на шею своей маленькой ножкой. Но чаще всего она требует, чтобы он ей о чем-нибудь рассказывал! Как это прекрасно! Часы, проведенные с нею, похожи на сказочные часы из детства. Оберкофлер потом пересказывает все Пандуре, тот поначалу слушает с любопытством, но впоследствии с горьким сарказмом отзывается на эти продолжающиеся и занимающие все больше времени встречи.
— Ты раньше был другим.
И в самом деле, Оберкофлер рассказывает ей обо всем, о чем она ни спросит. Что ему в ней нравится? Что особенно нравится, что конкретно? Любит ли он ее? Что для него значит, когда он говорит, что ее любит? Любит ли он только ее, только ее одну и никого больше? Ей, похоже, все это действительно интересно.
Иногда она разыгрывает другие сцены, другие истории, она в их отношениях главная, и она, например, спрашивает, любил ли он свою мать? Всегда ли он ее любил? Ходили ли они вместе в церковь? А потом она вдруг резко прерывает беседу.
Иногда, когда Оберкофлер со слезами на глазах просит прекратить его мучения, она забавляется с ним.
— Ты ведь не хочешь изгадить мои прекрасные ковры? — говорит она и шлепает его по заднице.
Однажды, по какому-то поводу, он вдруг начинает говорить о войне:
— За все время, что я был на фронте, я ни одного, ни единого человека не прикончил, — говорит он. Заметив, что Штрнад не нравится выражение «прикончить» и что она смотрит в сторону, он продолжает: — Все это было сплошным недоразумением! В Литве мы ликвидировали партизан, коммунистов, — расстреливали перед выкопанным рвом. А один из них все говорил и говорил сам с собой во весь голос, заложив руки за голову, говорил непонятно что. Я его спросил, о чем он это, а он мне: Кадиш, поминальная молитва! А остальные уже лежали внизу, в яме — как куча тряпья.
— Идиот! Свинья! — фрау Штрнад вдруг впала в истерику, колотя Оберкофлера в грудь своими маленькими кулачками.
Пандура все больше спивается. Когда он с утра пораньше наливает себе в кухне стакан рома (ничего приличнее в доме нет), между ним и Оберкофлером вспыхивают ссоры. Пандура не позволит собой командовать. У Оберкофлера иначе не получается, он как хозяин квартиры повышает голос. Пусть лучше позаботится о своих шашнях с этой бабой! В конце концов, когда ссора разгорается на полную катушку, Оберкофлер уступает и просит, чтобы Пандура остался.
Отношения с фрау Штрнад продолжаются.
Как-то раз она снова спрашивает Оберкофлера, какие у них отношения с Пандурой.
— У вас друг с другом ничего такого нет?
Оберкофлер говорит, что ничего подобного, и, собственно, сдает Пандуру.
— Что ты против него имеешь? Он ведь пропащая душа, — бормочет Оберкофлер.
— Ты ведь с ним, с этой грязной свиньей, с этим господином бароном был на фронте, не так ли?
— Вовсе он никакой не барон! Его старик-отец, все промотавший и прокутивший, сделал ребенка какой-то деревенской девке. Пандура — байстрюк, незаконнорожденный!
— В самом деле? — произносит она и смотрит на Оберкофлера, злорадно улыбаясь.
Весной, — а было это весной сорок седьмого, что, впрочем, к делу не относится, — Обрекофлер на ступенях лестницы, ведущей к платформе городской электрички, нос к носу сталкивается со своей женой: она поднимается ему навстречу, блондинка, та самая светловолосая дамочка с Йозефштедтской! Его словно током ударило. Он протягивает к ней руку, но она отшатывается в сторону. Она ведет за руку ребенка, девочку, и вовсе не намерена останавливаться.
— Ирена! Ты меня не узнаешь?
— Чего тебе надо? — отвечает она и смотрит ему прямо в глаза дерзким и холодным взглядом. Одета с иголочки, косметика идеальная. Дорогое платье. Последнее, что он замечает, когда она скрывается в толпе прохожих, так это круглую шляпку-котелок у нее на голове: по сезону на шляпке воздушная белая вуаль, обсыпанная рисунком из маленьких синих фиалок.
Однажды утром Пандура заявляет Оберкофлеру, что намерен съехать с квартиры. Он сыт по горло! Он решения не переменит, хотя Обрекофлер со слезами на глазах умоляет его остаться.
Пандура с бутылкой рома в руке ухмыляется в ответ:
— Вот увидишь… Что — вот увидишь?!
Оберкофлер отправляется к Штрнад за советом. Она гонит его прочь.
— Чего ты ко мне с этим приплелся? Ступай домой и решай все сам.
Тело его нашли на кухне. На столе — старая газета в пятнах, он, возможно, читал ее напоследок. Рядом свидетельство о гражданстве, крест на шейной ленте. Оберкофлер всегда был аккуратистом. Сам он, или то, что от него осталось, лежит, подогнув колени, перед газовой плитой, словно перед реликварием или дароносицей в церкви, голова засунута в духовку.
Глава 2
В прекрасном городе Клагенфурте в одном из доходных домов для небогатого люда, стоящем на широкой улице, что ведет из центра на восток, помимо других обитателей, в одной из квартир первого этажа проживала рабочая семья. Семья домовладельца, состоявшая к тому времени всего-навсего из пожилой, но все еще крепкой его вдовы и ее взрослого сына, занимала второй этаж.
К горному хребту Караванке с австрийской стороны полукругом примыкает обширная долина, занимаемая озером Вёртерзее, изрезанным множеством бухт и бухточек. На белых известковых склонах гор с резко очерченными синими тенями выделяются бурые и зеленые пятна лесных массивов.
В центре длинный гребень холма из пористой породы, частично заросший лесом, частично используемый словенскими крестьянами в сельскохозяйственных целях, с него вниз устремляется речушка, ложе которой вытянулось как по струнке.
Рабочая семья состояла из отца, матери и маленького сына, которого звали Альфредом. Едва ли не с младенческого возраста мальчишка обнаружил особые таланты: к примеру, он запоминал все торговые вывески, когда его по широкой улице вели в центр города. Он умел и другое: аккуратно разложить на полу покрытые ржавчиной железные кольца, закрывавшие отверстие в кухонной плите, а потом тютелька в тютельку вставить их на прежнее место. Эти скромные навыки были отмечены его близкими, особенно гордилась им мать, считавшая, что ребенка ждет большое будущее.
Отец его был подсобным рабочим на фабрике, находившейся в промышленной зоне вдоль железной дороги, в южной части города. Предприятие по производству и розливу фруктовых соков было старомодным и технически отсталым. В короткий перерыв рабочие, мужчины и женщины, при любой погоде устраивались со своими бутербродами во дворе фабрики, в открытом сарае, перемежая еду разговорами, чаще всего довольно свинского содержания.
Отец был невысокого роста, но мускулистый, с косившими в сторону глазами и болезненно раздутыми щеками. Голос у него был грубый, — хотя на слова он был весьма скуп. Чаще всего, вернувшись домой с работы, умывшись и съев ужин, приготовленный женой, он молча, уставившись перед собой, сидел в уголке кухни и курил сигарету за сигаретой. В разговоры матери с ребенком он не вмешивался. Раз в несколько месяцев он уходил в запой, длившийся несколько дней.
На фронте он служил в пехоте, был несколько раз награжден, но в конце войны был все тем же простым солдатом, каким его в свое время призвали в армию. Сын домовладельца, живущий на втором этаже, убежденный наци, сделавший блестящую карьеру в войсках СС в Берлине, всякий раз, проходя мимо, хлопал малорослого работягу, снимавшего у него жилье, по плечу и спрашивал ехидно-самовлюбленным голосом:
— А не заняться ли нам строевой подготовкой?
Жена, мать Альфреда, мужа своего разве что терпела, по большей же части она его просто не замечала, и если когда-то между ними и существовали любовь или привязанность, то от них теперь и следа не осталось, если не считать доносившихся из темной спальни раз в неделю пыхтения и скрипа кровати. Мальчонка же во всем подражал матери и совсем не замечал отца.
Мать Альфреда работала в типографии — собирала отпечатанные листы в пачки или промазывала клеем готовые блоки. Печатали на ее предприятии в основном библии, католическую душеспасительную литературу и церковную прессу. Трудно сказать, с самого ли начала она имела склонность к этому или же переняла ее от своего окружения на работе: она была очень богобоязненной, и если, к примеру, ночью муж или сын заставали ее сидящей на кухне, на скамеечке рядом с плитой, набросив на плечи платок, то губы ее всегда беззвучно и истово шептали молитву. На стене тикали часы.
Сын домовладельца, которого его мать называла Хаймо, обычно весь день проводит в постели, решает кроссворды и листает иллюстрированные журналы, вечером же совершает большой выход в город, где его как желанного, особого посетителя ждали ночные заведения, расцветшие в годы военной оккупации. Нарядившись в костюм, при галстуке, усевшись у барной стойки, он с апломбом разглагольствует обо всем подряд и доверительно шушукается с барменом и официантами. Под утро он, всегда с очередной женщиной, подъезжает на своем «мерседесе» к дому: галстук сбился на сторону, на бледном, распухшем лице — щетина. Заглушив мотор, он выуживает свою спутницу из машины и волочит ее, хихикающую и придерживающую оборки своей одежонки, чтобы не запачкаться, по лестнице к себе на второй этаж.
Помимо жильцов, рано поутру разбредающихся из дома и трусящих на работу, проживает здесь и одинокая женщина по фамилии Штарк, ее квартирка находится в пристройке, рядом с гаражами, прежде, вероятно, в крестьянском прошлом дома, служившей то ли сараем, то ли конюшней: сейчас в пристройке три или четыре квартирки, одна над другой, под самую крышу, и эта самая Штарк в одной из них и живет.
Фрау Штарк отличалась от других, во-первых, потому, что не ходила на работу, а во-вторых, она на разных людей производила очень разное впечатление. Для уличных мальчишек, к которым вскоре прибился и Альфред, особым развлечением было следующее: вечером, когда почти совсем стемнеет, они прокрадывались по песчаной и покрытой островками сорняков площадке к двум окнам ее квартиры и приникали к ним. Отец Альфреда, простой работяга, всякий раз, когда встречал фрау Штарк, глазел на нее, не отрываясь, а Альфреду запрещал близко к ней подходить.
Сын домовладельца, просыпавшийся ближе к полудню, любил подсматривать из-за занавески спальни за теми, кто к ней заходит и выходит, и, обращаясь к очередной даме, еще потягивающейся в его постели, отпускал реплики по поводу краткости или долготы очередного визита.
Однажды фрау Штарк нашли мертвой в ее крохотной квартирке, убил ее, скорее всего, последний ее любовник — так вот и закончилась эта короткая, ничем особым не примечательная жизнь. Какое-то время все гадали, кто же именно ее убил, но довольно скоро это перестало кого-либо интересовать.
Есть в доме и еще один человек, весьма отличающийся от остальных его обитателей. Тоже женщина. Правда, она не живет здесь постоянно, она — гостья, приезжает нечасто и на короткое время, обычно дня на два или на три.
Это сестра матери Альфреда, его родная тетка, живущая в Вене, в мегаполисе, в сознании ребенка находящемся далеко-далеко и почти сказочном. Рослая, темноволосая женщина, не без привлекательности и элегантности, прямая противоположность своей сестры, изношенной нуждой и трудом, серой и прибитой. Увидев их вместе, никто бы не принял их за сестер.
Жильцы дома весьма дивились этим визитам из Вены и считали, что причиной тому сестринская привязанность и сентиментальность: мать Альфреда, фабричная работница, была единственной сестрой и вообще единственной еще живой родственницей венской дамы.
Что касается Альфреда, так он безмерно радуется, когда тетя Виктория приезжает к ним в гости. Она всегда привозит подарки, всякие там сладости и прочие драгоценные вещи — ну и, разумеется, дарит поцелуи и ласковые словечки. Тетя хвалит Альфреда за усердную учебу, покупает ему кое-что из одежды, и чем он старше, тем она больше пытается облагородить его. Отец равнодушно воспринимает эти визиты, тетя ведь приезжает нечасто. И вообще, какое ему до всего этого дело? В первый же день своего приезда тетя Виктория, как он ее называет, дает отцу немного денег, и он молча прячет их в карман. Он вообще не любитель поговорить. Иногда он громко и страшно кричит во сне, в супружеской постели. Жена трясет его тогда за плечо и шепчет в душном мраке комнаты: «Война кончилась, Ханс! Война кончилась!»
Мальчонке этих денег не видать. Отец тратит их на себя.
Дом, в котором они жили, как уже сказано, был двухэтажный. Лишенное всякого декора горохово-зеленое здание с красной крышей было настолько безликим, что уже слово «лик» в слове «безликое» звучало архитектурным излишеством. Сразу за пристройкой, отделенное от нее лишь небольшой площадкой, пролегало железнодорожное полотно. Во двор дома и в квартиры врывался грохот проезжающих мимо поездов, тревожные звонки сигнального колокола и скрежет выставляемых на переезде решеток шлагбаума, крики сцепщиков и лязг буферов грузовых вагонов. Вместе с глухим шумом, доносящимся с широкой проезжей улицы, то нарастающим, то прерываемым полной и почти деревенской тишиной, эти звуки, вместе с красками и запахами растрепанной и неотчетливо прочерченной городской окраины, были фоном детских лет Альфреда.
Со стороны улицы имелась узкая полоска огорода, разбитого на грядки, на которых жильцы дома высаживали салат, горох на длинных подпорках, помидоры, тыквы и всякие разные кухонные травы-приправы. Если встать у забора, то можно было увидеть окаймленную невысокими домами широкую улицу, из глубины которой иногда с гудением выныривал одинокий и заблудившийся автобус.
На небольшой площадке, не имевшей ограды и расположенной между железной дорогой и улицей, частенько затевала свои игры детвора, в основном обитавшая в этом доме. Площадка ничем и никем не была занята и своей ничейностью идеально устраивала детей. Больше всего они любили играть в бомбометание. Игра эта заключалась в том, чтобы точными бросками камней разбомбить старательно возведенную конструкцию из пустых консервных банок. Пока сторож этой пирамиды как можно быстрее возводил ее заново, бомбардиры должны были изловчиться и собрать брошенные в сооружение камни. Если сторожу удавалось изловчиться и поймать кого-то из метальщиков, тот становился на его место и водил. Чем сильнее сплющивались и уродовались консервные банки, тем труднее было выстроить из них пирамиду. В этом смысле детская забава словно бы отражала тот процесс восстановления, который протекал вокруг: большинство домов предместья, частично или полностью разрушенные бомбами во время войны, лежали в развалинах.
Клагенфурт заняли англичане. Поэтому консервные банки, которыми играли дети, были в основном с английских армейских складов, и на зеленовато-бурых жестянках были напечатаны слова, странные и загадочные благодаря своей непонятности. По улице частенько проезжали военные грузовики. Если шлагбаум на переезде был закрыт, то дети использовали остановку военной колонны и попрошайничали, протягивая руки в сторону солдат, восседавших в джипах или в кузове грузовиков.
Летом, ну а лето вообще было самым прекрасным временем, они уже спозаранку готовили свои велосипеды, чтобы после обеда отправиться купаться. Подтягивали гайки на дребезжащем крыле или на защите цепи, поднимали или опускали седла, чинили порвавшуюся сетку из резиновых ниток на заднем колесе дамского велосипеда, чтобы восстановить сказочный узор, напоминающий павлиний глаз или морскую раковину. А если вовсе нечем было заняться, то задумчиво и бессознательно крутили пальцами рифленый валик динамо, раскручивавшегося и снова останавливавшегося — словно картинки во сне.
После обеда отправлялись в путь по длинным аллеям, тянущимся вдоль полей, мимо луговых межей, по полевым дорогам, на которых под лучами солнца поднималась плотная, белая пыль, словно раскаленная и тончайшая пудра, и катили вниз к реке. Какой там поднимался визг и смех, как плавали и ныряли! Мокрые руки пловцов выпрыгивали из серых речных волн и отсвечивали белыми проблесками. На реке в одном месте была запруда, и там образовалось нечто вроде озера: мальчишки любили прыгать в воду с края запруды, туда, где взбивалась белая пена и громко шумела вода, а девчонки, скрестив на груди руки, с берега глазели на своих героев.
Из всей детской компании выделялись и верховодили два парнишки: один, Георг, долговязый, с бледным и замкнутым лицом, блистал своим велосипедным искусством и той манерой, с которой он с заносчивым выражением на лице всей вся выслушивал и рассматривал, а потом, нисколько не обращая внимания на окружающих, отворачивался в сторону. Второй, Альфред, — к тому времени коренастый, немного неуклюжий паренек, лицо которого, покрытое веснушками, излучало доброту и открытость, слегка замутненную лишь тем, что было в этом лице что-то диковатое. Без какой-либо договоренности или обсуждений между другими детьми оба мальчишки, Георг и Альфред, были главными, как будто это было их естественное право. Остальная компания следовала за ними. Они отличались друг от друга своей внешностью, но и характеры их были разительно несхожими. Однако вместе их характеры и души удивительно хорошо сыгрались, словно две скрипки, как раз для этого дуэта созданные. Замечали ли они, знали ли они это сами? Или это происходило из тактических соображений, из своеобразного оппортунизма, из нежелания связываться друг с другом? Вместе все получалось лучше. Так все сложилось, и их это устраивало. Например, если Георг считал, что день сегодня слишком жаркий и на реку ехать не стоит, то Альфред, сидевший на корточках под деревом и рисовавший старым гребнем круги на песке, даже не поднимал взгляда. А если Альфред предлагал какую-нибудь игру, неважно какую, то и Георг считал, что это отличная идея. Иногда, что бывало редко, мнения их все же расходились. Договориться удавалось, но трудно и сложно, поскольку именно Альфреда тяжело было переубедить. У него всегда находился аргумент, противостоящий мнению Георга. Он охотно подтасовывал аргументы, запутывал словами себя и других. Но уж если его удавалось переубедить, он решительно вставал на сторону этой затеи и с жаром объяснял ее суть всей компании, в то время как Георг держался в сторонке с присущим ему безразличием.
На железнодорожной насыпи росли сорняки, и серые их листья стлались по земле под натиском воздушного потока, когда проходил поезд. В траве блестели осколки бутылок, которые пассажиры беззаботно выбрасывали из окон. Все выглядело пустынно и затеряно, но было в этой картине что-то манящее и призрачное, ведь рельсы уходили в неизвестную даль, а осколки так красиво блестели.
По вечерам постоянные и временные жильцы собирались во дворе на скамейке, поставленной вдоль длинной стеньг пристройки напротив одинокого, с пышной кроной, дерева. Квартирки были маленькие и тесные, и так приятно было посидеть на улице под открытым небом, вдыхая медленно остывающий после жаркого дня вечерний воздух. Разговор касался то того, то другого, обычная болтовня, одним словом. О политике никогда не говорили, словно следуя молчаливому уговору, и остальной мир за пределами двора и дома если и становился предметом разговора, то только в виде отдельных историй, то смешных, то страшных, то удивительных, но никак не связанных одна с другою. Любили поговорить и о детях, и о том, кем тот или иной ребенок когда-нибудь станет.
Иногда дело доходило до споров и размолвок: например, кто из соседей накачал из колонки слишком много воды, а кто в общую мусорную яму свалил слишком много отбросов, или кто выколачивает половики слишком рано утром или слишком поздно вечером.
Летними вечерами листва на большом дереве словно застывала в неподвижности, и от нее шел горьковатый запах.
Если обоим друзьям надоедало играть с остальными детьми, или вечером, когда малышей загоняли в постель, Альфред и Георг отправлялись в свое любимое тайное место.
За их домом по краю города тянулись складские площадки древесины, угля и железного лома, дальше располагались большие луга и фруктовые сады, а также несколько крестьянских дворов с выгонами, пашнями и садочками, выглядевших в предместье города несколько потерянно.
Альфред и Георг катят на своих велосипедах в сторону площадки с железным ломом, там есть дыра в заборе, укрытая развесистым кустом. Они пробираются сквозь дыру, ползут на четвереньках в густой траве, остерегаясь большой собаки владельца площадки, о которой ходят слухи, что она очень злая. В самой середине горы из ржавого железа они оборудовали себе укромное место. Там они и сидят, и говорят обо всем подряд, у них нет тайн друг от друга, и разговоры их заканчиваются только тогда, когда они слышат, как мать, — вернее, их матери, — зовут обоих домой.
Георг рос без отца, и он бы отдал целый год своей жизни за то, чтобы узнать, кто же его отец, и чтобы хоть немного побыть с ним.
Альфреда с отцом, жалким работягой, ничего не связывает. Ему до Альфреда нет дела, вот и Альфреду до него дела нет. Разумеется, Альфред любит свою мать. Однако для него она, с ее благочестием и богобоязненностью, — как чужая. Она ему неинтересна. Идеальный образ женщины, образ, который он себе составил, олицетворяла его тетка — тетя Виктория. Безо всяких «но» она была для него светлой королевой, словно сошедшей на землю с небес. Он знал, что она его любит. Он знал это по взглядам, которые она порой бросала на него. Иногда, оказываясь рядом с ним, она на секунду останавливалась и проводила ладонью, кончиками пальцев, по его щеке. Тогда он чувствовал и был уверен в том, что в этой ласке заложено много больше, чем дежурная любезность рассеянной красавицы.
— Вот Виктории, так ей повезло! Она рано убралась отсюда, из Клагенфурта. Всегда имела дело с настоящими мужчинами!
— А тетя богатая?
Альфред, прежде чем уснуть, думает: а она, тетя, должно быть, богатая. Он не представляет толком, что значит быть богатым. Он знает только другую сторону — что значит быть бедным. И он принимает то головокружительное ощущение, которое вызывает в нем слово «богатый», за обещание счастья, счастливой жизни.
В наступившей темноте мальчишки прокрались к окнам квартиры на первом этаже, где жила фрау Штарк. Надежно укрывшись за темными зарослями огромных сорняков, присев на корточках или же в молчаливом оцепенении прижавшись друг к другу, словно два лунатика, они, насколько позволяли задернутые занавески, заглядывали в окно. Иногда удавалось увидеть только широкую мужскую спину. Если же им везло, то их взору являлись светлые подошвы двух маленьких ног. Эти ступни, казалось, были наделены крыльями! Они так широко расставлены, что невозможно представить, будто они принадлежат одной и той же женщине.
За железнодорожным полотном, за широкой улицей город в самом деле заканчивался. Там, за крышами низеньких, отдельно стоящих домов, в относительном порядке тянущихся вдоль улицы, и за голыми ветвями старых деревьев, где зимой взлетали вороны и как черные точки летели по небу, возвышалась церковная колокольня с красной крышей. По воскресеньям Альфред отправлялся с матерью в церковь. Там он с удивлением посматривал на ее лицо, склонившееся над католическим песенником.
Сразу за церковью, в открытом поле видны были еще несколько заборов и сараев, а дальше — ничего, пустое и огромное небо, пронизанное солнечными лучами, и от этого вида сердце его трепетало и от страха, и от радости; а порой небо было низкое и плоское, закрытое косо тянущимися грядами облаков. И тогда на него наваливалась тяжесть.
В семье у Георга дела обстояли так: с одной стороны, у него была тетя, очень болезненная и никогда не выходившая из квартиры. А еще дядя, он работал на мусоровозе, и от него, когда он возвращался после смены, тяжело и тошнотворно пахло гнилью и разложением. Георг у приемных родителей чувствовал себя вполне терпимо. Его родная мать в сезон работала официанткой в «Марии Вёрт», в отеле на озере, и раз в неделю приезжала навестить его. Когда мать на велосипеде въезжала во двор дома, яркая и элегантная, в коротком летнем платье, в изящных туфельках, с накрашенными красной помадой губами, то обоим друзьям было ясно, что на сегодня их играм пришел конец. Мать, своенравно откинув прелестную головку назад, рассматривала Георга и при этом барабанила пальцами по столу. Она быстро выясняла, что из уроков он выучил, а что нет. За этим сразу следовали похвала, хула или наказание, в принципе, справедливые, но крайне несправедливые в соотношении одного с другим: похвала была редкой и сдержанной, а вот ругала она его яростно и взвинченно. Было бы, однако, совершенно неправильно считать, что приезды матери были Георгу в тягость или что он хоть в малой мере сомневался в ее компетентности, напротив: как только он замечал приближающуюся на велосипеде мать, один лишь факт, что она у него есть — и что она к нему приехала! — наполнял его гордостью и бьющей через край радостью. Да, она самая красивая, самая выдающаяся, самая лучшая!
Альфред завидовал Георгу, что у него такая мать. А поскольку он в своей зависти себе не признавался, то у него находилась тысяча причин принизить ее достоинства. Как он радовался, когда она снова исчезала из дома, уезжала на своем велосипеде обратно! Так сильно он радовался лишь тогда, когда тетя Виктория сообщала о своем приезде. Уже сам факт, что она приезжает из Вены! Из Вены! Боже правый — из Вены! Ему трудно было себе представить, что же это за чудо — Вена. Когда он в своем воображении представлял иногда их Клагенфурт, его улицы и переулки разросшимися до размеров сверкающей звезды, чтобы как-то представить себе, что такое Вена, что такое — большой город, он все равно понимал, что картина эта не соответствует истине, что там, в Вене, все должно быть по-другому.
Тетя Виктория не останавливалась у них, она снимала комнату в отеле в центре города, говорила, что не хочет их стеснять. В самом деле, устроить ее в их квартирке было бы непросто. Она любила гулять с племянником, она водила его в единственное в городе пристойное кафе — на главной площади, напротив ратуши, где он, слегка смущаясь, сидел на изящном стульчике и осторожно возил по тарелке с куском торта вилочкой из фальшивого серебра.
Лицо тети, окаймленное темными волосами, выглядело подчеркнуто большим и белым, словно особая, незнакомая и далекая страна, в которой терялись его взгляды. Она сидела напротив него, и он тайком оглядывал ее фигуру, однако взор его постоянно останавливался то на одной из пуговиц ее блузки, то на поблескивающей жемчужине ее ожерелья; или же он захлебываясь рассказывал ей о каком-нибудь из своих приключений. Она смотрела на него своими красивыми, немного холодными глазами, улыбаясь при этом тонко изогнутыми губами. Ее грудь, на которую он на самом-то деле не осмеливался взглянуть, ее бедра — весь ее телесный облик вставал перед его мысленным взором, в той области, где мечты неразделимо перемешиваются с действительностью, и мысли, порожденные этими его фантазиями, не слишком отличались от тех, что приходили в голову, когда он подглядывал за фрау Штарк.
— Вена очень красивая, правда? — спросил он ее однажды в кафе.
— Ты обязательно туда приедешь! — коротко ответила она и быстрым жестом потрепала его по руке.
Однажды он спросил ее о том, как она живет в Вене, то есть он, собственно, вовсе не знал, о чем ему точно хотелось узнать, однако тетя обошла его вопрос молчанием и быстро сменила тему разговора. Рассеянно и несколько угрюмо, что совсем не соответствовало рассказываемой истории, она поведала ему о цирке, недавно гастролировавшем в Вене, она бы с удовольствием его туда сводила. Тетя снова перешла к другой теме, уставившись сквозь окно кафе на площадь, где время от времени проезжал мимо автомобиль и где деловитые голуби ворковали о чем-то друг с другом у края лужи. — Тетя вообще была немногословной.
— Однажды ты вырастешь и станешь взрослым!
— И что тогда?
— Тогда ты отсюда уедешь.
Альфреда вовсе не смутила мысль о том, что он лишится матери или, по крайней мере, оставит ее здесь. Ну а об отце он вообще не вспомнил.
Ветки каштанов на площади, усеянные купами листьев, отбрасывали редкие тени, так бывает весной, когда солнце словно нехотя светит с неба.
В то время Альфред и Георг впервые стали зарабатывать: помогали на городской лесопромышленной ярмарке — мероприятии, сильно смахивавшем на разгульный народный праздник под открытым небом.
Когда Альфред в полдень добрался до территории ярмарки, все вокруг было словно в бессознательном и одурманенном состоянии после ночной гулянки: переполненные мусорные баки, на столах горы грязных стаканов и тарелок, трава, истоптанная тысячами подошв, силилась снова выпрямиться.
В самой середине территории праздника, в сердцевине хаоса, лежал хозяин, нанявший ребят, устроитель ярмарки, похрапывая на кемпинговом лежаке, разложенном прямо за стойкой. Едва услышав, как Альфред стал составлять стаканы в мойку, он сразу поднялся на ноги. Потерев ладонями грубое жирное лицо, он без каких-либо других телодвижений спрятал в шкаф дробовик, обнаружившийся рядом с лежаком.
Хозяин говорил с Альфредом исключительно короткими, словно лай, командами. Он нисколько не скрывал, насколько ему все опротивело, все раздражало. В любом случае Альфред получил работу в самом заведении: огромный, растянутый меж деревьями брезент закрывал столики от солнечных лучей. Все выглядело почти красиво, когда, например, сквозь дырки в старом брезенте то тут, то там солнечные лучи падали на оставленную пивную кружку или на смеющееся лицо женщины.
У Георга работа была потяжелее. Он работал не в самом заведении, а ходил между палатками и ларьками с ведром, в котором стояли охлажденные бутылки с пивом и лимонадом, и предлагал их посетителям. Из всех мальчишек, которых нанял на ярмарку хозяин, Георг вскоре заработал больше всех.
Альфред трудился усердно, и даже хозяин не мог его в чем-то упрекнуть. Однако когда мальчик обнаружил в соседнем зале игровые автоматы со сверкающими лампочками и разноцветными колесиками, заработанные деньги у него не удержались. В течение недели он проиграл все заработанное, и когда в пятницу он отправился домой, в кармане у него не было ни гроша.
Улицы, по которым он шел с ярмарки, казались ему вымершими и неживыми. В ушах издевательски звенела музыка, доносившаяся со стороны катальных горок и каруселей. Он раздумывал, что ему сказать матери. Что деньги он потерял? Что его обокрали? Поверит она ему? Чувствовал он себя совершенно подавленным и жалким. Однако, с другой стороны, и это изумило его самого, в нем проснулось какое-то непокорное чувство, столь живое, что он им чуть ли не гордился.
Глава 3
Если подъезжать к Вене с востока, взгляду открывается прежде всего безлюдная, расчерченная аллеями зеленых тополей и полувысохшими руслами небольших рек равнина, нынче заполоненная многочисленными промышленными зонами, изрезанная автобанами, — равнина, собственно, являющаяся самым краем Венгерской низменности, и уж потом появляются круглые вершины и склоны Винерберга и Лааерберга. Перевалив через них, видишь перед собой город, словно влитый в огромную бухту или раковину, образованную полукругом холмов Венского леса. В центре разноцветья и пестроты зданий, крыш, куполов и башен, неотчетливо видимая в дымке, возвышающаяся над похожей на требуху и свивающейся в жирные кольца то сероватой крошкообразной, то смахивающей на корку запекшейся раны массой высится башня собора Святого Стефана. Там с незапамятных времен находится средоточие города, да и страны в целом. До сих пор, как ни удивительно, все расстояния в Австрии измеряются от этой башни, и сетка географических привязок берет свое начало именно здесь.
Далеко на востоке, в районе реки Лейты, находится деревня Парндорф, по-венгерски именуемая Пандорфалу. Когда-то давно этот край относился к немецкой Западной Венгрии, и по сию пору здесь живет еще несколько венгерских семей. Собственно, семья Якублец в этом местечке была инородным телом, поскольку Якублецы перебрались сюда из хорватской деревни на юге, то есть были переселенцами. Что послужило причиной их переселения, кануло уже в забытье, как позабыт был и хорватский язык, родной язык этого семейства, сохранившийся только в нескольких почти уже непонятных словечках и оборотах, а также в записанных от руки рецептах хорватских блюд, вложенных в старую, затертую поваренную книгу.
Когда Мария позднее вспоминала о своем детстве, она сначала видела только родительский дом, фасадом обращенный к улице, с большим кустом бузины перед ним, вечно покрытым уличной пылью. А потом ее взору являлись деревянные ворота, ведущие во двор, кособокие и серые. Двор не был замощен, и по засыпанной щебенкой земле змеилась грязная канавка, забитая мусором, прямо к воротам, а оттуда под воротами в уличную сточную канаву, в весенней темной воде которой кишели головастики, всякие личинки и прочая мелюзга. Вдоль канавки во дворе бродили, переваливаясь, утки в поисках корма, и мать, выйдя из дома, бросала им размельченный кукурузный шрот. Как жадно утки вытягивали свои белые шеи! Как громко гоготали они, завидев прибывший корм!
В памяти Марии лицо матери отсутствовало, вместо лица возникала какая-то гладкая, округлая и белая форма, похожая на большое яйцо, лишенное каких-либо индивидуальных чертили выражения. Ласточки, пролетавшие под крышей просторной, тянувшейся вдоль дома крытой галереи с бесконечными жердями для развешивания кукурузных початков, в памяти Марии представали более живо и реально, чем мать.
Вот разве что руки ее, безостановочные, всегда чем-то занятые — как маленькие механизмы, которые движутся сами по себе, без всякого приказа извне. Или ее же ладони, сложенные и поднятые для молитвы, и этот внутренний образ был в свою очередь связан с белыми и прямыми телами свечей, со светло-серыми и коричневатыми, колеблющимися в воздухе облаками ладана, с розами и нарциссами, расставленными в церкви в красивых вазах. Все они, члены семьи Якублец, были прилежными прихожанами, и Христос Спаситель хранил их.
Вся деревня, собственно, и состояла из одной-единственной широкой улицы, вдоль которой тянулись одноэтажные пыльные домишки. На некотором расстоянии от деревни улица, вероятно, поворачивала в сторону, потому что вдалеке за сухими пшеничными полями угадывались купы больших деревьев, а на самом горизонте ряд тополей создавал зубчатое обрамление неба, которое простиралось — сверху, сзади, со всех сторон — над открытой, плоской и, по сравнению с небом, словно не существующей равниной.
По этой улице в понедельник утром уходил отец Марии в те недели, когда на выходные он приходил домой. Мария знала, что он идет до определенного перекрестка дорог, где была автобусная остановка. Она смотрела ему вслед, видела его удаляющуюся черную спину. Отец работал в Вене каменщиком, на разных стройках. С собой он носил дорожный ящик, сработанный из грубых досок, покрытый мазками краски, в котором хранился инструмент и его городской костюм. Ящик он приносил с собой в деревню лишь тогда, когда в доме и во дворе надо было что-то починить и подправить, и тогда он извлекал из него молоток, кельму и растворную миску. Это всегда было волшебным действом.
Лишь немногие члены большой семьи Якублецов жили в Парндорфе. Старшие братья Марии работали, как и отец, в Вене, а также в других городах, в Германии, в Швейцарии; один даже эмигрировал в Америку, потому что в Парндорфе работы не было никакой и выживать было трудно.
Мария жила с матерью и младшенькими братьями и сестрами. Вот поэтому воспоминания Марии о Парндорфе всегда были связаны с детьми, игравшими в доме и во дворе, с детскими криками, с грязноватым белым цветом свивальных тряпок и обломками игрушек.
В Вене отец жил в однокомнатной квартире с кухней и чуланом — на другом берегу Дуная, в Кагране, в доходном доме на широкой пустынной улице. За несколькими домами, создающими своими брандмауэрами вполне городской колорит, сразу же начинались поля, рукава Дуная с заросшими берегами и поймами; транспорта там почти не было; и когда Мария перебралась в Вену вслед за отцом, ей поначалу казалось, что она переехала из маленькой деревни в большую. Одной из целей ее переселения было то, что она, помимо работы уборщицей, станет ухаживать за отцом, готовить ему и стирать, а кроме того сможет в свободное время поучиться на курсах в Народном институте.
Отец чаще всего приходил домой в семь вечера и сразу валился на постель. Он работал на сдельной, так выходило больше. Если же день был не слишком тяжелым, они с Марией отправлялись гулять по кварталу, проходя мимо трактиров и всяких увеселительных заведений — дома, в их квартире отец чаще всего из соображений бережливости сидел в темноте, по воскресеньям же при свете маленькой лампы читал газету, в первую очередь объявления. Он не переставал надеяться на шанс, на неожиданный поворот судьбы, который так, в одно мгновение, принесет счастье.
Единственным удовольствием, единственным развлечением в этой жизни были воскресные богослужения. Некоторое время спустя Мария тоже нашла себе работу, у нее появились свои клиенты, у которых она каждый день убирала квартиру, делала покупки или иногда сидела с детьми. Самым прекрасным днем для Марии было воскресенье — вместо того, чтобы идти на работу, можно было в красивом платье стоять в ярко освещенном, праздничном церковном зале, среди других людей, возносить вместе с ними благодарность Господу и молиться.
Иногда, увы, слишком редко, отец рассказывал ей о своей прежней жизни, о том времени, когда он еще не был знаком с ее матерью и вел своего рода кочевую жизнь:
— В Капруне, в знаменитом Капруне, ну, ты знаешь, в Зальцбургской земле, я работал на строительстве плотины в Мозельской долине. Бог мой, что было за время! Зима там, в горах, наступает рано, и огромные облака длинным белым шлейфом тянутся через горы.
Среди рабочих были агитаторы-социалисты. На вырубке штолен люди зарабатывали кучу денег. Однако в выходной они спускали весь свой заработок внизу, в долине, в Уттендорфе или в Нидернсилле, дурачье такое.
Когда электростанцию построили, я нанялся на Глокнеровскую высокогорную дорогу, работал там в дорожной мехколонне, шесть месяцев в году, суровая была работенка.
В Парндорфе умер маленький Пепи, братик Марии. Не то чтобы она особенно хорошо его помнила или сильно любила; он появился на свет за пару лет до того, как Мария уехала к отцу в Вену.
Когда Мария в новехоньком, купленном на скопленные деньги черном платье шла от дома по залитой солнцем улице к церкви, где было отпевание, она впервые почувствовала сама себя, свое тело, ноги, кожу, волосы, и в ней впервые пробудилось представление, какой она хотела бы выглядеть в глазах других.
Однако быстро разрастающимся и в конце концов все перекрывающим чувством были боль и скорбь. Отец и мать стояли друг подле друга, спиною к Марии; отец в черном костюме, голова опущена, мать в черном платье с рюшами, перед маленьким, выкрашенным в белый цвет гробом. Гроб сколотил деревенский столяр, а отец сам его покрасил.
Сначала появились головные боли, потом рвота, высокая температура, горячка — а потом он затих. Братик был мертв и неподвижно лежал в своем гробу, маленький и словно деревянный.
Пепи был одним из целого выводка детей, радостно толпившихся вокруг отца, когда тот возвращался домой. Подарки он приносил редко; иногда разве что разноцветные леденцы на длинной палочке.
Листья на ольхах и черных тополях громко шелестели под ветром, в воздухе еще стоял холодок. Было позднее утро. На кладбище гроб опустили в яму, вырытую в комковатой, сухой земле.
После похорон сына отец в церковь больше никогда не ходил. Никакие упреки и увещевания матери на него не действовали.
На окраине Вены, вдоль Дуная тянется широкой полосой пойма, большей частью представляющая собой дикий, неухоженный луг, то здесь, то там небольшие озерца, окаймленные ивами, тенистые ольхи то там, то тут — излюбленное место отдыха венцев. По воскресеньям выглядит эта местность весьма живописно: женщины в нижнем белье сидят на клетчатых шерстяных пледах и листают журналы с картинками или читают книги в дешевых обложках, на разостланном покрывале в полдень отдыхающие раскладывают хрустящие поджаристой корочкой шницели, достают из стеклянных банок и едят консервированные огурцы и картофельный салат. Кто-то растягивается на траве и загорает, кто-то полной грудью вдыхает свежий воздух или плещется в мелких озерцах. Совсем уж отчаянные решают окунуться в серые и ледяные волны быстрой реки. На лугах вдоволь места для спортсменов самого разного сорта: тут и в футбол играют, и в итальянскую лапту, и в «перестрелку», игру на выбивание, тут и гимнастикой занимаются, и на велосипедах носятся. Парочки, днем познакомившиеся поближе, к вечеру, когда над темным краем Венского леса загораются звезды, проникаются самыми серьезными намерениями.
В одно из воскресений, во время прогулки, на которую она в порядке исключения отправилась в одиночестве, — отец, после смерти маленького Пепи сильно изменившийся, был болен и остался в постели, — Мария остановилась на краю поля, где играли в итальянскую лапту. Она с интересом следила за игрой, за прихотливым движением мяча, за его взлетами и падениями, за действиями игроков, перекликавшихся друг с другом. Однако постепенно ее внимание сосредоточилось на одном из них, на высоком загорелом парне с гривой темных волос.
Когда игра закончилась, парень подошел к Марии, вертевшей свою соломенную шляпу в руках, и сказал:
— Вас интересует итальянская лапта?
Она покраснела и поначалу не знала, что сказать в ответ.
Позже она узнала, что парень работает кондуктором на железной дороге и зовут его Иоганн Оберт.
То, что Мария только краешком ощутила в роскоши и блеске воскресных богослужений в церкви, спустя несколько недель стало доподлинной действительностью, когда она, с перехваченным дыханием, лежала в объятиях парня. Красное, зеленое, синее и желтое — что это было? Красное — цвет губ, светло-зеленое — цвет стелющейся травы и листьев, желтое — ее сумочка из покрытых лаком бамбуковых палочек, отброшенная в сторону и лежащая на траве. Юбку с тонкими синими полосками она давно уже с себя сняла.
Она все еще чувствовала упругость мускулов на руках у парня и вдыхала запах уже знакомого ей тела. «Отец не должен ничего об этом знать! Нет. Но что об этом скажет мама?» Она чувствовала, как ее сердце на мгновение сжималось, чтобы потом вновь освободиться и радостно и быстро биться в груди. Словно вода ручья, прыгающего по камням, словно ноги, бегущие по нагретой солнцем земле. Ей и жарко, и светло, она чувствует себя так, словно она вдруг очень проголодалась, жутко проголодалась. Но в этом странным образом нет ничего плохого, не стоит упоминания, ведь ясно, что голодать не придется, что снова насытишься.
Глава 4
Еще вечером того же дня, когда Оберкофлер лишил себя жизни, — каким образом Пандура столь быстро узнал о случившемся несчастье, неизвестно, — Пандура заглянул в конторку Лейтомерицкого в школе танцев и объявил ему о своем уходе: ужасная новость, которой он не преминул предварить свое заявление, придала ему необходимую силу убеждения. Возможно, он в тайне надеялся на то, что Лейто, поставленный перед фактом, испугается и даже предложит ему более высокое жалованье? Совсем скоро он убедился, что ошибся в своих ожиданиях. Во-первых, Лейтомерицкий, обладавший тонким нюхом, догадался, что истинной и насущной причиной для визита Пандуры было нечто другое.
— Вам нужны деньги?
— Не исключено.
— Карточный долг? — спросил Лейтомерицкий довольно бестактно. С недавних пор у него вошло в привычку вместо сигарет, в обилии им поглощавшихся, курить дорогие сигары. И сейчас он неспешно срЕзал ножницами кончик роскошной «гаваны» и, склонившись над столом, стал ее раскуривать, откашливаясь.
Второй и, пожалуй, более важной причиной его равнодушия к заявлению Пандуры было то, что он более не придавал школе танцев — как деловому предприятию — слишком большого значения в своих предпринимательских планах. Дела, которые он походя проворачивал, сидючи в своей конторке, приобрели солидные размеры и, после некоторых поисков, обрели свой центр тяжести в торговле автомобилями.
В Зиммеринге Лейтомерицкий арендовал большую пустовавшую площадку — кстати, недвижимость принадлежала фрау Штрнад или, по меньшей мере, находилась в ее управлении; она, очевидно, вкладывала какие-то деньги и в другие торговые операции Лейто. В любом случае Лейтомерицкий развернул на этой площадке — там, в Зиммеринге, — свой автопарк: автомобили, сплошь подержанные, самых разных марок и моделей, в любом состоянии. Механик, которого нанял Лейтомерицкий, молчаливый и вечно перемазанный машинным маслом мужик, реанимировал машины, которые сюда поступали, и с наименьшими затратами придавал им в товарный вид.
Теперь большую часть своего времени Лейтомерицкий проводил в автокемпере, стоявшем при въезде на площадку. Утром он открывал решетчатые ворота, сбивая короткими ударами своих длинных ног стебли чертополоха, пышно и высоко вытянувшиеся из-под слоя щебенки. Точно так же, как и в школе танцев, день у него проходил за разговорами по телефону, за подсчетами и бесконечным курением. Когда появлялся очередной клиент, Лейто, предупредительно обходя с ним ряды автомобилей, консультировал его как заправский специалист.
Лицо Лейтомерицкого стало еще морщинистей и посерело, однако излучало ту силу, которую дают компетенция и знание, а также острый ум, который действовал на некоторых его клиентов подавляюще. Покупатели его были в основном люди маленькие. Вообще Лейтомерицкий выглядел нездоровым, исхудавшим от недоедания, чурающимся радостей обеспеченной жизни и замкнутым. Пальцы рук, да и руки в целом от постоянного курения приобрели коричневый налет и выглядели исхудалыми и похожими на паучьи лапы, а крючковатый нос его торчал как хищный клюв. Поскольку он никогда не имел дела ни с чем материально основательным, кроме бумаги, ручки и телефонной трубки, жесты его вне привычной обстановки были неуверенными и невнятными.
Лейтомерицкий вообще-то не очень следил за своей внешностью, его узкие плечи стали клониться вперед, и общему впечатлению противостояла только тщательная, даже несколько излишне подчеркнутая элегантность его одежды. Он всегда выглядел так, словно только что вышел от хорошего портного. Изменилась и его интонация, и если раньше он общался с людьми радушным тоном, с легким налетом диалекта, то теперь говорил исключительно на литературном языке, негромким голосом с хрипотцой, но если касалось дела, то коротко и ясно, как человек, знающий, чего он хочет.
Дни у Лейтомерицкого проходят достаточно однообразно. Школу танцев он закрыл быстро и без особых хлопот. Он продал ее целиком и полностью своему преемнику, настроенному на успех. Даже вывеска осталась прежней: «Оберкофлер и Пандура», так что Оберкофлер продолжал жить в таком вот эфемерном виде. Собственно, как признавался Лейтомерицкий самому себе, школа танцев не была для него по-настоящему важным делом — так, временный выход. В любом случае с ее помощью ему удалось выкарабкаться из тяжелой ситуации сразу после «Поражения» — так венские жители по-простому именуют конец гитлеровской эры.
Теперь же настал черед автомобилей! Любым моделям, любой расцветки, в любом состоянии! Весь фантастический мир колес и моторов, шикарных авто и малолитражек, грузовых фургонов и грузовиков с погрузочным механизмом, автобусов и многотонных грузовиков, мопедов и мотороллеров стал для него своим миром.
Лейтомерицкий быстро открыл несколько торговых площадок, хорошо связанных друг с другом и умело распределенных по территории города. В окраинных районах он продавал модели малого и среднего класса и чаще всего такие авто, земная жизнь которых уже миновала: «гоггомобили» и «фиаты-тополино», «шкоды» и «вартбурги» — окрашенные в тусклые и размытые цвета; разумеется, «фольксвагены», «жуки», иногда «пежо» и «ситроены», реже «опели» — это по здешним меркам уже высший класс. Ну и к тому же мопеды фирмы «Лонер», отслужившие свой срок мотоциклы почтового ведомства, выпускавшиеся в Граце на заводах «Пуха».
В центральной части города, на Рингштрассе, напротив здания Оперы, Лейтомерицкий с большой помпой открыл автомобильный салон, совершенную жемчужину в его ожерелье — с дорогими и элегантными авто самых престижных марок: «мерседес», «ровер» — и снова «мерседес»; сплошной лак и кожаная отделка, с самой современной начинкой, самое лучшее и модное из всего, что только есть.
Лейто был твердо уверен в двух вещах: автомобиль — это всерьез и надолго. И второе: любой автомобиль, способный тронуться с места, можно продать!
— Они катят себе и катят! — говорил он задумчиво, глядя сквозь огромные стекла витрины своего автосалона на широкую Рингштрассе, заполненную автомобилями. И иногда, откинув голову назад характерным, резким движением, добавлял:
— Мне это бросилось в глаза еще во время войны.
Жил Лейтомерицкий в просторной, но запущенной квартире во Втором районе, на Гроссе Шиффсгассе. Местность здесь ровная, без холмов, и вместе с Двадцатым районом, с Бригиттенау, образует остров, заключенный между Дунаем и Дунайским каналом. Большие ольхи и тополя с огромными, облачно распушенными кронами придают длинным и прямым улицам этого квартала меланхолический характер пойменного и прибрежного пейзажа. Но на такие мелочи у Лейтомерицкого нет ни времени, ни вкуса, хотя он и слушает иногда по радио мелодии из оперетт и венские народные песни, а иногда даже тихонечко напевает их во время работы. Но это, честно сказать, производит скорее комическое впечатление.
Иногда, ну, скажем, летним вечером, после долгого рабочего дня Лейтомерицкий отправлялся пройтись по кварталу, — улицы в это время пустые и кажутся заброшенными, лишь иногда покажется какой-нибудь прохожий, выгуливающий собаку, — но довольно скоро прогулка его заканчивалась, Лейтомерицкий поворачивал назад и почти бегом направлялся к своему дому, в свое жилище.
Свое свободное время Лейтомерицкий, собственно, проводил так: он садился за письменный стол и извлекал из ящика несколько папок.
Жалюзи на окнах опущены, в квартире больше никого нет, кроме самого Лейтомерицкого. Он раскрывает одну из папок, в которой лежат листки с колонками длинных чисел, с фамилиями и адресами. Лейтомерицкий так глубоко затягивается своей сигарой, которую только что раскурил, столь резко, что сигару приходится отложить, чтобы она остыла. Из полупустой уже бутылки, которую он держит в ящике стола, он наливает себе рюмку сливовицы.
На столе перед Лейто лежат три карандаша: зеленый, красный и простой. Красным он вычеркивает ту или иную фамилию. Делается это всегда нерешительно и с определенным сожалением, и лишь тогда, когда этому предшествовала длинная переписка. По адресам, помеченным зеленым, Лейто рассылает письма со стандартным содержанием и просьбой к адресату связаться с ним, с Лейтомерицким.
Помеченным простым карандашом адресам Лейто уделяет особое внимание. Он просматривает их внимательно, сверху вниз, делает отметки, пытается что-то вспомнить. Закончив свои труды, он встает и, лавируя между мебелью, по грязным коврам, под которыми скрипят половицы, отправляется на кухню, где пьет воду прямо из-под крана. Полумрак действует на него успокаивающе, и, возможно, в силу привычки, весьма странной, поскольку она никак не соответствует человеку с его уровнем дохода, у Лейтомерицкого во всей квартире горит только одна лампа — на письменном столе. В остальные комнаты проникает лишь слабый и блеклый свет уличных фонарей, подсвечивая растрескавшиеся обои на стенах.
Дела у фрау Штрнад шли так хорошо, что она, как уже было сказано, могла себе позволить вкладывать деньги в автомобильную торговлю Лейтомерицкого. В кругу людей, с которыми она имела деловые отношения, то есть среди маклеров, агентов, управляющих недвижимостью, страховых агентов, адвокатов она считалась тертым калачом, человеком весьма опытным. Однако много кто из ее коллег говорил о ней нелестные вещи и упрекал в грязных методах работы. Ходили упорные слухи, что основной капитал она нажила на сделках с аризированной недвижимостью, с домами и земельными участками, которые, — и тут расхожие среди венских жителей мнения весьма невнятны, — либо были в свое время куплены за бросовую цену у евреев, спасавшихся бегством от нацистов; либо, с другой стороны, в профессиональной среде, к которой Штрнад принадлежала, под этим понимали движимое и недвижимое имущество, которое на самом деле было конфисковано как «еврейская собственность» самой нацистской партией или отдельными ее сторонниками и обращено в собственную пользу. Кто, однако, мог бы точно знать, жив ли тот или иной прежний владелец-еврей, или же вместе со всей семьей был отправлен в газовую камеру, или попал под колеса государственной машины каким-то иным образом?
В этих запутанных ситуациях клиентура ее бюро состояла попеременно из двух частей: с одной стороны, это были евреи, либо вернувшиеся в Вену, либо за границей, в Аргентине, США или других заокеанских странах, на основании документов подтвердившие право на свою собственность. С другой стороны, были люди, которые участвовали в делах, творимых нацистами, и цепко держались за свою добычу.
Были ли слухи и обвинения справедливы? Или это всего лишь оговоры, криводушные и язвительные наветы менее успешных конкурентов?
Перед нами случай с Лизой Корнфельд. Однажды в бюро фрау Штрнад раздался телефонный звонок, секретарша соединила звонившего с шефиней: на проводе молодая женщина, по-немецки говорит с сильным американским акцентом, уверяет, что имеет документы, подтверждающие ее право собственности на один из доходных домов с относящимся к нему земельным участком в венском районе Веринг. Штрнад отвечает дружелюбно, но сдержанно, предупредительно и одновременно с дистанцией, так, как это бывает, пожалуй, только в одном месте на всем земном шаре, в городе Вене. Она сразу предлагает встретиться частным образом, в кафе, а не в ее бюро, где все слишком официально.
— Может, у Захера? В кафе «Захер» — удобно ли Вам?
На встречу Штрнад приходит минута в минуту, на ней серый городской костюм, в руках черный портфель. Ни минутой позже. Ни минутой раньше. Ни расфуфыренная, ни одетая как серая мышь, а именно в той вполне женственной одежде, которая больше всего подходит ей и ее деловому типу.
Как и предполагалось, гостья ее, американка, уже сидит в кафе, хрупкая, с бледным цветом лица, маленькая женщина, не без миловидности, но все же вполне посредственного вида. Стоит только отвести от нее взгляд, как уже и не помнишь, как она выглядит. Скорее всего — провинциалка, по всей видимости, со Среднего Запада, как заключает Штрнад по ее акценту. И в самом деле, женщина приехала из маленького городка в Огайо, где когда-то нашел прибежище ее отец, бежавший от нацистов. Отец уже умер.
— I was a little child then.[4]
Фрау Штрнад больше не задает вопросов о том, как сложилась судьба этой семьи, дело ясное, случай совершенно очевидный, а вместо этого она заводит разговор об Америке, например, о Ниагарском водопаде, она давно хотела съездить туда в отпуск полюбоваться зрелищем рушащейся вниз воды, а еще о том, какие американцы приятные люди, nice, very nice[5].
— Му mother was murdered[6], — говорит молодая женщина. За столиком кафе «Захер» возникает неловкая пауза.
Знакомясь с бумагами и кадастровыми планами, которые женщина наконец-то раскладывает перед фрау Штрнад, она вытягивает шпильки из прически, которые поддерживали маленькую шляпку у нее на голове. Она непринужденно держит шпильки в своих полных губах, а шляпку кладет рядом на диванчик.
Что касается этого дела, то Штрнад все ясно: дом на Терезиенгассе в Веринге неоспоримо принадлежит молодой фрау Корнфельд. Почему она так считает? Потому что знает, кто сейчас числится владельцем этого дома, она ведь этим домом управляла — это старый наци.
— Наци! — говорит Штрнад и прищуривает глаза.
По окончании беседы обе дамы идут, словно давние приятельницы, под ручку по приятно оживленной, разноцветной и дружелюбно освещенной Кертнерштрассе.
Так что же, фрау Штрнад теперь помогает евреям? Преследует нацистов? Или надувает и тех, и других? У нее есть много, очень много вполне безобидных клиентов, преобладающее большинство, например, главврач Вольбрюк, известный, даже знаменитый терапевт, проживающий с женой и ребенком в Веринге. «Врачи часто получают наследство!» — любит он пошутить в разговоре с Штрнад и, произнеся эту фразу, раздумчиво проводит по своей щеке длинными ухоженными пальцами. На такого рода мудрые высказывания Штрнад реагирует лишь улыбкой, не слишком долгой, но и не слишком короткой, самым приятным освежающим образом вплетающейся в атмосферу господского зимнего сада с большими, от времени слегка помутневшими стеклами, с посыпанными каменной крошкой тропинками между огромных цветочных горшков и скрипучих плетеных стульев.
Терезиенгассе в венском районе Веринг — это тихая улочка предместья с характером мелкобуржуазным, кособоким. Ее короткий отрезок образуют трех- и четырехэтажные дома, серые и лишенные своего лица, без всякого обаяния, — ну, разве что если вы готовы считать, что обаяние заключается в некоторой забытости Богом и тщательно затушеванной бедности. В таком случае Терезиенгассе слыла бы верхом обаяния, вместе ее черепичными крышами, потемневшими от многолетней грязи и резко выделяющимися на фоне ясного неба, с безликими стенами домов, с горбатой гранитной брусчаткой, в дождливые дни отсвечивающей размытым блеском, а в сухую погоду переливающейся разноцветьем, словно грудки вшивых голубей или высохшие, отцветшие цветы. Общую картину тут не портят даже засохшие кучки собачьего дерьма, пунктиром размечающие тротуары улицы. Фасады домов когда-то были украшены гипсовыми карнизами и лепными фронтонами, о чем еще напоминают то тут, то там их чудом сохранившиеся остатки, но после войны лепнину просто-напросто сбили, ведь уход за домом в этом случае обходится дешевле. Торчащие то там, то здесь из-под облицовки дома кусочки слюды, поблескивающие в косых лучах заходящего солнца, повествуют об истории той реки, из которой они родом. И тогда кажется, будто в сумерках видишь ее светящиеся изгибы и излучины, словно дорогу, которая ведет домой; что однако не вводит в заблуждение относительно той нищеты и бедности, которую эти стены видели в прошлом и которой они пропитаны.
Терезиенгассе не очень длинная и вовсе не представляет собой чего-то особенного. Напротив, она — улица-середнячка, образчик усредненности. Самое лучшее в ней — это, несомненно, то, что она сбегает вниз с холма: ибо благодаря этому с верхней ее части открывается вид на городские кварталы по ту сторону долины, на кварталы, что кичатся своими садами; и эти сады, и утопающие в них особняки относятся к тому же самому городу, что и дома на Терезиенгассе, хотя на первый взгляд в это трудно поверить.
Из дома в коттеджном районе (так называют местные район особняков) выходит на улицу светловолосая, хорошо одетая женщина. Она ведет за руку маленькую девочку. Дочурка разговаривает с мамой — нам кажется, что она именно ее мама, — о подарке на Пасху, который ей обещали купить.
— Мама, — обращается к матери ребенок, — я очень хочу велосипед!
— Ты его обязательно получишь, Клара!
За спиной у матери с дочкой, на освещенном солнцем столбе из бутового камня, у ворот, за которыми скрываются участок и вилла, на отполированной латунной табличке большими латинскими заглавными буквами начертано — скромно и, одновременно, величественно: «Унив. проф. д-р Адольф Вольбрюк, терапевт».
После того как поезд миновал станцию Винер Нойштадт, Альфред и Георг встали у окна, напряженно всматриваясь в проносившийся мимо пейзаж. Уже смеркалось, и мало что можно было разглядеть, разве что темные, мрачные очертания холмов вдали, купы электрических огней, разбросанные по темному фону, фабричные трубы, отсвечивающие красноватым блеском. Толкая друг друга локтем, они наперебой указывали то на одно, то на другое, однако увидеть что-либо, хоть сколько-то соответствующее их представлениям об огромном, чудесном городе Вене, так и не удавалось. Да, они были несколько разочарованы.
Тетя Виктория ждала их на перроне, она, издалека завидев их, шла к ним навстречу. В памяти Альфреда она была красивой женщиной, причем в этом представлении о красоте реальность тесно перемешалась с фантазией. Однако то, что он увидел сейчас, — Виктория улыбалась, она высоко и словно нерешительно подняла руку, махнула им, словно бы упражняясь, одним движением пальцев, — было еще прекрасней, обворожительней и волнительней. Он не смог сдержаться, бросился ей навстречу и заключил в объятия.
Георг, теперь уже молодой человек среднего роста, с аккуратно зачесанными на пробор светлыми волосами, держался несколько неловко, как-то кособоко, еще и потому, что рукава пиджака были ему коротковаты и из них далеко торчали манжеты и длинные, покрасневшие от холода руки.
Альфред был на голову ниже приятеля. Курчавые каштановые волосы, широкоплечий, бедра слегка раздавшиеся, хотя двигался он легко. Глаза его перебегали с предмета на предмет, впитывали в себя все кругом, однако ни на чем не могли остановиться.
— Ты вся дрожишь, замерзла! — сказал он, еще держа тетю в объятиях, но уже несколько отодвинувшись от нее.
— Я долго ждала вас, — сказала тетя с улыбкой и слегка откинулась назад, чтобы лучше его рассмотреть.
Они наконец сдвинулись с места, и вся троица двинулась к концу длинного перрона. Впереди шли Альфред с тетей, за ними Георг. Как раз в то мгновение, когда они вышли из здания вокзала, на просторной привокзальной площади зажглись яркие лампы уличного освещения.
В эту ночь Альфред долго не мог заснуть. Их с Георгом поселили вместе. Они лежали в своих кроватях, поставленных в узкой комнате так, что головы были почти рядом. Воздух в комнате был затхлый, почти такой же, как в узкой спаленке в Клагенфурте.
С вокзала тетя взяла такси. Стоя у машины, с чемоданами, поставленными на тротуар, пока тетя расплачивалась с водителем, они рассматривали фасад дома, в котором им предстояло жить.
Комната их была таких размеров, что в ней умещались только две кровати, два шкафчика, на которых сверху теперь лежали их пустые чемоданы, и два маленьких столика-конторки у окна.
— Что будем делать завтра? — тихо спросил Георг, не поднимаясь с постели.
Альфред ничего не ответил. Пожалуй, он впервые не ответил на вопрос, который задал ему Георг. Альфреду очень хотелось бы побыть сейчас одному. Да и очень странно было, что Георг задал этот вопрос. Обычно Георг всегда все знал, а вопросы задавал Альфред. Ему вдруг представилось, что в их отношениях что-то поменялось. «Тетя Виктория дала им пристанище, приютила их! А ведь тетя Виктория — его тетя!»
За этим ощущением, придававшим ему уверенность, но одновременно мелочным и с долей мстительности, ему вдруг представилась мать, там, в Клагенфурте, как она, склонившись над плитой в кухне, разогревает к ужину суп.
Их шкафчики стояли слева и справа от двери, кровати — вдоль стен, днем их следовало застилать шерстяным покрывалом. С письменных столиков все должно было быть убрано, за исключением того времени, когда за ними работали.
Режим в общежитии был строгий. Утром, еще до завтрака, необходимо было прибрать комнату. Руководил всем этим священник, утром читавший им молитву, и он проверял все досконально. В столовой звучали голоса обитателей общежития, сплошь студентов, стоявших подле длинных столов, на которых уже дымился разлитый в большие жестяные кружки чай и кофейный напиток, а в плетеных корзинках лежали нарезанные ломти серого, плохо пропеченного хлеба.
Оба юноши быстро ко всему привыкли, атмосфера военной дисциплины и жесткого распорядка их совсем не задевала, и они смеялись во все горло, когда выходили из общежития на улицу, бодрые и набившие желудки.
Толкая друг друга локтями, они шли по освещенной солнцем пустынной улице. Почти все окна в домах были закрыты. Если какое и было распахнуто, то из него торчали разложенные на подоконнике для проветривания перины и подушки.
В сторону от их улочки вела более широкая улица, вела наискось вверх по склону холма к маленькому парку, где под растрепанными ветром деревьями собачонки с лаем гоняли голубей, а детишки ссорились друг с другом за право покататься на единственных качелях. И это вот называется городской парк?!
Они прошли мимо церкви, стены выкрашены в желтый цвет, барочная деревенская церквушка, стоявшая на небольшом возвышении и как бы доминировавшая над весьма оживленным проспектом. Они переглянулись друг с другом и зашлись смехом:
— Как у нас дома!
— Да, всюду живут люди.
Альфред вдруг ни с того ни с сего быстро чмокнул Георга в щеку. Тот и оглянуться не успел. Альфред поцеловал друга впервые, но ничего особенного в этом поцелуе, пожалуй, не было. Георг же привык к забавным и неожиданным поступкам друга. Он остановился, широко ухмыльнулся, сощурив на солнце глаза:
— Что ты опять учудил?
Странное проявление чувств! Альфред, хотел он того или нет, по-прежнему воспринимал своего друга, стоявшего сейчас перед ним, как в какой-то мере лишнего и смешного. Вот он и поцеловал его под воздействием нечистой совести.
На улице, ведущей мимо церкви в гору, располагались торговые лотки и киоски, и народ толпился возле них, покупая кто салат, кто картошку, свеклу или консервированные свиные шкварки.
Коренастые женщины торговали цветами — букетами, завернутыми в газетную бумагу и стоящими в жестяных ведрах с водой; мужчины подносили ящики с товаром: все же как-то все было здесь иначе, чем дома. Трудно сказать. Возможно, дело было в солнечном свете, он был как бы рассеянным и все же пронизывающим и легким. Или халаты у женщин были цветастее? Или иные формы и черты лица? Все пахло землей, сухостью, и снова сыростью и гнилью от обрезков овощей. Георг купил себе свежую булочку и беззаботно шел рядом с Альфредом.
Альфред же вдруг почувствовал себя подавленным и робко озирался вокруг. «С ним всегда так, — подумал Георг, — занесет то в одну сторону, то в другую».
Покинув рынок с его суетой, они зашагали по незнакомым пустынным улочкам. Жаркие косые лучи солнца проникали в уголки дворов, где между булыжниками пробивались сорняки, а из трещин в стенах поднималась пыль. На торцевой стене одного изломов, перед которым простирался незастроенный участок, они увидели нарисованную рекламу стирального порошка: на синем фоне молодая женщина в платке в красный горошек стояла с поднятыми руками перед тазом со стиральной доской.
Сегодня Альфред и Георг договорились встретиться в кафе. Это их первый парадный выход в город. На следующий день они собирались идти записываться на учебу в университет. А сегодня была, что называется, генеральная репетиция.
Они сидели за столиком вроде бы и вместе, но каждый был погружен в собственные мысли. Альфред восхищался про себя уложенной волосок к волоску прической друга, его безупречно выбритым лицом, светящимися умом глазами: да, Георг всегда был сообразительным. Он всегда знал, чего хочет. Георг выглядел бледным, интеллигентным, человеком с хорошими манерами. «Может быть, даже чересчур с манерами», — подумал Альфред. Постоянно прищуренные глаза, взгляд открытым никогда не бывает, щеки светятся, твердый подбородок, и как он умеет скрывать от постороннего взгляда любопытство и беспокойство, которые наверняка так же горят и обжигают его изнутри, как и горят в груди Альфреда. Он никогда и ни перед кем не обнаруживал беспокойства!
Георг спокойно и уверенно сидел за столиком, словно ничего проще на свете не было, а вот Альфред сам себе представлялся беспомощным, взволнованным и в общем и целом смешным.
«Быть может, он вовсе и не взволнован, как я, — думал Альфред. — Однако оправдывает ли его спокойствие мое поведение? Я должен просто взять себя в руки и не суетиться».
Так вот они и сидели за мраморным столиком кафе, в просторной нише у высокого окна, Альфред — на черном стуле, Георг — на обитом тканью диванчике, причем вел беседу Георг, а Альфред сидел, зажав ладони между коленями, опустив голову и слушая его. И одновременно не слушая! Он был возбужден, и чувства его противоречили друг другу, почти непроизвольно мысли устремлялись во все стороны, хотя он и пытался укоротить их и держать в узде, они разлетались, словно искры из костра.
Тетя Виктория к началу учебы подарила Альфреду новый костюм, и в придачу рубашку с галстуком и черные ботинки, которые, правда, жали ему ноги. И вот он восседал во всем великолепии, рубашка на груди сияла белизной, носы тесных ботинок отливали блеском.
И пока Альфред дивился тому, как ведет себя Георг, как он говорит, как естественно соотносятся друг с другом движения его рук и улыбка на губах, сам Георг восхищался тем, как одет его друг, и даже немного завидовал ему, потому что сам был одет в свои старые вещи, которые ему совсем не нравились.
Однако оба они друг другом восхищались, потому что оба сидели сейчас в кафе на венском Ринге, далеко-далеко от своих земляков, от своего родного гнезда, которое стремительно от них удалялось, словно планета, которая, стоит ее только покинуть, сразу уносится в бесконечное пространство и там, как кажется, исчезнет скоро навсегда.
На следующее утро Георг и Альфред записались в университет, на юридический факультет. Через несколько месяцев Георг перешел в Институт мировой торговли; его это направление интересовало больше.
В здании университета — наряду с огромными и угрюмыми объемами, предстающими взору снаружи, и необозримостью внутреннего устройства здания с его лестницами, переходами, лекционными залами, кабинетами и библиотеками, — Альфреда больше всего поразил треугольный портик, тимпан над лоджией, под которой был вход в вестибюль университета; эта каменная форма там, наверху, мощная, соразмерная и тяжелая, которая держалась неизвестно как на подпиравшей ее рустике, с самого первого дня олицетворяла для Альфреда университет и науку в целом.
Альфред звонит в высокую, темную дверь дома на Райхсратштрассе. Да, тетя и в самом деле живет в изысканном месте: между ратушей, парламентом и Бургтеатром. Она сверху отправила ему кабину лифта, и хотя Альфред нисколько не устал, ведь на дворе прекрасный мартовский денек, и кругом цветут золотым дождем кусты бобовника, он все же с удовольствием усаживается на скамеечку, обтянутую красным бархатом, и осматривает себя в зеркале, все ли у него на месте. Он наслаждался роскошью этого прекрасного дома: блеск зеркал, матовый и все же бодрящий блеск мраморных ступеней медленно проплывающей мимо лестницы, чересчур пышное сияние медных оправок, в которые вставлены латунные штанги защитных решеток на этажах. Он в хорошем настроении, чувствует себя легко и радостно. Лучше не бывает! Разумеется, он пришел к тете с цветами, это полураскрывшиеся бутоны нарциссов, к которым цветочница уверенной рукой добавила еще и алые розы, и еще немного декоративной травки.
— Ну зачем ты так тратишься! — восклицает тетя при виде букета и приветствует его радостным всплеском рук. — Альфред сразу замечает, что тетя, хотя она прекрасно одета, прическа только что от парикмахера, губы накрашены красной помадой, — что она выглядит все же не так, как всегда, что сегодня что-то обстоит иначе. И голос ее звучит необычно: он какой-то прозрачный и светлый.
— Как ты поживаешь? — участливо спрашивает Альфред.
— Хорошо.
— Ты великолепно выглядишь, — говорит он, чтобы скрыть свое замешательство. Он все же по-прежнему немного стесняется, когда остается с тетей наедине. Она действительно выглядит великолепно: в темном, простого покроя платье, открывающем руки, нитка жемчуга на шее, темные волосы.
Его комплимент оказывает на нее неожиданное воздействие, потому что тетя громко смеется, громко и натужно, и прикрывает рот рукой, чтобы подавить смех. Она идет по коридору в комнаты, он за ней, и плечи ее подрагивают; она никак не может успокоиться.
— Что случилось?
— Мужчины всегда мне так раньше говорили: ты великолепно выглядишь!
Тетя Виктория поворачивается к Альфреду и улыбается ему, но улыбка какая-то вымученная. Она начинает что-то напевать, ставя в вазу принесенные им цветы. Он ее такой еще никогда не видел. И песню эту он никогда не слышал.
— Что это за песня?
— Ее часто пели по радио во время войны. Для солдат. Для наших фронтовых героев.
В квартире царит порядок. Альфред останавливается на пороге комнаты. Хотя здесь нет недостатка в разноцветных маленьких вещицах — тут на комоде эмалевая шкатулка, там на стене гобелен, а еще ваза с цветами на столе, — все же атмосфера в комнате в целом серая и несколько тягостная. Альфред подходит к большому окну в эркере и смотрит вниз на Ратушный парк: кроны платанов еще голые, сквозь их ветви угадываются темные извилистые дорожки парка. На другой стороне Ринга, в Бурггартене, ветки каштанов торчат остриями в небо.
Альфред уже хотел что-то сказать тете, но она подошла к нему, и ее полные, теплые губы прикоснулись к его щеке. Она прижалась к нему, он ощутил все ее тело, ее дыхание и запах.
По воскресеньям в доме тети обед подает приходящая служанка, которая в будние дни заботится лишь о порядке и чистоте в квартире — чистоте, на вкус Альфреда, даже несколько избыточной. Тетя не терпит ни пылинки в доме, нигде, ни на полке серванта, ни на точеных ножках столика, ни в стеклянных плафонах люстры на потолке. Все должно сиять и сверкать чистотой, и нигде не должно быть даже намека на грязь или пыль. У Альфреда возникло подозрение, что тетя после уборки все перепроверяет и заставляет прислугу менять скатерти и салфетки чаще, чем это необходимо.
Столовая выглядит намного приветливей, чем гостиная: четырехугольное, прагматично и уютно устроенное помещение. Белизна скатерти и фарфоровой посуды, блеск столовых приборов и салфеточниц — все это настраивает на предвкушение грядущего обеда. Альфред и тетя усаживаются за стол. Она, как всегда, лицом к окну, он — справа от нее.
Стол накрыт на три персоны.
— Кто-то еще придет? — спрашивает Альфред, указывая на третий прибор. Он задает вопрос без всякой задней мысли, возможно, слегка смущенный тем обстоятельством, на которое прежде не обращал внимания: в присутствии незнакомых людей он по-прежнему еще ведет себя скованно.
— Я познакомлю тебя со своим старым другом, — говорит тетя Виктория и касается ладонью лба, словно только сейчас вспомнила, что пригласила этого друга.
Как раз в тот момент, когда прислуга в белом фартуке приносит большую супницу, раздается звонок в дверь. Виктория мгновенно вскакивает из-за стола.
— Пойдем открывать, — говорит она Альфреду. Он послушно идет следом за ней по коридору.
Дверь распахивается, на площадке стоит сухопарый, высокого роста человек с узким, бледным лицом и тонкими, красными губами, словно накрашенными помадой. Серые пряди волос будто приклеены к черепу, нос выдается далеко вперед; и когда незнакомец дружелюбно улыбается Альфреду и протягивает ему руку, юноше становится как-то не по себе.
С призрачным обликом гостя контрастирует его выпирающий вперед и свисающий живот. Обут гость в старомодные туфли-лодочки, в которых он шаркающим шагом проходит в комнату.
Тетя поздоровалась с гостем, поцеловав его в щеку. Он пожал ей руку.
— Это Лейто, — сказала тетя, когда они шли через прихожую. Альфред приветственно поклонился.
За обедом атмосфера становится более непринужденной, они оживленно беседуют, причем ведет разговор гость. Он весьма остроумен, в самом деле. Альфреду сообщают, что фамилия гостя — Лейтомерицкий, а Лейто — так фамильярно зовут его друзья и знакомые. По имени его никто и никогда не называет, кроме его матушки. Зовут его Йозеф! Да, именно так. И тетя его почти ни разу так не назвала.
Время от времени гость бросает на Альфреда быстрый, испытующий взгляд, словно пытаясь удостовериться, как он, Альфред, себя ощущает.
«Должно быть, этот Лейтомерицкий — важная персона!» — думает Альфред. В любом случае тетя по отношению к нему ведет себя сверхпредупредительно и дружелюбно, даже несколько заискивающе.
Хотя разговор, как уже отмечено, ведет в основном гость и беседа весьма интересна, — и о чем он только не рассказывает: об одном местном политике, купившем себе английский автомобиль, о цветочном корсо в Вельдене прошлым летом, о банке, в котором хранит свои деньги Папа Римский, — атмосфера за столом становится, можно сказать, все нервозней и напряженней. Альфред чувствует, что за их разговором скрывается еще что-то.
— Скажи ему прямо! — обращается наконец тетя Виктория к гостю.
На десерт подают землянику со взбитыми сливками, сервированную в маленькие вазочки и украшенную земляничными листочками.
— Альфред! — начинает гость, но потом останавливается и молча смотрит на юношу. Он неуверенно проводит ладонью по губам и тихо произносит:
— Я… я твой отец! Невероятно, но факт. — Гость улыбается и продолжает: — А тетя Виктория — твоя мать! Твоя настоящая мать! Представь себе.
Он снова умолкает.
Тетя Виктория сидит, низко опустив голову. В комнате царит тишина. Альфред смотрит на тетю. К голове медленно, но неудержимо приливает кровь.
Рыжеволосый еврей, лет этак тридцати, в черном костюме, стоит, облокотившись на рояль, в баре на Циркусгассе — неподалеку от Пратера и колеса обозрения. Колесо обозрения вращается, и в ночном небе кабинки светятся как летящие кометы. При взгляде на них легко себе представить, что ночь и темные воды всего мироздания кишмя кишат жизнью и крохотными, маленькими, подвижными живыми организмами, беспомощными и не осознающими себя. Еврей в баре поет, ему аккомпанирует пианист, лихо нажимающий на клавиши. Он исполняет песню. Лишь по устало опущенным уголкам губ пианиста можно понять, насколько все это движется как бы по инерции, и что в общем-то вечер уже закончился. Еврей выставляет пианисту еще один коньяк и заказывает другую мелодию, что-то там про гондолы в Венеции и ночь любви — и сам поет, поет во весь голос, и песня разносится по опустевшему залу кабака.
— Дела идут отвратительно. — Лишних денег ни у кого нет!
— Шиллинг теперь стал твердой валютой, вот только как его теперь раздобыть?
Еврей с движениями наемного танцора вскакивает на невысокий подиум рядом с роялем и затягивает третью песню, джазоподобную англо-американскую сентиментальщину. Он в этом заведении явно постоянный посетитель. Может себе это позволить. Вот он мелкими забавными шажками движется в танце в сторону барной стойки, останавливается перед официанткой, заплывшей жиром блондинкой, и льет ей шампанское из бокала в охотно подставленный дамой рот.
На часах половина двенадцатого ночи.
Вдруг входная дверь распахивается и в заведение вваливается разгоряченная компания — несколько женщин и мужчин, одетых по-праздничному. Женщины с едва скрываемым любопытством озираются кругом, широко раскрыв глаза, а мужчины, разыгрывая из себя опытных ночных гуляк, заказывают бутылку шампанского на всех; один из них интересуется ценой.
— Пару процентов сверху обязательно накину, — отвечает кельнер и откупоривает бутылку. До их появления он дремал за стойкой.
За одной бутылкой следует другая. Пианист подходит к развеселой компании и спрашивает, какие мелодии нравятся дамам. Они несколько смущенно отнекиваются, боятся, что придется платить пианисту. И тут перед ними появляется еврей; выпятив грудь, он широким жестом приглашает дам, просит их сделать выбор, заказать мелодию — за его счет, разумеется!
На их спутников, робко втянувших головы в плечи, попыхивающих своими сигаретами или прикладывающих к губам уже пустые бокалы, он просто не обращает внимания и после того, как отзвучала первая мелодия, приглашает на танец одну из дам, восхитительную брюнетку с оголенными плечами.
Еврей танцует превосходно. Он спрашивает даму, что их всех в этот кабак привело.
— У нас была вечеринка на работе! — отвечает она и, махнув рукой в сторону компании, продолжает: — Мы решили продолжить! Остальные уже разбрелись по домам.
— Эти наверняка тоже скоро отчалят, — говорит еврей, а когда танец заканчивается, приглашает даму к бару. Вся компания глазеет на них.
Еврей и дама после пары рюмок быстро знакомятся друг с другом, а когда женщина наконец уходит вместе со своей компанией, у него в кармане пиджака уже лежит записка с номером ее телефона.
На следующий день он звонит ей: она — секретарша в небольшой фирме. Занимается всякой организационной рутиной. Собственно, кроме стенографии и печатания на машинке она больше ничего делать не умеет — как, улыбаясь, признается она ему позднее во время ужина в дорогом ресторане. У нее умопомрачительные глаза, холодные и зеленые. В Вену она приехала недавно, ну совсем недавно.
— Мы все откуда-то приехали, — говорит еврей, а потом, за десертом, официально ей себя представляет: — Меня зовут Лейтомерицкий, Йозеф Лейтомерицкий. Друзья называют меня Лейто.
Он протягивает ей свою длинную, узкую, белую руку.
— Трудиться вам, видно, пока не приходилось, — говорит черноволосая красотка.
— А вам?!
В постели мужчина разглядывает свое новое приобретение: она, красавица, как раз уснула. Кожа светлая, белоснежная, как у королевы. «Умеет себя скормить, зверушка эдакая», — думает еврей. С другой стороны, ему это нравится: придает любви настоящий смак. Он проводит пальцем по ее круглой, по-детски пухлой щеке, по гладкой коже плеч, прохладной, словно ветка на дереве после дождя. Закуривает сигарету. Черноволосая женщина открывает глаза. И в самом деле! По ее взгляду он понимает (или считает, что понимает) — у нее действительно немного было мужчин, с которыми она оказывалась в подобном положении.
Они встречаются два раза в неделю, потом — три, постоянно звонят друг другу. Еврей предлагает ей перейти на работу в его бюро по управлению недвижимостью, что она и делает. Кстати, она приехала из провинции.
Из Каринтии.
Небольшая контора по управлению недвижимостью, ничего особенного! Помимо этого еврей играет в казино в Бадене, в лотерею, в тотализатор, регулярно ходит на ипподром — в Криау, во Фройденау. Отсюда у него и лишние деньги, которые он тратит щедро и с удовольствием. Ему нравится жизнь. Она приносит ему радость.
Новая подруга пользуется его щедростью в полном объеме. И он наконец делает ей предложение, поскольку тем временем роли их несколько поменялись — он к ней очень привязался. Лейто топчется в конторе вокруг своей красавицы, сидящей за столом с деловым выражением на лице, и пытается навести ее на более деликатные, приятные мысли. Она, кстати, быстро освоила свою новую работу.
— Но мне же надо работать! — говорит красавица.
— Не воспринимай все так серьезно! — отвечает еврей.
В день их свадьбы он долго рассматривает себя в зеркале: один завиток в его рыжей прическе никак не удается уложить, он непокорно торчит из-за уха. Он пытается пригладить его расческой и замечает, что в пряди рыжих волос пробивается седой волос, да, седой.
А как он выглядит в профиль? Все о’кей. Зубы в порядке. Кожа на лице, правда, несколько посерела и суховата. Он слишком много времени проводит в помещениях, в конторе, в кабаках по ночам. Ну а нос? Почти орлиный нос. Ну и что?
— Почему тебя назвали Йозефом? — спрашивает его свежеиспеченная супруга в номере отеля в Аббации, где они проводят медовый месяц.
— В честь славного императора Иосифа. Он ведь столько хорошего сделал для нас, евреев. — А ты мне скажешь, почему тебя окрестили Викторией?
— В честь английской королевы.
Они заливаются смехом, катаясь по широкой постели, а с моря сквозь открытое окно в комнату проникает возбуждающий соленый морской воздух вперемешку с запахом пиний.
Лейто буквально носит свою молодую жену на руках, они живут душа в душу. Но затем наступает тридцать восьмой год, и немецкие войска вступают в Австрию.
Теперь их отношения меняются, полностью переворачиваются под давлением внешних событий: молодая женщина возглавляет их контору. Лейтомерицкому — как еврею — официально вообще нельзя работать. Неофициально он подыскивает клиентов для конторы, которой теперь заправляет его жена. Как правило, клиенты его — тоже евреи, готовые все распродать, и с ними нетрудно договориться: люди хотят только уехать отсюда.
Хотя Лейтомерицкому благодаря взяткам и другим хитростям удается избежать депортации, которая уже началась в Вене, однако он не может воспрепятствовать тому, что в его управлении и в непосредственном окружении обосновываются нацисты всякого сорта, как члены партии, так и попутчики. С этим ничего не сделать.
В одном он стойко уверен: он не хочет уезжать из Вены, не намерен спасаться бегством или переходить на нелегальное положение. Он хочет остаться со своей женой. Но в конце концов он вынужден подтолкнуть Викторию к тому, чтобы она стала знаться с высокими нацистскими чинами, он сам ее к этому подталкивает. Так надо; если от этого будет польза. Чтобы ему по крайней мере можно было остаться в Вене.
— Сколько мы еще продержимся? — спрашивает его жена. Она теперь, вполне в духе времени, ухоженная, полнотелая красавица, с безупречным невинным лицом немецкой женщины, завитые волосы зачесаны волной назад, носит короткие платья, открывающие колени. На улицу надевает шляпку, шелковое пальто-баллон, туфли-лодочки на невысоком каблуке. Но сейчас она не на улице, а дома, сидит напротив мужа за маленьким столиком у окна.
— Будем довольны тем, что есть, — говорит Лейто и хочет взять ее за руку. Она отстраняется.
— Будущее — кто знает, что будет?
Она плачет. Потом вытирает слезы и смотрит прямо перед собой воспаленными глазами.
До осени 1941 года Лейто удается выжить в Вене. А потом никакие ухищрения не помогают. Вместе со многими другими его депортируют в гетто Лицманштадт, в Лодзь, в Польшу. Условия там жуткие, обитатели гетто годами изолированы от внешнего мира и голодают. Прибывшие из Вены, вперемежку с товарищами по несчастью из Праги, Будапешта, Темешвара, оказываются не в состоянии вынести эти условия, большинство умирает вскоре после прибытия — от разрыва сердца, от тифа, от голода.
Лейто удается выжить. Ему удается устроиться в швейную мастерскую. Вместе с другими пленниками он шьет одежду для немецкого рейха: в основном военную форму, но и гражданскую одежду, фартуки и халаты.
Летом сорок четвертого тех обитателей гетто, кто еще уцелел, отправляют в Освенцим по железной дороге. Лейто определяют в команду уборщиков. В последний момент, когда они сами копают себе могилу — большую канаву прямо на плацу лагеря, охрана неожиданно исчезает — русские на подходе, и у нацистов теперь другие заботы.
Часть II
Глава 1
Альвина фон Траун-Ленгрис, профессор кафедры римского права, преподносит учебный материал, это самое римское право, как эдикт о вечном мироустройстве. Такие институты, как частная собственность, семья и государство в соответствии с ее выкладками являются как бы природными явлениями, дарованными нам — окольным путем определенной, подлежащей точному описанию историчности — всемогущей и милостивой руцей Божией. Рассматриваемый таким образом мир идеально организован и гармонически устроен: и прежде всего — он находится в состоянии полного покоя.
Правда, древние римляне не были христианами. Тем не менее за сгинувшими и позабытыми идолами и божествами античности стоял один, единственный и истинный Бог, от которого все и пошло. И этот особенный Бог в свою очередь чудесно трогательным, умиляющим сердца, — а с другой стороны, абсурдным и невероятным образом, был не кем иным, как тем Богом, которого почитала фрау профессор. Воистину тайна веры! Госпожа Траун-Ленгрис была истовой католичкой, и история была для нее окольной дорогой, путем к Богу, к Единственному, который, опять же весьма странным образом, будучи с самого начала триединым, в течение столетий собрал вокруг себя целый пантеон святых и блаженных, и люди поговаривали, что каждое воскресенье она, повязав на голову платок, в длинном, почти до полу, поношенном пальто традиционного покроя появляется на торжественном богослужении в соборе Святого Стефана.
Альфреду рассуждения Ленгрис в отдельных деталях представлялись весьма курьезными и безосновательными, у него ведь с головой все в порядке, однако аура чудесного, сказочного, которую фрау профессор умела создавать вокруг самых неуклюжих аспектов ее миропорядка, ему нравилась и не преминула оказать на него воздействие. Он ведь так мало знал. Жизнь его совсем еще не обтесала. Правда, он недолгое время и на временной основе был министрантом[7] в маленькой церкви на окраине Клагенфурта, — но главной целью его приобщения было то, что он мог пользоваться футбольной площадкой общины и брать книги в общинной библиотеке. Идею ему подсказал Георг. Оба они, нацепив на себя широкие воротники зеленого, пурпурного или фиолетового цвета и молитвенно сложив руки, преклоняют колени у алтарной решетки.
Альфиной фон Траун-Ленгрис Альфред восторгался на расстоянии. Она была для него чем-то неизвестным и непостижимым. Ее способность представлять слушателям противящуюся описанию и анализу массу фактов в облачной дымке святости, умение заставить эти облака гармонически и живописно проплыть над ландшафтом научных знаний в немалой степени способствовало тому, что она представала в его глазах своего рода жрицей, мудрой феей из того царства, в которое, как казалось, ему совсем закрыта дорога. Ее светлое, с гримасой строгости лицо, окаймленное зачесанными назад волосами, во время лекций представляло собой звучащую маску, парящую в воздухе на фоне деревянной облицовки зала. На этом лице чрезвычайно редко отражались какие-либо личные чувства, не говоря уж о чем-то интимно-человеческом, оно являло собой медиум высшего порядка, о котором она вещала, выражение его власти и осмысленной красоты. Складывалось впечатление, что ее собственный разум в процессе не участвует. Она словно бы озвучивала истины оракула и заветы Закона. Одежда ее, простого и строгого покроя, словно у представительницы монашеского ордена, лишь подчеркивала суть произносимого. Вот только рукам своим, маленьким, нервным и при этом по-мужски сильным, она в определенные моменты позволяла выйти за пределы роли, явить себя слушателям — будь это в жесте, выражающем отрицание и гнев, а то и проклятие, или же в жесте, сглаживающем противоречия, либо в случае необходимости особо подчеркнуть одно из высказанных положений. Иногда, и в этом была особая прелесть, она машинально поправляла локон, выбившийся из прически, или приглаживала ладонями платье.
Госпожа Траун-Ленгрис проповедовала не для этого мира, в котором по улицам ходили трамваи, где в ресторанах предлагали вкусные вещи, где на просторных площадях вспархивали стаи голубей, а мужчины на улице, если никто не видел, смачно сплевывали прямо на тротуар. Она проповедовала Царство Божие как Царство Справедливости — вне времени, вне пространства, вне конкретной цели. Справедливость была той вещью, которая находила цель в самой себе. Вечная справедливость. Если рассуждения профессора все же хоть сколько-то касались этого мира, затрагивали его хотя бы краем, то исключительно потому, что он, этот мир, стоял на службе высоких требований Царства, или, говоря иначе, сквозь преходящие и изменчивые формы посюстороннего и сиюминутного просвечивали черты вечного. Альфред, вопреки своей воле, был от профессорши в полном восторге. Он покидал лекции Траун-Ленгрис, шатаясь, словно от морской болезни.
Другим лектором, чьи лекции Альфред, а поначалу и Георг, посещал, был профессор Викторес, высокий широкоплечий господин с проседью в волосах, красивый мужчина, несмотря на свой почтенный возраст державшийся безупречно, почти спортивно. Одевался он для человека своей профессии и положения подчеркнуто свободно, носил вещи, сшитые по лучшим правилам портновского искусства, даже несколько франтоватые. Однако это нисколько не портило его степенный облик. Держался он всегда подчеркнуто прямо. Он окружал себя некоторым флером современного и динамичного человека. Помимо его научных познаний и дара воображения этому способствовала и его речь, то, как он читал лекции и участвовал в дебатах. Говорил он просто и элегантно, порой не без подковырки, иногда допуская простонародные выражения. Преподавал он национальную экономику.
Он, к примеру, рассказывал, как из первичной сельскохозяйственной продукции и длительных процессов ремесленной обработки в конце концов возникало мануфактурное производство, а затем — современная высокопроизводительная промышленность. Или о том, как соотносится общество с ограниченной ответственностью с глобальным акционерным обществом. Он обнаруживал при этом гигантские запасы знания, разложенные по основным и дополнительным пунктам, прибегал к аксиомам и сентенциям, к неопровержимым истинам и небрежно вплетаемым в лекцию остроумным изречениям, весьма развлекавшим публику, — да, мировой дух может позволить себе иногда пошутить! Профессор Викторес обладал способностью пробудить в своих слушателях и горячий интерес, и восторг, возникающие при вдруг открывающихся им истинах и взаимосвязях. Он раскрывал им взаимосвязи биржи, капитала и политики, или же громко возвещал с кафедры: «Рынок, и ничто кроме рынка есть то место, где творится жизнь!»
В общем и целом он производил освежающее и бодрящее воздействие на души своих слушателей, укреплял их умы благодаря тому, что никогда не допускал сомнения в том, что помимо представленных им моделей и образцов мироустройства мыслимо что-либо другое. Его представления о мире были всеохватны и телеологичны, они простирались до последних пределов, до пределов мира, и таким образом внедрялись в умы и души студентов.
Правда, партия, которую исполняла с кафедры госпожа Траун-Ленгрис, была явно более возвышенной, волнующей, родственной поэзии и искусству вообще. В ее компетенцию входило обозрение целого, устремленного к вечности, вещание о великом и цельном, основополагающем и существующем поверх реальности. В сравнении с этим профессор Викторес производил почти легкомысленное впечатление. Наряду со своей преподавательской деятельностью он был весьма популярным у клиентов юристом и экспертом, человеком, который в жизни и в экономике твердо стоял на ногах и, наряду с прочим, входил в наблюдательные советы нескольких фирм, то есть занимался тем, что хотя и было с общественной точки зрения почетно и весьма денежно, из перспективы госпожи Траун-Ленгрис представлялось примитивным, недостойным и попросту кощунственным.
Однажды Альфред встретил профессоршу на улице. Собственно, он с ней не то чтобы встретился, а чуть не врезался в нее сзади в толчее на Кертнерштрассе. Ну и перепугался же он!
Нисколько не раздумывая, он последовал за ней. Просто пошел следом. И хотя она собственной персоной шла перед ним, в толпе других пешеходов, она одновременно представлялась ему сияющим и призрачным явлением, парящим в облаках.
Сегодня на ней было платье с весьма большим декольте, с плотно облегающим грудь лифом, платье, свободно расходящееся от бедер, открывая колени, своего рода дирндль[8], — да, самое настоящее национальное платье, поверх него и фартучек соответствующий, а в руке, которой она, словно ребенок, размахивала при ходьбе, была не дамская сумочка, а висевший на шнурке мешочек с затянутой горловиной. Лицо у нее, и он впервые это заметил, вовсе не было бледным и прозрачным, как он себе это не раз представлял, выглядело оно вполне здоровым и упитанным, на щеках ямочки, ровный ряд здоровых зубов; темные волосы, уложенные в деревенскую прическу с заколотыми сверху косами, открывали затылок и гибкую, подвижную шею.
Через несколько шагов, а он продолжал за ней идти, Траун-Ленгрис неожиданно вошла в холл гостиницы на Кертнерштрасе, она свернула туда так резко, что Альфред во второй раз едва не наскочил на нее, когда она открывала дверь. Как охотник, который неожиданно и с досадой видит, как ускользает от него драгоценная добыча, Альфред бросил ей вслед последний, жадный взгляд. Он разглядел ее быстро протопавшие по каменным ступеням гостиничного холла ноги в белых вязаных чулках, в туфлях без каблуков с серебряными пряжками, и картина эта показалась ему исполненной глубокого смысла: он ее потерял.
Ему повезло. Подобно резным фигуркам в барометре, исчезающим внутри прибора перед дождем и вновь появляющимся в преддверии ясной погоды, Траун-Ленгрис, исчезнувшая было навсегда в холле гостиницы, вновь объявилась за большими витринными стеклами кафе на первом этаже. Дружелюбно улыбаясь, она подошла к группе сидевших там людей, приветствовавших ее весело и одновременно весьма чинно. Там было несколько детей, две дамы, выглядевшие на взгляд Альфреда точно так же, как и Траун-Ленгрис — может быть, ее сестры? Нет, все же не сестры. На обеих — национальные наряды, и прически похожие. Траун-Ленгрис подсела к дамам за столик, на котором уже были сервированы кофе и пирожные. Они сидели вроде бы и свободно, но вместе с тем как-то зажато, держа руки на коленях и лишь иногда позволяя себе сдержанные жесты в сопровождение оживленной беседы.
Главное средоточие этой компании, сидевшей за двумя столиками, составляли мужчины, хотя они и находились несколько поодаль. Двое. Именно в их сторону склонялась оживленная дамская беседа и устремлялись женские взгляды, именно туда был направлен и интерес фрау Траун-Ленгрис.
Одним из них был профессор Викторес! Альфред со своего наблюдательного пункта на улице хорошо видел его: профессор был в светлом, легком, слегка помятом летнем костюме и в белых теннисных туфлях. Он сидел, закинув ногу на ногу, слегка откинувшись на стуле, явно погруженный в свои мысли, время от времени задумчиво проводя ладонью по губам и затем снова обхватывая рукой на колено. Вот он наклонился и поправил сползший носок. Он хотя и беседовал, делая паузы, с другим человеком, сидящим тут же, однако, как вскоре понял Альфред, говорил с ним как бы свысока и для блезиру: произнеся несколько слов, отпустив короткое замечание, он, профессор Викторес, вновь погружался в горделиво-отстраненное молчание как человек, уже высказавший свое компетентное и весомое суждение.
Траун-Ленгрис сидит в окружении детей, один ребенок — миленькая девочка с косичками — старается забраться к ней на колени, и дама ей это милостиво позволяет, продолжая беседу с соседками по столику и играя пухленькими ручками ребенка, но при всем при том время от времени бросая короткие взгляды на Виктореса. Тот длительное время ее взглядов как бы и не замечал, но наконец отреагировал удивленной улыбкой, словно бы говоря: и что теперь, моя дорогая? Траун-Ленгрис откинула голову назад, и под воздействием спокойного и словно бы оценивающего взгляда Виктореса, одновременно выражающего уверенность в чем-то, краска бросилась ей в лицо.
Собеседником Виктореса — Альфред заметил это только под конец, — был не кто иной, как профессор Хюттер, специалист по государственному праву, корифей в своей области, один из самых строгих преподавателей университета! Маленького роста, толстенький, совсем невзрачный, в мешковатом костюме, он сидел, смущенно глядя перед собой.
Этот самый Хюттер, профессор Хюттер, был фигурой, которая тоже весьма занимала Альфреда. Роста он совсем невысокого, но этот тучный коротышка всегда пребывал в движении, в некотором беспокойстве. Он скакал по коридорам и лестницам университета, словно мяч. Круглая голова его тоже походила на мяч, лицо было красное, с пористой кожей, плохо выбритое на щеках и подбородке. Хюттер — особое явление, что называется, близкое к земле, кондовое и посконное. Родом он был из деревни, из Верхней Австрии.
Хюттер всегда был в прекрасном настроении, лицо его буквально излучало радость, он часто смеялся, и смеялся весьма заразительно. Однако как раз из-за его неудержимой веселости профессор вызывал у Альфреда неподдельный трепет.
Трудно сказать, по какой причине. Альфред вовсе не чувствовал себя неуютно в присутствии профессора. В общем и целом профессор был вполне сносный мужик, при всей его суровости мог спокойно простить ошибку, недосмотр, сказав потом с обворожительнейшей улыбкой, придававшей его лицу весьма саркастическое выражение: «Что ж, а теперь поучите этот материал как следует!»
Как уже сказано, Хюттер был родом из сельской местности, с равнины, — из крестьянского сословия, как он сам любил подчеркнуть. Отсюда, вероятно, и его любовь к обильной и жирной пище и к доброй выпивке. Пьяницей он не был, но с удовольствием просиживал в кабаке со студентами до глубокой ночи, развлекал их всякими анекдотами и шутками, частенько и платил за них. Однако весьма не рекомендовалось при этом не смеяться его шуточкам, а сам он всегда смеялся громче всех.
Хюттер любил поговорить о чувствах и о душе. Человек чувствующий стоял для него на первом месте. Он просто в лирику впадал по этому поводу. «Душа и разум — два сапога пара! Многим вещам просто так ведь не выучишься». В общем, было совершенно ясно, на чьей он стороне. У женщин профессор особого успеха не имел, но по этому поводу не переживал, он ведь общался со своими буршами, был ветераном студенческой корпорации «Бавария»!
Мыслил профессор Хюттер остро и ясно. Однако, по непонятной причине, на лекциях он стремился к тому, чтобы именно ясные мысли, промелькнувшие на мгновение в его речи, снова затемнить, изгнать прочь, как будто чистое и ясное познание не имело права существовать, как будто было в нем нечто порочное. Рассуждения свои он любил завершать сочной шуткой.
Его стихией, его коньком, как сам он с охотой и не без ехидства констатировал, наряду с излюбленной точностью, была деталь, деталь и еще раз деталь! Во время экзаменов это имело порой удручающие последствия. Он требовал знания вплоть до последней точки над «и»: «Юрист не должен упускать ни одной мелочи!»
Себя Хюттер считал прямодушным и открытым малым, добрым и надежным, истинным воплощением настоящего слуги государства. Хотя он и отрекся от религии отцов, как он сам выражался, то есть вышел из лона церкви, но присущие ей качества все же сохранил. Верность занимала в его иерархии ценностей высшее место. Однако, если речь заходила о политике, он себя называл либералом. И свободу он ценил выше всего. Правда, в чем это выражалось или должно было выражаться, Альфред понять так и не смог. На лекциях Хюттер порой подшучивал над своими коллегами, в том числе над Викторесом и Траун-Ленгрис, не боясь выставить их на посмешище. С другой стороны, по отношению к ним он проявлял подчеркнутую, даже заискивающую вежливость. Он был по-своему хорош со всеми.
Бывало не раз, что Хюттер особенно напускался на кого-то из студентов. Почему именно на этого, а не на другого, сказать было невозможно. Порой было достаточно сущей мелочи. И уж если Хюттер начинал кого-то преследовать, то тому оставалось уповать лишь на Бога.
В общем, было не ясно, кто и что такое этот самый Хюттер.
Мария Якублец из Парндорфа, молодая женщина, переселившаяся в Вену, обрела свое счастье с загорелым спортсменом, с которым познакомилась на Дунайском лугу. Теперь у нее другая фамилия, Оберт, как у мужа, у них ребенок, сын, ему уже десять лет. Сын унаследовал от матери смуглый цвет кожи, а еще, но об этом наследстве хорватской крови могут судить только посвященные, — жесткие черные волосы. В мальчишке души не чают! Марии хотелось иметь много детей, как это принято было у нее на родине. Но она тоже работает, да еще и ведет хозяйство, поэтому планы о будущих детях приходится пока отодвинуть.
Малыш растет в Кайзермюлене, на другом берегу Дуная, если смотреть от центра города, там, где сама Мария когда-то жила с отцом-каменщиком. Дунайский луг, как венские жители называют пойму реки, заросшую высокой травой, с большими декоративными ивами, растущими по берегам заросших камышом прудов и зачарованно глядящимися в покрытую ряской воду, с рыбачьими лодками на берегу, с быстро катящими волнами реки, — естественным образом является местом его игр и времяпрепровождения. Более того: эта полудикая местность, ее сменяющие друг друга обитатели и посетители, является его воспитательным учреждением, он здесь познает жизнь, то есть познает то, что демонстрирует ему здесь жизнь. По воскресеньям это толпы жаждущих глотнуть свежего воздуха венцев, вырвавшихся на природу и до позднего вечера прогуливающихся вдоль берега, летом — любители купания с разноцветными мячами, купальниками и махровыми полотенцами. В будние дни округа эта безлюдна и выглядит уныло, ветер гонит мусор и обрывки газет, оставшиеся здесь с воскресенья, лишь изредка появляются здесь люди: бездомные, греющиеся на солнце и тянущие дешевое вино из двухлитровых бутылок, женщины с ухажерами то под одним, то под другим кустом, иногда полицейский, на велосипеде объезжающий местность по песчаным дорожкам.
Иоганн Оберт, его отец, тот самый загорелый спортсмен, больше не работает кондуктором, он давно ушел из поездной бригады. Он теперь сидит в здании управления дороги и занимается бумагами. К тому же он — член социалистического крыла профсоюза. Отец Марии, старый каменщик, отнесся к Иоганну весьма одобрительно и благословил дочь на брак с ним. С большим одобрением слушал он и рассуждения Иоганна, когда тот рассказывал ему о профсоюзных и производственных собраниях.
— Да, им надо не давать спуску! — постоянно приговаривал он и кивал головой. Кому именно «им», он никогда не уточнял. Иоганн, зять, разбирающийся в политике, как считает — нет, даже убежден — старик, тоже не шибко заботится о теории и об основополагающих принципах, напротив, ему все это подозрительно, не тем пахнет: «Так только коммунисты разглагольствуют!»
Все же Иоганн был достаточно радикален, чтобы однажды во время воскресной службы в кайзермюленской церкви, в которую ходил только ради Марии, заткнуть рот пастору, проповедовавшему с кафедры о братстве всех людей. Вот была потеха! Слава Богу, как выразилась Мария, папе (ее отцу) не довелось всего этого услышать и увидеть. Отец ее к тому времени уже умер и покоился на Центральном кладбище, третьи ворота, участок триста двадцать четвертый, линия шестнадцатая, в узкой могиле с надгробьем из искусственного камня темной окраски и с железным крестом на камне.
Небольшая группа прихожан, тихо беседуя, стояла еще перед входом в церковь, другие, и их было большинство, уже вошли внутрь, одетые по-праздничному и в приподнятом настроении. Впереди, на второй скамье, уже сидела рядком вся семья Оберт: Мария с мужем и с маленьким сыном Иоганном, которого они называли Джонни. Мария сидела молча, погрузившись в себя, молитвенно сложив руки и устремив взгляд своих карих глаз вверх, туда, где на алтарной иконе фигура Матери Божией, ее тезки, всходила по лестнице розовых облаков на небо, где ее уже ожидали почтительно толпившиеся ангелочки и Бог Отец собственной персоной.
На Марии была белая блузка с длинными рукавами, на вырезе и на передней планке украшенная кружевом. Ее темная кожа отчетливо выделялась на белом фоне, и черные, завитые по моде волосы делали ее похожей на итальянку. Муж называл ее Беллой, когда среди повседневной суеты вдруг останавливался и бросал на нее влюбленный взгляд. Иоганн Оберт сидел выпрямившись, спокойный и, в противоположность жене, нисколько не взволнованный ожиданием мессы, уверенный в себе, самодовольный и гордый, в новехоньком твидовом пиджаке, гладко выбритый и благоухающий одеколоном. Стекла его очков блестели в свете свечей словно бритвенные лезвия, или словно капли воды, застывшие на цветочных вазах, которыми был уставлен алтарь. Джонни, их сынок, несмотря на постоянные замечания матери, вертел головой в разные стороны, высматривая своих одноклассников среди прихожан и многозначительно с ними перемигиваясь.
Во время проповеди священник, красивый, седой, с военной выправкой мужчина, громким и отчетливым голосом вещал о добродетелях возрождения и восстановления страны, о сообществе людей доброй воли, которые собрались вместе, чтобы снова возродить былое величие Австрии и в особенности города Вены из руин войны, из огня и пепла. Иоганн Оберт навострил уши и выпрямился еще больше. Мария, державшая его за руку, крепко сжала ее в своих ладонях. По окончании проповеди вновь заиграл орган, торжественное пение прихожан заполнило церковь, святые дары, тело Христово, были явлены присутствующим в высоко поднятых руках священника, — и затем все, готовые причаститься, и Мария среди них, двинулись по центральному проходу к алтарной решетке, где они преклоняли колени и вкушали небесные яства.
После святого причастия Мария каждый раз чувствовала себя потрясенной и словно одурманенной. По дороге домой она обычно не произносила ни слова. Торжественный обряд удовлетворял, с одной стороны, ее тягу к самоотдаче и притягательному подчинению, с другой, ее стремление к спасению во Христе. Она понимала бунтарское начало в Иоганне, связанное с самим его темпераментом, а еще с тем, что Иоганн, к тому времени ставший членом производственного совета в управлении железной дороги, частенько излагал ей свои политические взгляды, апогеем которых была мысль, что де все эти добродетели, которыми пичкают простых людей, являются всего лишь выдумкой власть имущих.
Сегодня Мария была на удивление разговорчива и раскованна. Она пригласила к себе домой на вечеринку друзей и знакомых, в том числе своего начальника и свою начальницу. Мария больше не была уборщицей, она работала на небольшом предприятии, печатавшем кассовые ведомости, официальные формуляры и трамвайные билеты, — и она вовсе не хотела, чтобы ее семья ударила перед ее начальством в грязь лицом! По пути из церкви они всем семейством зашли в трактир на углу, в «Кайзермюленский двор», Иоганн выпил пива, а сын — лимонада. Они сидели на скамейке в полукруглом зале, пропитанном сигаретным дымом и кислыми облаками винных паров. В окна заведения весело светило солнце. На уличных каштанах листья были по-осеннему тронуты по краям коричневым и золотистым цветом и с треском сворачивались в трубочку.
Начальницей Марии была рослая, полная женщина с нежной кожей рук и с округлыми ножками, привыкшая, что было заметно по выражению ее лица, руководить и командовать. Ее расплывшееся лицо с раздутыми щеками покоилось на солидных жировых подушках. Медленные и размеренные движения ее тучного тела словно излучали властность и превосходство, однако впечатление несколько снижали пряди волос, свисавшие из ее прически. Волосы у нее были пепельного цвета. Когда пальцы Иоганна, с ней танцевавшего, прошлись по маленьким круглым пуговицам корсета под тканью ее платья, по жировым складкам, выпиравшим из-под плотного белья, и он спросил ее: «А что у нас там такое?» — она громко рассмеялась и вовсе не выказала стеснения, а явно возбудилась. Оконные стекла в небольшой комнате покрылись испариной от духоты, музыка и обилие крепких напитков вовсю разгорячили танцующих. Мария вносила все новые подносы с аппетитными закусками: ражничи, плескавицы, бутербродики, украшенные паприкой. По кругу пошла бутылка сливовицы. Начальник Марии, седовласый мужчина лет шестидесяти, явно уже перебрал и сидел за столом с тупо-обиженным выражением лица.
Часов в семь Иоганн стал играть на мандолине и приплясывать, отбивая чечетку. Часов в девять на мандолине оборвалась последняя струна, и Иоганн ладонями стал отбивать по деревянному телу мандолины ритм прерванной мелодии. Женщины уединились в кухне и пили яичный ликер. Под громкий хохот они обсуждали мужчин. Мария стала нахваливать своего мужа как выдающегося любовника. Лицо ее раскраснелось и пылало жаром, и язык у нее уже заплетался. В каморке за кучей сложенной гостями верхней одежды Иоганн помог начальнице Марии выпростаться из платья, расстегнул на ней корсет, а потом стащил с нее бюстгальтер.
После того как все, до последнего гостя, отправились восвояси, Иоганн в расстегнутой рубашке и с набыченным взором сидел на кухонном стуле, вытянув перед собой все четыре конечности. Мария как раз укладывала ребенка спать. Потом она повела Иоганна в спальню. Уснуть сразу она ему не дала, и ему пришлось еще раз как следует проявить свое мужские способности и обильно осчастливить Марию.
Сын Марии и Иоганна быстро вырос, деятельно поощряемый отцом, а поскольку голова у него была светлая, то его отдали в гимназию. Это был дружелюбный и покладистый мальчик, унаследовавший от матери меланхолический темперамент и смуглый цвет кожи. Каникулы, обычные две недели, Оберты чаще всего проводили в Италии, на одном из морских курортов на Адриатике, в Линьяно или в Езоло. Ранним утром они занимали место на серой прибрежной полосе, образующей пляж, расставив разноцветные шезлонги и установив пляжный зонт. Парнишка с удовольствием шлепал по мелководью вдоль пляжа и собирал раковины, а родители лежали в шезлонгах. Иногда он заплывал, а плавал он отлично, за песчаную банку, туда, где вода похолоднее, а может, и для того, чтобы произвести впечатление на девочек на берегу. Был он долговязым, с бледноватым лицом, с неизбежными прыщами на щеках.
Заплыв однажды в море, он к берегу не вернулся. Мария и Иоганн долго метались по пляжу, выкрикивая его имя. Тело его нашли в холодной и серой воде. У Джонни было слабое сердце.
Дом, где жили Оберты, стоял сразу же за плотиной, выстроенной для защиты от наводнений. Пространство, открывавшееся в сторону реки и далее в направлении города вплоть до вершин холмов Венского леса, в сравнении с затхлыми, тесными комнатками квартир оказывало свое воздействие. Во-первых, тут было достаточно места для прогулок и отдыха. Опять же, это было место, откуда открывался отличный вид, и рассмотреть можно было многое. На улицах в районе Кайзермюлен видны были только стены домов с отваливающейся штукатуркой, пятна, оставленные задиравшими ногу собаками, желтые почтовые ящики, общинные постройки, тополиная листва, следы блевотины перед трактирами, прислоненные к стене велосипеды, плакаты, только что вывешенные или уже выцветшие под солнцем и дождем, их отклеившиеся края с засохшим клеем бились на ветру и ломались с треском, словно кости.
Осенью серебристые верхушки огромных ив плавали и утопали в море тумана. Цвета листвы и тумана напоминали расцветку нашивок на одежде могильщиков из похоронного бюро. Со стороны реки доносилось негромкое, призрачное бульканье. Когда задувал фён, играющие разноцветьем склоны Венского леса представали мягкими и странно выразительными на фоне неба, словно вывернутого наизнанку, и там, за рекой, виднелась черная и искрящаяся масса города, спекшаяся, слипшаяся куча строений, масса руин.
Зимой, в снежные дни, все выглядело иначе, когда вокруг в воздухе кружились снежинки, всё словно растворялось: контуры холмов, домов и людей расплывались, и оставалась лишь пустота, нечто веселое и неудержимое, протянувшееся без границ.
На картинах, которые собирал профессор Вольбрюк, были не только летние пейзажи. Вовсе нет! Однако он явно предпочитал это время года, что было отчетливо заметно. И хотя живопись эпохи бидермайера составляла основную часть его коллекции — пейзажи Гауэрмана, Вальдмюллера, купающиеся нимфы Швинда, зажигательные сцены с венгерскими всадниками Мункачи, — профессор отнюдь не был консервативен в своих вкусах, а вполне даже современен, — таким в любом случае он видел себя, ведь ему принадлежало и несколько рисунков Шиле, а главное, центральное украшение его коллекции составляла аллегорическая картина Кокошки, на которой на фоне залитого солнцем средиземноморского пейзажа с разбросанными по нему пятнами тенистых оливковых деревьев были изображены три неподвижные фигуры богинь, одна из которых держала нить, другая — мерку, а третья — ножницы: это были норны.
— Я вижу на этой картине воплощение всех жизненных проблем, связанных с моей профессией! — любил повторять профессор, откидываясь в кресле и погружаясь в возвышенные размышления.
В доме на холме, в коттеджном квартале, он проживал вместе с женой и с дочерью Кларой.
В окружении огромных, почтенного возраста деревьев со сказочными кронами стоит этот дом, с белой облицовкой, с большими окнами и белыми рамами, с выкрашенными в белое открытыми балконами, ну просто небольшой зАмок. Украшает его и настоящий аттический портик, а в крышу, покрытую обычной черепицей, вставлены выпуклой формы окошечки и лючки, которые, подобно глазу, затуманенному мечтой, смотрят в сад. Аккуратные гравийные дорожки ведут от ворот к дому, а затем, сужаясь, — в отдаленную часть парка, где они, играючи отклоняясь то в одну, то в другую сторону, доходят до летнего павильона и там смыкаются.
Эта намеренная игра во встречу и воссоединение предстает как внутренняя концепция, по меньшей мере — как утопия устройства дома по Вольбрюку. У профессора, подвизающегося и в университете, и в венской Общей больнице, всегда огромное количество работы, и когда он дома, он чаще всего занят своими пациентами, в основном мужеского пола, весьма капризными и раздражительными. Итак, профессор, мужчина лет пятидесяти, полноватый и цветущий, с маленькой игривой бородкой, спокойным взглядом и подвижными, умелыми пальцами виртуоза-музыканта, — профессор глубоко почитает семью и мир в семье, душевную близость членов семейства, трогательную заботу тесного семейного круга. Круг состоит из него самого, дочери Клары и его супруги и матери семейства, которая, кстати, много моложе господина профессора. Однако в то время как профессор рассматривает воскресные семейные посиделки за послеполуденным кофе в садовой беседке — особенно в мае, когда фруктовые деревья покрываются розовыми и белыми цветами, а скуповатые еще лучи солнца пронизывают соцветия, излучающие такое сияние, что глазам становится больно, — как воплощенный символ гармонии и согласия, любви друг к другу, — Клара, его дочь, шестнадцатилетний подросток, рассматривает эту ситуацию более трезвыми глазами, более реалистично, ведь ей известно, чего желает папа и как ему угодить, и она разыгрывает перед ним желаемые чувства в минуты душевной близости и внимания друг к другу, разыгрывает вполне удачно и очаровательно. Для мамочки любовь предстает в ином обличье: ей нравятся визиты супруга в спальню, и она отрабатывает свой супружеский долг умело и с определенным изяществом, которое мужья обычно с восхищением воспринимают как природный дар их супружниц. Когда он обнимает свою супругу, — лицо его при этом озабоченно надулось и окрасилось почти в фиолетовый цвет, — и отрывисто дыша, шепчет ей: «Ну, как тебе? Ну, как тебе?», она только нежно и добродушно улыбается, она ведь знает, что ответ-то ему вовсе не нужен, и эта улыбка окончательно сводит его с ума.
Кстати, Вольбрюки всей семьей по воскресеньям всегда отправляются на концерт в филармонию. Уважительных причин для отказа от похода не признавалось, за исключением таких неприятных обстоятельств, как экстренный прием больного или мигрень у жены. В филармонии, и при этом в партере, у семейства Вольбрюков с незапамятных времен был постоянный абонемент, из-за которого им многие завидовали.
Однажды вечером, а дело было летом и окна виллы Вольбрюков были широко распахнуты, профессор в одиночестве сидел в гостиной. Он переставил небольшой столик, обычно стоявший перед диваном и креслами, поближе к окну и там, в последних лучах заходящего за деревья солнца, перелистывал страницы большого альбома. Альбом был в переплете из черной юфтевой кожи. Профессор осторожно, держа перед собой двумя руками, принес его из своего кабинета и теперь, склонившись над ним, втягивал носом запах кожаного переплета.
Когда Клара вошла в гостиную, она поначалу не заметила отца. Профессор, ссутулившись, сидел перед открытым альбомом и, погрузившись в глубокое раздумье, невидящим взором смотрел в темнеющий сад.
— Папа! — она наконец-то заметила его и щелкнула выключателем.
— Не зажигай свет! — профессор всплеснул руками, и если бы это был кто-то другой, а не Клара, он бы, пожалуй, разгневался. Вольбрюк страдал некоторой раздражительностью, однако, оберегая свое здоровье, он старался сохранять спокойствие и уравновешенность.
— Клара! — лицо его, расплывшееся в приветливой улыбке, сейчас, в вечернем освещении, было похоже на огромную клубничину.
— Папа! — произнесла дочь еще раз и поцеловала его в лоб, над которым справа и слева уже были заметны пролысинки в его седых волосах.
— Посидишь со мной, посмотришь? Придвинь стул поближе и садись!
Отец и дочь склонились над фотографиями в альбоме. Профессор осторожно перелистывал страницы. Дочь тесно прижалась к нему. Иногда маленькая, нервная рука ее ложилась на одну из страниц, этим жестом она просила отца подробнее рассказать о какой-нибудь фотографии.
— А здесь кто это такой? Это твой дед! Уже в почтенном возрасте. Дедушка родом из Штирии, из зеленого сердца Австрии. Там все сплошь крестьяне, представь себе! Он сначала служил в Граце, в земельном управлении, а потом дослужился до места в венской придворной канцелярии. Стал надворным советником — да, он этого добился! Однако монархия к тому времени уже клонилась к закату. Дедушка построил наш прекрасный дом! В его времена — настоящий шик и блеск! Мне кажется, у нас в семье есть тяга ко всему современному.
Профессор, склонившийся над альбомом, чтобы еще лучше видеть подробности на фотографиях, вновь откинулся на стуле и ткнул пальцем в один из снимков.
— Богемская придворная канцелярия! — произнес он не без гордости.
— Я думала, что прадедушка был надворным советником в Вене, — сказала дочь и склонилась над альбомом.
— Богемская канцелярия правила всей прежней Австрией, — произнес, не вдаваясь в подробности, профессор и добавил:
— Здание сохранилось до сих пор! Это на Юденплац, на Еврейской площади.
Так, листая альбом, они заговорили об отце профессора. Он начал свою карьеру в железнодорожном ведомстве. Кстати, он играл на флейте; благородный дилетант, как назвал его профессор, используя связи в Союзе землячеств, получил место в военном министерстве и, учитывая его выдающиеся профессиональные знания, без всяких проволочек был взят на службу в немецкий вермахт.
— Нацистом папа никогда не был.
— И во время войны тоже?
— Он был чиновником. И больше всего любил музыку.
— А ты? Ты тоже где-то служил?
— Я был в гитлерюгенде.
— Ты был в гитлерюгенде, папа?! — Дочь с дерзкой улыбкой взглянула на отца и шутливо погрозила ему пальцем. Она плотнее укуталась в шаль, наброшенную на плечи, потому что из сада, вместе с запахами летней земли, потянуло и вечерним холодком.
— Все тогда в нем были! — ответил профессор и, завершая разговор и захлопывая альбом, добавил: — Мы австрийская семья с ног до головы.
Отец и дочь отнесли альбом обратно в кабинет, и как раз в тот момент, когда они выходили из него, в гостиную со стороны прихожей вошла супруга профессора. Она была одета для выхода в свет и явно торопилась.
— Вот вы где! — Широко улыбаясь, она подошла к мужу и дочери и, не касаясь губами, поцеловала профессора в щеку, а девочку в лоб. — Мне на завтра нужны деньги! Немножко больше, чем обычно.
— Возьмешь там, где всегда, — сухо ответил профессор.
— Ты такой заботливый!
Профессор со снисходительной улыбкой на губах, обозначив сдержанность, отвел взгляд в сторону и отступил назад.
— Мама, а ты куда идешь?
Мама, не ответив на вопрос дочери, направилась прямо к выходу, скользнув выдающим ее приподнятое настроение взглядом по разноцветью картин в золоченых рамах на стенах, по мебели, отсвечивающей темным блеском, по золоченым головкам сфинксов на столбиках комода.
Этим вечером Альфред встретился с Георгом у Института мировой торговли. Георг учился там уже несколько семестров. Он ждал друга на ступенях здания, в голове никаких мыслей, и это его несколько угнетало. Они пошли по окаймленной деревьями улице предместья.
— Давай сегодня как следует оттянемся! — сказал Альфред.
Георг остановился. Широко расставив ноги, руки в карманах, он с улыбкой смотрел на своего друга. Если Альфред ждал, что Георг спросит его, где они — в этот прекрасный вечер! — смогут оттянуться, то он ошибался.
Вместо этого Георг стал рассказывать о последней лекции об американском рынке и о возможностях, которые там существуют. Он буквально бредил мечтой об одном огромном экономическом пространстве, — это же целый континент! — в котором делаются дела, — и какими средствами!
— Представь себе, — сказал он и, сделав паузу, бросил на друга испытующий взгляд, удостоверяясь, слушает ли тот внимательно то, о чем он собрался рассказать. Однако Альфред мягко взял его за руку, потом обнял его за плечи и увлек вперед.
Венская городская железная дорога частично проходит в туннелях, частично над землей — по эстакадам, в зависимости от рельефа местности. Станции электрички, окрашенные в белый цвет, украшенные великолепием колонн, карнизов, ламп-шаров на кованых канделябрах-подставках, броско контрастируют с дешевыми закусочными и прочими заведениями, которые обосновались в арках, поддерживающих эстакаду.
— Смелей, ребята, заходите! — человек в синем спортивном костюме приветствовал этой фразой всех входящих в заведение. Сам он стоял перед игровым автоматом, небрежно дергая его за ручку, в правой руке держал зажженную сигарету и наполовину пустой стакан, из которого он, едва отняв его от губ, снова делал глоток.
— Что желаете, господа? Может быть, по «животику»? — обратился к ним хозяин заведения. Небритый, с выпученными глазами, в рубашке с закатанными рукавами, он стоял за стойкой, единственным украшением которой была большая банка с маринованными огурцами.
— Да, пожалуй, два «животика»! — ответил Альфред и наклонился к стойке, словно хотел удостовериться, что хозяин услышал его.
Человек у игрового автомата, проигравший очередную игру, что засвидетельствовал звонок, донесшийся из автомата, смачно сплюнул на пол и пробурчал: — Это называется ударить по животику, молодые люди! По животику! — Он расхохотался и указал рукой с зажатой между пальцами сигаретой на высоко висящую рекламную доску, на которой мелом было выведено: один «животик» = один бокал + двойная порция шнапса.
Георг и Альфред, забрав свои бокалы, уселись за столик в глубине зала, и Георг, не сделав и глотка, снова стал расписывать особенности американской экономики.
— Выпей сначала! — подбодрил его Альфред и разом опрокинул бокал в рот.
Вечер был, как уже сказано, исключительно хорош, возможно, это был тот же самый воскресный вечер, в который на вилле Вольбрюков отец и дочь разбирались в фамильных преданиях. Липы, правда, уже отцвели, однако запах их цветков, все еще устилавших асфальт, пропитал теплый воздух, приятно заполнивший — словно легкая, бесконечно подвижная жидкость, — большое помещение. Вверху, на небе, почти черном, — но чернота эта была свежей, праздничной и торжественной, словно свадебный костюм жениха — вспыхивали звезды и тонкими лучами струили свой свет. По широкой лестнице Георг и Альфред спустились в предместье, в низину. Улицы были безлюдны. Издалека доносились свистки локомотивов, а из-за длинных темных дощатых заборов поднимались серебряные облака дыма.
На дереве, одиноко высившемся посреди лужайки, сидела птица. Услышав ее пение, Альфред и Георг на мгновение остановились, они стояли вот так, рядом друг с другом, и слушали, как она поет.
Сквозь широкую стеклянную крышу зала ожидания, в который они вошли, проникал бледный свет. Из глубины зала раздавался голос репродуктора: «Скорый поезд на Прагу! Поезд на Абсдорф-Хипперсдорф!» Сквозь распахнутые двери виднелась привокзальная площадь, окруженная стройными тополями, их очертания словно застыли в темном воздухе. Альфред и Георг стояли, облокотившись на столик у пивного киоска, и смотрели на площадь. Через какое-то время Альфред, глядя на друга поверх своей пивной кружки, сказал Георгу:
— Знаешь, мне здесь нравится!
— Ты часто сюда захаживаешь? — спросил Георг.
Справиться с регулярно, но неожиданно возникающим и порой длящимся по нескольку дней состоянием подавленности Альфред смог, прибегнув к весьма своеобразному средству. В детстве он никогда не оставался в одиночестве. Теперь же он часто оставался один, еще и потому, что у Георга был совсем другой ритм учебы и жизни: рано утром он уезжал в институт, и хотя они с Альфредом и жили в общежитии в одной комнате, виделись они друг с другом теперь очень мало.
От общежития на Терезиенгассе до района Хитнинг Альфред добирался на электричке. Со станции он шел мимо церкви по сонным, отороченным акациями улочкам и через большие ворота входил в парк Шенбрунского дворца.
Поначалу парк не вызывал у Альфреда никаких эмоций, кроме неопределенного, не вызывавшего беспокойства равнодушия. Он быстро шагал по широким, прямым как стрела аллеям и выходил через ворота с противоположной стороны. И все же ветвящаяся вереница узких дорожек таила в себе какой-то невнятный страх, и Альфред неосознанно избегал отдаленных и безлюдных уголков парка.
Но однажды он словно бы открыл их для себя. Сразу за воротами он сворачивал на одну из этих дорожек, шел наугад, без плана и цели, по петляющим и змеящимся тропинкам. Как было тихо и прохладно! Зеленая листва ласкала глаз и вселяла в душу Альфреда умиротворение. Глаза вдруг зажмуривались от коротких золотистых всплесков. Что это было? Яркие и трепещущие лучи солнца, неожиданно проникающие сквозь прогалины в листве? Или это было ощущение счастья, невероятным образом вдруг заявившее о себе и славшее ему привет?
Когда он снова выходил на широкую аллею и видел вдалеке на серой, побитой ветром плоскости немногочисленных посетителей, похожих на разноцветные точки, он ощущал радость и облегчение, на сердце уже не давила тяжесть.
В общежитии, на Терезиенгассе, он с усердием отдавался учебе, подолгу просиживая над книгами. Однако частенько им овладевало чувство, будто он делает это не для себя. Какое ему до всего этого дело?
Альфред сидит в комнате в общежитии со спущенными штанами. Он держит в руке свой член, да, он действительно превратил увлечение онанизмом в профессию. Он не раздевается, только спускает штаны, задирает рубаху и обхватывает пальцами теплую, тугую плоть.
Поверх письменного стола он смотрит на Терезиенгассе, на безликую серую стену дома напротив, и представляет себе женщину. Чаще всего в его воображении возникает лицо профессорши Траун-Ленгрис, ее узкие и подвижные губы, и как она раскрывает их, когда говорит или смеется.
А потом он представляет, как сидит в ее кабинете, фрау профессор — по другую сторону стола, и они о чем-то разговаривают. Собственно, он задал ей какой-то вопрос, и она отвечает ему с присущей ей фантастической дотошностью. У него даже не возникает желания коснуться ее. Ему хочется одного: чтобы она говорила и говорила бесконечно, для него одного.
Альфред снова в гостях у тети Виктории. Тетя смотрит в окно гостиной, выходящее на Райхсратштрассе, словно ждет в гости еще кого-то, но Альфред знает, что это у нее такая привычка. Вот она наконец подходит к нему, садится рядом на банкетку, обитую красным бархатом с зеленым растительным рисунком, и прижимается к Альфреду.
— Ты должен больше времени уделять учебе.
— Да, конечно.
— Помнишь, как мы в Клагенфурте ходили в город гулять? — Тете эти давние прогулки очень дороги, лицо ее смягчается и расцветает, взор ее зеленых глаз мечтательно расплывается, линия носа кажется еще прекраснее.
— Помнишь, как мы тогда, во время грозы… — она касается рукой подбородка, пальцами теребит отвисшую под подбородком складку на горле, укрывающую, должно быть, нечто бесценное. Ведь именно оттуда раздается голос тети, то низкий, то неожиданно высокий.
— Мы не раз ходили на кладбище за городом.
Оба они вспоминают: надгробные камни светятся теплым блеском из-под темной зелени кустов туи, кипарисов и буковых деревьев, по белым, засыпанным мелкой галькой дорожкам они идут в кладбищенской тишине. Светит солнце, над ними бескрайнее небо.
Добирались они сюда на трамвае. Выпололи траву и сорняки вокруг могилы, протерли надгробный камень тряпкой, смоченной щелочью, и вот уже плоская поверхность камня высохла, посажены свежие цветы, и вот они садятся на скамейку рядом с могилой, чтобы перекусить. Альфред жует булочку с колбасой.
Тетя говорит с ним о его матери. Та ведь мало хорошего в жизни видела.
— Ты же видишь, какая она грустная. Она на фабрике работает, и никого-то у нее нет, кроме этого идиота.
— А как же ты?
— Мы были из бедной семьи. Отец работал поденщиком у крестьян. Спился в конце концов. Мы обе рано остались без родителей. Воспитала нас одна из родственниц. Мы дома работали, вязали и шили на соседей. Я помню, как на ярмарке я и она выиграли в лотерею по короне принцессы из посеребренной бумаги. С зубцами, на которые были наклеены фальшивые драгоценные камни. Ни о чем подобно мы и мечтать не смели! — Мне повезло, и я потом смогла учиться в торговом колледже. — Тетя медленно убрала прядь волос со лба. — Все всегда выходит по-другому…
Лейтомерицкого, своего отца, Альфред почти не видел. Тот часто передавал ему привет, передавал через тетю маленькие подарки, а иногда и некоторую сумму денег, но он был очень занят, времени у него было в обрез, как объясняла тетя.
После того памятного обеда, во время которого тетя и Лейтомерицкий открылись ему, между Альфредом и тетей Викторией, как он по-прежнему ее называл, несмотря на ее робкие попытки приучить его к другому, еще случались минуты ничем не затуманенного согласия и счастья, но в общем и целом все теперь изменилось. Времена безоблачной радости и любви без всяких околичностей прошли навсегда: теперь Виктория всячески наставляла Альфреда, давала ему советы, диктовала правила или сетовала на его поведение.
Иногда, как представлялось Альфреду, тете надоедала ее новая роль. Она, казалось, страдала от того, что теперь она ему мать, а не хорошая подруга, как раньше. Ему чудилось, будто из глубины ее души слышен вздох сожаления, слышен подавляемый, всячески скрываемый стон, из самой глубины, когда она, подняв вдруг глаза, понимала, что нечаянно и неизбежно ссорится с ним. И тогда она целовала его крепко-крепко, как возлюбленная, правда, только в лоб и в щеку.
Альфред и Георг отправляются на рекогносцировку прилегающей местности. Они углубляют познания, приобретаемые в университете, весьма практическим способом: вскоре они до мелочей изучили квартал вокруг Терезиенгассе, исходили пешком весь город, а вечерами шли бродить по тенистым улицам коттеджного квартала.
От их общежития на Терезиенгассе до роскошных вилл было просто рукой подать. Только миновать небольшую ложбину по Верингерштрассе, шумно и деловито устремляющейся в сторону центра.
Одна из вилл понравилась Георгу больше всего, и он теперь частенько гуляет в коттеджном квартале сам по себе. Дом этот понравился ему не только потому, что он такой красивый и импозантный, хотя в нем соединилось и то и другое. Вот она, эта вилла, там, наверху, на небольшом холме: вилла Вольбрук!
Госпожа профессор Вольбрук, так обычно обращаются к хозяйке дома, души не чает в своем супруге. Однако ее молодое тело с его потайными уголками, для особого дела предназначенными, чувствует себя по-настоящему, на всю катушку не дома, а в гостиницах, в известных своей дурной славой районах города, к примеру, на Вайнтраубенгассе и на Новарагассе, неподалеку от Пратера, где ее знают как постоянную клиентку и где она появляется каждый раз с новыми кавалерами. Ее возбуждает сама возможность быстро подцепить незнакомого мужчину. Представители фирм, торговые агенты, банковские служащие, даже простые рабочие составляют ее подвижное окружение.
Разумеется, Георгу об этом ничего не было известно. Однажды, в одно прекрасное утро, по дороге к смотровой башне, возвышающейся над парком Тюркеншанц, он увидел Клару, дочь Вольбрюка, выходящую из ворот виллы, скорей всего, идущую в гимназию, опаздывающую и потому очень спешащую. Она на ходу пыталась застегнуть туго набитый школьный портфель, и Георг едва удержался, чтобы не подойти к ней и не предложить свою помощь. С той поры и с того момента Георг предпочитал виллу Вольбрюков всем остальным виллам в квартале.
В фойе венского Концертного дома уже прозвучал третий звонок, и в нем остались лишь редкие зрители, еще толпившиеся у гардероба. Лампы в фойе, свет которых отражался в гладком каменном полу — как раз из-за образовавшейся пустоты и словно бы увеличившихся размеров помещения, как показалось Георгу, в ожидании застывшему у входных дверей, засияли еще ярче.
Придет! Не придет! — Настроение его менялось, как колеблется колос на ветру, как меняет направление флюгер на башне. — Клара его бросила!
Он занял свой пост у самых дверей, но теперь, когда фойе совсем опустело, в этом уже не было особого смысла, и он стал медленно прохаживаться по залу, демонстративно повернувшись спиной ко входу. Он делал вид, что погружен в свои мысли, и это деланое глубокомыслие сколько-то помогало ему сохранить присутствие духа.
Для Георга появление Клары было вопросом чести. Уж как он старался уговорить ее, чтобы она пошла с ним на этот концерт.
В своих тайных мечтах, — Кларе он об этом, разумеется, не говорил, — он в красках представлял, как после концерта поведет ее в маленькую гостиницу, которую давно разведал. Он подумал было о том, а не попросить ли ему Альфреда отправиться погулять на часок-другой, чтобы освободить комнату на Терезиенгассе. Ну уж нет! Не та обстановка. В номере гостиницы он поможет ей снять пальто. А потом, без всякого перехода, он представлял ее себе обнаженной, и нагота ее будоражила Георга, а себя он чувствовал уверенным и сильным. Однако когда она появилась в фойе и, подойдя сзади, положила руку ему на плечо, сердце его чуть не выпрыгнуло из груди, забившись громко и чуть ли не причинив ему боль, а когда они рука об руку поднимались в зал по покрытой красным ковром широкой лестнице, он шел молча и радовался торопливым шагам, потому что боялся выдать себя голосом.
Скованность не отпускала его и во время концерта, в темном зале, и он не осмелился положить свою ладонь на ее руку, которая покоилась на ручке кресла совсем близко, может, еще и потому, что не знал, прилично ли так поступать в концертном зале. До сих пор он бывал только в кино, а в кинотеатрах люди вели себя совсем иначе. — Собственно, ему даже понравилась праздничная и возвышенная атмосфера зала, это соответствовало его чувствам, далеко не обыденным и сильно отличавшимся от всего, что он испытывал в обычной жизни.
После концерта, когда они выходили из зала, он неумело и украдкой поцеловал Клару в шею, чуть пониже уха.
Клара воспринимала и концерт, и музыку, и сидение рядом с ним в темном зале совсем иначе, чем он. Она громко засмеялась, увидев, как какой-то толстяк стоит у гардероба и держит в коротеньких руках сразу несколько шуб, так что его самого из-за шуб почти не было видно; она щебетала о музыке, которую они сегодня слушали, и без всякой скованности смотрела Георгу прямо в глаза.
— Давай зайдем в кафе! — сказала она. По живому и веселому выражению ее глаз он понял, что она никогда и ни за что не пойдет с ним в маленькую гостиницу, и не потому, что он ей неприятен и не нравится, а потому, что она слишком в хорошем настроении, чтобы дать запереть себя в затхлом и тесном номере жалкой гостиницы и там отдать ему то, чем она дорожит и что является ее сокровищем.
Георг растерялся. Он не сделал даже попытки предложить ей отправиться с ним в гостиницу, а всем своим видом показал, что рад ее предложению сходить в кафе. — И он действительно был этому уже рад!
Они пошли к площади Шварценберга, где в свете уличных фонарей бронзовый князь с перьями на шлеме одиноко восседал на своем скакуне и выглядел еще глупее, чем обычно; в это время народу вокруг было еще много, на тротуарах не протолкнуться, на улицах — шеренги автомобилей, двигавшихся в сторону Рингштрассе или стоящих на светофорах. Георг направился было в сторону кафе «Шварценберг», но Клара сказала: «Пойдем лучше в «Империал»!»
Там, в залитом праздничным светом зале, она рассказала ему, что после концертов в Консерватории всегда заходит сюда с папой перекусить.
— Я сегодня была в Концертном доме! Для того, кто ходит в филармонию, это смертный грех!
Георг смотрел на нее счастливым взором. Именно то, что ему все это было в новинку, — и кафе «Империал», и филармония, и Концертный дом, и такая милая Клара, — являлось для него обещанием и гарантией будущих радостных побед, которые он теперь твердо намеревался заслужить или завоевать.
— Я стану большим человеком! — неожиданно произнес он уверенным тоном. Слова эти вырвались у него неожиданно, просто так.
— Откуда ты знаешь?
— Моя мама всегда это говорила.
Несколько дней спустя Альфред случайно встретил на остановке трамвая Клару; Георг успел их познакомить. Увидев Альфреда, она вдруг залилась слезами. Он подошел к ней, и она приникла к нему.
— Что случилось? — спросил Альфред.
Серый дождливый день. Лужи на тротуаре и маслянистые лужи на продавленном колесами асфальте. Зонтики прохожих. Мокрые от дождя, окрашенные в красно-бело-красные полоски цепи ограждения, отделяющего трамвайную линию от дорожного полотна. Мокрая листва деревьев в парке.
Клара — молоденькая девушка, молодая женщина, если хотите. Среднего роста, брюнетка. На ней светлый плащ. Туфли на низком каблуке, сумочка с длинным ремнем на плече.
— Это из-за Георга.
Глава 2
Кружевные кроны деревьев, листва, пронизанная солнцем! Устремленные вверх ветви, самые кончики которых вновь изгибаются книзу! Темно-зеленые купы, за которыми то там, то здесь, сливаясь с зеленью листвы и с далекими кронами деревьев, едва различимы пятна крыш и стен домов.
Клара и Альфред лежат в постели, Клара тайком провела Альфреда в свою комнату. И вот они лежат вместе в просторной комнате, окна в сад распахнуты, Клара лежит на спине, заложив руки за голову, Альфред на боку, подпирая голову ладонью.
— Знаешь, — с жаром говорит Альфред, — этот самый Лейтомерицкий — вроде как мой настоящий отец. Мне с трудом в это верится.
— Автомобильный король собственной персоной? — спрашивает Клара.
Альфред пропускает ее вопрос мимо ушей, его слишком занимает сам факт и сама тема.
— К тете Виктории я уже привык. Ну, то есть к тому, что она мне мать.
— Ты называешь ее мамой?
— Нет.
Клара медленно поворачивается к нему, затем неожиданно обвивает шею Альфреда руками и притягивает его к себе:
— Будь со мной всегда! Люби меня всегда!
В комнате очень тихо, только с далекой улицы иногда доносится урчание автомобиля или в саду раздаются птичьи голоса. В этой тишине особенно отчетливо слышен хруст накрахмаленных простыней, — позднее в памяти Альфреда он останется, словно эта особая и торжественная тишина, которая окружала их первые объятия, как раз и составляла самую сущность их любви, в которой все остальное, что они делали и о чем говорили, было лишь довеском и добавлением, милым и приятным украшением.
А еще Альфреду будет представляться, что он в те минуты и часы словно бы и не существовал, в том смысле, что он совершенно не чувствовал самого себя. Клару, да, вот Клару он чувствовал очень сильно. Было восхитительно, что она принадлежит ему, смотрит на него. Пытаясь найти для всего этого подходящий образ, он позднее скажет: я был рекой, в которой мы вместе плыли.
— Я ненавижу своего отца! — вдруг сказала Клара.
Альфред наморщил лоб, однако никак не отреагировал на ее признание:
— А что, собственно, произошло у тебя с Георгом? Что случилось с моим другом?
— Он такой мелочный! И, честно говоря, — мне это действовало на нервы!
— Я ведь тоже не богат, — говорит Альфред, лежа на животе и пожимая плечами.
Альфред не смог бы сказать, чья это рука — ее или его, в любом случае это была чья-то рука. Рука эта обхватывает его член и направляет его туда, где ему самое место. А потом — известно же, что молодая кожа нежнее и мягче, чем старая, а молодые волосы сильнее вьются, соки в молодом теле движутся быстрее и глядеть на молодое тело намного приятней и увлекательней, поскольку тут не мешает никакое громоздкое «я» — они любят друг друга. И снова любят друг друга — целый день напролет, а потом и целую ночь — пока не настает утро понедельника и пора отправляться ему в университет, а ей — в школу.
Если поначалу Лейтомерицкий вел свои дела только в Вене и ее окрестностях, то вскоре он распространил свою сеть на всю страну.
Там, где на улицах предместья гуляет ветер, где поднимается пыль над мостовой, там и Лейтомерицкий тут как тут со своими автомобилями. Одиноко торчащие фонарные столбы. Там, где раньше буйно разрастались лопухи и щавель, где источали свой запах ромашки и тысячелистник, раскинулись теперь засыпанные мелкой щебенкой и огороженные забором площадки Лейтомерицкого, а на них — предлагаемые к продаже автомобили.
Люди, покупатели, рекой текут сюда из поселков-спутников, из расползающихся вширь спальных районов и строящихся городков. Автомобиль — предмет культа новой, современной религии, его священная чаша, его дароносица, можно сказать, а Священным Писанием предстает скорость и ускоряющийся темп жизни.
Ранним утром Лейтомерицкий, как правило, появляется в центральной конторе, в главном офисе продаж на Лааэрберге. Он теперь сильно сутулится, шаркает при ходьбе, а живот выпирает еще сильнее. Однако ни это, ни его небрежная, почти невзрачная манера одеваться не должны вводить в заблуждение. Голос с хрипотцой, продолговатое, с желтизной, лицо, воспаленные глаза с красным ободком — таким предстает Лейтомерицкий перед своими сотрудниками, и еще на входе, у конторки вахтера, он начинает отдавать приказы. Он всем недоволен, всегда найдет что-то, что требует улучшения: в обращении с клиентами, в ремонте и обслуживании машин. Он ставит сотрудников на уши, гоняет их почем зря — но люди работают у него с охотой. Почему? Во-первых, он и сам себя не щадит, а еще — он хорошо им платит, ну и потому, что он — это фирма, имя, ставшее легендой.
Его часто можно услышать по радио — в передачах для автолюбителей, в воскресных утренних передачах, в репортажах с благотворительных мероприятий, а как только в широкий обиход входит телевидение, на экранах начинает мелькать его узнаваемая фигура, фигура «глубокоуважаемого господина коммерческого советника Лейтомерицкого», как именуют его телевизионные ведущие: в черном костюме, лакированных ботинках, сутулого, с большим пузом.
— А вот и я! — любит восклицать Лейтомерицкий, когда случайно видит себя на экране телевизора. — Старый, противный — но такой умный!
Частная жизнь Лейтомерицкого неожиданным образом переменилась еще разительнее. В своей прежней квартире на площади Кармелитенмаркт никакой прислуги у Лейто не было, он справлялся с хозяйством самостоятельно. Перемены произошли, когда он переехал в более престижный район Альзергрунд, в квартиру на Берггассе. В низине вдоль Дунайского канала возвышаются массивные дома-дворцы эпохи грюндерства, серо-зеленые колонны тополей, прямых как свечка, шлют привет в окна Лейтомерицкого, словно напоминая ему о его происхождении из серых, невзрачных и бедных краев.
— Здесь жил сам Зигмунд Фрейд! — любит он повторять, говоря о своем новом районе. Въехав в новую квартиру, он сразу же нанял кухарку, а потом еще и всякую другую прислугу.
Но вся эта многочисленная прислуга в огромной, роскошно обставленной квартире была занята отнюдь не только вытиранием пыли, натиранием полов и мытьем стекол: «женской команде», как лапидарно именовал свой домашний персонал Лейтомерицкий, находилось и другое применение. Когда Лейто возвращался вечером домой, при этом чаще всего не один, а с гостями, то все шло своим обычным и ничем не приметным чередом: Лени обслуживала гостей, Герми подавала на стол, а иногда, в более поздний час, когда вся компания была уже достаточно подогрета, из кухни появлялась Лотта и исполняла в меру своих способностей парочку венских народных песен.
Когда же гости уходили, сцена быстро преображалась: полуодетого Лейто женская команда раздевала донага, и среди расставленных повсюду подносов с закусками и шампанским он трахал своих дамочек одну за другой, а то и двух или даже трех одновременно, уж как получится. Перерывы они заполняли порнографическими журналами, а иногда Лео отправлял кого-нибудь на улицу за проституткой. Он отдавался этим телесным радостям до полного изнеможения, до умопомрачения — с яростью и ожесточением, и в конце концов, когда у него начинали дрожать и слабеть руки, когда он, залитый потом, струящимся по спине и груди, продолжал вставлять им и вставлять, по щекам его струились жгучие и жаркие слезы, и сердце его едва не лопалось.
Еврейское кладбище на Нусдорфской улице в ту пору было давно уже закрыто для захоронений, и покойников еврейской общины отвозили на новое еврейское кладбище в Зиммеринге.
Лейтомерицкий шел по кладбищу между высокими буками, огромными ясенями и тенистыми каштанами, шел вместе с кладбищенским сторожем, проживавшим в доме у кладбищенской стены; в его задачу больше не входило следить за порядком и тишиной, ему вменялась только охрана территории: вход на кладбище был строго воспрещен. Территорию кладбища окаймляла высокая кирпичная стена с вмурованным по верхней кромке битым стеклом, и обычно единственными живыми душами здесь были дрозды, зарянки, осторожные мыши да шустрые белки.
Дорожки из-за огромных ворохов опавшей листвы были почти непроходимыми, и Лейтомерицкий со сторожем с трудом продвигались вперед. Лейто не был легок на ногу. Сторож, прихрамывая, шел впереди. Лейто выругался про себя. «В самом деле, — подумал он, — сторожа кормят исключительно из сострадания, — тут все пришло в упадок, — свинство какое-то!»
Большинство надгробных памятников покосилось, некоторые лежали на земле, опрокинутые разросшимися корнями деревьев или проседанием и размывом почвы. Ветви старых и неухоженных деревьев свисали до земли, и сторож время от времени предупреждал Лейтомерицкого, чтобы тот не подходил близко к надгробиям, массивным обелискам и гранитным плитам, потому что любое из них может упасть.
Он искал совершенно определенную могилу. На одних надгробиях имена, выложенные медными металлическими буквами, можно было различить издали, к другим приходилось подходить ближе, склоняться над ними, ощупывать — пальцы Лейтомерицкого испытующе скользили по поверхности камня.
Они шли дальше, — теперь впереди Лейтомерицкий, — по замусоренным и раскисшим дорожкам кладбища, и еще дальше вдоль тянущегося ряда надгробий.
— Никого из родственников не осталось, — говорил сторож, когда Лейтомерицкий поднимал с земли камешек или осколок щебенки, чтобы по иудейскому обычаю положить на одну из могил, но затем бросал их обратно на землю. Они со сторожем переглядывались и шагали дальше.
Лейтомерицкий уже не раз приходил сюда в безуспешных поисках могилы, но вновь и вновь появлялся здесь и продолжал искать.
Насколько Альфред может судить, тете Виктории на жизнь грех жаловаться: город растет, строятся новые спальные районы и поселки-спутники, возводятся панельные дома, дешевое социальное жилье, и вместе со всем этим расширяется поле ее деловой активности. Она все чаще ездит по делам в такие углы, куда прежде настоящие венцы носа бы не сунули — в Зюссенбрун, в Адерклаа, в Штреберсдорф. Порядком измотанная, она по полдня проводит в такси, пока очередной шофер, раздосадованный оттого, что плохо знает эти места, везет ее мимо дачных участков и больших кукурузных, пшеничных и свекольных полей, везет туда, где вырастут новые жилые районы.
В деревнях, запущенных за годы русской оккупации и лишившихся части прежнего населения, поскольку многие переселились в город, тетя Виктория расхаживает под жиденькими акациями по деревенской площади, дожидаясь то архитектора, то чиновника из управления жилищного строительства, то представителя магистрата. Неподалеку на холме — небольшой замок, окруженный полуразрушенной стеной, с изящным фронтоном, но все окна выбиты, двери нараспашку и висят на петлях.
Правда, в самой Вене в делах тетиной фирмы явный застой, доходные дома резко теряют в цене. «Люди ведь перестали платить за снимаемое жилье!» — возмущаются владельцы. К тому же разражается небольшой, если оценивать с финансовой стороны, но огромный, если думать о репутации, скандал: фрау Штрнад управляла недвижимостью бывшего офицера СС, и об этом и дальше бы никто не узнал, если бы его не осудили за преступления, совершенные во время войны, и теперь газеты со смаком обсасывают эту историю, — упоминая и фамилию тети Виктории.
Теперь, когда Альфред видится с тетей, она чаще всего выглядит усталой, до смерти усталой. Она, как обычно, сидит у окна и смотрит на Ратушный парк. Свою усталость она объясняет бесконечными поездками, долгими, утомительными переговорами, и всем грузом своих дел.
— Деньги больше не валяются на улице, как прежде, — говорит она. И с горечью добавляет: — И без связей ничего не добьешься!
— Дорогая мама, — заговаривает с ней Альфред и доверительным и успокаивающим жестом обнимает ее за плечи. Однако мама даже не поднимает головы. Наконец она берет себя в руки, поднимает глаза и смотрит на сына.
— Вот увидишь.
По краям ее больших полных губ пролегли две глубокие складки; и хотя тетя Виктория, выпив бокал-другой вина, по-прежнему способна сделать несколько танцевальных па под музыку из радиоприемника или с наигранной услужливостью кормить Альфреда свежими булочками с ромом или куском пирога, не заметить этих двух складок невозможно, они больше не исчезают.
Кроме того, мама Альфреда обзавелась новым хобби — лотереей. Надо же. Но, как она сама говорит, она играет не так, как простые люди, заполняющие два или три столбца в билете, нет, она завела папку с таблицами и с данными, которые показывают, как часто выпадает или выпадала та или иная цифра. Облачившись в халат, тетя целый вечер сидит и трудится в поисках счастливых чисел. Она заполняет сотни билетов, дотошно сверяя счастливые числа друг с другом. Числа и числа! Важную роль при этом играет расположение звезд и цветовой круг. Красные цифры — 5 и 7. Тройка — зеленая, девятка — синяя. Всякий, кто относится к этому как к суеверию, ничего не понимает и просто дурак. Речь идет о том, чтобы гармонично расположить цифры так, чтобы они соответствовали гармонии мироздания. Ведь и колонки цифр в лотерее — тоже часть мироздания. С чего бы им тогда не следовать тем же законам, которым следует мир как целое?
Мария Оберт едет в поезде. Поезд идет в Кирлинг, красивейшее место в Вайдлингбахской долине. Венский лес там особенно прекрасен, уединенные тропинки и дорожки, глубоко врезаясь в глинистую почву, взбегают под сенью деревьев вверх по склону или змейкой вьются между кустов вдоль говорливого ручья.
Что привело Марию сюда, в края, совсем не похожие на Кагран, ее родной район? Санаторий для железнодорожников, белое, похожее на замок здание, — возможно, раньше это была дворянская усадьба, — почти незаметно со стороны дороги, но когда пройдешь ворота и окажешься в угодьях здешних пациентов, то сразу его увидишь. Здание, дружелюбно приглашая вас войти, стоит посреди широких лужаек, окаймленных фруктовыми деревьями, где по расчерченным дорожкам гуляют больные.
Иоганн, муж Марии, встречает ее на большой открытой террасе главного здания, он ждал ее. Здесь, в присутствии других больных, которые лежат в шезлонгах или играют в карты, они сдержанно здороваются, даже не поцеловавшись, а лишь прижавшись друг к другу головами, и руки их ненадолго касаются друг друга.
На укромной дорожке в тихом месте над ручьем, весело бегущим внизу, их пальцы снова находят друг друга, Мария целует своего мужа, и он целует ее, жадно и горячо.
— Ты весь дрожишь!
О состоянии здоровья Иоганна, о том, как он себя чувствует, они не говорят. Все и так ясно. Он уже с трудом говорит, разговаривает только шепотом, свистящим и тихим. Из-за облучения он все время чувствует усталость, даже есть не хочется. Слова «рак» они избегают. Мария обхватила руку мужа своей рукой, так они и сидят рядом. Время от времени они смотрят друг на друга, глаза в глаза. Но в основном они просто смотрят перед собой, и Иоганн произносит несколько слов, всего пару фраз, но слова его адресованы не Марии, а, словно мысли вслух, им обоим вместе.
— Помнишь, как мы от дома профсоюза шли колонной на Балльхаусплац?
— Да, когда путч произошел.
— Из-за коммунистов.
— А помнишь, как мы нашему Джонни купили то красивое зимнее пальто? Как материал назывался, помнишь?
— Да, поролон.
— Оно совсем недорогое было.
После некоторого молчания Иоганн произносит:
— Тогда, примерно в эту же пору, я там купил себе летний костюм. — Он оглаживает себя рукой. — Собственно, я покупал его, чтобы надевать на заседания профсоюза, на партийные собрания.
— Ты у меня по-прежнему старый социалист.
За время своих вольных прогулок госпожа Вольбрюк приобрела весьма своеобразную привычку: она любит рассказывать очередному своему спутнику и любовнику обо всяких забавных случаях, но не из собственной жизни, а из тех, что произошли в семье ее мужа, господина профессора. Вот и сегодня она снова рассказывает:
— Однажды отец нашего семейства вернулся домой и увидел, что мать стоит на ступеньках лестницы, ведущей в сад, заламывая в отчаянии руки, а вокруг, словно мухи, толчется прислуга. «Что случилось?» Большая овчарка, сторожевой пес и наш товарищ по играм, — нас в семье, естественно, была куча-мала, — неожиданно обозлился и укусил — нет, не меня, — одну из моих сестер. Отец в том виде, в каком был, в черном деловом костюме, он как раз вернулся из министерства, вбежал в дом, достал из ящика письменного стола пистолет, вернулся в сад и у всех на глазах застрелил собаку, нарушившую свой долг.
Госпожа Вольбрюк откинулась на подушку и намотала длинный локон на палец.
— Мы, Вольбрюки, — почтенная семья с глубокими корнями. Мы гордимся тем, что всегда служили, всегда только служили — той власти, которая была: служили императору, служили президенту. Какая разница? Ведь второй опорой нашей жизни, если можно так выразиться, — всегда была наша свобода. Свобода делать то, что нам нравится!
Госпожа Вольбрюк потягивается в постели, а ее кавалер тщательно подмывается в раковине с тумбой, после чего возвращается к женщине. Прежде чем лечь в постель, он, наклонившись над нею, говорит:
— Скажи честно, откуда ты родом? Признайся.
— Я из района Фаворитен, — отвечает Вольбрюк, немного помолчав, и укрывает лицо подушкой.
— Я тоже оттуда, ну, примерно оттуда.
— Мой первый муж, — продолжает Вольбрюк, — был офицер, стройный и красивый. Но вот в постели он ни на что не годился!
Пандура, а так зовут ее сегодняшнего попрыгунчика, подцепил фрау Вольбрюк у входа в кинотеатр. Он дежурил там, одетый в униформу билетера, толстый, заплывший жиром, в черном фраке с красными полосками, красный галстук-бабочка на шее. «Словно обезьяна. Последний писк американской моды!» — говорит Пандура.
— Я недавно здесь работаю.
В конце концов, все решают не тряпки, на тебя надетые, и не хорошо подвешенный язык, а нечто совсем другое.
Фрау Вольбрюк теперь часто ходит в кино. Ей нравится пройтись вниз по длинной Мариахильферштрассе, это любому доставит радость, если у него есть хоть малость деньжат в кармане. Она идет мимо витрин огромных универмагов, вечерний воздух над головами бесчисленных прохожих и гуляк дрожит и трепещет, перемешивая золотое и серое, быстро начинает темнеть, и она с интересом и с удовольствием рассматривает свое отражение в стеклах витрин.
Глава 3
Клара не знала толком, куда она бредет. Она, как и ее мать, госпожа профессорша Вольбрюк, шла вниз по той же самой Мариахильферштрассе, но чувства ее были еще более неясны и спутаны, чем у матери. Она торопливо шла вдоль домов, неожиданно останавливаясь то там, то здесь, если ей вдруг что-то бросалось в глаза. В зеркальных витринах отражалась молодая женщина, девушка, с симпатичным, пожалуй излишне гладким лицом, с короткой стрижкой, стройная, сорванец, с первого взгляда не уловить ее облика целиком, словно проблеск света, блуждающий огонек, взмах ресниц — сама юность.
Вещи, выставленные в витринах универмагов, были, на ее взгляд, вполне заурядными. Ей тут ничего не выбрать, тут покупает другая публика. Считать ту или иную вещь шикарной или нет зависит от тысячи причин: от уровня магазина, разумеется, от того, как вещь выглядит, не носил ли уже что-то подобное кто-нибудь из подруг, и сколько она стоит. И дешевые вещи могут быть красивыми, но лишь в том случае, если носить их в правильном сочетании. С вещами дорогими.
Альфред в этом ничего не понимал. Нет, хотя он и очень милый, — ровно ничего. «Я его люблю. Я ведь его люблю. Он такой милашка. Все мне завидуют. Да, я его люблю. И все тут».
Кларе были доступны глубокие чувства, эти глубинные силы, которые в состоянии полностью поглотить тебя, словно морские чудовища в сказках, глотающие целые корабли. И она не боялась их, напротив, ей нравилось вызывать их к жизни даже там, где сами бы они никак не возникли. За пределами этого царства и вне действия этих бурных чувств Клара мало что воспринимала. Так прекрасно быть по-настоящему влюбленной!
Клара уже закончила гимназию и записалась в университет, кстати, в институт иностранных языков, причем решение изучать иностранные языки было принято походя. Разве плохо объездить когда-нибудь весь мир?!
А вот папочка ее, вечно помешанный на семейных традициях, — право, это было очень неприятно! Папа вообще не читал книг. В общем и целом он ведь настоящий притворщик. Ни в чем толком не разбирается. Разве что строит из себя великого врача. Ну, хорошо, он — признанное светило медицины. А что еще? Разбирается в музыке. Однако вся эта музыка всего лишь скрывает пустоту. Клара почти физически ощущала эту огромную черную дыру, заполненную чудесными волнами созвучий и музыкальными нотами, развешанными на нотных линейках, как на бельевых веревках, и раскачивающимися на ветру, словно выстиранные носовые платки.
Да, Кларе не откажешь в оригинальности. Даже Альфред это отметил. Оригинальность он возводит в настоящий культ. Подобно тому, как у мамы возведены в культ ее шляпки. Поначалу Клара восхищалась той серьезностью, с которой Альфред относился к собственным чувствам. Но самой ей такое отношение и подход были чужды.
С Альфредом так здорово в постели. Сплошной восторг. Иногда Клара плакала после их объятий. Это было слишком прекрасно! Альфред ее успокаивал, крепко обнимая ее легкое и почти невесомое тело. Ее запах. Самое привлекательное в ней.
Вон та шляпка в витрине — ее явно недостает в мамином гардеробе. С роскошным павлиньим пером. И с вульгарной плюшевой вставкой по широкому полю. «Маму ведь только мода интересует. И еще мужчины. Один папа этого не замечает».
Клара почувствовала вдруг прилив сострадания к отцу. Она его очень жалеет. И во внезапном приступе язвительности и победного настроения, охватившего ее по этому случаю, Клара во все горло рассмеялась — прямо посреди толчеи прохожих на Мариахильферштрассе.
Хотя Клара уже закончила школу и поступила в университет, на иностранные, как уже отмечено, языки, общаться она по-прежнему продолжала исключительно со своими бывшими школьными подружками. Был тут один клуб, устроенный молодыми людьми в пустующем полуподвальном помещении кафе. Там, за заклеенными упаковочной бумагой стеклами окон они крутили новые пластинки, болтали обо всем, танцевали и строили глазки молодым людям, там появлявшимся.
Альфред в этом клубе был исключением. Собственно, он здесь был совсем белой вороной. Ему и самому было не ясно, что он тут делает. Единственное, что он понимал, было то, что он ходит сюда, чтобы быть рядом с Кларой. И ей нравилось, что он рядом, хотя радость ее не была столь уж сильной. Да, Альфред в самом деле иногда действовал ей на нервы, доставал ее своим «люблю, люблю, люблю».
Если бы его спросили, откуда он такой взялся, он бы, слегка стесняясь, ответил: я из бедных. Он когда-то сказал эти слова Кларе. И, возможно, подумав, добавил бы: у меня было счастливое детство. Клара такого о себе явно сказать не смогла бы.
Лейтомерицкого знали и в этом кругу. Хотя вслух об этом не говорили, но каждый считал, что Альфред, его сын, унаследует его состояние. И таким вот косвенным образом Альфред как будто бы стал богатым.
Вечерами в клубе Альфред танцевал с Кларой, прижимаясь к ней во время танца. Но чаще же он просто сидел поблизости, если только не отправлялся к бару за выпивкой. В разговорах он участия не принимал. Ибо он ничего не понимал в тех вещах, о которых шла речь, вокруг которых вертелись все разговоры. Что он мог знать о каникулах на Аттерзее, о площади Сан-Марко в Венеции, о тряпках, книгах, пластинках, о которых здесь говорили! Он просто сидел молча и слушал.
Ему нравилось наблюдать, как Клара блистает в этом обществе. Ему представлялось, что он видит себя. Словно она — это он. И тогда он неожиданно притягивал ее к себе и почти безотчетно начинал целовать.
Он вовсе не испытывал ревности, если она весь вечер почти не обращала на него внимания. Он большими глотками пил вино, но пил не для того, чтобы подавить дурное настроение. Он не чувствовал себя обойденным, отставленным в сторону, забытым. Ему совершенно хватало того, что он вместе с Кларой — и что она время от времени улыбается ему, склоняет голову на его плечо, гладит его. Он всегда провожал ее до ворот виллы, и когда они шли домой, его распирало от вина и любви. Ему трудно было сказать, от его любви или от ее. Он прижимался к ней, притягивал ее к себе, когда она шла рядом с ним и о чем-то говорила. Что до него, то пусть бы это все длилось вечно. Может быть, и у нее было такое чувство.
Если они не виделись несколько дней подряд, когда Клара уезжала куда-нибудь с родителями, она требовала, чтобы он писал ей каждый день. Он бы и так ей писал, но для Клары это было чем-то иным: она уединялась с письмами Альфреда, читала их и перечитывала. Она перечитывала очередное письмо и искала в нем особый смысл, будто от этого зависела ее жизнь. Ее душа наполнялась покоем и утешением: наконец-то исчезли все сомнения! Он любит ее! Он предан ей. Он любит ее.
Разумеется, и господин профессор, и его супруга догадывались, что с их дочерью творится что-то новое. Хотя ее послушное и примерное поведение ничуть не изменилось, особенно в том, что касалось детской привязанности к дорогому папочке, если у него было для этого время и желание и он не был в отлучке, — однако отца не обманешь. Однако — и в этом тоже нельзя было усомниться — ему в общем и целом было абсолютно безразлично, что с ней происходит. Он считал такое отношение со своей стороны предупредительностью. Таким образом, его ничто не могло вывести из душевного равновесия.
Мама, в свою очередь, лишь улыбалась, неожиданно натыкаясь на следы присутствия любовника дочери в доме, но хранила молчание. Она была занята своими делами. На дочь у нее просто-напросто не было времени.
В гостях у Лейтомерицкого господин коммерческий советник Хубер — пожилой седовласый человек, большой любитель охоты, карточный игрок и овеянный легендами женоугодник. Он выглядит солидно и импозантно, голова покрыта белыми как снег волосами, лицо загорелое от частого пребывания на свежем воздухе, движения элегантные, по мере необходимости — ловкие и целеустремленные. Если того требуют обстоятельства, представляющиеся ему выгодными, он способен неподвижно и основательно восседать, закрывая все перспективы своим массивным телом.
С ним его жена, спокойное и добросердечное существо с нитками жемчуга вокруг шеи и кольцами на пальцах-сосисках.
Затем, для паритета, важная особа из профсоюза транспортников, господин Миттерэггер, родом из Верхней Штирии, из традиционно голосующего за социалистов горнорудного и промышленного района на реке Мур, постепенно поднявшийся от руководителя профсоюзного совета на предприятии и окружного функционера до высокого поста в Вене. Супруга его явиться не соизволила. Поговаривали, что он стесняется выходить с ней в свет, потому что она не соответствует его нынешнему высокому положению.
Тем в лучшем настроении находился сам господин Миттерэггер, который еще в прихожей, взяв бокал шампанского с подноса одной из служанок, разразился здравицей в честь другого коммерческого советника, присутствующего здесь, — в честь Лейтомерицкого.
Затем появился Лаймер, начальник отдела министерства, хмурый и злой, как всегда. Сардонически улыбаясь, он протянул руку Лейтомерицкому: «Лаймер, строительство и техника». Он служил в министерстве строительства и техники. Всякий, кто его знал, легко прощал ему язвительную и даже как бы злобную манеру молча сидеть с язвительной и даже злобной миной в начале вечера. Все знали, что по ходу посиделок он обязательно изменится. И тогда начальник отдела, держа сверкающий бокал с вином в высоко поднятой правой руке, разомкнув в открытой улыбке обычно плотно сжатые губы, с раскрасневшимися щеками, будет распевать песни, в первую голову, разумеется, венские народные.
Была здесь и некая дама, которую никто, кроме Лейтомерицкого, не знал. Неприметная, серая, высокого роста персона с налетом элегантности, с зачесанными на лоб волосами, в духе ампирной красавицы, некая госпожа доктор Беранек. И не было ничего удивительного в том, что именно она в самом начале привлекла к себе внимание всех собравшихся — остальные знали друг друга как облупленных, не раз уже сиживали за одним столом, ведя спокойные беседы или приправляя их острым перчиком язвительных замечаний.
Первым заговорил Хубер в свойственной ему окольной, несколько замысловатой и туманной манере:
— Какая приятная неожиданность, дорогой Лейтомерицкий, что ты прячешь от нас такую жемчужину своей короны! — и он жестом показал в сторону госпожи Беранек. — От тебя всего можно ждать, но, душа моя, ты бы нас уже давно мог порадовать таким сокровищем!
Миттерэггер задумался было, не стоит ли ему прибегнуть еще и к картежному сравнению и сказать, что Лейто, как он панибратски-дружелюбно именовал Лейтомерицкого, частенько прячет туза в рукаве, — однако фрау доктор опередила его репликой:
— Мы познакомились в казино!
Жребий был брошен, и ясно было, что для начала, за закуской и супом, говорить будут о казино, азартных играх и тому подобное.
— Что касается меня, то я в казино ни ногой, — сказал Миттерэггер, — слишком опасное место! — и с этими словами, вытаращив глаза, отправил в рот яйцо с майонезом на листе салата.
— Вас ведь там могли бы увидеть! — вмешался в разговор Хубер, разворачивая сложенную рядом с прибором салфетку. — Разумеется, в обществе красивой женщины играть намного приятнее, чем в одиночестве.
— Мы оба любим играть, — сказала Беранек.
Жена коммерческого советника Хубера не проронила ни слова, состроив несколько деланую, но вполне доброжелательную улыбку, которую она сохраняла до конца вечера — с небольшими перерывами и с разной степенью доброжелательности. Ела она чрезвычайно манерно, и наблюдать за нею во время еды было большим удовольствием.
Начальник отдела тем временем навалился локтями на стол и отправлял в рот один ветчинный ролл за другим. Левой рукой он при этом призывно махал в сторону девушки-прислуги, которую успел окинуть оценивающим взором с головы до ног, приглушенным голосом, но так, что все могли слышать, обращаясь к ней:
— Еще бутылочку, попрошу!
«Вечер начался удачно», — констатировал про себя Лейтомерицкий.
Они сидели в малой гостиной: атмосфера здесь была более интимная, чем в большой зале, как он называл про себя парадную комнату огромной квартиры. Скатерти на столах были безупречно накрахмалены и отглажены, благоухали, и до них было приятно дотронуться. Столовые приборы — современной формы, но из серебра. Бокалы богемского стекла. Лейтомерицкому нравилась такая аранжировка стола, однако, пожалуй, «нравилась» — не совсем верно. Его такие вещи попросту не занимали, и он все отдавал на усмотрение своей прислуги. И лишь изредка и на короткий миг он отвлекался от своих дел. И то, что он при этом успевал увидеть, подобно картине или сцене в опере накладывалось на его восприятие, ярко и драматически, однако в нем не возникало желания вмешиваться во что-либо или упорядочивать. Он снова исчезал, растворялся в своих раздумьях, планах и задних мыслях.
Когда окружающий мир в его осязаемо твердых и неисчислимых подробностях представал перед ним, у него возникало ощущение, что он как будто бы спит, нет, скорее — пребывает в вечном и мертвом мраке. При том, что жизнь предпринимателя обычно не дает таких поводов.
Лейтомерицкий взглянул на Беранек, которую, как и следовало ожидать, вовлек в оживленную беседу Хубер. Хубер — важный деловой партнер: автомобильная резина! Хубер как раз рассказывал Беранек о своей последней поездке в Венгрию, где он в ущелье под Коморном охотился на оленей.
— Удалось подстрелить лишь олениху!
Беранек была знакома с Лейтомерицким уже несколько месяцев. Время от времени она играла в казино — чтобы развеяться, как она говорила, — чтобы завести знакомства, как считал Лейтомерицкий, — они познакомились в Бадене. По вечерам Лейто ходил с ней в ресторан, иногда — в театр или в кабаре. Спать они друг с другом не спали. Да и зачем?
Лейтомерицкий задумался и представил себе, как Беранек, компаньонша и консультант известной адвокатской конторы, выглядит без платья, усыпанного палевыми цветами, розами и гвоздиками, и еще розами, шуршащего холодно и сухо при каждом движении ее несколько костлявого тела.
В этот момент вошла Лени, миниатюрная брюнетка, со следующей бутылкой вина для Лаймера.
— Разумеется, мы будем форсировать прокладку новых автодорог! — с неудовольствием отворачиваясь, ответил Лаймер Миттерэггеру, который уже долго ему что-то втолковывал. Провозгласив это, Лаймер отпил большой глоток.
А ведь Миттерэггер действительно стал лысеть. Сзади, чуть ниже темечка. Лейтомерицкому это впервые бросилось в глаза.
После ужина коммерческий советник Хубер танцевал с фрау Беранек под магнитофон, техническую новинку, приобретенную Лейто. Фрау Хубер с застывшей улыбкой сидела с чашкой кофе, помешивая его ложечкой. Миттерэггер по-прежнему разглагольствовал об автодорогах — от Вены до Зальцбурга и далее, через горные перевалы! — но Лаймер уже перестал его слушать. Лейтомерицкий же выжидал момент, чтобы обсудить с начальником отдела один предмет — так, мелочь, собственно, касающуюся его интересов. Облака сигарного дыма клубились вокруг огромной хрустальной люстры и оседали в складках гардин. Миттерэггер уже нес полную чушь. Беранек во время танца выронила носовой платок. Лаймер попытался подняться со стула.
С Лукасом Штепаником (так он ему отрекомендовался) Георг познакомился в университетской столовой. Сидя над тарелками полуостывших макарон, они разговорились друг с другом. Поначалу о преподавателях, о конспектах лекций на продажу и обо всем таком, о чем обычно судачат студенты. По предложению нового знакомого они вскоре переместились в соседний трактир. Там, пропустив несколько бокалов вина, они быстро укрепили знакомство, и скоро Георгу уже казалось, что он много лет знает этого Лукаса, без умолку говорящего обо всем подряд. Тот как раз посвящал его в свой самый важный план, который он был намерен обязательно осуществить после окончания учебы: речь шла об игровых салонах, да, об общедоступных игровых салонах!
— Но почему именно игровые салоны?
— Ты меня, видно, принимаешь за идиота, за фантазера или за кого-то в этом роде. Чтобы мы правильно понимали друг друга, — сказал Штепаник, быстрым движением прикуривая сигарету. — С одной стороны, мы организуем города-казино в духе Лас-Вегаса, целые города исключительно для игроков. С другой же стороны, мы создадим сеть, сеть игровых залов, по всему городу, по всем районам, — ты только представь себе! — и они удовлетворят желания и возможности любых игроков.
— Ну и зачем все это?
— Да затем, что игра станет единственной перспективой, единственной надеждой, которая еще останется у людей!
— Во как! — усмехнулся Георг.
— Ни черта ты не понимаешь! — с нотками гнева в голосе сказал Штепаник.
Георг внимательно смотрел в лицо своему визави и вдруг неожиданно для себя заметил, насколько они непохожи друг на друга. Штепаник невидящим взором уставился перед собой. «Какие у него красивые черные глаза! И какая у него занятная манера курить». Штепаник выпускал дым, вытянув в трубочку красные губы, над которыми пробивался редкий темный пушок усов.
— Выпьем еще? — спросил Лукас.
Пожалуй, вино было виновато в том, что они так быстро сошлись. И потом Лукас, да, он заплатил за выпивку. А сейчас вот он заказал еду — по шницелю на каждого. Как-то уж слишком по-барски, как показалось Георгу, он расплатился с официантом.
Лукас вел себя за едой весьма изысканно. Было интересно смотреть на то, как он ест. Вот у него, у Георга, никаких таких манер совсем нет.
Через несколько недель после знакомства они по предложению Штепаника отправились в Зиммеринг. Они между тем виделись друг с другом почти ежедневно, что-то делали вместе. Но чаще всего вели бесконечные разговоры, в кофейне, на ходу, разговоры о том, как заработать кучу денег, как разбогатеть.
— Я-то в деньгах на самом деле не нуждаюсь! — частенько говорил Лукас, особенно тогда, когда обсуждение их фантастических планов подходило к концу, однако через несколько мгновений разговор как и на чем заработать возобновлялся.
— Вот увидишь! Там сплошные работяги! Жуткий район! — Пока они ехали на трамвае, Лукас старался подготовить Георга к тому, что ждало их в Зиммеринге. — Улица, по которой мы едем, прямиком ведет к Центральному кладбищу. Я там бывал много раз.
Георг смотрел, как за окном трамвая проплывают уличные фонари, видел тянущиеся ряды серых низеньких домов. Несколько женщин в платках с продуктовыми сумками стояли вдоль фасада доходного дома с множеством окон. Небольшой скверик. Из-за нескольких березок и старомодного павильона-писсуара выглядывала башенка небольшой церковки. Трамвай дошел до кольца, и им пришлось сойти.
Где-то вдалеке виднелись дома. Они шли пешком уже минут десять. Шли по полям.
— Сплошь социалисты! — сказал Штепаник, с серьезной миной описав вытянутой рукой круг над колышущейся под ветром нивой, в сторону крыш домов поодаль, к которым вела полевая дорога. Солнце слепило и палило вовсю.
— Ты, милашка, настоящий шалун! — сказала женщина на прощанье, когда Лукас отсчитал ей деньги за них обоих, и потуже затянула пояс своего дешевенького халатика.
Несколько дней подряд Георг не мог прийти в себя. В смятение его привела не эта прогулка за город. И не то, как выглядела та женщина, и не сама эта женщина, пахнувшая кофе и сигаретным дымом. Перед мысленным взором Георга вновь вставали эти картины: ослепительный свет, заливавший Зиммеринг, полувысохший ствол дерева перед окном на лужайке и большая белая задница женщины, черные курчавые волосы Лукаса, и как он обернулся к Георгу, с блеском в глазах, с выражением превосходства, и как он, приложив щепоткой пальцы к губам и причмокнув, словно бы сказал ему, сколь восхитительна и аппетитна женщина, стоящая сейчас перед ним на коленях.
Как было сказано, с самого начала Георг и Лукас погрузились в планы и прожекты, как раздобыть денег, чтобы, не откладывая, параллельно учебе, открыть свое дело. Они, собственно, мало что друг о друге знали. Однако в деловом отношении, как они сами это про себя и для себя называли, они отлично друг с другом сошлись.
Лукас был из состоятельной семьи. Это Георг понял сразу. У Лукаса всегда водились деньги, деньги, которыми он запросто швырялся. Однако за то, что он их так легко тратил, Лукас хотел получать кое-что взамен. Георгу это было вполне ясно. И Георг тут не тушевался.
Да, они откроют свою фирму. Они покажут всему миру, на что способны! Он и Лукас.
Сегодня снова прекрасный солнечный денек, но поскольку весна еще в самом начале, воздух все же еще холодный и листочки на деревьях совсем крохотные, поэтому публика в парке Пратера пока немногочисленная. Естественно, все стекаются на главную аллею, люди хотят прогуляться на свежем воздухе, подставляя лица первым по-настоящему теплым лучам. Владельцы собак со своими питомцами прогуливаются под деревьями, а на больших лугах, там, где пробиваются наружу желтые и ядовито-фиолетовые примулы, заботливо высаженные работниками городского паркового хозяйства, носятся дети с мячом.
На большом автодроме, перед воротами Пратера, народу больше всего, и там мы видим Георга и Лукаса, которые проводят тут свободное воскресенье. В пятницу они сдали очень важный экзамен.
— Ты здесь все знаешь?
— Откуда? А ты здесь, что ли, вырос?
Они громко смеются.
Они катаются на машинках на автодроме.
Они качаются на гигантских качелях.
Они съезжают на маленьких ковриках с самого верха катальной горки.
Хотя Лукас здесь впервые, он все же подробно обо всем Георгу рассказывает. Он идет чуть впереди приятеля и все ему объясняет. Он говорит и говорит без умолку.
Георг, обычно сам с усами, молча его слушает, слегка дивясь самому себе и одновременно втихомолку забавляясь: ну, что ты еще напридумываешь?
Неожиданно Георг останавливает взгляд на женщине, стоящей неподалеку от них у турникета Пещеры ужасов. Она ничего не делает, просто стоит. Глядит по сторонам. Туфли на высоких каблуках, дешевая сумочка в руках. Она делает несколько нерешительных шагов в одну сторону, потом возвращается.
Оба они, словно гончие, устремляются к ней, и Штепаник заводит с женщиной разговор.
В далеком далеке, в тебе, о тьма, надежно скрывается воспоминание. Георг, побуждаемый к этому Альфредом, напрягает память поначалу весьма неохотно и без особых успехов. Они как раз сидят в Пратере, недели через две после того, как Георг был там со Штепаником, сидят в одном из больших пивных залов неподалеку от главной аллеи, обрамленной длинной вереницей каштанов в цвету. Цветы, очаровательные свечи каштанов, отражаются в тусклом зеркале мокрого серого асфальта: мгновенно набежавшие тучи пролились быстрым дождем, на стульях и столах пивной рассыпаны большие дождевые капли, и пока их не смахнула чья-то рука, в них вперемешку и в миниатюре отражается пронзительная голубизна неба, белизна облаков, розовый цвет каштановых свечей.
— А ты помнишь? — не без труда начал разговор Альфред. Они теперь с Георгом редко видятся. Он неловким жестом коснулся руки друга, покоящейся на столе. Георг, сидевший напротив, с недовольной миной смотрел мимо Альфреда, куда-то в сторону аллеи, где сейчас, после грозы, не было совсем никого. Все попрятались от дождя и словно не решались вновь выбраться из укрытия.
Однажды они, мальчишки, отправились в свое излюбленное местечко, на площадку, где был склад металлолома. Правда, день тогда был особенный. Они не раз говорили о том, что в этот день произойдет.
Настоящую дружбу надо скрепить как следует. А есть ли что-либо более драгоценное, чем собственная кровь, которая может скрепить великое, настоящее и стОящее чувство? Естественно, что их вдохновили на это соответствующие сцены в романах, рассказывающих об индейцах и благородных разбойниках.
Тот, кто отваживается поступить так — сделать ножом надрез на собственном теле и соединить выступающие капли крови в единое целое, — тот поступает так во имя вечности в первый и последний раз на этом свете.
Они молча миновали пустынные закоулки, образованным горами старого железа. Добравшись до своего заветного укрытия, они уселись друг напротив друга. Когда Георг достал заранее припасенный нож, Альфред едва не расплакался. Он вдруг перестал понимать, что делает. Но Георг уже протянул ему нож.
— Ты первый!
— Я?
Альфред медленно и неохотно, и только потому, что пути к отступлению теперь у него не было, провел ножом по руке. Он вспомнил сейчас, что лезвие тогда несколько раз скользнуло по натянутой коже, прежде чем вошло в плоть, и кровь закапала из раны. Георг, плотно сжав губы, весь сосредоточенный, не мешкая сделал надрез на своей руке. Кровь брызнула из разреза! Дрожа всем телом, с удивлением и словно во сне они соединили руки.
Каждый раз, вспоминал о своем детстве, Альфред испытывал приятное, сладостное, кружащее голову чувство, подобное тому, какое испытывает мужчина, когда замечает, что его тянет к женщине и что он с ней, пожалуй, сойдется. За этим многообещающим чувством, однако, не скрывалось ничего. Если пытливым жестом он, словно занавес, отодвигал в сторону это сладостное чувство, то поначалу обнаруживал лишь пустоту, пустое и темное пространство без границ.
Лишь когда он был готов к тому, чтобы в своих воспоминаниях предстать перед лицом великого страха, неожиданно накатывавшего на него, то из глубины памяти всплывали разнообразные разноцветные и живые комочки, из которых под пристальным взором — и иногда ему и в самом деле приходилось при этом затаить дыхание — выпрастывались и раскрывались давно ушедшие в прошлое ситуации и события. То какой-то человек стоял на углу пустынной улицы и грозил ему кулаком. То какая-то женщина сидела за столом и лущила фасоль. То ветер шевелил листву кустарника. Альфреду чаще всего не удавалось связать эти картинки с чем-то определенным. Однако он постоянно ощущал, что от них-то все и зависит, зависит — как это ни страшно! — вся его жизнь.
Он остро чувствовал отчуждение, возникшее между ним и Георгом. Это причиняло боль. При этом он с самого начала не без удовольствия наблюдал за тем, как Георг все больше отдалялся от него и шел своей дорогой, и втихомолку он даже посмеивался над тем, как быстро Георг способен освоиться с любой новой ситуацией и не испытывать робости ни перед чем. Сколь жалкими представлялись ему устремления Георга, сколь нелепыми и смешными средства, которые он использовал!
Однако если Альфред забывал о своем подчеркнутом высокомерии и пытался увидеть своего друга таким, каким он его видел всегда, взглянуть на него с покорностью и любовью, то сердце его сжималось, он отчетливо ощущал, что ему самому не хватало отваги и легкости и что именно поэтому он и остался в одиночестве.
В том, что между ними произошло то, что произошло, вины Георга наверняка не было!
И новый друг Георга не был таким уж неприятным, каким Альфред его себе представлял. Альфред вполне был в состоянии понять, почему Георг считал Штепаника толковым малым и почему он так сблизился с ним. Штепаник всегда был полон идей и планов.
Но дело тут было, видно, еще в чем-то. Альфред был очень горд тем, что мыслил. Ему представлялось, что он чуть ли не единственный человек в мире, способный размышлять. Над чем он только не ломал голову! Однако ему приходилось признать, что из всех этих раздумий ничего не проистекало, не имело никаких последствий.
Во время прогулок и хождения по городу, по Шенбрунскому парку или по берегу Дуная ему иногда вдруг становилось ясно, что жизнь его протекает по большей части бездумно. Он не представлял, что происходит вокруг него. Точнее — все те же вещи и проблемы занимали всех людей. Однако они были словно растворены в этих вроде бы бесцельных поисках и размышлениях, никогда не приводивших к результату. Если бы кто-то неожиданно потревожил его в такую минуту, то на вопрос, о чем он, собственно, сейчас думает, он не смог бы ответить. Впрочем, и что с того?!
Он никогда толком не знал, к чему стремился. Если он принимался за какое-то дело с определенным намерением, то в процессе осуществления замысла его начинало тянуть во все стороны, и цель теряла свои очертания. То, что прежде представлялось ясным и конкретным, превращалось в нечто расплывчатое и путаное.
Это вовсе не значило, что Альфред не был целеустремленным человеком. Если предстояло, например, сдавать экзамен в университете, он быстро и в один присест осваивал материал. Экзамен он сдавал. Как сдавали экзамен Георг и другие студенты. Однако он привык к этому, это давно вошло в привычку, и перед лицом того факта, что он больше ничем не занимался, в нем развилось некоторое высокомерное чувство, в согласии с которым он воспринимал все эти экзамены и прочие университетские проблемы как сплошную мелочевку, как нечто второстепенное, не имеющее серьезного значения для его жизни.
А как же Клара? Как чудесно было заходить за ней и гулять по Рингу, то болтая о чем-нибудь, то вместе о чем-нибудь молча. Ему нравилось слушать ее, нравилось смотреть, как в кафе-павильоне в Народном саду она ложечкой ела мороженое, нравилось, когда она, опередив его на несколько шагов, останавливалась у розового куста, любовалась им и нюхала цветы. Он был в восторге от нее, как в восторге мы бываем от чего-то неизведанного. И он был готов отдаться этому незнакомому, раствориться в нем.
Чем сладостнее были часы их полного согласия друг с другом, тем резче и злее были размолвки и ссоры, за этим следовавшие. Как раз незнакомое и чужеродное в Кларе, столь многоцветное и соблазнительное в своей безобидной привлекательности, вдруг уплотнялось и ожесточалось, обретало мрачные, вызывающие, грозные очертания, заключающие в себе одновременно и нечто смешное, нелепое.
Сколь сладкими были слезы примирения! Когда он гладил ее по щеке, когда прикасался пальцами к ее губам, ему казалось, что в этом мире нет ничего, что бы их разлучило, и одновременно он корил себя за свою глупость и сентиментальность.
Страна в ту пору пришла в движение. В этом отношении история Георга и Альфреда представляется одним из взятых наугад примеров: наконец-то и дети из бедных семей и низших слоев общества смогли получать достойное образование. Прежде за обучение в школе надо было платить, надо было покупать учебники и прочие школьные принадлежности — у бедных людей на такие траты средств не было.
Альфред, при всей его мечтательности, понимал свое положение, и хотя он не испытывал чувства благодарности за ту поддержку, которую общество ему оказывало, а воспринимал это как должное, как свое естественное право жить и развиваться, все же ему было ясно, что все могло бы обстоять и совершенно по-другому. Не было в нем и стремления примкнуть к партии, которая отстояла бы в обществе его права.
Социал-демократы давно уже теряли свою силу. В принципе, партия так и не смогла восстановить свои позиции после разгрома сторонниками канцлера Дольфуса в тридцатые годы, после полного запрета нацистами. После войны социал-демократы в коалиционном правительстве, возглавляемом консерваторами, играли роль младшего и слабого партнера. И вот вдруг явился человек по имени Бруно Крайский. Он смог переломить ситуацию. Но что это был за человек?
Крайский был из буржуазного сословия, он не забыл своих прежних идеалов. Движимый представлениями о равенстве и справедливости, он осуществил реформы, затронувшие основы общества. При этом он действовал так, что создавалось впечатление, что он делает единственно разумное и законное. Никто не противился, никто не протестовал. Он явился в нужный час и осуществил свою миссию.
Незадолго до того, как он ушел из политики, все снова вернулось на старые рельсы, правда, уже с учетом изменившейся исходной ситуации. К реформам, задуманным как радикальные, постепенно попривыкли, перемены вошли в быт, и люди, за исключением может быть нескольких отъявленных реакционеров, стали считать, что иначе дело никогда и не обстояло и что все всегда было именно так.
Изредка Альфред получал по почте открытку из Клагенфурта: его мама — женщина, которую он всегда считал своей матерью, — слала ему приветы.
Он сидел за письменным столом в своей комнатке в общежитии и толком не знал, что ей написать в ответ.
— Напиши, что ты ее любишь, — сказал Георг.
— Что ты имеешь в виду?
— То, что сказал, — улыбнулся он.
Однажды, когда открытка из Клагенфурта не пришла, заведующий общежитием позвал Альфреда к телефону. Раньше такого не случалось.
— Что произошло?
Голоса своей «матери» он поначалу не узнал. Правда, они никогда еще не разговаривали по телефону.
— Папу арестовали. У нас была полиция.
«Папу!» Альфред не смог сдержать смеха.
Ближайшим поездом он отправился в Клагенфурт, и там ему сообщили, что «папу» подозревают в убийстве фрау Штарк, той самой проститутки из их дома, и что у следствия есть серьезные доказательства его вины.
Главные улики предъявил Хаймо, сын домовладелицы, который частенько следил за фрау Штарк и ее клиентами из окна своей спальни. Кстати, Хаймо вскоре женился на девушке из мелких служащих, занял пост представителя страхового общества в их области — и жил вполне респектабельно, уважаемый всеми, за счет клиентуры, состоявшей в основном из его прежних добрых и старых друзей. Когда журналист задал ему вопрос о его прежнем квартиросъемщике, предполагаемом убийце, Хаймо только и сказал, что этот человек ему никогда не нравился. Почему? «Не нравился, вот и все!»
— Она смеялась надо мной! — в конце концов признался подозреваемый, припертый следователем к стенке. — Она смеялась надо мной!
«Мать» бросилась Альфреду на шею, когда он засобирался уезжать; и хотя он под воздействием ее слез и ласк вопреки себе самому почувствовал что-то вроде сострадания, все же леденящее чувство отчуждения перевесило, и вскоре он уехал в Вену. Уехал навсегда.
Глава 4
«Те, кто меня ненавидит, знают меня лучше, чем те, кто любит». Лейтомерицкий ехал домой из Бадена, он был в казино — и сильно проигрался. «Проигрыш заставляет задуматься, — думал он, неспешно катя по шоссе, — и делает тебя сентиментальным!»
«Да, Виктория, — она меня когда-то любила. По крайней мере, я в это верю, хочу в это верить. Бог мой! Все слова, слова. Я ей нравился. В этом можно быть уверенным. В самом начале. Я был большой удачей, шикарным фавном. Щедрым мужчиной. А потом я устроил ее в свою фирму. В фирму? Ха-ха!»
Лейтомерицкий нажал на газ. Дорога была совершенно пустынной. Где-то сбоку, над равниной, угасали сполохи большого города, словно светлая плесень по низу облаков. Вена!
Лейто крепче вцепился в руль и неожиданно ощутил себя зверем, посаженным в клетку. К тому же зверем, как он с удивлением констатировал, у которого лучшие дни давно позади. Автомобиль нес его вперед.
Три письменных стола, телефон, две пачки бумаги и три печати. Вот и вся фирма. Управление недвижимым имуществом! На улице Гроссе Нойгассе. Четвертый район. Один из клиентов, взбешенный квартиросъемщик, однажды плюнул ему на письменный стол.
Как он ни пытался отвлечь себя всякими мелочами и несущественными деталями и идти по дорогам памяти боковыми улочками и обходными путями, все же луч памяти и воспоминаний проникал все глубже и глубже в прошлое. Начал он вспоминать самое возвышенное — прекраснейшую влюбленность. А вот теперь мысли его погружались глубоко вниз, словно луч, проникающий с освещенной солнцем поверхности облаков сквозь их толщу туда, к теням и темным сторонам, к тем фигурам и формам, которые, опускаясь, принимали все новые очертания, превращались в прогалины и большие темные пятна, чтобы затем вновь обрести четкую форму — как цветы, цветущие не на свету, а в темноте.
Вот он, Лейто, совсем мальчишка, идет, понуро опустив голову, плечи опущены, о чем-то задумался. Идет босиком.
Ему предстоит длинный путь, мимо крестьянских хижин и плетеных заборов, по вязким тропинкам. Но это, должно быть, воспоминания отца, истории, которые рассказывал он сыну, а его собственные воспоминания теперь перемешались с отцовскими и входят в них.
Лейтомышль. Мельница под вязами. Еды в доме всегда было мало, семья была очень набожная. Ханука. Школа, синагога. Теперь память Лейтомерицкого, катившего на авто по пустынному шоссе, оформилась в картинку, отчетливо пришедшую из детства: вот он идет по узкому проходу между кучами ржавого железа и жести к колодцу во дворе, мальчик совсем, лет семи, или пожалуй восьми. Вот он играет у колодца круглыми камешками.
Матери было за сорок, когда он появился на свет.
Вокруг колодца зеленая поросль, напитанная водой, плещущей из желоба. Сумеречный свет во дворе дома и таинственные зеленые листья растений, словно большие уши, как ему казалось, прислушивающиеся, всё подслушивающие.
Отец, родом из сельской местности, был старьевщиком, собиравшим тряпье и железный лом. Склад и контора, как он теперь вспомнил, находились недалеко от его бюро управления недвижимостью. Жестяные изделия и листы железа, новые и старые, прислоненные к стене дома. Внутренний двор был забит кучами ржавого лома, между которыми были проложены извилистые тропы. В доме хранились кучи макулатуры, тщательно оберегаемые от сырости. Запах бумаги, картона — каких только не было запахов! Отец за прилавком, на голове берет. Округлая фигура. Всегда приветливый, всегда обходительный: ну просто настоящий венец, или то, что отец понимал под настоящим венцем. Потом, в далеком Шанхае, удавалось ли ему отведать венского шницеля?
Вышли из дома — и вот перед ними звенящий ручей. Дедушка с чемоданом, в котором все образцы товаров, шествует впереди малыша, которому надо поучиться, как ухитриться что-нибудь продать крестьянам. Лето в Лейтомышле. Богемия. «Где теперь все это?» Отец спасся бегством от нацистов и оказался в Шанхае. Это его не спасло. Он заболел там тифом и умер.
Лето, проведенное с Викторией, было коротким.
Лейтомерицкий пытается вызвать в памяти ее лицо из того времени: зеленые глаза, взгляд поначалу робкий и покорный. Глаза словно прикрыты серой занавесочкой. Но потом, вспоминает Лейто, доминирующим цветом стал розовый — цвет ее потаенной плоти, и он, этот цвет, затмевал и забивал все остальное. Белые щелочки ее глаз, с серо-зелеными пятнышками радужки. Там, в глубине, светились ее зрачки — словно два камешка под водой быстрого ручья.
Садится чопорно. Разглаживает складки на платье. Длинный мундштук — первая неожиданность. Дерзости. Неторопливо склоняет голову над меню в ресторане.
Лейто ни на что не скупился. Квартиру обставили заново. Новая кровать, надо признаться, не без корысти для себя. Сумасшедшие объятья. Пароксизмы страсти. А ведь у него, Бог свидетель, до нее было немало женщин.
Виктория была совсем другой. К ней не подходило ни одно правило. Абсолютное исключение. Или абсолютная ошибка? Нет. Лейтомерицкий закусил губу. Была своя положительная сторона в том, что с ним все это произошло, что все получилось именно так, а не иначе.
Сразу после войны Лейтомерицкий стал выдавать себя за солдата и обычного участника войны. Ему не хотелось, чтобы перед ним каялись или чтобы ему сочувствовали. Ему необходим был подъем, который дает только успех. И он знал по судьбе своих товарищей по лагерю, насколько близко соседствуют сочувствие и презрение и как легко одно переходит в другое. А он хотел добиться успеха и наслаждаться жизнью!
Со временем он заметил в себе нечто непреодолимо тяжкое и темное, как противовес в часах, не позволяющее ему выставить стрелки так, как ему хотелось бы. Что-то темное и мрачное затаилось в нем в ожидании. Он этого не боялся, однако непреодолимое предчувствие не позволяло ему ощущать радость и счастье. Он не умел смеяться от души. И никогда от души не смеялся. Смех застревал у него в глотке.
Какое-то время он держался за счет того, что помогал другим людям. Великолепное средство! А потом — потом его захлестнула ненависть.
В той же мере, в какой он ненавидел своих мучителей, а также их пособников и подручных, причастных ко всему, что творилось в недавнем прошлом, он стал презирать себя самого. Эта ненависть была его мукой! Хотя она снова давала ему возможность свободно дышать, воздух был отравлен и не приносил ему облегчения.
Как сладостно и легко дышать, когда рядом с тобой женщина, которую любишь!
«Как же случилось, что все так далеко зашло», — думал Лейтомерицкий, ведя машину. Когда Штрнад — так он уже давно называл Викторию про себя — звонила ему или когда они виделись друг с другом, он не чувствовал ничего, кроме неприязни к ней. Он слушал ее рассеянно. Рассеянность и отвлечение уберегали его от худшего. Иногда в ее присутствии он вдруг словно выныривал из дремы, и в нем возникало отчетливое желание, жутко ясное и властное, просто схватить ее за горло и задушить.
Он, правда, быстро брал себя в руки, он говорил себе: она ведь моя единственная, абсолютное исключение. И может быть именно потому ей одной стоит покаяться за всех остальных. Чтобы все исправилось.
Страшное желание быстро, словно по волшебству, обращалось в удвоенное и заботливое внимание к ней. Теперь ясность чувств снова затуманилась, он словно бы слышал, как в нем что-то шуршит, ощущал движение воздушной струи, все распалось и превратилось в серую, колышущуюся, разноцветную массу, которая напоминала ему — однажды он видел эту картинку перед собой очень отчетливо — кучу макулатуры, которая медленно исчезала в дробильной машине на складе его отца.
«Почему я остался здесь, в Вене?»
— Ты не сын Лейтомерицкого. Лейтомерицкий — не твой отец! — сказала Виктория Альфреду. И Альфред, уже не раз представлявший себе эту или подобную фразу — он словно бы и слышал уже не раз эти слова, — приложил усилия, чтобы не выказать удивление, однако вопреки его воле глаза его широко раскрылись; он взял себя в руки, ради мамы, как он себе сказал. Мама сидела у окна, комкая в руке носовой платок и уставив в пустоту хмурый взгляд, не смотря в сторону Альфреда. Вот она подняла голову и, как делала это не раз, уставилась, не отрываясь, в окно на Ратушную площадь.
— Однажды, ранней весной, примерно в ту же пору, что и сейчас, я была в деревне и загляделась в воду деревенского пруда. И — как я изумилась, что там, в темной его воде, кишмя кишели разные живые существа, и большие, и совсем маленькие! Они плавали в темной воде, одни туда, другие сюда. Как люди, там, внизу, на Ратушной площади, что залита сейчас солнечным светом.
Альфред знал, что мама — он тем временем уже привык так называть тетю Викторию, — что она уже давно отошла от дел и ко всему относилась равнодушно. Хотя и произносила порой: «Лишь тот, кто усерден, заслуживает право существовать в этом мире», — хотя от нее такое или что-то подобное можно было услышать, все же в действительности она дошла до такого состояния, что даже умываться и одеваться ей было мучительно. Нередко он неделями видел ее в одном и том же платье. Немытые жирные волосы, давно не стриженные. Лицо ее — каким прекрасным и привлекательным предстало оно перед ним когда-то! — стало мучнистым и расплывшимся, под глазами, в которых время от времени все же вспыхивали искорки, но искорки лишь гнева и раздражения, висели мешки, и когда-то мягкий и округлый подбородок заострился и торчал теперь, как у ведьмы.
— Кто мой отец?
Она не ответила. Она неопределенно махнула рукой, описав полукруг, — и снова опустила руки на колени.
Альфред сидел в сторонке, у диванного столика, стул он перенес от маленького письменного стола, за которым мать иногда еще возилась с письмами клиентов, но чаще с лотереей. На столике стоял и телефон, она несколько раз на дню звонила в контору — чтобы контролировать все, как она говорила, — негромко, иногда и со смехом.
— Я поначалу любила Лейто. Поверь мне, — продолжала она. — Не думай, что здесь все сильно изменилось. Я имею в виду — в Вене, в Австрии. Эти люди — прирожденные убийцы. Они ненавидят евреев. Радуйся, — улыбнулась она, — радуйся, что ты не еврей! С Лейто я познакомилась в середине тридцатых. В баре, где-то в Пратере. — Она коснулась рукой подбородка. — Я была сильно влюблена в него.
Да, она была сильно влюблена в Лейто, она, девушка из деревни.
— Я ведь на самом деле была деревенская простушка. Он придал мне настоящий лоск.
Эти фразы и подобные им, словно выхваченные наугад, полностью вырванные из своего окружения, засели в памяти Альфреда — засели навечно, как ему показалось. Слегка покачиваясь, он сошел вниз по изгибам лестницы и вышел на Райхсратштрассе. Он знал: мать смотрит на него сверху, она стоит у окна в эркере.
— Я влюбилась во все это приобретательство. Да, так и было. И поскольку Лейто сам верил в приобретательство, верил в одно лишь делание дела, верил во влиятельность и власть, все и получилось так, как получилось. Поначалу Лейто был для меня авторитетом. А потом, когда он стал слабым, когда ему даже пришлось скрываться и прятаться, — тогда у меня появились другие мужчины, и они заняли его место. И знаешь: Лейто ведь не протестовал! Он меня даже сам подталкивал к этому. Конечно, он чувствовал себя не в своей тарелке. Собственно, все это было смешно до слез! Если бы не было так печально. Я ложилась в постель с нацистскими бонзами. То с одним, то с другим. Мне это доставляло удовольствие. Хочу честно признаться. Я и влюблялась в них, то в одного, то в другого. Я не знаю. Я действительно не знаю, кто твой отец. Кто из них.
Часть III
Глава 1
Утром мысли о смерти, и вечером мысли о смерти. Собственно, Альфред думал не о самой смерти, а о процессе умирания. Его полностью захватила эта мысль. Он не предпринимал ничего, в чем можно было бы усмотреть подготовку к самоубийству, — не покупал снотворного, не запасался прочной веревкой. Но мысленно он все время возвращался к этой теме — умирания, угасания жизни, ее окончания прежде всего. Можно ли назвать это размышлениями? В голове у него было пусто, и жил он, собственно, не считая повседневных занятий, словно вне времени. Сладостные чувства вздымались из мрачных глубин — подобно разноцветным или розовым клубам тумана, поднимающимся из пропасти и освещаемым солнцем.
Он не стал допытываться дальше, кто же был его отцом. И теперь он упрекал себя, что оказался слишком тактичен, слишком мягок к Виктории. Нельзя было отпускать ее так вот просто. Ему не следовало ее щадить.
Она говорила только о себе самой! Ей есть дело только до себя самой!
Он точно знал, что все это не так, что обвинения его несправедливы. Наоборот: жизнь его матери, все ее заботы сосредоточились теперь на нем. Намного сильнее, чем когда-либо прежде. Она выполняла любое его желание. Стремилась даже опередить его желания. Всегда заботилась о том, чтобы у него было все, в чем бы он ни нуждался.
А теперь он погрузился в себя. Он чувствовал, как с каждым днем ослабевает его связь с тем, что его окружало, как все словно распадается.
Хуже всего дело обстояло с Георгом.
— Клара и я — у нас больше нет общих интересов, — заявил Альфред своему другу.
— Зачем же ты с ней по-прежнему встречаешься?
Георг отвел взгляд и уставился на ярко-красную папку, лежавшую перед ним на столе, раздутую от бумаг и властно притягивающую взгляд.
Они со Штепаником придумали эту идиотскую идею с рассылкой рекламных листков, агентство, как они его называли. Они разносили по домам и рассовывали в почтовые ящики листки ярко-кричащей расцветки. В них предприниматели и торговцы со всей округи рекламировали свои товары и услуги: портные и обойщики, рестораторы и сантехники, мастерские по изготовлению ключей и фирмы по уборке квартир. Штепаник отказался от своего игорного проекта, по крайней мере до поры до времени. Георг теперь частенько оставался ночевать в небольшом помещении, которое они арендовали для своего агентства. На пару со Штепаником он до поздней ночи крутил ручку ротатора, размножая рекламные листки. То есть Штепаник чаще всего восседал на старом диванчике, покуривая и о чем-то разглагольствуя, а Георг трудился без остановки. Всякий раз, когда Альфред заглядывал к ним, он неизменно заставал обоих партнеров в прекрасном расположении духа.
А что же Клара? Когда он ждал ее на станции городской железной дороги, она узнавала его издалека по тому, как он стоял в темном вестибюле, по пиджаку и великоватым ботинкам, по вытянутой вперед шее, по опущенным плечам, по рукам, которые он держал в карманах брюк, и по тому как он, о чем-то глубоко задумавшись, молча смотрел прямо перед собой. Тогда в ней возникало сострадание или что-то такое, что можно бы назвать материнским чувством. И выплескивалось наружу, когда они, взявшись за руки, шли вместе по аллее вдоль Гюртеля[9], вместе, а может, каждый сам по себе. Мимо проносились автомобили, Клара вскоре умолкала, ее пугало, что Альфред не произносит ни слова, только слушает ее. Ее пугала и та категоричность, с которой он порой отстаивал свое мнение, то упрямство, с которым он устремлялся к цели. Правда, его рассуждения не вели далеко, и он быстро начинал путаться в противоречиях, сам замечал это и умолкал, оборвав фразу посередине.
Они больше не спали друг с другом.
Однажды Клара заикнулась о том, не стоит ли им пожениться. Когда Альфред вспоминал об этом разговоре, его разбирал смех. Громкий смех.
Маму он в последнее время часто видел под хмельком. Не то чтобы пьяной: слегка пошатываясь, в заляпанном длинном халате с замызганной нижней кромкой, она бродила по комнате, наталкиваясь на мебель, на предметы обстановки, и тихо ругалась. Или сидела у секретера в гостиной, склонившись над работой, просматривая банковские выписки, например, а когда она поднимала голову, лицо у нее было багровым от напряжения, и она доставала носовой платок, отирая пот со лба.
Альфред уехал в Париж. Уехал по настоянию матери, только по ее настоянию. Сам он не представлял, что ему там делать, за границей, в краю чужом. К тому же было немного страшно. Боялся он чужих улиц, которые представлялись ему извилистыми, словно незнакомые реки, домов, в которых протекала жизнь, ему совсем неизвестная.
В то же время он ощущал, что так дальше продолжаться не может, ни в его отношениях с Кларой, ни в его смятенном отношении к самому себе. Картину дополняло то обстоятельство, что он не имел представления, что делать с приобретенной в университете профессией.
Каждое лето Альфред участвовал в так называемых маршах мира. День памяти Хиросимы. И Клара ходила вместе с ним, хотя она, собственно, не выказывала никакого интереса или воодушевления по этому поводу. Марши эти организовывали совместно католики и коммунисты, и протест был направлен в первую очередь против арсеналов атомного оружия, против войны вообще.
Клара сегодня заметно нервничает, она в подавленном настроении, чуть ли не до слез. Она то неожиданно, без особого повода, обеими руками вцепляется в Альфреда, буквально висит на нем, то отстраняется, идет сама по себе, уставившись в одну точку. Коснувшись ее щеки губами, Альфред замечает, что ее бьет дрожь.
— Что с тобой, ты вся дрожишь!
— Мне страшно!
Альфред продолжает разговор с товарищами по демонстрации о марше, запланированном на следующий месяц в Мюнхене, нет, в Берлине, ну, в общем, в Германии. Будет ли он участвовать? На дворе прекрасный, замечательный воскресный день, и они проходят по центру города, по Херренгассе, по направлению к Михаэлерплац.
На площади Альфред вдруг обнаруживает, что Клара куда-то исчезла. Он прерывает разговор, пробивается сквозь толпу, работая обеими руками, толкает людей, чуть ли не сбивая их с ног: «Клара!» — кричит он во весь голос.
Михаэлерплац залита солнцем, на тротуаре выстроилась длинная цепочка сочувствующих и зевак; высокие стены домов, колонна заворачивает в широкий проезд, ведущий к Площади Героев, вокруг море людей — Альфред продолжает искать Клару.
Теперь он вспоминает об этом с большой неохотой. И очень редко. Когда, например, в трактире на Монпарнасе он немного перебирал с выпивкой, или когда в одиночестве прогуливался утром по Люксембургскому саду. Он записался в один из университетов Сорбонны, на юридический факультет, но на лекциях почти не появлялся.
В Лондоне, куда он перебрался через несколько месяцев, все обстояло примерно так же. И там он не обрел покоя и душевного равновесия. Сидя в пабе за кружкой пива, он читал письма, которые присылала ему мама. Больше ему никто не писал. Настоящие эпистолы! Перед ним буквально вставал образ матери, он видел, как она пишет письмо, лицо покрыто каплями пота, она откладывает авторучку, мокрой от пота рукой проводит по волосам.
Бездумно бродя по дорожкам Гайд-парка, расслабившись и отдавшись на волю прекрасного послеполуденного покоя, он вспоминал, как они вместе ходили когда-то за покупками, как мама вдруг решила, что его нужно прилично одеть, разумеется, в дорогом модном салоне в центре города, не где-нибудь, и вот портной опустился перед ним на колени, чтобы снять мерку для брюк; а мама, в сторонке от них, расхаживает по салону, явно не слишком вникая в это дело и непрерывно теребя цепочку на шее; однако в решающий момент оказалось, что у нее все под контролем, и она внятно и отчетливо настояла на том, чтобы для костюма взяли именно вот эту ткань, а не другую.
Тот день в Гайд-парке был днем особенным, потому что Альфред, забирая поступившую почту (он ждал, что придет очередной денежный перевод), получил письмо от Виктории, в котором она сообщала, что открыла в банке счет на его имя, положила на счет солидную сумму, чтобы ему больше не пришлось каждый месяц дожидаться перевода, пусть чувствует себя независимым.
Естественно, что этот весомый подарок сопровождался многочисленными советами и поучениями в письме. Как вспоминал Альфред позже, он, возвращаясь с почтамта к себе на квартиру на Найтсбридж, шел словно оглушенный, низко опустив голову, глядя исключительно под ноги, без единой мысли в голове. В нем росло и ширилось некое странное ощущение, оно приобретало все большие размеры, безымянное чувство, но столь сильное, что под грузом его он едва не разревелся прямо на улице.
С той поры Альфред перестал толком отвечать на письма матери. Вернее, поначалу он все так же писал ответ на каждое ее письмо, как к тому привык раньше. Однако от письма к письму он все меньше откликался на то, что писала ему Виктория. Виктория — про себя он снова стал называть ее так. Она никогда не писала ему о себе. Она жила где-то там, далеко. Да, в Вене. Со временем ему становилось все труднее представить, как и чем она живет. Ее квартира. Вид из окна на Райхсратштрассе, на Ратушный парк. Она не умела писать о себе. Выглядело все так, словно у нее вообще нет своей жизни; возможно, вообще никакой жизни.
В тех немногих письмах, которые он писал ей тогда, он хотя и называл ее мамой, однако делал это лишь потому, что не хотел понапрасну доставлять Виктории боль. Нет, он вовсе не был на нее зол! Она не была ему в тягость. Просто у него было ощущение, что лучше будет не писать ей вовсе. Ему нечего ей сказать; во всяком случае на данный момент. Ну а в том, что касалось самой Виктории… Бог мой, разве он что-нибудь знал о ней?!
Из Лондона он переехал в Берлин, и там началась совершенно призрачная жизнь. Он без труда подыскал подходящую, соответствующую его запросам квартиру в Шарлоттенбурге. На невзрачной улице, обсаженной, правда, деревьями, стояли невзрачные, обшарпанные дома. Район этот явно знавал лучшие времена. Квартира была просторной, из нескольких комнат с высокими потолками, но почти без мебели. Мимо постоянно пьяного привратника Альфред поднимался по крутым лестничным маршам наверх. Из окон квартиры, и вид этот наполнял Альфреда радостью, поверх крыш домов открывалось взгляду пространство, простиравшееся вплоть до поблескивавшей серебром далекой телебашни в восточной части города.
Здесь, в Берлине, он поначалу не удосужился даже записаться в университет. Он много времени потратил на то, чтобы узнать город получше. Он выказал при этом такое рвение, которое в нем самом вызывало отчуждение и казалось весьма подозрительным: неужели он интересовался всеми этими улицами, площадями, зданиями и достопримечательностями, потому что ничего лучшего ему не приходило в голову? Он ходил и по музеям и художественным галереям, к которым раньше не испытывал никакого интереса. Там он долго стоял перед полотном Рогира ван дер Вейдена или перед картинами кого-нибудь из флорентийских художников. Что он пытался разглядеть во всей этой живописи, ему самому было неясно. Иногда он ловил себя на том, что просто подсчитывает количество фигур, изображенных художником, или же, рассматривая нарисованное на картине облако, размышляет, видел ли он когда-нибудь такое облако на небе.
Он подробнейшим образом изучил и разветвленную сеть городской железной дороги и линий метро. Скоро он был уже в состоянии точно сказать, куда ведет та или иная линия, как называются конечные станции, как выглядят кварталы, сквозь которые проложены эти ветки. Особенно занимала его линия электрички, огибавшая озеро Ванзее и проходившая по Груневальду, району вилл. Он частенько стоял, прислонившись к двери вагона, и смотрел на пролетавшие мимо кряжистые дубы и красноватые стволы сосен. Иногда он просто отправлялся бродить по местным лесам.
Почему он поселился на этой улице, в этой квартире в Шарлоттенбурге? Наверняка ведь мог позволить себе нечто получше. Но ему нравилась именно эта неопределенность: квартира была просторная и, собственно, великоватая для него одного. С другой стороны, все в доме, включая и обстановку квартиры, выглядело запущенным.
Еще живя в Париже, он пристрастился к двум вещам. Во-первых, он, хотя и неожиданно для себя самого и как бы сбоку припеку, однажды влился в ряды студенческой демонстрации. Лозунги и плакаты (такие как «Вся власть воображению!» или «Долой буржуазию!») не особенно его занимали. Однако атмосфера, весь настрой, взъерошенный, возбужденный, даже яростный, передался ему и как-то оживил его внутренне. С той поры он не пропускал ни одной листовки на воротах университета. Он стал читать газеты, особенно всё, что касалось демонстраций и политических митингов.
Во-вторых, еще в Париже он пристрастился к выпивке. Пил он не так, как другие студенты, устраивавшие шумные праздники или соревновательные попойки. Он пил в одиночку и пил до тех пор, пока бармен не переставал ему наливать. Если от случая к случаю ему приходилось участвовать в общей пирушке с другими студентами, у него всегда возникало чувство, что он притворяется. Если остальные в компании веселились и чувствовали себя свободно, то он разыгрывал веселье и говорил каким-то чужим, заимствованным голосом, чтобы не выделяться.
Теперь же, в Берлине, уютно устроившись на затхлой улице в своей затхлой квартире, на двери которой он даже не удосужился прикрепить табличку с собственной фамилией, он заинтересовался, поначалу неотчетливо и как-то не всерьез, а потом все более конкретно и пристально, — группой Баадера — Майнгоф и всем, что с нею было связано.
Это была группировка левых радикалов, исповедовавшая принципы вооруженной борьбы, так называемой герильи, партизанской войны, которую вели в ту пору во многих бедных странах, вели чаще всего крестьяне против владельцев крупных латифундий и против организаций, служивших интересам богатых, и вот этот принцип партизанской войны левые собирались распространить на города, на центры и организации богатых стран. Группа Баадера — Майнгоф, названная так по фамилиям двух ее предводителей, именовала себя Фракцией Красной Армии, то есть воспринимала себя как часть огромной интернациональной освободительной армии, которая действовала в разных странах и была в состоянии нанести удар там, где считала необходимым.
Альфреда в этой Фракции заинтересовал не принцип справедливости, которому служили ее бойцы. Не привлекала его и романтика борьбы, которую они вели, вынуждены были вести, подпольно. Прежде всего его восхищало — и ему это виделось чудесно ясным образом — их отношение к смерти: какие бы действия ни предпринимали люди из Фракции — устраивали теракты в универмагах, казармах, на других военных объектах, нападали на известных общественных деятелей, — все это носило отпечаток спокойного презрения к смерти. Они хладнокровно распределяли в обществе смерть и в то же время не делали для себя исключения.
Одно Альфред усвоил хорошо: человек угнетенный не должен сдаваться и покоряться судьбе, а обязан сражаться до последнего. Как маленький зверек, на которого наступили и который чувствует или знает, что он пропал и обречен на смерть, но который все равно кусается и царапается из последних сил. Исходя из этого, из подобного настроя, Альфред был в состоянии понять и политические установки Фракции, и иногда, особенно в сильном подпитии, мысли о несправедливости, царящей в мире, исторгали у него слезы гнева и приводили в состояние сладостного бессилия.
Он бы самому себе наверняка не признался, что является приверженцем и сторонником группы Баадера только из-за этой идеи смерти и из-за притягательности, которую она вызывала. В реальности, то есть фактически, он ведь и пальцем в эту сторону не пошевелил. Он именно теперь стал одеваться намного лучше, чем прежде, заглядывал в магазины элегантной одежды на бульваре Курфюрстендам и приобрел славу завсегдатая в дорогих ресторанах и барах. Деньги Виктории, которая когда-то была «его матерью», пришлись ему весьма кстати.
По утрам, просыпаясь в своей пустой квартире, лежа в постели — на широкой двуспальной кровати с изголовьем, украшенным деревянной отделкой, гармонирующей с мраморным покрытием двух тумбочек справа и слева, кровать эта наверняка была главным украшением буржуазной, мелкобуржуазной спальни, — итак, открывая глаза и разглядывая шелковые кисти, свисавшие с люстры под потолком, он перво-наперво пытался вспомнить, где он был вчера и когда вернулся домой.
Вчера он до трех ночи пил в ресторане гостиницы «Мишель». А потом этот толстый армянин в роскошном пальто с меховым воротником, — странно, он пальто так ведь и не снял, — этот армянин повалился на пол, взял да и свалился рядом со стойкой. На руке золотой браслет, из толстых ниток золота. Мужчина лежал на полу, и браслет на вытянутой руке был особенно заметен.
Взгляд Альфреда скользнул по книгам, брошюрам и газетам, лежавшим подле кровати. Было совершенно ясно, что идея классовой борьбы есть единственно верная идея. Помимо того, что если уяснить себе классовую структуру, то любое общественное устройство становится понятнее, с идеей этой был связан принцип необходимой обороны, оправдывающий борьбу угнетенных с эксплуататорами. Альфред изучал юриспруденцию и поэтому был в состоянии лучше понять следующее: в мысли о необходимой обороне было заложено спасение для тех, кому не повезло в жизни. Серп и молот — эти знаки в меньшей степени были для него символами труда. Скорее они являли собой священные предметы гнева: молотом можно было бить врага, а серпом — резать.
В минуты особой сентиментальности бывало так, что Альфред, лежа ранним утром в постели, брал в руки брошюры, лежавшие рядом с кроватью, — ему особенно нравились их простые, без каких-либо прикрас, обложки, — и прижимался губами к пыльному и потрескавшемуся картону. Потом он вставал, готовил на кухне завтрак и раскладывал на кровати одежду, в которой собирался на утренний променад. Чаще всего он отправлялся в привокзальное кафе на станции «Зоологический сад», где наблюдал за прибывающими и отъезжающими пассажирами. То, что в его поведении было — или могло быть — что-то смешное и комичное, Альфреду никогда не приходило в голову.
Однажды Альфред вновь отправился на электричке в район Ванзее.
Вот это вилла — настоящий образец великолепия! Здание с белым фронтоном и огромной верандой со стороны озера напоминало ему виллы в коттеджном поселке в районе Веринг в Вене, особенно одну из них. Это отдаленное родство было, однако, единственным, что связывало этот дом с прежней жизнью Альфреда, но кто знает, возможно, именно эта приблизительная и случайная деталь в данном случае была решающей.
Берлинская вилла семейства Баллаков располагалась на мыске, вдававшемся в озеро, с точки зрения ландшафта это была часть Груневальдского леса, отделенная от большого лесного массива широкой улицей, застроенной виллами, и железнодорожным полотном электрички, проложенным несколько в стороне, на приличествующем расстоянии.
Когда мы говорим о семье Баллаков и о вилле Баллаков, то мы, с одной стороны, следуем в этом за Альфредом (он так ее потом называл), однако и согласуемся с тем, как ее называл сам владелец, некий Артур Баллак. Так называемое семейство Баллаков состояло, собственно, всего из одного человека, из Артура Баллака собственной персоной. Все это Альфред выяснит с течением времени и в результате усиленных разысканий.
Хотя в этом доме на Ванзее нередко появлялись дамы, причем известные по кино или по театру, или же по избранному берлинскому обществу, бывали здесь также, как водится в таких домах, многолюдные вечеринки, праздники и приемы в саду, — равно как и рабочие приемы в узком кругу, чаще всего в чисто мужском обществе, наверху, в большой столовой, с продолжением в курительном салоне или в библиотеке, — хозяйки в этом доме, госпожи Баллак или госпожи д-р Баллак, не существовало. Артур Баллак не был женат. Детей у него тоже не было.
Этот самый Артур Баллак не был отпрыском старинного рода или какой-нибудь известной семьи. Он был просто сам по себе, и он обязан был всем этим исключительно самому себе: своим красивым, солидным домом на тихой аллее в Груневальде, своим бюро в городе, в районе Шарлоттенбург, в его наиболее живописном месте, на углу Фазаненштрассе и аллеи Курфюрстендам. Там у входа в дом висела, точнее, была привинчена тяжелыми бронзовыми винтами — и эта деталь напоминала Альфреду о Вольбрюках и о профессорской вилле в Веринге, — массивная доска, слегка тронутая убедительной патиной, с надписью: «Д-р Артур Баллак, адвокат».
Совсем не относится к делу, как и каким образом Баллак стал владельцем такой недвижимости и состоятельным человеком. Упомянем лишь одно: он был, что и составляло основу его адвокатской практики, главным юридическим представителем Немецкого союза промышленников, он консультировал руководство соответствующих предприятий по всем правовым вопросам, выступал как спикер этого союза, представлял интересы промышленности в переговорах с профсоюзами или иными объединениями, которые имели какое-либо влияние на состояние промышленности. Разумеется, то была уже политическая должность, и этот самый Артур Баллак, наряду со своими юридическими навыками, обладал и весьма существенной жилкой политика.
Этот самый Артур Баллак — а как он, кстати, выглядел? Альфреду это должно было быть известно, и он действительно это знал. Он научился вызывать в своем воображении и памяти образ Баллака так, что в любой момент мог описать и представить его, не раздумывая, как будто в глубоком сне. Вообще в связи с этим делом Альфред выучился составлять в своем сознании единый образ вещи, и он сам с удивлением констатировал у себя наличие такой способности — подобно музыканту, который знает, на какую клавишу нажать и каким движением провести по струнам скрипки, чтобы вызвать то или иное звучание, и как соединить этот звук с другими звуками в арабески, фигуры и другие музыкальные формы.
С одной стороны, это была способность к наблюдению, спокойному и хладнокровному; или же надо было просто пошире раскрыть глаза и быть внимательным, в зависимости от ситуации. А затем, во-вторых, и это был следующий шаг, все, что ты пережил и за чем наблюдал, надо было, не пересказывая вслух или про себя, заново воссоздать словно бы из ничего, без всякой цели, — словно всего этого и не происходило на самом деле.
Важнее того, как выглядел Баллак, выражения его лица, его манер было одно обстоятельство, — хотя Альфред никогда не осознавал его до конца, — что он, думая о Баллаке, не мог не завидовать ему. Это не была зависть черная и ядовитая. В представление Альфреда о Баллаке тонко и совершенно незаметно вплетались нити восхищения, которые вскоре начинали отдавать горечью.
Как случилось, что Альфред попал под влияние Баллака и его виллы? Дело было прекрасным летним днем, в ту пору, когда электричка до Ванзее обычно набита семействами, отправляющимися на пляж: дети с надувными резиновыми зверушками, отцы семейств в шортах и рубашках с закатанными рукавами.
Альфред быстро и с раздражением протиснулся сквозь толпу на платформе и двинулся вниз по первой попавшейся улице. Парусники на озере, противоположный берег которого вдали возвышался, словно над морем. Зеленые полосы деревьев и сверкающие островки водной ряби, и огромное белое облако в неподвижном, до звона прозрачном летнем воздухе.
Чем дальше Альфред уходил от станции и человеческой суеты на платформе, тем тише и тише становилось вокруг. Улица, по которой он шел, изгибалась, описывая большую дугу, кроны сосен, растущих с обеих сторон, чуть покачивались высоко в голубом воздухе. Стало совсем тихо, и в глубине садов показались виллы, выходящие фасадами к самой воде.
Вилла Баллака была построена на двух разных уровнях — со стороны сада и со стороны улицы. Это создавало особое приватное пространство, и с улицы не было видно дальней части сада. Возможно, что именно эта тайна и этот способ отгородиться от других и привлекли в первую очередь внимание Альфреда к дому Баллака. Во всем остальном эта вилла не слишком отличалась от других в Груневальде и на Ванзее, которые при всех архитектурных различиях по своим претензиям на значимость, достоинство и значительность весьма были друг на друга похожи.
Вилла Баллака главным фасадом была обращена к улице, она была трехэтажной и окрашена в белый цвет. Светлое и праздничное здание виднелось за деревьями и кронами деревьев. Альфред шел по пустынной улице, песок скрипел под подошвами. Люди из Фракции Красной Армии в эти дни перешли к действиям по ликвидации ведущих деятелей промышленности и политики, представителей системы, как они их называли. Этих людей убивали, потому что надеялись тем самым уязвить и ослабить противника, правящий класс.
«А что было бы, — подумал Альфред, — если бы я, так сказать, выпас этих вот людей, разузнал бы всю подноготную жизни и занятий обитателей такого вот дома, этой, например, виллы?» Едва шевельнувшись в голове, в следующий момент мысль эта поднялась во весь рост. Взгляд Альфреда упал на прикрепленную над почтовым ящиком табличку с фамилией владельца, написанной мелким шрифтом, с расстояния почти неразличимым.
С этого момента наблюдение за виллой Баллака, за адвокатской конторой на Фазаненштрассе и за самим д-ром Баллаком стало средоточием ежедневной программы и занятий Альфреда. По мере продвижения вперед это его предприятие все расширялось и вскоре поглотило все его время, как дневное, так и ночное. Если в самом начале Альфред еще намеревался передать сведения, которые соберет, людям из Фракции, — по каналам, которые, правда, существовали не столько в реальности, сколько в его воображении, — то некоторое время спустя намерения его приобрели самодостаточный характер, и в результате осталась только эта взятая на себя служба, взгляд разведчика, наблюдающего за врагом. С самой первой минуты, — «как странно», — думал иногда и сам Альфред, — он ненавидел Баллака и все, что с ним было связано, и ненависть эта росла день ото дня.
Вилла Баллака, как уже было сказано, фасадом выходила на улицу и располагалась в самой глубине сада. С самого начала, когда он сам еще не видел ту сторону дома, которая была обращена к озеру, и садовую территорию с той стороны, а видел только размытую газетную фотографию виллы, — поводом для этого снимка была одна из летних вечеринок, устроенных Баллаком, — так вот, с самого начала Альфреду стало ясно, что нападающим легче всего проникнуть на виллу с этой стороны, со стороны сада.
Баллак явно не будет сопротивляться и отбиваться. Нет, он попытается спастись бегством. Волосы у него встанут дыбом, а лицо его, все в пятнах от дерматита, вызванного постоянным стрессом и нездоровым образом жизни, моментально покроется мертвенной бледностью. Вот он бежит от нападающих по комнатам виллы, пытается, без серьезной надежды на успех, удержать закрытой то одну, то другую дверь, потом снова бежит, разбрасывая по пути бумаги, оказавшиеся в руках в тот момент, когда на него напали. Нет, он не кричит, не зовет на помощь. В лице его ни кровинки, однако страх не столь силен, чтобы лишить его лицо всяких очертаний. Он умеет держать себя в руках. Возможно, он не представляет себе ясно, что ему в конце концов грозит. Он, возможно, про себя надеется на то, что ему помогут, что его спасут. Подобная публика всегда верит, что для нее есть запасной выход и особые условия.
Вскоре Альфред имел на руках подробный план дома, внутреннего его устройства: слева, рядом с вестибюлем, в который вело несколько ступенек, находилась комната для прислуги, за ней — кухня, далее — с окнами, выходящими на озеро, — столовая. Из столовой открывался прекрасный вид, которым можно было любоваться, выйдя на террасу. Там, у балюстрады, летними вечерами частенько стояли гости, вышедшие глотнуть свежего воздуха после танцулек или побыть в одиночестве, или же, наоборот, с кем-нибудь уединиться.
На этом этаже рядом со столовой располагались также курительная (она же комната для переговоров), игровая комната с бильярдным столом и библиотека.
Парадный зал находился на втором этаже. В него поднимались по лестнице, идущей снизу двумя рукавами, а оттуда, сверху, в сторону озера вниз также вели две лестницы, по левую и по правую сторону, сначала на террасу, а потом далее, в сад. По дорожкам сада бродили группки и парочки гостей, освещаемые светом, падающим из окон и дверей виллы, а также светом двух больших каменных фонарей, установленных на берегу озера. Приемы у Баллака пользовались популярностью, и в газетных разделах светской хроники всегда можно было прочесть, кто там присутствовал.
И Альфред читал светскую хронику. Исходя из этих сведений, он все больше погружался в хитросплетения и взаимосвязи общества, которое было столь же незнакомо ему и чуждо, как коралловый риф в теплом, освещенном луной море. Какие только диковинные вещи ему не встречались!
В ту пору фавориткой Баллака была певица по имени Ванда де Гронгк. Когда-то она была знаменитой оперной дивой. Ее лучшие времена уже миновали, и выступала она теперь лишь на небольших суаре и на песенных вечерах, от участия в которых частенько отказывалась, то ли из-за настроения, то ли оттого, что действительно была не готова. «Ванда!» — кричал Баллак, стоя на открытой лестнице и обращаясь в глубину сада, удаляющегося от дома геометрическими фигурами. Справа и слева от этого французского сада тянулся не тронутый рукой садовника берег, и певица чаще всего прогуливалась по нему босиком, покачивая головой, украшенной толстой косой светлых волос, в развевающихся на ветру одеждах, напевая что-то и время от времени исторгая из себя все новые рулады.
Баллак на самом деле любил эту женщину. Его не смущало, что певица была старше его, Альфред наблюдал однажды в театре, — а он давно уже расширил сферу своих наблюдений за пределы виллы и адвокатской конторы, следя за ним везде и всюду, — как Баллак в полумраке театральной ложи склонил голову и певица, положив руки ему на плечи, запечатлела на его лбу крепкий поцелуй.
Работа, профессия поглощала Баллака максимально. Частенько его секретарша, госпожа Фрезениус, уже в шесть утра поднималась в его спальню, из которой только-только выскользнула певица. Баллак начинал диктовать письмо за письмом, памятные записки и поздравления — все, что стояло на повестке дня. Альфред со своего наблюдательного поста, который часто располагался в лодке, покачивавшейся на волнах озера, видел, как Баллак в полосатой пижаме расхаживает по комнате, в которой уже горел свет, держа бумаги в руке; иногда он останавливался, чтобы обдумать наиболее трудную фразу. Или отпустить одну из своих шуточек по адресу госпожи Фрезениус.
Флигель прислуги находился поодаль от виллы; там по утрам деятельность разгоралась раньше, чем в доме: когда в комнате поварихи зажигался свет, он падал на еще темные дорожки сада.
Чтобы разобраться в запутанном клубке связей и отношений, которые связывали Баллака на разных уровнях с деловыми кругами, видными личностями и обычными людьми, и особенно чтобы отчетливо определить царящие здесь чувства, симпатии и антипатии, Альфред вскоре перешел к тому, что стал делать записи, касающиеся отдельных деталей в поведении этих людей. Эти детали в свою очередь тяготели к соединению друг с другом, поскольку приобретали смысл только из перспективы целого. Так что вскоре к наблюдению за Баллаком у Альфреда прибавились занятия по обработке и анализу результатов.
Уже случалось и так, что он пропускал один или другой день наблюдения, чтобы разобраться в накопленном материале. Он подолгу просиживал за столом и пытался осмыслить ту или иную деталь: был ли руководитель Германского конгресса торгово-промышленных палат, высокий лысый мужчина в пиджаке в облипку, всегда говоривший много и громко и вообще ведущий себя довольно раскованно, однако умевший неусыпно блюсти свои интересы, дружен с доктором Баллаком, как он это сам утверждал и в чем оба они не раз заверяли друг друга? Или это все только расчет? Как переплетались друг с другом человеческие чувства и деловые интересы? Альфред, занятый такими вопросами, вскоре понял, что полной ясности ему не добиться. И он обращался тогда к своей способности вызывать к жизни образы, полуосознанно и полубессознательно, в фантазии, и осмыслять их. Поэтому он часто просиживал ночи напролет за кухонным столом и писал.
По мере продвижения в его усилия добавился словно бы сам по себе и другой, более отвлеченный, но и более точный смысл. Речь шла теперь о том, чтобы выяснить, кем же этот Баллак является на самом деле. Мысли путались, двигались по кругу, раздувались как пузыри: все, что ему удалось увидеть во время своих наблюдений, бесстрастных и бесшумных, как у змеи, быстрых и легких, как у птицы, обрело теперь самодостаточность и зажило собственной жизнью.
Дверная ручка, за которую во второй половине дня, входя в кафе «Кранцлер» на Курфюрстендам, взялась певица де Гронгк, по непонятной причине имела форму папоротника. Баллак помахал певице рукой из автомобиля, который как раз подъезжал к кафе. Деревья, тянувшиеся вдоль улицы, создавали полумрак, словно в лесу. Редкие лучи солнца, отражавшиеся в стеклах витрин, буквально звенели в воздухе, словно звуки флейты. Прохожие шаркали подошвами по брусчатке. Платье певицы там, впереди, в толпе, мелькало перед Альфредом, словно неприметный и поникший парус. Альфред шел за ней. На ходу он прикидывал, как он все это потом зафиксирует на бумаге.
Глава 2
Георг между тем сильно переменился: бесполезно было высматривать в коридорах фирмы молодого человека с гладкой прической и аккуратным пробором — он стал совсем другим.
Начнем с самого важного: у Георга теперь была своя фирма! Еще до окончания университета он — вместе со Штепаником — из тесного помещения бывшей кафешки, в котором они занимались организацией рекламных рассылок, перебрался в офис в престижном квартале: они занимались теперь полным циклом изготовления рекламных материалов, сохранив, впрочем, и функцию их рассылки.
Новая прическа Георга выросла не на пустом месте, он откровенно подражал моде, которая в то время как раз начала распространяться. Изобрел эту прическу один певец-рок-н-рольщик, и теперь она двинулась в массы. Георг превратился в молодого человека, небрежно и самоуверенно идущего по жизни. Усвоив эту манеру, он ее старательно придерживался. Он усвоил, что время поисков себя прошло раз и навсегда. Ты не раздумывая берешь то, что тебе нужно. Если бы его спросили об этом, и если бы у него было время ответить, — ведь времени ему теперь не хватало и становилось все меньше, — то он бы, скорее всего, сказал: «А что вы, собственно, имеете в виду?» — и с улыбкой на губах, с опущенной и погруженной в раздумья головой, немного враскачку, прошествовал бы далее по коридору фирмы.
Мать Георга давно уже не работала официанткой и теперь постоянно жила в Вене. В один прекрасный день, когда она приехала навестить Георга, он обратился к ней с вопросом:
— Мама, почему бы тебе не остаться в Вене?
— Не слишком ли дорого это тебе обойдется?
Она теперь появлялась на террасе не раньше одиннадцати, а то и в половине двенадцатого. Жила она на первом этаже дома, который между тем — основательно залезши в долги — приобрел Георг. Дом стоял на склоне, и перепад высот был здесь весьма существенный: со стороны сада имелся еще один этаж, и фасада у дома было два — со стороны улицы и со стороны сада, и выходов с лестницы было тоже два. Таким образом мать Георга тоже стала вроде как домовладелицей, подобно домовладельцу Георгу, хотя она, если смотреть со стороны улицы, жила в нижней части дома, то есть в подвале.
В то время как Георг полностью погрузился в дела расширяющейся фирмы, распространившей свою деятельность и на ближайшее зарубежье, мать его посвятила свое время искусству. Каждый вечер она проводила в опере, в Бургтеатре или в Концертном доме. Каждый день ее видели то на вернисаже, то на вечере камерной музыки, то еще на каком-нибудь подобном мероприятии. Она с удовольствием отчитывалась перед сыном о своих впечатлениях, либо за совместным ланчем, либо по воскресеньям, когда у них было больше времени, и таким образом занятия ее приобрели дополнительный смысл, дескать, она все это делает, как бы представительствуя за сына: «У него-то ведь времени свободного совсем нет!»
Подобно тому, как Георг превратился в шустрого делового человека, так и она стала настоящей дамой. Удивительно было наблюдать, как они росли и изменялись, подобно вундеркиндам, и как они поддерживали друг с другом отношения. Все выглядело так, словно они в свой старый договор, заключенный еще в Клагенфурте, когда Георг был ребенком, всего-навсего добавили несколько новых пунктов, напечатанных мелким шрифтом, ибо в основном их отношения не переменились.
Когда Георг часов в двенадцать заходил к матери («Спустись ко мне!» — говорила она, или: «Будь так добр и загляни ко мне!»), он шел легкой и одновременно небрежно-шаркающей походкой, едва касаясь рукой перил. Георг заходил к матери только тогда, когда был в отличном настроении. А если и случалось порой, что настроение у него было не из лучших, то сам факт, что он идет к матери, приводил его в отличное настроение.
Мать к тому времени обычно сидела в большой комнате, широкая двустворчатая дверь которой в сторону сада была открыта, отчего комната приобретала уютное сходство с полукруглой бухтой с причалом, она сидела за своим любимым столиком, стоявшим в стороне от диванного гарнитура, и с этой позиции озирала все свои владения. Иногда она листала какой-нибудь каталог или погружалась в журнал мод.
— Посмотри-ка сюда, — говорила она сыну и обращала его внимание на какую-нибудь иллюстрацию или статью в журнале. Он вежливо склонялся к ней, ладонью откидывал прядь своих длинных волос и погружался в созерцание страницы, на которую указывала мать.
Она порой поднимала глаза и смотрела на него. Как она любила своего сына! Как Георг любил этот взгляд матери, свидетельствующий о родстве их душ!
У нее были серые глаза, неброские и не очень красивые. Но когда в них светился огонек и когда они смотрели на него, они были прекраснее всех глаз на свете.
Он подсел к ней за стол, и пока девушка-прислуга в соседней комнатке накрывала обед, — мать считала своим долгом быть экономной и экономно жить, этому она научилась у одной богатой семьи на Вёртерзее, — Георг вкратце рассказывал ей о делах фирмы. Говорил он сжато, касаясь только самого важного. Мать слушала его внимательно и с легким нетерпением, а потом задавала несколько вопросов. Внимание ее концентрировалось только на одном: была ли операция успешной или нет? Ее не проведешь. В этом она была безжалостна.
Однажды мать вбила себе в голову, что в саду надо поставить какую-нибудь красивую вещь, что-нибудь для красоты. Самое верное — какую-нибудь скульптуру! Произведение искусства! У живой изгороди из розовых кустов в конце сада, на расстоянии нескольких шагов от нее, следует установить скульптуру, лицом обращенную к террасе.
— Вот увидишь, как все это будет выглядеть на фоне зеленого газона!
И хотя Георг порой жаловался Штепанику, своему компаньону, по поводу долгов банку, которые были весьма опасны для их фирмы и для них самих, ведь достаточно было одной деловой неудачи, разрыва с одним из крупных клиентов или неуплаты по одному из кредитов, чтобы их платежный баланс затрещал по швам, плакался в моменты душевной слабости, то вот траты, связанные с матерью, были для него милы и дороги.
Чаще всего по ночам, когда они со Штепаником возвращались с какой-нибудь вечеринки или выметались из бара, он жаловался Лукасу на ничтожный запас капитала компании, на шаткость и слабость их положения, а потом, когда друг его в ответ разражался уничижительным смехом, клал ему на плечи руки, обмякшие и обессиленные, и с пьяной настойчивостью говорил ему прямо в лицо: «Вот увидишь! Вот увидишь!»
После обеда Георг вместе с матерью выходил в сад. Когда он рассказывал ей о своих делах, он частенько дивился тому, насколько она в этом разбирается. Она, правда, как уже было сказано, не позволяла себе никаких реплик по поводу его рассказов. То есть он не мог понять, что она обо всем этом про себя думала. Однако по ее обобщающим вопросам, коротким и точным, было ясно, что она его понимает, и это его здорово поддерживало. «Тебе надо руководить фирмой!» — говаривал он иногда, полушутя-полусерьезно, однако она только отмахивалась от его слов, опустив взгляд, расправляла юбку или нервно поглаживала золотые кольца на руке.
— Вот здесь! Вот здесь надо поставить скульптуру! — сказала мать и, стоя в летнем платье и в туфлях на высоких каблуках перед розовой изгородью, ткнула рукой вниз.
— Ты уже знаешь, какая это будет скульптура?
Мать отрицательно покачала головой.
— Я еще раздумываю. Может, изображение блудного сына?
— Блудного сына?
Георг с робостью отметил про себя, что выглядит мать по-прежнему ослепительно. Мысль о том, что она когда-нибудь умрет, приводила его в ужас. С другой стороны, он не без удовлетворения отмечал намечающуюся дряблость ее кожи на руках и ногах. Когда мать поднимала руку, чтобы показать на что-то, или когда она, как это ей было свойственно, быстро поворачивалась на каблуках, то ослабшие мышцы на руках и ногах тряслись и болтались.
Она сторонилась общества. При ее увлеченности искусством — поистине искусный трюк! Ее волосы, тронутые серебром седины и теперь переливающиеся теплыми, рыжеватыми тонами, были роскошными, хотя, если пропустить прядь волос сквозь пальцы, ощущалась их некоторая проволочная жесткость. Картину дополняли ногти, покрытые красным лаком и немного напоминавшие когти птицы.
Иногда, и Георг отдавал себе в этом отчет, ее движения были некрасивыми. Она шаркала при ходьбе, и когда она была уверена, что никто за ней не наблюдает, слегка приволакивала ногу. Возможно, эта привычка осталась с тех пор, когда она работала официанткой. Она тогда испортила себе ноги дешевой обувью.
Подруг у матери не было, не говоря уже о друге. Она не молилась, в церковь не ходила. По залам музеев бродила в одиночестве. В художественных галереях она терпела сопровождение и пояснения персонала исключительно потому, что так было нужно, чтобы не прослыть грубиянкой. На концерты она приходила позже всех и уходила самая первая, не дожидаясь, пока музыканты отложат свои инструменты. Попытки пригласить ее куда-нибудь приватно или вовлечь ее в какое-нибудь совместное мероприятие с самого начала были обречены на неудачу.
— Я люблю быть одна, — говорила она и добавляла: — У меня есть сын!
После десерта она, откинувшись в удобном кресле и слегка утомленная беседой, с улыбкой глядела на Георга. Это была добрая, приветливая, полная приязни улыбка. Она появлялась неожиданно, быстро, — и улетучивалась также мгновенно, стоило матери заметить, что Георг принимал улыбку на свой счет и грелся в ее лучах, так что он никогда не мог быть уверенным в том, что несла ему эта улыбка и вообще ему ли она была адресована.
Глава 3
Георг был неотразим в обхождении с клиентами. У него была особая манера приветствовать их в комнате для переговоров и улыбаться им. Даже те из них, кто и сам, говоря прозаическим языком, проходил курсы по работе с клиентами и прочитал немало руководств и рекомендаций на этот счет, не могли устоять перед его шармом. При этом все его обаяние основывалось, как он сам иногда не без хвастовства признавался в узком кругу, на простейшем трюке:
— Никогда не иди навстречу клиенту! Опиши вокруг него круг! И улыбайся, улыбайся, улыбайся во всю мочь! Но не смотри при этом ему в глаза! Всегда смотри чуть выше!
Лукас не отличался особым умением уговаривать клиентов, забалтывать их, как выражался Георг. Во-первых, потому, что он вообще редко занимался клиентами. Во-вторых же, и это была главная причина, он не умел, в отличие от Георга, подлаживаться под стиль и взгляды нужного собеседника так, чтобы в конце беседы у того было ощущение, что ему предложили то, чего он и сам всегда хотел. Лукас тяжел на подъем, считал про себя Георг, неповоротлив и неприветлив!
А вот у женщин он имел успех. Однако это, вопреки распространенному мнению, делам компании не помогало. Напротив, эти истории часто приводили к скандалам и бесконечно тянущимся последствиям. Самый существенный вклад, который Лукас вносил в общее дело, был вкладом косвенным. По вечерам друзья уединялись в кабинете у Георга, чтобы обсудить проведенные сделки. Георг, разумеется, и до того, как одобрительная улыбка появлялась на губах Лукаса, знал, что ему удалось провернуть сделку; он понимал это сразу — или, по крайней мере, в тот момент, когда клиент соглашался на то, в чем Георг его убеждал. Однако улыбка Лукаса подбадривала Георга, она была своего рода печатью на подписанном договоре. Она придавала ему силы и побуждала к тому, чтобы завтра снова продолжить путь к успеху.
Иногда вечерами Георг добирался до своей комнаты и безотлагательно ложился спасть. Но сразу он уснуть не мог, в голове его нескончаемой чередой тянулись мысли, роились планы, проекты. За одной мыслью следовала другая — и поток этот все рос и рос.
С Лукасом дело обстояло совсем иначе.
— Георг, какой же ты карьерист! — говаривал он. Георг никому, кроме него, не позволил бы сказать такое ему в лицо. Когда Лукас говорил ему подобное, его сразу охватывала усталость, и чтобы справиться с этим тягостным настроением, он отшучивался. Оба они смеялись, и Лукас принимался рассказывать о своей новой подружке, с которой он в воскресенье познакомился на ипподроме.
Преимущество их бизнеса заключалось в том, что он был изначально ориентирован на расширение и распространение поля их деятельности. В те годы рекламное дело только начинало развиваться, поэтому никто не обращал внимания на их весьма юный возраст, наоборот, это было им только на руку.
Вечера, которые они проводили вместе, Штепаник обычно планировал заранее. Это было его коньком. Обычно начиналось все с того, что они ужинали вместе с кем-нибудь из важных клиентов. Георг за едой обсуждал дела, пускаясь в фантазии и импровизации. Лукас же заказывал вино и следил за тем, чтобы и с едой, и с атмосферой гостеприимства все было в лучшем виде.
Пожалуй, именно эта идея, эти разговоры о мечтах и больших планах в присутствии клиентов были идеальным началом для их фирмы: у Георга, который еще ощущал усталость после целого рабочего дня в конторе, а также под влиянием хорошей еды и вина, возникало ощущение, что он благодаря своим фантазиям и придумкам способен справиться с любым делом, что он своими идеями может привести в движение и двигать вперед весь мир. Делу помогало то, что Лукас внимательно слушал его, вникая в эти идеи и подхватывая их. Это как в цирке: атлет, артист-акробат высоко под куполом совершает прыжок с раскачивающейся трапеции, и он летит вниз, без всякой поддержки и страховки, — но вот навстречу ему протягиваются сильные и надежные руки друга, его партнера по номеру, и он спасен.
Лукас за столом обычно молчал, он лишь подхватывал то одно, то другое замечание Георга или возражал ему, и это возражение давало возможность Георгу еще отчетливее и живописнее представить свои аргументы.
Нет, когда Георг совершал прыжок, он вовсе не задумывался о спасительной хватке своего друга. Это не была игра с заранее припасенными козырями! Если хочешь чего-то достигнуть, надо рисковать всем, нельзя положиться ни на что, кроме как на себя самого. Да, нужно быть готовым ко всему, нужно быть готовым умереть.
— Хватит размазывать кашу, — говорил обычно Лукас, когда Георг начинал разглагольствовать в таком вот духе, и сам Георг про себя задавался вопросом, не слишком ли сильно он загнул?
Вторую часть вечера, когда предполагалось расслабиться, они обычно начинали в маленьком баре гостиницы. Они еще раз проговаривали все события прошедшего дня. Лукас о делах мог говорить бесконечно. А о чем им было еще друг с другом говорить?
— Какую выгоду это даст? — спрашивал Лукас. В этом он был похож на мать Георга. В самом начале, в свое время, он вложил в фирму много денег. Однако он и брал из нее больше, чем положено.
Когда они, совершив поход по заведениям, в которых богатые молодые люди тусовались вперемежку со всякого рода полуночниками, завсегдатаями и бездельниками, возвращались к той же самой стойке, в тот же бар, с которого начинали свой вечерний поход, было уже за полночь, и тогда уже Лукас обнимал за плечи друга, к тому времени основательно набравшегося и впадавшего в отчаяние под воздействием спиртного.
Георг сидел у стойки и пытался подобрать слова. Он все хотел что-то объяснить. Он хотел объяснить что-то и начинал фразу, снова ее обрывая.
— Ну, давай, выкладывай же! — говорил ему Лукас, которому поведение друга уже действовало на нервы, а потом с помощью портье, бармена или еще кого-нибудь доставлял Георга до такси.
Во время одного из своих ночных туров они случайно и среди прочих познакомились с Лейтомерицким. Имя его было им, разумеется, известно из газет, из делового мира, в котором они вращались, из историй, которые о нем распространялись. Лейтомерицкий — это была фигура! Разумеется, и темные стороны его жизни не остались тайной. К тому же и сам Лейтомерицкий любил выставлять себя большим жизнелюбом, ночным гулякой и юбочником.
Поначалу возникла само собой разумеющаяся идея — попытаться стать партнерами Лейтомерицкого в его торговле автомобилями и во всем, что с этим было связано. Он, к примеру, включил в сферу своих деловых интересов и туристический бизнес, весь туризм вообще. Возможно, здесь найдутся точки соприкосновения? Все, что Лейтомерицкий сказал по этому поводу той ночью, держа бокал шампанского в руке и облокотившись на стойку бара, было: «Вы отлично подходите друг к другу, вы оба!»
С Лукасом он все же сошелся потом поближе, на почве игровых интересов.
Чем старше становился Лейто, тем больше его интерес перемещался от женщин к игре. Он по-прежнему еще неплохо выглядел, этот Лейтомерицкий, — в чем-то даже лучше, чем прежде. Фигура его весьма округлилась и посолиднела, отвислый живот выпирал из-под одежды, плечи пиджака из тончайшего сукна подбиты ватой, лицо красное, налитое изнутри кровью, а снаружи будто залитое воском или каким-то другим прозрачным материалом и запечатанное от любых внешних воздействий.
Глаза у Лейто были большие и сумрачные, и они, равно как и дряблые мешки под глазами, вполне соответствовали его носу, который с годами рос и рос и теперь торчал как клюв, огромный и жуткий, бросающийся в глаза.
На голом черепе его то тут, то там еще встречались редкие завитушки рыжеватых, седых и серо-стальных волос. Голова его была постоянно окутана облаком сигаретного дыма, который Лейто время от времени разгонял рукой.
Он по-прежнему отлично танцевал. По-прежнему приятно было наблюдать, как он танцует с хорошей партнершей. И если раньше танец был для него чаще всего мостиком, ведущим к женщине в постель, то теперь он был лишь привычкой и стилем, его отличавшим. Ничего лучше ему не приходило в голову.
— С чего ты связался с этим маменькиным сынком? — спросил он Лукаса. Он имел в виду конечно Георга, и Лейтомерицкий произнес эти слова очень громко, чтобы пробиться сквозь шум, создаваемый музыкой и танцующими парами. Он наклонился к Лукасу: — Ты, — собственно, ты вполне мог бы быть моим сыном.
Лукас махнул зажатой в руке банкнотой, подзывая барменшу, — он терпеть не мог панибратских излияний, — однако Лейто перехватил его руку, давая понять, что заплатит за обоих сам.
— Они запишут на мой счет, — сказал он, с трудом ворочая языком. — У меня есть сын, — продолжил он. Он произнес эти слова так тихо, что Штепаник потом спрашивал себя, не почудилось ли ему это. — Но он меня и знать не желает!
Одному они у него все же научились: если раньше политику они в своих головах и планах рассматривали всего лишь как величину, заслуживающую учета, то теперь с подачи Лейтомерицкого они в этом еще более укрепились. Для них политика была словно погода. Что касалось Лейтомерицкого, то он, с одной стороны, рассматривал политику как кулису для своих дел и, следовательно, как нечто вполне предсказуемое. С другой же стороны, она, в общем и целом, была вопросом судьбы, была связана с божьим промыслом, с чем-то таинственным и устрашающим, что приходилось просто принимать, против чего невозможно было восстать и с чем лучше всего было не связываться вовсе.
Лейто и Лукас рука об руку, под кренделек, спускались, пошатываясь, по ступеням лестницы на выходе из казино в Бадене. Их этим вечером давно уже вежливо попросили из игрового зала, галстуки у обоих давно сползли на бок. Оба они проигрались в пух и прах.
— Ты мне нравишься. Ты мне нравишься! — все повторял Лейто, хватаясь за Лукаса. — Береги себя!
В парке на посыпанной гравием дорожке Лейтомерицкий застыл как вкопанный. В призрачном свете уличного фонаря Лукас увидел, как у Лейто по щекам потекли слезы.
Глава 4
Однажды вечером Георг неожиданно встретил Клару. Это было в Народном саду, в танцевальном кафе-павильоне, на закрытой вечеринке. Клара сидела на обтянутой плюшем скамеечке в фойе, вокруг нее — расфуфыренные молодые девчонки и лощеные франты, богатые или ищущие своего счастья, и гляделась в маленькое ручное зеркальце. Георг узнал ее сразу. Она поначалу несколько смешалась, когда заметила на себе его пристальный взгляд, потом широко и сердечно улыбнулась ему и сказала: «Ну и как?!»
Говоря по правде, Георг, увидев Клару, поначалу ускорил шаги, чтобы поскорее исчезнуть. Потом он развернулся и медленно подошел к ней.
Возможно, Клара увидела его еще раньше и лишь для маскировки вынула зеркальце из сумочки?
Некоторое время спустя, выпив в полутемной нише танцзала по бокалу вина, они вышли в Народный сад и пошли по дорожке в сторону центра города, и Клара при этом разливалась смехом, вела себя раскованно и болтала без умолку, прижимаясь к Георгу, а потом вдруг остановилась и показала на звезды в небе: «Красота, правда ведь?» — и они вновь обрели друг друга.
Была ранняя весна, их окружал теплый ласковый вечер, погруженный в легкую дымку тумана, редкие звезды были широко разбросаны по небу.
— Видны только самые яркие, — сказала Клара, — те, что светят сильнее всех.
Георг рассказал ей о своей фирме, о своих делах, — он рассказал ей и о том, о чем как раз сейчас думал и что ей, как он полагал, будет интересно.
— А я все еще учусь, — сказала Клара, — только не спрашивай меня, чему.
— Приходи к нам на собеседование! — сказал Георг.
Конечно же, решающим было обстоятельство, что Георг когда-то — много-много лет назад, как ему показалось, хотя на самом-то деле прошло всего лет пять, — что он ее тогда, как он сам про себя выразился, очень уважал: и хотя он тогда не овладел ею как женщиной, ему все же представлялось, что он как будто возвращается в привычную колею, в объятия прежней возлюбленной, да, возлюбленной, которая ему когда-то слегка поднадоела. Но он к ней привык, и в ее присутствии, при взгляде на нее в нем вновь что-то загорается, неяркий, ненадежный свет, свечение, о котором нельзя точно сказать, что оно такое: вспышка приязни или всего лишь воспоминание о прежней привязанности, сладостное, обманчивое и, в конечном счете, лишенное содержания.
С некоторым удивлением Георг в этот первый вечер в Народном саду отметил, что Клара по-прежнему выше его ростом. Всего сантиметра на три, но выше. Как прежде! Ее узкие ладошки и запястья, выглядывавшие, как ему представилось, как маленькие зверьки из рукавов ее пиджака, выглядели болезненно. Хотя вообще-то она совсем не выглядела больной и слабой, наоборот, скорее сильной. Не слишком симпатичной и несколько шумной. Она много смеялась, и смех ее звучал теперь не так, как раньше. Он не смог бы сказать сразу, как она смеялась раньше. Но иначе, это точно.
А еще он удивился, когда заметил две складки у ее губ, справа и слева. Эти губы были ему так знакомы! Как часто он не просто смотрел на них, а изучал их со всей страстью: для него они были все равно что отдельное тело, отдельная часть земли, нечто, что существует само по себе, по собственным законам столь же явственно, как вишни или яблоки, свисающие с ветки. Как радуга на небе.
— Что ты смотришь на меня так? — спросила Клара и остановилась.
— Не знаю, — сказал Георг, покачал головой и попытался высвободить руку.
Клара подошла к делу очень целеустремленно. Хотя Георг, загруженный и отвлеченный своими разнообразными делами по работе, убеждал себя, что произошедшее — всего лишь случайность, а то и минутная слабость с его стороны, вскоре они стали видеться каждый день. В понедельник в кафе «Шварценберг», во вторник — за ужином в ресторане «Михаэлерброй», в среду на спектакле в Академическом театре, а в четверг за молодым вином в трактире на окраине Вены. По воскресеньям вместе ходили в музей или на концерт. Клара все заранее планировала и организовывала до мелочей. Если что-то не складывалось, то возникающая пауза была не по душе Георгу, и он, чтобы избежать неловкой ситуации, сам быстро предлагал что-нибудь подходящее.
На свидания Клара всегда опаздывала. Казалось, что она вдруг забывала о встрече, которую сама же и назначила. Правда, потом она словоохотливо и мило извинялась перед Георгом, — и всякий раз находились весьма уважительные причины, ее задержавшие, — и в конце концов она примирительно гладила Георга по руке, по рукаву его пиджака и тихо, словно про себя, произносила: «Ты хороший!»
Если бы Георг внимательнее присмотрелся к себе, он бы заметил, что ждет опаздывающую Клару не равнодушно и со скукой, вовсе наоборот, он на самом деле всегда приходил раньше назначенного часа, то есть начинал ждать ее еще до того, как она должна была появиться. Когда же стрелки часов показывали условленное время, — например, стрелки больших часов в кафе «Шварценберг», стекло которых затуманилось от сигаретного дыма, показывали восемь вечера, — то его охватывало сильное беспокойство, а потом, вдруг и сразу, он начинал злиться. «Мне ведь действительно есть чем заняться, — говорил он себе, — чего я тут собственно дожидаюсь!»
Когда же Клара наконец появлялась, раздражение его как рукой снимало. Он относил это на счет своего характера: прирожденная вежливость и умение контролировать себя. Если все же в нем оставалась хоть толика злости, хоть малая искорка неудовольствия, — он, например, глядел ей в лицо, обрамленное безупречно уложенной прической, глядел на ее губы, с которых срывался поток взволнованных оправданий, и ему были неприятны ее зубы, или кольцо на ее пальце, или же ее в целом невзрачный вид, — то он объяснял себе это тем, что вовсе не привык кого-либо дожидаться. Даже его мать не позволяла себе опаздывать!
Матушка его относилась к новой привязанности Георга с одобрением. Она всегда считала, что в доме должна быть хозяйка. Клару она никогда раньше не видела, однако самое важное о ней она быстро выудила из Георга. Мать не имела ничего против того, что он встречается с девушкой, с молодой женщиной из хорошей семьи, ходит с ней на концерты и на танцы. Уж это явно лучше его многочисленных походов по питейным заведениям в обществе Штепаника! Этот Штепаник, этот, с позволения сказать, компаньон Георга давно был для нее как бельмо на глазу.
— Очень хорошо, что ты бываешь на людях! — сказала она Георгу. И поскольку мать не слишком настаивала на своем мнении в отношениях сына с женщинами, и так как о самом важном речи еще не шло, — здесь она заняла выжидательную позицию, — то Георг чувствовал себя уверенно и не ощущал давления с ее стороны.
Гуляя по украшенному к Рождеству центру города — повсюду рождественские звезды и еловые ветки, — Георг и Клара ходили по магазинам и покупали подарки, — они зашли в кофейню. Они устроились в передней части зала, за столиком в одной из оконных ниш, спиной к переполненному кафе, официант как раз принес им свежие булочки, политые горячим и вкусно пахнущим ванильным соусом. Клара, помешивая ложечкой кофе, глядела сквозь окно на погруженную в сумрак улочку. И вдруг из глаз ее полились слезы.
Да, крупные и, как показалось Георгу, жгучие слезы брызнули из ее глаз, покатились по щекам, покрытым косметикой, и их было не остановить носовым платком, смятым в мягкий, белый комок.
В первое мгновение Георг растерялся. Эти слезы никак не соответствовали задиристому характеру Клары и нынешнему ее приподнятому настроению; он, по крайней мере, так ее воспринимал. Это как-то действительно чересчур! Он заметил, что люди за соседними столиками стали переглядываться. В конце концов, скоро ведь Рождество. Зачем устраивать сцену? К чему это нервное перенапряжение в столь уютное и покойное время? Он у себя на работе уже подписал сотню поздравлений в разные адреса. Что ему с ней теперь делать?
Когда Клара, прерывая свой рассказ краткими всплесками отчаяния, поведала ему, что чувствует себя такой одинокой, — с родителями она не видится, они, кстати, разошлись, без официального развода, мирно; как говорится, каждый пошел своим путем… «Мама делает все, что захочет. А друзей, настоящих друзей, у меня нет. Я осталась совсем одна!» — сказала Клара, вдруг успокоившись, деловитым и трезвым тоном. И тогда он непроизвольно протянул руку и погладил ее по щеке.
— А я разве не считаюсь? — спросил он, ощущая теплую волну нежности, нахлынувшую вдруг; некоторую сонливость, которую эта волна вызвала, быстро развеяла улыбка Клары. Он был к ней все же далеко не равнодушен! Он отметил про себя, как он, задавая свой вопрос, пристально смотрел Кларе в глаза, что он был по-своему добр к ней, как никогда и ни к кому другому. Может, это и есть любовь?
Несколько дней спустя, в новогоднюю ночь, он провожал ее в утренних сумерках домой, в ее квартиру, в которой еще ни разу не бывал. Он даже не знал, что она больше не живет на вилле родителей.
Клара, совсем потерявшая голову от выпитого шампанского, стала снимать с себя всю одежду прямо в прихожей.
— Что ты уставился как идиот? — прикрикнула она на Георга. — Никогда женщину не видел?
На кухне она достала зеркальце, то самое, в которое смотрелась при их встрече в ресторане в Народном саду, насыпала на стекло две широкие полоски кокаина и втянула в себя порошок с помощью свернутой в трубочку купюры, прежде чем предложить Георгу сделать то же самое.
Все получилось само собой, как по маслу, они не создавали друг другу помех, не подстегивали друг друга и во всем совпадали. В самом конце, — Клара впала в дикий раж, она оседлала Георга и продолжала прыгать на нем, хотя у него все уже обмякло, — она громко и мечтательно-проникновенно произнесла: «Ты трахаешься совсем недурно». Обоих это ужасно рассмешило, и они долго не могли остановиться. Когда спустя какое-то время они снова катались по постели, вцепившись и влипнув друг в друга, Георг думал про себя, с удивлением и восторгом: «Я ведь настоящий мужчина!»
Соблазненный этими событиями, а для Георга самым соблазнительным был прежде всего успех, он все больше погружался в чувство, которое было ему дорого и которое можно было бы назвать любовью. Когда он видел Клару, идущую к нему навстречу, сердце его начинало биться сильнее. Он ценил то, что она у него есть. Он оберегал ее, баловал и ласкал в своих мыслях и фантазиях. И в реальности он вел себя точно так же, страстно целовал Клару, нежно проводил рукой по волосам, гладил ее тело.
Клара же старалась не замечать, убаюканная и влекомая к своему Георгу его постоянными ласками, вводящая себя в заблуждение этой обманчивой очевидностью, — не замечать, что Георг для нее, собственно, ничего не значит, что когда она увидела его в Народном саду, он показался ей смешным и нелепым: скучный и мелочный карьерист, полностью поглощенный своими ничтожными интересами. Незначительный мужчина, мужчина без ауры. В конце концов, мужчина, не представляющий себе, к чему и зачем стремиться в этой жизни. Ничему не научившийся.
Чем она могла быть для такого человека? В те мгновения, когда она была откровенна сама с собой, а такое случалось с Кларой чаще, чем с Георгом, она говорила себе, и связано это было исключительно с желанием влиять на него, проявлять свою власть: «Я для него ничего не значу! Я для него совсем ничто».
Однако с каким удовольствием она отдавалась его объятиям, как сладко было купаться в его тепле, трепетном отношении и нежности! Ей нравилось идти рядом с ним по улице в лучах яркого солнца, говорить с ним и шутить, чувствовать его добропорядочную и почти старомодную предупредительность, слышать его голос, в котором постоянно звучало волнение и интерес к ней! Ей казалось тогда, что Георг словно под хмельком, и он в самом деле чувствовал опьянение. Правда, оно было вызвано не ее присутствием, не ее сущностью, как она наедине с собой и в трезвой памяти себе в этом признавалась. Ах, ну и что с того!
Иногда ей удавалось увидеть их отношения вполне с деловой точки зрения и вполне схематически, как своего рода примитивную меновую торговлю: я даю ему вот это, а он мне вот это. Однако такие мысли причиняли ей сильную боль, и она, устало и в недовольстве собой, говорила: хватит, прекрати сейчас же!
Георг рядом с Кларой ощущал уверенность, которая была ему знакома только в ситуациях, когда он все держал под контролем. Обычно же он жил, охваченный постоянным страхом, что вдруг он пропадет, растворится. Да, в одно мгновение. Раз, и его нет. Поэтому было полностью извинительно, что он ставил в заслугу исключительно себе, а не Кларе то ощущение силы, ощущение триумфа, которое придавали ему ее внимание и привязанность. Ощущение власти, которой он располагал и в которой еще не до конца был уверен. В любом случае Клара была в этом посредницей и свидетельницей: а стало быть, он ее любил.
Им вместе было много чем заняться. Как уже сказано, они по инициативе Клары постоянно где-то бывали: у знакомых, на концертах и выставках, — нередко вместе с матерью Георга. Мать постепенно нашла с Кларой общий язык и допустила ее в свое общество, одарила доверием. Так образовалось еще одно дополнительное звено, которое укрепляло их взаимное существование.
После совместного послеполуденного кофе или же после совместного ужина или воскресного обеда мать быстро раскланивалась и удалялась к себе. Оставленные наедине друг с другом, Георг и Клара сразу же отправлялись в постель. Так было условлено. Они трахались часами напролет, снова и снова. Голова у Георга затуманивалась очень медленно, намного медленней, чем у Клары. Однако в конце концов они сливались в одно целое в яростном стремлении забыться, потные и обессилевшие, но довольные и счастливые.
Однажды Георг в такой вот ситуации спросил Клару, не хочет ли она от него ребенка. Клара с мокрыми от пота волосами, — глаза сухие и воспаленные, словно бы впавшие, — посмотрела на него с непониманием во взоре. Потом она выпрямилась в постели и вместо ответа постучала себе пальцем по лбу:
— Ты что, с ума сошел?!
Тогда, совершенно неожиданно, пришло письмо от Альфреда. От Альфреда! Секретарша вертела в руках конверт, вопросительно глядя на Георга. Георг не слышал об Альфреде целую вечность, он его почти забыл.
Содержание письма тоже было довольно нелепым: «Возможно, ты обо мне больше никогда не услышишь. Но сегодня мне хочется написать тебе. Я часто вспоминаю наше детство, нашу жизнь в Вене. Куда только ушло это время?»
Прочитав эту строчку, Георг отложил письмо в сторону. Как только он увидел конверт с адресом Георга, он сразу подумал о Кларе. Нет, ей он письмо не покажет, он ей даже ни слова не скажет об этом письме. Письмо ее только расстроит.
«Помнишь, — писал Альфред, — кукурузные поля, мимо которых мы летом ездили на речку? Помнишь камни, которыми было выстлано дно реки и до которых мы доныривали? Помнишь, какими по-людоедски зелеными выглядели кукурузные поля под палящим солнцем?
Я до сих пор помню, каким мягким и шелковистым было дерево лестницы, по которой мы спускались к воде. Настолько гладким и мягким, что ты забывал про осторожность и про отколовшуюся острую щепку, которая могла вонзиться в ногу.
Когда мы смотрели на воду, она отливала зеленым цветом, и она текла свободно и беззаконно. Поручни лестницы в той точке, где они входили в воду, словно бы переламывались и по косой вели дальше, в глубину.
Мы без устали барахтались и плавали! Словно собаки.
А течение было такое тихое, что на поверхности его было совсем незаметно. Но оно увлекало за собой все и вся. Ветка, брошенная в воду, стремительно исчезала из виду.
Я до сих пор слышу этот треск, когда срываешь налившийся початок кукурузы со стебля. Я до сих пор помню, что обдирать листья надо осторожно, чтобы кромкой не порезать палец. Если взять кукурузный лист в руки, то зелень его в общем-то выглядит сероватой. По листу словно растянута паутина.
Я до сих пор помню следы, которые оставались на деревянных досках от мокрых плавок. И по ним сразу же можно было угадать, кто тут сидел, девочка или мальчик.
Помнишь ли ты такие большие серьги, которые носила одна из девочек постарше, и как мы удивлялись, узнав, что их ей подарил один взрослый парень из тех, что по вечерам, после работы, прыгали в воду с трамплина? А помнишь, как мы обнаружили, что у девочек постарше под мышками растут волосы? — Все эти воспоминания меня теперь снова занимают!
Как ты думаешь, стоит ли попытаться эти, как бы сказать, души вновь вызвать к жизни, вновь воссоздать эти тела, стоит ли ворожить, чтобы остановилось время?»
«Нет, это все явно не для Клары. Не говорю уж о прежних ее сумасбродствах». Он спрятал письмо в полупустой ящик письменного стола, где хранился только обрывок бечевки, несколько мелких монет и сломанная расческа.
Штепанику дела не было до того, что Георг сошелся с Кларой. Как только Георг познакомил его с ней, у Лукаса сразу же сложилось непоколебимое суждение. Он по-дружески пожал ей руку и больше старался не попадаться ей на глаза. Это вполне ему удавалось, тем более что и Клара не испытывала интереса к общению с ним. Георг и не пытался свести их друг с другом.
Неприятнее была для Лукаса та неприязнь, основательная и неизбывная, которую испытывала к нему мать Георга. Он знал, что она его не выносит, терпеть его не может. «Дурная компания!» Ей мечталось, что Георг разорвет отношения с Лукасом. Однако Георг ей такого удовольствия не доставил. Хотя когда они оставались с глазу на глаз, он глухо соглашался с тем, что она права, то ли по своей профессиональной бесхарактерности, то ли потому, что не хотел причинять ей боль. Но последствий это никаких не имело и говорилось лишь затем, чтобы успокоить мать.
И прохладное отношение Клары к Лукасу не действовало на Георга. «Что ты против него имеешь?» — спрашивал он иногда. Однако вопрос этот был скорее риторический, и было ясно, что ответа он не ждет. Из Клары все равно ничего было не вытянуть. «Не знаю, что ты в нем находишь» — говорила она, морща лоб. Других слов она для Лукаса не находила.
Впрочем, Георг и сам не мог сказать точно, каковы его отношения с Лукасом. Они ведь вместе уже много лет, и отношение к нему в некоторых аспектах совсем не изменилось. Георг по-прежнему дивился тому, сколь покорно он подчинялся порой приятелю и со сколь многим в нем вполне мирился.
Однако чем дольше Георг общался с Кларой — впрочем, это общение по времени совпало с той порой, когда жизнь Георга менялась, менялась столь незаметно и медленно, что он сам этого не замечал, — итак, чем теснее становились его отношения с Кларой, тем больше недовольства и отторжения он замечал в себе по отношению к Штепанику. «Что он там о себе думает!»
В любом случае Штепаник приписывал изменения, которые замечал в своем друге, влиянию Клары.
Георг, с давних пор принимавший все важные деловые решения самостоятельно и без больших дискуссий, вообще перестал теперь обсуждать их с другом, даже после того, как они были приняты. В разговорах с Лукасом Георг быстро перескакивал с одной темы на другую, с другой на третью, и Лукасу не удавалось ни за что зацепиться, и когда он обращал внимание на определенный холод и сдержанность в их отношениях, — за этим наверняка стоит Клара, думал он, — все равно ничего не помогало: Георг шел теперь своей дорогой, вот и все тут. Он не давал отвлечь себя от цели, не вступал с Лукасом в разговоры и даже не пытался скрыть это от него.
Возможно, все обстояло так, что Лукас, никогда не воздававший должное повседневной работе, хотя при этом у него был самый просторный рабочий кабинет, просто-напросто дошел до такой точки, что ему самому их дело стало чужим и неинтересным? Ведь для него фирма была исключительно добыванием денег.
Да и зачем ему было усердствовать? Георг справлялся со всеми делами легко и с воодушевлением, дела компании шли как по маслу, на постоянно растущем и приобретающем все больший вес рынке рекламы она стала одной из самых заметных.
Когда Лукас иногда находился вместе с Георгом в бюро, то случалось теперь такое, что он по отношению к другу, сидевшему перед ним на стуле с задумчиво опущенным взглядом, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, — что он испытывал страх перед деланой уверенностью в поведении друга, перед непроницаемой и разыгрываемой манерностью его поведения, перед неуязвимостью и наглостью Георга, что он испытывал от всего этого непреодолимое отвращение: «Это ничтожество, умник! Этот, этот!..» Лукасу не хватало слов, чтобы высказаться.
Если прежде он восхищался умом Георга, прежде всего его холодным рассудком и устремленностью к цели, то теперь его это отталкивало. Если раньше он ценил усердие и выносливость друга, — ведь эти качества служили и ему, и ему успехи Георга приносили пользу, — то теперь он видел в них безвкусицу и обывательщину, и он презирал Георга за это. «Куда делся милый, добрый, надежный Георг?» — спрашивал он себя порой. Но действительно ли он когда-либо ценил Георга?
В конце концов, и Лукас полностью относил это на счет Клары, Георг теперь все больше предавался светским развлечениям. По вечерам или в частной обстановке они с Лукасом больше не виделись.
— Ты ведь знаешь, я никогда не был в тебя влюблен, — сказал однажды Лукас Георгу. Слова эти отдавали горечью и звучали не так весело, как это себе представлял Лукас. Георга они не задели, он принял их за одну из тех грубоватых шуток, которые позволяли по отношению друг к другу старые друзья.
В ту пору снова выплыла на поверхность идея открыть игровые салоны. Сначала Лукас попытался убедить Георга, чтобы тот согласился войти в это дело, что теперь — самое подходящее для этого время. Георг интереса не проявил. Чем чаще Лукас заводил об этом разговор, тем отрицательнее реагировал на его предложения Георг.
— Увы, мне, видно, придется в этом участвовать, — сказал Георг однажды, — хочу я того или не хочу!
Лукас вздохнул с облегчением.
Но в конце разговора Георг напрямую заявил Лукасу, что он никогда в жизни не предполагал участвовать в этом предприятии. Все закончилось тем, что Георг выплатил Лукасу его долю в фирме, да еще, как ни протестовали против этого мать и Клара, добавил сверху солидную сумму.
— Знаешь, я ведь к нему просто привык, — объяснил он однажды вечером Кларе. И произнося эти слова, он, пока они слетали с его губ, отчетливо почувствовал, что ему не стоило бы этого говорить в присутствии Клары, да и вообще не стоило.
Штепаник рьяно взялся за дело. За короткое время он открыл несколько игровых залов и вскоре создал целую сеть залов игровых автоматов и букмекерских контор, разбросанных по всему городу, сеть, о которой он всегда мечтал. С раннего утра и до позднего вечера он неустанно колесил по городу, полный новых планов.
В то время как Лукас разъезжал по городу, особенно в тех районах, в которых жили так называемые гастарбайтеры, и расширял свое предприятие, Георг занялся ремонтом дома в Хитцинге, который он между тем именовал своим. Этот ремонт, вернее, полная перестройка виллы, с одной стороны, позволила ему сколько-то побыть одному, без Клары, ведь ведущиеся там работы съедали уйму времени — надо было обсуждать все детали строительства и постоянно за всем присматривать. Было чем заняться!
— Скорей бы нам заняться обустройством дома! — сочувственно вздыхала Клара.
С другой стороны, перестройка здания, ориентированная прежде всего на то, чтобы придать ему представительный и шикарный вид, была связана с тем процессом перемен в характере Георга, о котором мы выше уже говорили. Неслучайно поэтому мать с самого начала была против. Хотя она и заверяла Клару, что понимает, «что супружеской паре нужна другая обстановка, чем холостяку», она тем не менее чувствовала угрозу, исходящую от шума строительных работ, направленного, и она это отчетливо ощущала, и против нее.
Поэтому Георг при любой возможности делился с матерью своими планами, — и он постоянно пытался внушить ей, что именно она более всех выиграет от их осуществления. Он словоохотливо изображал все дело так, словно переустройство дома было затеяно ради нее, как раз и специально для нее.
— Ведь твоя терраса станет намного просторнее — и выходить на нее можно будет прямо из спальни! Когда-нибудь потом, когда с ногами у тебя будет не так хорошо, это ведь будет огромным преимуществом! И посмотри: в новом доме у нас постоянно будет толпиться народ, а здесь ты сможешь побыть одна! Здесь ты будешь предоставлена самой себе!
В жизни Лейтомерицкого тоже наметилась перемена, медленная, неспешная, подобно перемене в жизни Георга: Лукас все чаще замечал, — впрочем, это замечали и другие люди из круга знакомых Лейто, — что Лейто в течение вечера, ночного бражничанья неизбежно оседал, как мешок, и потом лишь тупо смотрел перед собой, не произнося ни слова. Лицо его, и так-то жирное и нездорового цвета, опухало еще больше, он сильно потел и постоянно трогал себя за горло, хотя воротник рубашки и так уже был широко распахнут. Домой он идти не хотел.
— Ему… ему плохо, — тихо и так, чтобы Лейтомерицкий его не слышал, сказал Лукас одной из проституток, с которыми они уединились в кабинете. Он и Лейто предпочитали теперь заведения в пригороде, так сказать, более грубую пищу, и времена, когда они были завсегдатаями казино в Бадене или ресторана в отеле «Захер», канули в прошлое. Когда они на такси тряслись по какому-нибудь поселку в Кагране или по унылым улицам в районе Фаворитен, мимо доходных домов, фабричных зданий и трамвайных депо, Лейтомерицкий нередко и с удовлетворением знатока говорил Лукасу: «Мы всегда найдем для себя что-нибудь новенькое!»
Лукас молчал в ответ.
— Мне это напоминает Лейтомышль! — с трудом пробормотал Лейтомерицкий, когда они как-то вечером оказались неподалеку от Маргаретенгюртеля, в гостинице на час. Обои на стенах, насколько можно было разглядеть при слабом свете двух ночников, свисали клочьями.
Лейтомперицкий, лежа на спине, под головой — две подушки, показал рукой за окно, единственное окно в комнате: на улице в слабом свете фонаря виднелся серый фасад здания в имперском стиле, украшенный колоннами и лепными карнизами, — то ли почтамт, то ли школа, — в столь поздний час, разумеется, безлюдный и закрытый.
— Как в Лейтомышле в давние времена, — повторил Лейтомерицкий и для вящей убедительности попытался кивнуть головой.
— С чего бы это? — спросила одна из проституток. Она опустилась перед ним на корточки и как раз расшнуровывала ему ботинки. Другая проститутка играла с пробкой от бутылки шампанского, которое они принесли с собой, а Лукас тем временем на диване, стоявшем несколько поодаль от большой кровати, ближе к двери, с пыхтением обрабатывал третью.
В один из этих же дней Виктория, госпожа Штрнад, по пути от своего дома на Райхсратштрассе к Шотландским воротам, — она собиралась зайти в свой банк, находившийся неподалеку, — попала под машину сразу за Бургтеатром. Водитель потом утверждал, что женщина намеренно бросилась под колеса. В любом случае уровень содержания алкоголя в ее крови, установленный врачами при вскрытии, был высокий. В небольшой пластиковой папке, которую выронила Штрнад, попав под машину, и которая покатилась по асфальту, обнаружилась толстая пачка банковских выписок, замызганных и с загнутыми уголками, видно, их часто перебирали и перелистывали.
В одном из ящиков ее секретера, который чиновники магистрата, производившие опись имущества, вынуждены были взломать, среди прочего было обнаружено письмо, адресованное знаменитому Лейтомерицкому, коммерческому советнику, автомобильному королю! — неоконченное письмо, набросок, несколько строк, нацарапанных на листке бумаги. В нем Штрнад писала: «Я люблю тебя, и мне стыдно!»
При установлении наследников погибшей выяснилось, что единственная родственница госпожи Штрнад, ее сестра, проживавшая в Клагенфурте в весьма стесненных обстоятельствах, уже ушла из жизни: она умерла от рака, кстати, совсем недавно. Своего родного сына, местопребывание которого неизвестно, госпожа Штрнад не включила в завещание, возместив ему обязательную часть наследства.
Мария Оберт, — вы помните эту ласковую, милую, маленькую жену профсоюзника-социалиста, железнодорожника, что доживал свои последние дни в санатории в Гуггинге? — так вот, она в полном согласии с собой и с миром просто и скромно жила-поживала в своей старой квартире в Кайзермюлене. Ходила в церковь по воскресеньям, иногда и по будням — на Месяц Девы Марии в мае, на Воздвижение Креста Господня и так далее, а вечера проводила у телевизора, который наконец смогла приобрести. По большим праздникам она всегда ездила в Парндорф в Бургенланде, к своей родне, которая относилась к ней, крестной матери, тетке, кузине и двоюродной бабушке, с любовью и почтением и радовалась ее визитам, сопровождавшимся щедрыми подарками, привезенными из Вены.
Георг с матерью сидели за чаем. На дворе — ранняя осень, день клонится к концу, машин на улице почти не слышно — воскресенье. Сумерки еще не опустились, еще светло, однако Георг, подсаживаясь к чайному столику, включил торшер, стоящий у дивана.
Поначалу они говорили о всякой всячине, и пока мать взволнованно повествовала о детском благотворительном концерте в пользу восстановления собора Святого Стефана, взгляд Георга перебегал от маленького чайного столика, на котором был уютно и изящно расставлен чайный сервиз, к саду за окном, деревья в котором еще сохранили свой убор, однако уже было отчетливо заметно, что листва начала облетать. Георгу нравилось разноцветье осеннего сада, сливавшееся в единое пятно, в котором отдельные тона переходили друг в друга. И весть, которую он намеревался сообщить матери за чаем, была такого же рода, впрочем, большой неожиданностью она не являлась, и Георг, с приятным ощущением погрузившийся в мягкое кресло и расслабившийся, отдавшись любованию природой, не испытывал ни малейшего волнения; он чувствовал удивительное единение с этим временем года и с миром в целом.
В последнее время, в последние недели и месяцы возникло, как это бывает, когда смешивают разные химические вещества, неожиданное состояние, которое трудно предугадать, если все вещества с их свойствами держать по отдельности и не смешивать. Вот тут Георг, прилежный, внимательный, преданный матери Георг. А вот его дела в фирме, трудности, с ними связанные, успехи, которые эти дела, если постараться и если повезет, приносили. В последнее время Георг достиг в своих делах огромных успехов. Сделки проходили блестяще и намного лучше, чем он мог бы представить это в самых смелых мечтах, если бы действительно мечтал.
Если Георг в редкие минуты самоконтроля опасался, что его несколько небрежное обращение с матерью, поверхностное отношение к ее мыслям, словам и пожеланиям, которое он демонстрировал с недавних пор, может подавить ее, рассердить или разгневать, а в худшем случае вызвать приступ ярости, то теперь он с удивлением отметил, что, вовсе наоборот, мать почти преданно, весьма положительно настроена по отношению к нему, так сказать, ему подчиняется, соглашается с ним во всем и вообще ни словом, ни жестом не перечит ему.
За день до этого он поймал себя на том, что погладил мать по голове. Он впервые отчетливо почувствовал, какие, собственно, мертвые и безжизненные у нее волосы. Лицо матери в это мгновение предстало перед ним бледным и скукожившимся, жутковатым и устрашающим. Однако одновременно в груди его разлилось безграничное и теплое чувство, мягкое и чудесное; а ведь буквально за миг до этого ему казалось, что все вокруг пошатнулось и он куда-то падает!
Со страхом отогнав от себя эту путаную вереницу мыслей, Георг заметил, что мать протягивает над столиком руку в его сторону. В первую секунду он увидел только тонкие сухие пальцы и — нерезко — коричневое пятно на тыльной стороне ладони.
— Мы с Кларой скоро поженимся! — торопливо произнес он. — Ты наверняка будешь этому рада.
После первого инсульта, который не был для Лейтомерицкого слишком неожиданным и который он просто принял к сведению, как принимают к сведению отключение света в квартире или автомобильную аварию, и после обращения за консультацией и лечением к выдающимся специалистам он без промедления отказался от всех своих должностей в фирме, от всех ролей в сложном переплетении его деловой жизни. Решение было окончательным, несмотря на то, что после лечения он снова обрел прежнюю физическую форму, да и с головой у негр все было нормально.
Выписавшись из больницы, Лейтомерицкий прочно обосновался в маленьком кафе в центре города, на Кругерштрассе, неподалеку от площади Шварценбергплац. Почему ему приглянулось именно это кафе? «Мой отец всегда встречался со своими деловыми партнерами именно в этом кафе. С самыми разными деловыми партнерами».
Кафе было маленькое и узкое и, собственно, представляло собой длинный вытянутый рукав, а в самом конце его, в самой темной части помещения, где всегда горел свет, в нише, обитой выцветшим розовым бархатом, восседал Лейтомерицкий и читал.
Он появлялся уже в десять утра, к самому открытию кафе, и усаживался на свое место. Посетители — как правило, торговые представители, продавцы из антикварных лавок и бутиков, расположенных поблизости, присаживались ненадолго выпить чашку кофе; в обеденное время появлялись школьники из ближайших школ, наполнявшие помещение вихрем уличного воздуха, шумом и гамом. Зато во второй половине дня здесь было тихо, и тишину нарушало только шуршание газет, которые читали пожилые дамы, в основном вдовствующие, на пару часов вышедшие на люди из своих больших квартир. Вечером же, — а Лейтомерицкий по-прежнему сидел на своем месте, разве что отлучаясь в туалет, — кафе заполняла пестрая публика, не то чтобы сброд, это слишком сильно сказано, но и изысканной ее тоже нельзя было назвать.
Еще за завтраком, едва только большая чашка кофе с молоком появлялась на столе, — а он заказывал еще и рогалик, который макал в кофе и затем в таком размокшем виде отправлял в рот, — он принимался за книги, которые приносил с собой. Поначалу это были всякого рода естественнонаучные и философские издания, особенно книги о происхождении мира и о том, как все сущее однажды обретет свой конец, позднее же Лейтомерицкий остановил свое внимание на одной-единственной книге, и это была Библия. Он с наибольшей охотой читал четыре Евангелия о нашем милостивом Господе Иисусе Христе и с увлечением сравнивал эти книги друг с другом. Он делал выписки карандашом на отдельных листочках, которых вскоре накопилось не на одну папку, и с разрешения владельцев кафе хранил их под банкеткой, на которой просиживал целый день.
Щеки у Лейтомерицкого, когда-то толстые, теперь обвисли, брился он редко, поэтому лицо поросло седой щетиной, окаймляющей его по-прежнему красные губы. Он больше не курил, единственное, что пил днем, — это кофе. Раз в час официант ставил перед ним новую чашку кофе, а ближе к вечеру кофе сопровождала порция коньяку в большом коньячном бокале. С бокалом на столике, с книгой в руке Лейтомерицкий тихо и одиноко сидел в кафе рядом с послеполуденными дамами, погруженными в чтение газет, сидел так, уйдя в себя и в свои мысли, и вечером, и ночью, когда жизнь в кафе бурлила ключом. Руки у него не дрожали. Спортивной осанкой он никогда не отличался, а теперь фигура его еще сильнее сгорбилась и скособочилась, и когда он высиживал над своей книгой, то видна была только его голова, покрытая редкими и длинными седыми волосами, и выпиравшие плечи его темного пиджака, когда-то бывшего ему впору.
Лейтомерицкий погружался в знания для собственного удовольствия. Он никогда ни с кем не разговаривал о прочитанном и не предпринимал попыток поделиться добытыми сведениями. А если кто-то из посетителей, что иногда бывало, пытался подшутить над ним, ведь он стал местной знаменитостью и прослыл знатоком Библии, и наклонялся к нему с вопросом, как далеко он продвинулся в своем изучении священной книги, Лейтомерицкий на это дружелюбно и без всякого раздражения выпрямлялся, окидывал обратившегося к нему взглядом и говорил тем голосом, который прежде, в его фирме, звучал столь повелительно, говорил дружелюбно и спокойно, — что, разве не ясно, что он сейчас занят?
Однажды вечером сильно подвыпивший посетитель пристал к Лейтомерицкому особенно назойливо. Грузно опустившись на банкетку рядом с Лейто, который отстраненно смотрел на него широко открытыми глазами, он снова и снова втолковывал ему, что поражение Гитлера и его сторонников — «Гитлера! Гитлера!», — вскрикивал пьяный, — что это поражение, скорее всего, не закономерность, а случайность, и связано оно с кознями мирового духа.
— Ведь мировой порядок, да, мировой порядок, создающий столько лишнего и никчемного, должен сам, уж будьте любезны, и поразмыслить, как от всего лишнего и никчемного избавиться! Уж будьте любезны!
Хозяину кафе стоило большого труда выволочь пьяницу из ниши Лейтомерицкого.
Когда в один из дней, пополудни, сильно напугав пожилых дам, Лейтомерицкий с громким стуком вдруг повалился со своей банкетки на пол и больше не поднялся, — падая, он повалил столик, за которым сидел, и рассыпал кругом карандаши и листы бумаги, — то в его записках и выписках обнаружили великолепные рассуждения, представлявшие собой в основном парафразы или пересказы отдельных мест из Библии. Здесь были размышления о справедливости Бога, справедливости Судии, что восседает на облачном троне, словоохотливые и путаные рассуждения о праведной жизни, попытки доступно описать совершенные и вечные блага небесные.
Глава 5
— В последний раз я видел Мёслера на благотворительном приеме в пользу помощи умирающим. Там присутствовал и кардинал, я точно помню. Кардинал, как обычно, был в простой черной сутане с белым римским воротничком, это так выгодно подчеркивает его голову ученого с белыми как снег волосами. Мёслер стоял где-то позади, у одного из длинных столов, где наливали фруктовый пунш или какой-то другой похожий напиток. Он тогда не отпускал своих обычных шуточек, казалось, что он был глубоко погружен в свои мысли. А может он просто перебрал лишнего?
— Я имею в виду, что он обычно такой разговорчивый, в любом обществе он в центре внимания, окруженный людьми, его слушающими. Но с недавних пор…
— В шляпе с широкими полями ходят, как я полагаю, на вернисажи или на собрания людей искусства. Но ведь не на званый ужин у федерального президента! Эти люди просто-напросто… они явно не в себе! Он скупает дорогую недвижимость. Однако для кого, никто не знает. Ведь он весьма неглупый человек! И при этом такой циничный. И выделывает подобные кренделя! Его ведь, говорят, даже Хюттер, ну, вы знаете, профессор университета…
— Я Мёсслера совсем не знаю, однако, признаюсь честно, мне бы вовсе не помешало с ним познакомиться. На презентации дизайнеров и модельеров мелкого калибра он не ходит. Через его секретаршу добиться приема у него невозможно. А запросто обратиться к нему где-нибудь, на какой-нибудь дискотеке или где еще — ну, с этого вряд ли будет какой толк.
— Да уж, это никуда не годится.
— Он мне рассказывал, что отец его на войне был генералом армии, награжден высшими орденами. Не из наших — англичанин! Он будто бы после войны отправился в Южную Африку, в Родезию. И вот там негры его…! А потом я вдруг слышу, что Мёслер вообще не знает, кто его отец, что у него вообще нет отца! Он что, смеется над людьми?
— Знаете, Вена — город маленький. Вена — очень маленький город. Что знают двое, знает весь город!
— Я как-то имел удовольствие видеть этого господина страшно разгневанным. Официантка не расслышала, что он заказал. Или он заказал что-то такое, чего в меню не было, какое-то особое вино, какого-то определенного года? Ужас! Вы бы видели, как он кипятился! Он все смахнул со стола. Отвратительный тип! Негодяй. А ведь я столько хорошего слышал о нем.
— Мы посещаем один и тот же салон красоты. Раньше мужчине в подобном было невозможно признаться, но нынче…
— Он много покупал у Лойккеса, доверял ему, этот Мёслер. Можно теперь сказать — наполовину по глупости, наполовину из расчета. У Лойккеса был нюх на искусство, на настоящее искусство, на искусство вообще. Разумеется, там было и много бросовых вещей, куча всякой дряни! Лойккес стал потом директором музея, высоко поднялся, — там, внизу — в Граце.
— Хюттер действительно выставляет свою кандидатуру от партии нацистов, как главный кандидат?
— Этот Мёслер — заносчивый дурак, если хотите знать, — и больше ничего!
По четвергам у Клары был журфикс. Сегодня на нем появился и ее папа, профессор Вольбрюк, нынче уже на пенсии. Профессор принимал теперь только тех больных, от которых ему ну уж никак невозможно было отказаться и которые были к нему бесконечно привязаны, а также тех, кто был очень, очень богат. При всей его любви к человечеству он заботился теперь об одном-единственном пациенте, о самом себе. Когда ему исполнилось семьдесят, у него обнаружилась сахарная болезнь, диабет в очень тяжелой форме: диета и еще раз диета — вот единственный ответ на эту беду.
Его навязчивой идеей стало ведение записей о своем физическом состоянии, о том, что он ежедневно принимал в пищу, и о том, что выводил наружу его организм. Полностью посвятив себя составлению графиков питания, картотеке и подробному перечню испражнений, этот прежде тщательно следивший за своей внешностью человек постепенно опускался. Одежда его была частенько заляпана пятнами от принимаемых лекарств или от стопроцентно обезжиренного куриного бульона, который по особому рецепту варила ему экономка.
Сам профессор при этом сохранял спокойствие, он, истинный Савонарола правильного питания, неуклонно шел своим путем, и в глазах его горел фанатизм веры. При этом он стал весьма немногословным и говорил тихо, и пациентам, которые были к нему весьма привязаны — чаще всего потому, что он их однажды, так сказать, вернул с того света, — этим пациентам приходилось буквально приникать ухом к его губам, чтобы услышать его советы и рекомендации. Закончив прием, он сразу мыл руки.
Клара, в основном из-за сентиментальности и ностальгии вновь привязавшаяся к отцу, испытывала, как она говорила, сильное беспокойство за папу. Разумеется, ей было не по душе, что он все меньше следил за своим внешним видом, несмотря на напоминания Клары и постоянное ворчание его экономки. С другой стороны, играло свою роль и наследство, которое ожидалось после его кончины, и уже по этой причине Кларе приходилось терпеть все его причуды.
— Ходил ли ты в воскресенье в церковь?
— Нет времени, — ответил он как отрезал.
На концерты он теперь тоже не ходил.
Профессору, после первого же вопроса дочери сильно заинтересовавшемуся манжетами своей рубашки, больше не пришлось напрягаться и участвовать в разговоре, потому что именно в эту минуту к Кларе подошел один из гостей с дружелюбной, хотя и несколько церемонной улыбкой на устах, и Клара тут же поднялась ему навстречу и мило кивнула своей изящно стриженой головкой. Звали этого человека доктор Правди, был он невысокого роста, тучноват, и в своей темной однотонной одежде напоминал монаха. При этом доктор вовсе даже не был аскетом, увлекался свободными искусствами, особенно же был знатоком оперы, и в этом качестве — ему довелось в разное время руководить знаменитыми оперными театрами, — он был известен и признан и на международном уровне. Монашеский его облик явно вводил в заблуждение, он, как поговаривали, был весьма охоч до амуров и царствовал в балете среди восходящих див.
И сейчас он заговорил об одной из находящихся под его опекой дам, он спросил Клару, все ли в порядке с малышкой Бауэр по поводу воскресенья, через три недели, все ли в порядке?
Клара, при поддержке матери Георга, время от времени устраивала чайные приемы для людей искусства. Играли музыканты, или же кто-то выступал с небольшим докладом; или известный актер читал стихи или прозу какого-нибудь еще не открытого публикой автора. Можно счесть, что такие мероприятия — вещь давно ушедшая и в принципе относящаяся к прошлым столетиям, однако это не так: искусство всегда нуждается в опеке, как с мягкой иронией лаконично говаривал доктор Правди. И с ним все соглашались.
Клара едва успела ответить на вопрос доктора утвердительно, как ее увлек за собой, в дальнюю часть зала, другой гость, втянув ее в долгий разговор. Этот господин, с которым Клара была шапочно знакома по какому-то светскому приему, и сам толком не знал, кто он такой, и рекомендовался профессором Фродлем: он был членом научного совета музея истории вооружений, занимавшего здание бывшего арсенала. На вопрос, знаком ли ей этот музей, Клара ответила отрицательно.
Профессор поведал ей, что является особым знатоком и экспертом в области истории Второй мировой войны и всего, что с ней связано; в весьма доверительном тоне, который ей поначалу показался неуместным, он стал рассказывать о своих разысканиях, которые он предпринял исключительно и специально в связи с тем самым английским генералом.
— С генералом, вам уже известным, — великим человеком, надо сказать, — кавалером Креста Виктории, кавалером ордена Звезды Индии! Рыцарем Ордена Бани… Однако потом он, вы ведь знаете…
Профессор был статный мужчина с привлекательным лицом, энергичным и гладким, с пышной копной слегка вьющихся волос. При разговоре глаза его пристально и открыто были устремлены на собеседника. Взгляд его словно притягивал Клару. Клара старалась смотреть вниз, изредка поднимая глаза и демонстрируя сияющий взор. Собственно, ей бы лучше всего оказаться сейчас одной, без всех этих людей вокруг! Однако — что бы из этого вышло?
Фродль успокоил Клару относительно генерала: там все в порядке! Достойное воспитание, членство в солидных клубах, так что ей нечего опасаться. Правда, говорят, что во время своей индийской службы он слишком резко обходился со сторонниками Ганди. Для него, для Фродля, он остается образцовым военным, солдатом, который выполнял свой долг. К тому же — блестящий ум! А еще он автор труда о военной гигиене.
У Клары уже пошла кругом голова, а профессор продолжал ей рассказывать, что он занялся изучением истории генерала исключительно для ее супруга, в определенной степени по его заданию. А поскольку супруг ее сегодня здесь не присутствует… Из факта неприсутствия Георга на приеме вытекало, нет, скорее, этот факт способствовал тому, что профессор Фродль оказался весьма привлекательным мужчиной, настоящим мужчиной, как принято говорить, тем, кто умеет взять инициативу в свои руки.
У Клары бывали ужасные дни. Не столь важно, называть ли это мигренями или невротическими состояниями, как диагностировал их психиатр, к которому она обратилась: в эти дни и часы Клара отчетливо ощущала, как почва уходит у нее из-под ног, как все начинает кружиться. Как все привычные предметы вокруг, даже деревья в саду, даже вершины холмов Венского леса, видимые сквозь огромные окна дома, обычно такие приветливые, зеленые и залитые светом, начинали куда-то исчезать, распадаться, медленно кружиться, опускаться и проваливаться вместе с Кларой в мрачное пространство, заполненное болью. Она физически ощущала эту боль, ужасную, словно зубная боль, и сокрушительную, словно удар кулака.
«Нет, нет: вся эта боль — окружающий меня мир», — тихо сказала Клара, губы ее дрожали, и психиатр вытянул голову далеко вперед.
Георг старался не появляться на приемах, которые устраивала Клара, разве что заглядывал в самом конце, в завершение дня — но никогда раньше половины седьмого. К тому времени обычно уже садились за стол, и ему не приходилось общаться с каждым, кто сюда явился.
Двое мужчин у окна завязли в долгой беседе. Хотя на приемах не поощрялось беседовать с одной и той же персоной дольше двух минут, это было неприлично, но в данном случае исключение было вполне допустимо, более того, оно даже приветствовалось: оба собеседника были политиками, принадлежавшими к двум разным партиям, партиям, которые на официальном уровне враждовали друг с другом, время от времени допуская самые грубые нападки на противную сторону.
Один из собеседников, гладенький и манерный, среднего роста, подвижный, был депутатом от социал-демократической партии, из богатой буржуазной семьи, как было известно, но по взглядам — весьма левый, почти радикал. И, конечно же, невозможно было даже представить, что он будет вести разговор, пусть и весьма сдержанно и держась на определенной дистанции, с этим типом, представителем клики, поднимающей на щит лозунги, которые очень — даже слишком — напоминали о вчерашних, нет, даже позавчерашних идеях, о вере, казалось бы, давно преодоленной!
Они говорили не о чем-то конкретном, нет, речь шла о вещах обыденных, о предмете, в связи с которым идеологическое начало почти что растворялось в фактическом: речь шла о распределении портфелей и комитетов.
— Дорогой коллега, — говорил социал-демократ своему визави, обнажив в улыбке мелкие и частые зубы, — мы, социал-демократы, в свое время поставили на ноги всю систему медицинского страхования, и сейчас мы заботимся о том, чтобы она функционировала!
— Вы сами не свои до этого портфеля, вы и вам подобные узурпируете этот комитет уже целое столетие! Вы и вам подобные не хотите, чтобы кто-либо в эти дела вмешивался. Вот как вы понимаете демократию! Нам это известно! И мы с этим боремся!
Оратор говорил до неприличия громко, выпаливая фразы. Социал-демократ, оглянувшись и удостоверившись, что никто не обратил на них внимания, скрестил руки на груди, словно полководец, и, насколько это было возможно, посмотрел на своего собеседника сверху вниз:
— В вашей фракции ведь все идет кувырком! Вы втолковываете так называемым маленьким людям, что защищаете их интересы. При этом в вашей партии заседают крупные промышленники…
Нет, социал-демократа не удалось вывести из себя глупыми нападками и выходками его политического противника. Подобное непозволительно, говорила поза, которую он принял. И, покачав головой, он отвернулся в сторону, высоко поднял голову и приложил палец правой руки к подбородку.
Две дамы рука об руку продефилировали мимо спорщиков, одна из них приветливо кивнула социал-демократу.
— Кто это? — спросила ее другая дама.
— Морильон, председатель клуба красных, разве ты о нем не слышала?
Обе женщины продолжили свою беседу, основательно и компетентно рассуждая об интерьерах, о реставрации старых домов, и вскоре в их разговор вмешался некий господин, отделившийся от другой группы беседующих и так незаметно просочившийся в их общество, что дамы заметили его присутствие только тогда, когда он вдруг раскрыл рот и разразился целой речью:
— Учение о цвете предальпийского ландшафта — и таким образом мы сводим воедино самое важное, — это черное и белое, коричневое и зеленое — само великолепие, не правда ли? Хотя для восточной области, для местности вокруг столицы мы не должны упускать из виду и наш прекрасный, имперский, традиционный желтый цвет!
Господин, сам увлеченный собственными словами, вежливо поклонился и представился:
— Август Хольцингер, архитектор.
— Ах, вот вы какой! Глядя на построенные вами здания, — призналась одна из дам, взволнованная неожиданным знакомством, — я всегда думала, что их творец — один из этаких неистовых! Такой вот, как говорится, бурный гений искусства, — такой вот Пикассо, не так ли?
— Можно быть современным, не отрекаясь от традиции, — ответил архитектор.
Его снова переманили в тот кружок, от которого он было отделился и который располагался ровно посередине зала, прямо под большой люстрой и на широко раскинувшемся персидском ковре.
— Речь идет о следующем, Густль, — сказал мужчина, вернувший архитектора в эту группу гостей, и от предвкушения эффекта от своего рассказа завихлял бедрами. Его огромные плечи облегал штирийский пиджак, на ногах — колоссальных размеров брюки: не заметить такого гостя было невозможно. — Ты ведь знаком с нашими горами, Густль, не так ли? Вот этот господин, — и он указал на человека в неприметном сером костюме, — утверждает, что он в Кинберг-Гаминге, ну, ты знаешь, где это, года два или три назад подстрелил косулю!
— Исключено! — ответил архитектор уверенным тоном знатока.
Разведя руки на всю ширину, представительный мужчина обратился к присутствующим на баварском диалекте:
— Ну что, все слышали? Слышали? Так-то вот обстоят дела!
Неприметный человек совсем стушевался и быстро и незаметно ушел.
Представительный гость, как выяснилось позднее по другому поводу, был владельцем поместья и птицефермы клеточного содержания в Мархфельде.
— Знаете, — обратился он к даме, которая пожаловалась вслух на то, как трудно в Вене купить качественные и полезные для здоровья продукты, — приезжайте запросто ко мне. Просто позвоните мне — и приезжайте!
Хотя в салоне у Клары разговоры на диалекте не особенно приветствовались, однако все зависело от того, кто кому и что при этом говорил.
Дамы, беседовавшие о восстановлении старых крестьянских дворов и домишек, перешли тем временем к театральным премьерам и к Бургтеатру. Одна из них, плотненькая, со стройными ножками, — благодаря короткой юбке можно было любоваться ими намного выше колен, нетерпеливо пританцовывала рядом со своей собеседницей, оживленно жестикулировала и время от времени разражалась громким хохотом, запрокидывая голову назад, — в какие-то моменты беседы она вдруг столь пристально смотрела на свою собеседницу, словно была из полиции.
Один из приступов ее хохота вызвал недоуменный взгляд со стороны профессора Фродля, стоявшего неподалеку от обеих дам и с самым серьезным видом обсуждавшего судьбоносные вопросы австрийской политики с неким господином, державшимся весьма значительно.
— Одним словом, я считаю все это абсолютной чушью! — были единственные слова, которые произнес значительный господин. Произнося эту фразу так, словно она была результатом основательной и глубокой работы его ума, он умудрился сохранить свою импозантную позу, так что профессор, едва успевший перевести дыхание после своих длинных рассуждений и вопросительно смотревший на собеседника, не смог на того даже обидеться. Ибо помимо того, что господин этот был отпрыском одной из так называемых древних и почтенных фамилий, весьма близких эрцгерцогскому дому, что проявлялось и в его горделивом взоре, и в той манере, в какой он неторопливо и отчетливо произносил слова, было также ясно, что слова его имеют более широкую подоплеку, некое даже философское основание. Потому что Фродль вслед за этим обратился к нему с весьма примечательным вопросом:
— Итак, вы полагаете, что Холокост является наиболее значительным событием двадцатого столетия? Вы так полагаете? Поскольку вследствие этого все, что было раньше, было полностью прекращено?
Однако импозантный господин уже направился к буфету и не удостоил собеседника дальнейшими объяснениями.
В стороне от них, почти у входа в зал, стояли две молодые женщины, милые и слегка тушующиеся, вероятно, впервые приглашенные на подобный прием и не решающиеся пройти в середину салона, украшенного дорогой мебелью и картинами и блистающего утонченным и роскошным буфетом, радующим глаз богатыми угощениями. Разговор их вертелся вокруг знаков зодиака, системно-семейных расстановок, коротко говоря, вокруг судьбоносных проблем всякого рода; одна из женщин постоянно приглаживала свою прическу — настоящую гриву из вьющихся светлых волос… Тут по залу между собравшимися проскользнула воздушной походкой Клара, вся раскрасневшаяся, и тихим голосом, но так, что услышали все присутствующие, сообщила матери Георга, до той минуты незаметно сидевшей в кресле, к которому была прислонена ее трость с серебряным набалдашником:
— Георг приехал! Георг уже здесь!
На самом же деле в дверях появился худощавый человек со следами оспинок на лице, с угристым шишковатым носом, словно у клоуна, гладко причесанные волосы сзади, над воротником, лихо загибались, что еще более усиливало впечатление: это актер, вполне возможно, один из прославленных актеров Бургтеатра, исполнитель характерных ролей, который заглянул сюда на минуточку по пути на спектакль. Мать Георга поднялась с кресла и, с достоинством опираясь на трость, шурша платьем, двинулась навстречу неожиданному гостю.
— Добро пожаловать! — поприветствовала она его.
Новоприбывший гость, держа правую руку в кармане пиджака, причем большой палец торчал наружу, слегка раскачиваясь взад и вперед, еще больше сощурив глаза, которые и без того были похожи на узкие щелочки, во всеуслышание объявил, что он только что обедал со своим издателем, с издателем из Германии — и обед этот растянулся до бесконечности.
— Мы не должны позволять, чтобы нам садились на шею, — заявил гость решительно и с ноткой сарказма в голосе, — нет, ни в коем случае, пусть даже все происходит в отеле «Захер» или в «Империале», не так ли? Я все время смотрел на официантку, знаете, такая здоровая деревенская деваха, недотепа, ей разве что полы мыть, одетая под городскую фифу — в сверкающей, как люстра, блузке, в белом передничке, ну а этот деляга из Германии, он все время меня доставал.
— Вы что-то имеете против деревенских, против стриженых[10]? — по-простецки перебил гостя землевладелец, стоявший поодаль.
— Жизнь отвратительна и быстротечна, и абсолютно все равно, за кого мы себя здесь выдаем, за деревенскую деваху, за работягу с отбойным молотком или же, если хотите, за профессора из университета. Или за владельца замка, если хотите! Я себя нисколько не исключаю, напротив, — возразил писатель, и ноги его в дорогих фланелевых брюках порывисто шагнули в сторону от матери, стоявшей рядом с ним, прижимая отворот своей домашней куртки рукой к груди и с почтительной робостью взирая на гостя. — Так вот оно все обстоит.
Затем, криво ухмыляясь, словно намереваясь обратить сказанное в шутку и в банальность, он провозгласил:
— Все мы когда-нибудь умрем!
Во время наступившей за этими его словами генеральной паузы, заполненной возгласами удивления, смешками и уничижительными репликами, в зал, тихо ступая, вошел Георг, да, в самом деле, Георг.
— Что здесь произошло? — веселым и оживленным голосом спросил он посреди всеобщей сумятицы, поднял голову и огляделся вокруг, несколько делано потягиваясь, пока наконец не увидел мать и по ее растерянному и несколько затуманенному взгляду понял, что что-то идет не так.
— Кто же сегодня ваш почетный гость? — приветливо и беззаботно спросил Георг мать; вопрос его адресовался и Кларе, которая тоже появилась перед ним.
— Позволь тебя познакомить! — быстро произнесла Клара. Неловким движением она вытянула руку в сторону Георга и хотела подвести его поближе к писателю, который секунду стоял словно окаменелый, прежде чем нацепить на себя свою обычную улыбку и ледяным тоном резко заявить, что с него, де, теперь довольно, на сегодня хватит, он насмотрелся на идиотов, тупиц и развратников, он лучше уйдет — и он действительно ушел.
Мать заковыляла было за ним, но не смогла догнать маэстро. Он удалился, с развевающимся на шее длинным кашемировым шарфом, прежде не бросившимся в глаза, с шарфом, который выглядел как горделивое, но, в данном случае, вражеское знамя.
Первым пришел в себя владелец птицефермы:
— Откуда он такой взялся?
— Из Бургтеатра! — глухо отозвался профессор Фродль.
Обе специалистки в области реставрации взволнованно захихикали, переминаясь с ноги на ногу.
Архитектор Хольцингер у буфетной стойки с печальным вздохом налил себе вина.
Одна из стеснительных молодых женщин, бросив на подругу взгляд, ищущий поддержки, и собрав в кулачок все свое мужество, сдавленным голосом произнесла в сторону Клары:
— Марс находится в доме Солнца!
Было ли уместно, или скорее нет, что в этом обалдело застывшем обществе появилась госпожа профессор Траун-Ленгрис с мужем, профессором Викторесом из Венского университета, дружелюбно и улыбчиво приветствуя всех собравшихся? Она прямиком направилась к старому Вольбрюку и попыталась вовлечь его в разговор на диетические темы. При этом Траун-Ленгрис выглядела намного миловиднее, свежее и здоровее, чем прежде. Ее смех буквально искрился жемчугом, и она даже прикрывала рот рукой, чтобы не слишком привлекать к себе внимание.
Гневный и яростный гость-художник был не кто иной, как пользовавшийся в то время наивысшим вниманием и славой писатель Бернер. Клара впоследствии погрузилась в интенсивное изучение его обширного творчества.
Ведь вскоре после того особого четверга, собственно, к тому времени, когда по ее и Георга представлению реставрация виллы была закончена вплоть до мельчайших деталей, Клара прекратила всякие отношения с мужем в спальне, ее собственной, ей одной принадлежавшей спальне, и с определенного момента она лишь в редких случаях покидала ее пределы. Георгу было предоставлено ограниченное время посещения; впрочем, его это не слишком волновало. Клара была тут, в доме.
Не то чтобы она была серьезно больна, нет! Она просто чувствовала себя неважно, и настолько неважно, что для нее лучше и приятнее всего было повернуться спиной к миру со всеми его установлениями и требованиями. Она обычно сидела на кровати, обложившись горой мягких шелковых подушек, жалюзи на окнах были спущены, — и рядом с постелью всегда горела большая лампа с шелковым абажуром, распространяя мягкий приглушенный свет.
Клара не имела представления, день или ночь на дворе, и только верная служанка информировала ее о тех или иных вещах, касающихся внешнего мира — ибо она отвечала за расписание дел Клары и по телефону согласовывала время прихода маникюрши, массажистки, врача и того избранного круга людей, которых Клара еще хотела видеть.
Основное время своего бодрствования Клара посвящала чтению. Она включала более яркий ночничок, изящную вещицу в стиле модерн с абажуром из стекла — в виде раскрывающегося бутона. Трудно сказать, раскрывалось ли сознание Клары при этом чтении, ведь она главным образом и длительное время читала исключительно книги того самого Бернера, с которым у Георга в тот фатальный четверг — кстати, это был один из последних подобных приемов в их доме, — едва не случился скандал.
Собственно, Клару с произведениями этого автора, а затем и с самим творцом, познакомила мать Георга. Поначалу Кларе его творчество показалось темным, трудным для понимания и мономаническим; однако теперь, в своем затворничестве, в образе жизни чудаковатом и замкнутом, она вдруг открыла его для себя — и пришла в восторг и воодушевление.
Воодушевление — слово уместное, когда его используют в узком смысле: ведь дух этого Бернера действительно снизошел на Клару. Ее разговоры со свекровью, которая не отказалась от того, чтобы навещать Клару ежедневно, были главным образом, а потом и исключительно посвящены обсуждению сочинений Бернера, замечаниям по их поводу или рассуждениям о только что почерпнутых из них сведениях и мнениях. Мать, накинув на острые плечи вязаную шерстяную шаль, устремив взор своих маленьких и водянистых глаз на невестку, неподвижно восседала на краю кровати, лишь изредка проводя ладонями по покрывалу, то ли непроизвольно, то ли желая подбодрить больную; мать слушала, кивала и сочувственно смотрела на вещающую Клару, которая в конце концов в изнеможении и прискучив чтением откидывалась на подушки.
Совсем иначе протекали визиты профессора Фродля, который после шапочного знакомства на журфиксе стал для Клары, пожалуй, самым близким доверенным лицом.
— Когда я воспринимаю мир таким, каким должна его воспринимать, — сказала Клара и выпустила из рук роман, который как раз читала, — когда я воспринимаю мир таким, то он предстает мне не чем иным, как ареной глупости и подлости, подлости и глупости, местом, где правит одна лишь низость или в лучшем случае нечто ничтожно-смешное.
— Вам холодно? — спросил профессор Фродль. Клара в ответ, плотно сжав губы, лишь слегка строптиво покачала головой и отвела прядь волос со лба.
— Не принимайте все это слишком близко к сердцу! — продолжил профессор. — Ведь по сути все, что делает Бернер, это всего лишь искусство и обычная писанина. Принципиально, да, принципиально он, конечно, прав: глупость правит миром! Глупость и низость! А если то, что мы видим в верхах, не есть низость и глупость, то в любом случае это обыденность, посредственность и асфальт!
— Все самое глупое, ничтожное и подлое здесь, у нас, предстает как самое обыденное, — очень тихим голосом произнесла Клара.
— Да, особенно у нас в стране, — заметил профессор.
Некоторое время спустя, когда профессор забрался под одеяло и в ночную рубашку Клары, речи о распаде и гибели вдруг прекратились. Вздыбленный фаллос профессора, дарящий восторг и удовольствие, ерзал туда-сюда в раскрытой ему навстречу Клариной киске, сама же она, тонкая и нежная, отчаянно, неистово обнимала профессора, погрузив свои пальцы, словно острые скобы, в его спину, и, удрученная лишениями, отчаявшаяся в правильности устройства мира, кричала: «Спаси меня, спаси!»
Происходило это примерно тогда же, когда Пандура поступил на службу в венскую полицию. Он давно уже обдумывал этот шаг и вот наконец решился.
Нести обычную службу ему удалось, правда, не очень долго. Он ведь еще во время работы билетером в кинотеатре, подстегиваемый кинохроникой, которую смотрел трижды за вечер перед каждым сеансом, пристрастился к политике, особенно к внутренней, сделав ее своим коньком. Скоро он стал считать себя настоящим экспертом в этой области. В полицейском участке он среди коллег приобрел известность благодаря тому, что, долго ли коротко ли сидя за газетой, вдруг отрывался от своего бутерброда и кофе и громко, с выражением начинал читать вслух только что прочитанное, не обращая внимания на то, слушал его кто-нибудь или нет.
Обычно же с усталым и прогорклым выражением лица он сидел за своим столом и листал иллюстрированные журналы.
В центре города проходила демонстрация — люди протестовали против строительства атомной электростанции — и, несмотря на ее малочисленность, на всякий случай туда направили полицейские наряды, в том числе и Пандуру, — так вот, при одном виде демонстрантов, которые несли самодельные транспаранты и хором выкрикивали лозунги, Пандура вышел из себя, разъярился и бросился с дубинкой на протестующих. За неадекватное поведение его отстранили от несения наружной службы и нашли ему занятие только в пределах службы внутренней. Он на время успокоился.
Жизнь Георга, и это было отчетливо видно, устремлялась к своей вершине. К слову «вершина» следовало бы добавить, пожалуй, что все, что с ним происходило, не было связано с геометрическим представлением о некоей высшей точке, а растянулось на несколько лет — на годы, которые, правда, как и любое счастливое и прекрасное время, пролетели быстро, слишком быстро.
Дома, на вилле в Хитцинге, установился следующий порядок: с одной стороны, там жила его мать, тихая и превратившаяся в собственную тень. Она больше не выходила из своей комнаты, а чем она там занималась, оставалось тайной. Может быть, и ничем. Георг видел мать редко, примерно раз в две недели, за заранее назначенным обедом. Он заглядывал ей в глаза и видел в них одну только беззаветную преданность. Чего же ему еще было желать?
В расходной книге, которую ему ежемесячно представляла на проверку нанятая на постоянную работу экономка, мать вовсе не фигурировала, ей ничего не было нужно для себя, ни на платья, ни на что другое! Что касается Клары, тут все выглядело совсем иначе. Хотя Клара весьма редко, на Рождество или по какому-нибудь сходному поводу, покидала свое убежище и появлялась в просторных комнатах виллы, однако статьи ее расходов были весьма внушительными, а списки ее заказов и покупок — довольно длинными.
Георг задавался порой вопросом, зачем нужны десять пар шелковых чулок и дорогое нижнее белье, если она ни днем, ни ночью не встает с постели! А может как раз потому ей и нужно все это? И он откладывал расходную книгу в сторону.
Фирма Георга выросла до огромных размеров.
Когда он в минуты отдохновения закрывал глаза, откинувшись в кресле, то в узкой полоске между сомкнутыми веками ему виделось золотое сияние. Эта полоска изгибалась, как береговая линия озера или какого-нибудь моря. Совершенной пошлостью было бы соотносить золотистый цвет этих вод, волшебное и приводящее в восторг струение воздуха вокруг — с богатством или с деньгами. В этом море заключалось нечто доисторическое, вневременное и вечное: подобно тому, как над болотами, покрывавшими землю в каменноугольный период, трепетало ожидание, что из них скоро вынырнут головы и длинные шеи жутких динозавров, подобно тому, как на берегах еще неизведанного Нового Света — пока еще невидимые для глаза — развевались, жадно наполняясь свежим ветром, флаги и паруса конкистадоров, так и над сладострастным океаном фантазий Георга парило ожидание великих и неслыханных деяний, которые еще грядут.
Был один из дней поздней осени, и день этот уже клонился к концу. Георг, неизвестно почему, вернулся домой с работы раньше обычного. Он сидел в зале, глядя в сад. Там стояла скульптура блудного сына, окруженная деревьями, листва которых уже окрасилась в цвета осени. Скульптуру установили там по настоянию матери.
Георг улыбнулся, остановив взгляд на скульптуре, что он делал нечасто, рассматривая искусно изготовленное из бронзы жалкое тряпье, лоскутами и в беспорядке свисавшее с фигуры, стоящей в согбенной позе. В какую сторону смотрел этот смешной герой? Вдаль? В сторону дома? С точки зрения искусства скульптура эта ничего не стоила. Обычный китч.
Тень недовольства скользнула по лицу Георга, когда он заметил, что, поскольку солнце стояло уже совсем низко и в тени от больших деревьев все приобретало приблизительные и размытые очертания, — он не может выделить взглядом лицо блудного сына, не может разобрать его черты.
Особая благодарность Кристе, Лукасу и Тони
Написано в Вене, США, Японии и на Тавеуни (Фиджи) в 1998–2004 гг.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Улица в центральном районе Вены.
(обратно)2
Широкая улица, опоясывающая центральный район Вены.
(обратно)3
Энгельберт Дольфус — в 1932–1934 гг. канцлер Австрии, активно противостоял политике аншлюса Австрии, проводимой Гитлером. Дольфус симпатизировал итальянскому фашизму и заручился поддержкой Италии в своем противостоянии с нацистской Германией.
(обратно)4
Я тогда была маленьким ребенком (англ.).
(обратно)5
Приятные, очень приятные (англ.).
(обратно)6
Мою мать убили (англ.).
(обратно)7
В католической церкви подросток или юноша-мирянин, прислуживающий священнику во время мессы и иных богослужений.
(обратно)8
Национальный женский наряд в Австрии и Южной Германии.
(обратно)9
Вторая кольцевая улица Вены, опоясывающая город («гюртель» по-немецки — пояс). Была создана в 1890-х гг. на месте бывших фортификационных сооружений, составлявших первую линию обороны города.
(обратно)10
G’scherte — «стриженые» — уничижительное именование деревенских жителей в южной части Германии и в Австрии (в старые времена крестьянам не дозволялось носить длинные волосы и бороды — атрибуты высших сословий).
(обратно)
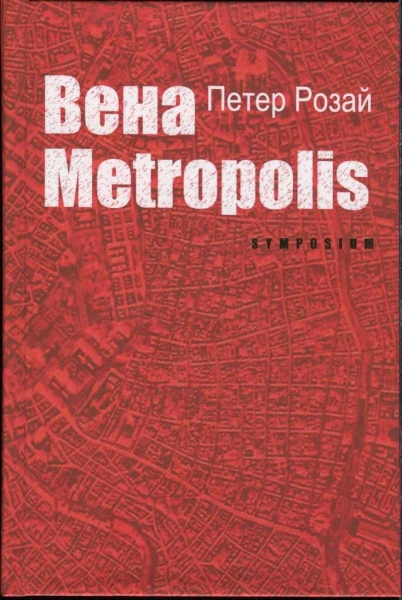






Комментарии к книге «Вена Metropolis», Петер Розай
Всего 0 комментариев