Ирина Грекова Летом в городе
Когда цветут липы, город весь погружается в запах. Пахнет в трамваях, в магазинах, на лестницах.
В большом библиотечном зале тоже пахло липами. Окна были раскрыты, и, когда налетал ветерок, каждый чувствовал присутствие лип.
Шла читательская конференция. Все было как полагается. Стол, накрытый зеленым сукном. Графины, цветы в горшках, микрофон. Народу собралось много, человек сто, не меньше. В президиуме сидел писатель Александр Чилимов. У писателя было хмурое, немолодое лицо, чуть отечное книзу, с глубокой, врубленной морщиной между бровей. Он положил на зеленое сукно большие, жесткие руки и смотрел прямо перед собой, на портрет Тургенева.
У другого конца стола, на самом краешке стула, примостилась заведующая библиотекой Валентина Степановна. Она волновалась. В горле у нее першило, в глазах жгло. Когда кто-нибудь из выступающих путался или запинался, она начинала мучительно шевелить губами.
Только что отошел от микрофона Миша Вахнин, слесарь с инструментального завода. Эх! Так вчера хорошо рассказывал, а теперь сбился. Генриха Бёля назвал Генрихом Боклем. Никак не мог выговорить «экзистенциализм». В зале смеялись. Обидно! Знали бы они его... Ведь у человека свои мысли, свежий взгляд — это не часто бывает.
...А писателю скучно. Сколько он, верно, слышал таких выступлений...
К микрофону вышла любимица Валентины Степановны — лаборантка Верочка из соседнего НИИ. Развитая, умница — просто чудо! Ну, за эту можно не бояться. А писатель все смотрит на Тургенева — чудак, смотрел бы на Верочку. Одни глаза чего стоят. А сама мягкая, тонкая, гнущаяся, как церковная свечка.
Верочка говорила, волнуясь, что называется, «переживала». Она все сгибала-разгибала в руке конспект, а потом бросила его на стол, ухватилась одной рукой за стержень микрофона и говорила-говорила, щекой к микрофону, и эта щека у нее покраснела, словно микрофон был горячий...
«Милая моя, ну можно ли так волноваться? — думала Валентина Степановна. — А какая хорошенькая! Что-то в ней старинное, эпохи Возрождения, что ли. Где это я видела такую картину: девушка с лилией в руке? Точь-в-точь Верочка с микрофоном».
Чтобы не смущать Верочку, Валентина Степановна даже отвернулась, стала глядеть в окно. За окном жил своей жизнью бульвар. Мальчик в матроске бежал за красным мячиком. Катились коляски, кормились голуби. Надо всем этим нависла большая синяя туча. Парит. Наверно, будет дождь.
Верочка кончила. Раздались аплодисменты. Она оторвала руку от микрофона и пошла на свое место, гибко лавируя между стульями. Проходя мимо Валентины Степановны, она наклонилась, выдохнула шепотом:
— Ну, очень плохо?
— Нет, Верочка, очень хорошо.
— Ох, вы всегда меня утешаете, — и ускользнула.
Писатель сидел так же неподвижно, с морщиной между бровями. Хоть бы улыбнулся, что ли.
— Слово имеет Марья Михайловна Ложникова, пенсионерка, старейший член библиотечного совета.
Вышла очень маленькая кудрявая старушка со спущенным на одной ноге чулком. Слуховой прибор висел у нее на цепочке, как охотничий рог. Она разложила на зеленом сукне листочки конспекта. Много листочков. Писатель содрогнулся. Марья Михайловна подошла к микрофону, поднялась на цыпочки и металлическим голосом завопила на весь зал:
— Товарищи! Сейчас, как никогда...
— Не так громко! — закричали в публике.
— Что? — спросила Марья Михайловна. Она была похожа на чижика: кивает, словно клюет.
— Не так громко! Потише! — надрывались в зале.
— Не слышу! — победно крикнула в микрофон Марья Михайловна.
Ну вот, опять смеются. Валентина Степановна вышла вперед:
— Марья Михайловна, дорогая, подальше от микрофона, и не надо так кричать.
Она взяла старушку за плечи и переставила. Какая легкая старушка! Пепел.
— Стойте так и не напрягайте голоса, пожалуйста.
Марья Михайловна чижиком поглядела поверх очков и поднесла рог к уху.
— Не так громко! — крикнула в раструб Валентина Степановна. Все это походило на цирк, и она страдала.
— А, не так громко? — поняла наконец старушка. Она снова ухватилась за свои листки и привстала на цыпочки: — Товарищи, сейчас, как никогда, имеет место огромная воспитательная роль литературы. Сегодня мы обсуждаем произведения уважаемого Александра Петровича...
(О ужас! Писателя звали Александр Александрович.)
— ...Это хорошие, качественные произведения. В них мы воочию наблюдаем передовые черты героев нашего времени, поколения строителей коммунизма. Особенно удаются уважаемому Александру Петровичу (опять!) образы борьбы за перевыполнение плана, против бюрократизма и волокиты. Однако не со всеми образами мы можем согласиться. Например, среди образов Александра Петровича фигурирует личность Вадима, который на страницах романа ведет себя отрицательно, допускает целый ряд аморальных поступков, буквально пьет! Как старая учительница я спрашиваю вас, Александр Петрович: кого и чему может научить такой Вадим? Можем ли мы воспитывать молодежь на таких примерах, я вас спрашиваю, Александр Петрович?
Она обернулась к писателю.
— Александр Александрович, — умоляюще подсказала Валентина Степановна.
— Не слышу!!!
— Александр Александрович!! — крикнула в рог Валентина Степановна.
— А, — закивала старушка, — понятно. Можем ли мы воспитывать молодежь на таких примерах, я вас спрашиваю, Александр Александрович?
Писатель отрицательно затряс головой. Теперь — наконец-то! — он улыбался.
— Отлично! — обрадовалась Марья Михайловна. — Смотрите: он уже признает свои ошибки. Ну, я скажу дальше, — она снова взялась за листки. — Такие примеры, как Вадим, могут только дезориентировать молодежь, толкнуть ее на ложный путь морального разложения. Надо показывать молодому поколению подлинные примеры героизма, подражание которых... подражая которым...
Она засуетилась, ища продолжение.
— В общем, ясно, — сказал толстый парень в первом ряду.
— Дайте выступить человеку, — огрызнулась тощая женщина в комбинезоне, рядом с ним.
Старушка все суетилась, перебирая листки:
— Не будет ждать своего времени... нет, не то... ах, да... выводит в своем герое... опять не то... кажется, вот, нашла: «...в человеке должно быть все прекрасно, лицо и одежда, душа и мысли», как учил великий русский писатель, Антон Павлович Чехов.
— Знаем, — сказал толстый парень.
— Цыц! — прикрикнула женщина в комбинезоне.
— Дальше у меня на другом листе, — заторопилась Марья Михайловна. — Сейчас, только найду.
Руки у нее дрожали, листочки рассыпались, часть упала на пол. Писатель подскочил, бросился подбирать.
— Зачем это, зачем? — бормотала Марья Михайловна. — Вы — писатель с мировым именем — и листки с полу... Я сама, сама...
Несколько голов из президиума скрылось под столом. Писатель вынырнул первым. Его большое лицо покраснело от усилий. Он собрал листки вместе и вручил Марье Михайловне. Она уже заулыбалась, закивала:
— Спасибо, не стоит. Я лучше так, без бумажки скажу. Конечно, не на таком уровне, но от души. Самое главное — читала я ваши произведения и плакала. А меня не так уж легко до слез довести. Соседка по квартире оскорбляет — не плачу. Глохну — не плачу. А ваши произведения читаю — и плачу. А помните, как у вас Вадим этот самый с похорон матери домой идет? Не помните? Напрасно! Я вам сейчас прочитаю. У меня здесь выписано... Хорошо, не надо. Просто скажу: плакала. Здесь и еще в девяти местах. У меня закладки заложены, где плакала. И за эти слезы вам, Александр Петрович, большое спасибо и низкий поклон.
Она отступила от микрофона и низко, по-монашечьи поклонилась писателю в пояс. Зашумели аплодисменты. Александр Александрович встал, мешковато вышел из-за стола и поцеловал Марье Михайловне руку. Она клюнула его в лоб и заплакала. Зал зашумел еще громче. Люди вставали, аплодировали, кричали: «Спасибо, спасибо!» Толстый парень в первом ряду хлопал особенно громко, как пушка. Марья Михайловна сбивчиво шла на свое место, закрывая лицо платком. Писатель стоял, опустив глаза, и неуверенно, тихонько похлопывал ладонью о ладонь. Седой клок у него на лбу вздрагивал. Наконец он сел. Публика тоже стала садиться. Валентина Степановна постучала по микрофону. Затихло.
— Товарищи, выступило уже десять человек. Больше записавшихся нет. Может быть, кто-нибудь еще хочет выступить? Или предоставим слово Александру Александровичу?
— Просим, просим, — загудел зал.
Писатель встал — большой, смущенный, с опущенными руками. Сразу стало совсем тихо. Тоненько звенел микрофон.
— Что мне вам сказать? В нашей жизни, в писательской, бывает всякое: хорошее и плохое. И плохого, по правде сказать, больше. Пишешь, и рвешь, и снова пишешь, и снова рвешь, и так далее. И чувствуешь себя этаким бездарным, паскудным, исписавшимся... да что говорить. И подлецом иной раз себя чувствуешь, чего скрывать. Бывает. А бывает иногда и хорошее. Не в газете похвалят — это что! Хвалят, ругают — дело случая. А вот когда понимаешь, что кому-то нужен. Это большое дело. Вы тут сегодня меня благодарили — не вам меня благодарить. Спасибо вам, дорогие друзья. И дай вам бог, как говорится, счастья в жизни.
У, какой поднялся шум! Валентина Степановна торопливо постучала по микрофону:
— Тише, тише. Александр Александрович не кончил. Продолжайте, пожалуйста.
— Да что продолжать? У меня вроде все.
— Слышали, товарищи? К сожалению, все. Разрешите, товарищи, от вашего лица поблагодарить Александра Александровича... От имени всего коллектива сотрудников библиотеки, от читательского актива и всей массы читателей...
Аплодисменты, стук стульев, шарканье подошв. Народ задвигался, начали вставать, выходить, выбираться кто куда. По людскому потоку заходили водоворотики... Вокруг писателя образовалась толчея: кто задавал вопросы, кто совал книгу — подписать, кто фотографировал... Сразу стало горячо и густо. Валентина Степановна знала: тут-то и начинается самое главное. Самые открытые, самые нужные разговоры. Сперва здесь, на пороге зала, потом на улице, под бледными глазами фонарей, на набережной, на влажных садовых скамейках... А вечер все длится, и нет сил расстаться... Все хороши, все умны, все друг друга любят...
Нет, ей сегодня никак нельзя было оставаться. Лялька придет, а обеда нет.
— Александр Александрович, спасибо! Мне так жаль, я должна идти.
— Ну что ж, идите, Валентина Степановна. Я тут с вашей молодежью поговорю. Прекрасная у вас молодежь.
— Да, молодежь у нас чудесная.
— Приезжайте к нам еще! — крикнула вихрастая девчонка, крупно осыпанная веснушками.
— Приеду, непременно.
А дождь-то, оказывается, был. На улице стояли большие лужи. Да, молодежь у нас отличная. После дождя еще сильнее пахнут липы. Противный, в сущности, запах. Сладкий, навязчивый, приторный... Нет, подлый. Именно подлый запах. Как тогда пахли липы... Интересно, до чего же все-таки живуча память. Неистребима. Столько лет прошло, все отболело, а вот запахло липами — и как вчера!
Валентина Степановна шла бульваром. Под липами сидели пенсионеры. Старики с белыми нимбами вокруг лысин играли в «козла». На скамейках сидели женщины с тяжело расставленными, опухшими ногами. На коленях они стоймя держали сумочки, заслоняя круглые животы. Ходили голуби, дети играли в песок.
Впереди шел какой-то мужчина в широком клетчатом пиджаке, тоже, видно, пенсионер. Он шел понуро, уронив вправо неряшливо остриженную голову, пеструю от седины. В его походке сзади было что-то знакомое, какой-то затаенный пляс. Неужели? Мужчина обернулся. Так и есть, это Володя. Но как постарел!
— Валюша, ты? — сказал Володя.
— Как видишь, я.
— Давно мы с тобой не видались, — забормотал Володя. — Года три, а? Я, признаться, здесь уже второй день прохаживаюсь, жду тебя. Ты все там же работаешь?
— Там же.
— Там же... И все такая же. Не меняешься. Даже помолодела.
— Это известный трюк: говори женщине, что она помолодела. Не ошибешься.
— Нет, кроме шуток. А знаешь, я давно мечтаю с тобой встретиться. Знаешь, когда подходишь к завершению жизни... тянет к тем, кто был особенно дорог. Ты не замечала?
— Нет, — сказала Валентина Степановна. — Я не подхожу к завершению жизни. Ты — как хочешь, а я — нет.
— Ну, ты всегда была строга. Узнаю тебя, узнаю! — засмеялся Володя и на секунду показал высокие, узкие, все еще красивые зубы.
Те самые зубы. Как она их любила. Все прошло, все.
— Давай хоть посидим немного, — предложил Володя. — Мне хочется с тобой поговорить. Именно с тобой. Я ведь одинок. Не веришь? Честное слово.
— Сядем, — устало согласилась Валентина Степановна.
Очарование только что прошедшей конференции погасло, улетучилось.
Они сели на одну из пенсионерских скамеек. Высокая старуха с библейскими глазами, кормившая голубей на другом конце скамьи, встала, строго посмотрела на них и отошла.
Володя сел, потирая руки, — косоплечий, мешковатый в своем пиджаке. Ногти не совсем чисты... Не следит она за ним, что ли?
— Да, много воды утекло, — сказал Володя. — Я теперь часто возвращаюсь мыслями к прошлому и вижу, что, пожалуй, мы с тобой допустили ошибку.
— Говори об одном себе. Я никакой ошибки не допустила.
— Злючка, чертополох, — сказал Володя и опять улыбнулся.
Зубы... «Не хватает еще мне раскиснуть от этих зубов», — подумала Валентина Степановна.
— Нет, кроме шуток, мне всегда тебя недоставало. А сейчас, когда я вижу тебя такой моложавой, интересной, подтянутой... Честное слово, во мне начинает что-то шевелиться...
— Ну и пошляк же ты стал, — грустно сказала Валентина Степановна, чертя каблуком песок. — Или, может быть, ты всегда был пошляком, только я не замечала?
— Пошляк, именно пошляк, — обрадовался Володя. — Метко сказано. Надо сознаться, без тебя я немного опустился морально и, пожалуй, физически. Маня — прекрасная женщина, хороший врач, но нет в ней этого самого... вечно женственного. Вообрази, я иногда вынужден сам себе стирать трусы и майки... Мне, конечно, нетрудно: квартира в новом доме, горячая и холодная вода, мусоропровод — это все есть. Но мужчине даже как-то неловко заниматься хозяйством, правда? Возьми литературу: где ты найдешь мужчину домашнего хозяина? Это как-то противоестественно. С тобой я этого не знал. Вспоминаю, как ты прелестно хозяйничала в нашей маленькой комнатке на шестом этаже. В нашей мансарде. Помнишь?
— Забыла.
— Не верю. Женщины никогда не забывают.
«Боже мой, — думала Валентина Степановна, — это самое лицо, эти самые зубы я любила. И как! Просыпалась: люблю. Засыпала: люблю. Все: люблю».
— Липы пахнут, слышишь? — спросила она.
— Да. Чудесный запах.
— Ну, ладно, мне пора идти, — сказала Валентина Степановна. — Лялька ждет.
— Да, кстати, как Лялька? — спросил Володя с голодным каким-то лицом. — Совсем взрослая? Институт кончает?
— На третьем курсе.
— Красивая, наверно.
— Для меня — очень красивая.
— На кого похожа?
— На тебя.
— А веришь ли, — раздумчиво сказал он, — я этим живу. Ты мне, конечно, не поверишь, но это факт. Я вами — тобой и Лялькой — живу.
— Ну что же, — сказала Валентина Степановна и встала. — Живи. Мне пора.
Он тоже встал:
— Валюша, а может быть, ты позволишь мне, старому человеку, иной раз забежать на огонек? Посидели бы за чайком, поговорили бы... Посмеялись. Вспомнили прошлое.
— Ни к чему это.
— Все-таки я ей отец.
— Она тебя не знает и знать не хочет.
— Грустно, — сказал Володя.
Старый Володя. Жалко его все-таки.
Она спросила:
— Здоровье-то как?
— Здоровье ничего.
Попрощались. Рука у него была слабая, вялая, какая-то мертвая. Дойдя до конца аллеи, она обернулась. Володя сидел, опустив руки. Его клетчатый серый пиджак казался издали зеленоватым.
Валентина Степановна поднялась по лестнице не спеша. «Не спешить, на каждой площадке считать до ста», — сказал врач. Ничего не поделаешь. Считай теперь до ста. До самой смерти считай.
В сумке у нее лежали ранние овощи: редиска, петрушка, морковь, салат. Все это было влажно, свежо, молодо-зелено. Не в ларьке брала — на рынке. Дорого, зато хорошо. Ляльку подкармливать надо: Лялька бледна.
На последней, шестой площадке она сосчитала только до пятидесяти и отперла дверь. Замок щелкнул — она дома.
— Ты, что ли, Степановна? — окликнула ее с кухни соседка Поля.
— Я, а что? Ляля не приходила?
— Не было. В десять глаза продрала, прическу всколотила — и вон. Ни чаю не попила, ничего. Все некогда. Вот не дрыхла бы до десяти часов, все бы успела. Я...
— Не звонила она?
— Вроде бы нет. Мне ни к чему. Ковер выбивала. Пылища! Глаза застит. А может, и звонила. Мне ни к чему. Мне звонить некому — я и не слушаю. Пускай себе дрынчит.
С Полей всегда так: ты ей слово, а она тебе — двадцать. Валентина Степановна разделась и прошла к себе. В комнате прохладно, окно открыто, и белая занавеска вздута ветром.
Села за стол, чтобы подумать. Она всегда думала перед тем, как начать работу по дому. Думала недолго: минуты три. Расставить дела по местам, пригнать их плотно, без зазоров. Чтобы на все хватило времени и не торопиться.
...Разобрать, почистить овощи — раз, суп поставить — два, пока суп варится, белье прополоскать — три...
Она считала и загибала пальцы, начиная с мизинца.
Лялька всегда над ней смеялась, поддразнивала:
— Первая колонна стоит, вторая колонна идет... Полководец!
— Надо же сообразить, что когда сделать. Потому у меня и хватает времени, а у тебя — нет.
— Все равно я так не умею. Планировать.
— Все ты умеешь, Лялька, когда захочешь.
А и верно, Лялька все могла, когда хотела. Но только все полосами. Полоса шитья. Сшила себе вечернее платье. Подруги приходили — ахали. Что платье — Олегу сшила брюки! Потом — полоса стряпни. Достала где-то поваренную книгу, восемнадцатого, что ли, века. Пестрый фартучек на отлете, тонкие руки по локоть в муке...
Поля стояла рядом, вперед животом:
— Неш так пекут? Кто так пекет? Пресное тесто — оно пресное и есть, а кислое — кислое. А ты в одну охристобратию все. И тут тебе дрожди, и тут тебе сода, и сдоба туда же, как идиотство. И все она по книжке. Нет чтобы людей спросить. Нет, по-нашему, кислое, оно и есть кислое, а пресное — пресное...
— Слушай, Поля, а ты когда-нибудь ошибалась? — спросила Лялька.
— Нет. А как это: ошибалась?
— Очень просто. Была ты когда-нибудь не права?
Поля честно подумала и ответила скромно:
— Не вспомню. Будто не была.
...А пирог-то вышел хорош: высокий, дородный, румяный... Даже Поля, попробовав, сказала: «Ничего», но тут же добавила: «А по-нашему лучше».
Так же вот, полосами, шло у Ляльки ученье. Полоса пятерок, портрет на доске передовиков учебы — Валентина Степановна радуется. Следующую сессию начнет с двойки. Лежит, курит: «Не хочу учиться, хочу жениться!»
— Лялька, как тебе не стыдно? С твоими способностями...
— Еще неизвестно, к чему у меня способности. Может быть, во мне погибла певица.
И вот — полоса музыки. Купила гитару, научилась играть по самоучителю. Поет под гитару — старательно, но фальшиво. Слуха нет.
— Нет, Лялька, в тебе не погибла певица.
— А что? Очень плохо?
— Очень.
— А как же Борька в меня влюбился, когда я ему Кармен изображала? За пение.
— Не «за пение», а «несмотря на пение».
— И это — мать! Это не мать, а зверь. Настоящая мать должна слепо — понимаешь? — слепо обожать свое дитя. Создавать ему золотое детство. А теперь проверим. Мышонок, хорошо я пою?
— Плохо.
— Ох, честность тебя погубит. А все-таки я тебя люблю...
Посмотрит, свесив голову набок, а потом взвизгнет тоненько и целовать:
— До чего же хорош! До чего мал! До чего мил!
Ну, ладно. Пора идти. Почистить овощи — раз, суп поставить — два. Валентина Степановна вышла на кухню, взяла с полки мисочку, с гвоздя дощечку. Все у нее на своем месте, каждая вещь — на своем гвозде. Это не педантизм, просто экономия времени.
Она начала разбирать овощи. Рядом стирала Поля, низко нагнув спину над цинковым, видавшим виды корытом. Кофта у нее на спине потемнела от пота.
— Поля, взяли бы вы мою машину стиральную. Гораздо скорее. Я вчера большую стирку — за час...
Ой, не надо было начинать. С Полей всегда так: дернешь — и польется. Так и есть.
— Машина!!! Видали мы ваши машины. На все — машины. Высморкаться или там до ветру сходить — и то скоро машину придумаете...
(В глазах Поли Валентина Степановна была олицетворением интеллигенции, со всеми ее грехами и слабостями.)
— ...Нет, Валентина Степановна, мне вашей машины не надо. Даром не возьму, не то что тысячи платить. Крутит-крутит, а чего крутит — неизвестно. И по часам за ней следи. Кругом четыре минуты. Грязь, не грязь, белое, черное, — ей все равно. Четыре минуты. Разве я руками-то четыре минуты стираю? Я, может, каждое пятнышко на свет гляжу. Маруська-нижняя давесь на машине постирала — обхохотались мы. Все вместе склала — и давай крутить. А что вышло? Псивое белье и псивое.
(«Маруська-нижняя» была соседка снизу, вечный предмет Полиных осуждений.)
— Тяжело руками-то, — вздохнула Валентина Степановна.
— Тебе, матушка, все тяжело. Не молодая, да и сердечная. Я твоих лет, а все покрепче. Выдубила я себя работой. Постираю небось белей твоей машины.
— Ну, как хотите.
Поля опять нагнулась над корытом и стала сердито двигать спиной. Валентина Степановна крошила овощи. Тихо было. Только белье плескалось в корыте да ножик о деревянную дощечку: стук, стук.
«Слава богу, молчит, — думала Валентина Степановна. — Имеет же право человек на личную тишину».
Нет, с личной тишиной ничего не вышло. Поля еще не наговорилась.
— Вот, Степановна, я что тебе скажу. У Дуськи Саврасовой племянник молодой, а культурный. До того культурный, просто прелесть. Техникум кончил. Бывало, идет на гулянку — нарядится, нагладится, как херувим. На боку — приемник, транзистор. Ну, все как есть. Мы с Дуськой глядим, не нарадуемся. Комнату ему дали, и съехал он от Дуськи. Живет ничего, только стал у него волос падать. Ну, падает и падает, и захотел он жениться. Дуська не против, ей что, не у ней живет. Расписался он на женщине. Сперва ничего, а потом стала хулиганить. Белое, серое и розовое вместе кипятит, это надо подумать! Он сперва молчал, потом стал требовать. Она — пуще. Веревками привязывает бюсгалтер — до какого нахальства дошла. Нет, не будет он с ней жить, разойдется. Парня жалко, больно хорош.
(Поля никого не могла похвалить, не осудив кого-нибудь другого. Хвалила она чаще всего себя.)
— Я такого нахальства — бюсгалтер веревками! — не позволю. Я хоть и простым сторожем работаю, ваши вузы-пузы не кончала, а культуру знаю. Муж-покойник пьет — а мне все терпимо. Наблюет — вытру, не то что перед соседями срамотиться. Бельишко ему постираю, вычиню, выглажу — как светлое христово воскресенье...
Замолчала. Тихо. Только белье трется.
— А что я тебя хотела спросить, Валентина Степановна, — внезапно сказала Поля. — Ваш-то заболел или так просто не ходит?
— О чем это вы, Поля? — лицемерно спросила Валентина Степановна.
— Прямо не понимаешь? — прищурилась Поля. — Об ком же, как не об Олежке об вашем? Не слепая. Стенке — и то в глаза кинется. Ходил-ходил парень, и здрасте, перестал, как водой в ньютазе смыло. И на Лариске-то твоей образа нет — не вижу, что ли? Красится-мажется, а сама как смерть загробная.
Валентина Степановна молчала.
— Таишься ты от меня, ох, таишься. А чего таиться? Дело-то житейское, бабье. Я вам с Лариской худа не хочу. Девка при мне выросла, ниже стола на кухню бегала: тетя Поля то, тетя Поля се. Мало я ей соплей подтерла? А ты на службу свою фр-фр, хвостом махнула — и нет тебя. А Поля здесь, куда она денется. Ребенок все-таки, не кошка. Я и кошек жалею. А ты со мной, будто уши у меня, как у свиньи.
— Поля, милая, не обижайтесь. Я от вас ничего не таю, честное слово. Я сама ничего не знаю.
— Шила в мешке не утаишь — проколет наружу. Ходил парень и не ходит. И девка сама не своя. А она, часом, не со свежей икрой?
— Бог с вами, что вы только говорите, Поля, да и какими словами, никак не могу привыкнуть к вашему жаргону.
Валентина Степановна ножиком сбросила зелень в уже закипающий, помутневший суп.
— Уж и обиделась, — сказала Поля. — Жиргон какой-то. Вы меня такими словами не трогайте. Больно вы тонкие, тоньше волоса. Сама-то что, не рожала? Не гуляла? И рожала, и гуляла, а слова сказать нельзя. А ты лучше за бельем Ларискиным поглядывай. Девка неряха, все швырь да швырь, а ты поглядывай.
— Простите, Поля, у меня голова болит, — сказала Валентина Степановна и ушла к себе в комнату. Как в подполье.
...Белье прополоскать — три... Прополощешь тут белье — на кухне Поля. Удивительное многословие. Наверно, оттого, что не читает. Это у нее вместо чтения. Приучить ее, что ли, к книгам? Не выйдет. Скорее она меня отучит.
Чтобы не терять времени, Валентина Степановна переставила дела, стала вытирать пыль. Успокоительное занятие. Руки заняты, голова свободна, никто рядом не бубнит, и можно думать о чем угодно, хоть о сегодняшней конференции. Ничего, удачная вышла конференция. Но нет, о конференции не думалось, в голову лезли совсем другие мысли: Ляля, Олег.
На стене фотография: Ляля с Олегом в лесу, на лыжах. Олег — прямой, статный, темноволосый, на широкой груди — свитер в обтяжку. Черные брови срослись над прямым носом. Рядом — Лялька: стоит, вся перегнулась, словно повисла на лыжах, одна нога далеко в сторону, хохочет, в волосах снег...
Зазвенел телефон. Валентина Степановна вышла в коридор, взяла трубку.
— Мышонок, ты? — сказал издалека любимый, смутный, низковатый голос.
— Я, милая. Откуда ты? Я тебя жду. Есть салат.
— О, салат! Это удачно. Люблю салат. Мышонок, ты меня слышишь? Я тебя люблю. Понимаешь?
— Понимаю. А ты когда будешь?
Лялькин голос помедлил и сказал, чуть надломившись:
— Не знаю. Скоро. А мне никто не звонил?
— При мне никто. Может быть, Полю спросить?
— Не надо.
— Хорошо, не надо. Так я жду тебя.
— Договорились.
Валентина Степановна повесила трубку. Не успела отойти — опять звонок. Хоть бы Олег!
— Валюнчик, это я.
— Жанна! Куда же ты пропала?
— Ах, это целая история. Вообрази, я опять влюбилась.
— Господи помилуй!
— Да. Ужасайся не ужасайся, моя добродетельная подружка, придется тебе принять меня, какая есть. Труля-ля. Осуждаете, Валентина Степановна?
— Что ты — осуждаю! Радуюсь за тебя.
— Ты знаешь, ему больше всего понравились мои икры. В этих икрах — он говорит — вся элегантность века.
— А он не дурак?
— Мм... не знаю. Но ведь я и сама не умна. Верно?
— Пожалуй, верно.
— Люблю за искренность. Ты все такая же девочка-правдочка, как в школе.
— Нечего сказать, девочка! Скоро буду бабушка-правдочка.
— Как? Уже!! Лялька?
— Что ты, нет. Это я просто о возрасте.
— Да, возраст — это наш кошмар, не правда ли? И все-таки не хочется расставаться с иллюзиями, верно?
— Ты знаешь, я давно с ними рассталась.
— И я. Но время от времени они все-таки появляются. В прошлом году я уже совсем отказалась от любви — хватит. А тут опять она налетела на меня как ураган. Чувствую, что-то клубится, клубится... Нет, Валюнчик, по телефону этого не выразишь. Можно, я к тебе зайду? Ты что делаешь?
— Обед готовлю. Ляльку жду.
— Ну, я на одну маленькую минутку. Посижу, папироску выкурю — и нет меня. Можно?
— Конечно, можно.
— Целую.
— Жду.
...Ох, эта Жанна. Смех и слезы. А люблю ее. Вся жизнь вместе — это не шутка, вся жизнь. Вместе в школе учились, вместе работали. Вместе бедовали в войну. Если бы не Жанна, пропали бы мы обе: я и Лялька. У девочки уже цинга начиналась. А кто спас? Жанна. Фрукты, лимоны... Это в войну-то! Откуда? Спросишь — смеется: «Заработала честным трудом». Какой-то был у нее там заведующий складом. Кто ее осудит? Не я.
А Лялька-маленькая, до чего же она была хороша! До страдания. Даже прохожие на улице останавливались и страдали: какая девочка! Волосы черные, глаза зеленые, взгляд строгий, а ресницы... Да, давно я не видела Ляльку черноволосой... Каждую неделю новый цвет: то спелой ржи, то красного дерева... А недавно пришла вся седая, с сиреневым оттенком. Очень просто: серебряная краска, чуточку школьных чернил — и все.
— Лялька! Опять новый цвет? Пощади. У меня же сердце.
— Надо идти в ногу с веком, мышонок. Равняйся, подтягивайся. И вообще о чем разговор? Мои волосы? Мои. Мои губы? Мои. Хочу и крашу. Не нравится? Золото ты мое! Это в тебе девятнадцатый век играет.
— Лялька, меня же не было в девятнадцатом веке, и ты это отлично знаешь.
— Все равно. Душой ты в девятнадцатом веке. Такой уютный век. Все ясно, как у Поли: белое — белое, черное — черное. Ты бы хотела меня видеть чистой, белой, тургеневской, с удочкой в руках над старым прудом. Образ Лизы Калитиной, «Дворянское гнездо».
— Все врешь.
— Ну, вру. Ты у меня молодой. Ты у меня красивый. А уши-то, уши! Как две камеи. А волосы? И седых-то почти нет. Ох, задушу!
— Лялька, сумасшедшая, пусти...
А Лялька у зеркала — вот тоже картина. «Делает себе лицо». Серьезные, страдальческие губы, черный карандаш в углу зеленого глаза... Два-три штриха — и глаз оживает: продолговатый, загадочный, раскосый... А потом отделка ресниц. В руке тупой перочинный ножик. Этим ножом ресницы терпеливо, по одной, загибаются кверху. И непременно тупым. Однажды Олег — аккуратный Олег — нашел у нее этот ножик и наточил. Услужил, нечего сказать! Лялька чуть ресницы себе не отхватила. Потом ножик нарочно тупили на цветочном горшке...
Эх, Олег! Ну, чего ему не хватало?
Звонят. Наверно, Жанна пришла. Так и есть — она. Дверь открыла Поля и, буркнув, ушла на кухню. Не любит она Жанну.
— Валюнчик, здравствуй, солнышко! Дай поцелую. Я тебя не покрасила?
— Кажется, нет. Заходи.
Из-за кухонной двери слышался монолог Поли:
— Пустая баба, кривое веретено. Туда — круть, сюда — верть, а чего модничать, пора о душе подумать. Пятый десяток — не двадцать лет! А она на себя накручивает. И Лариска за ней. Туда же.
— Это что, Поля говорит? С кем она?
— Сама с собой. Это она так. Не обращай внимания.
— И тужится она тужится, и пыжится она пыжится, — громко сказали за дверью. — Ей пятьдесят, идет, вырядилась, коленки блысь-блысь, а под коленками-то одни вели — море синее. А чего? Все одно — выше головы не прыгнешь, умней отца-матери не будешь. Старая, она и есть старая. Время-то назад не текет.
— Это она про меня?
— Нет, это она про себя. Идем.
...Жанна уселась в кресло, переплела ноги змейкой. В самом деле, удивительные, неувядаемые ноги. Вынула папиросу, закурила.
— Ну вот, такие дела, Валюша. Опять на жизненном пути повстречалась мне любовь.
Жанна всегда говорила такими формулами. Странно, что это было не противно. Ей это шло.
— И кто же он? — спросила Валентина Степановна.
— Один моряк. Вполне интеллигентный. Знаешь, я неравнодушна к галунам. Недаром во все времена женщины любили военных. Это золото, киверы, ментики, доломаны...
— А ты знаешь, что такое доломан?
Жанна задумалась.
— Вроде сабли? — спросила она.
— Не совсем. Скорее вроде кителя.
— Я так и думала: вроде кителя. Ах, в наше время все так бесцветно: защитный и еще раз защитный. Морская форма всегда меня волновала. Можешь верить, можешь не верить.
— Охотно верю.
— Вечно ты надо мной смеешься. Конечно, я смешна. Эту черту, влюбчивость, я за собой знаю. Когда встречается на пути любовь, я обо всем забываю и сразу же начинаю пылать.
— Где ты его выкопала?
— О, это целый роман. Мы встретились в очереди за билетами. Я купила в Сочи, а он — в Минводы. Разговорились, посмеялись, он мне спел: «О эти черные глаза...» То, другое. «А вам, — говорит, — обязательно надо в Сочи?» — «Обязательно». — «Кто-нибудь ждет?» — «Никто не ждет, свободна, как ветер». — «Тогда, — говорит, — поехали вместе в Минводы». Ну, меня как вихрем завертело... В глазах — круги. Поехали в Минводы.
— Прямо так? Сразу?
— Нет, через два дня. Ну, я, конечно, себя привела в порядок, брови выщипала, волосы покрасила — видишь? Гамма с отливом. Ты не смотри у пробора, там отрасло. Ты здесь смотри. Прекрасный оттенок. Костюмчик мне Анна Марковна приготовила — пройма спущена, на юбке байтовые склады. Сумочка в цвет, туфельки венгерские, на шпильках — ты знаешь. Еду как королева, выгляжу вполне прилично. Больше тридцати восьми я бы себе не дала, а ты знаешь, какой у меня глаз на возраст. В общем, это был прекрасный сон...
— И сколько времени он продолжался?
— Две недели. Деньги кончились.
— У него?
— У меня.
— А он?
— Остался там. Когда мы расставались, он даже прослезился. Дал слово, что позвонит мне сразу, как приедет.
— Он женатый?
— Кажется, да. А что? Валюша, ты меня осуждаешь?
— Честное слово, нет.
Вдруг Жанна уткнулась носом в спинку кресла и зарыдала. Именно зарыдала, а не заплакала.
— Жанна, милая, что с тобой? Я тебя обидела?
— Я сама себя обидела.
— Ради бога, не плачь. Я же не Поля. Я все понимаю.
Жанна трясла головой. Светло-каштановые пряди, «гамма с отливом», рассыпались, и между ними замелькали темные, с сединой.
— Валюша, сегодня я вспомнила Леонтия Ивановича. — Это был покойный муж Жанны, генерал. — За ним я была как за каменной стеной. Если бы он был жив, ничего бы не случилось. Он воздух вокруг меня целовал. Это проклятое одиночество! Нет, ты не понимаешь.
— Я ведь тоже одна.
— У тебя — Лялька.
— Верно. У меня Лялька.
...Внезапно, как-то сразу, Жанна успокоилась. Она села, вытерла глаза и улыбнулась.
— Знаешь, мне все-таки повезло, что я не располнела. Сзади меня можно принять за девочку. Правда?
— Правда.
— Ну, я пойду. Посидела, покурила, поплакала... Как это хорошо, когда есть где поплакать!
— Приходи ко мне всегда, в любое время.
— Поплакать?
— И посмеяться тоже.
— О дружба, это ты. Валюша, ты истинный друг.
— Мы с тобой — старые друзья.
— Старые-престарые. Проводи меня, а то я боюсь Полю.
Валентина Степановна проводила Жанну до выхода.
— Паразитка, — громко сказали за кухонной дверью.
Жанна храбро натягивала перчатки:
— Прощай, Валюнчик. Будь здорова. Ляльку целуй.
Хлопнула дверь, тонкие каблучки застучали по лестнице. За кухонной дверью продолжался монолог Поли:
— А мне мужика не надо. На что мне мужик? От него грязь одна. Стирайся на него, стирайся... Дух тяжелый от мужика. Ты, что ли, за дверью, Степановна? Входи, не робей. Что, не правду я говорю? В такие годы о мужиках думать — последнее дело! Молодая-то я была — огонь! А теперь мне мужика не надо. Даром не возьму. От мужика грязь, от мужика вонь, без пол-литра он не придет. Лучше уж я в кино пойду или, на худой конец, в церкву. Мне мужика не надо...
Валентина Степановна тихонько отошла от двери и ушла к себе. Надо бы суп заправить, да бог с ним. Там Поля с разговорами. Удивительно, как один человек может всех поработить, если он всегда прав.
Остается вытирать пыль. И в самом деле, что за неряха эта Лялька! Поглядеть только, что у нее на столе! Сумочка, конспекты, карандаши для бровей, пояс с резинками, один чулок. Дорожка побежала, надо поднять...
Прибирая, взяла Лялькину сумку, да как-то неловко, из нее посыпались мелочи: помада, пудреница, скомканные рубли, бумажки... Она опустилась на колени и стала подбирать рассыпанное с полу. Как сегодня писатель подбирал листки (Валентина Степановна улыбнулась)... Одна развернутая бумажка кинулась ей в глаза. Против воли она прочла:
«Савченко Лариса Владимировна... год рождения 1940... направляется в гинекологическое отделение роддома N 35 для прерывания беременности... 6-7 недель...»
На мгновение светлое небо за окном мигнуло, словно зажмурилось. Валентина Степановна постояла на коленях, собрала вещи и встала, держась за край стола. Как старуха. Сложила все обратно в сумку. Это было бессмысленно и невозможно, совершенно невозможно. Перечла бумагу еще раз. Все так. «Ну, ладно. Ужасно, но ладно. Это надо усвоить. Ужасно, что она от меня скрыла. А я думала, у нее нет от меня секретов».
Валентина Степановна вышла на кухню и погасила газ под супом. Поли, слава богу, не было. Вернулась, опять села в кресло. Кресло ее не принимало. Она подоткнула ноги и положила голову на ручку. Так почему-то вышло. Так было почти не больно сидеть. Она закрыла глаза. На улице кричали дети. Ветер дергал занавеску и доносил в комнату запах лип.
Так точно пахли липы в то проклятое лето. Помню, я стояла здесь, а он там. Он — спиной к окну, я — лицом.
— Валюша, неужели это все серьезно? Ты в самом деле хочешь, чтобы я ушел?
— Совершенно серьезно.
— Ты идиотка. Пойми, ведь это ничего не значит. Ну, маленькое увлечение. Увлекся. Это бывает.
— Зачем ты мне лгал?
— Лгал! А что, мне надо было все так тебе и выложить? Мерси. Ты бы устроила скандал, все поломала... Я слишком дорожил нашими отношениями, чтобы тебе сказать.
И это говорил Володя. Невозможно. Это не он говорил, не он.
— Валюта, ты делаешь из мухи слона. Ты пойми: я же люблю тебя. Та, другая женщина, для меня, в сущности, нуль. Ну, если хочешь, я там все порву, хочешь?
...Как он не понимает, что дело не в другой женщине, а во лжи?
— Дело не в другой женщине.
— А в чем же?
— Дело во мне. Я тебя больше не люблю. Уходи.
— Смотри, пожалеешь.
И ушел. Помню это ощущение: весь мир рвется сверху донизу, пополам. И тут же: еще не поздно. Догнать, вернуть. Вон его папироса в пепельнице: еще живая. Еще дымится. Что же ты стоишь? Догони, верни. И удар двери внизу: все.
Нет, Володи больше не было, он раздвоился. Он раскололся. Он распался на двух. Один — прежний, любимый, абсолютно любимый, абсолютно свой. Другой — этот, новый, глухой, жестокий. Чужой. И мысль: как смеет этот, новый, ходить в теле моего, говорить его губами? Убийца.
Когда мир раскалывается пополам, человек оглушен. Произошло что-то невообразимое. Это невозможно, но это так. И человек не может вместить противоречия, ему кажется, что он погибает. Вздор. Человек живуч. Он, и погибая, живет. Живет, забывает, выздоравливает.
...А про Ляльку я ему так и не сказала. Думала: зачем говорить? Еще пожалеет... останется... солжет... Еще одна ложь.
Впрочем, тогда это была еще не Лялька. Я думала, это будет мальчик, Володя. Мальчик еще только начинался, не было полной уверенности. Думала: скажу потом. Так и не сказала. А про то, что есть Лялька, он узнал случайно, два года спустя...
Но я тогда про ребенка не думала. Все думала о нем, о Володе. Когда это началось? Снег лежал — или уже весной? Почему-то это казалось самым важным: когда? Когда кончился прежний Володя и начался новый? Важно было найти эту черту в прошлом и по ней отрезать.
Все-таки в этот день я пошла на работу. В библиотеке сидела Жанна, болтала с читателями. У ее столика всегда был хвост. Она меня заметила, испугалась:
— Валюша, что с тобой? Ты вся зеленая.
А мне стало худо. Она меня отвела в туалет. Какие-то ведра стояли с известкой. В одном — большая кисть. А, главное, пол в разноцветных плитках. Этот пол шел прямо на меня. Жанна держала мне голову... Потом стало легче.
— Валюша, милая, скажи, это не...
Я кивнула.
— Боже как интересно. У тебя будет маленький бэби!
Жанна тогда увлекалась Голливудом и говорила: «бэби», «дарлинг»...
— Володя, конечно, в восторге?
— Володя не знает.
— Как так?
— Жанна, ты все равно узнаешь, так лучше сразу. Володи никакого нет. Мы разошлись.
...Слезы в темных Жанниных глазах. Что слова? Слезы важны.
— Валечка, можно только одно слово спросить? Ну, самое маленькое слово?
— Нельзя.
— Я не о Володе. Нельзя так нельзя. Я об «этом». Ты «это» оставишь или будешь ликвидировать?
А «это» была Лялька...
— Не знаю, Жанна, ничего не знаю.
А потом началась странная какая-то жизнь — вроде бреда. Я лежала и думала. С работы уходила минута в минуту — торопилась домой, чтобы лечь. Ложилась на диван лицом к спинке, думала. Звонил телефон — не подходила. Только при каждом звонке начинало стучать сердце. Прямо бухало в уши. Соседка стучала в дверь:
— К телефону!
Я не подавала голоса. Соседка кричала в коридоре:
— Нет дома! А может, спит!
Сердце все стучало, постепенно успокаивалось. Через полчаса — опять звонок, и опять сердце. Я ни разу не подходила. Я только твердила про себя одну и ту же странную фразу:
— Будь проклят ты, если это ты.
И опять начинала думать. Все о том же: где провести черту? По ту сторону — прежний Володя. Его я люблю. По эту сторону — новый. Его следовало ненавидеть. А черта все смещалась туда и сюда. Иной раз новый прорастал в прежнего... Минутами даже казалось, что никакого прежнего вообще не было. И тогда я кричала этому новому, как живому: «Ты что же, совсем хочешь все у меня отнять?» А иногда, наоборот, прежний начинал прорастать в нового... Вот это было хуже всего. Тогда я почти готова была простить, вернуть... Живут же другие после таких происшествий? Какая-то шерстинка запомнилась на спинке дивана... Она все ходила от дыхания взад и вперед, колебалась...
Убирать в комнате я почти перестала, есть — тоже. Никого не могла видеть, кроме Жанны. Одну только Жанну могла видеть. Очень важно, когда человек не раздражает. Вот Жанна меня никогда не раздражала. Ходит по комнате, чего-то напевает... Подметет пол, смахнет пыль... К зеркалу подойдет — локоны, ресницы, то-се. Себе подмигнет по-потешному. Переимчива была как обезьяна: одну бровь поднимет, и человек готов. Или о тряпках говорит этаким грудным, таинственным шепотом, на манер голливудской звезды:
— Фасончик вери найс... Рукава буфиками, плечики подложены, но не очень, а так, в самый раз. Получается мягкий квадрат, понимаешь? Юбочка-шестиклинка, до полноги, внизу чуть расклешена. По вороту бейка...
Слушаешь ее, и словно бы даже легче становится. Как будто смотришь мимо своего горя на пеструю, красивую, беззаботную птицу. Поглядишь на нее — вся из кусочков, каждый где-то заимствован и в общем так себе. А все вместе — Жанна. Сентиментальная, щедрая, шалая, дорогая Жанна.
О Володе мы не говорили. Так было условлено. Жанна держала слово. Как ей иногда было трудно — надо знать Жанну! Молчать о чем-нибудь — ведь это для нее пытка! Но как-то раз она приготовилась, даже губы накрасила лиловым, и заговорила:
— Валюнчик, ну позволь мне сказать... У меня же будет разрыв сердца. Я же тебя люблю. Я же не уговариваю тебя вернуться к Володе...
— Нет.
— Но надо же посмотреть в будущее, верно? Я ведь хочу тебе только добра. В этом ты можешь быть уверена, это как сталь. Послушай, если ты решила ликвидировать, то надо сейчас, а то будет поздно, понимаешь?
...Ничего я в этом не понимала, ничего не хотела знать. Никогда не приходилось с этим иметь дело. Какая-то уголовщина... Читала в газетах случай: и врача, и женщину — под суд. Стать преступницей, подсудимой. И все-таки без этого нельзя. Куда было девать еще и этого Володю? Хватало хлопот с теми, двумя...
И Жанна все устроила. Свезла меня к врачу. Владимир Казимирович. Этакий в заграничном костюме, с булавкой в галстуке... Голос у него был жирный, будто шкварки жарились. Лицо — смуглое, холеное, умное... Жанна уверяла, что у Владимира Казимировича — легкая рука: «Ты увидишь, он так это делает, просто одно удовольствие». А я покорилась, ничего у меня не было: ни воли своей, ни желаний...
— Сомнения исключены, — сказал он. — Беременность налицо. Что касается оперативного вмешательства, то оно может не понадобиться, если вовремя принять необходимые меры...
Так он замысловато говорил, Владимир Казимирович. Фразы длинные, витиеватые. Ходит-ходит кругом смысла... Восьмерками...
Легкий, безболезненный курс уколов. По двадцать пять рублей за укол. Препарат — прямо из-за границы. Ни к чему не обязывает, но может помочь...
Я стала ездить на уколы. Он жил на даче, в Карповке. Дача — дворец. Двухэтажная, каменная, все удобства: газ, ванная, телефон. И сад с каким-то дурацким амуром. Птицы наделали ему на голову, и амур плакал... Проклятая дача! К ней вела небольшая улица — заросшая липами, тенистая. Ветки нагибались низко над заборами и густо цвели. Тогда я поняла, как подло могут пахнуть липы.
...А уколы не помогали. Он каждый раз говорил: «Не сегодня — завтра, подождите». А я уже не верила. Мне казалось, он, как опытный рыболов, поддел меня на крючок и водит, берет по двадцать пять рублей, чтобы потом вернее взять свою тысячу. Тысячи у меня не было, я заняла у Жанны. А он был ласков, Владимир Казимирович, каждый раз, прощаясь, задерживал мою руку. А мне казалось, что я взяла жабу. И вот...
— Ну-с, молодая дама, наш курс окончен, но не дал, к сожалению, положительных результатов. Я, со своей стороны, честно предупреждал, что не гарантирую успеха на все сто процентов. И если вы по-прежнему не горите желанием... э... сохранить плод, нам придется встретиться еще раз, чтобы применить метод менее приятный, но зато более надежный.
Так он сложно говорил, Владимир Казимирович.
А я уже себе не принадлежала. Я согласилась. Он потребовал деньги вперед: «А то некоторые дамочки сбегали у меня, можно сказать, со стола...»
Уговорились: тут же, на даче, в пятницу вечером, после десяти, когда стемнеет. Никто не должен ни провожать, ни встречать. Полнейшая конспирация («Вы знаете, чем я рискую»). С собой иметь смену постельного белья. Документов не брать. После операции разрешено оставаться на даче не больше десяти минут.
...И вот — пятница, вечер, уже темнеет, уже стемнело, и снова я в электричке — еду. Предстоящее меня почти не занимало. Всю дорогу меня мучили два Володи. Хуже того: казалось, что я и сама раздвоилась, не вижу, где я и где не я, и вообще все окончательно спуталось. Меня окружала подлость, и я чувствовала себя подвластной подлости...
Я подошла к той даче. Было уже темно. Я узнала ее по амуру. Просунула руку в щель калитки, откинула крючок... Кто-то вырос рядом, словно из-под земли. Лучик карманного фонаря...
— Гражданочка, ваши документы!
Кто-то пришел. Нет, это не Лялькин звонок. Лялька звонит всегда громко, настойчиво, весело. А этот звонок был совсем короткий и слабый: пим. Валентина Степановна все сидела в кресле, положив голову на жесткий подлокотник. Ничего, Поля откроет.
В комнату вошла Лялька:
— Мышонок, ты здесь? Что ты тут делаешь? Почему в темноте?
— Ничего, просто сижу. Немножко нездоровится.
— Что такое? Давай сюда лоб. Холодный! Мышонок, ты симулянт. Я зажгу свет, ладно? Так лучше. Есть хочу — умираю. Где салат?
— Я салата не делала, — сказала Валентина Степановна. — А ну-ка присядь.
Лялька опустилась на диван. Тощая, длинная, ногастая, как кузнечик, да еще в платьице серо-зеленом, коротком, выше колена. Ну, кузнечик — и все. Когда она села, колени поднялись выше подбородка. Бледная, синяки под глазами до половины щек.
— Лялька, послушай...
Лялька вынула заколку из волос, покусала:
— Ты что, беседу хочешь со мной проводить?
— Нет. Я просто хочу кое-что тебе рассказать.
— Ну-ну.
— Ну, и что было дальше?
— Дальше я побежала. Никогда в жизни так не бегала. Они свистят, а я бегу. Ноги молодые, сильные. Ноги у меня и сейчас еще ничего — носят.
— Ну и как, убежала?
— Вообрази, да. Слышу, свистки стали слабее, а там и вовсе пропали. А я все бегу. Узелок с бельем я еще в самом начале отбросила, так что бежала без вещей, без денег, без ничего. И, знаешь, как хорошо было бежать! Я чувствовала, что ушла от всех: от врача этого, от милиционеров, от суда...
— Тогда за это судили?
— Ну, да. Строгое было время.
— Призадумаешься. Ну, а что дальше?
— Дальше ничего. Прибежала на станцию — у платформы стоит электричка. Темно, а в электричке окна светлые, широкие... Прекрасная такая электричка и словно меня специально ждет. Ворвалась я в вагон. Все на меня смотрят: красная, встрепанная, счастливая... Сразу, как вошла, электричка двинулась. Прошел контролер — я без билета. Он с меня штрафа не стал брать, почему — не знаю. Приехали в город. Я — прямо к автомату, звоню ему, Владимиру Казимировичу, боюсь, что его забрали — из-за меня. Но он ничего, даже не очень испугался. Говорит: не беспокойтесь, я привык выполнять свои обязательства. Пригласил приехать во вторник. Пятница, говорит, тяжелый день. Тут я его обхамила.
— Ой ли! Не верится. Что же ты ему сказала?
— Я к вам больше не приеду. Вы подонок.
— Так и сказала? Ай да герой! И не скончалась тут же от угрызений совести?
— Нет. И еще я сказала: назло вам рожу десятерых.
— Явное преувеличение. Ну, а дальше что было?
— Дальше? Родилась ты.
— Веселенькая история...
...В коридоре что-то упало, и плачущий Полин голос сказал:
— Во паразитство! И ночью спокою нет. Тыр да тыр. Днем дрыхнут, а по ночам вырЯт. Все не как у людей. Нет, сменяю я себе квартиру, сменяю.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
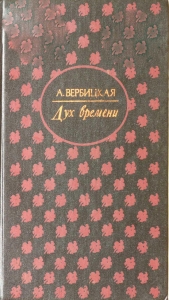





Комментарии к книге «Летом в городе», И. Грекова
Всего 0 комментариев