Рожнёва Ольга Леонидовна
Тесный путь. Рассказы для души
Оглавление
В дождливый день я шёл по улице. 5
Сколько раз у тебя перехватило дыхание. 5
Слёзы.. 6
Восторг. 8
Растерянность. 9
Разочарование. 10
Горечь потери. 13
Одиночество. 15
Предчувствия и надежды.. 17
Усталость. 19
Обида. 24
Перемены.. 25
Восторг. 27
Приключения. 31
Звонок по сотовому телефону. 35
В дождливый день я шёл по улице. 36
Любовь к жизни. 38
Немного о котах. 43
История про то, как пёс Тиграша умным стал. 44
Истории про Костика. 49
История о том, как Костик боролся за права человека. 50
История о том, как Костик искал идеал. 52
Судьбы людские. 53
Короткая история о недолгой жизни Славы Чеха. 53
Рассказ отца Савватия. 53
Молитва Веры.. 53
Мамина родня. 53
Папина родня. 53
Традиции гостеприимства. 53
Как Надю окрестили. 53
Детство. 53
Татаюрт. 53
Как сёстры друг друга спасали. 53
Младшая сестра. 53
Как Людмила стала верующей. 53
Как Катя пришла к вере. 53
Молитва Веры.. 53
Радости Надежды.. 53
Даст тебе Господь по сердцу твоему. 53
Время на покаяние. 53
Помощь преподобных. 53
О чадах и пастырях. 53
Истории отца Валериана. 53
Чужое послушание. 53
Про Винни Пуха и чудотворения. 53
Ленитесь, братия, ленитесь! 53
Как отец Валериан с осуждением боролся. 53
Розпрягайте, хлопци, коней! 53
Жареная картошка на зиму. 53
Квасота! 53
Отец Валериан, Петенька-здоровяк и умиление. 53
Раздражительный Виталька. 53
Как отец Валериан участвовал в похищении старушки. 53
Где мой Мишенька?. 53
Вот такая рождественская история. 53
Дрова для отца Феодора. 53
И кому это такую красоту приготовили?. 53
Как отец Феодор к трапезе готовился. 53
Оптинские истории. 53
Участники вечной Пасхи. 53
Истории монастырского киоска. 53
Про пирожки. 53
Про Мишу, который не знает о кризисе. 53
Почти детективная история о щенках и конце света. 53
Про Сашу и его сокровища. 53
Про неслучайные случайности. 53
Про Гену, который потерял квартиру и работу, но чувствует себя счастливым человеком. 53
Как Таня собиралась выйти замуж, да не вышла. 53
Записки экскурсовода. 53
Небольшое вступление. 53
И чего я тут не видела ?! 53
А ещё экскурсовод... 53
Родительское пожелание. 53
Тихон сидит тихо. 53
И всё для того, чтобы... 53
Деликатно и неделикатно. 53
Ум в голове сидит! 53
Можно вам исповедаться?. 53
Тогда я тоже постою.. 53
Девушка с голубыми волосами. 53
Вы знаете, что такое благодать?. 53
Вот это любовь! 53
Обычный день обычного Оптинского отца. 53
Бестолковые послушницы.. 53
Наконец-то помолюсь! 53
Откровение помыслов. 53
Скорее покупайте! 53
Ода бабушкам. 53
По святым местам. 53
Мир святых так близок! 53
Назидательная беседа на ночь. 53
И кому мы это «Многая лета» поём ?! 53
Как тебя зовут, благодетель ты мой ?! 53
Неверующий Николай Иванович. 53
Как Николай Иванович в молодости на свадьбе гулял. 53
Главная драгоценность. 53
Об правой руке, правой ноге и голове на плечах. 53
«Есть только одно дело — спасение души, остальное — поделье». 53
Паломничество. 53
Что же мешает нашему спасению?. 53
Чудаки с гостинцами. 53
Плащаница. 53
А сейчас в Оптиной есть старцы?. 53
Хозяева Оптиной пустыни. 53
Тесный путь. 53
История одной семьи. 53
Иван-крестьянский сын. 53
Воспоминания. 53
Детство. 53
Радости и скорби. 53
Моя учёба. 53
Новая жизнь. 53
Я снова дома. 53
Начало взрослой жизни. 53
На курсах. 53
Малососновская школа. 53
Курсант Тюменского пединститута. 53
Трудный год. 53
Новая работа и новые чувства. 53
Семейная жизнь. 53
Служба в армии. 53
Так началась война. 53
Военные действия. 53
Ранение. 53
В госпитале. 53
Нестроевая служба и семья. 53
В дождливый день я шёл по улице
Сколько раз у тебя перехватило дыхание
Как сердцу высказать себя ?
Другому как понять тебя ?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь...
Зачем же люди делятся мыслями, воспоминаниями, пережитым? И сердца бьются чаще, и души обнажаются, и льются слёзы? Как это нужно людям, чтобы их понимали... Пережитое переполняет душу и выплёскивается в порывах откровенности случайным попутчикам, в ночных исповедях, в беседах по душам. В строках, которые ложатся странными знаками на белоснежный лист и превращаются в твою жизнь.
В кладовой памяти не все воспоминания равнозначны. Какие-то почти стёрты, другие вспыхивают жаром краски стыда на щеках, проливаются слезами раскаяния или обиды, хмурят брови незабытым гневом, затаиваются в складках губ скорбями. Говорят, важно не то, сколько вздохов ты сделал в этой жизни, а сколько раз у тебя перехватило дыхание.
Слёзы
Дыхание перехватывает от слёз.
Ах, эти слёзы! С ними мы рождаемся и с ними уходим. А почему? Разве наша жизнь не суета сует и томление духа? Но наши горячие слёзы не согласны с этим. Они льются из сердца, и сердце болит. Оно живое и такое же горячее, как эти слёзы. И его боль и радость придают смысл бессмысленному и превращают существование в жизнь! А томление духа—в его горение! Звезда горит и сияет, и пульсирует, как наше горячее сердце. Скажи звезде, что её сияние не имеет смысла! А если наша жизнь лишь суета и томление духа, то почему эти слова говорятся с такой скорбью, с таким противоречием, с таким страстным желанием опровергнуть самих себя?
О чём я? Ах да, дыхание перехватывает от слёз. Это кто, я? Ребёнок, забившийся под кровать? Маленькая девочка. Очень худенькая. Под глазами синяки. В детстве я сильно болела и не ходила в садик. Потому что не вылезала из больницы.
Из-под кровати меня пытается достать толстая тётка в белом халате. Я просилась к маме и, видимо, надоела ей, потому что мне было убедительно сказано басом: «Твоя мама оставила тебя здесь навсегда. Она больше никогда не придёт за тобой!» До сих пор помню чувство леденящего ужаса и одиночества. За мной больше не придут. И я навсегда останусь здесь, в этой холодной палате, окна которой закрашены отчего-то в ядовито-синий цвет, на этой железной скрипучей кровати. Совсем одна. Без своего медвежонка. Без потёртого чемоданчика полного сокровищ. Без мамы.
Горе так велико, что я забиваюсь под кровать в самый угол. Закрываю глаза, я не здесь. Я спряталась. Разгневанная тётка с трудом забирается под кровать. Мне нужно ставить капельницу, а достать меня оттуда — всё равно, что поймать мышонка. Тоненькие ручонки выскальзывают из её потной пятерни. Наконец меня ухитряются схватить за длинные волосы. Так за мой светлый хвостик и вытаскивают на белый свет.
Было очень больно. Я плакала. Дальше не помню — всё стирается. Длинные больничные коридоры. Капельницы и уколы. Капельницы чаще всего ставили в ноги. Не знаю, почему. Может, руки были уже исколоты? После капельниц нош отнимались, немели.
Я не могла встать и ползала в туалет с помощью рук. Почему меня не сажали на горшок? Понятия не имею. Может, я не просилась?
Позже мама рассказывала, что я перенесла четыре операции и почти не вылезала из больниц. Мне шёл четвёртый год. Врачи говорили моим родителям, что сильно сомневаются в том, что я вообще буду жить.
Их прогноз, скорее всего, должен был оправдаться. Но мои неродные дед Ваня и его мама, моя прабабушка Ульяна, с этим прогнозом были не согласны. Прабабушка меня любила и не собиралась отпускать на тот свет, тем более что дитя было некрещёным. Разыгрался целый детектив. Как мне позднее рассказывали, дед и прабабушка выпросили меня погулять. Ходить я уже не могла. Мои спасители попросту выкрали меня из больницы, лихо перетащив через забор. (Я поминаю их в своих молитвах каждый день.)
Прабабушка сразу же понесла меня в церковь и окрестила. Смутно помню купель. Воспоминания зыбкие, на грани. Где-то рядом уже был другой мир, в который прабабка меня не отпустила. После крещения я неожиданно стала поправляться. Справка о крещении долго хранилась у меня в коробочке сокровищ, в ней значилась синими чернилами написанная цифра 3 (три рубля за крещение). Но я знала, что на самом деле ценой была моя жизнь.
Восторг
Дыхание перехватывает от восторга.
В большой комнате за диваном с плюшевыми подушками есть уголок. Там на полу тёплое старенькое одеяло, а на одеяле небольшой потёртый чемоданчик. В чемодане мои сокровища—мои первые книги. Рядом сидит потрёпанный медвежонок—друг детства. А меня там точно нет. Я совсем не в этой обычной комнате. Я в таинственном мире. Путешествую и переживаю самые удивительные приключения. Разве в реальном мире возможно за час переплыть океан и найти сокровища? Перелететь в волшебную страну? Оказаться в Изумрудном городе и подружиться с милым Дровосеком, мудрым Страшилой, храбрым Львом? Идти в волшебных туфельках по чудесной дороге вместе с верным Тотошкой навстречу приключениям? А немного позднее оказаться в «Затерянном мире»? Или рядом с пещерным мальчиком, которого выгнали из племени? Как можно из этого удивительного, яркого, сверкающего мира возвращаться в простой и обыденный, где время тянется так медленно и уныло? И не происходит ничего чудесного? Ах, книги! Сокровище и западня. Таинственный мир и уход от реальности. Где грань?
Не помню, как я научилась читать. Видимо, из унылых больничных стен и закрашенных в ядовитый цвет окон было только два выхода: в разноцветный чудесный мир книг и в серый туман уколов, капельниц и боли. Этот туман мог поглотить сознание. Спасибо книгам, которые не позволили ему это сделать.
Не помню, кто в перерывах между больницами, показал мне буквы. Мне было около четырёх лет, и в моём чемоданчике — много ярких и красочных книжек. Долгое время родители считали, что я рассматриваю картинки. Ну что возьмёшь с болезненного ребёнка? Под ногами не путается —и ладно. Пока как-то раз кто-то из них, вечно занятых и спешащих по своим взрослым делам, случайно не подсел ко мне. Меня спросили: «Леночка, деточка бедная, тихая ты наша, всё картиночки смотришь? А вот кто на этой картинке? Ты понимаешь, кто на ней изображён?»
И бедная деточка тоненьким голоском стала уверенно объяснять, кто же изображён на картинке, попутно бегло зачитывая цитаты. В семье случился переполох: «Ребёнок читает! Кто научил ребёнка читать?!» Вечером, когда вся семья была в сборе, бабушка, дедушка, мама и папа устроили расследование: кто же научил меня читать? Потихоньку вспомнили, что я изредка подходила с книжкой то к одному, то к другому и спрашивала буквы. Взрослые отвечали, и тихий ребёнок опять уединялся с Мишкой и потёртым чемоданчиком.
— Леночка, как ты научилась читать?
— Потому что это интересно.
И Леночка снисходительно к непонятливым взрослым бегло читала всё, что ей подсовывали под нос.
— Слушайте, а может, это она на память рассказывает? Ну кто-нибудь из нас читал ей, а она запомнила?! Дайте какую-нибудь взрослую книгу! Во—энциклопедию!
Бедная деточка бегло прочитала статью из энциклопедии про динозавров. Объяснила онемевшим родителям, что уже читала о динозаврах. Затем утомившись, молча взяла Мишку и отправилась в свой уголок.
Я была независимым ребёнком.
Растерянность
Дыхание перехватывает от растерянности.
Мне скоро семь. До школы остаётся пол года. И меня решают отдать в детский сад, чтобы я успела привыкнуть к детям и научилась с ними общаться. И вот я в подготовительной группе садика. Это просто кошмар! Так много детей! И они все бегают, что-то говорят и даже кричат. Подходят ко мне и пытаются знакомиться. Но для меня их слишком много, все лица расплываются, я не могу никого запомнить. Не знаю, о чём с ними можно говорить. И как нужно играть.
Думаю, что у меня был такой небольшой больничный аутизм. И общаться со сверстниками для меня оказалось трудной задачей. Сказывалась и разница в интересах: никто из них не умел читать, а я читала уже запоем. В моём мире царили Джек Лондон, Майн Рид, Жюль Верн, Конан Дойл, Дюма. И этот мир был гораздо интереснее, чем попытки девочек увлечь меня пластмассовой посудой, куличами в песочнице и одеванием пупсов. Мой родной Мишка оставался дома и сидел у заветного чемоданчика. А голые пупсы почему-то не вдохновляли.
Воспитательница сказала родителям, что я не по годам умный ребёнок и ей даже страшно со мной разговаривать:
— Понимаете, у меня такое чувство, что я разговариваю со взрослым человеком. А вот играть с детьми она совершенно не умеет! Но вы не расстраивайтесь, может, она ещё научится. Зато она у вас хорошо стихи читает. На утреннике ведущей будет.
С тех пор не по годам развитый ребёнок был бессменным чтецом, декламатором, затем звеньевой звёздочки, старостой класса, ну и так далее. К сожалению, этот развитый ребёнок не мог соперничать с остальными девочками в их детских хитростях и всегда оставался обманутым. Хитрили и обманывали не по годам развитого ребёнка все, кому не лень.
Моё простодушие и наивность не знали границ. Я верила всему, что мне говорили. И сама говорила только то, что чувствовала. Этакий Иванушка-дурачок в девичьем обличье. Искренность—хорошо или плохо? Это качество я до сих пор не изжила окончательно, хотя «перемены к лучшему», конечно, с годами происходили.
— Леночка, ну нельзя же так! Мы тебе дали новую куклу в садик, а ты вместо неё принесла стекло от бутылки!
— А оно разноцветное. И Маше кукла очень нужна. У неё день рождения.
— У Маши день рождения через полгода! А таких стёкол мы тебе сейчас дадим целую кучу. Вон на свалке битые бутылки валяются!
В разговор вступает бабушка:
— Нет, с этим ребёнком нужно что-то делать! Она вчера свою новую кофточку отдала соседской Иришке!
— Кофту зачем отдала?!
— Иришка сказала, что она мой лучший друг. А друзьям надо отдавать самое лучшее.
— И долго она была твоим лучшим другом? Чего ты молчишь, чудовище тупое?! Ах, до самого вечера?! Пока Танька не приехала с мороженкой?!
Бабушка плачет:
— Леночка, деточка бедная, как же ты жить-то будешь! Ну нельзя же быть такой бесхитростной! Ну похитрее нужно быть, похитрее! Понимаешь?
— А зачем?
Немая сцена могла бы соперничать с финалом гоголевского «Ревизора». Бабушка понимает, что бедная деточка безнадёжна. И бредёт на кухню. За ней уходит мама. По дороге ворчит: «Такой умный ребёнок— и такая дура!»
Много лет спустя, на работе, моя приятельница- психолог спросила, какая в детстве у меня была любимая сказка. Она убеждала нас в том, что жизненный сценарий закладывается в детстве. И часто любимая сказка выражает его суть. Я, недолго думая, ответила: «Волшебник Изумрудного города». С удивлением узнала, что приятельница эту сказку почти не помнит.
— Ну как же?! Ураган унёс Элли и её пёсика Тотош- ку в волшебную страну. И теперь она мечтает вернуться домой. Ей может помочь правитель Изумрудного города, а по дороге она должна помогать всем, кто нуждается в её помощи. И тогда её желание исполнится.
— А, вспомнила! Должна тебе сказать, что согласно твоему жизненному сценарию, ты —девушка, у которой есть что-то особенное.
— Это ещё что?!
— Забыла?! Волшебные туфельки! И твой жизненный сценарий — помогать окружающим, чтобы достичь своей мечты! Поняла?!
Да уж. В каждой шутке есть доля шутки. А потом я вспоминала: сколько шишек набито бесхитростной деточкой... И как я менялась в течение жизни. Обучаясь всему тому, что называется жизнь в коллективе. Хорошо это было или плохо? Прогресс или деградация?
Сейчас я бы хотела снова стать искренним и простодушным ребёнком из своего детства. Ушлая в страну чужую. И дом мой далече. Нет давно того очага, к которому можно стремиться. И горьки рожки, которыми питает меня моя жизнь. А я всё иду в свой Изумрудный город, а он всё дальше и дальше. Как мираж.
Разочарование
Дыхание перехватывает от разочарования.
В детском саду, как это ни смешно звучит, уже есть влюблённые. Об этом все знают. Это, так сказать, официальный статус. Типа: «Толя любит Ларису. Он её защищает». Правда, не совсем понятно, от кого он её защищает. Но это уже второстепенно.
Прошёл фильм «Четыре танкиста и собака». И в нашей подготовительной группе вовсю процветает ролевая игра в танкистов. Главный танкист —Толя, самый сильный мальчик в группе. А его любимая—Лариса — главная медсестра. И он её защищает вместе с танком и остальными танкистами. Остальные девочки — поголовно медсёстры.
— Ты с ребятами когда играть научишься? Наверное, опять одна сидела, когда все играли?
— Нет, я играла.
— Играла?! И во что вы играли?!
— В танкистов и медсестёр. Танкисты сражались, а медсёстры спасали раненых.
— И кем же ты была? Медсестрой?
— Нет. Меня не приняли в медсёстры.
— Что, танкистом?!
— Я была собакой.
— Вот чудовище-то тупое! Ну дура дурой! Вы только послушайте: она была собакой!
Но вот в группу приводят новенького мальчика Лёшу. Прямо во время прогулки. Он деятельно включается в игру и за короткое время становится лидером и главным танкистом. Он недоволен тем, как я изображаю верного пса и помощника танкистов.
А я просто не могу быстро бегать и прыгать. Худенькая, слабая. На мне толстое и тяжёлое мальчишеское пальто. На голове тоже мальчишеская шапка-ушан- ка, которая застёгивается на пуговицу под подбородком. Шапка велика, она постоянно сползает на глаза, и из-под шапки виден только мой нос. «Ребёнка нужно одевать тепло, а то опять в больницу попадёт!» В этой одежде мне и ходить-то трудно, не то что бегать.
— Кого вы выбрали собакой! Он еле ходит! А нужно бегать вперёд танка! Вот так! Слышишь, парень!
Резкий толчок в спину, и я кубарем лечу в сугроб. Пуговица отрывается, шапка-ушанка падает, и главный танкист Лёша лихо свистит, глядя на мои длинные светлые волосы:
— Так вот это кто! А я думал, что ты парень!
Новый главный танкист и, после драки с Толиком, новый лидер мальчишек, видимо, так сражён моим перевоплощением, что теперь у меня появляется свой собственный заступник. Мой статус резко повышается.
Какое-то время я с удивлением поражаюсь своей новой популярности. Теперь я уже не собака, а главная медсестра. И меня любят. Это чувство так необычно. Неужели меня — кто-то любит? Я даже прошу маму купить мне новую шапку, шапку для девочки.
Вдохновлённая, впервые придумываю собственную игру. Она называется «Гуси-лебеди». Моя фантазия, развитая на множестве книг, изобретает кучу сюжетных ходов. И подготовительная группа с увлечением играет в «Гуси- лебеди». Все, кроме оскорблённого Толика и обиженной Ларисы. Они ходят вместе. И смотрят на меня сердито.
Первой не выдерживает Лариса. Она подходит ко мне после тихого часа и спрашивает:
— А можно я тоже буду играть в вашу игру?
Главная красавица группы раньше не обращала на меня никакого внимания. И вдруг она просит меня принять её в игру! Мои радость и великодушие не знают предела!
— Конечно! И Толя тоже может с нами играть!
— Толя? Обойдётся!
Через несколько дней обстановка меняется. Лебедь—Лариса—всё чаще нуждается в помощи Лёши. И я всё реже ловлю на себе его восторженный взгляд. Развязка наступает быстро.
Во время игры лебеди прячутся от охотников. Я прячусь за верандой и слышу чей-то горячий разговор. Это Лариса и Лёша.
— Я красивее, чем Ленка. У меня красивое пальто! И шапочка! А она на мальчишку похожа в своей ушанке. И над тобой все смеяться будут. Нашёл в кого влюбляться! Давай ты влюбишься в меня! Чего молчишь? Согласен?
Я медленно выхожу из укрытия. И Лариса при виде меня говорит громко Лёше:
— Скажи, кто из нас красивее?! Ведь я?! Ну, говори! Я внимательно смотрю на Лёшу. Сейчас мой рыцарь защитит меня! По крайней мере, в книгах, которые я успела прочитать, рыцарь всегда защищал свою прекрасную даму. Но мой рыцарь краснеет и мямлит:
— Ты...
— И мы не возьмём её больше играть!
— Не возьмём...
Из садика меня везут на санках домой. Папа оборачивается и смотрит, как ушанка сползает на мой нос. А я рада, что она сползает. И никто не видит моих глаз. Дома папа вдруг говорит маме:
— Давай на самом деле купим ей новую шапку. А то она такая смешная в этой ушанке...
— Зато тепло!
— Да ладно. Она же просила! Дочь, ты ведь хочешь новую шапочку? Такую с помпончиком? Для девочки?
— Нет. Не хочу.
И я медленно иду в свой угол. К своему родному Мишке и заветному чемоданчику.
Горечь потери
Дыхание перехватывает от горечи потери.
Моя семья живёт недружно. Бабушка в юности очень любила своего односельчанина. Он, несмотря на молодость, был серьёзным, умным и уважаемым человеком в селе. Работал директором школы и преподавал литературу. (Не от него ли перепала мне любовь к книгам?) Они решили пожениться и подали заявление в загс, который находился в райцентре, в двенадцати километрах от села.
Но когда они пришли пешком в райцентр через положенный месяц (или два?), чтобы расписаться, оказалось, что бабушка забыла дома паспорт. Срок продлили ещё на месяц. А за этот месяц началась война, и жениха забрали на фронт. С фронта он не вернулся, погиб в начале войны. И так никогда и не узнал, что у него родилась дочка. Моя мама.
После войны бабушка вышла замуж за молодого военного. Как я сейчас понимаю, дед Ваня очень любил жену, но ревновал её к прошлому. В трезвом виде он был спокойным и добрым, но выпив, начинал буянить. Вспоминал, что взял жену с ребёнком, что любила она другого мужчину.
Это всё я в детстве до конца не понимала, так как была слишком мала. Бабушка же часто утешалась собственными словами: «Ванюшка проспится — садись на него верхом и поезжай». Или поговоркой: «Пьяница проспится, дурак—никогда».
Сейчас, став старше, я думаю, что бабушке, наверное, следовало сказать мужу: «Я люблю только тебя. Не ревнуй меня к прошлому». Но она начинала плакать и причитать, что её первая любовь, Фёдор, был намного лучше, чем нынешний муж. И что дед этому Фёдору в подмётки не годится.
А пьяный дед возвращался домой в хорошем настроении и с лестницы кричал: «Манюшка, твой Ванюшка пришёл!» Но постепенно, слушая причитания бабушки, мрачнел, приходил в ярость и начинал буянить. Делать вид, что он сейчас разнесёт всё в щепки. Бабушка убегала.
Страшно это было только на первый взгляд. Потому что дедушка ни разу не догнал бабушку. И вообще ни разу не тронул её пальцем. Тем не менее сцены разыгрывались драматические. И усмирить дедушку могла только я. Бабушка отправляла меня к деду:
— Деда, ложись спать!
— Алёнка, это ты?
— Я, деда, я! Спать пора! Баиньки! Сейчас я тебя спать положу!
— Да, Алёнка, хорошо! Я тебя слушаюсь! Ты моя единственная... Ты моя золотая... Внученька родная! Уже иду...
И дед обнимал внучку и успокаивался. Во мне он души не чаял. В отличие от моей мамы.
Дед засыпал. А на следующее утро просил прощения у бабушки. И она могла потребовать у него что угодно. До следующей выпивки. Возможно, эта игра где-то на подсознательном уровне устраивала их обоих. Наверное, она могла бы стать неплохой иллюстрацией для книги Эрика Берна «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди».
Мама с папой мечтали о сыне. И даже придумали имя «Андрюшка» для будущего сыночка. А родилась дочка. Я казалась им странным ребёнком. Слишком замкнута. Никогда не делится своими мыслями и чувствами. Да и мысли-то у неё какие-то непонятные. Всё книжки читает. Другие девочки как девочки. Любят наряжаться. К родителям ласкаются. Всё у них просто и понятно. А эта —чудная какая-то...
— Ленка, брось свои книжки, а то с ума сойдёшь! Чего ты там читаешь-то? Понапишут всякую ерунду!
Комната у мамы с папой была в коммуналке. Не в простой коммуналке. Это была комната в длинном коридоре на шестнадцать соседей. Общая кухня и вечно грязный туалет. В коридоре постоянно происходили какие-то разборки, и я чаще жила у бабушки, чем дома. А когда родился мой брат, я поселилась у бабушки окончательно. Родителям стало совсем не до меня.
С дедом мы играли в прятки. До сих пор помню, как один раз долго не могла найти деда. И уже отчаялась. А потом услышала приглушённое хихиканье. Оно доносилось из узкого платяного шкафа. Как он туда смог забраться — до сих пор удивляюсь. Когда я его нашла, нашей взаимной радости не было предела. Дед очень хотел, чтобы я считала его родным.
Не знаю, зачем бабушка решила посвятить меня в тайну и рассказать, что дед мне неродной. А мой родной дед был гораздо лучше, чем он. Такой поворот меня потряс до глубины души. Сейчас, я думаю, что это было плохое решение.
Я ходила в задумчивости. Потом спросила у бабушки, как же погиб мой настоящий дед. А дедушка услышал это. И пришёл в ярость. Он кричал:
— Ведь я просил тебя, просил — не говорить ребёнку! Зачем ты это сделала?!
А потом дед заплакал. Мне так странно было видеть его плачущим. Я попыталась успокоить его. Но он не взял меня на колени, как обычно. Не назвал Алёнкой. Он смотрел подозрительно и хмуро. Он не верил, что можно любить неродного человека.
На этом наша дружба с дедом кончилась. И больше мы никогда не играли в прятки. Он просто перестал замечать меня и смотрел на меня как на пустое место. А когда напивался и начинал буянить, я больше не бежала к нему на колени, а пряталась в угол с Мишкой. Так грустно закончилась моя дружба с дедом.
Много лет спустя я училась в университете в чужом городе, постоянно подрабатывала и вдруг заболела.
Подработка прервалась. Не было денег на еду, на лекарства. Мне никто не помогал.
И вдруг я получила денежный перевод на сорок рублей. Потом ещё один. Переводы шли несколько месяцев и помогли мне пережить трудный период. Это были деньги деда Вани. Он оказался единственным, кто, узнав о моих проблемах, поделил свою пенсию пополам, чтобы помочь своей Алёнке. Он не забыл обо мне. Переводы кончились быстро и внезапно. Дед больше ничем не мог помочь мне. Он умер от инфаркта.
Одиночество
Дыхание перехватывает от чувства одиночества.
Я росла. Моя внутренняя жизнь была наполнена встречами с книгами, увлечением поэзией, философией. А внешняя — довольно бедна впечатлениями. Ну, может быть, я неправильно выразилась. Вношу поправку: бедна приятными впечатлениями. И полна одиночества. Когда мне было лет двенадцать, бабушка с дедушкой уехали в Подмосковье, купив там дом. И до семнадцати лет я жила с родителями. В семнадцать уехала из дома, чтобы больше никогда в него не вернуться. А потом и возвращаться стало некуда.
Мама с папой развелись, нашли новых спутников жизни, разъехались в разные города. Они устраивали свои личные жизни, и совсем забыли обо мне. Наверное, они думали, что я уже взрослая. И не нуждаюсь больше в родительской опеке. Я была очень одинока.
Впрочем, в семье я тоже чувствовала себя одинокой. Мои бедные родители не понимали меня. Они считали меня слишком заумной, разговаривать нам было не о чем, так как общих тем для разговора не находилось.
Папа тяжело заболел и стал надолго уезжать на родину, к маме в деревню. Позднее он там и женился второй раз.
Бедная мама, оставшись без руководства бабушки и мужа, по слабости характера стала выпивать. Периодически появлялись претенденты на её руку и сердце. Эти претенденты выглядели всё хуже.
Положение несколько улучшилось, когда в доме появился Сергей, отсидевший большой срок, на зоне переболевший туберкулёзом. Он был моложе мамы на двенадцать лет и не имел ни угла, ни работы, ни желания эту работу найти. Он постоянно кашлял, много курил и часто пил чифир. Рецепт: пачка чая на кружку воды. По крайней мере, он стал жить в нашем доме постоянно, и количество попоек и пьяных претендентов на руку и сердце мамы сократилось.
Правда, дела стали хуже с нашим жильём. Трёхкомнатная квартира, оставленная в наследство от бабушки и деда, превратилась в двухкомнатную, затем однокомнатную, затем однокомнатную на окраине города, однокомнатную на окраине меньшей площади... Деньги, полученные в результате этих обменов, пропивались быстро.
Сергей обладал способностью уничтожать их стремительно. Один раз, после выгодного обмена, он, забрав деньги, уехал, чтобы «купить домик в сельской местности». Через неделю вернулся, уже без денег, но с синяком под глазом. По его версии, покупка прекрасного домика уже почти совершилась, но тут его обокрали и избили. До сих пор не знаю, какая доля правды была в этих словах.
Последний обмен совершился, когда я уже окончила университет. Сергей и мама поменяли квартиру на комнату в коммуналке. Моего брата отправили ко мне. Он жил у меня два года и окончил колледж, в котором я работала. Мама с любителем сельской жизни уехала в Казахстан, где у Сергея жили какие-то родственники. И след мамы затерялся на несколько лет.
Из Казахстана она вернулась одна. Без денег, без зубов, без любителя путешествий. Очень худая и притихшая. Видимо, приключений, выпавших на её долю, уже хватало до конца жизни, потому что пить она почти перестала. Какое-то время они с братом жили у меня. Потихоньку из моей квартиры стали пропадать все мало-мальски ценные вещи: серёжки и цепочка, подаренные свекровью, пуховая кофта, книги. На работе мне сообщали, что видели маму на рынке, торгующую моими вещами.
Прошло несколько лет, и мама с братом уехали в свою комнату в коммуналке. А я долго не могла себя заставить позвонить им или съездить проведать. Правда, я всё чаще стала молиться за них, подавать записки на Литургию. Но сердце оставалось холодным. Я не хотела видеть родных людей.
Может, если бы я молилась за них раньше, в детстве, всё сложилось бы иначе? Может, им не хватало любви и молитвы? Я прочитала в одной книге о печальной судьбе человека. Там говорилось: «За него с детства никто не молился». Теперь я молилась за них. Может, я опоздала?
Постепенно моё сердце стало смягчаться. Видимо, эти молитвы умягчали в первую очередь моё собственное сердце. Стали приходить воспоминания. Вот бабушка рассказывает, как родилась мама в военные годы. Как бабушка не хотела её рожать. Без мужа. В голодное военное время. Родилась она «величиной со столовую ложку», и все говорили, что девочка не жилец. А бабушка плакала и выпаривала дочку на печке.
Вот мама рассказывает, как на последние деньги покупала мне фрукты в больницу. Вот она дарит мне розы на окончание школы. Я думала, что она это моё окончание и не заметит. Как не замечала мою отличную учёбу и никогда не ходила на родительские собрания. А она не только пришла на выпускной вечер, но и сидела в первом ряду, принарядившаяся, тихая. И по её лицу текли слёзы, когда меня вызвали первой для вручения аттестата, как лучшую ученицу класса. А потом я пришла домой, а на столе стояли розы. Их купила мне мама. Они так чудесно пахли и были такими прекрасными! Я несколько раз за день подходила к ним и, зажмурившись, вдыхала их нежный аромат. И этот аромат шептал душе о прекрасном будущем, о чудесной любви, о дальних странствиях и удивительных приключениях.
Я вспомнила эти розы и, неожиданно для себя, начала плакать. Я плакала, и мне казалось, что эти слёзы отогревают моё холодное к маме сердце. Через несколько дней я купила билет на поезд и поехала в родной город. Я не была там много лет.
Мама постарела. Они с братом не пьют и не курят. Начали ходить в церковь. На стенах иконы. Я подарила брату Псалтирь. Они были мне так рады! На следующий день, собираясь в магазин, я не нашла в кармане денег. Неужели опять? Я громко возмутилась. И брат с мамой чуть не плача сказали: «Мы не брали твои деньги. Мы же теперь в Бога верим. Мы вот тебе решили подарить подарок: забери наш ОУО, будешь фильмы смотреть. А то мы столько у тебя когда-то перетаскали. Возьми наш подарок, а?»
Я вспомнила, что перекладывала деньги в сумку. И они действительно были там. Посмотрела на маму и брата— они стояли такие растерянные и расстроенные. Я обняла их и попросила прощения. Теперь я звоню им и собираюсь навестить снова. Хорошо, что они есть у меня. И хорошо, что я обрела их, пока не стало слишком поздно.
Предчувствия и надежды
Дыхание перехватывает от предчувствий и надежд.
Школьная жизнь. Десять лет. Такой большой период в жизни. Напрягаю память: что сохранилось, пройдя через решето воспоминаний?
Училась я легко. Особенно давались гуманитарные предметы. Мне достаточно было пробежать глазами по параграфу в учебнике истории, географии, литературы, и я уже могла отвечать у доски. Не понимала тех, кто говорил, что не выучил урок. Ведь можно бегло прочитать материал, пока учитель задаёт вопрос. Я просто не могла понять, что читать так быстро, как я, извлекать информацию из прочитанного, анализировать, делать выводы —это на самом деле трудно для большинства ребят. Поскольку мне это давалось без усилий, я не воспринимала свои способности как способности.
Школа была с углублённым изучением английского языка. Изучали язык с первого класса. Потом был ряд предметов на английском: зарубежная литература, технический перевод, спецкурсы. Английский давался мне так легко, как будто я знала его когда-то, а теперь только вспоминала. Я была победителем всевозможных конкурсов и олимпиад по языку. А также особые успехи делала в литературе. Мои сочинения зачитывали на уроках вслух и отправляли в школьный музей.
Меня почему-то постоянно выбирали то звеньевой, то старостой. И я всегда поступала так, как считала правильным. Один раз преградила дорогу всему классу, пытавшемуся сбежать с урока тихой и больной учительницы. Просто встала у двери и загородила её собой. Сейчас мне немножко смешно вспоминать об этом. Но тогда я чувствовала свою правоту и готова была её отстаивать. Во главе желающих удрать с урока был мальчик, который мне очень нравился. Точнее, я любила его на протяжении всей школьной жизни. Его тоже звали Лёшей. Но так как я была очень застенчива в отношениях с мальчиками и уже имела опыт потери, то он никогда не узнал о моей влюблённое.
Лёша подошёл ко мне, стоящей в проёме двери. Он был выше меня на голову. И я с замиранием сердца ждала, что он просто отодвинет меня в сторону. И они сбегут. А учительница потом сляжет со своим больным сердцем. И я больше не смогу его любить.
Но Лёша постоял около меня в нерешительности, а потом улыбнулся и басом сказал: «Братва, побег отменяется. Видите, староста против. Надо слушать старосту». Раздался звонок, и все пошли по местам. На меня почему-то никто не рассердился. Видимо, уже привыкли к моей «правильности».
С другой стороны, я не была ни подлизой, ни тихоней и не пыталась понравиться учителям. Так я поспорила с учителем истории, парторгом школы, по поводу исторической роли Ленина. И учительница заявила мне, что десять лет назад за мои слова меня отправили бы в места не столь отдалённые:
— Ишь, какая нашлась! Смелая слишком! Ты, кажется, в университет собиралась поступать?! Язычок-то придержи, а то я тебе аттестат-то испорчу!
Также у меня была привычка, неизжитая с годами, заступаться за тех, кого обижают. Подруга удивлённо спрашивала:
— Лен, ну что ты лезешь?! Ведь это совсем нас не касается! Откуда ты знаешь, может, этому человеку за дело попало!
— А мне одни стихи нравятся. Сейчас тебе отрывок прочитаю:
И если сотня, воя оголтело,
Кого-то бьёт, пусть даже и за дело!—
Сто первым никогда не буду я!
— Лен, ты идеалистка. Так нельзя. Как ты будешь жить дальше?
— Где-то я это уже слышала...
Моя смелость и застенчивость каким-то образом сочетались. Так, я стеснялась танцевать и не ходила на школьные дискотеки. А наши девчонки эти самые дискотеки ждали с нетерпением. И могла часами разговаривать о том, кто кому улыбнулся, кто кого пригласил на танец, кто в кого влюбился. Я же не понимала, как можно об этом разговаривать. Потому что своей влюблённостью в Лёшу мне ни с кем не хотелось делиться. Это было сокровенным.
Не участвовала я в школьных вечеринках и ещё по одной веской причине: мне было нечего одеть. Кроме школьной формы у меня наличествовали домашний халат, спортивный костюм, старый полинявший свитер и с трудом сшитые на уроке труда брюки. Так что, даже если бы я пожелала пойти на вечеринку, мне это было сделать не в чем.
Первое красивое платье мне купили на выпускной. Я долго смотрела на себя в зеркало. А когда пришла в школу, подруга удивлённо сказала:
— А ты красивая... И фигурка у тебя что надо...
И я впервые поймала на себе удивлённый и заинтересованный взгляд Лёши. Но этот взгляд запоздал: мы расставались. Все уезжали учиться в разные города. Практически все двадцать восемь человек из нашего «гвардейского» класса получили высшее образование. У нас был очень сильный класс. А «гвардейским» его называли потому, что девочек было только восемь человек, остальные мальчишки.
На прощание мы писали друг другу стихи в альбомы. Лёша написал мне:
У людей бывают слабости разные,
Не ищи за их спинами крылышек.
Помни, люди — вовсе не ангелы!
У людей бывают ошибки!
И чтобы не ушибиться больно,
Столкнувшись с жизненной трудностью,
Не витай в облаках—довольно, —
Спустись на грешную землю!
Вот с таким пожеланием я и отправилась во взрослую жизнь—учиться в университете. В кармане—какие-то гроши. Я сказала маме, что ведь мне будут платить стипендию. Да если бы я и не надеялась на стипендию, то всё равно денег у мамы не было. И как-то так сложилось в наших с ней отношениях, что я всегда была как бы старше и сильнее, чем она. Она смотрела на меня снизу вверх, как на более сильного человека. И, видимо, считала, что я не пропаду.
Чемодана у меня не было, вместо него — старая авоська. Почти пустая. На мне—единственное хорошее платье. На ногах—какие-то старые босоножки. У меня не было многих самых нужных вещей: туфель, тёплой кофты. И ненужных тоже—косметики, например, и я не умела ею пользоваться. Без денег. Без родственников. Совсем одна в чужом городе. Сейчас, когда я вспоминаю прошлое, меня охватывает волна запоздалого страха. Это потому что я примеряю ситуацию на собственных детей.
Что было? Юность. Энтузиазм. Предчувствие чего-то необыкновенного: новой взрослой жизни. Успехов в учёбе. Я чувствовала себя как Д'Артаньян, приехавший в Париж. В кармане —пара грошей, но вызовет на дуэль любого, предположившего, что он не в состоянии купить Лувр.
Вступительные экзамены я сдала на одни пятёрки и поступила легко. Экзаменаторы спрашивали у меня уважительно, какую школу я окончила. В то время мой факультет стоял на втором месте в рейтинге университетских факультетов. Поступить было очень трудно. На первом месте —юридический факультет. Мои баллы позволяли мне пройти по конкурсу и на юридический. Экзамены совпадали.
И я, недолго думая, отправилась в деканат юридического факультета. В деканате сказали, что согласны взять меня к себе, но нужно подождать до завтра, чтобы подписал заявление декан, который в данный момент отсутствовал. А назавтра я уже не пошла в деканат, решив, что, видимо, не судьба, раз сразу не получилось.
Вообще, удивительные повороты бывают в нашей судьбе. Иногда вся жизнь принимает совершенно иное направление из-за пустяка.
Усталость
Дыхание перехватывает от усталости.
Учиться оказалось не так интересно, как я предполагала. После первой сессии нам сказали, чтобы мы не мнили себя переводчиками, потому что ими станут единицы. А большинство будет работать преподавателями в школах, училищах и техникумах. Хотя в дипломе у меня чёрным по белому написано: «Филолог. Переводчик» и лишь потом «Преподаватель иностранного языка».
На первом курсе было много занятий в лингафонном кабинете, потом всякие предметы типа теории перевода, зарубежной литературы, латынь, французский язык, ну и куча других. Из учёбы вспоминаются курсовые работы по зарубежной литературе. Особенно меня хвалили за курсовую по Эдгару По. Нужно было читать его стихи. Конечно, в оригинале. И анализировать, сопоставлять, раскрывать тему курсовой. Ещё вспоминаются уроки французского. Преподаватель благоволила ко мне, хотя мне трудно давалось произношение французского «р», язычок упорно не хотел вибрировать и произносить этот звук. Зато я правильно склоняла и спрягала, разбиралась во всех французских временах. И когда никто не мог ответить, француженка спрашивала меня.
Также делала я успехи в переводе, и наш заведующий кафедрой перевода нередко говорил во всеуслышание, что у меня незаурядный талант лингвиста и переводчика, что у меня есть чувство языка. И хорошо бы мне после окончания университета заняться переводом художественной литературы, так как я могу быть успешна на этом поприще.
Сейчас, когда я вспоминаю то время, оказывается, что в памяти лучше сохранились воспоминания о том, как я работала. А не о том, как училась. Может, потому, что это произвело на меня большее впечатление? Может, потому, что в то время передо мной стоял вопрос об элементарном выживании?
Оказалось, что совмещать учёбу на дневном отделении с работой не так просто. А учиться на вечернем я не могла, потому что вечерникам не давали общежития. Домой возвращаться я не собиралась. Заочного отделения по моей специальности не было.
Я поработала на нескольких работах. Первой была работа на заводе на станках. Мы делали детали и получали деньги за количество сделанных деталей. Запомнилось, как старый мастер дал мне пятьдесят копеек и сказал:
— Сходи-ка, детка, пообедай, что-то ты неважно выглядишь.
Обед в заводской столовой был вкуснее, чем в университетской, но дороже. Поэтому там я побывала всего пару раз. Со мной работать устроилась моя новая подруга и соседка по комнате в общежитии, но она смогла проработать только неделю. Поранила на станке палец, который сильно разболелся, и уволилась. Через несколько месяцев я тоже ушла, потому что приходилось постоянно пропускать две пары из четырёх.
Сейчас, вспоминая то время, удивляюсь, как я, несовершеннолетняя, оказалась у станка. Видимо, как-то в обход правил. Потому что, где бы я ни работала, будучи студенткой, требовали только справку из деканата, что они не против подработки. Трудовую книжку не заводили. И, видимо, оформляли как ученицу. Может, вообще не оформляли?
Затем я устроилась работать в баню ночной уборщицей. Нужно было приходить на работу около десяти вечера. Заканчивала часа в два ночи. Потом меня ждала «прогулка» до общежития по ночному городу. Видимо, Господь уберегал меня от всевозможных приключений, потому что эти прогулки оканчивались всегда благополучно. Хотя мы постоянно слышали, что кого-то ограбили, раздели, изнасиловали. Университетское общежитие находилось недалеко от вокзала, и район был неспокойный.
Казалось бы, теперь можно совсем не пропускать занятий. Очень удобный график для учёбы: работаешь только ночью. К сожалению, я переоценила свои возможности, так как опять пропускала уроки. Теперь потому, что хотелось спать.
Директор бани, принимая меня на работу, спросил о возрасте. Вздохнул, услышав. И спел фальшиво: «Где мои семнадцать лет? На Большом Каретном!» Отправил меня убирать самое лёгкое отделение—детское. Кроме него были женское и мужское отделения. Л в детском мылись мамочки с детьми, и оно считалось самым чистым.
Это достоинство обернулось для меня недостатком. Потому что директор взял меня на место пьющей уборщицы, которую он перевёл на туалеты. Она злобилась и поставила перед собой цель — выжить меня с работы. Выглядела она достаточно страшно: курящая, вечно пьяная, с синяком то под одним, то под другим глазом. Высокая, крупная, сорокалетняя женщина, она, конечно, рассчитывала на лёгкую победу. Но я была крепким орешком. Пьяных мне видеть уже приходилось. И достаточно близко. Как и слышать мат. Этим испугать меня было трудно.
Тогда в ход пошли козни. Моя соперница-уборщица стала приводить компанию своих пьяных друзей. Сторож пил с ними. Они прятали мою швабру, тряпки, вёдра. Раскидывали мусор после того, как я, убравшись, уходила домой. Это портило настроение и отнимало время. Директор вызвал меня и спросил, почему после уборки остался мусор. Я молчала, потому что с детства не любила жаловаться.
Всё-таки она меня выжила. Как-то раз, когда я мылась в душе, закончив уборку в жарком банном отделении, ко мне зашёл пьяный верзила, кавалер моей «приятельницы». Я начала визжать. А ответом мне был дружный пьяный смех всей её компании, устроившейся в раздевалке. На мой визг прибежала взрослая женщина, убиравшая женское отделение. Она стала ругать весёлую компанию, и верзила ушёл. Добрая женщина предложила мне обращаться к ней за помощью. И посоветовала пожаловаться директору.
Я поблагодарила. Оделась и пошла домой. Вышла из бани совершенно спокойной. Но когда шла по пустынной ночной улице, меня вдруг начала бить дрожь. И я зарыдала. От пережитого страха. От унижения. Что я им сделала? Ведь эта женщина годилась мне по возрасту в матери. А она и её компания издевались надо мной. Только потому, что я должна была работать и зарабатывать деньги. И разве это я была виновата в том, что её перевели на туалеты? Если бы не я, взяли бы кого-то другого...
Я шла и думала о нашей группе. О красавицах Ларисе и Наташе. Одна была генеральской дочкой, другая дочерью известного врача. Они меняли наряды каждый день. Думала о других девчонках, которые сейчас спали мирно в своих уютных девичьих кроватях. А я шла одна по ночному городу. И никому не было дела, вернусь ли я домой. И этот пьяный верзила мог справиться со мной как с младенцем. Я шла и рыдала от жалости к себе.
Сейчас я думаю, что мне нужно было пережить и это унижение, и эти слёзы, и эту острую жалость к себе. Для чего? Может быть, для того чтобы закалиться в трудностях? Чтобы научиться испытывать сочувствие к другим? Чувствовать чужую боль? Потому что благополучному человеку труднее почувствовать чужую боль. «Сытый голодного не разумеет»... Нет, не так... Лучше:
И нам сочувствие даётся
Как нам даётся благодать...
И опять безответная любовь
Дыхание перехватывает от безответной любви.
Кроме Лёши из садика и Лёши из класса, любимых парней у меня не наблюдалось. Ате два Лёши никогда и близко ко мне не подходили. Так что в общении с противоположным полом я была совершенно неопытна.
Но вот «пора пришла, она влюбилась...» Когда я работала в бане, то как-то пришла на работу пораньше. С тем чтобы пораньше и уйти. Оказалось, что сторож впустила своего друга, старика из соседнего с баней деревянного домика, помыться бесплатно. Естественно, когда никого не было. А я тут как раз и явилась — не запылилась. Старик пришёл мыться не один, а со студентом, который снимал у него комнату.
Ничего не подозревая, я проскользнула мимо сторожихи, поднялась к себе и приступила к уборке. Когда вошла в отделение, то впала в состояние близкое к шоку: в моём детском отделении радостно намыливались два совершенно раздетых мужчины. Они обернулись на моё ойканье и тоже впали в состояние ступора. Полом схватили в руки тазики, чтобы прикрыться. А я, вся красная как свёкла, выбежала из отделения в раздевалку.
Так необычно началось моё знакомство с Володей. Ему было двадцать пять. Он успел отслужить в армии и теперь учился в медицинском институте. Необычность знакомства, что ли, вдохновила Володю? Уж я и не знаю... Только после этого на протяжении примерно двух недель он встречал меня ночью с работы, провожал до общежития. Я впервые почувствовала заботу и внимание.
Володя был умным, много знал и рассказывал. Он был очень обаятельным и казался совсем взрослым. И девичье сердце таяло. Я чувствовала себя как Золушка, которая наконец-то встретила своего принца.
И принц полностью оценил все её достоинства. Какие именно достоинства, я не задумывалась, но надеялась, что они точно были, раз в меня влюбился такой замечательный человек.
Я летала на крыльях. Внезапно всё кончилось. Володя пригласил меня после работы к себе. Домик, где он жил, был старинным деревянным домом, очень необычным, с какой-то сказочной лестницей, чудесными ставнями на окнах. Чем не дворец? Время было около двух ночи. Я ожидала, что мы будем пить чай и разговаривать. И я, может быть, расскажу ему всё, что накопилось в душе. Что не рассказывала никому. Про одиночество. И про Мишку с чемоданчиком. И, может, даже про то, как плохи дела в моей семье.
Но мой принц был не расположен разговаривать. Он начал целовать меня в темноте комнаты. Я ничего не испытывала, только разочарование. И досаду на свою глупость. Конечно, молодой мужчина привёл меня к себе ночью не для того, чтобы слушать мои глупые рассказы о Мишке и чемоданчике. Ну я ведь люблю его... Думала, как бы высвободиться из неожиданных объятий и не обидеть человека, но он внезапно остановился сам и спросил довольно сурово:
— Ты что, ни с кем не целовалась? У тебя никого не было?
— Нет.
Я почувствовала, как виновато звучит мой голос. Мой принц явно рассердился.
— Так, провожать тебя уже поздно. Останешься у меня. Иди, ложись спать. Вот кровать. А я пошёл спать на кухню. Спокойной ночи.
Я лежала на чужой кровати и плакала. Долго не могла уснуть. Я его рассердила. И теперь он меня разлюбит. Но почему? Рано утром тихонько оделась и выскользнула из дома. Ночью мой принц не пришёл меня встречать после работы. Не пришёл и на следующую ночь. И тогда я сама поднялась по ступенькам этого домика-теремка.
Володя был совсем другим: чужим, холодным, отстранённым. А когда я заплакала, смягчился. Погладил меня по голове, как ребёнка, и попросил прощения:
— Прости меня. Я тебя обидеть не могу. Нам не нужно больше встречаться. Понимаешь?
— Нет. Почему?
— Я провожал тебя и чувствовал себя рыцарем. Но долго быть рыцарем я не способен, прости. Я не собираюсь жениться. Понимаешь? Я не могу пока жениться. У меня ни кола, ни двора. Если бы у тебя была квартира... Я не хочу жить в нищете, понимаешь? И ещё—у меня есть девушка. Она не такая как ты. Мне с ней общаться очень тяжело. Очень. Она капризная такая... Но у неё папа—начальник большой. Мы с ней в рестораны ходим. И когда я с ней иду, на нас все оборачиваются. Понимаешь? А с тобой я даже пройти не смогу вместе днём. Прости, но ты выглядишь чуть лучше нищенки. Я мог бы просто тебе напридумывать всякой ерунды. И ты бы поверила. Ведь поверила бы? Но я хочу быть честным.
Медленно спускаюсь по чудесной лестнице. И мне кажется, что ступеньки качаются под моими ногами. Как откровенно мне объяснили: кто я. Почти нищенка. Без квартиры, без денег, без родителей и связей. Но ведь всё это я и сама знала. Почему же так больно?
Может, потому что я верила в то, что могу кому-то понравиться как личность? Ведь я умная. Сама поступила на такой трудный факультет в университете. Там ведь был конкурс больше десяти человек на место. И у меня есть трудолюбие, энергичность. И ещё я, наверное, добрая. Стихи могу читать часами. Или истории интересные рассказывать. Почему это никому не нужно?
Видимо, Золушки встречают принцев только в сказках. В реальной жизни принцы женятся на принцессах, а Золушки убирают за ними дворец.
Обида
Дыхание перехватывает от обиды.
Несколько месяцев я поработала в почтовом отделении. Научилась быстро сортировать почту, разносить её по адресатам. Район мой состоял из частных домов. Мне, как новичку, его и дали. Потому что быстрее было оставлять почту в многоквартирном доме, чем разносить её по этим дворам. Но я тогда была лёгкой на подъём.
Крепкого здоровья, правда, у меня не наблюдалось никогда, сказались операции и детство, проведённое в больницах. Сердечко всегда было больным, одышка и тахикардия — постоянные спутники. Но я была тоненькой и юной и, конечно, обойти эти многочисленные дома мне было легче, чем пожилым тётушкам, работавшим рядом со мной. Носить почту людям мне нравилось. Это было весело. Но продолжалось недолго. Из декрета вышла женщина, на месте которой я работала, и мне снова пришлось искать работу.
Попыталась устроиться на полдня в регистратуру поликлиники. Прошла медосмотр, потратив уйму времени. Но когда пришла к заместителю главного врача, оказалось, что на обещанное место она уже нацелилась взять свою родственницу. Так мне шепнули в регистратуре. Правда, родственница ещё не прошла медосмотр. И у меня была фора.
Солидная дама в белом халате попросила меня отдать ей карточку с результатами медосмотра. Взяв документы в руки, она злорадно улыбнулась и вдруг разорвала их. И бросила в корзину, стоящую под столом. Затем объявила мне: «Идите, мы вас не берём, у нас есть другой кандидат». Сказать, что я была растеряна,—значит ничего не сказать. Понятно, когда неприлично ведёт себя опустившаяся, вечно пьяная уборщица. Но когда так поступает солидная дама-врач... Я растерянно спросила:
— Зачем вы порвали мои документы? Они бы мне пригодились для другой работы...
В ответ снисходительный смешок:
— Надо будет — ещё раз пройдёшь медосмотр. Иди отсюда! И не вздумай жаловаться! Всё равно никто тебе не поверит!
Перемены
Дыхание перехватывает от собственных перемен. Как говорили девчонки, «смены имиджа».
Дольше всего—около двух лет—я проработала на телефонном заводе. Моя работа называлась «уборщица производственных помещений». Я мыла большой цех, где рядами сидели женщины. Они сидели за столом и занимались сборкой телефонов, точнее, их частей.
Все знали, что я студентка, и отношение ко мне было неплохим. Начальник цеха звал меня «юный филолог». А мне так и хотелось передразнить «юный филолух», но я молча улыбалась. Мне здесь нравилось. У меня было своё место, где лежали мои вёдра, халат, перчатки, ну и всё остальное. И на них никто не покушался. Не было никаких пьяных компаний и уборщиц с фингалом под глазом. Я ни от кого не зависела. Приходила к шести утра, важно шла через проходную, потом в свою каморку. Наливала воду в ведро и быстро всё мыла. Когда мыла рабочие места, женщины вежливо отодвигались.
Возвращалась я в общежитие часов в девять-десять. 11окупала по дороге кефир или молоко, хлеб. Как-то раз, когда я тяжело поднималась по ступенькам на наш седьмой этаж (лифт часто не работал), навстречу мне спускался парень с нашего факультета. Он посмотрел на меня с жалостью и строго сказал:
— Лен, ты давай заканчивай со своей работой, а то ты совсем прозрачная стала, так тебя скоро ветром унесёт!
Девчонки в комнате ещё спали. Все они жили на родительские деньги и работать на заводе им не было необходимости. Просыпались они радостно: «Кормилица пришла!»
В полном смысле кормилицей я не была, потому что мы все делились едой. И, бывало, уже за полночь удобно устраивались за столом, чтобы отведать сала, которое привезла Иринка (родители свинку закололи!) или жареной картошки от родителей Раи. Но готовила я на самом деле чаще других, просто потому что готовить любила.
На заводе мне платили хорошо, я получала там сто рублей, по тем временам это была зарплата инженера или учительницы. Если прибавить сорок рублей стипендии, то можно понять, что я чувствовала себя настоящей богачкой. Стипендию я положила за правило отправлять маме с братом. Брат ещё был школьником, а мама либо не работала, либо работала, но получала копейки.
Я пробовала покупать брату вещи. Помню, как долго и придирчиво выбирала для него джинсы (их тогда только-только начинали продавать в магазине, а не у фарцовщиков) и настоящий шерстяной пуловер. Но эти подарки впрок не пошли. Они были проданы за копейки, когда у мамы и брата, как обычно, не было денег. А может, их унёс очередной пьяный кавалер. У них в то время очень много всего пропадало и выносилось из квартиры...
Помню, как девчонки, соседки по комнате, недоумевали, почему я отправляю деньги матери, и как она может брать эти деньги у дочери-студентки. Но я не собиралась посвящать их в свои семейные тайны и отговаривалась какой-то важной причиной. Не помню, какой, может, говорила о болезни родителей...
Я всегда была довольно скрытна в том, что касалось моей личной жизни, внутреннего мира. Не делилась переживаниями, чувствами. Про Володю и свою любовь к нему никому не рассказывала, хотя пережила это очень тяжело.
Сама я полностью оделась. В основном в комиссионке. В то время там можно было купить неплохие вещи. Импортные. И относительно недорого. По сравнению с тем, как я выглядела раньше, теперь я была просто моделью. Девчонки в группе одобрительно кивали головами: «Наконец-то и Ленка у нас прибарахлилась!» Соседки по комнате в общежитии научили меня подкрашивать глаза, завивать чёлку. Вместо вечного хвостика я стала распускать свои светлые волосы по плечам. И убедилась, что это гораздо красивее.
Когда я приехала на вечер встречи выпускников, то от кавалеров просто не было отбоя. Особенно приставал парень, который слыл школьным донжуаном и учился на год старше меня. Он спрашивал, искренне недоумевая: «Почему я тебя не помню? Где ты была раньше? В каком классе, говоришь, училась? Нет, ты шутишь, не было тебя в этом классе! Я не мог тебя не заметить!»
А самая красивая девчонка нашего класса, ревниво улыбаясь, сказала мне: «Что за перевоплощения?!» От физической работы я стала совсем тоненькой. Смотрела на себя в зеркало и не узнавала: удивительно, как причёска, красивая одежда и минимум косметики может изменить внешность человека. Неужели это я?!
Как-то встретила на улице своего бывшего принца—медика Володю. Прошло два года с момента его объяснения. Володя проходит мимо. Останавливается, оборачивается. А я узнаю его сразу. И стою полуобернувшись. Жду. Он возвращается ко мне:
— Лен, ты?! Глазам не верю! Ты совсем другая! Совсем... Какая ты красивая стала... И взрослая... А помнишь, как мы с тобой — по ночной Перми? Ну, я тебя провожал ещё, помнишь? Ты что, разбогатела? Слушай, не хочешь со мной сходить на один классный концерт?
— Нет, Володя, не хочу.
Восторг
Дыхание перехватывает от восторга.
На лето я рассчиталась с телефонного завода. Отпустили меня как студентку легко, просили возвращаться осенью. Им нравилось, как я убираю цех. Я и, правда, делала это добросовестно и быстро. Наловчилась.
Рассчиталась я потому, что прочитала объявление о наборе студентов в геологическую партию на летний сезон. Мне хотелось путешествовать. И меня всегда влекла жизнь на природе.
Да уж, это оказалась действительно жизнь на природе. Нас забросили на вертолёте в тайгу Северного Урала. До ближайшего населённого пункта километров пятьдесят. Вокруг тайга. Как в присказке: «Тайга —закон, медведь — хозяин». Работа неквалифицированная,
а студентам можно было платить немного. Студента накормишь—он уже рад. Поэтому наш шеф и предпочитал студентов. Он рассуждал так: «Взрослая женщина в тайгу не поедет. У неё постоянная работа, семья. Мужчина, который такую сезонную работу ищет, чаще всего пьёт и курит. В тайге с таким могут быть проблемы и очень большие. А студенты — милое дело. Прикрикнешь на салагу—и вперёд!»
Мы гордо назывались геологоразведочной партией. В нашу партию входил наш шеф — профессиональный геолог Толя. Ему было за тридцать. И мы считали его не то чтобы совсем пожилым человеком, но так... уже в годах. Ещё были два студента-геолога Света и Лёня. И мы с подружкой и однокурсницей Раей. Рая после этого геологического сезона, кстати, перевелась на геологический факультет на курс ниже. Я тоже об этом подумывала. Но не решилась.
Были поставлены две палатки, в одной жили шеф с Лёней, в другой мы — девчонки. Света была очень крупной и рослой девушкой, года на три постарше нас. Ну а мы с Раей походили на школьниц.
Вокруг тайга, и можно было наслаждаться жизнью на лоне природы по полной программе. Оказалось, что у этой жизни есть свои плюсы и минусы. К минусам, конечно, относились разные комары и мошкара. Невозможность толком помыться. И даже умыться. Умываться мы стали, пользуясь водой из луж. Лужи в тайге — чистые и прозрачные. В них мы и умывались и чистили зубы. По мере загрязнения луж, меняли их, потихоньку отходя дальше от лагеря.
Зато всё остальное было сплошными плюсами. Как описать красоту девственной тайги?! Множество птиц и маленьких птах, большого и мелкого зверья. Тайга живая. Она живёт и дышит. Поёт и чирикает, свистит и шумит. А чистейшая вода в ручьях, от которой гак сладко ломило зубы в жару! А ягоды и грибы! Мы собирали спелую чернику в большие кружки и добавляли сгущёнку. И ели эту вкуснятину ложками, запивая крепким чаем, пахнущим костром. Ничего вкуснее я не ела с тех пор. А дикая малина, сочная, душистая, которая тает во рту?!
Шеф стрелял глухарей, и я готовила их в котелке с клюквой и брусникой. Мясо тушилось и было немного твердоватым, но ароматным. Ещё я приспособилась стряпать ландорики. Так шеф называл оладьи на сухом молоке. Толкла ягоды с сахаром и мы, облизываясь, уминали горячие поджаристые ландорики с душистой ягодной толчёнкой.
Шеф брал меня с собой в тайгу. У него за плечами ружьё, в руках планшетка. У меня на шее —прибор, который называется радиометром. Через каждые пять-десят-сто метров я его включала, стрелка показывала цифры, которые я добросовестно рапортовала своему начальнику. Это называлось: «Сделать замер». Радиометр был довольно тяжёлый. Мой начальник шутил: «Ничего, Лен, шея после сезона длинная будет! Балерины Большого отдыхают!»
Идти по тайге тяжело: перелезаешь через корни деревьев, через заросли травы и кустарников. А то дерево упало, и нужно перелезать его сверху или проползать под ним снизу. Или бурелом —не обойти. Я уставала.
Мы садились, разводили костёр, доставали тушёнку, сухари, чай, сгущёнку. Как-то раз я особенно сильно устала и попросила у Толика ещё время на отдых. Он спокойно сказал: «Посидеть, конечно, можно ещё... Но вот хозяин как на это отреагирует?» Я оглянулась, следя за его взглядом, и увидела медведя. Надо ли говорить, что после этого мою усталость как рукой сняло? И я скакала домой, почти опережая шефа и перемахивая через стволы упавших деревьев. Откуда и прыть взялась?! Мишка не приближался и не отставал, он проводил нас, видимо, до границ своей территории и исчез.
Ещё шеф отправлял нас с Раей в маршруты по окружающим лагерь речушкам. И мы набирали песок со дна речек в лоток и промывали его долго в ледяной воде. Уходили довольно далеко от лагеря, и Толя давал нам с собой ракетницу и компас. Я никогда не могла запомнить направление. Шеф называл это женским топографическим кретинизмом. Он говорил, что в древности мужчины ходили на охоту далеко от дома и должны были уметь ориентироваться на местности. А женщины сидели дома и ждали своих кормильцев. Поэтому у них плохая ориентация на местности. Говорил он это очень важно.
Ая и сама знала, что могу заблудиться в трёх соснах. Но с Раей мне страшно не было. У неё обнаружилось удивительное чувство направления. И она всегда выводила меня домой, к лагерю, с точностью до нескольких метров. Один раз, правда, мы с ней всё-таки заблудились. Паниковать не стали. Больше нас, как мы позднее узнали, паниковал шеф, который уже собрался нас искать. Но Рая смогла сориентироваться в глухой тайге, и уже к вечеру мы вышли к нашим палаткам.
Случались и моменты, которые врезались в память на всю жизнь. Так, один раз, мы ушли из лагеря к самой высокой точке Северного Урала —горе Конжак. И неколько дней жили в охотничьей избушке. Были удивлены, когда нашли в пустой избушке припасы. Шеф объяснил, что это таёжные правила. Последние, кто ночевали в избушке, всегда оставляли для новых постояльцев спички, соль, консервы, сухари.
В избушке были нары, где мы спали, в одном углу шеф с Лёней, в другом я, Рая и Света. Еду готовила в основном я. А остальные парами уходили в маршруты. Меня оставляли в избушке. Шеф объяснил, что на это есть две причины. Первая: я вкуснее всех готовлю. Вторая: физически я была самой слабой, а маршруты здесь сложные, с подъёмами.
Готовила я на костре или, если погода была плохой, прямо в печке-буржуйке. Научилась обращаться с топором, собирать сушняк, разводить быстро и в любую погоду костёр. Мне оставляли ракетницу. Как-то раз ребята ушли вчетвером. Со мной оставались наши собаки. Это были две молодые лайки, почти щенки. Шеф звал их Кидус и Карус.
Дело шло к вечеру. Ребятам пора было вернуться. Я уже приготовила еду, принесла воды, насобирала ягод. И ходила вокруг избушки кругами в ожидании. Но слышно было только журчание ручья, шум деревьев, птичье пение. Внезапно небо стало темнеть на глазах. Птицы перестали петь. Тайга тревожно замолчала в ожидании грозы. Несколько минут, и избушку окутал мрак. Я очень переживала за своих геологов.
Началась сильная гроза. Я залезла на нары в избушке и сидела, сжавшись в комочек. А снаружи бушевала стихия. Избушка скрипела, трещала. И я чувствовала себя Элли из детской сказки. Только вместо Тотош- ки со мной Кидус и Карус. Внезапно щенки начали скулить и лезть ко мне на нары. Это было очень странно, потому что они обычно держались дерзко и лаяли на всех птичек и мелких зверюшек. Демонстрировали, что они, охотничьи собаки, здесь, в тайге, главные. Я втащила щенков на нары и прижала к себе. Снаружи послышались тяжёлые шаги. Кто-то ходил вокруг избушки. Собаки скулили.
Я взяла в руки ракетницу, которую обычно оставлял мне шеф, чуть приоткрыла дверь и выглянула. Лучше бы я этого не делала. При вспышке молнии я увидела почти рядом с собой здорового медведя с раскрытой пастью. И пасть у него была, я вам скажу, довольно неприятная. Он явно открыл её не для того, чтобы зевнуть. Я закрыла дверь. Вернулась на нары. И сидела на них не знаю, сколько времени.
Помню, что одной рукой обнимала и гладила обоих щенков, а вторая рука с заряженной ракетницей была наставлена на дверь.
Когда дверь открылась, я чудом удержалась от того, чтобы не пустить своё оружие в ход. На пороге стояли продрогшие и лязгающие зубами мои бродяги-геологи. Они заблудились и плутали. Такое бывает в тайге даже с опытными людьми.
Помню, как шеф медленно, почти на цыпочках подошёл ко мне. Он ласково уговаривал меня: «Леночка, солнышко, ты ракетницу-то отдай! Ну, отдай, а? Давай сюда ракетницу, тебе говорю!» А я бы рада отдать, но рука вцепилась в неё намертво. И бедному шефу пришлось разгибать мне пальцы по одному, чтобы достать оружие из ладони.
Потом, согревшись и наевшись, после третьей кружки чая, все начали смеяться.
— Лен, у тебя такой вид был угрожающий, дескать, враг не пройдёт. Если бы медведь сюда зашёл, он бы точно сразу развернулся обратно. Тут такая тройка: непобедимые Кидус, Карус и Лена с оружием в руках!
И я наконец тоже начала смеяться. А наутро—тайга, омытая грозой, и ручей, который стал речкой. И прозрачная хрустальная вода в нём. И оживший лес. И кружка черники со сгущёнкой. Хорошо!
Приключения
Сердце перехватывает от приключений.
Много лет спустя я напишу: «Есть на Урале река Чусовая. Холодная река, северная. Течёт себе мимо береговых скал, отвесно обрывающихся в воду. Такие скалы называют бойцами. Течёт Чусовая среди горнотаёжных лесов.
Радуют глаз тёмно-зелёные ели и сосны, пихты и лиственницы, а среди них лёгкие осинки и берёзки. А под ними кустарники: жимолость, малина, шиповник. На полянках ждут вас в летнюю пору и брусника, и голубика с клюквой, и морошка с черникой.
А в лесах живут огромные лоси, маленькие белочки и бурундучки, зайцы, барсуки. Можно встретить и героев русских сказок: серого волка и рыжую лису. Мишка косолапый редко, но пройдёт, протопает по тайге. Множество птиц и крохотных птичек поют свои песни над берегами Чусовой, от огромного беркута с двухметровым размахом крыльев до крохотного, меньше стрекозы, желтоголового королька. Ползают по травке ужи, медянки, ящерицы».
А тогда, в годы юности, я стала дружить с туристами-водниками. И мы сплавлялись по рекам Урала. Первой рекой была Чусовая. И я увидела своими глазами всю красоту этой дивной уральской реки. Позднее были Вильва, Койва, Вижай, Сылва и другие реки. Коренные жители этих мест называют воду — «ва», отсюда названия рек: тихая вода, прозрачная вода, бурная вода и так далее. Позднее я буду жить в городе, в названии которого тоже будет «ва».
Это были удивительные сплавы. Чувство дружбы, единой команды, взаимопомощи и взаимовыручки. Рыцарское отношение юношей к девушкам. Чудесная таёжная природа.
В первом походе я была летописцем и записывала в свою летопись день за днём сплава, чтобы после похода, на «самоваре», за чашкой чая, прочитать вслух все наши приключения и забавные случаи. Были случаи и не очень забавные.
Сплавлялись мы на катамаранах и на байдарках. На майские празднике на бурной после весеннего половодья Вильве наша байдарка с другом-туристом Витей перевернулась. Там был мост, под которым обычно проплывали туристы-водники. Но уровень воды этой весной так повысился, что проплыть можно было только под одним пролётом. А мост появился из-за поворота реки внезапно, и мы не успели сориентироваться.
По реке шёл лёд, и температура воды была соответствующей. Мой напарник очень хорошо плавал и, оказавшись по другую сторону байдарки, выплыл на другой берег. А я думала, что его затянуло под байдарку, и отчаянно кричала: «Витька! Витька!» Обычно мы надевали такие прорезиненные фартуки-юбки, которые со всех сторон крепились к лодке, чтобы ледяная вода волнами не заливалась в неё, и, когда байдарка перевернулась, отцепить этот фартук, чтобы не остаться сидеть в лодке под водой, требовались время и сноровка.
Позднее Витя говорил, что тоже кричал мне, чтоб я плыла к берегу, но я его криков не слышала. Драгоценное время я потеряла на безуспешные попытки докричаться и найти друга. Затем поняла, что Витю мне не спасти самой и отпустила байдарку. Попыталась выгрести на берег, но не могла справиться с быстрым течением. И меня понесло по Вильве.
Год спустя так погиб наш однокурсник. Он не смог выплыть на берег, а его друзья не успели быстро сориентироваться. И потом его тело достали километрах в двадцати ниже по течению, потому что при температуре весенней воды человек теряет сознание минут через пятнадцать-двадцать.
На мне был спасжилет, и меня просто несло по течению вдоль берегов реки. Хорошо, что ребята быстро сообразили, и меня догнала байдарка наших мальчишек. Это было непросто, потому что на реке все находятся на разном расстоянии друг от друга, и нужно время, чтобы понять, что случилось. Нужно было на высокой скорости течения суметь выгрести под единственный проходимый пролёт моста и догнать человека, которого быстро несёт течение.
Я отчего-то не испугалась. Может, низкая температура воды ввела меня в такое чувство умиротворённости? А ребята, когда догнали меня и бросили мне верёвку, были очень испуганы. И повторяли только одно: «Леночка, дорогая, только не лезь на байдарку, только не пытайся залезть на байдарку! А то она перевернётся — вместе будем плавать по Вильве!» Потом, на берегу, девчонки растёрли меня спиртом, напоили им же из фляжки. Ребята выпили тоже, и мы начали смеяться. Прямо за животики держались. Видимо, шок начал проходить. А тут ещё и спирт...
Помню, как Коля, держась за живот от смеха, всё рассказывал в очередной раз:
— Я, думал, всё! Щас она от испуга полезет на байдарку, и мы все перевернёмся! А у меня спасжилет кое-как надет! А она, вы представляете, так спокойно и хладнокровно, руку достаёт из воды, машет нам приветственно и объявляет: «Нормально! Всё в порядке! Гребите к берегу!» Ой, я не могу! Ой, держите меня! И взгляд такой важный! Прям Джейс Бонд! Не, Штирлиц на задании!
В общем, героем дня стала Лена, а не её спасатели. Я «скромно» не возражала, хотя до сих пор не знаю, почему не запаниковала: от собственной смелости или от прохлады ледяной воды бурной весенней Вильвы. Я поднимала руку, изображая, как я помахала друзьям- спасателям, и все снова падали от смеха.
И каждый пытался надеть на меня ещё что-нибудь тёплое и плеснуть мне ещё спирта в кружку В конце концов я стала похожа на тюфяк. И меня транспортировали в палатку. Спала я как сурок и утром даже не чихнула.
С этими же водниками зимой мы ходили в лыжные походы. Особой крепости и силы у меня с детства не было. И сейчас я вспоминаю, как смело ходила наравне с другими и почти не отставала от друзей. Даже, наоборот, брала на себя и лишнее. Так, как-то раз мы отправились на лыжах на Конжак. Я хорошо знала эту самую высокую точку северного Урала ещё по сезону с геологами. Поход оказался очень трудным. Морозы ударили внезапно и достигали сорока градусов. Несколько человек обморозили, правда, легко, кончики пальцев, носов.
Когда мы поднялись в избушку на вершине Конжака и ночевали в ней, то стены избушки были в инее, несмотря на жарко натопленную печку. Я в этом походе была медиком и оказывала медицинскую помощь тем, кто обморозился.
Первый день я шла хуже всех. Чаще всех падала. Самостоятельно встать не могла под тяжестью своего рюкзака. Падаешь лицом в снег и тебе нечем дышать, пока друзья тебя не поднимут. Или падаешь на спину и тоже не можешь встать самостоятельно. Больше всех доставалось Сергею, который шёл за мной и помогал подняться. Вечером он тихо сказал мне, что я шла хуже всех. Помню, как было мне стыдно, что я слабее остальных. Но утром, когда Сергей поднял мой рюкзак, чтобы
помочь мне его одеть, он начал громко возмущаться и ругаться с руководителем похода Игорем:
— А я-то думаю, почему она так плохо идёт?! А кто руководил упаковкой рюкзаков?! Игорь, ты сам её рюкзак поднимал? Он тяжелее твоего! Ну, Игорь, ты даёшь! Что, первый раз в походе, что ли?!
Выяснилось, что у меня в рюкзаке помимо личных вещей оказались спальник и консервы. Когда распределяли вещи и спрашивали, кто понесёт, я в полной уверенности, что каждый берёт себе, что потяжелее, нагрузила свой рюкзак по полной программе. А Игорь, обычно проверявший рюкзаки, видел, что девчонки не берут почти ничего, кроме личных вещей. И сравнил только рюкзаки парней, чтобы были одинаковыми по тяжести.
Игорь отобрал у меня тяжеленные консервы, Сергей взял себе спальник. И дальше я уже не падала носом в снег так часто, придавливаемая весом собственного рюкзака.
Ещё я подружилась со спелеологами. Мы облазали большинство пещер Урала: Геологов-2, Дивью, Кизеловскую, Медвежью, Дружбу и другие. У меня появился свой комбинезон, каска, фонарик, который прикреплялся к каске. Пещеры были грязные, и вылезали мы из них чумазые, но довольные собой. Наш руководитель Коля хорошо знал ходы в этих пещерах, в какой лаз или, по-нашему, шкуродёр, можно пролезть, а в какой лучше не соваться. Как-то раз он предложил мне пролезть в один сложный шкуродёр.
Помню, как долго я лезла по этой каменной норе. Нужно было несколько раз повернуться, упираясь ботинками в стенки лаза. На мгновение меня охватил ужас замкнутого пространства, чувство, что я не смогу выбраться из этого узкого каменного мешка. А вдруг он изменился с тех пор, как по нему лазал Коля? Вдруг теперь шкуродёр перестал быть проходимым? Обрушился какой-нибудь камень? И я не смогу вылезти назад, потому что и вперёд-то протискиваюсь с трудом, упираясь ботинками. Но сзади Коля еле слышно кричит что-то типа: «Спокойно! Отдохни! Отдышись! Всё в порядке! Так, отдохнула? Вперёд! Лезь вперёд!» И я, спустя минут двадцать, которые показались мне часами, благополучно преодолеваю этот шкуродёр.
А потом спуски и подъёмы в абсолютно тёмных пещерах, которые освещались только светом наших фонариков. Мы лазали на специальных приспособлениях, когда ногами в креплениях перебираешь, а руками подтягиваешься. Поднимались на пещерные скалы и опускались к подземным озёрам.
Один раз мы втроём: Коля, я и моя подруга Рая спустились по верёвке с пещерной скалы. Потом нужно было подниматься назад. Рая поднялась первой. Она была физически сильнее меня. А я на середине подъёма застряла. Нужно было передвигать карабин руками и перебирать ногами в специальных петлях. А у меня руку под карабином прижало к скале, и я никак не могла её вытащить, потому что веревка прижималась под моим весом к камню. Не помню, как я всё-таки подтянулась, но зато помню, как долго в этом беспомощном состоянии болталась. И ни Рая сверху, ни Коля внизу не могли мне помочь. Когда я всё-таки вылезла, то ноги у меня дрожали, и я опустилась на землю. Рука была вся в крови, потом болела.
В общем, приключения были. Сейчас я размышляю, что тянуло нас на сплав по рекам, в пещеры? Риск? Приключения? Игра адреналина в крови? Думаю, главным было чувство единения, дружбы, товарищества. Эти чувства невозможно было испытать в учебной аудитории, где мои однокурсницы демонстрировали свои супермодные наряды, где каждый был сам за себя. А мне в ту пору очень хотелось преодолеть своё одиночество. И эти походы давали такую возможность.
Однокурсницы не понимали нас с подругой. На нашем престижном факультете учились сливки общества, с богатыми родителями, дорогими авто. Лазать по грязным пещерам? Таскать на спине тяжёлый рюкзак? Наши богатые девочки мазали дорогими французскими кремами свои нежные личики. Демонстрировали друг другу дорогую косметику и духи. И с ужасом смотрели, как мы с Раей, искусанные таёжной мошкарой, с облупленными, сгоревшими под весенним солнцем носами, приходили в аудитории после походов.
Много лет спустя, когда у меня погиб муж, и денег на похороны не было, мне помогли те самые студенческие друзья-туристы. Они приехали в полном составе. В том самом, как когда-то сплавлялись по рекам. И они были те же, что двадцать лет назад. Только девчонки не такие тоненькие, как раньше, а виски у мальчишек седые. И, не говоря лишних слов, они собрали мне пачку денег. Я, поблагодарив, положила эту пачку в сервант. После похорон, когда я переживала, что не смогу отдать долги, я открыла дверцу серванта и, пересчитав деньги, поняла, что их хватает на покрытие всех долгов и даже остаётся на первое трудное время.
***
Воспоминаний много. Но все они разные... Детство и юность—ярко, в красках, в звуках... А потом, с годами — всё тише, всё глуше... Как хорошо сказал об этом поэт:
Голубое основанье,
Золотое остриё...
Вспоминаю зимний вечер, Детство раннее моё.
Заслонив свечу рукою,
Снова вижу, как во мне Жизнь рубиновою кровью Нежно светит на огне.
Голубое основанье,
Золотое остриё...
Сердцем помню только детство: Всё другое — не моё.
Звонок по сотовому телефону
Эта история случилась со мной на днях, когда я ездила из Оптиной пустыни в Козельск по послушанию. Послушание выполнила. Пришла пора возвращаться в монастырь. А день уже заканчивается, маршрутки перестают ходить. Вот и в Оптину последняя по расписанию пошла. Бегу я за ней, а сумка тяжёлая. Нет, точно не успею... И не успела. Можно и пешком, конечно, дойти, но вот поклажа моя... Да и устала под конец дня...
Подходит рейсовая маршрутка, которая по городу ездит. Пустая почти. Сажусь я в неё и спрашиваю: «А вот только что оптинская маршрутка ушла. Мы её не догоним на какой-нибудь из городских остановок?»
Водитель оборачивается ко мне не спеша. Смотрит на меня тяжёлым взглядом. Сам здоровый такой. Ручищи на руле огромные лежат. «Вот это здоровяк», —думаю...
А он отворачивается и угрюмо так цедит сквозь зубы: «Не, не догоним». Достаёт из кармана сотовый телефон и начинает кому-то названивать. «Ну, — думаю, —конечно, если ты во время движения своей маршрутки ещё и по телефону будешь лясы точить, то точно не догоним». А он так спокойно чего-то там болтает. Сижу я и злюсь на саму себя, что на маршрутку опоздала, на погоду дождливую, слякотную. На здоровяка невежливого. Хотя знаю, что злиться —смысла нет. «Никогда не бегите за уходящим автобусом: это был не ваш автобус...»
И осуждать ведь тоже нельзя. Сижу и пытаюсь придумать добрый помысел об этом здоровяке. Я когда-то даже рассказ написала «Фабрика добрых помыслов». Там речь идёт о словах Паисия Свято горца. Старец писал о том, что необходимо терпеть немощи окружающих людей, покрывать их любовью. Не поддаваться помыслам осуждения, недоверия.
А для этого придумывать добрые помыслы в отношении окружающих. Пытаться оправдать их, пожалеть. Понять, что, возможно, у них были добрые намерения, просто не получилось воплотить их в жизнь. Пожалеть, даже если этих добрых намерений не было, придумать добрый помысел о таких людях. Старец называет эту мысленную работу «фабрикой добрых помыслов».
Маршрутка наконец-то с места сдвинулась. Здоровяк наболтался. Еду я и пытаюсь добрый помысел о нём придумать. Чтоб не осудить его, а оправдать как-то. «Так,—думаю,—может, он маме звонит часто. Даже с дороги. Беспокоится о матери... Или нет. Вот ему срочно нужно детям позвонить. Проверить, что они там делают одни дома... А то, может, жена ждала звонка важного...» Еду и чувствую, что раздражение отошло. Вот и здоровяк мне уже кажется не таким вредным. А что? Хороший, наверное, человек... Просто вот озабочен срочными делами...
Смотрю в окошко: луч солнечный сквозь тучи пробился. Ура! Дождь кончается! Хорошо-то как!
Подъезжаем мы к остановке. Тут здоровяк ко мне оборачивается и говорит: «Догнали мы оптинскую маршрутку. Пересаживайтесь». Вот здорово-то! И с чего я взяла, что взгляд у него тяжёлый? Обычный такой взгляд... Можно сказать, даже добрый...
Быстро пересаживаюсь в оптинскую маршрутку. Она тоже полупустая. Протягиваю водителю деньги. А он спрашивает: «Ну что, чуть не опоздали?» Улыбаюсь в ответ: «Да, я уж настроилась пешком идти. Вот погода только сырая да сумка тяжёлая».
А водитель, парнишка молодой, улыбается мне и говорит: «Да, пришлось бы вам пешком топать, если б не друг мой, водитель городской маршрутки, на которой вы ехали. Он мне позвонил и попросил притормозить немножко на остановке. Говорит: "Тут пассажирка одна к тебе опоздала. С сумкой большой такой. Ты уж её подожди, ладно? Жалко сестрёнку". Я и притормозил».
Вот тебе и здоровяк угрюмый! Сестрёнкой меня назвал...
Благодарю тебя, отче Паисий, за твоё наставление о фабрике добрых помыслов!
«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей!»
В дождливый день я шёл по улице
День начинался из рук вон плохо. Просто ужасно. Небо было хмурым, пасмурным, шёл дождь. И настроение было под стать погоде. Неделю назад Лена умудрилась сломать передний зуб, откусывая яблоко. Хорошо, что она была в отпуске. Как на работе в таком виде появишься?
Стоматолог предложил поставить вместо сломанного зуба коронку и успокоил:
— Будет красиво и прочно. Единственный минус — время. Неделю придётся походить так —со сломанным. Я его обточу, подготовлю, через неделю сделаем в лучшем виде.
Лена с ужасом протянула:
— Целую неделю?! Со сломанным зубом?!
Врач засмеялся:
— Некоторые вообще без зубов ходят! И ничего — живут... Ну, пошутил, сделаю так быстро, как смогу.
Через неделю у Лены был день рождения. То есть вот уже завтра. И гости должны были к ним приехать, три семейные пары. Друзья. Такие же молодожёны, как и они с Сашей. Вместе росли, вместе учились. Вот и поженились почти одновременно. Друг у друга на свадьбе отгуляли.
Лена спрашивала у Саши: «Красивые у меня подруги?» И ей было очень приятно, когда Саша серьёзно отвечал: «Ты у меня самая красивая». И слово «муж» было тоже очень приятно произносить вслух. Скажем: «Нет, девчонки, сегодня не могу, мне ещё нужно мужу ужин приготовить».
И вот сегодня утром, когда муж Саша, отвёз её в клинику, оказалось, что врач заболел. И приёма нет. И это означает, что она остаётся со сломанным передним зубом ещё на неделю. А может, и дольше. Лена попросила у другого врача:
— А можно поставить что-нибудь временное?
Молодой стоматолог раскатисто захохотал:
— Временное?! До первого завтрака? Или до обеда? Ха-ха! Ну, девушка, ну, насмешила!
Назад ехали молча. Саша, спокойный и невозмутимый, как всегда, улыбался:
— Ничего страшного, Лен. Ты всё равно в отпуске.
— А день рождения?! А гости?!
— Не понял. Причём тут день рождения? Будем праздновать. Будут друзья, будут подарки. Вот сейчас в универсам заскочим, ты же хотела продукты купить. Ты ж у меня лучший кулинар на свете!
— Саш, я не буду принимать гостей в таком виде. День рождения отменяется.
Саша не стал спорить. Он, несмотря на молодость, был умным и рассудительным. К переменам настроения юной жены относился снисходительно. Чувствовал себя сильным мужчиной: «Ох, уж эти женские слабости и капризы! Слабый пол...» Он уже знал, что бурю лучше переждать. А после бури бывает что? Правильно! Солнышко!
— Лен, всё равно нужно заехать в магазин. Сама знаешь, что в холодильнике пусто.
В магазине разделились, Лена отправилась за продуктами, а Саша занял очередь в кассу.
Она шла между рядами. На глаза наворачивались слёзы. Вот и день рождения испорчен. Она даже рот раскрыть стесняется. Прикрывает ладошкой. Какое уж тут праздничное настроение — с таким ужасным, просто ужасным видом!
— Девушка, пожалуйста, помогите мне достать конфеты!
Голос взрослой женщины исходил из уст ребёнка. А ребёнок был чуть выше Лениных колен. Лена наклонила голову: прямо перед ней, на маленькой тележке, сидела женщина. У неё не было ног. То есть совсем не было. Она сидела на тележке с колёсиками и приветливо смотрела на Лену.
Лена сделала усилие над собой, чтобы голос не дрогнул. Сглотнула и всё-таки немного дрожащим голосом спросила:
— А вам какие?
Женщина улыбнулась. Она была ещё нестарая, и лицо у неё было очень милым.
— Шоколадные. Может, «Белочка» есть? Я «Белочку» больше всего люблю.
Лена нашла ей конфеты, а потом пряники. Потом они посоветовались, какая сгущёнка вкуснее, и решили, что самая вкусная —«Рогачёвъ». Женщина весело поблагодарила и поехала на своей тележке дальше. Вид у неё был деловой.
Когда она отъехала, Лена постояла несколько минут в этом отделе, пахнущем ванилью и шоколадом. Потом поняла, что разговаривая с женщиной, она впервые за неделю забыла, что нужно прикрывать ладошкой рот. Она обернулась. Саша стоял у кассы и смотрел в её сторону.
Усаживаясь в машину, муж разместил все Ленины покупки на заднем сидении: и большой торт, и толстую курицу в пакете, и овощи для салатов. И конфеты «Белочка». Саша молчал. Лена взглянула на мужа и сказала:
— Знаешь, я где-то прочитала фразу, которая мне понравилась. Я забыла о ней. А вот сегодня вспомнила.
— Какую?
— В дождливый день я шёл по улице и грустил от того, что у меня не было новых ботинок, пока не встретил на улице человека, у которого не было ног.
И они улыбнулись друг другу. И поехали домой. Шёл дождь, и капли били в лобовое стекло и растекались по нему маленькими лужицами.
Любовь к жизни
(почти по Джеку Лондону)
Дождись меня, пожалуйста! Не умирай! Тёплое весеннее солнышко так ласково пригревает, и скоро будут проталины. И зажурчат ручьи. И звонкая капель зазвенит весёлой песенкой. А если ты не умрёшь, мы с тобой дождёмся лета. И пойдём на травку. И она будет такая молоденькая, нежная, сладко пахнущая. И ты найдёшь свою особенную кошачью травку и будешь уминать витаминчики и жмуриться на солнышке.
А я сяду рядом с тобой и тоже пригреюсь и почувствую себя моложе. Как будто позади нет череды этих долгих лет, будто скинула я их как тяжёлую сумку с плеч. Мы представим с тобой, что мы совсем юные. И нас никто не обижал. Мы не знаем, что такое предательство. И одиночество никогда не стояло угрюмо за нашими плечами. И по нашим щекам не текли слёзы потерь, безвозвратных потерь. Я что, плачу? Нет, это просто ветер. От него слезятся глаза. Главные слёзы — их не видно. Это когда плачет душа. Ты знаешь, что такое душа, Кот?
Я еду в поезде и вспоминаю своё знакомство с одним оптинским котом. И надеюсь встретить его по возвращении. Вообще-то Оптинские коты — образец неги и покоя. Их обычно никто не обижает, и они толстые, сытые и медлительные. Кот, с которым я познакомилась в прошлый приезд в Оптину, был исключением из правил.
У меня было послушание: помогать одной старушке, духовному чаду Оптинского игумена Н., которая жила рядом со стенами Оптиной пустыни. В её небольшой комнате — тепло и уютно. Вместе с этой бабушкой жила белоснежная кошка Мурашка. Мурашка, подвергнутая в юные годы стерилизации, никогда не имела котят, была очень спокойной, покладистой и аккуратной. Питалась она исключительно «Вискасом» и проводила дни в сонном безмолвии. Казалось, мало что волнует Мурашку, иногда она больше напоминала мне растение, а не кошку.
И вот как-то, когда в особенно морозный денёк я возвращалась с утренней службы, в приоткрытую мной дверь проскользнул кто-то лохматый, нечёсаный, с опилками на спине. Кот! Как я его не заметила?! Кот казался очень больным. Дышал он хрипло, с трудом. Смотрел на меня без всякой надежды, как будто ждал, что сейчас я пну его ногой и он окажется за дверью.
Бабушка с трудом поднялась с постели и, заметив кота, велела мне выгнать его вон. Объяснила, что это бездомный кот. Живёт на улице уже много лет. Как до сих пор не умер — непонятно. В драках ему порвали ухо, на сильном морозе он простыл и с тех пор дышит так тяжело и хрипло. Его все гоняют: кому нужен такой облезлый страшный кот?! А он всё ещё не умирает и, судя по всему, продолжает на что-то надеяться. А на что ему надеяться-то?! Уж лучше бы скорей сдох — отмучился бы. А он — смотри-ка — живёт! Вот это любовь к жизни!
И она тяжело вздохнула. Раньше она любила кошек. А сейчас, тяжело болея, не обращала внимания даже на любимицу Мурашку. И иногда грозилась выгнать её из дома. Что уж говорить про бродячего кота!
А меня зацепили её слова о том, что кот этот всё продолжает на что-то надеяться. Когда надежды на лучшее уже нет. И вдруг так странно защемило сердце. Ах, кот, как мы похожи! Ты тоже знаешь, как это —стоять под окном, в котором так уютно, так призывно горит свет.
Но горит не для тебя. И не для тебя тепло его очага. Да и где он, этот дом? В каких краях его искать?
И вот теперь между мной и этим бездомным котом протянулась какая-то тонкая ниточка. И эта ниточка не позволила мне хладнокровно выставить его за дверь на мороз.
Кот дышал хрипло и без всякой надежды смотрел на меня. И я схитрила. Сказала хозяйке, что сейчас выгоню кота, и даже приоткрыла дверь. А потом закрыла её. Кот поднял голову и смотрел на меня с удивлением. Неужели он всё ещё в тепле? Бабушка, успокоившись, легла и, как все старые люди, быстро уснула. А я разогрела суп и дала коту тёпленького супчика. Положила на бумажку свой кусочек рыбы из монастырской трапезной.
Я думала, что он набросится на еду и сметёт её мгновенно. Но кот вёл себя как воспитанный аристократ. Он ел очень аккуратно и внимательно посматривал на меня. Закончив есть, тщательно умылся и только тогда подошёл ко мне. Он подошёл к моим ногам вплотную, и из его лохматого и больного тельца раздалось неожиданно ласковое и благодарное мурлыканье. Оно прерывалось тяжёлым и хриплым дыханием и от этого казалось ещё более трогательным.
Я показала ему на стул рядом с печкой, и он вспрыгнул на него и замер, всем своим видом демонстрируя, что готов слушаться меня и подчиняться. Я удивилась. А потом поняла, что он был очень умным. Не знаю точно, кто умнее: коты или собаки. Владельцы тех и других обычно спорят по этому поводу. Часто говорят, что кошки ничуть не глупее собак, просто не хотят подчиняться и выполнять приказы хозяев.
Мой кот больше напоминал собаку. Когда он попытался перебраться на мягкий диван, то вопросительно посмотрел на меня и изготовился к прыжку. Но я отрицательно покачала головой и сказала тихонько: «Нельзя! Здесь твоё место — на стуле!» И он замер на стуле и больше не делал попыток перебраться куда-нибудь ещё. А когда кот приходил потом в другие дни, то, по моему слову: «На место», он вспрыгивал именно на пот стул.
Моя близкая подруга Людмила, добрейшей души человек, рассказала мне, что хорошо знает этого кота. И тоже поражается его воле и любви к жизни. Несколько раз в трескучие от мороза вечера она спасала его: заносила в тёплый домик общественного туалета. Но взять его ей некуда.
Так у меня появился Кот. Я пыталась придумать ему имя, но все кошачьи имена, типа Барсик или Рыжик, казались для него неподходящими, слишком умный взгляд был у него для Пушка или Снежка. Я так и продолжала звать его — Кот. Он согрелся и ушёл. И стал приходить ко мне. Как будто знал, когда я вернусь в келью.
Как-то у меня не получилось накормить его обедом дома—хозяйка не уснула, как обычно, а сидела за столом. И я вынесла тёплую еду в миске на улицу. Когда вернулась в комнату, услышала громкий лай. У дома обитали несколько собак, принадлежащих жителям барака. Они дружно носились по улице и изображали охранников и сторожей. На незнакомых лаяли. Меня они признали быстро. Несколько раз я кормила их, и теперь они, встретив меня на улице, дружно изображали преданность и верность. Возможно, они напали на моего Кота из-за еды?! Я выскочила на улицу в ожидании беды.
Глазам моим предстала следующая картина: на старом шкафу сидели два местных домашних кота в ошейниках от блох. Они даже близко не решались подойти
к моему Коту. Где там изнеженным домашним любимцам тягаться с бродягой?!
Но ещё удивительнее было то, что недалеко от Кота, спокойно поглощающего обед с привычным хрипом простуженных лёгких, сидели два здоровых местных пса. Они тоже не решались подойти к миске и делали вид, что они-то никого не боятся, тем более какого-то драного и больного кота. Просто на данный момент они сыты и отдыхают. А что близко к миске—так просто любопытно: и чего там жрёт этот проходимец.
А проходимец ел, не торопясь, иногда останавливался и поднимал взгляд на собак. На домашних котов он даже не обращал внимания. А во взгляде, обращённом на собак, читалось: «Ну, попробуйте, кто смелый?! Кто попытается отнять мою пищу, которую дала мне моя хозяйка?! Рискните здоровьем! Может, кто-то хочет полюбоваться на мир одним глазом?! Давайте!» И собаки не решались подойти близко.
Я остановилась как вкопанная, увидев такое необычное зрелище: лохматый и драный бродячий кот спокойно и неторопливо обедает, и за этим обедом робко наблюдают два здоровых домашних кота и два здоровых пса. А Кот, увидев меня, ещё и начинает своё тихое, такое нежное на фоне его хриплого дыхания мурлыканье. Ах, Кот, да ты у меня самый храбрый кот на свете! Моё храброе сердечко!
На следующий день бабушка мирно спит, и я кормлю Кота дома. Мурашка смотрит на него как на чудо. И взгляд у неё сонный и глупый. А он не обращает на неё внимания. Кот, наверное, твоей подругой могла бы стать та, которая знает холод январских ночей и одинокую участь бродяги.
Как-то бабушка просыпается внезапно, и я не успеваю выставить Кота за дверь. Он понимает, что дело туго, и всё может закончиться для него печально и вдруг — исчезает. Кот, ты случайно не родственник Чеширского кота? Куда ты исчез? Я беру веник. Но не столько подметаю, сколько пытаюсь понять, куда делся Кот? Что за мистика такая?! Как сквозь землю провалился?! И хриплого дыхания не слышно... Бабушка, походив по комнате, ложится опять и засыпает.
И вдруг из глубин шифоньера показывается нос, ухо, и вот мой Кот медленно и важно вылезает на белый свет. На морде написано: «Кто прятался?! Я не прятался! Просто немного отдохнул в темноте. Прости уж, что не на стуле. Но я ж тебя подводить не хотел». Мурашка выглядит как придворная дама на балу: «Я сейчас упаду в обморок!» Она тоже не успела разглядеть молниеносных перемещений бродяги. А он проходит мимо и наконец, будто в первый раз, замечает её—белоснежную, кроткую. И весь его вид, кажется, говорит: «Ну, что смотришь?! Жить захочешь—и не такому научишься!»
Постепенно Кот начал выглядеть лучше. Гуще стала шерсть, чище и яснее глаза, и даже ободранное ухо уже не казалось таким страшным. Близилась весна. Это значило, что зиму мы с Котом пережили, и теперь совсем скоро—и травка, и солнышко. Небо над оптин- скими храмами стало высоким и ярко-голубым. По утрам звон колоколов сопровождало бодрое пение пташек: весна-весна, тепло-тепло!
Мне нужно съездить недели на две домой: ждут неотложные дела. Вот уже получено благословение духовного отца. И собраны вещи. Кот, я не могу взять тебя с собой: у меня тяжёлые сумки, ноутбук, да и как мы поедем через пол страны с тобой на поезде? И я скоро вернусь, понимаешь?
Кот смотрит внимательно. Он не мурлыкает, как обычно. И не пытается приласкаться у моих ног. Он что-то понимает? Отворачивается от меня и уходит. Спина напряжена. И вид у него необычно несчастный. Или мне это кажется?! Когда мы выходим на улицу, Кота нет. А я хотела проститься...
Мы идём к автобусу, и я думаю: дождётся ли он меня? Может, умрёт? Кот, не умирай! Я ведь тоже больна и с трудом иду за Людмилой по тающей вязкой тропинке. Мне стыдно отставать от неё: она старше меня почти на двадцать лет. И несёт мою тяжёлую сумку. У меня в руке ещё пакет, а за спиной ноутбук. Сердце частит, и я задыхаюсь. Останавливаюсь, чтобы отдышаться. Людмила возвращается, молча отнимает у меня пакет и бодро шагает дальше. Останавливается, ждёт меня и вздыхает по-матерински: «Оль, ну, как ты там одна в Москве пойдёшь?! С твоим здоровьем нельзя тяжести носить! Нужно беречь себя!» Ничего, Кот! Я буду учиться у тебя — твоей воле и храбрости!
Я иду и думаю, что Кот может решить, что его предали. Эта мысль не даёт мне покоя. Когда ты уже знаешь, что такое предательство, бывает тяжело, невозможно довериться, открыть свою душу и впустить в неё любовь ещё раз. Когда не любишь, тебе не могут причинить такой боли. Самую сильную боль нам причиняют те, кого мы любим. Кот поверил мне. Поверил в то, что у него появился кто-то, кто заботится о нём, кому он небезразличен. И я представляю себе, как придёт он к двери, которую никто перед ним не откроет. И он будет долго сидеть на сыром весеннем ветру. Потому что теперь ему будет всё равно. И он равнодушно ляжет на снег и замёрзнет, потому что не захочет возвращаться в ту жизнь, где он был так одинок.
Кот, дождись меня, пожалуйста! Не умирай! Я вернусь!
Немного о котах
В 2009 году, в сырой и холодный весенний день, под стук колёс поезда дальнего следования, я написала рассказ про кота: «Любовь к жизни (почти по Джеку Лондону)». Кот этот жил рядом с Оптиной и поразил меня своей любовью к жизни, каким-то своим кошачьим мужеством. Я ехала в поезде, тревожилась о его судьбе и свои переживания записала.
Конец истории оказался добрым: вернулась я в Оп- тину через две недели, кот, которого по моей просьбе подкармливали, дождался меня, и прожил со мной ещё два года. А потом умер. От старости. Всё-таки это был уже совсем немолодой и очень больной кот. Думаю, эти два года были счастливыми в его кошачьей жизни.
А рассказ я оставила таким, каким он был записан в поезде, потому что говорилось в нём об одиночестве, о мужестве и стойкости, о верности и предательстве...
Недавно Оптинский игумен Т. рассказал мне забавную историю, добавив, что мне можно её записать, не называя имён.
Один Оптинский отец несколько дней подряд был очень занят на послушании и в келью возвращался уже ближе к ночи.
Здание с братскими кельями ремонтировали, и снаружи всё было в строительных лесах. В открытые форточки келий время от времени запрыгивали Оптинские коты, вынюхивая что-нибудь съедобное. Иногда отец Н., вернувшись с послушания, прогонял особенно навязчивого посетителя: голодающих среди этих котов не было, в монастыре их обычно подкармливают.
Как-то поздним вечером, вернувшись в келью, чрезвычайно уставший отец Н. заметил, что в форточку запрыгнула большая и красивая трёхцветная кошка.
Он попытался выставить вон непрошеную гостью, но кошка уходить не желала, вела себя совершенно по-хозяйски и сердито шипела на отца Н. Он очень удивился, насторожился и решил понаблюдать за странной кошкой.
Та важно прошествовала к полуоткрытому шкафу и, недовольно бросив взгляд на озадаченного хозяина кельи, ловко запрыгнула внутрь. Отец Н. подошёл к шкафу, осторожно открыл дверцу и увидел следующую картину: в глубине шкафа возлегало целое семейство кошачьих — кошка и крошечные, ещё слепые котята. Котята, почувствовав мать, начали пищать и пристраиваться к ней в ожидании кормёжки. Сама же мамаша смотрела на отца Н. крайне недовольно и в её взгляде явно читалось:
— Я тут важным делом занимаюсь, а ты мешаешь только! Безобразие какое-то: нет покоя кормящей матери!
Отец Н. понимающе кивнул головой кошке, бережно прикрыл дверцу шкафа. Постоял немного, подумал, а потом вздохнул печально и пошёл в трапезную за ужином для своей новой постоялицы.
История про то, как пёс Тиграша умным стал
История эта началась лет десять назад. Прихожу я как-то вечером домой с работы и вижу следующую картину: детки мои — сынок и дочка — на полу сидят и бормочут что-то такое ласково-умилительное. Последний раз такую картину я наблюдала много лет назад, когда они маленькими были. Поэтому их полза- нье по ковру мне как-то решительно не понравилось.
Я, не раздеваясь, захожу в комнату и вижу, что между ними, оказывается, бегает на тонких длинных ножках странное создание. Бегает, спотыкается, но резвится вовсю. Щенок!
Сажусь на пол рядом с детьми, и вот мы уже втроём ползаем вместе со щенком по полу и умильно лепечем: «Ах, ты—милый-то какой!» Щенок, не раздумывая долго, ковыляет ко мне и пытается изо всех своих щенячьих сил укусить за руку. С зубами у него пока ещё проблемы и укусить не получается, он злится и таскает меня за рукав. Но злится не по-настоящему, видно, что играет.
Я прихожу в себя и грозно спрашиваю:
— Это что ещё такое?
— Мамочка, это же просто чудо! И не что такое, а кто такой! Это наш пёс Тигр! Посмотри, какая у него шёрстка тигриного окраса!
— А почему он такой странный? Хвоста почти нет, зато уши такие огромные! И ноги какие-то слишком длинные и тонкие? Что это за порода такая странная? И где вы его взяли?
Сын важно отвечает:
— Я его купил тебе, мам, в подарок.
— И за сколько же ты купил мне этот подарок?
— Ну, если честно, мне его продали за десять рублей вместе с поводком и ошейником. Хозяева, представляешь, так обрадовались, когда я решил его купить!
— Представляю...
Щенок между тем рычит тоненько и рукав мой продолжает трепать изо всех сил.
— Ну и что я буду делать с этим подарком?
— Мам, ну, я же уезжаю учиться в университет, через год и сестра уедет. А Тигр с тобой останется. Будет защищать тебя. И утешать, когда нас рядом нет. Тебе скучно не будет!
Сын оказался прав: скучно мне с Тигром точно не Ныло. Вырос он стремительно. Превратился в огромною пса с длинными и сильными лапами, тигриной окраской и огромными ушами. Выглядел очень экзотично и казался породистым. Каждый второй прохожий зачарованно смотрел нам вслед и спрашивал о породе Тигра. Но вот какая у него порода —было совершенно непонятно. Устав от вопросов, я сначала в шутку, а потом машинально отвечала:
— Это... Это тигриный бульдог!
— Что вы говорите?! Редкая порода! Мы тоже такого хотим!
Один раз прохожий спросил:
— А это у вас случайно не собака динго?
С тех пор на вопросы я отвечала:
— Это динго. Да-да, из лесов Бразилии, где много диких обезьян!
Мой ответ выслушивали недоверчиво, улыбались и шли дальше, оглядываясь нам вслед. Так продолжалось какое-то время, пока мой духовный отец не сказал мне при встрече:
— Ты там чего такое про своего пса сочиняешь? Нехорошо людей обманывать!
Как он узнал? Непонятно... Мои слова о пёсике мне и обманом не казались, так, шутка. Всё же теперь на вопросы о породе я отвечала: «Не знаю». Или грустно: «Беспородные мы».
Беспородный Тиграша отличался живостью характера, порывистостью и задором. Когда мы выходили на прогулку, Тигр увлечённо осматривался по сторонам. Вокруг было так много интересного! И Тиграша бросался вперёд за котом, отвлекался, увидев ворону, поворачивал в противоположную сторону при виде другой собачки. При этом дёргал поводок с такой силой, что я, как тряпичная кукла, летела за ним, еле успевая передвигать ноги.
Увидев нас гуляющих, подруга задумчиво сказала:
— Что-то я не понимаю, кто из вас кого выгуливает? Нет, всё ясно: твой пёс выгуливает тебя! Только ты ему скажи, чтобы помедленнее тебя выгуливал, у тебя ноги за туловищем не успевают!
Да, прогулка с Тиграшей стала для меня чем-то типа прыжка с парашютом. Такой же экстрим. Как-то раз, дёрнув поводок особенно сильно, пёс сломал мне мизинец. Когда я заплакала от боли, мгновенно остановился, посидел рядом, лизнул палец и всем своим видом выразил сочувствие. Сочувствие продолжалось до первой увиденной кошки —и мои кенгуриные прыжки с поводком в руке возобновились. Уже со сломанным мизинцем.
В центре нашего города есть большой пруд. Зимой по нему катаются на лыжах, на снегоходах. Через пруд по протоптанной дороге люди спешат на работу, сокращая путь. Подруга, хорошо зная о том, как именно мы с Тиграшей гуляем, предложила:
— Оль, да тебе же надо на работу на санках ездить! Представляешь, запрягаешь ты своего пса как ездовую собаку, и мчит он тебя на полном ходу до работы. А ты едешь, природой зимней любуешься и песни поёшь. Как каюр-оленевод. Представила?
Я представила. Белоснежный пруд, зимние деревья в инее по берегам, я —в санках, летим мы с Тиграшей по льду, красотой зимней природы наслаждаемся...
В ближайший выходной мы с подругой вспомнили детство, достали с антресолей санки и пошли с Тиграшей на пруд. Тигр от радости дёргал поводок в разные стороны, мы держали поводок вдвоём, предвкушая катание в санях. Запряжённый в них, Тиграша смотрелся солидно —ну чем не ездовая собака?! Дальнейшее в памяти сохранилось отрывками — я сажусь в санки, они летят, вокруг меня снежные вихри, затем темнота. Подруга, откапывая меня из сугроба, от смеха делала это медленно.
— Ой, Оль, ха-ха-ха, вот это зрелище, ха-ха-ха, да тебе с ним в цирке выступать надо! Вот это будет номер!
— Ага. В цирке. Клоуном, —пробормотала я, откашливаясь от снега. Тигр носился рядом в восторге. Ему понравилась новая игра.
Да, сын как в воду глядел, скучно с Тиграшей мне не было. Ещё в дотиграшин период я смеялась над рассказами коллеги по работе про свою собаку. У её собачки мама была боксёром, а папа дворняжкой. «Дворовый роман», —комментировала коллега. Она рассказывала, что пёсик терпеть не мог оставаться один дома. И, когда его всё-таки оставляли одного, он, скучая, отрывался по полной программе. В программу входило: обгрызание обуви (любой), проводов, книг. Высший пилотаж: самостоятельное открывание холодильника и поедание того, что можно было съесть. То, что съесть было нельзя или невкусно, относилось в зал и старательно заворачивалось в ковёр.
Мы хохотали до слёз, слушая рассказы об этом пёсике- затейнике. И мне казалось, что коллега преувеличивает способности своей собаки. Ради красного словца, так сказать. Теперь я поняла, что это было не преувеличение.
Фантазия Тиграши была такой же богатой. Он начал с дивана и кресел. Дважды мне пришлось менять поролон в сиденьях мягкой мебели. Наконец я додумалась. Ход конём — уходя из дому, я ставила на диван журнальный столик ножками кверху.
Среди проказ Тиграши значились также: оторванный провод у утюга, рассыпанный по паласу мешок картошки, съеденный праздничный торт, ну, и прочие мелочи, типа сумок и сапог.
Дочка окончила школу и тоже уехала учиться. Скучно мне не было — мы с Тиграшей не скучали. Я возвращалась с работы не в одинокую, опустевшую после отъезда детей квартиру—я возвращалась туда, где меня очень ждали. Тиграша ждал меня, взобравшись на стул и глядя в окно. В любое время, когда бы я ни приходила, пёс чувствовал мой приход. И, подходя к подъезду, я приветственно взмахивала рукой. В ответ мне в окне махали длинными ушами. А когда я заходила в квартиру — ви- лялся куцый хвостик, вокруг меня всё носилось, радовалось, умилялось. Меня ждали и любили. За это можно было простить спрятанную под моей подушкой косточку.
Спал Тиграша обычно в кресле. А когда в квартире было холодно, даже умело забирался под накидку на кресло. И тогда, из-под толстой накидки торчал только чёрный нос с одной стороны и куцый хвостик с другой.
Как-то дочка приехала на каникулы. Отопление ещё не включили, и в квартире было холодно. Проснувшись утром, я увидела, что Тиграши в кресле нет. Захожу в комнату к дочери — Тигр спит рядом с ней. Она на боку, калачиком, и он на боку, калачиком. Лапы в стенку дивана упираются. Я возмущённо шепчу:
— Ах, ты, наглец! Ну, такого нахальства я не потерплю! Может, тебя ещё за стол с нами посадить?
Меня явно слышат эти длинные уши, потому что под одеялом начинает быстро вилять куцый хвостик. Но морда неподвижна, глаза закрыты —сплю я, хозяйка. И дочурка спит. Не будешь ведь ты нас будить обоих?!
— Ну, хорошо, хитрец, проснётся дочка, я тебе скажу всё, что я думаю!
Иду на кухню и готовлю завтрак. Через полчаса раздаётся громкий возмущённый вопль дочки. Иду в комнату—она на полу, на одеяле. Тиграша выспался, начал потягиваться и, упираясь своими длинными лапами в стенку дивана, столкнул её на пол вместе с одеялом. Сам понял, что дело неладно и спрятался под кресло. Залезает он туда с трудом, кресло чуть поднимается. Дочка начинает смеяться. Я с ней. Тиграша понимает, что гроза миновала и вылезает—пора на прогулку.
Проснувшись ночью, я обычно слышала Тиграшино похрапывание и понимала: всё в порядке. А однажды, по подъезду шатались пьяные, и я услышала громкую брань и сильный стук в мою дверь. Мне стало страшно. Тиграша медленно подошёл к двери и зарычал угрожающе. Рычанье было низким и каким-то очень раскатистым. Я впервые подумала, что имя «Тигр» подходит моему псу не только из-за окраски. За дверью воцарилось молчание. Потом протрезвевший голос извинился, и пьяные быстро ретировались из нашего подъезда.
Так и жили мы с Тиграшей. Приезжая домой на выходные и каникулы, ребятишки ласкали пёсика, и сын восклицал:
— Мам, ну посмотри, какой же я тебе хороший подарок сделал!
Тиграша возмужал, стал ещё более мощным и сильным, но сохранил юношескую резвость и по-прежнему таскал меня за собой на прогулке, не давая потерять спортивную форму и вкус к экстриму. В моё отсутствие продолжал проказничать, и иногда, находя очередную косточку под подушкой, или погрызенные тапки, я вздыхала:
— И когда же ты поумнеешь, Тиграша? Когда остепенишься?
Мне в ответ радостно вилял куцый хвостик, и жизнерадостно трепетали огромные уши.
В отпуск я часто отправлялась в паломнические поездки, а Тиграша оставался с сыном.
На этот раз мой духовный отец благословил меня пожить и потрудиться на послушании в Оптиной пустыни в течение длительного времени. Дети мои уже окончили университет в областном городе, остались жить там же, работали, создали свои семьи. В наш маленький городок, умиравший после разорения градообразующего предприятия, они возвращаться не собирались.
На семейном совете решили продать квартиру и на полученные деньги улучшить жилищные условия сына и дочки. Покупатели нашлись, и мне предстояло прощание с домом, где выросли мои дети. О себе и о том, где буду жить сама — беспокоилась мало. Тем паче что во время паломнической поездки в Псково- Печерский монастырь старец схиархимандрит Адриан (Кирсанов) твёрдо сказал мне о будущем послушании в монастыре, чему, правда, сначала я была очень удивлена. Предрёк также потерю работы и смену места жительства—и это уже сбывалось. Да, спустя несколько лет, накануне отъезда в Оптину, слова старца уже не казались мне такими неправдоподобными.
За Тигром приехал сын. С грустью собирала я Тиграшины миски, чашки, достала запасы его еды. Запасов оказалось много, на пару недель. И вот надет поводок и ошейник. Тиграша любит своего второго по старшинству хозяина, любит гулять, он обернулся, посмотрел на меня, я покивала головой, и он охотно поехал в свою новую жизнь. А я ещё долго слонялась по опустевшей квартире.
Ночью просыпалась несколько раз. Никто не сопел и не похрапывал в кресле, и спалось мне плохо. Утром проснулась рано — гулять с Тиграшей. А его нет.
Я лежала и отчего-то плакала. Потом встала и занялась упаковкой походной сумки: мне нужно было уезжать в Оптину. Всё менялось в моей жизни, как меняется во время путешествия рельеф местности. Видимо, какой-то отрезок моего жизненного пути закончился. Так бывает: мы идём то в гору, то с горы, то по ровной дороге, а то —одни ухабы. Что ждало меня за поворотом? Позади оставался городок, с которым меня теперь связывали только друзья и могила трагически погибшего мужа.
Прошёл месяц. Мне позвонил сын и рассказал, что Тиграша сорвался с поводка и потерялся. Искали Тиграшу неделю. Я переживала за пёсика. И вот, неделю спустя, звоню я, как обычно, вечером сыну, и он, радостный, откликается:
— Мам, я сегодня нашёл Тиграшу! Поехал в очередной раз на машине искать его и сразу, представляешь, нашёл! Недалеко от дома! Видимо, он уже сам меня искал... Он такой худой! А какой милый стал — спокойный, ласковый! Настрадался, видать, бедняга... Вокруг меня кругами ходит, от счастья весь светится. Даже знаешь, на прогулке поводок больше не дёргает, идёт рядом — к ноге жмётся.
Да уж, думаю, страдания и лишения, видимо, не только людей, но и собак умудряют. А через несколько дней сын продолжил рассказ о поумневшем Тигре:
— Мам, Тигр больше не проказничает, ничего не грызёт, не рвёт... Послушный стал — сил нет! И ещё... Помнишь, он раньше никогда не сидел спокойно на улице, нельзя было привязать его и зайти в магазин. А сегодня мы с ним вместе в магазин ходили! Еду для него закупали. Я его привязал к ограде газона поплотнее, ближе к ошейнику, так, чтобы он никому не мешал, пошёл в магазин, набрал быстро ему еду, а в кассу — очередь. Минут десять стоял. Переживал, помня его резвость. Думаю: вдруг сорвётся, убежит.
Выйду из очереди, выгляну на улицу— сидит как прикованный, ждёт. Посмотрел на меня вопросительно. Говорю ему: «Сиди, Тиграша, жди дальше!» А он хвостом своим куцым вильнул, дескать, понял и дальше сидит неподвижно—ждёт. Вот какой умный Тиграша стал!
Истории про Костика
История о том, как Костик боролся за права человека
— А вот и Костя из школы пришёл! Мы с Мишуткой тебя уже заждались! — ласковый голос мамы, радостное сопенье трёхлетнего братика, аромат маминых шанежек.
Как хорошо с мороза вбежать домой, бросить в прихожей заснеженный портфель и пальтишко, погреть замёрзшие руки под горячей водой в ванной и сесть за стол на уютной кухне, где светло и тепло, и так вкусно пахнет. И мама наливает душистый чай в большую чашку с цветочками, это его, Костика, чашка, и накладывает на тарелку румяные шанежки с пылу с жару—ждала мама своего сыночка. А за окном —метель, синие сумерки спускаются на заснеженный город. Ничего, пускай спускаются—дома светло и тепло! И под ногами уже ползает Мишутка со своей любимой машинкой.
— Сынок, ты чего такой задумчивый? Кушай, а то остынет!
— Мам, а к нам сегодня приходил ом... нет, об... нет, мудсмен, короче!
— Омбудсмен?
— Ага... У нас это... пилотный... не помню. В общем, что-то пилотный такой...
— И что?
— Мам, мы неправильно живём! Совсем неправильно!
— Почему?
— Ну вот, смотри: дети —это на самом деле не дети!
— Как это?
— Ну вот! Они —люди! Понимаешь?! Такие же люди как взрослые! И у них тоже права есть!
Мама задумалась. Костик взволнованно продолжал:
— Вот меня, например, нельзя ругать, нельзя лишать меня моих прав на личную жизнь...
— На личную жизнь?!
— Да! Вот, например, я хочу гулять ещё, а ты меня уже домой зовёшь, или я хочу на компьютере поиграть, а ты меня в магазин за хлебом отправляешь... А у меня есть право на отдых! Или вот: у меня должно быть полноценное питание: фрукты, мясо! А у нас же не всегда фрукты бывают, так? Так вот — это нарушение моих прав! А помнишь, меня папа шлёпнул? Ну когда Мишка меня рассердил, и я это... ну как дядя Витя с первого этажа, ну выругался... Помнишь? А папа меня шлёпнул! Это вообще грубое нарушение моих человеческих прав! За это меня даже у вас отобрать могут! Ладно, мам, ты не переживай! Расстроилась, да?
Мама молчала.
— А ещё этот, как его... сказал, что мы свои права защищать должны! Вот, например, наша Марь Ивановна задержит нас после звонка, ну там объявление какое-нибудь сделать, а это нарушение прав человека! Или заругается она на нас, пригрозит выгнать из класса, а это тоже нельзя! Надо этому эсмену рассказать... И её даже уволить могут!
— Костик, а тебе не жалко будет любимую учительницу? Она ведь уже немолодая... Все силы вам отдаёт... Не жалко?
— Так жалко, конечно... Она добрая... Но ведь нужно, чтобы всё правильно было, так?! Как же права человека?!
Мама внимательно смотрела на Костю и молчала. Задумчиво как-то так молчала...
Косте стало жалко маму: она у него очень хорошая всё-таки, и он очень её любит на самом деле. Но вот одну штуку нужно будет всё-таки сделать. Костя допил чай, порылся во всё ещё ледяном портфеле и вырвал из тетрадки листок в клеточку.
— Мам, ты не расстраивайся! Я всё понимаю! Я по-прежнему буду за хлебом... И с Мишуткой... только вот что... ом... об... В общем, нам рассказали о мотивации. Вот это, по-моему, правильно! А то я у вас с папой совсем немотивированный какой-то расту! А так нельзя! Подожди, я тебе покажу!
Мама стала мыть посуду, а Костя пошёл в комнату, сел за письменный стол, и пока Мишутка ползал рядом с ним на ковре, старательно расчертил листочек. Немного подумал, минут десять писал, от старания закусив губу, а потом, немного смущаясь, принёс маме. На листочке большими, неровными буквами было написано следующее:
«За прошлую неделю:
Играл с Мишкой—двадцать рублей.
Ходил два раза в магазин—тридцать рублей.
Убирал за Мишкой его игрушки—двадцать рублей.
Прибирался в детской комнате —тридцать рублей.
Итого: сто рублей денег».
Мама внимательно прочитала. Машинально отметила пару грамматических ошибок. «Двадцать рублей» за игру с Мишкой переправлялись несколько раз: сначала «тридцать», потом снова «двадцать». Мама грустно улыбнулась: сын колебался и написал поменьше. Потом мама вздохнула и спросила тихо:
— А у меня права есть?
— Мам, у тебя-то они всегда есть, ты же взрослая!
— Можно мне тоже кое-что записать?
— Можно...
Мама пошла к письменному столу, задумалась, и пока Костик увлечённо катал с ликующим Мишуткой машины, что-то писала. Сначала она улыбалась, как будто придумала какую-то шутку, а потом отчего-то расстроилась и, закончив писать, протянула листок сыну и ушла на кухню. Мишутка сосредоточенно пытался сделать караван из своих машинок, а Костя стал читать. Родным маминым почерком, круглыми красивыми буквами было написано:
«Стирка, глажка белья.
Уборка квартиры.
Варка обеда и стряпанье шанежек».
А потом почерк мамы перестал быть красивым, а стал немного кривоватым, как будто мама плохо видела, что писала:
«Тревога и волнение, когда я ждала тебя, сыночек.
Боль, когда ты появился на свет.
Бессонные ночи, когда у тебя резались зубки.
Слёзы и страх за тебя, когда ты болел.
Вечера, когда я помогала тебе с уроками, читала тебе твои первые книги.
Выходные, когда я водила тебя в зоопарк, в кукольный театр, на кружок.
Первая седина в моих волосах, когда мы с папой весь вечер искали тебя, а ты заигрался на стройке с мальчишками и упал в яму, и мы нашли тебя только поздно ночью.
Мои силы, мои труды, моя жизнь.
Всё это—бесплатно. Просто потому что я люблю тебя».
Костик стоял и держал листок в руках. Потом шмыгнул носом и медленно пошёл на кухню. На кухне было тихо и темно. Мама молча сидела на стуле. Костик подошёл к ней, уткнулся в старенький мамин халатик и заплакал. Он плакал как будто малыш. Как Мишутка. А мама тихо гладила его по голове.
История о том, как Костик искал идеал
Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян не могут назвать тех, кем бы они могли гордиться... Об этом говорят итоги социологического исследования, представленные 11 июня 2013 года на сайт ВЦИОМ. Причём 57% заявили, что сегодня в России нет людей, которыми можно гордиться или не смогли вспомнить таковых, (из газетной статьи «Гордиться нам некем и нечем»)
Костик пришёл из школы задумчивый. Мама хорошо знала своего сына и сразу спросила:
— Что случилось?
— Мам, нужно сочинение написать про свой идеал. Я всю дорогу, пока домой шёл, думал про этот самый идеал. Так ничего и не придумал.
— Давай у папы спросим, он сегодня пораньше с работы пришёл.
Папа тоже задумался:
— Ну раньше мы писали про космонавтов. Или вот про разведчиков. Или про врачей, которые на себе вакцину испытывали, чтобы людей спасти. А кто у вас, нынешних пятиклассников, сейчас герой?
— Я не знаю... Девочки будут про певцов любимых писать. А мы с Витькой думали-думали... Ну вот Чел о век-паук... Или там Железный человек... Супермен ещё есть...
Папа задумчиво сказал:
— Идеал — это человек, которого ты очень-очень уважаешь, на которого хотел бы стать похожим... Да... Вопрос непростой...
Мама предложила:
— Напиши про нашего дедушку.
Папа удивился:
— Про отца? Тань, мой отец, конечно, хороший человек, и я его люблю очень, но идеал...
Костик поддержал:
— Мама, ты смеёшься над нами, что ли? Деда —он добрый... Но какой же он идеал? Он же самый обычный дедушка.
Мама улыбнулась:
— Вы просто ненаблюдательны. Вам подавай великие свершения... А можно совершать ежедневные маленькие подвиги, и это иногда бывает ещё труднее. Знаете, что я придумала? Завтра суббота. Ты, Костик, отправишься в гости к бабушке и дедушке, переночуешь и внимательно понаблюдаешь за всем происходящим. Если ты заметишь и поймёшь, почему я предложила тебе написать сочинение про собственного деда, то станешь мудрее.
Папа пожал плечами, а Костик недовольно поморщился: выходные он планировал провести веселее. А у бабушки с дедом — какие развлечения?! Они уже старенькие, больные... Бабушка в инвалидной коляске по дому передвигается...
Но мама всегда умела заинтриговать сына, и, ложась спать, он уже представлял себя следопытом, который проведёт настоящее расследование и всё узнает: а вдруг дед был в молодости разведчиком? Или ещё кем-нибудь—очень важным?!
Дед с бабушкой жили в соседнем доме. По дороге к ним Костя вспоминал всё, что знал про них. Раньше врачами работали, троих детей вырастили: папу, дядю Колю и дядю Сашу. Бабушка была не просто врачом, а главным врачом и привыкла командовать. А дед был просто врачом.
Стоп-стоп... А если дед врачом был совсем не простым, а героическим?! Хирургом?! Костик представил операционный стол и деда-хирурга. Идёт война, и смелый хирург делает операцию прямо во время бомбёжки! Свищут пули, взрываются бомбы, а он спасает раненых!
Позвонил в дверь и с порога:
— Деда, а ты каким врачом был —военным хирургом, да?!
Дедушка вышел встречать — невысокий, седой, в мягких тапочках со смешными помпончиками. Улыбнулся растерянно. За спиной—бабушка на инвалидной коляске. Голос у бабушки, в отличие от тихого и вроде даже робкого голоса деда, громкий, властный, командирский прямо голос:
— Костик, здравствуй, дорогой! С чего это ты взял про военного хирурга-то?! Во время войны дед твой ребёнком был. И работал он всю жизнь лор-врачом. Знаешь, такие врачи бывают: ухо-горло-нос...
Костя прямо с порога расстроился. Ухо-горло-нос... Да — героического мало... Похоже, сочинение ему в эти выходные не написать...
Дед притянул его к себе, обнял тихонько. Старенький, слабый... Не герой, нет —не герой... А бабушка продолжала громко командовать:
— Костик, я деда в магазин командирую! Ты с ним пойдёшь или со мной останешься?
Да, выходные, похоже, обещали стать скучными. Костик вяло ответил:
— С дедом...
Они пошли в магазин, дедушка достал там бумажку и, читая бабушкин список, складывал продукты в тележку. А Костя бегал и помогал ему. Когда они вернулись домой, бабушка снова скомандовала:
— Дед, я забыла про молоко. Сходи ещё раз — за молоком!
Костику хотелось проворчать что-нибудь о бабушкиной забывчивости, но дед нисколько не расстроился, а в таком же мирном и благодушном расположении духа отправился снова в магазин.
— Деда, часто бабушка тебя так гоняет?
— Машенька? Забывает иногда... Для нас старается—сейчас вот блины напечёт...
Когда они вернулись домой во второй раз, бабушка уже не таким командирским голосом виновато попросила:
— Простите меня, масло растительное кончилось...
Костик рассердился на бабушку. Посмотрел на деда: он тоже рассердился? Но дед ласково улыбнулся:
— Не печалься, Машенька, будет тебе масло!
В третий раз Костик с дедом не пошёл: устал. Про деда подумал только: «Вот это терпение!»
Костик остался хозяйничать с бабушкой. Баба Маша ловко передвигалась по дому в инвалидной коляске. Пришли на кухню, там было солнечно и уютно, на стенах висели пучки душистых трав, дедушкины лекарственные сборы. Бабушка замесила тесто, поставила чайник. Костик пошёл на балкон за банкой земляничного варенья и чуть не запнулся о верёвку:
— Бабушка, это чего у вас тут за верёвки такие?!
Бабушка засмеялась:
— А ты пойди — посмотри!
Костик исследовал начало и конец верёвки и понял, что начало её у кровати бабушки в спальне, а конец в гостиной, у дивана деда. Причём верёвка у деда заканчивалась деревянной колотушкой, привязанной к кастрюле таким образом, что когда за верёвку дёргали, колотушка стучала о кастрюлю. И стучала довольно громко.
— Это что за будильник такой?
Бабушка улыбнулась:
— Да вот дед за меня переживает очень. Вдруг мне ночью плохо станет или пить захочу. А слышит он уже плохо. Вот и придумал, чтобы я его могла позвать в любое время.
— А ты его часто будишь?
Бабушка вздохнула виновато:
— Да раз пять за ночь бужу... Болею я, Костенька...
— А он не ругается?
— Нет. Твой дед —стойкий оловянный солдатик... Если бы неон... Знаешь, меня тут прихватило так сильно... Скорую вызвали... Температура сорок, подозрение на пневмонию. В больницу на ночь не поехала, думаю, посмотрю, как утром будет. Так дед твой всю ночь не спал —молился за меня. Я проснусь, а он на коленях у икон. И лампадка горит. Забудусь, снова проснусь —а он всё молится.
— Всю ночь?!
— Всю. Утром терапевт пришёл, а у меня температуры уже нет. Только слабость осталась. Врач плечами пожал и ушёл. Дед меня травами отпаивал, даже без антибиотиков обошлись...
Костик помялся и спросил как бы невзначай:
— Бабушка, а дед только за тебя молится?
Бабушка улыбнулась, и лицо её просияло. Костик
подумал: «Да, бабушка только на вид—строгий командир, а если она так деду улыбается, то понятно, почему он её всю жизнь любит...»
А бабушка сказала:
— Костя, дед молится за нас всех, за твоего папу и маму, за братьев, за детей. За тебя. Я иной раз ворчу на него: «Ты чего это на старости лет?! Чудотворцем, что ли, хочешь стать?» А он—только ты ему не говори ничего, а то рассердится на меня — книгу всё читает. Мама твоя ему подарила. Называется «Святоотеческий патерик».
— Я знаю, это как монахи в пустыне жили. Или и лесу дремучем... Подвиги совершали...
— Вот-вот... Читает он, значит, читает, а потом мне и говорит: «Эх, Машенька, если бы я в молодости это узнал, как бы я стал тоже подвизаться...» Ишь чего старый придумал — подвизаться!
Бабушка говорила вроде бы насмешливо, но чувствовалось, что на самом деле она совсем не насмехается. Костя понял это. А бабушка поняла, что он понял. И улыбнулась ему так, как будто они теперь вместе знают тайну. И это было очень приятно...
Дед вернулся. Он надел свои смешные тапочки с помпончиками, сел за стол, и бабушка нажарила вкусных блинов, таких тоненьких-тоненьких, кружевных, тающих во рту. И они ели блины с душистым земляничным вареньем и запивали ароматным чаем с листочками смородины.
Костя посматривал на деда: мягкий, добрый, седой. А на самом деле — стойкий оловянный солдатик. И Костик думал: как трудно увидеть героическое в обычном! Когда человек терпеливо и кротко встаёт к больному, когда молится всю ночь напролёт, когда сохраняет мир и покой душевный и не сердится, если его близкие совершают ошибки. Как увидеть и рассмотреть это? И если он напишет своё сочинение про деда, поймут ли его? Не засмеют ли?
Ну что ж, он попробует...
Судьбы людские
Короткая история о недолгой жизни Славы Чеха
Холодно. Кружит метель, колючие хлопья снега бьют в лицо. Где земля, где небо? Всё бело и неразличимо, всё одиноко и тоскливо, как жизнь Славки по прозвищу Чех. Которому некуда идти, которого никто и нигде не ждёт. Никто. Нигде. Зачем он живёт? Зачем родился? Голову поднять к пустому небу и завыть, завыть горько и тоскующе — выплеснуть боль. А ещё лучше — стакан самогона, и тоска чуть отойдёт, свернётся ледяным калачиком где-то в глубине живота. Станет легче.
Но самогона сегодня нет и взять негде. Еды тоже нет. Сегодня Славе Чеху нужно что-то предпринять, на что-то решиться или умереть с голоду. Куда податься?
Работы в деревне почти никакой, а и с той, которая имелась, Славку выгнали. Пили в нищей деревне все, кто ещё оставался в ней жить, но он пил по-особенному—всегда. Трезвым почти не бывал, пил всякую дрянь. Давно мог замёрзнуть под забором или отравиться денатуратом. Или сгореть, закурив пьяным под старым рваным одеялом. Да мало ли мужиков сгубила палёная водка в их деревне и по окрестностям?!
Из одноклассников в живых остались лишь несколько человек—те, кто давно уехал из этого гиблого места. Остальные — кто раньше, кто позже — оказались на старом погосте. А вот Слава Чех всё ещё жив. Почему? Этого он и сам не знал. Жизнь радостями не баловала, и к смерти готов давно, а вот жил зачем-то... Видно, не пришло ещё его время...
Отец Славки был настоящим чехом, служил в немецкой армии, попал в плен под Сталинградом. После войны, как многие пленные, строил дороги, дома.
Пришла амнистия, и бывшие пленные получили разрешение уехать. Кто-то смог уехать на родину, а кто-то не смог. Обрусели, остались в России, женились и жили, вспоминая прошлую жизнь как сон. Отец Славки уехать не смог, женился на местной, остался в одной из бедных уральских деревень. Тоску глушил вином, споил и жену. Когда родился Славка, родители пить не перестали.
Чтобы младенец своим плачем не мешал пить, в бутылочку наливали разбавленное спиртное. Как он не помер? Видать, такая планида у него была, такая счастливая звезда. К семи годам Славка стал алкоголиком. Он просыпался утром, доедал объедки и допивал оставшееся в доме со вчерашней гулянки спиртное.
Дома было неинтересно, и он шёл в школу. В школе смешно, правда, в основном смеялись над самим Славкой. Дурашливый, одетый в рваньё. Пьяный. Одноклассники не дружили с ним: пропащий, совсем пропащий парень. Школьные учителя терпели его присутствие — в школе хоть тепло, а дома замёрзнет или, наоборот, угорит. Пусть себе спит на задней парте, всё равно не жилец.
Иногда Славка Чех не доходил до школы, падал пьяным прямо на улице. Но не замёрз. Родители от своей пьяной жизни померли рано, и остался Славка один. Да он и раньше был один... Отец и мать почти не разговаривали с ним, не обращали внимания. Они просто жили рядом. А он жил совсем один.
И жизнь эта проходила как во сне, иногда он не мог отличить сон от реальности. Было несколько просветов в жизни, когда он не пил, может, несколько недель. Но от этого становилось только хуже. Один из просветов яркий, совсем детский. Славка помотал головой: детское воспоминание так и лезло в трезвую голову.
Тогда была такая же холодная зима. И вьюга. И Славка постоянно мёрз. Спал на печке, пытаясь согреться, но печка часто оставалась нетопленой. Однажды утром Славка вышел во двор и увидел: собака Найда, которую недавно отец притащил откуда-то и сразу забыл о ней, ощенилась. И щенки были такие маленькие, смешные, как игрушечные. Славка не стал, как обычно, допивать вино за родителями. Наскоро похватал объедки, всё есть не стал — понёс Найде.
Недели три Славка не пил: некогда было пить. Нужно было найти еду для Найды, потом найти инструменты, молоток, гвозди, доски, тряпки всякие и утеплить сарайчик, чтобы щенки не замёрзли. У них открылись глазки, и они стали ещё забавнее. Славка планировал их раздарить, а одного щенка, коричневого, с белым пятном на груди, самого смелого и бойкого, оставить себе.
Славка придумал ему кличку — Верный. Лучшего ничего не придумалось. Верный— хорошая кличка для собаки! И теперь у него будет друг. Настоящий друг. Который не будет смеяться и презирать его, вечно пьяного, дурашливого Славку Чеха. Не будет относиться к нему как к совсем пропащему человеку. Ведь он ещё не совсем пропал, нет? Пока жив, есть надежда. А может, он и пить бросит... Когда жить хорошо, интересно, зачем пить?!
Он сидел вечером в сарайчике, и Верный тыкался влажным коричневым носом в ладони, смешно пытался играть, хватая за штаны. Вырастет—будет его, Славкин пёс. Большой, сильный, преданный. И он будет любить его, Славку. А ему оказывается так нужно, чтобы его хоть кто-то любил. Он как-то никогда не думал об этом раньше. А теперь вот понял: это же так нужно, чтобы тебя хоть кто-то любил...
Учительница по математике при виде трезвого Славки удивилась и позже, в учительской, делилась с коллегами:
— А у Славы Чеха, оказывается, глаза умные... Надо же... Как этот ребёнок до сих пор дебилом не стал — просто поразительно... Да...
Старый физик качал головой:
— Мы не знаем всего потенциала мозга, ресурсов интеллекта, так сказать... Может, он умнейшим человеком должен был стать... Атак... Слава Богу, что не дебил...
Всё закончилось внезапно. Утром Славка, совершенно трезвый, насобирал объедков и отправился в сарайчик. Радостный, открыл хлипкую дверь — ему навстречу метнулось что-то страшное, сбило с ног. Он остался сидеть на снегу. Обернулся, вглядываясь, и понял: Найда. Страшная, шерсть дыбом, обрывок верёвки на шее. Найда убежала по снегу в глубь сада и там завыла жутко, протяжно — этот вой потом мерещился ему часто, когда выла вьюга и мела метель.
Сердце замерло, и он уже знал, что не нужно ему идти за Найдой, что ничего хорошего он там не увидит. И всё-таки пошёл, медленно, проваливаясь в снег. Там, в глубине сада, страшно задрав всколоченную голову вверх, выла Найда, а у её лап, лежали мёртвые щенки. Видимо, отец, обнаружил их—в последнее время они уже не мяукали как котята, а звонко тявкали.
Они лежали такие странные, совсем-совсем мёртвые. И среди них—его Верный. Его друг. Славка наклонился и потрогал Верного за маленькую коричневую лапу. Лапка была ледяной и не гнулась. Славка постоял ещё немного, положил свёрток с объедками на снег, а потом медленно пошёл в дом. Он допил, как обычно, вино из полупустой бутылки, потом нашёл целую бутылку водки, открыл и пил, пока его не стало рвать.
Вечером отец избил его за эту бутылку.
Да, после трезвых недель всё стало только хуже. И иногда в кошмарах ему снились страшная Найда, мёртвые щенки и ледяная маленькая коричневая лапка.
Славка потряс головой, освобождаясь от воспоминаний детства. Пора забыть—много лет прошло с тех пор.
Он закрыл дом, повесил сломанный ржавый замок, чтобы дверь не распахивалась от ветра, а воровать в его избушке-развалюшке всё равно было нечего. И пошёл, с трудом пробираясь сквозь метель, на Митейную гору— в монастырь. Обитель находилась в пяти километрах от деревни, но Славка туда раньше почти не заглядывал: пьяных там не привечали, а трезвым он и не бывал.
Но теперь особый случай: пить всё равно нечего, и с последнего места работы выгнали. Так что выбор невелик: либо монастырь, либо кладбище на горе, прямо рядом с обителью. Кладбище древнее, ему лет четыреста, не меньше. Но на кладбище рано Славке, нет уж, своим ходом он туда не пойдёт, подождёт, пока понесут.
С трудом поднялся на гору, прошёл, ковыляя, уже совсем замёрзший по заснеженной пустынной обители и постучал в дверь отца Савватия.
Рассказ отца Савватия
Слава Чех, как его все звали, пришёл в монастырь зимой, в самые холода, и мы разрешили ему остаться. Было ему под тридцать, может, и меньше, невысокий, худощавый, диковатый. Дали ему келью. Дали послушание: рубить дрова, возить воду с источника на монастырской лошадке Ягодке.
Слава был некрещеным и, пожив немного в обители, походив на службы, захотел окреститься. Окрестил я его. После крещения снял облачение, вышел на улицу, смотрю: сидит у храма на скамейке незнакомый мужчина. Подошёл ближе, вгляделся: это же Слава-чех! Я его и не узнал! Благодать крещения сильно меняет людей, некоторые меняются даже внешне. И вот Слава-чех очень изменился: дурашливость отошла, передо мной был серьёзный, степенный мужчина. С удивлением заметил, что у него, оказывается, голубые глаза. Осмысленные глаза, умные! Так преобразило его крещение!
Потом первоначальная благодать, видимо, потихоньку отошла, но печать Святого Духа его сильно изменила. Он очень хорошо ухаживал за Ягодкой, подружился с лошадкой, и она, своенравная, его слушалась. Похоже, Ягодка стала первым другом в его жизни.
Пил ли он у нас? Ну, денег у него не было... В монастыре с этим строго, а своей новой жизнью он очень дорожил. Слава Чех прожил в монастыре лет десять, трудился, молился и умер скоропостижно от сердечной недостаточности. Жизнь у него была трудная, страшная, но Господь не попустил ему умереть смертью алкоголика, опившись или отравившись.
Несчастный ребёнок и такой же несчастный взрослый, он был очень одинок — и Господь привёл его в монастырь. «Яко отец мой и мати моя остависта мя— Господь же восприят мя...» И он умер крещёным, труд- ником монастыря. Его отпели, похоронили на Митейной горе, на краю древнего огромного погоста —там, где было свободное место. Помолились о нём всем монастырём, помянули.
Родственников у него не было, на девятый день никто не сходил к нему на могилку по деревенскому обычаю.
Выпал снежок, и Ягодку выпустили погулять по первому снегу. Через какое-то короткое время хватились — нет нигде лошади! А она никогда не уходила сама из монастыря. Пошли по следам, которые хорошо выделялись на снегу. И удивительное дело —Ягодка никогда не была на кладбище, и не могла она знать, где похоронили её друга, а отправилась прямо к нему.
На погосте лежал ровным покровом снег, скрывая следы недавних похорон, а лошадь прямым ходом, не петляя, прошла через всё кладбище, ни разу не сбившись с пути, подошла к могиле и встала рядом с ней. Она стояла, склонившись мордой к земле, и как будто плакала. Отцы в монастыре — народ без экзальтации, навыкший к трезвению, но тут и они чуть не заплакали—так трогательно стояла лошадка над местом упокоения того, кто долго за ней ухаживал.
Животные чувствуют благодать. Видимо, душа нашего Славы обрела милость у Господа, и лошадка безошибочно нашла его могилу, почтила его память.
А нам был урок, чтобы мы ещё помолились за Славу. И мы отслужили на его могиле панихиду.
Молитва Веры
Я приехала в город поздней электричкой и опоздала на последний автобус в монастырь. Позвонила духовнику, и он помог: через полчаса к автовокзалу подъехали его духовные чада, муж с женой, у которых и и заночевала. Встречали меня, совершенно незнакомого человека, как дорогого гостя.
После первой встречи мы продолжали общаться. За время нашего знакомства я узнала эту семью близко, узнала об их жизни. Они разрешили мне записать свои истории, изменив имена.
Мамина родня
Екатерина родилась в селе Татаюрте в Дагестане, у неё есть сестра-близнец Надежда и младшая сестра Людмила. Мама у них русская, её деды и прадеды когда-то жили в станице Александрийской. Это была одна из чисто русских станиц у Каспийского моря, где веками жили терские казаки.
Прадедушка — станичный атаман владел конным и рыболовным заводом, мельницей. Рабочие его очень любили. Бабушка Екатерины, Лидия, была старшей дочерью в семье. Для всех дочерей готовилось приданое, каждая носила серьги с бриллиантами и хранила шкатулочку с драгоценностями. Когда началась гражданская война, красноармейцы утопили богатых станичников на корабле, среди них находились прадедушка и прабабушка.
Бабушка Лидия, которой в то время исполнилось двенадцать лет, спрятала семейные драгоценности. Их гак и не нашли, но забрали всё, что смогли. Младшая сестрёнка бабушки, двухлетняя Даша, как-то играла в песочке. В ушах ребёнка поблёскивали бриллиантовые серьги. В это время мимо проезжали красноармейцы, и Лидия увидела, как один выхватил саблю, а второй отстранил руку, занесённую для удара, —пожалел ребёнка —и просто вырвал серёжки, порвав мочки.
Много лет спустя маленькая Катя спросит у бабы Даши:
— Бабушка, а почему у тебя ушки порваны?
А когда Катя вырастет и поступит в медицинское училище в Кизляре, в 1972 году её вызовут в КГБ, и сотрудники ОБХСС будут допрашивать студентку- отличницу:
— А не рассказывала ли тебе твоя бабушка, где спрятаны сокровища вашей семьи?
Папина родня
У папы в родне были кумыки и ногайцы. Он не стал регистрировать брак с русской, как позднее узнала мама, у него уже была жена-кумычка. Водитель по профессии, отец, видимо, и в других городах имел «жён», тем более что местные законы, сурово хранящие целомудрие женщин, к мужчинам относятся снисходительно и негласно разрешают многожёнство.
Родители у отца умерли, мама при родах, папа вскоре после мамы, жив был только дед. Он жил в горном ауле. В то время русские женщины в Дагестане вели себя по местным обычаям: носили платок и одежду с длинными рукавами, опускали голову, если навстречу шёл мужчина. В Татаюрте, где было много русских, женщины могли выходить на работу, в магазин без мужского сопровождения, а в горах женщина одна не выходила за калитку дома.
Мама соблюдала местные обычаи. Была она женщиной очень красивой, но скромной, одевалась строго, вкусно готовила, и дед принял её и признал внучек, правда, звал их по-своему: Катю — Кумсият, Надю — Назифа, а Людмилу—Лайла. Поездки к деду в горный аул девочки запомнили на всю жизнь и даже научились от него языку.
Традиции гостеприимства
В памяти осталось традиционное горское гостеприимство. В горах путник подвергался опасности замёрзнуть, даже погибнуть, но он знал: если доберётся до ближайшего жилья, его встретят как дорогого гостя. В горских домах даже держали специальные шубы для гостей, чтобы те могли согреться с дороги.
В Татаюрте жили люди многих национальностей, у Кати в классе были русские, кумыки, ногайцы, чеченцы, немцы. Помогали друг другу во всём. Принято было угощать соседей. Приготовит мама хинкал и угощает всех. И их тоже все соседи угощают.
Много лет спустя, когда переехали в Россию, мама на следующий после переезда день также приготовила хинкал и постучала в дверь соседям. Соседка выглянула, очень удивилась:
— Нам ничего не нужно! И ничего нам больше не носите!
И захлопнула дверь. Катя утешала расстроенную маму:
— Мамочка, это большой город! Здесь не принято угощать незнакомых людей!
Как Надю окрестили
Когда близнецам было три года, Надя тяжело заболела. Положили ребёнка в больницу, а там у неё после укола образовался абсцесс. Гной, температура. Отправили Надю с мамой в районный центр, в Хасавюрт. Но и там девочке не стало лучше, она уже отказывалась от еды. Начался сепсис.
Врач попросил маму забрать дочку домой:
— Она у вас всё равно умрёт, везите уж домой, зачем вы нам будете показатели портить? Сами подумайте: и вам пользы нет, и нам один вред... Везите-везите! Ведь видите: мы старались, лечили, но не помогло...
И мама, завернув ребёнка в одеяльце, понесла легкую, ставшую невесомой дочку на автобус. У автовокзала встретила одну верующую старушку, и та, расспросив заплаканную женщину, решительно сказала:
— Окрестить нужно ребёнка! Иди в храм! Прямо сейчас иди! Ни минуты не теряй!
— Так как же я пойду... У меня муж мусульманин. Он хоть и не особо верующий... Но узнает —убьёт!
— Для тебя что важнее: жизнь ребёнка или гнев мужа?!
И мама понесла умирающую Надю в православный храм, единственный в Хасавюрте. Священник сразу же понял, что жизнь в девочке еле теплится и тут же окрестил её.
Выходит мама с ребёнком на руках из храма, а им бабушки говорят:
— С праздником! Христос Воскресе! Пасха ведь нынче!
И кто-то им яйца крашеные протягивает—поздравляет с Пасхой.
Сели они в автобус, едут домой, а у мамы слёзы текут ручьём, она ничего от слёз не видит, одна дума: доченька умирает. Вдруг ребёнок начал в одеяле трепыхаться. Мать испугалась: неужели агония началась?! А Наденька из одеяла выглядывает, и глазки у неё — живые, ясные. И просит слабеньким голосочком:
— Мамочка, кушать хочу...
А у той и припасов никаких — не до еды самой, а ребёнок уже и есть не мог. Схватилась за котомку, а там яйца пасхальные. Очистила дрожащими руками яйцо, положила кусочек в ротик дочурке, та пожевала, проглотила. И просит:
— Ещё, мамочка... только с солью...
И вот мама кое-как до дому доехала, вбегает с Наденькой на руках в дом и кричит страшным голосом:
— Соль, соль! Скорее дайте соль!
Вот так безнадёжная Надя выздоровела. Потом, спустя годы, сама мама вспоминала с улыбкой: ведь так переволновалась, что не молока для ребёнка, не каши просить стала, а соли —яйцо посолить...
Детство
Катя и Надя росли, учились в школе. Помогали маме по хозяйству: у них был огород, куры, бараны. Папа не пил, не курил, но был очень злой, крутого нрава. Сёстры так боялись отца, что маленькими, в отсутствие мамы, заслышав его шаги, прятались под кровать.
Мама никогда не спорила с папой, поперёк слова не говорила. Терпела, даже узнав про жену-кумычку. Терпела, потому что по местным обычаям, если муж бросает жену с детьми, она считается виноватой, и к её дочерям никто не придёт свататься. А если и посватаются, то те, за кого никто замуж не идёт, либо разведённые.
Мама осмелилась расстаться с отцом, только когда дочери выросли, получили образование и уехали из дома.
Татаюрт
Вокруг села Татаюрт земля—глина, на солнце она лопается кусками. Потрескавшаяся от жары глина, и как испарина выступает соль, называется такая земля —солончак. На ней почти ничего не растёт, только верблюжья колючка и кустарник перекати-поле. Летом он зелёный, а осенью отрывается под корень и катится по земле шариком невесомым. Ни дров, ни угля, насобирают перекати-поле, а он горит как бумага. Из деревьев росли тополя, высокие как пирамиды, ствол просто огромный.
В самом селе, где огороды поливали из канала Дзер- жинки, росло всё: черешня, яблони, вишни, персики, дичка-абрикос, виноград. Выращивали помидоры, огурцы, арбузы. В канале вода как в Тереке, а в Тереке—непрозрачная, чёрная —иловая.
Ребятишки искупаются — ил в волосах, расчёска не берёт. После купания бежали к трубе, из неё текла вода артезианская, и смывали с себя грязь. Там же брали питьевую воду. Воду называли артезианской, а запах у неё — сероводородный, и была она не очень холодная, не ледяная.
Как сёстры друг друга спасали
В школе на уроках труда точили мотыги и лопаты и шли на приусадебный участок рядом с каналом. После работы купались тут же, в канале. Как-то раз Катя с Надей заплыли в место, где канал поворачивает, а там — водовороты. Начали они тонуть. Потом вспоминали, что у обеих—вся их прошедшая коротенькая жизнь перед глазами промелькнула. И обе представили и этот страшный момент одну картину: вот они утонули, и стоят два гробика, и мама рыдает. И у обеих одна мысль: пусть хоть другая выживет маме в утешение. И сёстры пытались вытолкнуть одна другую на безогтсное место, и ни одна спастись из-за этого не могла.
А одноклассники думают: играют сёстрёнки, дурачатся. Только когда обе скрылись под водой, поняли, что дело неладно. Мальчишки бросились в воду и вытащили обеих на берег. Они пришли в себя и спрашивают друг друга:
— Я тебя выталкивала, что же ты не спасалась!?
— Как же я тебя брошу?! Я тебя выталкивала, чтобы ты спаслась!
Младшая сестра
Маленькой сестрёнке Людочке было четыре месяца. Как-то мама сидела на кровати и кормила ребёнка грудью. Вдруг в дверь вошёл приехавший брат отца. Мама тут же застегнула платье и встала перед мужчиной. Он велел ей сходить к соседям и спросить о покупке барана, и мама, оставив ребёнка на кровати, пошла к соседям. Она думала, что брат побудет в комнате, а он тоже вышел, не обращая внимания на младенца.
Девочка была спелёнута и лежала вдоль высокой кровати. Как она смогла быстро придвинуться к краю и упасть? Когда мама прибежала, Людочка была на полу и громко кричала от боли. Оказалось, она повредила позвоночник и ногу. Медицинская помощь в селе в то время находилась на низком уровне, и медики ничего не определили. Лишь позднее мама заметила, что ребёнок не может опираться на одну ножку.
Вот такое несчастье случилось с младшей сестрой. Девочка выросла умная, с красивым лицом и роскошными длинными волосами, но с горбиком, и одна нога короче другой.
Пойдёт она со старшими сёстрами гулять, увидит сверстников, глазёнки загорятся: хочется ей поиграть с ними, подружек себе найти. Но никто не хотел играть с малышкой, дети дразнили её ведьмой: длинные волосы, горб, палка в руках. А Катя с Надей защищали сестрёнку.
Как-то раз, ещё в детстве, Людочка спросила у Кати:
— А когда я умру, там, в загробной жизни, я буду нормальная или такая же уродка, как сейчас?
И у Кати перехватило дыхание, она не смогла ничего ответить. А Люда сказала:
— Ничего, не переживай из-за меня... Кто знает, почему я —такая? И кто знает, что бы со мной стало, если бы я была здорова?
Людмила выросла очень умным и добрым человеком, окончила университет в Махачкале по специальности «математика-информатика» с красным дипломом, занимала первое место в турнирах по шахматам среди женщин в Дагестане.
Мирская грязь не коснулась её. Она учила детей в школе, работала библиотекарем. К вере пришла уже зрелым человеком.
Как Людмила стала верующей
Младшая сестра выросла человеком цельным, живёт тем, во что верит. И уж если поверит, то всей душой. Долгие годы Люда была неверующей, и пришла она к вере очень необычно.
В их доме водопроводная система была самодельная, шланг с водой вёл к умывальнику и прочим удобствам. Как-то утром мама пошла в ванную. Ещё как следует не проснувшись, крутит кран. И в этот момент тяжёлый шланг срывается, и поток ледяной воды окатывает пожилую женщину с ног до головы. Шланг крутится, вода под напором бьёт, мама очень пугается.
Когда Люда прибежала на её крик, перекрыла воду, мама была не в себе. Показывает на мешок с мукой в прихожей:
— Что это?
— Мешок с мукой, мамочка.
Показывает на канистру с водой:
— А это что?
— Канистра, мамочка.
Мама снова на муку:
— А это что?
После того как она несколько раз одни и те же вопросы задала, Люда испугалась. А маме ещё хуже стало: начала она смеяться, прямо-таки хохотать. Хохочет каким-то диким смехом, так что у Людмилы мурашки по коже бегают. Жили они с мамой вдвоём, были очень близки друг другу, и вот такое несчастье... Придёт ли мамочка в себя? А если так и сойдёт с ума? Накапала ей успокоительное.
Время идёт, час, два, а маме лучше не становится, она не приходит в себя и только хохочет диким смехом как сумасшедшая. То ли скорую вызывать, то ли за соседями бежать... А помогут ли? Вдруг ещё хуже станет... Люда знала случаи, когда от испуга люди теряли рассудок навсегда.
Отвела маму в спальню, положила на кровать, а когда та забылась в каком-то бреду, Люда побежала на кухню. У них в кухне стояли две самодельные иконочки, вырезанные то ли из газеты, то ли из журнала. Настоящие иконы в то время достать трудно было, так мама сама их сделала.
И вот Людмила встаёт на колени прямо здесь, на кухне, на ледяной пол, и начинает молиться:
— Господи, прости меня, я никогда не молилась и никогда не была верующим человеком. Прости меня, пожалуйста, что я так неблагородно поступаю, что обращаюсь к Тебе, только когда у меня случилось несчастье. Пожалуйста, прости.
Я просто не верила в то, что Ты есть... Если Ты есть, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне! Исцели мою мамочку! Она самый близкий мне человек на всём белом свете! Ты ведь знаешь, Господи, что я инвалид... У меня горб. И я не могу ходить без палочки. И у меня нет никого, кроме мамы. И я никогда не роптала на свою судьбу, Господи! Принимала всё как есть... Но прошу Тебя, не лишай меня моей мамы! Пусть она не сойдёт с ума, пусть останется в здравом рассудке!
А если Ты мне поможешь, то обещаю, что буду всегда в Тебя верить! И буду молиться Тебе! Смилуйся, Господи, и помоги мне! Прости моё неверие и дай мне веру!
Так она молилась и плакала на коленях на холодном полу. А потом услышала голос мамы. Медленно пошла в спальню и увидела, что мама проснулась, что она стала прежней. Никаких следов помешательства больше не было, и мама даже не помнила, как испугалась и как странно вела себя несколько часов назад.
А Людмила стала верующим человеком. Сейчас она трудится в Калужском храме за свечным ящиком.
Как Катя пришла к вере
Катерина пришла к вере в трудную минуту, как и её младшая сестра.
Работала Катя фельдшером в военном городке, там познакомилась с молодым офицером, который стал её любимым мужем. Родилась дочка, хлопоты семейные, забот много. Забеременела второй раз.
А у неё была соседка бездетная. И вот повадилась эта соседка ходить к Кате в гости, придёт и каждый раз гладит её по животу:
— Как там малыш поживает?
А у самой глаза злые-презлые. Катя уже и не рада, что поделилась, рассказала, что ребёночка ждёт. Очень ей не нравились эти чужие прикосновения к её животику, который ещё и не виден был совсем — шёл четвёртый месяц беременности.
Как-то пирог собралась постряпать. Старшая дочка с бабушкой, а Катя на кухне возится. Заходит соседка. Только Катя стала пирог ставить в духовку, наклонилась с противнем в руках, а та опять её по животу гладит:
— Как малыш поживает?
Сама улыбается широко, а глаза, как обычно, — злые-презлые.
Катя просит:
— Пожалуйста, не трогай меня, я ведь уже говорила, что мне не нравятся твои поглаживания.
Поднимается от плиты и чувствует—у неё кровотечение началось. Испугалась. Соседка тут же отправилась восвояси, а Катя мужу стала звонить. Муж быстро прибежал, повёз её в больницу.
В больнице сразу же предложили аборт —кровотечение сильное. А у Кати в голове одна мысль: живой ребёночек, нельзя убивать. В то время УЗИ не было, положили молодую женщину на сохранение. Делают уколы. Кровотечение меньше стало, но до конца не прекращается.
И вот лежит она неделю на сохранении, лежит вторую, и врач ей каждый день предлагает аборт сделать, а Катя каждый день отказывается. Женщины в палате вслух между собой рассуждают:
— Я вот знаю случай, такое же кровотечение было, так потом ребёночек-то без руки родился!
— Ага! Я вот тоже слышала про такое, так младенец и без ножек был!
Катя укроется с головой одеялом, чтобы не слышать, а сама плачет. И молится день и ночь:
— Господи, помоги! Господи, защити! Ты создал всё вокруг, Ты —Творец Вселенной! Что Тебе стоит, Господи, сохранить мне моего ребёночка?! Он такой крошечный, Господи, я так ждала его, пускай он родится здоровеньким! Смилуйся над нами, помоги! Я раньше никогда не молилась, Господи, но, если Ты есть, помоги мне, и я всегда буду верить в Тебя, буду молиться и ходить в церковь!
И вот как-то врач приходит на осмотр и Кате заявляет:
— Всё, голубушка, или мы тебя чистим, или пиши расписку и домой отправляйся!
А Катя в этот день почувствовала: ребёночек зашевелился—живой, значит!
И она написала расписку, и поехала с мужем домой. Едет и думает: если дома кровотечение не прекратится, нужно будет возвращаться в больницу и делать, что врач советует. Приезжают домой, а кровотечение полностью прекратилось, и беременность до самого конца протекала абсолютно нормально. В срок Катя родила здоровую доченьку.
Сейчас её дочка — матушка, жена священника, мать двоих детей. А Катя ездит по выходным в Оптину, окормляется у Оптинского духовника.
Молитва Веры
Жива и в добром здравии и мама трёх сестёр. Ей уже под девяносто и зовут её Вера (это имя мы менять не стали). Несмотря на почтенный возраст, она не только выполняет большое, почти монашеское молитвенное правило, но и молится за всех, кто записан в её синодике. А записаны там многие люди, не только родные, но и дальние, просто те, кто нуждается в молитвенной помощи. Иногда Катя просит маму:
— Мамочка, отдохни, поспи подольше!
Но мама отвечает:
— Что ты, дочка, я ещё не успела помолиться... А ведь люди ждут молитвы...
Радости Надежды
Посвящается сёстрам Екатерине, Надежде, Людмиле, их маме Вере и сестре мамы Надежде, героям рассказа «Молитва Веры»
Ветер странствий гулял по шумному автовокзалу, наполнял душу радостной суетой, предвкушением встреч и грустью расставаний. Люди спешили — входили и выходили, наскоро пили кофе, покупали снедь в буфете, увешанном разноцветными гирляндами. В углу таинственно светилась ёлочка, и буфетчица, молодая, весёлая, круглолицая, в золотом парике из новогоднего дождика, задорно приговаривала, обслуживая покупателей: «Сэндвичи, пицца — нельзя не насладиться! С Новым годом поздравляем, нашу пиццу покупаем!»
Надежда купила чай, эту саму пиццу — небольшую, горячую, вкусно пахнущую, присела за небольшой круглый столик: до автобуса ещё минут двадцать. Откусила кусочек—действительно неплохая пицца.
Она ехала в гости к сестре и племянницам в Калугу, почти пять часов на автобусе от Москвы, собиралась встретить с родными Рождество, съездить вместе в Оптину пустынь. Ела не спеша, отпивала небольшими глоточками горячий крепкий чай, любовалась ёлочкой, оживлёнными лицами людей вокруг, смешной буфетчицей с золотыми волосами. Синие утренние сумерки за окном таяли, занимался новый день, и на душе было мирно и спокойно.
— Этой пиццей, что ли, наслаждаться?! Эх, какая дрянь—эта ваша заливная рыба! И вместо кофе бурду какую-то наливаете!
Резкий ворчливый голос совсем не подходил к ярким огонькам, любовно украшенной ёлочке и радостной атмосфере новогоднего буфета. Надежда обернулась: за соседним столиком седой мужчина, внушительный, одетый дорого и солидно, продолжал громко возмущаться:
— Когда уже научитесь нормально готовить?! Безобразие!
Мужчина оглянулся вокруг в поисках поддержки, но посетители буфета отворачивались, всем неприятно было его недовольство. Может, кофе и недостаточно хорош, но кто бы и ждал чего другого от обычного пакетика «три в одном». Не в ресторане ведь собрались и не на домашней кухне с туркой в руках, от которой так и тянет дразнящим ароматом...
Буфетчица перестала улыбаться—расстроилась, стянула с головы золотой дождик, стала обслуживать дальше без новогодних поздравлений. Надежда почти физически почувствовала, как в праздничный мирок буфета вместе с солидным господином вплыли волны раздражения, стали расходиться кругами. Она встала и вышла на улицу, где тихо, наперекор спешке людей, падали снежинки, покрывая свежей белизной черноту дороги.
Автобус, большой и уютный, наполовину пустой, приятно пах кофе, который допивал водитель из маленькой чашки, кожаными сумками и мандаринами. Надежда достала из сумки пакетик с фруктами, устроилась у окна поудобнее — она любила дорогу, любила смотреть в окно и медленно, не спеша думать о чём-то приятном или вспоминать что-то доброе, радостное. А воспоминаний у неё было много — за плечами долгая жизнь.
— Пять часов в этой развалюхе трястись — кошмар просто! Сумку уберите из-под ног, как я садиться должен?!
На сиденье рядом опускался тот самый солидный седой мужчина. Надежда не стала отвечать грубостью на грубость. Наоборот, отозвалась приветливо:
— Простите, сейчас уберу.
Задвинула сумку под ноги, улыбнулась попутчику, протянула пакет:
— Угощайтесь! Яблоки очень сладкие, мытые. А вот мандарины.
Мужчина посмотрел на пакет, помотал головой, отказываясь от угощенья. Помолчал, а потом уже совсем другим голосом сказал:
— Неудобно вам с сумкой под ногами сидеть. Давайте наверх её закину.
— Я вам очень благодарна, только она ведь тяжёлая...
— Ничего, не очень тяжёлая... вот... так удобнее?
— Да, я вам очень признательна! Спасибо большое! Может, всё-таки яблочко?
И попутчик взял яблоко, надкусил и наконец тоже улыбнулся.
— Извините за ворчание. Может, я немного и ворчливый, но вообще—не злой. Разрешите представиться: Николай Иванович. Можно просто Николай.
Надежда посмотрела внимательно на мужчину—она обычно хорошо чувствовала людей—да, Николай был ворчливым, но волн злости от него не исходило, похоже, на самом деле незлой...
— Почти тёзки: Надежда Ивановна. Просто—Надежда. А почему вы ворчливый?
— Хм... Жизнь прожил долгую, тяжёлую — вот и раздражительный стал... Помирать скоро, а радостей никаких в жизни не было... Да, что там —вам молодым не понять, вам кажется: вся жизнь впереди!
Надежда помолчала немного. Подумала: иногда люди бывают раздражительными от одиночества. Им плохо, одиноко, и они бессознательно пытаются привлечь к себе внимание хотя бы раздражением и ворчанием... Улыбнулась и сказала:
— Да я и не молодая совсем... Молодой меня только в полумраке автобуса можно назвать.
— У женщин, как известно, о возрасте не спрашивают. А сейчас вообще трудно возраст женский определить: все моложавые, молодящиеся.
— Моложавой — это как Господь управит, а вот молодящейся — упаси Бог: зачем? У каждого возраста — свои радости. И я свой возраст не скрываю: знаете я уже в том возрасте, когда его можно не скрывать. Родилась в тридцать седьмом году — вот и считайте.
— Так мы ровесники?! Ну, тогда вы меня должны понять: что мы видели в жизни, какие радости?! Военное голодное детство, да и потом ничего хорошего не было.
— Как это не было?! В моей жизни радостей случилось много.
— Наверное, из богатой семьи? Родители — московские начальники?
— Я родилась в Татаюрте.
— Что такое Татаюрт? Кавказ? Дагестан? Так вы с Кавказа?
Автобус вздрогнул и медленно стал набирать скорость. Надежда откликнулась:
— Мои предки —терские казаки — жили в русской станице Александрийской.
Во время гражданской войны наша семья оказалась в Татаюрте. Там в те времена жили люди многих национальностей. И русских много было.
Попутчик эхом откликнулся:
— В Татаюрте...
Она задумалась, вспоминая:
— Татаюрт... Вокруг села земля —глина, на ней почти ничего не растёт, только верблюжья колючка и кустарник-бурьян перекати-поле.
Помолчала, вспоминая, и, под ровный гул мотора, почему-то продолжила:
— Мы с сестрой всегда собирали бурьян, чтобы топить печь. Я ходила босиком, и когда мне подарили старые кирзовые сапоги — это была большая радость. Ничего, что целый только правый, а левый на три пальца дырявый — зато у меня теперь были свои сапоги! Мама набила дырявый сапог сеном, и я ходила важно в сапогах... Знаете, когда мне, уже взрослой женщине, муж подарил шубу, я так не радовалась этой красивой шубе как своим дырявым сапогам! А вы говорите: какие радости...
Николай Иванович задумчиво молчал. Потом попросил:
— Пожалуйста, рассказывайте дальше — у вас дар рассказчика, вы знаете об этом? Я в таком унынии пребывал, а рядом с вами—уныние отходит потихоньку... Пожалуйста, будьте так добры, рассказывайте, а?
Надежда улыбнулась:
— Как-то пошли мы с сестрой за бурьяном, стоял мороз, и у меня пальцы левой ноги даже побелели от холода. Набрали вязанки бурьяна, идём по мосту, а мост навесной: с одной стороны проволока, а с другой — ничего нет. Шум, ветер дует, и меня стало сносить. Бурьян —в речку, я за ним потянулась — и тоже в речку. И понесло меня по реке, понесло... Сестра вытащила —сумела, успела, не испугалась сама утонуть— вот радость-то! Пришли домой, окоченевшие, мама ругается, а я даже не чихнула —тоже радость!
Бурьяном топили печь, мама золы в мешочек насобирает, воды нагреет, в бочку нальёт, мешочек с золой бросит—купаемся по очереди—хорошо! Потом чистой водой ополоснёмся... Золой и стирали. Знаете, не хочу рассказывать так, чтобы вы думали — приукрашивает. Было всякое, вот, скажем, вши нас мучили очень, простите уж за такие подробности...
— Вши—дело знакомое... Примета военного детства...
— Ах, как эти вши нас заедали! Помню себя совсем маленькой: носки мне связали, я смотрю на свои ножки в носках, и прямо в дырочках носков—вши сидят— и кусают меня. Мама бьёт их, бьёт этих вшей, выбирает из головы и никак выбрать не может.
Отец пришёл с фронта весь больной. Его тяжело ранили — прострелили руку, ногу, лёгкое. Раненых везли на железной палубе, привезли в Туапсе, а у него открылся туберкулёз. Вернулся домой, процесс в разгаре, а лечения и питания — никакого. Мама извернётся, купит кусочек масла и ему даст, а ему жалко самому есть, смотрит на нас, а нас четверо детишек было... Так он очень быстро и умер.
— А мой погиб. Смертью храбрых. И рос я —безотцовщиной. Бедно жили...
— Да, жили очень бедно, найдём кукурузу—грызём, а она —в испражнениях мышиных... Ходили с братом по полям, выпадет снег, с огородов уже всё уберут, и мы ходим—в поисках съедобного. Кочан капусты снимут, а кочерыжка останется—вкусная, сладкая, чуть подмороженная. Верите: взрослой пробовала деликатесы всякие, а вкусней той кочерыжки — ничего не пробовала.
Луковку, картошину найдём — радость! Понимаете, человек быстро привыкает ко всему, и, если кормить его дорогой вкусной пищей, он перестаёт радоваться простому куску чёрного хлеба. А каким сладким может быть этот кусок! Вкуснее любых деликатесов!
В землянке жили после войны. Собирали жёлуди, возили на рынок, меняли на кукурузу. Мельница домашняя — круг такой большой. Крутишь, крутишь— тяжело! Из кукурузы мука получается. Муку—на стол, воды, соли. Мама суп сварит, называется затируха.
На три часа соседи дали плуг, он тяжёлый. Брату семнадцать, мне девять. Он впряжётся, я не могу нажать на плуг—сил не хватает, меня запряжёт, лямки оденет, а я тащить не могу —сил нет. Сидим рядом —плачем.
А рядом коровы пасутся, брат доит, мне кричит: «Рот открывай!» Я рот открываю, а струйки по лицу бьют, я никак глотнуть не могу. Брат ругается. Так мы, дети, любили друг друга, дружные такие — это была настоящая радость!
Много раз Господь меня от неминуемой смерти спасал... Первый раз зерно собирали, меня на подводу посадили, а там два быка здоровых. Вот я правлю и кричу: «Цоб, Цобе! Цоб, Цобе!» Должна была их прямо гнать, а они вдруг испугались чего-то и понесли. Женщины кричат: «Прыгай, Надя, прыгай!» Я спрыгнула — и сразу подвода перевернулась. Ещё мгновение — и погибла бы.
Потом зерно принимали на машине. Едет машина рядом с комбайном, и из рукава комбайна сильной струёй зерно сыплется. Меня как-то раз чудом не засыпало—тоже Господь уберёг.
Ещё было: молотилки работали на току, мы зерно собирали, связывали в снопы и толкали в молотилку. Нужно толкать с силой, а силы у меня не хватало. И как-то пихнула я сноп и сама стала в рукав молотилки падать как в бочку. Соседка успела отключить молотилку, и я осталась жива. Вот такая милость Божия!
А ещё у меня как-то был столбняк.
— О, это очень серьёзная болезнь. Смертельно опасная.
— Да... Я уже училась в школе, и меня отправили на уборку сена вместо мамы. Косили камыш и траву, и вот я загнала себе в ногу, в дыру сапога, острый камыш. Сильно наколола ногу, и у меня начался столбняк. Поднялась температура, меня стало всю выгибать — приступы такие, судороги—ноги сгибает как при гимнастическом мостике.
Мама побежала за врачом. Медпункт находился недалеко, и там работали врач и медсестра. Врач — крупная высокая женщина, грубая, ходила, как мужчина, в штанах, что в то время было непривычно для жителей Татаюрта. Звали её все «Чабан». Но она, по крайней мере, была своя — привычная, понятная. Накричит, нагрубит да назначит какое-никакое лечение. Все знали, чего от неё ожидать.
А вот медсестру недолюбливали сильнее, она была блокадницей, эвакуированной из Ленинграда — из дальних краёв. Всегда мрачная, всегда молчала, ни с кем почти не разговаривала. Воткнёт молча укол или молча даст таблетку. Непонятная. Может, у неё на почве блокады с головой неладно стало—так люди думали. Когда люди не понимают чего-то, то иногда боятся, иногда недолюбливают...
Врач велела нести больную в медпункт. Принесли меня, я на ледяной кушетке выгнулась. Боль страшная, а сознание ясное, всё слышу. Помню всё, как будто вчера это было.
Чабан быстро меня осмотрела. Мрачно сказала:
— Классическая триада — тризм жевательных мышц, сардоническая улыбка, дисфагия в результате сокращения мышц глотки. Поражение мускулатуры, судороги. Столбняк. Лечить нечем. Тащите назад домой и больше меня не зовите, помочь не могу.
Чабан вышла, а мама встала на колени у кушетки и зарыдала:
— Доченька моя, Наденька... Надюшка моя ненаглядная! Пожалуйста, не умирай, доченька! Как я без тебя?! Без своей Надежды?! Как я без тебя жить буду?! Папа умер... Не бросай меня, доченька, пожалуйста!
Мне было очень жалко маму, но я даже не могла протянуть руку, чтобы погладить её по голове, чтобы утешить её. И ещё: мне стало очень страшно умирать. Так умирать не хотелось!
И тут раздался голос медсестры. Мы даже как-то забыли о её присутствии в кабинете, такой незаметной и всегда молчаливой она была. Медсестра сказала:
— Вам нужна сыворотка.
Я очень обрадовалась, что меня сможет излечить такое простое лекарство и кое-как пробормотала:
— Мамочка, так у соседей есть корова. Попроси же у них для меня сыворотки!
— Нет, девочка, тебе нужна не та сыворотка. Противостолбнячная сыворотка.
Мама всплеснула руками:
— Да где же её взять?
— У врача есть сыворотка. В сейфе. Мало. Для начальства или каких-то важных больных. У меня нет ключа к сейфу.
Мама снова зарыдала. Медсестра смотрела на нас внимательно, а потом сказала:
— Несите девочку домой. Я приду к вам вечером.
И она не обманула: поздно вечером принесла мне противостолбнячную сыворотку, выкрав ключи от сейфа у Чабана. И потом приходила, ставила мне какие-то уколы. Всё делала молча, не разговаривая с нами.
И только в последний раз, когда я уже пошла на поправку, она заговорила с нами и сказала маме:
— Ваша Надя будет жить. Пусть живёт за себя и за мою дочку. Мою звали Светочкой. Она умерла от голода. Я отдавала ей от своей пайки, а она всё равно умерла. Угасла Светочка моя. Свет моей души угас. Я не могла допустить, чтобы ваша дочка тоже умерла. Не могла. Пускай меня судят, как хотят. Я не могла этого допустить. Живи, Наденька! За себя и за Светочку!
И ушла. Её потом действительно арестовали за хищение ценного лекарства и судили. Больше я никогда в жизни её не видела. Я даже не помню, как её звали и называли ли её по имени, просто говорили «беженка», «эвакуированная» или «медсестра».
А я вот живу — за себя и за её маленькую Светочку. Две жизни.
Потом поехала в райцентр, поступила в медучилище. Мама дала юбку и кофту бязевую. Стала учиться на вечернем и работать на консервном заводе. Купила ситцевое платье, потом накопила на отрез, и знакомая сшила мне платье из штапеля. Это была такая радость! Потом на рынке купила себе пальто — воротник собачий, подкладка изодрана.
После училища устроилась работать в госпиталь, приду—повешу пальто так, чтобы никто дыр не видел.
Потом мне от госпиталя —а я хорошо работала, старалась—дали однокомнатную квартиру. А ещё позже я счастливо вышла замуж и родила свою дочку. Но это уже совсем другая и ещё более радостная, счастливая история. А вы говорите: какие там радости?!
Николай Иванович молчал. Она посмотрела на своего попутчика и увидела, что он плачет. Смахнул слёзы тыльной стороной широкой мужской ладони и сказал медленно:
— Вы знаете, а у меня ведь тоже в жизни случалось много радостей. Как я мог забыть о них?! Сам не знаю... Я ведь раньше совсем не такой был! Я был очень добрый! Весёлый! Шутил, улыбался! Пока жена была жива, я часто песни пел. Просто так хожу —и пою... Господи, я был не такой как сейчас!
Надежда молчала. Потом легонько погладила попутчика по руке своей маленькой ладошкой:
— Я знаю. Вам просто очень одиноко. Не унывайте, не нужно... Вы ведь едете в гости?
Николай Иванович оживился:
— К дочери и внуку. Они — моё утешение. Редко видимся только. Спасибо вам, Надежда.
— За что, Николай Иванович?
— За вашу доброту. За ваш рассказ. Рассказ о радостях Надежды.
И они улыбнулись друг другу. И достали из пакета по жёлто-солнечному мандарину. А снег за окнами автобуса всё шёл и шёл, и чёрная дорога и темнеющие деревья становились белоснежными и первозданно -чистыми.
Даст тебе Господь по сердцу твоему
Мне захотелось записать эту историю далёкой юности, потому что, слушая её, я заново пережила чувство, знакомое каждому, кто рано или поздно приходит к Богу: чувство духовной весны. Это время духовного младенчества, такое яркое, полное чудес и ощущения присутствия Божия. Господь совсем рядом, Он так близок, как никогда.
Как мать близка младенцу и чутко слышит каждый его вздох, плач, младенческий лепет, тут же откликается на его призывный крик и утешает, ласкает, нежит. А чуть позже, когда младенец подрастёт, мать уже не спешит так же быстро брать его на руки: теперь сам сделай шажок, иди ко мне, малыш, ещё шаг, вот, молодец! И Господь всегда рядом, но ждёт, что духовный младенец по мере духовного роста постепенно научится ходить сам.
В минуты невзгод и скорбей, когда кажется, что Бог далеко и не слышит твои молитвы, нужно только вспомнить эту сладкую пору духовного младенчества и заново пережить: близ Господь призывающих Его.
Татьяна выросла в обычной семье: бабушки верующие, а родители воспитывались во времена безбожия. Папа у Тани из донских казаков, высокий, статный, и Таня в папу: и ростом вышла и осанкой, глаза голубые, русая коса до пояса. Умная, весёлая, жизнерадостная, любила танцевать, танцевала и в кружке и дома. Женихов хоть отбавляй, только не спешила она с замужеством.
Ещё с детства Таня часто размышляла: зачем люди живут и что там, за порогом жизни? В чём смысл бытия? Нечасто подобные вопросы волнуют молодых девушек больше, чем вопросы, какую обновку одеть на танцы или как понравиться обаятельному однокласснику.
В 1990 году Тане исполнилось двадцать два года, и она собиралась выйти замуж. К будущему жениху глубоких чувств не испытывала, но он был очень порядочным и достойным человеком, лучше всех остальных претендентов на руку и сердце девушки. Очень любил Таню.
Будучи неверующим, уважал веру своей избранницы и вместе с ней ездил в паломнические поездки по святым местам. Побывали они в Толгском монастыре. Там Таня молилась, купалась в святых источниках. }овёт Сергея с собой окунуться, а он сердится, ворчит:
— И зачем это нужно?! Да я лучше дома в реку брошусь, чем в этот ледяной источник полезу! Какое странное желание — в ледяной воде купаться...
А мимо священник проходит и говорит ему негромко:
— Не мешай ей! Не нужно мешать человеку...
Приехали из монастыря, подали заявление в загс.
Пригласили на свадьбу гостей. И вот за месяц до свадьбы Таня захотела съездить помолиться преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиеву Лавру. И Сергей с ней, конечно, поехал. Приезжают в Лавру. Приложилась Таня к мощам святого и почувствовала такую радость, такую благодать, что век бы из этого места не уезжала. От мощей уходить не хочется, на литургии сердце поёт. А Сергею это всё в тягость, он ворчит:
— Да пойдём уже, сколько можно в храме стоять, давай лучше в кафе посидим или в кино сходим...
Услышал его ворчанье священник Лавры и слово в слово повторил толгекого батюшку:
— Не мешай ей! Не нужно мешать человеку...
Нахмурился Сергей. Господь в разное время сердца каждого человека касается, Он один знает, когда человек способен к Нему прийти. Вот и для Сергея, видимо, это время пока не наступило. Ничего из того, что чувствовала Таня, он не ощущал.
И ещё они вдвоём попали на беседу к старцу, отцу Кириллу Павлову. Таня, увидев батюшку, была поражена: лицо его светилось, прямо сияло. Никогда —ни раньше, ни позже — не видела она, чтобы от человека исходила такая благодать. Таня даже смотреть не могла долго на его лицо, она ещё и спросить ничего не успела, а чувство благодати, духовного умиления коснулось сердца так остро, что из глаз сами потекли слёзы, и она без всякой причины начала плакать.
Сергей заговорил первым, сказал, что торопится вернуться домой, на работу нужно выходить. Старец посмотрел внимательно на них, а потом благословил молодому человеку ехать домой, а Тане благословил остаться пожить в Лавре. Помолиться, потрудиться. Сергей, радостный, вышел. А старец на вопрос девушки о дальнейшей жизни, о скором замужестве ответил коротко:
— Это не твой путь.
И она почувствовала себя так, будто камень с души свалился. Поняла, что не радовало предстоящее замужество, а тревожило. Может, эта тревога, чувство ошибки и привели её в Лавру?
После благословения старца очень быстро нашла жильё и работу в монастыре. Сначала, правда, предложили ей послушание в трапезной. Пришла она в трапезную, вышел старший по послушанию, посмотрел на молодую красивую девушку —и отказал. Таня расстроилась:
— Возьмите меня хоть кем! Я сильная, могу любую трудную работу делать... Хоть полы мыть возьмите...
Старший и говорит сопровождающей сестре:
— Ну, если так просится — нужно взять. Вот тебе тряпка, вот ведро —и вперёд, полы мыть будешь. Мой и молитву читай. Поняла?
— Хорошо...
И вот Таня моет полы, только тряпка мелькает. От радости летает, а не ходит. Всё чисто, всё сверкает. И молитва идёт— Господь младенца духовного утешает.
Съездила домой, раздала все вещи подругам, жениху отказала, в течение суток обернулась назад. А Сергей и не удивился даже, как будто знал заранее. Видимо, старец помолился за них, потому что принял жених отказ спокойно, с пониманием. Таня потом много лет молилась за него и спустя годы узнала о его судьбе.
Сергей довольно быстро женился, в жёны взял девушку жизнерадостную, хохотушку, совершенно неверующую. Лет через пять он сам пришёл к вере, и через отца семейства воцерковилась вся дружная семья: и жена, и четверо детей. Вот так Господь промышлял о нём: Таня и без него была верующим человеком, а тут вся семья уверовала.
А тогда, в девяностом, не обошлось без искушения: Сергей предупредил всех своих родных об отмене свадьбы, а мама Тани почему-то забыла предупредить деревенскую родню. Может, расстроилась сильно, может, думала, что не приедут из далёкой уральской деревни они на торжество. Но в назначенный день приехало полдеревни, собрались самые дальние родственники, даже те, кто Таню только малышкой помнили.
Навезли пирогов, куличей, деревенской снеди. А свадьбы-то и нет! Так они назад поехали, по дороге едят-едят, никак съесть не могут. Всё раздали кому придётся, лишь бы не пришлось с этими яствами назад в родную деревню возвращаться — насмешек не оберёшься... Вернувшись домой, на все вопросы отвечали, что хорошо, дескать, на свадьбе погуляли. Так вторая половина деревни и была уверена, что Таня благополучно замуж вышла.
Да... А тогда вернулась Татьяна в Лавру, молится, на послушании трудится. Через две недели подходит к ней старшая по послушанию сестра и спрашивает:
— Таня, ты ведь медик по образованию?
— Да, медик...
— Хватит с полами, заканчивай свою поломоечную карьеру. Завтра с утра в медпункт пойдёшь.
А Таня расстроилась. Она ведь по новоначалию своему радовалась грязной работе, думала про себя: вот тут-то я смирению и молитве научусь, прямо как в Патерике у Святых Отцов. А тут, понимаешь, весь стремительный рост к высотам духовной жизни перекрывают:
— А можно я полы мыть останусь, а?
— Какие полы?! Тебя преподобный Сергий Радонежский благословляет в медпункт!
— Ой! Если преподобный, то, конечно, я готова и в медпункт!
Стала Таня в медпункте трудиться. Там у неё молитва уже не так легко пошла: начнёт она молиться, а тут нужно бабушке-паломнице капель сердечных накапать. Или давление померить, укол сделать. Или семинаристу таблеток выдать. Она про молитву-то и забудет. Потом снова молиться начнёт. Молится и думает про себя:
— Ах, какое счастье, что я в Лавре! А вот Господь сказал: всё оставь и иди за мной... Я так и поступила.
В общем, взлетает мыслью всё выше и выше. Ей уже и есть не хочется, и спать не хочется, только бы на службах стоять и на послушании трудиться. Но в Лавре народ опытный и преподобный Сергий промышляет о всех своих чадах. Как только стала она взлетать и парить, случилась у неё одна встреча. Приходит в медпункт профессор, преподаватель семинарии. Она у него и спрашивает:
— Простите, пожалуйста. А вот можно спросить? Вот если все заповеди исполнила, дальше что делать?
Профессор — человек деликатный, внимательно смотрит на неё, как будто диагноз ставит, потом улыбается и отвечает:
— Так, так... А дальше главу тринадцатую Первого послания к Коринфянам читайте и наизусть учите.
— Поняла... Спаси Господи...
Приходит домой — и сразу за Евангелие. А там:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, —то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
И ещё:
«Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое».
Задумалась Таня. Стала читать о трезвении, о духовном возрастании, о прелести. К наставнику духовному обращаться. Год в Лавре пролетел незаметно. А в 1991 году произошло событие, которое в её жизни сыграло важную роль.
В том году Казанский собор в Петербурге, бывший музей истории религии, снова стал действующим храмом. Из запасников музея передали Церкви иконы, предметы богослужения, мощи святых. Тогда в простой рогоже, среди гобеленов, обрели мощи преподобного Серафима Саровского, великого заступника нашей земли. Эта радость всколыхнула много душ, и даже изменила судьбы некоторых людей.
Мощи привезли в Москву, в Богоявленский Патриарший собор. И, один раз съездив к преподобному Серафиму, Таня стала отправляться в Москву каждые выходные. Два часа на электричке в одну сторону и два в другую. Только для того, чтобы постоять на молебне и приложиться к мощам преподобного. Услышала, что собираются крестным ходом идти с мощами из Москвы в Дивеево, и тут же к старцу, отцу Кириллу:
— Батюшка, благословите, я пешком с крестным ходом за преподобным пойду в Дивеево.
— Так не понесут мощи, а повезут. Ну что ж... поезжай с Богом в Дивеево.
Так Таня после Лавры оказалась в Дивеево. Сразу почувствовала, что люди здесь живут особенные: во-первых, само место особенное — удел Пресвятой Богородицы, во-вторых, когда монахинь разгоняли, многие осели у местных жителей, ютились в их избушках. И, конечно, принесли с собой монашескую молитву и образ жизни. И многие местные стали очень верующими людьми.
Бабушка Анна, которая приютила Татьяну, была такая молитвенница! Правило вычитывала монашеское. И пока с утра сто пятьдесят молитв Пресвятой Богородице не прочитает, чашки чая не выпьет.
В то время здесь была небольшая женская община. Возглавлял её дьякон, которого в шутку называли «наша старшая сестра». Татьяну отвели к старице, последней из оставшихся в живых инокинь Дивеевской обители.
Много скорбей и трудностей выпало на её долю. В детстве видела грубость, сквернословие, драки, затем трудовая монастырская жизнь, общие послушания, после закрытия монастыря — скитания, гонения, тюрьма и лагерь. Лагерный номер 338, который пред сказала ей ещё дивеевская блаженная Мария Ивановна. В лагере обыскивали, отнимали нательные кресты, запрещали молиться. Чуть не умерла в лагерной больнице и потом всю жизнь страдала от хронического плеврита и мучилась от кашля.
После многолетних скитаний вернулась в Дивеево с другими оставшимися в живых сёстрами обители. Маленький домик номер шестнадцать по улице Лесной. Здесь она прожила сорок лет. В прежние времена в монастыре имена меняли только при монашеском постриге, а при иноческом оставляли имя прежним. Поэтому матушку все местные знали под её собственным именем Евфросиния, Фрося.
В 1984 году архимандрит Вонифатий из Троице-Сергиевой Лавры по благословению Святейшего Патриарха Пимена постриг мать Евфросинью в схиму. При постриге её нарекли Маргаритой.
Когда Таня приехала в Дивеево, старице было уже девяносто лет. Она принимала приезжающих паломников, сестёр общины и относилась к этому как к послушанию, данному ей Самой Царицей Небесной. Старица доставала чугунок батюшки Серафима, поручи, кожаные рукавички преподобного, его большой железный крест. Всё это бережно хранилось, пряталось в годы гонений. Мать Маргарита одаривала богомольцев сухариками из чугунка преподобного, давала советы, наставляла, молилась за всех, кто нуждался в молитве.
Когда Таня с одной сестрой общины пошли к матушке, то по пути завернули на святой источник, искупались не спеша. А старица, оказывается, ждала гостей сразу после Литургии. А потом у неё свои дела, правило молитвенное. И вот заходят Таня с сестрой в дом: в крошечной избушке —сени, кухонька, маленькая келья с низеньким потолком. Заходят, а матушка ворчит:
— Двери закрывайте! Чего так поздно-то пришли?! Где вас носило?!
Таня опешила. Она представляла мать Маргариту такой благообразной благочестивой схимницей, как в Патериках описывают стариц. Чтобы каждое слово как пророчество, в каждом предложении —свидетельство о прозорливости. Новоначальные ведь часто увлекаются внешним благочестием, бывает, с уст не сходит: «простите, благословите, спаси Господи, ангела за трапезой». А тут... Что же это за старица?! Голос громкий, сердитый... Это же просто какая-то сердитая бабушка!
Такой её и местные знали. Называли «бабка Фрося».
Духовный человек всех понимает, а душевные и плотские люди —они духовного человека не понимают.
(Такой была и схимонахиня мать Сепфора, молитвенно стоящая у истоков возрождения Оптиной пустыни и Клыково. Она тоже была старицей, но жила очень прикровенно, молитвенный подвиг свой скрывала. К ней приезжали иеромонахи, игумены, протоиереи за духовным наставлением, за советом, а соседки недоумевали: «Почему это к нашей бабушке Даше столько священников из Оптиной ездит?».)
Таня тогда, в свой первый приход к схимнице, только одно почувствовала: как хорошо ей в этом маленьком домике, как легко на душе рядом с матушкой, как уходят тревоги и заботы. И ещё поразилась: какое светлое лицо у старицы! И в келье у матушки было очень благодатно—две большие иконы: преподобного Серафима Саровского и Божией Матери «Умиление».
Таня попросила:
— Матушка, благословите мне остаться. Быть в общине я, наверное, не заслуживаю, недостойна. Мне бы хоть коров доить или полы мыть, лишь бы жить рядом с Дивеево.
Старица улыбнулась и благословила девушке остаться в общине.
А позднее, когда уже много раз приходила в эту избушку — придут все вместе — кто на пол сядет, кто на коленях рядом с матушкой, —Татьяна начала понимать, каким сокровенным человеком была старица. Она скрывала все свои дары. Внешне —никакого елея. Обедает, лепёшку ест: «Эх, какая вкусная лепёшка! Как хорошо!» Люди придут: «Как там твоя корова? А как твой племянник?» Со стороны — обычная бабушка.
Как-то Таня пошла к матушке с одной сестрой. Та недавно приехала и уже была несколько раз у старицы. И вот идут они, а сестра и спрашивает:
— И чего мы к ней идём?! Она только ест да спит. Обычная старенькая бабушка.
Таня ей отвечает:
— Матушка молится. А это самый большой труд.
Заходят они к схимонахине в домик. Старица Таню впускает в келью, а её спутнице и говорит:
— И чего ты ко мне пришла?! Я только ем и сплю. Обычная старенькая бабушка. Что же я тебе могу полезного сказать?
Духовного человека видит только духовный. Или тот, кто стремится к духовности, ищет её. И такой человек мог почувствовать в старице скрытую внутреннюю духовную силу. Рядом с ней душа чувствовала что-то неземное. Такую лёгкость! Мир помыслов, тишину душевных сил.
А она молилась за всех, кто приходил к ней. Молилась после встречи и молилась во время беседы. И человек, не знающий, что такое сердечная, непрестанная молитва, ничего не понимал: отчего ему так хорошо здесь, в этой маленькой келье, отчего так тянет приходить сюда снова и снова...
А внешне это никак не проявлялось... По своему смирению даже схимническое облачение она одевала не часто, в простой одежде ходила. А внутри — старица. Схиму стала одевать, только когда монастырь открыли. Ей Пресвятая Богородица являлась...
Мать Маргарита переживала за всех сестёр общины. Будучи духовно опытным человеком, молитвен- ницей, она знала, как велика благодать, которую даёт Господь новоначальным. Даёт втуне, даром. А по мере духовного взросления скрывает. И потом, чтобы стяжать такую же благодать, как на заре духовной жизни, человеку нужно много подвизаться самому. Нужен подвиг, а он не каждому под силу. И часто человек подвизается, молится, постится, живёт духовной жизнью, а такой благодати, как раньше,—не чувствует.
Раньше вставал чуть свет—и спать не хотелось! Долгие службы—в радость! Поститься—легко! А когда Господь чуть-чуть благодать Свою скроет, чтобы человек собственные силы приложил, вся немощь тут как тут: поститься—тяжело, вставать рано—тяжело, молиться — ещё того тяжелее... Вот тогда человек и познаёт свою немощь, и начинает смиряться понемногу, и понимает, что значит: «Без Мене не можете творити ничесоже».
Старица предупреждала молоденьких сестёр об этом. У неё самой когда-то было послушание телятницы. И вот она приводила простые примеры из жизни в назидание сёстрам:
— Сейчас у вас столько благодати! А вы её не цените! Не умеете ценить... Так лошадь, когда в яслях у неё много сена, всё повытащит, копытами потопчет... А когда сена-то мало останется, так лошадка каждую соломинку подбирает. Вот и вы так будете...
Много лет эти слова старицы Таня вспоминает. Только зовут её теперь уже не Татьяной. И она инокиня в монастыре. «Даст ти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит».
Но это уже совсем другая история.
Время на покаяние
Сегодня мне нужно навестить в больнице одну сестру монастыря. И вот я еду на машине с водителем Михаилом. Дорога пустынна. В окна автомобиля светит нежное майское солнышко, вокруг яркая, сочная весенняя зелень. Время от времени в кабину вплывает нежный аромат черёмухи. Хорошо!
Михаил едет молча. Потом вдыхает весенний аромат и медленно начинает разговор. Дорога располагает к воспоминаниям. А с попутчиками, как давно известно, порой бываешь откровенней, чем с постоянными собеседниками.
— Как хорошо жить на этом свете иногда понимаешь, только когда попадаешь на тот.
— А что, Миша, тебе случалось и на том свете побывать? —легкомысленно и весело спрашиваю я.
Но Михаил серьёзен:
— Случалось.
Моё легкомыслие и веселье мгновенно исчезают. Уже серьёзно я прошу:
— Расскажи, а?
Миша морщится. Рассказывать ему не очень хочется. Но уже поздно. Он бросает на меня испытующий взгляд. Потом вздыхает и, не спеша, с длинными паузами, глядя на дорогу, начинает свой рассказ.
В миру Михаил работал машинистом передвижной электростанции. Он первым приезжал туда, где потом должна была появиться буровая. Прежде чем она появится, прежде чем приедут нефтяники или газовики, нужно приготовить к их приезду место. Чтобы было электричество, чтобы появились жилые вагончики, баня, столовая.
Так что Миша был первопроходцем. Жил в тайге один. Как-то раз под Сургутом, в тайге, прожил один больше месяца. «Здорово! — говорю я,— Это прям, как Робинзон Крузо! Интересно! А как ты жил? Зверюшек таёжных видел?»
— Видел. Лось приходил. Мишка косолапый разведку делал. Я бензопилой в реке лунку сделаю — воды наберу. Чаи гоняю. Ну, припасы были с собой. Только одному долго в тайге нельзя без привычки. К концу месяца стал слышать, как в вагончике Владимир Высоцкий песни поёт. У меня приёмника не было никакого. А тут слышу Высоцкого и всё тут. Ну, думаю, пора к ребятам ехать в гости, чтобы разогнать одиночество. Надел лыжи и отправился к лесорубам. Рассказал им о концертах в своём вагончике. А они смеются: «Подольше поживёшь один, ещё и не такое услышать можно».
Скоро одиночество кончилось, приехали вахтовики на работу. А у Миши новая беда: у него желудок был больной. А тут ещё консервы сплошные на обед. И вот как-то чувствует он сильную боль в животе. Как будто клещами железными внутри всё сжали. Упал на кровать и встать не может. Слышит, машина с рабочими пришла. Вот уже и уехала. Ребята в вагончик заходят, а он лежит бледный на кровати и слова вымолвить не может, только стонет. А машину рейсовую уже отпустили.
Стали снова машину вызывать. Пока вызвали, пока до больницы довезли, время прошло. Целый день. В больнице сразу сказали, что нужна срочная операция. А Миша чувствует: вроде боль отпустила немного. Не хочет операцию. Стал домой проситься. Врач головой только покачал. Говорит: «Тебе что, жить надоело? Ну, пиши расписку, что отказываешься от медицинской помощи и иди, куда хочешь».
Написал Миша записку, доковылял домой. Вроде боль потише. А ночью опять сильнее. Лечь не смог, просидел всю ночь на стуле, голову и руки на стол положил. Еле дождался утра. Ребята в больницу отвезли. А там врач сердито говорит: «Что ж ты так рано-то? Надо было бы ещё немножко подождать! Чтоб нам и возиться с тобой не пришлось! Сразу в морг и никаких хлопот!»
Повезли Мишу в операционную. А у него, оказывается, была прободная язва. Не успели наркоз дать, а он сознание потерял. Клиническая смерть. Внезапно почувствовал, что боли уже нет. А сам он находится прямо под потолком. Подумал только: «Падать-то высоко будет...»
И... увидел себя в аду.
— Миш, почему ты решил, что это был ад?
— Так там были бесы. Страшное место! Не приведи Господи! Спаси, сохрани и помилуй! Там испытываешь такое чувство отчаяния и обречённости...
Михаил не говорит ничего особенного, но я чувствую, как по спине начинают бегать мурашки. И тепло в кабине сменяется леденящим чувством холода.
Миша замолкает и включает акафист Божией Матери. Мы едем молча. Постепенно я снова замечаю весеннее солнышко, и чувство леденящего страха уходит. Акафист заканчивается, и рассказчик продолжает:
— Ещё там грохот, грязь. Всё чёрное, грязное. И какие-то люди в грязи делают какую-то бессмысленную работу. Я увидел там своего отца. Сейчас молюсь вот за него. Сколько уже панихид заказал! Ещё увидел одного парня, который за несколько лет до моей болезни другу моему отвёртку в спину воткнул.
Я не хотел оставаться в этом месте. Не хотел! Я вспомнил о своей маленькой дочке. А ей годика три всего было. Кто без меня её вырастит? Кто поможет? Я начал молиться. Авто время я в церковь не ходил. О вере не думал. Жил сегодняшним днём, и о том, что какая-то там загробная жизнь существует, не помышлял даже. Знал только одну молитву. Да. Одну-единственную. «Отче наш». Бабушка меня когда-то научила.
Собрался с силами и стал эту единственную известную мне молитву читать: «Отче наш, иже еси на небесех... Господи, помоги мне! Да святится имя Твое... Я ещё не готов к смерти! Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли... Господи, смилуйся, дай мне ещё время на покаяние! Я не хочу здесь оставаться! Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, я коже и мы оставляем должникам нашим...»
А бесы тут как тут. Навалились на меня, не дают молиться. Путают мысли. « Я неправильно жил, Господи! Я про Тебя не думал. Не оставь меня, как я оставил Тебя! Я исправлюсь! Дай мне время на покаяние! Мне ещё дочку нужно на ноги поднять! Ради дитя невинного, смилуйся, Господи! Отче наш... И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!»
И вернулся. Ожил.
Врачи поражались. Слишком много времени прошло до операции. Они уже приготовились моё тело в морг отправлять. Медсестра потом говорила, что у меня как-то даже кровь загустела, нельзя было капельницу поставить. В общем, труп практически. И вдруг очнулся. Решили: медицинское чудо. А я-то знаю, Кому это чудо принадлежит!
Вышел из больницы, пошёл в церковь. Первая моя служба была. Если б ты знала, как она мне тяжело далась! Видимо, грехов много было—еле достоял. В храме тепло, а я замёрз. Мёрзну —сил нет. И пот холодный по спине. Взмолился Господу: «Господи, помоги мне службу до конца отстоять!» И отстоял. Ну а потом уже легче было. На других службах-то.
— Миша, ты поэтому в монастыре теперь трудишься на послушании?
— Ну а как ты думала?! Что меня от больших денег и мирской жизни могло в монастырь привести?! Я ведь привык жить по своей воле. Вот дочку выучил и уехал в обитель. Теперь на послушании у духовного отца живу.
О душе думаю. Потому что знаю, что с ней случиться может. Старец мне сказал: «Ты, когда в миру жил, спал. А сейчас проснулся. И понял, что такое жизнь, что такое душа и почему о спасении нужно думать до того, как умрёшь».
И Миша снова включает акафист. Мы едем дальше и слушаем. Я вспоминаю свою знакомую. Она не верит в Бога, некрещеная и креститься не собирается. Говорит: «Я знаю, что умру и исчезну. Какая мне разница, что будет с моим телом после смерти! Пускай меня кремируют! Душа? Какая душа?! Где доказательства, что она существует?!»
Господи, дай нам всем время на покаяние! Помоги очнуться от сна и вспомнить о Тебе! «Отче наш, иже еси на небесех...»
Помощь преподобных
В девяностые годы многие приходили к Богу, обильно изливалась благодать Божия на нашу страну, так долго скованную государственным мировоззрением научного атеизма. Люди осознавали себя верующими и меняли свою жизнь. А изменить жизнь в соответствии со своими убеждениями — трудно. Легче плыть по течению. Но призыв Божий и действие первоначальной призывающей благодати были так сильны, что бывшие атеисты возрождали храмы, меняли профессии, уходили в монастыри.
Вот среди таких людей и оказалась Лена. Рассказывает Лена свою историю с юмором, человек она добрый, жизнерадостный. А я-то знаю, сколько скорбей и испытаний выпало на её долю. Но в каждом искушении, каждом испытании Господь был рядом. О скорбях Лена рассказывать не любит, но она уверена в том, что путь её в Оптину был неслучайным. И не окажись она в Оптиной пустыни, неизвестно, как сложилась бы её жизнь... Но всё по порядку.
В начале девяностых Лена и Андрей, тогда совсем ещё молодые люди, жили в Москве, в трёхкомнатной квартире. Лена преподавала химию, Андрей занимался ремонтом автомобилей. Обычная семья... О вере особенно и не задумывались, хлопоты семейные, запарка на работе, день за днём—суета. О душе подумать некогда... А Господь ждал.
И вот случайно услышав о преподобном Серафиме Саровском, Андрей загорелся: очень ему захотелось приложиться к мощам святого. Сами люди совсем нецерковные, никогда не исповедались, а вот захотелось отчего-то... Преподобный Серафим позвал... Молодые, на подъём лёгкие, собрались, сели в машину, поехали. Ни карты, ни представления, куда ехать. Лена говорит:
— Это вроде город такой — Саров — есть. Нужно туда ехать.
Андрей отвечает:
— Не, я вот слышал: Оптину пустынь возрождают, а там мощи святых, вот там преподобный Серафим и находится. Точно тебе говорю!
Приезжают в Оптину, спрашивают о Серафиме Саровском, а там смеются над ними: здесь — старцы Оптинские! Эх, вы, темнота!
Но, видимо, неслучайно они в Оптиной оказались: так им здесь понравилось, что решили они обязательно ещё раз приехать. Замечали ли вы, как часто ошибки и оплошности обращает Господь в нашу пользу?
Подошло время отпуска. Собрались в этот раз как следует, карту взяли, едут. Долго едут, скоро заправиться бы нужно.
— Лен, деньги приготовь!
— Какие деньги?! Ты разве не взял?!
А деньги приготовленные остались дома —на пианино лежат. Сколько раз ездили по делам, за покупками — никогда ничего не забывали. А тут в такой дальний путь отправились, и такая незадача...
Отступая от повествования, хочу отметить, что так бывает очень часто: пойдут люди на дискотеку или на курорт поедут—всё в порядке. А вот стоит собраться на первую исповедь... Или на причастие... А если крещение предстоит, происходят такие вещи, которые иначе как искушением не назовёшь... Опытные ограждаются молитвой, благословением.
А младенцев духовных Сам Господь хранит. Искушения попускает, может, для проверки на прочность и серьёзность намерения, а потом мощно и властно устраняет все препятствия как пылинки, обращая скорбь искушений в духовную пользу, творя чудеса и укрепляя нашу младенческую веру.
— Лен, бензина не хватит, никак хватить не может...
А машина всё едет... Как они доехали —чудо настоящее! Давно должен был бензин кончиться, а машина всё едет...
Искали Саров, а подъезжают—Дивеево. Раз—и из-за поворота храм в ночной подсветке красоты удивительной. Какое сегодня число-то? 31 июля. Потом уже только узнали, что первого августа—праздник преподобного Серафима Саровского. Тут машина встала намертво. Вышли из автомобиля—то ли на земле, то ли на небе... В храм вошли. Ладно, завтра в Саров поедем, к Серафиму Саровскому, а сегодня в этом чудесном храме помолимся.
Смотрят: очередь стоит какая-то, подошли. Все прикладываются к раке, и они приложились. Отошли, а душа поёт у обоих. Спрашивают у стоящих рядом:
— Простите, мы вот сейчас приложились к раке, а какой святой здесь лежит, не поняли...
— Да вы что?! Это же сам преподобный Серафим Саровский!
Оказывается, на всенощную успели — на праздник к преподобному. Потом только поражались, вспоминая, ведь так они стремились к святому, так хотели к нему приехать. И вот Серафим Саровский принял. Не попустил Господь по молитвам преподобного, чтобы ночевали они в поле чистом... По всем законам физическим машина встать должна была, а она каким-то чудом всё ехала, и ехала, и остановилась только у храма, где шла праздничная служба преподобному.
Отстояли службу, на следующее утро на праздничной литургии помолились. Да как сказать, помолились — первые робкие шаги сделали: ни молитв не знают, ни перекреститься толком не умеют. Служба заканчивается, смотрят: ходит монахиня по храму, собирает пожертвования на храм в какой-то Нуче. Просит приехать в эту самую Нучу, потрудиться немного во славу Божию. К Андрею с Леной подошла. Они объясняют, что пожертвовать не получится: денег ни копейки. И потрудиться поехать тоже не получится —машина встала, бензин кончился. Монахиня им так спокойно отвечает:
— Ничего, не переживайте, Господь управит.
Смотрят, а она дальше по храму ходит и всё просит приехать к ним в Нучу, а кто про дорогу спрашивает, она только рукой махнёт: по дороге ехать, свернуть туда, свернуть сюда, через поле —вот и храм. Лена спрашивает Андрея:
— Ты понял, как к ним ехать? Что-то уж очень непонятно она объясняет...
— Ничего не понял... Тут свернуть, там повернуть... поле какое-то... Так к ней никто не приедет — попробуй догадайся, как до её Нучи добраться.
Проходит время какое-то, возвращается к ним монахиня, заправляет им машину, и едут они до этой самой Нучи. Приезжают, а там уже толпа народу: все, кого она приглашала, приехали, ни один не заблудился.
Оказалось, что здесь возрождали храм старинный. Одно время храм этот служил прибежищем для схимонахини Маргариты — единственной дивеевской монахини, дожившей до возобновления монастыря.
Село это особенное: в начале девятнадцатого века часть его по наследству досталась юным сиротам-по- мещикам Михаилу и Елене Мантуровым. Михаил Васильевич, Мишенька, любимый ученик преподобного, принял на себя подвиг добровольной нищеты. По благословению Серафима Саровского продал имение и отпустил на свободу крепостных. На вырученные от продажи средства он построил в Дивеево два храма, а также купил земельный участок под Троицкий собор будущего монастыря, где ныне почивают мощи преподобного Серафима.
Хотели Андрей с Леной немного поработать, да и распрощаться, а прожили десять дней. И дни эти они теперь вспоминают как одни из самых счастливых в своей жизни: такое ощущение острой радости, полноты бытия подарил им совместный труд и молитва в маленьком селе Нуче, в пристанище любимых чад преподобного Серафима.
А ведь не оставь они тот кошелёк с деньгами дома, на пианино, кто знает, не поторопились бы уехать домой сразу после службы? Дождались бы монахиню или нет? Может, усомнились бы в том, найдут ли они дорогу, так непонятно объяснённую? И не было бы этого подарка, этой милости — счастливых дней в Нуче... Вот и ещё властный и умелый взмах кисти Творца на полотне жизни...
Назад в Москву поехали — и бензин есть, и денег дали, и овощей полную машину нагрузили в подарок. И такая эта Нуча им потом родная стала, что даже долгое время вынашивали они планы совсем сюда из Москвы перебраться. А им тут уже и домик приготовили и даже корову Зорьку в подарок.
Но промысл Божий властно вмешался в их планы и привёл в Оптину. Свою первую поездку они не забыли и при первой возможности решили снова в Оптиной пустыни побывать. Приехали. А в монастыре праздник. Служба праздничная идёт, во всех углах храма отцы исповедуют народ. Скоро уж и причастие будет. У Лены спрашивают:
— А вы исповедались?
Лена никогда в жизни не исповедалась. И отвечает нерешительно:
— Так ведь праздник... А у меня грехов — уйма... Что ж я буду людям праздник-то портить?!
— Это у вас неправильные помыслы — от лукавого такое бывает.
— Как от лукавого?!
И бегом на исповедь. Вот на этой первой исповеди и познакомилась Лена с будущим духовным отцом, игуменом Н., тогда, двадцать лет назад, молодым иеромонахом. Он участливо слушал её неумелую, сбивчивую исповедь и качал головой. Потом сказал задумчиво:
— Как же так, совсем мира в душе нет... Нужно вам задержаться, помолиться ещё немного в Оптиной.
Как происходит встреча духовного чада с духовным отцом? Отчего её будущий духовный отец предложил ей задержаться, а множество предыдущих исповедников отпустил с миром? Отчего сердце его расположилось к будущему чаду, а сердечко Лены затрепетало, почувствовав наставника? Тайна духовная... Промысл Божий... В этот момент жизни Лене с Андреем очень был нужен наставник, и Господь им его дал.
Задержалась Лена в Оптиной. А дежурная гостиничная, видимо, перепутав неприметную паломницу с какой-то почётной гостьей, поселила её в лучшую келью. И послушания никакого не дала: молись да отдыхай. И вот Лена день ходит на службы и отдыхает, второй ходит и отдыхает, смотрит: все трудятся после службы-то. Послушание называется. А у неё нет никакого послушания. Очень ей захотелось потрудиться. Вот бы в храме поработать! Пошла к старшей по уборке храма на послушание проситься. А та, такая же новоначальная, на пол года постарше, только услышав просьбу, сразу же и отвечает:
— Ты чего это сама себе послушание выбираешь?! Это монастырь, здесь так нельзя! Смиряться нужно! Куда пошлют, туда и пойдёшь!
— Так у меня вообще никакого...
— Я тебе уже всё объяснила, разве ты не поняла?!
Лена отошла в сторонку и заплакала: у всех послушания, а она, видимо, недостойна... Стоит, плачет. Проходит мимо послушник и говорит ей тихонько:
— Сестра, вы не расстраивайтесь! Вот храм рядом! Сходите к преподобному Амвросию, всё расскажите, батюшка вам тут же и поможет!
Пошла Лена к мощам преподобного, а сама думает:
— Разве можно из-за таких пустяков святого беспокоить?
Всё же приложилась к мощам и тихонько рассказала обо всём.
Выходит из храма, возвращается в гостиницу, только в келью зашла, а за ней уже бегут:
— Лен, храм убирать нужно, а людей сегодня не хватает. Пойдёшь в храм на послушание?
С тех пор Лена уже сама о всех своих проблемах рассказывала преподобному. Вот как-то проголодалась сильно. До ужина далеко. Чай-то можно вскипятить, а к чаю — ничегошеньки...
— Батюшка, есть так хочется, а к чаю нет ничего!
Только отошла от мощей, слышит:
— Сестрица, вот пряники, угощайтесь, пожалуйста!
А то священник, который благословил её задержаться, пропал куда-то. Она его не всех службах высматривает—нет нигде. День нет, два, три...
— Батюшка, отец Амвросий, помоги мне найти отца Н.!
Вышла из храма —отец Н. навстречу... В лазарете лежал, только что отпустили.
Лена вспоминает свои первые шаги духовного младенца, как поток чудес, быстрых ответов на молитву, милость Божию:
— Как близко святые! Как быстро слышат они молитву! Приехала я из Оптиной домой. А у нас с Андреем был очень хороший друг, Михаил. Сколько раз он нас выручал! Такой парень золотой: и умный, и красивый, и добрый! Но вот случилась у него скорбь в жизни, и он запил. Да так запил, что очень быстро почти в бомжа превратился.
Лена с Андреем его пытались остановить, и навещали, и помогали, и уговаривали. Да у него новые друзья появились — собутыльники. И вот Лена встретила его, а он уже совсем дошёл, уже пьёт всякую гадость.
Пошла Лена в храм, только входит, а там икона большая архангела Михаила. Припала Лена к иконе, стала за друга молиться. Со слезами помолилась. Возвращается домой, и идут они с Андреем навестить Мишу. Заходят, а он с собутыльником. Сидят за столом, на столе бутылка спирта «Роял», тогда везде такой спирт продавали. И вот сидят они перед откупоренной бутылкой. И так её повернут, и эдак понюхают, а выпить не получается. Страх какой-то напал:
— Не, этот спирт нельзя пить, он палёный...
— Да какой палёный, мы с тобой такой сколько раз пили! Мы с тобой даже одеколон пили! И стеклоочиститель пили!
— Не, у меня прям сердце чует: эта бутылка палёная!
Так они вокруг неё кругами ходили и выпить не смогли. Три дня Миша не пил, а до этого его трезвым и не видели давно... Потом, правда, собутыльники опять споили.
Лена вздыхает:
— Если б я могла за него так каждый день молиться... Ая не смогла... Тяжело это—молиться за кого-то.
Но тогда я испытала на себе, как это —небо близко совсем. И Господь близко... И святые — они совсем рядом, всё слышат...
И вот появился у Лены с Андреем духовный отец. В Москве у них в это время начались тяжёлые испытания, скорби, о них Лена вспоминать не любит. В одном уверена: если бы не послал Господь своевременно духовника, то неизвестно, какой бедой всё могло закончиться... Атак с трудом, но держались. И стали они всё чаше в Оптину наезжать. А потом мечта у них появилась: совсем сюда перебраться. Своей мечтой поделились с духовным отцом.
Пошли они как-то после службы гулять по окрестностям. Идут: красота, тишина, сосны вековые шумят, река Жиздра на солнце играет, птицы поют... Выходят к посёлку, а там домики один другого краше. Стали Лена с Андреем загадывать:
— Вот бы хорошо в этом домике нам жить! Да... Лес рядом, река рядом, до Оптиной недалеко. А вот в этом доме — ещё бы лучше!
Выбирали-выбирали себе домик играючи — выбрали. Всем дом хорош! Вот в таком бы жить! Вздохнули—и обратно в Оптину пошли. Приходят, а навстречу отец духовный:
— Где вы ходите?! Я тут вам дом нашёл! Поедем смотреть!
И что вы думаете?! Приезжают, а это тот самый дом и есть! И купили они его мгновенно. Люди делились, сколько времени и сил на покупку и оформление документов обычно тратится, а Лена с Андреем за день обернулись! Сами удивляются: как это всё так удачно сложил ось-то?! Стали смотреть в календаре вечером, какой же праздник, кто из святых им так помог? Смотрят, а это праздник преподобного Тихона Калужского. Сам хозяин земли Калужской, видимо, п оходатайствовал...
Вот так и оказались Лена с Андреем в Оптиной. И живут здесь уже около двадцати лет...
— Лен, а не жалко с Москвой прощаться было? Вы же коренные москвичи, и квартира трёхкомнатная...
— Нет, нисколько не жалко! В Москву мы можем в любой момент поехать. Только Андрюшка шутит: машина у него прямо живая, всё понимает. Как в Москву поедем, а там пробки, суета, толкотня, так автомобиль пыхтит, кряхтит, заводиться не хочет. А уж из Москвы назад в Оптину тут же заведётся и радостно скорость набирает.
Вот такая история...
О чадах и пастырях
Эта история поразила меня не только явным и видимым проявления промысла Божия в жизни людей, но и тем, какую власть, какое знание о чадах даёт Господь духовным отцам, пастырям. Как приоткрывает им Свой замысел, позволяет чудесным образом подняться над ковром бытия и в переплетении дней и событий, красок и нитей, маленьких узелков и крупных узлов судьбы разглядеть властную руку Творца. И, уразумев замысел Художника, дать совет духовному чаду, указать правильный путь.
Главная героиня этой истории, Ольга, моя тёзка. Она уже немолода, но ещё полна сил. Энергичная, быстрая, трудолюбивая. Успешно трудилась в миру, вырастила сына, выучила, женила и, выйдя на пенсию, уехала в Оптину пустынь, где и трудится на послушании уже несколько лет.
Духовный отец Ольги — известный Оптинский духовник, игумен N. Новоначальные, особенно те из них, кто впервые оказался в Оптиной, поражаются: как опытные Оптинские духовники, особенно первого призыва, те, что приехали сюда в конце восьмидесятых, видят их помыслы, страсти, тайные грехи. Про отца N. шепчутся: «прозорливый».
Но в монастыре слово «прозорливость» не в ходу, о прозорливости здесь упоминают лишь по отношению к старцам Оптинский. А об опытных духовниках говорят: интуиция, пастырская интуиция. И вот Ольга, несколько раз столкнувшись с тем, что её духовный отец, кажется, знает о ней всё, даже о чём она сама ему и не рассказывала, как-то осмелилась спросить у батюшки про эту самую интуицию. Знала, что напрямую спрашивать нельзя, поэтому спросила уклончиво, как, дескать, получается, что вот некоторые чада и хотели бы что-то от духовных отцов скрыть, да не получается. Откуда, дескать, отцы узнают?
Игумен N. ответил: «Господь на сердце кладёт»... И этот ответ, такой краткий, приоткрывает на самом деле тайну духовную: Господь даёт пастырям особую благодать, открывает им многое про духовных чад.
А меня этот ответ поразил тем, что слышала я уже именно эти слова много лет назад. Дело было так. На исповеди в храме исповедалась я знакомому священнику. Был батюшка человеком пожилым и не слишком образованным, и меня, юную выпускницу университета, смущали его какие-то слишком простые слова, какие-то ошибки речевые. Прямо на исповеди батюшка стал что-то говорить мне, что-то советовать. А я слушала его совсем рассеянно и думала про себя: вот я университет окончила, два языка иностранных знаю, а уж книг перечитала сколько! И что может мне батюшка нового сказать, мне — такой умной и взрослой!
И Господь не посрамил Своего пастыря, а посрамил мою юношескую кичливость. Внезапно я насторожилась, а потом уже слушала, раскрыв рот: пожилой и малограмотный батюшка говорил мне такие мудрые слова, которые помню я до сих пор, до сих пор я ношу их в своём сердце. А ещё он назвал мне несколько забытых мною грехов. Видимо, заметив мои округлившиеся глаза, смиренный и кроткий пастырь сказал мне те самые слова:
— Деточка, ты не думай про меня ничего. Я самый обычный старый священник. Это не я сам тебе советы даю. Это Господь мне на сердце кладёт... А я —только орудие Его, слуга Его недостойный.
История, которую рассказала мне Ольга, как раз об этом: о пастырях и пасомых, и о том, как Господь кладёт на сердце отцам об их чадах.
Трудилась Ольга на послушании, как обычно, а в перерыве пришла к духовному отцу на исповедь. Он иногда отправлял её с какими-то поручениями в Москву, давал какие-то координаты, номера телефонов. А тут —ничего не даёт, ничего не поручает, а просто говорит ей:
— Поезжай прямо сейчас в Москву.
— А зачем, батюшка, я поеду в Москву?
— Тебе по дороге позвонят, вот и узнаешь.
Собралась Ольга быстро — и на автобус. Едет, вдруг сотовый звонит—сестра из Глазова:
— Оля, маме плохо. Не знаю, успеешь ли ты доехать... Срочно выезжай!
— А я уже еду!
Перезвонила отцу духовному:
— Батюшка, мне сестра сейчас звонила, вы этот звонок имели в виду?
— Да. Приедешь домой —читай маме Псалтирь.
Через сутки приехала Ольга в Глазов, а мама её, Анна, при смерти. Мама была слепая, ослепла давно, в семьдесят первом году. И перед смертью у неё, видимо, открылось духовное зрение, как бывает иногда у умирающих. Она Ольгу с сестрой не видит, а видит умерших родственников, разговариваете ними. И ешё всякие страсти-мордасти видит — когда духовный мир приоткрывается, неподготовленный человек пугается сильно. Вот и она от страха никого от себя не отпускает. Сама не спит, задремлет урывками, и опять не спит, и никому из родных четвёртые сутки спать не даёт.
Оля родным говорит:
— Вы все отдыхайте, а я с мамой останусь. Меня батюшка благословил ей Псалтирь читать.
Мама у неё была человеком невоцерковленным. Бабушки, те—да, в церковь ходили, а мама выросла уже при советской власти, когда все от веры отстали. Что такое Псалтирь, мама у неё не знала. Оля ей и говорит:
— Мамочка, ты спи себе спокойно, а я рядом сяду и буду тебе тихонько книгу читать.
И вот начала Оля Псалтирь читать, мама тут же уснула и спит себе крепко. Ольга всю ночь выдержала, видимо, благословение духовного отца помогло. Всю ночь она читала и даже не устала. А мама спокойно проспала до утра. Утром просыпается и спрашивает:
— Что же ты такое читала, доченька?! Как же мне хорошо было! Ты такую силу от меня отогнала!
Умерла мама у Оли на руках чуть ли не на следующий день. Хоронили её на святителя Николая Чудотворца — 19 декабря. Только с того времени Ольга переживала очень. Какое-то чувство вины появилось: вот приехала перед самой смертью и не поухаживала даже за мамой.
И как-то духовный отец говорит ей:
— Завтра у тебя новое послушание будет, поедешь и Козельск к старенькой монахине, поживёшь у неё и поухаживаешь за ней.
— А сколько ей лет, батюшка, как зовут её?
— Лет ей девяносто пять, и зовут её мать Анна.
— Как мою маму...
Приехала Ольга к Анне и прожила с ней четыре месяца, до самой смерти монахини. Они подружились, и мать Анна поведала Оле всю свою жизнь. А была эта жизнь долгой, нелёгкой, интересной. По ней можно изучать историю нашей страны.
Родилась Анна в благочестивой крестьянской семье. Дедушка её был молитвенником и даже удостоился явления ему Пресвятой Богородицы, о чём он никому не рассказывал и открылся только перед смертью. Маме Анны за благочестие и неустанную молитву Господь многое открывал.
Так, Анна запомнила материнские слова, обращённые к отцу, любителю выпить. Он заболел как-то тяжело и говорит: «Помираю...» На что мать ответила: «Нет, жаль мне тебя, но быстро ты не умрёшь: помучаешься ещё, за рюмочку-то нужно рассчитаться будет. А я вот умру быстро». Так и случилось. Отца парализовало, три года он лежал. Пить уже, конечно, не пил. Молился потихоньку. А вот мама простудилась и умерла очень быстро. В деревне не было ни лекарств, ни врачей, и помощь медицинская часто приходила слишком поздно.
Замуж Анна не вышла, тянула на себе всех домашних. В войну убили брата, надорвавшись, от тяжёлой работы, умерла его жена, и на руках у Анны остались пять иждивенцев: трое детей брата, парализованный отец и старенькая мама. Пошла девушка работать на лесоповал. Ростом маленькая, метр пятьдесят, худенькая, но работящая, выносливая. На лесоповале работали большей частью мужчины. Дали норму: пять кубометров в день. Это целый самосвал. Нужно было спилить дерево, отрубить сучья, распилить ствол на круглые чурки. Оплату давали продуктами, и учётчик записывал трудодни в свою учётную карточку.
Продуктов не хватало на большую семью, и Анна попросила увеличить её норму до восьми кубометров. Над ней смеялись—такая норма не каждому мужчине под силу. Но Анна молилась, и Господь помогал ей.
После работы она спешила в Благовещенский храм. Храм этот старинный, первый раз о нём упоминается в летописи Козельска в 1709 году. Анна хорошо знала историю родного храма, почитала всех подвижников, которые молились здесь. Особенно запомнилась ей история молчальника Тита. На меня эта история тоже произвела большое впечатление, не могу удержаться, чтобы не поделиться ею с вами, мои дорогие читатели.
Молчальник Тит, до сих пор чтимый в Козельске, подвизался в Благовещенском храме в девятнадцатом веке, первой его четверти. Он был нищим странником, ходил по святым местам, жил даже как отшельник в лесу. Потом, получив, видимо, какое-то тайное уведомление, пришёл в Благовещенский храм.
На расспросы прихожан отвечал только знаками как глухонемой. Отчего он пустился странствовать? Отчего дал обет молчания? Пережил ли он какую-то тяжёлую скорбь, удар судьбы или просто услышал зов Божий и откликнулся на него всем сердцем? Этого мы уже никогда не узнаем...
Как зовут его — стало известно, когда перебирали имена святых по алфавиту: утвердительный знак последовал за именем Тита. Молчальник стал помогать семье служившего в этом храме священника, отца Феодота. Гит выполнял всю чёрную работу: колол дрова, носил воду, помогал по хозяйству и оставлял работу только по звону колокола, возвещавшего о начале службы. В храме он молился в притворе, распростершись ниц, чуть поднимая голову от деревянного помоста.
Отец Феодот разрешил ему жить в церковной сторожке, где Тит-молчальник целыми ночами молился со слезами перед иконой святителя Николая Чудотворца. А если случалось ему недолго поспать, то спал на короткой и узкой деревянной лавке, используя вместо подушки кирпич.
Постепенно прихожане храма преисполнились почтения к жизни подвижника и стали приносить ему милостыню и вещи, которые он тут же раздавал пищим, оставляя себе деньги лишь на масло для неугасимой лампадки перед иконой Николая Чудотворца и на грошовую булку. Эта грошовая булка составляла всё его дневное пропитание.
К сторожке была пристроена небольшая комната, там поселился родитель отца Феодота, вдовый священник Иосиф. Отец Иосиф неоднократно просыпался ночью от звуков стройного, невыразимо приятного и умиляющего душу пения, а из-под двери, ведущей в соседнюю келью молчальника Тита, лился необычный свет. Когда же отец Иосиф подходил к двери, свет исчезал, умолкало пение, и, заглянув в келью, можно было увидеть только подвижника, молящегося перед иконой при свете лампадки. Отец Иосиф хранил всё в тайне, и рассказал о дивном пении и необычном сиянии лишь перед своей смертью сыну, отцу Феодоту.
Когда Тит-молчальник умирал, он позвал к себе отца Феодота, и тот, заранее подготовленный рассказом родителя, уже принял без удивления, но с благоговением исповедь подвижника, который отверз уста для покаяния перед смертью. Священник напутствовал умирающего причастием Святых Христовых Тайн и принял от него в дар икону Святителя Николая Чудотворца, свидетельницу неустанных молитв, ночных бдений, покаянных слёз.
В трудах и заботах летели годы, мать Анна состарилась, и теперь тоже нуждалась в заботе и уходе. Да и шутка ли сказать—до девяносто пяти лет сама себя обслуживала, не прося никого о помощи!
Когда Ольга пришла к ней в дом, работы хватало: нужно было готовить, стирать, убирать в избе, вычитывать матери Анне монашеское правило. Питалась старенькая монахиня очень скудно, и когда Ольга как-то раз приготовила ей рыбные котлеты, старушка обрадовалась этим котлетам как какому-то изысканному блюду.
С тех пор Оля старалась повкуснее накормить матушку, стряпала ей в утешение пироги. И та радовалась, но ела очень мало, как птичка. Старенькая, она просто не могла уже есть, да и жизнь нелёгкая приучила её всегда обходиться очень малым, какими-то крохами. Иногда откусит она кусочек пирога и вздохнёт:
— Слава Богу — наелась... А я вкусно-то никогда и не ела...
Оля слушала, и ей хотелось плакать. Сходила Ольга в собес, узнать, почему у матушки такая маленькая пенсия. Но там ответили, что Анна работала за трудодни, и большой пенсии не заслужила, как и большинство наших бабушек, переживших войну.
Работала Оля и в огороде, сажала лук, морковь. А мать Анна привыкла всю жизнь работать и утерпеть не может: кое-как выйдет из дома, сидеть уже сил нет, так она приляжет между грядками. Оля лук убирает, а старушка перебирает его тихонько и рассказывает что-нибудь из прошлой жизни. А то расскажет, как варенье сварить по старинному рецепту. Очень Оле эти рассказы нравились...
Постепенно мать Анна всё слабела и слабела. Перед кончиной она заболела, ничего не могла есть, часто впадала в бред. Врач сказал, что организм износился, и помощи медицинской оказать уже невозможно. Несколько раз приходил священник причастить больную. Оля поехала в Оптину к духовному отцу:
— Батюшка, мать Анна страдает...
Игумен N. подумал и ответил:
— Помолись перед иконой Божией Матери «Спо- рительница хлебов»...
Оля помолилась перед иконой, и через несколько дней, на праздник этой иконы, после причастия мать Анна мирно скончалась. Кончиной непостыдной, мирной, Божественных Тайн причастной...
Вот такая небольшая история была мне рассказана—кусочек полотна жизни, на которое наносит краски бытия Сам Творец Своей всесильной кистью.
Истории отца Валериана
Чужое послушание
Как-то отец Валериан загрустил: наскучило ему послушание келаря. Хлопотное, беспокойное. И хранение продуктов, и выдача их к трапезе, и заготовка—всё на твоих плечах. В подвале овощном холодно. На кухне жарко. Электричество иногда отключают — холодильник течёт. Глаз да глаз нужен... Следи, чтобы мыши крупу не съели, чтобы ничего не испортилось, чтобы по уставу продукты на трапезу выдать.
То ли дело на клиросе: поёшь себе, Бога славишь, то-то благодатно... Или вот в библиотеке монастырской: духовные книги можно читать, мудростью Святых Отцов обогащаться.
Но самое лёгкое—в монастырской лавке. Сидишь себе в тепле. Уютно, чисто, сухо. Читаешь себе книги или молишься. Когда ещё паломники приедут. А и приедут— икону купят или крестик там, записочки подадут, и опять можно молиться или читать в одиночестве. Благодать!
В лавке обычно нёс послушание отец Вассиан, монах добродушный, всегда приветливый и невозмутимый.
И отец Валериан думал: «Конечно, легко пребывать в ровном мирном устроении духа на таком-то спокойном послушании... Вот попробовал бы отец Вассиан келарем потрудиться... А то сиди себе в лавке, молись, книги духовные читай... Эх, вот достанется же кому-то такое полезное для души послушание!»
В помыслах своих отец Валериан на исповеди духовнику, игумену Савватию покаялся: унываю, дескать, тяжёлое, дескать, келаре кое послушание, одни хлопоты и заботы — суета.
А отец Савватий ему и говорит:
— Так отец Вассиан приболел как раз, давай, отец Валериан, замени его в лавке на пару дней. Ты про дукты дежурным трапезникам выдай вперёд, а сам — в лавку.
Обрадовался инок: хоть пару дней в тишине отдохнёт. Помолится, новинки книжные полистает. С утра книгу новую с собой про Афон взял. Только в лавке присел —паломники приехали.
Дама нарядная, на голове кудри золотые, косынка кисейная чуть на макушке держится:
— Мне крестик нужен!
Достал отец Валериан планшетку. А дама говорит:
— Покажите самый большой!
Достал другую планшетку с крестиками побольше.
— А еще больше есть? Вот как у него?
И в окно показывает. Отец Валериан выглянул: в это время мимо лавки шёл игумен Савватий с наперсным крестом.
Только отдышался отец Валериан после этой дамы, заходит мужчина в кожаном пальто:
— Дайте мне, пожалуйста, крест с усилением!
— А что это такое? — растерялся отец Валериан.
— Ну, понимаете, с усилением!
Из объяснений не было понятно решительно ничего. Это не был ни крест с мощами, ни освященный, никакой другой. Инок задумался, а потом решительно показал на самый дорогой и внушительный крестик и твёрдо произнёс:
— Вот самый усиленный крест!
Мужчина в кожаном пальто ушёл довольный, а отец Валериан расстроился. Только успокаиваться начал, а тут в дверях—опять дама с косынкой и с порога:
— Вы меня обсчитали! Сто рублей не сдали! Как не стыдно!
Покраснел отец Валериан, извинился, протянул даме сто рублей. Стала она их в карман класть, а там та самая сотня, которой она недосчиталась. Извинилась дама, упорхнула. Опять расстроился отец Валериан.
Да ещё мёрзнуть чего-то стал он в лавке. Вроде тепло, а когда на одном месте, то холодно. Чувствует: ноги совсем замёрзли на каменном полу. Встал, походил, включил обогреватель. Через пять минут выключил дут и о в маленькой лавке. Выключил — опять холодно стало... Как тут только отец Вассиан трудится? У него ещё валенки такие старые, наверное, ноги мёрзнут... Целый день на одном месте... И не отойдёшь ведь...
Только книгу про Афон достал —дверь открывается: в лавке появились новые паломники. Супружеская пара лет тридцати пяти. Жена сразу же церковные календари на 2013 год листать стала, а муж просто лениво вокруг смотрит. Вид у него такой скучающий, как будто на аркане его сюда привели. Жена тоненьким голоском просит:
— Давай купим несколько календарей на будущий год, один —себе, остальные на подарок!
А муж ей басом недовольным в ответ:
— В этом году —конец света! Зачем эти календари вообще продают, да ещё и в церковной лавке!
Отец Валериан решил вставить слово:
— Дорогие братья и сестры! Конец света в этом году отменяется!
— Откуда вы знаете? А ещё монах! Ничего не знаете, а ещё в лавке сидите!
— Пойдем, пойдем отсюда! — это жене.
С трудом дождавшись конца дня, отец Валериан брёл в келью. По дороге встретил игумена Савватия, который улыбнулся и спросил:
— Как, брат, передохнул в лавке-то от своего хлопотного келарского послушания?
Инок покраснел и смущённо попросил:
— Батюшка, сделай милость, отправь меня назад, к моим мешкам, овощам и крупам. Не могу я в лавке грудиться. Одни искушения!
— Ну что ж, вот отец Вассиан поправится... Вечером, после службы, отец Валериан отправился проведать отца Вассиана. Он шёл и горячо молился на ходу. В одной руке нёс пакет с апельсинами, а в другой свои новые валенки.
Про Винни Пуха и чудотворения
Послушник Пётр жил в монастыре второй год. Звали его по молодости просто Петей, и был он пареньком неплохим, отзывчивым, трудолюбивым. Только по новоначалию тянуло его на подвиги.
То он просил у отца Савватия благословения ходить на трапезу один раз в три дня, чтобы уж поститься, так поститься. По обычаю древних, значит. То к схимнику отцу Захарии обращался с вопросом: не взять ли ему на себя обет молчания или обет сухоядения.
Отцы обетов брать не благословляли, а отправляли Петю монастырскую лошадку Ягодку кормить или посуду после братской трапезы мыть. В общем, не было у послушника никаких условий для подвигов и чудес.
Но Петя не унывал, вспоминал крылатые слова о том, что в жизни всё-таки подвигу всегда место есть. К духовникам монастырским он больше с просьбами об обетах и сугубых постах не обращался, но зато стал часто с отцом Валерианом про чудотворения разговор заводить.
Отца Валериана эти разговоры настораживали. Он в монастыре давно жил и знал, что лучше недомолиться и недопоститься, чем перемолиться и перепоститься. И речь тут не о теплохладности идёт, которая, конечно, монаху крайне вредна. Речь о трезвении и рассуждении. Теплохладность —эта беда, которая новоначальных минует обычно. А вот в прелесть впасть —это да, это опасно...
И отец Валериан как бы невзначай по поводу Пети игумену Савватию говорил:
— Батюшка, а я у одной писательницы читал, как старец новоначальным благословлял книжку про Винни Пуха. Ну, когда они исихастов из себя воображали. Может, Петру нашему такую книжку...
— Это про какого такого Винни Пуха?!
— Ну, батюшка, ну Винни Пух, который везде с Пятачком ходил...
— Со свиньёй, что ли? Не, у нас в монастыре мы поросят не держим. Если я своим инокам про поросят книжки раздавать буду, кто навоз коровам уберёт? Кто лошадь накормит? Огород вскопает?
Отец Валериан засмущался и подальше от игуменского гнева на послушание заторопился. А отец Савватий ему вслед ещё добавил:
— Я вот вам устрою Винни Пуха! Я вам такого Пятачка покажу!
А когда инок скрылся за поворотом, духовник тут же гневаться перестал, улыбнулся по-отечески. Улыбнулся да призадумался. И после этого разговора Петю на послушания одного как-то перестали отправлять. Всё больше с братьями постарше. А чаще всего с отцом Валерианом.
И вот как-то отец Валериан с Петей поехали на монастырской лошадке Ягодке на источник за водой. Приехали на родник, который впадает в реку Усолку.
Солёная речка Усолка заледенела только по краям, в середине же проточная вода синеет. Отец Валериан воду во фляги набирает, а Петя по берегу бегает, резвится, природой любуется. Отец Валериан молится потихоньку про себя, а Петя его отвлекает:
— Отец Валериан, красота-то какая! Ёлочки в снегу, а снежок чистый, пушистый!
— Угу... чистый... пушистый...
— Отец Валериан, лёд на реке, эх, коньки бы!
— Ага... коньки...
— А вот у людей какая вера раньше была — по воде ходили!
— Да... ходили...
— А я-то как крепко верю! Неужто по льду не пройду?! Благословите!
— Угу... благословите... благословите... Что?!
А Петя уже на лёд выскочил и поперёк реки шпарит.
— Стой, куда?!
И в этот момент Петя, уже успевший отбежать довольно далеко, провалился в водную стихию. Отец Валериан быстро сбросил тулуп, тяжёлые валенки, по-пластунски прополз к полынье и с большим трудом, пятясь ползком назад, выволок на лёд и отбуксировал к берегу перепуганного насмерть послушника.
От пережитого потрясения ноги у Пети подгибались, и в монастырь он был доставлен верхом на Ягодке. Срочно отправлен в баню, которая так кстати топилась в этот день. А уж там отец Валериан задал ему жару и отходил веником, приговаривая:
— Я тебе покажу апостола Петра! Я тебе покажу чудотворения! Я тебе устрою хождения по водам! Ты у меня сейчас по сугробам будешь плясать и в снег не проваливаться!
Может, наука отца Валериана подействовала, может, испуг от неудавшегося чуда, только после этого случая Петя больше про чудотворения не заикался. Стал постепенно серьёзным, рассудительным, через несколько лет монашеский постриг принял. Сейчас он уже иеродиакон.
Ленитесь, братия, ленитесь!
Послушник Дионисий пробежал по заснеженной обители с колокольчиком: пришло время обеда. Открывались двери келий, иноки шли по свежевыпавшему снегу в трапезную, удивлялись на ходу:
— Снегу-то сколько выпало!
По пути вздыхали:
— Опять после трапезы всем придётся снег разгребать... И валит и валит... В городских монастырях, небось, трактора работают, машины снегоочистительные, а мы тут сами, не покладая рук...
Келарь, отец Валериан, высокий и широкоплечий, ворчал по дороге больше всех:
— Только отдохнуть хотел хоть часок, такую книгу про Афон дали почитать, а тут на тебе — опять отец настоятель всех погонит со стихией сражаться! Да уж... Покой нам только снится...
Старенький схиархимандрит Захария вышел раньше всех. Было ему уже девяносто лет, и передвигался он очень медленно. Поэтому и выходил в трапезную заранее, чтобы успеть к молитве. С трудом брёл по заметённой дороге, а иноки обгоняли старца, кланялись на ходу, просили благословения. И удивительное дело: те, кого он благословлял, шли дальше уже умиротворённые, без всякого ворчания.
Отец Валериан тоже догнал старца и удивился: отец Захария смотрел радостно по сторонам, как будто не в занесённом снегом отдалённом монастыре находился, а на каком-нибудь курорте. Наклонился, зачерпнул рукой сверкающий на солнце снег и замер счастливо, подняв голову к неяркому зимнему солнцу.
Отец Валериан, как и вся братия, очень почитал старого схимника, опытным путём знал силу его благословения, умиряющего душу. Но сегодня инока одолели недобрые помыслы:
— Конечно! Идёт себе — улыбается! Ему-то снег убирать не придётся! И игумен Савватий снег убирать не станет! И с клироса братия опять пойдёт на распевку. А отец Валериан, конечно, самый здоровый, самый незанятый—давай, отдувайся за всех! Греби снег лопатой, а он через час снова нападает! Снова убирай, а он снова! Скукотища!
И отец Валериан прошёл мимо, отвернувшись в сторону, не взял обычного благословения, не поклонился старцу. От этого внезапного раздражения на душе стало ещё тяжелее, и инок подошёл к трапезной уже совсем в плохом настроении, поникший. Он не заметил, как отец Захария с любовью проводил его взглядом и незаметно перекрестил его спину.
В трапезной братия встала на молитву, а игумен Савватий, внимательно оглядел всех и легонько кивнул головой отцу Валериану. Инок печально вздохнул: и тут попал, теперь, пока все будут обедать, ему придётся читать. Потом заново подогревать суп или есть холодный в одиночестве.
Братия застучала ложками, а инок подошёл к аналою и начал читать. Голос у него был громкий, звучный, читал он разборчиво. Только чтение сегодня никак не клеилось. На ровном месте ошибки получались, да ошибки какие-то несуразные. Так, в одном отрывке говорилось о священнике, которого вызвали к владыке. И вот у отца Валериана прочиталось:
— Он без проволочек направился в епископию.
Отец Савватий покашлял, и смущённый отец Валериан поправился:
— Он без проволочек направился в епископию.
Стал читать дальше и через несколько строк прочёл:
— ...И тогда сказал старец своё наставление ученикам «Ленитесь, братия, ленитесь!»
Стук ложек прекратился. Братия удивлённо подняла головы от тарелок. Игумен Савватий опустил ложку на стол и пронзительным взглядом, в котором можно было прочитать любовь и укор одновременно, пристально посмотрел на инока. И только отец Захария не удивился, а улыбнулся в бороду.
Отец Валериан смутился и попытался поправиться. Прочитал предложение снова. И снова у него вышло:
— Ленитесь, братия, ленитесь!
Послышались сдержанные покашливания — это братия пыталась удержаться от смеха. Отец Валериан покраснел, откашлялся и прочитал в третий раз:
— Ленитесь, братия, ленитесь!
Сам испугался и, будто вспомнив что-то, с отчаянием сказал:
— Отец Захария, прости меня! Батюшка, отец Савватий, прости меня! Братия, простите!
Братия затихла, отец Савватий выжидательно посмотрел на чтеца, а старенький схимник, улыбнувшись по-отечески, кивнул седой головой.
И отец Валериан наконец прочитал правильно:
— Тогда сказал старец своё наставление ученикам: «Ленитесь, братия, ленитесь! Так нельзя! На скуку жалуетесь... Скука унынию внука, а лености дочь. Чтобы отогнать её прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, тогда и скука пройдёт, и усердие придёт. А если к сему терпения и смирения прибавишь, то от многих зол себя избавишь».
Инок облегчённо вздохнул и продолжил чтение дальше. Снова негромко застучали ложки в тишине. В трапезной было уютно, в большой печке потрескивали дрова, а за окном всё шёл и шёл снег.
Как отец Валериан с осуждением боролся
После долгих зимних вьюг в монастырь пришла весна. Яркое солнце, мартовская капель, звонкое пение птиц — всё радует душу. Старенький схиархимандрит Захария на сугревке —на крылечке сидит, чётки перебирает, на солнышко жмурится. Братия дружно с крыш келий талый снег скидывает, дорожки песком посыпает.
Из трапезной уже доносится аромат грибного супа, скоро послушник Дионисий с колокольчиком побежит по обители, собирая иноков на трапезу. Хорошо!
Настроение у отца Валериана было радостное, он споро рыл канавку для отвода воды от храма и молился про себя, как и положено иноку. Обернулся на шум мотора и нахмурился: в монастырские ворота въезжал чёрный блестящий «мерседес». За рулём сидел Вениамин Петрович, давний гость и благодетель монастыря.
Высоченный, выше и крупнее даже самого отца Валериана, росту которого могли бы позавидовать баскетболисты, Вениамин Петрович выглядел настоящим богатырём. Только был он какой-то вечно хмурый, суровый. Маленькие глазки смотрели на окружающий мир невозмутимо и даже надменно. Впрочем, может, эта надменность только чудилась отцу Валериану?
И вот сейчас инок почувствовал, как тускнеет радостное настроение и проворчал про себя:
— Какие люди —и без охраны...
Отец Захария на крылечке привстал, улыбается этому Вениамину как родному, благословляет, спрашивает что-то тихонько. А тот басит в ответ важно на всю обитель:
— Да, отче, из Цюриха только что прилетел... Да, вот в монастырь заехал...
Поздоровавшись со старцем, Вениамин Петрович отправился в храм. Важно прошествовал мимо инока, легонько головой кивнул —поздоровался, значит. Отец Валериан поклонился в ответ и почувствовал, как растёт раздражение: зачем этот Вениамин сюда ездит? В братской трапезной толком не ест—то ли брезгует, то ли после дорогих мирских деликатесов простая монашеская пища не нравится. В храме стоит—толком не перекрестится, на братию сверху вниз смотрит.
Успешен, богат — чувствует себя, видимо, хозяином жизни... Ну летает по своим Цюрихам этот успешный и богатый бизнесмен, и пускай дальше летает, что он в обители-то забыл?
Ещё старец его привечает... Это уж и вообще загадка... Привечает явно не из-за денег: кроме нескольких икон, духовных книг да плетёнки под кроватью со сменной одеждой, у отца Захарии богатств отродясь не водилось. Да и помнил хорошо инок, как старец не благословил принимать крупное пожертвование на обитель от одного известного политика из области: не всякие деньги монастырю на пользу.
В чём тут загадка, и за какие-такие достоинства отец Захария и настоятель монастыря игумен Савватий привечают Вениамина Петровича?
Отец Валериан тряхнул головой и напомнил себе слова преподобного Амвросия Оптинского: «Знай себя и будет с тебя». Ну вот, только осуждения ему, иноку, и не хватало! Да ещё так мгновенно он впадает каждый раз в осуждение при виде этого бизнесмена! Стал усиленно молиться, чтобы прогнать дурные помыслы, и ещё быстрее заработал лопатой.
Но искушения, связанные с Вениамином Петровичем, на этом не закончились. Целый день этот самый Вениамин так и попадался на пути у инока.
На трапезе бизнесмена почему-то не было, зато, когда после обеда отец Валериан как келарь занимался подготовкой продуктов для дежурных трапезников на следующие несколько дней, тот появился и уселся за стол.
Послушник Дионисий, домывавший посуду, быстро поставил перед гостем тарелку грибного супа, положил на второе тушёную капусту, налил компот.
А Вениамин Петрович громко спрашивает:
— Брат Дионисий, рыбы нет? Так что-то рыбки хочется!
Отец Валериан даже перестал со своими крупами возиться, только что вслух не фыркнул: «Ишь, рыбки ему!» А Дионисий вежливо отвечает:
— Нет, Вениамин Петрович, сегодня рыбу не готовили.
Только он так сказал, как дверь в трапезную распахивается, заходит трудник Петр и вносит на чистом листе копчёного судака:
— Вениамин Петрович, тут ребята отцу Савватию рыбку приготовили, так он благословил вас угостить!
Бизнесмен снисходительно кивает и спокойно ест судака. Отец Валериан от удивления дар речи потерял. А тот доедает кусок рыбы и опять громко спрашивает:
— А пирожков нет? Сейчас пирожков бы!
Дионисий опять вежливо отвечает:
— Нет, Вениамин Петрович, не пекли пирогов сегодня.
Отец Валериан уже на дверь косится. И что выдумаете? Тут снова дверь открывается, и заходит послушник Пётр с тарелкой, полной пирожков:
— Мама приезжала, пирожки привезла! Одному не справиться —налетайте, братия! Вениамин Петрович, угощайтесь, пожалуйста!
И Вениамин Петрович не спеша, с удовольствием ест пирожки и компотом запивает.
Отец Валериан опешил. Думает про себя:
— Это что ещё за скатерь-самобранка в нашей обители?! Прямо по щучьему велению, по моему хотению... За какие-такие заслуги?!
В общем, сплошное искушение, а не Вениамин Петрович! Поел, встал, помолился, снисходительно кивнул братии и пошёл себе из трапезной.
Отец Валериан свои дела келарские закончил и в храм отправился в очередь Псалтирь читать. У него очередь как раз перед всенощной была. Читает он, значит, Псалтирь за свечным ящиком, а сам мыслями по древу растекается—всё ему бизнесмен представляется. Не выдержал инок такого искушения, прямо за ящиком на колени опустился:
— Господи, вразуми, избавь от искушения и осуждения!
Слышит: дверь открывается, а кто в храм заходит — из-за свечного ящика не видно. Только слышно: поступь тяжёлая. Прошёл человек вглубь храма.
Выглянул отец Валериан из-за ящика, а это опять Вениамин Петрович. Подошёл прямо к Казанской иконе Божией Материи на колени встал. Икона та непростая, она явилась людям на источнике в восемнадцатом веке, в обители почитается как чудотворная.
Отцу Валериану теперь из-за свечного ящика и показываться неудобно, как будто он специально прятался. Не знает, что и делать. Смотрит за гостем, наблюдает: чего это он по пустому храму разгуливает, не дожидаясь службы? С добрыми намерениями зашёл ли?
А бизнесмен самоуверенный стоит на коленях перед иконой и молчит. Молчит-молчит, а потом вдруг всхлипывает громко, как ребёнок. А в пустом храме всё далеко разносится. И слышит инок, как Вениамин Петрович молится со слезами и повторяет только:
— Матушка... Матушка... Пресвятая Богородица... Ты мне как мама родная! Прости меня дерзкого грешника... Недостойного милости Твоей... Ты знаешь, как я люблю Тебя, Матушка! Знаешь, что не помню я своих родителей... Один, совсем один на земле... Только на Тебя, на Твою милость уповаю и на Сыночка Твоего, Господа нашего! Матушка, а я вот подсветку для храма сделал, старался очень... Хорошо ведь с подсветкой будет... И отец Савватий благословил, разрешил мне пожертвовать на обитель... Прими, Матушка, в дар! Прими от меня, недостойного!
Отец Валериан густо покраснел и на цыпочках вышел из храма. Встал на дорожке, как будто он только в церковь войти собирается. Стоит, ждёт, когда можно вернуться будет, дальше Псалтирь читать. Стоит и чувствует—а он никогда сентиментальным не был,— как дыхание перехватило и слёзы близко. Искренняя молитва, от сердца идущая, она ведь касается и того, кто слышит её.
Смотрит инок: старец Захария к храму тихонечко бредёт. Он всегда заранее на службу и в трапезную выходит, чтобы не опаздывать. Подошёл старец, только глянул на инока и как будто всё понял о нём. Улыбнулся ласково. А потом говорит как бы сам с собой:
— Да... Вот уж служба скоро... Знаешь, отец Валериан, я иногда за собой замечаю... Часто я людей по внешнему виду оцениваю... Иногда думаю про человека: какой он самоуверенный да надменный... И за что его только привечают в обители... А Господь и Пресвятая Богородица зрят в самое сердце. Человек-то, может, к Пресвятой как ребёнок к родной матери приезжает... От души на монастырь жертвует... И Она его утешает—ласкает, как младенца по голове гладит... Да... А я в осуждение впал...
— Отец Захария, простите, помолитесь обо мне!
И старец улыбнулся, благословил инока и положил ему на голову свою большую тёплую руку.
Из храма вышел Вениамин Петрович, как обычно сдержанный, суровый. Почтительно поклонился отцу Захарии, легонько кивнул отцу Валериану. И в этом лёгком кивке не было надменности. Просто небольшой дружеский поклон. И отец Валериан тоже дружелюбно поклонился в ответ.
А обитель потихоньку оживала: распахивались двери келий, слышались голоса братии — все собирались на всенощную.
Розпрягайте, хлопци, коней!
В монастыре количество трудников менялось в зависимости от времени года. Летом трудников было больше: хорошо в тёплую пору на свежем воздухе поработать, в реке после послушания искупаться. А зимой трудников обычно оставалось меньше.
И вот как-то, дело к лету шло, и трудники уже заполнили всю монастырскую гостиницу, отец Савватий благословил келарю, отцу Валериану, трёх работников в помощь: перебрать картошку прошлогоднюю, почистить овощной подвал.
Заходит отец Валериан в келью монастырской гостиницы, а там как раз три трудника сидят, чаи гоняют.
— Отец Валериан, посиди с нами! Мы вот тут про национальные особенности спорим!
— Это как?
— Да вот, какая нация самая умная?
— Какая самая умная — это я не знаю, а вот самая хитрая —хохлы! Был у меня друг, парень отличный, но вот хи-и-трый!
Тут один трудник и говорит мрачно:
— Так-та-а-к! А я, между прочим, Беленко!
Второй угрюмо в разговор вступает:
— А я—Дмитриенко!
Поднимается третий, ростом под потолок:
— А я Самойленко! Вот и познако-о-мились!
Попятился отец Валериан к выходу.
— Отец Валериан, чего приходил-то?
— Да так я, мимо шёл...
Через полчаса игумен Савватий, проходя мимо трапезной, заглянул в подвал: там, в одиночестве, отец Валериан перебирал картошку и грустно пел:
— Розпрягайте, хлопщ, коней, та й лягайте спочивать...
Жареная картошка на зиму
Отец Валериан, кроме своего послушания келаря, занимался обычно и заготовкой на зиму: закатывал банки с огурцами и помидорами, выращенными заботливо в монастырской теплице. Помидоры во рту таяли, огурчики хрустящие в пост шли на ура. Братия утешалась, и самому отцу Валериану это послушание было по душе: читаешь себе молитву и с любовью баночки закатываешь — как будто немного лета с собой в зиму берёшь.
Вот и сегодня собирался инок закатать несколько банок на зиму. Горела лампадка перед иконами, на кухне и в трапезной было пусто, чисто и уютно. Отец Валериан не спеша, с молитвой, чистил лук и чеснок, помытые огурцы ждали своего часа, когда зазвонил старый телефон, стоящий на холодильнике. Игумен Савватий пробасил:
— Отец Валериан, ты как раз в трапезной, такое дело, нужно картошку на зиму пожарить. День-то сегодня постный. Ты прямо сейчас пожарь.
И трубку положил. Отец Валериан задумался. Огурцы на зиму солил, помидоры на зиму закатывал. Картошку на зиму не жарил... И при чём тут постный день?
Призадумался инок крепко. В трапезную забежал послушник Дионисий, протянул шланг, собрался воду качать в большой бак из колодца. Спросить или не спросить? У послушника спрашивать — годится ли иноку? Отец Валериан смирился и, смущаясь, спросил:
— Брат Дионисий, на зиму картошку нужно пожарить. Ты никогда не жарил? Как-то по-особенному нужно, наверное, жарить?
— Назиму? Да, я слышал, что приехал сегодня в гости Назим Иванович, наш старый благодетель, помнишь, помог нам с теплицей? А картошку... Отец Валериан, я не понял вопроса... Почему по-особенному?
Отец Валериан облегчённо вздохнул:
— Да так это я, брат Дионисий, просто вслух размышляю: картошку, дескать, надо Назиму Ивановичу пожарить...
И отец Валериан стал бодро чистить картошку.
Квасота!
Пришло время покоса, и вся монастырская братия целую неделю трудится в поле. Покос далеко от монастыря, и игумен Савватий каждый день привозит обед и целую флягу душистого, ароматного, холодного монастырского кваса. Эх, хорош квасок! Выпьешь кружку — кажется, сил прибавилось.
Неделя покоса заканчивается. Устала братия. На последний день полевых работ просят батюшку привезти «обычный обед». И вот приезжает игумен Савватий и привозит... окрошку на квасе и целую флягу кваса!
Всё это тут же было радостно съедено, выпито и признано необыкновенно вкусным. Возвращаясь с покоса, братия ещё долго шутила: квасная (классная) погода, квасная трапеза, а отца Вассиана, самого большого почитателя монастырского напитка, звали не иначе, как отец Квассиан. Вот такая квасота!
Отец Валериан, Петенька-здоровяк и умиление
«Скорей бы закончилась эта неприятная поездка!»— думал печальный отец Валериан, монастырский келарь. В окне автобуса очертания деревушек, лесов и полей сливались от сильного летнего ливня, крупные капли били в стекло и по крыше междугороднего автобуса. Можно было уютно подремать в мягком кресле, но дремать не давали — компания оказалась слишком беспокойная.
Отец Валериан отлучался из обители: ездил в областную стоматологическую поликлинику. Зуб вылечил, а на обратном пути угораздило его поторопиться и поехать не вечером на монастырской машине, а днём на паломническом автобусе. Встретился со знакомым экскурсоводом, который взял его на свободное место.
Экскурсовод епархиальной паломнической службы Николай Иванович, уже в годах, добрый и мягкий, рассказывал всегда интересно, выразительно, душеполезно. Только паломники в этот раз попались очень беспокойные. Слушали плохо, часто перебивали. Были ли они верующими вообще — чем дальше ехал автобус, тем больше сомневался в этом инок. Из громких разговоров неожиданных попутчиков он понял, что паломническую поездку оплатил их босс, решив устроить культурную программу для работников своей фирмы.
Николай Иванович говорил об истории обители — слушали невнимательно, стал рассказывать об отцах- исповедниках и о святынях обители — опять слушают без благоговения. И люди вроде бы образованные, интеллигентные, а о духовном — неинтересно им. На задних сидениях молодые мужчины часто посмеивались, потом пустили по рядам фляжки с коньяком. Шум и разговоры стали ещё громче и уже перекрывали голос экскурсовода, который всё старался вдохновить своих слушателей духовным рассказом.
Отец Валериан, наблюдая за паломниками, приезжающими в обитель, давно заметил, что некоторые имеют душу отзывчивую, легкодоступную действию благодати. Стоит начать говорить им о духовном — и сердце их отзывается, загорается, слёзы близко.
В других дух лишь тлеет, и много нужно усилий, чтобы высечь искру, зажечь духовный огонь, чтобы отозвался человек на действие благодати Божией. Так когда-то старец Нектарий Оптинский сказал, глядя на фотографию одного молодого человека: «Вижу присутствие духа» и благословил привезти его в Оптину.
Были и такие, в ком не находилось ни одной духовной искры. Они оставались безразлично-равнодушными даже там, где остальные плакали от умиления. Иногда же это равнодушие сменялось раздражением, и они злобно высмеивали растроганных, тех, кто плакал, тех, кто был способен на умиление. Были ли они безнадёжны или просто Господь не коснулся пока их сердца —этого отец Валериан не знал.
Он знал только, что мужество и умиление не противоречат друг другу.
Николай Иванович уже немного охрипший от мешавшего шума и возни начал рассказывать про святыню обители — икону Пресвятой Богородицы «Умиление». И тут его перебил насмешливый мужской бас:
— Простите, можно спросить: что такое это умиление? Я вот сколько живу, а никогда не понимал, что же это за умиление такое бывает?!
Николай Иванович растерялся. Он помолчал минуту, совершенно обескураженный вопросом: пускай неверующие, но русские же, не могут же они не знать такого простого слова «умиление»... И экскурсовод стал просто рассказывать дальше, а шум на задних сидениях усилился, и насмешливый бас стал ведущим, повествующим какую-то весёлую байку.
Отец Валериан обернулся и разглядел насмешника — мужчина лет тридцати пяти, здоровенный, лысый. Здоровяк прикладывался к фляжке, которая в его ручищах казалась напёрстком.
В душе поднималось возмущение. Иноку захотелось встать и навести порядок в автобусе, призвать к тишине, если уж собрались эти горе-паломники в святую обитель, но тут Николай Иванович добрался до конца своего рассказа и сел на переднее сидение, утирая вспотевший лоб. Он откидывал рукой седую прядь, и отец Валериан заметил, что рука экскурсовода немного дрожала.
Инок попытался успокоиться, обрести утраченный душевный мир. Умиление... А знал ли он сам, что такое умиление? Да. Он знал.
Хорошо помнил свою недавнюю поездку на Афон с игуменом Савватием. Они, пятеро русских иноков, тогда посетили в числе других обителей Иверский монастырь с его главной святыней — иконой Иверской Божией Матери. Лик Пречистой хранил след удара копьём иконоборцев. Из поражённого места хлынула кровь, и благочестивая вдова, в доме которой икона находилась, опустила святыню в море, чтобы спасти её.
Чудесная икона приплыла в столпе огненного света к берегу Афона, и инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин пошёл по воде и принял святыню. Сначала икону поставили в храме, но на следующий день она чудесным образом оказалась над вратами обители. Богородица явила Свою волю иноку Гавриилу во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. Поэтому святую икону назвали Портаитиссою, Вратарницей, и в акафисте Пресвятую Богородицу славят: «Радуйся, Благая Вратарнице, двери райские верным отверзающая!»
По преданию, перед концом света икона уйдёт из обители так же таинственно, как и пришла. Но пока святыня в монастыре, есть ещё время на покаяние.
Когда иноки приехали в Иверон, то зашли в пара- клис, небольшой храм слева от врат. В параклисе, немного в стороне от иконы, стоял греческий монах и тихо рассказывал двум паломникам о святыне. Иноки подошли к иконе, все пятеро встали на колени и стали читать акафист Божией Матери, каждый по икосу и кондаку по очереди.
Они стояли тогда на коленях перед иконой, и такое умиление появилось в сердце, что стало трудно дышать, на глаза сами навернулись слёзы. Первый инок начал читать, прочитал пару строк и не смог читать дальше —заплакал. Продолжил молитву второй инок, и через несколько слов у него тоже потекли слёзы. Потом заплакал третий, и через несколько минут они, все пятеро, крупные, высокие, бородатые русские монахи, как дети рыдали перед иконой Пречистой.
Такие немощные, грешные — и почувствовали Её Материнство. Каждый тогда осознал: ты Её сын, грешный, но сын. И Она тебя приняла, не отвергла — и это чудо Божие. Особое состояние, которое трудно передать словами. Невозможно просто так стоять перед Ней: изнемогаешь от Света, от Божией милости и таешь от благодати.
Трек прекратил рассказывать паломникам про икону, на цыпочках, с благоговением, осторожно посматривая на русских, вывел своих из паркалиса, чтобы не мешать. И они какое-то время просто стояли на коленях перед образом Пресвятой Богородицы и плакали, не в силах сдержать слёз от нахлынувшей благодати, обильно изливаемой святой иконой.
Потом утёрли слёзы, приложились с благоговением к святому образу и, притихшие, в умилении вышли из храма. Молча сели в машину и в полной тишине поехали к себе в монастырь. Духовное переживание было таким острым, таким сильным, что до конца пути они не сказали друг другу ни слова.
Да, отец Валериан знал, что такое умиление. Но как объяснить это здоровяку, который такого чувства никогда не испытывал? Расскажи ему про слёзы пятерых взрослых мужиков — как он отреагирует? Засмеётся? Будет насмехаться? А стоит ли такому вообще что-то рассказывать? Если его не прошибёшь ничем... Взять бы за грудки да тряхнуть как следует, ничего, что здоровяк... Он, отец Валериан, бывший мастер спорта по вольной борьбе, вполне с этой задачей справится...
Что-то мысли такие пошли — совсем для инока неподходящие... Злом на зло нельзя отвечать... Нужно помолиться за здоровяка. От души помолиться, чтобы открыл ему Господь, что такое благодать, что такое умиление. Отец Валериан сосредоточился, но молитва шла плохо, шум и смех на задних сидениях мешали, и он никак не мог справиться с чувством раздражения. А какая там молитва от души, когда никак не можешь с раздражением справиться?! Он боролся с навязчивым помыслом и продолжал молиться, но дело шло слишком туго.
Вот приедут в обитель, хорошо бы встретил весельчаков схиархимандрит отец Захария. А он, не смотри, что ростом невысокий, худенький и старенький—так обличить может—мало не покажется! Старец, конечно, давно гнев победил, но если вид разгневанного примет, если начнёт выговор делать—только держись! Пот прошибает, и колени подгибаются, потому как наставляет он не от себя, а как власть имеющий.
Автобус затормозил в нескольких метрах от монастыря. Ноги затекли, и отец Валериан с трудом встал. При виде родной обители, как всегда, радость, хоть и уезжал всего на день. Белоснежный красавец храм, родная келья, цветы и тишина монастыря, особенная тишина, благоговейная, намоленная. Мир душевных сил.
Зашли в монастырь, и, как мечтал отец Валериан, навстречу сам схиархимандрит Захария!
Только вместо гневного обличения старец руки широко развёл и восклицает ласково:
— Деточки мои! Деточки мои приехали!
Инок опешил. Если б знал старец, как они себя в автобусе вели, эти самые деточки! А старец не унимается, всех встречает так радостно, с такой любовью, как будто на самом деле — это его дети родные приехали. Любимые, долгожданные! Где-то пропадали, на чужой стороне —и вот нашлись наконец! Приехали!
— Деточки мои родненькие!
И каждого обнимает. А они опешили, а потом тоже начинают, как дети, радоваться. По одному к старцу подходят, вот уже очередь выстроилась, и каждый, как дитя малое, смотрит на старца с надеждой и любовью, как будто ребёнок маму потерял и вот—нашёл наконец.
Из трапезной вкусно пахнет, а они забыли, что голодные, про фляжки свои с коньяком дорогим забыли и тянутся к отцу Захарии. Отец Валериан стоит растерянный, наблюдает, ждёт: вот до здоровяка очередь дойдёт—уж его-то батюшка отчистит по полной программе.
Приняв благословение, паломники за Николаем Ивановичем к храму один за другим потянулись. Дошла, наконец, очередь до здоровяка. Он стоит, большой, лысый, насупленный, носком ботинка землю ковыряет. Л старец его ласковее всех обнимает, своей слабой ручкой до его высоченной лысины дотягивается, голову к себе притягивает и целует как сына родного:
— Петенька мой приехал! Наконец-то! Родной ты мой! Деточка моя!
И насмешливый здоровяк громко, неожиданно для всех и самого себя, всхлипывает и бережно старца в свои здоровенные объятия заключает:
— Батюшка! А как вы моё имя узнали?!
— Да я же тебя заждался, Петенька, ты уж лет пять назад должен был приехать-то, а видишь, как припозднился! Хватил горя, обманули, предали—думал: жизнь закончилась?! Нет, сынок, она у нас с тобой только ещё начинается!
И видит отец Валериан, что здоровый Петенька плачет как ребёнок, уткнувшись в плечо старца.
Отец келарь смущённо отвернулся и отправился в трапезную к дежурным трапезникам насчёт обеда гостям обители распорядиться.
А на вечерней службе группа паломников вела себя тихо и благоговейно. Здоровяк тоже стоял тихий- тихий, и вид у него был совсем другой, не такой как в автобусе—серьёзный, печальный, растроганный. Николай Иванович молился рядом с отцом Валерианом, и после отпуста, здоровяк подошёл к ним. Он стоял молча, нерешительно перетаптываясь с ноги на ногу, и Николай Иванович спросил первый:
— Всё в порядке, Пётр Викторович?
— Николай Иванович, простите меня, пожалуйста. Я хотел извиниться за свой вопрос.
— Хорошо. Теперь вы знаете, что такое умиление?
— Знаю.
Раздражительный Виталька
В монастыре только что закончилась трапеза. На кухне было светло и уютно, горела лампадка перед иконами, солнечный луч играл на свежевымытой посуде. Вкусно пахло: на плите стояли накрытые полотенцем пироги с капустой и в большой жёлтой кастрюле наваристый грибной суп для иноков, которые ещё не вернулись с полевых работ. Послушник Дионисий сноровисто протирал насухо чашки, а келарь отец Валериан проверял припасы, готовил продукты дежурным трапезникам на следующий день.
В пустой трапезной за длинным столом сидел Виталька, слушал валаамские песнопения. Отец Валериан заглянул в трапезную: не закончились ли салфетки на столах? Спросил у Витальки:
— Наелся, брат Виталий?
Виталька что-то буркнул сердито себе под нос.
— Чего ты там бормочешь? Не наелся, что ли? Уж не пельменей ли тебе опять захотелось? — встревожился отец Валериан.
Подошёл поближе: Виталька сосредоточенно рисовал. Карандаш он держал криво, по бумаге водил им со скрипом, однако рисунки получались вполне понятные.
Когда-то глухонемого Витальку, малыша лет пяти, подкинули в храм. Настоятель, отец Николай, приютил ребёнка, воспитал как сына. Выяснил, что ребёнок совсем и не глухонемой, а просто почти глухой. Трудно научиться говорить, когда ничего не слышишь. Отец Николай приобрёл Витальке слуховой аппарат, учил говорить.
После смерти старого священника подросток жил при храме, но новым настоятелям стал не нужен, и Витальку подобрал, привёз в монастырь игумен Савватий.
При монастыре паренёк вырос, стал взрослым, но говорил по-прежнему совсем плохо, вёл себя простовато. Однако братия прислушивалась к его смешному бормотанию, потому как опытным путём удостоверилась: Виталька просто так ничего не говорит.
Одно время Виталька начал рисовать автобусы. Вот рисует сплошные автобусы — и всё тут... А нужно сказать, что монастырь находился в глуши, был бедным, и паломники сюда приезжали редко. Автобусы тоже были редкостью, и братия недоумевала: отчего так старательно вырисовывает Виталька огромные автобусы.
Прошло совсем немного времени, и кому-то из паломников так понравилось в монастыре, что рассказал он друзьям, те —своим друзьям. А, может быть, просто время пришло, и созрела братия, могла помощь духовную оказать паломникам. Может, Пресвятая Богородица так распорядилась — в Её честь обитель освящена. В общем, отчего неведомо, но в монастырь потянулись бесчисленные автобусы с паломниками.
А потом Виталька ни с того, ни с сего жениться захотел:
— Хочу я жениться! Так жениться хочу! Вот бы жену мне найти!
— Какую-такую жену, брат Виталий, ты ведь, хоть и не в постриге, а живёшь-то — в монастыре! Зачем тебе жена?!
Посмеивалась братия над смешным Виталькой, посмеивалась, а потом, глядь — два инока в мир ушли и женились.
Игумен Савватий как-то делился со старшей братией: лет десять назад, рано утром, перед Литургией, подошёл к нему Виталька, весь серьёзный такой, как будто должен что-то очень важное поведать. Отец Савватий сначала отмахнуться хотел: некогда перед Литургией праздные беседы вести. Но Виталька отмахнуться от него не позволил, обычно добродушный и кроткий, повёл себя как грозный начальник. Из его слов стало понятно, что было блаженному какое-то духовное видение и ему необходимо об этом видении рассказать.
Отец Савватий отвёл парнишку в сторонку, и из его непривычно разборчивой и серьёзной речи понял, что приоткрыто Витальке что-то из будущего: он рассказал о будущем настоятельстве отца Ксенофонта. О том, что будет сам отец Савватий духовником и строителем обители, и какие именно постройки он построит в монастыре.
Рассказал ещё кое-что утешительное, о чём пока игумен Савватий братии не поведал. А в конце своей на редкость вразумительной речи стал игумена благословлять. Отец Савватий, удивившись, отстраниться хотел, а потом смирился и принял благословение. И когда он смиренно стоял в полупоклоне перед блаженным, почувствовал, как сверху вниз пошла теплота благодати, которая охватила всё тело.
А Виталька, благословив, сделался прежним: смешным и дурашливым, как будто он выполнил важную миссию и освободился от порученного. Стал снова что-то неразборчиво бормотать.
Спустя десять лет почти всё, рассказанное блаженным, сбылось.
Вот по этим всем причинам и смотрел отец Валериан с тревогой на рисунок Витальки. А на рисунке — туча грозовая, молния стрелами на весь лист раскатывается. Задумался отец келарь: братия в поле, не гроза ли надвигается?
— Виталь, как думаешь, погода ясная долго простоит?
Из раздражённого бормотания в ответ понять можно было только одно: Виталька сердится и к нему лучше не приставать.
— Какой ты раздражительный стал, брат Виталий... И ответить толком не можешь...
Настроение у инока понизилось. А тут с кухни — звон разбитой посуды. Заходит — Дионисий опять чашку разбил. Отец келарь вспылил:
— Брат Дионисий, на тебя чашек не напасёшься!
— Простите, отец Валериан!
— Что простите, что простите! Ты с посудой просто поаккуратней! Я тебе что, фабрика посудная, что ли?!
Отец Валериан, ещё не остыв, вышел из трапезной. Прямо у двери стоял высокий хмурый мужчина и строго смотрел на выходившего:
— Дайте, пожалуйста, веник!
— Какой веник, зачем, простите?—растерялся отец Валериан.
— Ну, вот же на двери — объявление: «При входе обметайте ноги веником». Где веник-то у вас?!
— Для зимы это объявление, для зимы! Для снежной зимы! — рассердился инок.
— Так зимой и вешайте!
— Зимой и повесил! — отец Валериан стал срывать своё же объявление, но листок не поддавался. Пришлось срывать по частям, ловить разлетевшиеся от ветра клочки... До чего народ непонятливый пошёл! Просто занудный какой-то народ!
Паломник засмущался, тихонько в дверь проскользнул.
Только инок отправился в келью передохнуть минутку перед тем, как в храм идти, в очередь Псалтирь читать — навстречу послушник Тимофей:
— Отец Валериан, коровы опять убежали! Помогите, а то отец благочинный... Ну вы же знаете...
Нужно вам сказать, что коровы в монастыре были непростые, а с характером. Старенький схимонах, отец Феодор, называл их нравными. А иногда ворчал:
— Я в детстве коров пас, но таких коров, как у нас в монастыре, никогда не видел. Все коровы как коровы, а у нас они какие-то спортивные... Всё бы им убежать куда-то от пастухов. Только отвернёшься, а они —уже побежали... Так и бегают, так и бегают... Спортсменки какие-то, а не коровы!
Тимофей улыбался в ответ и отвечал отцу Феодору:
— А зато они очень вкусное молоко дают! И творог со сметаной у нас отменные! Отец Валериан вон сырники готовил, так гости говорили, что нигде такой вкуснятины не пробовали! Просто у нас коровы — весёлые!
И отец Феодор успокаивался и только головой качал в ответ:
— Придумает же: весёлые коровы...
И вот эти весёлые коровы второй день подряд убегали. Мучительницы какие-то, а не коровы! И сам Тимофей—засоня! Ходит вечно, носом клюёт! У такого и черепахи бы убежали! Отец Валериан здорово рассердился. Начал выговаривать с раздражением:
— Опять убежали?! Они у тебя только вчера убегали! Издеваешься, что ли?! Ты чего там в поле делаешь?! Спишь, что ли?! Или землянику трескаешь с утра до вечера?!
— Отец Валериан...
— Что, отец Валериан, отец Валериан! Я что, сам не знаю, как меня зовут?! Тебе послушание дали, а ты ходишь как муха сонная! Бери мальчишек, Саньку с Ромой, ищите! Я, что ли, вам искать пойду?! Отец Валериан туда, отец Валериан сюда!
Тимофей заспешил в келью, где жили мальчишки, проводившие в монастыре каникулы. А отец Валериан зашёл к себе, брякнул дверью, присел на табурет у стола. В келье горела лампадка, в углу—любимые иконы. Вот это денёк! Сговорились они, что ли?! А началось всё с Витальки! Инок задумался.
Вспомнил, как учил старец, отец Захария, видеть свои собственные грехи. Как? А просто очень: видишь брата, который гневается, покайся: Господи, это ведь я такой гневливый! Видишь эгоистичного — Господи, это ведь я такой эгоист! Видишь жадного — Господи, помилуй, это я сам такой жадный!
Старец учил самоукорению, и такие его простые слова глубоко западали в душу, потому что шли они не от ума, а от личного опыта. Пользу можно и от блаженного получить, и от любого человека, если жить внимательно, если вести жизнь духовную. Да... В теории-то всё знаешь, а вот до практики дело дойдёт... Правильно говаривал преподобный Амвросий Оптинский: «Теория — придворная дама, а практика — медведь в лесу»...
Отец Валериан посидел молча перед иконами, потом быстро встал и вышел из кельи. Пошёл первым делом в трапезную. Дионисий всё ещё был там, чистил картошку.
— Брат Дионисий, прости меня! Ничего страшного, привезу я ещё в монастырь чашек! Куплю других— небьющихся, ты уронишь, а она и не разобьётся!
Дионисий заулыбался, приободрился. Отец Валериан улыбнулся послушнику:
— А где тут паломник ходил?
— Да я ему вот супа налил. А пирога нет больше, доели.
Отец Валериан достал из холодильника банку огурцов с помидорами — вкусная засолка, сам солил, открыл банку грибов, опята —один к одному:
— Положи брату, пусть утешается.
Вышел из трапезной —навстречу послушник Тимофей с мальчишками, голову в плечи втягивает, жмурится—стыдно ему. Отец Валериан сказал примирительно:
— Ладно, пошли все вместе на поле.
А когда вышли за стены монастыря, сказал тихо:
— Давайте помолимся. Споём «Символ веры»... Сильная молитва! Брат Тимофей, запевай!
И Тимофей своим густым басом, совсем неожиданным для его юного возраста, начал молитву. Санька с Ромой подхватили тоненько. Присоединился и сам отец Валериан. Молитва понеслась над лесами и полями. Закончили, постояли немного. Подождали. Коров нигде не было.
— Да, братия... Вот если бы отец Савватий помолился... Или отец Захария... А мы, что ж... Видно, это дело надолго затянется... Пойдём-ка, дам бутербродов с собой — и отправитесь искать. Я вас только провожу—мне скоро Псалтирь читать.
Пошли к монастырским воротам, войти не успели: за спиной раздалось протяжное мычание —все пять монастырских спортивных коров догоняли своих пастухов.
Отец Валериан зашёл в трапезную, подошёл к Витальке, заглянул через плечо: на рисунке блаженного тянулись во все стороны листа солнечные лучи, освещали поле, лес, церковь на горе. Отец Валериан вздохнул с облегчением и пошёл в храм: пора было читать Псалтирь.
Как отец Валериан участвовал в похищении старушки
«Областное МЧС сообщает: сильный снег, метель и плохая видимость ожидаются на территории всей области» — помехи перебивали внушительный голос из динамика, делали его хриплым, как будто человек не сидел в тёплой студии, а дрожал на стылом ветру, заносимый огромными хлопьями снега —такими же, что носились вокруг машины отца Валериана.
— Что происходит на свете?—А просто зима,—сам себя спросил и сам же ответил отец Валериан. Пел он довольно фальшиво и на клирос его никогда не ставили.
— Что же за всем этим будет? — А будет январь. — Будет январь, вы читаете? —Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю, этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
Дорога впереди и позади быстро становилась белой и неразличимой—вне времени и пространства, а в душе росла неясная тревога. Она появилась ещё утром, но была совсем крошечной, легко пряталась — стоило блеснуть яркому солнечному лучу по прекрасным белоснежным сугробам, стоило вдохнуть свежайший, чуть сладкий морозный воздух и радостно повторить:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит!
Да, сначала всё было спокойно и обычно: рано утром отец Валериан зашёл к игумену Савватию и взял благословение на заранее запланированную поездку в областной центр —ему, как келарю монастыря, нужно было купить продукты к Рождеству да кое-какие подарки для братии. Окна монастырских келий ещё только загорались жёлтыми огоньками, в храме и трапезной растапливали печи, готовясь к утренней службе и трапезе.
Отец Валериан зашёл в тёплую и светлую трапезную, где дежурные сноровисто чистили картошку, быстро закрыл за собой дверь, так что клубы морозного воздуха лишь воровато лизнули порог, поставил чайник, достал из холодильника пару пирожков с капустой, оставшихся от вчерашней трапезы: дорога дальняя, нужно выпить горячего чаю. Чайник закипел быстро и бодро — сейчас я тебя, отче, попотчую, согрею душу, пирожки зашипели на сковородке золотистыми боками, запахли вкусно, перебивая запах берёзовых дров. Отец Валериан помолился, присел в пустом зале: тихо, уютно, тепло.
И вот тут-то дверь трапезной распахнулась широко, и клубы морозного дыма завихрились по-хозяйски, занося в тепло целые снежные пригоршни.
— Виталька, закрывай двери — холодно!
Виталька зашёл наконец, дверь прикрыл, подошёл к отцу Валериану и тревожно забормотал что-то. Был Виталька сильно глуховат и говорил тоже плохо, но в обители к его бормотанью всегда прислушивались: слишком часто сбывались его слова, иногда по первому впечатлению и совсем нелепые.
— Виталь, ты помедленнее, пожалуйста... Не понял... Что-что? Какая старушка?! Кто украл?! Сейчас хочет украсть?!
Из всей длинной речи крайне обеспокоенного Витальки можно было понять только одно: кто-то прямо сейчас похищает старушку и ему, отцу Валериану, необходимо помочь этому странному похитителю.
— Кошмар! Брат Виталий, я тороплюсь в дорогу, пожалуйста, не мешай мне, а? Не надо про похищения, тем паче старушек, а?
А тревога начала развивать свой клубочек, липко расползаться где-то в животе.
Виталька не отставал. Пришлось задержаться на лишние пятнадцать минут, идти с беспокойным пареньком к отцу схиархимандриту Захарии, который один хорошо понимал блаженного.
Отец Захария был человеком в обители уважаемым. Старенький, аж 1923 года рождения, он всю жизнь посвятил Богу: служил дьяконом, иереем, потом протоиереем. Помнил годы гонений на Церковь, времена, когда в спину ему и его молоденькой матушке кидали камни и грязь. А детишек его в школе дразнили и преследовали за отказ быть пионерами и комсомольцами, даже избивали, как сыновей врага народа.
Был арестован в 1950-м и осуждён за «антисоветскую агитацию» на семь лет строгого режима. После его ареста матушка осталась одна с детьми, мыкалась, бедная, пытаясь прокормить малышей, и надорвалась, заболела туберкулёзом. Вернувшийся из лагеря батюшка застал жену угасающей как свеча.
После её смерти он в одиночку вырастил троих сыновей и дочку. Сыновья пошли по стопам отца и уже много лет служили на приходах, имея сами взрослых детей и внуков, а дочь выбрала монашескую стезю и подвизалась в женской обители. Стареющий протоиерей принял монашеский постриг и тоже поселился в монастыре. Лет десять он был братским духовником, но ослабел, принял схиму и теперь только молился.
Братия очень почитала старого схимника. Отец Захария мог и приструнить, и прикрикнуть на виноватого, но зато, когда он, благословляя, клал свою большую тёплую ладонь на твою голову, казалось, что вот она, награда, другой и не нужно,—так тепло становилось на душе, такой мир и покой воцарялись в сердце.
Отец Валериан стукнул трижды в дверь:
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!
Старец отозвался бодро, несмотря на ранний час — спал ли он вообще? На его топчане, заваленном книгами, спать можно было разве что сидя... Вышел—старенький, седой, благословил, и от его большой доброй ладони стало так тепло на душе и тревога пугливо спряталась, свернулась в клубочек.
Отец Захария выслушал внимательно бормотанье Витальки, погладил его по голове, и блаженный успокоился, затих от почти материнской ласки, успокоенный, пошёл к себе.
— Батюшка, отец Захария, я ничего не понял, что Виталька говорил: про старушку какую-то, будто её своровать хотят.
— Поезжай, сынок, Ангела Хранителя тебе в дорогу! А когда будешь возвращаться, то не сворачивай сразу к монастырю, не теряй времени. Поедешь по трассе мимо монастыря к деревне Никифорово — понял? Да телефон-то свой не отключай, жди звонка. Тебе позвонят и всё объяснят.
— Батюшка, да зачем же мне в Никифорово-то? Мне бы засветло в монастырь вернуться! — взмолился отец Валериан.
— Всё, с Богом! —старец был не любитель длинных объяснений и напутствий, предпочитая разъяснениям — молитву.
В областном центре сверкали навязчивыми огнями рекламные щиты, гремела лихая музыка, мелькали лица, часто пьяные — мужские, сильно накрашенные — женские, и отец Валериан быстро устал. Заскучал по родной обители: белоснежные поля и тихие леса, на горе красавец храм, родная келья, и — тишина монастыря, особенная тишина — благоговейная, намоленная.
Быстро закупил всё намеченное и, вздохнув с облегчением, заторопился в обратный путь. Недалеко от обители его застигла сильная метель, и вот тут-то тревога снова проснулась, из маленького клубочка развернулась широко и привольно: что там отец Захария говорил? Не сворачивать к монастырю, ехать по трассе дальше в Никифорово?
С трудом преодолел желание ослушаться старца, свернуть к родной обители, прорваться к ней, как к убежищу, сквозь метель и вьюгу — имже образом желает елень на источники водныя. Сбавил скорость, проехал мимо — к Никифорово, достал сотовый — и телефон не заставил себя долго ждать, забасил голосом отца Савватия:
— Отец Валериан, ты где сейчас едешь? Нужно заехать в Никифорово, к автобусной остановке, там — девочка с бабушкой стоят, замерзают. Девочка нам в монастырь только что позвонила, утверждает, что украла свою бабушку, нужна помощь. Слышно её плохо, непонятно. Разберись давай, в чём там дело!
Телефон отключился. Отец Валериан притормозил у обочины. Крепко задумался. Вот это номер! Девочка отцу Савватию только что звонила, а выходит, Виталька с утра всё это знал! Знал и каким-то чудесным образом отцу Захарии объяснил! А тот —про будущий звонок игумена Савватия, выходит, всё знал... Да уж... С нашей братией—да не соскучишься! Эх, се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе!
Девочка тоже хороша — бабушку она, видите ли, украла! У кого она её украла?! Зачем?! Дожили —бабушек воруют! Кошмар! На носу Рождество — и на тебе — езжай, отец Валериан, разбирайся с похищенными старушками и сумасшедшими девочками! Стоп, пока я тут рассуждаю, думу думаю, замёрзнут на самом деле обе!
Инок быстро завёл машину и сквозь пелену метели поспешил в Никифорово, где на несколько минут обычно останавливался транзитный автобус из областного центра в районный.
По краям дороги замелькали занесённые снегом дома, только дымок из труб указывал на наличие здесь жизни. Пустая остановка. Отец Валериан затормозил — никого нет, ни бабушки, ни девочки! Вышел из машины —навстречу шевельнулось белое, непонятное, облепленное снегом, ещё немного —и два снеговика готовы! Засуетился, стал отряхивать, сажать в машину — не поймёшь, где бабушка, где девочка — две маленькие фигурки, одна меньше другой.
В машине было тепло, уютно и фигурки отдышались на заднем сидении, откинули шали и платки и превратились в девочку-школьницу и маленькую-маленькую очень старую старушку. Лет девяносто — не меньше. Как она вообще в путь пустилась? Старушка сидела, откинувшись головой назад, и отец Валериан испугался — не умрёт ли она прямо сейчас, не доехав до монастыря? Достал термос, напоил чаем — оживились, задвигались, старушка перестала умирать и ласково назвала сынком.
Девочка серьёзно представилась: Анастасия, Настя, и отец Валериан увидел, что никакая она не школьница—взрослая уже девушка, студентка, может быть. Бабушку она называла баба Нюша. Отец Валериан задумался: Нюша —это Анна, наверное? Настя сильно беспокоилась, нервничала и, пока ехали, с одобрения бабы Нюшы рассказала о том, как они оказались здесь на заснеженной пустой остановке.
Бабушка жила в двухкомнатной квартире в центре города, а Настя с мамой в своей квартире в соседнем микрорайоне. Мама-метеоролог без конца уезжала на север, и Настя чаще бывала у бабушки, чем дома. Жили они душа в душу, вместе сочинения писали по литературе, вместе ходили в храм, вместе ёлку украшали к Рождеству. Иногда садились в автобус паломнической епархиальной службы и ездили по святым местам, несколько раз побывали и в обители, где подвизался отец Валериан. Позже Настя училась в университете, а бабушка всё сдавала, слабела, но бодрилась. В общем, им было очень хорошо вместе —бабушке и Насте, и казалось, что так хорошо им будет всегда-всегда.
Внезапно всё в их жизни переменилось. В этом же городе жил сын бабушки, дядя Витя, со своей семьёй. Настя и баба Нюша с ними почти не общались по причине сильной занятости дяди Вити-бизнесмена и полного отсутствия желания общаться со стороны остальных членов его семьи. Да и интересы у них сильно отличались. Жена дяди в основном занималась своей внешностью, часто ездила за границу. Их дочь Регина, двоюродная сестра Насти, заходила к бабушке тоже редко. Она любила тусовки и часто меняла имидж: то называла себя эмо, поясняя, что это такая молодёжная субкультура, а она как раз самая молодёжь и есть, что ей, в церковь таскаться, что ли, в платке, как Настьке; носила рваную чёлку до кончика носа, прикрывавшую один глаз, как у пирата, и узкую футболку с надписью «Вгокеп Исай», то открывала для себя и окружающих, что она не эмо, а гот, и как-то, заявившись в гости в чёрном одеянии, бледная от белой пудры, с чёрными от подводки глазами, булавкой в виде летучей мыши в носу и накладными клыками, сильно испугала бабу Нюшу. Потом Регина, выросла, забыла об эмо и готах,
вышла замуж, родила, и молодая семья стала нуждаться в жилплощади.
Как-то Настя вернулась с занятий и обнаружила, что в квартире бабушки — большие перемены. Регина с ребёнком на руках командовала расстановкой новой мебели, кровать бабушки была задвинута в дальний угол, а вещи Насти —у порога, хорошо, на улицу не вынесли. Регина пулемётной очередью застрочила:
— Ну ты же понимаешь, у меня ребёнок, муж, да и за бабушкой уход нужен. Тебе не до неё с твоими университетами и сессиями, и квартира у тебя своя есть. Ты Настя одна в целой квартире, а мы там впятером с родителями. Справедливость-то должна быть, заходи в гости, мы тебе всегда рады. Родственники близкие как-никак. Пока, сестрёнка, сейчас не до тебя, приходи на Новый год, вместе встретим. Платончик, улыбнись тётке Насте. Это твоя тётка, скажи: «Пока-пока, тётя Настя!».
Сначала Настю ещё пускали к бабушке, а потом перестали:
— Чего ты всё ходишь, инфекции разносишь, у нас ребёнок маленький. Какой храм, какие священники? Попы на «мерседесах», что ли ?! Причастие, исповедь, соборование — слова-то как из пыльного архива выкопала. На квартиру заришься, так и скажи, бессовестная ты, Настька, одной квартиры тебе мало, ещё на бабкину глаз положила свой хитрый. Знаем мы, что у тебя на уме завещание на квартиру, вот что ты на самом деле хочешь!
А бабушка всё старела, уже почти не вставала и очень хотела перед смертью исповедаться и причаститься, в общем, желала христианской кончины непостыдной, мирной. Но было уже понятно, что не получится у неё такой кончины: и священника не позовут, и причаститься не позволят, и отпевать не станут. И, когда на Новый год Регина с мужем назвали гостей и закружились в танцах и угощениях, Настя с бабой Нюшей, собравшей последние силы, незаметно спустились по лестнице, сели в заранее заказанное такси и уехали на автовокзал, а оттуда—на снежную метельную остановку Никифорово.
Отец Валериан слушал да только покрякивал, у него дома такая же сестрёнка осталась—умная, серьёзная, на регента сейчас учится. И бабушку он свою любил и помнил, поминал каждый день о упокоении рабы Божией Марии—хорошая у него бабушка была, любимая. Бабуля... Морщинки милые, глаза под очками добрые, умные, руки умелые —хоть пироги стряпать, хоть печку топить, хоть корову доить — было ли что- нибудь, чего не умела бы его бабуля?!
Представил, как оказалась баба Нюша одна среди чужих по духу людей—сидит, старенькая, тихая, пытается Псалтирь свою потрёпанную читать, а телевизор гремит, шумит. На тумбочку — бутерброд с колбасой: какой пост, бабуля, о чём ты, ешь давай, щас куриные окорочка поджарим, тебя Настя так не откармливала, как я тебя кормлю — стараюсь!
Отец Валериан домчал пассажирок до обители, там уже встречали — затопили печь в келье небольшой паломнической гостиницы, рядом с монастырём. Пришёл отец Савватий, благословил остаться пожить в гостинице, походить на службы, исповедаться, причаститься. На службы баба Нюша пойти уже не смогла, видимо, последние силы ушли на побег. На следующий день отец Захария исповедал, причастил свою ровесницу, позже её соборовали прямо в келье.
Все ждали, что теперь бабе Нюше станет лучше. Настя собиралась написать письменный отказ от бабушкиной квартиры — поможет или нет? — и увезти старушку к себе. Но баба Нюша не поправилась. Ей становилось всё хуже.
Вечером приехала Регина с мужем, настроены воинственно. Как узнали, что баба Нюша в монастыре? Да Настя сама по телефону и рассказала. А вдруг они попрощаться с бабушкой захотят? Эх, Настя-Настя... Когда мы пытаемся понять мотивы людей, мы обнаруживаем только свои собственные мотивы. И если Настя и баба Нюша жили в мире, где крупными буквами значились «Честь» и «Совесть», «Жизнь по заповедям», то Регина с мужем жили совсем в другой системе координат, где считались лишь с категориями: «выгодно- невыгодно», «безопасно — небезопасно».
Совсем не злодеи, нет, даже не злые, можно сказать, даже добрые люди. Сначала, правда, они хотели бабу Нюшу увезти-унести-просто-отнести в машину, но, при виде мощной фигуры бывшего мастера спорта по вольной борьбе отца Валериана, который стоял недалеко от кельи, просто стоял невозмутимо, но внушительно поглядывая на гостей, их решимость унести-про- сто-отнести бабу Нюшу как-то сильно поколебалась.
Зато потом, когда они поняли, что никто никакого нотариуса не приглашал, никакого завещания в Настину пользу не составлял, успокоились, и Регина даже зашла к бабушке и чмокнула её в щёку:
— Бабуль, ну как ты, зачем здесь? Может, домой, ну я не понимаю, бабуль. Я ведь не атеистка какая-нибудь, у меня тоже вера есть, ну там, в душе, в глубине души. Ну что вам с Настей делать в этом заброшенном месте вдали от цивилизации, я не понимаю. Гора, лес, церковь. Ни магазинов, ни телевизора, ни «Вконтак- те». Нет, это же какой-то сумасшедший дом, бабуль, ты ведь скоро вернёшься, да?
Баба Нюша вздохнула тяжело, погладила внучку по голове слабеющей рукой — это была её родная внучка, и у Регины вдруг странно заныло сердце, оно никогда гак не ныло, оно вообще особенно и не чувствовалось, а тут вдруг почувствовалось—живое, странно затосковавшее сердце, как бы угадавшее будущие скорби и слёзы, которые размягчат его по молитвам бабушки. Ведь молитвы наших бабушек спасают, и живят, и возрождают к жизни вечной наши очерствевшие души.
И сердечко Регины затрепетало, ощутив эту силу бабушкиной молитвы и бабушкиной любви, которой любят они даже самых непутёвых своих внуков.
Мне бы очень хотелось написать, как баба Нюша и Настя встретили Рождество в монастыре, и как радостно им было вместе встречать праздник, но, к сожалению, до Рождества баба Нюша не дожила. Она умерла под утро, умерла так, как мечтала: после исповеди и причастия.
Духовник, игумен Савватий, во время обеденной трапезы посмотрел внимательно на насупленного и мрачного отца Валериана, позвал его к себе как бы по поводу келарских обязанностей, пояснил что-то незначительное, а потом, будто нечаянно вспомнив, сказал:
— Знаешь, отец Валериан, по-человески нам всегда трудно смириться со смертью, ведь человек был создан, чтобы внимать глаголам Вечной Жизни... Но я сегодня всё вспоминал: несколько лет назад отец Захария, а он тогда ещё в силах был, стал окормлять дом престарелых в райцентре. Помнишь, стоял там такой угрюмый, старый, огромный дом престарелых. И там множество древних-предревних, ветхих-превет- хих стариков и старушек лежали и ждали своей смерти и никак её дождаться не могли.
И вот когда отец Захария начал их окормлять, соборовать, исповедовать, причащать — они стали очень быстро, один за другим умирать. Как будто только и ждали исповеди и причастия, и чтобы услышать: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!»
А директор этого дома престарелых, совершенно неверующий человек, сделался после этого преданным чадом старца... Вот так, отец Валериан... Ну, давай, иди —трудись, Бог в помощь!
На третий день бабу Нюшу, рабу Божию Анну, отпели и похоронили, по просьбе Насти, на горе рядом с монастырём.
Могилка её оказалась недалеко от могилы Славы Чеха, который пришёл когда-то в обитель, ведомый премудрым Промыслом Божиим, таким же холодным и метельным январским днём.
Где мой Мишенька?
Осенью, когда пожелтевшая листва осыпала обитель, а сено, накошенное братией, пошло на корм коровам и лошадке Ягодке, в монастырь приехали гости: мама, папа и сын лет четырнадцати. Родителям нужно было отправляться в длительную командировку, а оставить мальчика с бабушкой они боялись. Дело оказалось вот в чём: сыночек всё свободное время проводил за компьютером, отказываясь от сна и еды. С трудом родители отправляли его в школу, а он и оттуда ухитрялся сбегать к единственной своей радости — компьютеру. На бабушку надежды не было никакой, она смотрела сериалы и жила большей частью приключениями героев этих сериалов.
Вот так в обители оказался Миша—худой и долговязый, с потухшими глазами и нездоровой бледностью. Он с ужасом оглядывал далёкий от цивилизации монастырь, и в глазах его таилась недетская тоска: здесь не было любимого компьютера.
Игумен Савватий внимательно выслушал родителей, посмотрел на тоскующего Мишу и разрешил оставить мальчишку в обители на время командировки. Школа находилась в десяти километрах, и туда уже возили двух школьников, детей иерея, жившего рядом с монастырём.
Первые два дня Миша пребывал в шоковом состоянии. На вопросы отвечал коротко и угрюмо и, видимо, вынашивал мечту о побеге. Постепенно стал оживать. А потом подружился с послушником Петром. Петя был в монастыре самым младшим, два года назад он окончил школу. И теперь роль наставника юношества грела ему душу. Он великодушно покровительствовал Мише, а иногда увлекался и сам резвился как мальчишка наравне с подопечным. А инок, отец Валериан, за послушание присматривал за обоими.
После уроков в поселковой школе Миша нёс послушание на конюшне и полюбил монастырскую лошадку Ягодку. Похоже, Ягодка стала первым домашним животным, которое оказалось рядом с Мишей. Ухаживал он за лошадью, к удивлению братии, с нежностью. И так они полюбились друг другу, что скоро Миша и Пётр по очереди лихо объезжали монастырь верхом на Ягодке, правда, под бдительным присмотром отца Валериана.
Незаметно в обитель пришла зима. А зима здесь была самой настоящей —не такой, как зима в городе. Здесь, в глуши, на Митейной горе, не было неоновых реклам и блестящих витрин, не было городской суеты и растаявшего грязного снега под ногами.
Может, поэтому звёзды в синих зимних сумерках здесь светили необычно ярко, белые тропы поражали чистотой, а тёмная зорька года освещалась только светом окон братских келий. Морозы и ветры, снега и метели стучали в двери иноков, и тогда огонь в печах трещал спокойно и ласково, соперничая с непогодой.
После послушания Миша с Петром завели обычай на санках с гор кататься. Петя, правда, смущался поначалу: такой взрослый —и санки... А увидит кто из братии... Насмешек не оберёшься. Но никто из братии и не думал смеяться над ними, и постепенно Пётр увлёкся. Накатаются они, значит, на санках, и по звону колокольчика, все в снегу, румяные, весёлые, голодные — в трапезную.
А там хоть и пост Рождественский, но всё вкусно. Монастырская пища всегда вкусна, даже если это постные щи или пироги на воде. Готовит братия с молитвой — вот и вкусно. Румяные шанежки картофельные или нежный пирог с капустой. Уха монастырская и рыба прямо из печки по воскресным дням—дух от них такой ароматный! А потом кисель клюквенный или брусничный или чай с травами душистый, к нему сухарики с изюмом...
Старшая братия ела понемногу, схиархимандрит Захария пару ложек щей съест да кусочек пирога отщипнёт. Даже отец Валериан, высоченный, широкоплечий, ел немного. Ну, они давно в монастыре... А Петра и Мишу духовник благословил есть досыта. Они и старались!
На Рождество, по традиции, братия вертеп сделала. Прямо у храма посреди зимнего сугроба — ледяная пещера, освещённая фонариками, в ней деревянные ясли, в яслях настоящее сено, тряпичная лошадка с осликом и, самое главное, Пресвятая Богородица с младенцем Христом на полотне.
Особенно хорошо было смотреть на эту пещеру вечером, когда вокруг темно и огромные звёзды ярко переливались в небе. Тогда очаг в вертепе светил особенно ласково, фонарики притягивали взгляд и разгоняли окружающую тьму.
Ещё ёлку отец Валериан из леса привёз, пушистая такая ёлочка. Миша с Петром шары и сосульки принесли из кладовки, дождик блестящий. Шары яркие, звонкие — прямо хрустальные. Никогда бы раньше не поверил Миша, что можно ёлку с радостью украшать: это для малышей занятие... А теперь украшал и слушал, как гудит и потрескивает печь в тёплой, уютной трапезной. С кухни доносились чудесные, вкусные запахи, за окнами, покрытыми ледяным узором, стояли белоснежные деревья в инее. Тихо кружились снежинки.
Вечером отец Савватий Мишу с Петей в келью позвал. Это были самые желанные минуты. В келье у батюшки пахнет так чудесно — ладаном афонским, иконы кругом, книги. А уж как отец Савватий начнёт рассказывать про Афон, про горные тропы, про монастыри афонские...
Когда вышли из игуменской кельи, на монастырь уже спускалась синяя ночь. В небе переливались огромные звёзды. Горел огонёк в пещере Рождественского вертепа, и свет его Святых Обитателей освещал дорожку к кельям.
Остановились на минуту у снежной пещеры. Постояли. И Миша вдруг почувствовал необычную полноту жизни, такую, которую невозможно передать словами. Он и не смог. Когда Пётр спросил:
— Миш, ты чего примолк-то?
Он только и смог тихо сказать:
— Знаешь, Петя... А хорошо всё-таки жить на свете!
Испугался, что не поймёт друг, засмеётся, спугнёт настроение. Но Петя понял и серьёзно ответил:
— Да, брат Миша, хорошо... «Я вижу, слышу, счастлив—всё во мне...» Это Бунин, брат...
Приближалось Рождество. Ждали морозов, и после трапезы вся младшая братия возила на санях и на салазках дрова из дровяника в кельи и в трапезную, чтобы на Рождество встретить праздник и отдохнуть, не заботясь о дровах. Все в валенках, телогрейках, ушанках. Работали споро.
Возвращаясь с санками полными дров, Пётр и Миша застыли, не доходя до кельи: навстречу им торопились Мишины родители. Выглядели они озабоченными. Прошли мимо ребят, лишь головой кивнули, поздоровались, значит.
Миша недоумевал: родители на него не обратили никакого внимания. А те подошли к дровянику, обошли всех трудящихся иноков и поспешили обратно. Вернулись к застывшим на месте Мише и Петру и остановились рядом. Мама жалобно спросила:
— Отцы иноки, вы нашего Мишеньку не видели? Мишеньку, сыночка нашего?
А папа подтверждающее закивал головой. Миша с Петей переглянулись в изумлении, а мама ещё жалобнее запричитала:
— Да что же это такое?! Отцы дорогие! Не видели ли вы сыночка нашего, Мишу?
И тут наконец к Мише вернулся дар речи. Он смущённо пробасил:
— Мам, ты чего? Это я... Миша...
Пётр внимательно посмотрел на друга: фуфайка, валенки и ушанка до бровей. Но не одежда сделала его неузнаваемым. Вместо бледного с потухшими глазами мальчишки, приехавшего в монастырь несколько месяцев назад, рядом стоял румяный толстощёкий Миша с живыми и радостными глазами.
Вот такая рождественская история
На Рождество приехали в обитель гости. Гостиница переполнена, и одного из гостей, Володю, благословили переночевать в келье отца Валериана, которого он и приехал навестить. Поставили Володе раскладушку.
Перед сном отец Валериан предупредил гостя:
— Я иногда храплю во сне, ты меня толкни, если что.
На том и порешили. Настала ночь. Отец Валериан сразу звучно захрапел. Володя не успел ещё заснуть и уже не смог. Он посвистел, отец Валериан храпеть перестал. «Сработало!!!» — обрадовался Володя. Но минут через пятнадцать всё повторилось. И снова... и снова...
Утром Володя, не выспавшись, решил в шутку высказать своё недовольство:
— Кто-то всю ночь так храпел, что я не мог заснуть!
Сонный отец Валериан ему ответил:
— Я-то вообще глаз не сомкнул, кто-то всю ночь свистел!
Дрова для отца Феодора
Старый схимонах, отец Феодор, был невысоким, худым, но очень деловым. Несмотря на возраст, он в монастыре частенько задавал жару братии:
— Нету у нас порядку в монастыре! Разве так снег убирают!
Выхватывал лопату из рук какого-нибудь инока, и начинал по-своему убирать, качественно! Отца Феодора все знали, но и любили: он ведь не со зла. Однажды молодой иеромонах Симеон решил тайно оказать помощь старичку.
У отца Феодора почти опустела поленница, а за дровами приходилось ходить далеко. Зная щепетильность схимника во всём, отец Симеон ночью на санках тайком привез самые лёгкие дрова, одно полешко к одному. Наполнив доверху поленницу, с чувством радости от проделанной работы отправился в свою келью.
Утром всех оглушил крик отца Феодора. Выглянув из келий, братия увидела следующую картину: вся поленница валялась на улице, из коридора вылетали оставшиеся красиво подобранные дрова.
— Это кто ж такие дрова принёс! Всё загородил! А старик — убирай! Что за умник! Это же не берёза, а сплошь осина! Не дрова, а непонятно что! Нету порядку в монастыре! — пригвоздил отец Феодор.
Если вы подумали, что отец Симеон обиделся, то слушайте продолжение истории. На следующее утро братия была разбужена громким криком старого схимника:
— Ну вот, берёзовые — это то, что нужно! Наконец-то сообразили! Додумались наконец своей пустой головой! Нет бы сразу всё правильно сделать! Учишь эту молодёжь порядку, учишь, а всё без толку! Нету у нас порядку в монастыре!
Братия качала головами, и только игумен Савватий и схиархимандрит отец Захария улыбались про себя. Они-то хорошо помнили монашеское правило: «Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадёт».
А ещё они знали, что отец Феодор, накричавшись, закроет дверь в келью, а там сразу успокоится, как будто и не принимал на себя вид разгневанного. Успокоится, тихо встанет на свои старые больные колени и будет долго молиться за своего благодетеля и всю монастырскую братию.
И кому это такую красоту приготовили?
Как-то под Рождество отец Феодор сильно занемог. Почти девяносто лет, вся жизнь в трудах! Братия расстроилась, но монахи память смертную всегда хранить стараются и для отца Феодора заказали гроб и крест.
Иеромонах отец Симеон взял Святые Дары и отправился причащать тяжелобольного. Отец Феодор лежал на постели без движения, глаза закатились — все свидетельствовало о приближении таинства смерти. Отец Симеон пособоровал и причастил умирающего капелькой Крови Христовой.
На следующий день во время Рождественского праздничного обеда дверь в трапезную с грохотом распахнулась. На пороге стоял живёхонький отец Феодор! Ни следа не осталось от вчерашней смертельной немощи!
По дороге в трапезную он вдобавок заметил новенький гроб, который сох на зимнем солнышке. Гроб был к тому же красивой работы. Монастырский рабочий Петя—золотые руки—придумал его резьбой украсить: для отца Феодора всё-таки!
Отец Феодор, которому очень понравилась резьба, при входе в трапезную громко спросил у братии: «А кому это такую красоту приготовили?»
Как отец Феодор к трапезе готовился
Отец Феодор перенёс два инфаркта, но был ещё довольно бодрым для своего девяностолетнего возраста. Вот только твёрдое он жевать уже не мог. И чтобы не портить хлеб, отделяя мякиш от корок, он всегда приходил в трапезную заранее.
Вот и сегодня — ещё и Дионисий с колокольчиком не пробежал по монастырю, а отец Феодор уже сидел чинно на своём месте — к трапезе готовился. Шла Рождественская неделя, братия радовалась, и у отца Феодора тоже настроение было приподнятым. Он крошил хлебные корки в свой суп и счастливо улыбался, поглядывая на нарядную ёлочку в углу трапезной.
Отец Валериан, случайно заглянув в трапезную, увидел отца Феодора и весело спросил:
— Что, отец, корки мочишь?
И отец Феодор радостно покивал головой.
Оптинские истории
Участники вечной Пасхи
Верю, что Господь, призвавший их в первый день Святого Христова Воскресения через мученическую кончину, соделает их участниками вечной Пасхи в невечернем дни Царствия Своего.
Патриарх Алексий II, 18 апреля 1993 года
Когда ко мне обратились с просьбой написать о братии, убиенной в Оптиной пустыни сатанистом на Пасху 18 апреля 1993 года, сначала я растерялась. До 18 апреля—дня памяти — оставалась неделя. И хоть тружусь я на послушании в Оптиной пустыни пять лет и знаю многих насельников монастыря, но успеть за неделю расспросить оптинских отцов первого призыва, обремененных многочисленными заботами духовников обители, представлялось нереальным.
Прошли два, три дня, а я так и не успела побеседовать ни с кем из отцов, знавшим иноков, убитых на Пасху. Кто-то пообещал рассказать, но позднее, после поста, так как очень занят. Кто-то отказался, ссылаясь на то, что уже рассказывал всё, что знал, и рассказ этот вошёл в широко известную книгу «Пасха красная» Нины Павловой.
Каждый день перед началом послушания стараюсь приложиться к мощам старцев Оптинских и поклониться убиенной братии — иеромонаху Василию, инокам Трофиму и Ферапонту. И вот сегодня, войдя в часовню Воскресения Христова, месту упокоения убиенных, попросила:
— Отцы дорогие! Простите, что дерзаю просить вас о помощи и ясно чувствую недостоинство своё, но так хочется напомнить о вас людям, почтить вашу память и ещё раз поклониться вам... Если можно, помогите, пожалуйста!
Оптинцы опытным путём знают, как скоропослушливы отец Василий, отец Трофим и отец Ферапонт, как хотят они, чтобы никто не ушёл из обители неутешенным. И дальнейшие события могут стать ещё одной страницей летописи о молитвенной помощи убиенной братии всем, кто обращается к ним с молитвой.
В этот же день я записала воспоминания о братии сразу трёх человек.
Иеромонах Роман, в то время просто Оптинский паломник, был студентом ростовского вуза. Когда он стал задумываться об иноческом пути, в храме ему посоветовали найти в Оптиной отца Ферапонта, который до монастыря также ходил в Ростове в кафедральный собор. Отец Роман вспоминает:
«Я беседовал с иноком Ферапонтом дважды. Было видно, что он очень собранный. Углублённый внутрь себя. Он деятельно занимался Иисусовой молитвой. А это сразу видно. Как видно? А сосредоточенность... Когда человек напряжённо удерживает молитву, когда он старается быть в предстоянии перед Богом, это ощущается... Отсекаешь помыслы и хранишь молчание... Внутреннее и внешнее.
Знаю людей, которые держали Иисусову молитву, в Оптиной были и сейчас, конечно, есть многие братья, которые стараются держать эту молитву, но ни у кого из них тогда не чувствовалось такой внутренней сосредоточенности, как у отца Ферапонта.
Я стремился к внутреннему деланию, искал таких людей, и он был такой. Насколько он продвинулся в молитве —одному Богу известно. Но то, что он находился в этом делании,—это да.
Великим постом я приехал в Оптину и, побеседовав с отцом Ферапонтом, спросил у него совета про себя самого. Но он не стал от себя ничего говорить, а отправил меня к старцу, отцу Илию. И старец благословил меня остаться в Оптиной на год, сказал поступать в семинарию.
Я много, долго размышлял. А после гибели братии почувствовал такой духовный подъём! Знаешь, когда за Православие страдают, это очень вдохновляет! Понимаешь? Они своей жизнью заплатили, а ты вообще ничего не сделал...
Вот—рассказал. Поделился. А сейчас, извини, нужно идти служить панихиду»
А спустя несколько минут воспоминаниями делится со мной иеросхимонах отец Серафим (в 1993 году— иеромонах Михаил):
«Отец Василий, отец Трофим, отец Ферапонт — это люди, которые подвизались, искали Бога и созрели для вечной жизни. Отец Василий был ярким человеком, ему Господь даровал мощный дар проповеди, дар слова. А стихи духовные какие он писал! Молитвенник. На нём была такая благодать... Он шёл впереди всех!
Отец Ферапонт молился. Он и молчал, потому что молился. Когда молишься, не до суетных разговоров... У него в дневнике последняя запись—слова Исаака Сирина: «Молчание есть таинство будущего века». Царской силы был человек и физически и духовно. Он каждую ночь вставал и делал пятисотницу. Ночью, отрывая время у сна. Пятисотницу ночью мало кто делает... На пол телогрейку, чтобы звук заглушить от земных поклонов...
Отец Трофим всегда всем помогал. Богатырь. На траулере работал — несколько коробок тяжеленных в одной руке нёс. Он постоянно находился в доброделании. Божий человек.
Все трое убиты подло — в спину.
Многие чувствовали, что произойдёт что-то страшное. Я после пасхальной заутрени во Введенском храме шёл в скит, чтобы готовиться к средней литургии. Шёл, как обычно, дорожкой к скиту в предрассветной темноте и вдруг почувствовал ужас. Он охватил меня так сильно! Никогда в жизни я не чувствовал такого ужаса! Отец Мелхиседек делился потом, что испытывал страшное уныние.
А ещё раньше, у храма, на меня вдруг вышли трое, в кожаных куртках. Они шли прямо на меня, и у них были такие взгляды, полные злобы, что я сразу подумал: «Убийцы!» Хотя ещё ничего не знал о предстоящем убийстве. Атам снимали фильм об Оптиной. И как раз мощный луч света. И эти трое стушевались, развернулись, ушли в темноту. Я сейчас думаю, что тоже мог погибнуть. Но я был не готов тогда, и Господь не попустил.
А они были готовы. На них печать Божия была — Господь взял лучших из нас. Их привезли потом на машине, а они лежали, как живые, мягкие, на лицах— мир и покой. Иногда говорят: «Убили первых попавшихся...» Нет. Они были избранники Божии. Умереть за Христа—это честь, которую ещё нужно заслужить.
Всё, сейчас будет чин о панагии. Помоги Господи!»
После послушания в этот день мне нужно было на почту. Приезжаю, а в почтовом отделении огромная очередь. Душно, жарко. А тут ещё передо мной стоит пожилая женщина очень словоохотливая и начинает со мной разговаривать. Я, уставшая, отвечаю неохотно, а потом вслушиваюсь в её слова и понимаю, что эта встреча неслучайна. И рассказывает она мне о чудесной помощи убиенной братии! Вот что рассказала мне Галина Дмитриевна, жительница Козельска:
«Тяжело стоять, жарко... Ну ничего... А ты, милая, в Оптиной, небось, трудишься? Как узнала? Ну вас, оптинских, видно: молодые сейчас нечасто юбки длинные и платки носят... Я раньше в монастыре часто бывала...
Да... Сейчас вот редко езжу, а раньше часто... Почему редко? Думаешь, сколько мне лет? Не-ет. Не семьдесят. Мне восемьдесят лет! Так что уже тяжело... В ближний храм хожу. С мужем. У меня три года назад муж появился! Может, тебе это и забавным покажется: в такие годы замуж выходить... Но ты сначала послушай...
Знаешь, в жизни у меня много скорбей было. Росла с мачехой. Она меня не любила. Обижала очень. Потом замуж вышла, а муж пить начал. Тоже сильно обижал. А потом дети выросли, разъехались далеко, муж умер. И осталась я совсем одна. И была у меня такая скорбь —одиночество...
Вот как-то, три года назад, приехала в Оптину, смотрю: а там люди окружили отца Илия. Знаешь старца Илия? Я тихонько подошла. А он вдруг ко мне поворачивается: «Как поживаете, матушка?» А я смутилась и отвечаю: «Да вот старая уже, а пожить ещё хочется...» А он улыбается и спрашивает: «Двадцать лет хватит?» А мне как раз семьдесят семь исполнилось. Я и выдала: «Тогда уж, батюшка, двадцать три, чтобы как раз до ста лет дожить!» Он улыбнулся. Я унывала, а от его улыбки сразу легче на душе стало!
Пошла в часовню к убиенной братии. Смотрю: там девушка записку за крест прячет. Я у неё спрашиваю: «Что это вы делаете?» Она засмущалась, но всё же отвечает: «Вот прошу у отцов помощи... Они помогают... Господь их слышит...» И вышла из часовни.
Подумала я, подумала и тоже решила написать записку. Вслух поделилась:
— Отцы наши дорогие, любимые! Вот пока нет никого в часовне, я вам расскажу... Так мне тяжело одной, так одиноко! Помогите, пожалуйста! Знаете, жизнь несладкая была. И пролетела так быстро! Вот, может, ещё поживу, даже и лет двадцать... Только тяжело мне очень
одной... А ещё домик я хотела продать. Никак не продаётся... Давно уж... Помогите, если можно...
Это я сказала, а в записке только и написала: «Очень одиноко мне. Раба Божия Галина».
И что ты думаешь?! Не прошло и недели, как продала я очень удачно домик! И на этой же неделе познакомилась я со своим дедушкой! Где? А в храме! Дедушка у меня, знаешь, какой хороший! Георгий! В честь Георгия Победоносна! Очень верующий и добрый человек. Он у меня ветеран войны...
И так мы с ним хорошо зажили, что теперь и умирать не хочется... Вот три года живём... Мне — восемьдесят, ему—восемьдесят шесть. Может, кто-то и думает, что в таком возрасте спутник жизни не нужен... Только нам так хорошо вместе! После моего одиночества мне это так утешительно! Утром он встанет, (я-то забываю часто, а он —никогда), всегда сам святой воды попьёт, частицу просфоры скушает и мне принесёт. На службу в храм всегда вместе ходим. Ещё гуляем вместе, природой любуемся... Иногда ночью он встанет, я тоже проснусь, смотрю, а мой дедушка уже у икон стоит, тихонько молится... И так мы и живём мирно, дружно: отец Василий, отец Трофим и отец Ферапонт обо мне позаботились! Очередь моя подходит... Видишь, сколько я тебе рассказала...»
Вот такие три рассказа... И закончить мне хотелось бы стихами отца Василия на смерть иеромонаха Рафаила. Звучат стихи так, как будто написаны о нём самом и об иноках Трофиме и Ферапонте:
Нашёл бы я тяжёлые слова
О жизни, о холодности могилы,
И речь моя была бы так горька,
Что не сказал бы я и половины.
Но хочется поплакать в тишине
И выйти в мир со светлыми глазами.
Кто молнией промчался по земле,
Тот светом облечён под небесами.
Отец Василий, отец Трофим, отец Ферапонт, молите Бога о нас, грешных!
Истории монастырского киоска
Про пирожки
Люблю проводить свой отпуск в паломнических поездках. Не просто побыть несколько дней в святом месте второпях, наскоком, а пожить там, потрудиться во славу Божию, почувствовать себя почти своим в святой обители, увидеть её жизнь изнутри.
И вот я в Оптиной. Любимая моя Оптина!
В каждом святом месте своя благодать. Приехав, услышала такой диалог двух паломниц.
— Я только что от святого Александра Свирского.
— Да что вы?! И в Оптину? Ну и как вам Оптина?
— Знаете, в обители Александра Свирского более строгая атмосфера. А здесь как-то мягко, как дома. Что-то тёплое, родное. Может, это из-за природы?
Я живу в Оптиной уже месяц. На этот раз моё послушание—в хлебном киоске. Хлеб монастырский, бездрожжевой, на хмелю. Вкусный! А уж про пирожки и говорить нечего — объедение. С творогом, с рыбой, с грибами, с картошкой, с изюмом, с повидлом, с курагой. Глаза разбегаются — какой пирожок попробовать? Плюшки с сахаром и маком! Только успеваю подавать покупателям пакетики с пирожками. И наливать чай.
Сначала послушание кажется игрой. Вспоминаю детство. Во дворе под кустами сирени строим магазин. Игра захватывает всех. Рыжий Вовка приносит кирпич и доску. Это весы. Собираем листья лопуха —это овощи в нашем магазине. Когда магазин полностью обустраивается и совершается пара покупок, игра заканчивается. Весь интерес заключался в создании магазина. А процесс покупки лопухов, разноцветных стёклышек и другого «товара» уже не так привлекателен.
Теперь я могу поработать в настоящем монастырском киоске. Справа —стены и блестящие золотые купола Оптиной. Виден ангел с трубой на одной из башенок, собирающий верных под крылья обители. А если встать на крылечко киоска, то видны луг, жёлтая дорога, убегающая вдаль, сочная июньская зелень. Густой и тёплый воздух, солнце любовно и мягко согревает оптинскую землю. Голубое лёгкое небо с белыми невесомыми тучками. Несколько домиков с огородами, прилепившихся рядом с монастырём. Щебечут птицы, петух важно кукарекает. Смотришь вдаль, и сердце замедляет своё биение, мир и покой царят в душе.
Рядом с киоском — важные галки, шумные голуби, шустрые воробьи, ждущие от меня вкусных крошек. Самый крохотный и смелый воробышек дважды влетает через окошко ко мне в киоск и расхаживает по прилавку. Приходит важный рыжий кот и требует внимания. Кормлю его, и он, насытившись, укладывается на пороге, там, куда падают солнечные лучи. Греется на солнышке и мурлычет.
Уходя на обед в трапезную, забываю кота в киоске, не заметив, что он в тенёчек перешёл, за табуретку. Возвращаюсь назад, Миша—о нём речь ещё впереди — кричит: «Иди скорей, у тебя там кот торгует пирожками!» Я пугаюсь: «Батюшки, кошмар-то какой! Неужели проказник залез в пирожки? Ну всё, конец моему послушанию!»
Нет, рыжий и близко к ящикам с пирожками не подошёл, не обманул доверия. Видно сквозь окошко палатки, как он важно сидит на моём табурете, голова на уровне стола рядом с калькулятором. На подошедших паломников-покупателей смотрит важно и спокойно: дескать, всё в порядке, ждите, сейчас вы получите свои пирожки.
С утра послушание кажется лёгким и весёлым. Но к концу дня ноги болят, в голове гудит, соображаю плохо. И считаю уже медленно. Скоро нужно уносить столы и стулья, а послушника, который этим занимается, не видно. И тут на помощь приходит Миша.
Про Мишу, который не знает о кризисе
Миша достался мне по наследству от предыдущей послушницы монастырского киоска. Начинаю работу и вижу, что неподалёку подолгу сидит мужчина лет сорока пяти. Одет он худо, небрит, на голове лыжная шапочка. На ногах тапочки. А глаза добрые и ясные, как у ребёнка.
Миша помогал тем, кто нёс послушание в монастырском киоске. Нужны мужские руки: воды в бочку натаскать для чая, расставить столы и стулья утром и убрать их вечером или в случае дождя. Протереть столы и убрать одноразовую посуду, забытую покупателями-паломниками.
Вообще-то принести воды и расставить столы и стулья—это послушание брата, который привозит хлеб и пирожки на тележке и увозит пустые ящики. Но он очень загружен работой, и не всегда его можно дождаться. А Миша тут как тут.
В выходные желающих попить чая с монастырскими пирожками так много, что я порой остаюсь без обеда. Выйти на улицу и прибраться некогда. А тут Миша:
— Водички принести, а?
— Давай тряпку, там детишки чай пролили, надо стол вытереть, во!
— Щас дождяра ливанёт, давай мебель твою начну убирать.
Миша сейчас нигде не работает. Решил отдохнуть летом. А осенью собирается опять устраиваться на работу. У Миши летние каникулы.
Знающие Мишу люди говорят, что он всю прожитую жизнь работал грузчиком. А этой зимой работал на мойке автобусов. Говорят, что он не пьёт. Очень добрый и кроткий человек. Но умственное развитие у Миши как у ребёнка.
Он говорит про себя:
— Я, это, не очень умный. Живу, во!
— Миша, как ты учился?
Смущённо улыбаясь, показывает один палец, а затем два пальца:
— Колы да двойки! Во! Восемь классов закончил!
— Миша, ты почему с работы ушёл?
— Автобусы мыл! Зимой! Во! А ты попробуй зимой холодной водой автобусы мыть!
У Оптиной иногда стоят нищие, просят милостыню. Миша денег не просит.
— Миша, ты на что живёшь? Ты не просишь милостыню?
— Не! Я машины мою. Мне за это дают денежку. А иногда ничего не дают. Смеётся.
Сегодня Мише за работу дали сто рублей. Миша счастлив. Он гордо показывает мне сторублёвую бумажку: «Деньги!» Сидит за столом. Время от времени достаёт сто рублей, разглаживает, рассматривает, снова бережно кладёт в карман.
К киоску подходит блаженненькая Мария, она уже пожилая, но улыбка у неё как у ребёнка. На плакате, висящем на груди, написано: «Помогите сироте Марии на лекарства».
Миша суетится, подбегает ко мне:
— Во! Марии дай чаю! И пирожков! Это... С картошкой и булочку с маком! Во! Я заплачу! У меня есть деньги!
И Миша радостно протягивает свою драгоценность — сторублёвую бумажку. Миша покупает Марии то, что любит сам, ведёт старушку, усаживает и радостно угощает. Он счастлив. У него есть деньги, и он может потратить их на более нуждающегося человека.
Миша радуется простым вещам —солнцу и дождю. Чаю и булочке. Воробьишке, клюющему крошки с его ладони. Рыжему коту за калькулятором. Возможности помочь людям. У Миши нет кризиса. Он не читает газет и не знает о нём.
— Миша, у тебя родители живы?
— Не! — Миша отвечает коротко и отходит.
Сидит за столом, думает, видимо, о грустном, затем подходит:
— Алёнушка! А я свою мамочку знаешь, где похоронил? На новом кладбище! У меня мамочка очень хорошая была. Она меня строго держала — во! И любила! А теперь я один совсем. Плохо, Алёнушка, одному.
— Ну, ничего, Мишенька! Да и не один ты! Ты же со мной!
— Да, я с тобой! Я тебе помогаю, да?!
Мишу угостили конфетами. Он приносит их мне:
— Алёнушка, сестрёнка, конфеты, во!
Ему приятно поделиться своей радостью.
У Миши есть мечта.
— Алёнушка, а знаешь, хочу я свой домишко! У меня там банька будет, во! Хочу завести два поросёнка, барашка, гусей. Хорошо!
К киоску подходит милиционер:
— Миша! Мишка! Ты чё не бреешься? Ты у нас, этот, как его, комильфо! Дон Жуан!
И обращаясь ко мне:
— Он вам не мешает?
Миша смущён словом «комильфо». Я вижу, что он очень деликатен. При всей простоте, Миша своей скромностью и тонкостью чувств мог бы соперничать с самым образованным человеком. Миша краснеет и пытается улыбаться милиционеру, и я чувствую, как ему неудобно за грубые шутки. Душа у него детская и чистая.
Сегодня у Миши сплошные искушения. После милиционера к киоску приехал холёный мужчина на дорогой иномарке. Купил, долго выбирая, пирожок с рыбой и кофе. А потом подошёл к сидящему за столом Мише и, присаживаясь, бросил ему: «Пшёл вон отсюда! Развелись тут, бомжи несчастные!»
Миша покраснел и встал. Бросил взгляд в мою сторону и кротко отошёл от киоска.
Сел на бордюр рядом с колонкой. Сидит. Голову опустил.
Мужчина из иномарки подходит ко мне второй раз: «Налейте, пожалуйста, ещё кофе».
Я глубоко вздыхаю. Мысленно прощаюсь с полюбившимся мне послушанием и отвечаю: «Простите, но я не могу налить вам кофе, пока вы не извинитесь перед моим братом, которого вы только что обидели».
Мужчина поражён:
— Перед вашим братом?!
— Да, Миша —мой брат. И ваш брат. Он очень расстроен. Утешьте его.
Я смотрю в глаза мужчине. Добавляю мягкости в голосе:
— Пожалуйста!
Выражение лица мужчины меняется. Как будто, встретившись взглядом со мной, он понимает меня и чувствует мою нежность к Мише.
Мужчина идёт к Мише, что-то говорит ему, хлопает по плечу. Они возвращаются вместе, и Мишу даже угощают кофе, хотя он деликатно отказывается. Мир восстановлен.
Мужчина садится в иномарку, вид у него весёлый. Он машет нам рукой и кричит: «Привет Оптиной!»
Мишин день кончается благополучно.
Кому-то Бог даёт ум, кому-то богатство, кому-то красоту. А Мише кроткий нрав и доброе сердце.
У киоска снуют Божьи пташки. Те самые, которые не сеют и не пашут. А Господь их кормит. Всем посылает милосердный Господь на потребу. По словам псалмопевца Давида, Господи, «насытишася сынов, и оставиша останки младенцем своим!» И крох этих хватит рабу Божьему Мише...
Почти детективная история о щенках и конце света
Многое можно увидеть и услышать у монастырского киоска. Трогательное и комичное, грустное и весёлое...
Вот ребятишки — дети кого-то из паломников — принимают трогательное участие в судьбе собаки и её щенков. С утра в большой коробке щенков выносят и предлагают желающим «подарок из Оптиной».
Мамаша сидит рядом. Это большая беспородная белая собака. Взгляд умный, заботливый и грустный. От коробки не отходит, даже будучи голодной: переживает о своих детишках. Когда её кормят, еду берёт очень деликатно, внимательно смотрит на благодетеля.
Щенки толстые и забавные, многие останавливаются и любуются ими. Но брать домой не решаются: кто знает, какой величины и вида вырастут собаки из этих забавных щенков.
Один паломник веселит всех байкой про то, как мужик с медведем на ошейнике по рынку ходил. А когда у него спрашивали, кого он ищет, мужик сурово отвечал: «Да вот, ищу продавца, который мне год назад хомячка всучил недорого. Хочу познакомить его с подросшим хомячком!»
Все смеются и с опаской смотрят на пузатых щенков.
Мне тоже приходится принять участие в их судьбе. Ребятишки прибегают за большой коробкой. Приходится перекладывать товар и жертвовать коробкой.
Немного погодя:
— Налейте нам в миску тёплой воды!
Недоумеваю: рядом колонка, из неё воды можно набрать сколько угодно.
— Но там вода холодная! Щенки могут простудиться! Налейте нам, пожалуйста, тёплой кипячёной воды для наших щенков!
Забегаю в келью после обеда, взять старый шарф для щенков — на улице похолодало.
В общей келье новая паломница. Одета в чёрное. Требует называть себя матушкой. Вид строгий, устрашающий, речи такие же.
Матушка вещает замогильным голосом о знамениях конца света. Вокруг испуганные паломницы. Слушают молча, с почтением. Подзывают меня, матушка «вербует» группу поддержки.
— Смотрите! Везде признаки антихриста! Крест попирают!
Мне в нос тычут тапки, на подошве которых узоры в виде ромбиков.
— Но это не кресты, это просто ромбики, сёстры! — говорю я успокаивающим голосом.
Взрыв негодования. Матушка возвышает голос:
— Наивная! Вот таких антихрист и обольстит в первую очередь! Нужна бдительность! Покажите, покажите ей, как крест попирается!
Где-то я это уже слышала, а, да, у Гоголя в «Вие»: «Откройте, откройте мне веки!» Мне становится жутковато. Что же они мне покажут?
Мне торжественно подносят под нос женское гигиеническое средство, материал на котором в целях лучшей гигроскопичности сделан в виде ромбиков.
— Вот смотри, смотри, как оскверняют распятие!
— Сёстры, здесь нет распятия. Это геометрический узор из ромбиков!
Теперь отношение ко мне меняется. Матушка в чёрном смотрит подозрительно:
— А ты кто такая вообще? Да ты православная ли?
Маленькая старушка выскакивает и ехидно докладывает: «А я видела, как она щенков кормит!»
Матушка в гневе:
— Соба-аки! Во свято-ом месте! Оскверняют обитель! Вот из-за таких, как ты, и приближается конец света!
Но народ уже потихоньку расходится, испуганный её напором.
Скорее беру шарф и ухожу.
Вечером заступаюсь за молоденькую паломницу. Она за столом газету читала, «Аргументы и факты».
Эту газету я тоже читала. Купила её из-за речи Святейшего Патриарха Кирилла, напечатанной во всю третью страницу.
Матушка в чёрном неистовствует:
— Вы своими газетами мирскими, мерзкими, стол осквернили! Как мы теперь трапезничать будем?
Когда я заступаюсь за испуганную этим криком девушку, матушка окончательно теряет ко мне доверие. Взгляд убийственный. Я понимаю, что теперь я её враг.
На следующий день, как обычно, несу послушание в киоске. День будний, в обители пустынно. Выхожу протереть столы, пока покупателей нет.
Вдруг дружный рёв. Ко мне знакомые ребятишки подбегают, лица перепуганные, взгляд дикий. Заикаются. Кое-как добиваюсь от них: пришла тётка в чёрном с дядькой в телогрейке, собаку на верёвке дядька утащил, а щенков эта тётка в лес понесла. Во-о-н она пошла! Ребята показывают в сторону реки.
Неужели топить? Мне становится страшно. Оглядываюсь вокруг. Никого из взрослых не видно.
— Ничего не бойтесь. Ничего страшного со щенками не случится. Найдите кого-нибудь из взрослых, какого-нибудь доброго мужчину. И идите за нами. Только одни не ходите! Всё поняли?!
Закрываю киоск на ключ и бросаюсь за скрывающейся из виду матушкой в чёрном. Мне жутко. Матушка явно не в себе. Конечно, она уже в годах, старушка, можно сказать. Но, с другой стороны, она меня ростом выше и тяжелее килограммов на двадцать. Догоняю её в роще.
В голову приходят ужасные картины: вот я разделяю участь щенков и тону в стремительной Жиздре. Смешно становится. Матушка, конечно, не в себе, но ведь не станет же она меня топить!
Матушка, действительно, не стала меня топить. Она просто врезала мне как профессиональный боксёр-тяжеловес. И я впечаталась в ближайшее дерево. Вот это удар! Кличко отдыхает! Тихонько сползаю вниз и оказываюсь сидящей на траве.
Во взрослом возрасте вроде бы я ни с кем в рукопашную не вступала. От шока не пытаюсь встать. Молча сижу и наблюдаю, как матушка кричит и размахивает руками перед моим носом.
Вот эта страсть матушки в чёрном к публичным выступлениям и помешала её блестяще задуманной операции по топлению щенков и отодвиганию конца света.
К нам подбегают ребятишки. А с ними... отец Н. Ну, конечно, умные мои детишки! Самый добрый дяденька — священник. Дальнейшее происходит как в тумане. Матушка в чёрном неистовствует, почти прыгает. А отец Н. спокойно осеняет её несколько раз крестом.
И она сдувается как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. И куда-то пропадает. Отец Н. подходит ко мне и помогает подняться.
— Как голова, не кружится? Стоять-то можешь?
— Батюшка, это просто какой-то иронический детектив. Бабулька отправила меня в полный нокаут. Но сила у неё какая-то нечеловеческая.
— Да, вот в этом ты права. Сила нечеловеческая. Ну, ничего, не бойся, больше ты с ней не встретишься. Давай-ка пойдём потихоньку.
Ребятишки, радостные, убегают вперёд вместе с коробкой и щенками.
А я отчего-то начинаю плакать. И, почти заикаясь, сквозь слёзы, рассказываю отцу Н. про газету, и про ромбики, и про конец света. Отец Н. успокаивает меня:
— Ну, ничего-ничего. Конец света, говоришь? Ни- чего-о, Господь милостив, поживём ещё. Успокойся, тише-тише. Всё хорошо. Смотри: солнышко выглянуло. Весь мир Божий осветило. И травку, и людей, и пёсиков. Все Божии создания. Блажен, кто милует скоты. Иди с Богом, трудись. День-то только начинается...
Когда вечером я вернулась в келью, даже вещей матушки в чёрном не было видно. А на её койке сидела розовощёкая улыбчивая паломница с Украины.
Про Сашу и его сокровища
У киоска сегодня пустынно—будний день, а паломники приезжают в основном в выходные. Одинокий гость—паломник Саша. Любит монастырские пирожки и часто приходит попить чайку с пирожками. Наливаю Саше полную кружку горячего чая, он пьёт небольшими глотками и рассказывает о себе.
Раньше Саша работал мотористом на корабле. Несмотря на свою молодость, успел побывать в 24 странах мира. Саша любил весёлые и шумные компании. Мог много «принять на грудь». С одним выпьет, тот уснёт, а Саша к другому другу отправится, ему хочется общаться. Много было у него приятелей, многих он угощал. Хорошо зарабатывал, но также быстро и тратил.
И вот как-то перестал он видеть в этой весёлой жизни смысл. Чего-то Саше стало не хватать. Плачет душа, ищет чего-то, а чего, сама не знает.
Один раз Саша ушёл из пьяной компании, потому что на душе стало очень плохо. И таким бессмысленным всё показалось, что он отправился в храм. Приходит пьяный Саша в пустой храм, подходит к свечной лавке и начинает требовать священника:
— А где у вас тут поп, толоконный лоб?
— Не поп, а батюшка.
— Хорошо, мать, батюшка так батюшка. Подай мне сюда батюшку! Плохо мне, мать, очень плохо. Помоги.
В свечной лавке оказалась по-настоящему верующая женщина. Она не вызвала милицию, а строго сказала Саше:
— Батюшки сейчас нет. Служба давно закончилась. Вот тебе молитва Ангелу Хранителю. Это он тебя от пьяной компании оторвал и сюда привёл. Вставай вот сюда к иконам и читай вслух молитву!
И Саша не стал спорить. Он сам не знает, как и почему, но беспрекословно опустился перед иконами на колени. Стоит и пытается читать молитву. А буквы разбегаются. Никак прочитать не может.
— Матушка, почитай мне!
И сестра из свечной лавки опустилась рядом с ним на колени. Стала громко молиться. И заплакала. Так и молилась она сквозь слёзы. А Саша плакал вместе с ней. Слушал, плакал и шептал:
— Господи, ведь Ты же есть! Помоги мне! Ангел мой Хранитель, помоги мне!
Когда они встали с колен, Саша почувствовал себя почти трезвым. Он вернулся домой.
И с этого дня всё в его жизни пошло по-другому. Исчезли пьяные компании. Саша поступил учиться в институт и поменял работу. Женился на верующей девушке. У них родился сыночек, Ярослав. «Хорошее имя — Ярослав, — говорит Саша.—Когда маленький, можно звать Ярик или Ясик».
У Ясика режутся первые зубки, и Саша каждый день звонит домой.
Он приехал в Оптину на девять дней. Приезжает сюда уже семь лет подряд. Исповедуется, причащается, ходит на все службы и Акафисты.
Саша оглядывается вокруг и бережно достаёт свои святыньки. Он показывает их мне —это молитва-книжечка Ангелу Хранителю, старенькая, любовно обёрнутая в пакетик. Та самая, первая молитва, которую дала Саше сестра из свечной лавки.
Затем Саша показывает бумажную иконочку преподобного Амвросия Оптинского, которую он приобрёл в свой первый приезд в Оптину. Иконочка потёрта на сгибах, но также любовно обёрнута в полиэтиленовый пакетик. Эти иконочки Саша каждый раз прикладывает к мощам. Он хранит их в особом отделе бумажника.
Саша бережно кладёт их обратно, при этом небрежно отодвигая крупные денежные купюры.
— Я эти иконочки всегда ношу с собой. Вот видишь: по карману будто невзначай похлопаю — здесь, со мной, мои святыньки. Знаешь, деньги не боюсь потерять. Деньги что, их можно снова заработать. А вот иконочки —это да! Это мои сокровища!
Да, Саша! Где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. Помоги тебе Господи!
Про неслучайные случайности
Эта история паломницы Ольги. Ольга давно ездит в Оптину, окормляется у духовного отца — игумена А. Вот о чём она рассказала.
«Перед приездом в Оптину были у меня заботы многотрудные. И вот во время этих забот-испытаний ещё раз убедилась я, что все случайности, происходящие в нашей жизни, неслучайны.
Началась эта история холодным апрельским вечером нынешнего года, когда я спешила домой после работы. Устала, замёрзла. Погода холодная, сырая, слякотная.
Сейчас, думаю, под горячий душ, а потом чайку ароматного, книгу, тёплый плед — и в любимое мягкое кресло.
И вдруг вижу: у соседнего дома мужчина на костылях стоит. Вид у него совсем больной. Одет как бомж. Запах от него за версту дурной. Покачивается. Еле стоит на самом ветру.
Ну, думаю, стоишь и стой себе. Мало мне своих забот! Пошла к подъезду, оглядываюсь — стоит, покачивается, того и гляди упадёт. Стыдно мне стало.
Понимаешь, когда в храме проповедь слушаешь о том, кто мой ближний, евангельскую притчу вспоминаешь, как мимо избитого и израненного разбойниками человека люди проходили, и никто не останавливался. Все шли дальше по своим делам, как будто это их не касалось. И только один самарянин сжалился, перевязал ему раны и позаботился о нём. Вспомнила?
Так вот, когда читаешь Евангелие или проповедь слушаешь, возмущаешься: ну какие бесчувственные люди, как они могли мимо пройти? Не помочь в беде человеку?
Вот думаешь: я бы ни за что мимо не прошёл! А потом проходишь и даже не замечаешь этого! Потому что израненный человек из Евангелия никак не связывается у тебя с бомжем, от которого дурно пахнет. Понимаешь?
— Понимаю, Олечка! Ну, а дальше что?
— Ну что дальше? Вздохнула я тяжело, простилась в мечтах с пледом и чаем. Ну, думаю, похоже, горячий душ отодвигается на неопределённое время. Повернула назад. Подхожу и спрашиваю:
— Что с вами? Может, вам помощь нужна?
А он посмотрел на меня и вдруг всхлипнул как ребёнок.
— Вы первая, кто остановился. Все мимо проходят. А я больше не могу стоять. Думаю, ну и ладно, упаду, значит, лежать буду. Замёрзну, значит, отмучаюсь. Не могу больше так жить, жизнь моя хуже собачьей.
Поняла я, что это надолго. Но делать нечего. Назвался груздем — полезай в кузов. Первым делом усадила я его на скамейку и спросила, где он живёт.
А он уже так замёрз, что губы не шевелятся. Показывает пальцем вверх. Ну пошли мы с ним кое-как по подъезду, вверх по лестнице. Опирается он на меня полностью почти, а я только нос отворачиваю.
Думаю, вот «везёт-то» тебе, Оля, точно пятый этаж! Оказалось, не этаж, а чердак! Так, думаю: в нашей жизни всегда есть место приключениям! Их даже искать не надо. Они находят нас сами. Привет самарянину!
Теперь меня надо будет подвергнуть полной санобработке. Иначе с работы завтра выгонят.
Поднялись кое-как. На чердаке у него куча тряпок— постель не постель, гнездо не гнездо. В общем, ужас тихий! И говорит он:
— Я третий день не ел ничего.
Сбегала я в магазин, принесла еды, домой забежала, чаю горячего в термос налила. Поднялась на чердак, покормила его, чаем напоила. Смотрю: порозовел немного. А то бледный был, краше в гроб кладут! И рассказал он мне, как на чердаке очутился.
Боря когда-то бросил жену с маленьким сыночком. Ушёл от них к другой женщине, с которой и прожил 20 лет. Про бывшую жену и сына и не вспоминал никогда. Ничем не помогал. С новой сожительницей отношения не оформлял, прописка у него была старая, у жены с сыном.
И вот пришло время, когда прошлое властно вторглось в жизнь Бори. Видимо, настал черёд платить по счетам. Сожительница умерла, а Борю из квартиры выгнали родственники этой женщины, заявившие о своих правах на наследство.
Куда деваться Боре? Жить-то где-то надо.
Отправился он по месту прописки. А там взрослый сын ему отвечает: «Я маленький тебе был не нужен. А теперь ты не нужен мне. Иди себе туда, где ты 20 лет был».
И Боря вернулся в дом, где прожил он двадцать лет, устроил себе постель на чердаке. И стал там жить. Скоро он потерял нормальный облик, от него стало дурно пахнуть. Соседи начали выгонять Борю с чердака. Потом он отморозил себе ноги. Увезли его в больницу. А потом он снова на чердак вернулся.
Начал сильно болеть. Несколько раз вызывали соседи ему «скорую», но потом и «скорая» перестала приезжать, потому что у Бори не было прописки.
Вот и сегодня вызвали «скорую», но она опять не приехала.
Я позвонила своему духовному отцу, и батюшка благословил меня привезти Борю в приют, который он построил рядом с Оптиной. Но сначала нужно было подлечить Боре ноги в больнице.
Ну, думаю, вот уж проблемы так проблемы! В такси его не посадят, может, и в больнице без прописки откажут.
А получилось всё так, как будто ангел нас охранял, все двери перед нами открывал и все препятствия устранял.
Вывела я Борю на улицу, подняла руку, голосую. Первая попавшаяся машина останавливается. И водитель соглашается отвезти нас в больницу.
Едем мы, я смотрю, а у него на панели иконочка дорожная. Обычно на таких иконочках Спаситель,
Божия Матерь и Николай Чудотворец. А у этого водителя ещё Амвросий Оптинский.
Я и спрашиваю: «Почему у вас иконочка Амвросия Оптинского»? Он даже немного обиделся: «А почему бы и нет, — говорит, — я в Оптину часто езжу, Оптинских старцев почитаю. Окормляюсь там у игумена А. Очень духовный батюшка!» А я обрадовалась и говорю: «Да это же мой духовный отец! Вот по его благословению Борю в больницу везу».
Смеётся водитель: «Ну мы с тобой как в индийских фильмах: брат сестру нашёл! А и правда мы с тобой — духовные брат и сестра!»
Так что довёз он нас с Борей до больницы и денег не взял. Телефон оставил. Обещал помочь Борю в приют отвезти.
В больнице говорят: «Только с согласия главного врача можно вашего Борю в больницу положить. А к главному врачу на приём записываться нужно заранее!»
Только проговорили, смотрю — шепчут: «Вон главврач пошёл!» Подбегаю к строгому высокому мужчине в белоснежном халате и быстро выпаливаю: «Нужно в приют Борю отправить, а перед этим в больнице подлечить!»
А врач смотрит на меня внимательно и спрашивает: «Это какой такой приют?»
— Приют,—отвечаю,—рядом с Оптиной.
— Ну-ка, пойдёмте ко мне в кабинет. Вы не от отца А. будете?
В общем, сплошные «неслучайные» случайности. Главврач, как ты, наверное, уже догадалась, бывал в Оптиной, и не раз. И приходилось ему дело иметь и с игуменом А., и с его приютом.
Так что подлечили Борю и в приют отправили.
Видишь, наш мир и вправду тесен. И как же все мы тесно связаны между собой особой духовной связью!»
Так заканчивает Ольга свой рассказ. Я слушаю эту историю и думаю: «А я бы остановилась или прошла мимо?» И понимаю, что нет у меня уверенности в ответе.
Про Гену, который потерял квартиру и работу, но чувствует себя счастливым человеком
Гена — высокий, бородатый трудник в Оптиной. Его послушание заключается в том, чтобы привозить пирожки и хлеб в монастырский киоск, увозить пустые ящики, расставлять столы и стулья. Приходится и дрова колоть, и воду таскать. Работы хватает. Но Гена неизменно добродушен и весел. Он всегда улыбается.
— Ген, ты устал?
— Я-то? Слушай-ка: приходит отец домой, смотрит, а сын сидя дрова колет.
— Сынок, а чего это ты их сидя-то колешь?
— Да я, батя, пробовал лёжа, да хуже получается!
И Гена смеётся счастливым смехом.
Гена очень добрый. Его невозможно обидеть. Он просто не обидится, потому что кроткий человек.
Блажени кротцыи... Может быть, Господь призрел именно на кротость Гены и привёл его в Оптину? Потому что особых успехов и достижений в его жизни не было. Алкоголик-отец бросил семью. Мама много работала и мало интересовалась жизнью сына. Её сил хватало только на то, чтобы их маленькая семья выжила, не умерла с голоду.
Гена рано начал пить. А когда мама умерла и он остался совсем один, то стал горьким пьяницей.
Работал Гена дворником. На работе его ценили, потому что работал он хорошо, на совесть. По своей доброте и кротости никогда не отказывался от дополнительной работы, ни с кем не ругался.
— Ген, как же ты умудрялся работать, если сильно пил?
— Дак как? Я ж напивался к вечеру. А с утра-то похмелюсь, да и работаю весь день в приподнятом настроении. Чего люди попросят, я и сделаю. Просят — дак как откажешь-то? Идёт народец по моей улочке, а у меня всё чисто!
Пути Господни неисповедимы. Как знать, что было бы с Геной дальше, не сведи его судьба с квартирными мошенниками. Сам Гена уверен, что «не было счастья бы, да несчастье помогло».
— Да это ж благодетели мои! Кабы не они, так я бы где был?! Знаешь? В земле бы давно лежал! А так я здесь, в Оптиной!
Мошенники позарились на квартиру Гены, а квартира ему по наследству двухкомнатная досталась, в центре Москвы. Обмануть пьющего дворника было для бандитов делом нехитрым. Хорошо, что жив остался!
И вот пришлось Гене заключить под угрозами фиктивный брак. А когда фиктивная жена вошла в квартиру вместе со своим настоящим мужем, Гена мгновенно оказался в сумасшедшем доме.
— Это же просто фильм ужасов какой-то, Ген!
— Да не, в сумасшедшем доме ничего, нормально было. Меня лечащий врач любил, лекарствами особо не пичкал. А то бы я мог оттуда овощем выйти. Знаешь, это вообще-то страшное дело! Кладут нормального человека, а потом сделают пару уколов — и всё.
Был один, я с ним в шахматы играл. Умнейший мужик! Не угодил он сильно какому-то начальству. Я про это и дознаваться не стал. Меньше знаешь — крепче спишь. Полечили его немножко — вроде и есть человек, и нет человека—пузыри пускает и под себя ходит. Стал как овощ, понимаешь?
А меня в церковь отпускали, стал я чего-то в церковь ходить. Постоишь там, и на душе полегче. Двор я им в больнице убирал. Но чего-то тосковать начал. Родственников нет, никто обо мне не переживает, не заботится. Никому, думаю, ты, Ген, не нужен, ни одной живой душе. И квартиры у тебя нет теперь. Там теперь чужая женщина с мужем живут.
Сидят на твоей родной кухне, в окошко на твою любимую сирень смотрят. Матушкин портрет выкинули, конечно, на помойку. И твои модели самолётов, которые ты в детстве мастерил, тоже. А ты их берёг. Лётчиком когда-то мечтал стать. А какой ты лётчик?! Дворник ты, Гена, и пьяница!
И пёсика твоего Гриньку, наверное, усыпили. А пёсику меня умнейший был, я тебе скажу! Я, бывало, сам не поем, а Гринька у меня всегда сыт и доволен. А зачем им мой пёсик? Он, как я, беспородный!
И улицу твою родную какой-то другой дворник обихаживает.
Начал я, стало-быть, тосковать. Вот, думаю, жил ты, Гена, как дурак, и умрёшь ты в дурдоме.
А тут ещё и приболел я, воспаление лёгких началось. Температура 40 градусов. И вот вкололи мне какое-то лекарство новое, импортное. Я и потерял сознание. Потом рассказали, что была у меня остановка сердца. Смерть клиническая. И попал я в другой мир.
— А как там, Ген, в другом мире?
— Ну как? Это нельзя объяснить. Вот наш мир — трёхмерный. А там — нет. Про тот мир рассказывать — это как слепому объяснять, какого цвета небо. Или дерево. Только когда назад возвращаешься, всё, что здесь, не так важно. Одна мысль: осталось ли время на покаяние?
Стал я поправляться, и снится мне сон. Иду это я по дорожке, вокруг здания деревянные, ангелочек с трубой на часовенке, впереди храм. И чувствую, что так мне хорошо во сне-то, что понимаю я: здесь моё место. Вдруг упал. Встаю, отряхиваюсь и в храм захожу. Тут и проснулся.
Стал на ноги вставать и в церковь отпросился. Прихожу, а там праздник. Иконы Божией Матери. Одигитрии. Теперь я знаю, что Одигитрия —Путеводительница.
Стою на службе. Вдруг подходит ко мне монахиня и говорит: «Что, сынок, плохо тебе? В Оптину поезжай! Туда твой путь!» Оглянулся — нет её. Ну, думаю, вот, Гена, и галлюцинации начались. Недаром в дурдоме лежишь.
Но про Оптину запомнил. Хотя и не знал тогда, что это за Оптина такая.
Выписали меня из больницы. Врач мой, хороший мужик, тихонько мне говорит: «Домой не ходи. Если, конечно, не хочешь снова к нам попасть. Или куда подальше. На вечный покой, например». Я и поехал в Оптину.
Приезжаю, иду и вижу—вокруг здания деревянные, вот и часовенка, а на ней ангелочек с трубой. Впереди храм. Всё как во сне.
Ну, думаю, надо идти поосторожней, сейчас упасть должен, как во сне. Пошёл медленней, а там лёд снегом припорошен, я поскользнулся и —бац —упал! Лежу себе, а упал мягко, небольно и думаю: ну надо же! Встаю и иду к храму.
Вот так я в Оптиной и остался. Вот живу уже два года. Бог даст, хотел бы жить тут до конца жизни. Чтобы тут и умереть.
А недавно меня брат, с которым на одном послушании работаем, подозвал:
— Смотри,—говорит,—Ген, чудо какое! На такой роскошной машине муж с женой приехали, сами одеты с иголочки, богатые, видать! Час вокруг монастырских стен ходят, а войти не могут! Как будто их невидимая сила не впускает! Смотри, смотри — шас уедут!
Я посмотрел — «моя» жена с мужем со своим! Сели в машину — злющие! И отбыли восвояси. Ну, думаю, наверное, помолиться надо за них. Это благодаря им я в Оптиной-то оказался!
Рассказ Гены прерывает крик трудника Вити:
— Ген! Иди, подсоби! Помощь твоя нужна!
Мне жалко Гену. Он сегодня много работал, и видно, как сильно он устал.
— Ген, это не твоё послушание, передохни!
— Просят — дак как откажешь-то? Пойду уж я... Давай, с Богом, до завтра!
Как Таня собиралась выйти замуж, да не вышла
В келье моей новой соседкой оказалась очень милая девушка. Назовём её Таней. Тане немного за тридцать, но выглядит она гораздо моложе. Густые каштановые волосы, добрые и выразительные карие глаза, во всём облике Татьяны — мягкость, доброжелательность.
Таня старалась всем в келье помочь, услужить. Кому-то воды для чая принесёт, кого-то разбудит на службу, кому-то поможет вещи упаковать, до автобуса проводит.
Мы с ней подружились быстро. Таня слушала мои рассказы о паломничествах, про Псково-Печерский монастырь, про Киево-Печерскую Лавру. Она была такой благодарной слушательницей, что хотелось рассказывать ей всё новые и новые истории.
Когда Таня узнала, что у меня осталось маловато денег, она предложила мне помощь, от которой я вежливо отказалась. Когда я провожала Таню, мы обе чуть не плакали, так сдружились, пообещали не теряться и писать друг другу, что сейчас и делаем. После её отъезда, я нашла у себя под подушкой подарок и довольно большую сумму денег. И записку, где старательным, почти детским почерком было выведено: «Милая сестрёнка! Если кто-то хочет сделать доброе дело, то не нужно ему мешать».
Таня рассказала мне свою историю о том, как собиралась замуж, да не вышла.
Она работала бухгалтером в университете, начальником отдела. Любила в свободное время паломничать по святым местам. Очень нравилось ей в храме, особенно на монастырской долгой службе. Забудешь обо всём. То ли на земле ты, то ли на небе? Так бы и осталась навсегда в монастыре... Последний год они ездили впятером с друзьями, потом друзья потихоньку отпадали от общей компании, пока, наконец, не осталась Таня вдвоём с Сашей.
Отношения были у них чисто дружеские, ездили они вдвоём на Ганину Яму, по святым местам Урала. И потихоньку поняла Таня, что очень ей Саша нравится. Вот и замуж за него бы выйти не отказалась.
Но Саша относился к ней как к другу и замуж звать не хотел. В минуты откровенности Саша объяснил, что нравятся ему фигуристые блондинки. А Таня и не блондинка, да и фигура у неё обычная, ростом невысокая, полноватая. В общем, не топ-модель. Но для общения и дружбы Таня ему очень подходила. Кому расскажешь о всех своих проблемах? Тане! Кому поплачешься в жилетку? Тане! Она добрая: и выслушает, и поддержит. Так что, как друг, она Сашу вполне устраивала.
Только Тане стало тяжело так жить. Тебе человек нравится, а он в тебе только друга видит. Но оттолкнуть Сашу она тоже не могла —как-то не по-православно- му это. Ведь друг говорит, что нуждается в тебе, помощи ищет, поддержки — как его бросишь? Так и продолжалась эта дружба.
Саша всё бодрее и жизнерадостнее выглядит, но Тане продолжает душу изливать, переживаниями и проблемами делиться. А она всё Сашу утешает, советы даёт, опекает. Только что-то всё печальнее становится. Вот и личико осунулось. И глазки грустные постоянно.
Долго ли, коротко ли это продолжалось, только собрались они ехать на выходные в очередную паломническую поездку — в С-ий монастырь. Приезжают. И очень там Тане понравилось. И храм. И сосны вокруг монастыря. И сёстры. И батюшка—схиигумен С. Ещё не старый, но весь седой. А глаза как будто в душу смотрят. Как рентгеном просвечивают.
Посмотрел отец С. на Таню и говорит ей: «Хорошо было бы тебе в монастыре остаться. Если захочешь, оставайся».
— Я, батюшка, не знаю. Иногда о замужестве думаю. И не знаю, есть ли воля Божия на замужество моё. Мне за тридцать уже. А жениха нет. Очень мне нравится молодой человек, который со мной приехал. Да он меня не любит. А по монастырям-то давно я езжу. И очень мне нравится в монастыре жить. Если нет воли Божией на мою семейную жизнь, то очень бы мне хотелось остаться в монастыре. Как узнать-то волю Божию насчёт меня, батюшка?
Посмотрел отец С. на девушку внимательно, улыбнулся и вдруг подзывает девчушку лет десяти, Марину, и при Тане начинает с ней разговаривать:
— Понравился Марине Толя. Думает она: может, замуж выйти за него. А я этого Толю к себе подзываю и спрашиваю у него: «Возьмёшь ты её в жёны?» А Толя молчит. Я второй раз спрашиваю: «Готов ли ты на ней жениться?» А Толя покраснел как рак, с ноги на ногу переминается, молчит. Я в третий раз спрашиваю: «Если жениться не хочешь на ней, я её в монастыре оставлю. Берёшь её в жёны?» А он только молчит да головой мотает: нет, дескать, не возьму. Вот так-то...
— Поняла, Таня? А ты, Марина, беги, деточка, играй!
Девчушка, слушавшая в недоумении, начинает улыбаться. Видно, что через пять минут забудет, о чём речь шла. А батюшка у неё ещё и спрашивает: «А ты хоть Толю-то знаешь?» Девчушка мотает головой — никакого Толю она не знает. И, весело улыбаясь, убегает.
А отец С. говорит Тане:
— Вот видишь, как оно бывает. Бывает, что в миру-то человека ничего хорошего не ждёт, потому что Господь ему другой путь уготовал.
И ещё, деточка, запомни, что тебе скажу: будет тебя кавалер склонять на незаконную связь, так ты нипочём не соглашайся. Скажи, что если хочет близости — пусть женится, венчается. А на блуд не соглашайся. Запомнила? Ну, иди с Богом, служба скоро.
Пришла Таня к Саше и рассказывает, что отец С. ей в монастыре предложил остаться. Саша вознегодовал:
— Как в монастыре?! Зачем в монастыре?! Что это он придумал! А я-то с кем останусь?! Кто будет меня поддерживать?! Ну-ка пойдём, я хочу сам с ним поговорить!
Взял её за руку и за собой потащил. Подходят они к отцу С. А он вдруг и говорит Саше, показывая на Таню:
— Возьмёшь ты её в жёны?
А Саша, который до этого кипятился и поговорить хотел, вдруг замолкает. Молчит. Второй раз батюшка спрашивает:
— Готов ли ты на ней жениться?
Таня стоит ни жива ни мертва, а Саша покраснел как рак, с ноги на ногу переминается, молчит. Батюшка в третий раз спрашивает:
— Если жениться не хочешь на ней, я её в монастыре оставлю. Берёшь её в жёны?
А Саша только молчит да головой мотает — нет, дескать, не возьму.
Тут батюшка к Тане поворачивается и говорит ей печально:
— Вот так-то...
А когда поехали Таня с Сашей домой, Саша, до этого относившийся к ней как другу, вдруг начал уговаривать её «попробовать», стал добиваться близости с ней.
Аргументом было:
— Ты мне как женщина не нравишься совсем. Но хочется посмотреть, а вдруг ты мне и понравишься?
На что Таня, помня слова отца С., ответила категорическим отказом. И предложила любителю экспериментов законный брак, после чего он быстро исчез с горизонта.
Ну, а Таня сейчас трудится на послушании в полюбившемся ей монастыре. Только зовут её теперь не Таня, а мать Сергия.
Записки экскурсовода
Небольшое вступление
В Оптиной пустыни тружусь на послушании пять лет. За это время записала много историй: радостных и печальных, поучительных и просто забавных. Решила поделиться несколькими историями с вами, дорогие читатели.
И чего я тут не видела ?!
Приехала в Оптину паломница. Идёт по обители и громко вслух возмущается:
— И чего я сюда только приехала?! И чего я тут не видела?! Несколько храмов да несколько домишек—больше и нет ничего! Оптина пустынь, Оптина пустынь! И чего я сюда только ехала?!
А ещё экскурсовод...
Муж с женой во время экскурсии:
— Вы знаете, мы прочитали в книге «Пасха красная»: космонавты видели из космоса, как от Оптиной пустыни поднимается столб света. Мы поняли так, что это благодать, по-видимому... Не могли бы вы нам показать место в Оптиной, откуда столб света исходит? Ну, точку дислокации, так сказать... Как это не можете?! А ещё экскурсовод...
Родительское пожелание
— Будьте добры, расскажите нам, пожалуйста, на экскурсии по Оптиной что-нибудь этакое... Какое?
Ну, вы же понимаете, такое... Богодухновенное! Чтобы мои дети-подростки сразу раз —и в Бога уверовали!
Тихон сидит тихо
— Мы на экскурсию к вам с ребёнком. Восемь месяцев. А куда же нам его?! Да, младенец... Да, экскурсия длится больше часа... Не, вы ему не помешаете! И он — вам! Он —Тихон и будет вести себя тихо!
Маленький Тихон действительно ведёт себя тихо, слушает про Оптинских старцев и блаженно улыбается все полтора часа.
И всё для того, чтобы...
Паломница жалуется:
— Вот наша жизнь — грешишь да каешься... Бегаешь за батюшкой, ищешь его, ищешь, и всё для того, чтобы наговорить про себя кучу гадостей! Ага, это я про исповедь!
Праздник преподобной Марии Египетской? Сегодня? Ну, что я могу сказать по этому поводу?! Мария Египетская, конечно, имеет отношение ко всем нам... Вот только мы к ней никакого отношения не имеем!!!
Деликатно и неделикатно
Паломник опровергает недостоверную информацию:
— Если говорить деликатно, то это недостоверно... А если говорить неделикатно, то это бред сивой кобылы!
Ум в голове сидит!
В очереди на исповедь высокая полная дама уже в годах, с пышной химической завивкой, на самом верху которой узенькая полоска шарфика, на лице явный перебор косметики. Дождавшись очереди, громко:
— Отец Н.! Вот молитва Иисусова чего-то не идёт у меня! А чего — не понимаю! Вот вы мне объясните: как это ум в сердце опускать надо? А то он у меня никак не опускается. Так в голове и сидит! Ум-то!
Отец Н. что-то деликатно и тихо отвечает. В ответ всё также громко, на весь храм:
— Как это, не надо мне опускать ум в сердце?! Как это, Господь Сам устроит?! Я книжки духовные читаю! Я вам не какая-нибудь бескультурная!
Можно вам исповедаться?
— Алло, это экскурсионная служба?
— Да, здравствуйте.
— Оптина пустынь?
— Да, слушаем вас.
— Можно вам исповедаться?
Тогда я тоже постою
В Оптиной на литургии всегда очень много паломников. Начинается причастие. Стоим в очереди. Очередь очень большая. Меня дёргают за рукав. Оборачиваюсь: за мной с ноги на ногу переминается паломница средних лет, на брюки повязан платок, губы ярко накрашены. Глаза удивлённые:
— А куда это очередь?
— На причастие.
— А... Тогда я тоже постою.
Сестра рядом со мной спрашивает:
— А вас благословили причащаться?
— Где меня должны были благословить?
— На исповеди.
— На какой такой исповеди?
— Где в грехах каются...
— В грехах?! У меня нет никаких грехов!
Девушка с голубыми волосами
Паломница рассказывает:
Дело было в нашем храме. Скромно одетая девушка подходит к священнику после службы.
— Батюшка, я вот хочу свою подругу к нам в храм привести...
— Бог благословит, приводи.
— Да она, батюшка...
— Что такое?
— Да она... Совсем никакая... И выглядит...
— Ну, как она выглядит?
— Да одежда и причёска—совсем для храма не подходящие...
— Ничего... К нам тут вообще ходила девушка с голубыми волосами и кольцом в носу...
— Батюшка, это я была... год назад...
Вы знаете, что такое благодать?
В Оптину приехал старец, отец Илий. Батюшку окружает толпа, все стараются что-то спросить, получить благословение. Вниманием старца завладевает одна паломница:
— Батюшка, вы знаете, в нашем городе один храм— такой благодатный! А другой —не очень... Есть ещё один —там благодати совсем нет!
Старец печально:
— А вы знаете, что такое благодать?
Вот это любовь!
Игумен Н. рассказывает про своего духовного отца, старца Иоанна Крестьянкина:
— Как-то ждал я очереди к батюшке. Вот очередь уже скоро подойдёт, осталась передо мной одна бабушка. Задаёт она старцу вопрос. Он ей отвечает. Бабушка снова спрашивает то же самое, и старец ей опять то же самое отвечает. Бабушка спрашивает снова, другими словами, но тот же вопрос. И отец Иоанн Крестьянкин спокойно и терпеливо другими словами повторяет ей тот же ответ. Я уже закипаю и думаю: «Всё уже и так понятно, ну ведь ответил тебе старец, ну что же ты его так мучаешь-то, вредная же ты бабулька!» А старец терпеливо продолжает ей объяснять полчаса одно и то же.
И отец Н. заканчивает свой рассказ неожиданно:
— Вот это любовь! Вот это терпение!
Обычный день обычного Оптинского отца
Отец Н. встал, как обычно, в пять утра. Полунощница, ранняя литургия, с девяти утра и до половины первого принимал исповедь. Люди шли нескончаемой вереницей: некоторые только исповедались, другие, их было больше, после исповеди задавали вопросы, просили совета, жаловались на скорби и болезни, просили молитв. Вникал, отвечал, советовал, молился за каждого, читал разрешительную молитву. К половине первого почувствовал полное изнеможение. После трапезы стало полегче, зашёл в келью, но уже через полчаса отправился чинить колодец на святом источнике, затем на монастырскую стройку. Потом служил на всенощной, помазывал, в конце службы вышел с другими отцами на исповедь. Последние исповедники были в половине первого ночи: в выходные приезжает очень много паломников.
В час ночи пришёл в келью, помолился. Упал на доски кровати. Что-то крутилось в голове. Что? А, вспомнил! Сегодня у него —день рождения. Пятьдесят лет. Ну что ж... «Многая лета» ему спели на день ангела, а дни рождения монахи не отмечают...
Отец Н. уснул мгновенно и улыбался во сне: ему снилось детство, мама и праздничный пирог.
Бестолковые послушницы
Мать Е. уже много лет трудилась на одном ответственном послушании. В помощь ей постоянно присылали паломниц. Только паломницы попадались совершенно бестолковые. Всё что-то путали, либо спешили и портили работу, либо слишком возились и не успевали. Мать Е. шла к старшей и просила:
— Помощница у меня очень бестолковая. Пожалуйста, пошлите другую, посмышлёней да порасторопней.
Старшая меняла помощницу, но новая каждый раз оказывалась хуже предыдущей, и так дело дошло до того, что матери Е. приходилось одной выполнять всю работу, потому что последняя помощница больше портила дело, чем помогала.
В отчаянии мать Е. отправилась к духовнику жаловаться на бестолковых паломниц. На жалобу духовник ответил:
— Так и будет у тебя, пока станешь их менять. Терпи ту, которую прислали.
Мать Е. стала терпеть, и скоро дело чудесным образом поправилось: с работой паломницы стали справляться.
Наконец-то помолюсь!
Две инокини из женского монастыря рассказывают:
— Пришли мы в монастырь, все неопытные, новоначальные. И наставницы наши такие же — преемственность монашеская утеряна, стариц, да и просто опытных монахинь днём с огнём не сыщешь... Кто как горазд, тот так и подвизается... Одна трудница всё время жаловалась:
— Помолиться некогда: всё время на послушании! Да и негде: в келье по несколько человек живём!
— А на службе?
— Да на службе, среди людей — какая молитва?!
Стала она одна ночью ходить в храм. А другая трудница была зациклена на колдовстве и порче и всё выискивала вокруг колдунов. Вот она и стала духовнику жаловаться:
— Батюшка, я проследила за сестрой ночью, в окно храма видела, как она посреди церкви руками машет и завывает—ну точно колдует! Колдунья, она, батюшка, точно колдунья!
Духовник очень удивился и остался после вечерней службы в алтаре. Стемнело, слышит пришла трудница. Духовник тихонько выглядывает и видит, как она встаёт на колени и радостно, на весь храм восклицает:
— Наконец-то помолюсь от души, Господи!
И начинает громко молиться, при каждом слове воодушевлённо и высоко взмахивая руками:
— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас: батюшку дорогого, всех сестёр и меня, грешную!
Откровение помыслов
Инокиня, приехавшая в Оптину в паломническую поездку, поделилась, как лет пятнадцать назад, когда их монастырь только начал своё существование, настоятельница решила ввести традиционное монашеское делание — откровение помыслов. Но сёстры, не привыкшие к такому деланию, вместо откровения помыслов стали впадать в грех осуждения, наушничества, сплетен. Появился соблазн с помощью этих самых откровений снискать себе льготы или, наоборот, восстановить матушку против тех, кто не нравится. Сёстры стали называть это откровение помыслов— откровением домыслов.
А поскольку в большинстве своём они были люди искренние, имеющие желание подвизаться, то скоро поняли (и первая —настоятельница), что до откровения помыслов ещё дорасти нужно. И тем, кто открывает, и тому, кому открывают. Настоятельница отменила «домыслы», и каяться в помыслах сёстры стали на исповеди — опытному духовнику.
Об этой грустной истории я рассказала игумену С., духовнику уральской женской обители. Большинство сестёр этой обители (а я хорошо их знала, так как десять лет окормлялась и несла послушание в этом монастыре) начали иноческую жизнь лет пятнадцать-двадцать назад. Чистые, ревностные, они пришли не из-за скорбей и напастей, а потому что возлюбили Господа. Господь призвал— и они пришли. Этими сёстрами можно было залюбоваться. Страсти ведь оставляют отпечатки на лицах людей: в выражении глаз, уголках губ. А тут передо мной были удивительно светлые лица, на которых след не страстей, а чистоты и молитвы.
И духовник сказал тихо:
— Вот если они будут и дальше подвизаться, трудиться и молиться, то, возможно, лет через пятьдесят обретут духовный опыт, и кто-то из них станет не старушкой, а старицей и сможет принимать откровение помыслов.
Скорее покупайте!
Инокиня с юмором вспоминает о себе самой десять лет назад.
Пришла в обитель юной девушкой, подвизалась ревностно, по новоначалию её заносило. Так, начитавшись про память смертную, про то, как древние старцы даже заранее себе гроб сколачивали и в нём спали, старалась всячески эту самую память смертную хранить. И начала себе собирать погребальное облачение: молитву, сорочку, тапочки и так далее. Только никак не могла купить крест, который кладут обычно в гроб. Простой такой пластмассовый крест.
И вот заходит в монастырскую лавку, а там привезли большие чёрные пластмассовые кресты. Она обрадовалась, скорее купила. Бежит, радостная, к сёстрам и кричит громко:
— Сёстры, кресты в гроб привезли, идите скорее себе покупайте!
Немая сцена...
Ода бабушкам
Приехав в Оптину, у меня остановилась настоятельница монастыря Казанская Трифонова женская пустынь, мать Ксения. В этом уральском монастыре я окормлялась десять лет, и очень была рада принять матушку у себя.
Сёстры этой обители часто делятся со мной историями, которые ложатся в основу моих рассказов. И мать Ксения тоже поделилась своими воспоминаниями:
— Оля, я расскажу тебе о бабушках. О каких? О своих и вообще — просто о бабушках. Мне хотелось бы воспеть настоящую оду нашим бабушкам!
Ты ведь знаешь: мне, как настоятельнице монастыря приходится общаться со многими людьми, с паломниками. И часто люди признаются: «Я вот пришёл к Богу в зрелом возрасте. Сам не знаю, почему. Без каких-то видимых причин...» Тогда я спрашиваю:
— А у вас в семье был кто-то верующий?
— Да. Моя бабушка.
Они не в лике святых, наши бабушки. Чем же они могли так угодить Богу, что Он слышит их молитвы?
Взять мою бабушку... У меня мама и папа неверующие. Такие времена были, что людей от веры отбивали. Они такие и выросли. Октябрята, пионеры, комсомольцы. Религия — опиум для народа. Мама и папа запрещали бабушке меня крестить, запрещали ей учить меня молиться. И для бабушки это была глубокая боль на сердце. Как и для других бабушек. Они так это всё терпели, с такой болью, что нельзя крестить младенчиков, нельзя причащать.
Многие из них так и умерли, не дождавшись возможности растить внуков в вере. Они только верили сами. И ещё — они доверяли Богу. Мало ведь просто ходить в церковь. Нужно впустить Бога в свою жизнь, доверять Ему, уповать на Него. Они просили у Бога за своих неверующих детей и внуков. И Господь не посрамил их исповедническую веру.
Если взять историю моей семьи... Мой папа появился на свет, когда деду исполнилось пятьдесят. Когда родилась я, мой папа тоже был уже в годах. Вот так и получилось, что мои дедушка и бабушка родились в девятнадцатом веке, а я живу в двадцать первом. Интересно, да?
Две бабушки. Мамина и папина. Обе — верующие. Мамина, бабушка Дарья, очень благочестивая, нищелюбивая, принимала странников, отдавала даже крохи. Стирала нищим одежду, прожаривала её в печи.
Папина, бабушка Ксения, была молитвенницей. Она умерла, когда мне исполнилось всего три года. Но она так молилась за меня, что, когда перед постригом меня спросили об имени, я мистически почувствовала, что хочу её имя.
И я так благодарна своим бабушкам! Одна была милосердной, другая молилась за меня. И по их молитвам я—монахиня, мать Ксения.
Когда стала монахиней, молилась за родителей. Они были неверующими людьми. Через семь лет мама начала читать Псалтирь. Потом они с папой обвенчались. В нашей семье было принято жить по совести. И это помогло мне прийти к Богу, потому что совесть—глас Божий в человеке.
У нас в монастыре мать Валентина рассказывала мне, что её верующая мама много молилась за неё, а она сама даже в храм не ходила. И когда мама умерла, дочь пошла в церковь. Потом стала монахиней Варварой, а ещё позже — схимонахиней Валентиной. И это тоже образец исповеднической материнской веры. Обильный плод материнских молитв. И с этой верой они ушли в другой мир.
А как-то к нам в монастырь привезли женщину тридцати семи лет. Привезли, как больного человека привозят в лечебницу. И она рассказала мне свою историю. Муж у неё гулял, а чтобы жена не мешала, стал её спаивать. А потом ушёл от неё. И она наглоталась таблеток. Реанимация. Клиническая смерть. И она чувствует, как душа от тела отделяется. И видит: её прабабушка стоит перед Богом на коленях и просит со слезами: «Отложи, Господи!» И чувствует: душа назад в тело возвращается. В реанимации её уже собирались увозить в морг. Смотрят: возобновилось сердцебиение.
Да... Наши бабушки — они не в лике святых, но они имеют дерзновение перед Богом... Вот такая моя ода нашим бабушкам!
По святым местам
Мать Ксения продолжает:
А ещё, Оля, я хочу рассказать о том, как полезно по святым местам ездить, даже неверующим людям.
В девяносто первом году я была ещё неверующей. Купила многодневную путёвку «Бахчисарай —Ялта». Привезли нас на экскурсию в пещерный монастырь. Смотрю: на скале изображение, в центре — в красном, по краям в клеточку. Кто это—понять невозможно. Но я отчего-то долго смотрела на это изображение. И как будто что-то хотела узнать, понять, В общем, в душе что-то произошло, а что —совершенно непонятно.
Вернулась домой. А потом пришла к Богу, потом — в монастырь, и вот уже восемнадцать лет в монашеском постриге. И решила я как-то посмотреть, в какой день меня постригали. Оказалось, это было двадцатое марта, день семи священномучеников, в Херсоне епископствующих. Я даже расстроилась. День пострига всегда важен для монашествующих, у многих он выпадает на какой-то церковный праздник, а у меня — совсем неприметный.
И вот в 2001 году я снова оказалась в Бахчисарае. У той же скалы, где когда-то со странным чувством пыталась разглядеть изображение. Теперь там был храм Успения Пресвятой Богородицы, и над ним — восстановленное изображение Пресвятой Богородицы в красном и семи священномучеников, в Херсоне епископствующих.
И я заплакала. Думаю, не нужно объяснять причину моих слёз.
Мир святых так близок!
Готовили к постригу послушницу. Мать Ксения спрашивает у неё, в честь какой святой она хотела бы имя получить. В честь Матроны Московской, мученицы Веры... А сестра твёрдо отвечает:
— Я хотела бы, чтобы при постриге меня нарекли Марфой. Марфа—сестра святого Лазаря. И вообще — красивое старинное русское имя.
Отец Савватий, духовник, говорит:
— Хм... Марфа... Пусть подумает, может, ещё имя выберет...
А сестра просит:
— Марфа... Я буду молиться, чтобы — Марфа.
При постриге отец Савватий, как обычно, приготовил несколько записок с именами святых, помолился и вытянул... Марфу.
Мать Ксения улыбается:
— Святая взяла её под свой покров. Знаешь, в таких случаях всегда чувствуешь: да, невидимые силы действительно предстоят. И мир святых, ангельский мир — он так близок! Душа после пострига постепенно изменяется. Даже черты характера меняются. Ты был одним человеком, а становишься другим. И смотришь на вещи по-другому... И становишься немного похожим на своих небесных покровителей.
Назидательная беседа на ночь
Приехали в Казанскую Трифонову пустынь паломники: папа, мама, сынишка-школьник и дочка лет пяти. Отец им на ночь обычно читал или рассказывал что-нибудь доброе, старался, чтобы ещё и полезный был рассказ, назидательный. И вот в один из вечеров он стал рассказывать о том, что не нужно бояться никаких страхов. А бояться нужно только греха. Долго рассказывал, сам увлёкся, примеры приводил. Жена— и та заслушалась. Когда закончил—легли спать.
А дочка Настя никак не засыпает, всё к маме жмётся.
— Доченька, ты чего не спишь?
— Я боюсь!
— Чего же ты боишься?! Смотри, как вокруг всё уютно, и лампадка горит, и мама-папа рядом. Папа ведь только что рассказывал, что не нужно бояться никаких страхов! Чего же ты боишься?!
— Я согрешить боюсь!
И кому мы это «Многая лета» поём ?!
У Насти день ангела. Мама, папа и брат поздравляют её и поют дружно «Многая лета!»
— Настенька, доченька, и кому мы это «Многая лета» поём?!
— Лету!
Как тебя зовут, благодетель ты мой ?!
Н. приехал в Оптину помолиться, потрудиться. В обители ему так понравилось, такой мир и покой душевный обрёл, что решил остаться здесь навсегда. Сначала хотел попытаться стать трудником. Но не смог: всю жизнь работал шахтёром, и хоть на вид мужчина ещё крепкий, но работать физически уже не может —руки сильно болят и дрожат.
Поехал, продал дом на родине за пятьсот тысяч, попытался купить жильё рядом с Оптиной, чтобы каждый день бывать на службах, окормляться у духовного отца. Время идёт, а за пятьсот тысяч никакого жилья не продаётся. Искал-искал, не может найти. Духовник благословил читать каждый день акафист святителю Николаю Чудотворцу. Прочитал он несколько дней акафист—нашлась квартира. Хоть и в бараке, но подведены и газ, и вода. И хозяин просит удивительно мало — четыреста тысяч. Таких и цен за жильё нет уже в Козельске.
П., радостный, говорит хозяину:
— Брат, да возьми хоть четыреста пятьдесят!
— Нет, четыреста хватит. Живи на здоровье.
— Да как тебя зовут-то хоть, благодетель ты мой?!
— Николай...
Неверующий Николай Иванович
Когда атеисты радостно объявляют, что у нас в стране неверующих больше, чем верующих, я всегда вспоминаю неверующего Николая Ивановича.
Меня попросили по вечерам поработать преподавателем английского языка для студентов вечернего отделения колледжа. Деньги нам с мамой очень нужны. Тружусь днём в Оптиной, два вечера в неделю — в колледже. Потихоньку знакомлюсь с коллективом.
Николай Иванович — преподаватель технических дисциплин, лет под шестьдесят, бывший военный. Весёлый, шумный и, по его словам, совершенно неверующий:
— Вон верующие пошли в Оптину, эх, мужики-то все бородатые, женщины в платках да в длинных юбках. .. А я-то сам — неверующий...
Николай Иванович любит шутить:
— Так! Что у нас в буфете осталось? Ни-че-го! Чай выпили, сахар съели!
Как-то мне срочно понадобилась мужская помощь: починить насос, который качал воду из скважины под домом. Я, без особой надежды, попросила Николая Ивановича помочь. И он тут же откликнулся на просьбу, долго возился с насосом, предварительно сняв наручные часы. Починив насос, вытащил на лето вторые оконные рамы, потом поправил коляску для моей парализованной мамы.
— Николай Иванович, я вам так благодарна!
— Пожалуйста! Не, деньги я не возьму, мужчины не зарабатывают деньги на помощи двум одиноким дамам. Почему я снял часы? Когда помогаю кому-нибудь, всегда часы снимаю, а то будешь на часы поглядывать да думать, сколько времени потратил. А тут надо помочь —и всё, пока не сделаешь работу, нечего и на часы заглядывать!
Надевает куртку, достаёт что-то из нагрудного кармана:
— Вот смотри! Что это такое? Иконочка! Святитель Николай Чудотворец! Всегда со мной! Вот уж помогал людям, так помогал! И сейчас помогает! Аты говоришь, часы...
— Так вы всё-таки верите в Бога, Николай Иванович?!
— Конечно, верю! Я что, сумасшедший — в Бога не верить?!
— А как же вы говорили — неверующий?!
— Так я в храм в Оптину раз в год хожу! И какой же я верующий?! Не, мне до верующего ещё дорасти нужно!
Как Николай Иванович в молодости на свадьбе гулял
Празднуем День учителя. Николай Иванович рассказывает коллегам байку из своей молодости. Пошёл он как-то с женой на свадьбу к другу. Атам—шум, гам, веселье. Подруга жены выпила лишнее и, когда Николай Иванович выходил на улицу покурить, вышла вместе с ним. И они поцеловались.
— Я жену всегда любил! И сейчас люблю! И как я с этой подругой поцеловался — сам не понял... Но слушайте, что дальше было... Возвращаемся мы за стол, я от жены глаза прячу. И тут приносят утку на подносе. Стали подавать, официантка не удержала поднос — и вывалилась эта утка со всем её соусом прямо мне на колени. А она только что из печи. Ноги обожгло очень сильно! А у меня костюм новый, красивый! Я на кухню, там вокруг меня все засуетились, брюки мне снимают, отстирывают, а у меня ноги до колен все красные! Так я половину свадебного вечера и простоял на кухне в трусах и с обожженными ногами.
И «неверующий» Николай Иванович делает неожиданный вывод:
— Вот так грех за грех цепляется, и тут же воздаяние получаешь!
Главная драгоценность
Зина, читательница православной газеты Севера России «Вера-Эском», в которой я печатаюсь, написала мне письмо, поделилась своей мечтой приехать в Оптину. Мы начали переписываться, и я пригласила её в гости. Зина приехала, прожила у меня несколько дней, поделилась историями из своей жизни и разрешила рассказать их, сохранив её имя. Одна из историй легла в основу повести «Поездка к отцу», а вторая, короткая, вот.
Зина работала на дробильно-обогатительной фабрике, вырастила сына и дочь. Дочка вышла замуж, уехала, сын тоже подрос, собрался жениться, купили ему Зина с мужем половину дома. Продал им эту половину сосед Бобырь. Он там уже и не жил давно, использовал дом как дачу. Когда перевозили вещи сына, сосед сложил все свои старые пожитки в кладовку и говорит:
— Можно сжечь, можно выкинуть...
Зина смотрит: в кладовке что-то блестит. Она потянула—икона большая святителя Николая Чудотворца, украшенная блёстками. Бобырь блестящее увидел и как закричит:
— Это что ещё за драгоценность такая? Ну-ка, давай быстро сюда, может, я чего ценного не заметил! А... Это никакая и не драгоценность, доска с фольгой...
И бросил назад, в кладовку. Зина тут же икону подхватила:
— Нельзя так с иконой! Это же драгоценность и есть!
Бобырь только посмеялся. А Зина икону привела в порядок и в красный угол поставила. Она всегда святителя Николая Чудотворца почитала. У них и храм был в честь Николая Угодника.
Прошла неделя. Зина была на смене, работает и молится тихонько. Только тропарь святителю Николаю прочитала, чувствует, как будто что-то её от работы отрывает и ноги сами ведут в другой цех, на участок обезвоживания. Ей там и делать нечего совсем... Пришла, постояла, а там молодёжь: слесари, фильтровалыцики, аппаратчики. Думает: «И зачем это я сюда только пришла?! Ерунда какая-то! Нужно к себе идти работать!»
Вдруг слышит телефонный разговор:
— Ну и что, горит! Не у тебя же горит! Да там вообще никто не живёт, это пустая дача!
Зина похолодела, подбегает:
— Что горит?
— Да вы не волнуйтесь так, это дача! — И называет номер дома её сына.
Она опрометью из цеха выскочила, побежала. Прибегает: у соседей сына, которые там не жили постоянно, вся половина дома как свеча горит. Жители улицы пожарных вызвали, сами стоят —смотрят.
Она к двери—та заперта изнутри на крючок. Стучит кулаками, а её успокаивают:
— Да вы не волнуйтесь, там нет никого, это же дача.
— Там сын у меня!
Взломали мужчины дверь, вбегают. Зина смотрит: сын после ночной смены спит как младенец, а у него уже потолок занимается. Разбудили его, а он спросонок ворчит:
— Вы чего сюда, я же раздетый...
Потом сообразил что к чему, выскочил, за ним кошка выскакивает. Зина икону святителя Николая Чудотворца вынесла, соседи —вещи, какие успели. Сын на улице стоит, смотрит: у соседей часть дома как свеча горит, и у него занимается. Он побледнел как мел, затрясло всего. Пожарные приехали, вторую половину дома кое-как отстояли.
Зина и сейчас думает, что это Николай Угодник спас её сына.
Об правой руке, правой ноге и голове на плечах
Как обычно, после послушания, прихожу на источник преподобного Пафнутия Боровского. Захожу в домик с навесом, где купель и раздевалка. В раздевалке уже есть желающие искупаться: две улыбчивые молодые паломницы и матушка средних лет с видом строгим и хмурым. Паломницы радуются: впервые приехали в Оптину, первый раз на источнике. Они жизнерадостно читают молитву святому Пафнутию. Затем одна из них, счастливо улыбаясь, говорит другой:
— Ну вот, а теперь искупаемся!
Со скамейки подаёт грозный голос строгая матушка. Это голос неумолимого судии, который часто устраивает окружающим свой собственный «маленький страшненький суд»:
— Что-о-о?! Что вы сказали?! Купаться?! В бане купаться будете! Мылом намылитесь! Мочалкой натрётесь!
Паломницы приходят в ужас. Всё было так тихо и радостно, и вдруг такая гроза...
Робкий голос:
— Матушка, простите, мы не так выразились, наверное...
— Выразились!!! Выражаться дома на мужей будете! Нельзя говорить «купаться» о святом источнике!
— А как можно?
— Нужно говорить «исцеляться»! Вот, дескать, сейчас исцеляться будем. Поняли?!!
— Поняли, спаси Господи, матушка! Таня, давай ты первая исцеляйся, а я уж за тобой.
— Да, Леночка, а то там Пётр Иванович, наверное, нас уже ждёт на улице. Как ты думаешь, он уже иску- па... ой, исцелился?
Из соседней мужской купальни доносится пофыркивание и плеск воды.
— Нет, Таня, похоже, он ещё в процессе исцеления...
Грозная матушка внимательно слушает диалог и одобрительно кивает головой.
А я вспоминаю, где я встречала эту строгую матушку и слышала этот грозный голос... Вспомнила. На днях в паломнической трапезной я сидела за столом с молоденькой мамочкой, на коленях у которой был сынишка лет двух. На улице жарко, и личико малыша было розовым, вспотевшим. Он потянулся к кувшину с компотом обеими ручонками. И юная мамочка уже хотела дать ему попить, но раздался грозный крик: «Нельзя! Ещё не помолились, а они лезут! Не трогать ничего на столе!»
Ребёнок испугался и заплакал, а мамочка принялась его утешать. Мы, сидевшие за столом, промолчали. Конечно, сейчас все соберутся, помолимся, и можно будет приступить к трапезе. 5—10 минут можно потерпеть... Начни спорить с грозной матушкой, будет конфликт за трапезой в монастыре...
Сынишка успокоился, а его мамочка оглядела нас, сидящих за столом, и грустно спросила:
— Где же ваша любовь, сёстры?
У меня до сих пор в ушах её грустный тихий голос...
Мои воспоминания прерываются знакомым грозным криком:
— Стой!
Перепуганная Таня застывает, занеся ногу над водой купальни. Я вспоминаю детскую игру «Замри». Мне становится смешно, и я еле удерживаюсь от того, чтобы не прыснуть.
— Ты куда левой ногой в святой источник лезешь?! Всё с правой руки и с правой ноги делай! Поняла? К иконам с правой стороны подходи! И свечки правой рукой подавай! И в источник правой ногой! Слева-то, знаешь, кто сидит?!
— Зинаида, ты чего тут расшумелась-то? — в дверь незаметно вошла маленькая весёлая старушка .—Чего, говорю, кричишь-то? А матушка-то тебя потеряла на огороде с утра. Ты, почему грядку-то бросила недопо- лотую? Занедужила? Во-о оно как. Ну, судя по голосу, что я за сто метров до источника слышала, видать, дело на поправку пошло? А то матушка сегодня вспоминала присказку одну:
— Тит, а, Тит, пойдём молотить?
— Брюхо болит.
— Тит, а, Тит, обед готов.
— А где моя большая ложка?
Грозная Зинаида мгновенно теряет всю свою суровость и как-то молниеносно исчезает из купальни.
Маленькая старушка весело спрашивает у до сих пор неподвижной Тани:
— Ты чего, милая, застыла-то? Испужала она тебя? С правой ноги говоришь? А ты от страха забыла, которая из них правая? И теперь не можешь идти исцеляться? Милая, да ты с любой ноги иди да купайся! Вот-вот! Окунулась? Вот и Слава Богу! Мы-то купаемся да окунаемся, а исцеление-то Сам Господь подаёт, если воля Его будет. Поняла? И вот ещё что я тебе скажу: голову-то свою на плечах надо иметь. Так-то.
«Есть только одно дело — спасение души, остальное — поделье»
Толя — молодой парень, в Оптиной трудится несколько месяцев. Как-то мы вместе едем по послушанию, и он рассказывает мне о себе:
— Знаешь, как я рад, что оказался в Оптиной?! Тяжело, конечно, но зато здесь всё, как бы это выразиться, — настоящее. Понимаешь? Я здесь понял слова: «Есть только одно дело — спасение души, остальное — поде- лье». А раньше я об этом даже не думал. Батюшка сказал, что раньше я спал, а теперь проснулся. И мне кажется, что это на самом деле так.
Я вот теперь о спасении души размышляю. А жил в Москве —всё нормально. Какая душа?! Какое спасение?! Пить—многие пьют. Воровать—многие воруют, кто где работает, тот там и берёт. Блудить—то же самое. Сейчас даже названия такие приличные придумали: «гражданский брак», «пробный брак», «бойфренд»...
Прочитал я недавно в одной книге о Первой мировой войне. Там офицер молоденький умирает в лазарете и просит медсестру:
— Дайте мне белую чистую рубашку, я хочу умереть в чистой рубашке, а совесть моя чиста: я умираю за веру, царя и Отечество.
Я книгу отложил и стало мне так больно... Не знаю, поймёшь ли ты меня... Подумал тогда: мог бы я так сказать? Мои бывшие приятели могли бы? Последний раз в ютубе был, встретил одного мажора, путешествует за папины деньги. Побывал в Индии и говорит мне:
— Что такое Родина? Вся Земля —вот моя Родина!
А я подумал:
— Да посчитают ли тебя-то роднёй в других странах?! Как идти защищать Отечество, если не знаешь, что это такое?!
Понимаешь, запал мне в душу этот офицер, мой ровесник... Я бы хотел иметь право так же сказать: «А совесть моя чиста». Только к словам этим простым—путь очень далёкий... Помоги, Господи!
Паломничество
Раньше люди старались совершать паломничество так, чтобы понести какой-то труд, принести жертву. Часто шли пешком, стирая ноги в кровь. Похоже, времена эти минули в прошлое, и сейчас мы предпочитаем комфорт в поездке. Но не все.
После экскурсии паломница делится рассказом о своей бабушке:
— Едем мы на поезде в Оптину: я, муж и наша бабушка старенькая. И вот она ходит тихонечко по вагону туда-сюда, туда-сюда. Муж не выдержал:
— Бабуся, ну что же вам спокойно-то не сидится? Зачем вы всё ходите?
— Я иду в Оптину пустынь!
Про Дашеньку
— Мы к вам на экскурсию—всей семьёй! Да, мои! Два сыночка и лапочка дочка! А я вот вам сейчас расскажу, пока народу нет. Ребята, погуляйте немножко. В книжную лавку? Можно, только Дашу за руку возьми...
Ну, вот что я рассказать-то хотела? А — вот: ждала первого ребёнка, думала — дочка, назвать хотела Дашенька. Родился сын. Хорошо: вторая дочка будет. Забеременела вторым. Опять сын. Тоже хорошо: два сына! Через девять лет только снова забеременела. Мать у меня неверующая, стала донимать: делай аборт, не прокормишь троих, кто ты такая, простая телятница...
— Нет, мама, там моя дочка Дашенька...
— Там пацан опять, делай аборт, тебе говорю!
Я с ней не спорю, чтобы не расстраиваться, а сама время тяну, вот уже пять месяцев беременности—поздно аборт-то делать! Родила —дочка! Дашенька! 2400. И вот никак младенчик вес не набирает. Набрала 2500 и — никак. Ей уже три месяца, а она всё 2500. Положили нас в Калугу в областную больницу на обследование. Врачи ничего понять не могут. Она кушать кушает, а в весе не прибавляет. Заговорили об операции. Я реву.
А в палате со мной матушка с ребёнком лежала. Она меня с Дашенькой в охапку и к мужу-священнику отвезла, он нас обеих окрестил. Я сама-то тоже некрещёная была.
И что вы думаете?! После крещения ребёнок стал быстро набирать вес! Сейчас Дашеньке четыре с половиной. Умница! Мне помогает во всём, даже полы метёт. Приду с фермы, а она, как обычно, спрашивает:
— Мама, что делала? Муку кормила?
— Кормила, доча, кормила.
— Не поняли?! Это она с младенчества так телят зовёт! Знаете, я даже сама после крещения изменилась. Да-да! Я была какая-то... жестокая такая... агрессивная... Скажет кто-нибудь что-то не по мне, я хожу — злюсь, всё думаю об этом, всё придумываю, как бы ответить позлее, чтобы отомстить, значит.
А сейчас обидят, да и ладно! А я и не расстроилась! Как-то легче на душе стало после крещения, как-то веселее. Я ведь не умею толком-то объяснить... Понимаешь?
— Понимаю.
— Вот и рассказала... А теперь можно нам экскурсию по Оптиной?
Что же мешает нашему спасению?
Отец иеродьякон Н. рассказывает, как стал свидетелем разговора паломников с владыкой Феогностом, приехавшим в Оптину.
— Владыка, благословите! Разрешите задать вам вопрос... В наше время так много факторов, мешающих спасению души: глобализация, высокие технологии, виртуальные реальности, которые на самом деле расчеловечивают человека, компьютерные игры и бесконечное общение в социальных сетях, отрывающее людей от реальной жизни, монстры телевидения, которые зомбируют зрителей,—опасностей миллион! Как Вы полагаете, что же представляет собой самую большую опасность для спасения души и жизни по заповедям Божиим?
— Эгоизм.
- ...
Чудаки с гостинцами
Оптинский игумен Н. рассказал мне о своей сестре. Ему очень хотелось, чтобы она пришла к Богу, но сестра о вере не задумывалась и в церковь не ходила. Отца Н. очень любят его духовные чада, их любовь к духовному отцу распространялась и на его сестру.
Они часто стучали в дверь её московского дома, не заходя дальше прихожей, просто, чтобы передать какие-то гостинцы, угощение, сладости. Чем-то порадовать сестру любимого отца, просто поздравить с церковными праздниками и подарить подарки.
Она сначала не понимала этих людей, удивлялась их гостинцам. Если случалось кому-то из них зайти при её подругах, говорила:
— Это опять от брата гости... Странные люди... Чудаки!
Подруги в модных нарядах, с дорогим маникюром и изысканными причёсками, выглянув в прихожую, позже высмеивали её гостей: всех этих простых, без косметики, в длинных юбках, непонятно чему радующихся женщин, этих не слишком элегантных бородатых мужчин с сияющими лицами, которые просто так привозили ей гостинцы, передавали поклон от брата.
Сестре хотелось защитить их, и она говорила в ответ на ехидные колкости подруг:
— Зато они такие добрые! У них у всех такие радостные светлые лица!
Потом она стала задумываться, почему у людей из её окружения лица совсем не радостные и не светлые, почему они не готовы никого бескорыстно радовать. И ей захотелось чаще видеть «этих чудаков»...
И спустя несколько лет она приехала к брату в Оптину пустынь и сказала, смущаясь:
— Знаешь, я хочу стать такой, как твои чудаки — такой же доброй, искренней, открытой. Верующей. Помоги мне, пожалуйста!
Плащаница
После экскурсии паломница рассказывает об удивительном случае. Она сама доктор наук, преподаватель МГУ. Начали с мужем, тоже преподавателем МГУ, воцерковляться уже в зрелом возрасте. А у них была верующая подруга, и она вышивала золотом плащаницы для храмов. Вот как-то они купили у подруги плащаницу Успения Пресвятой Богородицы.
— Повесили мы эту чудесную плащаницу в гостиной как картину, думали: как хорошо сделали... Да ещё, по своему новоначалию ничего не понимая в этом, повесили вертикально. И вот ночью мне снится сон: Пресвятая Богородица тихим добрым голосом говорит мне: «Повесьте плащаницу горизонтально и в место поспокойнее...» И мы унесли плащаницу в храм, и стали относиться к святыням благоговейно — так, как и нужно к ним относиться.
А сейчас в Оптиной есть старцы?
Часто задают на экскурсии вопрос: «А сейчас в Оптиной есть старцы?» Обычно отвечаем:
— Знаете, а они отсюда никуда и не уезжали. Они здесь хозяева.
Три важных бизнесмена на экскурсии сетуют:
— Приехали мы в ваш монастырь, зашли в храм, попросили дежурного инока открыть мощи преподобного Амвросия, а он отказал. Дескать, не вовремя, после молебна приложиться можно будет. Нам молебнов ваших ждать некогда, у нас дел много. Мы ему деньги предлагаем, а он смотрит так удивлённо — и денег не берёт.
На следующей экскурсии—группа бабушек из далёкой уральской деревни. Вот уж никакой важности у них нет, наоборот, робкие такие бабушки, видно, что совсем бедные, может, на последние деньги в Оптину приехали. Делятся радостно:
— Доченька, мы на молебен-то опоздали, думали, теперь уж к мощам батюшки Амвросия не приложимся. Видать, недостойные мы. А монах-то у мощей нам стекло отодвинул и говорит: «Прикладывайтесь, матушки!» Вот радость какая, доченька! Вот как нас батюшка Амвросий хорошо встретил!
Хозяева Оптиной пустыни
Схимонахиня Елисавета делится своими мыслями:
— Мне всегда представляется, что Оптина пустынь —это один такой болыпой-болыпой дом, где мы все живём. А в самом конце дома, в отдалённой комнате, живут Оптинские старцы. Живут среди нас. И они здесь—хозяева. Всех видят, всех знают. Мы ино
гда забываем, что они здесь главные. Но они про нас не забывают и опекают всех обитателей монастыря как своих духовных чад. И именно они решают, кто будет здесь жить... Они ждут и заранее знают, кто приедет к ним в гости...
Преподобные отцы наши, старцы Оптинские, молите Бога о нас!
Тесный путь
История одной семьи
Посвящается протоиерею Вячеславу (Пономарёву), матушке Надежде и их детям Сергею, Нине, Галине, которые поделились со мной воспоминаниями
За окном поезда —очей очарованье, осень золотая. Мой любимый месяц — сентябрь. Мелькают за окном багряные, жёлтые, рыжие листья — золото деревьев. Воздух прозрачный, солнце уже не опаляет как летом, оно тихое и ласковое, играет в осенней листве, переливается осенним золотом. Стучат колёса — тук-тук, тук-тук, вагон качает.
Я еду на встречу с прошлым. Волнуюсь. Сердце временами гулко бухает там, в груди, как будто ему тесно. Что меня ждёт? Момент истины?
Меня никто не называет стариком, хотя по возрасту уже пора. Умываясь, смотрю в небольшое зеркало — высокий мужчина, широкие плечи, седина на висках, смотрит на меня испытующе и печально. Что оцениваешь, друг мой? Как много пройдено дорог? Много. Как с ошибками? Достаточно.
Выглядишь ты, старина, конечно, ещё неплохо. Но это наследственное. Дедушки и бабушки, спасибо вам. А вот мама и папа долголетием похвалиться не смогли. Не дали им похвалиться долгими годами жизни. Я уже старше, гораздо старше их. Пожалуй, отцом бы назвали...
Читал недавно: есть такой закон в психологии — закон Рено. Он гласит: память человеческая освобождается с конца. И когда человек уже не помнит, что происходило три дня назад, он всё ещё очень хорошо помнит своё детство. Да, пора, мой друг, пора — покоя сердце просит. Скоро, наверное, начнёт и в твоей жизни действовать закон Рено.
Но пока есть ещё время. Наверное, Господь даёт его, потому что не наступил ещё момент истины. Я еду туда, где он ждёт меня.
Как хорошо, что так громко стучат колёса. Не слышно говора соседей. Вот они и укладываются спать. А я всё сижу и смотрю в вечернее темнеющее окно, где мелькают огоньки станций или тёмные леса и поля. Закрываю глаза —ярко: речка наша Бобровка! Реки нашего детства —какие вы добрые и весёлые! Полные бесконечной радости, когда день «всё длился, всё не кончался». Как ярко: голубые брызги, тёплый песочек у берега, пескарики у ног!
Открываю глаза — ночное окно, тусклый свет, спящие соседи, тук-тук — колёса. Что это? Такая яркая картинка из детства? Как будто я только что стоял на тёплом песчаном берегу нашей Бобровки в селе Скородум Ирбитского уезда. Бобровка впадает в Ирбит, Ирбит в Тобол, Тобол в Иртыш, Иртыш в Обь, а уж Обь в Северный Ледовитый океан. Так нас учили в школе.
Недавно читал: взгляд в прошлое, который меняет настоящее, англичане называют коротким и точным словом, что за слово? Дежа вю? Нет, это французское и совсем о другом. Вспомнил: флешбэк. Да, да — флеш — вспышка, как молния освещающая прошлое. Бэк —назад. Да, при вспышке молнии становится видно всё, что могло быть скрыто при обычном освещении. Всё, что таилось в потаённых, сокровенных уголках нашего дома. Или нашей души.
Вообще-то я не очень люблю иностранные слова. Когда что-то можно назвать по-русски, то зачем они? Но, с другой стороны, не боюсь их. Слишком люблю и горжусь нашим великим и могучим, чтобы бояться употребить иностранное. Есть слова, которые кратко передают суть, а по-русски это будет целое предложение. Как одним словом сказать по-русски: дежа вю? Или ноу-хау? Поэтому «флешбэк» мне нравится. Да, вспышка, как молния, освещающая прошлое...
Закрываю глаза. Я готов встретиться с прошлым. Флешбэк.
Тепло. Доброе солнышко. Вода в речке слоями—то тёплая, то холодная. Мелюзга плещется у берега. Плыву по реке. Странное ощущение. Я одновременно сижу в купе поезда и одновременно плыву. Вот купе теряется, размывается, пропадает...
Как хорошо быть восьмилетним мальчишкой, плыть вот так по нашей Бобровке и знать: впереди бесконечный летний день. Краем глаза приглядываю за сестрёнками. Шестилетняя Нина зашла в воду по колено и завела за собой трёхлетнюю Галинку. Малышка водит руками по воде, плещется и громко кричит мне: «Плыву! Плыву!»
Нина смеётся: «Сережа, Галинка у нас плавать научилась!» А я кричу: «Всё хватит, идите на берег! А то замёрзнете!» И сестрёнки послушно бредут к берегу. А я провожаю их взглядом, пока они не оказываются на жёлтом тёплом песочке, переворачиваюсь на спину и лежу, покачиваясь на волнах. А надо мной —голубое высокое небо в лёгких белых облаках. Хорошо!
Выхожу на берег, достаю из сумки пару бутылок. У бутылок дно воронкой выгнуто внутрь. Середину дна я пробил заранее, заткнул горлышки, в бутылки насыпал крошек. Кладу бутылки на дно речки воронкой навстречу течению. Садимся втроём на мостик, на горячие доски и смотрим вниз.
Вода в Бобровке прозрачная, хорошо видно, как в наши бутылки заплывают пескарики. Заплывают, а назад выбраться не могут. Галинка сопит рядом. Я их очень люблю — своих сестрёнок. Семья у нас дружная.
Правда, иногда Нине надоедает маленький хвостик, который бегает за ней по пятам, и она хитрит, находит предлоги, чтобы малышка отстала хоть ненадолго. Я сержусь —показываю Нине кулак. Но она знает, что не обижу, высовывает мне язык. Потом тяжело вздыхает и тянет Галинку за ручонку —по ягоды и грибы. Понимает, что старший брат прав. Слушается, хоть и язык показывает иногда.
Бутылки полны пескариков. Я достаю их из воды, открываю горлышко у бутылок, вытряхиваю пескарей в котелок, и мы идём домой, несём улов на уху. Я ловлю рыбу и на удочку, ухожу вдоль по реке, туда, где глубокие места, омуты. Там можно поймать окуней и даже щук. Одному там бывает жутковато, особенно когда по воде идут внезапно пузыри. Говорят, что там живёт сом-великан. Может и человека под корягу затащить. Поэтому ходим с друзьями—вдвоём, втроём. Про сома и про то, что одному страшно, вслух не говорим. Просто вместе, дескать, веселее!
Мы приносим маме улов, и она радуется. Наша мама—самая красивая в нашем селе Скородум. А папа— самый сильный и добрый. Его уважают. Он священник. Мама вышла замуж в семнадцать лет и сейчас ей двадцать пять, но выглядит она совсем юной. Тоненькая, хрупкая, изящная. Папа любит подхватывать её на руки. Она смущается, а мы радуемся. Иногда все вместе забираемся на папу, а его широкие плечи даже не сгибаются под нашей общей тяжестью. Папа стройный, сильный, подвижный, на нём всё хозяйство.
У нас большой дом, и в нём живут ещё две старенькие бабушки и наш дядя—старый священник с женой.
Он когда-то помогал папе выучиться, а теперь папа заботится о всей нашей большой семье.
Он всегда занят: служит в храме. А когда не служит, сам пашет, сеет, косит, жнёт. Большой семье нужен хлеб, молоко. У нас есть корова, лошадь, поросёнок. Огород, небольшой участок земли для посева. Есть небольшое поле, засеянное коноплёй. Всем хозяйством папа занимается сам. Мама с бабушкой пекут хлеб, готовят еду, отжимают из семян конопли густое и душистое конопляное масло. Мы едим картошку и кашу с конопляным маслом. Жмых идёт скоту, а из волокна вьют верёвки и ткут грубую мешковину.
День ещё длится, и мы втроём идём за грибами. Так приятно, когда мама называет нас: «добытчики вы мои». За нашим селом Скородум, что тянется вдоль реки, лес: пихты, ели, сосны. Ключик с прозрачной ледяной водой, очень вкусной. Над источником — часовенка. Иногда папа служит в ней молебен о своевременных дождях, об избавлении от засухи и града. Над ключиком — раскидистые лапы тёмно-зелёной пихты, где так хорошо играть в прятки.
Около пихты много рыжиков. Я поднимаю с земли пихтовую лапу и показываю сестрёнкам сплошные ярко-рыжие мосты. Нина с Галей собирают их в лукошко, а я ищу новые грибные места и поднимаю ветви пихт. Лукошко быстро наполняется, и мы возвращаемся. Вот и будут к ужину уха и жарёха из вкусных ароматных рыжиков.
Меня бросает в сторону. Что это? Ах да, я в поезде. Остановка. Все спят. О чём я? Да, жарёха... Я помню этот вкус и запах маминой еды. Помню дни, переполненные счастьем. Я хочу туда, назад, в чистую детскую радость. Как давно это было! Какой же это год? Если мне было лет восемь, то это 1916 год. Да, 1916. Закрываю глаза.
Громкое торжественное пение — радость, ликование—так и рвётся из груди восторг! Пасха! Праздников праздник! Я иду в толпе людей вверх по лестнице в нашу летнюю церковь. Лестница устлана пихтой. Папа впереди—красивый, нарядный, потом—певчие. А потом —мы, все остальные. В самой лучшей одежде, с зажжёнными свечами, лица добрые, какие-то удивительно светлые. Многие плачут от радости.
Вот поднимается Тихон, мрачный обычно кузнец. Сейчас он смотрит по-детски радостно, улыбается мне, подталкивает вперёд себя. От лёгкого любовного толчка я переношусь сразу на две ступени вверх — и мы в летней церкви. Ярко горят люстры, иконостас в цветах и веточках пихты. Голос отца, красивый и мощный, оттеняемый хором певчих, звучит так, что звенят подвески на люстрах, дребезжат стёкла в больших сводчатых окнах.
Слышу, как стоящие рядом восхищаются:
— Батюшка-то наш, отец Вячеслав, вот уж поёт, так поёт!
— Да уж, послушать нашего скородумского отца из других приходов приезжают, вон смотри — Ирбитские!
Моё сердечко трепещет от радости. Стены, потолок, иконостас—всё ликует пасхальной радостью, иконные росписи на стенах кажутся живыми и светлыми.
Наша церковь — красавица—высокая, двухэтажная, с высокой колокольней, множеством колоколов. Звон самого большого колокола ранним утром слышен за десять километров. А на маленьких колоколах звонарь на Пасху выводит такие перезвоны, что заслушаешься! Пасха — всеобщий любимый праздник!
Опять толчок. Что это? Поезд тронулся. Стояли по расписанию минут двадцать. Неужели двадцать? Я прожил целую пасхальную службу! Так ярко видел отца. И слышал его голос. Папа...
Да, сейчас можно только удивляться, когда отец всё успевал? Меня называют трудолюбивым человеком. Наверное, так и есть. Ведь я сын своего отца. Есть и успехи в карьере. Но его меры я не достиг. Нет, не достиг...
Он был настоящим пастырем. Тем самым, который «душу свою полагает за овцы». К нему шли в любое время дня и ночи: звали к умирающим и тяжелобольным, он крестил, венчал, отпевал, служил литургию, молебны, панихиды... Обращались и просто так, за советом.
Но кроме службы он ещё и занимался хозяйством. А ещё, после нескольких пожаров в селе, он организовал пожарную дружину, учил молодёжь. Несколько раз получал ожоги на сильных пожарах. Что ещё?
Во дворе под крышей был верстак и набор инструментов. Папа сам делал по чертежам ульи, рамки для пчёл, занимался пчеловодством. Желающим раздавал пчелиные рои, помогал начинающим пчеловодам.
Любил читать. В свободные зимние вечера читал, играл в шахматы. Выписывал журналы «Нива», «Родина», журналы по пчеловодству, сельскому хозяйству. Жили мы небогато. Самой дорогой вещью был книжный шкаф —первая покупка папы и мамы после венчания. Духовная литература, классика, детские книги. В доме было стараниями мамы всегда много цветов — пальмы, туи, фикусы. Большой письменный стол. А остальная мебель — так, почти и не мебель. Большой деревянный диван в столовой. Когда мама заболела, папа брал её на руки, укутывал в одеяло и приносил на этот диван. И мы все собирались рядом.
Только сейчас, с высоты прожитых лет, узнав, что это такое — быть мужем и отцом, я могу оценить, как любили друг друга мои родители. Почему нет у меня литературных талантов? Почему я не писатель? Не поэт? Я попытался бы в повести передать силу этой любви. Любви трагической, на стыке времён и эпох, любви мучимой, гонимой, но не побеждённой. У них отняли всё: дом, имущество, возможность служить. Отняли любимых детей и, в конце концов, саму жизнь. А любовь и веру не отняли. Не смогли.
Мама—хрупкая, болезненная, быстро уставала. Они с папой были такие разные: мужество и нежность. Сила и хрупкость. Но папа черпал силу в маминой любви. Он молился за такое огромное количество людей: за свою семью, за прихожан, за всех, кто нуждался в его молитве. И порой он, видимо, изнемогал под своей ношей.
А мама была его тихим пристанищем, его прибежищем, его женой. Молитвенница. Кроткая, терпеливая. Её вера тверда и глубока, физическая слабость не выдерживала состязания с силой духа. Папе часто было трудно, но он никогда не жаловался, не роптал. Мог прийти и молча сесть в ногах у мамы. Она прижимала его голову к груди, молилась за него. И папа, как будто напившись живительной воды из родника, опять весел, бодр, готов свернуть горы.
Жизненные силы бурлили в нём, порой он был вспыльчив, но отходчив. Как-то раз за столом, когда после обычной молитвы перед едой, мы обедали, маленькая Галинка закапризничала. Папа, который любил порядок, вспылил и скомандовал: «Марш на кухню!» Галинка немедленно повиновалась, ушла на кухню, вскарабкалась на лавку, поставила ноги на кадушку с водой.
Крышка с кадушки соскользнула, и сестрёнка упала в кадушку, испугавшись, громко закричала. Папа первым подбежал к ней, вытащил дочку, закутал в полотенце, принёс за стол и посадил на колени. От такого счастья — обедать на коленях у папы — Галинка сразу замолчала и со счастливым видом начала кушать.
А мама смотрела на них с такой любовью, что всем нам было радостно.
Драгоценностей в доме не было. Провожая детей из дома, всем дали три золотых крестика—единственные золотые веши в доме. Это было наше наследство. Наше благословение. Наша память о папе и маме. У меня был крестик с синей эмалью, у Нины — с розовой, у Гали — просто маленький золотой крестик. Потом носить их стало нельзя. А потом мы, все трое, потеряли наши крестики.
Что это за звук? Я всхлипнул? Хорошо, что все спят: мужчины не плачут. Потерял единственную вещь, оставшуюся мне на память от родителей. Но я помню о них и люблю! Помню! Закрываю глаза.
Рождество. Ёлка —огромная, таинственная, чудесная. Мы вокруг ёлки — счастливые, ждущие сказки. В нашем большом старом доме был зал. Он не отапливался и зимой был закрыт. Папа сам потихоньку от нас привозил из леса эту большую ёлку, вносил в зал, украшал вместе с мамой. А мы заранее мастерили игрушки из цветной бумаги, картона, фольги. Мама с бабушкой готовили печенье, самодельные конфеты, сладости. Всё это складывалось в корзинки для Дедушки Мороза и пряталось под ёлку.
К Рождеству в зале затапливают. Но дверь закрыта— там священнодействует папа. Он зажигает свечи на ёлке. И вот торжественный момент: двери открываются!
Сердечко замирает от восторга: у-ух ты! Ёлка в центре зала сверкает огнями. Мы ходим вокруг и надышаться не можём на нашу красавицу. Рассматриваем игрушки, бусы, орешки в золоте. Когда вдоволь налюбовались, папа берёт в руки гармонь — хоровод! Потом папа уходит куда-то, а вместо него является сам Дед Мороз. Он каждого просит исполнить песенку, или стихи прочитать, или сплясать, а потом запускает руку под ёлку и —а-ах—достаёт подарок. Подарков хватает всем: и нам, и деревенским ребятишкам. Как я счастлив!
Чувствую боль в спине: затекла. Открываю глаза, сажусь удобнее. Ночь. Глухая ночь. Спят уже и проводники. Я один. Наедине с прошлым. Почему я так долго не вспоминал его? Боялся? Чего боялся? Ах да, момент истины... Как ярко помнится детская радость! А боль? Помнится?
Громкий крик и плач Гали. Вскакиваю на ноги. Так устал сегодня, что уснул днём прямо на пашне. И вот что-то случилось. Бросаюсь к сестрёнке, по ноге у неё течёт кровь, течёт очень сильно. Тело становится ватным. Галя смотрит на меня в ужасе. Так, я должен взять себя в руки. Спокойно! Быстро разрываю рубашку, перевязываю рану, кажется, почти не кровоточит, чуть намокает, но не сильно.
Мы в поле на пашне. Я бороню, а Галя погоняет лошадку сидя верхом. Ей лет семь, значит, мне двенадцать. Гале тяжело ездить верхом —такой маленькой: ноги стирает в кровь, а мне, мальчишке, тяжело боронить. Но нужно работать, помогать родителям. Нина постарше, но она тоненькая, хрупкая, в маму, и со мной ездит Галя. Она покрепче и повыше ростом. Сестрёнка рассказывает, что, когда я уснул, решила попробовать боронить сама. Жалко стало уставшего братика. Тронула лошадь, а борона подпрыгнула, и один из зубьев впился в голень.
Везу Галю домой и чуть не плачу сам. Лучше бы мне было больно, чем ей! Едем медленно, чтобы не потревожить ногу. Надо срочно успокоить и развеселить сестру, а то вдруг от испуга заикаться начнёт. Колька соседский испугался быка и стал заикой.
— Не плачь, Галинка! А помнишь, ты у меня ехала на лошадке, а лошадка резко наклонилась, чтобы попить, и ты свалилась прямо через голову в быструю речку. А я тебя вылавливал, помнишь? А как мы смеялись—оба мокрые, помнишь? Ты даже не ушиблась. И была такая мокрая и удивлённая: только что верхом на лошадке и вот уже в речке! Помнишь? Сейчас уже приедем, не плачь! До свадьбы долго —всё заживёт, так бабушка всегда говорит.
А помнишь, как мы с тобой решили в поле заночевать, чтобы утром пораньше начать работу? Легли спать под деревом, а ночью гроза началась. Помнишь? Ты у меня даже не испугалась, ты ведь смелая девочка, да? А как мы проснулись от раскатов грома? Хлынул дождь, и мы с тобой под телегу перебрались. Сидим и молимся Николаю Угоднику.
А в дерево вдруг молния — как ударит! И оно вспыхнуло и загорелось! А мы под телегой сухие и целёхонькие, помнишь? Видишь, как хорошо всё? И сейчас всё хорошо будет. Вот уже к дому подъезжаем! Папа, что? Что ты говоришь? А, да, когда под телегой-то сидели, смотрим: папа по полю к нам скачет во весь опор. Испугался за нас, когда гроза началась, и прискакал. Ну вот, приехали, вот и не плачешь, молодец. Сейчас мама ногу перевяжет.
Боль тех, кого любишь, бывает часто сильнее собственной. Это я понял тогда, с Галей. А потом боль стала усиливаться. Потому что пришло время боли и испытаний. Да, испытаний. Выдержал ли я их?
Начальную школу мы, дети священника, закончили полностью. Шёл двадцатый год. И относились к нашей семье всё хуже и хуже. И мы наконец поняли, что мы — отверженные. Учился я хорошо, учителя говорили, что очень способный. Подготовившись за лето самостоятельно, перешёл из пятого сразу в седьмой класс. Но за мою учёбу причиталась большая сумма.
Нас обложили непосильными налогами. Дома дядя, старенький священник, и его жена нуждались в уходе, обе бабушки тоже стали совсем старенькие. Одна уже не ходила. Вторая —маленькая, сухонькая, очень живая, подвижная, трудолюбивая. Всегда была в работе: шьёт, вяжет, штопает и поёт русские народные песни. Этой зимой она перестала петь и совсем сгорбилась.
Петь она перестала после папиного ареста. К папе приходил наш сельский учитель, и зимними вечерами они играли в шахматы. Кто-то донёс, и папу забрали за «развращение сельской интеллигенции». Его приговорили к пяти годам.
Дом опустел без папы. Мама сидела у окна с сухими глазами и смотрела на дорогу в сугробах. А потом я просыпался ночью и каждый раз видел её на коленях у икон. Горела лампадка, и сердце тревожно сжималось в предчувствии беды.
Мама поехала на свидание к папе. Она решила бороться и ходатайствовать об его освобождении. Свидания не дали, к начальству маму тоже не пустили. И она возвращалась со станции ночью. Я пошёл встречать маму, но мы разминулись. И она сбилась с дороги, долго плутала, промёрзла. Попала в болото и промочила ноги. Еле живая, добралась до дому, и мы бросились её согревать, оттирать ледяные ноги. Но наши растирания помогли плохо: мама сильно заболела, начала кашлять. Туберкулёз.
Когда папа вернулся через шесть месяцев благодаря заступничеству учителя, с которым они играли в шахматы, мама уже кашляла кровью. Сказались, видимо, не только простуда, но и переживания за папу.
Наш тёплый дом на сквозняках времён держался нашей любовью. Но становилось всё труднее. Мама не могла работать. Страх за её здоровье и жизнь прокрался в нашу дружную семью. Дом был старый и холодный. И теперь, когда старшее поколение стало совсем немощным, а мама не могла работать, вся тяжесть труда легла на нас, на детей. Наносить дров, натопить печь, чтобы старики и больная мама не мёрзли, натаскать воды из колодца, подоить корову, приготовить еду. Испечь хлеб — ничего готового не продавалось. Хлеб пекли сами.
Папа иногда ходил из угла в угол и повторял маме: «Так, всё будет хорошо, Наденька. У нас всё будет хорошо. Парное молоко. Главное, каждый день пить парное молоко». Я видел, с какой благодарностью он смотрел на сразу повзрослевшую Галю, когда она, подоив корову, приносила маме кружку парного молока. Нина шила, вязала, как взрослая, готовила еду.
Папа ездил куда-то и привёз барсучьего сала, чудом достал где-то шоколад. Варил его с салом и мёдом, закупоривал горшки тестом, заставлял маму принимать это лекарство. Мама ещё похудела, стала совсем тоненькой, прозрачной. Но, как всегда, ровной, терпеливой. Казалось, она меньше обеспокоена своей болезнью, чем папа. Чуть получше ей становилось, старалась взять на себя домашнюю работу, уход за стариками.
Папа никогда не садился за стол без мамы. Когда она плохо себя чувствовала, приносил на руках и усаживал вместе с нами. Папа, как я сейчас понимаю, много молился. Он почти не спал и мало ел. Но свой молитвенный подвиг скрывал. Оценить его я могу только сейчас. Да, только сейчас. Всё так же ревностно служил он в храме. Всегда крепкий, мощный, он похудел, плоть его истончалась, но ярко горел дух. По-прежнему руководил пожарной дружиной, учил крестьян пчеловодству. Но дела шли всё хуже.
Голод вставал на пороге. Мы не могли учиться и не могли работать. Мы были детьми священника, а, значит, отверженными.
Сейчас, став взрослым, уже пожилым мужчиной, многое повидав и пережив, я могу оценить силу духа моих родителей. Как грубо попиралась мужественность отца, когда издевались над его семьёй, а он не мог нас защитить. Он, такой сильный, который, казалось, мог всё на свете, был бессилен остановить мамину болезнь, выучить детей, дать им нормальную жизнь...
Каково ему приходилось? Что он чувствовал? Что вынес? Поколебалась ли хоть на миг его вера? Нет. Сейчас, вспоминая папу, я думаю про многострадального Иова. Но часто боль тех, кого мы любим, бывает для нас сильнее собственной...
Теперь я понимаю, что наша вера заключается не только в том, чтобы ждать от Бога исполнения желаний, а ещё и в способности выдерживать скорби. И нужно иметь силу духа, чтобы принимать крест скорбей и нести его без ропота.
Открываю глаза. Не хочу больше вспоминать. Не хочу. Смотрю в ночное окно. По нему текут большие дождевые капли. Куда я еду, зачем? Может, вернуться и сесть в другой поезд? Идущий в обратную сторону? Капли бьют в окно. Это холодный осенний дождь.
Такой же дождь шёл тогда. Я помню, как сидел у окна, а на улице шёл бесконечный дождь. Помню, как долго собирался с мыслями, долго обдумывал свои слова, а потом пошёл к папе. Отец сидел за столом. Горела лампадка у наших любимых икон. Пресвятая Богородица смотрела на меня ласково и печально.
— Папа, мне нужно поговорить с тобой. Папочка, посмотри, что вокруг творится. Страшно. И ведь они не верят в Бога. Почти никто теперь не ходит в церковь. Их закрывают. А, может быть, Его и правда нет? А если Его нет, то зачем мы всё это терпим? Папа, ты можешь быть просто пожарником. Или пчеловодом. И тогда мы сможем учиться. И работать. А иначе мы просто умрём с голоду. А если ты не будешь служить, то мы сможем быть все вместе. Вместе, понимаешь? А если Бог всё-таки есть, то Он нас простит. Нина и Галя ещё совсем дети. Мама больна. Бабушки старенькие. Папочка, родной мой, надо что-то делать. Я должен работать. Хотя бы ради сестёр.
Папа слушал спокойно. А потом сказал мне:
— Я думал об этом, сынок. И принял решение. Вы напишете, что не будете встречаться с родителями, и вам разрешат учиться и работать. А мы всё равно будем вместе. Я буду молиться за вас, пока я жив. Нашу любовь никто не сможет отнять. Мы будем вместе — в молитве. А отречься, сын, я не могу. Даже ради вас. Но Господь не оставит вас, запомни это. Слышишь? Запомни: Господь не оставит вас. И моя молитва будет с вами. Всё, сын. Я принял решение. Это моё решение, слышишь? Моё решение. Запомнил?
Почему он повторил это несколько раз — о том, что это его решение? Я чувствовал это и тогда, знаю и сейчас. Чтобы чувство вины не мучило меня. Это момент истины? Или нет? Чувство вины —вот то, что живёт со мной всю мою жизнь. Вот что не даёт мне покоя — правильно ли я поступил? Может, мы должны были остаться вместе? И пройти этот путь до конца? Одной семьёй? Если б я был один, я остался бы с папой и мамой. Но я не мог. Я должен был уберечь сестёр.
Мы подписали бумагу, что отказываемся от контактов с родителями. И уехали. Мы больше не имели права встречаться с ними. Но общались тайком—передавали записки через одну верную семью.
Нина окончила школу и пошла учительствовать. Я жил в Ирбите и работал на Егоршинских шахтах, чтобы стать рабочим и не зависеть от своего непролетарского происхождения. Галя жила со мной и училась в Ирбитской заводской школе-семилетке Егоршинского района. Школа была открыта на заводе около станции Талый ключ.
Сёстрам разрешили учиться, а мне работать после нашего отказа от родителей. Галю несколько раз выгоняли из школы из-за происхождения, даже несмотря на наш отказ. Но директор школы, до сих пор ему благодарен, Думнов Пётр Фёдорович, очень добрый человек, говорил мне, что у сестрёнки хорошие способности, и защищал её. На свой страх и риск снова принимал её в школу после отъезда проверяющей комиссии.
Иногда он говорил Гале:
— Посиди дома три дня, к нам комиссия едет, будет проверять классовый состав учащихся. А потом приходи, когда они уедут.
Вот так, благодаря Петру Фёдоровичу, в 1928 году Галя закончила семилетку. Ей было пятнадцать лет.
Восемнадцатилетняя Нина работала учительницей в Ляпуново, глухой деревне в двадцати пяти километрах от Ирбита. Объявили всеобуч, а учителей не хватало. Наверное, поэтому, а, может, по молитвам наших родителей, Галя и Нина обрели своё призвание и стали учительницами.
Директор Пётр Фёдорович, рискуя своей работой, написал Гале направление на краткосрочные курсы учителей для лучших выпускников школ. Галя окончила эти курсы, и её отправили работать со взрослым населением в дальнюю деревню Чувашево. У сестрёнок и у меня не было ни белья, ни приличной одежды, ни обуви. Ну, я-то ладно. А вот сестёр я очень жалел. Изо всех сил старался им помочь.
Как я был счастлив, когда смог на свои талоны купить им обновки: туфли на низком каблуке, трикотажные кофточки. Галя сшила себе ситцевую синюю юбку и белую с синим горошком блузку, которыми очень гордилась. Так и стоит она у меня перед глазами в этой юбке и блузке — улыбается мне. Башмаки они с Ниной делали из холста.
Нам было тяжело. Мы переживали за родителей, друг за друга. Пятнадцатилетняя Галя должна была учить взрослых мужчин, лесорубов. И папа написал мне записку с просьбой поговорить как старшему брату с сёстрами о девичьей чести, о женском достоинстве.
И я поехал сначала в Чувашево, потом в Ляпуново. Краснея и смущаясь, выполнил наказ отца и говорил с сёстрами, просил их беречь свою репутацию, быть строгими и недоступными. Приводил много примеров, которые вспоминал из литературы, про Наташу Ростову и её увлечение Анатолем, которое чуть не привело к трагедии, другие примеры. Галя слушала серьёзно, а Нина от смущения сердилась и говорила, что сама всё знает. А потом рано утром я отправился пешком по осенней грязи в Ирбит.
Вот сейчас думаю: а ведь мне было всего двадцать лет. По нынешним временам — мальчишка. А ведь я чувствовал себя взрослым мужчиной, который несёт ответственность за сестёр. И выполнял это деликатное поручение, потому что папа и мама были лишены возможности сделать это сами.
На шахте было очень тяжело работать—уголь, пыль, сырость. Я лежал в больнице, лечили от ревматизма. Были ли счастливые минуты? Смотрю в окно. Тук-тук, тук-тук — стучат колёса. Много ли было счастливых минут в жизни? За окном сереет рассвет, ночь уходит, уходит тьма. Да, конечно! Мы были молоды. Закрываю глаза.
После болезни я нелегально приехал к родителям. Взял нашу лошадку, заехал за Галей, и вот мы едем к Нине в гости. Сколько детской радости принесла нам эта поездка! Закрываю глаза. Нужно только сосредоточиться — и я снова увижу.
Зимнее раннее утро. Лёгкий морозец. Небо ясное. Воздух такой свежий, зимний. От Ирбита до Ляпунове двадцать пять километров. Едем весело, лошадка бежит легко и быстро с лёгкими санями. Шутим и смеёмся. Проезжая очередную деревеньку, я кричу: «Чашки и ложки—меняю на собаки и кошки!» Из ворот сбегаются хозяйки с ребятишками:
— Эй, парень, что у тебя есть? Чашки-то какие — покажи! А ложки-то деревянные или железные?
— У меня? Какие чашки-ложки, откуда? Вон сестрёнка только сидит!
— А где же собачник, который сейчас кричал?
— Не знаю, не видел! — пожимаю плечами и погоняю лошадку.
А Галя в санях смеётся звонким счастливым смехом.
Едем мимо зимнего леса. Он стоит белоснежный, укутанный в сугробы. Заставляю Галю надеть тулуп. Трогаю носик сестрёнки —ледяной. Замёрзла! Дожидаюсь, пока она наденет большой длиннополый папин тулуп поверх пальто, ловко дёргаю сани —и сестрёнка мягко вываливается в снег. А я прыгаю в сани и еду себе дальше. Кричу: «Догоняй!» А когда Галя догоняет меня, еду быстрее, и она отстаёт. Так я её согреваю. И когда вижу, что согрелась, останавливаюсь, хватаю сестрёнку в охапку и сажаю её в сани.
В другой деревеньке расспрашиваю о дороге, задаю глупые вопросы и смешу сестрёнку. Никло не сердится, а смеются с нами вместе.
К Нине являемся неожиданно, она визжит от радости и бросается мне на шею, потом в объятия к Гале. Прыгает, тормошит нас, расспрашивает о родителях. Мы, как могли, скрасили наш рассказ о папе и маме.
Назад ехали погрустневшие, посерьёзневшие. Было жаль оставлять Нину, тоненькую, хрупкую, похожую на маму, одну в дальней глухой деревне. И было до слёз жалко наших родителей, с которыми мы были разлучены.
Вскоре после этой поездки Галя прошла курсы учителей начальных классов в Ирбите. Её отправили работать учителем в Бердючинскую начальную школу Ирбитского района в шести километрах от Ирбита. Галинке было шестнадцать лет, и выглядела она как девочка-подросток.
Когда она пришла в школу с назначением, директор спросил: «Аты, девочка, в какой класс пришла?» А Галя сначала не поняла и ответила смущённо: «В какой пошлёте...» Потом, когда директор понял, что перед ним не ученица, а учительница, они вместе с Галей смеялись. Директор дал ей самый лёгкий — второй класс.
Эти дети уже знали азы, но были не такие рослые, как в третьих-четвёртых классах. В то время в этих классах нередко учились ровесники Гали — пятнадца- ти-шестнадцати лет. Я переживал за сестёр и часто навещал их. С родителями общались записками.
Тук-тук, тук-тук — стучат колёса. Скоро рассвет. Соседи ещё спят. Предрассветная тишина. Неужели так быстро прошла ночь? Я и не почувствовал. Как хорошо, что светлеет. В темноте ночи я, наверное, не смог бы заглянуть в тьму двадцать девятого года. Этот год стал трагическим для нашей семьи. Нет, я не хочу больше вспоминать. Лягу спать. Пытаюсь прилечь. Закрываю глаза.
Осенний холод. Улица. Большой костёр. В костре горит наш любимый книжный шкаф, наш старичок, самая ценная вещь в доме. Горят книги: требники, Псалтирь, Евангелие. Дымятся любимые Достоевский и Пушкин. Ветер разносит наши детские рисунки. После расставания мама часто доставала их с книжной полки и разглядывала.
Папа не смог выплатить непосильный налог, который наложили на него, как на священника. Наше хозяйство описали, вещи распродали с торгов, забрали старый дом, корову, лошадь. Закрыли красавец-храм.
На обочине дороги лежит наша старенькая бабушка, которая уже год не вставала, рядом с ней сидит и держит её голову на коленях вторая бабушка. Дядя- священник и его жена, к счастью, не дожили до этой трагедии, они умерли чуть раньше. Папа стоит и обнимает маму, дрожащую на осеннем ветру. С неё сорвали тёплую шаль: «Моей жене сгодится!» Папа и мама смотрят на костёр. Поджигатели смеются:
— Что, попадья, невесело? Ничего, контра, скоро тебе ещё грустнее будет! Небо с овчинку покажется!
Папа сжимает кулаки, но мама ласково гладит его по плечу: «Родной, потерпи ради меня. Ты знаешь, я не перенесу, если они начнут тебя бить».
Так родители и старенькие бабушки оказались на улице, без крова, без одежды, без еды, без всяких средств к существованию. Папа с трудом нашёл место священника в маленькой деревне Азево-Гуни в двенадцати километрах от Ирбита. Но этот день стал роковым для мамы. Она очень быстро после этого умерла. Ей не было ещё и сорока лет.
Умерла она в Азево-Гуни, через два дня после смерти нашей неподвижной бабушки. С утра папа причастил её, отправил нам записку о том, что бабушка умерла, а мама при смерти. И уехал в Скородум на похороны. Он хоронил старенькую недвижимую бабушку, которую в Скородуме приютила его верное чадо. А когда приехал с похорон, всё было кончено. Мама умерла на руках у второй старенькой бабушки, повторяя ласково наши имена—своих любимых детей и своего ненаглядного мужа.
Случайностей не бывает —это я знаю точно. И Господь привёл Галю в этот день в дом к нашим верным друзьям. Она прочитала записку, заплакала. И побежала на базар, где торговали жители из Азево-Гуни. Галя рассказывала, что в тот момент ей было всё равно: узнают о её поездке домой или нет. Крестьяне, торговавшие на базаре, согласились захватить сестрёнку с собой на подводе. И она приехала в дом даже раньше папы.
Когда подъехали к дому, уже стемнело. В окне видны были две горящие свечи. Крестьянин посмотрел на сестрёнку с жалостью и перекрестился. Но смысл его взгляда она поняла только позднее.
Бабушка, открыв дверь Гале, заплакала. И Галя спросила: «Где мама?» А бабушка ответила: «Раздевайся, обогрейся и пойдём к маме». Сестрёнка обрадовалась, у неё отлегло от сердца. Но когда она открыла дверь в другую комнату, то увидела стол, гроб и две свечи. Галинка потеряла сознание.
Когда пришла в себя, бабушка сидела рядом, плакала и просила её взять себя в руки. Скрипят ворота, наверное, приехал папа, а ему ещё тяжелее. Галя поднялась и пошла навстречу папе. А он только открыл дверь с улицы и упал, даже не перешагнув порог.
Галин ка с бабушкой кое-как затащили папу в дом. Он пришёл в себя, обнял дочку и плакал безутешно, как ребёнок. Гале непривычно было видеть таким нашего мужественного сильного папу. И она гладила его поседевшую голову, прижимая её к груди, как когда-то делала это наша мама.
Папа быстро взял себя в руки. Они посидели возле мамы. А потом он сказал дочке, что она помогла ему превозмочь горе, и теперь он просит её уехать, чтобы не прогулять работу. Папа нашёл верного человека, который согласился довезти Галю к её школе. И, несмотря на просьбы дочери остаться, благословил уезжать, пока никто не видел её. Иначе она могла потерять работу и возможность устроиться на неё в будущем.
Галя простилась с папой и бабушкой и уехала. Это была последняя встреча с нашим папой. Больше никто из нас не видел ни его, ни бабушки. Бабушка вскоре умерла, а папу снова арестовали. Его крестный путь близился к концу.
Почему я не был там, рядом с ними?! Всю жизнь не отпускает меня скорбь о том, что меня не было рядом. Меня и сестёр до конца наших дней будет объединять чувство вины, острой, глубокой жалости к родителям нашим, которых мы вынуждены были оставить. Чем дальше, тем острей каждый из нас осознавал всю горечь, всю боль их одиночества, одинокой смерти. Их одиноких, неизвестных и неухоженных могил.
Мы получили от папы только несколько весточек. Он благословил в своём письме Галю на замужество, а у меня сохранилась его записка. В ней он просил меня не оставлять сестёр, помнить о Боге. И в конце было четверостишие. Я запомнил его наизусть:
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог.
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Тук-тук, тук-тук — стучат колёса. Просыпаются соседи. Солнышко встало и освещает золотые деревья за окном. Моё путешествие подходит к концу. Мне нужно выйти в Екатеринбурге, а потом проехать двенадцать километров по Московскому тракту к месту, где было расстреляно и захоронено в общей могиле около трёхсот священнослужителей.
Дремлю около часа. Потом пью чёрный кофе и съедаю бутерброды, заботливо приготовленные женой. Вот и остановка. С собой у меня документы — архивные справки, которые удалось достать только в этом году. Из них мы узнали, что старости у нашего папы не было. Он погиб молодым.
Был арестован в 1920, в 1930, в 1933. Сидел в тюрьме с 1933 по 1935 год. Отпущен за недостатком улик. Арестован 4 сентября 1937 года сотрудниками УНКВД Ирбитского райотдела по Свердловской области. При обыске найдены епитрахиль, дароносица, серебряный крест с цепочкой.
Обвинён в участии в контрреволюционной организации и ведении контрреволюционной пропаганды (статья 58 УК РСФСР). Постановлением тройки при УНКВД через две недели после ареста —17 сентября 1937 приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 22 сентября 1937 года.
Проезжаю на автобусе оставшуюся часть пути. Передо мной мемориальный комплекс, огромный чёрный мраморный крест. А рядом на многочисленных гранитных плитах высечены фамилии расстрелянных.
Как хорошо, что нет дождя. Тёплый осенний ветер шевелит волосы, мягкое осеннее солнце ласкает спину. Медленно иду по траве мимо надгробий, и жёлтые листья шуршат под ногами.
И вот на одном из надгробий я читаю: «Пономарёв Вячеслав Акимович».
— Здравствуй, папа. Сегодня 22 сентября, день твоей смерти.
Сажусь рядом с надгробием. Достаю архивные справки и читаю папе вслух:
— Постановлением Президиума Свердловского областного суда от 15 мая 1958 года постановление тройки от 17.09.37 в отношении Пономарёва В. А. отменено, а дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Читаю, и слёзы текут по моим щекам.
— Папа, прости меня!
Сижу и слушаю тишину. Но тишины нет: стрекочут кузнечики, поют птицы. И я слышу голос отца:
— Сыночек! Я по-прежнему люблю вас и молюсь за вас! Разве не чувствовал ты наш с мамой молитвенный покров над вашей жизнью, родной мой? Всё хорошо. Не плачь! Вспомни:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Иван-крестьянский сын
Посвящается замечательным людям: учительнице Надежде Ивановне Поповой, её отцу Ивану Егоровичу, маме Галине Вячеславовне, героине повести «История одной семьи»
Воспоминания
Я давно хотел начать писать воспоминания. О своей жизни. Это мне поможет осмыслить все прошедшие события. Да. Буду писать и заново всё обдумывать. Такой анализ получится. Ещё потом можно будет прочитать и всё вспомнить. Вот. Допустим, родятся у меня дети. А я им потом прочитаю о своей жизни. Здорово я это придумал! Решено! С сегодняшнего дня начну! Я сначала из детства напишу чего-нибудь. Ну, что запомнил интересного. А то вот детишки спросят: «Папа, а ты в детстве какой был?» А я всё забыл! А тут вот открою свои записи-то и прочитаю! Это очень полезно! Только надо что-то такое писать назидательное...
Назидательного не могу вспомнить. Решил писать то, что в памяти, как зарницы, встаёт. Вот это хорошее сравнение я придумал: как зарницы! Сегодня надо обязательно начать писать, а то так никогда не соберусь! Я ведь давно хотел. Да всё не мог собраться. А тут мне подарили такую тетрадь толстую, с кожаной обложкой, даже пахнет вкусно. Такая тетрадь солидная. Ещё в клеточку, это очень удобно. Вот в ней и начну писать. Писать буду в свободное время, по вечерам. Постепенно дойду до сегодняшних дней. Начинаю.
Детство
Родился я в 1913 году, старший сын. Иван —крестьянский сын. Кроме меня в семье были ещё пятеро детей. Отец прошёл Мировую войну, был мобилизован в Красную армию. Он занимался на своей подводе эвакуацией раненых, наш конь—жеребёнок-двухлетка — очень пригодился отцу. Несколько недель отец был даже личным кочуром Блюхера. Я только много позднее узнал, что нужно говорить не кочур, а кучер. Отец пришёл с войны поздней осенью. Мама не смогла обеспечить посев на необходимой площади, заготовить сено. И нас ждала голодная зима. Мы влезли в долги.
Первое воспоминание, на мой взгляд, достойное упоминания, это когда я впервые почувствовал себя взрослым человеком, помощником в семье. Весной к нам пришёл наш сосед, заимодавец. Он предложил отцу вместо возвращения долгов отпустить меня к нему на посевную в качестве бороновальщика. Единственная дочь его, Таня, была больна, а сам он уже становился стариком.
Отец, глядя на меня, медлил с ответом. И неожиданный мой голос: «Тятя, я буду боронить!» вывел отца из затруднительного положения. Видимо, он думал, что сам был 12 лет в батраках, а теперь сын начинает свою жизнь с батрачества. Но неизвестно было, даст ли озимая рожь, да и яровая, ещё не посеянная, достаточный урожай, чтобы прокормить семью да ещё и долг отдать.
Мне было семь лет, и я ещё не понимал, что помогу родителям содержать семью. Главным соображением для меня было то, что у соседа был красивый саврасый конь. И я смогу на нём ездить!
Обрадованный сосед тут же сказал, что площадь посева небольшая, так как семья у него из трёх человек,
торопиться, дескать, не будем. И если Ванюшка (то есть я) устанет, то можно и верхом. Это меня ещё больше обрадовало.
Посевную начали в первых числах мая, а восьмого мая мне исполнилось семь лет. Спал я дома с сестрой и братом на полатях или в сенках. В шесть утра тятя вставал сам, поднимал меня. Похлопает по плечу: «Ванюшка, вставай!»
Я любил вставать рано. Сначала тяжело просыпаться. А потом выйдешь на крылечко, а там утренняя свежесть, птицы щебечут —день начинается! Солнышко только поднимается, босой ногой встанешь на прохладную доску крылечка, вдохнёшь полной грудью аромат трав! А если ещё черёмухой пахнет! Или сиренью. .. День впереди кажется бесконечным и обязательно что-то хорошее случится! А тут мама идёт и пахнет от неё парным молоком — корову подоила. Процедит молоко и нальёт мне полную кружку. Пьёшь, а оно тёплое, вкусное, кажется, что силы сами прибавляются!
Сборы были недолгими. Завтракал, обедал и ужинал я у хозяина. Он и его жена обычно встречали меня на крыльце: «Ванюшка милый пришёл!» За что-то полюбили они меня. Еда у них против нашей была очень хорошая. Хлеб свежий, пахучий. Суп питательный, обязательно мясной, молоко, свежий творог с вареньем. В постные дни — по средам и пятницам — ни супа, ни творога. Уха, парёнки, сусло, кисель. Семья была очень верующей и строго придерживалась постов. Как и в моей семье, перед любой работой молились, испрашивая Божие благословение на начало труда.
Закончилась посевная. С чувством выполненного долга я вернулся домой после ужина. Пришёл с обновками: ситцевая рубаха, перешитая из чего-то, и синие штаны, сшитые хозяйкой из самотканного холста.
Я очень гордился своим «костюмом» и до сих пор помню, как берёг свои синие штанишки и рубаху. Это был мой первый заработок.
Зимой я подружился со своим дедом Кондратием Сергеевичем. Бабушка умерла, и он стал жить с нами. Он уже плохо видел, но учил меня читать, очевидно, по памяти: «Аз, буки, веди, глагол, добро...» Учеником я оказался прилежным, быстро научился читать. Дед радовался моим успехам и своим талантам учителя. «Наш Ванюшка выйдет в люди!»—говорил он моим родителям. У него были тяжёлые крестьянские руки, все в мозолях, жёсткие, как наждак. Когда он хотел приласкать меня, радуясь моим успехам, то осторожно гладил мою макушку, боясь меня поцарапать.
Вместе с дедом мы присматривали за младшими ребятишками: Лизой, Мишей, Вовой. Вскоре дед совсем ослеп. Он утешался тем, что успел научить меня грамоте. И я часто читал ему вслух по церковнославянски. Он очень любил Псалтирь, говорил, что чтение Псалтири просвещает ум. А я многие слова не понимал, но звучали они как чудесная музыка. До сих пор думаю, что псалмы лучше любой поэзии. И в радости и в скорби. Это был дар моего дедушки мне: он научил меня чтению Псалтири. К весне 1931 года дед умер, и я оплакивал его больше всех.
До глубокой ночи обычно не спала мама. Чинила нам, детям, одежду, пряла, вязала. Теперь я читал вслух маме, что ей очень нравилось. Я читаю, а она головой кивает, и на лице у неё то удивление, то радость детская. Я старался, читал с выражением. Так мне приятно было, как будто я маму с собой в путешествие беру. Пытался научить маму грамоте, но она отказывалась: «Некогда, сынок, да и зачем мне? Вас бы вот всех выучить!»
Радости и скорби
Осенью 1922 года отец сходил пешком в Сивинский район и купил жеребёнка, мечтая вырастить лошадь. Жеребёнок оказался умным и весёлым. Забавный он был, как ребёнок. У меня к лошадям вообще особое отношение. В хозяйстве лошадь — помощник и друг, всё понимает. Дедушка очень любил лошадок. Мы с ним всегда с гостинцем к лошадкам подходили. Он говорил: «Господь людям в утешение и помощь скотинку домашнюю дал. Раньше кони —они язык человеческий знали. И все животные тоже».
А я думал, что наш весёлый жеребёнок и старая умная лошадка Финка и сейчас язык человеческий понимают. Я жеребёнку говорил: «Вот погоди, вырастешь, станешь взрослым конём, эх, и хорошо нам будет с тобой, в ночное вместе поедем, купать тебя в реке буду. Понимаешь? Плавать будем вместе! И работать в поле — земля мягкая, травы душистые!» А он слушает и, кажется, всё понимает и тоже ждёт-не дождётся этого прекрасного времени.
Были в жизни подарки и радости. Дядя, приехав в гости, подарил отцу брюки, нам, детям, тулуп. Тулуп был поношенный, но добротный, и он очень нам пригодился, ведь спали мы все рядком, на полу. Ещё дядя привёл нам в дар тёлку.
В сентябре на десятом году жизни я пошёл в первый класс. Сердце замирало—я в школу пошёл! Что-то хорошее теперь будет! Писали мы на обёрточной бумаге. Тятя где-то достал мне грифельную доску и грифели. Все восхищались моей доской. И я с радостью давал всем попробовать написать на ней что-нибудь.
У нас сменилось несколько учителей. Первая учительница очень сильно кричала на нас. Применяла и рукоприкладство. С тех пор сам никогда не кричу на детей и, вообще, не люблю крик. Вскоре она почему-то уехала, и у нас появилась вторая учительница, Александра Семёновна. Она нас не била и не кричала. Было ей лет тридцать. Мы много читали вслух. К весне мы привыкли к ней и полюбили за её доброту. Жалели её, когда она провожала нас из школы нередко со слезами на глазах. Видимо, что-то нелёгкое было у неё на душе. Может быть, кто-то из родных её был репрессирован или погиб на фронте? Не знаю, но помню её добрую милую улыбку.
Поздней весной, когда уже стаял снег, приехал наш новый учитель. Звали его Змазнов Андрей Панкратович. Он стал заведующим школой и нашим постоянным учителем до конца начальной школы.
Ранним апрельским утром нашу семью постигло настоящее горе: жеребёночек наш был обнаружен мёртвым. Сено давали ему в кошеву. Просунул он ночью свою головушку между кошевой и жердью, а обратно вытащить не смог. Звал нас на помощь. Да мы не услышали. Как горько плакали мы всей семьёй! Теперь у нас оставалась только старая лошадка Финка. Умная была она очень! Всё понимала! Когда жеребёночек погиб, она плакала. Стоит, смотрит на него, а из глаз—слёзы. Как у человека. Я подошёл к ней, она мне голову на плечо положила и вздыхает так тяжело! Я и сам немного прослезился. И мы с ней вместе оплакали жеребёночка нашего, так и не ставшего взрослым. Не узнал он, как в ночном хорошо, как в реке купаться приятно. К концу апреля умерла и старенькая Финка. На лошади соседа отвезли её на погост — так называли скотское кладбище. Жалко было нашу Финку—она была как член семьи.
Год этот выдался урожайным. Вырос отменный лён- долгунец, урожай зерновых тоже был достаточным для нашей семьи и посева. Папа опять купил годовалого жеребёнка. Отелилась наша корова Буска. Как мы ждали своего молока!
В 1924—25 годах я учился в третьем классе. Помогал маме и папе во всех полевых и домашних делах. Был я у них старшим сыном, и шёл мне тринадцатый год. Я боронил, вывозил навоз, разбрасывал валки на покосе. Также грёб сено, стоял на стогу во время его метания, жал серпом рожь и яровые, дёргал лён. Нянькой дома оставалась сестра Лиза. Она присматривала за младшими: Мишей, Аней, Витей. Зимой после школы я помогал молоть, колотить лён (выколачивать семена).
В конце 1926 года у мамы родился мой младший братишка Вова. Все говорили, что он очень похож на меня. Я смущался, когда наша молодая соседка-солдатка, заглянув к нам по какой-либо нужде, смеялась: «А малой-то какой басенький — на Ванюшку похож! Ванюшка-то наш — смотрите: какие ресницы длинные, глаза-то какие баскущие! Ну, скоро берегись невесты! Как наш Ванюшка глянет, все невесты его будут! А там и малой подрастёт — остальных уведёт!» Мама одёргивала её, видя, как я краснел.
Она очень любила меня. Часто, погладив мои вихры, с жалостью говорила: «Ванюшка мой милый, добрый ты очень у меня, простодушный, как ты жить-то будешь? Иванушка ты мой, дурачок!» Я делал вид, что обиделся. И она утешала меня: «Нет-нет, не дурачок! Иван-царевич ты мой!» На что я уже без обиды отвечал: «Я Иван, крестьянский сын! Как в сказке, мам!» Это у нас с ней была такая игра.
Я любил нянчить Вову. Он был очень добрым. У него была сабелька и несколько игрушек из тряпочек. Мама сама их делала. Трудно было понять, кто это получился у мамы. Я придумывал сам: «Вов, это заинька, а это лев. Лё-ва». Братик верил и доверчиво повторял: «За-и-ка».
Он любил всё дарить. Встречая меня, первым делом дарил мне свою сабельку, потом Лёву, «за-и-ку». За обедом протягивал сначала мне свой кусочек. Соседка умилялась, когда он пытался и её порадовать каким-то подарком. Говорила, вздыхая: «Ну что это за ребёнок такой! Да это же не ребёнок, а чистый ангел». И в сторону негромко: «Таких детишек Господь на небеса прибирает. И там ангелочки-то нужны». Я сердился и старался увести братишку подальше от неё.
Как-то раз, когда мы гуляли, Вова вдруг остановился, отстал от меня. Обернувшись, я увидел, что он стоит, подняв ручонки к небу, и лепечет: «Деда, деда...» Я испугался: «Что ты, Вов, дедушка умер». Но Вова улыбался и опять показывал вверх. Как будто он своими чистыми детскими глазками видел то, что было закрыто от взрослого мира. Вскоре после этого братик заболел.
С врачами было плохо, детская смертность в деревнях была очень высокой. Бывало, что причин смерти не знали. Возможно, это была сильная простуда или воспаление лёгких. Он очень быстро исхудал. Я на цыпочках подходил к кроватке, а от его маленького тельца шёл сильный жар, и сам он был горячий. Видимо, он страдал. Но, глядя на меня, с трудом сдерживающего рыдания, он шептал запёкшимися губами: «Лё-ва, За-и-ка» и шарил ручонками в кровати, чтобы протянуть мне свой последний подарок. Мне было очень жалко моего Вову.
Я даже сердился на деда и после смерти Вовы, выйдя на улицу, один, в темноте, подняв голову к небу, рыдал, глядя на далёкие, бесчувственные звёзды. Я почти кричал, глотая горячие солёные слёзы, обращаясь то ли к Богу, то ли к дедушке: «Это ты забрал его?! Зачем?! Он нам здесь, здесь был нужен! Здесь!»
Я долго берёг его тряпичного «за-и-ку», который на самом деле и на зайца-то был не похож. Став старше, я увидел магазинные игрушки, плюшевых зайцев и львов. Я помню, как первый раз стоял в магазине детской игрушки и думал, как рад был бы Вова увидеть этот детский рай. И я с трудом сдерживался, чтобы не заплакать, вспоминая, как он, страдая и умирая, утешал меня, своего старшего брата, протягивая мне свои тряпичные сокровища.
А в ту страшную для меня ночь его смерти я уснул на сеновале в слезах и в тонком сне видел братика. Он утешал меня и гладил по голове своей маленькой ручонкой. И от него исходили свет и доброта. А рядом с ним был кто-то большой и сияющий, я был уверен, что это ангел. Я проснулся утешенный. На душе—легко и чисто. С тех самых пор, когда становилось особенно тяжело или когда жизненные обстоятельства оказывались невыносимыми, я всегда чувствовал, словно нахожусь в огромной руке, которая ведёт меня сквозь все беды. Думаю, что это Господь. И молитвы моего Вовы.
Моя учёба
Жизнь продолжалась. Я учился. Наш милый учитель Андрей Панкратович учил нас писать статьи в газеты, писать деловые бумаги, готовить короткие устные выступления, много мы учили стихов наизусть. Многое рассказывал он нам сверх программы, того, что не было в учебниках. В последний день занятий начальной школы пошли мы с ним на окраину, с которой было видно поля, леса, пригорки и всё наше село.
Я смотрел вдаль, и сердечко трепетало: что там впереди? Жизнь казалась бесконечной и очень интересной, как непрочитанная книга о приключениях, какую брал я в школьной библиотеке,—дух перехватывало, как будто это я скачу по диким прериям, спасаясь от погони. Или ищу сокровища на затонувшем корабле.
С каждым из нас учитель по-отечески попрощался, и пошли мы кто куда. Поздно вечером отец вернулся с родительского собрания выпускников и сказал, что дал своё согласие направить меня в пятый класс боль- шесосновской школы-семилетки. Школа была расположена в райцентре в пяти километрах от нашего села.
И вот 1926—1927 учебный год начался для меня в новой школе. Жил я на частной квартире у Годовалова Александра Павловича. Они вместе с моим отцом когда-то работали батраками. До школы было ходить далеко, но зато хозяева не брали платы. Кроме того они нередко делились со мной пропитанием.
Спал я на обширных полатях, в квартире —чистота. У хозяев был единственный двухлетний сын. Относились ко мне по-доброму, обязанностей у меня было немного: принести в дом дров, утром смести снег с крылечка, после школы почистить тропинки от снега. Несколько раз в месяц я нянчил ребёнка хозяев, пока они ходили в гости к многочисленной родне.
Учиться в пятом классе мне было нетрудно. В первые дни хозяин и хозяйка, переживая за мою учёбу, очень ревностно следили, чтобы я вовремя садился за выполнение заданий. Но это вошло у меня в привычку. Чувство ответственности родители мне хорошо привили. И хозяева успокоились.
В свободное время я очень много читал. Ах, эти вечера у печки, когда так успокаивающе трещат дрова, уютно пляшет пламя, а за окном метель и снег. И ветер завывает, бросая снег в окно. А у печки тепло, и я с героями книг переживаю чудесные приключения!
Несколько моих друзей из начальной школы учились со мной в семилетке. Их было всего пять человек из 375 хозяйств нашего села, в которых росло очень много наших сверстников. Все пятеро — мальчишки. Девочек не было ни одной. Не все могли учить детей. Не все считали возможным отпустить из дома подросших помощников. Я очень благодарен папе и маме за то, что они дали мне возможность выучиться, хотя, как старший сын, я был незаменимым помощником в семье.
Учителя у нас были очень хорошие. Учитель физики Дерюшев проводил много опытов с приборами, объяснял очень хорошо, с юмором, многое до сих пор помню. Биологию вела Августа Львовна и на все уроки приносила экспонаты, муляжи, которых в нашей школе было великое множество.
Нас возили на экскурсию в Пермь. От Большой Сосновы до Оханска пятьдесят километров мы прошли за 1,5 суток по Сибирскому тракту. Ночевали в селе Дуброво в школе. На пристани Оханска долго ждали пароход, который пришёл в час ночи. Ехали третьим классом, спали всласть, а утром, часов в десять, желанная Пермь! Экскурсионная база! Уплетали за обе щеки гречневую кашу с кусочком чёрного хлеба, а потом ещё пили чай. А к чаю дали белые булочки!
Как интересно было попасть в анатомический кабинет госуниверситета! Там были черепа мамонта, целые скелеты, экспонаты животных! А наш учитель математики, ездивший с нами, рассказывал о пароходах Перми, об истории города, об университете. Как захотелось мне в нём поучиться!
Летом 1927 года вместе с тятей от зари до зари работали в поле. Мама помогала. Для покоса мне изготовили литовку. Мне исполнилось 14 лет, и силёнка уже появлялась. Но настоящей мужской силы, конечно, ещё не было, хотя за тятей тянулся изо всех сил. Началась уборка ржи, яровых. Жали серпами. В поле обедали на скорую руку.
После обеда был положен отдых. Старались ненадолго уснуть, чтобы восстановить силы. Не знаю, спала ли мама, а отец сразу засыпал и похрапывал минут 15—20. Какое счастье—уставшим упасть на душистую траву и уснуть под пение жаворонка богатырским сном! А сон мой продолжался около часа, что можно было определить по соотношению сжатой и несжатой полосы. Проснувшись, я обнаруживал «козу» — узкую часть несжатой, но со всех сторон обкошенной полосы. У меня сразу же появлялось сильное желание догнать родителей. Сильно уставал, но радовался, что работаю наравне со взрослыми.
Знаю, как приятен труд до усталости, когда всё тело ноет, а душа ликует! И как радостен отдых! Эту радость отдыха можно понять, только поработав от души. Так вкус ржаного хлеба и кружки молока сладок голодному, как не могут быть вкусны самые изысканные яства и деликатесы пресыщенному человеку. Также и отдых уставшего не может оценить человек, никогда не трудившийся до физической усталости.
Осенью 1927 года стало известно, что школа из Большой Сосновы переводится в Петропавловск. Это двадцать пять километров от нашего села. В этом году должна была учиться во втором классе сестрёнка Лиза. Отец наш хотел достроить дом, так как семья насчитывала уже восемь человек и стало тесно. Рассчитывал тятя в основном на себя. Но нужно было ещё и нанимать плотника-столяра: настелить пол, сделать потолок, поставить косяки, рамы. Моя помощь отцу бы не помешала. Но очень хотели они с мамой, сами неграмотные, меня выучить.
31 августа в десять утра зашли к нам трое моих одноклассников, и пошли мы в Петропавловск с торбами на спине, наполненными печёным хлебом, сухарями, домашней стряпнёй. Накануне пришёл мой дядя, дал денег на фунт сахару, крупу, подсолнечное масло. И мама настряпала мне подорожников, как она называла свои пирожки.
Жили мы в предпоследнем доме у окраины села, и провожать меня за полевые ворота вышла вся моя семья. Мама плакала, долго стояла и махала мне платком. Из дому уходил её первенец —самый лучший помощник во всех семейных делах. Отойдя в сторону, она целовала мои холодные щёки мокрыми от слёз губами и шептала: «Иванушка ты мой! Как же я без тебя буду? Да и как же ты-то один будешь без нас так далеко жить?!» А я, как обычно в нашей с ней игре, отвечал: «Мам, я же Иван-крестьянский сын! Я не пропаду!»
Мне было так жаль плачущую маму, что впору было поворачивать обратно домой. Но я знал, что так я разрушу её мечту выучить сына и шёл, отворачиваясь от попутчиков и смахивая слёзы с глаз.
Двадцать пять километров одолели мы к четырём часам дня. Вторую половину пути шли по чистому полю, оставив справа за собой деревушки Вятские Денисята и Пермские Денисята. Наконец увидели большое двухэтажное здание — самое первое на окраине Петропавловска. Это и была наша школа. С удивлением и тревогой смотрел я на свою новую школу — какая большая! Что-то ждёт меня здесь?
Нас поселили в общежитии, каждому дали под расписку подушку, наволочку, одну простыню и серое одеяло. Я привык спать рядком на полу, на старом тулупе, и не подозревал, что бывают такие подушки. И на них ещё надевают такие мешочки, называют их
наволочки. Нас завели в комнату, и я с удивлением узнал, что у меня будет своя кровать. Посреди комнаты стоял большой стол и двадцать стульев—по числу проживающих в комнате. Было ещё маленькое зеркало. Всё это показалось мне очень красивым и нарядным. И я почувствовал себя взрослым: теперь у меня своя кровать, подушка, наволочка, одеяло!
«Ну вот, Иван-крестьянский сын, начинается твоя новая жизнь! Да какая интересная-то она!»—думал я.
Новая жизнь
Встречал нас наш большесосновский учитель математики Иван Александрович Смородин. Оказывается, он стал нашим воспитателем по общежитию и жил в одной из комнат с дочкой Таней, фельдшером медпункта, ученицей нашего же класса. В общежитии нас жило 40 человек, все соблюдали строгий общежит- ский режим. Иван Александрович особенно ревностно относился к выполнению нами домашнего задания. Безукоризненно заправляли койки, уборку проводили сами по парам. Обед был общий, за счёт школы, как правило, картофельный суп и каша ячневая, овсяная, морковная. Сейчас я, пожалуй, не соблазнился бы морковной кашей, а тогда ели —за ушами трещало!
Каждый ученик школы должен был по графику работать на подсобном хозяйстве школы. Сильно преподавали химию, биологию, нас учили на агрономов, кроме общего образования. В подсобном хозяйстве школы внедрялись прогрессивные методы хозяйствования: вёлся многопольный севооборот, сеяли знаменитый «Пермский» клевер, рожь «Вятку». Учили составлять кормовые единицы для скота, определять нормы высева, время обработки почвы, посева, уборки.
Всё, что узнали в школе, мы должны были рассказать родителям. У каждого ученика седьмого класса была подшефная деревня. Зимой 1928 года я несколько раз ходил в свою подшефную деревню Устуденка в пяти километрах от Петропавловска. Рассказывал крестьянам о преимуществах многопольного севооборота и других новшествах сельскохозяйственной науки. Деревня была небольшая, но собиралось по 25—30 человек мужчин и женщин. Вспоминая это, поражаюсь: они внимательно слушали меня — пятнадцатилетнего мальчишку. Задавали вопросы.
Каждый ученик нашей школы получал задание поставить опыт в своём личном хозяйстве. Я провёл опыт выращивания льна-долгунца с применением различных минеральных удобрений на площади 50 квадратных метров, а также выращивания картофеля тоже с минеральными удобрениями и навозом и 1—2—3-х кратной обработкой почвы. Нужно было иметь контрольные делянки и вести дневник наблюдений.
Может, кому-то это покажется неинтересным, но, я вас уверяю, если бы вы сами это попробовали да увидели результат, вас бы потом за уши не оттащили бы — хоть немножко, да поработать на земле да на свежем воздухе. Когда щёки становятся холодными от прохладного ветра и всё тело радуется труду до усталости, а там — высоко в небе —поёт жаворонок, жизнь кажется такой доброй и бесконечной. А потом напечёшь картошки и горячую её — чистишь, а она вкусная, пахнет костром! И земля тёплая, живая. Это вам не мёртвый асфальт! Земля — она дышит! А на траве приляжешь—запах пряный, душистый! Да, я —крестьянский сын. Таким родился, таким и помру.
И ещё: мы сейчас все пересели с живых скакунов на железных. Любим автомобили свои, иногда называем их так, как будто они живые. А как можно было на самом деле любить своего коня, кормилицу-коровушку, почти все забыли. А ведь это просто чудо. Кормишь их, а у них губы мягкие, тёплые, добрые! Это ж счастье! А в ночное— лошадей пасти?! А купать коня?! Эх, что и говорить...
Дневник наблюдений было вести трудно, потому что нужно ходить пешком или верхом на лошади за семь километров на поле. Зато осенью мои экспонаты участвовали в сельскохозяйственной выставке. За оба опыта я был премирован деньгами в сумме 25 рублей. По тем временам это большие деньги.
Как радовались мои родители! Мама плакала и приговаривала: «Иванушка мой, совсем не дурачок! Ванюшка мой милый!» Отец на эти деньги купил всем ситец: братьям на рубашки, сёстрам на платья, сапоги и мне подарок—гармонь двухрядку. Очень мама хотела, чтоб я с гармонью по селу прошёлся. Я и сам представлял, как пойду по селу с тальянкой и зарыдает она и заплачет в моих руках. А рядом... рядом со мной пойдёт та самая, одна-единственная, любимая девушка. Ну а все остальные, друзья и соседи, пойдут за нами, тоже песни будут петь.
Правда, пока у меня любимой девушки не было. И когда бойкие девчата улыбались мне, я краснел как маковый цвет. Но вот когда у меня будет гармонь... Жаль, что, не имея музыкального слуха, как выяснилось после моих попыток, я так и не смог научиться играть на своей гармошке. Мечта эта не сбылась. И в 1933 голодном году мама за эту гармонь в Удмуртии выменяла целый пуд ржаной муки.
Я снова дома
Мой школьный год закончился на месяц раньше. Пришёл я домой на майские праздники, а вернуться в школу уже не получилось. Удостоверение об окончании семилетки мне выслали по просьбе моего учителя Андрея Панкратовича Змазнова.
Начался сев яровых, а отец был очень болен, еле передвигался на одной левой ноге с палкой вместо костыля. На голени правой ноги у него образовался огромный нарыв, который прорвался только к концу сева. Врача в селе не было, а ехать в болыпесосновскую больницу некогда. Отец ездил со мной в поле, советовал, но сам работать не мог. Скоро понял, что с работой я уже справляюсь сам. Мне шёл шестнадцатый год, и я был высок ростом и широк в плечах. Постоянный физический труд развил у меня силу и ловкость. Но соперничать со взрослым мужчиной я, конечно, ещё не мог, и мне было очень тяжело работать одному.
Конь у нас вырос добрый — рыжий умный жеребец. Понимал меня с полуслова, и с ним я справлялся легко. У меня даже всегда было чувство, что это не я на нём работаю, а работаем мы вместе как напарники. И умный конь понимает свою задачу и, как я, тоже старается изо всех сил. На моё счастье, соха была непростая, а так называемая «чегонда». Не нужно было её держать на руках и постоянно регулировать. Глубина вспашки регулировалась чересседельником, и нужно было только следить за шириной отваливающегося пласта. Но при повороте всё равно нужно было соху заносить на руках. И к обеду я так уставал, что не до обеда было, лишь бы упасть на траву минут на двадцать. От усталости дрожали руки, и я смотрел ввысь— в бескрайнее голубое небо, а там пел жаворонок.
Я похудел и загорел. Мама чуть не плакала, глядя на меня, уставшего: «Иванушка мой бедный! Ванюшка мой похудел-то как!» А я хриплым, уже мужским баском успокаивал её: «Ничего, мам, были б кости — мясо нарастёт! Я ж Иван — крестьянский сын! Где ж мне работать, как не в поле со своим Сивкой-Буркой!»
Как-то раз я так устал, что дрожали не только руки, но и ноги. Я упал на траву. Мозоли на ладонях лопнули, и руки были в крови. Лежал и думал: «Больше не могу. Сейчас встану и пойду домой. А дома скажу, что не могу больше, потому что устал. Отдохну несколько дней, потому что у меня очень болят руки. Немного отдохну». Я лежал и смотрел в небо. И думал о маме, о больном отце, младших сестрёнках и братишках. Вспомнил Вову и то, как он, голодный, не начинал есть, не убедившись, что я рядом, и не предложив мне своего кусочка. Я встал и с трудом, на дрожащих ногах пошёл работать. Руки перемотал тряпками, но скоро тряпки тоже стали мокрыми от крови. Не помню, как закончился этот трудовой день.
Помню только, как дома упал на сеновале, то ли уснув, то ли потеряв сознание, и очнулся от того, что кто-то плакал рядом. Я открыл глаза, и увидел маму. Она плакала очень тихо и целовала мои руки. Я смутился: «Мам, что ты? Разве я барышня?» А она перевязывала мне руки и тихонько приговаривала: «Сыночек мой, кормилец...»
Сеялки не было. Сеяли, разбрасывая руками из лукошка. В этом очень важном деле помогли мне работающие вблизи на своих полях соседи. Посев был в пределах семи гектаров. Затем я пахал пары, выбиваясь из сил, но не поддаваясь. Однако навоз накладывать на телегу мне не дали, а отец не мог. Так навоз и остался до осени целым, осенью вывезли на огород. Его тоже нужно было периодически удобрять. Покос начали вместе с мамой, затем, как мог, подключился отец.
Мои мечты о среднем образовании таяли. После уборки урожая пошли другие дела: плёл лапти на всю семью. Отец заготовил лыко во время посева озимой ржи. Помогал маме прясть лён, ткать. В мелких домашних делах хорошо помогала моя милая, бойкая, ласковая сестричка Лиза. Работы было много, но делали её всегда с молитвой, молитвой она освящалась и не казалась тяжёлой. Подрастали братья и сестрёнки, и их помощь скоро могла быть очень существенной.
Коллективизация и раскулачивание не очень задели наше село. Оно вошло в большой колхоз спокойно, а те, кто не захотел войти в большой, сами создали отдельный самостоятельный колхоз «Сибиряк». «Сибиряк» объединил сорок хозяйств. Для моей семьи помощь соседей и совместная работа в поле не была в диковинку. К тому же в то время я увлекался научными методами ведения сельского хозяйства и полагал, что в колхозе можно успешнее использовать многопольный севооборот и другие новшества.
Много позднее узнал я о недостатках коллективизации и репрессиях, но вот в годы юности меня это не коснулось. А я, как есть, так и пишу. Помню, что из всего нашего села выселили одного человека, по фамилии Шерстобитов. Он отказался вступать в колхоз.
Начало взрослой жизни
Я мечтал стать трактористом, раз выучиться на агронома не смог. Но на курсы трактористов меня не взяли: после тяжёлой работы в поле я сильно похудел, и комиссия сказала, что меня вместо трактористов нужно отправлять на дополнительное питание. Не сбылась и эта моя мечта.
Неожиданно меня пригласили в правление колхоза, в Большую Соснову. Там мне сказали, что моя школа дала мне хорошую характеристику, в селе меня очень уважают. Поэтому мне хотят предложить стать учителем и учить своих односельчан грамоте. Это было совершенно неожиданное предложение. Я так растерялся...
С краткой запиской меня отправили в отдел образования. Встретили меня там приветливо, написали приказ о моём назначении учителем малососновской школы для взрослых, где директором был мой любимый учитель Змазнов Андрей Панкратович. Мне было шестнадцать лет, и я считал себя уже взрослым.
Вот так я стал учителем. Не заходя домой, пошёл к Андрею Панкратовичу, сдал приказ о моём назначении в его школу. Он крепко обнял меня. Я был первым его питомцем, который стал учителем. А учитель по тем временам для нас, крестьян, был человеком особенным, уважаемым. Андрей Панкратович поручил мне второй класс, мы с ним просидели долго и составили вместе рабочий план на три дня учёбы.
Когда я пришёл домой, и рассказал о своей новой работе родителям, мама заплакала, а отец смущённо покашливал. Видно было, как по душе ему пришлась моя новость.
Свой первый рабочий день помню до минуты. Вот зашёл в класс на деревянных ногах. Андрей Панкратович зашёл вместе со мной. Представил меня ученикам: «Вот ваш новый учитель, Иван Егорович». И ушёл, оставив меня одного с моим классом. За партами сидела молодёжь нашего села до тридцати лет, они пришли в школу после трудового дня. Почти все были старше меня, шестнадцатилетнего. Но смотрели с уважением. Хотя были и улыбки, особенно девичьи, любопытство.
Я молчал. Мне казалось, что речь моя отнялась. И вернётся ли она ко мне, Бог весть. Пауза тянулась. Я вспомнил слова Андрея Панкратовича: «Ни минуты не терять!». И дрожащим голосом сказал: «Начнём наш урок».
После первых слов мне стало легче. Внимание моих учеников переключилось на статью «Пары», которую мы стали читать вслух по цепочке. И я постепенно расхрабрился, задавал вопросы, словом, вёл себя так, как Андрей Панкратович. Мы читали хором, кто умел, читал по одному. Статья была полезная, интересная для крестьян. Процитировал поговорку: «Парь пар в мае, будешь с урожаем, с поздним паром промаешься даром». Потом попросил пояснить, как поняли пословицы и поговорки из статьи. Попросил пересказать текст своими словами. И... долгожданный звонок. Так начался мой учительский труд.
Моя первая зарплата поразила меня своей величиной — целых 75 рублей! Мама, несмотря на мои отговорки, половину зарплаты истратила на меня. Я просил взять все деньги для семьи, но она оказалась настойчивой и купила мне мой первый костюм за 34 рубля. Когда я одел его, продавщицы в магазине притихли, а мама заплакала. Я посмотрел на себя в зеркало и смутился. По-моему, это был инея совсем. Кто-то другой, такой широкоплечий и стройный. Стоящий в зеркале молодой человек был слишком красив, чтобы быть мною.
Остальные деньги мама потратила на нашу семью, на одежду и обувь младшим. Себе она ничего не купила, как я не просил. И со следующей получки сам сделал ей подарок, купил ей красивый платок и материал на платье. Мама надела платок, приложила этот материал к себе, и я с удивлением заметил, как раскраснелись её щёки, как заблестели глаза. Подумал, что у меня ещё совсем молодая и красивая мама. И такую острую жалость к ней почувствовал в своём сердце! Сколько трудностей и скорбей выпало на её долю, сколько тяжёлого труда! Пообещал себе, что буду чаще радовать маму.
Вскоре я почувствовал себя настоящим учителем: уж очень послушны были мои ученики. Хотя многие были соседями, выросли рядом со мной, но в школе дисциплина была хорошая. Некоторые мои сверстники и ребята постарше курили. Я подумал, что, может, и мне нужно закурить, для солидности. Покурил папирос, пришёл домой, а тут мама.
Сразу же почувствовала от меня запах и начала плакать: «Неужели я думала, когда тебя растила, что ты будешь таким же табакуром, как мой брат?! Неужели ты и будешь таким же пьяницей?!» —причитала она. Мне стало так стыдно! Я вспомнил, как недавно обещал себе, что буду радовать маму, а вот сам её так расстроил. Я заявил, что не буду курить. И пьяницей не буду. Достал недокуренную пачку и на глазах у мамы смял её и бросил в печку. Слово, данное маме, держу до сих пор. Не изменил ему ни в армии, ни на фронте, ни в госпитале. Хотел ещё когда-то стать примером своим будущим сыновьям.
На курсах
Закончился мой первый рабочий учительский год. После посевной меня отправили на курсы учителей в Пермь. Тут же было и общежитие, комната на двух человек, две койки, у каждого своя тумбочка. Это были непривычно хорошие условия, до этого я жил в общежитии, где в одной комнате размещали до двадцати человек. Учили нас интенсивно, по восемь часов в день. Учиться было очень интересно и нетрудно. Оказалось, что у меня прекрасная память. И грамотность хорошая. Я писал практически без единой ошибки. Думаю, это потому что я всегда много читал.
Русский язык и литературу вёл замечательный преподаватель, будущий профессор, Иван Михайлович Захаров. До сих пор помню забавные примеры, которые он приводил, чтобы поднять наше настроение после 6—7 часов непрерывных занятий. Например, как по-разному можно выразиться об одном и том же предмете, в зависимости от чувств: «лицо, личико, чело, мордочка, морда, физиономия, харя, образина» и так далее. Мы дружно смеялись, и урок шёл дальше веселей. Он же вёл методику преподавания, и мы по очереди исполняли роль учителя и учеников. Учил составлять планы, проверять знания.
Единственная трудность заключалась в том, что я чувствовал себя как-то одиноко. Вырос в большой семье, у меня было пять братишек и сестрёнок. А здесь товарищ мой уходил к девушке, и я оставался один. Девушки на меня засматривались, но не встретилась мне пока та, которую я бы хотел назвать любимой и единственной. А проводить время с девушкой просто так я не хотел. Мне казалось, что это как-то неправильно. Нечестно, что ли.
И вот я в один из выходных дней отправился в гости к свой родственнице, двоюродной сестре, Марии Егоровне. А на следующий день отнёс ей на сохранение ненужные пока из-за летней жары костюм, ботинки, что поновее, и две рубашки. А через несколько дней её обокрали и унесли все мои вещи. И костюм, который купила мне мама на первую зарплату, и ботинки, и рубашки.
Когда я пришёл в общежитие и рассказал о краже товарищу, он удивился моему спокойствию:
— Такой костюм красивый! Ботинки! Новые! И ты об этом так спокойно рассказываешь?! Да я бы... Я бы... Все волосы у себя на голове вырвал!
— Ну вот, остался бы без костюма и ботинок, да ещё и лысый.
И мы оба засмеялись. Я рассказал ему историю, слышанную мною ещё от дедушки:
— Жил-был один крестьянин. Всю жизнь он ходил в лаптях и дырявом кафтане. А в конце жизни купил костюм и ботинки. Да не успел поносить. Украли. А он и не расстроился. Сказал только: «Бог дал, Бог взял. Слава тебе, Боже наш, слава Тебе!»
А когда он умер, его дочка пошла в церковь, помянула отца за упокой, присела на скамеечку и задремала. И вот видит в тонком сне отца, красивого такого, в том самом костюме и ботинках. Она ему говорит: «Папа, да как же это?! Да ведь у тебя их украли?!» А отец ей с улыбкой отвечает: «Да, доченька, украли. Но когда я оказался здесь, мне сразу всё вернули». Вот такая история. Так что и я плакать не буду. Бог дал, Бог взял.
— Да, ты что, в Бога веришь?!
Тут пришла моя очередь удивляться:
— Конечно, верю, как же это — в Бога не верить-то?!
Товарищ ничего мне не ответил, помялся немного и говорит:
— Ты только об этом не распространяйся особо-то. И историю свою больше никому не рассказывай!
Мои старые ботинки к концу месяца совсем развалились. Пришлось мне на базаре купить лапти и полотенце на портянки. Ходил я по Перми в лаптях. Затем получил стипендию, купил немного крупы и сухарей. На остаток стипендии и на деньги, взятые в долг у товарища в счёт будущей стипендии, купил я себе в магазине спортивные кожаные ботинки, которые зашнуровывались от самого носка.
В выходной день шли мы с товарищем на Каму, я постираю вещи, которые на себе ношу и повешу сушиться. А сам пока плаваю и загораю. Плавал я очень хорошо, Каму переплывал спокойно туда и обратно. А тем временем одежда и подсохнет. Только один из дней выдался пасмурным и холодным, и я сильно промёрз. Боялся, что разболеюсь и пропущу учёбу. Но по милости Божией даже не чихнул.
Вечерами, после учёбы, мы ходили на пристань разгружать арбузы. Арбузы привозили на баржах, они были такие тугие, что когда арбуз разбивался, сок брызгал во все стороны. Мы дружно съедали этот спелый, сочный арбуз, и сок стекал по губам, и уходящее вечернее солнышко ласково гладило наши вспотевшие спины. А Кама обдавала нас своим свежим речным ветерком. И мы дружно смеялись, глотая сочные куски арбуза. Казалось, что мы будем жить вечно.
Малососновская школа
После курсов следующий учебный год мне пришлось по направлению отдела образования начинать уже в детской школе. Дали мне первый класс, в нём было сорок шесть учеников. Справляться с ними было труднее, чем со взрослыми. Но я себя чувствовал уже стреляным воробьём, да и нравилось мне общаться с детишками. У меня ведь была целая куча младших братьев и сестёр, так что опыт имелся!
Коллектив в школе был молодой, дружный. Методические собрания проводились кустовые: приезжали учителя из всех школ района по секциям. Нашу секцию вёл опытный учитель. После заседания секции мы обычно устраивали чаепития и пели песни под гитару. Наш опытный заведующий секцией ещё и отлично играл на гитаре. Действительно, «соколовский хор у «Яра» до сих пор ещё звенит»... Очень жаль, что вернулся он потом с фронта с одной рукой, и перестала петь его гитара. Я петь не умел. И мне отводилась скромная роль слушателя и ценителя.
Зато потом я ловко исполнял роль кучера, и лучшая выездная лошадь колхоза, застоявшаяся у столба, несла нас во весь опор домой. Я себя представлял лихим наездником и ездил очень быстро, пока как-то раз на ухабе вылетели мы с молодой учительницей из кошёвки в разные стороны. Я ещё и запутался в вожжах. Еле остановил лошадь и подобрал свою спутницу. Потом уже ездил поосторожней: «Поспешишь—людей насмешишь».
Год прошёл незаметно. С детишками очень мы подружились. К концу года это были «мои» дети, а я был «их» учитель. Но мне самому нужно было учиться. Меня собирались отправить на учёбу, но когда, ещё не было решено. Внезапно дело ускорилось, и вот каким образом.
В конце года ждал меня сюрприз. Мне шёл девятнадцатый год, и родители решили меня женить. Они сосватали мне невесту из нашей деревни, девушку румяную, как сказал радостный отец, «кровь с молоком». Девушка дала согласие выйти замуж за уважаемого в селе учителя. И мне сообщили, что дата свадьбы назначена, начинаем, дескать, приготовления. Девушку эту, Маню, я, конечно, знал, так как выросли мы в одной деревне. Но жениться на Мане я не хотел. Вот это сюрприз! Вот это подарок! Я потихоньку отправился к своему старому учителю Андрею Панкратовичу и рассказал своему наставнику о предстоящей женитьбе.
Наставник мой посмеялся, но, видя, что нет у меня любви к Мане, решился помочь. И организовал мою срочную отправку на учительские курсы. Тут же, ночью, я отбыл на курсы в Пермь. Так я в первый раз не послушался родителей. Утром кинулись они меня искать, а я уже далеко. И Андрей Панкратович им приносит копию моего направления. Но родители меня быстро простили. Тем более что и Маня скоро утешилась и с радостью вышла замуж за односельчанина, который, оказывается, давно на неё «глаз положил».
Курсант Тюменского пединститута
Пристань в Оханске. Покупаю билет на пароход до Перми. Ехал я третьим классом, пассажиров было изрядно. На вокзале в Перми купил билет до Свердловска. Ехал мучительно долго, в общем вагоне народу как сельдей в бочке. В Свердловске от вокзала до облоно шёл почему-то пешком. И в облоно узнал, что курсы, на которые отправил меня Андрей Панкратович, это курсы по подготовке учителей истории. И проходят они в Тюмени. Вручили мне деньги на дорогу, командировочное удостоверение. И вот через несколько часов еду я на «чугунке» на восток, в Тюмень.
В тридцатые годы в Тюмени было единственное красивое каменное здание Агропединститута за рекой Тюменкой, впадающей в реку Туру. В городе работало только одно предприятие — фанерная фабрика, две- три столовые, несколько кустарных мастерских по ремонту обуви и пошиву одежды. Центральная улица города — Республика, мощённая камнем-булыжником. Остальные улицы после дождя осенью и весной почти непроходимы даже д ля конного транспорта. Общежитие было расположено в бывшей кладовой бывшего купца вблизи базара.
Зато лекции и семинары проходили в светлых и просторных кабинетах института, и вели уроки московские преподаватели. Изучали мы древнюю, среднюю, новую историю, политэкономию, философию, обществоведение, методику преподавания. На курсах я столкнулся с двумя серьёзными трудностями.
Первая трудность заключалось в том, что практически все курсанты имели среднее образование, а у меня в запасе — только семь классов. Многие были старше меня и имели порядочный жизненный опыт, а мне ещё не исполнилось девятнадцати лет. На семинарских занятиях наша группа делилась на звенья по 6—7 человек. В нашем звене была Свердловская молодёжь и я. Свердловчане на любой вопрос отвечали так быстро, чётко и ясно, что я скоро совсем оставил попытки что-то сказать, сконфузился и молчал. Чувствовал себя каким-то косноязычным, хотя обычно разговаривал нормально. И вот свердловчане отвечают, а мало- сосновский Иван помалкивает. Я ждал упрёков, типа: «Эх, ты, деревня!»
Но упрёков не было. Отнеслись ко мне ребята из звена как самые настоящие друзья. Заметил, что соседом моим по комнате в общежитии вдруг оказался один из членов моего звена (видимо, местами поменялись). В столовой со мной сел обедать другой член звена. К общежитию пошёл со мной третий. И все они старались разговорить меня, как бы невзначай беседовали по теме семинара, обсуждали вопросы лекций. Помогли подготовиться к предстоящему контрольному семинару.
На этом семинаре никто из них не стал отвечать. Все молчали, предоставляя первое слово мне. Я встал и начал рассказывать. Сначала чувствовал сильное напряжение, волновался. Но ребята из звена кивали мне головами, я чувствовал их дружелюбие и поддержку и ответил довольно чётко. Обычно после каждого выступления звено добавляло, исправляло ответ, но тут мои друзья все как один промолчали, не стали дополнять. Сказали, что я полностью раскрыл тему и добавить им нечего. Преподаватель тоже не сделал никаких замечаний, сказал только: «хорошо». И я почувствовал себя так, как будто взял какой-то важный барьер. С этого момента дела мои пошли в гору, и скоро я чувствовал себя равноправным курсантом.
Вторая трудность заключалась в нехватке хлеба насущного. Я элементарно не наедался и постоянно ходил голодным. Нам выдавали на сутки 350 граммов хлеба. Кроме этого один раз в день нас кормили обедом. Он обычно состоял из супа и второго. Суп назывался: картофельный, пролетарский и зелёный. Состоял он из воды и картошки, в зелёный добавляли что-то из зелени: петрушку или укроп. Пролетарский от них практически не отличался.
На второе обычно было картофельное пюре. Так что в день получалось съесть пару кусочков хлеба и немного картошки с картофельным же отваром. Мой молодой растущий организм бунтовал и требовал чего-нибудь более питательного. Во сне мне снилась кружка парного молока, которую приносила мама. И вообще, сны часто были гастрономические и включали в себя какую-то еду. Там, в этих снах, меня угощали чем-то вкусным, а проснувшись, я чувствовал, как подводит живот от голода.
У кого были деньги, покупали продукты дополнительно. Я продал или обменял на продукты всё, что можно было продать из одежды. И остался только в том, что было на мне: брюки и рубашка. Больше ничем не располагал, кроме желания учиться и закончить курсы.
Однажды, стоя в очереди в столовую, я почувствовал, как закружилась голова, и меня охватила слабость. Дальше не помню. Оказывается, я потерял сознание и упал бы, если бы меня не подхватили ребята из очереди. Очнулся на стуле за столом. Ребята принесли мне два пролетарских супа и картофельное пюре. Кто-то положил свой кусочек хлеба. Это тронуло меня почти до слёз, и я с трудом их скрыл. Пока ел, ребята совещались между собой. Это было моё уже родное звено. После столовой мы гуляли, на ходу обсуждали вопросы предстоящего семинара. Голова у меня слегка кружилась, в ушах звенело, и я чувствовал себя немного как во сне.
А после прогулки незаметно для себя, я оказался в женском общежитии, в гостях у курсанток из нашего звена. Девчата смеялись, как бы невзначай старались оказаться рядом со мной, задеть локотком, провести ладошкой по голове:
— Ванечка, а волосы-то у тебя какие красивые! Густые! Пшеничные! Ты у нас как Иван-царевич из сказки! А серый волк у тебя есть дома?
И я сразу вспомнил нашу с мамой игру и ответил как в детстве:
— Какой же я царевич! Разве царевичи в столовой падают в обморок?! Я Иван — крестьянский сын!
— Девчата, оставьте Ивана в покое! Что за глупые шутки! Товарищу помощь нужна, а вы?! — раздался строгий голос звеньевой. И девчата посерьёзнели, захлопотали, поставили чайник, нарезали хлеб. Горячий сладкий чай, два ломтика хлеба, овсяная каша резко повысили моё настроение. Голова перестала кружиться. И домой я вернулся вполне нормально.
Через несколько дней подобный обморок повторился. И кто-то из звена рассказал о случившемся нашему лектору Вотинову. Он был уже в годах. В конце рабочего дня через старосту позвал он меня к себе и попросил помочь ему донести до квартиры книги из библиотеки. Я только потом понял, что это было просто предлогом. Дома он накормил меня ужином. И эти мои провожания его домой повторялись три вечера подряд, пока он не уехал в Москву. За ужином он рассказывал мне о себе, о своей семье: жене, детишках. О том, как трудно было ему учиться. Но он всё-таки окончил государственный университет. Рассказывал о том, как он учился, с какими замечательными профессорами и преподавателями общался.
Эти короткие встречи помогли мне и поддержали не только физически. Они зажгли меня неистребимым желанием тоже получить высшее образование. Мне всегда очень нравилось узнавать новое, я всегда много читал. А теперь мне очень захотелось учиться дальше.
Поздно вечером я проводил Вотинова до вокзала. Несколько дней нормального питания давали о себе знать, и я легко нёс его тяжёлый чемодан, поигрывая мускулами, забрал ещё и его рюкзак. Помахав рукой вслед тронувшемуся вагону, дал себе слово, что буду терпеть голод, но получу высшее образование. И смогу быть полезен моим ученикам как по-настоящему образованный человек. Вот такие мысли и мечты были у меня в ту пору.
После этого голодать мне уже не пришлось. На второй день после отъезда Вотинова я получил от моего старого любимого учителя Андрея Панкратовича посылку. В ней было около двух килограммов сухарей и на дне плотно прижатая, огромная подушка. На коробке значился адрес: город Молотов, так в те годы называли
Пермь. За подушку на базаре я выменял буханку хлеба. С двумя килограммами сухарей и этой буханкой благополучно смог закончить курсы.
Прощались мы как старые друзья. Расставаться было очень жалко. На выпускном вечере звучали напутствия преподавателей, наше благодарственное слово. Я получил удостоверение преподавателя истории и обществоведения. Храню до сих пор эту бумагу, доставшуюся мне ценой немалых усилий.
Трудный год
1933 год был очень трудным для нашей семьи. Мне исполнилось двадцать лет. Вот сейчас, вспоминая те времена, я думаю, как удалось мне вообще стать учителем, даже подняться по карьерной лестнице? Ведь я всегда был верующим человеком, никогда не скрывал свою веру в Бога. Не старался стать комсомольским активистом, не лез вперёд. Думаю, такая была воля Божия. Не дорос я до того, чтобы стать исповедником или мучеником за веру. Видимо, Господь промышлял, чтобы детей не одни атеисты учили и воспитывали. Вот такой покров я чувствовал над собой с детства.
Да и потом я женился на дочери репрессированного священника. По тем временам это было опасно для моей дальнейшей работы по профессии. Меня могли уволить с волчьим билетом. Да и для самой жизни опасно. Но я полюбил эту девушку. И не видел никакой вины её отца в том, что он был священником. Наоборот, я очень почитал священнослужителей. Даже писал отцу моей невесты перед свадьбой, испрашивая благословения на наш брак. И он дал нам это благословение, как выяснилось позже, перед самым арестом и мученической смертью. Но это случилось позднее.
Господь чудом хранил меня. Но вокруг события ускоряли свой бег, в воздухе витала опасность и тревога. Закрыли храмы в Малой и Большой Соснове, церковь в Большой Соснове, красавицу, разобрали по кирпичику. Эти кирпичи (умели же раньше их делать!) были использованы для строительства льнозавода и для кладки школьных печей. Иконы раздали верующим как подарок от двадцатки, так называлось правление храма, состоящее из старосты, помощника старосты, казначея и других преданных церкви людей. Иконы разобрали по домам с плачем. Настроение у людей было похоронное.
Церковь нашу закрыли и разрушили под предлогом того, что не хватало у прихожан храма денег на ремонт, на содержание священника. Но причина эта была надуманной, просто священника, его семью и храм обложили совершенно нереальными, непосильными налогами.
Мой отец всегда говорил правду. Был он тружеником и человеком бесстрашным. Он высказывался против закрытия храма, и его арестовали. Посадили в тюрьму по линии НКВД, обвинив в религиозной агитации и религиозной пропаганде.
Теперь доход нашей семьи состоял только из моей зарплаты и маминых трудодней. За работу в колхозе давали не зарплату, а трудодни, так назывались палочки в записной книжке учётчика. На трудодни давали хлеб, причём не килограммы, а сотни граммов. Я постоянно посылал маме деньги и взял к себе жить брата Мишу. Были ещё младшие: Аня и Витя. Сестрёнка Лиза поступила учиться в льнотехникум и получала стипендию. В общем, выживали потихоньку.
Мне, как учителю, дали бирку райсовета, по которой я получил право купить настоящую швейную машинку —редкость для села, и добротное пальто с каракулевым воротником. Эти вещи помогли нам выжить: мама увезла их на саночках в Удмуртию и там обменяла на муку.
Я решил выручать отца. Думал, чем можно ему помочь. Вспомнил, что в годы гражданской войны его мобилизовали в Красную армию, и он был «кочуром» у самого Блюхера. Взяв справку, подписанную Блюхером, я смело отправился в НКВД. Мой визит в это учреждение мог окончиться моим собственным арестом, но Господь хранил меня.
Я потребовал пустить меня к начальнику РО НКВД Калягину. Не знаю, может, моя дерзость сыграла роль, может, материнские молитвы, но меня пустили к Калягину. На лицах охранников ясно читалось удивление, ход их мыслей, видимо, был следующий: «Наверное, этот парень на самом деле имеет право просто так зайти к грозному начальнику, раз так смело этого требует».
Мне повезло: Калягин лично знал Блюхера. И справка про «кочура» сыграла роль палочки-выручалочки. Думаю, что года через четыре, в 1937, этот номер бы уже не прошёл, и дело бы не закончилось так благополучно. Через сутки отец был дома. Обритый наголо, без бороды, похудевший, он был не похож на себя самого. И мы сначала не узнали отца, пока он не заговорил. А он смеялся: «Родные дети не признали! Значит, долго жить буду!»
Было и ещё одно испытание. Меня вызвали в облоно по необъявленной причине. Когда я пришёл в кабинет, то увидел там, кроме руководителей облоно, людей в форме сотрудников НКВД. Мне были заданы вопросы в довольно угрожающей форме: «Почему вы скрыли от нас, что ваш дядя является монахом? Как вы, имея такого родственника, можете быть допущены к подрастающему поколению? Почему вы преднамеренно солгали Советской власти?»
Я растерялся. Ожидал чего угодно, но только не вопросов о дяде. Он действительно был монахом и жил в монастыре с 1914 по 1924 год, и в нашем селе все об этом знали. Но в 1924 году монастырь закрыли, всех насельников его разогнали, часть репрессировали. Поэтому дяде пришлось жить в миру, и он должен был работать, чтобы не умереть с голоду.
Обычно все монашествующие были очень трудолюбивыми. Это только богоборцы кричали, что монахи—лентяи и тунеядцы. Я хорошо знал, что это не так. Монахи были самыми ответственными людьми, работали отлично на любом послушании. Мой дядя устроился на гипсовый завод в Перми. Он привык всякое дело ради Господа выполнять самым наилучшим образом, и на заводе, не пытаясь сделать какую-то карьеру, тем не менее быстро стал ударником. Рабочие в цехе его уважали и выбрали своим бригадиром.
Об этом я и сказал своим обвинителям. Мне заявили, что проверят информацию, и в случае её неподтвер- ждения, последствия для меня будут самые печальные. Видимо, информация подтвердилась быстро, потому что больше меня по этому делу не привлекали, а, наоборот, назначили меня с 10 августа 1934 года директором Полозовской семилетней школы. Так в двадцать один год я стал директором школы.
Новая работа и новые чувства
Родители гордились мной. Моя милая мама плакала и повторяла сквозь слёзы: «Иванушка мой, сыночек, вот ты у меня какой вырос-то!» Но я её радости не разделял. Понимал, что это дело было слишком ответственным, и переживал, что не справлюсь. Правда, вслух этого не говорил. Маме виду не показывал, делал вид, что уверен в себе и хорошо знаю будущую работу. Не хотел её расстраивать.
В моём новом коллективе было двадцать человек. Почти все они были старше меня, и это добавляло трудностей. Трудность была и в том, что произошло слияние двух школ. По приказу министерства с этого учебного года школы колхозной молодёжи (ШКМ) объединяли с начальными школами, преобразовывая их в семилетние. Так что в один день я принял сразу две школы. Нетрудно было пересчитать парты, стулья, столы. Но больше никакого оборудования не было. Также наступала осень, а топливо не подвезли ни школе, ни учителям. А директор должен заботиться не только об учебном процессе, но и о жизни всей школы и её коллектива.
В школе были две коровы, лошадь, огородик и небольшой посев овса. Это означало, что у детей и учителей будет по кружке молока в день и, возможно, какие-то овощи с огорода. Но коровам и лошади нужен был корм, огородом тоже нужно было заниматься. Нужно было решить проблему с топливом. Создать новый коллектив. Организовать учебный процесс. В общем, работы впереди предстояло много.
Особенно трудными оказались первые дни. Коллектив встретил меня недоверчиво, учителям казалось, что я слишком молод для руководителя. Но постепенно они приняли меня, и уже через несколько недель о моей молодости никто не вспоминал, относились с уважением. Может, помогло то, что я всегда был серьёзным. Полагаю, что особой моей заслуги в этом никакой и не было. Это заслуга моих родителей, которым, с Божией помощью, удалось воспитать во всех своих детях трудолюбие, ответственность, чёткие нравственные ориентиры. Думаю, они были основаны на глубокой вере в Бога, хотя никогда в нашей семье эта вера не выставлялась, а, наоборот, хранилась в глубине души.
Здесь, в этой школе, я встретил ту самую, единственную, которую так долго ждал. Помню, как ещё пареньком лет шестнадцати, говорили мы с отцом о любви. И папа сказал: «Сынок, не так важно, какой будет твоя избранница: тоненькая или кровь с молоком, высокая или маленькая. Главное — настроение. Понимаешь?» Я не совсем понимал. Как это, настроение? А если у неё с утра одно настроение, а к обеду другое? «Ну как ты не понимаешь?! — переживал отец. — Это я, косноязычный, не могу тебе объяснить правильно, как чувствую. Неграмотный я потому что. Слов-то не могу найти! Ну вот, настроение... Вот посмотри на маму, посмотришь — и приятно, и на душе-то так хорошо!»
И я, кажется, понял. На самом деле, от мамы исходило такое обаяние, тихий свет женственности, доброты, мягкой ласки, что этого нельзя было не почувствовать. Отец говорил правду. Мужская душа — она погрубее будет, пожёстче, и ей так нужно вот это тепло, мягкость, нежность. У мамы это всё было, и в её присутствии хотелось делать что-то хорошее, как-то порадовать её, чтобы эти лучистые добрые глаза посмотрели на тебя с лаской. Вот это я и почувствовал, когда увидел свою будущую жену. Я сразу понял, что это она.
Она была совсем ещё юная, тоненькая, но глаза её лучились той же нежной лаской, от неё исходила такое же женское обаяние, как от моей мамы. Звали её Галина Вячеславовна, и работала она начинающим учителем математики в нашей школе. Несмотря на молодость, отлично проводила уроки, у неё всегда была хорошая дисциплина, ребятишки её любили и тянулись к ней. Моя ровесница, ей исполнился двадцать один год, но пережила уже очень много скорбей. Её папа служил священником, и семью преследовали. Гале, её брату Сергею и сестре Нине не давали учиться и работать.
И отец принял решение. Дети написали, что не будут общаться с родителями, только тогда им разрешили учиться и работать. Они всё равно продолжали общаться тайком. К моменту нашей встречи маму и папу Гали вместе со старенькими бабушками за неуплату непосильных налогов выгнали из дома. Дом сожгли. Мама была больна туберкулёзом и, продрогнув на осеннем ветру, быстро умерла. А папа вскоре был арестован и принял мученическую смерть, до конца оставшись верным Богу. Он не отрёкся от Господа даже под угрозой смерти. Вот что выпало пережить моей Гале как дочери священника: голод, угрозы, насмешки, разлуку с любимыми родителями, смерть мамы, которой не исполнилось ещё и сорока лет, боль за отца.
Но пока я о её испытаниях ничего не знал. Мой старый учитель Андрей Панкратович всегда был таким добрейшей души человеком, что люди тянулись к нему, как цветы к солнцу. Вот и Галинка стала часто советоваться с ним. По возрасту он подходил ей в отцы, может, даже в деды, а ей, видимо, очень не хватало родителей, с которыми её разлучили.
Галинка делилась с ним и методическими трудностями и душевными переживаниями. А он подкармливал её и видел наше с ней притяжение друг к другу. Он рассказал мне о семье Гали. Опыта общения с девушками, ухаживания за ними у меня не было, и я не мог придумать, как сказать ей о том, что полюбил её. Потихоньку, по ночам, я переколол ей все дрова, починил забор, благо, жила она в маленьком домике на отшибе.
Отправил к ней печника, так как печка у неё была плохая, и заплатил ему потихоньку из своей зарплаты. Но о моей заботе она не догадывалась. Мне казалось, что она неравнодушна ко мне, но держалась она официально, относилась ко мне только как к директору.
Андрей Панкратович, видимо, решил помочь нам. Я понял это, когда в конце недели обходил уже опустевшую школу и, услышав голоса из кабинета математики, дёрнул ручку на себя, приоткрывая дверь. Но не открыл её до конца, потому что замер на месте, услышав милый голос Галинки, произносивший моё имя:
— Иван Егорович? Меня?! Вы ошибаетесь, Андрей Панкратович, с чего вы такое взяли! Он совсем и не думает любить меня. Он очень строгий, серьёзный. Сердитый немножко. И ещё очень красивый, наверное, у него от девушек отбоя нет, а может, уже есть и невеста.
— Ничего ты не понимаешь! Серди-и-тый! Да у него сердце золотое! Он все деньги семье отдаёт! С детства работает, везёт на себе всех младшеньких! Голодал, а выучился! И сейчас всех младших учит! Мать-то с отцом—трудодни одни, палочки! С голоду бы померли! Серди-и-тый! А кто тебе дрова-то все переколол?! Чего глазами хлопаешь?! Не знала! Конечно, не знала! И нет у него никакой невесты. Некогда было ему с невестами. Жизнь у него, Галочка, трудная. Эх, дети вы мои, деточки! Оба чистые, добрые...
Мне стало так стыдно! И зато, что я оказался у двери в такой момент. И за то, что он хвалил меня. И за деточку стыдно. Никакой я и не деточка. Взрослый уже. Директор школы. И я, к своему стыду, как мальчишка- сорванец, застигнутый за проказами, удрал в свой директорский кабинет. И потом стыдился поднять глаза на Галину Вячеславовну. А она через несколько дней сама подошла ко мне после уроков в конце рабочего дня и сказала:
— Иван Егорович, я хотела поблагодарить вас, за то, что вы прислали ко мне очень искусного печника. Печка теперь не дымит.
И я, краснея и бледнея, пробормотал:
— Погода весенняя, чудесная. Нам, кажется, по дороге с вами?
Наша свадьба была скромной, поздравить нас пришли мои родители, мой любимый учитель Андрей Панкратович и несколько учителей из нашей школы. Галин папа не мог приехать, но прислал письмо и благословил нас с любовью. В выборе спутницы жизни я не ошибся. Жили мы с Галей, что называется, душа в душу, очень любили друг друга.
Хоть и были ровесниками, но я всегда чувствовал себя старше, наверное, так и должно быть, потому что мужчина берёт на себя все трудности и тяготы, встречающиеся на жизненном пути. Моя Галя была оторвана от родителей, поэтому я старался окружить её заботой и дать ей внимание, ласку, чтобы хоть немного сгладить вынужденное сиротство. А Галя принадлежала к тем женщинам, рядом с которыми мужчинам хочется стать лучше, чище, сильнее, достойнее. Ради её улыбки, я готов был на любые подвиги. Да и улыбка-то эта казалась необыкновенной — как солнышко выглянет и всё обогреет, так и ласковая улыбка моей юной жёнушки.
Семейная жизнь
В 1936 году нам с Галей исполнилось по двадцать три года. Я окончил экстерном Оханский педагогический техникум. Впереди был институт, и моя мечта о высшем образовании становилась всё ближе к реальности.
На последней сессии в Оханске получил от Гали телеграмму: «Сын четвёртого июля. Пока здоровы. Галя». Эту телеграмму я храню уже много лет как драгоценную реликвию. Сдав последний экзамен, помчался на переезд через Каму, чтобы на любой машине доехать до Перми (пароходом было слишком долго), а там на поезд и в Свердловск, где ждали меня самые родные и близкие мне люди: мои жена и сын.
В Свердловск приехал утром, ночью почти не спал от волнения. Солнышко только вставало, начинался новый день. Свердловск вставал в лёгкой туманной дымке. Утренняя свежесть, пели птицы. И мне казалось, что начинается совсем новая жизнь, наша общая жизнь—теперь нас трое. Очертания этой новой жизни пока неясны, они проглядывали как силуэты свердловских зданий через туманную утреннюю дымку. Но было такое острое предвкушение счастья, как никогда в жизни. Оно казалось таким острым, что сердце замирало.
Вместе с Сергеем, старшим братом Гали, мы пошли к роддому. Балкон Галиной палаты находился высоко, было плохо видно, но я услышал милый звонкий голос моей жены, и воображение дорисовало остальное: моя любимая здорова, и вот наш сын! Первый и сын!
Через несколько дней встречаю и осторожно беру в руки такой невесомый свёрток. И первый раз вижу своего сына: голубые глаза, волос почти нет. Каким-то будет наш милый маленький человечек? Шепчу Гале: «А почему он лысый?» «Они все почти такие, ничего скоро будет, как у тебя, густющая шевелюра!» — смеётся моя Галинка.
Дома, в Полозово, нам к осени дали квартиру, на втором этаже кирпичного дома. Это был дом бывшего купца-фальшивомонетчика.
С нами жил младший брат Миша. Потом он уехал учиться в Пермь на фармацевта, работал затем заведующим аптекой. А я взял к себе родителей и младшеньких Витю и Аню. Галя всегда знала, что я забочусь о семье, и поддерживала меня в этом. Насильно разлученная с родителями, она всегда ценила крепость семейных уз. Мои родители очень любили её и помогали нам воспитывать нашего сыночка, а потом и дочку. В 1938 году у нас родилась дочка, наша Наденька, Надежда. Благодаря заботам родителей о внуках мы с Галей довольно легко, почти одновременно, окончили педагогический институт. Теперь у нас обоих было высшее образование.
Школа моя была преобразована из семилетней в среднюю, вырос коллектив учителей. Новый 1939— 1940 учебный год встретили на подъёме. Я чувствовал себя уже опытным директором, и работа ладилась. Закупили новое оборудование, пособия, мебель. Пополнили нашу школьную библиотеку. Галя работала руководителем районной методической секции учителей математики. Мирное течение жизни внезапно прервала финская война.
Служба в армии
Так получилось, что до двадцати семи лет я не был в армии, действовала отсрочка от призыва для специалистов сельской местности. Но началась финская война, и отсрочку сняли. Я был сильным физически, крепким и ловким, к трудностям тоже привык и службы не боялся. Мне только было очень жаль оставлять мою Галинку и детишек. На попечении Гали теперь оставались наши дети, стареющие родители и мой младший брат Витя. Подросшая Аня выучилась и уехала к моей любимой сестричке Лизе, которая работала старшим агрономом и считалась уважаемым человеком в хозяйстве.
Уже призваны и отправлены в армию были мои учителя — молодые мужчины. Очередь оставалась за мной. Меня зачислили в воинскую часть № 418, скомандовали считать себя призванным в армию и не выезжать из района. Стал готовить школу к передаче другому директору. Начальник НКВД по-дружески сказал, что служить я буду «у столбиков», это означало пограничные войска. Но велика наша граница! Где?
И вот после рабочего дня в школе получаю повестку из РВК: явиться 15 января 1940 года к девяти утра в военкомат для отправки в воинскую часть. Зашёл на две-три минуты попрощаться к своему любимому учителю Андрею Панкратовичу и—домой. Неожиданности в повестке не было, но слёз пролилось немало. Плакала мама, покашливал отец, а уж Галинка моя вся уревелась, еле успокоил.
Сборы были недолги: в один нагрудный карман военный билет, повестку, в другой, поближе к сердцу — фотографии жены, детишек, родителей, образок моего любимого святого Николая Чудотворца. В дорожный мешок: полотенце, кусочек мыла и хлеб на два-три дня. К шести утра подъехала подвода, и я простился с моими милыми родными людьми. Запомнился образ моей любимой плачущей Галинки, которая повисла у меня на шее и никак не хотела разжимать своих объятий. И потом долго бежала за подводой, глядя, как увозят от неё любимого мужа и отца её детей, может быть, навсегда.
Мне было очень жаль её, и я, как мужчина, старался утешить и успокоить жену, хотя расставание было тяжёлым и для меня. «А что делать?! Пришла пора тебе, Иван-крестьянский сын, Родину защищать!» — сказал я себе, и на душе стало гораздо легче. Надо — значит надо! Кто ещё защитит наших жён, детишек, родителей, как не мы сами?! На то мы и мужчины.
Среди призывников оказалось много друзей и знакомых. Обработали нас в санпропускнике и —в эшелон. Из призывников Пермской и Свердловской области был сформирован целый батальон. Подцепили паровоз с западной стороны вагонов, это означало, что едем мы на запад. Поезд тронулся через час от станции Верещагино. Помахали мы руками родимой сторонушке и... на нары. В вагоне тепло, посередине буржуйка. Везли нас быстро: везде давали «зелёную улицу».
На крупных станциях эшелон останавливался, и нас кормили обедом. Так что обедом мы отметили Киров, Москву, Минск и, наконец, Белосток —Уланские казармы. Обед в столовой полка оказался изрядно питательным и вкусным: борщ, гречневая каша с мясом, чай, хлеб без нормы. На стене плакат: «Береги хлеб —богатство народа».
Санпропускник. Остригли нас машинкой, и мы стали все похожи друг на друга. Дали каждому вещмешок, бельё, брюки, гимнастёрку, шинель, полотенце, два подворотничка, мыльницу с мылом, щётку и зубной порошок. Ещё вручили матрасную наволочку, серое добротное одеяло, две подушечные наволочки, а главное — будёновку и пару рукавиц с наличием указательного пальца. Мы даже радовались как мальчишки и примеряли на свои бритые головы будёновки.
Почему-то все боялись, что нам выдадут ботинки с обмотками. И были очень довольны, когда нам вручили кирзовые сапоги и пару фланелевых портянок! Оделись мы, и друг друга не узнали! Все оказались одинаковыми, как братья-близнецы! Имели только каждый свою личную фотографию. Домашние вещи предложили упаковать, написать адрес для отсылки домой.
Затем последовала тщательная медицинская комиссия, а потом собеседование с командованием полка. Со мной разговаривали комиссар полка и батальонный комиссар Шумаков. Отбирали из нас кого в школу младших командиров, кого в танкисты, кого в артиллеристы, кого в роты станкистов-пулемётчиков, кого в пехоту (в стрелковые роты). Меня зачислили в стрелковую четвёртую роту, второго батальона.
Ночью повезли нас в Супросль, что в двенадцати километрах от Белостока. Раньше в Супросле был огромный женский монастырь. При наступлении немцев на Польшу и при освобождении Западной Белоруссии от польских панов монастырь разрушили, и монахини искали приют кто где. Прямо в монашеском корпусе оборудовали для нашей роты двухэтажные нары. В роте насчитывалось двести человек, а обогревалось всё помещение одной печкой. В заготовке дров помогала моя землячка — пермская пила «Дружба». Землячка была хороша, да вот сосны на корню оказались совсем сырые. Так что проблема с обогревом значилась.
Спали впритирку друг к другу, укрываясь поверх одеял шинелями. В монашеском корпусе я чувствовал такую намоленность, такую благодать, что странно было и неуместно видеть здесь шинели и будёновки. Хотелось молиться в этом монастыре и умиляться сердцем, но повседневная жизнь от молитвы отстояла как Северный полюс от Южного. Я заметил, что верующие люди в подобных местах чувствовали себя очень хорошо, благодатно, как сказала бы мама. А вот атеисты, наоборот. Они становились как-то ожесточённее сердцем и часто конфликтовали.
Так после первой же ночи соседи у окна, с вечера насмехавшиеся над монастырём и монахинями, к утру устроили скандал. Напустились с руганью на бывшего учителя Осинского района Чекменёва за то, что он храпел ночью и скрипел зубами. Стали требовать у старшины убрать его от них. Узнав в чём дело, я и мой сосед решили взять Чекменёва к себе и положить его между нами. Он был нам очень благодарен. А я долго не мог взять в толк, как можно скандалить из-за того, что человек невольно храпит. Перед сном я, как обычно, почитал про себя привычные молитвы, и спал совершенно спокойно, никакой храп мне не мешал.
Наутро наш старшина Сергеев выстроил роту и каждому задал вопрос, кем он работал до призыва в армию. Узнав, что я работал директором, усмехнулся, проворчал негромко: «Щас вас, интеллигенцию, белоручек, перевоспитывать будем, труду учить».
Вызвал из строя на два шага вперёд двух директоров: меня и директора опытной сельскохозяйственной станции Карагайского района. После громких слов «Ха-ха, два директора!» отдал приказ: взять тряпки в каптёрке и образцово помыть казарму. Площадь оказалась очень большая, а вода — ледяная. Но мне было совсем нетрудно мыть пол, я и дома его часто мыл, берёг свою любимую Галинку. Было немножко смешно, что старшина решил, что я белоручка и хотел испугать меня такой работой.
Пока мыл, вспоминал, как пахал в поле один и как руки мои оказались в крови от лопнувших мозолей, как дрожали и подкашивались ноги когда-то от напряжённого труда. Так что мытьё казармы мне показалось чуть труднее утренней зарядки. Мыли часа два, под нары приходилось заползать по-пластунски. Мой напарник к физическому труду привык меньше, видимо, пол мыть ему не приходилось, тряпку выжимать он явно не умел и сильно испачкался: следы грязной воды остались у него на рубашке и на лице.
Я посочувствовал парню и предложил ему потихоньку отдохнуть, а сам быстро домыл казарму. Пришёл старшина и успел заметить, что мою я один. Окинул взглядом покрасневшее грязное лицо и грязную рубаху моего напарника, недоверчиво посмотрел на меня: я почти не запачкался и даже не запыхался. Придирчиво осмотрел пол и глянул на меня уже по-другому— с уважением.
Лозунгом нашим было «Делай всё как на войне». Утром в любую погоду и при любой температуре — зарядка во дворе, на свежем воздухе, разминка —две пробежки. Умывались во дворе из бочки, используя личные кружки. Затем: «Быстро одеться! Выходи строиться на завтрак!» Столовая не отапливалась, ели стоя. Но кормили нас питательно и вкусно.
Занимались по восемь-десять часов в сутки, особый упор делали на физическую и огневую подготовку, владение штыком. Тактика, спецтактика. Учёба давалась мне легко. Никакого труда не стоило изучить личное оружие: винтовку, гранаты РГД-34, ЭФ-1, наган, ППШ, противогаз. В каждом отделении — один пулемёт Дегтярёва, но владеть им был обязан каждый красноармеец. Двадцать третьего февраля 1940 года приняли присягу.
Переехали в казармы полка, были приведены в состояние боевой готовности для войны с белофиннами. Могу сказать, что в то время об армии и о защитниках Родины заботились. Вместо сапог выдали валенки, ватные брюки, шапки, добротные полушубки. Каждый получил по 180 патронов, по 4 гранаты. Но воевать не пришлось: 12 марта противник запросил мира.
Так что служба продолжалась в мирной обстановке. Всё уже стало привычным: упорные занятия по боевой и специальной подготовке, спецзадания, в выходные дни соревнования между взводами и ротами. Наша рота неоднократно побеждала, и так получалось, что все считали меня главным «виновником» победы. Заслуги тут моей особой не было, просто от природы я был сильным, крепким. И вот как-то раз я принёс победу нашей роте с таким отрывом, что меня ребята качали на руках.
После этого мне шепнул ротный, что командир полка предложил наградить меня за отличную службу. И мне дали, зная, что у меня жена и двое детишек, месячный (без дороги) отпуск для поездки домой. Я не прослужил и года, поэтому такая награда была просто счастьем! Увидеть Галю, детей, родителей! Сейчас я думаю, что главную роль в получении отпуска сыграли молитвы моих милых родных, а не моя суперподготовка.
Собирали меня домой всей ротой. Обмундирование моё уже сильно потрепалось, а срок смены ещё не наступил. Не знаю, за что, но меня товарищи очень любили, и каждый старался что-то хорошее сделать: старшина Сергеев (тот самый, который когда-то меня за белоручку принял) передал мне свои почти новые диагональные брюки, сменил кирзачи на яловые сапоги. Друг Белкин передал свою шинель. Вручили мне новый шлем-будёновку. Многие давали адреса свои домашних, просили зайти хоть на две-три минуты. Провожали меня на вокзал всем отделением. Вот и пассажирский поезд до Минска, в Минске пересадка на поезд «Москва — Киров — Свердловск».
В Верещагине оказался поздно вечером. Ночевал в семье сослуживца Шильникова, приняли они меня очень тепло. Погода была холодная, снежные заносы— середина ноября. Чуть свет побежал искать машину или подводу. Ничего не нашёл и не в силах больше терпеть отправился пешком, быстрым шагом, почти бегом. Согревало меня ожидание встречи с любимыми людьми, да и стукнуло мне в ту пору только двадцать восемь лет, и был я очень вынослив и крепок.
И вот Черновское. Оказалось, что моя Галя уже здесь, встретились на дороге. Она отправилась встречать меня на школьной подводе со школьным конюхом. Конюх, мой старый знакомый, её бережно укутал в эту ноябрьскую непогоду, и из тулупа видны были только нос да глаза. И вот слышу радостный визг, и из этого тулупа на меня целый вихрь бросается, обнимает, на шее виснет, подпрыгивает, чтобы поцеловать. Тут же конюх наш старенький по плечу меня похлопывает, слезу пустил. В общем, встреча получилась трогательной. Они ведь думали: война будет. Дома тоже радость была неописуемой. Детишек моих милых подкидывал, родителей обнял.
Месяц пролетел незаметно. Нужно было возвращаться. Время тревожное, в воздухе пахло военной грозой.
Так началась война
Служба продолжалась. В июне выезд на берег реки Неман в семи километрах от Каунаса. Тактика, спец- тактика, огневая и физподготовка в роскошном сосновом бору. Двадцать первое июня 1941 года. Вернулись с занятий поздно вечером. Вместо бани, как и раньше, река Неман. Вечером кино «Чапаев». Затем дежурный по лагерю командует: «Отбой!» Тихий разговор в палатках, и голос дежурного: «Спать, спать, товарищи!» Лагерь заснул богатырским сном.
А в пять утра мощные звуки разрывов бомб в стороне Каунаса. Через пару минут мощный голос бегущего по лагерю дежурного: «В ружьё!» Построились в считанные минуты. Тревожная команда: «Ликвидировать лагерь! Приготовиться к маршу!» Всё, что не представляло ценности, пошло на костёр тут же, вблизи лагеря. Роты и технические подразделения дополучают боеприпасы. Поданы машины в Каунас. Нам навстречу открытые машины, а в них израненные пограничники. Они приняли первый удар на себя. Сердце билось тревожно: беда. Так началась война.
Приехали в казармы, меня зовут к телефону, подбегаю — старший политрук. Кричит в трубку: «Во дворе штаба автомашины для эвакуации семей. Забери мою жену, отправь её в тыл, а я не могу с ней даже проститься!» Квартира политрука была в соседнем квартале. Бегу туда.
А нужно сказать, что у политрука нашего жена была женщина очень гордая и своенравная. Ходили слухи, что она мужа под каблуком держит, и, вообще, так называемая феминистка. О правах женщин любит потолковать и о равенстве полов. Несколько раз я встречался с ней мимоходом, смотрела она обычно на мужчин свысока, как-то насмешливо. Мне это всегда непонятно было. Что означают эти женские права? Я твёрдо знал, что моё право как мужчины — брать на себя всё самое тяжёлое, защищать жену и вообще женщин от трудностей и опасностей.
Прибегаю в квартиру. Стучу, а мне сразу не открывают, жена политрука так растерялась, что ключ в обратную сторону вертит, замок заклинило, дверь не открывается. Кое-как через дверь успокоил её, медленно и тихо ей сказал, как дверь открыть. Слава Богу, получилось. Зашёл и вижу, что феминистка наша дрожит от
страха, свысока смотреть и не думает, а, наоборот, вцепилась в меня дрожащими пальцами и плачет. А была она в положении. Так мне жалко её стало.
Быстро собрал чемодан её, положил всё необходимое, на мой взгляд. Надо идти, а у неё ноги подкашиваются. «Голубушка ты моя, всё хорошо будет!» Подхватил её на руки, понёс к машине вместе с чемоданом. А она плачет, всё плечо у меня мокрое стало. Бедные наши женщины! Война —не женское дело. Усадил её в машину, по голове, как ребёнка, погладил. И пошла машина с женщинами и детишками в тыл, даже не успели многие с мужьями попрощаться.
Военные действия
Прибегаю на плац, рота уже строится. Из репродуктора голос Молотова о нападении Германии на нашу Родину. Перед строем — командир полка. Приказ был краток: «Задержать врага! Наносить врагу как можно больше урона, не щадя своей жизни!» Лица ребят суровы. Мы должны заслонить собой наших жён, детишек, родителей. Кто, если не мы?
Впереди колонны выступила мотобатарея, танки. Ехали километров сорок. Заняли огневую позицию по обеим сторонам дороги. Слева пятая рота, за ней танки, мотобатарея. Справа наша, четвёртая рота, и рота пулемётчиков. Окопались для стрельбы с колена, продолжаем углублять окопы. Грунт мягкий —пашня. По цепи передают: «Без приказа не стрелять! Приказ —три красных ракеты!» А стрелять-то и не в кого: немцев нет. Впереди в километре лес и дальше на горизонте лес, а на пути, метрах в 350, деревушка. Домов двадцать пять—тридцать.
Вдруг вылетает из-за леса фашистский самолёт «Рама», пускает по обеим сторонам дороги чёрные струи дыма. Кто-то крикнул: «Газы!» А командир: «Отставить газы! Сохранять спокойствие! Это всего лишь опознавательный знак для фашистской артиллерии — куда стрелять!». Мне, несмотря на такой невесёлый момент, стало чуток смешно. «Успокоил» командир: это не газы, а «всего лишь» по нам артиллерия фашистская стрелять будет. Пустяки, дело-то житейское. Смотрю, ребята тоже немного расслабились, кое-кто улыбнулся даже.
И вот на горизонте стало видно пять фашистских бронетранспортёров, а за ними пехота. Страха я не чувствовал, в памяти всплывали милые лица Галинки, детишек, родителей. Казалось, чувствовал на плече слёзы жены политрука, как несу её, беременную, с её уже заметным животиком, бережно в машину, а она ищет моей мужской защиты. Чувствовал гнев и желание драться. Посмотрел вокруг: у ребят на лицах было такое же настроение.
Колонна уже подошла на такое расстояние, что по Уставу огонь по противнику можно вести без приказа. Но по цепочке передают: «Без команды не стрелять!» Это потому что колонна вошла в деревню, а там могли остаться мирные жители. Голова колонны вошла в деревню, начался пожар, загорелось несколько домов... Слышны стали душераздирающие женские крики... Товарищ прошептал: «Вот гады, с бабами воюют!»
Колонна вышла из деревни. Триста метров, двести пятьдесят, двести... Руки дрожат, но не от страха, а от напряжения. И наконец три красные ракеты! По колонне фашистов ударили враз наши танки, пушки, застрочили «максимы», «Дегтярёвы», и все стрелки пустили в дело боевую подругу — винтовку. Вели прицельный огонь.
Бой был горячий. Колонна фашистов раздвоилась, одни пошли направо, другие налево, обходя нас с обеих сторон. Вступила в бой немецкая артиллерия, после поддержки её самолётами «Рама» мы попали под ураганный артиллерийский обстрел. Вышли у нас и патроны. Погиб на наших глазах командир полка. Наконец приказ: «Подобрать убитых и раненых, отойти назад, к машинам!»
Отход обеспечивали наши танки. Мы под огнём очень быстро, в братской могиле, похоронили убитых, а раненых погрузили в машины. Отступать не хотели. Могу сказать от лица всех наших ребят, что готовы были бить врага голыми руками, такой гнев мы испытывали за их вероломное нападение. Ведь мы их не трогали, зачем они пришли на нашу землю?! Но приказ есть приказ, мы понимали, что нужны боеприпасы: с голыми руками против бронетранспортёров много не навоюешь.
Проехав километров двадцать на запад, снова заняли оборону. Раненых увезли в тыл. Получили боезапас и окопались. И снова колонна врагов. Всё повторилось. Трусов среди нас не оказалось: каждый пятый пал в этих схватках, многие были ранены. Глубокой ночью с болью мы оставили нашу позицию. Лавина фашистской армии хотела пройти по нашей земле победоносно и легко. Но лёгкости у них не получилось: мы стояли насмерть.
Оказалось, что вокруг почти все —верующие. Правильно говорят: в окопах атеистов не было. В бой обычно шли с криками: «Ура!», в атаку поднимались по призыву: «За мной, товарищи!». Никто не кричал «Коммунисты, вперёд!», как потом иногда писали, потому что это было бы очень странным: а беспартийным—лежать, что ли?
Пришлось нашему подразделению выполнять очень много задач: немецкие самолёты выбрасывали диверсантов. Начались взрывы, поджоги объектов. Лазутчиков нужно было обезвредить. Участвовали в военных действиях. Приходилось вести разведку, иногда боем. Действовали гранатами РГД-34, не была дурой пуля, помогал и штык-молодец.
Как-то, поздно ночью, прибежал к нам подросток лет четырнадцати и рассказал, что недалеко от железнодорожного полотна прячутся незнакомые мужчины с ящиками. Оказалось, это немецкие диверсанты, планировавшие взорвать мост. Мы их взяли. Парнишке подарили продукты, налили сгущённого молока во фляжку. Он был очень рад, что помог нам и предложил остаться с нами воевать. Мы, конечно, по-доброму посмеялись и от пополнения отказались.
Ну что ещё рассказать? Дальнейшие события такие были напряжённые, что казалось, за сутки переживаешь месяц. Это потому что за плечами стояла смерть. Так что, если всё рассказывать (а в памяти очень хорошо сохраняются такие экстремальные обстоятельства), то, пожалуй, мне бы пришлось не дневник написать, а роман целый. Но романов писать я не умею. Что сказать? Воевал честно. Летели дни, месяцы. Товарищи мои уже многие погибли или были ранены, а я всё ещё оставался в строю. Наконец пуля настигла и меня. Дело было так.
Ранение
Проходила операция по выполнению приказа: зайти в тыл к немцам и уничтожить два гарнизона. В начале войны немцы ночью обычно всегда спали, наступали только днём. Считали, видимо, что ночной отдых способствует здоровому образу жизни. Ну а мы защищали родную землю, нам было не до здорового образа жизни. Ночью мы уничтожили один гарнизон. Операцию закончили в четыре утра, а в это время уже светает.
Пришлось дневать в лесу, прежде чем провести уничтожение второго гарнизона. И эта операция прошла успешно. Только появились раненые. Перевязали их, двинулись обратно.
Вдруг с правого фланга подходит мужчина лет шестидесяти пяти и рассказывает, что в пустой деревне (жители её покинули при наступлении врага) фашистский отряд. Посовещались мы и решили отправить раненых под надёжной охраной в санчасть, а остальным пойти на новое задание по своей инициативе. Отряд фашистов был небольшой, и справились мы с ним относительно легко. Нужно было возвращаться. Операция длилась больше запланированного времени, сухой паёк кончился сутки назад. Мы были очень голодны. Во взятом нами блиндаже рядом с деревней были остатки пищи фашистов. Но как мы не хотели есть, никто из нас не смог заставить себя воспользоваться объедками врага. А ничего другого не было.
Возвращались к части, брезжил рассвет. Как есть-то хотелось! Почувствовали запах кухни и уже представляли, как будем уплетать кашу за обе щеки. Но запах каши так и остался запахом. Навстречу вышел лейтенант Га- лясный с остатками своего подразделения: «Вам и нам командование приказало выбить немцев из деревни Катково!» Остатки обеих наших рот пошли в бой. Для большей части моих друзей этот бой был последним.
Мирных жителей в деревне не было, наши снайперы успешно сняли часовых, которые охраняли спящих врагов. После первых выстрелов сладкий сон немцев и их «здоровый образ жизни» потерпели крушение. Началась ожесточённая перестрелка. Мы брали один дом за другим, уничтожая фашистов. На моих глазах гибли товарищи. Приказ был почти выполнен, но из последнего дома строчили немецкие автоматы.
Крайне необходимо было уничтожить врага в этом последнем доме.
Я подполз к дому под огнём, страха не было, я полз и думал только о том, чтобы не ранили раньше времени, чтобы успеть поразить врага. Почему-то был уверен, что не погибну, я уже писал, что с детства чувствовал над собой покров. Может, это были молитвы родных и близких, может, мой маленький ангелочек, братишка мой, Вова, молился обо мне. Но покров этот я чувствовал точно.
Правда, в этот раз было предчувствие, что ранят. Я воевал практически без единой царапины, а вокруг гибли и получали ранения товарищи. И вот перед этой операцией, как обычно, почитал про себя молитвы, приложился к образку моего любимого святого Николая Чудотворца. Образок этот у меня всегда был с собой в нагрудном кармане, рядом с фотографиями родных. И вот хотите верьте, хотите нет, почувствовал опасность, подумал, что ранят, наверное.
В общем, подполз под огнём к дому прямо-таки чудом, потому что огонь был шквальный, из всех окон— автоматные очереди. Ребята лежали—голов не поднять. А я ползу себе и удивляюсь: как заговорённый —пуля не берёт. Ну, думаю, ещё немножко, помоги Господи! Давай, Иван-крестьянский сын, защищай родную землю! Дополз до окна и бросил гранату внутрь.
Ударило меня что-то сильно в левое плечо, как обожгло. Да с такой силой, что отбросило от дома. Я потерял сознание. А в доме часть автоматчиков погибли, но кто-то остался недобитым. И вот меня попытался оттащить в безопасное место боец пятой роты. Но был убит насмерть. Вечная ему память! Имя его не получилось у меня узнать.
Я потом думал, что такой должник этому человеку! Теперь нужно мне было столько добра сделать, столько пользы людям принести! Чтоб не зря, значит, он собой-то пожертвовал! Вот так и живу теперь: за себя и за того парня.
Пришёл в сознание, когда ко мне подполз боец нашей четвёртой роты, Пепеляев Ефим Фёдорович. Он был учителем из деревни Сергино, Нытвенского района. Перетащил он меня в канаву, но сам был ранен в правую лопатку. И наконец, друг мой, Белкин Алексей Иванович (живёт сейчас в Соликамске), перетащил меня через дорогу, поднял и помог идти. Ребята к этому времени завершили операцию.
Я пришёл в себя, перевязали мне плечо, кровопотеря была сильная. И пошёл я, поддерживаемый другом, покачиваясь от слабости, пешком два километра по тропинке к полевому госпиталю. Живой!
У палаточного госпиталя мы с Белкиным расстались. Он — обратно в часть, а мне в одной из палаток сделали настоящую перевязку, сестричка всыпала три укола подряд. Врач наложил гипс на левую руку и плечо со словами: «Ну вот, самолёт готов, только крыло одно». И сразу после его слов раздались взрывы. Налетели на госпиталь три фашистских бомбардировщика, и мы оказались под смертельным грузом.
Когда стемнело, оставшихся в живых после бомбёжки вывезли в палаточный госпиталь на окраине Ржева. Через пару дней немцы бомбили и тут. В ту же ночь поездом доставили нас в город Волоколамск, спали на полу на простынях. А через сутки увезли в Казань. Как самых дорогих гостей встретили нас в Татарии.
Ранение моё оказалось тяжёлым. Были повреждены кости и ключица. В пути из-за большой кровопотери несколько раз отключался — терял сознание.
В госпитале
Госпиталь разместили в бывшей гостинице «Совет». На четвёртом этаже, в двухместном номере, то бишь палате, разместились мы втроём: старшина из Архангельска, мой однополчанин, командир взвода Чекменёв, и я. Уколов мне наставили —неделю сидеть не мог. Написал письмо домой.
От слабости еле передвигался. Даже сидеть было тяжело, сяду, а в глазах мушки, в пот бросит, и я опять на постель упаду. Всегда был сильным и крепким, и такая непривычная физическая слабость меня очень тяготила. Кормили хорошо, но аппетита впервые в жизни не наблюдалось. С трудом заставлял себя немного съесть. Видимо, много лекарств принял, токсическое действие какое-то наверняка на организм происходило. Но, слава Богу, жив!
Через неделю — счастье! Приезжает ко мне в госпиталь моя Галинка. Я даже поверить не мог, когда сказали, что жена ко мне приехала. Пока своими глазами не увидел, всё поверить не мог. Дома оставалась большая семья: старики, дети, младший брат Витя. А главное, все пути, дороги забиты людьми.
Но, когда она узнала, что муж близко, сразу приняла решение ехать ко мне. Думала ещё, что из госпиталя, может, опять на фронт, под пули. Будет ли ещё возможность увидеться? Мои родители, хоть и любили меня сильно, стали её отговаривать: дорога опасная, военное время, да и денег нет. Случись беда с ней, а они уже старики, что с детьми-то будет. Но Галинка моя решительно им ответила, что ничего с ней не случится, а мужа она должна увидеть. Любила она меня очень. Я вот, к слову, удивляюсь иногда, что у молодых любовь быстро проходит. Думаю, если так быстро прошла, то была ли она?
А у нас с Галинкой так было: чем дольше были мы вместе, тем сильнее любили друг друга. Так что чувствовал я её самым родным человеком на земле — как в Евангелии сказано: «Они уже не двое, а одна плоть». Да, это правда. Так я и чувствовал. Есть много женщин, и я, как мужчина, вижу, что есть много более красивых, чем моя Галинка. Есть много более умных, более обаятельных, более стройных. Ну, каких там ещё? Но роднее, чем она, моя жена, для меня нет никого. И не будет никогда.
То, что нас с ней связывает: весна наша первая, первый поцелуй под яблоней, когда белый цвет осыпал её, мою невесту, и наш первенец, сыночек мой, и дочурка, тревоги, и боли, и радости — разве могу я это всё променять на чужую красотку? Смешно просто. Ну, а не удержусь от соблазна, кому боль причиню? Себе самому!
Ну с чем сравнить-то? Я лучше за родным столом из любимой тарелки да с любимыми людьми щи хлебать буду, чем тайком в ресторане ворованным окороком давиться. Это как в чужом блиндаже объедки чужие подбирать. Ну мы ж нормальные мужики, объедками не питаемся. Ну так? Ладно, это что-то я пустился в лирическое отступление. Да и сравнения у меня не поэтические. Но думаю, что от всего сердца написал, пусть так и останется, не буду зачёркивать.
Ехать Галинка решила кратчайшим путём: на пароходе из Чистых до Казани. Чтобы не отнимать хлеб у детей, с собой почти не собрала продуктов, взяла самый минимум. Дорога получилась длинной и голодной, быстро кончился хлеб, который взяла из дома, хоть и растягивала, сколько могла. Кто-то из попутчиков, видя, что голодает она, делился с ней своими припасами. Но в то время все почти были голодными. Добралась наконец до госпиталя.
Меня ребята позвали: «Жена приехала!» Я кое-как, пошатываясь, спустился, а часовой Галинку не пускает: «Не положено! Не велено! Попадёт и вам и мне!» Ну, пришлось его чуток отстранить. Говорю ему: «Браток, ты меня не пугай, что попадёт. Мне уже и так попало—иначе бы в госпитале не лежал». Он сконфузился: «Ладно, — шепчет, — идите тихонько, авось пронесёт, начальство не узнает».
Поднялись ко мне в палату. Я на кровать упал, Галинка рядышком на стул села. А тут набежало раненых—ну, со всего этажа, не знаю, как в палату вместились. Все радуются, все хотят хоть словечком с ней перемолвиться. Вот, дескать, и моя женушка, может, приедет. Не дали нам и минуты вдвоём побыть. Засыпали Галинку вопросами. А я, проделав путь по лестнице, немного отключаться стал, голова кружится, только держу её за руку и как будто на небесах от счастья. Хорошо, что пришла пожилая санитарка -татарочка. Зашумела:
— Да что ж вы делаете-то?! Да девчушка же на стуле еле сидит, того и гляди в обморок упадёт! Бледненькая такая! Уставшая! Да поди и голодная! Ну что с вас, мужиков, взять, хоть чаем-то напоили её? Нет?! Так! Все по палатам! Сейчас, милая, я тебя покормлю. Доченька милая!
Мне так стыдно стало. Вот, думаю, не догадался, первым делом покормить жёнушку. Одно извиняет — слабость сильная. Рано, видимо, подниматься и спускаться мне по лестнице было. Санитарочка принесла Галинке чаю, хлеба. Только вышла, пошли мужики наши в палату прокрадываться. И каждый гостинчик несёт, усовестился, значит, решил подкормить гостью. Потихоньку на тумбочку положат и, сконфуженные, скроются. Ну, ни дать ни взять — партизаны или разведчики на спецзадании. Столько натаскали, что обратная дорога у Галинки сытная была. Да и домой получилось гостинцы довезти.
Увела нянечка её к себе ночевать, на свою кровать положила, а сама и не спала всю ночь. Очень добрая была. А утром повидались мы только полчасика. Нужно было жене успеть на обратный пароход, а путь вверх по реке ещё длиннее. Но успела она мне все новости рассказать, про детишек милых, про родителей, про школу нашу. Обнялись осторожно на прощание, поцеловались. Тут уж, как раньше, не могла она у меня на шее повиснуть, а я не мог её на руки подхватить: сам пока на ногах еле держался. И поехала моя любимая жёнушка назад, домой.
У фронтового друга оказались кости целыми, и рука быстро зажила. Через неделю провожал его обратно, в полк. Больше мы с ним не увиделись. Позднее узнал о его гибели. Мне же дали месячный домашний отпуск, а потом нужно было на комиссию, так как моё ранение оказалось тяжёлым.
Пришла пора мне оставить госпиталь. Надел ботинки с обмотками (сапоги отдал уходившему на фронт другу), заштопанную серую шинельку, старые штаны и гимнастёрку. Дали мне паёк на двое суток, и отправился я домой. Путь был недолог: Казань — Арыз — Воткинск. До Лысьвы пешком. Нашёл попутную подводу, позвонил в свой сельсовет: еду из Лысьвы. Хотел обрадовать родных. И вот когда до дому оставалось километра четыре, гляжу: бежит мне навстречу моя Галинка, а за ней бежит, спотыкаясь, мама моя. Пришли домой. Слёз женских было море. Не знали, куда посадить, чем накормить от радости. Сыночек узнал отца, а вот маленькая дочурка отвыкла от меня, дичилась сначала. Но быстро вспомнила и признала.
Нестроевая служба и семья
На комиссии сказал, что чувствую себя прекрасно и готов идти на фронт, очень хочу вернуться в родной полк. Но мне ответили, что отвоевался я. Выдали справку: годен к нестроевой службе в период военного времени в тылу.
Отправили меня в учебный батальон для подготовки новобранцев. Командирами отделений были фронтовики, все, без исключения, воевавшие на фронте. Командир учебного батальона, лейтенант, только что, как и я, прибывший из госпиталя, ходил с палочкой. Начал я работать. Личный состав учебного батальона получал хорошую подготовку, потом шли благодарственные письма с фронта.
Появилась возможность привезти семью, и я, с разрешения командования, поехал за женой и детьми. Родители мои приняли это «в штыки». Как это можно увозить детей в военное время из деревни, где есть корова, картошка, овощи с огорода. Но Галя решительно настроилась ехать. Мы так натосковались друг по другу, что она наотрез отказалась жить порознь. Старики стали просить хоть детей оставить, но Галя не согласилась.
Приехали в батальон, дали нам комнату в общежитии, где жил командный состав части. Мои сослуживцы с нежностью отнеслись к моим детям, так как многие жили раздельно с семьёй и скучали по детишкам. У одного из наших ребят, старшины, погибла семья: жена и маленькая дочь. Она была ровесницей нашей четырёхлетней Надюшке, и старшина очень привязался к дочурке, всегда встречал её гостинцем. Если нечем угостить, так хоть кусочек сахара даст. Погладит её по кудрявой головёнке, а у самого в глазах такая боль...
Надюша, хоть и малышка, чувствовала его любовь и тоску. Старалась его порадовать, приласкать. Увидит издалека и бросится к нему, кричит: «Милый мой старшин!» А как-то раз я увидел, что сидит наш старшина на лавочке за сиренью, в стороне от людских глаз, и рыдает, закрыв лицо руками, только плечи вздрагивают. А рядом с ним сидит моя кнопочка. Сидит как взрослая. Рукой щёку подпёрла, а другой ручонкой гладит старшину по плечу. Утешает.
Устроили мы детей в детский сад, сдали туда же их продуктовые карточки, как и полагалось. Я весь день на службе, кормили нас в столовой батальона. Галя нашла работу в школе. Приведёт она детей из садика домой, достанет свою пайку хлеба, а ребятишки уже проголодались, смотрят на хлеб голодными глазами. Она, как мать, им всё и отдаст. Я со службы позднее приходил. Сначала и не понял ничего, только смотрю: худеет моя Галинка, а мне ни звука. Что такое? Потом догадался. Надо было что-то делать, а то она довела себя до полуобморочного состояния.
С командиром поговорил, и мне разрешили брать продукты сухим пайком домой. А то виданное ли дело: сам сыт, а жена с детьми голодные. Так что мой паёк начали мы делить на всю семью, стала моя жёнушка повеселее. Ну а мне не привыкать к трудностям, подтянул ремень потуже. Вспомнил, как в детстве маме говорил: «Были б кости, мясо нарастёт!» Навсегда запомнил я, как наставлял за столом сынишка сестрёнку: «Ты не чисти, Надя, картошку, ешь её с кожурой, пуще наешься!» Только начал я над дверями, куда ключ от квартиры клали, находить гостинцы: завёрнутые в бумагу ломтики хлеба, кусочки сахара, картофелины. Это ребята, друзья мои, решили нас подкармливать. Так и жили.
Меня всегда трогали взаимоотношения моих детей. Это, конечно, была заслуга Гали. Она иногда уходила на уроки во вторую смену, оставляя детишек одних, и строго внушала дочке беспрекословно слушаться старшего брата. Сыну же отдельно наказывала, что он, как взрослый, должен отвечать за младшую сестрёнку. А разница была всего в два года.
В детском саду старшие ребята помогали накрывать на столы, так Виталик обязательно бегал проверить, всё ли дали сестрёнке. Причём, если давали сладкий чай или компот, он приносил ей самую большую кружку, а если просто чай с конфеткой, то кружку приносил маленькую, пусть ей слаще будет. Помогал сестрёнке раздеться, одеться, следил, чтобы шарф не забыла повязать. Надя с гордостью рассказывала дома, как Виталик заботится о ней и никому не даёт в обиду. А мы с Галинкой слушали этот бесхитростный рассказ, переглядывались и радовались.
Летом мы сумели посадить немного картошки в поле, и это стало нам хорошим подспорьем. Галя съездила с детьми в деревню, к дедушке и бабушке, ребятишки окрепли на свежем воздухе и деревенской пище. Осенью Виталику нужно было идти в первый класс. Родители наши стали просить, чтобы разрешили мы сыну пожить у них и пойти в школу, где когда-то мы с Галей работали. Галя понимала, как трудно будет ей успевать отводить сына в школу, дочь в садик, а потом самой бежать на уроки. А я не мог помочь, потому что обязан был к подъёму солдат (к шести утра) быть в части.
Гале Виталька был особенно дорог, так как, когда я ушёл служить, она невольно делилась с сыночком своим одиночеством, тоской по мужу, невзгодами на работе и в большой семье. Только при нём она могла поплакать, а он, как будто всё уже понимал, забирался к ней на колени, обнимал, утешал, как мог. Скрепя сердце, обливаясь слезами, вернулась Галя ко мне с одной Надей, без Виталика.
Почти сразу мы поняли, что нужно везти сына назад. Надюша плакала без брата, и мы слишком сильно тосковали по нашему Витальке. Но ехать нам за ним не пришлось. Через две недели бабушка сама привезла внука к нам. Сказала, что он ночи не спал, всё плакал, скучал. И бабушкино сердце не выдержало.
Но дорогой Виталька сильно простудился, видимо, ещё сказались его переживания в разлуке с нами. Он заболел воспалением лёгких. Участковый врач ничего не смог сделать, температура лезла за сорок градусов. А участковый смотрел на нас холодно и невозмутимо, повторял, что мы слишком беспокойные родители и если ребёнок умрёт, то, значит, медицина оказалась бессильна и нечего тут истерики устраивать. Я вспылил и ответил, что мы отказываемся от его услуг. Перевернул весь город и привёз профессора. Он осмотрел нашего сыночка, возмутился неправильным лечением и забрал сына к себе в больницу.
Позднее я узнал, что по какому-то странному совпадению, после моего столкновения с участковым врачом, под угрозой оказалась жизнь его собственной дочери. И когда я встретил этого человека год спустя, он очень изменился. На пациентов больше не смотрел холодно и невозмутимо. Видимо, собственные скорби изменили его и научили сочувствию и сопереживанию.
Около месяца пробыл сынишка в больнице, стал поправляться. Галя навещала его каждый вечер, я тоже часто приходил к сыночку. Привели Надю повидаться с братом. Она ему очень обрадовалась. А потом углядела на столе кусочки хлеба с маслом. У Витальки не было аппетита, и он ел плохо, а Надя очень удивилась, что кто-то может отказаться от такого лакомства по собственному желанию. И Виталик, прозрачный и слабенький от болезни, как и раньше, начал ухаживать за сестрёнкой и угощать её этими тонюсенькими ломтиками хлеба с едва заметным слоем масла.
Он старательно кормил сестрёнку, а я смотрел на них и чувствовал, как будто время уносилось вспять. И я снова вижу моего Вову, который из последних сил заботится о том, чтобы утешить меня и, сгорая от жара, протягивает мне своих любимых Зайку и Лёву. С трудом удержался, чтобы слеза не покатилась по щеке, чтобы не помешать радости встречи моих детей.
Наконец Виталика выписали. Он постепенно, очень медленно, выздоравливал. Галя стала заниматься с ним дома по программе первого класса, чтобы он не потерял этот учебный год. Учился сынок с удовольствием. Как и я, он быстро научился читать. И по вечерам читал сестрёнке книжки.
Чтобы восстановить здоровье сына, нужно было усиленное питание. Но шла война. О том, чтобы отправить Виталика к родителям, вопрос больше не стоял, было понятно, что это невозможно. Неужели нам придётся расстаться и жена с детьми уедут в деревню? Как ни тяжело было мне это, но ради здоровья сына, я уже склонялся к такому варианту. И тут на помощь пришли мои родители. Они без нас вырастили тёлочку, которая стала давать молоко.
И мой отец привёл её к нам пешком, переправляясь через большие и малые реки, через Уральские горы в такое страшное и голодное военное время. Делился потом, что особенно опасался скрывающихся в лесах голодных дезертиров. Но Бог миловал. Ночевать с коровой его не все, но пускали. Делились скудной едой, а он молоком. И, как мог, помогал по хозяйству, где была нужда в мужских руках на вдовьих подворьях. Так и пришли они к нам вдвоём с молодой Бурёнкой. Об этом путешествии можно было бы написать отдельную книгу. В ноги поклонились мы моему отцу. Не было цены его мужеству, этому, прямо сказать, героическому поступку ради внуков.
Нашёлся сарайчик для нашей Бурёнки, ребята помогли заготовить сено. Многие были из деревни и за годы войны соскучились по крестьянской работе, так что просить особо не пришлось, все сами наперебой помощь предлагали. Бурёнка была ещё молодой, в дороге, видимо, натерпелась, стала пугливой. Для того, чтобы её подоить, приходилось её привязывать за рога и задние ноги. Но она всё равно ухитрялась лягнуть подойник.
Галинка, однако, была не промах. Я потом смеялся: «Моя жёнушка и тигра бы укротила ради детишек, а тут всего лишь Бурёнушка». Галя быстро нашла подход к корове, и она стала спокойной и больше не лягалась. Пошёл у них с женой такой мир, что Бурёнка за ней была готова на край света идти. Даже, наверное, повторить такое же путешествие согласилась бы.
Очень нам помогла наша Бурёнушка. Виталик на парном молоке быстро окреп. А Надюшка и вообще была готова пить молочко и утром и вечером. Корова наша, оказалась, стельная. В конце марта она родила бычка. Погода стояла ещё холодная, холодно было и в хлеву. Принесли мы телёночка в комнату, чтобы обсушить и обогреть. Я отгородил для бычка сундуком угол у печки, и мы с женой отлучились по делам.
Бычок быстро освоился, выскочил из своего уголка и стал бегать по всей комнате. Старался пососать уголки покрывал на постели. Надюшка забралась на кровать и испуганно косилась на телёнка. А братик обложил сестрёнку подушками, отгонял от неё бычка. Ещё бычок постоянно делал лужи, и мальчик, чувствуя ответственность за порядок в доме, ходил за ним с тряпкой, вытирая. Так и встретил нас на посту с тряпкой, охраняя сестрёнку. Мы с трудом удержались от смеха, глядя, как величественно восседает Надюшка в подушках, а Виталик, как часовой, охраняет её покой и затирает лужи. Такими дружными росли наши дети.
Вот так и дожили мы до дня Победы! Но демобилизовали меня только 15.08.1946 года. И вот сегодня, 16.08.1946 года, моя толстая кожаная тетрадь, как специально, подошла к концу. Надо будет приобрести новую тетрадь и вести дневник дальше. Жизнь-то продолжается. Только теперь это будет уже совсем другая история —мирная. Как я рад, как счастлив, что со мной в эту мирную жизнь вступает моя любимая семья! Помоги нам, Господи!
Больше книг на Golden-Ship.ru
Взято с сайта:
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
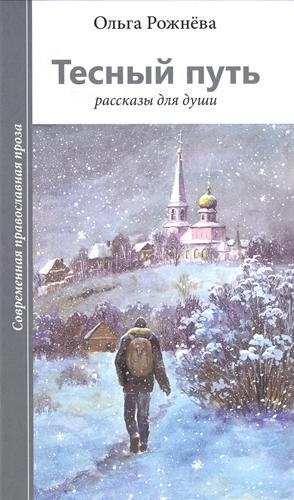


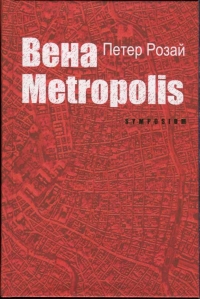
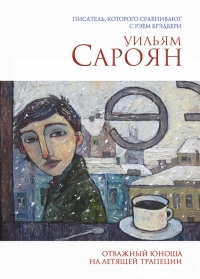
Комментарии к книге «Тесный путь. Рассказы для души», Ольга Леонидовна Рожнёва
Всего 0 комментариев