Алехандро Самбра Семейная жизнь
Погода средняя — ни жарко ни холодно. Облака рассеиваются под робким блестящим солнцем, и порой небо выглядит по-настоящему чистым, как небесная синева на детском рисунке. Мартин на заднем сиденье автобуса слушает музыку и кивает ей в такт, точно подросток. Но он уже далеко не молод, какое там — ему сорок лет, волосы у него довольно длинные, черные и чуть вьющиеся, а лицо белое-белое… ладно, потом еще успеем его описать. Вот он уже вышел из автобуса с рюкзачком за плечами и саквояжем в руке и шагает по улице, ища нужный дом.
Работа состоит в следующем: присматривать за котом, время от времени пылесосить и поливать комнатные растения, хотя им, похоже, на роду написано засохнуть. Приятно будет пожить затворником, думает он, ведь выходить из дому почти не понадобится — разве что за кошачьим кормом да за продуктами для себя. Есть еще серебристый «фиат», на котором его просят выезжать хотя бы изредка, «чтобы машинка размялась» — так сказали хозяева. А пока ему предстоит провести с ними некоторое время: сейчас семь вечера, а уезжают они завтра утром, в полшестого. Вот члены семьи в алфавитном порядке:
БРУНО — редкая борода, высокий, светловолосый, любитель крепкого табака, профессор литературы.
КОНСУЭЛО — его сожительница; не жена, поскольку они так и не вступили в брак, но ведут себя как женатая пара, а то и хуже.
СОФИЯ — дочь.
Она только что промчалась мимо — еще ребенок, в погоне за котом, шмыгнувшим вверх по лестнице. С Мартином не поздоровалась, даже не взглянула на него: нынче дети не здороваются, что, может быть, и неплохо, поскольку взрослые обмениваются приветствиями чересчур часто. Бруно объясняет Мартину подробности его работы, параллельно препираясь с Консуэло по поводу того, как уложить чемодан. Затем Консуэло обращается к Мартину с неожиданной теплотой, отчего он немного теряется — не привык к теплому отношению, — и показывает ему кошачий туалет, подстилку и столбик, о который их любимцу полагается точить когти; впрочем, говорит Консуэло, все это почти не используется, потому что кот делает свои дела во дворе, спит где хочет и дерет все кресла подряд. Еще она показывает ему специальную дверцу, устроенную так, что кот может входить, но не выходить, или выходить, но не входить, или входить и выходить как ему заблагорассудится. «Мы никогда ее не запираем, чтобы он чувствовал себя свободно, — говорит Консуэло. — Это как в детстве, когда родители наконец дают тебе ключи от дома».
Мартин выходит во двор покурить и видит пустой клочок земли — на этих двух с половиной квадратных метрах взъерошенной травы должны были бы расти какие-нибудь цветочки или хотя бы куст, но там ничего нет. Он стряхивает пепел на траву, тушит сигарету и, наверное, целую минуту размышляет, куда выбросить окурок. В конце концов он прячет его под чахлым кустиком. Потом, прежде чем вернуться, глядит на дом и думает: не такой уж большой, справиться можно. Войдя, он находит на журнальном столике песочные часы, переворачивает их и…
— Они на двенадцать минут, — говорит девочка с лестницы, пытаясь удержать кота, а потом спрашивает, это он Мартин?
— Да.
А не хочет ли он поиграть в шахматы?
— Ну давай.
Кот выворачивается у нее из рук. Он неравномерно серого цвета, худой, с короткой густой шерстью и чуть выпирающими клыками. Девочка поднимается на второй этаж. Кот, Миссисипи, ведет себя смирно. Он подходит к Мартину, и тот хочет приласкать его, но опасается: он никогда не жил с кошками и не умеет с ними обращаться.
Возвращается София. Она переоделась в пижаму и шаркает ногами в больших шлепанцах. Консуэло просит ее не мешать и отправляться к себе, но девочка несет тяжелую коробку — по крайней мере, для нее тяжелую — и разворачивает на столе в гостиной шахматную доску. Ей семь лет, и она только что выучила, как ходят фигуры, а заодно освоила принятые у игроков манеры и ужимки: она обхватывает круглое личико ладонями, морщит лобик и выглядит в таком виде очень миленькой. Они с Мартином начинают играть, но через пять минут становится ясно, что оба заскучали, причем он больше, чем она. Он предлагает Софии сыграть в шахматные поддавки, и сначала она его не понимает, но потом разражается мелодичным смехом: победит тот, кто проиграет, цель в том, чтобы разоружиться первым, оставить Дон Кихота и Дульсинею беззащитными, ибо это сувенирный сервантесовский комплект с ладьями-мельницами и отважными Санчо Пансами в роли пешек.
Какой идиотизм, думает Мартин, — литературные шахматы!
Фигуры на доске кажутся тусклыми, безвкусными, и, хотя делать скоропалительные выводы ему несвойственно, весь дом теперь слегка беспокоит, раздражает его. Правда, не чем-то конкретным: все предметы явно занимают свои места в согласии с какой-то теорией оформления интерьера, однако в этом чувствуется некая дисгармония, скрытая аномалия. Вещи как будто не хотят быть там, где они находятся, думает Мартин, и тем не менее он благодарен за возможность пожить немного в этом светлом доме, так не похожем на те сумрачные тесные комнатки, которые обычно служат ему пристанищем.
Консуэло отводит дочь наверх и убаюкивает песенкой. Хотя Мартин слышит эту песенку издалека, ему кажется, что он подслушивает, лезет в чужую жизнь. Бруно предлагает ему равиоли, и они едят в молчании, с этакой демонстративной мужской жадностью, типа: раз женщин тут нет, давай обойдемся без салфеток. После кофе Бруно наливает в два стакана водки со льдом, но Мартин продолжает потягивать вино.
— Так как называется город, куда вы едете? — спрашивает Мартин, просто чтобы о чем-то поговорить.
— Сент-Этьен.
— Это где мы играли?
— Кто «мы»?
— Чилийская сборная по футболу на чемпионате во Франции, в девяносто восьмом.
— Я не знаю. Это промышленный городок, теперь немножко захиревший. Буду читать там курс по Латинской Америке.
— И где это?
— Сент-Этьен или Латинская Америка?
Шутка примитивная, дежурная, но срабатывает. Почти без натуги они продолжают вести послеобеденную беседу, словно с опозданием обнаружили какое-то душевное сродство. Девочка спит наверху, а еще до них доносится непонятный ритмичный звук — возможно, это дышит или тихонько похрапывает Консуэло. Мартин с удивлением осознает, что думал о ней во время всего своего пребывания в этом доме, с того самого момента, как увидел ее на пороге.
— Ты проведешь здесь четыре месяца, — говорит Бруно. — Вполне достаточно, чтобы успеть охмурить какую-нибудь соседку.
Я бы лучше охмурил твою жену, думает Мартин, причем так отчетливо, что ему становится страшно: а не сказал ли он это вслух?
— Словом, живи в свое удовольствие, братец, — добродушно продолжает Бруно, слегка охмелевший, хотя они не братья, даже не двоюродные. Правда, кузенами были их отцы — у Мартина отец только что умер, как раз на его похоронах они и увиделись снова, впервые за много лет. Но сейчас имеет смысл обращаться с Мартином как с близкой родней; пожалуй, это единственная возможность в кратчайший срок создать чувство взаимного доверия. Сначала хозяева хотели сдать дом в аренду, но им не удалось найти подходящих жильцов. Из всех кандидатов во временные управляющие Мартин показался самым надежным. Во взрослой жизни они с Бруно встречались редко, но когда-то в детстве, может быть, и дружили — по крайней мере, играли вместе в какое-нибудь забытое воскресенье.
Бруно опять повторяет Мартину то, о чем они уже договорились по телефону. Дает ему ключи, они проверяют замки, он объясняет их причуды. И вновь перечисляет плюсы здешней жизни, хотя о соседках больше не упоминает. Потом спрашивает Мартина, любит ли тот читать.
— Могу иногда, — говорит Мартин, но это неправда. Затем он отваживается на откровенность. — Нет, не люблю. Что угодно готов делать, но за книжку не возьмусь. — После паузы он добавляет: Извини, — и смотрит на перегруженные полки. — Это все равно что прийти в церковь и сказать, что не веришь в Бога.
— Да брось ты, — отвечает Бруно, как будто даже с одобрением. — Многие думают точно так же, только сказать боятся. — Потом выбирает несколько книжек и кладет их на журнальный столик рядом с песочными часами. — И все-таки, если когда-нибудь найдет стих, посмотри — может, что-нибудь из этого тебя заинтересует.
— С чего бы это? Они что, для тех, кто ничего не читает?
— Вроде того. Ха-ха. — Он произносит «ха-ха», но это совсем не смех. — Некоторые из них — классика, другие более современные, но любая будет отличным развлечением. — Произнося это последнее слово, он не делает ни малейшей попытки избежать нравоучительного тона, словно рисует в воздухе кавычки.
Мартин благодарит его и желает ему спокойной ночи.
Он не смотрит на книги, даже на их названия. Лежа на диване, где ему постелили, он думает: книги для тех, кто ничего не читает. Думает: книги для тех, кто только что потерял отца, а еще раньше мать, тех, кто одинок в этом мире. Тех, кто не сумел проявить себя ни в университете, ни в работе, ни в любви (он так и думает: не сумел проявить себя в любви). Книги для таких законченных неудачников, что в сорок лет перспектива присматривать за чужим домом практически без всякого вознаграждения кажется им чуть ли не соблазнительной.
Едва сон начинает брать над ним верх, как раздается звон будильников: уже пять утра. Мартин встает, чтобы помочь семейству с багажом. София спускается вниз хмурая, но вскоре испытывает прилив энергии, невесть откуда взявшейся. Миссисипи нигде нет, а ей необходимо с ним попрощаться. Две минуты она плачет, но потом перестает, как будто забыв, что плакала. Когда приезжает такси, она заявляет, что хочет доесть свои хлопья, но в итоге они остаются почти нетронутыми.
— Всех грабителей убивай, — говорит она Мартину, прежде чем сесть в машину.
— А с привидениями что делать?
— Мартин шутит, — немедленно вмешивается Консуэло, бросая на него тревожный взгляд. — В нашем доме нет привидений — поэтому мы его и купили, нам гарантировали, что их здесь нет. И во Франции тоже, в доме, где мы будем жить.
Как только они уезжают, Мартин растягивается на их большой, еще теплой постели. Он ищет в простынях аромат духов Консуэло или запах ее тела и засыпает, уткнувшись лицом в подушку и глубоко дыша, словно обнаружил экзотический и опасный наркотик. Уличный шум нарастает: люди идут на работу, школьные автобусы везут детей на уроки, водители поддают газу, чтобы успеть проскочить до пробок. Ему снится, что он сидит в больничной приемной и какой-то незнакомец спрашивает его, получил ли он свои анализы. Мартин ждет кого-то или чего-то — во сне он точно не помнит, кого или чего именно, а спросить боится, — но он знает, что ждет не результатов анализов. Он напрягает память, но потом думает: это же сон, и пытается проснуться, но когда просыпается, он все еще во сне, и незнакомец все еще ждет ответа. Потом он просыпается по-настоящему и с гигантским облегчением осознает, что ему не надо отвечать на этот вопрос, вообще не надо отвечать ни на какие вопросы. В изножье кровати зевает кот.
Мартин разбирает свой чемодан в хозяйской спальне, но в гардеробах не так уж много места. Он находит старую футболку с трафаретом и узнает обложку альбома Surfer Rosa. «Ты думаешь, что я мертв, но я уплываю», — думает он. Конечно, он перепутал: это тоже Pixies, но с другого альбома. Мартин пытается представить себе Консуэло в этой футболке и не может, но, судя по размеру, она должна принадлежать ей, а не Бруно. Как бы то ни было, он ее надевает. Выглядит он в ней странновато: она ему мала. В одной футболке и тренировочных штанах он отправляется в ближайший супермаркет и покупает кофе, пиво, лапшу и кетчуп, а еще запас консервированной ставриды для Миссисипи, рассчитывая, что кот оценит ситуацию таким образом: они уехали, бросили меня с чужаком, но кормежка-то очень даже ничего! Он возвращается обратно, чуть ли не волоча пакеты по земле: магазин за несколько кварталов от дома, и он понимает, что надо было взять машину, но ему страшно садиться за руль. В кухне он раскладывает продукты по шкафчикам, и тут ему на глаза попадаются хлопья с молоком, которые не доела София. Он доедает их за нее, попутно думая, что те дни, когда он завтракал хлопьями, можно пересчитать по пальцам одной руки. Мужчины моего поколения не едят хлопья, размышляет он, если только они не отцы и не подъедают их за своими детьми. Когда такие начали продавать в Чили? В девяностых? Этот вопрос вдруг кажется важным. Мартин видит себя ребенком: вот он, как обычно, выпивает стакан простого молока и со всех ног бежит в школу.
Потом он осматривает второй этаж, где находится кабинет Бруно. Это просторная светлая комната (часть крыши застеклена) с книгами в строго алфавитном порядке, бесчисленными канцелярскими принадлежностями и дипломами на стене: бакалавра, магистра, доктора — все в ряд. Дальше заглядывает в детскую, сплошь забитую рисунками и декоративными поделками; на кровати лежат несколько плюшевых зверушек с именами на ярлычках. Некоторых София взяла с собой, но остальных ей велели спрятать в шкаф или комод; пятерых она усадила на кровать и написала на бумажках их имена, чтобы Мартин знал, кто есть кто (внимание Мартина привлекает один бурый мишка в спортивном костюмчике — его зовут Гав). Потом он находит в стопке журналов в ванной тетрадь с нотами для начинающих. Спускается вниз и садится за электрическое пианино. Оказывается, оно не работает; Мартин пробует починить его, но безрезультатно. Тогда он все равно раскрывает тетрадь и нажимает клавиши, читая по нотам. Ради забавы он воображает себя бедным пианистом, который вынужден упражняться вот так, без звука, потому что ему нечем заплатить за электричество.
В первые две недели не происходит ничего неожиданного. Он живет в точности так, как планировал. Сначала дни тянутся бесконечно, однако мало-помалу он заполняет их рутинными процедурами: встает в девять, кормит Миссисипи, а после завтрака (он обнаружил в себе любовь к овсяным хлопьям и теперь потребляет их регулярно) идет в гараж, садится в автомобиль, заводит мотор и то легонько придавливает педаль газа, то снова отпускает ее, как летчик в ожидании команды на взлет. Наконец он совершает короткий выезд, потом еще один и еще — каждый новый длиннее предыдущего. Возвращаясь, он настраивает радио на последние известия, открывает окно в гостиной и переворачивает песочные часы; пока песчинки, они же секунды, сыплются вниз тонкой неумолимой струйкой, выкуривает первую за день сигарету.
Затем он несколько часов смотрит телевизор, и эффект одурманивания налицо. Ему начинает нравиться риторика утренних шоу, знатоком которых он понемногу становится — он сравнивает их, серьезно оценивает, так же, как и передачи о знаменитостях. Эти требуют чуть больших усилий, поскольку он не знает участников — никогда раньше не обращал на этот мир особенного внимания, — но постепенно он начинает их узнавать. Обед, лапшу с кетчупом, он неизменно съедает в постели перед телевизором.
Остаток дня (как правило, хоть и не всегда) посвящается пешей прогулке. Мартин берет за правило не заходить дважды в одно и то же кафе и не покупать сигареты в одном и том же ларьке на углу, чтобы подобные действия не переросли в привычку; он смутно предчувствует, что будет скучать по этой жизни. Конечно, не такая жизнь виделась ему в мечтах, но и эта хороша по-своему — как благотворная, целительная пора. Но все круто меняется в тот день, когда он обнаруживает, что кошка пропала. С тех пор как он видел Миссисипи в последний раз, прошло по меньшей мере два дня; его миска с едой стоит нетронутой. Он обходит соседей, но никто ничего не знает.
Несколько часов Мартин проводит в отчаянии — он смертельно испуган и не знает, что делать. В конце концов ему в голову приходит мысль расклеить объявления. Он ищет в компьютере Бруно фотографию Миссисипи, но безуспешно: перед отъездом Бруно стер с жесткого диска всю личную информацию. Мартин прочесывает комнаты по очереди. Переворачивать все вверх дном, сеять повсюду хаос — в этом есть даже какое-то упоение. Он ищет в чемоданах, сумках, ящиках и десятках книг, хватая их за корешок и яростно встряхивая или судорожно перелистывая страницы. В кабинете, в шкафу, спрятан маленький красный портфельчик. Вместо денег или дорогих украшений в нем лежат сотни семейных фотографий — в рамках и без, некоторые с датами на обороте, а некоторые даже с парочкой строк, дышащих теплом и любовью. Его внимание приковывает один большой снимок — на нем позирует Консуэло, румяная, с приоткрытым ртом. Он вынимает из рамки грамоту, выданную Софии в детской школе плавания, вставляет вместо нее фотографию Консуэло и вешает ее на стену в гостиной. Эти черные, прямые, блестящие волосы можно гладить часами, думает он. Поскольку ни одного снимка Миссисипи найти так и не удается, он ищет в интернете изображения серых кошек и выбирает одно наобум. Потом добавляет к нему короткое объявление, распечатывает сорок экземпляров и расклеивает их на деревья и фонарные столбы по всей улице.
Когда он возвращается, в доме царит разгром. Особенно на втором этаже. Ему неприятно сознавать, что виновник этого безобразия — он сам. Вокруг стоят полураскрытые коробки, на кровати свалена одежда, по полу разбросаны бесчисленные куклы, рисунки и браслеты, детали конструктора «лего» разлетелись по углам. Он нехотя начинает приводить комнату в порядок, но вдруг останавливается и закуривает сигарету. Пуская колечки (он научился этому еще подростком), Мартин представляет себе, что девочка, хозяйка комнаты, только что играла здесь со своими подружками. Он представляет себя отцом: вот он открывает дверь и возмущенно требует, чтобы она все убрала, и она кивает, но продолжает играть. Вот он идет в гостиную, где его встречает очень красивая женщина — Консуэло или похожая на Консуэло. Она протягивает ему кружку кофе, поднимает брови и улыбается, обнажая зубы. Потом Мартин отправляется на кухню, сам наливает себе эту кружку кофе и выпивает ее быстрыми мелкими глотками, думая о жизни с детьми, женой, постоянной работой. У него колет в груди. И тут надвигается неизбежное — тоска.
Он успокаивает или отвлекает себя воспоминанием о том, что и он когда-то, давным-давно, был отцом семилетней девочки. По крайней мере, несколько часов. Ему было девятнадцать, и он жил в Реколете1 с отцом и матерью — оба тогда еще ничем не хворали. Однажды он зашел на кухню и услышал, как Эльба, их помощница по дому, жалуется, что вынуждена пропускать все родительские собрания в школе, где учится ее дочь. Он предложил сходить туда за нее — не только потому, что Эльба и Ками были ему небезразличны, но и поддавшись тяге к приключениям, которая тогда томила его гораздо сильнее. Тогда волосы у него были длиннее, и выглядел он очень юным — совсем не годился в отцы, — но он-таки пошел в школу и сел там за заднюю парту рядом с каким-то парнем, почти что его ровесником, хотя немножко больше похожим на мужчину — как говорится, более искушенным. На правой руке у него была коричневая татуировка, лишь чуть-чуть темнее кожи. Это было имя: ХЕСУС.
— Вас как зовут? — спросил Мартин. Вместо ответа парень показал на свою руку. — А неплохо зваться Хесусом, — подумал Мартин.
— Ты что-то совсем молодой, — сказал ему Хесус.
— Ты тоже, — ответил Мартин. — У меня родился ребенок, когда я еще сам был ребенком.
В этот момент учительница закрыла дверь и начала собрание; опоздавшие родители еще подходили, и дверь заклинило один раз, потом другой. Никто ничего не говорил, но потом одна толстая блондинка в третьем ряду встала и перебила учительницу на зависть звучным, уверенным голосом: «А если случится землетрясение или пожар? Что тогда будет с детьми?»
Учительница погрузилась в молчание; видно было, что она тщательно обдумывает свой ответ. Конечно, она запросто могла бы свалить вину на начальство, систему государственного образования, Пиночета, правительство из блока «Консертасьон», капитализм — все понимали, что сама она здесь ни при чем, — но ей не хватило смелости и быстроты реакции. Поднялся ропот, она не успокоила людей вовремя, и вот уже все жаловались, все кричали; вдобавок явился еще один опоздавший и дверь снова заклинило, что только подлило масла в огонь. Хесус рядом с Мартином что-то выкрикивал, и Мартин собрался было тоже завопить, но тут учительница попросила их проявить уважение и выслушать ее: «Простите, это бедная школа, у нас просто нет денег, я понимаю ваше недовольство, но учтите, что если случится пожар или землетрясение, я тоже застряну здесь вместе с детьми». Пауза, вызванная этим мрачным наблюдением, длилась секунды две-три, после чего Мартин вскочил, гневно направил на нее палец и, чувствуя себя актером в минуту драматической кульминации, воскликнул: «Но вы, сеньора, мне не дочь!» Его бурно поддержали, и он сполна насладился своим успехом.
— Это было круто, — сказал Хесус позже, по пути на автобусную остановку. Когда они прощались, Мартин спросил, верит ли он в Иисуса. И Хесус ответил с улыбкой: «Я верю в Хесуса».
— Вы, сеньора, мне не дочь, — бормочет Мартин теперь, точно повторяя мантру. А вечером отправляет Бруно письмо со словами: «Все в порядке».
Однажды, возвращаясь пешком из супермаркета, он замечает, что кто-то налепил поверх его объявлений свои. Он проходит улицу из конца в конец и убеждается, что везде, где он расклеил свои бумажки, теперь висят призывы вернуть домой пропавшего щенка по кличке Панчо, помесь сибирской лайки с немецкой овчаркой. За это назначена очень недурная награда в двадцать тысяч песо. Мартин списывает номер и имя хозяйки Панчо — ее зовут Пас.
В кухне стоит бутылка Jack Daniel’s. Мартин пьет только вино и пиво, у него нет привычки к крепким напиткам, но любопытства ради он наливает себе стаканчик и, потягивая виски, быстро обнаруживает, что оно ему нравится, что он просто очарован им. Так что к тому времени, как он решается позвонить Пас, его уже отнюдь не назовешь трезвым.
— Вы повесили свою собаку на мою кошку, — это первое, что он говорит ей, сбивчиво, негодующе.
Уже пол-одиннадцатого вечера. Пас, похоже, растеряна, но она извиняется. Ему становится стыдно за свою горячность, и разговор кончается извинениями с обеих сторон. Вешая трубку, Мартин успевает услышать на заднем плане жалобный детский голосок.
На следующее утро Мартин видит в окне молодую женщину, которая приезжает на велосипеде и принимается перевешивать объявления. Это очень кропотливый труд. Он выходит на улицу и наблюдает за ней издалека. Она не красавица, думает он, вот уж нет — она просто молода, лет двадцати, наверное. Мартин мог бы быть ее отцом (об этом он, впрочем, не думает). Пас отдирает свои объявления и пристраивает их выше или ниже. Для аккуратности она подгибает оторванные уголки, а заодно поправляет и объявления Мартина. Дело у нее спорится, и Мартин гадает, уж не зарабатывает ли она этим на жизнь. Может, она из тех, кто профессионально занимается поисками пропавших животных, думает он; бывают же люди, которые за плату выгуливают собак (но он ошибается на ее счет).
Он подходит и представляется. Снова приносит извинения за вчерашний поздний звонок, а затем помогает ей обработать остаток улицы. Сначала она как будто держится с опаской, но вскоре у них завязывается беседа. Они говорят о Миссисипи, о Панчо и о домашних животных вообще, о том, что хозяева за них в ответе, и она возмущается теми, кто относится к своим любимцам, как к игрушкам. По ходу разговора Мартин выкуривает несколько сигарет, но не хочет выбрасывать окурки куда попало. Он сжимает их в кулаке, точно какую-нибудь драгоценность.
— Вон урна, — вдруг подсказывает ему Пас, и как раз в этот миг они подходят к углу, на котором должны расстаться.
В тот же вечер он звонит ей и сообщает, что обыскал десятки кварталов в поисках Миссисипи, но заодно смотрел, нет ли где-нибудь Панчо. Это смахивает на ложь, однако это правда. Она благодарит его за любезность, но дальнейшую беседу поддерживать не стремится. Мартин начинает звонить ей каждый день, и хотя их разговоры по-прежнему быстро заканчиваются, они умиротворяют его, словно этих нескольких фраз достаточно, чтобы укрепить его присутствие в ее жизни.
Неделю спустя он замечает поблизости от дома пса, похожего на Панчо. Хочет подойти к нему, но тот пугается и убегает. Мартин звонит Пас, но поначалу ему неловко: то, что он собирается сообщить, похоже на выдумку, на предлог, чтобы с ней увидеться. Однако Пас не выказывает недоверия. Они встречаются и бродят по соседним переулкам, пока ей не приходит пора забирать сына из детского сада. Мартин навязывается в провожатые.
— Не верится, что у вас есть сын, — говорит он.
— Иногда мне самой не верится, — отвечает она.
— Что, новый дружок? — спрашивает мальчик у Пас при виде Мартина. Он демонстративно тащит за собой рюкзачок, не глядя Мартину в лицо, но Пас говорит ему, что Мартин, кажется, видел Панчо, и у мальчугана загораются глаза; он требует, чтобы они продолжили поиски собаки. Они обходят множество кварталов — ни дать ни взять идеальная семья. Потом прощаются у дома Пас. И Мартин, и Пас понимают, что увидятся снова; наверное, это понимает и мальчик.
После исчезновения Миссисипи проходит больше месяца, и у Мартина не остается никаких надежд. Он даже пишет Бруно сбивчивое, покаянное электронное письмо, но отправить его не решается. Однако как-то утром, на рассвете, кот возвращается; он весь изранен и на спине у него гигантский нарыв. Ветеринар настроен пессимистично, но все же делает экстренную операцию и назначает Миссисипи антибиотики, которые Мартин должен вводить ежедневно. Кроме того, кота следует кормить детским питанием и промывать ему раны каждые восемь часов. Бедняга так плох, что не может ни мяукнуть, ни пошевелиться.
Мартин берется за исцеление Миссисипи. Теперь он по-настоящему любит эту кошку, искренне за нее переживает. Несколько дней он даже не вспоминает о Пас. Как-то утром она наконец звонит сама и радуется, услышав хорошую новость. Через полчаса они уже сидят около Миссисипи, гладят его, жалеют наперебой.
— Ты говорил, что живешь один, а дом выглядит как семейное гнездышко. — Она бросает ему это, глядя на фотографию Консуэло. Мартин нервничает и медлит с ответом. Потом бормочет себе под нос, потупившись, как будто ему больно вспоминать:
— Мы уже несколько месяцев как разъехались. Может, и год. Жена с дочерью перебрались в отдельную квартиру, а я остался здесь с кошкой.
— Жена у тебя красавица, — говорит Пас, глядя на снимок.
— Она мне больше не жена, — отвечает Мартин.
— Все равно красавица, — повторяет Пас. — И ты никогда не говорил мне про дочь.
— Мы же только познакомились, так что при чем тут «всегда» или «никогда», — замечает Мартин. — И вообще, не хочу я о ней говорить, — добавляет он. — Грустно. Я еще не свыкся с тем, что случилось. Хуже всего то, что Консуэло не дает мне видеться с дочкой. Требует больше денег, — поясняет он. Она смотрит на него с тревогой, приоткрыв рот. Вместо того чтобы ощутить прилив адреналина, воодушевляющего лжецов, Мартин отвлекается, засмотревшись на ее мелкие зубы, разделенные узенькими щелочками, орлиный нос, худые, но очень стройные ноги, которые кажутся ему идеальными.
— Рано ты обзавелся дочерью, — говорит Пас.
— Да не очень, — возражает он. — Хотя, может, и так. Может, я был слишком молод. — Теперь он уже совершенно заврался.
— Я залетела в шестнадцать и чуть не сделала аборт, — говорит Пас. По-видимому, она хочет отплатить Мартину откровенностью за откровенность.
— А почему не сделала? — спрашивает Мартин. Это глупый, оскорбительный вопрос, но она и не думает обижаться.
— Потому что аборты в Чили запрещены, — очень серьезно говорит она, но потом смеется, и глаза у нее блестят. — В тот год забеременели две мои лучшие подруги. Я собиралась сделать аборт там же, где они, но в последний момент передумала и решила оставить ребенка.
Они занимаются сексом на кресле, и сначала все идет хорошо, но он кончает слишком рано, извиняется.
— Не расстраивайся, — отвечает она. — Ты лучше, чем большинство ребят моего возраста. — Мартин думает об этом слове, «ребята», которое он сам никогда бы не употребил, но в ее речи оно кажется таким подходящим, таким естественным. На лице и руках у нее почти нет веснушек, но остальное тело усыпано ими. Спину будто забрызгали красными чернилами. Ему это нравится.
Они начинают встречаться ежедневно и все еще продолжают искать Панчо. Теперь шансы найти его совсем малы, но Пас не теряет надежды. После поисков они возвращаются в дом и ухаживают за Миссисипи. Его раны заживают медленно, но верно, а на той части спины, которую врач выбрил перед операцией, уже пробивается новая, более светлая и тонкая шерстка. Их роман тоже движется вперед, причем ускоренным темпом. Иногда он радуется этому, ему это нужно. Но в то же время он хочет, чтобы все это кончилось; хочет, чтобы его вынудили сказать правду и все полетело бы к чертям. Однажды Пас замечает, что Мартин снял со стены фотографию Консуэло, и просит вернуть ее на место. Он спрашивает, зачем.
— Чтобы нам с тобой не запутаться, — говорит она. Мартин не очень хорошо понимает, что она имеет в виду, но снова вешает фотографию на стену. — Если тебя смущает, что ты трахаешься в доме, где спал со своей женой и трахал ее, я пойму, — говорит ему Пас.
Он энергично мотает головой и отвечает ей, что теперь уже довольно давно — он употребляет именно это выражение, «теперь уже довольно давно», — не вспоминал о своей жене.
— Нет, правда, — настаивает она. — Если тебе неловко трахать меня здесь, ты должен мне сказать.
— Да мы с ней уже бог знает сколько не спали вместе, — говорит Мартин, и они погружаются в молчание. Затем она нарушает его вопросом, имел ли Мартин когда-нибудь свою жену на столе в гостиной. Он цинично улыбается и отвечает, что нет. Они продолжают эту головокружительную, захватывающую игру. Она спрашивает, смазывала ли жена ему член сгущенкой, прежде чем пососать, или, может, она любила, чтобы он засовывал ей в зад сразу три пальца, и было ли когда-нибудь такое, чтобы она просила его кончить ей на лицо, на грудь, на задницу, в волосы.
Однажды утром Пас является к нему с розовым кустом и бугенвиллеей. Он достает лопату, и они вместе разбивают на пустом месте у входа крошечный садик. Он копает так неуклюже, что Пас отбирает у него лопату и справляется с делом за пять минут.
— Извини, — говорит Мартин. — Я понимаю, что всю тяжелую работу должен делать мужик.
— Да ладно, — отвечает она и весело добавляет: — Я родилась при демократии.
Позже, ни с того ни с сего — может, пытаясь предварить чем-то свою исповедь, — Мартин заводит долгий монолог о своем прошлом. Он чередует обрывки правды с неизбежными выдумками, пытаясь нащупать способ быть честным или, по крайней мере, менее нечестным. Он говорит о боли, о том, как трудно устанавливать с людьми простые и длительные отношения. «Одиночество — это наркотик, и я на него подсел», — говорит он. Пас слушает внимательно, сочувственно и несколько раз согласно кивает головой, но после паузы, во время которой она поправляет прическу, забирается в кресло и скидывает кроссовки, опять повторяет с озорной ноткой в голосе: «Я родилась при демократии». И за обедом, глядя, как он разделывает курицу ножом и вилкой, она снова говорит, что предпочитает есть руками, потому что «родилась при демократии». Это присказка годится на все случаи жизни, особенно в постели: когда он не хочет пользоваться презервативом, когда просит ее не визжать так громко или поосторожней расхаживать по гостиной голышом и когда она так азартно и самозабвенно прыгает на Мартине, что он не может скрыть, как ему больно, — на все это она реагирует заявлением, что родилась при демократии, или просто пожимает плечами и восклицает: «Демократия!»
Время течет лениво и безмятежно. Бывают часы, а то и целые дни, когда Мартин умудряется ни разу не вспомнить, кто он такой на самом деле. Он забывает, что притворяется, что лжет, что виновен. Дважды едва не проговаривается. Но правда длинна. Чтобы открыть ее, нужно много слов. А до конца срока всего две недели. Нет! Одна.
Сейчас он ведет машину, нервничая: сегодня пятница, а завтра ему предстоит сопровождать Пас на чью-то свадьбу. Она попросила его взять машину, так что у него только один день, чтобы попрактиковаться: он должен выглядеть опытным водителем или хотя бы не нарушать правил дорожного движения. Сначала все идет хорошо. Стоит затормозить на красный свет, как мотор глохнет — это и раньше случалось частенько, — но Мартин еще не израсходовал всех запасов мужества, и вскоре его езда обретает относительную плавность. Вдохновленный своими успехами, он опрометчиво решает добраться до торгового центра, чтобы купить две чашки и три тарелки взамен разбитых им за эти месяцы, однако он не способен ни вовремя перестроиться на другую полосу, ни обогнать впереди идущую машину, поэтому застревает на своей полосе на целых десять минут и пропускает все съезды. Теперь он движется по шоссе на юг, и ему остается только одно: отважиться на чрезвычайно опасный разворот.
Он заезжает на разделительную полосу и останавливается, чтобы немного успокоиться. Выключает радио и ждет удобного момента, но когда в потоке машин возникает окно, мотор опять глохнет, и Мартин в отчаянии смотрит на приближающийся грузовик. Тот, вильнув, огибает его и возмущенно сигналит.
Мартин сдается и снова едет на юг. Стоит ему только подумать о том, что надо попробовать развернуться или съехать с шоссе, как его охватывает леденящий ужас, и он может лишь двигаться дальше по прямой. Он подъезжает к будке для сбора дорожной пошлины, и сборщик улыбается ему, но он не в силах улыбнуться в ответ. Как заведенная игрушка, он продолжает медленно ехать до самого Ранкагуа.
Я никогда не бывал в Ранкагуа, пристыженно думает Мартин. Он вылезает из машины, смотрит на прохожих, пытается угадать время по сутолоке на Пласа-де-Армас. Двенадцать? Нет, одиннадцать. Еще рано, но он проголодался. Он покупает эмпанаду2 и проводит в припаркованном автомобиле не меньше часа — курит и думает о Пас. Его раздражают эти многозначительные имена, такие звучные, так откровенно символические: Пас, Консуэло — мир и утешение. Если у него когда-нибудь будет ребенок, думает Мартин, он подберет ему ничего не значащее имя. Потом он делает по площади двадцать четыре круга (хотя сам их не считает), и какие-то девчонки, явно прогульщицы, начинают посматривать на него с недоумением. Он снова паркуется, и тут звонит его телефон; Мартин говорит Пас, что он в супермаркете. Она хочет, чтобы он немедленно вернулся. Он отвечает, что не может: надо забрать дочь из школы.
— Значит, тебе наконец разрешили с ней видеться? — спрашивает она, донельзя обрадованная.
— Да. Мы пришли к соглашению, — отвечает он.
— Я ужасно хочу с ней познакомиться, — говорит Пас.
— Не сейчас, — говорит Мартин. — Как-нибудь попозже.
В обратный путь он пускается только в четыре пополудни. На этот раз все проходит гладко, по крайней мере, без особых волнений. Наконец-то я по-настоящему научился водить машину, думает он вечером, перед сном, с чувством легкой гордости.
Однако в субботу, по дороге на свадьбу, мотор глохнет опять. Мартин говорит, что ему «ест глаза» — он не уверен, что это правильное выражение, но употребляет его. За руль садится Пас; у нее нет прав, но это неважно. Он смотрит на нее — сосредоточенную, с ремнем безопасности между грудей. На свадьбе он много пьет. Очень много. И тем не менее все проходит отлично. Он обаятелен, хорошо танцует, отпускает несколько удачных шуток. Подруги Пас поздравляют ее. Она снимает свои красные туфли и танцует босиком, и он думает, как глупо с его стороны было вначале сомневаться в ее красоте: она прекрасна, она свободна, с ней весело, она просто чудо. Его тянет сказать ей прямо здесь, на танцплощадке, что все потеряно и ничего уже не исправить. Что в среду семья возвращается. Мартин возвращается за столик, смотрит, как она танцует с друзьями, с женихом, с отцом жениха. Заказывает еще порцию Jack Daniel’s и опрокидывает ее залпом. Жгучая боль в горле доставляет ему удовольствие. Он глядит на стул с сумочкой и туфлями Пас. Он хочет взять эти красные туфли и хранить их, словно какой-нибудь фетишист.
Следующий день — похмельный. Мартин просыпается в полдвенадцатого под странную музыку, кажется, в стиле нью-эйдж; Пас подпевает ей на кухне. Она встала рано, купила морского леща и тонну овощей и теперь жарит все это в воке, залив соевым соусом и медленно перемешивая. После обеда, растянувшись голым на кровати, Мартин считает веснушки на спине Пас, на ее заду и ногах — двести тридцать три. Это подходящий момент, чтобы во всем признаться, и он даже думает, что она могла бы понять; конечно, она придет в ярость, высмеет его, покинет на несколько недель или даже месяцев, будет чувствовать себя дурой и тому подобное, но она его простит. Он начинает говорить — робко, нащупывая нужный тон, — но она обрывает его и уходит забрать сына, который остался у ее родителей.
В пять они возвращаются. До сих пор мальчик при Мартине в основном помалкивал, но сегодня раскрепощается; похоже, Мартин заслужил его доверие. Впервые они играют вместе. Сначала пытаются расшевелить Миссисипи, который еще не совсем выздоровел, но вскоре бросают это занятие. Потом мальчуган кладет помидоры рядом с апельсинами и говорит Мартину, что хочет апельсинового сока. Мартин берет помидоры, но едва он заносит нож над первым из них, как мальчик кричит: «Не-е-е-е-е-ет!». Они повторяют эту процедуру десять, пятнадцать раз. Вводят вариацию: занося нож, Мартин будто бы замечает разницу и прикидывается взбешенным, говорит, что вместо апельсинов продавец подсунул ему помидоры, делает вид, что сейчас помчится туда и устроит скандал, — и все это ради того, чтобы мальчик, хмельной от счастья, снова закричал: «Не-е-е-е-е-ет!»
Сейчас они играют с пультом дистанционного управления. Мальчишка нажимает кнопку, и Мартин падает, кусает самого себя за руку, вопит или притворяется, что онемел.
А если бы я и вправду потерял голос? — думает он позже, когда мальчик засыпает на коленях у матери.
Пусть меня приглушат, думает Мартин.
Пусть меня перемотают вперед или назад.
Пусть запишут поверх меня что-нибудь новое.
Пусть меня сотрут.
Теперь Пас, ее сын и Миссисипи спят, а Мартин, запершись в кабинете, несколько часов кряду занят бог весть чем, может быть, плачет.
Сначала, когда они вылезают из такси, им нравится то, что они видят. Консуэло глядит на розовый куст с бугенвиллеей и хочет поскорее найти Мартина, чтобы поблагодарить его за этот сюрприз. Потом они с удивлением замечают на стене гостиной фотографию Консуэло; она сама в растерянности, и на долю секунды ей даже кажется, что эта фотография висела здесь всегда, но нет, конечно, это не так. Встревоженные, они ходят по дому, и их смятение растет с каждым шагом — ясно, что Мартин передвигал шкафы и коробки, и каждая минута приносит новое открытие: пятно на занавеске, сигаретный пепел на ковре. Кот в детской, дремлет на плюшевых игрушках. Они смотрят на его раны, которые еще не совсем зарубцевались, и сначала бурно негодуют, но в конце концов остаются рады тому, что он все-таки жив. На кухне, рядом с кошачьими лекарствами, лежит кучка использованных шприцев.
Мартина нет, и на сотовый он не отвечает. Записки, которая прояснила бы ситуацию, тоже нигде не видно. Они не могут понять, что случилось. Это трудно понять. Поначалу они думают, что Мартин обокрал их, и Бруно в волнении осматривает библиотеку, но не находит никаких следов кражи.
Он досадует на себя за то, что доверился Мартину. Они постоянно переписывались по электронной почте, и подозревать его не было никаких причин. «Такое бывает», — говорит Консуэло, но произносит это машинально, без внутреннего убеждения. Время от времени Бруно снова звонит Мартину и оставляет ему голосовые сообщения, то дружелюбные, то свирепые.
Спустя несколько дней, ранним утром, раздается звонок в дверь. Консуэло идет открывать. «Что вам нужно?» — спрашивает она у молодой женщины, которая застыла на месте, узнав ее. «Что вам нужно?» — повторяет Консуэло.
Женщина отвечает далеко не сразу. Она снова пристально смотрит на Консуэло и с жестом, выражающим то ли презрение, то ли бесконечную грусть, отвечает: «Ничего».
— Кто там? — спрашивает из спальни Бруно. Консуэло закрывает дверь и, помедлив секунду, отвечает: «Никто».
Alejandro Zambra Copyright © 2015 Harper’s Magazine. All Rights Reserved.
Reproduced from the February issue by special permission.
Перевод Владимира Бабкова
Иллюстратор Рун Фискер / Rune Fisker
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


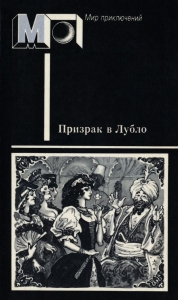




Комментарии к книге «Семейная жизнь», Алехандро Самбра
Всего 0 комментариев