Даниэль Пеннак Диктатор и гамак
Моему брату Бернару, самому близкому товарищу.
В память о Тьери, нашем строителе
I. Эпсилон
1.
Это могла бы быть история одного диктатора-агорафоба. В какой стране — не столь важно. Стоит лишь представить себе одну из этих банановых республик с недрами, довольно богатыми, чтобы стремиться захватить здесь власть, и с верхним слоем почвы, достаточно засушливым, чтобы благоприятствовать революциям. Предположим, что столица называется Терезина, как столица Пиауи в Бразилии. Пиауи — слишком бедное государство, чтобы здесь когда-либо произошло то, что потом можно было бы описать как историю о власти, но Терезина — вполне подходящее название для столицы.
А Мануэль Перейра да Понте Мартинс — пожалуй, подходящее имя для диктатора.
Так что это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба. Перейра и Мартинс — две самые распространенные фамилии в этой стране. Отсюда и его призвание к диктаторству; когда тебя зовут дважды как всех, власть сама просится к вам в руки. Сам он именно так и думает, с тех пор как научился думать.
Далее мы будем называть его просто Перейра, по имени его отца. Можно было бы называть его также Мартинс, по имени его матери, но отец его — один из Перейра из Понте (Понте находится в трех днях пути верхом от Терезины), семьи самых крупных землевладельцев в этих краях. У них есть земли, у них есть имя, у них есть деньги и будет власть — такова одна из самых первых идей Перейры, что называется, наипервейшая, тайная и жгучая, огонь, вспыхнувший в душе молчаливого ребенка. Конечно, без образования не обойтись. Нужно говорить по-английски, по-французски, по-немецки. Нужно считать и знать географию. Нужно приобщиться к утопиям, чтобы уметь противостоять любым угрозам. Нужно разбираться в оружии и танцевать, знать протокол и документацию. Чтобы научиться всему этому, Перейра восьми лет от роду покидает Понте, до пятнадцати лет находится у иезуитов Терезины (ученик блестящий, но скрытный, непобедимый игрок в шахматы), затем отправляется завершать свое образование за границу — в Европу, возвращается в возрасте двадцати двух лет и поступает в Военную академию. Он все так же жаждет власти, но уже приобрел вкус к путешествиям. Конечно, его взоры обращены на Европу. Например, на Италию. Или хотя бы на это маленькое скалистое Монако, где казино распахивает перед вами свои объятия, а местная княжна — как ему кажется — приветливо подмигивает.
_____
Так что это могла бы быть история диктатора-агорафоба, который хотел бы одновременно и того, и этого, и власти, и разнообразия. Сначала он делает следующее: помогает лагерю Генерала Президента, собираясь занять его место. Генерал Президент пренебрег образованием. В салонах Терезины ходит известная шутка: «На Генерала совершено нападение: в него запустили словарем». Это шутка. Народ смеется, однако скромно прикрываясь веерами. Генерал на это не обижается. Большинство его фраз начинается словами:
— Перейра, ты, который умеешь читать…
Генерал не интересуется культурой. На его взгляд, это занятие для слабаков.
— Мое же дело мужское, — говорит он.
И любит добавлять:
— Поэтому я предпочитаю езду верхом.
Генерал отличился в войне против Парагвая, затем в истреблении крестьян Севера. Крестьяне Севера стали вдруг требовать. Сначала они просили, но их просьбам не вняли, затем они стали робко заявлять свои права, но не были услышаны. Они умоляли — все напрасно. И тогда они стали требовать. Науськиваемые своими кюре, крестьяне Севера двинулись на Терезину. Терезине угрожало крестьянское нашествие. Генерал выдвинул кадетов Военной академии. В ход пошла кавалерия, шашки, шрапнель, затем артиллерия, все было брошено на северные селения, где скучились крестьяне. С благословения епископа Генерал расстрелял мятежных кюре.
Отец Перейры, старый да Понте, осудил сию бойню. Да Понте-старший был сторонником христианского милосердия. Он бесплатно кормил на своих кухнях крестьян, которые батрачили на его фазендах. Будучи медиком, он врачевал обезвоживание своих равнин и фурункулезы своих гор. Он терпеливо выслушивал голодных, умирающих от жажды, больных и их родителей. Старый да Понте любил повторять:
— У того, кто слушает, ничего не просят.
К тому времени, когда Перейра вернулся из-за границы, увешанный своими дипломами. Генерал Президент находился у власти уже четыре года.
На заре пятого он его убил. Это можно было бы назвать порывом. Он просто почувствовал, что момент настал. Он предстал перед Советом и сказал:
— Я прикончил этого идиота.
И добавил:
— Я отдаюсь на вашу милость как виновный или как новый президент.
В руках он все еще держал дымящийся парабеллум, он был Перейра да Понте, они сделали его президентом.
У епископа, который был ему крестным отцом, Перейра попросил:
— Крестный, благословите меня.
Олигархии он заявил:
— Ничего менять не будем. Я лишь добавлю немного толка.
Крестьянам он объявил:
— Я избавил вас от мясника Севера.
А всему населению сказал:
— Я буду вашими ушами.
Фраза была двусмысленная, — поскольку ухо столь же слушает, сколь и подслушивает, — но никто не обратил на это внимания, так все хотели, чтобы их выслушали.
Так что это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба, который интуитивно завладел властью, вот так, одним прекрасным утром, потому что мечтал об этом, когда был молчаливым ребенком.
Хорошо, но почему агорафоба?
2.
До того как прийти к власти, Перейра не был агорафобом. Молчаливым — да, скрытным — да, но не агорафобом. Он не боялся ни широких площадей, ни пустынных улиц, ни проспектов с вытянутой перспективой и еще меньше — толпы, которая часто запруживала эти места. Не то чтобы он особо любил толпу, но он к ней привык. Толпы бедняков в его детстве в Понте, перед кухнями его отца или в коридорах лечебницы, толпы верующих в Рождество или в Страстную пятницу, толпы крестьян во время всех праздников по случаю голосования, на которых семья да Понте считала своим долгом присутствовать, толпы на свадьбах и на похоронах, толпы на рынках и на ярмарках, толпы подвыпивших гуляк во время больших ночных шабашей, когда среди грохота взрывов вспыхивали в свете бенгальских огней причудливые маски… нет, он никогда не страшился толпы. И если призадуматься, то кроме спокойных обеденных часов в кругу семьи, часов, проведенных за шахматной доской или с книгой, в уединении, Перейра, можно сказать, всегда находился среди толпы; в Терезине — среди толпы детей на переменках, в Европе — среди разодетой в шелка толпы пышных балов, толпы театралов, поеживаясь, высыпающих на улицу после спектакля, толпы, наполняющей в сумерки злачные места в поисках женщины, напряженной толпы ипподромов и даже в Париже — среди толпы бастующих рабочих… В сущности, вечно среди людей… Перейра мог бы пересчитать часы, проведенные в одиночестве. Нет, правда, он никогда не боялся толпы. И больших пустых пространств.
Так почему же агорафоба?
Из-за одной фразы, произнесенной другим Мануэлем: Мануэлем Калладо Креспо, главой цеха переводчиков, бесстрашным оратором и тонким эрудитом. По поводу опочившего Генерала Президента Мануэль Калладо Креспо заявил:
— Этот придурок умер от руки провидения.
— И что это значит? — спросил Перейра, который просто проходил мимо и вообще не должен был бы услышать этих слов.
— Это значит, что этот придурок был предупрежден, господин президент.
— Кем же, ведь еще за пару секунд до случившегося я сам не знал, что нажму на курок?
— Маэ Бранка, — ответил Калладо. — Но этот придурок не умел ни читать, ни слушать.
— Что вы скажете после моей смерти, Калладо? — решил спросить Перейра.
— То, что внушит мне ваша жизнь, господин президент, и вы сделайте так же, если окажетесь на моих похоронах. И в этом нет никакого злословия. Генерал был… Вы помните его униформу? Нет, настоящий придурок, вот и весь итог его жизни; я говорил это почти с нежностью.
Маэ Бранка (или Белая Мать) была бразильской колдуньей из Сеары. Белой колдуньей, в отличие от других, черных. И дело здесь не в цвете кожи, а в магии. Черная колдунья (которая может быть белокожей) напускает на человека злосчастную судьбу. А белая колдунья (которая может быть чернокожей) ограничивается тем, что предсказывает и снимает порчу. Все приходят спросить Маэ Бранку: о любви, о семье, о здоровье, о деньгах, о карьере… К белой колдунье как-то даже приходил один известный профессор, спросить, получит ли он кафедру религиозной антропологии в Университете Терезины и будет ли читать лекции по всему миру. Тот же профессор отправился затем к черной колдунье, чтобы извести своих конкурентов. И в самом деле, все его собратья по науке загадочным образом самоустранились, уступив ему место, и он, совсем уже дряхлый старик, по сей день является единственным признанным специалистом в своей области. (Но это другая история.)
Накануне покушения будущие диктаторы, естественно, приходят к Маэ Бранке. Да и в демократических государствах кандидаты в президенты перед выборами этим не брезгуют. Тут Перейра сообразил, что он этого не сделал. В Европе он начитался Огюста Конта и не верил в подобные вещи. Как и все, кто в это не верит, Перейра все-таки отправился к вещательнице, из любопытства. Это была маленькая женщина (белая), худощавая и хромая, державшая свою лавочку в одном из предместий Терезины. Перейра явился туда один, ночью, инкогнито, никому о том не сказав, вооруженный своим парабеллумом, с которым никогда не расставался. Он стал кидать камешки в ставни вещательницы. Для начала он ей заплатил, а потом задал всего два вопроса. Первый: что она сказала Генералу Президенту?
— Я сказала ему, что если он не прочитает «Лорензаччо», он кончит свои дни, как граф Александр.
(Это была чистейшая догадка. Сама прорицательница читать не умела и ничего не знала об этой пьесе.)
— А я, как я кончу?
Таков был второй вопрос Перейры. Маэ Бранка предсказывала по распрыскиванию благовоний. Она окунала руку в большой сосуд настойки бородача и опрыскивала всю комнату по кругу. Запах бил ей в голову, она начинала что-то бормотать, кружась на одном месте, все быстрее и быстрее, превращаясь в настоящий волчок. Затем она останавливалась с вытаращенными глазами. Только тогда она начинала вызывать духов кандомбле[1]. Все это длилось довольно долго, поскольку эти бразильские божества очень многочисленны, не говоря уже об их гвинейских предках и карибских отпрысках. Опорожнив весь сосуд, Маэ Бранка останавливалась, дрожа всем телом.
Перейра заскучал, как на мессе. Запах бородача напоминал ему его детство, когда его мать по вечерам обкуривала комнаты, чтобы избавиться от мошкары. Наконец, в апогее своего транса, Маэ Бранка выдала запрашиваемую информацию:
— Ты кончишь растерзанный толпой.
— Какой именно толпой?
— Крестьянской.
Перейра прибил ее костылем и вернулся во дворец.
Все подумали, что она просто упала. Он заплатил ей достаточно щедро, чтобы хватило на достойные похороны. За гробом шла огромная толпа. Горожане, но также и крестьяне, прибывшие со всех концов страны. Перейра присоединился к ним, надев свою парадную форму, чтобы доказать всем, что разделяет верования народа, и самому себе, что магии не существует. Ясное дело, он вернулся с похорон живым и невредимым. Живым и даже снискавшим всеобщее одобрение.
Так почему же агорафоба?
3.
Потому что после похорон наступила ночь. И той ночью Перейра спросил себя, почему он убил вещательницу. Это не был наплыв угрызений, это был приступ логики. Если он не верил в ее предсказания, почему тогда он ее убил? И если он не собирался в это верить, зачем вообще к ней пошел? Он убил ее так же спонтанно, как и Генерала Президента. Это было одно мгновение паники, если можно так сказать. Он с той же точно уверенностью почувствовал, что пришло время власти, как и постиг, что эта женщина предвещала ее конец. Он убил ее инстинктивно, будто защищаясь, чтобы бросить вызов судьбе, в которую он до сего убийства просто не верил. Он сам окрестил себя суеверным.
Эти мысли, которые скрыто зрели в его голове, когда он стоял над могилой вещательницы, сейчас, в постели Перейры, вышли на свет. Он предпочел бы убить ее из удовольствия или из чувства долга, как делал этот Генерал Президент, который любил убийство и справедливость. Но Перейра не был убийцей. За все про все, за всю его жизнь от его руки погибло всего три человека. Для того времени и для выходца из его касты это было маловато. К тому же он убил их, как дикарь, Генерала Президента — из аппетита, а двух других (одной была вещательница), потому что почувствовал себя загнанным в угол. Все три раза — инстинктивно, как животное, не знающее собственной вины…
— Значит, я верю в эти глупости.
На этом он уснул. И приснился ему кошмар. С Перейрой расправлялась толпа крестьян. «Разумеется». Это был сон, которого он ожидал, и он принял его хладнокровно. Он не боялся смерти. Он часто представлял ее себе: либо от одной точно всаженной пули, либо от целой дюжины пуль, выпущенных взводом противника. Но, в конце концов, пусть даже и в результате самосуда, почему бы и нет? Он родился и вырос на земле революций. Если разобраться, это было менее позорно, чем умереть дряхлым стариком, цепляясь крючковатыми пальцами за край одеяла. В своем сне он выходил из здания, стоящего, как кубик, в центре пустой площади. Он услышал, как прозвучало его имя: «Перейра!». И увидел, как из домов, окружавших площадь, стали выходить крестьяне. Из маленьких глинобитных домишек в один этаж, широким кольцом окружавших здание в центре, и вот уже несметная толпа надвинулась на него. «Ладно, — сказал он себе, разряжая всю обойму в толпу, прибывавшую из домов, выплевывавших жаждущий крови народ, — ладно, я умираю от аллегорического кризиса». Он стрелял без остановки, но круг все сужался, «неумолимо» (ему нравилось это слово, когда он встречал его в книгах). Он стрелял более из принципа, нежели надеясь на что-либо — кто же даст себя убить, не защищаясь! Последнее, что он увидел, прежде чем его схватила чья-то рука, это двух человек, там, вдалеке, на краю площади, у подножия одного-единственного фонаря: они стояли, повернувшись спиной ко всему происходящему, облокотясь на велосипед, и смотрели, тихо посмеиваясь, на тусклые отсветы у своих ног — почти как огонь, горящий белым пламенем. От смеха у них дрожали плечи. «Вот там — жизнь», — сказал себе Перейра, и вдруг ему отчаянно захотелось жить. Но толпа уже наседала, и страх наконец овладел им. Впрочем, всех этих рук, ног, взглядов, беззубых ртов, криков, возмущения, тяжелого дыхания, палок, ружей, дубинок, посыпавшихся ударов, первых ран все равно было недостаточно, чтобы объяснить его ужас. Нет, здесь было что-то другое, еще хуже. Эта ненависть… Все эти мужчины и женщины, раздиравшие его на части (они тянули его за ноги, за руки, за голову; палки ломали ему кости, дубинки с удивительной точностью дробили его суставы), были Перейры и Мартинсы.
Он с воплем проснулся.
Затем его сердце постепенно стало биться спокойно.
— Так, это всего лишь кошмар.
Но на следующее утро ему пришлось сделать над собой величайшее усилие, чтобы выйти на круглую площадь перед президентским дворцом. Вся эта пустота, грозившая в один прекрасный день заполниться, сжала ему горло.
— Черт, я становлюсь агорафобом.
Следующей ночью тот же кошмар подтвердил зародившуюся у него фобию.
Вот так. История могла бы на этом и закончиться, поскольку Перейра умер именно так, как видел во сне. Однако, как и всякий человек, достойный быть героем рассказа, он решил избежать своей участи. И вся история Перейры — это история данной попытки.
Именно эта история и заслуживает быть изложенной, не правда ли?
4.
Итак, пусть это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба, который хотел и того, и этого (и власти в Терезине, и путешествий по Европе) и который, обреченный на линчевание, скажем, тщетно попытается избежать своей судьбы.
Единственный план спасения, который пришел ему в голову — поистине идея диктатора! — заключался в том, чтобы нанять двойника. Двойник во всем походил на него, как один человек может походить на другого, как одна и та же буква алфавита, за исключением закорючки эпсилона. Впрочем, никто не заметил этой закорючки. Чтобы в этом убедиться, Перейра, посвятив двойника в свою жизнь и дела и натаскав его подражать себе с необычайной точностью, отправил его задать вопрос всем, кто был особо близок к нему. Всем один и тот же вопрос:
— Кто я?
Старому да Понте вопрос не понравился. Он смерил строгим взглядом шалопая, который его ему задал:
— Власть не должна позволять тебе забыть, кто ты, Мануэль. Ты — Мануэль Перейра да Понте Мартинс, слава моих седин, никогда об этом не забывай.
Двойник поцеловал руку отца и отправился с тем же вопросом к полковнику Эдуардо Ристу, начальнику Военной академии, главнокомандующему армиями и другу детства Перейры. (Они вместе сидели за партой у иезуитов и провели не одну тихую ночь за шахматной игрой.)
— Вы — Мануэль Перейра да Понте Мартинс, наш президент-освободитель, и скинув эту генеральскую башку, вы попали в точку.
— Правильно, однако время шахмат прошло, Эдуардо, — ответил двойник, который совершенно ничего не понимал в этой игре. — Кстати, с глазу на глаз можешь по-прежнему быть со мной на «ты».
Когда двойник задал вопрос епископу (который был крестным отцом Перейры, принимал у него первое причастие и символически дал ему по щекам двумя пальцами в день его конфирмации), служитель церкви внимательно посмотрел ему в глаза:
— Как это, кто ты? Что с тобой, Мануэль? Ты что, принимаешь себя за Лорензаччо? Неужто смерть этого болвана так на тебя подействовала? (Он намекал на почившего Генерала Президента.) Я уже благословил тебя, но если это тебя успокоит, я готов отпустить тебе все грехи. Вот, пожалуйста, отпускаю тебе все: ты тот, кого послал Господь, чтобы избавить нас от этого хищного зверя. Аминь. Ну, иди с Богом.
На улице двойник, переодетый крестьянином, спрашивал у прохожих. И всегда получал один и тот же ответ:
— Вы — наш Перейра.
С некоторыми вариациями:
— …а я еще один.
Или:
— Вы — тот самый Перейра да Понте, а ваша матушка — Мартинс, как и моя.
Или:
— Вы — наши уши.
Или еще, как ответила ему продавщица змей на рынке Терезины:
— Перейра, превратись хоть в мангуста, я тебя все равно узнаю. Ты — сердце, которое бьется у меня в груди.
Двойник вышел отменный. Перейра дал ему прочесть новогоднюю речь, которую он приготовил для иностранных канцелярий. Это была речь, взвешенный тон и политическая эрудиция которой безвозвратно порывали с веселыми отрыжками выступлений почившего Генерала Президента. Дипломаты тем более оценили «европейский настрой» этой речи (выражение принадлежит сэру Энтони Кальвину Куку, послу Великобритании), что в основном новый президент гарантировал всем сохранение их «привилегированных отношений» (разграбление недр) в спокойной обстановке «непрерывного гражданского мира» (покорности верхнему слою).
С бокалом шампанского в руке двойник принимал поздравления, предназначенные Перейре, который в своем личном кабинете немного погодя уже вел переговоры о процентных ставках на золото, никель, нефть и акмадон. Себе лично Перейра требовал больше, чем почивший Генерал Президент, однако он умел заставить закрыть на это глаза, открыв счета во всех банках, где находились доверенные лица каждого из его собеседников.
— Примите это как дань моего уважения вашей семье, господин посол.
И чтобы заглушить последние возражения, прибавлял:
— Дань уважения, комиссионные от которой положены вам по праву.
С сэром Кальвином Куком он даже позволил себе небольшую шутку:
— Наши марксистские друзья правы: семья — основная ячейка капиталистического общества, особенно если является частью совета администрации.
Вот так. Убежденный в крепости собственной власти внутри страны, обеспеченный солидными счетами в зарубежных банках, Перейра смог наконец усмирить свою местную агорафобию, предавшись своей второй страсти — путешествиям.
Прежде чем сбежать (от себя самого он не мог скрывать, что речь идет именно о бегстве), он вызвал своего двойника. Он объявил ему, что отправляется в путешествие и оставляет вот здесь, в этом тайнике, «вот в этом, в барабане, видишь?», речи, которые двойник будет произносить в его отсутствие. На каждый случай была приготовлена особая речь. Двойник не мог ошибиться: они были сложены стопкой в хронологическом порядке.
— Я хочу, чтобы ты выучил их наизусть. Я хочу, чтобы перед народом мои слова лились из твоих уст как источник истины. Я не из тех европейских политиканов, которые читают на публике приготовленные заранее сообщения по листочкам, я вдохновенный президент, когда я говорю, сам народ глаголет моими устами — остаток моей дикости! Все дело в тоне, ты понимаешь?
Двойник сделал знак, что понимает.
— Что до всего остального — молчи. Я — прежде всего молчаливый президент.
Двойник принес клятву молчания.
— Еще одно: не забывай, откуда ты — не прикасайся к женщинам моей касты, а то останешься у меня без самого дорогого. Скажем так: я целомудренный президент; я женат на своем народе. У меня нет времени на женщин.
Двойник принес клятву целомудрия.
— Ты можешь прикоснуться к женщине только для того, чтобы открыть бал, в день церемонии.
Перейра научил своего двойника танцевать танго.
— На нашем континенте президент, достойный носить это звание, должен танцевать танго как никто другой!
Двойник стал неповторимым тангиста[2].
— Хорошо. Теперь — одна частность.
И Перейра доходчиво объяснил своему двойнику, что если, свыкшись с данным положением, ему, двойнику, вдруг взбредет в голову занять место его, диктатора, то он, двойник, окажется на том свете столь же скоро, как если бы проглотил горошину цианида.
— Ну давай, попробуй. Здесь, сейчас, передо мной, попробуй хоть на секунду серьезно занять мое место. Давай. Попробуй. Ну, ты президент? Ты сын моего отца? Давай, поставь себя на мое место, всего лишь, я жду. Я жду!
Двойник не только не смог представить себя президентом вместо настоящего президента, или сыном Перейры да Понте, или крестником епископа, или просто другом Эдуардо Риста, или имеющим хоть какое-то значение для торговки змеями с рынка Терезины, но даже сама попытка напугала его до такой степени, что он был в полумертвом состоянии, когда промямлил:
— Я не могу. Вы — это вы… а я — это я.
«Ты прав, — подумал Перейра, — ты нисколько на меня не похож. Внешность — это просто дерьмо в замороженном виде».
Однако вслух сказал только:
— Смотри же, не забывай.
5.
О том, что Перейра делал в Европе, количество лет, которые он там провел, страны, которые посетил, города, в которых останавливался, женщины, которых любил, — обо всем этом можно было бы кратко поведать в одной главе, так сказать, по верхам. Однако ж нет никакого сомнения, что он оставил неизгладимую память о себе везде, где появлялся. Об этом свидетельствует удвоение ставок, названное «расчетом Перейры», переполошившее все казино Ривьеры несколько месяцев спустя после его появления в Монако, а среди игроков в шахматы — «начало да Понте», которым в Амстердаме на чемпионате Двух Фландрий индиец Мир медленно задушил магистра Турати. (Постичь, каким ветром Миру надуло это «начало да Понте», значит узнать то, что связывало Перейру с танцовщицей Кэтлин Локридж — тайной советчицей индийского чемпиона.)
Весьма интересным может оказаться свидетельство полковника Эдуардо Риста по этому поводу:
— Это начало черным слоном обеспечивало победу Перейре, но делало партию нескончаемой. Мы в пансионе проводили за этой партией ночи напролет. Мануэлю нравилась такая бесконечность, изматывающая силы противника. Я никогда еще не встречал человека одновременно столь импульсивного и столь терпеливого. В шахматах, в политике, в любви и в молчании он был настоящей анакондой. Если Мануэль передал свой секрет магистру Миру, то, вероятно, для того чтобы получить взамен небольшое любовное утешение: все то время, которое индиец тратил на то, чтобы выиграть благодаря своему новому другу, время всех этих бесконечных партий Мануэль проводил в постели с танцовщицей. Руку даю на отсечение!
На самом деле, чем дольше работаешь над подобной краткой главой, тем чаще думаешь, что целые тома не вместили бы всех следов, которые Перейра оставил во время своего пребывания в Европе. Мы встречаем его отметки в таких суетных областях, как игра, танцы (одно боковое скользящее па в танго носит его имя), мода в одежде, нумизматика, тавромахия, искусство составлять коктейли (господи, эти коктейли, с их монотонным разнообразием… всегда завершающимся одним и тем же — послевкусием ржавой меди) и амурные похождения — наставление рогов, похищения, преследования, дуэли, бросание, меланхолия, самоубийства… — которые, представив Перейру последним неоромантиком, превратили его (по словам Кэтлин Локридж) в модель Рудольфа Валентино, звезды, безраздельно владевшей киноэкраном в эту фривольную эпоху и (по словам все той же Кэтлин Локридж) походившей на Перейру, «как две капли мутной воды в стакане муранского стекла».
_____
Чтобы придерживаться конкретных примеров, возьмите хотя бы униформу, которую носил первый портье в отеле «Негреско» в Ницце как раз в эти самые годы. Вне всяких сомнений, кто-то разодел его совсем как почившего Генерала Президента. Нет, нет и нет, не «разодел как», посмотрите внимательнее на снимки: он «одет» в ту самую нелепую форму покойного; ту самую, которая была на диктаторе, когда Перейра его прикончил!
— То, что Перейра толкнул униформу придурка этому расфранченному лакею, совершенно меня не удивляет, — подтвердил потом Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков и биограф Перейры. — Видеть, как все эти головы, увенчанные коронами, всех этих послов, министров, наследников самых богатых владений, все это парадное шествие англичан встречает портье, разодетый, как дохлый клоун, должно быть, доставляло ему особое удовольствие. Это неизбежное анархическое свойство всех мелких тиранов, полагающих, что «сами себя сделали». И потом, Перейра был сыном да Понте; а у них не прощают тем, кого убивают.
Другим явным следом стали долги. Карточные долги, счета из роскошных гостиниц и шикарных ресторанов, от портных, ювелиров, оружейников, цветочников, обувщиков, из железнодорожных и морских компаний, отовсюду счета ливнем сыпали на Терезину. Двойнику было поручено отвечать на них, отправляя письма, состав ленные самим Перейрой. Молодой президент жаловался в этих письмах, что кто-то выдает себя за него, там, в Европе, и ведет веселую жизнь, ничем не похожую на его жизнь здесь, в Терезине, «полностью посвященную руководству государством и заботам о народе». Он прибавлял, что охотно бы заплатил долги этого наглого двойника, «если бы меня не останавливало пресловутое чувство зависти».
— Иезуитское совершенство, — отозвался бы епископ, крестный отец Перейры, расскажи ему кто-нибудь эту историю.
Однажды вечером в Париже Перейра является в сопровождении дамы в ресторан «Лаперуз». Местный физиономист узнает его и собирается выставить вон. Вместо того чтобы пришибить его на месте, к чему он испытывает сильный позыв в первые секунды (физиономист так никогда и не узнает, что он чуть не оказался третьей жертвой Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба, подверженного собственным порывам), Перейра притягивает его вплотную к себе и говорит ему прямо в ухо: нет, он не двойник президента Перейры да Понте, он — президент Перейра да Понте собственной персоной, прибывший в Европу как раз для того, чтобы положить конец бесчинствам этого двойника. Согласен ли он, физиономист, работать на него? Ему хорошо заплатят, более того, щедро вознаградят, если удастся схватить негодяя.
(Самый красноречивый документ из архивов Терезины о пребывании Перейры в Европе — это, вне всякого сомнения, письмо, в котором физиономист в вежливой форме требует причитающееся ему, естественно, не подозревая, что его имя пополнит список кредиторов, исчерпывающий перечень которых он сам приложил к своему письму, чтобы доказать серьезность проделанной им работы — и, стало быть, вполне оправдывающей вышеизложенное требование. Звали его, этого физиономиста, Фелисьен Понс.)
Словом, Перейра развлекался.
Однако развлечения эти были мрачными для него…
Страдал ли он от изгнания, этой непереводимой саудаде[3]? Проклинал ли кошмары агорафоба, которые не давали ему вернуться в Терезину? Протрезвев от своей влюбленности, открыл ли он наконец, что Европа «была не для него»? Или же он ненавидел ее, как северный американец, ненавистью собственника? Как бы там ни было, он развлекался без радости, что никогда не предвещает ничего хорошего.
А может, это зависело от темперамента. Все эти невеселые розыгрыши.
Довольно точное представление о данном темпераменте можно составить, изучив происхождение bacalhau do menino («ребячьей трески»), блюда, которое еще и сейчас является одним из лучших блюд «Эсториля». Слой красного перца, слой черной фасоли, слой белого риса, слой яичных желтков, слой красного лука, слой трески, и так семь раз подряд: перец, фасоль, рис, яйцо, лук, треска. Все посыпается сверху мукой из маниоки и отправляется на угли (сегодня чаще используют печь), где превращается в кусок обгорелого камня, отбивающий всякое желание его попробовать. Легенда называет его «блюдом милосердия» Перейры, которое было выдумано им самим в детстве, чтобы кормить бедных, каждый день приготовлялось его матерью и раздавалось собственноручно старым да Понте длинной очереди оголодавших, ежедневно выстраивавшейся перед кухнями родительского дома, и т. д.
После проведенной проверки оказалось, что все это правда.
Однако в кулинарии действуют те же законы, которые касаются лучших произведений искусства: вы не имеете ни малейшего представления о блюде, пока не знаете, что вызвало его появление. Чтобы отыскать подоплеку bacalhau do menino, следует позабыть про сплетни рестораторов («блюдо милосердия», как же, сколько ты за это заплатил, дорогой?) и послушать тех, кому довелось по-настоящему, до конца узнать Перейру: например, женщин — больших любительниц мифологии в счастливые времена, превращающихся в неутомимых искательниц правды, как только небо начинает затягиваться, — взять хотя бы одну из них, Кэтлин Локридж, шотландскую танцовщицу. Если вы прочтете каких-нибудь четыре тысячи страниц рукописи ее неуловимых «Мемуаров», вам непременно встретится отрывок об одном ужине, как раз в «Эсториле», где ей как раз подали bacalhau do menino под пристальным взглядом Перейры.
— Ну как? — спросил он, едва она проглотила первый кусочек.
— Отменно, — ответила она.
— Отменно, — эхом отозвался он.
Больше он не произнес ни слова. Она же вычистила свою тарелку, как две последующие.
Когда поздно ночью ей все никак не удавалось уснуть от несварения, он повторил:
— Отменно…
Он улыбнулся ей:
— Это мой рецепт.
И добавил:
— Смесь стыда, ненависти, отвращения, презрения и ничтожества.
Он все так же продолжал улыбаться, перечисляя:
— Красный перец — это покров нищеты, стыд нашей кухни. У фасоли — черная кожица, дневной паек раба; рис с трудом можно назвать настоящим продуктом — он как бумажный клей: яичный желток воняет, как поносный пук, гнилостная сущность ипокрита. Лук? В свежем виде — девичьи слезы, в приготовленном — шматки мертвой кожи. Что же касается трески… — Он поднялся и стал всматриваться через открытое окно в морскую даль. — …В ней вся глупость Португалии: отправиться так далеко от родных берегов, чтобы ловить самую мерзкую рыбу в мире.
Он обернулся:
— А вы, с таким вкусом: «Отменно».
— Вы забыли еще муку из маниоки, — заметила она, задетая за живое.
— А это оно и есть, ничтожество! Маниока — это ничто. Ни цвета, ни вкуса, ни консистенции.
Прошло какое-то время. Он уже больше не улыбался.
— Это — ничто и это все, что мы имеем; уловка, чтобы прикрыть наше ничтожество: маниока.
И поскольку она уже готова была расплакаться, он присел на край кровати и склонился к ней:
— Деточка, я выдумал это блюдо, чтобы отбить у бедняков охоту подходить за добавкой. Став президентом, я превратил его в наше национальное блюдо.
Можно себе представить, какая воцарилась тишина, пока наконец Кэтлин Локридж не ответила неуверенным голосом:
— А я вот заказала еще.
— Потому что вы — богатая, европейка, пустая и сентиментальная. Вы считаете своим долгом любить то, что вам не угрожает… Все ваша погоня за «достоверностью». Лет через двести, если к тому времени ваши бедняки не сожрут вас, ломаки из вашей касты будут все так же лизать свои тарелки… «Отменно».
Сказав это, он пустился танцевать по комнате, импровизируя вслух, в нос, металлическим голосом, как «дуэтисты», те самые гитаристы, которые на рынках Терезины швыряли друг другу в лицо колкие строфы.
Na França, Henrique quatro Rei queridinho do povo Inventou a «pulopo» Nosso Pereira criou O mata-fome supremo O Bacalhau do Menino! Генрих Четвертый был славный король, Блюдо простое он изобрел. Чтобы французов своих накормить, «Куру в горшочках» сказал он варить. Наш же Перейра его обскакал, Верное средство от голода дал. На всем белом свете вам не найти Блюда сытнее «ребячьей трески».И он подскакивал, напевая, с задорной свирепостью, как ребенок, который мстит за других детей.
6.
Итак, это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба и кочевника, который не сделал ничего, достойного упоминания, в тех странах, где он побывал.
Да, но quid[4] двойник?
Как он там разбирается, в Терезине, на самом-то деле?
_____
Разбирается, следуя оставленным указаниям, дословно, буквально. Он — двойник человека, который укладывает вам Генерала Президента и глазом не моргнув, как быка на рыночной площади. Перед отъездом Перейра пустил такую угрозу, от которой волосы дыбом встают: «Я всегда буду поблизости». Двойник избегает мыслей. Мыслить — это слишком сложная операция в его положении. У него приказ выдавать себя за другого, не пытаясь в то же время стать этим другим (а попытается — цианид, он хорошо усвоил урок), и все это, несмотря на почести, оказываемые ему, на внешние приличия, которыми он окружен, на уважение, которое ему выказывают, на страх, который он внушает, и на любовь, которой к нему проникаются. Портрет Перейры, встречающийся на каждом шагу, — не его, но он везде видит в нем себя. Двойник — ничто, меньше самого себя, но это ничтожество выписывается с заглавной буквы. Стоит ему только об этом подумать, как у него дух захватывает. И потом, поскольку он обманывает всех, он вынужден подозревать каждого. «Возможно ли, чтобы мне верили? Возможно ли, чтобы они принимали меня за Перейру? Народ, в крайнем случае, верит тому, что ему показывают издалека, народ обожает и убивает лишь свои представления, но вот Эдуардо Рист, друг детства, или епископ, или отец, кого они видят во мне? Возможно ли, чтобы отец — да еще один из да Понте! — сказал тому, кто не является его сыном: „Ты — слава моих седин“? Просто возможно ли такое? Даже несмотря на удивительную схожесть? Нет, нет, эти трое, конечно же, в курсе, Перейра смотрит на меня глазами отца, друга, крестного, может быть, даже глазами торговки змеями, Перейра поблизости, он повсюду, даже внутри меня самого, притаился и ждет первого моего неверного шага!» Вот о чем думает двойник, как только решается думать. Отсюда его решение вообще не думать, придерживаться своей роли, чтобы зрители придерживались своей.
— Политика, — сказал ему Перейра, — это парадокс зрителя.
Двойник не был уверен, что хорошо понял его, но он почувствовал, что в этой фразе сокрыта истина, от которой зависит его жизнь.
Так что он прекрасно играет свою роль.
Это роль со словами, отягощенная молчанием. Когда двойник не занят тем, что учит наизусть бесчисленные речи Перейры, то он их произносит, а когда он не обращается к народу, то он его выслушивает.
Каждый вечер, в час, когда солнце падает за горизонт, как молот приговора, двойник, сидя под цезальпинией, обращается в слух, внимая обездоленным.
— Делай, как мой отец, — приказал ему Перейра, — выслушивай их в определенный час; придавай своему взгляду сколь нужно человечности и молчи. Чтобы показать, что аудиенция окончена, ограничивайся словами: «Я тебя выслушал» — и переходи к следующему.
— И это все? — спросил двойник.
— И это настоящий переворот, — подтвердил Перейра. — Никто никогда их не слушал, им понадобится три поколения, чтобы начать требовать чего-то еще; а к тому времени уже ни ты, ни я не будем в состоянии выслушивать кого бы то ни было.
Насколько двойнику нравится метать в толпу речи Перейры и замечать, как обращенные на него взгляды загораются его искренностью, настолько же он ненавидит эти сеансы вечерних стенаний. Трудно сохранять вид, что слушаешь, когда по-настоящему не слушаешь. Не задремать, ничем не выказать собственного нетерпения, не начать считать, сколько еще человек осталось в очереди, не думать об ужине, забыть о неотступном желании выпить бананового пива, не поддаваться очарованию женщин («Я — целомудренный президент!»), не чесать, где чешется, контролировать свой мочевой пузырь, производить впечатление, что ты всей душою здесь, в то время когда тебе хотелось бы быть… А где, собственно? Где бы ему хотелось находиться, не будь он здесь? Главное, не задавать себе вопросов, слушать, выслушивать каждого так, как если бы он единственный пришел жаловаться — черт возьми, сколько же их еще в этой очереди? — и выслушивать его, как будто ты единственное ухо, способное услышать, ухо, которое значит больше, чем чрево матери, больше, чем небесный Отец в решающий час.
_____
— Итак, слушай меня, как если бы меня могли услышать только твои уши в целом мире!
Перейра долго натаскивал двойника слушать как следует, сам играя роли то изможденного крестьянина, то обеспокоенного торговца, то истощенной вдовы, то доведенного до ручки сына бедняков — он, Мануэль молчаливый, который никогда никому не открывался, пользовался этим случаем, чтобы доверить наемному уху горести своего детства, посетовать на ханжескую строгость отца, вялую глупость матери, идиотское обожание крестьян, их безвольную покорность судьбе и дурацкие суеверия; он дошел до того, что поведал ему, какой ужас внушал ему дом да Понте, с его тишиной и мрачными тенями, о своем полном одиночестве среди огромных семейных владений! Каждый раз, когда внимание двойника ослабевало, он вонзал ему под ребра дуло своего парабеллума:
— Тренировка с настоящими пулями, — предупреждал он. — Быть двойником — завидная участь! И потом, двойника всегда можно заменить! Достаточно верить в свое сходство с оригиналом.
(Странно, как все складывается. Все, что последовало за этим, до самой трагической развязки, вне всякого сомнения, содержится в одной этой фразе.)
Итак, двойник выучился слушать. Пусть сумерки исповедника и были для него невыносимы, зато благодаря этому он открыл в себе свою истинную природу актера: он умеет слушать. Он читает это в глазах мужчины или женщины, которые покидают его, умиротворенно склонив голову, с грацией птицы, ныряющей под крыло.
— Я тебя выслушал.
И он думает: «Следующий! Следующий!..» — но даже виду не показывает, что ждет следующего мужчину или женщину. Неожиданное открытие собственного таланта вдохновляет его: он больше не случайный двойник, он актер от природы. Теперь в его устах речи Перейры звучат с большей искренностью и силой. «Если Перейра так верно говорит, — мчится по всей стране, — это оттого, что он умеет слушать, если ему удается затронуть все сердца, значит, для каждого из нас есть место в его сердце». Образ диктатора утопает в святости: в каждом доме его портрет располагается рядом с образом Христа Вседержителя со светлыми кудрями. Двойник играет роль юного монарха, причащающегося под видом «народа», который есть евхаристия тиранов. В конце концов, ему даже удается усмотреть некое уважение в глазах отца, епископа и друга, тогда как до сих пор ему казалось, что он видит там лишь насмешливое восхищение.
И, однако же, ни разу двойник не уступит опьяняющей власти своей роли. Храня трезвость мысли, умело используя красноречивое молчание и отточенные тексты, он никогда не сделает даже попытки принять себя за Мануэля Перейру да Понте Мартинса, диктатора, возведенного в ранг святого. Но теперь это уже будет не из страха, а от сознания собственного гения.
7.
Продолжение напрашивается само собой. Время шло, двойнику надоело. Не то чтобы надоело ломать комедию, но все время одну и ту же, причем в театре, который в конце концов стал казаться ему незначительным; тот же текст, та же постановка, те же маршруты, те же города, та же публика, те же овации… Актер всегда стремится к новым ролям, к новым сценам, под новыми небесами… конечно, Америки! Такой близкой и столь много сулящей Северной Америки!
Можно попробовать и кинематограф.
Ну конечно же кинематограф!
И двойник эмигрировал в Соединенные Штаты Америки.
Прежде чем уехать, он нашел двойника, который походил на него, как только один человек может походить на другого, за исключением закорючки эпсилона. Никто не заметил этой закорючки, так как новый двойник получил в точности то же воспитание, которое прежний получил от самого Перейры: он думал, что его нанял сам президент, усвоил те же угрожающие наставления и сначала выполнял свою роль псевдопрезидента с тем же усердием, затем с тем же энтузиазмом, чтобы наконец почувствовать ту же скуку и, в свою очередь, найти себе другого двойника, который, пройдя тот же путь, передал эстафету следующему,
и т. д.
8.
И наступил день, когда Перейра вернулся в свою страну.
По какой причине?
Государственный переворот? Если бы это было так, то Перейре, капиталы которого вращались в здешних банках, незачем было бы возвращаться туда. Ностальгия? Ничуть; история с bacalhau ясно показывает, что у menino не обязательно должно быть определенное происхождение. К тому же он запросто обходился без власти. Ему был интересен именно захват, и только. А эта пуля в затылок Генералу Президенту — мгновенный, но сильный порыв. Само амплуа, в театральном смысле, вовсе его не привлекало. Он больше не был ребенком, который мечтал об этом. Теперь Перейра даже находил весьма своеобразным то, что именно двойник играет его роль. (Кроме того, мысль, что Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков, будет готовить ему посмертную речь, глядя на кого-то другого, даже забавляла его.)
И потом, как уже говорилось, тень Маэ Бранки спала с ним. Его кошмары агорафоба вовсе не подталкивали его вернуться, чтобы отираться в толпе крестьян Терезины. Каждую ночь огромная пустая площадь в его сне заполнялась народом, крестьяне окружали его, и он успевал лишь заметить белые отсветы, там, у подножия фонаря, перед двумя мужчинами, которые беззвучно смеялись, опершись на велосипед, и сказать себе; «Вот там — жизнь», прежде чем проснуться в полной уверенности, что он уже на том свете.
Тогда что же? Романтический порыв? Естественно, возвращение Перейры было необходимо, чтобы его судьба могла совершиться, как автор это предсказывает в конце третьей главы. Однако этого недостаточно, здесь не хватает той самой пресловутой свободы выбора: ведь когда Господь Бог назначает нам свидание в определенный день и час, он не отказывает себе в удовольствии позабавиться, указывая пути и причины, которые, как нам кажется, мы выбираем сами.
Перейра решил вернуться в Терезину после одной партии в бридж под вершинами Юнгфрау, в отеле «Виктория Интерлакен» в Швейцарии. Только что раздали карты и сделали ставки. Перейре подфартило с пиками и с партнером — покойником, который к тому же картавил. Разложив перед собой свои карты, покойник, французский промышленник в области «производства дорожных вещей класса люкс» (неологизм принадлежал ему самому, в его устах это звучало как «произвоство дорозных везей класса люсс»), трепался без умолку, ни во что не ставя обычаи бриджа, которые требуют молчания во время раздачи карт. Промышленник только что вернулся из Латинской Америки, куда ездил затариться редкой кожей — змей, броненосцев, ящериц, игуан, кайманов и т. д., — и считал, что этот «поусительный опыт» дает ему право критиковать европейские демократии и прочие конституционные государства. Там, по его словам, «в тропиках», заслужить власть — значило завладеть ею.
— Это приводит к диктатурам, которые заслузивают ни больсе и не меньсе увазения, чем наси здесние правительсва. По крайней мере, всегда знаесь, с кем имеесь дело, с хозяином, который говорит на языке реализьма: языке интересов, распределенных по справедливосьси.
Среди прочих столиц с их «хозяевами» промышленник посетил и Терезину, где имел возможность переговорить с властелином данной местности, неким Перейрой да Понте.
Настоящий Перейра, который не спеша выкладывал свои козырные пики, естественно, был в курсе этого дела. Двойник оттелеграфировал ему ставки, и Перейра ответил, какой следует взять процент.
— Не мозет быть и реси о том, стобы уладить детали в министерсве торговли, — продолжал француз, невзирая на упорное укоризненное молчание других игроков. — Президент лисьно ведет дела, прекрасно осведомлен о мездунароных курсах и сам устанавливает просентные ставки! Все проходит как по маслу, услузливый персонал, тамозенные поблазки…
Перейра складывал свои взятки небольшими аккуратными стопками, которые ставил ребром. Попав в переплет с физиономистом, он теперь играл инкогнито, вероятно, под чужим именем. При этом он не избегал взгляда своего партнера, и тот обращался именно к нему всякий раз, когда Перейра, собирая свои карты, поднимал глаза.
— Выдаюсяяся лисьность этот Перейра! В юности он улозил одного солдафона, который ни серта не смыслил в торговле, и занял его место, вот так запросто. Прекрасно проведенный государсвенный переворот! Сказать, что Перейра пользуеся доверием народа, означало бы сильно преуменьсить истинное полозение дел: его любят, вот и все, сверху до низу сосиальной лесьнисы, которая, собсвенно, имеет только один верх и один низ, и это такзе долзно вдохновлять нас! Он больсе сем президент, он глава семьи, его поситают, как святого… Всегда молсяливый, слова лисьнего не сказет. Он лис выдал мне сифры и снова замолсял. Оставалось лис подписать. Настоясий характер! Кстати, его перевосик говорил на превосходном франсуском, — прибавил он, словно выдавая удостоверение о цивилизованности.
Когда Перейра добрался наконец до своего номера и своей постели, он сдался. Француз ни на мгновение не заподозрил никакого сходства между ним и двойником. Ни малейшего намека. В общем, речь шла об импортере, которому через посредство своего двойника Перейра только что предоставил монополию на «рептилийное кожевенное производство» («рептилийное козевенное произвоство» — еще одно выражение промышленника) в обмен на значительные коммиссионные и проценты. Этот человек не мог забыть лица своего собеседника, который, по его собственному признанию, так его поразил. Тогда что же это? Скромность? Нет, он слишком рьяно выставлял напоказ свой «поусительный опыт». Если бы делец узнал Перейру, он бы так и сказал: «О! Вот это встреся!..» Притворщик? Шпион на службе неизвестно у кого? Почему тогда шпион выдавал себя, не признавая человека, с двойником которого — как он утверждал — он встречался? Всю ночь Перейра не сомкнул глаз. Он, который бежал физиономистов как огня, теперь забил тревогу из-за того, что его не узнали! Он беззвучно рассмеялся. И потом решил напроситься на следующий же день на обед к промышленнику, чтобы вывести его на чистую воду.
На следующий день в полдень постоянные клиенты отеля «Виктория» отмечали годовщину трагического события, которое случилось несколькими годами ранее в этой самой столовой, за тем самым столом, где расположились теперь Перейра и французский промышленник.
— Я как раз был здесь, — подтвердил француз. — Вообсе-то, я появился узе в самом консе. Бедный Мюллер был узе мертв.
— Мертв? Боже мой, и отчего же? — воскликнул какой-то женский голос.
— Пуля в колено, другая — в бедро, еще одна — в почку, одна — в селезенку, одна — в поджелудочную железу, и еще одна, шестая — прошу прощения у дам — в пах, — ответил Хофвебер, который остановил преступницу.
— Преступницу? — воскликнул другой голос.
Да, молодую женщину, совершенно спокойную внешне, не оказавшую никакого сопротивления, когда Хофвебер попытался связать ее: она стояла на ступеньках веранды отеля, с пальца у нее свисал браунинг, а взгляд блуждал где-то на заснеженных вершинах Юнгфрау. «Не будьте грубым, вы же видите, что я не сопротивляюсь и не собираюсь бежать». Обойма браунинга была пуста; седьмая пуля угодила в столешницу.
— Некая мадам Статтфорд, — объявил французский промышленник.
— Если позволите заметить, это имя, которое она оставила в регистрационной книге. Ее настоящее имя — Татьяна Леонтьева.
— Преступление из ревности? — спросил кто-то.
— Политисеское покусение, — ответил французский промышленник.
Перейру, которого, впрочем, донимали другие заботы, на какое-то время зацепила история этой юной русской активистки Татьяны Леонтьевой, которая явилась сюда прикончить невезучего рантье, принятого ею за Петра Николаевича Дурново, министра внутренних дел Николая II. Это белое платье, плывущее через просторную обеденную залу, этот женский пистолетик, внезапно появившийся в руке, затянутой в перчатку, эти спутанные чувства (целая обойма для одного трупа!), последний взгляд на белоснежные вершины Юнгфрау… Перейра почти жалел, что не оказался здесь в нужный момент, чтобы уложить неумелую преступницу к себе в постель и придать немного смысла столь необъятному идеализму. Рантье был бы сейчас жив и здоров, а дама осталась бы с разбитым сердцем, это, по крайней мере, было бы лучшей причиной окончить свои дни в сумасшедшем доме Мюзингена, куда ее поместили.
— А знаете самое главное? Она никогда в зизни не видела министра Дурново. Никогда! Ни разу, дазе на фотографии!
Картавящий промышленник вытаращил на Перейру глаза, до сих пор ошарашенные этим фактом прошлого.
— Она видела только его карикатуру в газетах!
И тут французский промышленник воскликнул с самой неподдельной искренностью:
— Вот вы бы узнали селовека, если бы видели лис его карикатуру?
— …
Итак, это могла бы быть история Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора-агорафоба и кочевника, который мог бы, как и многие другие, окончить свои дни в Европе никчемным расхитителем, но который пустился навстречу своей судьбе, подгоняемый уверенностью, что там, в Терезине, где он оставил двойника, во всем походившего на него, правит сейчас его карикатура.
9.
Именно свою карикатуру Перейра уложил шесть недель спустя пулей прямо в лоб. Это произошло на центральной площади Терезины — круглой площади, окруженной глинобитными домами: в тот день здесь было полно народу.
Это был день годовщины. По всей стране всеобщей и бесплатной раздачей bacalhau do meniпо, национального блюда, праздновалось пришествие Святого Президента. Примерно в тридцати метрах от Перейры, на крыльце президентского дворца стоял какой-то полусгорбленный человек в парадной униформе (той самой, которая была на Перейре в день похорон провидицы) и наполнял церемониальным половником чашки и миски, тянувшиеся к нему со всех сторон. Перейра не мог определить, был ли этот человек грубым наброском с него самого или же полностью законченным портретом, который, пройдя стадию совершенного сходства, пошел дальше, представляя собой варианты разнообразных возможностей развития, не поддающегося уже никакому контролю. Несходство тем более бросалось в глаза, что самозванец совершал священнодействие под огромным портретом, являвшем настоящего Перейру во всей его неповторимой красе.
Однако Перейру удивил не столько вид уродца (когда ожидаешь увидеть карикатуру, готовишься именно к такого рода картинам), и не сама церемония (она разворачивалась строго по плану, установленному им самим), и даже не рвение народа (в этом проявлялось достижение цели, поставленной и предвиденной давным-давно), нет, у него защемило сердце, когда он увидел рядом с этой карикатурой своего отца, старого да Понте, своего крестного, епископа, и Эдуардо Риста, друга детства. Боже мой, какой у них был взгляд! Отеческая любовь, епископское благоговение, дружеский пыл… Родные и близкие обожали самозванца так, как если бы он был их настоящим сыном, крестником или другом! Немного поодаль, в группе министров и зарубежных представителей, Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков, изучал все происходящее внимательным взглядом и записывал. И повсюду — обожающая толпа, стекавшаяся со всех сторон к белому крыльцу президентского дворца, превратившемуся в алтарь. Перейра с миской из нержавейки, специально загримировавшийся, чтобы пробраться сюда инкогнито, понял, что даже и без этого маскарада его все равно никто бы не узнал. Взгляни он сейчас прямо в глаза торговке змеями, она улыбнулась бы ему как постороннему, указывая пальцем на самозванца: «Не правда ли, он прекрасен, наш Перейра?» И прибавила бы с беспокойством заботливой матери: «Но, Боже мой, как он устал!» Что непременно вызвало бы волну сочувствующих откликов: «Да, наш Слух стареет на глазах, это вам не шутки — быть президентом!», «Какая самоотверженность, так он, пожалуй, и жизнь оставит на этом посту…», «Да нет же, да Понте от усталости не умирают!».
Перейра вдруг спросил себя, кто был этот человек, способный настолько завладеть душой народа и сердцем отца, что вовсе не стремился хоть сколько-нибудь походить на оригинал?
— Это неважно, — ответил бы ему Мануэль Калладо Креспо, если бы Перейра задал ему этот вопрос.
Потом глава цеха переводчиков, вероятно, прибавил бы:
— И если бы в конце этого забега — от небольшого несходства, всего в закорючку эпсилона, до полного, абсолютного несходства — им впихнули в качестве последнего двойника кривую волосатую дамочку с претензиями, и это нечто сносно выполняло бы порученную ему роль, они с той же искренностью называли бы ее своим сыном, крестником и другом.
— Но вы, Калладо, — воскликнул бы Перейра, усомнившись, наконец, — вы же с самого первого двойника должны были понять, что это не я!
— О, я всего лишь переводчик, толмач, — ответил бы Мануэль Калладо Креспо. — Во всех семи-восьми языках, на которых я говорю, я не встретил еще двух слов, которые обозначали бы совершенно одно и то же. Я здесь вовсе не за тем, чтобы отлавливать двойников. Мое предназначение — гоняться за закорючкой эпсилона.
Но этот разговор так никогда и не должен был состояться. Перейра слишком спешил наказать самозванца. На деле самозванец уже был мертв. Перейра целил в него с первого же взгляда. («Целься, как в собственную смерть, — учил его Генерал Президент, — и стреляй лишь для того, чтобы подтвердить непогрешимый прицел».) В глазах у Перейры стояло нечто, что ускользнуло от него и теперь должно было исчезнуть. «Это красота, — сказала какая-то молодая женщина в толпе, — это красота добра».
Перейра бросил свою миску и выстрелил.
_____
После того как охрана дворца освободила площадь, разогнав народ, давая залпы под ноги и над головами, от Мануэля Перейры да Понте Мартинса, настоящего, диктатора, растерзанного толпой, осталось лишь неузнаваемое месиво плоти и переломанных костей. Его сбросили в сточную канаву, а непохожему двойнику, в которого он стрелял, устроили пышные похороны, на которых все дружно обливались горючими слезами — и народ, и правительство, и семья, и друзья. Епископ послал в Ватикан запрос о причислении к лику святых, старый да Понте скончался от отеческой скорби, а друг Эдуардо Рист унаследовал пост, оставшийся вакантным.
Вот это и есть история, которую следовало рассказать.
II. То, что я знаю о Терезине
1.
То, что я знаю о Терезине, заключается в одном ночном воспоминании: этом белом отблеске, который пляшет у подножия фонаря, на глазах у двух смеющихся мужчин, стоящих, облокотясь на велосипед.
«Вот там — жизнь», — говорит себе Мануэль Перейра да Понте Мартинс, прежде чем толпа успевает нахлынуть на него.
«Вот там — жизнь», — мимолетно говорит он себе в своем сне.
Так вот, это видение, или, точнее, воспоминание, которое у меня о нем сохранилось: этот фонарь, затерянный в ночи Терезины, эти два человека, стоящие спиной, их плечи, тихонько вздрагивающие от смеха, велосипед, на который оба они опираются, и этот танцующий свет, скрытый от меня их ногами, — и есть причина появления этой книги, ее свидетельство о рождении.
Она упоминается в одном письме, которое я писал другу в ноябре 1979-го.
Я жил тогда с Ирен на северо-востоке Бразилии, в Марапонге, одном из предместий Форталезы, столицы Сеары. Ирен преподавала. Я проводил светлое время суток между небом и землей, подвешенный в своем гамаке, сочиняя романы, которых не писал.
В остальном же я просто глядел по сторонам. И слал отчеты в письмах своему другу.
2.
Это правда, что тогдашний бразильский диктатор заявил, что предпочитает запах лошадей вони, исходящей от народа. Правда, что на его счет ходила одна шутка про словарь: «Еще одно покушение на президента: в него запустили словарем!» Правда, что на южноамериканском континенте хватает и Перейр, и Мартинсов. Правда и то, что в Форталезе я видел, как одна белая колдунья предсказывала будущее целой группе антропологов, неподвижно выстроившихся в ряд, которых она опрыскивала благовониями, вертясь, как юла, в то время как я подыхал со скуки. Правда, что на том же северо-востоке Бразилии один наш знакомый врач фазендейро[5] бесплатно лечил крестьян, которых морил голодом у себя на полях, и что, если к сегодняшнему дню он уже скончался, этого сострадательного рабовладельца, вероятно, почитают как святого. Правда также, что в отеле «Виктория» в Интерлакене, в Швейцарии, одна эсерка-максималистка, Татьяна Леонтьева (историк Жак Бейнак даже посвятил ей книгу «Роман Татьяны»), стреляла в рантье, принятого ею за министра Дурново, которого она видела только на карикатуре. Это произошло первого сентября 1906 года, ровно в 12 часов 45 минут. Во время следствия Эрнст Хофвебер, метрдотель, проронил следующую фразу: «Карикатура легко подходит к любому».
Правда еще и то, что Ясмина Мелауа, Мануэль Серра Креспо, Эвелин Пассе и некоторые другие из моих друзей-переводчиков сомневаются, чтобы «la fenêtre», «la janela», «das Fenster», «the window» или «la finestra»[6] обозначали ровно одно и то же, поскольку каждое из них открывается, чтобы впустить свой особенный шум, и за каждым из них скрывается своя, не похожая ни на какую другую музыка.
Однако точкой отсчета этой истории, окном, через которое я вошел, остается этот белый отблеск в ночи Терезины, столицы Пиауи, у подножия того самого фонаря, танцующий перед глазами у двух мужчин, которые тихонько посмеиваются, облокотясь на велосипед.
3.
Мы возвращались из Бразилиа в Форталезу, я, Ирен и Гуван, в самолете, который на лету терял масло. Пассажирам, естественно, была неизвестна эта деталь. Каждый о чем-то думал себе в своей вечерней полудреме — все, за исключением моего соседа по креслу, известного химика, который с шариковой ручкой в руке сидел, погруженный в свои формулы.
В то время Бразилиа еще строился. По всеобщему мнению, этот город был совершенно никчемный, фиктивная столица, спальный район, из которого спешно бежали члены правительства после каждого совещания министров, чтобы вернуться на ночь одни в Рио, другие — в Сан-Паулу. Что до рабочих, то их размещали в пригородных бараках, которые скоро обступили город кольцом нищеты. Таким образом, Бразилиа оставался лишь местом регистрирования бразильских федеральных законов. К чему было все это великолепие, этот город-памятник, нечто вроде тысячелетнего новорожденного, посаженного на хребте мира на высоте 1200 метров над уровнем моря? Чтобы изумлять марсиан?
Я, сидя в самолете, который на лету терял масло, писал в уме письмо другу. Как передать ему это физическое ощущение, которое ты испытывал в Бразилиа, ощущение, будто находишься на другой планете? Город был почти пуст, деревья еще не проросли, и повсюду, куда ни кинешь взгляд, открывалась дуга горизонта, уводившего в бескрайнее небо. Казалось, что это невесомое устремление стекла и бетона, вся эта грациозная бесполезность, напоминавшая по форме птицу, выступает из-под земли только затем, чтобы обратиться к звездам. Отсюда это чувство космического одиночества, в котором черпает свои силы суеверие.
Ходил слух, что однажды Бразилиа превратится в столицу сект. Торговцы мечтой уже повадились продавать небольшие участки земли, нарезанные вокруг города, поскольку инопланетяне якобы должны были явиться именно сюда, чтобы спасти уцелевших при мировом катаклизме, намеченном на 1984 год, — Оруэлл, никуда не денешься.
«Земля — круглая, Бразилиа — тому подтверждение»; я, должно быть, как раз оттачивал подобные высказывания для своего письма, когда голос моего соседа, химика, вдруг выдернул меня из моей мечтательности:
— Скажите, Пеннак, вы впечатлительны?
— …
— Дело в том, что мы теряем масло, — прибавил он, мельком кивнув на иллюминатор.
4.
Я всегда любил тишину. Я люблю ее страстно, как иные любят музыку. Главное, в чем я могу упрекнуть этот звон в ушах, который кружит у меня в голове вот уже несколько лет, это даже не то, что он производит шум, но то, что он лишает меня тишины. В моем мозгу постоянно зудит какая-то вытекающая тонкая струя — газ? пар? бормашина? сумасшедший сверчок? — которая крадет у меня чистоту тишины. Когда все вокруг умолкает, я остаюсь подвешенным на этой однотонной ноте. Но в то время, о котором я сейчас говорю, ах, какие у меня были удивительные моменты тишины! Я их коллекционировал. Та, что установилась в самолете, после того как бортовой командир подтвердил предположение химика, занимает в моей коллекции почетное место.
Сожалею.
Авария.
Вынуждены изменить маршрут.
Ближайший аэропорт.
Если возможно.
Без паники.
Плотная тишина; человеческая материя в грубом состоянии, в которой тонул мой собственный страх. Один из самых прекрасных экземпляров в моей коллекции моментов тишины.
…
(Если хотите пример «живой» тишины, следует, смешав все категории, выудить молчание моего отца, погруженного в свое чтение; кресло, очки, старый шерстяной свитер, конус света от настольной лампы, дым трубки, средний и безымянный пальцы, скользящие по виску, поза нога на ногу, покачивание правого носка, точка, или запятая, или другой знак на переворачиваемой странице… Мы никогда не ощущали так явно его присутствия, как в те моменты, когда он нас покидал, чтобы уединиться в этой своей тишине.)
…
Утечка масла…
Значит, в цинковых реакторах есть масло?
В иллюминаторы ничего не видно. Одна лишь струя белого дыма, рассекающая ночное небо, между двумя железными листами реактора. Она превратилась в фосфоресцирующую полоску, и каждый думал, что может загореться от нее в любую секунду.
— Где мы? — спросил я у химика.
Он бросил взгляд на свои часы.
— Где-то над Пернамбуком или Пиауи. Во всяком случае, уже внутри.
5.
Внутри…
Как ее звали, бедняжку, которая скончалась несколько месяцев спустя? Она еще училась в Альянс Франсез в Форталезе. Среди поваров, горничных, нянек, садовников, личных шоферов (ее и ее мужа) она имела девять эмпрегадос[7] в своем услужении. Об этом штате домашних служащих — все они прибыли «изнутри», местные — она говорила вполне серьезно:
— Они позволили мне эмансипироваться.
Это была женщина левых убеждений. Она читала Бовуар. Она знала дона Эльдера Камару, «красного епископа». Она задавала милые вопросы по всем правилам французской грамматики:
— Случается ли вам иногда путешествовать внутри Франции?
Соледад, с высоты своих двадцати лет, своим страшным ртом, расстояние между зубами в котором пугало невероятной социальной разницей, спрашивала то же самое:
— А у себя в стране ты ездишь внутри, по глубинке?
Дело в том, что бразильцы живут, прижатые необъятными пространствами внутренней территории к прибрежной полосе океана. Они стоят спиной к земле, обращая взгляды к небытию открытого моря. Отсюда и Бразилиа — как необходимость воздвигнуть столицу в самом центре ничего, бросая вызов демонам внутреннего пространства.
Эти демоны — не простая выдумка, если верить тому, что поют бульварные поэты на площадях внутри: посылаешь солдат (целый взвод), чтобы уладить проблему с крестьянами в глубинке сертана[8]— солдаты пропадают. Снаряжаешь кампанию — возвращаются разрозненные части. (Все это происходит в 1896 году на Северо-Востоке, в области Жуазейру-ду-Норти. Эвклид да Кунха, журналист того времени, предлагает хронику этой трагедии в одной внушительной книге со строгим названием «Os Sertaoes».) Посылаешь батальон — батальон поглощается сертаном. Посылаешь полк — находишь лишь части униформы, висящие то тут, то там на деревьях каатинги[9], отсеченные головы солдат, смотрящие друг на друга по краям окольного пути, и тело полковника, которого, между прочим, звали Цезарь, посаженное на кол. (Восемьдесят лет спустя Варгас Льоса напишет об этом же свою добрую тысячу страниц «Войны конца света».) Вызываешь бригаду федеральной армии, отличившуюся в победоносном разгроме Парагвая, — бригада разваливается. Понадобится треть бразильской армии — пехота, кавалерия, артиллерия, невиданный расход сил, — чтобы в конце концов раздавить крестьян под камнями их же деревни Канудос. Несколько сотен мужчин, женщин и детей, возглавляемых рогатым предводителем, целомудренным и мистическим, хромым вождем, имя которого навсегда сохранила легенда: Антонио Конселейрос.
— Как такое возможно? — раздавались недоуменные голоса в салонах побережья.
Внутри, в глубинке, дуэтисты от литературы корделя до сих пор воспевают эпопею Канудос на своих исцарапанных гитарах.
6.
Демоны внутреннего пространства… Все, что, кажется, возникло из ниоткуда, внезапно оказывается здесь, перед тобой.
Они явились нам в тот день, когда Гуван повез нас, меня и Ирен, смотреть «Конча акустика»[10] в пригороде Бразилиа.
Дело в том, что для любителя тишины…
Конча представляла собой оперу под открытым небом, куда местные Паваротти съезжались, чтобы попробовать голос. Но перед кем, для кого? Везде, насколько хватало глаз, были одни колючие заросли мато[11], обрывавшиеся полукругом линии горизонта, которая ничего не обещала. Так что «Конча» представлялась монументом во славу одиночества и тишины. Мы приехали на машине, взятой напрокат. Довольно долго мы стояли, выйдя из автомобиля, но не захлопывая дверцы.
Реальность — это то, что припадает на одну ногу.
Ни птицы.
Ни дуновения ветерка.
Какие-то насекомые.
И эта опера.
Пустота уступов, спускающихся в немой колодец сцены.
И только мы трое, над этой необъятной дырой, смутно напоминающей что-то греческое, но из массивного бетона, задуманное для того, чтобы вобрать в себя весь человеческий шум до скончания веков.
Было так тихо, что можно было слышать, как остывает капот автомобиля.
Конечно, опера, для нас одних, на необитаемой планете, это было заманчиво. И вот мы, пред центральным пролетом, собираемся выступать в пользу небытия. Три двадцатилетних кретина, готовые сотрясать небеса, ни больше ни меньше. Я помню, как Гуван и Ирен сидели на одном из этих огромных выступов, слегка обнявшись, и представляли бесчисленную публику А я, что же я тогда вещал со сцены? Стансы из «Сида» голосом де Голля, вероятно, давний трюк еще из моей зеленой юности. Или вариацию на тему Квебека, переделанную под аграрный бразильский вопрос: «Да здравствует свободный сертан!» Долгие споры в эпоху де Голля о перераспределении земель между крестьянами Северо-Востока…
До тех пор, пока я краем глаза не уловил чужое присутствие, там, наверху, на уступах, немного справа.
На нас смотрят.
Нас слушают.
Мы не одни.
Значит, «Конча акустика» выстроена не зря.
Это была большая желтая собака с серыми пятнами. Она стояла там, наверху, на прямых лапах, свесив голову к нам в глубину, и очень внимательно слушала. «Привет, пес!» Тот лишь перевел глаза на другой край уступов. Я обернулся: еще один пес. Такой же громадный, как первый, но черный и курчавый, как бриар. Оба — поджарые и мощные, оба поглощены нашим присутствием, здесь, на дне дыры.
Одно дело — выпендриваться перед знакомой публикой, но эти двое новоприбывших имели более требовательный вид. Я подошел к Ирен и Гувану, указал им пальцем на собак, и спектакль внезапно изменил точку зрения. Два огромных пса были не одни. На самом деле это было похоже на появление апачей в фильме Джона Форда. Их было десятка три: все стояли наверху, над сценой, свесив головы и повернув к нам свои морды, пронзая острыми лопатками небо. Гуван побледнел.
— Сматываемся.
— Только не бегом.
— И продолжая дурачиться, — посоветовала Ирен.
Собаки тоже двинулись с места. Они выстроились двумя полукругами по изгибу раковины, не спуская с нас глаз, выгнув спины и следуя за своими вожаками. Откуда они взялись? Нам предстояло пройти по центральной аллее и добраться до машины, прежде чем эти псы преградят нам дорогу… Не спеша, ступенька за ступенькой, и желательно, чтобы голос не дрожал. Здесь было целое собрание самых разнообразных сторожевых и дворняг, шавок, недавно сбежавших от хозяев, и старых скитальцев, обращенных в дикое состояние не одно поколение назад. Все породы, все масти, все повадки, все помеси, причем все — с ранами, с кровоточащими боками, неподвижным взглядом и неслышной поступью. Я насчитал их целых шестнадцать, и это только слева от меня. Тот, кто любит собак, не доверяет собачьим сворам: это как раз мой случай. Стоило лишь одному из них двинуться нам наперерез, и все они разом свалились бы нам на шею.
Бесполезно держать вас далее в этом ложном томлении: если я сегодня об этом вспоминаю, значит, мы все-таки спаслись. Но едва-едва. Мы не выдержали до самого конца; на последних метрах мы бросились бежать. Как и следовало ожидать, они кинулись на дичь. Они вскакивали на захлопнувшиеся дверцы машины, которая вихрем рванула с места.
7.
Еще одно фантазматическое видение внутреннего пространства: паук-птицеед, который сгорает, как спичка, на глазах у Соледад. Их убивают, опасаясь укусов. Их сжигают в спирте, чтобы отложенные яйца не развились в оставшемся трупе. И вот это черное тельце пылает бесконечно долго, выпростав лапки кверху, обугливается, не уменьшаясь в размерах, все никак не догорит… И мертвый он выглядит, как живой; настоящий образ ада: неустранимый.
Однако, как только извели паука, нас стала заедать мошкара, которой он питался.
Так учишься предпочитать пауков-птицеедов.
К тому же они не кусаются.
8.
Демоны внутреннего пространства… Бразилиа еще строился, когда шесть психоаналитиков уже открыли там свои кабинеты.
9.
Примерно это я и писал своему другу. Внутренние истории. Например, историю одного эфемерного поезда, который доставил в Амазонию все материалы, необходимые для постройки нового города лесорубов; целого города, с бассейном, полицейским отделением и посадочной полосой. Поезд продвигался по туннелю зеленых зарослей длиной в две тысячи километров; по мере его продвижения вперед северо-восточные рабочие прокладывали путь прямо перед локомотивом. Когда город был построен, поезд вернулся обратно тем же путем; рабочие демонтировали рельсы, нагружая ими вагоны, и лес замкнулся за тем, что даже не оставило воспоминания о себе как о железной дороге.
Может, это Гуван сделал этот снимок брошенного локомотива несколько недель спустя? Пырей затянул колеса, змеиный лишайник поднялся до самой кабины.
10.
Итак, я в ловушке в этом самолете, вчера — из-за страха, сегодня — из-за попытки вернуть воспоминания и подобрать нужные слова.
Во всяком случае именно в ту ночь я впервые услышал о Терезине. Слово упало из громкоговорителя, произнесенное голосом бортового командира, который объявлял о попытке приземления.
Терезина…
— Столица Пиауи, — заметил мне мой сосед-химик. — Сомневаюсь, чтобы местный аэродром смог принять такую махину, — прибавил он, прежде чем опять погрузиться в свою работу.
Молчание химика также входит в мою коллекцию: британская категория, подвид — хвастливое. Что же до молчания прочих пассажиров, это было молчание молитвы, кружащей вокруг себя самой. Предложения души всем божествам, которые только могут вас услышать. А их в этом самолете, должно быть, было предостаточно, с тех самых пор, как ангелы сертана свободно сношаются с духами Карибских островов с благословения Христа, Девы Марии и всех их святых. Сколько, верно, было дано обещаний совершить паломничество по святым местам во время нашего приземления в Терезине! И прочих вкладов в раскаяние! Как нам иногда приходится срочно требовать присутствия доктора в случае недомогания, точно так же я не удивился бы, если бы услышал в громкоговоритель просьбу к Святой Деве предсказать нам ближайшее будущее.
В подобных обстоятельствах не брезгуешь и суевериями. Вонзаешься в свое сиденье и пытаешься думать о том, о чем можешь. В падающем самолете прослойка между духом, мнящим себя свободным, и просто живым духом оказывается очень тонкой. Как первый, так и второй отказываются воспользоваться данным случаем, чтобы возвыситься. Они лишь хотели бы пожить еще немного: упасть на мягкое.
Возможно, я тогда же подумал о нашем друге Жеральдо Маркане, пока мы с Ирен пытались вместить все наши мистические представления в узенькую полоску ремня безопасности. Жеральдо не было тогда с нами в самолете, но он верил во все эти потусторонние вещи… Это была вера абсолютная, но — как бы это сказать — абсолютно легкомысленная. Миловидная милость… Именно от Жеральдо Маркана услышал я историю о профессоре, отправившемся к белой колдунье узнать, получит ли он кафедру религиозной антропологии в таком-то серьезном университете, а затем — прямиком — к черной, избавиться от своих конкурентов. Жеральдо рассказывал это с улыбкой, от которой топорщились его усы. То, что антрополог может предаваться подобным суевериям, которые он же призван исследовать, возмущало его не больше, чем обнаружение политических убеждений в голове у историка. Может быть, он полагал, что такая двойственность представляет собой единственный предмет, достойный изучения. Если бы он оказался тогда с нами в самолете, теряющем масло, и если бы мы воспользовались этим случаем, чтобы вызвать его на разговор о суевериях, он, вероятно, сказал бы:
— Здесь два варианта: либо мы разбиваемся, и дебаты о суевериях оказываются закрытыми, либо мы приземляемся, и лет через двадцать ты узнаешь, что президент-социалист, которого ты так желаешь для своей страны, тоже консультировался у вашей местной Маэ Бранки, чтобы подняться на этот светский трон.
Самолет приземлился, прошло двадцать три года, президент и правда был у власти и уже умер, и в этот самый момент, когда я пишу эти строки (а именно: 10 апреля 2001 года), астрологу, к которому он в самом деле обращался, только что присудили докторскую степень по социологии в Университете Сорбонны.
Вот так, ни больше ни меньше.
«Эпистемологическая ситуация в астрологии, рассматриваемая с двойственной позиции притяжение/отталкивание в обществах эпохи постмодерна…»
Кроме шуток.
Если бы тогда, в том самолете, меня это шокировало, Жеральдо, вероятно, заметил бы мне:
— А почему бы и нет? Аль Капоне, например, разве не находился в самом выгодном положении, чтобы защитить, скажем, диссертацию по социологии, посвященную крупному бандитизму, — «Миф и реальность в современной вражде племен»?
Затем Жеральдо достал бы гребешок из слоновой кости, с помощью которого приводил в порядок свои усы после этих небольших упражнений для ума.
11.
Естественно, я не думал о Жеральдо Маркане, сидя в самолете, который терял масло: но Ирен только что сообщила мне о его смерти. Мы отправились проститься с ним к нему домой, в Форталезу. Был ли это все еще тот старый дом, где у входа тихонько журчал фонтан?
Хотим мы того или нет, но мы представляем себе потусторонний мир на основе этого, пересмотренного и исправленного. Наш собственный рай населен теми, кто сделал наше существование здесь более или менее сносным. Выбранные нашим представлением о них, они царствуют там пока, в наше отсутствие, на протяжении всего того времени, которое еще остается нам на земле. (Разумеется, наполненного бесконечными проблемами, из необходимости контраста.) Вопрос о том, найдем ли мы их там, когда сами преставимся, представляет некий интерес лишь в споре с приятелем, желательно лежа в гамаке и желательно в интерьере, специально разработанном для Корто Мальтеза.
Такова, например, была ситуация в этот ноябрьский день 1980 года, года мы мирно болтали, Жеральдо Маркан и я, на веранде в Марапонге, каждый лежа в своем гамаке. (О чем мы тогда говорили? В моей памяти осталось лишь воспоминание о лице Жеральдо и его голосе, расслабленном течении его мысли, доброжелательности, которой светились его глаза, мудрости, сквозившей в каждой из его шуток, его улыбке, предупреждающей их появление; большинство же тем наших разговоров как-то затерялось во времени. Жеральдо оставил мне в наследство лишь музыку своего настроения.)
Нельзя не упомянуть, что в тот день, в Марапонге, наш разговор прервал какой-то пьянчужка, появившись под деревьями. Весь в лохмотьях, изможденный, в состоянии крайнего возбуждения, с глазами, выпученными от качасы[12], он стремительно двигался к нам, петляя между кокосовыми пальмами. При этом он орал в испуге, утверждая, что его преследует привидение. Ему абсолютно необходимы были двадцать крузейро[13] — поставить свечку святой Рите, чтобы она заставила этого духа «подняться» обратно. И если мы добрые христиане, мы…
Жеральдо раскошелился, не заставив себя упрашивать.
Удивленный, Качаса сразу прекратил горланить и принялся торговаться. С пятьюдесятью крузейро можно было бы поставить толстую свечу, и возвращение духа восвояси прошло бы быстрее.
Жеральдо отказался:
— Знаю я твоего духа, это был сосед, хороший парень, грешил мало, так что его душа не должна быть слишком тяжелой, двадцати крузейро святой Рите будет достаточно, чтобы отправить его обратно наверх.
Качаса на мгновение заколебался:
— Если ты его знаешь, отчего же сам не поставил свечу?
— Потому что я скуп. Если ты их сожжешь, эти двадцать крузейро, ты истратишь свои деньги.
Вот так. А потом — маленький гребешок для усов.
12.
Однажды утром, когда я писал своему другу (может быть, я как раз рассказывал ему историю с пьянчужкой), на веранде в Марапонге появилась молодая женщина. Я встал из-за стола, чтобы встретить ее. Она попросила разрешения переждать здесь, пока кончится дождь.
А дело все в том, что никакого дождя не было.
Небо было безоблачным.
Это была молодая женщина лет тридцати, с серыми глазами, в строгом платье, с убранными назад волосами и в туфлях без каблуков. Я никогда ее раньше не видел. Она явно пришла не из фавелы[14] и не из близлежащих домов. Соледад предложила ей чашку чаю. Она же предпочла кокосовую воду. Когда мы вернулись с расколотым кокосом, то обнаружили ее в гамаке, созерцающей небо.
Я вновь сел за письмо к другу, очарованный этим странным вторжением. Время от времени я бросал взгляд на нашу посетительницу сквозь решетчатые ставни, загораживавшие мой стол. И хотя Соледад заподозрила у нее cabeca fraca (легкую причуду), девушка пила воду с безмятежным спокойствием. В ее поведении нельзя было заметить ничего, кроме мудрого терпения женщины, дожидающейся, когда кончится ливень, чтобы вновь отправиться в путь.
Когда я рассказал об этом Жеральдо Маркану, он ответил с самым что ни на есть серьезным видом:
— Должно быть, дождь шел где-то в другом месте.
13.
Жеральдо восседает на почетном месте в моем раю. Рядом с моим отцом, с Динко, с Сула, Мунье, Жаном и Жерменой, с Эме, Малышом Луи и Патриком, моим домашним кроликом, с моей бедной всегда улыбающейся Сесиль, которая так смеялась над несносно фальшивившим Тардье, вместе со своей кузиной, такой хорошенькой, такой непосредственной и соблазнительно неуклюжей Монет, с Матильдой — сейчас, Тильду, столь любвеобильной, и Тьери, нашим строителем, ушедшими один за другим, в то самое время, когда я, ни о чем не подозревая, преспокойно писал себе одну из этих вот страниц, с шефом Тома из моего детства, с моим стариком Пилу, который мечтал об Амазонии, с Анни — вчера Анни де Сильвер, весьма привлекательной в возрасте пожилой дамы, и со всеми остальными, которые, вероятно, весьма удивились бы, узнав в своей гипотетической вечности, что воспоминание о них каждый день служит мне сносным оправданием для моего существования. Это мой Олимп, моя академия, мое племя, это я — во всяком случае, одно из моих «я», которые хоть чего-то стоят.
14.
Все это было много лет назад: один момент жизни. Самолет приземлился, Жеральдо умер; Алиса, Тьяго, Жану, Ролан, Жиль, Луна, Летиция, Антуан, Элиза, Орели, Реми, Виктор и многие другие появились на свет; Соледад, Эммануэль, Лоик, Жером, Винсен, Мелани, Кристоф, Альбан и Софи сегодня уже взрослые; в этих бескрайних пространствах времени Бразилия успела приобрести видимость демократии, крузейро сменился реалом, реал стал приравниваться к доллару, побережье продолжает притягивать голодных жителей изнутри страны, Форталеза превратилась в известный курорт, в Терезине в конце концов выросло несколько многоэтажных каменных зданий, империи рухнули, Европу мотало справа налево, то объединяя, то раскалывая, Африка по-прежнему гибнет от всех мыслимых и немыслимых бедствий, в то время как всеобщая коммерциализация претендует на искоренение всех «заций» и «измов», тысячи две учеников прошли через мои руки, одни пары и дружеские связи распались, другие завязались, мы с Минной встретились, а с Ирен расстались, и в старом добром доме в Веркоре, недавно обновленном стараниями Кристофа, я пишу свои книги, и не вспоминая о Бразилии.
Всей этой тщательностью я обязан одному любителю поспать из сертана.
Еще одна внутренняя история.
15.
Соня из сертана был университетским преподавателем, желавшим объехать Бразилию в целях исчерпывающей публикации. С виду — Тартарен из Сен-Жермена, с целой батареей ручек в патронташе легкой хлопчатобумажной рубашки-забияки. Что до содержимого его головы — большой младенец, завернутый в матрицу концептов. В социальном отношении: здесь — преподаватель, подпитывающийся соком тезисов, там — хроникер, естественно — автор и немного издатель, собиратель разнообразных комиссий и жюри, пришедшийся ко двору у этого, неплохо устроившийся у другого, пешка на каждой клетке шахматного поля, человек на все случаи, герой в поисках собственной значимости, без одного дня министр, или дипломат, или советник королевской особы.
Само собой разумеется, ему хотелось «побывать внутри». Он желал встретиться с тем священником, который защищал интересы крестьян.
Однако священника было не найти. Даже для того, чтобы представить свидетелю, прибывшему из Европы. Двое наемных убийц, отправленные каким-то фазендейро, стреляли в него. Сертанехос[15] утверждали, что видели, как те въехали верхом прямо в его церковь. Его предшественник не избежал горестной участи, он же спасся благодаря своей пастве. Его спрятали где-то в каатинге.
Но соня сертана непременно хотел «быть свидетелем».
Священника, священника во что бы то ни стало!
Хорошенько прочесав укромные закоулки, мы в несколько дней все-таки отыскали его. Это был старый бельгийский иезуит (а может быть, голландский или канадский), тощий — дальше некуда. Первое, что он нам показал в том доме, где его приютили, это ручные мясорубки из красного чугуна, подобные тем, через которые мясники в моем детстве пропускали конину; моя мать, помнится, жарила этот фарш тонкими ломтиками. «Прошу знакомиться: моя вставная челюсть», — сказал он нам, улыбаясь беззубыми деснами. Те зубы, которые он не растерял со временем, он вырвал себе сам, «чтобы закрыть вопрос раз и навсегда». Он предложил нам кокосовой воды, пригласил располагаться в гамаках. Наш свидетель достал свою записную книжку и задал первый вопрос. Вопрос касался аграрных проблем и, надо сказать, задан был к месту. Иезуит весьма сложно выстроил свой ответ. В данном случае он являлся скорее не евангелистом, а юристом. Он преподавал право крестьянам, чтобы они сами могли проверить правильное применение законов 1964-го, за которые голосовали в Бразилиа и которые не соблюдал ни один землевладелец Северо-Востока: квоты испольщины по отношению к стоимости продукции, право продажи на рынках и прочее. Он ставил себе задачей научить этих сертанехос читать, редактировать, разбираться, верно ли составлен контракт, убедить их, что эта законность не была фиктивной… Например, в настоящее время иезуит занимался, в частности, шестьюдесятью семьями, выставленными вон одним фазендейро, не имевшим на это никаких законных оснований. Сейчас требовалось срочно где-то всех их расселить, чтобы эта толпа, выдворенная в сертана, не поспособствовала дальнейшему расширению какой-нибудь фавелы…
Все в этом ключе…
Да.
Да, да…
Но наш свидетель истории уже успел задремать.
В своем гамаке.
С записной книжкой на брюхе.
Соня сертана.
Иезуит попросил не будить его, и разговор дальше пошел только между нами. Когда мы дошли до вопроса о засухе, в тот самый момент, когда иезуит стал говорить о необходимости оросительной системы, его голос перекрыл гром, предвещающий грозу. Однако это оказались не громовые раскаты, это был наш соня сертана: он храпел.
16.
У меня сохранилось светлое воспоминание об этом иезуите. В буквальном смысле — это история под солнцем. Он проложил трубопровод, охвативший всю деревню и примыкающий к цистерне, в которую с первого до последнего дня каждого года стекали все до последней дождинки.
— В общем, можно было бы вырастить сады, если бы фазендейрос согласились понаставить везде такие цистерны!
По его мнению, часть проблемы заключалась именно в этом: крупные землевладельцы отказывались инвестировать в цистерны. Они спокойно уживались с засушливостью сертана. Обширность их владений обеспечивала им стабильный доход, а недостаток влаги поддерживал сертанехос в состоянии зависимости. Собственники сохраняли за собой право решать, отправлять ли им грузовики-цистерны или нет.
С этим душем, которым окатил нас иезуит, из воды появились лягушки. Зародившиеся в темноте водохранилища, они попадали нам на голову, прежде чем прилепиться к бетонной паперти. Маленькие прозрачные лягушечки, трепещущие, ошеломленные лужицы.
— А нас еще хотели заставить верить в безысходность засухи!
17.
Затем — темное воспоминание: отчий дом фазендейро, ставшего по прихоти повествования отцом Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора, выросшего из молчаливого ребенка. Это был один из самых крупных землевладельцев на Северо-Востоке. Но он не проводил значительную часть своего времени на побережье, как это делало большинство ему подобных, оставивших свои земли на попечение управляющих. Он-то остался на месте, в своей империи, среди своего народа. Это был маленький и мягкий врачеватель, расположившийся на обширной территории, размером с один наш департамент. Он мог добраться до Форталезы по железной дороге. Его «лендровер» преспокойно катил по рельсам: «Гораздо быстрее, чем по дороге». Достаточно было лишь задержать поезда, чтобы пропустить его.
Он встретил нас шепотом в одном из монументальных помещений, где вышивали крестьянки. Дочь доутора[16] через полгода выходила замуж; эти женщины готовили ее приданое. Они трудились при свете окон, который освещал лишь их работу. Центр комнаты, в которой принимал нас доутор (он всегда был в белом халате), оставался погруженным во мрак. Доутор поведал нам шепотом о тяжестях здешней жизни, о засушливости сертана, о жестоких законах рынка, о долгих днях, которые он проводил в лечебнице, врачуя крестьян (он прописывал кока-колу детям, страдающим обезвоживанием), о бедствиях одних, о несчастьях других: «Главным образом я их выслушиваю, они рассказывают мне, а я их слушаю». Из кухни, располагавшейся по соседству, доносился запах народной похлебки, которая, с кое-какими добавками, также составляла семейный обычай. Женщины и дети стояли, ожидая у двери, с мисками в руках. «Мы — одна большая семья, надо всех накормить». И семья разрасталась: отеческая любовь фазендейро к своим сертанехос, сыновья любовь сертанехос к их доутору, лучистая любовь всех к юной девушке, которая должна была скоро выйти замуж, беззаветная любовь сыновей к отцу, нежная любовь сестры к братьям, любовь всех к Христу, распятому в каждой комнате… И если у меня не сохранилось воспоминания о матери, это, должно быть, оттого, что она была повсюду и нигде, невидимой связью сплачивая весь этот влюбленный бешамель.
Сегодня я говорю об этом с иронией, но тогда, я прекрасно помню, я был очарован этой феодальной безмятежностью. Здешняя атмосфера никак не вязалась с жестокостью местных властей: насмешливым высокомерием диктатора, холодными стражами порядка при правителях, заставами полиции, обиравшей путешественников на подступах к городам, убийствами профсоюзных лидеров или амазонских экологов, истреблением индейцев, истязаниями студентов, ссылками оппозиционеров, манифестантами в Сан-Паулу, растерзанными собаками, детьми, убитыми на холмах Рио… Все это казалось совершенно невообразимым в стенах дома доутора. Никакого насилия в этом убежище, никаких грубостей и ругательств. Вообще, меньше слов.
Каким бы сыном я был, каким мужем бы стал, родись я в подобном коконе? Какой путь мог выбрать ребенок, зачатый в доме доутора, чтобы попасть из этого любовного гнездышка в чужие просторы права? Как, смотря в окно, мог он представить себе, что это самое счастье сродни тому самому насилию? Как можно было допустить, что отец-кормилец являлся в то же время эксплуататором, а его отеческое милосердие — ореолом убийственного патернализма?
Нет, если однажды духи внутреннего пространства восстанут и разорвут доутора на куски, его сыновья этого не поймут. Когда три-четыре поколения спустя в учебниках по истории это зверство будет рассматриваться как законное и оправданное, его правнуки точно так же будут недоумевать. Такой хороший человек…
Когда солнце скрылось, вышивальщицы покинули нас, и доктор зажег свет. Это была лампочка в шестьдесят ватт, свисавшая на длинном проводе. Она освещала лишь центр комнаты; стены и потолок тонули в темноте. Свет зажигали, повернув лампочку на четверть оборота в ее гнезде. Четверть вправо — свет, четверть влево — спать.
Интересно, преследователи иезуитов тоже получали распоряжения при свете этой лампочки? Или при свете другой, точно такой же?
Как бы там ни было, если однажды придется рассказать историю Мануэля Перейры да Понте Мартинса, диктатора, сбившегося с курса, я прекрасно смогу представить себе его появление на свет в подобном райке.
18.
Два месяца спустя мы получили по почте публикацию сони из сертана: очерк о всей Бразилии, в котором Жуан-Песоа, портовая столица Параибы, значился как «небольшой местный городок» (своего рода Тулон, большая деревня Канталя…), Жильберто Фрейре, известный бразильский социолог, превратился в «романиста» (как говорил драматург Огюст Конт…), а наш иезуит самозабвенно предавался бесконечному монологу, который соня, как он утверждал, внимательно выслушал и запечатлел во всех подробностях.
— Сразу видно, свой человек, — прокомментировала Ирен.
И добавила:
— Местный.
Я же обязан этому чуткому «свидетелю» своим призванием писателя.
19.
Кто только к нам не приходил. Например, этот архитектор, славный парень, который, посетив в Бразилиа громадный памятник Нимейера, тоже изъявил желание подняться до Сеары и поглядеть на «глубинку».
И вот мы вдвоем, в машине, под палящим бразильским солнцем движемся в направлении Канинде, если не ошибаюсь…
Внезапно за поворотом из этой серо-охристой монотонности пейзажа появляется, как взрыв зелени, поле.
— Останови, — вскрикнул мой пассажир, — останови, останови!
Он почти готов был спрыгнуть на ходу.
— Это же травка!
Он орал, вытаращив глаза:
— Черт, это же трааааааавка!
Но я не остановился. А то он до сих пор бы околачивался там, куря маниоку.
20.
Если бы это зависело только от него, наш друг Гуван (тот, что вместе с нами сумел удрать от диких собак в «Конча акустика») давно бы уже отрезал яйца соне из сертана, иезуиту, доутору и славному парню вместе взятым; потом отправил бы средний класс побережья и промышленников Юга удобрять, обливаясь слезами раскаяния, каатингу; он отобрал бы у интеллектуалов их очки, чтобы сунуть под нос реальность, насадил бы повсюду религию, вырвал с корнем суеверия, стал бы просвещать закабаленных крестьян, преследовал бы предателя во всех умах, гнал бы классового врага даже из сердца ребенка…
Когда же я возражал ему, что для Камбоджи Пол Пота недавно подобные меры обернулись потерей двух миллионов жизней из пяти, он отвечал, что такова была цена, которую необходимо было заплатить, и я чувствовал в самый разгар наших жарких споров, что и мои собственные яйца в один прекрасный момент могли бы оказаться на вертеле у беспощадного мстителя.
К счастью, он оказался тогда вместе с нами в самолете, который должен был разбиться.
Опять же к счастью, если нам удавалось выжить, у друга Гувана в тот момент были другие приоритеты: защитить в Париже диссертацию по органической химии.
Вот от какой малости зависит история…
А в то время, когда он не замышлял искупление грехов человечества путем его истребления, Гуван был самым веселым человеком на свете. Его задорный смех эхом отдавался по всей каатинге.
Что до старого химика… (Был ли он таким уж старым или это я был слишком молод еще? И как, бишь, его звали? Кажется, Гуван был его студентом. А может, то был его научный руководитель? И как мы вообще оказались все вместе в том самолете? Что за дырявая память…) Короче, мой сосед-химик, когда не напускал на себя равнодушие, отличающее любой большой характер, являлся замечательнейшим спутником в путешествии, внимательным ко всему, от мельчайшей молекулы до живого мира в целом, словом — само любопытство.
21.
Вопрос памяти.
След, который оставляют в нас живые существа…
По мнению властей, которые должны были подтвердить мое свидетельство в суде присяжных, у меня было туго с памятью. Она несла битые яйца. Даже самые свежие мои воспоминания покрываются мраком; я по десять раз впервые открывал для себя одну и ту же картину в том же музее, тот же пейзаж за тем же поворотом, так, как если бы я никогда их раньше не видел; едва пережитые, события исчезают из моего поля зрения, прочитанные страницы, большинство просмотренных кинофильмов, вкус выпитого хорошего вина — все пропадает, как будто бдительное забвение зорко следит за тем, чтобы поддерживать мой уровень бескультурья. Лица и имена слишком быстро стираются у меня из памяти, мои современники оставляют во мне чувства неясные и глубокие, как расплывчатые чернила татуировок. Самые восприимчивые, естественно, страдают от этого, обвиняют меня в безразличии или эгоизме… Что я могу им ответить? Чтобы помогли мне найти мою машину, припаркованную не знаю где, или отыскать в лабиринте моих извилин затерявшийся код моей кредитки?
Бедная моя память делает, таким образом, мое присутствие в этом мире шатким и неустойчивым, что отбирает у меня право выступать свидетелем. Отсюда, конечно же, и мой аппетит романиста: воображение, изголодавшееся по воспоминаниям, неумолимо стремится воссоздать полноту жизни в набросках.
22.
И все же главное здесь — люди, события, обстоятельства, слова — подтверждается моими письмами к другу, лежащими сейчас у меня перед глазами. Доказательство? Визит Иоанна Павла II в Форталезу: «Здесь же — вторжение польского понтифика, Аттилы телевидения. Только о нем и говорят, только его и показывают, только его и слушают. Рекламная компания в Рио нашла ему двойника, который находится в постоянном поле зрения крупных журналов. Так что, даже когда это не Он, он все равно присутствует (Форталеза, 14 июля 1980 г.)».
Если вдуматься, то сегодня это бесконечное мелькание папы на экранах телевизоров (которое, впрочем, не сопровождается таким же увеличением количества просвир) и, в более широком смысле, удвоение всех азимутов, которым оборачивается наш культ изображения, внесло свою лепту в эту историю двойников-матрешек. Мир «Веселой коровы» — вот идеал нашего принципа «передачи сообщений». И все мы висим над пропастью…
23.
Самолет шел на снижение, будто падал. Сердце бешено стучало мне в уши. Мы с Ирен ничего не могли разглядеть в иллюминатор, кроме этого белого дыма в непроглядной темени ночи.
— Если он нас все-таки посадит, то по-бразильски, — заметил мой бесстрастный сосед.
Так и вышло, он посадил нас по-бразильски.
То есть он вырубил газ в двух-трех метрах от посадочной полосы, и самолет рухнул на землю вертикально, всем своим весом многоэтажного здания. Я даже подумал, что шасси пробьет кабину пилота. В ту же секунду он включил реверсор тяги, и реакторы взвыли так, что чуть не прорвали барабанные перепонки. Пояс безопасности впился мне в живот, разрубив меня напополам, мой нос вонзился в поднятый откидной столик, дальше — распахнутые дверцы багажных полок, дождь сумок и чемоданов, бесконечное ощущение торможения, как если бы самолет заглатывал нас, ряд за рядом…
И наконец остановка на самом краю полосы.
Несколько мгновений полной неподвижности.
Затем тело постепенно возвращается в исходное положение.
Аплодисменты.
Добро пожаловать в Терезину, столицу Пиауи.
— Впечатляет, — признал мой сосед-химик, складывая тетрадочки в свой школьный ранец, — но когда посадочные полосы короткие, это более безопасно, чем наши приземления по касательной.
24.
Нас продержали в аэропорту добрых два часа.
Искали дюритовый шланг.
Это как раз и явилось причиной поломки: обуглившийся дюритовый шланг. Надо было лишь заменить его.
Я сконцентрировал всю свою энергию на том, чтобы они не нашли этот чертов шланг на своих складах. Мне совсем не улыбалось посреди ночи опять лезть в тот же самый самолет с наспех прилаженной цинковой трубкой. Напрасно я уговаривал себя, что наверняка все самолеты в мире так и летают, наспех починенные и кое-как налаженные, что все человечество и днем, и ночью летает на таких залатанных аэропланах, — ничего не помогало: я не желал, чтобы они нашли этот дюритовый шланг, и все.
Мои мольбы были услышаны. Вместо дюритового шланга они нашли нам гостиницу, чтобы переночевать в Терезине.
В своих кошмарах Перейра видит этот отель посреди круглой площади. (В снах все сосредоточивается в центре.) Перейра выходит — площадь пуста; он слышит, как его зовут по имени, и площадь в один миг заполняется народом; отель исчезает, и он сам, Перейра, оказывается в центре, к нему бросаются толпы крестьян. У него никогда больше не будет доверия к свободным пространствам: он стал агорафобом.
На самом деле отель представлял собой здание в виде куба, расположенное на краю площади, посреди жгучей ночи Терезины. Огромные тараканы ожидали нас на обшарпанных стенах номеров, а краны плевались ржавой водой, судорожно исторгаемой водопроводом.
Поскольку кухня уже не работала, нам подогрели какую-то смесь белого риса и черной фасоли, посыпанную фарофой[17]. Мне было знакомо это блюдо, мы пробовали его у Маэ Мартинс, матери Соледад, когда приезжали навестить ее в глубинке. Рис и фейжау[18] составляли основу латиноамериканской кухни, когда и риса, и бобов было вдоволь; смесь для набивания желудков этих бедных крестьян каатинги, столь легковесных, что того и гляди унесет первым порывом ветра. В праздничные дни Маэ Мартинс добавляла туда кровь курицы.
Я вполне понимаю, насколько сын фазендейро, выросший в тишине отчего дома и мечтающий о путешествиях, мог ненавидеть эту местную похлебку. Допускаю, что он мог ассоциировать фарофу с ничтожеством, но в данном случае была права именно Кэтлин Локридж, шотландская танцовщица: фасоль и рис прекрасно сочетаются друг с другом, весь южноамериканский континент вам это подтвердит. Что до фарофы, то с этим послевкусием жженого боба одно воспоминание о ней может возбудить мою саудаде.
…
Здесь мы перенесемся на несколько месяцев вперед: мы с Ирен как-то оказались в шикарном салоне в Рио. Я стою, пытаясь сохранить шаткое равновесие между коктейлем, не знаю из чего, и изысканным пирожным (что мы вообще здесь забыли?). Я слышу, как мой голос на заданный мне вопрос произносит имя Пиауи.
— Пиауи? А где это? — спрашивает кто-то.
— Где-то в нашем доисторическом периоде, — отвечает наш хозяин, хитрец с Юга, кариока[19], выросший на зерне.
Этому цивилизованному ответу я предпочитаю другой, данный Ирен:
— Пиауи — это глубинка глубинки.
…
Да, а Терезина была ее центром, а наш отель — в самом сердце этого центра, а наш столик — в центре этого сердца, и каждый из нас навис над своей тарелкой… (Мы так никогда и не исчерпали эту тему глубинки.)
В общем, эта механическая неполадка заставила каждого из нас заглянуть в глубину самого себя. Ирен, старого химика, Гувана и меня.
Кто-то предложил выйти пройтись.
Посмотреть Терезину.
Однако в Терезине не «выходят». И снаружи ты все еще внутри. Площадь была окружена низенькими домишками с железными крышами. В отсветах огней отеля можно было заметить, что они окрашены в эти зеленоватые и охристые тона, которые придают каждому внутреннему городку нечто такое, что не может не прельстить акварелиста. Еще несколько шагов — и цвета поглотил мрак ночи. На горизонте ни единого проблеска. Вокруг ни единого звука. «Как на дне мешка, — прошептала Ирен. — Останься я здесь еще хоть на сутки, я забуду, как меня зовут». Терезина спала. Сколько желудков сейчас переваривали свою порцию риса с фейжау, за этими глинобитными стенами? А небесная влага — когда, интересно, в последний раз она орошала эту ссохшуюся землю, скрипевшую у нас под ногами? Терезина спала, убаюкивая свой голод, забыв про сушь в горле. Я подумал вдруг, что фантастическая архитектура Бразилиа, с его высоченными зданиями из стекла, его искусственным озером, его распростертыми крыльями птицы, была выдумана с единственной целью — забыть реальность Терезины. И этой ночью, сам еще не зная об этом, я сделал Терезину — о которой я ничего не знал и вряд ли когда-нибудь что-либо узнаю — столицей этой истории.
Вернувшись в Форталезу, Ирен поспешила проверить по карте, что Терезина и в самом деле существовала, что наша ночная остановка не явилась результатом «общей галлюцинации».
Итак, мы покинули площадь, на которой находился отель. Мы неспешно брели, переходя с одной улицы на другую. Мы почти не разговаривали, разве что шепотом. Какие сны видели спящие Терезины, покачиваясь в своих гамаках? По мнению Ирен — об огнях побережья, обо всем, что тянуло их к морскому берегу: «Горящие витрины, разнообразие товаров, туристы и деньги, праздник, работа и всеобщее кипение… прикоснуться к платным миражам побережья». Да, и окончить свои дни на окраине какой-нибудь фавелы, топя свою саудаде в качасе, ходить с протянутой рукой в Рио или петь жалостливые песни о сертане на рынках Сан-Паулу с гитарой через плечо вместе с другими беженцами каатинги, надеясь заработать нужное количество реалов, необходимых для исполнения уже другой мечты: вернуться в свою Терезину, в Канинде, в Жуазейру, в Собрал, в Кампина Гранде, вновь обрести свой сертан и неоценимую часть себя самого, которую ты оставил там, при свете факелов — свое одиночество.
Здесь мы как раз вышли на круглую площадь — ту самую, из сна Перейры — и заметили там, вдали, свет того самого фонаря, единственного на весь город, если мне не изменяет память. Это было настоящим сюрпризом, и еще два силуэта у подножия фонаря, как само откровение жизни. Наше одиночество и насущная необходимость в свете толкнули нас приблизиться к этим двоим. Из центра площади можно было лучше рассмотреть эту сцену: это были два сертанехос, стоявшие, опершись на велосипед. Их тонкие ноги болтались в тряпичных штанинах, и смех, звук которого не доходил до нас, сотрясал их плечи. Они рассматривали у себя под ногами что-то испускавшее тусклое сияние. Наконец мы проникли под светящийся купол фонаря. Никакого сомнения: смех сертанехос был вызван бледным свечением у них под ногами. Смех пробирал все их нутро, но беззвучно. Эта немая веселость не могла не привлечь наше внимание, как и танцующий свет, скрываемый теперь их голыми ступнями и разметавшимися полами штанин. Они справили себе маленький черно-белый экран, питавшийся от городского источника электричества. И, честное слово, работало! Они как раз смотрели «Золотую лихорадку» Чарли Чаплина. Один из них стоял, облокотившись на седло, второй — на заржавленный руль велосипеда. Оба смеялись беззвучным смехом, смотря этот немой фильм. Они смеялись, глядя, как Чарли борется со снегом и ветром, смеялись, наблюдая, как Чарли поглощает свой башмак и обсасывает шнурки, смеялись, видя, как Чарли обратился в аппетитную курочку, за которой гонится его оголодавший компаньон, смеялись, наблюдая, как Чарли соблазняет Джорджию. И вот мы тоже принимаемся смеяться, не удержавшись при виде Чарли, который втыкает две вилки в пирожки, завлекая Джорджию. Но Джорджия не придет, это сон, Чарли заснул на столе, напрасно приготовленном для нее, Джорджия танцует с другими в салуне, а Чарли, уснувший в своей пустынной хижине, видит во сне танец пирожков, а мы все смеемся, как и эти двое, которые никогда не видели ни пирожков, ни пуант балерины, и мы четверо, никогда не знавшие голода, смеемся тем же беззвучным смехом, в те же моменты, на тех же кадрах, смеемся над теми же шутками, над этим неисчерпаемым источником веселья для голодных, над этими чудачествами одинокого человечка, мы смеемся все вместе в ночи Терезины, которую мы совершенно не видели, в которую никогда уже не вернемся; внезапно Терезина стала столицей мира.
«Вот там — жизнь», — мимоходом говорит себе Мануэль Перейра да Понте Мартинс в своем собственном сне.
И здесь открывается окно моей истории.
III. Окно. La fenêtre. The window. La ventana. El-taka. La janela. Das Fenster. La finestra
1.
Если бы мне нужно было рассказать историю этого диктатора-агорафоба, то первый двойник Перейры убежал бы у меня именно через это окно.
Открытие фильма Чаплина…
Как явление архангела.
Которое перевернуло бы всю его жизнь.
Не изменив при этом его судьбы.
2.
Кто он, этот двойник? Откуда?
Неизвестный из глубинки, как все те (домашняя прислуга, полицейские, подручные, проститутки, садовники, работницы на тяжелых работах), которых нанимают, чтобы служили, держа рот на замке.
Когда Перейра нанял его, он работал цирюльником в маленьком городке под Терезиной, в трех днях пути от своего родного села. До этой встречи история его была самой обыкновенной: история ребенка, достаточно смышленого, чтобы однажды его обязательно заметил какой-нибудь заезжий иезуит, взял с собой в город, обучил чтению и письму, немного латыни, чтобы служить мессу, двум-трем словечкам на иностранных языках, нескольким начальным понятиям в математике и хорошим манерам. Однако иезуита убивает преследователь священников, и мальца подбирает местный цирюльник, чтобы научить его управляться с лезвием и ножницами, прежде чем оставить ему свою лавочку, в свою очередь скончавшись от вомито негро[20]. (Ах да! Он же еще научил его итальянскому: ведь это был старый итальянец, этот цирюльник, гарибальдиец, давным-давно высланный из страны и куда-то спешно задевавший свою красную рубашку.)
Став уже молодым человеком, наш ученик цирюльника отпускает бороду, чтобы, бреясь, учиться ремеслу на себе самом, поскольку бородачи — известная редкость в глубинке. Раздвоенную, квадратную, заостренную, императорскую, густую или завитую по-гарибальдийски — каждый месяц он носит новую бороду и подходящие к ней усы. И, что бы он ни выбрал, у него всегда бравый вид. К тому же он отличный парикмахер.
Итак, однажды, во время президентского визита, какой-то Фальстаф ветром влетает к нему в лавочку: это Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков. Калладо хотел бы, чтобы в тропические заросли у него на лице внесли немного порядка. Наш парикмахер принимается за бороду, отсекая ее кривым ножом, немного прореживает шевелюру, убирает заросли в ноздрях и в ушах, выравнивает бешеную поросль его бровей, наконец причесывает его, обдает ароматом одеколона и заканчивает свою работу по приведению клиента в божеский вид, обтерев его теплым полотенцем и припудрив тальком; словом, он делает из него столь представительную персону, что час спустя сам президент Перейра лично является к нему в лавочку и важно усаживается в кресло:
— Сделай меня таким же красивым, как этот.
Перейра пальцем указывает на Калладо, который стоит позади него, свеженький как огурчик.
— Только не забудь, что я — это образ, в котором ничего нельзя менять.
У парикмахера здесь совсем мало работы: немного укоротить волосы президенту, подчеркнув чистоту линий его лица. Оно ему прекрасно знакомо, это лицо президента, его портреты развешены повсюду, в том числе и в лавочке брадобрея. У него возникает такое впечатление, будто он копирует рисунок.
Пока молодой человек работает, Перейра не спускает с него глаз. Это как-то странно. Обычно клиенты, когда их причесывают, любуются только на себя самих; а этот почему-то уставился на парикмахера. Который ловко управляется с ножницами и гребешком как ни в чем не бывало.
Но тут президент вскакивает с кресла, срывает с себя салфетку и указывает пальцем на дверь.
— Калладо, оставьте нас наедине с этим человеком.
Мануэль Калладо Креспо выходит.
— Садись.
Перейра протягивает парикмахеру помазок и чашку с мылом.
— Сбрей эту дурацкую бороду и усы, причешись, как ты меня причесал, и скажи, что ты видишь.
Вот так юный брадобрей открывает свое сходство с диктатором с точностью до закорючки эпсилона: подобные лица столь четко очерчены, что можно подумать, будто их вывела одна рука одной линией, по той же причине они и не старятся, как ожидаешь. («Подумать только, ведь каким он был красавчиком в молодости…»)
Продолжение известно. Перейра нанимает двойника под большим секретом («скажешь своей матери, что поступил цирюльником на трансатлантический лайнер»), натаскивает его в подражании, стараясь, чтобы тот забыл, кто он такой, короче, оставляет на него свою жизнь здесь, чтобы отправиться вести другую в Европе, вдали от толп кровожадных крестьян.
3.
Прекрасно. На этом этапе рассказа двойник (который уже некоторое время исполняет роль президента) ничего не знает о кинематографе. Он появился на свет в тот же год, что и мелькающие картинки, но и двадцать пять лет спустя они еще не достигли Терезины, этого сердца, затерянного в глубине страны.
Со своей стороны Перейра предпочитает театр. «Предпочитает», впрочем, не совсем то слово; кинематограф его просто не интересует. Нет, даже не это, скорее…
Каким бы странным это ни казалось, но, когда Перейра впервые увидел мелькающие картинки, он испугался, вот в чем все дело. Это случилось в самом начале его пребывания в Европе; Перейра находился тогда в Лондоне, среди прочих зрителей, в темном зале, пялясь на идиотскую пантомиму, сопровождаемую звуками расстроенного фортепиано. В то время как вокруг него все взрывались уморительным хохотом, посасывая свои трубки и сигары (вне зависимости от того, что показывали, пусть даже «Политого поливальщика»…), Перейра почувствовал, как из его детства на него наступает тот самый страх, от которого перехватывало дыхание, когда свет луны и порывы ветра заставляли плясать тени полога его постели, которая внезапно казалась ему затерянной где-то в необъятности материка. Черно-белые кадры напугали его. Молчание напугало его, эти немые рты напугали его, эта говорящая немота, еще больше подчеркиваемая колкими клавишами инструмента… нематериальность персонажей… эти бесплотные тела… их дрожащая мимолетность… синеватый пучок света прожектора… как танцующая смерть, все это… смутное предчувствие, что, если аппарат погаснет, эти картинки исчезнут, унеся с собой свет и остальных зрителей, и оставят его одного, в темноте.
Однако в Перейре государственный муж быстро одержал верх. «Кинематограф — это всего лишь фабрика грез, — решил он. — У наших крестьян и так достаточно предрассудков, чтобы еще усугублять ситуацию этими неосязаемыми химерами». Итак, никакого кинематографа на земле синкретизма, точка. А значит, и в Терезине. Речь шла о здоровом духе целого народа.
Зато театр… Перейра восторгался одним лишь театром.
— Театр — это метафора политики.
Он часто распространялся на эту тему, болтая с Кэтлин Локридж.
— На сцене ты играешь короля, никогда не забывая при этом, кто ты есть; сидя в зале, ты забываешься, теряясь во времени и пространстве, но, однако же, постоянно присутствуя здесь…
Он без конца сыпал подобными истинами.
— Обман простаков? — возражала шотландская танцовщица.
— Всевидящих простаков, моя дорогая. Вся политическая игра держится на этом.
Сам он мог незаметно разворачивать тему того самого «этого».
— В политике, — как-то возразила она, — мертвые не выходят на поклон.
— В то время как плохие актеришки никогда себе в этом не отказывают, это правда, — признал он. — Это лишь доказывает, что политика, в том числе и моя собственная, дело нравственности.
Как-то раз, когда она снова толкала его на подобные защитные речи, с пеной у рта отстаивая достоинства кинематографа, Перейра выдал разгромный аргумент:
— В кинозалах пахнет потом, в театрах — женщинами. Я предпочитаю второе. Вот.
Для того чтобы выбрать линию политики в культуре, большего и не требуется.
Так что кинематограф был запрещен в Терезине, зато юный президент возвел здесь новый театр имени Мануэля Перейры да Понте Мартинса. Здание представляло собой восьмиугольную ротонду с металлическими лонжеронами и вспомогательными потолочными балками, строительство его было поручено французскому инженеру Гюставу Эйфелю, но план нарисовал сам Перейра. Ему хотелось придать театру вид «тропической беседки»: он заставил отделать под дерево железные балки, изогнуть их, подобно ветвям деревьев, при этом каждый болт должен был напоминать сучок. Крышу покрыли цинковыми листами; лианы скрученных кабелей обвивали все вокруг; сверху все покрыли суриком и выкрасили в зеленый цвет, выбрав самый сочный оттенок. В результате получился кусочек Амазонии из нержавейки, выросший в самом сердце жаждущей Терезины: театр Мануэля Перейры да Понте Мартинса.
4.
Случаю было угодно, чтобы двойник узнал о кинематографе в тот самый вечер, когда он должен был участвовать в торжественном открытии театра Мануэля Перейры да Понте Мартинса. На открытие специально прибыла парижская труппа, чтобы дать «Ставку» Эжена Лабиша.
Двойник вошел в президентскую ложу, украшенную золочеными венками. «Ах! Вот и президент! — Весь зал встает; шелест платьев, аплодисменты, приглушаемые шелком перчаток. — Боже, как он красив!» «Спасибо, спасибо, приветствую всех вас, прошу садиться», — красноречиво говорят руки — мягкие руки пастыря, то есть псевдопрезидента. Свет гаснет, третий звонок, занавес, Мануэль Калладо Креспо, глава цеха переводчиков, тихонько подбирается сзади к двойнику: «Я здесь, господин президент», — и с первого же слова в ложе воцаряется невыносимая скука. Двойник уже давно играет роль Перейры. Он, если можно так сказать, на пике своего творчества. Актер внутри него уже судит других актеров: «Эти люди на сцене не умеют играть. Слова слетают у них с губ, не пройдя через все тело. Они говорят в нос и орут так, будто обращаются к глухим или к детям. И как они торопятся выдать свою реплику! Давай-ка посторонись, чтобы меня было слышно… Им неизвестно искусство слушать. Сколько бы они продержались перед бесконечной чередой несчастных, которых мне приходится исповедовать каждый вечер? И как бы они произнесли это „Я выслушал тебя“, которое отпускает, утешая?» Предавшись этим мыслям, двойник потерял нить разыгрываемой пьесы. Так о чем тут речь? Все то же… Двойник недостаточно владеет французским языком, чтобы следовать за чехардой реплик. Но отрывки, которые переводит ему на ухо Калладо, утверждают его во мнении: эти персонажи не говорят друг с другом, в их словах нет никакого посыла, никто не существует на этой сцене. Двойник рассеянно пробегает глазами по соседним ложам: «Бог мой, кажется, дипломатическому корпусу все это интересно. А на лице сэра Энтони Кальвина Кука, посла Великобритании, можно даже уловить полуулыбку».
— Не стоит заблуждаться, господин президент, — шепчет ему Калладо, — англичанин, скорее всего, сейчас говорит себе, что Шоу решительно превосходит Лабиша.
Двойник улыбается в темноте: «Конечно, дипломаты довольны, оказывается, можно ломать комедию хуже, чем это делают они сами…» Но улыбка тотчас превращается в гримасу: эта шутка принадлежит не ему, это голос Перейры! Снова это наваждение. «Перейра думает вместо меня! Перейра говорит у меня внутри». Холодный пот. Это же чистое наваждение! «Встряхнись, — подтрунивает над ним голос Перейры, — не зацикливайся на себе, не думай обо мне, ведь все это происходит на сцене…» Двойник подчиняется, делает над собой нечеловеческое усилие, чтобы вновь обратиться к «Ставке» Эжена Лабиша.
К счастью, дверь президентской ложи открывается. Входит капитан Геррильо Мартинс из службы разведки. Капитан спешит сообщить президенту, что его люди только что задержали одного человека, который серьезно нарушил правила расклейки афиш.
— Я приказал задержать его и конфисковать материалы, — уточняет капитан Геррильо Мартинс, прибавляя: — Сейчас его допрашивают.
— Это меня не касается, — отвечает двойник, — обратитесь к полковнику Ристу.
Но как только дверь затворяется, он вскрикивает:
— Нет, Геррильо, обождите, я иду!
И, обращаясь к Мануэлю Калладо Креспо, который остается в ложе:
— Расскажете мне, чем кончилось, Калладо, чтобы я не выглядел полным идиотом, когда надо будет поздравлять этих олухов.
Собственно, все, что он должен сказать труппе, уже содержится в телеграмме, отправленной Перейрой по этому случаю: «Ты им скажешь: „«Ставка» — это шедевр комедийного жанра. Пожалуй, лишь Бернард Шоу может развеселить меня так же, как Лабиш, но только в другом ключе“».
5.
Сбежав из президентской ложи, чтобы отделаться от голоса Перейры, двойник вышел из своей роли, он это прекрасно понимает. Он знает, что ему следовало остаться на своем посту и позволить капитану Геррильо Мартинсу представить свой отчет полковнику Эдуардо Ристу, как того требует порядок иерархии. Это, конечно, пустяк, небольшое отступление, первое к тому же, но оно повернет течение всей его жизни — не изменяя при этом его судьбы — и, как он скажет потом, «я еще не ведал об этом».
В кабинете Перейры (том самом, где Перейра, помимо всего прочего, научил его танцевать танго) двойник может на минутку расслабиться. Он не спеша покуривает, рассматривая материалы, конфискованные людьми Геррильо Мартинса: нечто вроде коробки фотоаппарата, посаженной на треножник и снабженной ручкой (кинопроектор — он такого еще в жизни не видел), четыре металлические коробки, круглые и плоские, двойник неумело открывает одну из них, сломав себе при этом ноготь (кинопленка — он такого в жизни не видел), сверток тех самых афиш, которые неизвестный расклеивал по стенам Терезины.
— А! Вот и он, смертный грех…
Афиша, разложенная на столе, являет взору лицо человека, которое не принадлежит ни Вседержителю, ни президенту Перейре да Понте. Курчавая голова под маленькой круглой шляпой-пирожком, нахлобученной набекрень. С первого же взгляда двойник понимает реакцию Геррильо Мартинса. Нужно быть большим наглецом, чтобы отважиться расклеивать на стенах Терезины изображения человека с таким бунтарским видом! Все в этом лице выражает откровенную насмешку — одним уголком губ он улыбается, спрашивая: «Вы в самом деле в это верите?», а другим, иронически изогнутым вниз, подтрунивает: «Тем хуже для вас!» Вытаращенный правый глаз удивляется: «Что, такие простаки?» Скошенная левая бровь смеется: «Бедные мои друзья…» Свет в глазах, скобки морщинок, усики (может, накладные?) — все смеется…
И вся эта насмешка подписана одним именем:
Чарли Чаплин
Выходка, мятеж, решимость…
Комик — это больше чем просто скоморох.
Возмутитель спокойствия.
Намеренный рассмешить всю страну.
За счет кого?
Именно это и интересовало больше всего людей Геррильо Мартинса.
Что он такое, этот Чаплин, «на самом деле»?
— Введите арестованного.
6.
Чарли Чаплин, если, конечно, это он, ни на что не похож. Он глядит на двойника одним своим глазом, распухшим, как зад бабуина (Алекса, бабуина из зоопарка Терезины). Другой глаз закрыт. Нос ему сломали, челюсть, вероятно, тоже. Охранники скорее тащат его, чем ведут. Бог мой, не скажешь, чтобы они работали спустя рукава! Полковнику Эдуардо Ристу это вряд ли понравится. «Деревня, — скажет Эдуардо, — только и знают, что дубасить. Для них сведения — это сок человека, их можно достать, только выжимая и раздавливая».
Двойник указывает на стул.
— Усадите его и оставьте нас.
Оставшись наедине с арестованным, двойник указывает на афишу:
— Это ты?
Тот отрицательно мотает головой.
Нет, на афише не он; на афише — Чарли Чаплин, англичанин, подвизавшийся актером у янки, в Америке, иммигрант, которому удалось прославиться… А он сам, арестованный, всего лишь аноним, бывший сотрудник компании «Мютюэль фильм корпорэйшн», киномеханик, оставшийся не у дел, латиноамериканец, сбежавший из Штатов с этим аппаратом и несколькими пленками, спеша вернуться в свою страну, к своей семье, домой.
— Ты их украл?
Да, несколько лет назад, глупость сделал, конечно. Он подумал, что сможет прокормить жену и детей, показывая эти фильмы у себя на родине, где о кинематографе еще ничего не знали, но он не учел проблему с электричеством. Электричества также пока еще не было у него в селе. Ему пришлось опять отправиться в путь, пытая судьбу в самых крупных городах побережья. К несчастью, там уже появились первые кинозалы, которые оказались для него слишком сильными конкурентами. Ему угрожали, избивали, изгоняли отовсюду. У него украли почти все его пленки. (У него их осталось всего две: «Иммигрант» и еще одна, с которой от неправильного обращения исчезло название, в том фильме Чаплин был солдатом.) Ему пришлось пробираться через границы, удаляясь в глубь континента. Терезина оказалась самой отдаленной столицей. Он нижайше просил господина президента извинить его, ведь он ничего не знал о местном законе расклейки афиш. Честное слово! И то, что кинематограф был запрещен — тоже. Клянусь! Нет, это не были пропагандистские фильмы, нет, ничего опасного, невинные чудачества, пантомима, для показа которой сходили и полотно гамака, и заплесневелая стена крестьянского дома, нечто вроде «Балаганчика», совершенно безвредного, понимаете? Веселые картинки для детей! Развлечение для простого люда, забава для крестьян. Чарли Чаплин? Да он же просто клоун, не больше, клоун и все: удары палкой, метание кремовых тортов в физиономию и пендели. Что вы, какое там — замахиваться на достоинство президента, ни малейшего намека на местную политику, он клянется головой своих детей! К тому же он организовал сеансы в казармах гвардия сивиль[21], в Аргентине, что уж там говорить! И в Уругвае также, перед самим президентом Баттлье-и-Ордоньесом, «вашим коллегой, между прочим!».
— Покажи-ка мне это. Двойник с любопытством указал на проекционный аппарат и катушки с пленкой: — Давай показывай! Если дон Хосе это видел, я тоже имею право посмотреть.
Этот самый момент и перевернул всю его жизнь.
Когда, пропущенные через проектор, на стене появились первые картинки, в прямоугольнике света, как раз над секретером, на котором стоял барабан, куда Перейра складывал свои речи, и когда эти картинки ожили!
Принимая во внимание то потрясение, которое за этим последовало, весьма возможно допустить, что двойник испытал в тот момент то, что его наставник иезуит называл «экстазом»: «…то мгновение, когда души воспаряют и сливаются с Истиной, то самое проникновенное оцепенение, — добавлял иезуит, — то внезапное появление Предчувствуемого Света, — объяснял он, — Откровение!» Да, именно, откровение: у него на глазах картинки начинали двигаться! У двойника возникло такое чувство, что до сих пор он только и жил ожиданием этого чуда. Наконец-то! Наконец! Оцепенение и очарование… Кто-то явился и вырвал картинки из саркофага фотографии, и пустил их, ожившие, плясать в этом прямоугольнике света. «Проснитесь и двигайтесь!» Настоящее воскрешение! И жизненная сила Чарли Чаплина обрушилась черно-белым потоком на стену! И стены еще долго будут танцевать и после смерти Чарли Чаплина! Они будут танцевать до тех пор, пока будут крутиться дребезжащие проекторы! Кинематограф был машиной, которая увековечивала вас при жизни, вот что такое был кинематограф! А Чарли Чаплин стал архангелом этого Благовещения! Его архангелом, окруженным нимбом света проекторов! Какой актер! Нет, ну какой замечательный актер по сравнению с этими халтурщиками из «Ставки»! Какая грация! Какая точность! Какая живость! Какая правда! Какая свобода!
Да, это было откровение.
Двойник не стал терять времени зря.
Он на удивление быстро принял решение:
Он тоже станет живой картинкой! Он тоже будет сниматься в кино! Он оставит другому двойнику свой шутовской наряд псевдопрезидента и отправится завоевывать вечность, отправится туда, в Америку, на родину кинематографа! О да, именно это он собирался сделать! Он уберет этого киномеханика («пусть исчезнет», — последовал, как и ожидалось, приказ из телеграммы Перейры, после того как двойник сообщил ему об этом нарушителе), сам тайком заберет и спрячет его киноаппарат («Мотиограф 1908» — он и в самом деле сохранит его почти до самой смерти), будет крутить фильмы Чарли Чаплина до тех пор, пока не откроет для себя все секреты его искусства (столько раз, что пленка начнет сыпаться…), он уедет из Терезины в Лос-Анджелес, не в тот Лос-Анджелес, что в Био-Био, нет, но в тот, что в Калифорнии, в настоящий — Голливуд! — где, если верить рассказам киномеханика, над лучами кинопроекторов парили ангелы…
Вот что он собирался сделать!
7.
Несколько месяцев спустя после своего побега двойник оказывается в одной горнопромышленной провинции Севера, на расстоянии какого-нибудь ружейного выстрела от границы. Он произносит последнюю речь на крыльце дворца Цезаря Эльпидио де Менезеса Мартинса. Над головой оратора, во весь фасад здания — огромный портрет Перейры. Внизу, у его ног — центральная площадь маленького городка, черная от стечения народа. По флангам — губернатор Цезарь Эльпидио в белой униформе, трое самых крупных землевладельцев данного региона, несколько офицеров охраны, начальство близлежащих поселков и Мануэль Калладо Креспо, который всегда сопровождает президента в официальных поездках. Десяток грузовиков выстроились полукольцом, окружив губернаторский дворец. Они стоят в белых чехлах, как шатры, обещающие невиданные чудеса. А он, двойник, стоит на крыльце, над этими грузовиками, лицом к народу, и играет роль замечательного президента, который никогда не является без подарков. Это его последнее выступление. Он произносит здесь свою последнюю речь президента. Сегодня вечером он сходит со сцены. Он, в свою очередь, тоже подготовил себе двойника.
Вот уже целый месяц везде, где бы он ни появлялся, он произносил одну и ту же речь: составленное Перейрой воззвание к крестьянам становиться шахтерами. «Приоритет эксплуатации недр есть великое дело настоящего момента. Этого требует прогресс, — утверждает президент с высоты своей кафедры — крыльца. — Необходимо развитие, — утверждает президент, — оно столь же неизбежно, — утверждает президент, — как и электричество, которое плетет в нашей ночи световую сеть», — и президент обводит рукой, указывая на электрические столбы, совсем недавно возведенные вокруг площади. Президент также не забывает и пошутить со своей аудиторией. Например, он спрашивает, могла ли Святая Дева, единственная почитаемая в этой стране, здесь же, среди достопочтенного собрания, предсказать, что «вы сможете управлять сменой дня и ночи в собственной спальне простым нажатием на маленький банан»? И хотя все они располагаются в одном большом бараке, все спят в гамаках, освещая свое жилище небольшими лампами, плюющимися маслом, хотя ни один из них не может даже отдаленно представить себе этот волшебный банан, все они смеются от счастья, как если бы этот бананчик в самом деле висел в головах родительской кровати. Они так безоговорочно верят словам президента! Ведь это он сам, собственноручно, убил мясника Севера! Они все явились сюда, чтобы внимать своему президенту! И все они сегодня же вечером явятся излить свои беды его уху, под цезальпинией, во дворце старого Цезаря Эльпидио! Президент говорит с ними, превращая свою речь в красочные картины. Он убеждает их сменить заступы крестьян на кирки шахтеров. Понимают ли они разницу между баклажаном и золотым самородком? Это загадка. Президент предлагает им эту загадку. Какая разница между баклажаном и самородком? Да? Нет? Они знают? Не знают? Президент заигрывает с ними, ожидая ответа. А они не спешат отвечать. Даже те, кто уже слышал раньше эту же самую речь где-то в другом месте, потому что они любят, когда президент разыгрывает ожидание. В такие моменты кажется, что он так близок вам, как товарищ, взошедший на трибуну, плечом к плечу с тобой, и вот сейчас он как двинет речь!
— Баклажан заставляет вас ждать, в то время как самородок только и ждет вас, ребята, вот и вся разница!
Здесь он начинает изображать крестьянина, который ждет, пока созреет баклажан, и вся площадь взрывается одним веселым смехом. Вот умора — крестьянин в ожидании баклажана!
— Золоту же не страшна засуха, — продолжает президент уже серьезно. — Золото не боится ни времени, ни ненастья. Золото, серебро, бронза, никель и нефть лежат там, где оставил их Бог, чтобы человек нашел их и разделил со своим ближним.
Президент делает небольшие паузы между каждой следующей фразой. И вдруг — вопрос:
— Вы хотите, чтобы пришли иностранцы и вместо вас выкопали золото, которое Господь спрятал в глубине вашей земли?
(Заметьте, он не сказал «нашей», он сказал «вашей» земли.)
«Нет, — гремит толпа, — не надо шахтеров-иностранцев, нет!»
Так говорит президент. Это весьма тонкий подход, хоть на первый взгляд этого не скажешь. Он обращается к крестьянам Севера, тем самым, которых покойный Генерал Президент еще не так давно истреблял, как раз потому, что они отказывались покидать свои поля, чтобы спуститься в шахты.
— Конечно, здесь нужны крестьяне! Шутка с баклажанами лишь для того, чтобы вас позабавить, но нам нужны крестьяне, вакейрос[22] и охотники, это сама жизнь, это чрево, полное ваших собратьев шахтеров! А когда шахтеры утомятся, они в свою очередь станут крестьянами, крестьянин возьмет кирку шахтера, а шахтер — лопату крестьянина, потому что необходимо, чтобы крестьянин обогащался, а шахтер дышал свежим воздухом, и это называется братством, в этом и есть сила родины, ваше братство, могучая сила нашей родины!
(В этот раз он сказал «нашей», «нашей родины».)
Овации, естественно.
Так говорит президент. В следующем потоке фраз он станет восхвалять регулярность заработной платы по сравнению с сомнительностью урожаев. Зарплата шахтера — это живительный дождь в конце каждой недели. В субботу вечером протягиваешь ладони, и они наполняются, никаких засух! Загвоздка лишь в том, что, по слухам, шахты больше убивают, чем кормят, а за рабочими там следят начальники в форме и обращаются с ними, как с рабами, и ни один грамм золота не упадет к вам в карман. «Вы ведь слышали об этом, не так ли? И даже из первых уст! Вы слышали это от тех, кто вернулся оттуда, полумертвые кумы и сваты, на глазах у которых их же братья погибали, раздавленные обвалами плохо укрепленных сводов, унесенные потоками грязи, задушенные при находке своего первого самородка, сожранные шахтерской лихорадкой, скончавшиеся от помешательства. Не так ли? Так вот, это была правда! — восклицает президент. — Ваши свидетели сказали вам правду! — И он видит, как это слово «правда» отражается на лицах слушающих. — Самая настоящая правда, — продолжает он. Прежде чем добавить, гораздо тише, среди гула закипающей ярости, почти как если бы он клялся собственной головой: — Но все это было до меня».
Так говорит президент.
— Посмотрите мне в глаза! Все, смотрите мне в глаза, ну же!
И все, до самых последних рядов на другом конце площади, ищут глаза президента, и каждый лично погружается в них.
— Вы полагаете, что я способен лгать вам, как покойный Генерал Президент?
Пусть они хорошенько подумают! Неужели он избавил их от этого палача, чтобы в свою очередь явиться сюда и обманывать их, прямо здесь, он собственной персоной, и именно их? — «Я? Я!» И он видит, как они отрицательно качают головами, он слышит, как они в один голос отвечают «нет».
— Это ваши погибшие товарищи послали меня к вам: твой отец, за которого я отомстил, твой брат, за которого я отомстил!
Президент тычет указательным пальцем в толпу, то туда, то сюда, и каждый, кто потерял близких в тех страшных репрессиях, чувствует, что именно на него указывает палец мстителя.
Так говорит президент.
И вот он приступает к долгожданному сюрпризу.
— Пусть откроют грузовики!
Грузовики битком набиты новыми подсобными орудиями: сита, кирки, ацетиленовые лампы, полное снаряжение шахтера, все самое необходимое для золотоискателя, все бесплатно, даром, от трех самых крупных землевладельцев региона:
— Дон Меркурио Мартинс доставил лампы, дон Теобальду де Менезес Перейра — сита, донья Кунья да Понте, моя родная тетка, — все остальное…
Так говорит благословенный президент, который самолично будет следить за здоровьем шахтера и процветанием крестьянина…
— Самолично!
Но двойник про себя говорит совсем другое.
Мыслями он уже не здесь.
«Конец комедии, это моя последняя речь. И сегодня вечером в отсветах факела в доме Цезаря Эльпидио уже не я буду выслушивать ваши жалобы и слова благодарности, это будет другой я, который уже не будет мной».
8.
Он и в самом деле в тот же вечер перешел границу; он торопился к морю. Море неблизко. Нужно пересечь половину континента, чтобы добраться до него. Он держит в руке поводья ослицы, которая везет его скарб, оружие, воду, припасы, кинопроектор и коробки с пленками. Ослица скачет так быстро, что не отстает от лошади, скачущей галопом. Он, так же, как и легендарный Перейра, стремится убежать от своей судьбы. Ему так же это не удастся, но и он заслуживает того, чтобы мы рассказали об этой попытке. В настоящий момент ему требуется только одно — как можно больше увеличить расстояние между ним и границей. Когда он пересечет континент, он сразу, с разгона, пустится дальше — за океан. О! Да, если бы это зависело только от него, он взмыл бы, как птица, и мигом очутился бы в Америке! По счастью, ночь выдалась лунная; от одного края горизонта до другого прямым вектором легла дорога белого камня, как линейка, разбитая черточками электрических столбов. Когда между этими столбами протянутся провода, а у их подножия лягут железнодорожные рельсы и по этим рельсам побегут поезда, дрожащее гудение электричества будет задавать ритм путешествиям.
А пока он скачет, скачет, следуя вдоль будущего пути электричества.
Но проходят часы,
столбы кончаются,
дорога растворяется в зарослях каатинги,
лошадь фыркает,
ослица замедляет шаг,
луна затягивается облаками…
И вот он разводит костер, в самом сердце континента.
Он распряг ослицу, поставил кинопроектор и коробки с пленками рядом с огнем, чтобы их не попортила ночная роса, он зарядил ружье и теперь сидит и думает, глядя на языки пламени.
Он думает о своем двойнике, который с сегодняшнего вечера выслушивает сетования всего народа, сидя под раскидистым деревом у губернатора Цезаря Эльпидио. Сейчас перед ним, должно быть, еще выстаивает длинная очередь желающих поделиться своими горестями. У него впереди часы людского горя, которым придется давиться, отвечая своим вечным «я выслушал тебя», стоящим настоящего отпущения грехов. «Ты поднимаешь руку, кладешь ему на плечо и говоришь: „Я выслушал тебя». Не мешкай! Нет, не гладь мое плечо, можно подумать, что ты хочешь переспать со мной! Сколько раз тебе повторять: эта рука не просто рука утешителя! Это отеческая рука, именно, но она сразу переходит к следующему — не забывай, семья-то многочисленна! Твоя рука должна утешать и отпускать. Давай снова! Она обнимает и отталкивает, я уже сто раз тебе говорил. Снова! Скажи мне: „Я выслушал тебя“. Нет, ты не слышал меня, идиот! Я не услышал этого в твоем голосе, не увидел в твоих глазах, не почувствовал под твоей рукой. Твоя рука не горит, она холодна, как дохлая рыбина! Как же ты хочешь, чтобы я почувствовал себя успокоенным, если мне на плечо ложится какая-то вялая клешня, пахнущая остывшей мочой? Все равно, что исповедоваться ночному горшку. Что такое? Ты уже думаешь о теплой постели? Об отдыхе? Об ужине? Я только что излил душу прожорливому пузу? Снова! Я не исповедуюсь брюху, я несчастнейший из всех живущих на земле! В брюхо, которое хочет выдать себя за сердце, я вонзаю лезвие своего ножа! За кого ты их принимаешь? Их не так-то просто провести. Их можно обмануть, только если они сами этого захотят! Ты сам должен пробудить в них это желание быть обманутыми! И тебе же надлежит следить за тем, чтобы оно не угасло! Политика — это парадокс зрителя. Не то чтобы они любили бакалау ду менино[23], но они хотят его полюбить, понимаешь? Если ты не научишься этому фокусу, он обернется кровавым месивом революции. Они поверят кому-нибудь другому, а тебя изрубят ударами мачете. Ты полагаешь, я стану рисковать своим правлением из-за твоей пустой башки? Снова, бестолочь! Найди нужный тон, иначе я просто выпотрошу тебя! Честное слово, выпущу тебе кишки наружу!»
Во время этих упражнений он приставил лезвие ножа под нижнее ребро своего двойника. Небольшого движения кисти было бы достаточно. Он сделал бы это. В другой раз он приставил ему к виску дуло своего револьвера, точно так же, как делал это Перейра. Его палец лежал на курке. Он спокойно мог бы спустить его.
— Тренировка на настоящих патронах: чтобы быть двойником, этого надо по-настоящему хотеть! И потом, двойника всегда можно заменить! Достаточно лишь верить в сходство двух человек.
Он только что произнес вслух фразу Перейры, один, в пустыне каатинги. Дремавшая лошадь вздрогнула. Ослица заерзала передними ногами, будто укушенная тарантулом. Он медленно встает, опираясь на ружье, прислушивается к зарослям колючего кустарника. Тишина. Он думает, что ему следовало бы взять еще и собаку. Собаки издали угадывают леопардов. Они так боятся этих кошачьих, что чуют их за километры.
Но нет, в ночи — ни шороха, ни звука.
Он медленно садится на место.
Ему больше ничего не страшно.
Ни дикие звери, ни змеи, ни пауки, ни бродячие собаки, ни само молчание земли не пугают его. Он исчерпал свой запас страха во время истекших лет правления Перейры. Уму непостижимо, как все-таки этот Перейра запугал его! Размеры этого страха он постиг лишь недавно, готовя себе на смену своего собственного двойника. Ярость, которую он вкладывал в каждый сеанс натаскивания, исходила из глубин его собственного ужаса.
— Посмотри на меня! Ты — президент? Ты сын моего отца? Поставь себя на мое место, я большего не требую: я жду. Я жду!
И вот сейчас он наконец может улыбнуться. Прильнув щекой к своему вещевому мешку, почти погрузившись в сон, один во всем мире, он улыбается. Глупо, конечно. Перейра никогда не угрожал ему всерьез. Перейра лишь запугал его, чтобы больше о нем не беспокоиться. Перейра поселился у него в голове, чтобы его собственная спокойно отдыхала. Перейра смотал удочки, точно так же, как теперь и он сам, не собираясь возвращаться. Перейра сделал ему только лучше. Он обязан Перейре, этому Перейре, которого боялся, как самой смерти, обновлением своей жизни: тем, что он открыл в себе талант актера. И в каком-то смысле он обязан ему тем, что открыл для себя кинематограф, который принесет ему славу, богатство и жизнь после смерти, там, в Америке!
Скажи спасибо Перейре.
— Спасибо, Перейра!
Растянувшись на спине с карабином в руках, он пытается заснуть, мурлыкая себе под нос то, что люди Геррильо Мартинса заставляют петь в рыночные дни на площадях Терезины:
Dentro da nossa pobreza É grande nossa riqueza O povo de Terezina Por uma graça divina Recebeu um soberano Melhor dito sobre-humano! Среди горестей и бед Наше счастье — президент. В Терезине народ Божьей милостью живет. Свыше дан нам лучший царь, Сверхгуманный государь!И в конце концов тихий продолжительный смех убаюкивает его.
9.
Бесполезно задерживаться на о том, чем явилось это путешествие через континент. Он сам охотно будет рассказывать о нем всем, кто захочет об этом услышать, в последние годы своей жизни. Расскажет о том дне, когда пума сожрала его ослицу, сперва заманив его самого подальше от места привала, гадя то там, то здесь, оставляя такие свежие следы, что казалось, она всегда где-то рядом, на расстоянии ружейного выстрела, иногда даже показываясь на глаза (дважды у человека было время прицелиться в нее, это была даже не пума, а суцуарана, ирбис размером с тигра, которая под своим черным плащом носила пятна леопарда, похожие на шрамы, заржавевшие от времени), но зверь тотчас же исчезал, заманивая охотника все дальше и дальше, запутывая его, до тех пор пока не бросил его посреди колючего кустарника, чтобы вернуться и загрызть ослицу, утащить ее и сожрать вместе со своим семейством, оставив от бедного вьючного животного «только рожки да ножки», да еще катушки пленки и кинопроектор.
Затем наступила очередь лошади, укушенной в ноздрю рогатой гадюкой в тот самый момент, когда опустила шею, пытаясь высосать влагу из лужицы грязи, где и притаился гад. Сколько времени, интересно, эта дрянь весом в семь кило и длиной метр шестьдесят ожидала шершавого поцелуя его лошади, свернувшись кольцами в той грязной луже? Затем он сам чуть не загнулся: отрубая голову рептилии своим мачете, он задел полость с ядом; отравленная капля брызнула ему на щеку, попав в ранку от укуса комара, и вот он стал пухнуть, как бурдюк, и причитать от боли, как Святая Мадонна. Он расскажет о своих кошмарах, о том, как ему стала сниться ожившая флора: звери, птицы, рептилии, насекомые — все объединились, чтобы восстать против рода человеческого, единственным представителем которого на земле оказался именно он. Расскажет, как он шел в этом бесконечном бреду, оставшись без ослицы и без лошади, взвалив на плечо кинопроектор и неся, как новорожденного, катушки с пленкой, сложенные в нечто вроде гамака, повязанного у него на груди.
— Одновременно Христос с крестом и Мадонна с младенцем, да! Я был апостолом кинематографа.
Здесь он провалился в глубокую кому и опомнился уже закупоренный в четыре глинобитные стены, усыпанный какими-то пахучими листьями; его похоронила семья крестьян кабокло, бабушка которых кормила его в младенчестве.
— Эта старушка жевала мякоть кокоса, прежде чем отправить мне в рот эту жвачку кончиком своего языка. А поскольку она к тому же еще жевала табак, я впридачу заглатывал и слюну с соком табака. Думаю, поэтому я довольно быстро поправился — только бы все скорее прекратилось.
Естественно, эти кабокло не знали электричества и не подозревали о существовании кинематографа. Когда жители деревни спросили его, что «представляла» собой (годы спустя он все еще умилялся, вспоминая, как этот допытливый глагол слетал с их невежественных губ) эта машина — кинопроектор — и для чего нужны были колеса без спиц — коробки с катушками пленки, — он им ответил, что это аппарат, который показывал мечты, и что эти самые мечты хранились смотанными в этих вот круглых коробках. Тогда они спросили, не его ли это мечты. Для того чтобы не усложнять дело, он ответил, что его. И что же это были за мечты? Ну вот, например, мечта уехать далеко-далеко или мечта наесться досыта. Когда же они попросили показать им эти самые мечты, у него не хватило духу сказать им, что придется дожидаться появления электричества. Он приказал растянуть белый гамак между двумя стволами умбузейрос[24], установил кинопроектор на нужном расстоянии, заправил пленку, спросил, кто в поселке когда-либо мечтал куда-нибудь уехать, поставил за кинопроектор подростка, который ответил «я», и, когда по его сигналу мальчик начал крутить ручку, он сам стал изображать перед ними «Иммигранта» Чарли Чаплина, жестикулируя перед белым холстом.
— Таков был мой первый публичный сеанс.
Все это он будет рассказывать в конце своей жизни, таскаясь из бара в бар и на своих дрожащих ногах пытаясь воспроизвести роли из «Иммигранта», которые он когда-то сыграл перед гогочущими жителями деревни: самого Чарли, девушки и ее матери, а также всю толпу эмигрантов, и пароход, плывущий по волнам, и тарелки, дребезжащие с одного края стола на другой.
— Представьте, я изображал даже тарелки и стол! Когда малец прекращал вращать ручку, хватаясь за живот от смеха, я тоже разом останавливался. А если он крутил ее обратно, чтобы подтрунить надо мной, я тоже разматывал удочки в обратном порядке, если вы понимаете, что я хочу сказать…
Вот что он станет рассказывать по барам в последние годы своей жизни.
Давай, валяй…
А в ответ — безразличие на дне стакана…
А когда кто-нибудь порой спросит его, отчего он столько пьет, он вряд ли откроет свое отчаяние, личную неудачу, эти потерянные годы в поисках себя самого, нет, он всегда будет возвращаться именно к этому периоду своей жизни — переходу через континент — когда солнце, как скажет он, превратило его в кость каракатицы.
— В этакую белую солому, которую дают попугаям, чтобы они захлопнули свой клюв, представляешь?
Он как-то не ожидал такой засухи. Он покинул свой поселок четырнадцатого марта, а дождя не было уже с Рождества. Когда крестьяне сказали ему, что это признак засухи и что ни одной капли не прольется до следующего дня появления Христа, он им не поверил. Он продолжил путь, взвалив все оборудование на двух иудейских ослов, у одного из которых слезился правый глаз, будто скотина уже знала, что земля превратится в наковальню, на которой он изжарится на ходу.
Осел как в воду глядел: он и его приятель умерли два месяца спустя, упав замертво засохшими мумиями, один в нескольких километрах от другого.
— Можете пойти проверить, если мне не верите, там ничего не исчезает, они до сих пор там так и лежат.
Он будет клясться всеми своими богами, что пересек однажды плато столь засушливые, что деревья растут там сверху вниз, пряча свои побеги в землю, чтобы спастись от солнца, а растения, которые не имеют между собой ничего общего, объединяются против неба, сплетаясь корнями под землей, чтобы разделить то небольшое количество воды, которое им удается достать.
— Да, вот так. Под нашими ногами существует общество растений, более сплоченных, чем мы, люди, попирающие землю! Я это знаю наверное, я копал!
Ври больше…
Он не встретит никого, кто бы ему поверил. Ведь никто в тех барах, по которым он шатается, не видел «Таблицу социальных растений» Гумбольдта, не открывал труд ботаника Сент-Илэра и даже бегло не просматривал «Верхние Земли» Эвклида да Кунхи, книги, послужившие документальным подтверждением этих страниц… Ему точно так же не поверят, когда он станет рассказывать о своем самом ужасном воспоминании: дожде, который не достигал земли. Так долго ожидаемые тучи наконец-то собирались над головой, черное небо разверзалось, как прорвавшийся бурдюк, дождь проливался, но капли разрывались у самой земли, раскаленной до предела, «разрывались у самых рук, подставленных небу, у широко открытого рта, у потрескавшихся губ, капли разрывались, прежде чем коснуться твоего тела, будто земля сама превратилась в солнце, и вновь поднимались струйками пара, чтобы вновь слиться в облака, которые ветер уносил прочь; вот там-то, да, именно там, ты понимал, что такое ад…».
— Поэтому я и пью.
10.
Каким-то чудом он добирается до побережья живым. Линдберга будут чествовать за то, что он пересек Атлантику, а он вот пересек солнце — и ничего, ему даже не поверят. Он явился на край континента почти голым, без гроша, потому что надо учесть еще и бандитов, которые забрали у него все, кроме проектора и пленок, поскольку не знали, что с ними делать. Одним прекрасным днем он вырос из песков дюны, изголодавшийся, с сохшимися почками и слипшимися кишками. Когда он увидел море, которое знал только по фильму Чаплина «Иммигрант», его вырвало, как Чарли в «Иммигранте». При одном только виде прибоя сердце его скакнуло к самому горлу, спазмы раскололи его надвое, и он смеялся от счастья, исторгая маленькие струйки обжигающей желчи («в то время как мой зад пускал пулеметные очереди, совсем как зад Чарли»). Он смеялся не только потому, что достиг наконец моря, но еще и потому, что магия кино полностью завладела его существом.
— Я знаю тебя, старый океан, я знаю тебя лучше, чем ты сам, я видел тебя живьем в одном фильме, ну и, конечно же, меня вырвало!
Надо было срочно чего-нибудь выпить и поесть. В первом попавшемся ему таска[25] он выпросил себе за один сеанс показа блюдо из жареных щупальцев, спрыснутых кокосовым молоком. Хозяин заставил его крутить все его фильмы до тех пор, пока клиенты бара падали со смеху.
Так он и восстановил свои силы, спускаясь по побережью: он давал киносеансы в обмен на обед, приют, даже платье; затем, когда он наелся вдоволь и сумел прилично одеться, он стал требовать денег. Наученный опытом покойного кочующего оператора, он избегал растягивать свое белое полотно в центре больших городов, где правили бал владельцы кинозалов. Он решил показывать фильмы в уединенных местах, встречавшихся у него на пути. Некоторые из этих заведений (бордели доньи Таиссы, монастыри святой Аполлинарии) напоминали ему Терезину: они были настолько замкнуты в самих себе, что реальность проникала туда только через рассказы, в которые обитатели этих мест сами хотели верить. Он давал сеансы в казармах, пансионах, пограничных пунктах, а также в шикарных салонах и в богадельнях, где милосердные дамы спасают свои души, открывая двери смерти старикам, которым они ни за что не позволили бы перешагнуть порог их собственного дома. И везде он отмечал, что фильмы зажигали в людях то, что жизнь уже давно погасила. Кинематограф заставлял смеяться тяжело больных, прикованных к постели, и плакать взрослых, которые когда-то поклялись себе, что их уже ничто не сможет растрогать в этой жизни. С первых же движений ручки проектора забытые эмоции просыпались, чтобы взорваться возгласом удивления, расходясь волнами по поверхности жизни, которую давно уже принято было считать скучной и застывшей. Это были «О!» и «А!», и «Нет, но…», и «Вы видели?», и «Вы только посмотрите!». Умирающие сами поднимались на подушках, лица их светлели; у них были глаза, но кинематограф давал им способность видеть!
Путешествуя из страны в страну вдоль побережья, он сделался продавцом воскрешения. Он только что пересек пустыню, и вот теперь мертвые вставали там, где он проходил!
— Вот оно, начало кино; везде, где я расставлял свой проектор, Лазарь вставал из своей могилы.
_____
Он ошибался, кинематограф давно уже был не в начале пути. («Точно, на самом деле это был мой дебют, я показывал кино в тех местах, где живые картинки никогда еще до того не появлялись, отсюда и ошибка».) Он набирался опыта, смотря другие фильмы в настоящих кинозалах. Он читал специальные журналы, бесконечно, пока не пересыхало в горле, разговаривал с настоящими фанатиками бегущей ленты. Он открыл, что Чарли Чаплин не был единственным, кто снимал кино: от Франции до Аргентины, включая и Японию, и Италию, и совсем еще юную Советскую Россию, и даже крошечную Финляндию, вся планета говорила уже на едином немом языке кинематографа. Из журнала «Фотоплэй» он узнал, что Голливуд был солнцем этой галактики: здесь снималось восемьдесят процентов всех фильмов планеты, что составляло примерно тысячу в год. («На самом деле Терезина представляла собой доисторическое исключение; наши дипломаты, должно быть, были последними Homo sapiens, которых еще интересовала „Ставка“ Эжена Лабиша».) Из журналов «Моушен пикчерс», «Пикчер гоэр», «Фотоплэй», «Скринлэнд», «Мувинг пикчер ньюс», «Мотографи», «Вэрайети» и «Нью-Йорк драматик мирор» он узнал все, что только можно было узнать о голливудском Олимпе: Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс составляли непревзойденную пару, Пэгги Хопкинс Джонс выводила в свет своего пятого мужа, а Глория Свенсон собиралась сожрать печень Полы Негри. Что же до Чарли Чаплина, то он только что вернулся из своего триумфального турне по Европе; он расстался с Первой национальной компанией и собрал своих друзей в Ассоциацию актеров, настоящим жалом которой была все та же Пикфорд: переворот во всемогущественной империи продюсеров и банкиров. Маленький человечек, который воскрешал мертвых своей утиной поступью, имел вес в пять миллионов долларов! За десять лет до того он был всего лишь жалким шутом в мюзик-холле и получал пять ливров в неделю.
— Все это придавало мне невиданные силы.
Как-то раз, когда он покидал приют, еще дребезжащий от хохота, вызванного выкрутасами Чарли, ему вдруг пришла мысль еще больше заинтриговать публику, переодевшись и загримировавшись под Чарли из тех самых фильмов: слишком маленький котелок, куцый сюртук, слишком широкие штаны, огромные, не по размеру башмаки, гибкая тросточка и приклеенные усы. Эффект последовал незамедлительно; глядя, как он крутит ручку проектора здесь и в то же время играет комедию там, на белом полотне, зрители (на этот раз это были заключенные, воры и убийцы) смотрели на него, как на бога вездесущего.
— Некоторые щупали меня за рукав, чтобы убедиться, кто же на самом деле, я или персонаж на экране, был картинкой, а кто настоящим.
Никогда еще ему не приходилось читать столько увлеченности во взглядах; ни в детстве, когда он сопровождал иезуита к постели умирающего, ни в юности, когда его хозяин цирюльник читал ему стихи, воодушевленный надеждой, что прививает мальчику вкус к революционной поэзии Гарибальди, ни даже в Терезине, когда самые бедные и обездоленные приходили жаловаться ему. Он постиг тогда, что Чарли Чаплин должен был каждый день испытывать это несказанное счастье одновременного существования в реальности и на экране. В этом и была его слава! Он поклялся себе, что это счастье станет его, и только его, безраздельно, и как можно скорее! И как все те, кто жаждет славы, он имел вполне определенное и точное представление о ней и уже готов был пользоваться ею: отныне каждый раз, когда он будет встречать восхищенный взгляд, он будет проживать волшебство собственного возрождения! Причисленный к лику святых при жизни! Какое счастье быть одновременно самим собой и тем «нетленным телом», которое, по словам его наставника иезуита, обретали счастливцы в момент воскрешения. Слава! Чистейшая радость! Наконец-то ему выпадет честь встречать взгляды, узнающие его.
Вперед, вперед! Скорее сесть на пароход!
Раз и навсегда пересечь океан.
Голливуд! Голливуд!
Он не собирался и дальше тратить свою жизнь, гримируясь под Чарли. Он сбросит эти отрепья в мусорную яму, чтобы стать самим собой и образом самого себя. Слава! Наконец-то!
«Ты скажешь своей матушке, что поступил цирюльником на трансатлантический лайнер».
И ведь как сумел извернуться!
Он прочесал все порты. Предлагал свои услуги брадобрея трем дюжинам капитанов. Ему бы очень хотелось найти место цирюльника на борту корабля. Судьба же (или то, что ее часто заменяет: случай, неудача, которая, впрочем, обернулась неожиданной возможностью) распорядилась иначе.
11.
Где же именно он сел на пароход? В Монтевидео? В Буэнос-Айресе? Странно, но он не сможет этого вспомнить. С другой стороны континента?
— Во всяком случае, не на бразильском побережье, там, в том кабаке говорили по-испански и по-английски. Единственное, что осталось у меня в памяти, это название парохода, все остальные воспоминания, кажется, затмило одно это имя.
«Кливленд».
— Точно, «Кливленд», пароход компании «Гамбург Американ лайн».
Имя капитана.
— Итальянец, капитан Польчинелли.
Как название комедии…
— Это нисколько не утешает, поверьте…
Он отказался от мысли поступить на корабль в качестве цирюльника. Совершенно очевидно, что это место редко пустовало. Он решил оплатить свое путешествие: он заплатит за переезд своими сеансами — только на это, впрочем, и оставалось рассчитывать — и он поедет на нижней палубе, вместе с эмигрантами. В конце концов, разве он не один из них? Он начнет с самых низов, чтобы вершина, когда он ее достигнет, оказалась еще выше. Он уже представлял себе, как оттуда, сверху, будет расхваливать достоинства американской демократии, «благодаря которой все возможно», как утверждал мистер Чаплин в своих интервью, «тоже иммигрант, если не ошибаюсь».
Итак, вот он толкает дверь этой таверны. («Черт, но в каком же это было порту?») Экипаж «Кливленда» как раз набирался там пивом. Пьют, курят, балагурят, как раз подходящий момент, чтобы над чем-нибудь хорошенько посмеяться. Как только матросы замечают его силуэт, они поднимают свои кружки:
— Эй! Чарли!
Так, американцы. Американские моряки предпочитают свет портов темному центру городов, их и встретить-то можно разве что на пристани. Не в первый раз уже его окликают именем его персонажа. Он раскланивается, как Чарли, приподнимая котелок кончиком своей тросточки из-за спины.
— Подваливай, Чарли!
Он оставляет проектор в углу и подгребает между столов своей утиной поступью. Все потешаются. Не говоря ни слова, он протягивает свою шляпу, указывая на нее жестом, не терпящим возражений, брови дутой, рот сердечком. Раздается звон первых монет. Он проверяет одну на зуб. Презрительным щелчком отправляет другую — крошечную — в плевательницу. Все это он проделывает мастерски. Он часами тренировался в кабинете Перейры. И крутить свою тросточку, и поворачиваться кругом на пятке, и смотреть уголком глаза, и улыбаться, притворно смущаясь, и исходить приступами ложного икания, и едва удерживать равновесие, чуть не падая… Он изучил Чарли как свои пять пальцев. Все в восторге. Шляпа быстро наполняется. Собрав урожай, он переходит к показу «Иммигранта» на скатерти, прибитой гвоздями в простенке между двумя окнами. Некоторые уже видели этот фильм, но все равно все веселятся от души. Потом просят еще. Он показывает еще. Однако он не может оставаться здесь бесконечно, ему еще надо обойти другие таверны и заглянуть в тот шикарный ресторан, который он заметил на вершине холма, сверкающего огнями города.
Но ему не суждено совершить рейд по другим кабакам и ресторанам. Из этой таверны он прямиком отправится на борт «Кливленда».
— Почти как прежде, бывало, поили зеленых юнцов, и потом они просыпались с гудящей головой уже в открытом море на каком-нибудь паршивеньком китобойном суденышке.
(Только его не спаивали, и «Кливленд» оказался шикарным пароходом компании «Гамбург Американ лайн», и нашему путешественнику отвели лучшую каюту.)
— Мистер Чаплин?
Он только что закончил очередной показ.
— Мистер Чаплин?
Он оборачивается. Зажигается свет. Прямо перед ним — улыбающийся и восторженный капитан Польчинелли. Мгновенное замешательство, и капитан, очарованный, уже шепчет по-итальянски:
— Чарли Чаплин… Non posso crederci![26]
Капитан Польчинелли только что вошел. От него еще веет прохладой с улицы. Он отступает на шаг назад и кричит в дверь, оставшуюся незатворенной:
— Томмазо, иди-ка сюда, смотри, кто здесь у нас!
На пороге появляется другой офицер. Это бортовой комиссар «Кливленда» Томмазо Моразекки. Лицо комиссара Моразекки расплывается в детской улыбке:
— Чаплин? Чарли Чаплин? Ma non è vero![27]
— Guarda[28], guarda! — настаивает капитан. — Смотри! Смотри же!
12.
Здесь мы сделаем паузу.
Даже остановку.
Годы спустя, глядя на дно бесконечных пустых стаканов, выстраивающихся перед ним, лже-Чаплин подумает: «Если бы я обратил внимание на тон этих «guarda», особенного второго, я, вероятно, уловил бы нечто странное в намерении этих весельчаков и не остался бы на борту этого чертова корабля». И прибавит: «Никогда нельзя говорить, что ты не был предупрежден…»
Да… Да, это правда, если бы он более внимательно отнесся к тону и особенно к мимике обоих офицеров, он ни за что не поднялся бы на борт «Кливленда», и остаток его жизни не попал бы на эти страницы.
В тоне первого «guarda» следовало услышать: «Моразекки, присмотрись к этому типу, который пытается выдать себя за Чарли Чаплина». А во втором «guarda» — уточнение: «Что ж, если он хочет, чтобы мы принимали его за Чаплина, доставим ему это удовольствие, это даст нам лишнюю возможность повеселиться».
Другими словами, ни Польчинелли, ни Моразекки ни на секунду не поверили, что находятся в компании настоящего Чаплина; их восклицания «Non è verо, non posso crederci» (тоном, выражающим необычайное удивление, предназначенным для того, чтобы ввести в заблуждение самозванца) нужно было воспринимать буквально.
Все дело в тоне…
Слова — это всего лишь слова, ничто без умысла, кроющегося в тоне, который, собственно, и передает их смысл, покоящийся в темнице словарей. Нужно было бы быть всю свою юность пансионером, чтобы научиться понимать подобные вещи, или заключенным, избегающим подозрительного уха надсмотрщиков, или братом и сестрой, растущими в душной атмосфере семьи, ведущей замкнутый образ жизни, или врачом, вынужденным ежедневно сообщать новость, которую почти невозможно перенести, или, наконец, двумя дипломатами, или, скажем, моряками дальнего плавания, например Польчинелли и Моразекки, привыкшими скучать вместе в бесконечных салонах или в бескрайних горизонтах плещущихся волн.
Впрочем, не будем преувеличивать достоинства капитана и его бортового комиссара в том, что касается проницательности. Если они не поверили, что двойник был Чаплином, то только потому, что сразу приняли его за кого-то другого. Когда капитан воскликнут: «Томмазо, иди сюда, посмотри, кто здесь!», относительное местоимение «кто» — вернее, тон, который придал этому местоимению Польчинелли, более чем ясно передал привычному уху Моразекки, что оба они знали вновь прибывшего и что капитан был в восторге от этой встречи. Восторг, мгновенно разделенный бортовым комиссаром, когда тот в свою очередь как будто узнал этого человека, который, переодевшись, хотел выдать себя за Чаплина. (В самом деле, в тоне его «Ma non è vero» чувствовались нотки нежности, приписанной двойником эффекту всеобщего обожания, которое вызывал Чарли Чаплин.)
Вот такая путаница недопонимания.
Оба моряка, соответственно, тоже ошиблись. (Разделение заблуждения — один из недостатков настоящей дружбы.)
Но кого же Польчинелли и Моразекки узнали в двойнике?
Чтобы это понять, следует обратиться к их общей истории, вернуться на девять лет назад, в май 1913 года, когда «Кливленд» дрязгался в луже масла под свинцовым небом (поломка механизма уменьшила скорость судна вдвое) и пассажиры первого класса стали проявлять признаки неврастении, так что капитану пришлось встряхнуть своего бортового комиссара:
— Придумай же что-нибудь, чтобы их развлечь, черт побери, у них уже даже пропало желание надувать друг друга, смотри, они скоро начнут кидаться за борт!
В полном отчаянии Моразекки (интересно, существует ли до сих пор этот пост в морской иерархии: бортовой комиссар, амфитрион открытого моря?) отправился искать вдохновения на нижнюю палубу, к эмигрантам, и там, в адской жаре, в спертом воздухе, наполненном испарениями тел, затхлостью ассенизационных бочек, запахом промасленного железа и тухлого мяса, его ожидало феерическое зрелище.
Пара, танцующая танго.
Бесполезно описывать неописуемое.
Не найти фразы, столь невесомой.
С точки зрения хореографии девушка была так себе, но вот он,
он, парень…
думал про себя Моразекки, увлеченный странным собранием всевозможных типов зрителей, набившихся в этот трюм…
какой восторг в их взгляде!
счастье, объединившее столь разных людей!
нет, никогда еще им не приходилось видеть такого танцора, и никогда еще артисту не доставался лучший импресарио, чем эта толпа оборванцев…
— Это все равно как если бы он был выбран всем миром, — скажет Моразекки Польчинелли уже годы спустя, однажды вечером, когда скука в который раз вынудит их обсасывать небогатые воспоминания моряков.
Короче, комиссар пригласил юного тангиста, предложив ему шесть долларов в неделю, напялил на него смокинг (какая грация даже в этом одеянии пингвина!) и выпустил его прямешенько на танцевальную площадку первого класса.
От партнерш не было отбоя, и круиз получился незабываемым.
Да что там незабываемым…
Историческим!
…
Поскольку за десять последовавших лет привлекательный молодой человек, быстро сделав карьеру светского танцора, открыл свою лавочку на вершинах Голливуда и прославился на весь мир под именем Рудольфа Валентино.
Рудольф Валентино! «Шейх»! Абсолютная звезда мгновения. Таков был человек, которого два друга узнали в двойнике, переодевшемся в Чарли.
«Случай, — скажут некоторые, — случай…»
Скорее, роковое совпадение.
Невероятность?
Нет. Нет, если вернуться на страницу 26 (пятая глава первой части) этого рассказа и послушать внимательно, как Кэтрин Локридж, шотландская танцовщица, объявляет, что Мануэль Перейра да Понте Мартинс (а значит, и его двойник, хотя она и не знала о его существовании) похож на Рудольфа Валентино, «как две капли мутной воды в муранском стекле».
13.
Как я мог сам обо всем этом догадаться? (Это будет один из самых длинных монологов двойника, тирада, которую захотят слушать еще и еще; ему даже будут наполнять стакан, чтобы он опять завел свою шарманку.) Как я мог догадаться, что этот кретин Польчинелли с первого взгляда примет меня за Рудольфа Валентино? Перейра был на него похож? Но мне-то откуда было это знать! Я никогда не видел фильм Валентино — фокусы мидинеток! — а с выходом «Шейха» на всех своих фотографиях он стал появляться закутанным в арабские пеленки! Как я мог узнать Перейру под этим шикарным тряпьем? Нет, я никак не мог подумать, что два этих балбеса узнают Руди, солнце Голливуда, под моим париком Чарли и что тон двух этих «guarda» означал: «Внимание, Моразекки, смотри внимательнее, мой милый Томмазо, видишь этого парня, который хочет нас провести? Так вот, присмотрись повнимательнее, это вовсе не Чарли Чаплин, но даже лучше, это сам Валентино! Что, не узнаешь? Родольфо! Родольфо Пьетро Филиберто Рафаэлло Гульельми ди Валентина, тот самый Валентино! Говорю тебе, Руди собственной персоной! Тот самый парнишка с нижней палубы десять лет назад, тангиста, взлетевший на вершины Голливуда на белом коне, звезда, которую открыли мы с тобой, я и ты, в той навозной куче эмигрантов, Валентино, Шейх! Ну? Теперь узнаешь, комиссар? Как он попал, а?» И все это в тоне двух «guarda»? Вот именно… К тому же я понятия не имел, что Руди эмигрировал на борту того же «Кливленда»! Я не знал, что «Кливленд» оказался его лодкой спасения! А надо было бы знать еще и это!
14.
И потом, он слишком увлекся игрой, чтобы о чем-то подозревать, слишком обрадовался, когда эти два офицера приняли его за Чаплина, два образованных человека, привыкшие вращаться среди публики с верхней палубы, светские люди, которых просто так не проведешь. Их воодушевление подтверждало его талант актера, вот что он тогда подумал! И еще он очень обрадовался, услышав итальянскую речь, язык его юности. К тому же с этой своей бородой и курчавыми волосами, окружавшими со всех сторон его круглые очки, комиссар Моразекки уж очень напоминал ему старого цирюльника-гарибальдийца.
Итак, не задерживаясь на тоне двух «guarda», он простодушно протянул руку комиссару Моразекки и сказал на своем чистейшем итальянском:
— Guarda é toca, Tommaso, uomo di роса fede[29].
А тот не переставал трясти ему руку.
— Мистер Чаплин! Ко всему прочему, вы еще и по-итальянски говорите!
— По-итальянски, по-испански, по-португальски, на английском варианте английского и даже немного по-французски, когда требуется показать себя по-настоящему умным человеком.
15.
Это правда, ко всему прочему, я еще и по-итальянски с ними заговорил! Tommaso, иото di poca fede… Как только вспомню об этом… Как они, должно быть, переглянулись в тот момент! «Черт, а ты прав, Польчинелли, это Валентино, он говорит по-итальянски, да еще со своим бедняцким акцентом!» Да, я говорю по-итальянски с тем самым вшивым акцентом, поскольку мой цирюльник-гарибальдиец был родом из Апулии, как и Валентино, и как матушка Моразекки, девушка из Таранто! «Он говорит с нашим акцентом, это Руди! Его отец был из Кастелланаты!» — «А его мать была француженкой, так?» — «Точно, из Эльзаса». То-то, должно быть, они возликовали, стоило мне только отвернуться! «Но что он здесь делает в таком виде, переодевшись под Чаплина?» — «Поди узнай… Может, хочет доказать сам себе, что способен играть не только своих голубков пустыни…» — «Ладно, но почему именно Чаплин?» — «Потому что это комик! Потому что нет ничего более далекого для него! И еще потому что Чаплин — лучший! Потому что если тебе удастся это, сойти за Чаплина, когда ты Валентино, ты сможешь сыграть все на свете!» И потом, немного погодя, представляю себе их идиотские предположения… «И еще неприятности в любви, его только что бросила Рамбова, а это как-никак уже вторая его жена! Подумай, как такая звезда, как Валентино, может на это отреагировать?» — «Постой, постой, а Пола Негри, кажется, уже что-то поговаривали о Поле Негри? Я думал, он утешился в объятиях Полы Негри…» — «Пола Негри, Пола Негри… Слушай, так это ведь бывшая Чаплина, Пола Негри, так?» — «Да, да! „Самый мрачный из комиков“ — вот что она о нем говорила». — «Ах вот в чей огород камешек! Значит, Валентино хочет обставить Чаплина?» Боже мой, я так и слышу всю эту их болтовню… всю эту журнальную чушь. Просто-напросто они дохнут со скуки, эти моряки. Вы видели когда-нибудь океан? Хлопковое поле, которое покрывало бы две трети земной поверхности! Бороздить эти бескрайние пространства туда-сюда — и так всю жизнь… Так, оставаясь на борту корабля, можно дойти до чего угодно. Во всяком случае, я не могу слишком на него сердиться, на этого Моразекки; просто это была прекрасная возможность позабавить народ. Ни один бортовой комиссар не устоял бы перед таким соблазном: «Дамы и господа, прошу внимания, у нас на борту находится Рудольф Валентино, но по личным причинам он предпочитает выдавать себя за Чарли Чаплина. Я рассчитываю на вашу деликатность и надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к этой причуде и не раскроете его инкогнито. Делайте вид, что ни о чем не догадываетесь, от этого наше путешествие только выиграет!»
16.
Итак, все делают вид, что принимают его за Чаплина. Его приглашают за столик. Старший матрос и офицер машинного отделения присоединяются. Украдкой перемигиваются. Спрашивают его, что он здесь делает, в этом порту, вдали от дома, мистер Чаплин. Он отвечает, что после своего недавнего триумфа в Европе — этой «чрезмерной славы» — он испытал потребность «очиститься», отправившись в небольшое южноамериканское турне, вот так, инкогнито, он устремился внутрь, в глубинку, где его еще совсем не знали, туда, куда еще не добрался кинематограф, что он только что вновь пережил свои первые впечатления, вызванные открытием «танцующих картинок». Знают ли они, где находится Терезина? Нет? Представьте себе, там кинематограф запрещен! Он рассказывает о своем обратном пути, своем «внутреннем каботаже», своих посещениях богаделен, казарм, приютов, тюрем, об эмоциях людей, находящихся в этих закрытых учреждениях — кинематограф в его первые дни! Но вот передышка окончена, теперь он должен возвращаться домой, его ждет работа — серия важных съемок для Ассоциации актеров. Правда? Он возвращается? Каким пароходом? Он еще не выбрал. В таком случае, почему бы не нашим, мы едем в Нью-Йорк, вы бы оказали нам такую честь, не говорите нет, мистер Чаплин, королевская каюта, проезд бесплатно, само собой разумеется… Ну что ж, с удовольствием, только… Ну да! Да! Ну же, синьор Чаплин, venga con noi, la prego![30] И когда же? Завтра, завтра мы снимаемся с якоря. Конечно, соблазнительно, соблазнительное решение — «Кливленд», только у него будет одно условие, sine qua поп[31]. Какое же? Секретность, конечно! И абсолютная! Что станет с двойником, которого я оставил в США, если повсюду будут рассказывать, что Чаплин, настоящий, прохлаждается на борту парохода «Гамбург Американ лайн», в то время как все полагают, что он заперся у себя для обдумывания новых проектов, а? Что подумают мои друзья из Ассоциации актеров и спонсоры-банкиры? Разрыв контракта, суд, выплата неустойки! Не может быть и речи о том, чтобы эта новость просочилась за пределы бортовых канатов, даже рыбы ничего не должны знать! Это должно остаться между «Кливлендом» и мной. Только мой брат Сидней в курсе моего побега, только Сидней, и даже он не знает точной даты, когда я должен вернуться, я рассчитываю сделать ему сюрприз! Что до нескромности, синьор Чаплин, можете не волноваться, никакой опасности! Можете рассчитывать на нас, маэстро, ты лично за это отвечаешь, Томмазо, держи рот на замке, договорились? Будешь отвечать своими нашивками комиссара!
…
Вот так.
До следующих событий.
17.
Путешествие было в том же духе. Те же истории вечером, за столом комиссара Моразекки, конечно, со многими подробностями, в океане ужины обычно затягиваются, а запах женских духов подхлестывает болтливый язык. Как истинно светский человек, Моразекки не уставал надувать паруса двойника, как только его рассказ начинал увядать. Сколько раз он просил его повторить историю о сеансе без электричества в поселке кабокло, например?
— А! Они повеселились от души!
А он, естественно, все накручивал и накручивал эту историю: «Какое удовольствие доставили мне эти полудикие люди, те, которые даже не знали, кто я такой, признав во мне актера! Попросту своим смехом! Это было похоже на второе рождение! Я был торжественно наречен Оригинальным человеком!»
До конца своих дней он не забудет разглагольствований за этим круглым столом:
— Уж если говорить, что я посетил глубинку, так это уж точно, углубился дальше некуда!
Вот так они и проходили, эти вечера на «Кливленде»: вышивка по глади океана. С какой непосредственностью он отвечал на вопросы, которые задавали ему дамы. Непосредственностью, которую трудно переоценить, поскольку это мир, в котором в вопрос уже вежливо вкладывают то, что хотели бы услышать в ответе… (Он сам вычитал эти ответы в журналах, по которым и узнал этот мир.) «Правда ли, господин Чаплин, что в детстве вам довелось узнать, что такое приют?» — «Да, в Лондоне, во время болезни моей матушки…» Моряков это иногда раздражало: «И что, будучи истым англичанином, вы все-таки избежали войны?» Он открыто смеялся в ответ, но глаза его оставались грустными: «Завернули! Ростом не вышел! Господь не наделил меня таким ростом, который, не сомневаюсь, помог вам стать героем». Он склонял весельчаков, и особенно женский пол, на свою сторону. Вереницы утонченных глупостей. Иногда он готов был пустить слезу, и в эти моменты чрезмерного волнения всегда появлялась чья-нибудь грациозная ручка, чтобы утешающе коснуться его руки.
— Боже мой… Когда я думаю об этом… Ох-ох-ох…
Дни проходили в три этапа. Утром — каюта, долгое пробуждение, завтрак принца; днем — киносеансы на нижней палубе, где скапливались кандидаты в иммигранты.
— И, поверьте мне, показ «Иммигранта» иммигрантам останется для меня незабываемым воспоминанием, несмотря на все то, что последовало!
Потом наступал вечер. Смокинг, мартини, ужин, бренди и первая половина ночи — танго. Пары волной окружали его, чтобы посмотреть, как он танцует. Он благословлял Перейру за то, что тот сделал из него тангиста, которому не было равных. И сам он не жалел о том, что измотал своего собственного двойника, пока тот наконец не выучился следовать точно за его шагами. Он танцевал, как король.
— Это восхищение моим танго, это тоже должно было послужить сигналом… Только вот в жизни сигналов предостаточно, да ключ к ним не всегда найдется.
Пары окружали танцплощадку, как только он туда выходил, держа в объятиях партнершу. Он думал, что им восхищаются как танцором. Эта иллюзия, естественно, окрылила его. («Впрочем, мною также восхищались как танцором; ведь это был я, я танцевал, а не Валентино!») «Музыка ведет тангиста, — объяснял ему Перейра, — особенно если это танго!» (Месяцы напролет он тренировался под придирчивым взглядом Перейры.) «Без музыки ты можешь обойтись, а вот без взгляда — нет. Давай сначала!» (И он начинал все сначала.) «Настоящий танцевальный круг — это взгляд того, кто не танцует, выпученные глаза тех, кого ты обескураживаешь своим мастерством. Пошел снова, болван, эдак ты и безногого калеку не смутишь!» (Ох уж этот Перейра…) «Я хочу, чтобы ты пригвоздил их к своим стульям, слышишь?» О, в этом можете не сомневаться, они сидели как приклеенные! Вне всякого сомнения, Перейра сделал из него вице-короля танго. Он один танцевал в безбрежном океане, держа в объятиях женщину, и каждый раз ему казалось, что она самая красивая на свете!
Красота женщин — это уже была другая сторона вопроса. Он теперь был не в Терезине. Он уже не был псевдопрезидентом, повенчанным со своим народом. С обетом целомудрия было покончено. Он уже не собирался довольствоваться почетной миссией открывать бал, прежде чем отправиться спать в одиночестве в своей президентской постели. В течение этих лет под знаком Перейры он был охвачен запахом женщин, не смея коснуться ни одной из них. Во всяком случае, ни одной из тех, кого он мог назвать «настоящей женщиной». Что до остальных, то с этими он не церемонился: он побывал почти во всех борделях самых глухих деревень, «элементарное правило гигиены», как называл это Мануэль Калладо Креспо. Но что касается «настоящих женщин», женщин, которые танцуют и от которых пахнет духами, женщин в вечерних платьях, женщин с драгоценными украшениями, женщин с белыми руками, покатыми плечами, гибкой спиной, женщин с шелковой кожей на ляжках и мягким животом, женщин, гордо несущих свое декольте, женщин волнующихся и переливающихся, женщин с бархатистой кожей, женщин с полными губами, с щечками, нежными, как розовые лепестки, с гладким лбом, со взглядом одновременно целомудренным и опытным, всех тех, которых едва слышно, которые никогда не повышают тона, женщин президентской касты, нет, о таких он и не помышлял. Он безоговорочно следовал предписаниям Перейры от и до. Его одурманивал запах их духов, его руки танцора ночи напролет хранили обещания их волнующихся бедер, с высоты своей президентской ложи он заглядывался на их декольте, ощупывал взглядом их формы, но не больше. Честное слово!
Так вот, времена переменились.
Кончено.
И он получил подтверждение этому в первый же вечер, когда уже было довольно поздно, он услышал, как кто-то тихонько царапается в его дверь, и вот первая партнерша проникла к нему в каюту, прильнула к нему, сбросив свои шелка, и их обнаженные тела слились, обдаваемые прохладой из приоткрытого иллюминатора…
Однако из-за переполнявших его эмоций…
как он попытался себе объяснить,
а может быть, из-за того, что его застали врасплох,
из-за того, что он никак такого не ожидал…
Словом, в эту ночь он остался невинен как младенец.
…
Он сослался на усталость после столь долго скитания по глубинке, на то, что ему нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя… Чтобы она, главное, не беспокоилась, она здесь совершенно ни при чем, это из-за него, он просто вымотался. Он вежливо выпроводил ее, и когда она, добравшись до конца коридора, грустно обернулась, он послал ей прощальное «прости» едва заметным движением кончиков пальцев.
…
Проснулся он со стыдом, известным лишь мужчинам, и весь день избегал встречаться взглядом со своей партнершей. К счастью, на следующую ночь уже не она царапалась в дверь его каюты, но другая избранная. К несчастью, результат оказался таким же. И так далее, из ночи в ночь, каждый раз новая желанная, но опять-таки фиаско за фиаско. Зато он отыгрывался днем, у эмигрантов, когда, дав на лапу караульному, он трахался как чумной, по темным углам, со злобной жадностью мартовского кота. Так что почти ежедневно он оставлял на нижней палубе какую-нибудь девушку, всю в слезах, изнасилованную хищным богом, чтобы потом, ночью, рыдать над собственным унижением.
— Перейра держал меня за яйца!
«Не смей трогать женщин моей касты, иначе сделаю тебя кастратом».
— Стоит только раз поверить в подобную угрозу, и все…
Чем больше он пережевывал свои мысли в обнаженных объятиях «настоящих женщин», тем быстрее жизненная сила покидала его в самый ответственный момент: вялый, как тряпка.
— Это Перейра не давал встать моему мальчику! Другого объяснения мне не найти. Я от этого так и не избавился.
Каждой из своих новых поклонниц он давал иное объяснение, всегда, впрочем, вызывавшее жалость: усталость, эмоции, поразительная красота претендентки, верность его собственной жене, бренди, сниженный тонус, неизгладимое воспоминание о его матушке…
При этом он продолжал покорять сердца на танцевальной площадке и мутить воду за круглым столом. Подбадриваемый Моразекки, он уже начал говорить, что после этого южноамериканского опыта он собирался отправиться в Африку. Да, как-нибудь он сбежит именно туда; со своим кинопроектором «Мотиограф» за спиной и бобинами пленок под мышкой он отправится в Африку, инкогнито! Он будет показывать свои фильмы кафрам и зулусам! «Не исключено, что я воспользуюсь этим, чтобы цивилизовать парочку буров…»
— Я был по-настоящему… можно сказать, что я был… в общем…
Но что вы хотите, он был взволнован. «Настоящие женщины» таяли, слушая его побасенки. Их взгляды открывали ему сердце влажное, горячее, тенистое, трепещущее, мягкое, благословенное и глубокое, как эдем. И ни разу он не смог туда проникнуть.
— Я так и стоял, как проклятый, перед открытыми вратами рая.
Отступление жизни в нем в такие моменты… И именно в нем, в котором так сильно было желание стать кем-то!
— Я больше не существовал.
Одна из «настоящих женщин» растрогалась однажды вечером, когда он разрыдался при ней. Она обняла его голову руками и притянула к себе на грудь (а грудь у нее была такая белая, такая упругая, такая нежная, такая теплая в самой ложбинке, столь походившая на его мечты о женской груди!), она запустила пальцы ему в волосы и долго гладила, пока не утихло это оглушающее отчаяние, а потом, когда он немного успокоился, когда смог наконец расслышать ее, она сказала:
— Это ничего, Руди, такое случается и с самыми лучшими…
18.
— Руди…
До конца своих дней он будет проговаривать про себя это имя, будто оно все время оказывалось на дне его стакана.
— Когда первая назвала меня Руди, я не обратил внимания, я подумал, что это был какой-то ее Руди или просто она оговорилась.
— …
А потом была вторая: «Не беспокойся, Руди, я с тобой».
— Этой я уже вынужден был сказать: «Руди?», со знаком вопроса. Она посмотрела на меня с таким видом, который иногда бывает у них, когда они едва знакомы с человеком и этим взглядом хотели бы наверстать те годы, которые они не прожили вместе. Она приставила палец к моим губам и прошептала: «Я знаю, знаю, я никому не скажу…»
— …
— Если бы я хоть знал, кто был этот Руди, я бы вскочил в спасательную шлюпку и смотал удочки.
19.
Когда я думаю… Когда я думаю, что хотел затащить их к себе в постель… Это они меня сделали, да! Сняли, обстругали и разделали на кусочки, чтобы каждому досталось! Какой сочный фрукт! Не толкайтесь, не толкайтесь, Руди на всех хватит, каждой достанется! Что-то вроде вещевой лотереи. Они, должно быть, тянули жребий. Они накидывались на жетоны, почти каждый вечер кому-нибудь выпадал шанс отыграться за нижнюю палубу. Благодаря Моразекки настоящие женщины поверили, что свели знакомство с Рудольфом Валентино, прыгая ко мне в постель! Валентино! Сначала действовали обаянием. Потом настала очередь проверки. Они заставили меня пройти медицинское обследование, меня, звезду из звезд. Подумать только, и даже это не навело меня на размышления! Потому что, в конце концов, хороший танцор танго, даже если он выдает себя за Чарли Чаплина, может затащить к себе в постель, скажем… двух-трех женщин первого класса, ну дюжину, наконец. Но не всех же! Всех — никогда! Для того чтобы иметь всех, потребовалось бы согласие мужей! А в то время, чтобы подобное прошло, нужно было быть никем иным, как Валентино. Это был архангел Голливуда, Рудольф Валентино, светило над всеми звездами! Они видели его танцующим на всех экранах: в «Алимони», в «Четырех всадниках Апокалипсиса», в «Даме с камелиями»; Руди олицетворял собой танго! И вместе с тем — открытое сердце на ладони! Потому что все они знали, что Руди был несчастным мужем Джин Экер, сбежавшей на следующий же день после свадьбы, и что его вторая супруга, Рамбова, тоже покинула ринг после первого же раунда. Они все были готовы утешить его, еще бы! Нужно было слышать, как люди говорили о Валентино в то время. О Фербенксе говорили: «Ах! Как он красив, как весел, какая сила. Какая жизненная мощь!» Те, кто общался с ним ближе, добавляли: «И какой классный парень, если бы вы знали!» О Чаплине говорили: «Какой ум! Какой делец! И в то же время какой гуманист!» О Валентино ничего не говорили; глядя на его фото, только и могли, что прошептать: «Посмотрите. Это он». И не было ни одной женщины в мире — в целом мире, вы слышите! — которая бы переспросила: «Кто — он?»
Они давно созрели, чтобы его узнать, как же! И они узнали его! Во мне, черт бы их! Во мне!
О! Руди…
Они думали, что достали солнце с неба, и оказывались в постели с потухшей звездой…
В конечном счете, именно из-за этого мне стыдно больше всего. Потому что, если вдуматься, то вовсе не эти две фиговы свадьбы составили ему репутацию импотента, это моя вина!
Как только мы пристали к берегу, весть о его бессилии разлетелась мгновенно.
По моей вине.
И по всему свету.
Голливуд помог…
И это вконец испортило ему жизнь.
Но что я мог поделать?
…
А если я ничего не мог поделать, то откуда у меня это впечатление, что я не сделал то, что мог бы сделать?
20.
— О! Руди…
Все же со временем все приедается; по прошествии многих лет уже никто не прислушивается к его монологам в барах, где он все пережевывает одно и то же, в то время как Рудольф Валентино давно лежит в могиле, да и сам он уже стоит на пороге того света… Подбирают крохи… Выживший из ума старик, принимающий себя за Чаплина или за почившего Шейха Валентино… Или же, напротив, желающий, чтобы его не принимали ни за того, ни за другого. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он жаловался, просто он все ходит вокруг да около, все пережевывает одно и то же, как человек, которому преподнесли такой сюрприз, что он до сих пор не может опомниться. И когда он плачет, он плачет не по себе, но по потерянной чести Рудольфа Валентино.
Он все повторяет и повторяет без конца:
— И все оттого, что Валентино был похож на Перейру…
И лед успевает растаять у него в стакане.
21.
Убежденный в том, что его принимают за Чаплина, с удвоенным рвением оттачивая свою имитацию, он ни о чем не подозревал до самого окончания плавания. Он был слишком занят своими неудачами с «настоящими женщинами», своей местью на нижней палубе, своим блеском на танцплощадке и рисованием в своем воображении величественной картины собственного будущего. Он говорил себе, что после такой актерской практики (годы в шкуре Перейры и целое плавание под видом Чаплина, не вызывая ни у кого ни малейшего сомнения) ему будет под силу сыграть любую роль, какую только можно себе вообразить; Голливуд не сможет отказаться от столь универсального таланта. Он будет играть все, поскольку он умел играть все! Раз и навсегда он станет актером на века! Стать и восстановить свою попранную мужественность. Стать и заставить малыша стоять на должной высоте! Это был поединок между ним и Перейрой. И до того он себя накрутил, что однажды ночью ему даже приснился фильм об этом. («О! Боже мой, я прекрасно помню этот сон».) Ему снилось, что он снимает свою собственную историю; историю неизвестного цирюльника («меня»), невинного двойника сумасшедшего диктатора («Перейры»), которому, впрочем, удается избежать его влияния, превратившись в гениального актера. Двойник становится звездой на небосклоне Голливуда, а диктатор кончает свои дни растерзанным толпой в сверкающей пыли на площади, круглой, как арена.
Проснувшись, он решил принять сон как руководство к действию: он снимет этот фильм! Он сам напишет сценарий, сам будет снимать, сам будет играть двух главных героев, для пущего самоутверждения, сам будет продюсером и распространит этот фильм по всему свету. На какие деньги? Естественно, с помощью того состояния, которое он себе заработает как актер, конечно же, снимаясь у самых именитых: Гриффита, Уолша, Флеминга, Капры, Любича, может, и у самого Чаплина, изысканного цветка Голливуда!
Его фильм не только будет пользоваться всемирным успехом, но станет шедевром кинематографа на века! Надо было срочно придумать подходящее название.
Итак…
Название…
А почему бы просто не назвать его «Стать»?
«Стать»?
Может быть…
Как это может быть? «Стать»? Великолепно! Разве можно найти более американское название? Более голливудское?
«СТАТЬ».
Принято.
«Стать», фильм, который разнес бы в щепки кассы и превратил бы в импотента президента Мануэля Перейру да Понте Мартинса!
— Самым большим успехом за столом Моразекки стал сценарий этого фильма! Я рассказывал им каждый вечер по одному эпизоду, прежде чем распустить их по каютам. Это была история моей жизни, и они все восхищенно восклицали: «Какое воображение! Нет, но какое богатое воображение! Откуда вы все это берете?»
22.
Итак, именно с этим твердым намерением «стать» одним прекрасным утром он увидел Манхэттен, который раскрывал ему свои туманные объятия, и статую Свободы, выросшую из волн, чтобы встретить его лично.
— Честно говоря, больше всего меня поразила тишина. Можно было подумать, что корабль скользит по оцепенению.
А затем — крики с нижней палубы («Нью-Йорк!»), слившиеся с гулом сирен, грохочущие «ура!» мечты, близкой к своему воплощению, объятия, спешные приготовления, медленное причаливание «Кливленда» и бесконечная высадка пассажиров, вновь окунавшихся в молчание; сам он провел этот день в своей каюте — капитан Польчинелли посоветовал ему дождаться вечера — не следовало разглашать тайны — пока пароход опустеет и приедет лимузин, который Моразекки счел необходимым предоставить в его распоряжение: «Вам надо будет лишь указать шоферу выбранное вами направление, мы гарантируем вам, что он не будет болтать».
Итак, с наступлением ночи он последним спускается по трапу. Моразекки и Польчинелли, облокотившись на бортовые коечные сетки, машут ему на прощание. Они все не переставали рассыпаться в благодарностях: его присутствие на судне сделало путешествие незабываемым, спасибо, спасибо, комиссар и капитан не знают, как выразить ему свою признательность. Он снисходительно похлопывает их по плечу: «Ну, ну, не нужно этих излияний. Это было б уж слишком… И потом, мы скоро встретимся, я не премину порекомендовать «Кливленд» Фербенксам».
Теперь он спускается… Длинная перспектива трапа ныряет вниз, к самой машине с переливающейся крышей, он спускается в гул города; он думает, какое направление назвать шоферу, которому уже передали его багаж и который ждет его на пристани, стоя возле дверцы машины, сняв фуражку. Он спускается и с бьющимся сердцем погружается в смешанный запах нефти, дремлющего океана, промасленного железа и снастей, мокрых камней и начинающей просыпаться природы. Нью-Йорк! Он здесь! Америка, родина кинематографа, ему это удалось! Так ловко обойти стороной иммиграционные службы! Он оборачивается, последнее «прощай» капитану и бортовому комиссару, которых он едва различает в сумраке палубы, на фоне неба цвета поблекших чернил, в то время как голос шофера желает ему доброго вечера, а дверца бесшумно открывается, высвобождая запах дорогой кожи и французского табака.
Он садится, все еще думая (он уже на грани истерики), какое направление указать шоферу, и вдруг обнаруживает, что он не один в этом салоне лимузина.
Здесь Перейра и еще Чарли Чаплин — на этот раз настоящий.
Садится.
Машина трогается.
23.
Он был так шокирован, что продолжал видеть все это во сне до конца своей жизни. Перейра и Чаплин! До самой своей последней ночи он будет просыпаться, вырванный из сна клещами этого кошмара: Перейра и Чаплин, ожидающие его в салоне той машины в вечер его прибытия в Нью-Йорк!
Машина покинула порт. Мануэль Перейра да Понте Мартинс и Чарли Чаплин болтали друг с другом, не обращая на него никакого внимания, «как будто я умер». Машина объезжает длинный парк, темный, как страх ребенка. Ему хочется сойти. Спрыгнуть на ходу. Но нет, естественно, дверца заперта.
Даже когда он все потеряет, даже когда единственным его прибежищем станет улица, он все равно будет просыпаться с колотящимся сердцем, с крайним облегчением вновь обретая свою нищету, в упаковочных коробках, укрывающих его от непогоды, со старыми газетами, спасающими его от холода, в том тупике, где он обрел пристанище, свое решительное одиночество… Успокойся, это ведь был не Перейра, вспомни, это был не Перейра! Это правда, то был не Перейра. Так, хорошо, это был не Перейра. И тем не менее ночь за ночью кошмар будет повторяться.
— Чего же вы хотите, когда вы уже окончательно проиграли партию, когда вам остаются одни лишь кошмары, поневоле начинаешь привязываться к ним. Этот я переживал единственно из удовольствия наконец просыпаться.
— Так это был не Перейра?
— Нет, конечно, это был Валентино.
— …
— …
— Нет, кроме шуток?
24.
— Да, правда, черт! Чаплин и Валентино ожидали меня у трапа парохода! У меня масса подробностей, я могу…
Марка машины, «обустроенной, как салон старой шлюхи», марка их костюмов, шляп, французские сигареты Валентино, английские туфли Чаплина, перчатки пекари у них обоих, тема их разговора, «они говорили о кино, Валентино хотел перейти к режиссерской деятельности», имя шофера, его белый плащ с черным бархатным воротником…
(Почти список художника-декоратора, который обходит площадку с записной книжкой в руке, чтобы удостовериться, что все на своих местах и соответствует эпохе.)
Он будет часами вспоминать все до мельчайшей детали, возводя их в ранг неоспоримых доказательств! Никто даже не попытается ему поверить. Ему лишь щекочут нервы, чтобы посмеяться:
— Ну, давай еще раз про Чаплина и Валентино!
За последний стакан.
— Что меня больше всего сначала потрясло, когда я понял, что это был не Перейра, а Валентино, это то, насколько Валентино отличался от Перейры. При этом один бог знает, как они были похожи! Вплоть до манеры держать мундштук. Однако Валентино — это был тот же Перейра, только с душой: это разнило их невероятно! Природа иногда выделывает такие фокусы… Вы знаете, что он был святой, этот Валентино, вы знали об этом?
Здесь больше уже никто не понимает, что он говорит, это несхожее сходство — слишком высокая планка для этих голов.
— Ты что-то начинаешь мудрить.
— Потому что это правда.
25.
В машине, которая покидает порт («и на сей раз это уже не сон»), Чаплин слегка журит Валентино. Он обращается к нему как старший брат. Обе звезды говорят о кино. Очевидно, Валентино хочет перейти к режиссерской деятельности. Он, вероятно, только что рассказал свой сценарий Чаплину и несколько взбудоражен, его глаза все еще увлеченно блестят. Он спрашивает у Чарли, что тот думает о его сюжете. «Гордон, вы знаете, отзывался с большим энтузиазмом!» — «Дело не в этом, — терпеливо отвечает Чаплин, — все банкиры мира найдут ваши сюжеты сногсшибательными, Руди». Старший брат преподносит урок реализма подмастерью. «Встав по другую сторону от камеры, вы спуститесь с Олимпа, вы выйдете непосредственно на арену». Чаплин говорит тихим, но уверенным голосом, немного в нос: «Прокуроры ждут нас на земле, Руди». Он говорит со знанием дела: «Не стоит слепо доверять банкирам, особенно Гордону, я имел с ним дело во время съемок, Малыша“». Чаплин категоричен: «Фильмы не снимаются на Уолл-стрит». И еще: «Инвесторы всегда выслушают вас с симпатией, особенно вас, Руди, однако в конце концов они убедят вас, что хорошие идеи хранятся только в выдвижных ящиках-кассах. Вздор!» Голос Чаплина начинает вибрировать: «Не позволяйте ничего вам навязывать: ни сюжеты, ни актеров, ни даже последнего помощника в технической команде». Пауза. «Если все же вы хотите создать что-то стоящее, естественно… Скажите, Родольфо, вы в самом деле хотите сделать нечто стоящее?»
Сейчас ночь уже совсем спустилась на город. Машина едет вдоль парка Баттэри. «А Пола?» Чаплин спрашивает у Валентино, что Пола Негри думает о его желании перейти к съемкам. «Что думает обо всем этом Пола?» Валентино уходит от прямого ответа: «Кто знает, что думают женщины?»
26.
В другой версии он рассказывает ту же историю немного иначе. Он сходит с корабля, садится в машину, Чаплин с Валентино уже там, они ведут разговор как ни в чем не бывало; но тема их беседы несколько иная. В машине, которая едет своим путем (и которая в этот раз также едет вдоль парка Баттэри), Чаплин рассказывает о конкурсе, устроенном несколькими годами раньше, конкурсе двойников на национальном уровне. Там должны были выбрать лучшего двойника Чарли. Десятки кандидатов съехались туда со всех штатов, со своими костюмами, тросточками, башмаками, приклеенными усиками… Отборочные испытания состоялись в Санта-Монике, а финал — здесь, на Бродвее.
И Чаплин подводит итог, без всякого смеха:
— Я был третьим.
…
(«В последний раз ты нам говорил, что Чаплин объявил, что он оказался шестым». — «Шестым, третьим, какая разница? Почему никто никогда не видит, где самое существенное в этой истории?»)
27.
Машина ехала вдоль парка Баттэри. Внезапно нахлынувшая пышная зелень задавила его. Терезина не могла сообщить ему того, что природа порой бывает до такой степени растительной. Он решил сбежать, пока Чаплин и Валентино увлечены разговором. Америка — страна большая, его пришлось бы разыскивать целый век, нырни он в густую ночь этого парка. Он незаметно потянулся к хромированной ручке дверцы. Потом дождался замедления хода и остановки на перекрестке.
Но нет, дверца, к несчастью, оказалась закрыта.
Именно в этот момент Чаплин обратился к нему.
— Итак?
— …
— Кто вы такой?
— …
— Раз вы не являетесь ни Валентино, ни мной, кто вы? Или скорее (поскольку вопрос о его личности стоял на втором плане), кто вам платит?
Не давая ему времени ответить, Чаплин ринулся перечислять имена тех, кого он считал способным нанять паяца, чтобы навредить им, ему и Валентино: обойденные банкиры, конкурирующие продюсеры, отставленные женщины, завистливые актеры — разнородное собрание всех, кто хотел бы взять реванш, хроникеры, стряпающие газетную утку, а также друзья-шутники (в Голливуде никогда не знаешь, чего ждать, с тем же Дугласом, например, или с этим чокнутым Фатти, невозможно предугадать, какие фокусы могли прийти им на ум). Кто? Кто воспользовался отъездом Руди в Фэлкон Лэер, чтобы заставить поверить, будто он на «Кливленде», переодетый в Чаплина? Кто вздумал позабавиться, наняв продажного клоуна? И кто впутал сюда «Чикаго трибьюн»?
— Кто?
28.
— Потому что — и этого я тоже не мог знать! — на борту «Кливленда» находился редактор «Чикаго трибьюн», тот, кто хотел запятнать Руди, немного позже, после выхода «Сына шейха». Вы помните эту бумажонку, нет? «Почему никто не захотел утопить Руди еще несколько лет назад? Тогда бы мы избежали его импорта в Соединенные Штаты». Слово в слово. «Родольфо Гульельми, он же Рудольф Валентино, который никогда не выходит на улицу без своей пудреницы. Homo americanus, милочка!..» И тому подобные антиитальянские мерзости. Они дошли до того, что стали бесплатно раздавать экземпляры газеты при выходе из Театра Марка Стрэнда, в вечер премьеры. Так вот, этот тип, этот журналист находился тогда на борту «Кливленда». Валентино, переодетый в Чаплина — еще бы ему не воспользоваться такой удачей! (Здесь он протягивает свой стакан. И ему его, естественно, наполняют.) Тем более что Чаплин тоже числился в их черном списке: англичанин, не желавший принимать американское гражданство! И этот подбирала подбрасывает новостишку своей редакции. Главред тут же связывается с Чаплином, во-первых, чтобы проверить, а во-вторых, чтобы покруче заварить кашу: «Мне тут сообщили, что Валентино открыто смеется над вами на борту какой-то лодчонки «Гамбург Американ лайн». Чаплин, естественно, бросается к телефону и звонит Джорджу Ульману, импресарио Валентино. Ульман как с неба свалился: «Руди в море? Но он же сейчас в Фэлкон Лэер! Чарли, вы же знаете, эти его приступы одиночества!» — «Джордж, я в это поверю, только когда увижу его». — «Где вы сейчас, Чарли? Я передам ему, чтобы он вам позвонил». — «Этого недостаточно. Я желаю видеть его собственными глазами». Короче, Валентино и Чаплин встречаются и посылают общую телеграмму в редакцию «Чикаго трибьюн», чтобы они заткнули пасть своей шавке на «Кливленде». После этого они телеграфируют Польчинелли, чтобы он пригляделся ко мне хорошенько. Если он и Моразекки дорожат своими нашивками, в их интересах пресечь всяческие слухи, объяснив своим пассажирам, что я не являюсь ни Валентино, ни Чаплином. И пусть все заткнутся, а то уже в воздухе запахло судебным процессом. Что касается меня, то пусть позволят мне валять дурака как ни в чем не бывало, а по прибытии сдадут меня им, не предупреждая ни о чем полицию. Меня будет ждать машина.
29.
И вот теперь на заднем сиденье этой машины сверлящие глаза Чаплина пригвоздили его к спинке кресла:
— Итак, кто вам платит?
— Никто.
— То есть?
— …
— …
Ему пришлось объяснить им, что не только никто ему не платил, но и сам он был пока никем. К своему собственному удивлению, он вот так, с места в карьер, начал прямо перед ними «разрабатывать сценарий, который должен был бы зажечь кинематографическое воображение Чаплина и Валентино». Он стал рассказывать им, несомый нахлынувшим потоком идей и исторической правды, трагедию кочующего кинооператора, задержанного и казненного в Терезине. То была неплохая мысль: Чаплин вспомнил о том парнишке, который ушел из «Мютюэль фильм корпорэйшн», захватив с собой «Мотиограф 1908» и дюжину его фильмов — как, бишь, его звали-то? — превосходный был оператор, да, латиноамериканец, да, раздувший однажды большой скандал у Кофилда, который предупредил всех шерифов региона («все-таки 216 долларов, Мотиограф“-то!»).
— Это было как раз перед моим уходом из Первой национальной, — вспоминал Чаплин. — Так он, значит, отправился в Латинскую Америку? Он был прав: «It will be mailed to you absolutely free»[32] — гласил рекламный лозунг «Мотиографа»… Так где вы его встретили?
— В Терезине.
Он рассказал им, что оператор скончался у него в доме, преследуемый политотделом полиции, где его приняли за опасного пропагандиста.
— Я же был никем, каким-то никому не известным цирюльником, и им бы и остался, если бы этот человек, этот оператор, погибший под пытками, не умер у меня на руках.
У него не хватило духу отдать его на растерзание этим костоправам. О, вовсе не из политической заносчивости, нет, в Терезине, если вы не хотели кончить пригвожденным за ноги к столбу на центральной площади, вы не совались в политику. Только вот когда умирающий показал ему «Иммигранта», «первый фильм, который я когда-либо видел в своей жизни, кинематограф стал моей религией!» Он, которого иезуит в детстве готовил Богу, а цирюльник-гарибальдиец в юности прочил революции, он, обретя свою истину, посвятил себя кинематографу. И вот кинооператор — «ангел моего Благовещения!» — прежде чем испустить последнее дыхание у него на руках, стал умолять его отправиться в его родной поселок, найти его жену с детишками, отдать им немного денег, которые ему удалось заработать для них… Именно это он и сделал, представьте себе, он сложил свои инструменты цирюльника, закрыл лавочку, взял свой посох странника, пересек плавящийся континент, отыскал поселок оператора, убогую землянку, женщину с детьми, из которых один еще грудничок (он заметил in extremis[33], что этот последний никак не мог быть от оператора, «дело в сроках», но Чаплин и Валентино, казалось, были тронуты этой картиной голодного младенца, прильнувшего губами к истощенной груди. «Тогда я быстро поправился, сказав, что ребенок был последним сыном Долорес, сестры оператора, которая накануне умерла от тифа»), он подробно описал вспухшие животы остальных детей, выступающие ребра кормящей матери, земляной пол хибары, знойное молчание солнца и затем перешел к «заливистому смеху на тысячи тонов», который ему все-таки удалось вызвать у них, когда он стал показывать им «Иммигранта», при этом он не преминул заметить, что по достоинству оценил магию кино и гений сеньора Чаплина, которому удалось насытить голодных, всего лишь «заставив плясать тарелки у них на глазах!» Именно кино сеньора Чаплина оказывалось «пищей для души, которая удовлетворяла и аппетит тела!»
— Я никогда еще не говорил с таким воодушевлением. Даже за столом Моразекки!
Представьте себе его ошеломление, когда Чаплин бесцеремонно прервал его:
— В конце концов, — заметил Чаплин Валентино, — вместо того чтобы садиться на «Кливленд», наш юный друг мог бы точно так же оказаться на «Олимпике», пароходе, на котором эмигрировал я сам!
— В этом случае он выдавал бы себя за меня и его приняли бы за вас.
— И тогда уже редактор «Монинг телеграф» или «Юнайтед ньюс» забил бы тревогу, — ответил Чаплин, — они не отпускали меня ни на шаг во время моего турне по Европе.
Оба они понимающе улыбнулись, затем Чаплин решил положить конец всему этому.
— Вы серьезно навредили нашему имиджу, месье.
— …
— Вы хоть отдаленно представляете себе, что означает это слово в Голливуде: «имидж»?
Валентино пришел ему на выручку:
— Это почти то же самое, что «честь», понимаете?
— …
— Этому нет цены, — уточнил Чаплин.
30.
Пришло время закрыть окно двойника. На этой стадии рассказа уже совершенно ясно, что его ситуация вряд ли улучшится.
Когда он предложил возместить ущерб, нанесенный им Чаплину и Валентино, за счет значительного процента его будущих гонораров актера, его собеседники посмотрели на него в таком оцепенении, что он уже стал сомневаться, говорил ли он что-либо. Гонораров? Актера? Его? Каким, интересно, актером видел себя человек, которого все пассажиры трансатлантического лайнера приняли за Валентино, тогда как он претендовал сойти за Чаплина? Где найдется такой режиссер, который рискнул бы вложить хоть пару долларов в подобного гения? Это было как ведро холодной воды, вылитое на сношающихся собак. И они были правы. Они были правы. Правы. Они точно определи ли степень его ничтожества. Он никогда и не был актером. Ни во время этого плавания, ни раньше. Недостаточно было строить гримасы услужливым дипломатам или обманывать слепую толпу из желания быть обожаемым, чтобы подняться до ранга актера. Он — актер? Он часто вспоминал смеющиеся лица селян и моряков в той таверне: он думал, что смешит их, а на самом деле они просто-напросто смеялись над ним, как и пассажиры «Кливленда», как и нежный цветок Терезины. Потому что старик да Понте, епископ и полковник Эдуардо Рист ни секунды не позволили бы держать себя за дураков, ни на секунду они не поверили, что он их сын, крестник или друг, они с самого начала знали, что он был лишь двойником Перейры, «счастливой мыслью» Перейры! Как он мог в этом сомневаться? Он, которого приняли за Рудольфа Валентино, когда он хотел предстать Чарли! «Нет, нет, — ворчал Чаплин, — ущерб нанесен, а виновный неплатежеспособен». «Неплатежеспособен и вне закона», — заметил Валентино. «Да, обманным путем проникший на американскую территорию», — подтвердил Чаплин. В какой-то момент они были готовы выдать его иммиграционным службам. Дальнейшее уже было расписано заранее:
направление — Эллис-Айленд,
допрос,
тюрьма,
возвращение в Терезину,
позорный столб,
конец.
К счастью (если в таких обстоятельствах вообще приемлемо говорить о счастье), у Валентино сработал рефлекс иммигранта. Он посмотрел своим долгим мягким близоруким взглядом на чужака, согласился, что тот «смутно» его напоминает, и предложил ему выступить в качестве дублера света, естественно, без контракта, за десять долларов в неделю на испытательный срок.
В общем, амплуа двойника.
— Я, как вы понимаете, мгновенно ухватился за это предложение, я тут же согласился!
С другой стороны и Чаплин проявил великодушие, оставив ему проектор и пленки: «Оставьте их себе, они уже списаны, Кофилд ничего об этом не узнает, и потом, „Мотиограф“ — это уже такая доисторическая древность сегодня…»
Вот так. От Перейры к Валентино, двойником был, двойником и останется. Он попытался бежать через окно, которое выходило в ту же комнату. Вот и вся его история. Хоть оно и кажется удивительным, однако это заключение нельзя назвать даже оригинальным, как он смог в этом убедиться; когда по приезде в Голливуд Валентино указал ему его апартаменты («белый прицепной вагончик в загоне студий Пикфорд — Фербенкс»), он открыл расшатанную дверь и обнаружил там двух других Валентино, листавших журналы, лежа на двухъярусной кровати: это были дублер наездника и дублер танго.
31.
Самый длинный период в жизни человека — это конец.
Три года подряд он работал в тени Валентино — дублером света — вплоть до того самого фатального 1926 года, когда Руди снялся в «Сыне шейха» (продолжении «Шейха», вышедшего на экраны в 1923-м). Голливуд перешел на часовой пояс Сахары. В калифорнийские студии вываливались горы песка. Ставились палатки. Все теперь усаживались по-турецки на сарацинских коврах. Из чайников текло виски, тонкой струйкой, с большой высоты, как и положено у бедуинов. Он, дублер света, переходил с места на место и терпеливо ждал во время пауз, пока осветители установят на нем прожекторы, предназначенные для того, чтобы освещать Валентино. Он исполнял свою роль со всем старанием. Немного вправо? Немного вправо. Левый профиль! Пожалуйста, левый профиль. Снимал Фицморис, а фотографом был Барнс. В своей скрупулезности они доходили до того, что одевали его опереточным арабом. «Мы не тебя освещаем, нам важен костюм». Его также гримировали под старого шейха, потому что Валентино играл одновременно и отца, и сына.
— Полшага вперед.
Он ступал вперед.
— Подними немного голову…
Освещали его макияж. Затем его умывали.
В Юме, в штате Аризона, в сценах, где Ахмед Бен Хассан, сын шейха, отпустив поводья, скачет к прекрасной Ясмин, он уступил место дублеру наездника. И это не его разделывали воры, привязав за запястья, после сцены засады, но вот дубляж танго — это уже был вопрос осанки.
Вечерами он иногда выходил прогуляться. Естественно, ему следовало подчиняться формальному запрету выдавать себя за Валентино, он мог поплатиться за это своей работой. «Если хоть раз тебя узнают, будешь депортирован раз и навсегда, — предупредил его Ульман, — ясно?» Он находил это ясным и вполне обоснованным. Парик, очки, фальшивая борода, все предосторожности. «И никакого танго, уяснил?» Он и не жаловался. Избавленный от заботы кем-либо стать, он был тенью звезды и научился этим довольствоваться. Что же касается Голливуда, центра мира… что ж, Голливуд, и он не уставал это повторять, «был страной фантомов». Итак, он парил в невесомости рая, где его мечты освободились наконец от непременного стремления реализоваться.
За все это время он очень мало видел Валентино. Два-три раза, и то издалека и пару мгновений, как порыв ветра. И тем не менее как-то июльским днем 1926 года Руди потянул его за рукав: «Мне говорят, что вами довольны», — и пообещал сделать все необходимое, чтобы «легализовать его положение». Если он и дальше будет удовлетворять всем требованиям, Руди сделает его американским гражданином, он обещал. Это, конечно, было мило с его стороны, но Валентино скончался 23 августа, в полдень, после девяти дней жестокой агонии.
И он решил, что несет ответственность за эту жертву.
Разошелся слух, неизвестно откуда взявшийся, что Руди не был мужчиной в полном смысле этого слова. Настоящие женщины перешептывались друг с другом об этом. Анонимный репортер «Чикаго трибьюн» разгласил об этом в своей статье: «Голливуд — это школа мужественности, и Валентино являлся прототипом американского самца. Ой-ой-ой, моя душка». Статья была озаглавлена: «Пуховка розовой пудры». Без подписи. Пола Негри из-за этого просто взбесилась. Она прямо-таки вынуждала Руди «отреагировать, черт возьми!» Искры ее ярости перекинулись на подмостки Голливуда. Ведь речь шла прежде всего о ее чести, ее женской чести! «Ты можешь это понять, Руди, хоть это ты можешь понять?»
Молва бьет в поддых. Что-то закралось в желудок к Руди. Руди был сама нежность. А также сама скромность. Он приписывал свой успех счастливой цепи случайных обстоятельств. Он не кичился своим громким именем. Самое большее, чего он желал, это чтобы «остался его образ». А вот теперь молва обгладывала по косточкам этот образ Руди.
Через прессу Валентино вызвал анонимного репортера «Чикаго трибьюн» на дуэль, боксерский поединок на ринге, какими бы ни были его рост, вес и вынос удара: он дошел до того, что нанял тренером лично Джека Демпсея, чемпиона мира. Руди обладал чувством чести, сокрушительной правой и таким запалом, что хоть отбавляй; однако жалкий писака так и не появился. Молва разрасталась, и нечто в желудке у Руди тоже.
К тому же в Италии какой-то Перейра с бритым черепом и челюстью, как наковальня, во все горло поносил «Сына шейха». Бенито Муссолини недолюбливал Рудольфа Валентино: натурализированный америкашка, предатель родины, позор на его голову! Друзья Бенито снимали портреты Родольфо со стен в своих гостиных; вынимали портрет, оставляли одну рамку с именем и повязывали наискосок черную ленточку. Конец образа. Нечто в желудке у Руди питалось также и этой неприятностью. Оно росло как на дрожжах. Оно взорвется в воскресенье 15 августа 1926 года, в Нью-Йорке, продолжит потрошить несчастного до полудня понедельника 23 числа, когда, несмотря на все медицинские ухищрения, Рудольф Валентино скончается в жестоких мучениях и не менее омерзительной вони.
Во время его похорон шел дождь. Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Джордж Ульман и Джозеф Щенк стояли у гроба. У кинематографа было большое сердце. И как бы сильно ни лил дождь, слезы из глаз Полы Негри лились еще сильнее.
Гроб поместили в поезд, направлявшийся в Голливуд.
32.
— Это я должен был умереть, а не он.
Но он не отступился.
33.
Он покинул Голливуд и отправился в путь, без бороды и парика, похожий на Валентино (с точностью до закорючки). Мюзик-холл — вот о чем он теперь помышлял. Быть Руди на сцене. «Чтобы восстановить добрую память о нем», — оправдывался он. Он не будет ни шейхом, ни гусаром, ни сногсшибательным тангиста, нет; он просто будет рассказывать настоящую историю Родольфо Пьетро Филиберто Рафаэлло Гульельми ди Валентина, он же Валентино, появившийся на свет в том же году, что и кинематограф, точнее, 6 мая, в Кастелланате, в Апулии, в Италии, на Ионийском море, земле латифундистов. Он опишет его восхождение, «от хлопковых полей его детства до шелковых рубашек Голливуда», он будет восхвалять его скромность, его сомнения, его доброту, его щедрость, его умиротворенное изящество, его чувство чести и его преданность, он расскажет, как пересеклись их дороги, и как Валентино спас его от всего, «в том числе и от меня самого», и каким режиссером всепланетного масштаба мог бы стать Валентино, если бы злоба людей не сожрала его живьем. Руди был первым из тех лучших, которые всегда уходят первыми: вот что он скажет! И насколько он сам, здесь, на грешной земле, был всего лишь его бледным отражением, настолько же черной внутри была чистая душа Валентино. Он скажет и не только это. Он дойдет до слишком рано умершего отца Валентино, офицера кавалерии, ставшего ветеринаром, он опишет портрет его матушки, Габриэль Барбен, уроженки героического Эльзаса, он вспомнит также двух братьев и маленькую сестренку Марию. Пусть только его пригласят, и он расскажет все это: во имя чистейшей правды!
Однако ничего не предлагают.
Нигде.
Хозяин одного из клубов возразил ему, что никто в мире не смеет теперь походить на Валентино. Разве Христос имел когда-либо двойника? До распятия — да, пророков было хоть отбавляй, но после? Нельзя быть двойником Иисуса: его сторонники этому воспротивятся.
— Раз меня нигде не хотят принимать, я буду появляться везде.
Он обратился в слова.
Он распространился по всей территории Соединенных Штатов Америки.
— Мне это не в новость — пересекать континенты!
Везде, где ему наливали стаканчик, он выкладывал свою правду. Когда его хорошенько орошали, это давало свои плоды. Например, он был бесподобен, когда описывал стенания Полы Негри над гробом Валентино. «Она вырвала свое сердце и бросила в черную дыру, ее пришлось удерживать силой, чтобы она не отправила туда же свою печень». По его словам (он посматривал на свой стакан, щуря глаза), Ульман купил это отчаяние у агентов Полы. «Правдоподобно!» Ульману была совершенно необходима «завывающая скорбь самки», чтобы спасти честь Руди. Каждая слеза Полы была выторгована по цене бриллианта. Целый град драгоценных камней покрыл тело покойного перед отходом в вечность. Благодаря слезам Полы в течение недели, последовавшей за похоронами, шестьдесят пять женщин («настоящих!») заявили, что они беременны от Валентино.
— Клевета! Вздор! Брехня!
Возможно, но в тех барах, где он рассказывал эти истории, его просили продолжать. Пророки приходят извне, и людям хочется верить именно в невероятное. Этот вот весьма чутко относился к подробностям, а слабый акцент (но откуда же он все-таки?) окружал его слова нимбом правды. Ему опять наливали.
Прошло несколько лет. Голливуд откопал Валентино. Они захотели снять о нем фильм.
— Я поспешил туда, чтобы получить главную роль.
Но годы…
И алкоголь…
— Они не захотели взять меня даже на роль старика Гульельми.
Тогда он вспомнил одну фразу самого Валентино (то ли она была произнесена в той машине, в компании Чаплина, то ли он прочел ее в «Вэрайети» или слышал за кулисами Голливуда…), в которой Руди утверждал, что не боится наступления времени, предсказывая, что он «уйдет молодым», отказывался стареть, хотел «сохранить свой образ» и остаться таким, каким представлялся сейчас, «ad vitam aeternam»[34].
Поэтому требовалось, чтобы кто-нибудь согласился стариться вместо него.
— Это и был мой жребий. Мой. Мое терпение. И когда утром в зеркале я вижу свою рожу, я говорю себе, что Руди был чертовски прав: стать в его случае было бы настоящим преступлением!
На несколько месяцев ему выпала передышка в его нескончаемом падении. Одной доброй, но строгой любовнице удалось оторвать его от стойки, она заставила его прикусить язычок и вернула к его настоящей профессии: цирюльника. «Из любви», как она говорила. Однако он заподозрил, что она любила в нем то, что осталось от Руди. Напрасно она спрашивала, кто был этот Руди (она сама совсем недавно эмигрировала из Венгрии), в ответ она всегда слышала все то же: «Ты не любишь меня ради меня самого!»
Он также ставил ей в упрек, что она не была «настоящей женщиной».
И потом, алкоголь оставляет слишком много шрамов на щеках своих клиентов; цирюльника больше не было.
Когда падаешь, ты падаешь. Он вновь пустился в свои турне холостого проповедника. «Хотите правды? Так вот, Валентино был святым!» Он каялся: «Это я его убит». Он заливался слезами над своим стаканом: «Его репутация импотента — это все моя вина».
О! Ему все же выпала небольшая радость. Однажды утром в одном из мотелей Арканзаса он нашел старую газету, где было написано короткой строкой: «некий Мануэль Перейра да Понте Мартинс — диктатор одной банановой республики — получил пулю между глаз в день национального праздника». Памс! От убийцы ничего не осталось, его растерзала толпа. Он на мгновение испугался, как бы этот убиенный президент не оказался его собственным двойником. Но нет, в газете уточнялось, что у власти встал полковник Эдуардо Рист, главнокомандующий армией. Значит, убитый был настоящим Перейрой. Кого-то, вероятно, достала bacalhau do menino. Шампанского!
Однажды он заметил, что говорил в пустоту. «Что, вы не видели „Четырех всадников Апокалипсиса“? „Алимони“ тоже? А „Шейха“? Даже „Шейха“? Название „Шейх“ вам ничего не говорит? Ну тогда „Сын шейха", тоже ничего?» Тоже ничего. Валентино растворился во времени. Его имя не отдавалось даже слабым эхом в сознании молодежи. Да и старики начали терять к нему интерес с тех пор, как кино научилось говорить. Что это за чудак, который донимает их своим немым фантомом?
Они с Руди ошиблись: на кинопленке не было вечности. Америка шла вперед, и на земле, как и на небе, оставалось одно лишь забвение.
— Аминь.
Самым оглушительным его успехом оказалось его провальное падение. Но как этот парень закладывал, просто диву даешься! Нужно было его видеть, чтобы поверить. И при этом он даже не ирландец! Ему наполняли стакан, делая ставки. Он никогда не свалится. Когда его спрашивали, почему он столько пьет, он отвечал, что солнце когда-то превратило его в кость сепии:
— Нечто вроде белой соломы, которую дают попугаям, чтобы они заткнулись, понимаешь?
34.
Он умер одним зимним вечером 1940 года, в Чикаго, в кинозале. Там крутили «Диктатора» Чарли Чаплина. Фильм рассказывал историю одного цирюльника, который стал двойником одного диктатора. Диктатор кружил по всему свету, а у двойника даже не было имени.
Когда билетерша стала трясти за плечо этого припозднившегося зрителя, думая, что он уснул, тело замертво рухнуло к ее ногам. Полицейским, которые спросили у нее, не заметила ли она чего-либо странного, девушка сказала, согласившись: да, у скончавшегося все лицо было «залито слезами». (Это ее слова.)
— Умер от смеха, — предположил первый, тот, что был помоложе.
— Нет, это одно преступление и два преступника, — ответил второй.
Носком ботинка он пнул бутылку «J&B» под сиденьем жертвы. Бутылка была пуста.
«Dirty cops»[35], — все шептала билетерша этой ночью. Ей никак не удавалось заснуть. Она все вспоминала лицо умершего, омытое слезами.
IV. Влечение вглубь
Посвящается Фаншон
1.
— Dirty cops…
Ох, как этой книге не достает женщин и как я желал бы воспользоваться этой паузой, лежа в своем гамаке, чтобы впустить женщину на эти страницы, рассказать, например, твою историю, маленькая билетерша, историю, которая, может быть, длится и по сию пору, потому что весьма вероятно, время продлило твою жизнь до наших дней…
Скажи мне, что ты такое, что ты собой представляешь в этот день, первого декабря 1940 года? (Я, к слову, буду выжидать еще четыре года, чтобы появиться на свет в этот же день.) Что ты делаешь, когда тебе не надо рассаживать по местам этих пожирателей попкорна? Ты в самом деле билетерша или просто студентка? Ученица на актерских курсах? Ты ведь обожаешь кино, так? Для тебя оно будто всегда существовало, не правда ли? Оно — «вся твоя жизнь». Сколько тебе, шестнадцать лет, семнадцать? И твой любимчик — Богарт, Хэмфри Богарт. Ну же, не отпирайся, я это понял, когда ты прошептала «Dirty cops» (выражение Богарта, его самые слова), и, Боже мой, как ты мила в этом плащике а ля Богарт, который родители запрещают тебе носить, а этот пояс, завязанный узлом, придает тебе вид шпионки… Где ты прячешь свой габардин, ведь они не желают видеть эту гадость в доме? Здесь, в кинотеатре? У тебя есть здесь свой шкафчик? Такой металлический? С фото Боджи на оборотной стороне дверцы? А может, это идея директора: одевать своих билетерш под Богарта?
Как бы я хотел встретить тебя сегодня, ставшую пожилой дамой, парижанкой, с легким американским налетом, несмотря на все те годы, которые ты провела во Франции… Мне следовало бы сначала написать тебе, объявить о себе в вежливом письме, прежде чем лезть к тебе с этими вопросами, для пущей достоверности, из любви к деталям, любителю ловли на живца, как я уже сделал это в Венеции, обратившись к коллекционеру Монтанаро, другу Карло, воплощенной памяти немого кино, который указал мне полное название, год выпуска и способ эксплуатации проектора «Мотиограф» и показал журналы тех лет: «Скринлэнд», «Мувинг пикчер ньюс», «Мотографи», «Фотоплэй», «Нью-Йорк драматик мирор»…
Например, как он назывался, тот кинотеатр в Чикаго, куда двойник пришел умирать? А зрители, они уже объедались попкорном на сеансах в темных залах 1940 года? А мужчины, они оставались в шляпах в кинотеатрах? Спешили ли они освистать женщин-вамп при их появлении на экране? И дым сигар поднимался, создавая помехи изображению? Насколько правдоподобно то представление, которое мы обо всем этом имеем и которое само пришло к нам из кино?
И прочие подобные сведения…
Конечно, мне известна пара-тройка деталей насчет «Диктатора» Чаплина, впрочем, как и всем вокруг: ливень анонимных писем, обрушившийся на голову Чарли, который осмелился замахнуться на авторитет Гитлера, звонки с угрозами от американских нацистов, его опасения, что фильм запретят после протеста, выдвинутого германским, итальянским, аргентинским правительствами, обвинение в сочувствии коммунизму из-за финальной речи цирюльника, который обращается к толпе вместо диктатора: «Я хотел бы прийти на помощь всем — если возможно — евреям, неверным, черным, белым… Несчастье, угнетающее нас, берет свое начало в алчности, и только в ней…» — я знаю все это, и то, как Чаплин умел держать курс на все и против всего, и как два года спустя, когда Сталинград резко изменил ветер истории, даже те, кто обвинял его в милитаризме по выходе «Диктатора», решили привлечь его, чтобы он поторопил открытие второго фронта на Западе…
Я все это знаю.
Но скажи мне, какая погода стояла в тот вечер в Чикаго? Один из тех северных ветров, которые дуют с Канады и, разогнавшись на бескрайних просторах озера Мичиган, врываются на улицы твоего города, сбивая прохожих с ног? Это блиццард загнал двойника укрыться в твоем кинотеатре? Снег и ветер?
И сколько уже недель «Великий диктатор» шел на экранах в конце этого года? В самом деле он был у всех на устах? Скажи, раньше фильмы так же пережевывали, прежде чем они появлялись в прокате, как сейчас, когда надо быть глухим и слепым, чтобы иметь хоть маленькую надежду сделать для себя открытие в кинозале? Есть ли хоть мизерный шанс на то, что двойник вошел в этот кинотеатр чистый, как лист, ничего не слышав о фильме заранее? Что он уселся в свое кресло, ничего не зная о «Диктаторе», — по-твоему, это возможно? Или того лучше, что он укрылся в этом кинотеатре, вообще не подозревая, какой фильм там показывали, и увидел ту самую историю цирюльника и диктатора, которую он рассказывал за столом у Моразекки, — такое можно себе представить? Подумай, прежде чем ответить мне. Подумай хорошенько, это важно. От этого зависит значение его слез. Его слез, испарившихся до прибытия полиции. «У него лицо было залито слезами», — сказала ты, помнишь?
Если только, погоди…
Нет…
Эти слезы не высохли сами собой…
Они не испарились до прихода полиции.
Это ведь ты, так?
Это ты вытерла ему лицо.
Причем тогда ты впервые в жизни видела мертвеца.
Однако ты не побоялась положить его затылок к себе на ладони и вытереть эти слезы своим платком…
То есть закрыть ему глаза.
Да, это ты.
Конечно…
Конечно, это ты.
2.
Здесь мне следует открыть небольшую отдельную главу (в скобках), ибо подобные предчувствия, появляющиеся как уверенность (ты, девушка, вытирающая слезы этому мертвому, и он, закрывший глаза в этом опустевшем кинозале), не возникают просто так, случайно, в воображении романиста.
Это воспоминание, то есть видение, которое без предупреждения выходит на поверхность рассказа; мгновение моей собственной юности, воскрешенное усилием, которое я предпринял, чтобы вообразить твою.
Вот это воспоминание.
Мы в самом начале шестидесятых годов. Дело происходит в Париже. Мы с моей знакомой Фаншон (мы родом из одного поселка, Коль-сюр-Лу, в департаменте Приморских Альп, мы вместе учились какое-то время на одном факультете, филологическом, в Ницце, потом мы вместе будем преподавать в одном коллеже, в Суассоне, а потом потеряем друг друга из виду), так вот, мой друг Фаншон и я, мы спускаемся в метро, не помню уже на какой станции. Час пик, конец дня, уйма народу, безостановочный поток, каждый спешит домой. На скамье притулился какой-то пьяненький клошар. Он весь грязный. У него на лице, руках и груди пятна въевшейся грязи, как если бы социальное разложение уже начало раскрашивать его в тона смерти. И особенно запах… Люди обходят его стороной. Внезапный поворот людского потока, освобождающий пустое пространство перед скамьей. Но нет, это не из-за запаха, я ошибся. Это другое: у него расстегнута ширинка, и его член тяжело свисает на ляжку, вот что это такое, и прохожие отводят глаза — внезапный интерес к тому, что происходит на противоположном пероне, — а Фаншон, которая идет впереди меня, останавливается прямо перед уснувшим, наклоняется над ним, убирает его хозяйство ему в штаны, заправляет туда же полы его рубашки, застегивает ширинку и ремень…
Этот жест женщины, без всякой показухи — жест девочки, ставшей вдруг настоящей женщиной! — это ты, вытирающая слезы мертвому.
3.
Итак, вот ты, и вид у тебя сейчас совсем как у Фаншон. (Когда мы с ней познакомились, ей было примерно столько, сколько тебе сейчас.) Я вас тем лучше себе представляю, тебя и твой габардин, что у Фаншон на верхней губе справа был такой же шрам, как у Богарта, — только у него это было от ранения на войне, а у нее от укуса собаки.
«Dirty war!»[36]
«Dirty clebs!»[37]
Что до меня, разлегшегося в гамаке, где я вот уже несколько часов мечтаю (в то время как Минна, которая сама на время оставила свою печатную машинку, надрывается, пытаясь превратить в цветущий сад южный Веркор — с начала лета уже сломаны две лопаты; земля здесь упорно сопротивляется насаждению цветов…), я размышляю над вопросом, которым иногда задаются романисты: «Как рождаются ваши персонажи?»
Вот так. Из непредсказуемого и необходимого сочетания требований темы, нужд рассказа, накипи жизни, случайностей мечтаний, тайн капризной памяти, событий, прочитанного, образов, людей…
Неважно, откуда появляются персонажи, значение имеет именно их способность к мгновенному и непосредственному существованию. В глазах читателя персонажи не «рождаются», они уже существуют, как только появляются в тексте. Ни рождения, ни взросления, ни обучения, одна миссия: присутствовать на месте с самого начала. Они, конечно, могут разрастаться по мере перелистывания страниц, но прежде всего они должны «быть здесь». В то же время персонаж не может по-настоящему быть здесь, если он ускользает из перипетии, которая сделала необходимым его появление, от функции, которую он призван выполнять, одним словом, отрывается от ниточек, за которые, как ему кажется, дергает автор.
Этот непредвиденный жест, унаследованный от Фаншон (вытереть слезы умершему), спас тебя от простого назначения, которое я тебе приготовил: обнаружить труп — и баста.
Браво, ты выкрутилась.
4.
Между тем я не могу сказать, чтобы я тебя видел. И даже если я стал бы рядить тебя во все особенности, присущие Фаншон (этот каштановый отблеск в ее зелено-голубых глазах, живость ее движений, ее темные коротко стриженные волосы, высокие скулы, белоснежная кожа, горячность ее голоса, звучащего немного в нос…), я все равно не увидел бы тебя яснее. Вы, персонажи, не впечатляете наши чувства. Ни читателей, ни романистов, которые вас выдумывают. Вам не дано ни показать себя, ни заставить услышать себя. Вы овладеваете всеми нами, но только каждым отдельно, в уединенности его мысли. И когда режиссер собирается представить вас нашему общему взгляду, естественно, вы никогда не появляетесь такими, какими мы вас «воображали».
— Ты видел ее такой, эту билетершу?
5.
Другая характеристика персонажей: каждый из вас — комок снега, скатывающийся по склону автора: вы набираете вес из наших случайностей, как и из наших размышлений, хватая на ходу все, что может придать вам смысла.
Пример? Не прошло еще и двух дней после твоего появления в этой книге, как твое существование уже обогатилось одним размышлением моего друга Жана Геррена, которому я посвятил историю этого двойника и который, прочитав ее, вдруг спрашивает меня:
— Ты полагаешь, что Чаплин был «подбиралой отбросов»?
Выражение «подбирала отбросов» (хоть оно и не касается тебя напрямую) открыло мне глаза: я тут же сказал себе, что ты должна была знать двойника.
Ты знала двойника.
Ты не могла не знать его! Это был отброс квартала, легендарный пьянчужка этой части Чикаго, чемпион во всех категориях по провалу с треском. Точно такой же экземпляр, как тот, на скамье в метро, которому Фаншон убирала его хозяйство. Если так оно и есть, то он должен был часто бывать в том баре, куда ты приходила перед сеансом наспех проглотить гамбургер. Вечер за вечером ты слышала его голливудскую хронику, его патетическую реабилитацию Валентино, всю эту болтовню, которую остальные пропускали мимо ушей. Ты видела, как спорщики наполняли ему стакан. Упадет? Не упадет? Выкладывали доллары. Выигрывал тот, кто наливал ему последний стакан. Держатель притона принимал ставки и получал свою долю; законно. Увесистый конверт набирался, если представить, что порой они проводили целые ночи напролет, пытаясь его свалить, и что кубышка полнилась с каждым соперником, который падал в опилки раньше его. Ему, конечно, не доставалось ни гроша. Выпитый стакан всего лишь давал ему право на то, чтобы ему наполнили следующий. Это была своеобразная лотерея квартала. Обыкновенный способ выкачивать деньги из клиентов. Сюда приходили померяться с ним силами издалека: докеры, дальнобойщики, палачи со скотобойни, ирландцы, поляки, литовцы… В баре всегда было полно народу. Каждую ночь все тот же конкурс дровосеков: стакан за стаканом, не закусывая, до тех пор, пока он не свалится. Потому что я сколько угодно могу писать, что он никогда не падал, в конце концов и он отваливался от стойки, и выигравший снимал всю кассу. Его падение, которое никогда не наступало раньше зари, было сигналом к закрытию заведения. Его уносили, клали в его картонную коробку (прямо за баром, в том тупике, более или менее защищенном от ветра, куда выходил и твой кинотеатр), как следует укрывали газетами. Даже в несколько слоев — нельзя было позволить курице, несущей золотые яйца, подохнуть от воспаления легких, никто не желал, чтобы их маленький бизнес накрылся.
По внегласному соглашению выигравший накануне наполнял ему первый стакан на следующий день.
6.
Итак, ты его знала.
— Dirty cops!
Ты лежишь в своей постели с открытыми глазами. Тебе ненавистен цинизм полицейских, которые тебя допрашивали; ты находишь их ужасно мелкими, сводимыми единственно к их работе, не стоящими того, чтобы быть персонажами. При этом ты вовсе не дурочка, ты прекрасно знаешь, что для них, агентов, это не первый труп, что такие шуточки у них в отделе — своеобразный способ сохранить умственное здоровье, как и у хирургов или врачей «скорой помощи» (доносящаяся с улицы сирена неотложки подтверждает, что их жизнь совсем не сахар), но тебе на это плевать, ты похожа на Фаншон в твоем возрасте, тебе дела нет до подобных размышлений сейчас, когда ты совершенно выбита из колеи этими слезами мертвого.
— Dirty cops!
Ты в своей постели.
Я в своем гамаке.
(А Минна на улице, на этот раз вместе с Дан, ломает лопаты ради победы роз над кремнистой почвой.)
7.
Как он назывался, твой кинотеатр, Biograph Theater? Северная авеню Линкольна, 2433, так? За шесть лет до того Джон Диллинджер, тогдашний Робин Гуд, помнится, высадился там, прямо перед входом. В то время ты была еще маленькой девочкой, но люди все еще продолжали говорить об этом, когда ты уже стала работать билетершей. Предательница, которая выдала Диллинджера агентам ФБР, была в красном платье — знак узнавания.
С романтической точки зрения это было бы невероятной удачей, если бы речь шла о том же кинотеатре. Ко всему прочему Диллинджер напоминал Богарта и, конечно же, был не менее популярен. Легенда гласит, что женщины якобы подходили обмакнуть свои платки в крови героя, после того как «скорая» увезла его труп.
А задняя стена Biograph Theater выходит в тупик? Надо проверить.
8.
Это ты позвала двойника посмотреть «Диктатора» (его, который уже не осмеливался даже думать о Чаплине с того самого вечера в машине, в Нью-Йорке!), и ты решила, что несешь ответственность за его смерть. Ты считаешь себя женщиной в красном. Может быть, ты даже провела его бесплатно. Если только у тебя не вошло это в привычку — проводить его через черный ход, ведущий в тупик. Таким образом, ты примирила его с кино. Ведь он давно уже потерял к нему вкус, да и не на что было. В общем, ты его перевоспитала, если можно так сказать. Ты познакомила его с кино сороковых в благодарность за то, что он рассказал тебе о кинематографе двадцатых. Этот человек в самом деле провел часть своей жизни в Голливуде. Ты проверила его истории до последней мелочи. Ты уже достаточно в этом разбираешься, чтобы отличить то, что он вычитал из журналов, от того, что он выдумывает за стаканом и что прожил на самом деле. И хотя он теперь совершенно не похож на Валентино на фотоснимках, он все же был его дублером света в «Сыне шейха», в 1926-м, у тебя нет никаких причин в этом сомневаться. Твоя страсть к кино не переставала подпитываться его упрямо повторяемым монологом, а ваши споры после киносеансов в конце концов помогли тебе сформировать вкус.
По сей день он остается в твоей памяти ангелом-киноманом, Аладдином, вырвавшимся из проектора «Мотиограф», легендарным клошаром, историю которого ты пересказывала своим детям и своим внукам. Один из них — Фредерик, самый младший твой внук — даже напишет по ней сценарий, который будет считать оригинальным, бедняга.
Твой внук Фредерик с треском провалится с этой историей, но дело не в этом.
Дело в тебе, в твоих слезах ночью в постели, первого декабря 1940 года, ведь ты была уверена, что поторопила кончину этого несчастного, пригласив его посмотреть «Великого диктатора», фильм, который Чаплин снял по украденному у него сюжету.
Умер от ярости.
По твоей вине.
9.
Тебе никак не уснуть.
Ты встаешь, садишься за стол, рисуешь лицо умершего.
(Этот поразительный дар Фаншон к рисованию… Достаточно было двух-трех точно переданных особенностей, чтобы его лицо появилось на бумаге, как живое. Воздушный и точный рисунок, тем не менее пресекающийся: линия часто обрывалась больно ломающимся углом.)
Ты встаешь, идешь к своим карандашным рисункам…
…
И в ту же секунду, только шестьдесят лет спустя, меня в моем гамаке посещает странное желание: создать тебя по-настоящему.
То есть потребность писать тебя так, как если бы ты существовала на самом деле.
Сделать так, как если бы мы реально были знакомы. Ты, теперь пожилая дама, я, перескакивающий с «ты» на «вы», и читатель, к заключительным страницам романа успевающий забыть, что вы всего лишь выдуманный персонаж, моя дорогая Соня.
…
Приступ безумия.
Это должно было со мной случиться. С тех пор как я беззастенчиво использую романные особенности моих друзей, чтобы создавать своих персонажей, обязательно должен был наступить день, когда я вынужден был бы черпать в человечности персонажа, чтобы создать живое существо.
…
Впрочем, это не так уж трудно.
…
Стоит только представить себе ужин, который имел бы место, скажем, в прошлом месяце в Париже и на котором кое-кто (например, наша знакомая Катрин, гораздо более «продвинутая», чем мы с Минной, в том, что касается выставок) воскликнул:
— Как, вы не знакомы с работами Сони Ка?
Соня Ка? Нет, ничего о ней не знаем.
— Ну как же, а посвященная ей ретроспектива, устроенная Бобуром в прошлом году, не помните?
Нет, к сожалению, не помним.
Ретроспектива ваших рисунков моды, Соня, ваших театральных декораций, ваших story boards[38], которые привлекли к вам внимание «всего Парижа». Культурные приложения газет и журналов прошлись по вашему искусству рисунка углем хлесткими заголовками: вот хотя бы для примера — «Соня Ка: жизнь одного портрета».
— Эрма и Анита (две другие наши знакомые) взяли у нее замечательное интервью, — говорит Катрин. — Хотите почитать?
Соня Ка…
…
Вот как раз одна подробность из этого самого интервью и заставила меня решиться написать вам, через Бобура, дорогая Соня: в ответ на один вопрос Аниты вы намекнули на эту работу билетерши в Biograph Theater в сороковые годы. Образование по-американски, от одного маленького заработка к другому… Ваш отец настаивал на том, чтобы вы сами научились летать, «в то время как мои крылышки только начинали прорезаться», заметили вы.
Итак, я вам пишу. И вот вы мне отвечаете через того же посредника, что нет, нет, я вас вовсе не беспокою, напротив, вы охотно примете меня у себя, что к тому же вы меня немного знаете как романиста, что вы даже находите, что это «стимулирует — помогать писателю срезать ломти реальности».
«И потом, — прибавили вы, — если я правильно понимаю, в вашей книжке я одновременно являюсь и персонажем, и источником информации. Заходите, заходите, дорогой автор, спрашивайте, сколько хотите; не так часто нам выпадает случай преподнести собственную юность на блюде вымысла».
…
Почувствовав в ваших словах легкую иронию, я все же пришел. Даже примчался на всех парах, потому что, к моему величайшему удивлению, вы не только живете в Париже, но даже на улице Анвьерж, в двух шагах от меня, в том самом здании, которое, как скала, протыкает небо Бельвиля. И как только вы мне открыли, я сразу же узнал вас, так как часто встречал на улице Пьят, с сумкой на колесиках, полной провизии, и у мясника на улице де ля Мар, мы с Минной как-то даже сидели с вами за одним столиком в «Мистрале», на улице Пиренеев, в полдень, в день прессы. (Вы нас как будто и не заметили, вы читали тогда ТЛС[39], пощипывая салат.) Минна сказала, что вы похожи на «старую апачи», а потом, присмотревшись как следует, мы согласились, что вы скорее напоминаете Натали Саррот: те же гладкие волосы, тот же острый взгляд…
Если бы вы в тот момент вдруг начали что-нибудь записывать в маленьком блокноте, мы бы точно приняли вас за нее.
— Сколько ей сейчас может быть лет?
10.
Итак, в ту самую ночь вашей юности, дорогая Соня, вы набросали портрет мертвого двойника,
рисунок углем, который вы отыскали шестьдесят лет спустя,
в завалах вашей мастерской,
дом 10 по улице Анвьерж, где из вашего окна виден весь Париж, рисунок, который вы мне протянули поверх наших бокалов, наполненных игристым вурве
(это все, что осталось в вас истинно американского, этот вкус к нашим «маленьким винам Луары»),
сказав мне:
— Вот, возьмите, это он.
В вашей руке был даже не лист бумаги для рисования, а кусок картона: «Дно коробки из-под обуви, первое, что попалось мне под руку, когда я вернулась той ночью домой, из того, на чем можно было рисовать».
— …
— …
— Это правда он?
— …
— …
— …
— …
Я ожидал увидеть расплывшуюся морду пьяницы, обвисшую над еще влажной губой, желтушный цвет лица, выдающий циррозное разложение…
Ничего подобного; это оказалось изможденное лицо, скорее вытянутое, с иератическим строением костей. Кожа натянута на кости свинцовой сетью морщин. Под спутанной сединой волос — впалые виски, тяжелые веки; строгий рот, сомкнутые губы: «рот, привыкший молчать», сказали бы вы, и ниже — каменная челюсть.
…
Я представлял его себе совсем не таким. И тем не менее это лицо казалось мне знакомым.
…
Это могла быть внешность крестьянина-корсиканца, бесстрастное лицо моих отдаленных кузенов Лафранки де Кампо или Прюнетти де Гаргуале, которые, собственно, ни один ни другой не были крестьянами, но зато были корсиканцами, чистейшими и молчаливыми, да; или лицо Роже, отца Минны, бретонца, пропитанного морским ветром и тоже немногословного, или, может быть — хотя я никогда там не был — какого-нибудь предка Валентино из Кастелланаты, в Апулии. И может быть, именно таким стал бы Валентино — эта задумчивая пергаментная суровость, — если бы ему оставили шанс дождаться возраста морщин и если бы он избежал масок красоты, к которым его готовили несуразные нравы людей имиджа, заядлых трюкачей, спекулирующих на скелетах…
«Последнее слово всегда остается за скелетом, дамы и господа; напрасно вы будете стараться сгладить углы, шлифовать, выводить, наполнять, перенатягивать, ваш скелет выдаст вас рано или поздно, оголив вашу ошеломляющую общую правду. Даже Голливуд ничего не может поделать с этой правдой скелета!»
Одна из его последних тирад, как вы мне сказали, ставя стакан. И потом этот комментарий: все пьяницы — прозелиты, это единственное, что есть интернационального.
Затем, поднявшись:
— Когда вы отправляетесь в Веркор? Возьмите этот рисунок, вернете мне его, когда закончите.
11.
Теперь моя очередь проснуться среди ночи.
Проснуться: да, нам снятся сны, то есть мы думаем.
Прошлой ночью мне приснились два изображения печени, которые висели у нас в классе, в общинной школе в Савиньи-сюр-Орж: печень алкоголика и здоровая печень. Совершенно проснувшись, я вспомнил, что мое воображение ребенка ассоциировало вспученность циррозной печени с букетом цветов, к тому же замечательных тонов и расцветок, тогда как другая, здоровая, какая-то тусклая, была совсем не привлекательная; я не понимал, отчего следовало опасаться этой цветущей красоты. (Дальнейшие мои школьные годы ясно дали мне почувствовать отчего…)
Этой ночью меня разбудил Малколм Лаури. Он выпил в двадцать раз больше, чем может выпить обычный человек за сорок восемь лет писательства и заблуждений, а потом выбросился из окна. Вскрытие показало, что печень была совершенно невредима.
Поздняя ночь. Минна спит. Дом — исключительно пустой — стонет под ветром Веркора. На улице штокрозы противостоят шквалу и граду столь героически, что мы назавтра, стоя с чашкой приготовленного наспех, кое-как кофе в руке, обнаружим в свете наступающего утра, что они выстояли, довольно сильно потрепанные, но все же стоят!
…
Ладно. Ни печень Лаури, ни лицо двойника не имели признаков злоупотребления.
…
Я встаю. Сандалии. Стол. Свет. Портрет.
В который раз уже я стану искать в лице этого мертвеца источник той эмоции, которая появилась у меня, когда Соня показала мне этот рисунок.
…
Он решительно не похож на хвастливого алкоголика.
И на крестьянина-корсиканца.
И на собирателя хлопка в Кастелланате.
Это лицо сухого ветра и молчания, да, именно, но оно уходит еще дальше. Еще глубже. Можно подумать, что оно слушает.
Оно вдруг напомнило мне лицо Эрри де Луки, неаполитанского писателя, пергамент, который история, бунт, действие, работа, изгнание, размышление, чтение, одиночество, молчание и ветер обшарпали и иссушили.
…
Эта задумчивая сдержанность…
…
Эта скрытая сила…
…
Лицо сертанехо…
Вот что вы нарисовали, Соня!
…
Кабокло из бразильского сертана — вот что вы нарисовали той ночью на дне коробки из-под обуви! Кабокло из Терезины или откуда-нибудь еще. (В конце концов, двойник ведь именно это собой и представлял, не правда ли?) Каатингуэйро[40]: воплощение того континентального терпения, от которого можно ожидать всего чего угодно.
Это могло бы быть лицо Сеу Мартинса, отца Соледад и Нене, мужа Мае Мартинс, молчаливого патриарха и плодовитого производителя племени Мартинсов. Одно из этих лиц…
Его взлохмаченная шевелюра напоминает куст серрадуес[41], высушенный добела палящим солнцем.
Если бы я осмелился, я бы взял карандаш и дополнил ваш рисунок: я надел бы на эту голову шляпу из вареной кожи, какие носят вакейрос. Затем поставил бы голову со шляпой на плечи — плечи, грудь, руки, ноги; рубашка и брюки из тика или джинсовой ткани, я обул бы его в те сандалии, которые сапожник из Марапонги вырезал нам, мне и Ирен, из прохудившихся шин, и я поставил бы эти ноги твердо на земляную поверхность рыночной площади: в Терезине, в Собрале, в Канинде, в Жуазейру-ду-Норти, в Катарине, в Кратеусе, в Квиксерамобиме, в Канудосе, в общем, в одной из точек на бескрайней протяженности сертана…
Старый вакейро без своей клячи, прислонившийся к стене глинобитной лачуги, с бутылкой качасы в руке, на рыночной площади — вот что вы нарисовали, Соня.
Посмотрите на него.
Он слушает.
С закрытыми глазами.
Что он слушает? Стихи площадных дуэтистов.
Он прекрасно знает этих поэтов, которые поют на рынках в округе. Особенно этих двоих: Диди и Альбау да Каза, отца и сына, Диди с аккордеоном, а Альбау с гитарой. Он знает их целую вечность. Их никогда не влекла Америка; они никогда не покидали сертана, они никогда не бывали в Сан-Паулу или в Рио, они пережили жесточайшие засухи, никогда не поддаваясь миражам побережья. Они отвергли судьбу ретирантес[42], проглоченных суматохой больших городов. Они поют здесь, переходя с одного рынка на другой, как когда-то это делал Диди со своим отцом Жоржи Реи да Казой, у фаманас ду десафиу, чемпионом вызова! Они импровизируют. Они бросают друг в друга строфами. Строфы — это вызов, а голос — лезвие. Почти как мечи, сверкающие сталью на солнце. Вот что такое площадные дуэтисты; поэты, которые подначивают друг друга и отвечают друг другу с начала времен в лучах белого солнца и черной тени рынков. Они — воображение и память сертана.
А он, Соня, тот, кого вы нарисовали, он слушает их:
Negociar сот a ilusão Pra muitos é profissão Vender sonhos é bom negócio Quem sabe disso é o palhaço Também o politiqueiro E eu, poeta boiadero Здесь мечтам назначен торг, Каждый знает в этом толк: И паяц, и хулиган, Грязный плут-политикан, Даже я, секрета нет, Бедный странник и поэт. Não vou dizer, meu irmão Que palhaço é um mandão Mas no Sertão uma história Fica ainda na memória Aquela do presidente Que virou-se comediante Вот что, братец, я скажу: Наш хозяин — просто шут. Весь сертан давным-давно В курсе истины одной: Президент и не скрывал, Как актера он убрал. Lhe devorava a ambição De reinar no caração E se transformar num mito Tal qual um novo Carlito Virar santo ele podia Do cinema fez escolha У амбиции в плену Бросил он свою страну, Захотел он мифом стать, Сердца, как Чарли, покорять. Он мог при жизни быть святым, Но он актера со света сжил.…
Это история того, что было раньше. А затем добавляется еще громадное количество строф, представляющих бесчисленные версии той же истории.
Вот каков этот человек, которому вы закрыли глаза в кинотеатре, когда были еще совсем юной девушкой, Соня: кабокло, прислонившийся к стене глинобитной лачуги, вслушивающийся в дух сертана. Он медленно подносит бутылку качасы к губам, задумчиво отпивает глоток и, закрыв глаза, дает название поэме дуэтистов: «Coronel Carlito»[43].
12.
Я говорю кабокло, но я мог бы также сказать кафуз[44], мамелуку[45], парду[46] или мулат, перемешивая цвета одних и других, и индейца, и черного, и белого, метиса и мулата, изобрести оттенки кожи и дать им новые имена, но что бы я ни делал, я все равно всегда получу один и тот же результат: это поджарое тело с этим молчаливым лицом, которыми каатинга наделяет всех, кто там живет. Это могло бы быть и лицо иезуита, у которого, если заглянуть на предыдущие страницы, брал интервью «соня сертана», или лицо «доутора Мишеля», того врача-француза, уроженца Юра, которого я встретил на дороге Аратубы и который стал моим другом. Ветер донес слухи об этом странном присутствии даже сюда, до моего гамака в Марапонге. Поговаривали, что он был один, что у него не было имени, что он пришел ниоткуда, что он не принадлежал ни к какому правительству, ни к какой гуманистической ассоциации, что он появился в сертане несколькими неделями раньше, где-то между Аратубой и Капистрано, что он лечил младенцев, не беря платы, и что ночью он посещал тайные собрания крестьянских профсоюзов.
Никто еще не встречал иностранцев в этом регионе Сеары с самого появления здесь голландского пастора в 1948 году. Случай был достаточно редким, чтобы я вытащил себя за уши из своего гамака и отправился на его поиски. На следующий день, когда я спросил у первого сертанехо, встретившегося мне по пути на склонах Аратубы, слышал ли он о враче-чужеземце, появившемся в этих местах, мой собеседник совершенно невозмутимо посмотрел на меня, поставил на землю два неподъемных мешка с баклажанами и ответил:
— Доутор Мишель? Думаю, это я.
Сертанехос переживали свое третье засушливое лето, а он — свою третью неделю дизентерии.
— Отсюда и наша схожесть, — улыбнулся он. — Здесь все имеют одинаковый вес.
13.
Соня, вы не имели никакого отношения к смерти двойника. И к его печали тоже. Задумайтесь на секунду: вот уже несколько лет, как он превратил в свою специальность народное проклятие; вы прекрасно понимаете, что, если бы он решил, что Чаплин обокрал его, он бы тут же заорал об этом, прямо в кинотеатре. Я так и представляю себе это. Он выбежал бы на сцену, встряв между экраном и лучом прожектора, за спиной у него появилась бы его огромная тень, и весь зал услышал бы, как он пытается устроить скандал: «Моя идея! Мой фильм! Диктатор и его двойник-цирюльник! Это моя идея! Это моя жизнь! Они украли мою жизнь! Моразекки, сукин сын, за сколько же ты продал мою жизнь Чаплину? Мой фильм! Шайка подонков! Страна воров!» Я так и представляю себе эту словесную жестикуляцию, которая совсем не вязалась с его посмертной маской…
Вы вряд ли услышали бы больше, потому что зрители просто-напросто выдворили бы его вон.
А вы потеряли бы свое место.
Я открою вам кое-что, чего вы, разумеется, не могли знать, Соня. По выходе «Великого диктатора» Чаплин получил столько писем с угрозами, что он решил отдать свой фильм под протекцию Бриджесу. Это имя вам ничего уже не говорит: Бриджес? Гарри Бриджес — всемогущий глава профсоюза докеров в сороковые годы. Бриджес, король набережных! Чаплин попросил его рассадить несколько десятков его парней в зале в день премьеры, чтобы отбить любую атаку пронацистских молодчиков. Бриджес отказался: «Незачем, ваш зритель любит вас, Чарли, и ваше дело правое; они не осмелятся высунуться». И в самом деле, нацисты никак не проявили себя. Бриджес был прав: если бы хоть один их этих злобных псов посмел освистать «Великого диктатора», поклонники Чаплина вышвырнули бы его вон, не открывая дверей.
Вот что случилось бы с двойником в тот вечер, если бы он стал вести себя, как у себя в баре.
Нет, Соня, ваш ангел-киноман не счел себя обобранным Чаплином. (Который, может, вообще забыл о нем.) Это на Гитлера Чарли вознегодовал. Тот не только привел человечество не в тот лагерь, Адольф носил такие же усики, как и Чарли; Чаплин не мог терпеть подобного плагиата.
14.
Посмотрите «Великого диктатора» глазами двойника. Вспомните все, что вы о нем знаете, и посмотрите этот фильм так, как если бы были на его месте, сидели в нем. Испробуйте соль его слез, и вы узнаете причину его смерти.
Для начала вспомните: история цирюльника и история диктатора начинаются вовсе не с первых кадров фильма. Потребуется подождать добрых десять минут. Сначала Чарли появляется один, прежний Чарли немых фильмов. Мы видим, как Чарли отправляется на войну четырнадцатого года. Мы видим его в траншеях, видим его артиллеристом «Большой Берты», видим его рядом с противовоздушной установкой, потом на параде, потом идущим на штурм, под обстрелом и взрывами бомб, видим, как он теряется на территории противника, как он убегает, как встает на место сбежавшего пулеметчика, как он героически сражается, как спасает Шульца, пилота-аристократа, который станет его другом, видим его в самолете этого самого Шульца, видим, как этот самолет разбивается, на чем и заканчивается первая часть фильма — Первая мировая война.
За все это время мы не слышали, чтобы Чарли говорил. При этом все вокруг него говорят: говорят офицеры, говорят унтер-офицеры, говорит противник, говорит пулеметчик, говорит голос за кадром, бесконечно говорит майор Шульц. Он же, Чарли, словцо — здесь, ухмылочка — там. Он как последний выживший из немого кино в звуковом фильме. Единственный невинный, заброшенный в пекло говорунов.
С первых же кадров он слышит взрывы, пулеметные очереди, рявканье приказов, свист пуль, крики солдат, двигатель самолета, ужасающий грохот разбивающегося самолета, дрожание листов железа, весь этот страшный гвалт войны…
Зал грохочет от смеха, когда «Большая Берта» выплевывает жалкий снаряд к ногам Чарли-артиллериста, когда граната с выдернутой чекой проскальзывает в рукав Чарли-пехотинца, когда Чарли, увлеченный атакой своих, вдруг, когда рассеивается дым, оказывается среди врагов, когда самолет Шульца летит пузом кверху, а Чарли этого не видит, когда часы Чарли встают на карманной цепочке, как очковая змея, когда взрывается самолет, когда голова Чарли высовывается из навозной кучи…
Публика в зале ликует.
В громкоговорителях — грохот войны.
В голове двойника — молчание Чарли.
И все причины его слез уже здесь, в этих безмолвных передвижениях.
Посмотрите на него. Он только что вновь открыл для себя Чарли! Чарли его откровения! Чарли «Иммигранта», того же самого! Переживание отбрасывает его на четверть века назад. Он вновь видит себя в дурацкой роли Перейры, в абсурдной форме Перейры, в мрачном кабинете Перейры, в состоянии восторга, в тот вечер — вечер, когда он открыл для себя кинематограф! — …восторга, его собственного! Восторга, который он вновь обретает сейчас! Посмотрите. Посмотрите на него, его сердце перестает биться так же внезапно, как ум перестает сомневаться. У него на лице выражение первопричастника в день конфирмации. Увы, в нем нет ничего от первопричастника! Увы, у него за плечами вся прожитая жизнь! Куда же пропало это первое очарование? Куда пропало первое очарование? В то время как Чарли на экране, обретенный Чарли, Чарли и его дикий танец на развалинах мира, Чарли вовсе не изменился! Это Чарли «Иммигранта», все тот же! Между тем годы оставили свой отпечаток на его лице, это видно сквозь его грим, это уже не молодой человек, годы и испытания и мелкие мерзости исподтишка, это больше не искренний юноша, слава, разочарования, это уже не актер в начале своей карьеры, неприятности в любви, проблемы с деньгами, преследования завистников, это идол, превратившийся в мишень, в его жизни тоже прошли десятки лет, но Чарли… Ах! Этот Чарли с экрана, несмотря на утиные лапки, прорезавшиеся в уголках глаз, несмотря на дряблую кожу на шее, несмотря на новую складку в углах губ, Чарли этого огромного экрана все тот же, тот самый, что с вызовом бросал свою жизнь в маленький светящийся прямоугольник над секретером Перейры! Тогда это была настоящая жизнь, и сейчас это настоящая жизнь, жизнь, которая противостоит жизни, живой ум, освобождающий от всех тягот, искусство, показывающее нос всему миру, поэзия, поэзия, поэзия, а он в своем кресле испытывает сейчас возврат этого небывалого откровения, прогибаясь под невыносимым грузом жизни, которую он не сумел прожить как следует, и он не сдерживает слез, наполняющих его глаза, слез благодарности и отчаяния, которые заливают его лицо. Подняв глаза к экрану, он шарит под креслом, ища свою бутылку…
А фильм идет дальше, к следующей части. Чтобы передать бег времени, Чаплин использует метафору ротационной печатной машины. Мелькают цифры: 1918, 1919, 1927, 1929, 1934… Одни газеты сменяются другими, одни заголовки другими, одни годы другими, тревожные новости катастрофическими…
15.
Новости…
Мне вдруг вспомнилось сейчас, в этом небольшом антракте (впрочем, это почти не имеет отношения к тому, о чем говорилось выше): Мишель — одинокий врач Аратубы — как-то рассказывал мне о смерти Сартра.
— Ты помнишь того мальца, который упал лицом прямо на ручку зажженной масляной лампы?
Да, это произошло посреди ночи, недалеко от Капистрано, в маленькой хижине, одиноко стоящей посреди каатинги, маленький мальчик лет пяти-шести разбил себе лицо масляной лампой. Исчерпав все ресурсы двух-трех местных лекарей, которые ничем не смогли помочь, родители мальца решили отвезти его, не мешкая, под палящим солнцем, в больницу Аратубы, надеясь найти там Мишеля. Лицо у малыша уже стало гноиться. Те участки, которые остались не тронутыми кипящим маслом, глубоко повредило битое стекло, а потерянное время довершило дело. Речь уже не шла даже о скорой помощи; ребенок умирал. Он бредил. «Естественно, у меня не оказалось никакого антисептика; эта чертова больница была всего-навсего сараем для умирающих». Конечно, никто не желал смерти этого мальчика. «Ни я, ни его родные». Ни на что не надеясь, Мишель все же снял участки омертвелой кожи с лица малыша с помощью бельевой щетки. «Знаешь, такая большая щетка для чистки белья, вот все, что было у меня под рукой, и никакого успокаивающего…» Родители присутствовали при этой пытке, а затем повезли ребенка, который продолжал бредить, назад, в свою одинокую хибару в каатинге. Два дня спустя Мишель пришел к ним, карабкаясь по склонам Аратубы с огромными мешками перцев и связками бананов на плечах.
(В день нашей встречи, когда я спросил у него, что он потерял в этом забытом богом краю, он ответил мне: «Я потерял здесь ответ на вопрос, почему люди умирают в стране, где на всех полно пропитания. Засуха засухой, но гора Аратуба может прокормить всю эту часть сертана». И в самом деле, каждый раз, когда мы с Ирен его встречали, Мишель шел, сгибаясь под тяжестью неимоверного количества фруктов и овощей, которые он раздавал здесь и там. Позже он выменивал лекарства на полудрагоценные камни.)
Словом, он появился в дверях хижины со своими перцами и бананами.
— Я был уверен, что ребенок уже умер.
Но он не умер. Раны начали затягиваться. А пенициллин, который Мишель успел раздобыть за это время, помог мальцу выкарабкаться. Крестьяне приняли доутора со спокойной благодарностью.
— Женщина положила мне тарелку риса и фейжау, приправленных фарофой; она даже добавила туда яйцо, что уже считалось большой роскошью! А ее муж растянул для меня гамак, чтобы я отдохнул.
За мальчиком ухаживали его братья и сестры: сидя вокруг него прямо на земле, они отгоняли мух от его лица. Во время послеполуденного отдыха человек в своем гамаке слушал маленький транзистор, который издавал звук, похожий на жужжание пчелы, звук, едва слышный, но хорошо различаемый в тишине пустой комнаты. (Такие транзисторы можно было найти в самых отдаленных уголках сертана. Новости, реклама, песни, трансляция футбольных матчей выливались оттуда тихим жужжанием, как из отдаленного улья, таким натянутым звуком — чтобы сэкономить батарейки! — что это еще больше отдаляло нас от остального мира. Напоминало шум забытой планеты.)
— И вот в этой тишине транзистор объявляет о смерти Сартра.
— …
— …
— И что?
— И ничего.
16.
Двадцать лет спустя он добавит:
— Сартр, между прочим, был одним из тех немногих авторов, которых я позволял себе читать во время моей учебы на медицинском, и я любил его. Если бы я узнал о его смерти, находясь в Париже, я выл бы, как теленок.
17.
Единственным посторонним шумом, который сертанехос слышали над своими полями маниоки, был сигнал точного времени в три часа пополудни и еще пролетающий на высоте десяти тысяч метров почтовый самолет.
18.
Диктатура запретила слово «крестьянин», в котором прочитывалась принадлежность к земле. Теперь их следовало называть «земледельцами» — словом, в котором было действие.
19.
— Почему мы так полюбили сертан?
— …
— Я хочу сказать, несмотря ни на что…
— Ты помнишь, что ты говорил в Бразилиа?
— Да, что там создается впечатление, будто живешь на горбу мира. «Земля круглая, Бразилиа — тому доказательство», — писал я друзьям.
— Так вот, сертан — доказательство обратного: земля плоская, и везде внутреннее пространство. Отсюда сопереживание сертанехос друг другу. Этих-то людей мы и полюбили, их и великое молчание их долин…
— …
— …
— …
— Мы ругали засуху, проклинали местный феодализм, ратовали за наделение крестьян землей и водой, осуждали их суеверное отношение к санитарным условиям и условиям питания, но с восхищением наблюдали их способность к сопротивлению, эту их особую мудрость, которую они противопоставляли непониманию своих угнетателей.
— …
— …
(Да, и эти капли пота, которые выступали на лбу у людей побережья, когда мы заговаривали с ними о глубинке, о, как мне это нравилось! Как если бы век спустя после уничтожения Канудос демоны внутреннего пространства все еще терроризировали жителей прибрежной полосы, прибитых к небытию моря.)
— …
— …
— Я проводил ночи на собраниях крестьянских профсоюзов, а днем строил из себя санитарного врача, но в глубине нас самих мы любили эту мысль, что здесь по крайней мере, даже когда все изменится, это останется неизменным.
— …
— …
— …
— …
— …
— И потом, есть еще кое-что.
—..?
— Именно из древесных пород сертана делают лучшие скрипки.
20.
Итак, клавиши печатной машинки отсчитывают годы на глазах у двойника: 1918, 1919, 1927, 1929, 1934… Это время Истории, но это также и его время; и его история — это история сертанехо, который порвал с глубинкой, бродячего паяца, оторванного от родной земли, безразличного к будущему мира, и который, постоянно выбирая не то и впадая в идиотские иллюзии, вечно оказываясь жертвой несчастливых случаев и преследующих по пятам оплошностей, так долго плыл по бесконтрольному течению собственной жизни, что в конце концов оказался выброшенным на берег здесь: в Чикаго, первого декабря 1940 года, с мокрым лицом, поднятым к огромному экрану Biograph Theater, где показывали «Великого диктатора» Чарли Чаплина.
Пришло время платить по счетам, он это знает.
Они будут оплачены литрами слез.
Осторожно, он сейчас начнет думать.
В первый и последний раз в своей жизни.
Ему вообще не следовало бы…
Это окажется для него фатальным.
…
Цифры перестают щелкать.
Чаплин с шумом врывается в звуковое кино.
Слушайте! Смотрите! Слушайте!
С высоты своей трибуны диктатор Аденоид Гинкель взывает к монолитной толпе. На несколько секунд зал замирает: что он говорит? Что это за язык? Потом раздается первый смех: Чаплин говорит по-немецки! Нет, он не говорит по-немецки, он делает вид! Нет, он не делает вид, что говорит по-немецки, он имитирует Hitlersprache[47], жаргон Адольфа Гитлера! И даже не это! Звук голоса Адольфа Гитлера! Невозможно различить ни одного слова, Чарли имитирует только звуки! Чарли издевается над Гитлером, издавая шумы своим ртом! Он каркает, он лает, он рыгает, он захлебывается, заходится кашлем, переводит дух, шепчет, воркует, харкает, как дикий кот, взрывается… Ай да Чарли, это же настоящий Гитлер! Разрозненные смешки превращаются в хохот, зал покатывается со смеху, качка переходит в настоящую бурю, особенно когда Чарли раздавливает гнусное животное лавиной своих шуточек: как я останавливаю приветствия этим своим знаменитым жестом, и как я ору в морду микрофону, который плавится под этим накатом ярости, и как я освежаю свои раскаленные яйца фюрера, выливая стакан воды себе в штаны, и как я выливаю другой себе в ухо, чтобы тут же выплюнуть его тоненькой мужественной струйкой; взбесившийся механизм, сломавшаяся марионетка, одновременно жесткий и не поддающийся контролю, исступленный и натянутый Чарли неистовствует, а зал Biograph Theater принимается скандировать имя своего идола: «Чар-ли! Чар-ли! Чар-ли! Чар-ли!» Два слога, отбивающие гонг в сердце двойника: «Чар-ли! Чар-ли!» Взрывоопасное смешение противоречивых чувств в дважды сорвавшемся сердце двойника. «Позор мне и да здравствует Чарли! — говорит себе двойник что-то в этом роде. — Позор на мою хренову башку и да здравствует Чарли Чаплин, который, не произнеся отчетливо ни одного слова, только что разом исчерпал все возможности звукового кино! Все, совершенно!» Пусть даже говорящее кино проживет еще тысячу лет, Чарли выплеснул его за пять минут! Никакой фильм никогда и ни за что не выразит правду того, что говорится здесь, ни один режиссер, никогда, ни в одном фильме, пусть даже в его активе будет весь словарный запас мира, самые меткие фразы, спонтанные или тщательно подобранные, не скажет столько, сколько Чарли сказал здесь, сейчас, своей тарабарщиной. «Потому что Чарли, — говорит себе двойник, — Чарли обратился прямо к тону — непосредственно! — оставив слова в дураках». Тон является единственной истиной речи, тот самый шум, который передает намерение человека, намерение этого человека, этого, на экране, Адольфа Гитлера, у которого Чарли вырывает правду с помощью одного тона, намерение этого человека, которого Чарли не передразнивает, но воспроизводит, — его намерение привести эту монолитную толпу к смерти, толпу, которая его боготворит, — к смерти! — механическую толпу, которую один-единственный жест заставляет аплодировать или замолчать, — к смерти! — и остальное человечество за всеми горизонтами, все толпы мира, в форме или без, — к смерти! Вот она, правда этого тона, единственное намерение этого человека — все человечество к смерти! Но толпа думает, что голос этого человека объявляет смертный приговор одним лишь евреям, потому что это слово, звук этого слова «евреи» харкает, харкает, харкает: «евреи! евреи! евреи!» Толпа слышит только это слово, которое вызывает у нее аппетит к бойне, и, готовясь пожертвовать всех евреев гетто брезгливому отвращению голоса, который их выплевывает, толпа не знает, что тем самым готовит свое собственное истребление. «Потому что, — говорит себе двойник, — голос, который требует конца одного народа, требует конца всех народов, жертвы всех, до последнего младенца, пищащего в какой-нибудь забытой богом хижине где-нибудь в самом глухом углу Африки». И двойник, — он опять шарит под своим креслом, подносит горлышко бутылки к губам — и двойник глоток за глотком говорит себе, что другая толпа, толпа смеющихся, толпа Biograph Theater, та, что окружает его, хлопая себя по ляжкам, эта толпа почти готова пуститься в пляс: добровольно! добровольно! не дать сделать это врагу рода человеческого! добровольно! взбучку Гитлеру! И еще он говорит себе, что, как только окончится сеанс, реальность, там, снаружи, опять окажется похожей, как два плевка, на то, что объявляет сейчас звук голоса Аденоида Гинкеля: на эту проклятую мировую войну! Вторую и праведную, всеобщую чистку, ни одна страна этого не избежит, это вопрос тона, чурраско[48] для всех, большое всепланетное мешуи, вот что уловил Чарли, вот что он говорит этим кретинам, которые ржут, глядя на него. Последняя оргия, вы тоже получите право в ней участвовать, кровавый котел размером с планету, я-то разбираюсь в тоне, черт меня побери, экс-двойник почившего диктатора Перейры, мне-то пришлось толкать речи, повелевать толпой, никто не превзойдет меня в точности тона, у меня была хорошая школа! „Я не из тех европейских политиканов, которые читают на публике приготовленные заранее сообщения по листочкам, я вдохновенный президент, когда я говорю, сам народ глаголет моими устами — остаток моей дикости! Все дело в тоне, ты понимаешь?“ Да, я понимаю, сволочь, еще как понимаю! Кто превратил крестьян Севера в шахтеров? Может быть, ты? Ты, Перейра, ты мотался по Европе со своей шотландской шлюхой, в то время как я отправлял своих собратьев в шахты, у меня был правильный тон, и жест тоже, черт меня побери! Изображать крестьянина, дожидающегося, когда созреет баклажан, ты, ты сам додумался бы до этого? Ты смог бы это сделать? Как же, куда тебе! У меня был тон, у меня был жест, позор на мою голову, смерть мне, ведь я всех их похоронил заживо, лишив неба, всех, всех этих людей ветра и солнца, которые поверили в мою справедливость, потому что им нравилось смеяться вместе со мной, это желание смеяться, которое у них не отнять, у них, у сертанехос, таких серьезных в глубине, смеяться среди своих, смеяться от души, доверчиво, доверяя мне, которого они принимали за одного из своих! Мой тон был правдивым, а трюк с баклажаном — действенным, достаточно было одной лишь хохмы, чтобы мне удалось превратить в кротов этих птиц высокого полета, отправить солнце угасать в шахте, позор на мою презренную голову, черт меня побери и да здравствует Чаплин!»
— Чар-ли! Чар-ли!
Потрясая бутылкой, он тоже будет славить своего Чар-ли! Чар-ли! только вразнобой, и, как часто бывает в кино, этот одинокий голос лишь подлил масла в огонь, и зал припустил за ним, наступая на пятки своим новым «Чар-ли»! После чего этот зритель зашелся рыданиями, которые поглотил оглушающий каскад смеха. Его охватил один из приступов сострадания к себе самому, напоминающих те слезы, которые он проливал над своим бессилием в объятиях «настоящих женщин»… Потому что, — оправдывался он, — он, в конце концов, был не так уж и плох, однако ему было далеко до Аденоида Гинкеля! Он был всего лишь жалкий двойник, и он сбежал, он выбрал искупление кинематографом, он передал дела другому двойнику, который мог поступить точно так же, если ему, в свою очередь, тоже все это приестся! Каждый волен выбирать свой путь, черт возьми, в конечном счете это было дело выбора, сознания!
Сознания?
Сознания? Ты сказал, сознания?
Сознания!
Твоего?
Образ кинооператора вдруг предстал у него перед глазами.
Оператора, которого увели люди Геррильо Мартинса.
«Заберите человека и оставьте аппарат».
Это он им сказал?
Ты уже забыл об этом?
Ты забыл оператора?
А? А!
Это правда, он сдал оператора людям Геррильо, прежде чем «Мотиограф» успел остыть. «Заберите человека и оставьте аппарат». О! Этот обреченный вид оператора, когда его поглотила обитая железом дверь. О! Этот последний взгляд! О! Это исчезновение! Ибо именно этого требовала телеграмма Перейры несколько дней спустя: «Пусть исчезнет!» Даже не «выдворить его», не «подальше», не «расстрелять», нет, он требовал исчезновения, «пусть исчезнет», понимая под этим: чтобы ничего не осталось, ни малейшего следа, не желаю иметь никаких доказательств его существования, отвечаешь своими яйцами, двойник! «Исчезновение», как если бы оператор был всего лишь кадром из фильма, точно, и что достаточно было… И он, он дал ему исчезнуть, этому бедному простаку, ангелу его Благовещения! Он заставил его исчезнуть, так же просто и естественно, как он нажимал на маленький электрический бананчик, который он представлял, обращаясь к крестьянам: свет и темнота, вот и все, картинка и — хоп! — нет картинки: оператор и — хоп! — нет оператора. Как, черт бы его побрал, он мог забыть об этом убийстве, настолько погасить свою память? Он никогда больше не вспоминал об операторе, ах нет, однажды, когда рассказывал Чаплину дурацкую байку про вдову и сирот, впрочем, Чаплин не поверил ни единому его слову. И вдруг он почувствовал себя хуже, чем если бы сам закопал оператора живьем — что обожали костоломы Геррильо Мартинса, — это было, это было… он не мог даже укрыться за эфемерной причиной государственной пользы, как в других случаях «исчезновения» у Перейры («государственная польза — мой личный погреб, спускаешься и больше не поднимаешься»), нет, смерть оператора была на его совести, банальное воровство, он убил этого человека, чтобы прибрать к рукам его кинопроектор и пленки, всего-навсего, это было… О! Это было… опять за бутылку, потопить это все… поглощаемая жидкость выливалась из него слезами и соплями… и в то время как на экране Чарли, обратившись цирюльником, снова вызывал хохот в зале, брея клиента под пятый венгерский танец Брамса — Совершенство жеста! Ай да Чарли! Какое умение орудовать кисточкой! Какое чувство пены для бритья! Какое искусство обращаться со станком! Плавные движения его лезвия! Можно подумать, он был брадобреем всю свою жизнь! — в то время как бритва Чарли порхала под скрипки Брамса, двойнику внезапно пришла мысль, что все те слезы, которые он пролил над Валентино, были на самом деле предназначены исчезнувшему оператору, вся та искренность, с которой он оплакивал смерть Валентино, должна была оросить могилу оператора, которая была так глубоко спрятана у него в памяти, так мало проявлялась на поверхности его сознания, что в результате какого-то странного трюка, который он не мог себе объяснить, что-то в нем настойчиво требовало предаться явной скорби, несчастью, которое было у всех на глазах, и он решил отыграться на унизительной смерти Рудольфа Валентино, он обвинил себя в этом! «Его репутация импотента — это моя вина!» Он взял на себя этот мнимый грех, хотя никто его об этом не просил, по своей собственной инициативе. Искупление! Публичное и нескончаемое покаяние! О! Сладостное опьянение! Он провел четырнадцать лет своей жизни — четырнадцать лет! — в гротескном положении Христа, который вздумал бы сам себя распять, упорно стараясь вбить гвозди в собственные руки, не прибегая ни к чьей помощи, но это невозможно, приятель, подумай хоть секунду, как ты собираешься вбить последний гвоздь, а, Иисусик? Естественно, до сих пор всех смешила гротескность его положения (парень, обвиняющий себя в смерти Рудольфа Валентино… нет, встречаются же такие, которые мнят себя самим Джефферсоном…), и от этой бесконечной комедии сегодня всего и осталось, что ощущение нелепости.
Да, нелепо…
Грызущий себя более остервенело, чем собственные угрызения!
Тебе мало было быть просто убийцей, тебе непременно надо было стать нелепым убийцей?
Впервые в жизни он испытал абсолютность своего одиночества, ибо ничто не делает нас более одинокими, не заставляет углубиться в самих себя, как подтверждение собственной нелепости.
Его удивил взрыв собственного смеха.
Но он смеялся не над собой.
Он смеялся над Адольфом Гитлером.
Он вспомнил, что видел — это уже превратилось в воспоминание! — как Аденоид Гинкель карабкался по занавескам своего кабинета в приступе кризиса восходящей мании величия и играл с воздушным шариком в виде глобуса, пока тот не лопнул прямо у него перед носом… Гротеск! Полный гротеск! Чаплин откровенно высмеял Гитлера! Он снова принялся кричать: «Чар-ли! Чар-ли!»
Но на этот раз никто его не поддержал, потому что сцена с картой мира давно кончилась, фильм продолжался, и в данный момент показывали совершенно нейтральный фрагмент, когда на гетто вдруг снизошло чудесное спокойствие, когда Ханнах прихорашивалась, чтобы пойти на свидание с цирюльником, а цирюльник прихорашивался, чтобы пойти на свидание с Ханнах, а во дворе, собравшись вокруг господина Жэкеля, соседи доброжелательно обсуждали эту зарождающуюся идиллию…
— Заткнись! — вдруг выкрикнул ему голос из зала.
— Замолкни! — ответил ему эхом другой.
— Чтоб тебя, заткнешься ты или нет?
Ладно, ладно, он подавил свой приступ смеха в очередном глотке виски.
21.
Шестьдесят два года спустя, в конце октября 2002-го, когда «Диктатор» вновь появился на французских экранах, я только что закончил эти страницы, и мы с Минной пригласили Соню снова посмотреть этот фильм.
Париж, 19-й округ, станция метро «Жорес»… Набережная Сены… Пруд Вилет, по которому плавно скользят лодки… После сеанса, когда уже стемнело, мы пошли в ресторан рядом с кинотеатром. Во время ужина Соня рассказала нам, что Чаплин упрекал себя потом за то, что снял этот эпизод счастья в гетто.
— Со сценографической точки зрения это тем не менее оправдано, — пыталась защитить его она. — Диктатор Гинкель просит займа у еврейского банкира Эпштейна, и, чтобы получить его, он решает приласкать поселенцев гетто. Комический эффект обеспечен: вчерашние гонители становятся такими же предупредительными, как собаки-поводыри, счастье появляется на пороге с присущей ему естественностью, и жизнь снова идет своим чередом, как будто ничего и не было.
Соня задумчиво смотрела на водную гладь, где теперь отражались освещенные фасады зданий.
— Но когда размах геноцида стал известен всем, — продолжила объяснять она, — всегдашние хулители Чаплина стали обвинять его в том, что он смягчил ужас происходящего; а он, который так великолепно предвосхитил этим фильмом историю, он им поверил, этим идиотам! Ему стало стыдно за то, что он снял эти несколько беззаботных минут… И даже за то, что он заставлял смеяться над ужасами нацизма.
Она кипела от ярости. Именно в этот момент я как нельзя более ясно увидел в ней юную девушку, которой она когда-то должна была быть. Она стучала ладонью по столу; наши стаканы, подпрыгивая, двигались к краю.
— Боже мой, это ведь самые острые моменты фильма! Именно потому, что, стирая трагедию, они подчеркивают систематический ужас. В течение нескольких секунд в этом всеобщем сумасшествии нормальные люди живут нормально; со всеми их небольшими достоинствами и мелкими недостатками… Завтра их ждет смерть, почти всех, а немногие выжившие никогда больше не узнают беззаботного спокойствия… Вот что снял Чаплин! Сам не зная того, он снимал последние мгновения беззаботности.
Когда Минна спросила, почему с самого начала и до последних дней все так доставали Чаплина, Соня ответила:
— Причина всегда была одна и та же: Америка предоставляла нам единственный выбор между убийцами и ассоциациями нравственности. Чаплин не терпел ни одних, ни других, ему пришлось заплатить за эту независимость мысли, и довольно дорого!
Затем, возвращаясь к моей книге, она сказала:
— Но если я правильно поняла, ваш двойник оказался не слишком чувствительным к этой сцене мира в гетто.
22.
Нет, он был чувствительным к другому. Поднявшись со дна его бутылки, очевидность поразила его: никто в гетто не замечал сходства между цирюльником и диктатором! Его это настолько изумило, что он захотел предупредить об этом соседей, однако инстинктивно решил от этого воздержаться… И все же, все же то, что никто не реагировал, это было… Посмотрите (его глаза расширились до размеров экрана), посмотрите же: после пятнадцати лет амнезии цирюльник вернулся-таки в гетто; все присматриваются к нему, глядят только на него, говорят только о нем, и никто не видит, что он — точная копия Аденоида Гинкеля, портреты которого развешаны повсюду! Ни господин Жэкель, ни его жена, ни господин Манн, ни даже Ханнах! Никто! Ни малейшего намека на малейшие родственные черты, сближающие диктатора и цирюльника. Черт, что они слепые, что ли? Ханнах собирается на свидание с двойником тирана, а мадам Жэкель наряжает ее, будто она собирается к сказочному принцу! Все гетто радуется, наблюдая, как сиротка отправляется в лапы двойника Людоеда! Даже в зале Biograph Theater зрители находят вполне естественным и даже желательным, что Полетт Годдар готова связать свою жизнь с близнецом Адольфа Гитлера. «Это же повторение Гитлера. Черт возьми, — кричал про себя двойник, — надо предупредить малышку! Но нет, — поправлялся он, — условие, старик, кинематографическоеусловиестарина! И ведь все проглатывали это, как само собой разумеющееся. Это было еще одно подтверждение гениальности Чаплина! Чарли, решительно, ты — король! Но если отнестись к этому серьезно, — продолжал размышлять он, — еслиотнестиськэтомусерьезно, — заикался он про себя, — почему никто не замечает сходства между этим цирюльником и этим диктатором, что все это значит? Или, скорее, то, что они это замечают, но принимают безоговорочно, что это значит?»
От этого вопроса у него перехватило дыхание.
Это значит…
Он вооружался против очередного приступа отчаяния…
Это значит…
…
Это означало, что как бы они ни походили друг на друга, этот вот цирюльник и вот этот диктатор не имели совершенно ничего общего: слово в слово то, что Чаплин заявил после заглавных титров: «Всякое сходство между диктатором Гинкелем и евреем-цирюльником следует считать чистой случайностью».
Именно! Ничего общего… совершенно ничего… два столь разных человека, что никому не пришла бы в голову мысль поставить их рядом, зритель видит их из… изнутри, они настолько внутренне не схожи, я имею в виду, по-человечески, что даже если бы они прогуливались, взявшись за руки, с одной фуражкой на две головы, никто не заметил бы сходства между Гинкелем и цирюльником! Ниии-кто!
Итак…
Итак, если дело в этом…
Если дело в этом, то…
Если дело было в этом, то мораль, выявленная Чаплином, должна была оказаться самым сильным, смертельным ударом, который ему могли нанести, ему лично.
Мне лично.
Самый строгий из приговоров.
— Совершенно с тобой согласен по этому пункту, — сказал голос Перейры у него в голове.
Перейра у меня в голове!
На этот раз у него отказал мочевой пузырь.
— Быть двойником — это желанная роль, — объяснял Перейра, — я говорил тебе это сто раз. Сходство — это действие веры, как сказал бы твой иезуит. Я хотел, чтобы ты был на меня похож, ты хотел походить на меня, и мы стали похожими друг на друга, вот и вся наша история… Во всем этом нет места, ни миллиметра, для твоей невиновности. Цирюльник вот никогда не хотел походить на Гинкеля, насколько я знаю.
Что это, я мочусь в штаны?
Неужели я сейчас…
Точно так, но другая деталь отвлекла его от этого исследования: мадам Жэкель предложила надеть митенки на руки Ханнах, чтобы цирюльник не заметил, что они все потрескались от стирки. Вот теперь Ханнах наряжена как следует. Она наклоняется над перилами лестницы и просит маленькую Анни, пойти посмотреть, «готов ли он».
— Анни, поди посмотри, готов ли он!
Девочка, игравшая со своей куклой, радостно направляется к лавочке цирюльника.
На этот раз его внимание остановило местоимение.
«Поди посмотри, готов ли он»…
Кто — он?
Цирюльник, естественно!
Он только что заметил, что никто, с самого возвращения цирюльника в гетто, не называл его по имени. Это превратилось для него в дело принципа. У цирюльника нет имени? Нет фамилии? Это просто «цирюльник»? Даже для своей возлюбленной? «Цирюльник»? Ханнах собирается провести свою жизнь с этим человеком, называя его «цирюльником»? У всех остальных есть имена, у господина Жэкеля, его жены, у господина Манна, мистера Агара, полковника Шульца, госпожи Шумахер, даже у маленькой Анни… но не у него?..
О! Боже мой!
Ему вдруг стало обидно, как ребенку. Печаль всеми покинутого. Даже теперь, в своем иссушенном теле он находил слезы, чтобы оплакивать человека без имени. Он больше не мог ни о чем думать, чтобы сказать себе, например, что цирюльник был последним перевоплощением Чарли и что у Чарли никогда не было особенного имени, ни в одном из фильмов Чаплина.
У меня ведь тоже нет… Прикусив кулаки, прижав колени к подбородку, впившись локтями себе в ребра, он тщетно сражался против…
Я провел всю свою жизнь… Даже малышка не знает моего имени… Он думал о Соне, молоденькой билетерше, которая пожалела его. Или, если точнее, Полетт Годдар напомнила ему о Соне. Ханнах, когда она приносит белье… с корзинкой на голове… Даже ей я не сказал своего имени… после сеанса мне надо будет…
Ему вдруг стало очень холодно.
Мне холодно, мне…
Страшно, как в момент рождения.
Потом он взял себя в руки и сказал себе, что «дело вовсе не в этом». Чарли-цирюльник представлял собой «символ», символ всех тех, отданных в жертву, которых завтра уже не будет в живых, и даже имен их не сохранится: всех этих Ханнах из всех гетто, всех этих Жэкелей, всех этих…
Он взмыл вверх, увлеченный волной пафоса, жертва без имени среди таких же безымянных жертв. Он расплакался от души, не сдерживая последних слез. Эта братская печаль немного успокоила его, как теплое течение в ледяном море, которое уносило его все дальше от берега, в компании будущих мучеников…
Теперь мне жарко.
Мне…
Фильм тем временем продолжался; поскольку банкир Эпштейн отказал диктатору Гинкелю в займе, в гетто вновь появились отряды смерти, уничтожая все на своем пути… «Черт, какая у них отвратительная униформа!» Это правда, Чаплин использовал форму нацистов. Он напялил на этих актеров ужасную форму штурмовых отрядов, которая, казалось, была сшита на детей, страдающих ожирением и занятых единственно лишь удовлетворением своих потребностей… «В этих штанах у них задницы будто в подгузниках. Тряпки, полные дерьма, не будь на них сапог и ремней, все это уже полезло бы наружу!..»
Он хотел было рассмеяться, но тут вдруг ему в голову пришла другая мысль,
или, скорее, она свалилась ему на голову, как дикая кошка;
смертельный удар.
Эти парни, что горланили и били витрины, эта свора шавок, спущенных на гетто, эти свиные рыла, которые отправлялись сожрать цирюльника живьем…
Они тоже не имели имен!
«А завтра они скажут, что они здесь ни при чем», — подумал он, наблюдая, как они набрасываются на Чарли…
Сам он принадлежал именно к этой анонимности, а не к другой, не к безымянности жертв. Он был одним из людей Геррильо Мартинса, любителем человеческой смерти, специалистом по исчезновениям.
— В этом я с тобой также согласен, — отозвался у него в голове голос Перейры.
Его рука в последний раз нащупала бутылку.
Пустую.
23.
Дорогая Соня,
я почти закончил с двойником. Я хотел бы вернуть вам ваш набросок. Если вы не отправились прогуляться, мы могли бы встретиться после моего возвращения. Мы с женой будем на следующей неделе, мы выбираем небольшие тихие дороги, потихоньку читая вслух последний роман Филипа Рота.
24.
Дорогой автор,
почему вы решили, будто я должна «отправиться прогуляться»? Вы полагаете, что, достигнув известного возраста, все женщины, которые в душе немного актрисы, страдают синдромом Рифеншталь? Гитлер не был песней моей юности, и у меня нет ни пристрастия к погружениям с аквалангом, ни малейшего желания идти отнимать портрет у хорошеньких мальчиков с вершин Нуба (которых, к слову, местные власти нещадно бьют пользуясь всеобщим безразличием). Чтобы быть честной до конца, у меня даже нет сил — недавний вывих — спуститься на рынок Бельвиля. Мой внук Фредерик обеспечивает мое пропитание, а я дожидаюсь, пока спадет опухоль, вот и все мои планы. Таким образом, одиннадцатого числа вы застанете меня у окна моей квартиры на улице Анвьерж, как в прошлый раз. Пожалуйста, в час вувре.
И все же не откажите в одной любезности. Прежде чем прийти, пришлите мне то, что вы написали. Мне весьма любопытно узнать, под каким соусом вы подали мои останки. А я открою вам некоторые подробности моей юности, которые, может быть, напомнят вам вашего друга Фаншон.
Ах! Чуть не забыла. Вы знаете, что «Диктатора» снова будут показывать в середине октября? Подобные новости добираются к вам в Веркор?
25.
В утро открытия сезона охоты все ружья Веркора дают свой первый залп ровно в семь часов. Это сигнал к нашему отъезду. Мы с Минной оставляем наших лесных жителей на расправу горным людям. Хлопают дверцы, рычит двигатель, теперь мы полностью предоставлены сами себе. Столько лет нас привлекает это наслаждение путешествовать вместе… Откуда это чувство, что и в поезде, и в самолете, и в машине, и на борту корабля, и в автобусе, и в метро или даже в лифте мы ближе друг другу, чем где-либо в другом месте? При этом мы не особые любители дорог, мы, скорее, принадлежим к домоседам. Это и не страсть к путешествиям, не их продолжительность, не направление, не удовольствие отправляться в путь, не нетерпение быстрее добраться до места, не удивительные вещи, встречающиеся по пути, и даже не страницы, которые один читает вслух, пока другой ведет машину, нет, здесь кое-что другое… Это, может быть, вот что: как только мы направляемся куда бы то ни было, наше общее время совершенно останавливается.
Если очарование сохранится до последней минуты, то мы хотели бы, чтобы нас не зарыли в одну дыру в земле, а запустили вместе в одном металлическом шарике на какую-нибудь орбиту, вот все, чего бы мы хотели.
26.
Последнее, что бросается в глаза, когда мы покидаем наш дом: листва старой рябины, в которой дрозды скоро станут мишенями для охотников. Знает ли она об этом, эта красноголовая старушка, которая напоминает мне цезальпинии сертана? А эти ростки, которые Минна высаживает под нашими окнами, они знают об этом, когда взрываются цветами в середине августа? Это верно, что вся южная часть Веркора — островок без моря, где трактор с остервенением грызет каменистую почву, где крестьянин молчит о своей истории — напоминает мне все ту же безмолвную землю сертана, которая между тем похожа на Веркор не больше, чем цезальпиния похожа на рябину, а здешнее молчание на то, далекое.
27.
Бразильский сертан — это три Франции галечника и сероватых колючек под белым солнцем, которые украшает то тут, то там красный пожар, отороченный золотом: цезальпиния! Самое красивое дерево на свете, которое даже не позволяет себе роскошь быть редко встречающимся.
28.
Мы движемся по одной из дорог Бургундии…
Мы в разгаре чтения последнего романа Рота…
Она читает вот уже добрых три часа без остановки. Она никогда не повышает тона. Она лишь слегка предупреждает и подчеркивает интонации автора. Путешествовать для меня теперь — это скользить по ясной дорожке ее голоса; большинство наших маршрутов сливаются с этими часами чтения, а романы пишутся между двумя городами. «Завещание по-английски» Джонатана Коу — между Парижем и Ниццей, несмотря на дорогу Наполеона (моя читательница не увлекается на виражах). «Сага о Йёсте Берлинге» Сельмы Лагерлёф, неизвестно какое уже перечитывание, — между Биаррицем и Парижем (что мы забыли в Биаррице, хоть убей не помню). «Водная музыка» Т.К. Бойла — исключение: три дня лежали валетом в гамаке, растянутом между двумя ясенями, которым до всего этого как до луны. «Могила для Бориса Давидовича» Данилы Киша — правдивый роман об исчезновении, оказавшийся таким захватывающим, что был прочитан два раза вместо одного между Каором и Парижем. «Бесчестье» Кутзее — между Ниццей и Кимпером, Франция по диагонали (сколько было пролито слез, Кутзее!), «Праздник в Буке» Марио Варгаса Льосы — между Веркором и Лаграссом, в Корбьерах (возвращались уже по автостраде, с полным багажником белых, сгнивших по дороге от жары и духоты). Потрясающий «Маленький картезианский монастырь» Пьера Пежю — между Валенсой и Ниццей, по паковому льду. Целый день в метро с «Последней ночью» Мари-Анж Гийом в замечательном «Издании Пассажа» и двадцать четыре часа в самолете с «Рукописью, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого (путешественник, направляющийся в Нумеа, на другой конец света).
Она читает Рота вот уже несколько часов подряд, это история Кольмана… (медленное осыпание этих социочеловеческих блоков, которые являют собой персонажи Рота…)
И вдруг, оторвавшись от книги, поднимает глаза:
— Кстати, как там твой двойник?
— С ним все кончено.
— Умирает?
— Да. Полное обезвоживание. Тело потеряло свою жидкость, теперь оно может отпустить и душу.
— Он, что, мумифицирован?
— Как иудейские ослы, которых он оставил подыхать в засуху, когда шел через континент. Его сжирает лихорадка, почти такая же, какую вызвал у него яд гадюки, помнишь? Он бредит. Теперь он видит фильм только урывками. Изображения Чаплина смешиваются с его собственными галлюцинациями. В то время как над головой у цирюльника, который произносит финальную речь «Диктатора», собираются тучи, он, двойник, видит, как целые озера испаряются прямо у него под ногами. Мы с Ирен видели такие озера, одно было прямо около нашего дома, в Марапонге; довольно большой пруд, собаки и зебу приходили к нему утолить жажду, ребятишки из фавел резвились там, пока их матери стирали белье. Да, почти настоящее озеро. Оно испарилось во время засухи; небо всосало его, земля поглотила буквально у нас на глазах. За несколько недель оно превратилось в болото, потом в лужицу, в маленькое окошечко воды, в плевок и наконец совсем исчезло, оставив только шрамы в суглинке, как распухшие веки.
— …
— Значит, двойник умирает, он возвращается домой, он поддался влечению вглубь.
— В общем, путешествие, противоположное нашему в каком-то смысле.
— Именно. Он не едет «к Парижу», он не «пускается в обратный путь», он наконец нашел выход для себя. Он ступает по земле, которая теряет свой цвет вместе с водой. Вокруг него земля превращается в камень, и глаза закрываются. От жажды ему опять мерещится эта косточка сепии, которую его мать подвешивала в клетке попугая. Попугай — это очень важная вещь в сертане. Попугаи в частности и птицы вообще. Птичьи рынки можно обнаружить даже в самых глухих захолустьях. У индейцев существует настоящий культ птиц.
— …
— Птицы…
— …
— Дело не только в их пении в этой полной тишине… Здесь кое-что еще… Для жителей сертана птица, должно быть, представляет собой живое доказательство существования других мест, как мне кажется; а попугаи распространяют новости. Когда они сидят в клетке, они их выдумывают, что также неплохо. А воображение сертанехос, которое почти не имеет границ, довершает остальное.
— …
— Как все дети, выросшие в каатинге, двойник провел детство с попугаями. И, может быть, еще с броненосцем. До самого того дня, когда им пришлось зажарить броненосца и продать его панцирь заезжему музыканту, который потом сделал из него чаранго, разновидность мандолины, на которой играют на хребтах Амазонии.
— А они съедобные, эти броненосцы?
— Да, как черепахи.
— …
— Я никогда не рассказывал тебе бразильскую историю диктатора, который ел только черепаший суп?
— Нет, не думаю.
— Ожиревший диктатор, со щеками, свисающими на брюхо, представляешь себе? Каждый вечер ему готовят черепаший суп. Но однажды вечером супа нет. С диктатором случается приступ. Его мажордом спускается на кухню. Ему показывают черепаху, которая не хочет высовывать голову из своего панциря. А всякий знает, что нужно отрубить черепахе голову, чтобы все остальные части тела стали съедобными. «Дайте мне», — говорит мажордом. Он берет черепаху, вставляет палец в заднее отверстие животного, черепаха тут же высовывает возмущенную голову, которую мажордом немедленно отрубает. Челядь в восторге: «Где ты этому научился?» Ответ мажордома: «А как, вы думаете, я надеваю галстук президенту?»
— Тонко.
— Не правда ли?
29.
Холод заставил их съесть броненосца.
Потом пришел иезуит,
который взял его с собой в город,
спасая его или, наоборот, обрекая,
это как посмотреть.
Как бы там ни было, жизнь прошла; теперь он умирает. Сидя перед этим огромным экраном, он агонизирует, он возвращается внутрь страны, ведомый болтовней попугая. Это его путеводная звезда. Попугай, очевидно, итальянец; во всяком случае, он читает ему стихи на итальянском. Можно подумать, что он издевается:
Eri pur bella, о di Colombo terra avventurosa, e l’ospitai tuo seno al proscrito porgesti!Эта насмешливая болтовня напоминает ему кого-то, чей голос вовсе не походил на птичий и кто никогда не иронизировал:
А ведь ты была прекрасной, манящая земля Колумба, и как припадал к твоей груди изгнанник!В криках попугая он узнает бронзовый голос цирюльника-гарибальдийца своей юности. Каждый раз, когда старик читал наизусть Гарибальди, попугай устраивал обструкцию. Он пытался перекрыть голос революции.
— Надо же было нам напасть на единственного попугая-католика на всем внутреннем пространстве! — старик ругался, но гнул свое.
Он должен был научить подмастерье стричь бороды по-гарибальдийски, но прежде всего познакомить его с поэзией Гарибальди, в первую очередь с его «Монтевидео», и все для того, чтобы исполнилось обещание братского континента.
— Ты должен стать не гарибальдийцем, а Джузеппе Гарибальди собственной персоной! Повторяй за мной:
Una daga per combattere gli infesti ed una patria non di rovine seminata.Он повторял:
Дайте мне кинжал, чтобы истреблять гнилье, и родину, которая не лежала бы в руинах…Старик ликовал:
— Моя красная рубаха будет тебе знаменем!
Все это приходит ему на память, пока он пересекает солнце, ступая точно в строфы Гарибальди:
Un cielo come d’Italia, abitator fratelli, e donne impareggiate.О! Да…
Небо Италии, братственный народ и неповторимые женщины…Боже мой… эти «неповторимые женщины»…
В то время как на экране Ханнах плачет, распростершись на земле, и тоже слышит голос с неба: «Взгляни на небо, Ханнах»…
Как он мечтал об этом, об этих donne impareggiate! Сколько раз после долгих дней, проведенных с гребешком и ножницами в руках, он засыпал, воображая себе этих неповторимых женщин!
«Взгляни на небо, Ханнах, из мрака мы движемся к свету…» — произносит небесный голос Чаплина.
Теперь он умирает. Он движется вглубь. Он возвращается домой. Он один захватывает свой континент. Он необыкновенно легок, и тем не менее он продвигается, поднимая тучи пыли, как тысячи всадников.
Он летит к забытым братьям и неповторимым женщинам…
Попугай ведет его.
Красная рубаха старого цирюльника развевается на ветру.
«Взгляни на небо, Ханнах, наша душа вновь обрела свои крылья…» — говорит голос Чаплина.
И в то время, когда Ханнах поднимает глаза к небу,
антрацитовые облака плывут к нему со всех сторон, плывут и собираются в тучи, собираются и сливаются,
прямо у него над головой,
и прорываются, как бурдюк,
все облака мира,
прямо у него над головой,
как бурдюк, который прокалывают
и который выплевывает воду,
всю разом,
он видит, как вода падает на него,
все капли вместе
и каждая в отдельности,
все вместе
и каждая капля, которая сама — целый мир…
«Долетят ли они до земли? — думает он, подставляя им свою обожженную кожу, свои открытые ладони, свои закрытые веки, свои расплавившиеся губы. — Долетят ли они до земли?..»
…
Это конец. В то время пока в сертане идет дождь, пока все дыры заполняются водой, пока небо орошает землю, а природа, столь долго сдерживавшаяся, расцветает амариллисами, бутоны распускаются, не дожидаясь, когда вырастут листья, когда прилетят, жужжа, насекомые и поднимутся в облака птицы, пока ботаники, энтомологи и орнитологи пополняют свой словарь, в котором романисты будут черпать свои краски, пока свершается это мгновенное и вековое чудо: конец засухи, превращающий ад в рай, молоденькая билетерша находит труп в опустевшем кинозале Чикаго, труп, высохший, как шкура козы, но мокрый с ног до головы.
— …
— …
— И ты все это написал?
— Написал и послал Соне.
V. Мнение Сони
1.
Обычно пишут, чтобы разобраться в самом себе, но с надеждой быть прочитанным, и нет никакой возможности избежать этого противоречия. Это все равно как если бы вы тонули, крича: «Мама, смотри, как я плаваю!» Те, кто во все горло орут о достоверности, бросаются с пятнадцатого этажа, изображая полет ангела: «Вот, смотрите, я — это просто я!» Что же до тех, кто не претендует на то, чтобы их прочитали (например, ведя личный дневник), они доводят до нелепости мечту быть одновременно и автором, и читателем.
Вот что я говорил себе, поднимаясь по улице Пиат, направляясь к дому Сони, нежась в лучах солнца, обещавшего спокойную осень. «Приходите, дорогой автор, я вас прочитала, будет о чем поговорить». Она донимала меня своими «дорогой автор», но это и делалось для того, чтобы донимать меня. Ее коротенькая записка вызвала во мне то неоднозначное возбуждение, которое мне так хорошо знакомо: любопытство быть прочитанным и стыд за это любопытство: желание похвалы и отвращение к этому желанию; ожидание объективной критики и протест независимости. Все это на фоне ложной скромности: «Какая разница? За кого ты себя принимаешь?» И все тех же неотступно преследующих вопросов, последствия неврастенического воспитания: «Да, в самом деле, за кого я себя принимаю и какая, собственно, разница?»
2.
Соня встретила меня, протягивая мне бутылку вувре и штопор. Затем она повернулась и засеменила в гостиную, держа в руках два стакана. Ее вывих, кажется, уже прошел.
— Ну, как путешествие? Как ваше чтение Рота?
Внешность старой апачи… Она и правда похожа на Натали Саррот. Интересно, сколько ей может быть лет? (Когда я был маленьким, я думал, что моя бабушка бессмертна. Ее почтенный возраст гарантировал мне ее вечность. Не было никаких причин, чтобы она ушла из жизни, если она уже так долго живет! Другие, более молодые, со всей их жизненной силой, казались мне гораздо уязвимее.) С этой точки зрения морщины Сони, глубокие, как впадины, ее руки из слюды, ее голос, сухой, как мел, блеск ее глубоко посаженных глаз предоставляют ей серьезное право на бессмертие.
Она опять заговорила о Роте, пока я откупоривал бутылку.
— Что вы хотите, этот ваш Рот выводит меня из себя. Мне нравится, когда он копает, но он крайне раздражает меня, когда начинает бетонировать. Этот большой мальчик не испытывает ни грана доверия к своему читателю. Когда я его читаю, у меня всегда такое впечатление, будто он сейчас вырастет у меня за спиной, чтобы спросить, все ли я поняла. Чем дальше, тем больше он мечет свои романы, как бисер перед свиньями. Он напоминает мне одного из моих любовников, который кричал: «Сперма! Моя сперма!», — каждый раз, когда кончал в меня, как будто я его обворовывала.
Тут я поднял глаза, немного ошарашенный. Соня слегка улыбнулась, беря открытую бутылку у меня из рук:
— Шутка! К тому же последняя фраза и не моя вовсе… цитата уже даже не знаю из кого.
(Ах так…)
— Я просто хотела, чтобы вы расслабились. Вы такой хмурый. Присаживайтесь вот сюда.
Как я уже говорил, здание, в котором находится квартира Сони, врубается в небо, как форштевень. Соня указывала мне на кресло, стоявшее прямо у окна, ее кресло.
— Да, да, прошу вас…
Она одним махом повернула себе другое кресло, и вот мы уже сидим рядышком, со стаканами в руках, наблюдая Париж с высоты птичьего полета.
Молчание.
Затягивается.
Париж.
(Я не могу сказать, чтобы сходил с ума от панорамных видов. Я ничего для себя не нахожу в этом взгляде глазами голубя. Все становится слишком абстрактно или слишком реалистично. Эти летающие крысы вечно ошибаются с дистанцией: они либо взмывают на высоту, с которой Париж виден, как на карте, либо пикируют на уровне собачьего дерьма. Метафора из литературных споров.)
Продолжение молчания.
Потом, словно поскользнувшись, Соня обронила:
— Я была права, почти ничего не рассказав вам о своей юности…
— …
— Это позволило вам сделать мой портрет весьма привлекательным.
— …
— Может быть, даже слишком привлекательным…
— …
— Это ваша маленькая слабость — идеализация. Вам показывают видавшую виды почтенную старушку, а вы превращаете ее в ангела ночи… Вы действуете точно так же, когда дело касается любви, дружбы или, скажем, семьи? Тогда ваши близкие не должны иметь поводов жаловаться на вас.
Она дразнила зверя.
— Это и еще ваша потребность в искуплении…
— …
— Это бесконечное раскаяние двойника во время сеанса «Диктатора», например… Вы, что, правда, думаете, что человек может скончаться от столь глубокого самокопания? У меня вот, поскольку я гораздо старше вас и конец мой уже не за горами, у меня есть повод в этом усомниться.
«Конец» не за горами…
Я смотрел, как бледнеет синее пятно Бобура. Солнце клонилось к западу.
— Возвращаясь к реальности фактов, — снова заговорила Соня, — двойник был уже мертв, когда его увезла «скорая», это правда. Судебный медик постановил рецидив малярии или что-то в этом роде. И это превращало его в интересный медицинский случай. Только подумайте: приступ тропической лихорадки посреди иллинойской зимы! Это странное столкновение мало вязалось со всем тем количеством спиртного, которое он вылакал. Знаете, я думаю, он пил также, чтобы согреться. (Пауза.) С этой точки зрения вы правы: он умер одновременно и от жары, и от холода… и еще от страшного приступа белой горячки.
Следующая ее фраза все-таки вызвала у меня улыбку.
— Только это, пожалуй, может заставить вас читать наизусть Гарибальди, когда вы при смерти!
После чего она принялась объяснять мне, что сам мой роман был в некотором роде алкогольной зависимостью:
— Как можно отдать себе отчет в этом опьянении под названием жизнь, если не окунуться с головой в эту бутылку, где все дозволено, под названием роман?
Конечно, конечно, но я задавался сейчас вопросом, гораздо более приземленным. Я спрашивал себя, каким образом сопливая девчонка, которой она тогда была, смогла раздобыть отчет судебного медика, касающийся смерти безымянного клошара в кинозале в Чикаго в 1940 году.
На что она ответила, сделав мне знак вновь наполнить стаканы:
— Вам хочется получить небольшой урок реализма?
3.
И вот она начинает рассказывать мне, что ее отец был служащим похоронного бюро. Не могильщик, не чучельник, не резчик надгробных плит или прокатчик катафалков, нет, но все это вместе: глава похоронного бюро, промышленник похорон, первый в Чикаго — финансовой метрополии, где, как нам известно, смерть не являлась фактом из ряда вон выходящим.
— Что, впрочем, не мешало ему сокрушаться о первых годах работы в этой области, — уточнила Соня. — «В то время, — говорил он, — люди именно умирали, не дожидаясь медленного угасания своих дней».
«То время» восходило к 1918 году, когда испанка опустошила Чикаго, забирая в первую очередь стариков и детей. Отец Сони был тогда плотником. Он схватил пулю на лету и перекроил свои кровли в гробы. Затем последовали годы сухого закона… Другой вид массового убийства: меньше трупов, но больше помпы. Даже самый мелкий бандит удостаивался шикарных похорон всенационального масштаба.
— Когда его спрашивали, чем он занимался, мой отец с искренним смехом отвечал, что участвовал в сделках по «импорту-экспорту». У него был весьма веселый нрав, его все забавляло, он был совершенно безграмотный и при этом обладал неугасающим оптимизмом и замечательной педагогической строгостью. Если бы он умел читать, то стал бы прекрасным прототипом для вашего друга Рота.
— …
— С чего вы взяли, что он запрещал мне носить габардин а ля Богарт? Наоборот, он обожал, когда я затягивалась в этот плащик детективщицы. Он даже подарил мне шляпку, которая очень подходила к этому плащу. Это было тем более приятно, что он никогда не делал подарков и ненавидел Богарта. Богарта, Чаплина, Фербенкса, «всю эту шайку вшивых коммунистов». Знаете, как он назвал свое похоронное бюро?
Я этого не знал.
— БДТР, что официально означало: «Better Dirt То Rest» («Лучшая земля для успокоения»), однако за семейным столом или в компании его друзей за виски приобретало совершенно иной смысл: «Better Dead Than Red» («Лучше мертвый, чем красный»).
— …
— Вот такой был человек. Похожий на многих других в моем родном городе. Он умер в своей постели в почтенном возрасте, не дав нарушить свой покой ни одним вопросом. Моих братьев, которые вкалывали вместе с ним, он частенько лупил, меня же он обожал. При условии, тем не менее, что я сама должна была зарабатывать на учебу. Отсюда и эта работа билетерши. Отсюда же и мое пристрастие к рисунку углем…
Последовали некоторые подробности ее дебюта рисовальщицы. Отец пристроил ее в дело с ранней юности, как только заметил ее дар к рисунку. Поручение: изображать в карандаше профиль покойных в похоронных салонах, где их оплакивали близкие.
— Да, да, это будет им «сувенир на память»! — утверждал он.
Сбывая «сувениры на память» по пять долларов за штуку, она зарабатывала на этом гораздо больше, чем полагалось иметь карманных денег. Таким образом, она провела свою юность, делая наброски с трупов, отдававших карболкой, среди сморкающихся носов.
— Да, в каком-то роде я тоже была похоронщицей.
Ясное дело, что от этих похоронных набросков до семейных портретов был один шаг, который она сделала без малейших усилий. Отсюда и быстрота исполнения. Переходя от одного придела к другому — «они были расположены бок о бок и пронумерованы, как пляжные кабинки», — за день она успевала нарисовать три десятка портретов скорбящих родственников.
— Это не представляло особой трудности, плакальщицы почти столь же неподвижны, как и покойные.
Она поправилась:
— Кроме итальянок… Печаль Юга помогла мне выработать чувство движения.
Здесь она наклонилась ко мне, глядя искоса, и произнесла заговорщицким тоном:
— Все это, чтобы сказать вам, до какой степени я была тронута тем портретом, который вы с меня нарисовали: смелая девочка, вытирающая слезы первого мертвого человека, которого она видела в своей жизни, в опустевшем кинозале…
(Ну ладно, ладно…)
А потом она принялась говорить, обращаясь сама к себе, — небольшой экскурс в прошлое.
— Этот опыт в отцовской фирме очень мне пригодился, когда я перешла к наброскам моделей. В манекенщицах — живое одно только платье. Саму девочку не видно за нарядом, ее убили. Вы когда-нибудь наблюдали за выражением лиц этих девушек? В них не движется ни один мускул. Кутюрье стирают лицо, чтобы было лучше видно материю. В семидесятые годы дошло до того, что их вообще превратили в скелеты. Все — невесты Франкенштейна, они движутся механической поступью к цели, которая им неведома. Когда я рисовала платья, я всегда начинала с лица этих юных жертв. Удивительно, до какой степени оживает в ваших глазах любая тряпка на этих мертвых манекенах!
Она еще довольно долго распространялась на эту тему. По ее мнению, в нашем обществе росла тенденция производить эффект жизни в ущерб по-настоящему живому существу, во всех мыслимых областях. Ее собственные внуки были тому «умирающим подтверждением», юные трупы, занятые собственным разложением перед экранами, на которых «это» жило вместо них.
— Никто больше не осмеливается вытащить их из комнат, чтобы усадить за семейный стол или хотя бы уложить в кровать с подружкой.
В течение некоторого времени я слушал ее импровизации, а затем, воспользовавшись паузой, которую она сделала для вдоха, мягко спросил:
— А что отчет судебного медика, Соня?
Я будто пробудил ее ото сна.
— Ах да.
— …
— Как я раздобыла отчет судебного медика?
Она спокойно улыбнулась, не спеша раскрыть мне свой секрет.
— Вопрос романиста…
Она глядела вдаль.
— Вы торопитесь?
Не больше, чем солнце торопилось закатиться туда, за массив Военного училища.
— Тогда расскажите мне, что это вас понесло в Бразилию, вы об этом нигде не говорите.
4.
Я никогда и не задумывался, что. Это была первая работа Ирен; в университете Форталезы освободилось место, мы воспользовались случаем, вот и все. Однако это объяснение не давало ответа на вопрос «что?» в нашем случае. Ирен была парижанкой до кончиков ногтей, а я — законченным домоседом в домашних тапочках (из разряда тепленьких, с двойной стелькой). Детство, проведенное в метаниях по всему свету, выработало у меня сильный иммунитет к путешествиям. На самом деле я должен был бы упираться, цепляясь за свой бельвильский якорь. Вместо этого я тут же собрался в дорогу, даже уволившись с работы. Если перечитать сегодня мою переписку с другом, я думаю, что решиться на это нас с Ирен заставил тот факт, что мы ничего не знали о Бразилии, ни слова не понимали по-португальски и не имели ни малейшего представления о том, что нас ожидало в Форталезе, столице Сеары — городе и государстве, которые, кажется, возникли в ту самую секунду, когда мы услышали о них в первый раз; случай предоставлял нам новые слуховые и зрительные впечатления, жаль было бы не использовать такую возможность. И еще одно: было жизненно необходимо сбежать от всех этих кретинов, которые всячески старались нас удержать, полагая, что покинуть Париж означает по меньшей мере социальное самоубийство. Перерезать разом пуповину и напустить целый океан между нами и этим так называемым пупом земли — этого требовали элементарные правила чистоплотности. Прочь! Прочь отсюда! Отдать швартовы, уехать далеко-далеко, чтобы посмотреть, каково там и на что похожа Франция Жискара издалека.
…
— И?
спросила Соня, которую не удовлетворили эти общие замечания.
— И, кроме того, я только что сдал очередной роман, и не было лучшего повода сняться с якоря.
— …
— …
— И?
— Ну что: наше прибытие в Форталезу, отель «Саванна», представлявший собой бетонную глыбу, на задворках которой прогуливались беззубые шлюхи, парясь в этой тропической бане. Прибавьте к этому наше безмолвное удивление перед пропастью, отделявшей португальский от испанского и бразильский от португальского… Наше краткое пребывание в изолированном квартале Альдеоты, где цепочки вооруженных охранников и когорты прислуги, прибывшей из глубинки, помогли нам получить первые представления о том, чем, вероятно, являлось автономное колониальное общество: «Empregadas sem escola» — гласили объявления по найму, что можно было перевести приблизительно так: «Требуются неграмотные слуги или такие, которые и не собираются учиться». Наш побег из Альдеоты в Марапонгу, пригород Форталезы, в этот белый дом, который, казалось, был спланирован специально для Корто Мальтеза и который вот уже много лет никто не снимал, потому что по другую сторону дороги росла и ширилась фавела, а средние классы предпочитали сторониться пустых животов. Это была ситио — покинутая тропическая ферма; корни манговых деревьев раскололи стену надвое, крыша сотрясалась под постоянным обстрелом кокосовых орехов, пауки-птицееды, поселившиеся внутри, не поддавались выселению, тараканы шныряли туда-сюда, как торпеды, наши тапочки, пролежав ночью под кроватью, наутро становились пристанищем для прозрачных скорпионов, змеи, которых наша кошка Габриэла гордо приносила в зубах показать Ирен, были на редкость ядовитыми, обезьяны, обитавшие на манговых деревьях, смотрели на нас как на захватчиков, вода в колодце была железистая, фараонские пирамиды муравейников стояли по углам сада, а вечером, после скоропостижного окончания дня, три жирные жабы составляли нам компанию, сидя у веранды, в то время как над головами у нас кружили летучие мыши, а тучи ночных бабочек гудели, как линии высокого напряжения. «211, авенида Годофредо Масьель, Марапонга» — по такому адресу находился этот дом, которого сегодня уже не существует и который мы любили, как живое существо.
…
— Ну и?
спросила Соня, которой недостаточно было туристических зарисовок.
И настал черед знакомства с людьми, с языком, с землей: ректор и преподаватели университета, которым светские приличия (страх, облаченный в безупречный костюм) не позволяли навестить нас в Марапонге, сотрудники-французы — все либо испытывают ностальгию, либо подвержены стадному чувству, либо гордецы, либо фольклористы, словом, с большинством из них лучше вообще не встречаться, но зато были Серхио, Экспедито, Бете и Рикардо, Арлетта и Жан, или Соледад, Нене, Назаре, Жуан, бесчисленные отпрыски племени Мартинсов, жизнь которых мы разделяли, ребятишки, называвшие меня вот (бабуля), когда я курил трубку (как делают старые женщины в сертане всякий раз, когда лечат больного), первые курсы Ирен, которая разговаривала языком жестов со своими студентами, очарованными этим семафором, Соледад, учившаяся читать, писать, считать, принимать, не без некоторой растерянности, то, что вот уже восемнадцать лет она жила на круглой планете, которая вместе со своими подружками гонялась вокруг Солнца, но упорно отказывавшаяся верить, что американцы отправили двух человек на Луну: Tá brincando, rapaz! Acredita mesmo? («Ты, парень, шутишь! Ты сам-то в это веришь?»), увлекательное открытие этого языка, слова которого как-то улетучились у меня из головы, оставив только свою музыку, почти так же, как мы помним одну улыбку на лице, проникновенный взгляд, жизненную энергию существа: sertão, sertanejo, caatinga, saudade — о слабость письма, не умеющего передать мелодию иностранных слов, звуковые переливы языков, распространенных за нашими границами! Потом появление Жеральдо Маркана, хранителя волшебных вещей, его грация, его усы и его гребешок, его амулеты, его макумба[49] и его кандомбле, первые вылазки в сертан, встреча с Мишелем, нагруженным мешками с овощами, опустошенным бесконечными дизентериями, изъедаемым фурункулами, но упорно стремящимся лечить и понимать, фраза, произнесенная Маэ Мартинс над мертвой девушкой: «Я хорошо поспала, благодарю тебя, беспокойный сон — это сон богатых, мне же ничего не страшно; смотри…»: ее малышка, которая лежала бездыханно (с зажженными свечами в руках, которые должны были указать ей верную дорогу, ведущую к небу), подхватила какую-то дрянь, продаваясь в Форталезе, и сверхдоза антибиотика прикончила ее; в отсутствие столяра нам пришлось хоронить ее в гамаке, что еще прибавляло стыда бедности к печали семьи. Что еще, Соня? Тропическая зелень, осекающаяся ровно по краю побережья, и потрескавшаяся земля, как только направляешься внутрь континента, скрипучие голоса бульварных дуэтистов, веселая задиристость их выпадов, этот контраст между суевериями сертанехос и их политическим терпением, моя переписка с другом, которому я рассказывал все вперемешку, добрая тысяча страниц, представляющих собой редкий момент счастья в моей писательской практике, ибо, когда пишешь кому-нибудь, кого любишь, уже не думаешь о том, как пишешь…
— …
Я продержался еще с добрых полчаса, собирая по крохам то, что знал о Байи, Сан-Луис да Маранхао, Белеме, португальской архитектуре XVI века, бразильской литературе, поэзии Дрюммонда де Андраде, романах Мачадо де Ассиса, музыке во всех ее формах, об этом невозможно возвышенном Неи Матогроссо, о бразильском лингвистическом чуде (как столь малое количество людей смогло за такое короткое время распространить португальский по всему этому необъятному и разнообразному континенту?), о теленовелас, длинных, как амазонские реки, о табако натураль, о рецептах утки тукупи, о ватапа[50] и фейжоада[51], конечно же, о неизбежной кайпиринха (качаса, зеленый лимон, лед, тростниковый сахар) и кодорнос, этих малюсеньких перепелках, зажаренных на заправке «Тексако» («Вот видишь, — говорила мне Ирен, когда мы вместе с Габриэлой уплетали своих кодорнос, — я чувствую, что нас разделяют миллионы лет, и что это — ничто».), о пронзительном гоготании обезьян на манговых деревьях, о зебу, которого я приручил и принес в дом к ужасу Габриэлы (зверю приходилось поворачивать голову, чтобы протиснуться в дверь, настолько большие у него были рога), о его, зебу, ужасе, когда он впервые увидел свое отражение в зеркале (хотя у него так кокетливо были подведены глазки!), о бродячей собаке, которая приютилась у меня под гамаком (хороший был пес, но его челюсть выглядела так устрашающе, что никто уже больше не осмеливался приблизиться ко мне), о парадоксах угасающей военной диктатуры, при которой комики на телевидении открыто смеялись над генералом Фигуэрейдо, о красной церкви дона Эльдера Камары («Да здравствует папа и рабочий класс!» — кричали манифестанты в Сан-Паулу.), о первых появлениях Лулы на телевидении, о надежде, которую сертанехос (и мы вместе с ними) возлагали на этого северо-восточного парня, которого они выбрали на прошлой неделе в президенты, двадцать три года спустя, Соня, представляете! Я откупорил по этому поводу огромную бутылку шампанского, чтобы компенсировать молчание нашего правительства, которое не сочло нужным побеспокоиться и поздравить этого ветерана, ставшего главой государства…
— …
— И?
— …
— …
— И еще гамак, Соня. Гамак на веранде в Марапонге. Обычно пишут за неимением лучшего, лучшим в моем случае был гамак. Гамак, должно быть, был выдуман каким-нибудь мудрецом против соблазна стать. Даже наш род отказывается воспроизводиться в нем. Он внушает вам все, какие только возможно, планы и в то же время расхолаживает приняться хоть за один. В моем гамаке я был самым плодовитым и одновременно самым непродуктивным романистом на свете. Это был прямоугольник времени, подвешенный между небом и землей.
— …
— …
— Но что же еще?
— Больше ничего. Теперь ваша очередь. Как вам удалось раздобыть отчет этого судебного медика? Как подобная мысль могла закрасться в голову той маленькой девчонке, которой вы тогда были?
5.
Сначала ей захотелось узнать имя двойника. Ничего больше. «Это не то, что вы можете себе вообразить, — сказала она, — я вовсе не искала себе приемного отца. Что касается отцовства, с меня было достаточно, уж поверьте, мне достался лучший и худший одновременно. Аладдин, выскочивший из проектора «Мотиограф»? Мифический клошар? Да, если хотите, было немного, но не больше. В свои шестнадцать лет, представьте себе, я была уже большой девочкой, я уже прекрасно могла обойтись без подобного рода костылей. И потом, он вовсе не был тем возвышенным критиком, как вы полагаете. Кроме работ Чаплина он ничего больше не любил в кино. Но это был интригующий персонаж. Знаете, он был довольно красив и держался так прямо, вытянутый в струнку между пятками и… затылком. Как нерв, как сухожилие. Нужно было быть ирландским быком или дохлой клячей, чтобы видеть в нем только алкоголика. Он что-то скрывал. Вернее, кого-то. Двойник южноамериканского диктатора, вы говорите? Мануэля Перейры да Понте Мартинса? Возможно. Это ваше право романиста. Он никогда при мне не произносил этого имени. Хотя он говорил обо всем: о своих скитаниях оператором по глубинке, о «Кливленде», о Валентино, о Чаплине, обо всем этом, но ни словом не обмолвился о том, что этому предшествовало, ничего о своем детстве, юности, молчал как рыба обо всем, что касалось Терезины. А это было как раз то, что меня интересовало, «прежде»! Кем он был? Вы правы, его пьяное словесное недержание было как чернила сепии. И еще он должен был остерегаться агентов службы иммиграции. Но — и это вовсе не отражено в вашей книге — большую часть времени он молчал. На мой взгляд, он был одинокий и молчаливый человек, который методично разрушал себя, находясь среди таких, как мой отец. Смотрите-ка, да, все тот же парадокс: читая вас, я подумала, что двойниками были остальные, вся эта свора подходящих копий, которые провоцировали его за стойкой; по-моему, он один являлся кем-то стоящим. Это, по крайней мере, хорошо мне запомнилось! Об этой исключительной личности я знала совсем мало: то, что он почитал Валентино как человека (кстати, с чего это вы взяли, что Валентино хотел перейти к режиссуре? вот так новость!) и бесконечно обожал искусство Чарли Чаплина. Здесь вы также ошибаетесь, говоря, что после своего приезда в Нью-Йорк он больше не осмеливался посмотреть ни один фильм Чаплина. Он прекрасно знал все три, вышедшие на экраны между тысяча девятьсот двадцать шестым и сороковым годами: «Цирк», «Огни большого города» и «Новые времена». Он интересно отзывался о них. На его взгляд, Чаплин был единственным свободным человеком кино: об этом, например, свидетельствовала необычайная продолжительность его съемок. То, что Чарли мог купить себе эту свободу в искусстве, по-настоящему эпатировало его. Именно размышляя о Чарли как об артисте, он позволял себе немного увлечься. Я тогда подумала, что, будучи под впечатлением после просмотра «Диктатора», он расскажет мне что-нибудь о себе. Только вот он умер во время сеанса. Нет, я не стала бы серьезно думать, что это я его убила. Отвечая на один из ваших вопросов, скажу, что «Диктатор» вышел в октябре, тогда уже был декабрь и, естественно, все знали, о чем этот фильм, и он в том числе. То, что сюжет напоминал рассказанный им за столом бортового комиссара, казалось, нисколько его не трогало. Может быть, в конце концов он превратился в настоящего американца? У нас идея принадлежит тому, кто ее реализует, точка. Нет, правда. Я нисколько не чувствовала себя виноватой. Мне, правда, было очень жаль… этот рисунок на коробке из-под обуви, правда… Но мне кажется, что я очень разозлилась. Невероятно. Стоя над его телом, я подумала, что ничего уже больше не узнаю о нем, и именно это я не желала принимать. Когда полицейские его унесли, я потребовала, чтобы мне сказали его имя. Чтобы надавить на них, я назвала им имя своего отца, которое распахивало двери и открывало чековые книжки. Ответ компетентных властей был краток: нет имени. У него не было имени. Он никогда нигде не был зарегистрирован. Ни в службе иммиграции, ни в Голливуде, ни где бы то ни было еще. Вне всякого легального существования до самой своей смерти. Он вдруг стал никем. Тогда я решила докопаться до истины во что бы то ни стало. Отчет судебного медика мне, конечно же, достал отец. Он никогда не принимал мое упрямство за простой каприз. С ним достаточно было хотеть того, чего хочешь, но горе тому, кто не желал доводить до конца исполнения своего желания, каким бы абсурдным оно ни казалось! Я потребовала этот отчет, я его получила. К сожалению, сухой слог отчета судебного медика не открыл мне ничего нового. Приступ тропической лихорадки… Вероятно, латиноамериканец… все это я уже знала. На этой стадии я оказалась в тупике и ничего не могла поделать. Ни я, ни полиция Чикаго, ни ФБР, ни все их святые угодники. Этот человек был одним из безымянных трупов подпольной Америки. Таких случаев были тысячи в год по всей стране, только в одном штате Иллинойс, пожалуй, сотни. Я не могла с этим смириться. Что же, теперь его в общую могилу? Не может быть и речи! Если у него не было имени, я ему его дам. Окончательное! Смысл прожитого.
— Как?
— Здесь я опять, должно быть, напомню вам вашу подругу Фаншон.
— …
— Я решила похоронить его сама.
— …
— В Голливуде.
6.
Раз он не представлял собой ничего больше того, что он о себе рассказал, Соня и собиралась похоронить его в самом сердце его рассказа. Он должен был стать тем, на что претендовал, — тенью Валентино. Он проведет свою вечность на кладбище Голливуда. Замысел этих похорон позабавил отца Сони, в глазах которого все актеры являлись «пропащими фантомами», так что было вполне оправданно похоронить фантом на кладбище актеров: Hollywood Forever Cemetery[52], 6000, бульвар Санта-Моника, Голливуд, Калифорния.
— Ваш батюшка дал вам свое благословение?
— Да, благословение, как вы говорите, но ничего больше, ни гроша. Что его больше всего интересовало, так это то, как я выпутаюсь в финансовом плане, чтобы перетащить труп из штата Иллинойс в Калифорнию, которые, скажем прямо, вовсе не на соседних улицах. Он готов был уладить законную сторону вопроса перевозки, при условии, что я оплачу гроб, саму перевозку и погребение, все до последнего доллара.
— И что?
На этот раз она протянула мне пустой стакан с многообещающей улыбкой:
— Что, что…
— …
— …
— …
— А вот что, дорогой мой, я превратилась в вашего друга Фаншон или саму Жанну д’Арк, если хотите. На следующий день ровно в восемнадцать часов (запомните хорошенько время, это важно) я вернулась в бар, где двойники моего отца споили до смерти неповторимую личность, и решилась высечь маленькую искорку в их мозгах, превратившихся в известку от изгнания, работы, бахвальства, семьи и бесконечных пьянок. На первый взгляд, это казалось невыполнимым, но у меня был один козырь: представьте себе, им не хватало смерти! Они сами этого еще не знали, но им этого ужасно не хватало! В конце концов, это был их чемпион. Он всех их укладывал под лавку гораздо чаще, чем кому-либо из них удавалось свалить его самого. Что до выносливости, никто не мог с ним соперничать, вы сами об этом написали, и это правда. После его смерти им уже не хотелось провоцировать неизвестно кого. На ринг не вызывают первого попавшегося, когда только что сделали чемпиона мира. Вот я и толкнула им речь в этом роде: «Кто вы теперь, когда его нет больше среди вас?» Сначала они посматривали на меня свысока. Что это еще за little slit[53], которая решила их поучать? Только я ведь пришла не за тем, чтобы читать им нотации, я пришла сказать им, что без него они потеряли смысл жизни. Во всяком случае, смысл именно той жизни, которая была у них здесь. Они же приходили сюда каждый вечер, это было их пристанищем, почти их семейным очагом. Я всех их знала по именам, и я стала обращаться лично к каждому из них. В то время я была росточком не больше, чем сейчас. Только не такая сутулая. Представьте себе спичку, досаждающую менгирам. Только спичку зажженную, да! «Что, Феликс, кого ты сегодня будешь подначивать? А ты, Брайан, как ты собираешься повышать ставки? Хорц, приятель, кто-нибудь может набраться до точки, до которой ты набрался позавчера, когда его уже нет здесь? И на какую высоту? Ты принимаешь ставки, Джерзи? (Джерзи был хозяином лавочки, поляк, длинный, как неделя до получки, с этими своими лапищами, в любой момент готовыми загрести денежки.) Он умер, парни. Его больше нет. Это был ваш чемпион, вот что. Сколько ночей вы провели вместе с ним? И вы допустите, чтобы его сбросили в общую могилу? Такого человека? Как дохлого пса?» Ну и так далее. Когда я говорила вам, что единственный международный союз, способный продержаться дольше остальных, это пьяницы, я не шутила. К тому же это единственный союз, который чего-то стоит. Между пьяницами существует братство нужды, которое сближает сильнее всех прочих. По крайней мере здесь теоретики хоть изредка просыпаются. Тогда как идеолог или верующий никогда не протрезвеют. Короче, до них быстро дошло, что этот доходяга был одним из них. «Девчонка правильно говорит. Такому парню не место в общей яме. Да, ему следовало устроить похороны, оплатить ему похороны! Да! Да, но где? Он был из Чикаго? Нет. Да, кстати, а откуда он вообще, этот парень, может, мексиканец? Итальяшка?» Я сказала им, что он был из Голливуда. «Все, что он рассказывал вам про Валентино, это правда; он был американцем из Голливуда». Естественно, они тут же просекли, что это влетит в копеечку. Черт, Голливуд! «И все же придется похоронить его именно там», — заметила я. «На какие шиши?» — «Да на ставки, конечно же! Джерзи, до скольки он поднимался, ваш приятель, в такие денежные вечера, как этот, по субботам?» — «Высоко, ничего не скажешь, только мы все спустили!» — «Вы же еще не успели спустить сегодняшние?..» — «Сегодня? Но на кого же сегодня ставить, раз его, как ты говоришь, уже нет?»
«На меня».
И я поставила им символическое условие нашего пари: они пьют бурбон, я — чистую воду. Битва до shot glass[54], до тех пор пока они не рухнут или не лопнет мой мочевой пузырь. Кто начинает? Джерзи первым выстроил в ряд стаканы и вытащил первую купюру на стойку, не произнося ни слова. И если он это сделал — ставил на соплячку, которая пьет воду, — поверьте, он делал это в память об умершем! Остальные не только последовали его примеру, но они выложили еще больше, чем раньше, и той ночью состоялся финал финалов. Мой мочевой пузырь вздувался, как монгольфьер, они же падали, как созревшие плоды, трупы устилали бар, целые недельные заработки уплывали в тот вечер, жены, должно быть, безбожно проклинали меня, а в конце недели инкассаторам пришлось бить гораздо сильнее, чтобы вытрясти свое; зато, когда я подвела итог, оказалось, что денег было достаточно, чтобы похоронить в Голливуде целое семейство.
— …
— …
— Ну и?
— Ну и остаток ночи я провела над унитазом, а на следующий день вместе с шестью из них, которые должны были нести гроб, мы поднялись на борт «Юнион пасифик чэлленджер», направлявшегося в Риверсайд, штат Калифорния. Я забронировала bedroom[55], где мы с моими спутниками три дня и три ночи напролет наматывали круги вокруг гроба. Это было мое самое длинное похоронное бдение! У меня было достаточно времени нарисовать портреты всех моих товарищей. Я вам покажу их при случае, вот увидите, они хорошенькие, дальше некуда, за время всего переезда они так и не протрезвели. На каждой остановке, в Омахе в штате Небраска, в Огдоне в Юте, и даже в Окленде меня ожидала телеграмма с отцовскими поздравлениями и достаточное количество льда, чтобы сохранить труп. Поскольку покойник был сухой, как мочало, он бы продержался до самого конца, но вот лед оказался хорошим поводом, чтобы истратить запасы моих плакальщиков. Оплетенные бутылки виски представляли собой единственное материальное участие моего отца в этом деле. Он тоже провел эти три дня, не давая просохнуть своей глотке, он гордился своей девочкой. Совершенно простые люди, я же вам говорила.
— А сами похороны?
— Не настолько захватывающие, как вы могли бы подумать. Ночью, естественно, и втихаря. Пришлось, конечно, подмазать кое-кого. Но у меня были на руках все карты: имена, деньги, это оказалось не так уж сложно. С той самой ночи четвертого декабря тысяча девятьсот сорокового года ваш сертанехо покоится на Hollywood Forever Cemetery, в тени Родольфо Гульельми ди Валентина, его святого покровителя.
— …
Уже давно стемнело. Мы сидели, освещаемые огнями города.
— Что же до меня, — заключила Соня, — то я так больше и не вернулась в Чикаго.
— Да?
— …
— …
— Нет. Но я расскажу вам об этом, только если вы пригласите меня посмотреть «Диктатора» в хорошем зале. Например, в «МК 2» на набережной Сены и с заказанным столиком после сеанса, идет?
7.
По окончании сеанса Соня сказала мне, что «и здесь опять» я был неправ.
— Если вы считаете, что в части с четырнадцатой по восемнадцатую Чаплин не говорит, вы ошибаетесь. Он говорит! Он даже произносит несколько законченных фраз.
— Но это не оттого, что мы несколько раз смотрели и пересматривали DVD, — заметила Минна.
— Даже если бы вы просмотрели этот фильм тысячу раз, вы все равно не услышали бы Чарли, — ответила Соня. — Вы здесь ни при чем; у Чаплина пантомима лишает слуха, вот и все. Даже когда он говорит, он говорит своим телом. Ни на одного актера не смотрели столько, сколько на него. Отсюда и сила его знаменитой финальной речи, которая совершенно рушит все правила его игры; вдруг тело пропадает, остается одна голова, этот взгляд, эти волосы на фоне облаков, и неожиданно — его голос, его, Чарли Чаплина, собственные слова, в самый первый раз! И тогда, точно, вы его слышите…
Мы шли, поддерживая Соню под локоток, направляясь к ресторану. Мы двигались мелкими шажками. В конечном счете, ее лодыжка еще давала о себе знать.
— Я слышала, как вы смеялись, совершенно спонтанно и много раз, как если бы для вас это было неожиданностью, — обратилась она к Минне. (Я, впрочем, тоже не сдерживался.) — Как в сороковом! — загоготала она. — Нет, этот Чаплин неисчерпаем…
Вися у нас на руках, она казалась нам почти невесомой. Легенькая, как птичка.
— Неисчерпаем, — повторила она, провожая глазами двух гребцов, скользивших по водной глади к причалу.
— …
Когда заказ был сделан, Минна спросила ее, почему же она осталась в Голливуде.
— На кладбище пахло шалфеем, — ответила Соня.
И принялась за еду.
Потом, пригубив вина, продолжила:
— Вы ведь ждете истории любви, не так ли?
Хороший игрок, она призналась в своей маленькой слабости. Не следовало забывать, что Голливуд был розовой мечтой и ее юности тоже. Так что она немедля «проникла в киношные круги», с подачи ученика оператора, которого она встретила на Палм-Спрингс и который стал ее «мимолетным увлечением». Собственно, это был ее первый любовник. Он помог ей получить возможность делать наброски съемочной площадки, схемы маркировки, эскизы декораций, рисунки костюмов, эпизоды story boards, что-то в этом роде.
— Но единственный интерес всех этих любовных историй, — сказала она в заключение, — это понять, куда откроется дверь, которую любовники якобы закрывают своими шалостями.
Эта дверь открылась не на колыбельку и гуление младенца, а на пять лет войны, которые эта юная девушка провела в рядах секретных служб Британии.
— Мой маленький оператор входил в окружение Корды; вы знаете Александра Корду? Это он подкинул Чаплину мысль сыграть одновременно и диктатора, и цирюльника. Так вот, Корда сотрудничал с Intelligence Service[56]. Начиная с тридцать четвертого года он со своими помощниками снимал тысячи километров средиземноморского побережья под предлогом съемок фильмов на античные сюжеты. На самом деле они снимали и заносили в архив все места возможной высадки десанта в случае войны, которую Черчилль считал неизбежной.
Здесь Соня сделала паузу, а потом с ленивым спокойствием обратилась ко мне:
— Кстати, достаточно ли я вас отблагодарила за ваш курс истории, который вы мне преподали по поводу выхода на экраны «Диктатора»? Как там у вас, реакция американских нацистов, протесты посольств, Бриджес с его докерами и прочее…
И, обернувшись к Минне, добавила:
— Это, должно быть, чертовски ободряет — разделять жизнь педагога?
Минна ответила ей, что я порой с большой изобретательностью уверял своих учеников, будто они превосходили меня на несколько голов.
— Это подарок, который он сделал вам, Соня, и это замечательно поднимает настроение.
Они обменялись одним из тех взглядов, в которых необычайно быстро проскальзывает неуловимая альтернатива между холодной войной и веселым уважением. Через секунду его уже не было. Соня поцеловала руку моей жене, прежде чем вернуться к главному предмету нашего разговора.
Дело в том, что она знала несколько больше меня насчет той амниотической жидкости, в которой мариновался «Диктатор» в дородовый период. По ее мнению, это был отлично продуманный фильм о войне, антинацистская армия, прекрасно подготовленная СИС, голливудским агентом которых с 1937 года был Корда, именно тогда он примкнул к Чаплину и его Ассоциации актеров.
— Чаплину тем более можно поставить в заслугу то, что он сделал из «Диктатора» шедевр настолько личного свойства. Вот что называется гений!
Последовали имена, даты, заглавные буквы и аббревиатуры, свежайший продукт исторической памяти, у которой даже самое отдаленное прошлое всегда оказывается под рукой.
— Корда также был другом Клода Дансея, который, в свою очередь, был приближенным Черчилля с начала войны буров. Дансей создал автономную сеть в рамках СИС, сеть Z, которую в Голливуде представлял Корда. Надо будет как-нибудь написать о роли кино в службе разведки во время Второй мировой войны. Потому что здесь были не только съемки пляжей для высадки десанта. Были, например, фиктивные армии в пустынях Ливии, чтобы обмануть Роммеля: огромный военный лагерь, представлявший собой всего-навсего камуфляж, искусственные пушки, танки из картона, самолеты из фанеры, чучельные полки, развертывание устрашающих сил, пускание пыли в глаза немцам, которая остановила целые дивизии…
Она прервала себя, чтобы спросить:
— Вы помните тот эпизод, когда Гинкель, проходя по коридору своего дворца, врезается в знак двойного креста, который Чаплин превратил в символ нацистской Томании.
Да, мы помнили эту сцену.
— А вам не показалось странным, что можно споткнуться на ровном месте, на плоской мозаике?
— Символически, — сказал я наугад. — Знак Гитлера скоро должен был вырасти из свастики…
Я был прав, но ирония этого эпизода оказалась убийственнее, чем я мог подумать.
— Двойной крест, — объяснила нам Соня (the double cross — надувательство, обман, дезинформация), — это было название самой секретной, самой извращенной, самой опасной службы контрразведки, которую когда-либо организовывали англичане и официальным главой которой был человек по имени Мастерман. Причем этого Мастермана вряд ли можно было бы назвать мягким человеком. С этой точки зрения, сцена представляла собой прямое послание (прямое, как удар в челюсть, честное слово), отправленное Черчиллем Гитлеру: «Тебе каюк, моя прелесть, считай, что ты уже лежишь в могиле. Мы с моими товарищами лично этим занимаемся».
8.
В ресторане нам вежливо указали на дверь, погасив свет. Дело в том, что Соня полночи рассказывала нам продолжение.
Поддавшись чувствам, она не замедлила поведать историю тайных похорон своему юному любовнику. «В конце концов, это был прекрасный сюжет для фильма!» В самом деле, сюжет оказался настолько хорошим, что мгновенно достиг ушей Корды, может быть, даже ушей его шефа Дансея или, того больше, самого Черчилля, который любил веселые истории, и особенно хорошо выдержанные характеры. Короче, СИС завербовали героиню, и год спустя Соня высадилась в Париже в качестве модистки в салоне у Коко Шанель, где с оккупантами держались на короткой ноге.
— На самом деле это был лучший трамплин, чтобы нырнуть с головой в самую нацистскую гущу!
Вот так, шпионка в семнадцать лет, которая к тому же «выполняла то, что ей следовало выполнить», до тех пор пока некий Адольф Гитлер не попался на удочку double cross.
Мы, затаив дыхание, слушали ее, не смея прерывать. Ресторан потихоньку пустел, а мы слушали ее рассказ про четыре года ее юности, которые могли бы наполнить целые четыре жизни.
Мы давно уже опоздали на метро. В такси, которое везло нас домой, Соня после долгой паузы наклонилась ко мне:
— Я прекрасно знаю, о чем вы сейчас думаете.
Честно говоря, я сам этого точно не знал. Я переваривал рассказ этой жизни в состоянии ошеломления среднего удава, который только что увидел брюхо, гораздо большее, чем его собственное.
Соня объяснилась:
— Вы думаете, что вам попался в руки прекрасный сюжет для романа.
Продолжение не заставило себя ждать.
— Так вот, даже не думайте написать об этом хоть словечко, я вам запрещаю.
В ее голосе чувствовалась почти ярость:
— Со всем вашим пристрастием к агиографии, я уже вижу, что из этого выйдет…
Потом она взяла меня за запястье. Она дрожала.
— Даниэль… (это был первый и последний раз, когда она назвала меня по имени), попытайтесь представить себе все в реальности: естественно, нам было двадцать лет, мы горели энтузиазмом, наше дело было захватывающим, мы защищали его с сумасшедшим рвением, смелостью, подпитывающейся слепым ясновидением, бдительной несознательностью, мы вели себя как герои, это не обсуждается, и все же об этих пяти годах у меня сохранилось несколько жуткое воспоминание, страх каждой минуты, страх разрушающий, у которого нет названия. Пожалуйста… оставьте меня с этим в покое.
Но когда такси подкатило к двери ее дома, она игриво предложила нам:
— Не хотите зайти на чашечку горячей воды?
Во время чайной церемонии она спросила меня:
— А что у вас, чем заканчивается ваша история?
— Моя история?
— Ваша история двойников! Как заканчивают подобный роман? Я хочу это знать! Вы же не собираетесь оставить нас в подвешенном состоянии после смерти первого двойника? А второй? Quid второй? А остальные? Кстати, сколько их было всего?
Уткнувшись носом в чашку, Минна тихонечко посмеивалась. Вот уже три года я доставал ее с этой книженцией, написанной в условном наклонении. Она доставила себе радость этого маленького предательства:
— Да, это могла бы быть история чего, на самом-то деле?
— Мы хотим знать! — воскликнула Соня.
И одна и другая смотрели на меня так, будто с незапамятных времен разыгрывали этот дуэт.
— Ну что ж… — начал я.
— Нет, нет, — прервала меня Соня, мы не хотим, чтобы вы нам рассказывали, мы хотим сами прочитать!
Затем она пустилась отстаивать свои права читательницы.
— Но, пожалуйста, не забывайте, сколько мне лет. Если ваша жена принадлежит к поколению, которое может читать все подряд, ко мне следует относиться как к столетней, почти как к реликту из девятнадцатого века! Я хочу классики: имперфекта, давно прошедшего, хорошо написанного и хорошо выстроенного. И действия, пожалуйста, отбросьте вы эту свою смесь воображаемого и прожитого, в конце концов вы заставите меня сомневаться в моем собственном существовании! Сжатое изложение прямо движущейся и сконцентрированной истории — вот что мне нужно. Вы слышите меня: скон-цен-три-ро-ван-ной истории! Уберите мне все эти ваши отступления, мне уже недолго осталось, представьте себе.
Она едва переводила дух, когда наконец заключила:
— И когда вы закончите, напишите слово «конец», как в былые времена. Это практично, так том закрывался на два оборота, прежде чем попасть на свое место на книжной полке.
И на прощание, перегнувшись через перила, она крикнула нам, пока мы спускались по лестнице:
— Да! И начните, пожалуй, с портрета красивой женщины, вот. В вашем случае и правда женщин не хватает.
VI. Из одного двойника другой
Итак, этот «сконцентрированный» конец с портретом женщины посвящается Соне
1.
Она была Береникой Расина. Всеми фибрами своего искусства она была Береникой Расина. Она стала ею с первого же чтения этой пьесы, когда была еще ребенком, в Институте Почетного легиона. В семье решили, что она хочет стать актрисой, и старались этому помешать. Но она не хотела «быть актрисой», она хотела воплотить Беренику Расина; и ни воля ее отца-полковника (с этой его имитацией изгнания, нет, правда, как вспомнишь его, в парадной форме, клацающего шпорами и указывающего пальцем на дверь отчего дома; «Я отрекаюсь от тебя!»…), ни единодушное мнение ее преподавателей из консерватории (они видели в ней субретку, инженю, любовницу, большую кокетку, примадонну, первую героиню — «широкая палитра ролей, да, темперамент, конечно, но трагедийную роль, что вы!»), ни даже ее крестные тетушки из «Комеди Франсез» («Беренику, куда тебе, моя бедная девочка…») ничего не смогли с этим поделать. Она перенесла отцовскую немилость, не посчиталась с мнением своих учителей, хлопнула августейшей дверью театра и поклялась никогда не играть ни одной роли, кроме Береники (Береники Расина). Но тут началась Первая мировая война; отца как громом поразило, он умер, оставив ей, несмотря на все свои проклятия, одно из самых больших состояний в их кругах. Она пригласила Тита и Антиоха из бывших своих товарищей по выпуску и наконец смогла выступить в роли Береники. Одни критики заметили кокетливый блеск у нее в глазах, другие упрекали ее в слишком гибком теле или живости движений, а один даже расслышал невыводимую веселость в ее голосе, слишком юном к тому же; в общем, все клеймили радость жизни, которая никак не вязалась с образом царицы Палестины, выбранной из всех женщин будущим императором вселенной, но вынужденной пожертвовать своей любовью законам Рима. Нет, решительно эта Береника была слишком живой. «Не хватает мраморности», — заключил самый влиятельный из критиков.
Прохладный прием публики расстроил ее не больше, чем ирония газетчиков. В течение многих лет она выступала каждый вечер в роли Береники перед почти пустым залом. Ее собственное состояние компенсировало — почти полностью — нехватку сборов, дирекции театров приглашали ее с закрытыми глазами. Что до ее партнеров, хорошо вознаграждаемых, они безошибочно подавали свои реплики в нужный момент. Вот так годы напролет она, одна в мире, играла Беренику Расина. Пусть аплодисменты были жидковаты, Беренику в ее душе, очевидно, подпитывали иные силы. Никто и не думал спрашивать у нее, что же подогревало такое рвение. Невозмутимая, она каждый вечер перед лицом всеобщего безразличия отстаивала любовь Береники против законов Рима.
Ни на что уже не надеясь, ее близкие (честно говоря, они просто решили держаться подальше) оставили ее в покое. Кроме того, когда она стала планировать турне по Южной Америке, на набережной д’Орсэ нашелся влиятельный дядюшка, который подсуетился, чтобы облегчить ей задачу: «Хорошая мысль, пусть едет играть перед индейцами». И она поехала играть, в том числе и перед индейцами. Каракас, Богота, Кито, Лима, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Асунсьон, Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Сан-Луис да Маранхао, Белем… Ее счастливый голос прозвучал даже в Розовой опере Маноса, на берегах Амазонки, под шорох крыльев летучих мышей.
Манос был предпоследним этапом ее южноамериканского турне.
А представление, данное в Терезине, прозвенело последним звонком в ее карьере.
…
Я соглашаюсь жить, исполнив твой приказ.
Прощай и царствуй, друг. Не будет встреч у нас[57].
…
После вежливых протокольных аплодисментов занавес упал над сценой театра Мануэля Перейры да Понте Мартинса, в Терезине.
Когда она собиралась уже снимать грим, президент собственной персоной (естественно, она и понятия не имела, что речь идет о двойнике) вошел в ее гримерную. Она увидела его в зеркало: он стоял навытяжку в своей парадной форме. Ей было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это Тит стоит у нее за спиной. Она обернулась и смерила взглядом мужчину, который не смел ни поднять на нее глаза, ни произнести хоть слово, ни даже пошевелить мизинцем. Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить его душу и его тело. Она дошла до того, что вообразила его себе обнаженным под этой его парадной униформой, и почувствовала, как сильно забилось ее собственное сердце под туникой. Из всего этого она заключила, что этот президент находится не на своем месте, что место этого президента рядом с ней и что никакая сила в мире не сможет помешать им любить друг друга. Словом, она стала Береникой по-настоящему, той Береникой, которой она решила стать в тот далекий вечер в школе, когда первое же чтение пьесы наполнило ее мстительной яростью. На этот раз сама Береника задумала похитить Тита! Влюбленная женщина собиралась покорить Рим и отомстить за царицу Палестины. Любовь заставила ее вмешаться в политику! Трагедийная актриса утирала все те слезы, которые были пролиты ее предшественницами в этой роли: Адриенной Лекуврер, мадемуазель Госсен, Юлией Барте, необъятной Сарой Бернар, которая столь часто вызывала у нее слезы своей игрой. Она отомстила также и за бесчисленные толпы зрительниц с разбитыми сердцами, отомстила за промокаемые платочками глаза, утираемые носики, молча сжимаемые пальцы, сдерживаемые рыдания! А если говорить более прозаически, она отомстила за все страсти простых людей, положенные на алтарь скромных обязанностей, за любовь, попранную заводом, ателье, офисом, торговлей, лицеем, казармой, жатвой, приливом, за сам театр, за карьеру, карьеру, карьеру!
…
Во имя всех влюбленных женщин она похитила этого Тита тропиков, и больше уже никто ничего о них не слышал.
2.
Прежде чем бежать со своей Береникой, влюбленный двойник, ища себе замену, наткнулся на близнецов. Это была невероятная удача: два двойника за голову одного! Два взаимозаменяемых Перейры. Два монозиготных президента. Обеспеченное продолжение даже в случае смерти, удара молнии, ларингита или побега. Одно натаскивание для обоих сразу, причем с небывалой требовательностью, проводимое псевдопрезидентом, которого неотложная любовь превратила в грозного педагога:
— И два двойника легко заменимы, — орал он, потрясая своим парабеллумом, — стоит только поверить в сходство!
Эти близнецы пришли не с горы Понте, как сам Перейра, не с восточной равнины или из окрестностей Терезины, как двойник-цирюльник или влюбленный двойник, нет, они были уроженцами Севера, явились с той северной границы, которую некогда опустошил Генерал Президент под тем предлогом, что тамошние крестьяне не желали спускаться в шахты. Они видели, как погибли их отец и мать, которых подвесили за ноги, опустив головой в муравейник. Пока насекомые пожирали лица их родителей, опрокинувшаяся юбка их матери открывала их взглядам то, что они никогда не должны были бы видеть.
Подобный шок, говорил себе один из наемных двойников, гарантировал абсолютную лояльность обоих братьев по отношению к новому президенту. Ведь это он казнил мясника Севера! А качество этой верности, судил он, с лихвой компенсировало небольшое несходство, которое могли заметить, если бы сопоставили близнецов с официальным портретом Перейры. Надо признать, что этому портрету был уже не один год, и странно было бы требовать от двух сорокалетних, чтобы они до последней черточки походили на двадцатипятилетнего путчиста.
— Сходства страстно желают! — орал тем не менее наемный двойник, выхватывая уже в который раз свой пистолет из кобуры.
_____
Короче, как только они были достаточно натасканы и еще больше запуганы, стали тянуть соломинку, чтобы узнать, который из двойников-близнецов выйдет первым.
3.
Итак, один из близнецов заступает на президентский пост. Как и все предшествующие двойники, он начинает играть роль фиктивного президента с сомнением, с опасением, с тщательностью и наконец с энтузиазмом; затем он успокаивается, начинает скучать и решает, в свою очередь, свалить. Дело в том, что он тоже подумал, что нашел свое «истинное призвание» (вечно эта забота «стать самим собой»). Но этот двойник не желает быть ни актером, ни робким вздыхателем. У него не вызывает никаких чувств Береника, и к кинематографу у него нет никакого пристрастия. Это прагматический характер, наделенный прекрасным синтезирующим умом. Едва обосновавшись в Терезине, он одним взглядом оценивает ограниченность президентской власти. Он очень быстро приходит к выводу, что президент — настоящий президент — обладает властью, не более реальной, чем власть его, двойника. Он отмечает, что все находится в руках больших компаний. В то время как президент или его двойник разглагольствуют перед толпами преданных простаков, настоящая власть процветает underground[58], как выразился сэр Энтони Кальвин Кук, посол Великобритании (сын того, который занимал этот пост при настоящем Перейре). Новый двойник очень быстро понимает, что самая мелкая должность в совете администрации какой-нибудь компании, где речь идет о никеле, серебре, золоте, нефти или акмадоне, гарантирует более выгодную власть, чем это амплуа кочующего златоуста, над которым, похоже, смеются все главы государств. Ночью его открытые глаза рисуют план будущей карьеры на потолке его комнаты. Он представляет себе недра Терезины со всеми ее природными богатствами как территорию без границ, где разработка одной-единственной жилы здесь, у него под ногами, может вывести его нежданно-негаданно на другой край континента с огромным состоянием за душой. Другими словами, если он и желает власти, то той, которую дает богатство. Он убеждается в этом все больше и больше: покинуть Терезину, чтобы окунуться в деловой мир, это все равно что выпрыгнуть из банки, чтобы править планетой.
При этом он не пренебрегает репрезентативными обязанностями. При нем церемонии, организованные в честь Перейры, становятся пышнее, это время, когда, рассредоточившись на рыночных площадях, люди Геррильо Мартинса заставляют народ петь:
Maior do que um farão Mais forte do que um sultao Mais potente do que um czar Mais imenso do que o mar Juro que não è bobeira Eis o nosso pai, eis Pereira! Больше, чем фараон. Сильнее, чем султан, Могущественнее, чем царь. Обширнее, чем океан. Клянусь, чем хотите, это не ложь — Таков наш Перейра, вот как хорош!Наконец настает день, когда этот третий двойник объявляет своему брату-близнецу о своем уходе: «Ладно, братец, побаловались и хватит, я отправляюсь делать себе состояние, а тебе остается роль золотой рыбки».
4.
Четвертый двойник настолько же разнится душой со своим братом-близнецом, насколько напоминает его по внешности и уму. Как и брат, он быстро постигает могущество крупных компаний, по сравнению с которым президентский пост можно мягко назвать незначительным, он также понимает, что законы, принятые здесь, наверху, имеют единственной целью гарантировать обворовывание недр зарубежными представителями. Он усматривает в этом посыл к революции, но в то же время он слишком хорошо помнит, с какой дикостью олигархи подавили восстание Севера. Его брат и он совершенно по-разному отреагировали на казнь родителей. Брат решил примкнуть к тем, кто одержит верх, кем бы они ни оказались, как только будет ясно, на чьей стороне удача.
— Потому что недостаточно быть в лагере тех, кто выигрывает, братец, нужно выбирать тех, кто выигрывает всегда.
Он же, напротив, от всего происшедшего почувствовал полное отстранение от этого мира. Зрелище стольких страданий в сочетании с врожденным пониманием человеческих порывов способствовали развитию у него того, что можно было бы назвать добротой без надежды.
Именно эту свою доброту он и поставил на службу соотечественникам, как только его брат-близнец покинул Терезину.
С этой точки зрения он оказался намного лучше всех возможных Перейр. Он не остановился на том, что выслушивал несчастных, обрывая их исповедь доброжелательным «я выслушал тебя», он позволил им вываливать весь мешок своих переживаний, печалей, сожалений, горечи, отчаяния, весь до последней крошки. Он слушал очень внимательно. Он буквально выпивал вас взглядом; можно было поклясться, что он наполняется вашей жалобой. Он предоставлял каждому столько времени, сколько ему было нужно, хоть целый час или даже целую ночь. Никто не спешил, ожидая своей очереди, каждый знал, что придет минута, когда все внимание будет отдано только ему и никому больше. И потом, было что-то успокаивающее в том, чтобы смотреть, как заходит солнце, озаряя своими лучами этого человека, склонившегося над себе подобными с мудростью камня.
Лишь заря нового дня могла положить конец аудиенции; президенту надо было отправляться выслушивать других, под другими цезальпиниями, произносить другие речи, с других крылец.
Если эти речи — повторяемые с точностью до запятой, те самые, которые писал Перейра — продолжали зажигать толпу (величие нации, гордость за принадлежность к ней, славное прошлое, светлое будущее, святость традиции, необходимые усилия, президентская благодарность…), то голос президента, тон этого голоса говорил, как бы между строк, что время уходит безвозвратно и что человек, такой, каким он родился, ничего уже не может с этим поделать. Негласно люди были ему признательны за то, что он давал расслышать правду, стараясь в то же время ободрить их. После того как они выслушивали президента, любовь, которую они к нему испытывали, становилась сродни той любви, которую человек испытывает к самому себе в те редкие моменты, когда, оставив всякие иллюзии и желания, он рад быть никем иным, как самим собой, этим существом, которое дышит. Именно в это время на рыночных площадях стали петь:
Povo tem que ter cabeça Não vive só de cachaça Alguns querem ditadores Outros, reis, imperadores Pra gente essa maravilha Nosso chefe ç uma orelha! Умным должен быть народ, Не качасой лишь живет. Иным давай диктатора, Царя иль императора. Наш правитель стоит двух — Чудом обратился в слух!Трудно подсчитать, сколько лет Терезина прожила под знаком доброты этого человека: президента любили так, что не замечали, как движется время.
Увы, время шло неумолимо; время изнашивало его. Изнуренный бессонными ночами и бесконечными переездами, раздавленный грузом того, что ему приходилось выслушивать — и переживать, — уставший заставлять свой голос противоречить своим словам, он таял на глазах. Его суставы начали пухнуть, его члены искривились до такой степени, что, когда ему случалось отдыхать, лежа в гамаке в одних трусах, его форма, повешенная тут же на стуле, сохраняла выпуклости в тех местах, куда било сопереживание. Нередко ему случалось просыпаться, обнаруживая крестьян, толпящихся вокруг его формы и с обожанием разглядывавших следы, оставленные его увечьями.
_____
Епископ был удивлен (может быть, даже тронут) этим культом, который создали вокруг его крестника.
Он объявил старику да Понте-отцу:
— Твой Мануэль живым попал в вечность; его полюбили беззаветно и навсегда. Вне всяких сомнений, он святой. Кто бы мог подумать, особенно в самом начале?
— Я, — ответил отец.
Что же до его матушки, она подтверждала, по-своему, по-матерински:
— Он, который никогда не любил бакалау ду менино, теперь вылизывает тарелку до последней фасолинки.
5.
Именно этого человека Перейра и уложил пулей между глаз, прежде чем его разорвала толпа и во главе государства встал полковник Эдуардо Рист, друг его детства.
(Достаточно ли это лаконично на ваш вкус, дорогая Соня?)
6.
Случаю было угодно, чтобы в тот же самый день, когда в Терезине разлетелась на куски голова Святого Президента, в Нью-Йорке разыгралась другая драма: его брата-близнеца вышвырнули из крупной компании, контроль над которой он почти уже взял в свои руки. Члены совета администрации, которые собрались, чтобы возвысить его в своем офисе на Уолл-стрит, объявили ему о его отставке. Так решило большинство акционеров тайным голосованием.
— Причины? — спросил отлученный.
— Скандал с акмадоном, — был ответ совета.
Близнец вскинул бровь:
— Вы все дали мне свое согласие, чтобы возобновить этот заем!
— Конечно, конечно, но сама идея была не из лучших, именно вам следовало ее отвергнуть.
«Идея» заключалась в том, чтобы занять у акционеров сногсшибательные суммы, предназначенные для «изысканий» в области добычи акмадона. Если бы эти изыскания — «а в этом не стоило даже сомневаться», гласила реклама — подтвердили «оптимальную эксплуатацию» ценного минерала, компания гарантировала «значительные дивиденды» своим вкладчикам. В том случае, если бы это ни к чему не привело, и без слов было ясно (впрочем, никто об этом и не говорил ни слова), что компании пришлось бы взять новый заем у тех же акционеров, чтобы продолжить «изыскания», естественно, «находящиеся на стадии завершения».
И так далее.
Это превратилось в рутину.
Доходную.
Длящуюся вот уже несколько десятилетий.
— И чем же эта идея нехороша? — спросил близнец.
— Вот этим.
Ему сунули под нос черновик статьи, которая должна была появиться завтра же в международной прессе, если бы компания немедленно не купила газету, готовую ее опубликовать. Заголовок данной статьи строго гласил: «Акмадон: новый скандал Панамы».
В статье говорилось, что вот уже несколько лет некая компания предлагала своим акционерам разработку некоего минерала, акмадона, которого просто-напросто не существовало в природе. Небывалые суммы направлялись на так называемые «изыскания», касающиеся состава, добычи и бесчисленных свойств данной минералогической химеры. Но особенно шокировало подписавшего статью (назвавшегося Постелем-Верди) то, что само слово «акмадон» не встречалось ни в одном словаре: «К элементарному мошенничеству добавляется еще и семантическая мистификация!» — заключал этот поэт, непонятно каким образом затесавшийся в рубрику «Экономика».
Когда же близнец заметил совету администрации, что эта байка для обдирания акционеров появилась не вчера (дело в том, что акмадон был изобретением самого Перейры, а сэр Энтони Кальвин Кук-старший когда-то первым согласился финансировать эти ставшие предметом осуждения исследования), ему ответили, что все это, конечно, так, но досье находилось у него в руках и именно он не сумел под держать доброжелательную сонливость акционеров, так что их пробуждение влекло за собой его уход.
Таким образом, как выразился один из членов сего совета француз Мадрикур, он «просрал» все дело.
— Вы просрали все дело, дорогой друг. Ваша голова тому ценой.
7.
После убийства Святого Президента прошло сорок шесть дней, сорок шесть дней национального траура в Терезине, объявленного полковником Эдуардо Ристом. Везде, где были церкви, служилась ежедневная месса в память о невинно павшем. Месса начиналась в тот час, когда святой был убит, а просвира оказывалась в пальцах священника в ту самую секунду, когда пуля неизвестного освободила душу президента. Сорок шесть дней, в течение которых Святой Президент был темой всех разговоров и поводом всякого молчания. Люди молились под теми самыми цезальпиниями, под которыми он выслушивал их, они молча вслушивались в тишину вокруг крылец, с которых он к ним обращался. Повсюду, даже в самых глухих поселениях, ставили статуи президенту. Эти памятники представляли собой не того юношу в ладно сидящей униформе, который когда-то уложил Генерала Президента, но горбатого паломника, в которого он превратился, расточая себя и сочувствуя другим.
На утро сорок седьмого дня в шахтерском поселке на севере страны какой-то человек стоял неподвижно перед вереницей статуй убиенного президента.
Человек этот был одет в форму святого и до странности походил на него. (В сущности, это и был его брат-близнец, тот, от которого только что избавилась компания.)
Сначала никто его не заметил, настолько он сливался со статуями брата. Рабочие поселка как раз собирались спускаться в шахту. Они молча снаряжались. Их ледорубы, котелки, сита позвякивали в тишине раннего утра. Они прикрепляли фонарики на свои каски.
Отставленный близнец и бровью не повел, глядя, как они нацеживают карабины на пояса удачи. Стоя неподвижно, прислонившись к холодному каменному плечу, он затаил внутреннее волнение: «Вот отряды моего реванша, — думал он, — вот железо моей революции: крестьяне, снятые с полей и брошенные в шахты, вакейрос, лишенные пространства, чтобы перерабатывать, как отбросы, внутренности земли, гордые охотники, превращенные в кротов… О! Как им захочется отомстить, когда они узнают, кто их обворовывает, кто лишает их нормальной жизни, кто истощает их! О! С каким напором нахлынут их силы, когда они вновь увидят солнечный свет! О! Какой кровавой окажется бойня, когда я выпущу их на Терезину! Крестовый поход под предводительством их воскресшего президента, Бог мой, да они будут непобедимы!»
Именно таков был его план: предстать перед огромной дверью народного суеверия как реинкарнация своего брата и поднять толпы, чтобы отомстить за себя. Это не должно вызвать затруднений. Подумайте только: их Святой Президент, вернувшийся из страны мертвых! Они, несомненно, пойдут за ним как один. Все было готово: гроты, заваленные оружием на контрфорсах границы, грузовики и бронеавтомобили, ждущие своего часа под камуфляжем, агенты, введенные в правительство Терезины, союзники повсюду, даже в самом президентском дворце, в том числе и в ближайшем окружении полковника Эдуардо Риста. Оставалось только набрать войска. Момент настал. Через несколько секунд близнец отпрянет от камня и обратится к этим людям с речью воскресшего: «Да, это в самом деле я, ваш убитый президент. Мое единственное преступление? Желание возвратить вам богатства вашей земли… И они убивают меня! Но я воскресаю! Я выхожу из своей каменной оболочки! Я возвращаюсь! Я вернулся! Я теперь не тот человек слепой доброты, которого они отдали на заклание, как ягненка, я — нетленное тело вашей революции. Я — ваш праведный гнев, неумолимый проводник вашей карающей руки, живая статуя вашей правоты, священное железо ваших древних прав! Вчера я обращался к вам, и вы меня слушали, вы доверились мне, и я вас выслушал, сегодня мы пойдем убивать вместе!»
Да, вот что он задумал сделать: вступить во всеоружии в когорту их бесчисленных святых, воплотить в одном и оборотней внутреннего пространства, и пределы Карибских островов, и ярость Завещания, одному взобраться верхом на всех четырех лошадей Апокалипсиса, сбросить полковника Эдуардо Риста, завладеть Терезиной, отправить агентов в Нью-Йорк, чтобы они уничтожили совет администрации, который его отстранил, организовать вместо него другой, словом, завладеть одновременно и властью, и состоянием, и уже с этих позиций обратиться к остальной Латинской Америке.
(Ах да! Убрать француза Мадрикура и еще журналиста Постеля-Верди, он заставит их умирать медленной смертью, в агонии, чтобы они заплатили за его потерянное время.)
Представляя себе эту перспективу, близнец дрожал от удовольствия, того, которое способны испытывать единственно натуры подлинно умозрительные.
«Внимание, вот уже один меня заметил!»
И в самом деле, некий Нене Мартинс, крестьянин, шахтер и член подпольного профсоюза, первым заметил человека, стоящего рядом со статуей. Нене Мартинс сначала подумал, что у него двоится в глазах. Он подумал, что переборщил с качасой, отмечая конец национального траура. Он протер глаза, зажег свою ацетиленовую лампу и подошел поближе.
Никаких сомнений. Покойный Святой Президент стоял рядом со своей статуей.
Чтобы удостовериться, Нене Мартинс спросил у Диди да Казы, поэта, крестьянина и шахтера, видит ли он то же самое, что видел он сам:
— Ты видишь то, что вижу я?
Диди видел то же, что видел Нене.
Они обошли кругом. Они не могли поверить своим глазам. Они зажгли все ацетиленовые лампы. Теперь близнец стоял в ареопаге циклопов со светящимися глазами. Они попробовали дотронуться до него. Они пощупали материю его униформы; она была не из камня. Кто-то положил свою руку на сердце явлению и тут же отдернул ее: это сердце било тревогу, созывая всех к себе! Близнец подождал, пока они предупредили всех в поселке. Он отделился от своего каменного брата только после того, как все собрались.
Тогда, в то время как солнце развертывало над ними свои знамена, он заговорил громким уверенным голосом.
— Да, это я, — сказал он, — я восстал из мертвых, чтобы привести вас к настоящей жизни.
Он дал им некоторое время свыкнуться с этим чудом, затем набрал полные легкие, чтобы кинуть клич к оружию. Но какой-то голос упредил его: чей-то тоненький голосок, как ржавая дрожащая струна, как самая древняя ярость. Это был поэт Диди да Каза, на которого нашло вдохновение, и теперь его ничто не могло удержать:
No Saara de além do mar Hã miragens de enganar Gente vê o que não é não Mas pra gente no Sertão Não functiona a ilusão Tampuoco a ressurreição! За морями, за долами, В знойной солнечной Сахаре Миражи волнуют глаз. Это чудо не для нас: Не иллюзией живем, Воскрешения не признаем!Несколько часов спустя близнец, связанный по рукам и ногам, предстал перед полковником Эдуардо Ристом.
8.
— Привет, Перейра, — сказал близнецу полковник, принимая его в своем кабинете. — Ну как смерть?
Произнося эти слова, он сделал знак охранникам развязать арестованного.
— Эдуардо, — ответил близнец, потирая запястья, — ты, что, головой ударился: арестовывать воскресшего? Ты знаешь, во сколько тебе это встанет, там, наверху?
Он указал глазами на небо.
Полковник Эдуардо Рист разложил шахматную доску у себя на столе, пошарил в мешочке с фигурами, достал оттуда черную пешку и белую пешку и вытянул вперед зажатые кулаки, чтобы противник выбрал свой цвет.
— Сыграем партийку? — спросил он.
— Делать больше нечего!
— Ну же, Перейра, — настаивал Эдуардо, — это напомнит нам наши ночи в пансионе.
— Мы давно не дети!
Полковник сделал предложение:
— Выиграешь — я уступлю тебе место, проиграешь — я отпущу тебя туда, откуда ты прибыл.
— Так политика не делается! — запротестовал близнец.
— Зато так тушат революцию. У крестьян и шахтеров полно других дел, помимо того, чтобы резать горожан.
— Эдуардо, — воскликнул близнец, выходя из себя, — я не затем из кожи вон лез, воскресая, чтобы играть тут с тобой в шахматы! Ты, что, забыл, с кем говоришь, так тебя растак! Ты, значит, ни во что уже не веришь!
Полковник Эдуардо Рист глубоко вздохнул:
— Я верю, что имею дело с придурком, который принимает меня за идиота.
— Что ты такое говоришь?
Близнец, вскочивший было на ноги, тут же оказался опять на стуле, будто и не вставал. У него за спиной два охранника чутко следили за его комфортом.
— Я говорю (казалось, что полковнику Эдуардо Ристу вдруг все разом надоело), что вы не Мануэль Перейра да Понте Мартинс, мой друг детства, что вы не умеете играть в шахматы, что с этой вашей историей воскрешения вы всех нас принимаете за дураков, всех: крестьян, шахтеров, чиновников, политиков, самого Господа Бога и меня вместе с ним, как вы держали за дураков акционеров, которые выставили вас вон из вашей компании, вернув вас в вашу прошлую жизнь.
— Эдуардо… — прошептал близнец тоном печального неверия.
Полковник Рист ответил мягкой улыбкой:
— Еще раз назовешь меня Эдуардо, дорогуша, и твои мозги раскрасят стены моего кабинета.
Он достал из ящика свое табельное оружие. Довольно внушительное. Один курок уже внушал страх.
Последовал долгий обмен взглядами.
— По-твоему, — спросил наконец полковник Эдуардо Рист, — кто нанял вас с братом двойниками Перейры?
— Сам президент! — воскликнул совершенно искренне близнец.
— …
— …
— …
— Этого-то я и боялся, — прошептал полковник.
И затем решил объяснить:
— Вас нанял не Перейра, несчастная мартышка. Перейра давным-давно уже свалил в Европу; ты и твой брат стали всего лишь копией копии копии.
Он подождал, пока близнец переварит эту новость, и заметил:
— Твои предшественники тоже оказались не слишком смышлеными, но ты, кроме того что дурак, еще и злобный. Продажный и ограниченный кайман, не обладающий и мизерной долей здравого смысла. Один только непомерный аппетит. Такой же тупой, как и покойный Генерал Президент.
На этом начался собственно допрос.
— Скажи мне, — начал полковник Эдуардо Рист, — кого из моих людей ты подкупил первым?
— Калладо! — воскликнул близнец. — Мануэля Калладо Креспо, главу цеха переводчиков! Именно он и подал мне идею революции! Это он организовал закупку оружия, показал мне гроты, чтобы его спрятать, и посоветовал, с какой деревни начать собирать войска.
Полковник сокрушенно взглянул на своего заключенного:
— Еще и стукач в придачу…
Но близнеца уже несло:
— Он указал мне, каких чиновников следует подкупить, какого они были ранга и сколько стоили, он даже порекомендовал мне поэта для песни моей революции: Диди да Казу, он, по его словам, был настоящим гением, отравой общественного мнения Терезины!
В то время как близнец выдавал Диди да Казу, тот, воспевая всегда одних только крестьян-шахтеров Севера, пел следующее:
Ramo em ramo о passarinho Passarinho faz о ninho Canto em canto o passarinho Passarinho faz um hino De verso em verso o poeta Do povo tece a revolta! Веточка к веточке птица, Птица вьет гнездо, Песенка к песенке птица. Птица слагает свой гимн. Стих за стихом поэт Сплетает заговор народа!— Это Калладо все организовал, — вопил близнец, — клянусь памятью брата! Он назвал мне и члена профсоюза, который должен был вести мои войска: Нене Мартинса, мятежника в душе, опасного для общества!
Полковник Эдуардо Рист прервал его взмахом руки, затем, наклонившись к переговорному устройству, сказал:
— Калладо, можешь зайти на минутку?
— Сейчас иду, — ответили из микрофона.
Мануэль Калладо Креспо появился как по мановению волшебной палочки. За все эти годы он заметно раздобрел. Еще никогда волосяной покров на его лице так не напоминал амазонские заросли. Одна только макушка страдала от начавшейся вырубки лесов.
— Из-за бровей не могу разобрать, — заворчал он, заметив на стуле двойника, — это кто такой тут сидит? Это, случайно, не мой взяткодатель?
Полковник подтвердил, что это в самом деле он. И безвольно махнул рукой:
— Калладо, будь другом, объясни кретину, как это действует в Терезине, я просто не в силах.
— Для этого и нужны переводчики, — согласился Калладо.
Итак, с чувством и с толком, как если бы он наставлял ученика, Мануэль Калладо Креспо рассказал близнецу все, что изложено выше: про Перейру, про предсказание Маэ Бранки, про агорафобию президента, про его побег в Европу, про выбор первого двойника, потом второго…
— И так далее, до самой смерти твоего несчастного брата.
Здесь Мануэль Калладо Креспо немного отклонился от темы, чтобы спросить у полковника Риста:
— Эдуардо, как живот одной женщины может выносить двух столь разных близнецов, как святой и этот прихвостень?
— Эта дрянь, — пробубнил полковник.
— …
— …
Поверженный, близнец все же задал следующий вопрос:
— Так значит, вы были в курсе насчет двойников?
С большим терпением Калладо объяснил ему, что после убийства Маэ Бранки агорафобия Перейры так явно читалась у него на лице, а его желание отправиться в Европу было настолько необоримым («Это гораздо больше, чем простое желание, парни, — оправдывался юный диктатор, — это культурная необходимость!»), что полковник и он сам посчитали его неспособным к правлению и решили подвигнуть его к золотой ссылке. Для этого Калладо стоило только подкинуть ему идею двойника (так скромно, что Перейра был уверен, что додумался до этого сам) и подсунуть ему под нос того цирюльника, похожего на него невероятно (так ловко, что Перейра подумал, что сам его обнаружил), чтобы диктатор-агорафоб согласился оставить вместо себя свою копию и скрылся из виду.
— Вот так, — заключил Мануэль Калладо Креспо.
— Вот так, — подтвердил полковник Эдуардо Рист.
— Затем мы стали сменять двойников, как только они начинали изнашиваться. Та же тактика: заставить поверить каждого из них, что идея подыскать себе замену принадлежала именно им, и внедрить двойника, которого, по их мнению, они выбрали сами. Благодаря их тщеславию это было нетрудно. А, Эдуардо?
Полковник Эдуардо Рист подтвердил кивком, что это было настолько легко, что становилось скучным.
— А отец? — спросил близнец. — Отец в это верил? Я всегда спрашивал себя, неужели он в самом деле смотрит на меня как на сына…
— Здесь действовало то же тщеславие. От двойника к двойнику старик да Понте находил, что его сын становится все лучше и лучше и что это было благодаря ему. Когда Перейра убил твоего брата, старик да Понте, который принимал святого за своего сына, умер от горя, ты знал об этом?
— Отцовский инстинкт… — прошептал полковник Эдуардо Рист.
— Это Перейра убил моего брата? — удивился близнец.
…
В то же самое время в горах Севера Диди да Каза напевал шахтерам-крестьянам:
Naquela história de gêmeos De que fala o livro santo Quem foi que matou o outro? Foi Caim? Esaú? Quem? Deus sabe, e о povo também Foi Pereira! disse alguém. В этой истории близнецов Из святой книги праотцов Который из братьев другого убил? Каин? Исав? Кто брата сгубил? Знает Бог и народ это знал. «Это Перейра!» — кто-то сказал.…
— А епископ? — спросил близнец. — Епископ знал, что он имел дело не с Перейрой? Это ведь все-таки был его крестник! Во всяком случае, ко мне он всегда обращался как к крестнику.
— Епископы не занимаются политикой, — ответил Калладо. Каждый раз, как Христос воскресает, они довольствуются тем, что вновь посылают его на крест, чтобы Святая Церковь длилась вечно, вот и все.
— Это к тому, что тебя ожидало с твоей историей воскрешения… — заметил между прочим полковник Рист.
— А народ? — наконец спросил близнец, голос которого понизился до шепота. — Народ верил в этих фальшивых Перейр?
— С народом гораздо сложнее, чем с отцом и епископом: народ делает вид, что верит в то, во что хотят, чтобы он верил, и делает это так правдоподобно, что иногда и сам начинает верить, что верит.
— Вплоть до того дня, когда он решает наконец начать думать, — добавил полковник Рист.
— Так что можно ожидать всего, чего угодно, — прокомментировал Калладо.
…
А в то же самое мгновение Диди да Каза пел:
Se о papagaio recita Sera que a voz exercita? Quando o macaco imita Será que ele vomita? Poeta papagueando Algo tá se preparando. Попугай себе лопочет — Только глотку он дерет, А мартышка все стрекочет — Потешается народ. Но когда поэт трезвонит, Что-то важное готовит.…
— Ты со своей дурацкой революцией опять-таки не имел никаких шансов, — сказал Калладо. — Поскольку ты не смог бы удержаться от того, чтобы не ободрать их до костей, всех до единого: крестьян, шахтеров, торговцев, селян и горожан, и в конце концов перешел бы на людей состоятельных, через несколько лет они сделали бы вид, что верят в другого, и раздавили бы тебя, как Перейру…
Увидев выражение лица близнеца, Калладо воскликнул:
— Черт, ты что, даже не знал, что они разделали Перейру под орех после убийства твоего брата? Бедный малый, полный нуль, ты ничего не знаешь и ничего не понимаешь! Незначительный, однако, багаж для кандидата в диктаторы.
— …
— Во всяком случае, — сказал полковник Эдуардо Рист, — линчевав Перейру, они покончили с диктатурой.
— Конец эпохи, — заключил Калладо.
— …
И здесь государственные мужи раскрыли перед своим заключенным план, над которым они работали с самого отъезда Перейры в Европу: отдать власть народу, доверить ключ от их собственного дома всем этим Нене Мартинсам и Диди да Каза, а вместе с ключами и собственность на землю, а с собственностью на землю и заботу о недрах, а с заботой о недрах обязанность противостоять иностранным аппетитам…
— А отсюда, — продолжал объяснять Калладо, который начал входить во вкус гражданского образования, — и долг как следует выбирать депутатов и посадить в президентское кресло того из них, чей зад меньше всего притягивается магнитом к власти. Например, Нене Мартинса или, скажем, Диди да Казу.
…
Который как раз пел во все горло:
Povo sua quer a terra Faremos democracia. Землю мы себе вернем, Демократию введем.— Это продлится столько, сколько продлится, — заключил полковник Эдуардо Рист голосом, лишенным всякой иллюзии, — в любом случае, это будет лучше, чем стелиться перед каким-нибудь оболтусом.
— Это, конечно, не избавит страну от коррупции, — прибавил Калладо Креспо, — но усложнит задачу бухгалтерам крупных компаний: увеличение количества взяток, несколько неподкупных в роли песчинки в механизме, любопытство журналистов, мнения…
— Ни секунды покоя, — подытожил полковник, почти засыпая.
В наступившем молчании близнец прошептал два последних слова, которые ему оставались:
— А я?
Лицо полковника Эдуардо Риста внезапно просветлело:
— Будь уверен, демократия — дело завтрашнего дня, а сегодня мы, пожалуй, не станем отказывать себе в последнем удовольствии.
— Что, партийку в шахматы? — воскликнул Калладо Креспо, полный ребячьего восторга.
— Всего-навсего, — ответил полковник. И, обращаясь к близнецу с примирительной улыбкой: — Выигрываю я — я тебя убиваю, выигрывает Калладо — он тебя убивает, ничья — мы выдаем тебя будущим демократам, которые расправляются с тобой, прежде чем изобрести справедливость. Идет?
Не дожидаясь ответа, он вытянул зажатые кулаки перед Калладо, предоставляя ему право выбрать между черными и белыми.
Конец
(заключил близнец).
VII. Вопрос благодарности
Я не люблю слово «конец»; это обязывает. Например, спуститься на землю. Вспомнить, что вы не из мяса и костей, моя дорогая Соня, а просто персонаж: одни только слова. Что напоминает мне о необходимости поблагодарить Соню Поль-Бонкур, за то что одолжила вам свое имя, Сильвию Поллок, которая провела свое детство в Чикаго и, как вы, проделала тот путь в Риверсайд в спальном номере «Юнион пасифик чэлленджер», друга Фаншон, которая вдохновила меня на вашу юность, друга Жака, который тщательно отделал вашу историческую память, Ясмину и Монику, которые подвигли меня «развернуть» вас, чтобы поближе с вами познакомиться, а также друга Клода, с которым мы как-то давным-давно беседовали о двойниках, и Тонио, с которым еще вчера мы разговаривали о близнецах…
Вот так встал этот щекотливый вопрос благодарности. Между женщиной, которая дала ему жизнь, и той, которая его в ней поддерживает, романист должен был бы благодарить весь свет. Тех, кто живет рядом с ним, тех, кто пишет, тех, кого он прочитал, тех, кого он слушает, тех, кто его издает, и тех, кто выносит его, пока он творит в муках. В первую очередь, мою дочь Алису, которой знакомо неудобство иметь отца-писателя… Жана Геррена, старого друга, который согласился быть моим первым слушателем, Жана-Филиппа Постеля, Роже Гренье, Ж.-Б. Понтали, Жана-Мари Лаклаветина, моих первых читателей, Мануэля Серра Креспо в роли Калладо, Дидье Ламэзона в роли Диди да Казы, Франклина Риста в роли полковника-однофамильца, племя Мартинсов все целиком…
Количество этих благодарностей и поводы для них, если вдуматься, могли бы дать материал для огромного романа. Я уже вижу на бумаге первые фразы: «Это могла бы быть история автора, который задумал отблагодарить свой круг. Неважно, в каком гамаке ему пришла в голову эта мысль. Стоит только представить…»
«Диктатор и гамак», новый роман Даниэля Пеннака, известного главным образом своими ироническими детективами, обнаруживает совершенно иную грань его писательского мастерства.
Это история президента банановой республики, который попытался избежать судьбы, чем запустил цепную реакцию смены своих двойников, одержимых разными идеями фикс: один отправляется покорять Голливуд, другой — Уолл-стрит, третий оставляет пост ради заезжей актрисы. Каждый думает, что нашел «истинное призвание».
И вместе с тем это редкая возможность увидеть автора лицом к лицу, войти в его творческую лабораторию и наблюдать за тем, как непредсказуемо плетется ткань повествования, открывая для себя такую примечательную деталь: местом, где генерируются замыслы будущих книг и мысли облекаются в слова, для Пеннака является не обычный письменный стол, а гамак — прямоугольник времени, подвешенный между небом и землей.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Кандомбле — негритянский культ, близкий к вуду, в Северной Бразилии. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Tangista — танцор танго (португ.).
(обратно)3
Saudade — тоска по родине (португ.).
(обратно)4
Что (лат.).
(обратно)5
Fazendeiro — владеющий фазендами (португ.).
(обратно)6
Окно (франц., португ., нем., англ., итал.).
(обратно)7
Empregado — служащий (португ.).
(обратно)8
Sertao — внутренние засушливые районы Бразилии.
(обратно)9
Caatinga — сухое тропическое редколесье в Южной Америке.
(обратно)10
Concha acustica — акустическая раковина (португ.).
(обратно)11
Mato — кустарник (португ.).
(обратно)12
Cachaça — водка из сахарного тростника (португ.).
(обратно)13
Cruzeiro — денежная единица Бразилии (португ.).
(обратно)14
Favela — трущоба (португ.).
(обратно)15
Sertanejo — живущий в сертане (португ.).
(обратно)16
Doutor — доктор, врач (португ.).
(обратно)17
Farofa — поджаренная маниоковая мука (португ.).
(обратно)18
Feijao — фасоль (португ.).
(обратно)19
Carioca — уроженец Рио-де-Жанейро (португ.).
(обратно)20
Vomito negro — черная рвота (исп.).
(обратно)21
Guardia civil — жандармский корпус (португ.).
(обратно)22
Vaqueiros — погонщики скота, пастухи (португ.).
(обратно)23
Bacalhau do menino — кнут хозяина (португ.).
(обратно)24
Umbuzeiros — самшитовые деревья.
(обратно)25
Tasca — кабак (португ.).
(обратно)26
Не могу в это поверить!
(обратно)27
Не верю своим глазам.
(обратно)28
Смотри.
(обратно)29
Посмотри и дотронься, Фома неверующий.
(обратно)30
Едемте с нами, просим вас (итал.).
(обратно)31
Иначе — нет (итал.).
(обратно)32
Это могло бы дать вам полную свободу (англ.).
(обратно)33
Кроме того (лат.).
(обратно)34
На веки вечные (лат.).
(обратно)35
Грязные шпики (англ.).
(обратно)36
Грязная война (англ.).
(обратно)37
Грязные ищейки (англ.).
(обратно)38
Истории на подмостках (англ.).
(обратно)39
The Times Literary Supplement — английское еженедельное обозрение важнейших публикаций, а также новостей культуры: театра, оперы, выставок и пр., выходит на нескольких языках.
(обратно)40
Caatingueiro — житель каатинги (португ.).
(обратно)41
Cerrado — густой низкорослый кустарник (браз.).
(обратно)42
Retirante — переселенец из засушливых районов (браз.).
(обратно)43
Полковник Чарли.
(обратно)44
Cafuz — метис от брака мулатки и негра, негритянки и индейца (браз.).
(обратно)45
Mameluco — метис от брака белого и индианки (браз.).
(обратно)46
Pardo — мулат, метис (португ.).
(обратно)47
Речь Гитлера (нем.).
(обратно)48
Chaurrasco — мясо, поджаренное на углях, на вертеле (португ.).
(обратно)49
Макумба — негритянский религиозный обряд.
(обратно)50
Vatapa — блюдо из маниоковой муки с кусочками рыбы (португ.).
(обратно)51
Feijoada — блюдо из фасоли и вяленого мяса (португ.).
(обратно)52
Вечное кладбище Голливуда (англ.).
(обратно)53
Маленькая щелка (англ.).
(обратно)54
Здесь: последний стакан (англ.).
(обратно)55
Одноместный номер (англ.).
(обратно)56
СИС, разведслужбы Великобритании (англ.).
(обратно)57
Ж. Расин. «Береника», акт V, сцена седьмая (пер. Н.Я. Рыковой).
(обратно)58
Под землей (англ.).
(обратно)
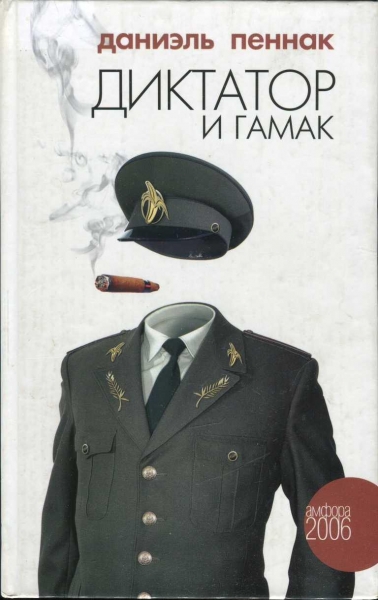

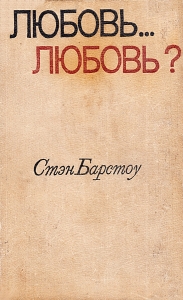
Комментарии к книге «Диктатор и гамак», Даниэль Пеннак
Всего 0 комментариев