Павел Павлович Улитин Путешествие без Надежды
Кочующий четверг
Теперь, из некоторой дали, эхо вполне самостоятельных, казалось бы, шагов в моей жизни слышится мне как цитата из жизни Улитина. Например, решительные шаги в неизвестном направлении — через границу, за рубеж. Эти шаги были очень заметны, но не слышны: это были следы на снегу. Ноги в сказочном снегу утопали, когда я передвигался с тяжелым чемоданом январским утром 1975 года в направлении голландского посольства в Москве. Я не вижу своего лица, потому что вижу себя со стороны, нет — со спины, глазами провожающего, глазами Нины Петровой. Она шла сзади на тот случай, если меня задержат «органы» и надо будет оповестить об этом иностранных корреспондентов. Сквозь снег меня было видно плохо. Человек-невидимка, обозначенный в реальности лишь внешними атрибутами: пальто, шапка, чемодан. И следы на снегу.
В чемодане был мой личный архив, все то, что накопилось за десятилетие — или около того — интенсивных разговоров и переписки в кругу моих московских друзей. Знатоки политической ситуации в Москве тех лет[1] дали мне знать, что через голландское посольство можно этот архив переправить дипломатической почтой в Тель-Авив, если выдавать эти бумаги за материалы, необходимые для продолжения научной деятельности в Израиле. (Голландцы благородно взяли на себя в те годы роль дипломатического посредника между Россией и Израилем, поскольку эти отношения были формально разорваны.) Никто толком не знал, что подразумевается под «научной деятельностью» и возьмут они этот архив или не возьмут: мне предстояло в этом убедить атташе посольства. В той степени, в какой позволит мой неполноценный английский. Я видел, как топчутся передо мной на снегу двое в штатском у здания посольства — они наблюдали за всеми входящими и выходящими. У входа стоял милиционер. Все это напоминало шпионскую историю, где каждый страдает манией преследования.
Мне было страшно, что меня остановят и отберут чемодан. Страшно не только потому, что у меня отберут мое московское прошлое, отправив меня в новую жизнь на Западе нагишом, так сказать. Содержимое чемодана действительно было уникально: тут были открытки в виде коллажей, эпистолярная каллиграфия, самодельные книги-подборки, просто почтовые письма, личные документы, тексты и фотографии. Тут были и тысячи страниц моей прозы. По стилю эта проза была подражательной, но эта была пародийная стенограмма разговоров с моими друзьями и учителями жизни в московской интеллектуальной сутолоке чуть ли не с 1962 года. Чего только не почерпнули бы из этих страниц органы безопасности, если бы чемодан попал им в руки.
С другой стороны, они фактически не выудили бы оттуда ничего нового. Все открытки и письма из чемодана так или иначе прошли черный кабинет главпочтамта (экзотический дизайн и, скажем, неординарный шрифт в адресе на конверте этих почтовых отправлений домашнего изготовления не могли не привлечь внимания цензора). Даже в томах-подборках авангардной прозы не было, практически, ни одной страницы не отправленной в том или ином виде по почте. В этом и состоял «открытый» эпистолярный принцип общения в моей Москве тех лет. Мы посылали друг другу «открытые письма», открытки: мол, хочешь? читай! — все равно ничего не поймешь!
(Таким образом пародировалась сама идея цензуры как акта, противоречащего самой бесцензурной природе человеческого мышления. Предупреждение «Еще раз напишешь — убью!» рукой дворника на стене, измаранной дворовым хулиганьем, — это все равно что «Не читайте чужую переписку!» на почтовой открытке. Это запрет на действие, чье запрещение включает акт, подлежащий запрету. Запрет на слова выражается в словах и тем самым аннулирует сам запрет. Отстаивание правды патологическим лжецом теряет всякий смысл как автоматически лживое действие.)
Но одно дело — индивидуальная шифровка, другое — коллекция этих документов, собранных вместе. Невидимые, хотя и открытые каждому глазу, отдельные странички вместе обретали телесность кругового общения. Вместе все это представляло собой цельную картину некоего московского круга, с именами, адресами и телефонами; а для органов нет ничего более важного (во время допросов по делу, так и во время регулярной слежки), как выстраивание связей, наведение мостов, «рисование кругов» на мутной воде интеллектуального общения. Они — заядлые сочинители романов. Мое незаконное прошлое было аккуратно упаковано в старый чемодан, как готовый сюжет. Попробуем его открыть.
* * *
«Первый удар самый страшный. Но он же и освобождает». Так начинался устный рассказ Улитина про попытку визита в американское посольство, в последние параноидальные годы сталинского режима, перед кончиной вождя; то есть за четверть века до моего «подражательного» визита с чемоданом рукописей в голландское посольство. Этот свой шаг — прорыв в посольство с рукописями — он в разговоре со мной назвал «бзиком», почти психиатрическим умственным сдвигом. Им руководила вера в то, что он сможет шагнуть за границу — за границу самого себя и своей советской жизни, в родную иностранную речь. Его мать, сельский врач в запорожской станице, учила Павла с детства французскому и немецкому, а после войны он отшлифовал английский в педагогическом институте иностранных языков в Москве.
Его остановил при входе в посольство милиционер из будки. Улитин обратился к нему по-английски, высказав свое желание встретиться с послом. Улитин изображал из себя англичанина, свободно изъясняющегося по-французски и читающего по-немецки. Это и был бзик. Вид у него был довольно безумный: его рукописями была набита обыкновенная авоська, а сверху лежали коньки (их просила передать соседям Улитина по квартире какая-то случайно встреченная родственница). Вид коньков в авоське был вдвойне нелеп, поскольку Улитин передвигался с палочкой: у него были перебиты сухожилия после первого ареста до войны, когда он, студент второго курса ИФЛИ, послал антисоветскую записку лектору по марксизму-ленинизму. Не отсюда ли всякое упоминание коньков в его текстах такое комическое и одновременно с оттенком угрозы? (На коньках с энтузиазмом катался и сокурсник Улитина по ИФЛИ, будущий глава КГБ, «Шурик» Шелепин.)
Знание немецкого в свое время избавило его от ареста совсем иного рода — спасло ему жизнь. Произошло это в доме родителей, в родной станице, куда он вернулся после первого ареста уже инвалидом, с переломанными ребрами и перебитыми сухожилиями. В станицу вошли немцы. Когда один из офицеров распахнул дверь улитинского дома, тот лежал в постели, с «Фаустом» Гете в руках. Но в углу стояли костыли. Немцы могли спокойно принять его за раненого советского солдата. Его могли расстрелять на месте. Улитин приподнялся с кровати и отчитал вошедшего офицера за то, что тот вошел без стука, на таком изощренном языке Гете и Шиллера, что тот, совершенно ошарашенный, вежливо ретировался.
Однако милиционеру на воротах американского посольства это знание иностранных языков почему-то не очень понравилось. Он набрал особый номер по вертушке. Из соседнего с «Националем» подъезда, где в ту эпоху размещалось местное подразделение ГБ, за Улитиным явились два жирных мальчика. И тем не менее, магия владения иностранным языком сработала. Даже когда его привели в отделение, анкету предложили заполнить на иностранном языке. Улитин делал вид, что не понимает по-русски. Заполнил анкету по-английски. Затем его посадили в черную машину и повезли на Лубянку. Парни-гебисты увлеченно обсуждали успешный арест важного агента иностранной разведки. Прозвучала фраза: «Жирного карася поймали!» Тут Улитин не смог удержаться от улыбки. Эту улыбку тут же заметили. Эта улыбка означала многое. Она означала, что человек понимает по-русски. А иностранцем просто притворяется. Тут Улитина и избили. Прямо в машине. С тех пор два мотива — понимающая улыбка и ужение (ловля) рыбы — обрели в его прозе мифологическое значение. Как только у него в тексте упоминается сочинение Аксакова «Руководство по ужению рыбы», имеется в виду та самая роковая поездка в направлении Лубянки.
Но магия иностранного языка — и улитинское мастерское владение таковым — продолжали действовать и на Лубянке. «У них там такая гигантская бюрократическая машина, каталог с именами агентов длинней, чем в библиотеке иностранной литературы, все перепутано, в один присест никаких фактов выудить невозможно. А вдруг я — двойной агент с секретным кодом или паролем?» Чиновникам ГБ понадобилось на выяснение двойной личности Улитина несколько дней. До этого обращались с ним вполне прилично и вполне прилично кормили. После этого его избили по-настоящему. Или нет, я, возможно, ошибаюсь, его «избили по-настоящему» после первого серьезного допроса. Даже на Лубянке предпочитали не разочаровываться в связях с заграницей:
«Имена и явки иностранных агентов, резидентов, посредников. Вот что им было важно. Мне эти вопросы в конце концов надоели, и я решил назвать имя главного резидента. На кого я работал. Пожалуйста, говорю, Анатоль Франс. Следователь аккуратно записывает в протокол. Франс. Анатоль. Адрес? Франция, говорю. Улица? Площадь Пантеона. Дом номер? Без номера. Просто Пантеон. Квартира? Вторая ниша справа. Следователь все аккуратно записал, был страшно доволен, предложил сигарету. Но это остроумие мне дорого обошлось. На следующий день он выяснил, кто такой Анатоль Франс и что такое Пантеон. А это значит: надо выдирать соответствующие страницы из протокола. А это значит: томище стенограммы допросов переписывать заново. Короче говоря, на следующий день я узнал, что такое обморок. Когда вам бьют ногой в живот. Удар ниже пояса. Прямо под эти самые я. Сознание выключается. Подсознание тоже. Тебя продолжают молотить сапожищами, но ты уже ничего не чувствуешь. Благодаря страшному удару, она дает жутко много копий».
До меня не сразу дошло, что Улитин продолжает говорить уже про свою английскую пишущую машинку (разговор шел у него дома): «У нее жуткий удар. Горизонтальный. Рычаги выскакивают как ножи, а не как молоточки. Она берет по десять копий. Русской машинке подобное не снилось». Он стряхнул пепел. Пепел аккуратно заносился в пепельницу, как слова в протокол. Отпил маленький глоток кислого вина. И уже другим тоном, другим нажимом рычагов, как будто на другой пишущей машинке: «Но в результате лента, к сожалению, быстро снашивается. Вся истрепанная и в дырах. Первый экземпляр практически нечитаем. Тоже весь в дырах. Его нужно считать слепой копией. Печатать приходится вслепую, а для чтения пользоваться первой, а то и четвертой копией. Но четвертая копия, учтите, не идентифицируется».
«В каком смысле?»
«В том смысле, что по четвертой копии нельзя установить, чья это была пишущая машинка, то есть нельзя идентифицировать владельца».
* * *
Четверть века спустя, оказавшись в Париже, я наведался в Пантеон. К моему удивлению, никакой ниши Анатоля Франса я там не обнаружил. Он захоронен в совершенно другом месте, в одном из пригородов Парижа. Пантеона он не удостоился. Следователь был прав: Улитин указал ему ложный адрес. Но Улитин фальсифицировал собственную биографию не только в протоколах допроса. История его жизни переиначивалась в зависимости от его слушателя. Слушатель становился читателем, а потом, увлекшись этим методом подтасовки фактов, писателем (как в моем случае) — пародией, в концепции Улитина, на следователя, сочиняющего протоколы допроса. Мне понадобилось несколько лет знакомства со всем его московским окружением, чтобы обнаружить, что автором этого розыгрыша с Анатолем Франсом из парижского Пантеона во время допроса был вовсе не Улитин, а общий приятель из окружения Айхенвальда, преподаватель математики[2]. Шутка эта стоила автору передних зубов. Но эти истории попадали под одну обложку в один улитинский переплет вместе с эпизодами, связанными с Ленинградской тюремной психбольницей (ЛТПБ), потому что туда он попал именно потому, что пытался прорваться за границу через американское посольство с авоськой, набитой рукописями. Все было у самого Улитина: и выбитые зубы, и сломанные ребра. Но он не хотел говорить про это своими словами. Он предпочитал коллективное арестованное «я» — пародию на допрос, где чужие слова приписываются следователем тебе, а твои слова будут использованы в чужом протоколе допроса.
Но эпизод этот еще и о том, что сама по себе история — не важна. Важно кто ее рассказывает. Сам выбор рассказа, определенного сюжета, манера пересказа говорит больше о человеке, чем сюжетные перипетии того, что он рассказывает: историй много, а уникальных рассказчиков можно пересчитать по пальцам. Слова (истории) не существуют сами по себе, за исключением одного жанра — анекдота. Именно поэтому люди, обожающие рассказывать анекдоты, совершенно слепы в отношении собеседника.
Александр Асаркан (эссеист, автор самодельных открыток, мой будущий ментор и бродячий философ, духовный наставник) упоминал в своих историях «самый длинный на свете монолог» Улитина в столыпинском пересыльном вагоне по дороге в Ленинград, из одной тюрьмы в другую, когда Улитин говорил не переставая чуть ли не сутки. Почти сразу же, пораженный Асаркан сказал: «А я вот возьму и запишу это по памяти как собственную прозу». На что ему было сказано Улитиным: «А я возьму эти страницы, скажу спасибо и вставлю в собственную книгу».
На протяжении почти десяти лет моего общения с Улитиным (мы впервые увиделись в году 1964-м, но долго не сближались) я записывал разговоры с ним и его словесные перепалки с Асарканом и Айхенвальдом, я подражал манерам и интонациям своих старших друзей до такой степени, что, наталкиваясь в архивах на некоторые тексты Улитина, напечатанные на моей машинке (он иногда импровизировал на чужих пишущих машинках, зайдя в гости), не сразу могу ответить: а не я ли эти тексты сочинял, то есть записывал разговоры вокруг, монтажируя их абсурдистским образом, в духе Улитина? Этот язык, которому я подражал, а потом стал воспринимать как свой собственный, казался мне иностранным. Не говоря уже о том, что Асаркан навязывал мне в своих открытках уроки своего итальянского, в то время как я склонялся к английскому Улитина.
Отношения в этом кругу и были «другим языком» общения; Улитин эту метафору тогдашнего разговора принял и «муссировал» ее довольно часто. С тех пор, как увидел меня в окружении Александра Асаркана, когда тот стал собирать свой антураж из учеников, благотворителей и поклонников еженедельно у газетного киоска на Пушкинской площади. Один из лейтмотивов «Путешествия без Надежды» П.П.Улитина — это подростковые страхи и восторги, маленькие победы и грандиозные унижения в вечной конфронтации учителей и учеников, заклятых друзей и закадычных врагов в кружении «рыцарей и оруженосцев» вокруг одинокой фигуры великого человека — будь то Сталин или Асаркан, Оскар Уайльд в глазах Андре Жида, Андрей Белый в кругу поклонниц Александра Блока или Джеймс Джойс со свитой во главе с Самюэлем Беккетом.
Где кончался оригинал и начиналась копия? «Это как встреча в коридоре тюрьмы с другим подследственным. По коридору шагал скелет. До чего довели человека! — мелькнуло у меня в голове. И только в камере я вспомнил глаза встречного: расширенные от ужаса зрачки. И тут до меня дошло: это он на меня смотрел такими глазами. Я выглядел точно так же, как и он». Лишь много лет позже, перечитав по-английски Орвелла, я понял, что Улитин цитировал эпизод из романа «1984».
Я лишь сейчас могу себе представить, каким образом я гляделся в этой компании глазами Улитина. Вот мы стоим, замерзшие, на Пушкинской площади в ожидании Асаркана у газетного киоска рядом со зданием «Известий», куда по пятницам поступал в продажу свежий выпуск «Недели», где Асаркан тогда подрабатывал. Даже в трескучий мороз он появлялся без пальто, в своем сером пиджаке, с шарфом и ушанкой на голове, с пачкой газет и брошюр — заготовок для самодельных почтовых открыток — под мышкой. Все подтягивались — весь антураж. Я тогда не понимал, что для Улитина я был всего лишь еще одним мальчиком в рое воспитанников Асаркана, новообращенных из его колледжа, с разной степенью близости отношений с наставником, где среди пестрой компании выпускников были и Лев Смирнов, и Саша Курепов, и Лёня Невлер, и Вадик Паперный, и Яник Каган. К этим Вадикам, Яникам и Лёникам добавился еще и Зиник. Зиник, в отличие от предыдущих колледжистов, стал задавать неуместные вопросы своему наставнику, нарываясь периодически на скандал. По самым нелепым поводам. Очень часто бытовым, а вовсе не идеологическим. Из-за собственной безграмотности, потому что в этой новой для меня жизни вокруг Асаркана Москва была другой страной, и в этой стране я был иностранцем. Для моего тогдашнего пионерского оптимизма это была за-граница, потусторонняя территория, где все не так, с другой хронологией и топографией. Даже география Москвы казалась загадочной, где каждый монумент, здание, площадь оказывались связанными с неведомыми судьбами трех товарищей по аресту.
Получив в «Известях» гонорар, Асаркан должен был «рвануть кофейку». Вместе с первыми магнитофонами в ту эпоху в Москве появились первые кофейные машины-эспрессо, о чем я тоже до знакомства с Асарканом не подозревал. Во-первых, в магазине «Чай» на Неглинной. В магазине «Чай», по утверждению Асаркана, был лучший в Москве кофе, но зато в кулинарии при гостинице «Москва» лучше умели обращаться с кофейной машиной, когда речь шла о «двойной закладке». Эти двойные и ординарные порции мудрости раздавались Асарканом походя, с заходом в книжные магазины и с заглядыванием в газетные стенды, с заворотами в переулки и параллельные улочки, от кромки тротуара к витринам магазинов, с осмотром всей Москвы с губернаторской деловитостью и пристальностью: как некой территории, которую всякий раз надо открывать заново и растолковывать при этом свои открытия другим.
Вся компания двигалась вдоль по улице Горького, сквозь слякоть, гололедицу, жару, дожди и снежные завалы. Особенно тяжело было во время поземки или морозного ветра. От ветра Асаркан не уклонялся, не уходил вбок, а просто пригибался, отворачивая лицо в сторону, втягивая плечи, попыхивая в сторону сигаретой. Холодный ветер бил в лицо, и хрипловатые монологи и инструкции Асаркана часто не долетали. Поэтому ученики всегда сопровождали учителя как бы в одной скульптурной группе: толпой, вокруг него; он то выдвигается вперед, то отступает назад, и его собеседники, точнее, подобострастные слушатели, наталкиваются друг на друга, перемещаясь, перегруппировываясь так, чтобы не отстать ни на шаг от своего кумира, не упустить ни одного слова своего наставника и учителя. Улитин шел сзади, с палочкой, прихрамывая. «Шаги Командора», острил он сам.
По дороге пересказывались (и не один раз) все архитектурные и легендарные подробности классического уличного фольклора Москвы, для меня — откровения: от балерины на крыше работы скульптора Мотовилова с задранной ногой (не скульптора, а у его скульптурной балерины) или про то, как Сталин поставил свою подпись на проекте с двумя фасадами «Москвы», а в связи с Елисеевским гастрономом непременно звучала история (ее рассказывал Виктор Михайлович Иоэльс, шелкограф, специалист по народовольцам и по очередям) про голландскую баночную селедку; в гастрономе собралась гигантская очередь, давали по банке в одни руки, а к середине дня кто-то решил поделить одну из банок прямо на месте, вскрыли, и оказалось, что в банке с селедочной наклейкой — черная икра. Миллионы, упакованные в селедочные банки. «Можно себе представить, какая тут началась среди населения форменная булгаковщина!» Булгаковщина продолжалась и за пределами Елисеевского. Это был, действительно, любимый Асарканом роман в романе, реальность в реальности, двойное дно: ощущение очень сильное при советской власти и из-за присутствия «театра» отношений в моей жизни. Кроме того, Москва из романа Булгакова, как некий исчезнувший «оригинал» в советской Москве — заново переоткрытой, тоже создавала ощущение закулисности нашего существования. Топография сюжета становилась подтекстом реальной советской Москвы. Реальность двоилась, как моя раздвоенность в отношениях с Асарканом и Улитиным.
«Теперь мне что, придется тебе объяснять, что в Москве есть по крайней мере две России в кавычках и что в России есть по крайней мере две Москвы — одна в кавычках, а другая без?» — отвечал Асаркан на мой глупый вопрос, куда мы направляемся за кофе, в какую Москву. «Неужели мне нужно объяснять тебе, как дураку-иностранцу, что кинотеатр „Россия“ не имеет никакого отношения к гостинице того же названия? Что же касается кулинарии при гостинице „Москва“, то если убедить тамошнюю продавщицу употребить с двойной закладкой кофе ординарную порцию воды, то эспрессо получается не хуже, чем в Риме. Без кавычек, заметьте».
«Ты разве был в Риме?» — удивился Толя Макаров, колумнист из «Недели». Он вернулся из Парижа и хотел поделиться зарубежным опытом. Но его никто не слушал.
«Я про Рим все знаю, потому что подробно читаю итальянскую коммунистическую прессу, — сказал Асаркан. — Читать про город интереснее, чем в нем бывать. Впрочем, эту философию субъективного идеализма я исповедую исключительно по необходимости. Если бы я жил в Риме, я бы, вполне возможно, исповедовал философию диалектического материализма, поскольку все римляне — скрытые субъективные идеалисты с партийным билетом коммунистов. Эти две тенденции борются в них, как мэр с епископом в городе Бергамо. Епископ сбрасывает богоугодные листовки с самолета над городом. А мэр-атеист хотел бы это запретить, но, как всякий итальянский коммунист, должен отстаивать свободу слова, даже для своих врагов-епископов. Он, поэтому, запретил не листовки, а сбрасывание их с самолета. Он запретил самолет ввиду, якобы, жалоб населения на шум. Но в Италии бороться с шумом — все равно что запрещать жизнь».
«Для этого не обязательно быть в Италии. Достаточно оказаться в компании Асаркана на улице Горького», — сказал Улитин. «Тут никто никого не слушает. Каждый слышит, что он хочет. Я кричу Айхенвальду: ты дегенерат! А он: это почему же я генерал? Ты отдаешь себе отчет, что своим листовочным шумом ты не даешь никому слова сказать?»
«Но ведь ты, как подпольный писатель, не можешь без цензуры. Ведь цензура формирует подпольное мировоззрение. А поскольку ты неизвестен народу, советская власть перестала с тобой бороться. Ты чувствуешь себя обделенным. Скажи спасибо: в своем собственном лице я создал для тебя твой личный цензурный комитет».
«Ты не цензурный комитет. Ты глушилка. Ты глушишь все без разбору. Все чужие голоса. Любой голос, кроме твоего, кажется тебе враждебным. Даже голос моей совести».
«Давно такого не слыхали».
«Я и говорю. То есть говоришь ты. А моя совесть молчит».
«Вашему брату-сочинителю совесть не нужна. Вам нужно умение манипулировать своими словами».
«Мы что-то давно не слышим своих слов. Пока что мы слышим только твои слова. А словами сыт не будешь».
«Кофе надо заедать сырной ватрушкой. И ей же затыкать враждебный голос». Под руководством Асаркана все отправились за сырной ватрушкой в «Москву», но там была длинная очередь из домашних хозяек за котлетами по шесть копеек без панировки. И еще за купатами. Их предложил закупить Виктор Михайлович Иоэльс, чтобы зажарить их у себя на кухне в доме за Тишинским рынком. Там тише. И есть спирт, который Иоэльс как шелкограф получал с фабрики для очистки матриц. После рюмки чистого спирта нужно долго сидеть с открытым ртом, не произнося ни звука. Асаркана это устраивало: его никто не прерывал. Но Асаркана не устраивали купаты. Он их в рот не брал. «Ваши купаты напоминают мне своим видом членов Политбюро», — сказал Асаркан. Каламбурная неприличность этого сравнения «членов» с купатами заставила меня задать Асаркану наглый вопрос:
«А почему все на свете надо сравнивать с советской властью?»
Я помню лишь тишину и оторопевшие взгляды присутствующих: это ж надо такое спросить! У Асаркана! Так, по крайней мере, мне позже пересказывали ситуацию. Сам я плохо помню, что я спросил, потому что не находил в этом вопросе ничего провокационного.
Не помнил я толком и ответа Асаркана. Что-то насчет того, что советская власть везде, а ты — никто, и поэтому нуждаешься во внешних объектах для фона, без которого ты просто не существуешь. Трудно было сказать, было ли это абстрактное «ты» — мол, человек вообще, или нечто конкретное, обращенное ко мне, — ты, мол, вообще ничтожество и должен заткнуться. Например, ватрушкой. Но я не затыкался. Я не понимал, что страшного в подобных вопросах. Я имел глупость возразить. Меня еще раз отшили. Я вставил что-то еще, не менее остроумное и совершенно неуместное, в ответ. После этого Асаркан со мной не общался целый год. Целый год я был предан остракизму.
* * *
«Все сделали вид, что ничего не произошло». С этих слов и начались мои личные отношения с Улитиным. Это были слова по почте, адресованные лично мне. Ссора с одним великим человеком — начало дружбы с его заклятым другом. На сборищах у газетного киоска Улитин обычно стоял в стороне, прислонившись к стене, опираясь на палочку, покуривая. Иногда я слышал от этого человека с щеточкой усов британского полковника и во французском берете отдельные, казалось бы неуместные реплики и остроты. Я их не связывал ни с собой, ни с происходящим вокруг меня.
Вместе с Александром Меламидом (он тогда еще не был объявлен основателем движения «соц-арт») мы, подростками, в самом начале 60-х годов создали пародийную тайную организацию под названием «Вселенская Организация Анны Справедливой» (В.О.А.С.). Мы занимались, в частности, литературными розыгрышами, пародируя массовые увлечения той эпохи — от полуподпольной авангардистской поэзии с чтением стихов у памятника Маяковскому до первых бардов с магнитофонных лент — техническое новшество создавало новые неофициальные литературные формы. Мы придумали авангардистскую поэтессу Аделину Федорчук — она, якобы, погибла под ковшом экскаватора на комсомольской стройке и оставила после себя тетрадочку стихов (например: «Пермь — это Рим мира, все дороги ведут в Пермь»). За ней последовал вымышленный бард Зиновий Воас. Мы сочинили за него кучу романтики — песни-баллады про костры, дальние страны, чужие города, пиратов и цыган. Мы записали все эти вирши моим голосом на магнитофон под бренчание четырех аккордов на гитаре. И запустили в самиздат. Нашлись те, кто воспринял этого барда серьезно. Зиновий Воас стал культовой фигурой в одной компании — учеников средней школы, где преподавал литературу поэт и переводчик Юрий Айхенвальд. Асаркан тут же догадался о розыгрыше и взял меня под свою интеллектуальную опеку. Например, устроил концерт новоявленного барда в доме Айхенвальда. Айхенвальд подверг выступление серьезному критическому анализу. Затем состоялось чтение стихов. Мне страшно хотелось выпить. Я боком выбрался вслед за Асарканом на кухню. На кухне собирались те, кто не хотел слушать стихов, но хотел пить водку. И слушать Улитина.
Толпа расступилась, пропуская нас с Асарканом вперед, и я его увидел. Это был другой Улитин — не тот, кто держался в стороне от толпы вокруг газетного киоска. Тут был театр. Ощущение было — как от чревовещателя: это была внешность одного человека с голосом и манерами другого. Челка спадала на лоб, он, как Айхенвальд, отбрасывал ее назад взмахом руки, заключая фразу: «Но не в этом дело». Потом задирал подбородок и, дирижируя сигаретой, помогал строчкам взмывать вверх. И вдруг обратился в мою сторону, поставив точку в воздухе — этой самой сигаретой:
«Вот наша поп-звезда. Тут слова не помогают. Тут важны ритмы. I love you, but you love him, but I love you. Главное, повторять одно и то же с разной интонацией».
«Потом пойдешь разыскивать, как милость, кому бы рассказать про ордена, — гудел голос Айхенвальда из большой комнаты. — Потом поймешь: ничто не изменилось. Потом начнется новая война».
«Ах, какое было б счастье, если б яростной волной атомный удар на части расколол бы шар земной», — как эхо, декламировал другие айхенвальдовские строчки его двойник на кухне. Передо мной было воплощенное эхо Айхенвальда из другой комнаты. Но из-под маски тут же выглядывал сам Улитин — или еще один «другой» голос? «Тоже мне, большой пропагандист светлого будущего. Чего тут удивляться, что следователь направил его на психиатрическую экспертизу. Не потому что стихи безумные. Но потому что решил зачесть их во время допроса. Важно ведь не что, а где и когда. Поэту явно не хватало слушателя. But, — Улитин вдруг перешел на английский, — there is some method in this madness. Сталин это понимал. Про слово и дело. Он тоже писал стихи. И неплохие. Советовался с Пастернаком: Мандельштам — мастер или не мастер? (Я тут же услышал в голосе Улитина — нет, увидел, сталинские интонации, и даже его усики у нас на глазах превратились в сталинские.) Собственно, может быть из-за этой любви Сталина к поэзии, Айхенвальда и направили в ЛТПБ. Что означает не только Ленинградскую тюремную психбольницу, а еще и — Люблю Тебя Просто Безумно. Туда направлялись только лучшие поэты эпохи. Например, тот, кто зачитал своему следователю следующие руководящие указания: и знать, что пред тобою бездна, и знать, что над тобою меч, знать, перед кем стоять полезно, и под кого полезно лечь. Это наш поэт зачитал, стоя на допросе. Встать, лечь, сесть — масса возможных позиций. И улыбаться, рядом сидя, и ласково в глаза смотреть: не для того, чтоб не обидеть, а для того, чтоб уцелеть. А он и вправду улыбается. Молодой человек, чему вы улыбаетесь?»
Я не сразу понял, что Улитин обращается ко мне. У меня привычка улыбаться улыбкой догадки: когда вдруг понимаешь то, что не было очевидно с первого взгляда. Но со стороны подобная улыбка очень часто воспринимается другими как уличающая улыбка, как оскорбительный вызов, как наглость. Улитин менял свою сущность на глазах. Когда он зачитывал строки про то, как надо улыбаться рядом сидя и ласково в глаза смотреть, он сжимал плечи, наклонял голову вперед и затягивался резко сигаретой, периодически быстрым жестом стряхивая пепел, выворачивая руку с сигаретой движением вбок. В этих нескольких жестах-штрихах невозможно было не узнать Асаркана. Это было откровением: невозможно изменить внешность, но можно подменить сущность. И я улыбнулся: самому себе — собственной догадке.
«А он продолжает улыбаться. И ласково в глаза смотреть. Лучше это делать сидя, как советует поэт. Молодой человек, чего вы тут стоите?» Я огляделся. Сесть было негде. Я перехватил взгляд Асаркана, но он тут же отвернулся, уткнувшись в какую-то брошюру (когда ему не хотелось участвовать в событиях, он всегда, как я позже понял, подцеплял какое-нибудь чтиво, делая вид, что занят).
«Садитесь сюда, на краешек», предложил чей-то диссидентский голос с боку.
«Правильно. Посадите его на краешек. На самый уголок. Тебя сажают копчиком прямо на угол стула и запрещают двигаться. Это называется уебунген», оживился Улитин. Кого он изображал сейчас? Своего бывшего следователя? «Я в камере, перед допросом успел подложить себе под копчик тряпочку в трусы. Этой шутке меня научил мой сокамерник по Бутыркам, донской казак: большой опыт верховой езды. Четверть часа — а мне хоть бы хны. Сижу и улыбаюсь. Но нельзя повторять чужие шутки. Молодой человек, у вас хорошие глаза, но наглая улыбка», вдруг жестко и зло проговорил Улитин, глядя мне прямо в глаза. Невозможно проникнуть за радужную оболочку этих глаз, устремленных как будто вовнутрь себя, в собственную память, зазеркалье, так что различаешь лишь собственное отражение в его зрачках. Я застыл, не зная, как мне реагировать на эту оскорбительную реплику насчет глаз и улыбки. Я привстал, чтобы двинуться из кухни. «Да сидите, сидите, — взмахнул рукой Улитин. — Это я не вам. Это мне следователь сказал, глядя, как я нагло улыбаюсь, когда он мне делал уебунген».
«А вы что сказали?» — спросил я, осмелев. Щеки мои раскраснелись от собственной смелости.
«Я сказал следователю, что он цитирует Оскара Уайльда в первую встречу с Андре Жидом. Незабвенный Оскар сказал юноше Жиду: молодой человек, у Вас хорошие глаза, но неправильные губы. Слишком прямые. Такие губы не умеют лгать. А говорить ложь — в этом, согласно Оскару Уайльду, и есть литературная правда. Все критяне — лжецы, сказал человек с Крита. Правду ли он говорил?»
«И что сказал следователь?» Я помню, как кожей ощутил этот момент: я понял, что Улитин в первый раз на меня посмотрел — и увидел меня. Я понял, что они — великие люди — меня испытывают. Я — как на допросе. Я — подследственный в этом великом диалоге.
«Меня раздели догола, и когда обнаружили тряпочку под копчиком, тут-то мне и стали ломать ребра. Но не в этом дело», — заключил очередной абзац Улитин и снова отбросил привычным айхенвальдовским жестом прядь со лба. И тем же жестом растрепал конец сигареты «Прима», избавляясь от излишков табака, как это делал Айхенвальд перед тем, как вставить сигарету в мундштук. Означал ли этот театр имитации жестов, что история с уебунгеном на краешке стула происходила вовсе не с Улитиным, а с Айхенвальдом? Дом поэта Айхенвальда был явочной квартирой инакомыслия. Может быть, поэтому Улитин форсировал здесь сюжеты тюремной психбольницы и литературы?
Человек сидел и рассуждал, как ему ломали кости с интонациями эстрадника, а вокруг шевелилась московская кухня, где передавали друг другу через головы сигареты и рюмки, слова и личные счеты. «С чужими шутками всегда так: развлекается один, а наказывают кого-то другого. Утешение в том, что обморок наступает после первого же удара сапогом в живот. Они молотят тебя сапогами, хлещут ремнями, ломают тебе кости и думают, что ты корчишься от боли. На самом деле, ты ничего не чувствуешь. Ты потерял сознание с первым же ударом. Боль приходит потом, когда очнешься наутро в камере».
Сейчас, стенографируя эти эпизоды по памяти, я замечаю намеренный повтор с историей про американское посольство, когда его спутали с резидентом иностранной разведки: и тут и там — мотив улыбки и удара ниже пояса. Отметив этот факт, мне остается еще раз улыбнуться: самому себе, поскольку никого из главных героев уже нет в живых. «Кто это, Павел Павлович Улитин?» — спросил я Асаркана, когда мы двигались после этого вечера к метро.
«Вообще-то он дает частные уроки английского, но это наш русский Джеймс Джойс. Маэстро абстрактной прозы». Я слабо понимал, кто такой Джеймс Джойс, и тем более, что такое «абстрактная проза». Но я послушно кивал головой, вникая в скороговорку Асаркана. (В действительности, Асаркан умел говорить вслух так, что никто, кроме того, к кому он непосредственно обращался, не слышал ни слова.) Я сразу ухватил его манеру: говорить так, как будто мы с ним в сговоре, подразумевая, что мне, в принципе, все и так хорошо известно, а он мне только напоминает: «Оскар Уайльд, как известно, превратил свою жизнь — в искусство. Так вот, Улитин, он, по сути дела, в искусство превращает не собственную жизнь, а разговоры — причем, главным образом, не о своей, а о чужой жизни. Точнее, в первую очередь, о моей, по сути дела, личной жизни. Ну еще отчасти и жизни Айхенвальда. Ясно?» Мне ясно было, что меня посвящали в тайны клана. Если бы не было темно, было бы заметно, как я зарделся от горделивого возбуждения. «Он подхватывает реплики вокруг и вставляет их цитатами в свой монолог, который, по сути дела, в сущности тоже цитата из кого-то еще, о чем мы совершенно не догадываемся».
* * *
Между бессловесностью родительского дома («отец — инженер, мать — домашняя хозяйка») и соц-артом моего общения с пародийной конгрегацией друзей во главе с Меламидом зияла пустота. Улитин подарил мне язык личного общения — в узком промежутке между языком материнским и языком официоза. Мы отворачиваемся от материнской груди, от младенческого бормотания вслед за губами матери, и кого встречает наш взор? Отца. Брата. Друга. Именно в такой последовательности. (Отсюда обращение к родному языку у Мандельштама: «И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье…») Это отцовский язык, язык общения с братом и другом, подразумевает уход в общее, племенное, официальное — от приватности материнского языка. Но подросток еще на перекрестке, не знает, куда повернуть — и взор и ухо. Язык общения в кругу Улитина-Асаркана был уходом в этот свободный промежуток между приватным и публичным (общественным), в нечто, чего еще никто не знает, кроме кучки посвященных. Бродящая (как молодое вино и как бродяга) пустота в уме подростка заглатывает с эротической почти жадностью язык общения, не запятнанный ни навязчивостью материнской речи, ни общественной пропагандой. Это — свой язык, внутренняя эмиграция, иллюзия свободы.
Но, как всякий чужой язык, подобное общение навязывает участнику процесса стереотипы, исходящие от изначальных носителей языка. Новообращенный смотрит на себя чужими глазами, мыслит о себе стереотипно. Иностранец не сразу замечает, что он повторяет чужие ходы. Иностранец склонен изъясняться разговорными клише — они подхватываются легче всего и усваиваются в первую очередь. Процесс этот еще и физический, не только ментальный. С иной речью связаны еще и перемены во внешности. Язык — это не просто слова, это еще и работа губ, мимика всего лица, жестикуляция. Заговорив на другом языке, ты, в буквальном смысле, меняешься в лице, в общем облике, преображаешься. Но до того, как наступает это «преображение», ты ощущаешь себя рабом — пленником в ловушке нового языка общения. Это раб не добровольный — бессознательный. Но, осознав себя пленником нового языка, раб начинает бунтовать, пытается вырваться на свободу; в моем случае — в эмиграцию. Я хотел освободиться от диктата Асаркана и Улитина в моей личной жизни и образе мышления, уехав в другую страну в буквальном, а не метафорическом смысле.
В таком состоянии создавались стенограммы под общим названием «Четвергазмы»[3] — разговоры вокруг отъезда как поиска другого общения, другого языка, у меня на четвергах. Посетителями были все те, кто готовы были слушать Асаркана и Улитина. Это — в первую очередь Лена Шумилова, Лев Смирнов, Владимир Паперный, Виктор Иоэльс, авторы журнала «Театр» и среди них — Валерий Семеновский. И моя прежняя компания друзей — Нина Петрова, братья Меламиды (к Александру Меламиду позже присоединился Виталий Комар) и Андрей Пашенков, поэт Леонид Иоффе, и за ним — Михаил Айзенберг с Семеном Файбисовичем как «младшее» поколение, так сказать. За ними тянулись их друзья, жены, любовницы и знакомые, за ними — «вся Москва». Началось это с комнаты в коммуналке Копьевского переулка — на углу с Пушкинской улицей, где Театр Оперетты, в доме, сейчас перестроенном в филиал Большого театра. Он был известен в районе как «дом Яблочкиной».
«Тут была ее московская квартира. Вот доска мемориальная висит на этот счет. Взглянув на эту мемориальную доску, каждый дурак может узнать, что Яблочкина была великой актрисой», — сообщил мне в свой первый визит в квартиру на Пушкинской улице Асаркан. Но мемориальной доски я не замечал. Просто в глаза не видел. Для меня такие доски были частью бутафории советского официоза и поэтому принципиально игнорировались. «Мало кому известно совершенно другое, — продолжал Асаркан, игнорируя мою слепоту. — Яблочкину однажды решили ограбить. Унесли кучу барахла, но самого ценного — фамильных драгоценностей — не взяли. А дело в том, что когда кто-то из ворюг подцепил с трюмо жемчужное ожерелье, актриса Яблочкина глянула на него, презрительно так бросила взгляд, изогнула бровь и процедила небрежно: к чему вам эти фальшивки? Она, короче, настолько хладнокровно отнеслась к тому, что эти парни роются в ее жемчугах, золоте и брильянтах, что те решили: наверное, все эти кольца и сережки — действительно подделка, театральная бутафория, чего связываться, ну и потом известной актрисе в дело нужно, а нам, мол, зачем? И ушли, не взяв ни единого камушка. Поверили. Поверили ее гениальной игре. Вот это, по сути дела, и есть великий актерский дар: выдавать истинное за фальшивое. Это была великая сталинская школа. А в наше время искусство тратит все силы на то, чтобы выдавать, наоборот, фальшивое за истинное».
В какой-то момент фальшивомонетчик увлекается настолько, что начинает подсовывать в подделанные им облигации настоящие деньги, чтобы создать у себя самого иллюзию подлинности своей деятельности. Я считал, что занимаюсь прямым подражанием Улитину. Совершенно сознательным. Но разговоры и жесты, которые я копировал и включал в свою прозу, не были фальшивыми. В кружении своей московской жизни вокруг Асаркана с комментариями Улитина я углядел целую литературную школу со своей наукой и техникой. И я ее имитировал. Школы, конечно, никакой не было, была сплошная импровизация, но создавалась иллюзия метода: как культа разговоров, переложенных затем в стенограмму и эпистолярное общение, с возвращением снова к застолью. Эту иллюзию я и попытался воспроизвести во время сборищ по четвергам как зеркальном отражении встреч с Асарканом у газетного киоска.
* * *
В конце концов я получил в Иерусалиме папки с архивами, отправленными из Москвы через голландское посольство. Там был и экземпляр «Четвергазмов». Я заглянул в эти страницы: беспощадное иерусалимское солнце как будто подпаливало с краю страницу с московскими словами, обесцвечивая их. Настоящее было слишком ярким, слепило. Это был четвертый слепой экземпляр. Четвертая копия не идентифицировалась. Я уже не мог до конца отождествить себя с тем человеком, который произвел на свет эти стенограммы московских разговоров. Их чтение было бы продолжением нереальности прошлого в слепящем иерусалимском свете. С перемещением из Москвы в Иерусалим я перестал быть эпигоном: я совершил некий собственный шаг, личный поступок, и его осознание сразу поставило меня в разговор совершенно иного канона, другого словаря. Все, что было написано в Москве, показалось мне подражательной вторичной фальшивкой. Я закрыл чемодан.
Я заново заглянул в эти страницы совершенно по-другому лишь сейчас, прочтя «Путешествие без Надежды» Улитина. Я уехал до того, как эти тексты, эпистолярные по интонации, были собраны в книгу, где я с удивлением различаю вкрапления своих собственных слов. «Путешествие без Надежды» Улитина — это как бы ответ на три сотни страниц моих подражательных вербальных метаний в предотъездную эпоху. Мастер отвечает своему эпигону-подражателю его же языком. И демонстрирует, таким образом, что слова были общие, но как бы ты ни подражал чужой манере говорения этих слов, что-то уникальное — индивидуальный акцент — не исчезает окончательно. Спасало и то, что чужие слова были настоящие — застенографированные разговоры вокруг.
Подражательность не уничтожает нашей уникальности: мы проявляем себя каждый по своему в самых кардинальных, казалось бы, ситуациях обезличивания, в любой одежде с чужого плеча. Улитинский стиль речи — если его считать классическим каноном в этом кругу общения — предоставлял личную площадку каждому желающему (да и возник он, собственно, у самого Улитина через чтение английской литературы). Стиль оказался больше самого автора. Освободив всех эпигонов от ярлыка подражательства и эпигонства, он каждому подсказал свою уникальную манеру речи.
Мои слова, вырванные из контекста разговоров на четвергах и помещенные в «Путешествие без Надежды», уже сами по себе начинают звучать как улитинские реплики в ответ на мою метафизику отъезда из России. «Эмиграция» в каком угодно смысле необходима для того, чтобы взглянуть на себя со стороны: иначе ничего невозможно понять — ни о себе, ни о собственной стране. Для этого не обязательно выходить из собственного дома. Именно поэтому тема ухода в другой язык и есть лейтмотив «Путешествия без Надежды».
Уход этот высвечивается у Улитина в трех планах его биографии, в трех аспектах. Это, прежде всего, попытка прорваться в иностранный язык в буквальном смысле — и физически, шагнув в ворота американского посольства. Другой страной была для него и сама Москва, когда он появился в столице образованным юношей из казацкой станицы. Но был еще один план: в подражательном, пародийном стиле общения в его кругу, когда слова и идеи запускались в обращение — через почту или в разговорах за столиком кафе, чтобы возвратиться к автору обновленными, чужими, но узнаваемыми (как это случилось с моими «Четвергазмами»). Только сейчас я понимаю, что, при всем культопочитании узкого круга современников, мало кто отдавал себе тогда отчет, насколько это была литература, тайно, нелегально вывезенная из будущего, потому что в своем смешении разных языков (в самом широком смысле слова) предвосхищала столкновение, если не столпотворение, идей и голосов России, которая переоткрывает Европу после падения советской власти. Конечно же и Гоголь, и Набоков писали на отдельных карточках; но импровизированная техника монтажа — «уклейки» — в улитинской прозе соединила его с компьютерным принципом набора текста (что, собственно, и делает возможным сейчас публикацию его книг с максимальным приближением к оригиналу) и, с другой стороны, воссоединила его с теми, кто как Уильям Бэрроуз, Курт Швиттерс или Рэй Джонсон занимался сходными экспериментами по другую сторону бывшего железного занавеса.
Прямое общение с другим языком происходило через цитирование иностранных (в первую очередь, английских) книг, попадавших ему в руки через общих знакомых или с полок Библиотеки иностранной литературы. С шестидесятых годов Москва постепенно становилась городом, куда стали регулярно наведываться иностранцы. Многие оставляли в подарок завезенные книжки. Мне перед отъездом досталась «Планета мистера Замлера» Сола Беллоу, где герой — вымирающий тип еврейского интеллигента в современной Америке, динозавр другой — европейской — культуры, реликвия из до-американского прошлого. Из моих рук книга перекочевала, естественно, в тексты Улитина: ссылки на нее стали частью его монологов тех лет. В качестве культурного обмена я получил от Улитина книгу Агаты Кристи «В неизвестном направлении» («Destination Unknown») — необычный для Кристи политический триллер, где героиня уезжает из опостылевшего Лондона в Марокко — от самоубийственной депрессии, беспросветного отчаяния и одиночества, лишь для того, чтобы впутаться в интригующий сюжет в духе черной утопии, с маньяками-диктаторами и исчезновением величайших имен науки в разных частях земного шара. Там есть и философский мотив: можно ли обрести состояние незамутненного ничем, ребячливого счастья и восторга, при этом не потеряв ни остроты ума, ни ощущения драматизма жизни?
Эти два сюжета тут же вошли в «Путешествие без Надежды» как аллюзии на разговоры об отъезде, о надеждах, связанных с другой географией, другой цивилизацией. Бывают такие состояния приподнятости и одержимости некой одной мыслью, мотивом, идеей, что все вокруг тебя становится не более, чем манифестацией этой идеи, все ложится в строку, все события, казалось бы, происходят лишь как элемент этого твоего внутреннего сюжета, этого триллера. Всякая случайная ерунда, короче, обретает символическое значение, всякая разговорная белиберда звучит как пророчество. Интенсивность ощущения обращает всякий шаг и событие, всякое слово в твоем общении, в часть некоего единого целого — твоей сверхзадачи на данный момент.
Может быть, в этом и секрет прозы Улитина: подхваченные на ходу, перемешанные и перемонтированные в свой собственный текст случайные чужие реплики его окружения воспринимаются нами на каждой странице как магия и гармония надиктованного свыше. Предварительного расчета не было, но была убежденность в том, что при такой напряженности личного общения, в такого рода жизненных ситуациях, слова не подведут — их сопоставление приведет к чему-то крайне интригующему. Каждый раз поражаешься, из какого сора рождаются стихи. (Особенность помоек, как объяснял Виктор Михайлович Иоэльс во время проходов по улице Горького, в том, что в горе выброшенных вещей, в куче барахла все кажется бездарным и ненужным. Но стоит выделить предмет из общей кучи, стереть с него пыль, и он засияет в своей уникальной антикварности.) Улитин годами отсеивал из макулатуры разговоров ключевые фразы. Из этих отдельных фраз составлялись самостоятельные тексты, где каждое слово — ключ к опыту прошлого, грохнувшегося в небытие, в архивные подвалы госбезопасности или еще более глубокие подземелья памяти тех, кто когда-то считался близким другом. Логические провалы создают драматическое напряжение — они скрывают это неупомянутое прошлое, опущенные памятью эпизоды. Это тексты, составленные из упоминаний, ссылок, ключевых фраз, уцелевших в памяти как бирки, карточки библиотечного индекса — библиотечный каталог роковых событий собственного прошлого.
Уход в другой язык, в Государственную Библиотеку Иностранной литературы, в чужие слова происходили от нежелания высказывать свои собственные слова, когда при этом хочется общаться с собеседником. Я при этом вовсе не хочу сводить всю литературу Улитина к метафоре общения между подследственным и следователем. Но тюрьма и библиотека почти всегда упоминаются у Улитина вместе. В первую очередь потому, что российские тюремные библиотеки, особенно в советское время, собирались из книг арестованных.
Ленинградская тюремная психбольница была в этом смысле блестящим примером. Даже занятия трудотерапией для интеллигентных психов происходили в переплетной мастерской при библиотеке. Сами эти занятия трудотерапией превратились в большой разговор со стенограммами, буриме, сочинением стихов и перепиской между отделениями. Любопытно — опять же в смысле связи тюрьмы и литературы — все трое попали в психушку именно из-за чтения стихов во время допросов. (Об этом Улитин и оповещал слушателей во время моего первого визита на кухню Айхенвальда.)
Стихи (точнее, их чтение для неподходящей аудитории в виде следователя) их и спасли: трех мушкетеров направили не в Магадан, не на лесоповал или урановые рудники, а в Ленинград, в теплые и светлые палаты тюремной больницы. В сталинские времена это было не совсем злоупотребление психиатрией в политических целях. Точнее, это было совсем не злоупотребление. Надо было, скорее, сказать спасибо следователю, что он этой самой психиатрией злоупотребил. Чистые простыни и веселая компания, сливки интеллектуальной элиты сталинской эпохи, гении русского фрейдизма и итальянской комедии дель арте, вейсманизма и истории инквизиции. Они там все учились переплетать рукописи будущего самиздата. Асаркан умудрился даже поставить там «Тень» Шварца (он знал эту пьесу наизусть), где играли пациенты психбольницы. Лишь после премьеры Асаркана выяснилось, что в спектакле участвовали и патологические убийцы и людоеды; что, собственно, соответствует и содержанию пьесы. Режиссера вызывали на бис. Но не съели. Улитин, с его склонностью подыскивать европейские цитаты — эхо других веков — для советских событий, упоминал в связи с этим Маркиза де Сада с его спектаклем в тюремном сумасшедшем доме Charenton. Именно в ЛТПБ Улитин научился мастерству переплетчика — отсюда пошли и все метафоры о том, кто за что попал в переплет и чье дело шито белыми нитками. Свои странички, разбросанные по разным адресатам, и их почтовые ответы Улитин «вставлял в переплет», «сшивал белыми нитками» — и, как в буриме, чем случайней было, порой, сопоставление, тем смешней и пронзительней читалась стенограмма общения. Это называлось «культом черновика».
* * *
Давайте подошьем к этому делу биографический отрывок, высвечивающий второй план улитинских перемещений между домом и чужбиной не только в языке, закованном в государственные границы, но и в пересечении рубежей собственной жизни. Улитин отвечал каждому из нас репликами — эхом из собственного опыта — отвечал своей жизнью на сказанные слова. И поэтому так важны свидетельства о его жизни по другую сторону письменного стола — служившего еще и обеденным столом в его домашнем быту. Отсюда он рвался в уличное общение с друзьями-знакомыми, сюда всегда возвращался. Во всех этих перемещениях вдоль улицы Горького, между столиками кафе «Артистическое», на московских журфиксах и бульварных лавочках (у меня с Улитиным были даже встречи в бассейне — «каждый четвертый четверг у четвертого павильона» — на месте разрушенного и еще не восстановленного храма — то, что он называл «школой плавания»), среди всего этого кружения московских разговоров проглядывает еще одна «заграница» — улитинское прошлое. («Прошлое — это другая страна: там ведут себя иначе», как сказал английский писатель Хартли в романе «Посредник».) Речь идет о ежедневном выживании гения из провинции в большом чужом городе — его собственное путешествие без надежды. Вслед за смертью Улитина в 1986 году, его вдова Лариса Аркадьевна прислала мне по почте огромное письмо. Вот отрывок из него — описание жизни Улитина до ареста и после освобождения — глазами жены (он шутливо называл ее «домашней безопасностью»):
…До этого несчастья [ареста в ИФЛИ — 3.3.] он был здоровым парнем, спортсменом, а из больницы [из тюрьмы — 3.3.] вышел полным инвалидом, на костылях. О продолжении учебы не могло быть и речи, и он вернулся к маме в станицу на долечивание. Когда она его более или менее поставила на ноги, он работал учителем в станичной школе. В войне он, естественно, не мог участвовать в силу своей полной инвалидности. После войны они с мамой жили в Москве, вернее, под Москвой, в Малаховке. ИФЛИ тогда уже не существовал, его факультеты (исторический и философский) слились с соответствующими факультетами МТУ, а литературный выделился в самостоятельный Литературный институт. Впрочем, может быть, это было позже, я не знаю. Павлушенька еще в детстве проявлял большой интерес к иностранным языкам: выучил немецкий и французский под руководством мамы. Она была по тем временам очень передовая и образованная женщина (курсистка — окончила в Петербурге Высшие женские курсы и снова вернулась «в народ»). Она ведь родилась еще в 1877 году, а его родила когда ей был уже 41 год, он был «поздний ребенок».
Английский он выучил позднее, самостоятельно, свободно читал, но, чтобы усовершенствоваться в устной речи и получить диплом, поступил в экстернат МГПИИЯ, где я тогда училась. Он ходил на практические занятия в мою группу, там мы и познакомились в 47 году (а может быть в 46-м? — в вузе ведь считались учебные, а не календарные годы). Он был значительно старше девочек нашей группы, гораздо серьезней, умнее и начитаннее, used (and even abused) every opportunity of speaking English, и, разумеется, забивал всех своей эрудицией и смелостью убеждений. Девочки начали роптать: почему он ходит именно в нашу группу, он никому не дает слова сказать и т. д., и т. п. Я, конечно, тут же заступилась за несправедливо обиженного (немолодой, с моей тогдашней точки зрения, человек, инвалид, видимо бедный и одинокий, умный и серьезный — как же было не вступиться?). Он мне не нравился тогда, казался каким-то нелепым, тяжеловесным и странным. Но я готова была лечь костьми за справедливость и всегда защищала «lame ducks». На сей раз «lame duck was lame» и в переносном и в прямом смысле. Я была старостой группы, отличницей, членом комсомольского бюро, и т. д. и т. п., года на 2–3 старше своих сокурсниц и всем своим авторитетом обрушилась на бунтовщиц. Меня поддержали преподаватели, и девочки были посрамлены и даже пристыжены. Справедливость восторжествовала, а «the lame duck», очевидно, воспылал ко мне благодарностью, а, возможно, и более нежными чувствами.
Так или иначе, но он стал меня прямо преследовать. Придет на репетицию драмкружка, сидит и смотрит, чем поверяет неопытную актрису в неописуемое смущение. Мы ставили на английском языке «Укрощение строптивой», где я играла Петруччио, и из пьесы Шоу «You can never tell», где я тоже играла роль какого-то молодого мужчины, кажется врача — у нас был дефицит мужчин на курсе (послевоенные годы!), и я заполняла собой эту брешь. Вообще я была строгая и неприступная, и верила только в дружбу между мужчиной и женщиной, или, в крайнем случае, в идеальную, платоническую любовь! Я его, бедного, так запугала, что он боялся слова сказать, а терпеливо, как мальчик, дожидался вечером у института (а это могло быть и 10 и 11 часов, в зависимости от того, сидела ли я в читальне или на заседании бюро или на репетиции). Увидев неожиданно появившуюся из темноты знакомую понурую фигуру, я ледяным тоном спрашивала: «Что Вы здесь делаете?» — «Жду Вас.» — «Неужели Вам больше нечего делать?» и в том же духе. Или звонил домой и часами говорил на отвлеченные темы, а я, внутренне негодуя, не прерывала разговора, боясь его обидеть — жалко было. Хотя однажды не выдержала и прочитала ему целую проповедь о том, что он невнимательный человек, что он держит меня целый час у телефона (тогда телефоны были висячие, в коридоре общей квартиры и приходилось стоять, да еще выслушивать ворчание соседей, если говорила слишком долго), даже не поинтересовавшись, успела ли я поесть и хотя бы немного отдохнуть после занятий. Или присылал билеты в Большой на «Жизель» с Улановой, а я, вежливо поблагодарив, отсылала их обратно. Такое вот малообещающее начало было у нашего романа. No wonder: я была глупенькая, наивная девочка с восторженно-идеальными представлениями и о мире и людях и совсем не знала реальной жизни, а он был уже умудренный жизнью, много (даже чересчур!) видевший, переживший и перечувствовавший человек. Кроме того, в юности девушки очень много значения придают чисто внешнему впечатлению от человека, а он тогда был какой-то неуклюжий, некрасивый, неотесанный, даже неопрятный. Поэтому его ухаживание даже не льстило моему самолюбию, а раздражало и сердило. Тем более, что девочки смеялись надо мной, над тем что «I made such a conquest». И когда он исчез с моего горизонта в 50–51 году, я даже вздохнула с облегчением. А он, бедный, оказывается попал в психбольницу [ЛТПБ], где познакомился с Сашей [Асарканом]. Юра [Айхенвальд] там тоже был. Три мушкетера! (Да, я забыла сказать, что до этого, учась в экстернате, он работал несколько лет в каком-то НИИ, в отделе аспирантуры, преподавал английский.) Когда в 54 г. он вышел из больницы (ЛТПБ), приехал в Москву и зашел к нам, моя соседка, некая тетя Хана, сказала ему (по своей собственной, конечно, инициативе), что я вышла замуж и здесь теперь не живу. Павла она активно не любила и считала, что ее ложь насчет замужества — святая ложь. Впрочем, думаю, она действовала не вполне бескорыстно. По ее словам, она меня очень любила и считала чуть ли не дочерью (моя мама умерла в 45 г.) и все мечтала женить на мне своего любимого Дусеночка — так она называла своего великовозрастного сыночка Григория Михайловича (владелец «Победы», по терминологии П.П.) Он (Г.М.) был весьма легковесным и непутевым фанфароном, хотя не без способностей и даже не без обаяния, и довольно добрым. Ничего общего, конечно, между нами быть не могло, кроме того, что мы были соседи, он был на 15 лет старше, болтун и сплетник, и я относилась к нему с легким презрением. Но, будучи филантропкой, я ухаживала за его старой матерью, пока он бегал по бабам. А она вбила себе в голову, что Дусеночку пора остепениться (он уже несколько раз разводился) и лучшей жены, чем я, ему не найти, и решила, видимо, меня взять измором. Павла она таким образом отшила, он поверил и уехал к себе на Дон. Там он женился на почтовой служащей, но не долго с ней прожил. Он не любил рассказывать об этом периоде, но я представляю, что ему было очень тяжело. Пошлая, мещанская среда, отсутствие духовных интересов, копеечная экономия, возможно, даже и попреки и прочий «идиотизм деревенской жизни». Может быть, он бы и примирился с этим убогим существованием, но его жена смертельно оскорбила его: она сделала аборт, даже не посоветовавшись с ним (а он очень хотел иметь ребенка). Это переполнило чашу терпения, и он, бросив все, уехал в Москву. М.б. в этом свою роль сыграло и мое письмо, из которого он узнал, что я и не думала выходить замуж, а вместо работы над диссертацией занимаюсь филантропией: готовлю в университет друга моего друга юности […] Так или иначе, когда он появился у нас (на сей раз я его пригласила в гости, ибо раньше, когда я его держала в черном теле, он был у меня только один раз, и виделись мы только в институте, или когда он вдруг возникал возле института или в моем переулке и провожал до дома, но приглашения войти не получал), у меня вдруг открылись глаза, и я увидела умного, вдохновенного и даже красивого человека — и сразу подпала под обаяние его ума и таланта. Вот ведь как бывает в жизни! Наверное, он тоже изменился за эти годы, но главное, конечно, изменилась я: повзрослела и поумнела настолько, что смогла оценить и полюбить его. Мы стали встречаться, и каждая встреча была праздником для ума и души. А когда он рассказал мне о своей жизни, то пронзительное чувство жалости, глубокого сочувствия, желание помочь и защитить овладело мною. «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». 28 октября 55 года мы стали мужем и женой de facto.
Но, увы, начало нашего семейного пути не было усыпано розами. Он ведь не был разведен с первой женой, и начались всякие трудности формального характера, которые повлекли за собой множество других. На нас обрушилось целое море бед: борьба с моими родственниками и друзьями, которые считали мое замужество мезальянсом (для меня, естественно) и всячески старались расстроить наш брак, с его друзьями, которые считали его женитьбу мезальянсом (для него), безденежье, моя неудачная беременность и болезнь и многое другое. А главное, я поняла, что он серьезно болен […] мне пришлось догадываться обо всем самой. Были лишь туманные намеки на «дни усталости» и больше ничего. Поэтому, когда я видела, как в самый ответственный момент, когда надо было пойти похлопотать насчет прописки или устройства на работу или идти сдавать экзамен, к которому мы так долго и мучительно вместе готовились (при всем его уме и таланте он не мог этого делать самостоятельно, так как у него была идиосинкразия на то, что нужно делать), он лежит в полной прострации и ничего не предпринимает, я воспринимала это как безответственность и как недостаток любви ко мне, и, естественно, очень страдала и его, наверное, мучила. Я была тогда совершенно неприспособленным к жизни существом и жила в каком-то идеальном мире — и вдруг оказалась внутри запутанного клубка всяческих житейских трудностей и коллизий: бытовых, финансовых, юридических, моральных и психологических. Эта борьба была мне явно не по силам, тем более, что родные и друзья отступились от меня за то, что я их не послушалась и связала свою жизнь с П.П. Даже в больнице не навещали меня, когда я лежала сначала на сохранении беременности, а потом после выкидыша с тяжелыми осложнениями. Это было в 56 году. Нашему сыну могло бы быть сейчас 30 лет. Ужасная трагедия это была и для меня и для него. Кстати, когда я узнала, что не смогу иметь детей, я предложила ему свободу. «Ты что, хочешь от меня избавиться?» — сказал он. Больше мы к этому вопросу не возвращались. Видимо, из гордости, он не говорил о своей болезни и старался, как мог, играть роль отца семейства. В декабре 55 г. он поступил на работу в Москниготорг и работал продавцом в магазине иностранной литературы, потом после перерыва — стал продавцом и библиографом в отделе немецких книг. Работа сама по себе не очень трудная и интересная (книги! языки!), для него была невероятно трудной: целый день на ногах, при его хромоте, а главное, каждый день. В хороший день он даже получал удовольствие: к нему в отдел приходили интересные люди, напр. Херлуф Бидструп, Леонид Леонов и др., а в плохой это была пытка. Да к тому же учился на вечернем отделении МГПИИЯ, ездил несколько раз разводиться и улаживал массу других дел.
Так что, первые годы нашей жизни были очень трудны и для него и для меня. Но как только я поняла, что он тяжело болен, у меня появилось непреодолимое стремление защитить его, уберечь, оградить от бед. Это придало мне сил, и, как мать, защищающая своего больного ребенка, я бросилась на выручку. Оправившись окончательно после болезни, я помогла ему с дипломом. Очень трудно он достался и ему и мне, и я даже пыталась его отговаривать, но для него это, наверное, был вопрос самолюбия, и он все же довел дело до конца. Сам язык и литературу он очень любил и с удовольствием ходил на практические занятия, рылся в словарях и писал сочинения. Но, что касается теоретических предметов (aux было множество!), то он не мог заставить себя заниматься, и вот тут-то и приходилось прилагать героические усилия, чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Мне пришлось вместе с ним учить еще раз давно сданные и уже позабытые предметы (я окончила институт в 49 г., а аспирантуру в 52-м). В 57 г. (по удивительному совпадению, 21 июля — в мой день рождения) он получил, наконец, этот долгожданный диплом об окончания МГПИИЯ. Он принес мне его в качестве подарка ко дню рождения и сказал, что это не его, а наш диплом.
В октябре этого же года он получил, наконец, развод и с 31 октября 57 года мы стали мужем и женой de jure. Потерпев фиаско на ниве деторождения и поставив крест на своей диссертации, я с февраля 57 года пошла работать, и жизнь наша постепенно начала налаживаться.
* * *
Под прессом жизненного опыта чужая жизнь глядится со стороны как книга. Ты влюбляешься в эту книгу, хочешь стать частью ее повествования, заговорить языком автора — уйти в другой язык. Пока не замечаешь, что сам попал в переплет. «Чужие открытия — все равно для нас не открытия. Закройте их», — было сказано мне в одном из первых улитинских писем.
«Только не сядьте на мой переплетный пресс. Это мой самый усердный читатель. Читает, пока не усохнет. Рукопись, я имею в виду, а не переплетный пресс. Переплетный пресс работает на вечность».
Комната Улитина в коммуналке Савельевского переулка у Кропоткинской, при всем домашнем уюте, и выглядела как переплетная мастерская. Повсюду — вокруг стола, на буфете и полках высились египетскими пирамидами аккуратные стопки и башни из книг и переплетов. Переплеты из обычного картона, желто-серого, грубого, и из глянцевой расписанной орнаментом, как будто матерчатой бумаги, были тут переплеты и из кожи: свиной, телячьей, человеческой? Бесконечные тома, где собраны страничка за страничкой стенограммы разговоров и дневники самого Улитина в его перебранке с друзьями. Это гигантский архив чужих слов. Твоих собственных, в частности. На всех возможных языках — от языка предков до языка двух учителей.
Перед балконом, у кожаного дивана стоял большой, похожий на обеденный, стол и на нем — одна пишущая машинка. Справа, у окна, уже настоящий дубовый письменный стол с ящиками, и на нем — другая пишущая машинка. «Моя русская машинка, — и он указал на машинку с другого стола, — ревниво относится к моей латинской машинке. Английская машинка — подарок Асаркана ко дню рождения. Обычная русская лента к этой английской машинке не подходит. Не желает с ней иметь ничего общего. Надо покупать ленту двойной ширины, а потом отрезать от нее треть. В доме в таких случаях надо вводить чрезвычайное положение. Надо разматывать весь этот моток по всей комнате и потом ползать по полу с ножницами. Руки потом не отмоешь. Работа на двух машинках приводит к раздвоению личности. Ubi Libra, ibi Patria. Где свобода, там и родина. То есть там, где легче пишется. Я передвигаюсь от одного стола к другому как между ссылкой и эмиграцией. Например, когда выпечатываешь русские слова на латинской машинке. Не верите? Например: САМОВАР. Или: КОСМОС. Все буквы, действительно, латинские. Правда, все только заглавными. Даже МОСКВА вся, заметьте, состоит из латинских букв. В обратной транскрипции с английского читается как МОКБА. И этим все сказано. Мы с вами сидим в заграничном городе Мокба. Чехов, со своей рениксой, давно об этом догадывался».
Мы с Меламидом во Вселенской Конгрегации Анны Справедливой поступили наоборот: взяли английское название авиакомпании В.О.А.С. и прочли его по-русски, как Воас, отсюда и возникло название нашей подпольной организации, и псевдоним романтического барда-гитариста.
«А вам не страшно?» — спросил Улитин. Я тогда плохо понимал, что имелось в виду в этом неожиданном вопросе. Имелся в виду, конечно, страх быть включенным в нечто такое (в некую московскую жизнь), что находится вне твоего контроля, как запись твоего голоса на магнитофоне: он существует в зависимости от воли того, кто держит руку на кнопке. Нажмет, и все сотрется. Я сумел вывезти за границу и магнитофонную кассету с записью голоса Улитина. Но сейчас я цитирую все по памяти. Память стирается медленнее, чем магнитофонная лента. Или надпись на корешке книги акварельной краской.
«В переплетной психбольницы Асаркан надписывал корешки акварельными красками. Акварельная краска стиралась ладонями читателей через неделю. Поэтому корешки надо было надписывать снова. Сколько там набралось акварельных слоев? Такой палимпсест. Иногда он специально приписывал одной книге название другой. Уже неважно, кто что написал. Наши филологические споры, кто написал „Боже, Царя храни“. Пушкин или Жуковский? У обоих эти стихи в собрании сочинений. А оказалось — совместное творчество. Но первая строка, конечно, Жуковского. Или вот еще: — Всегда так будет, как бывало, таков издревле белый свет: ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Оказалось, что не Пушкин. И не Жуковский. Это некий Петров, а Пушкин переписал себе на память».
Примеры подражательного принципа роились и множились: от рассказа про одного из пациентов в психбольнице, который по клеточкам воспроизводил каллиграфию печатного текста стихов Есенина из тюремной библиотеки, до истории про заикание Лени Невлера из «Декоративного искусства» — как Асаркан подхватил эту обаятельную манеру, а потом все вокруг решили, что это Невлер подражает Асаркану. «Кто кому подражает. Сколько раз Асаркан одалживал свой старый пиджак своим оруженосцам! Но пиджак всегда возвращался к оригиналу. Давно потерся и не нов он. Неон особой чистоты. Не он. — Улитин откинулся на стуле, втянул щеки и иронически выпятил нижнюю губу, как Асаркан. — Он же особой чистотой не отличался. Я имею в виду не пиджак, а Асаркана. Пиджак можно и нужно отдать в чистку. Асаркана отдавать в чистку уже поздно. У Асаркана весь диван забит цитатами из нашей коммунальной склоки, дружбы-вражды. На всю жизнь хватит материала на открытки. Потому что он быстро понял: важно не что сказано, а кто это сказал, где и когда. И что самому писать интереснее, чем читать клевету на самого себя. Следующий этап: а жить еще интереснее, чем писать про жизнь. И что отвечать надо тем же оружием. — Он черкнул что-то на листочке. — Вот именно, именно этому вы и должны научиться в первую очередь: отвечать тем же оружием».
Первый визит к Улитину в его «переплетную мастерскую» (как он сам называл свою комнату) совпал с первой размолвкой с Асарканом. У себя в доме Улитин был не тем, кем он гляделся на кухне Айхенвальда или у газетного киоска Асаркана. Тут заканчивались театральные подмостки и открывались кулисы. Улитин закуривал «Приму», открывал бутылку вина, расставлял бокалы. На стол всегда ставился третий — для отсутствующего третьего лишнего. (Лучшего друга? Невидимого цензора? Ильи-пророка?) Одновременно он пододвигал мне листочки из очередного переплета, где разная каллиграфия в классическом для Улитина монтаже сопоставлялась с цитатами из английских романов между вырезками из газетных статей, картинок и скетчей пером, вклеенными прямо в текст чужими почтовыми открытками. Это называлось словом «уклейка».
«Кто тут рыцарь, а кто оруженосец? Не следует забывать, что Сервантес написал своего Дон Кихота как пародию на рыцарские романы, а воспринимают его теперь как романтического героя. Я не знал, что у него уже свои оруженосцы. Он давно превратился из читателя в писателя. Он подавал надежды прежде. Кто будет разбираться в авторстве слов на вавилонских глиняных табличках? Вперед к победе рабовладельческого строя! Как читатель вы страдаете одним недостатком: у вас все вызывает энтузиазм. Имейте в виду: человек с манией величия безнадежен, но куда безнадежнее тот, кто верит в чужую манию величия. Нам надоела маниакальность. Нам нужны не те, кто верит в нашу манию, а кто верит в наше величие».
Как уйти от навязчивой идеи? В зеркале платяного шкафа отражалось дерево с балконной решеткой за окном, а в стекле окна отражался велосипед, висевший всю зиму на стене слева: в отражении получалось, что висел велосипед на дереве на фоне февральского снега. Велосипед на снегу. Как все в этой комнате, велосипед этот был сюжетом улитинских историй. Точнее, главным сюжетным элементом в этих историях выступала бельевая прищепка. Чтобы не защемило брючину в велосипедной цепочке:
«Этой самой цепью скованы все на свете велосипедисты. Особенно, на маршруте — от Большого театра к площади Дзержинского. Там слегка в гору, жмешь на педали, но где-то у „Детского мира“ — перевал. Дальше — резкий спуск, известный только опытным велосипедистам. Несет прямо на Железного Феликса. Прямо к подъезду, сами понимаете какого дома на Лубянке. И на этом бешенном разгоне меня начинает притирать к тротуару фургон „Мясо“. Тут надо было бы нажать на тормоза и сойти с велосипеда. Но в этот критический момент у прищепки отлетает пружинка, брючина разворачивается на ветру и попадает в велосипедную цепь. Как ни крути, отцепиться невозможно и на тормоз тоже не нажмешь. Нам не дано предугадать, куда несет нас рок событий. Велосипед, тем временем, несет прямо на памятник. Я вылетаю на кольцо вокруг памятника. Кругом мчатся грузовики, свернуть в сторону немыслимо. Я не могу прекратить это вечное кружение вокруг Дзержинского. Милиционер у главного входа начинает звонить по вертушке. В окнах Лубянки начинают мелькать добрые, но усталые глаза следователей. Транспорт, в конце концов, приостановили. И стали задавать вопросы. Про прищепку, штанину, велосипедную цепочку. Я успел поделиться со следователями своей мыслью о том, что велосипедист — это современный кентавр. Мол, ездок — это человеческое эго, „я“ Чело Века, а сам велосипед — это его либидо, подсознание. Руки ездока, скажем, это — своего рода воля, вертящая колесами судьбы. Подсознание, короче, находится у человека между ног. Туда и начинают бить, под самые я, пока ты продолжаешь улыбаться».
Я улыбнулся. Мания величия как мания преследования. Я понял, что Улитин говорил о том, как трудно уклониться от навязчивой идеи — темы Лубянки. «Свернуть в сторону немыслимо». И тем не менее, Улитин именно этим и занимался всю жизнь. На этот раз никто не собирался сделать мне уебунген за эту мою наглую улыбку понимания. Мой последний визит в комнату Савельевского переулка был похож, казалось бы, на все предыдущие. Но слова уже не были притчами, которые каждый слушатель мог интерпретировать в своем духе: слова были обращены прямо ко мне:
«Вы не отдаете себе отчета в том, какая вокруг шла война. Вы себе не представляете, что говорят о вас, когда вас нет поблизости. Что-то вроде: Вадик насобачился устно, а Зиник письменно. Или: а он уедет в Израиль, и все напечатает под собственным именем. Так он мне и сказал. Ему самому слава не нужна. Ему нужна бронзовая ручка. Он сидел на вашем месте, напротив этой двери. Я ему закатываю такие монологи, а он смотрит на дверную ручку. Бронзовую. Мне она, говорит, нужна, а вам все равно. И я ее должен отвинчивать своими руками ему в подарок. В двери будет дыра вместо ручки, и через нее все будет просматриваться. Как я буду жить без ручки? Чем я буду открывать дверь? Остается решить, сколько было шашек под моим командованием. Как в рассказе про сокамерника из казацкой станицы. Чем дольше длились допросы, тем больше становилось шашек под его командованием в связи с делом о попытке заговора в станице с целью свержения советского строя. В конце концов он договорился до десяти тысяч. Следователь был доволен. Враг народа обнажил свою звериную шашку. Записал все в протокол. На следующий день явился на допрос весь красный от бешенства. Ты чего мне тут наговорил?! Какие такие десять тысяч казаков, когда у вас на всю станицу — не больше двухсот семей?! Тот не спал уже которые сутки, поднялся со стула совершенно сдуревший и кричит изможденным голосом: ни одной шашки не отдам! Они, мол, у меня все наперечет. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».
Я догадался, кто претендовал на бронзовую дверную ручку в комнате Улитина. Но промолчал. Ни одной шашки общения с Улитиным я отдавать не собирался. После паузы, как будто закрыв переплет, он сказал на прощанье: «А теперь можете задавать любые вопросы». Я не знал, что сказать. Я знал, что чужая жизнь — а тем более жизнь любимого человека — со стороны всегда кажется цельной, сама и есть ответ на все незаданные вопросы.
«А что останется?» — в конце концов спросил я.
«Останется легенда, — ответил Улитин. Он прекрасно понял, что я спрашиваю. — На вашем месте, я бы взял чемодан и бросил всех, кем был богат, без всяких проводов[4]. И рассылал бы прощальные открытки уже оттуда», сказал он, выслушав все мои отчеты о приключениях с выездной визой.
Легенда оставалась. Я отбывал. «И вы простились с ним, унося с вокзала свой пессимизм, тогда как он увозил на Запад свои розовые надежды», — цитировал он в ту эпоху устно и в своих открытках «Историю моего современника» Короленко. Я сделал шаг туда, куда не удалось попасть Улитину с его рукописями в авоське перед воротами американского посольства. Милиционер взглянул на мою розовую бумажку — выездную визу — и пропустил через невидимую границу. Дипломат из голландского посольства морщился при виде моих толстенных разваливающихся папок, сказал, что наша российская одержимость литературным самиздатом стоит западным правительствам кучу денег, но в конце концов рукописи отправились в известном направлении: в дипломатическом мешке по маршруту Москва — Тель-Авив. Если бы я этого чемодана не вывез, не было бы и слов, которые вы сейчас читаете.
«Вас ждет путешествие без надежды», — сказал мне Улитин на прощанье перед дверью. Он повторил эту фразу и в одной из открыток в Иерусалим. Это и был еще один план, аспект — урок улитинского понимания ухода в другой язык. Будущее — это тоже другая страна, где находишь самого себя, вне зависимости от иерархии старших. Изначальная безнадежность этого путешествия и есть, возможно, гарантия его успешного завершения. В момент нашей последней встречи с Улитиным я воспринимал его слова на этот счет чисто философски. Я не знал, что речь идет о названии его книги. У меня в тот момент эта фраза про путешествие без надежды была связана в уме с песенкой Окуджавы про веселый поезд и грустного машиниста при учете того, что моя жена, «товарищ Надежда», оставалась в России. Я думал об этой фразе, когда шел от дома Улитина к метро. Неподалеку находилось эфиопское посольство. В заборе была дыра. Туда в открытую лазили московские кошки. Белые. Улитин называл их белоэмигрантками. Почему они стремились на родину предков Пушкина, не знаю. Может быть, за пищевыми продуктами. Я вывез с собой на Запад, казалось бы, все. Но, выяснилось, остается надежда — в чужой книге с твоими словами. Эта книга ждала меня в Москве. Она перед вами.
Зиновий Зиник
Путешествие без Надежды
ПУТЕШЕСТВИЕ С БИЛЕТОМ В ОДНУ СТОРОНУ
без Надежды{1}
120 стр.
на возвращение «Это и хорошо», сказал П.Ф.К.
На него это похоже.
14.4.74У них и не такое укладывается в голове. А м. воспитание даже способствует и подготавливает к восприятию коварных методов классового врага. От одного замечания станет тошно. Ты не собирался писать рассказ на эту тему. Как из пионера выработался троцкист. Ты так и заявил одному товарищу, который пришел к тебе на этот раз без других товарищей.
Резко менялся климат.
K.P. — это Константин Романов, великий князь, свои стихи так подписывал, а был патроном по части искусств и таким образом распоряжался московской консерваторией.
Кислятина. А мне нравится — тонкий вкус. Бутерброд с селедочным маслом. Рокфору хочешь? Нет, не надо.
СЛОВА ПОД ЧУЖУЮ ПЬЕСУ
Под «Ноябрьские сновидения», но на большом формате. Формат имперских канцелярий, развернутый на два листа вдоль, — это и есть «дурацкая шапка» — фулзкэп — такой странный у британцев формат. Им рассчитываются даже поэтические сборники. Например, «фулзкэп» ин-октаво — это обычная детская книжка. Слова под Мравинского (или «17 лет спустя») были подарены А.Н.Асаркану в декабре 1954 года. Они действительно были написаны на Мравинском.
14.4.74Я буду его ВСТРЕЧАТЬ, когда он обратно будет ехать. Это не относится к прощанию в воскресенье. Он действительно не будет проситься назад.
Как сказать? Но как это проще выразить?
Где у меня были шпаргалки из Эстонии? Кажется ясно. Безнаказанная речь: Тютчев выручал. Потом пошли какие-то женщины в сертификатных кофточках, их было много, а за ними он. Они теперь ходят впятером. Ого. Польский юмор. Пижон приносит на день рождения 5 бутылок вина, кто-то приходит с женой, кто-то без жены, а умный человек приходит на день рождения с семьей. Один раз звуки из ящика пригодились. Почему-то Пиночет. А как насчет арабских шейхов? Такая рецензия не поможет. А ведь только в рецензии был смысл. У отдавленного края другое соображение. Чтобы не попадалось на глаза. Не таким способом.
Я нарочно избегаю, а потом окажется: а там и не было ничего. Опять забыл. Тут даже трудно пояснить. А что было разорвано в 1967 году? В 67 году ему было 22 года. Он только что окончил МГУ{2}. Этот грустный немолодой усталый человек иначе смотрел на нашествие. Пошли по редакциям. И они пошли по редакциям{3}.
2 страницы из романа можно было взять на английскую машинку. Но теперь с английской машинкой — как с хождением пешком: КАЖДЫЙ ШАГ ПО РУБЛЮ. Я составил список цитат и на этом успокоился.
7 конвертов — если бы. Это наз. НАСЛЕДНИК ВСЕХ СВОИХ РОДНЫХ. Не обед у Юсупова. Не салон Анны Павловны Шерер. Не городская усадьба начала 19 века, памятник архитектуры охраняется государством, но все-таки п.п. гр. и вообще. Книги во всяком случае достались по наследству. А ему некогда читать. Он деловой человек. А сам-то когда «Семью Тибо» прочитал?
Где-то была
КРУПИНКА КОБАЛЬТА ПОД ПОДУШКОЙ.
А почему они без свинцового футляра-коробки возили? Это натяжка, но как объяснить?
Три рассказа под Агату Кристи. Очень необходимо «Похищение премьер-министра». Речь шла о войне 1914 года. А иные писатели плачут. Собака, с которой снимался Евтушенко. Один пес с другим волкодавом. Тут стихи Солоухина под «Соло на отрезанном ухе. Памяти Ван Гога».
Слишком быстро. Я нечего не понимаю. И я тоже. Никто ничего не понимает, но надо слушать как волну, как диктора, которого не спросишь. Но диктора можно выключить, а Вас? Gynaecology is a fun. It is a polite way of saying «they will not silence the frequency». Tell Clare to keep her voice up and her answers short. And don't let her try to be clever. Any laughter in court should be raised by the judge. WORK is{4} a four letter word.
В декабре 59 года я записал адрес скрипача или пианиста, но он сказал, что адрес временный и он его скоро изменит. Речь шла о книге «Существенный Джойс»{5}. И такие воспитанники консерватории были. У нее коллекция итальянских книг, у него — французских. Чем бы ни тешилась Валя Чемберджи, лишь бы у нее были книги. Штуки ее первого мужа остались на стенах там же, где мы их в первый раз видели.
Мы попали на профсоюзное собрание.
Пароход дал первый гудок, и уже было ясно, что никакой конференции не будет. Чемоданы лежали горой, вещи были собраны, осталось помахать рукой. Помахать рукой на прощанье было трудно. Пассажир стоял на верхней палубе и с окаменевшим сердцем смотрел на берег. Чтоб ему провалиться. Но берег не провалился. Совершенно незаметно 5 минут прощания растянулись в длинную пьесу. Первый акт — уже неважно и почти неинтересно, но процедура завораживает. Если сделал один шаг, надо делать и третий. В первом акте было повторение реальной сцены с газовой плитой, когда вода полилась и горелка потухла. Как он потерял сознание, он не помнит. Если это доступно, то можно сделать быстро, а зачем, теперь уж поздно задавать вопросы. Вот удобное кресло, можно вытянуть ноги. Конечно, лучше бы добраться до дивана, но идти домой — это долго, а тут вообще можно отдохнуть и даже закрыть глаза и не смотреть, что происходит на сцене. Все равно, это неважно. Еще слова, которые они говорят, имеют какое-то значение, а уж выражение лица совершенно не нужно. Второй акт начинается в кресле. Вдруг человек видит перед собой одну деталь в увеличенном виде. Может быть, он ее видел 100 раз, но сейчас важно ее рассмотреть во всех подробностях. И времени нет, но и торопиться как будто некуда, потому что с этим делом нельзя спешить. Третий акт начинается и кончается возгласом:
— Вы бы нам чего-нибудь оставили, Федор Михайлович!
Вдруг раскрывается дверь, там ждет целая компания и один из них говорит тихо и спокойно: нельзя-мол так, тут тоже голодные люди. А трапеза какая? На всех не хватит. Но Вы хоть чего-нибудь оставьте.
Достоевский обиделся и не стал ужинать.
С чувством великой скорби расставаясь с этой книгой, я считаю себя обязанным сказать два слова. Не могу молчать. Он обвиняет. Она смеется. Надеясь при помощи запутанного сложно-сочиненного предложения поправить свои дела, он уважать себя заставил. Процитировав письмо Булгакова, он приступил к инвективе. Как человек ощущает свой духовный рост. У Матрены во дворе росла лебеда. На станции Шепетовка нам пришлось разоблачить одного хорошего человека. У нас брака не бывает. Так надо. И грустить о том не надо. Расти больше. Он очень вырос в своих глазах. Это хорошо, это ему помогало писать. Без этого ощущения («Если я не скажу, об этом никто не скажет») нельзя написать труд в семи частях. «Он всерьез думает, что он умнее любого русского человека». Пусть думает. Вам что, жалко, что ли. Это производит впечатление главным образом на самого себя. Видимо, без этого не обойтись. Конечно, такая самоуверенность бьет в нос другой самоуверенности. Как мания величия действует на манию преследования. Перестаньте страдать манией преследования, вы лучше страдайте манией величия. Им просто не нравится чужая мания и всё. Их собственная мания им самим внушает уважение. Коллективный бред. Без капли юмора, когда дело касается кого сажать и каким курсом. Я на всю жизнь полюбил веселых стариков и мрачных младенцев. Одна цитата из пьесы «Человек и сверхчеловек»{6}: маниак величия, который был бы конченным человеком, не обладай он чувством юмора. Школы ликвидации неграмотности имели огромный успех. Не переводя с английского, можно ограничиться двумя цитатами из «Хождения по мукам». Все было проще. Почему Мережковский? С таким же успехом Сенкевич. Не говоря уже о Дюма-отце. Имея в виду влияние первого собрания на святой дух.
Вот Пушкин в Париже был бы как рыба в воде.
А что для Достоевского Лондон? Скука, холод и гранит. Но мне понравилось у Дюрренматта про Швейцарию. Это такой скучный Таганрог времен Чехова: сдохнуть от тоски. Первым же своим разговором по-немецки Чехов был истощен до предела и лег спать до 9 часов. Ты бы рванул в ночной клуб, конечно, и допился до чортиков. Первое, что их поразило, — улыбается. Опасный враг своей страны и вдруг улыбается, они не ожидали. Дети. Подростки. Девочка. Ей уже 50 лет, а она все девочка. Американское произношение 66 — что-то вроде «сэксти сэкс». Вот в этом возрасте американки бросаются в путешествия. Ими наводнен Лондон. Одна недостойная старая дама даже зайцем в самолете из Америки в Европу. Вот разговорные штуки. Беда с ними — нельзя сразу определить, с какой интонацией их нужно читать. Так все время и резать? Это утомительно. Никто не выдержит больше 15 минут.
Дети хороши, когда дают характеристики. Они как классики: не стесняются.
— Позови сюда шкилета!
— Какого?
— Вон того, злого, в прыщах.
Или:
— Примем рыжего. Он головастый.
— Нет. Лучше Петьку — жирного. Дурак, а бегает быстро.
Дурак, разумеется, обижен такой характеристикой, но через 5 минут забывает: все-таки приняли в игру.
«As a matter of fact that's the only way you can go — she'd never let you say good-bye». For the time being, of course, he was pretending that everything was hunky-dory. She did not notice anything. If you explain it, she will understand everything{7}.
Не так разве было? Все было так. Только все-таки было иначе. Вроде аппетит растет во время еды. Суровый берег и неприязненная стихия, от нее легко оттолкнуться. Надоели эти ели. Эти ели надоели. Мало. Еще раз. ЭТИ НАДОЕЛИ. А это надо доедать. Сам же просил, теперь ешь. Монолог жующего человека еще раз. Она только не знала, что это и было прощание. Я долго провожал взглядом удаляющуюся повозку. Телега скрылась. От тебя увезли все твои радости. Это несправедливо. Человек только что вошел во вкус, а у него отбирают счастье. Нет, это несправедливо. Я бы недопивал чашечку кофе до той капли горечи, которая лежит на дне в виде кофейной гущи. Я бы немного оставил в знак сытости. Но теперь уже поздно. Эту чашку мимо пронесли.
Сама процедура была другая. Нужно было что-то делать под нажимом и из чувства долга. Из страха, что ругать будут. Чтобы избавиться от стыда, если спросят, а ты не сможешь ответить. Надо выучить стихотворение, а оно не выучивается. Легко сказать: утро вечера мудреней. Надо в это верить. Правда, на следующее утро стихотворение заучилось за 5 минут. Значит, нужно верить. В следующий раз так и будет. А что делать в таком случае?
Они нашли письмо, где было написано: «Маруся, я тебя люблю». Но там не было написано фамилии, но они могли догадаться. Но они не догадались. Одна сказала: «Ты смотри, какие он письма пишет». А другая сказала: «Рано тебе этими делами заниматься». Но хорошо, что они маме не сказали. Но вопрос стоял иначе. Как вообще это делается? Если ей написать, это будет объяснение в любви. Это я уже усвоил. Но достаточно ли этого? Если она узнает, она должна меня любить. А если она кому-нибудь покажет и они будут смеяться? Как быть в таких случаях? Нет, лучше не отсылать пока.
Я к ней не относился иронически. Я к ней относился уважительно и понимал, что это великое достижение и даже знак признательности. Все зависит от того, что выдвигается ни первый план. Была хорошая штука, я ее не переписал. Когда приходится выполнять чужую роль. И еще была одна хорошая страница в 59 году. Я ее недавно прочитал, удивительная вещь. Этот «Шантеклер» совсем другого качества. Не возьмешь чужую биографию Бернарда Шоу, не исправишь. Тебе никогда не приходило в голову, что надо читать письма Фрейда и переводить монографию о Джойсе? Нет, не приходило. Смерть Ильи Абрамовича. Уход Ивана Сергеевича. Рассказ инженера Стеженского. «Промышленная вентиляция». Перевод «Дон Жуана» Байрона. Такой большой труд, человек всю жизнь писал. Когда Вы выйдете на волю, проследите, под какой фамилией выйдет эта книга. И если там не будет моей фамилии, то знайте, что это плагиат. А рассказывал какие-то пустые истории на одну тему «сливки общества». Не знаю, мне бы сейчас не понравился такой рассказ. Начиная с того, что каждый рассказ начинался словами «У нас в Бутырках». Ты отвыкай от этого. Тебе придется еще прожить целую жизнь, забыв о том, что ты был в Бутырках. Тебе придется привыкать к тому, что тебе и рассказать об этом будет некому. И не нужно это рассказывать, а то опять попадешь в Бутырки.
Discourage me if I know what you are talking about. I can't write out a new quotation, I simply can't{8}.
Not that I wanted to write the history but the mystery of many a picture I remember! They are swimming. They are swimming. I can't do anything with them. The first love will be somewhere in the distant future. And Big Brother was not yet born. And all is ahead of us. And happiness and Erostratus and intimacy and the wall or maybe the room{9}.
Какая сила заставила напечатать такой текст? И какая — что еще удивительней — какая сила заставила забыть об этом? Есть же, есть же, есть — вот он, даже такой изящный аккуратный переплет. Много вздора. Много ерунды хранится в разных углах. Один далекий угол, если в него заглянуть, заставит остановиться, жадно дыша. При чем тут отец? Отец тут меньше всего, это же надо знать.
Идут такие астрономические тексты. Слова из другого лексикона. Пудами нависла скука. Чемоданами старых черновиков загромождается тропинка. Тут бы два слова. Тут одно стихотворение. Копирка мешает. Тут надо без копирки. Странный поворот у традиционного хода мысли. Ляг в другую сторону головой. Ты же привык засыпать на правом боку. Заноза не вынута. Зуб шатается, еще какая-то посторонняя морока. Была такая тетрадь. Она связана с фестивалем. Непонятно, почему заглох интерес. «Что мужчины знают о женщине?» Та страница заставила заглядывать в большую тетрадь. Помню, что был «Герострат», но я бы не хотел его отыскивать.
Толпы проходили. Старой улицы я не узнал. Нового адреса не нашел. Судьба пародии после смерти великого пародиста. Вот что было в Лопухинке{10}. Мы сидели в читальном зале и читали такие штуки. Это было интересно в 1946 году.
— Вы тоже старый ИФЛИ-тик?
Он нам не такой разговор устроил в ЦДЛ. Он там как хозяин принимал гостей, а тут пришел в гости. Один человек должен умереть, а другой уйти, тогда его концепция аграрной науки восторжествует. Он так и сказал, была стенограмма.
Впрочем, КОНФЕРЕНЦИИ ПРОРОКОВ я не видел. Я даже не знал, что такая существует. У меня было водохранилище, тайные рыбаки и иногда намеки на классовую борьбу. Читательская конференция, если так можно назвать, была с утра до вечера или по Хемингуэю или по Андрею Белому. Приходил владелец «Петербурга», и мы к нему очень хорошо отнеслись. Выходит, французы были без меня. И только много лет спустя один раз прозвучал «Лейтенант с лицом худощавой свиньи»{11}. Это был такой лохматый прозаик из Ленинграда, но мы не знали, что он пишет стихи.
Разговор в «Национале» был без продолжения. Палка упала с третьего этажа «Праги» и летела до второго или с четвертого, если там 4 этажа, я уж не помню. Но остановиться было невозможно. За эти 40 дней они успели роман написать. Многотомное сочинение, состоящее из вопросов и ответов, под каждым ответом пришлось расписаться. А ясеню было 200 лет по крайней мере. Имперская канцелярия работала на другом формате. Информация устарела: он от нее уже ушел. Или она от него. Тогда выписок из книги «Место на верху»{12} не было и не могло быть. Про Майн-Рида мы потом узнали, он его еще не обозвал Майн-Ридом{13}.
400 страниц были нужны для фона наших постоянных интересов. Это было «Кафе» в первом варианте. 167 страниц выбрано для одной темы. 52 страницы осталось («в зубах навязло»). Было такое. Читал я что-то такое, видимо, отозвалось. Не читал написанного утром. Тоже отзовется. Стоит сзади мысль, сверкая недобрыми глазами.
Условные обозначения. Забытые листочки. Мне не приснился большой формат. Давно я не писал черной тушью. Вот еще раз. Еле выкарабкался. Теперь понятно почему. Не надо было на это обращать внимания. Еще раз повтори «не надо». О наших словах, о ваших звуках. Я и буду любым способом. Вот как получается. Ни одно из этих построений не отвечало напору интонации. А я читал вслух чужой рассказ. Несколько удивительных открытий. 2 страницы. Ничего такого не было. Все это нужно было для разгона. Очень все перекарежено. В разных углах разные попытки. Вот пришлось открыть все-таки переплет. Много всякой всячины. Расскажите подробней. А как все было? А никак это не было. Все это ерунда. Четыре пачки «коньячных ритмов»{14}. Сшитые белыми нитками, они все равно остаются «коньячными ритмами». Письмо. Скоропись. Захватанные страницы. Несколько приближений. Все куда-то уходило в другом смысле. На катке была такая погода. Куча нелепостей. Ты приготовься, тебя будут спрашивать. Теперь можно бумагу не экономить. Никакая сила не заставила бы. Смешно об этом говорить. Мне нужен пейзаж. Тут я еду на пейзаже. Тут деревьев не было, тут были кусты. Вот у этих кустиков я поймал налима. Расходов меньше. Такая была дружба. Судьба другого авторитета. Я раскрыл старую книгу и прочитал две главы. Дальше двух глав не пошел. Вот какие вещи творятся в этом беспорядочном мозгу. Ух ты. Такие слова. Такие слова. Выходить на мороз. Холодно. Холодно. Не надо. Не надо. Не надо. Было такое утешение. Надо взять другую бумагу.
Из этого ничего не выходило в том случае, когда не бралось еще раз, не читалось, не перечитывалось. Эти цитаты из «Силуэтов»{15} воспринимаются теперь как свои записи. То есть это так давно было, что уже неинтересно, кто сказал и по какому поводу. Потом ты 10 раз слышал такие же слова о других поэтах. И видимо, сам их говорил 100 раз. Он женщин замолчать заставил. Мне это не понадобилось. Это уже было. «Орфографический словарь в кармане». Постыдился бы. У нас все это было в голове, вот так. Нам не требовалось. Вот какая разница.
Почему-то считалось, что на последней странице самое интересное и все остальное можно не читать. Все остальное можно прочитать, когда попадется неожиданное оскорбление.
Жизнь бурлила у шахматистов на бульваре, они сюда приходят, как на работу. Это у них клуб. Еще раз посиди в вестибюле у гардероба, и увидишь чужие коридоры власти. Кто с кем поздоровался и кто на кого не обратил внимания. Кто приходил в кассу 10-го, а кто 24-го. В чьей комнате они собираются и кого теперь любят, а раньше относились иронически. У него образности нехватает, говорили раньше. Теперь говорят, лучший гражданственный поэт, и ему не нужно образности.
«Джойс к нам ходит второй год, но до сих пор не уловил главного». Это про «клуб журналистов», что ли? И про то, кто тут «председатель»? Это про «один гражданин организовал вечер»?{16} До сих пор не понимает, что тут происходило. А что там происходило? Тамара Красивая жила интеллектуальной жизнью? Рядом с Булатом на фотографии? Но у меня есть доказательства того, что он ничего не помнит. Он меня, например, запомнил по бороде, а меня там на самом деле не было.
Мне захотелось почерком 61-го года почеркать две газеты и 10 листов чистой бумаги. Ленту нужно сменить. Никто не узнал. Какую роль играл Вольтер в судебных решениях своего времени, об этом рассказал Д.И.Писарев. «Мысли Д.Писарева». У него было другое отношение, у меня было другое отношение, у всех было другое отношение. «Думали: саркастический ум, оказалось: восторженный человек». Эту фразу я услышал в клубе журналистов. Вот как надо работать. Словарь лежит на полке, переводчик лежит на диване, книга лежит на столе. На чужом столе идеальный деловой порядок. Ее лицо. Да, трудно описать ее лицо. Вдали ветер гнал волны. Эти волны нагоняли тоску. Я вздохнул и не улыбнулся. Была работа, над которой я прекратил работу. Ты слышал эти разговоры. Ах какой он был, с блестящим орлиным взором, покоритель! Неумолимо жизнь придвигается к концу. Сиди и не рыпайся. Да и Вы тоже не дослужились до действительного статского советника. И Вы тоже — не генерал. Музыкальные ночи старого Петербурга. Почему фигура Ю.К.Олеши после его смерти выросла в наших глазах? Какие-то движенья рукой, два слова, память заговорила. Трамвай заворачивал на Лубянскую площадь, мы стояли на задней площадке. Цитата не нужна. Звуки, которые били по башке. Череп трещал. Голова раскалывалась. Рассказ начинается с описания меланхолии, но в конце рассказчик совсем забыл, с чего он начинал. Ни слова о том, ну и мы, конечно, забыли. Играет или не играет? Странное было пробуждение. Почему меня беспокоила вторая чашка чаю?{17} Это было в каком году? Мне все казалось, действуют «типы», а не живые люди. Есть у нас такой один представитель, и нам другого представителя не требуется. Триумф одного старого человека. Я вот раскрою и посмотрю. Еще раз буду рассматривать случайные черты.
Придавал значение такой ерунде. Больше не было забот, слава богу. Вот видите, сами говорите. И это было на большом формате. Мне важно было увидеть шрифт чужой машинки. Как странно все повернулось. Какие там тайные размышления? Убить или не убить? Можно подумать. Мне казалось, я снимаю сливки, а все остальное — снятое молоко. Вершки шли на машинку, корешки отправлялись в архив. Ошибки — не в счет. Как будто все зависит от воздействия. Почему-то недосказанные слова. Оборвавшиеся разговоры. Такая была полемика. Это не полемика, это остатки общения. Было хорошее отношение. Теперь ясно. Я искал эту страницу не для того, чтобы ее переписать. Насколько правдиво он говорил? Не было ни слова вранья. Условно вранье получается от присутствия третьего собеседника. Хотя бы в мыслях, он все время присутствует. Не думать — это про чтение. Заставлять себя мыслить — это про писание. Да, теперь я вспомнил. Еще была такая страница, где в виде заголовков все события, связанные с первой комнатой. Сколько потрачено энергии. Трамвай шел по Моховой и остановился возле Университета. Я вскарабкался с передней площадки, и мне уступили место для инвалидов. Вот как нужно об этом рассказывать. 4 года изгнания приучили дорожить книгами из библиотеки. Вот какие были тайные размышления. Ужасная штука. Из-за песен Беранже. Из-за рассказа Куприна. Лучше я открою толстый переплет. Постоянно натыкался на картинки. Странные вещи вокруг старых шпаргалок. Как только увидишь, к чему это можно приобщить, так сразу мысль шарахается в сторону. Какие там были уроки? «Я хочу посмотреть на ваших интеллектуалов. Как они ко мне будут относиться?»
Городская баллада. Совершенно непонятно, чего я этим достигал. Нужно было отцепиться. Для меня она была заменой, я 4 года писал только о ней. Как мало осталось. Про Москву восторженный турист, ходить только нужно с ним, он не любит ездить в такси. Слишком быстро для его путеводителя по Ленинграду. Ты не выдержал экзамена на Итало Свево. Нервный мальчик, по-моему, стал деловым человеком. Вот от кого можно услышать рассказ о смерти.
Я сяду в троллейбус. Троллейбус повезет меня по старым знакомым улицам. Никто не будет совать мне в уши ненужные слова. Истощилось внимание собеседника. Какая сила заставляла печатать на английской машинке такие слова? Вот целая статья переписана из французского журнала. А мне все-таки хотелось еще раз ее увидеть. Мелькнули пометки. Зачем-то хранились целые журналы. Давайте с вами напишем бульварный роман? Мне ведь теперь совсем нечего делать. Давайте писать романы. Потом стерла карандашные отметки, много было написано вокруг и на полях. Мне почему-то дорог этот переплет.
Оказалось, действительно много общего. Как это получилось, совершенно непонятно. Я ведь забыл о приключении на площади Свердлова. Она написала об этом рассказ. Я хотел бы прочитать ее рассказ. А мой рассказ читали другие люди.
Теперь я знаю, к чему это относилось и кто мне устроил такую жизнь в этом месте. Не подойдешь, не спросишь «Почему Вы стали плохо относиться?» Одно время хорошо относились, а потом стали плохо относиться. За что? А что я такого сделал непоправимого? Я хотел представить себе такое несусветное, такое немыслимое положение, что вдруг пришел из кафе и за 10 лет ничего не изменилось. Там было проще, там было лучше.
Мне хотелось сделать вид, что я только что пришел из кафе. А еще мне хотелось увидеть Сергея Черткова и спросить его, что он думает о книге одной нашей общей знакомой. Вот куски из разговоров с покойниками.
Вся эта дружба кончилась саморекламой. Нет, не совсем так. Дружба кончилась чем-то другим. А вы знаете, за что мы его любим? Он мне устраивает рекламу. Он у меня агент по рекламе, можно сказать. Его эта роль пока вполне устраивает. Он за это даже получает деньги. Разве ты не хотел бы прочитать в английской газете свою фамилию с упоминанием «лауреат Нобелевской премии поэт-переводчик такой-то»? Испорчено. Испорчен лист неточной формулировкой.
Твое понятие о Плющихе не целиком укладывается в роман о Сильвии. Что нужно спросить у Ираклия? В одну сторону лет лента ничего. Так и знал, что этим кончится. С некоторых пор он меня все время связывает с женой Олега Е. Вещий Олег и не думал мстить неразумным ХА-зарам. На языке скифов и сарматов Лукоморьем называлось Азовское море. Что-нибудь по-татарски: почему-то он говорит: татарская моя кровь. И Марина Ц. тоже говорила что-то о татарке.
Неотработанная записная книжка — вот беда и даже ошибка. Плохой последний переплет. («Япон. транз.» — хороший.) Что и требовалось доказать.
«Ставит как ему нужно» — крик на кухне коммунальной квартиры по поводу семейных привычек борца, который хотел познакомиться с клоуном. Что-то неважное из газеты «Монд», а ехать за ней стоит 80 копеек в один конец. Удар по читателям «Паэза Сэра» был нанесен еще в каком году, а я узнал только вчера. 1 рубль за 4 газеты? Ого.
Твое понятие о Плющихе и не должно укладываться в «4 тополя». Какая молочница. А какой шофер такси. Я не знаю, какой он главреж, а шофер такси он великолепный. Олег копнул глубже Станиславского. Недаром я хотел для него: «Империя села на мель». Самый неделовой из всех разговоров.
Вот так мы попробуем через 3 интервала на старой машинке.
Только СТРАННАЯ ЖАДНОСТЬ один раз. «Возможность всяких коалиций» это еще вежливая формулировка. Ах вон что. ЗА а.у. в КВТ: я еще подумал, как же они о. рядом с П., но это их не смутило.
Лучший окальщик Москвы утвержден с. на 11 постов. Все-таки приятно вспомнить академика из ВАК: «Вот выйду на пенсию, буду писать для стола». Значит, и ему чего-то нехватает. А то эти «богато живут гады» убивают всякую охоту к соревнованию.
Это уже через 2. Ошибка. Лучше еще раз почитать старую книгу, а старый текст переписать через 3 интервала. Два покушения на чувство юмора. Ты два раза покусился и на остроумие и сам смеялся, и я тоже — из вежливости. Но ты вежливости не заметил. Это за пределами поэзии. Тебе приятно было это услышать в первый раз (в 21-й раз от Б.Слуцкого), а в 101-й раз от — разумеется — «ЛГ».
Что-то было и от тех неудач, которые мне заморачивали голову. Я писал вслепую. Нервы на нервной почве. В троллейбусе такая тоска. А чему человек улыбался, неизвестно. Эта бумага, во всяком случае, — не предмет для подражания. Чем завораживала картинка пишущей женщины? Логического подхода хватило на 4 минуты. Я бросился в сторону и забыл о существовании недописанной книги. Твой шаг. Твой путь. Шаги по улице, в общем, одного порядка. Остался характер. Был интерес к чужой библиотеке. На этом переходе ничего существенного не произошло. Опять что-то с лентой. Хорошая бумага, был такой эпизод. Мемуары пишете? Я так и понял. Теперь вам нужен читатель для ваших мемуаров. Петровский бульвар ронял листву, листья сыпались, ветер дул в эту сторону. А Трубная площадь всегда через чужие стихи. Ждать не приходится. У нас другой маршрут. Два взгляда, и мы никак не расстанемся с книгой стихов. Может, оставить? Ты же сам рассказывал, как это производит неприятное впечатление.
Забавно, что и тогда слово «магнитофон» употреблялось в прогрессивном смысле. Сюжет для небольшого рассказа. Была запятая, он поставил двоеточие. Он интересный человек: у него есть магнитофон. Что-то нарушало наши обычные занятия. Удивительные линии, такие контуры, которые только угадывались. Сказать про них, что они сияли мощной красотой, было бы натяжкой. В конце концов, все они увлекались коневодством. Анатомический атлас из Петербурга, это, наверно, очень дорого стоит. Бедность. Нищенство. Тебе придется потратить последние гроши. Ты останешься без денег.
«Я не могу принять от тебя такого подарка». «Тогда я швырну в воду».
Потом любовь к материалу, и уже не хочется шить костюм. Нелепо так ценить полотно, холст. Казалось бы, нужно брать краски и писать пейзаж.
Грузовая машина мчалась по ночной дороге, и я с трудом в темноте угадывал места, когда-то знакомые. Вот еще одна нелепость. Там же иначе все происходило. «Я из тебя сопли выбью!» «Выбей!»
Игрушки. Он бы ниже своего достоинства. Он бы не подписался под такой вещью. Значит, шли еще одни разногласия. Где-то было «он выдержал бокс». Есть ли у нее «Глаза» на 40 страниц?
Возгласы были неправильные. Мы не пошли в библиотеку. Кино и Вы терзали жизнь мою. Запись была важная. Для записывавшего. Не надо преувеличивать.
Я не знаю, что имелось в виду. Может быть, только одна высокомерная постановка вопроса. Если его ставят так высоко, то мы его смешаем с макулатурой.
«Земляничная поляна» в таком виде была как готовое стихотворение. Вот так я и перепишу. У него хорошая тетрадь. Я тоже так умею. На французской выставке я видал такой почерк.
Я посмотрел на угол письменного стола и представил себе годы, проведенные за такой работой. Вот как это могло выглядеть. Вы читали одно, мы читали другое. Но мне хочется обратить его в свою веру. Он же умный человек. Как же он не понимает?
Забавно, что все это со всех сторон. На даче. Просвещение. Книга, написанная в 1939 году. О чем они спорили в 1923 году. И несколько позже. Ссора была или не была?
Другая открытка выходит в символы. Один день рождения отбивает охоту от другого. У него не так. Ученица 4-го класса написала сочинение под названием «Третий класс»{18}. Он заявил: не могу приехать, у меня отобрали паспорт. После «венка сонетов о колготках»: «Меня тянет к гражданственности». А можно почитать? Для такси было великолепно. У меня тут сидели двое. Стихи читали. «Чего же вы думали, я такой гад, сразу побегу?» 5 минут постояли у Кропоткинских ворот. Не надо было вслух говорить. Надо было кричать. Уже давно давным-давно никто в эстраде ни слова не помнит. Мы лучше поспешим на вечер. Там будет вся Москва. Он будет объяснять, что такое виолончель. Защитная реакция «Убить пересмешника». На доме у 2-го Обыденского переулка мелом на стене было написано «Еще раз напишешь, убью». В другом переулке «Умей любить, если ты не любима». Коротко и ясно. Жизнь 388-й школы продолжалась без вас.
One day they would decide to shoot him. You could not tell when it would happen, but a few seconds beforehand it should be possible to guess. (That's for you, my boy.) It was always from behind, walking down a corridor. Ten seconds would be enough{19}.
Одного этого вполне достаточно.
Из-за одной страницы мы не будем читать вслух. «Тайная жизнь Уолтера Митти»{20} — это неважно, что об этом 20 раз. Важно другое. И 125 раз повторить об этом мало. Он уже усвоил что-то насчет забора, правда у Д.Писарева это было про родителей Е.Базарова. Они подсадили, а потом стали не нужны. Как женщины в жизни Вагнера. По словам Ф.Ницше, Шекспир страдал от того что вынужден был играть клоуна. По словам Ю.К.Олеши, Бернарда Шоу можно выбросить из мировой литературы{21}. Один раз прозвучала улыбка, которая усмешка. Не знали, что закончим перебежкой. Что договаривает все граната{22}. Или взрывчатка в письме. На общих основаниях с табу боборыкинской категории. «Еще раз напишешь, убью».
Выглянуло зимнее солнце, мы шли по заснеженным садам почему-то далеко от населенного пункта. Одна страница отравила целый день. Немного под «Тайную жизнь Уолтера Митти». Они ходили по кругу врозь и парами. Совсем иначе, если бы ты их знал в лицо. Как на концерте Мравинского. Одного события в консерватории хватило на 10 лет. Жаркий день в середине лета. Я сошел с автобуса и с трудом тащил чемодан. Я забыл, что чемодан с сахаром был в другое лето. Как на турецкой перестрелке. Как «Граница!» («Путешествие в Арзрум»). Не забудь в каком доме про какой велосипед нужно ни слова. «Удочка» забыта. «Точка» изучается. «Цикута»{23} пропала. А за это время написано «А за это время». Не вижу ничего, кроме саморекламы. А там ничего и не было. Цитаты можно не приводить.
Literary world, necrophilic to the core — they murder their writers, and then decorate their graves. «I think the psychological requirement for working on a newspaper is to be a congenital liar and compulsive patriot». She confessed that on certain days, when she foresaw this possibility, she went without drawers in order to save time. Bloody fool, couldn't he see that we have only one duty?{24}
Меньше всего. Ты мне еще скажи про. Вот именно. Вы мне еще расскажите про свою бабушку, которая имела духовные проблемы при царе Горохе. Нам плевать на царя Гороха. А мы походочкой в отдельный кабинет. Ситуационный Окуджава был на 100 голов выше. Надо же быть таким дураком, чтобы не понимать. Человек выложил себя, ладно. Это важно было для человека. Но мы-то все-таки ездили не к цыганам.
Ей все понятно, но нужен реальный комментарий. Кто это Бескоэльс?{25} 40 страниц, наговоренные на пленку из романа «Герцог», — как рассказ Олдоса Хаксли «Евпомп работал с помпой». Считается, что пародист Архангельский знает стихи поэта лучше самого поэта. Зощенко и Кант. Кант, например, не поехал в Каледонию. Все думали, что он давно уехал. А он был занят пересылкой книг из своей библиотеки. «Ты занял своими книгами уже полторы комнаты, а где я буду жить?» Сердце друга в далеком краю — велосипед, о котором не надо говорить в этом доме. Вы заметили потепление и внезапный поворот? Сидят трезвые, путем здравого смысла коллегиально составляют единое мнение, а водка на них не влияет. Генералка. Журнал для родителей. Чтобы показать знакомым. Тесно стоят сумасшедшие дома Англии. Потому что маленькие и их очень много.
Nicht gewöhnt, allein Sie haben schrecklich viel geschrieben. Take care. The same was at the very beginning. Pitch and toss — somebody else's. And that's the result if you please{26}.
DICTATION
2.3.74Он мне не такие письма присылал. Неожиданно резкие и ничем не оправданные, но я привыкла. У нас такая органика. Нет, у нашего мира своя органика. Может, у вашей «Музыкальной жизни» есть другие, но у нас не так. Может, у вас среди немецких книг другие корифеи и другие заботы. «Черный обелиск»{27} продан? Как насчет альбомов «Ка-Бэ»? Она теперь работает в ГНБ{28}. Посмотрел внимательно, поморгал глазами и ничего не ответил. Подробности нас не интересовали. Ваш учет, вам и платить. Нет, не так. «А когда будет четвертый том Бакеберга?»{29} «Через 4 года».
В мельтешение ты входишь тоже как составная часть, не замечая суматохи. Один раз в месяц весело было, потом будешь вспоминать 5 лет подряд. Некому рассказать. Письмо другого персонажа, книга третьего. Она спешила в Институт мозга, по дороге опустила письмо. Здесь был первый женский мединститут, и я о нем слышал — рассказы в детстве. Тут училась моя мама. Твоя бабушка переводила последнюю книгу Мопассана. Если считать, что Блока не было, «Возмездие» не написано, то «Волны»{30} — великая поэма. Зачем, похвалив одного, надо обязательно лягнуть другого? Вот существо дискуссии. Не иначе. Но другие слова, но одного духовного события достаточно на всю жизнь. Общие слова без конкретных примеров. Он заснул. Он выключился. Она ушла в третью комнату. Этот телефон — пустое место. Тем самым было сказано, что третий друг — тоже неважное звено. Мы можем обойтись. Еще резче в Переделкино. У меня был разговор 1958 года. Я думал из него сделать диктант. Сила удара на электрической машинке такая, что после нее нельзя садиться за обыкновенную. Ты привыкнешь. Через 20 минут будет пауза. У вас на видном месте будет портрет Булата Окуджавы. А мы будем читать Тютчева. Один роман Сименона по-французски — да, но его разговоры — это голос Камергерского переулка. Он завсегдатай, он там каждое воскресенье и даже субботу и это уже 10 лет. Вы с ним говорили про «Три кварка» в 68 г. Тогда он еще ничего не написал. Тогда его адрес еще был неизвестен. Разошелся и хлопнул дверью по голове — нет, но сильно задел военного человека. Задел так, что никто не заметил. Но из-за комментариев все обратили внимание. Нет, не так. Из-за чего-то другого. Во всяком случае ТРЕЩИНА НА ЗЕРКАЛЕ. К вопросу о «классики не стеснялись».
Знакомство не состоялось. Две книги как можно скорей возвратить в библиотеку. Вот когда не надо ставить дату. Лексика другая. Возможно. Цитат из старой стенограммы нехватает. Зрелость фрукта, ну и фрукт. Конкретные предложения другого порядка. Что я действительно рассказывал 25 раз. А тут нет. И даже непонятно почему. Кстати, что случилось с бумагой и мне испортило настроение на целый день?
2.3.74Картина со стороны была соблазнительная. Сразу же — как жалко, что нас с вами не было. Как фотографии на озере. Или лучше как «Иван Сусанин» по телевидению. Хороша Волга по телевизору. Рыбная ловля на озере ТВЧД. Помню, мои удочки были раскиданы веером и был жаркий день, и на озере я сидел один. Хорошая была рыбалка. Только далеко туда добираться. Уроки «Удочки» удивительны. Важно было от улова до улова видеть нового рыболова. Ему ведь важно самому поймать, а не выслушать чужой рассказ о рыбной ловле. Это он уже усвоил. «День триффидов»{31} забыт. «Таинственные лучи» заброшены. Возможно «Шпион, которого я любила»{32} по-английски, но у нас нет этой книги. Картины, кулуары, Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Зачем же сатирический образ, когда лучшие друзья и знакомые? Она без этого жить не может. Ужение рыбы при помощи Британской энциклопедии. Такой был красивый переплет, а толку чуть: палеография! Пускай вот таких в мастерскую. Они уйдут, а после них 2 года будет стоять атмосфера недоброжелательства. Если у тебя такой друг, то враг тебе уже не нужен. Звонка не было. На кладбище не пошли, памятника не видели. Его путь в искусство очень важен для его родных и знакомых. Он вышел из «Искусства» минут 10 тому назад.
Информация о физической безопасности недостаточна, лжива и неопределенна. Нет, что-то другое. Сведения излишние, загромождающие память и заморачивающие голову, отвлекающие от усвоения того, что полезно знать. Например, жена-иностранка чем-то не пользуется, а муж-иностранец в Лондоне, если он черный или цветной, то тоже несладко. К выходцам из Восточной Европы относится другой вид дискриминации. Это было у Айрис Мердок.
Drink generously and he will tell you generously of all the things that happened to him after that time. I wonder who's reading it now. He was reading Pasternak out loud, and now I thought it might have been Mandelstam himself. May be. It was about February 1939 or a little later{33}.
Where there is no ventilation fresh air is declared unwholesome. Where there is no religion hypocrisy becomes good taste. Take care to get what you like or you will be forced to like what you get{34}.
Старик-издатель, вручивший визитную карточку, уже умер. Знакомство не пригодилось. Я уж не помню из-за какой книги. A-а, Хэвлок Еллис, британский классик с точки зрения читателей Олдингтона в 1927 году. Как они улыбались в пределах Ленинской библиотеки. Это был декабрь 1959 года.
Что это? Каталог непрочитанных книг. Выписки из каталога. Шутка старика-читателя. Меньше всего там было продолжение Книги с большой буквы. Заглянув в сборник цитат, увидишь: два шага назад. Сделал свои выводы, ничего не скажешь. Это немножко похоже на указатель.
«He's het up, but I'd say Tom Betterton's as sane as you or I», (p.186 Destination Unknown by Agatha Christie){35}.
Verbotene Liebe. Verlorenes Leben. Was sagst du dazu?{36} Да, это из каталога. Вот какие были волнующие впечатления. Непосредственно после этого я прошел мимо «Иллюзиона», чтобы остановиться и прочитать названия кинофильмов.
Разговор при помощи «Семьи Тибо» тоже там был. Но я помню почему-то Бакунинскую улицу и автомобильный магазин с толпой у входа. Какой-то трамвай. Это как с Преображенским рынком. Не Володька Мазур, а ученик из третьего класса кричит «Хау ду ю ду!»
Из прочитанных шпаргалок по идее должна возникать картина. Для одной эмоции у меня никогда не будет собеседника. Семена Владимировича я уже больше не увижу. Это так же нелепо, как ехать в Шумилинскую, чтобы посмотреть на Песковатку. А яблоневые сады были еще где-то.
Читать нужно газету «Беднота» за 1923 год.
Лексика была другая. «Бедный мальчик весь в огне». Свинцовые белила. Умбра натуральная. Сиена жженая. Слова, написанные на тюбиках с красками. «Бахают бомбы у бухты». Его фамилия Богучарский. Борис Владимирович, наверно. Кроме того, там был довольно точный список знакомых фамилий.
Где-то было такое предприятие, куда мы сваливали ритуальные тексты как в мешок. Увы, никто на это ответа дать не мог.
Он бросил камень в этот пруд. Не троньте. Будет запах смрада. Они в самих себе умрут, истлеют палью листопада.
Была такая «Тавтология».
Уже никто ничего не помнит. Приблизительно вот так. Странные вещи происходили. Мы все — его однополчане, молчавшие, когда росла из нашего молчанья народная беда.
Лягушки на озере подняли крик за 5 минут до наступленья темноты. Не говорите мне такие вещи. Опять придется идти по этой узкой дорожке. Не забудь, это единственное уютное место, где можно искупаться. Старого места не узнал. Тут должна была быть яма, ямы не видно. Ямы нет. Тут должны были расти большие деревья, деревьев нет. Мост мы не переходили, а в данном случае как будто нужно перейти мост. Как много изменилось около воды. Как мало изменился быт. Какое множество открытий. Если не заглядывать в словарь, всю дорогу будет такая история.
Я диктовал с «улучшением», но все время присутствовала оглядка на первого читателя. Многое приходилось опускать. И пусть нас переметит правнук презрением своим. Вот забытые строчки. Куда-то косо едет лист. На английской машинке я бы этого не заметил. Я бы остановился на взгляде старика: кажется, не те книги. Кажется, не те бумаги. Не то чтобы в 66 лет это имело значение, но все-таки. Вам жить. Вам решать. Вам думать. Одна книга так и называется «Размышления».
Такой ход мысли не пригодился. Условно называлось «Как они мне отбили охоту рисовать карандашом». А так и было. Может из-за учителя Карпова. Старик Самецкий ходил по улицам станицы Вешенской с диковинной тростью, верх которой раскрывался, как стул, и он присаживался и отдыхал. Это было весной 1930 года. Условно называется «опять не туда». Если открыть «Первую комнату», там все есть.
— Я дам команду, — сказал он.
И он действительно дал команду, и все мои проблемы разрешились. Через два дня я получил паспорт с пропиской, и можно было уделить внимание истории английского языка. Если бы я к нему пошел, он бы решил и ту проблему. Но я не пошел. Я не пошел и по старому адресу в Черкизово. Где-то другие маячили знакомые. С кем поведешься. Друзья моих тюремных дней, они отбили охоту. Мы пришли к библиотеке с другой стороны. Опять бзик с бунтом единицы. Но храбрый человек. Но смелость какая, а? К.Улак Урта{37} — первый великий человек, с которым он познакомился. «Они пришли с ножами, приставили и сказали: прыгай в колодец». Он и прыгнул. Коротко и ясно. «Мне голос был» — не было такого. Вот как надо рассказывать, а то Вы. Про дом у Большого театра. Про чемодан с книгами, про старые места на Тверской, где были когда-то книжные магазины. Как же, я помню, я там купил трехтомник Белинского.
Мне показалось все это ненужным. Расходы энергии. Внимание по пустякам.
Скользит бумага, плохая лента. Песня кончилась, очередь за другим певцом. Мне понравилась ваша откровенность. Чтобы быть в курсе. Об этом говорили еще вчера. Это ежесекундное мельтешение, эта погоня, побежали, а? Я вам помогу. Существенное отличие. Еще бы. Нельзя взять, скажем, 14 страниц без удаления в сторону. Я топтался на месте.
Did you see me paying the bill and running like hell? Did you see me swimming? So much for the writing on the wall. If you can keep your head, keep it, do it{38}. Расходов меньше — не заглядывать в словарь. Везде поспеть немудрено. И радует эта картина всех любящих русский народ.
Зал для танцев под видом кабинета. Но не рождает никогда количество в них новых качеств. Прием. Обед на 16-м этаже. Чтобы все прошли мимо. Чтобы потом можно было сказать «Там такой размах». Или «На дне рождения было всего четыре человека». Конечно, если он себя считает за человека. Было два кролика, один из них потом вырядился в овечью шкуру. Показывайте себя, показывайте. Разворачивайтесь, мы посмотрим. Ведь до сих пор он ничего нового не сказал. Через 7 минут вам это надоест и вы скажете: все это — для дяди Марка. Не надо переоценивать заявления тети Шуры. Опять покашливание за спиной. Нужно работать крупными кусками, взвешивая каждое слово на весах. Вот именно. Не надо ставить дату.
But she wanted to be arrested. But she wanted not to be allowed to sleep peacefully at home{39}.
В тот момент я почему-то об этом не подумал. Но я был занят рассматриванием домов с левой стороны. Хватит. Все остальное было без нас.
ОНА НЕ АРЕСТОВАНА
До решительного жеста можно и так. Условно и так. Можно было не упоминать. Процедура упростилась. Он ограничился устными рассказами. Можно много вариантов дать. Не пойму, что тут с лентой. Грустно думать, что нас обманули. Вот и все, собственно говоря. Всю ночь гремят джазбанды и скалят искалеченные рты{40}. Так можно до бесконечности. Но никто не заставляет по-английски. Никто. Направо с трудом, тут была конюшня, отсюда отступали. 6 дорог или 5? Одна в сущности. But nobody compels you to read it. But nobody wanted to say anything more definite. Bloody fool, couldn't he see? Exactly at the very moment when you needed to find 20 good words. Twenty good words would make the difference{41}. Фиолетовые ямбы на 5 минут. Потом вдруг внезапный поворот. Вам что-нибудь напоминает, поэтому вы улыбаетесь. Аллюзия. Красиво. Дружба продолжалась до конца жизни. Я описывал бутылку мукузани, освещенную солнцем. Но постоянно где-то слева за невидимой завесой стоял призрак, сверкая недобрыми глазами. Мне не пригодилось. Еще раз «дубина». Полено. Бревно. Был интересный разговор с точки зрения грузин, приехавших на московский рынок. Ты чуешь? Чую. Что-то происходит. Одного взгляда было достаточно. Междометия повысились в цене. Прямо физически ощущаю на затылке дыхание враждебных взглядов. Читайте старое. Читайте.
Just for you about justice. The organised Church and the highest form of punishment. She wanted to be alone{42}. Я ничего не могу придумать, кроме как портить лучшую бумагу.
Зрело подходил к решению задачи. Уже давно все сказано.
Уже давно главное написано. Надо только найти и карандашом отметить.
Я знаю одного старого знакомого, который другими глазами может смотреть на антикварные книги. Но они разделяли отцовскую библиотеку. Два брата. Кроме того, никто из них продавать не собирается. На Пушкинской улице книг не было. Там коллекционировались редкие фотографии и подарки от отца с его автографом. Но он не сказал «из Тарусы». Он сказал «из Казани». Она оживилась, потому что у нее тоже напряженные отношения с Валовой улицей. 7-й Ростовский переулок — старый адрес. Он уже умер. Она живет где-то в новом районе.
Virginia Dignam said wittily, «If it is art, it is an art with F.»{43}Тут больше ничего можно не цитировать. Но это уж слишком. Что поделаешь. Они у себя в Лондоне не стесняются.
Я перепутал. Я почему-то думал, что там французский текст («Отречение Суллы»). Что сказал Франсуа Мориак о Жорже Сименоне, интересно для Франсуа Мориака. Для Жоржа Сименона интересна только цифра 216 или 240. Это он столько романов написал. Если будете в Швейцарии, так ему и скажите: «Мы только Вас и читаем, больше никого». Мы по Вас изучаем «Евгения Онегина». Без Вас мы не читаем Пушкина. Нельзя шагу сделать без Вас.
— Как вам удалось передать атмосферу проскрипций? У вас талант историка. Это же было когда? А вы написали так, как будто вы жили в ту эпоху.
Профессор Нейгауз никогда не видел еще такой способной студентки. А она про дядю писала.
Если написанное через точку с запятой — сокращенный дайджест стенограммы звуков из ящика, то тогда конечно. Слово «скрэмблер» надо переводить хотя бы как «особый телефон». Так много приходилось принимать на веру. С ее точки зрения интересного человека на этом дне рождения не было. Он не пришел. Обойма из 5 патронов, место за столом для пяти человек. Хоть бы приблизительно в одну сторону. Прочитав вслух «Разговор о рыбе»{44}, можно сделать такое заключение. Пора портить «Разговор о рыбе». Глагол означает «зашифровать радиопередачу». Телефон не позволял подслушивать, а как — это не имеет значения.
«В подворотне с дворником курила, водку в забегаловке пила». Не те книги и не те бумаги, с этого начинается первая глава. Из подсознательной. На вопрос «из какой жизни вы пишете?» «Болван предал болвана, то были я да ты»{45}.
«Under the spreading chestnut tree I sold you and you sold me». Scrambler is the word. Just what I forgot. Just what I didn't need to remember{46}.
Слова про Щелыково, разбросанные по всем углам, и в самом далеком углу вдруг «Бунт единицы». Ах не напоминайте мне о нем. Это как два читателя читали вдруг один неизданный роман. Мне больно, Бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Но беспредельно простирались занятия ерундой. Например, шлифовка произношения имен судей по «Книге судей». Из японского развлекательного романа.
Потом мы сразу перешли в другую плоскость, и связь оборвалась.
Мы лучше поспешим. Куда стремглав, не меняя волны, уводит нас неопределенность впечатления. Для разогрева. Для разгона читателей употреблялась другая лексика. Читал лекции, но не пользовался успехом. Теперь работает не по специальности. Просто ведет разговорную группу русского языка. Постепенно множится со всех сторон «ни в коем случае».
Тут человека берегут как на турецкой перестрелке{47}. Один раз и звуки из ящика притомились. Направленная против него кампания имеет целью запугать с. граждан. Органы угрожали его убить. Стамбул гяуры нынче славят. У старой мельницы мы посидим на сухом дереве. Китайский пейзаж — см. цитату из Олдоса Хаксли. — на грани острой в круге первом на всякий случай НА КАЖДОМ ПОВОРОТЕ давным-давно. Не умеет человек придумывать названия. Валя-Валентина, что с тобой теперь? Но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал.
Если там было про стук в окно, то это существенное дополнение. Трудно уловить общую линию, если не считать «Герострата» или «Обманщика». Первые вклейки продолжают «Озеро», это ясно. Все вклейки вообще. Я прочитал огромное количество страниц. Никакой разницы нет. Небрежный почерк лежа в постели, с таким же результатом. Совершенно не понятно, за что там уцепиться. «Холостой заряд»{48} работает только с китайской картой. Цитата из Монти в другом месте. Если взять весь переплет с рыболовом, будет еще хуже, потому что неопределенней. Неизвестно что. Кошмарный жуткий ритуал. Снег падал. Скользко на улице. Автопортрет Сорина в Третьяковке. Мы читаем «Похищение премьер-министра» вслух. Агата Кристи в московском издании{49}.
Жуткие осложнения на каждом шагу. Да они что опупели что ли? Старую высохшую копирку продают, а? Нет, я ошибся. Жуткие осложнения на каждом шагу: да зачем мне это нужно? Таких 25 повстречаешь на каждом углу, постой только 5 минут. «Я вас встречал в „Молодой гвардии“?»
ИКОТА
Икота икота перейди на попа Федота, с попа Федота на Якова, с Якова на всякого. «Трэджи фо ю, комикал фор эврибоди элс»{50}. Игзэктли! ЧЧЧЧЧ-орррр!
4 февраля 74 года.Проба новой ленты. И паршивой бумаги, которую я все-таки купил, а что делать? Больше нет никакой. И проба паршивой бумаги ДЛЯ ЗАМЕТОК, благодарю. Может, сохранить? Может, пригодится? Кошмар. НИЧЕГО УЖ БОЛЬШЕ НЕ ПРИГОДИТСЯ. Как эта встреча с автором либретто. Саквояж. Чемоданы, сквозняки, слитки золота и монеты на таможне: а это зачем ей понадобилось? Это про Нэнси Митфорд. Авантюристка она. Халтурщица, а не самая остроумная женщина в Лондоне. И Вы думаете, это женская точка зрения? Ничего подобного. Это плохая Агата Кристи в комбинации с плохим Сомерсетом Моэмом. Спасибо. Я отыскал старые страницы, нашел выписки и успокоился. И этого не нужно было. Так — от нечего делать. За неимением лучшего — более точные слова. «Круг чистой воды». «Заблудшие». «Фараон»{51}. Еще что-то. Жаль, что не пошел. Еще не поздно. Все равно, они идут вечером, уверен в этом. 5 минут нужно чем-то одним заниматься — или курить или пить вино или печатать на машинке.
Еще раз мимо Люксембурга и Индонезии. Там же было посольство? Особняк в переулке теперь. И вы узнаете об этом через 20 лет. Про кафе. Роман «Максим Шостакович»{52}. До сих пор неизвестно. И тут же сразу вопрос: «А кто написал?»
Она не арестована пока. Но она почему-то не собирается. Мать сыновей великого человека. «Мать Ермолая»{53} — она так и знакомится, а по-моему, хорошо. Он бы давно уже у нее в печенках сидел. Она не знает своего счастья. Если бы он каждый день с ней. Она не ценит своей радости. Когда ты дома, я не принадлежу себе. Я не могу делать что надо. Ты меня затыркал, заговорил, замордовал, — я не успею в душ. Ой кошмар, я не могу!! Жарища еще эта проклятая, никуда не денешься. Начинаются мои мучения (с солнечной стороной). Я с ужасом думаю о переселении, я там не буду спать, а куда мы денем наши завалы? Книги, газеты, штабеля, барахло, макулатура — накопили за 20 лет. Они с радостью, они с завистью, а я с тревогой. — «Америка в Сокольниках»{54} — вот что было в последний раз. Если бы это был дайджест по 60 страницам, а в общем так и получается. Независимо от того. Зачем мне лишний раз говорить эту неприятную правду? Конечно это правда. Но я ведь тебя спрашиваю о другом. Лучшая виолончель СС заявила, что СВ создает артистический карантин вокруг него и его жены. Он объяснил, что это месть за дружбу с изгнанником{55}. У них была драма. Он был крестный отец, а по законам и обычаям крестный не может жениться. Тогда на него наложили эпитимью и он ее выполнил, и тогда священник разрешил им жениться. Она еврейка, но перешла в православие.
Меньше всего «Галактики». Как только она прочтет первый том Марселя Пруста, так сразу в телефонную трубку выскажет свое мнение. Один раз и звуки из ящика пригодились. Странно, что если взять все подряд, то лишь через 20 дней обнаружится что-то. Давно нужно было закрыть лавочку в ожидании диктанта на чужой машинке. Ему было 66. А кто умер?
И «Тетушкины сновидения» лучше всего опять же о французах в «Игроке». Ладно. Три раза возьмем, чтобы перекреститься. Не надо кричать. Вот с чего начинается «10 рассказов и их авторы»{56}. Чуть-чуть под Белинского, немного под Д.Писарева, совсем мало других, меньше всего Сомерсета Моэма. Заботы были такие в тот год, когда весенняя погода стояла долго на дворе. Отменно прочен и спокоен во вкусе милой старины. П.Романов стоит 10 рублей за том. «Без догмата» я уж не спросил. Вместо марочников на Котельнической набережной{57}.
— «Демон, а не возлюбленный»{58} — рассказ современной Джейн Остин по имени Элизабет Бауен (или Боуэн).
24.2.74Обычный камуфляж. Для суеверия сделать вид — как бы от дурного глаза: НЕ СЧИТАТЬ пойманной рыбы. Так — на сковородку, двух чикамасят, одного сазанчика, так кое-что по мелочи. Никогда человек не скажет — здорово клюнет или хорошо ловится — нет, этого говорить вообще нельзя и никогда никто не скажет. «Папки пухнут, дело стоит». «Следствие закончено, забудьте, плюньте». Такой приговор. Такой был ритуал. А что еще ожидать? 7 томов, 2000 страниц, значит тоже — если скажем 700 листков обычного формата, — то одна книга или две подборки, но мысленно на юбилее. Но мысленно такая работа уже проделана и вот вам результат.
Короче. Еще короче. Не заглядывая в шпаргалки, в подборки, в словарь. Можно и не читать роман-стенограмму, хотя, конечно, Достоевский в Париже — это всегда интересно. Француз — нет, богатый бездельник из Аргентины, студент медицинского факультета — вот ради кого она бросила титана-поэта-страдальца. Это про Полину Суслову в Париже. «Фиолетовые руки» — страниц 300, не считая «Ксенофоба» (120 страниц). Недобрыми глазами я могу и сам прочитать, т. е. пролистать и выбросить. Заботы 31-го читателя. Незаменимый был когда-то человек — читатель № 13. Читал с карандашом. Потом сам стал писать и перестал читать. Что-нибудь такое вроде «ЕЩЕ НЕБРЕЖНЕЙ», но это про почерк и формат бумаги и каким пером написано, — это неинтересно. Отрава в крови 3 дня находится. Такой яд, как от испорченной колбасы. Я не так понимал «способ не мыслить». Я сначала думал: писать — это значит стараться не думать (о неприятном или ненужном), а тут, собственно говоря, наоборот — стараться думать, ибо это единственный способ продумать до конца.
Есть в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно, их изведав, не кончить полной немотой. Не кончить черною тоской. Вам до опыта и не могло быть известно. Но теперь-то хотя бы на чужом опыте, Вы убедились? Эта простота. Она всего нужнее людям. Та самая святая наивная детская простота, что хуже воровства. От этих штучек с подоплекой он отказался бы наотрез. Так робок первый интерес. Начало было так далеко. Но сложное понятней им. Потому что человечней и безопасней, потому что не каждому — судьба самосожженца. И тут кончается искусство и начинается судьба.
Этого я от него не слышал. Об этом я узнал несколько позже.
Ну и разумеется — почти самое главное — В ИСКАТЕЛИ КОСНОЯЗЫЧИЯ ПИСАТЕЛЬ В СТАРИНУ НЕ МЕТИЛ.
«Первая комната» больше всего. Меньше всего «Галактика». Немного больше точка с запятой, (пятница 22.2.74)
Let them go, the sooner the better.
So much for this item{59}.
22.2.74ОНА HE АРЕСТОВАНА
Original, fahr hin in deiner Pracht. Wie könnte dich die Einsicht kränken: wer kann was Kluges, wer was Dummes denken, dass schon die Vorwelt nicht gedacht?{60}
«Истребление истуканов» еще раз по мотивам книги «Весна в Фиалте»{61}. Просто были уже такие цитаты. Ничего удивительного. Даже «Четырехэтажная тавтология» выросла в 11 этажей. Про кинотеатр «Великан» скучно, а надо бы переписать, хотя бы под — «Жизнь пчел», что ли.
Заботы 31-го читателя.
Я увидел: хорошо, только слишком много абзацев. «Фотография пулеметчика»{62} — пример и образец. «Трава под яблоней» тоже. Например «феллацию» там можно найти. Вот ты выйдешь на пенсию, будешь изучать этот вопрос. Рисует по клеткам портреты вождей. Еще в 4 с половиной годика этим занимался, тут он опытный человек и высокий специалист.
Тут они смыкаются. Тут они единым фронтом. «Мы пришли к единому мнению: яйца выеденного не стоит».
Еще 14 цитат.
— А почему он все время по левой стороне Арбата?
— Чтобы с женой не встретиться.
А она у него ревнивая.
Тут же они и поссорились. Через 14 дней помирились, но с военным человеком было сложней. Военный человек{63} не так легко забывает обиды и оскорбления. Помилуйте, мне 40 лет, и когда приходят молокососы и начинают кричать, поднимать голос, я нахожу, что это бестактно, неблагодарно и нарушает субординацию. Я таких видал. С одним ППШ я бы сотню таких — из «Лиры» — никого бы не выпустил. Кроме того, у него же нет своего мнения об уме Сталина. Он там у Бержераков{64} записывал чужие мнения и выдал их за свои, но мы-то с Вами понимаем.
«30 страниц для трех читателей» до военного человека не дошли. Пока.
Одного слова нехватало. Кофе или кафе. Или роман «Прокофьев» или повесть «Максим Шостакович». Он очень интересовался летчиком-асом из Восточной Пруссии и как это вообще им удалось. Весь этот механизм. Скажем, как у Гоголя: приятели, все приятели. Сначала приятели стали кричать, потом Москва, потом Россия. Все началось с приятелей. НО 10 ЛЕТ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ славы все-таки сказались. Уже перестали так ставить вопрос — да писатель ли он вообще? Теперь уж говорят — более чем скромные, НО. Теперь главным образом упирают на НО. Вот и Евтушенко пострадал. Вечер его 20-летия отменили, не объяснив причин. А он ничего такого не подписывал. Его предупредили. Но и без предупреждения он прекрасно знал, что люди помнят и будут задавать вопросы. Он и приготовил ответы. Он над экспромтами 14 ночей корпел. Выбивают из седла. Занимают чужое кресло.
Только из-за того, что слова громоздятся, уничтожая ТИШИНУ. Звуки из ящика можно выключить, тебя невозможно. С лентой такая штука. Второй был вариант: не кончить черною тоской. Это про меланхолию от простоты. От естественности и откровенности. Писали бы с позволенья вашего. Дышали б с позволенья продавцов воздуха. Он не арестован тоже, но ЕСТЬ НАДЕЖДА.
Is this film a sick joke or a work of art? I would suggest the former, but if it is the latter, then I consider it art with an F.
Virginia Dignam (4.1.74) about «Le Grand Bouffe (Blow-out)». Eating themselves to death{65}.
Я помню его похабную улыбку. Если это насчет книги «Ты и я» на немецком языке, то вместе с практическими указаниями. Я так и подумал. Мы вдруг очутились вместе в театре эстрады.
— Совещание!
А ему послышалось «с вещами!»
Пусть будет для него новый мир. Пусть. Я не возражаю. Я возражаю только против коллективного психоза: все едут! Ему нужно, пусть едет. Но не всем и не до такой степени. А то получается просьба составить ему компанию в самосожженстве.
Это как АИЦ: они обмениваются письмами и каждая пишет под копирку. Обе отмежевываются от «этого клеветника С.»{66}А то не выйдет книга во втором издании. Кроме того, они искренне верят, что он клеветник. И что пора по нему ударить.
Главное, что старик Самецкий — это классовая борьба типа «Тихого Дона», а друзья моих тюремных дней и Черкизово — это «дубинка товарища Жданова», а не пред-история Мишки Мотыгина с его песенкой про сказочный Марсель. Опять про старую Тверскую улицу, Вовку Леблана и лейтенанта войск НКВД. Студенты автодорожного техникума автоматически зачислялись в войска НКВД. Так что у Давида Шевчика был шанс. Если он попал в плен и если сука товарищ по роте не сказал и т. д. Таким образом рассказ для А.Леонтьева ни в коем случае не звучит для друзей Давида Шевчика. Как нельзя про В.Панкова, когда речь идет о С.Наровчатове. Для Т.Ойзермана не проблема. Художественный свист из Торонто. Не сенсационная книга, а правда. При любом строе он бы писал о нарушениях. Это он предупреждает, что не всем в дальнейшем это понравится: говорить правду. Он не политический писатель. И опять голос Италии, куда не попал Виталий, потому что утонул в плавательном бассейне.
Тут цокнешь и ничего не скажешь. Ленту не забыть купить. Очки тоже надо. Не считая Фрунзенской набережной. Пока не поздно, заменить. Вопрос: в чем бы заключался ритуал-метод, если бы была возможность? Видимо, в том же самом, только в новой комбинации. Письма были бы подлинней и адресатов побольше. Только и всего. Читать было бы трудней. Контролировать невозможно. Мне потом показалось — «Остановка» 69 года рядом с газетным текстом дает возможности для импровизации. Не пресс-конференция, а все-кавказский фестиваль, как у Дос Пассоса в 1919 году. Чего бы такое еще сказать, чтобы понравиться Фукидиду Соловьеву? А он Фемистоклович? Не знал, я думал, что он Тацитович или Момзенович. Глава как глава: рядовое блюдо, твой обычный завтрак, короткометражка, стометровка и реакция знакомая: собака-рецензент. Чего бы такое заявить, чтобы понравиться Европе? Скажите Европе, что мы ее очень любим. Передаете Эйфелевой башне, что мы без нее жить не можем. Ах как нам хочется тосковать по России где-нибудь подальше от России, сажая белые березки под Парижем и глотая горький хлеб изгнания, читать лекции в Сорбонне опять же по-русски и на ту же тему: мы дети страшных лет России, увы, не помним ничего. Рожденные в года глухие пути не помнят своего. Он им читает «Мать моя родина, я большевик», а они записывают и не чувствуют пародийность ситуации. Им нужно объяснить, они все поймут. Перед лицом идейного напора китайцев в Париже ни жратва ни женщина не помогут. Жертва — да. Успокоитесь на той молитве. Тут была ошибка со стороны машинки.
разрезать
был опальный
был опус
все было
20.9.70Значит повторялось 125 раз в надежде, что 125-й читатель наконец прочтет как ЛИЧНОЕ ПИСЬМО. Была надежда. 4 года с улицы Лавочкина, ЦИКУТЫ нет. ЦИКУТА исчезла. ЦИКУТА пропала.
Полный джентльменский набор.
Холера, чума, Сергей Вой., все
нормально в Р. Тогда нужно ска-
зать: клевета Апдайка: все
в порядке в этой стране: снег
до д. чист.
— Читал?
— Читал.
— Вот гад.
— Сволочь.
Ерунда, конечно,
должна быть в одном экз.
Как и вообще всякая клей-
ка, приклейка. Впрочем, коллаж
может быть в виде светокопии
со свидетельством нотариальной
конторы.
Вот образец
телефонного
разговора
с тем чело-
веком, который
ЛТД{67}, а? Человек, который говорил мне эти слова, еще жив. Он
сказал: еще не время. Еще не настало время, он сказал, говорить
об этом. Свист. Выбит из колеи. Это относится и к стр.231 к той
книге О.Х., которую мы не переводили.
выбросить или
разрезать — какая
разница? А ваша
жизнь — расшвыривать
цитаты. Где-то было.
Вот куда попали
ЭСТОНСКИЕ ТЕТРАДИ.
Теперь я вижу.
18.2.74Эту страницу я писал
4 года. С чем вас
и поздравляю.
Теперь видно: можно
было не волноваться.
Тут сразу же откроется вид на море до горизонта. Там кончатся камыши, а в камышах у моря только в субботу и в воскресенье шумел камыш, деревья гнулись. ПАУТИНА лесных пауков: этим вы будете заниматься после нашей о. победы (над к.м.)
Свинцовая бумага нужна для выражения этой мысли. Вот что было в последнем переплете. (Впрочем, с комментариями да под рюмку он охотно выслушал чтение вслух. Это было ровно 10 лет спустя. 2 дня тому назад его перевели со 2-го на 7-е отделение.)
Она меня держит в черном теле. Это последняя жалоба великого человека.
Другая работа — это верно.
Взмахи тяжелой недоброй тяжести тоже будут возмущать логическое мышление того анекдотического критика, чей образец мы читали в двухтомнике. Посмотрите, как глубина. Туда не ступала не только нога человека, но даже и ученого. Смех и хохот в другом доме.
Листал, определял, читать или не читать, сразу видно было, что книгу придется читать только из-за того, что она лежит на тахте и все-таки незнакомая книга.
Общий язык мы как-нибудь бы нашли. Вот куда мотивы обреченности. Смешно было вспомнить через 30 лет. Одни римские остроты на тему — урок латинского языка в противогазах. Невероятно, но факт — газы все-таки не применялись и опыт учения в противогазах не пригодился. Даже старик академик Селищев прочитал лекцию в противогазе.
Это была, оказывается, ДЕСЯТАЯ симфония Шостаковича на концерте Мравинского в декабре 1954 года. А «17 лет спустя» относилось в качестве эпилога к роману «Атомное оружие». Было такое.
Тут бы помог диктант, это верно. Слева на несколько метров еще осталось неиспользованной ленты. Расчеты были другие. Одна цитата из Альбера Камю, но какая цитата! Одна цитата из одного романа Уэллса — да, только и всего. Чем бы ни занималась Валя Чемберджи, лишь бы дала книгу почитать. Кто переводил «А Вы любите Брамса?»{68}
Я не беру самые важные вещи. Ты знаешь, для чего мы рождены? Знаю. Чтоб сказку сделать былью. Правильный ответ. Я говорил жутко закругленными стилистически отточенными фразами, а мне самому было тошно. Лексика не активизировалась, это всегда бесит. Пассивный словарь душил, возмущал, взывал к терпению. Тоже сидел и вымучивал, тогда как нужно было просто заглядывать в словарь. Нужно было найти написанное черной тушью на большом формате. Выброшенное.
Не было такого. Всегда в запасе была оговорка насчет даты. А для разнообразия скептик или стоик или финансист. Впрочем, этого и не требовалось: кусок хлеба и вагон масла. Иначе судилась книга любимого писателя, который своих 365 читателей называл читающей Россией. У Гегеля два читателя назывались читающей Германией. Но почему они его все-таки выбросили из Британской энциклопедии?
Но я читаю только на Эрике. Было бы смешно, если бы не был влюблен великий поэт в шпионку Бенкендорфа{69}. Но у вас нет доказательств. Нет и не будет, такое это дело. Тут никогда не будет доказательств, а шпионка Бенкендорфа этим всегда будет пользоваться. А вы останетесь в дураках. Интервалы не заполнялись поправками, смысла в таком шрифте не было.
Выступил какой-то заместитель, мы об этом узнаем из конкретных мероприятий, дальнейших событий. Дан сигнал. Охота будет. Будет охота. Вот. Хорошие стихи. Я вздохнул: но я же теперь стихи не запоминаю, т. е. не могу запомнить. Вот вся и разница. Я вам могу прислать. Пришлите, скажу спасибо. Не надо так грозно. Угрожать не надо.
Разные разноплеменные куски попадали нетуда.
Разными способами достигалось превращение. Однажды было отмечено, но когда эпигон, работая на собеседницу, которой нужно было чего-нибудь попроще, повторил, то это вызвало недоумение.
Мало было.
Еще хуже, конечно, рисовать с фотографии. Впрочем, клетки огромного формата и маленькие клетки из тонких ниточек, они, по крайней мере, дают верность контура. Контур неправильный, но выражение губ схвачено. Две попытки. Четыре листа бумаги. Чем бы дитя ни тешилось.
Накопление нового архива. Сама процедура. Процесс сам по себе. Возможность собеседника, потом удалитесь вы! Разбойничьи метафоры, четыре подхода, ни один не доведен до конца. А что это, собственно, значит? Удаление или прибавление?
Неоправданные надежды во всех смыслах. Калмык, крутя над головой саблей, ускакал в степь. В синем небе лопались белые облачка взрывов. Чтобы поднять ногу, нужно показать ногу выше колена. Она яблоки в подоле несла и лезла в окно, а я смотрел из соседнего окна. В этой палате лежал один больной, у него ума палата, но я ему сказал, чтобы он был осторожней. С его умом он попадет в переплет.
Чего каждый требовал и что говорил: как будто в самой гуще жизни огромное количество людей. Все про что-то еще. Много книг, из них я ничего не читал. В разговоре на антресолях был краткий пересказ. «Отныне и во веки веков»{70}, роман Джеймса Джоунза, а продавали «Лес богов».
Писатель и его корни и почему он ими не пользуется. Этот веселящий газ, вид наполненных рюмок, его не передашь линией. Тут и линий нет. Тут три цветовых пятна и такая радость: тишина. Ты б хотел забыться и заснуть. Мы прошли мимо «эмбахады»{71} и вспомнили встречу с грамматистом. Конечно, важно, что это было на фоне. На фоне старого базара, бомбежек и ожидания — вот-вот тебя разорвет на куски — простой день на лекции в институте казался шагом в широкий мир. Лучшая библиотека Советского Союза на фоне «без московской прописки нельзя» была тоже в ореоле вещей, о которых можно только мечтать.
Потом я решил рисовать с натуры. Для этого надо иметь терпеливую натурщицу. Один рисунок гад правильно сделал по замыслу. Общество, в котором позволяется на страницах романа ругаться матом, меня не волнует. Еще бы. Вот я попробовал читать все под ряд, получилось что-то не-удобо-сказуемое. «Третий корпус», «Писанина 1970 года» — это неважно, как это называется. Важно, что процедура не удовлетворяет своим внешним видом. Для архива это мало. Для самостоятельного сочинения это еще меньше. Для жизни на каждый день это слишком широко и шикарно. Резвился — да. Это теперь кажется невероятным. Две девочки искали посольство Дании, чтобы найти какую-то выставку. Мне понравился один вид у гостиницы «Россия», а другой — против агентства печати «Новости». Об этом я скажу несколько слов, когда перейду на толстую бумагу без копирки. У вас там так много написано.
Потом мне все объяснили. Собаки бывают только двух главных пород: одни произошли от волка, другие от шакала. Все собаки второй категории отличаются неблагодарностью и неустойчивостью в своих привязанностях. А собаки первой категории кусают неблагодарного, по их мнению, хозяина за то, что он не ценит их вечную привязанность и бесконечную преданность одному и тому же до конца жизни. Кроме того, щенок выбирает себе хозяина в первые 4 месяца жизни и потом никогда не меняет своего выбора.
Это уже слишком.
Я так и понял.
Вы сами не знаете, с кем вы связались. Это чрезвычайно опасный противник и, кроме того, сложно-подчиненный человек. Вы никогда не будете знать, перед кем и когда вам нужно будет оправдываться, имея такого противника. Нет, с ним лучше дружить. Лучше помириться. Вылетишь на орбиту, придется решать задачу по физике. А вы ведь никогда не были сильны в задачах по физике.
Я возьму лучшую бумагу второго сорта, как приду домой, и буду ее портить. Из количества испорченной бумаги всегда вырастало в какой-то момент новое качество.
Не знаю, по какому поводу «А он молодец». Там было несколько. Это еще один удар в нос великому коллажисту. Так ему и надо. Пусть не зазнается. Пусть не задирает нос.
Если ему объяснить, он все поймет. И даже придет. И возможно прибежит. Но ему никто объяснять не будет. Таковы правила игры «Догадайся сам».
Ты продиктуй мне про коленопреклоненное положение. Ты расскажи мне, но не рассказывай этого пишущей машинке. Я так и не понял, что там произошло.
Она сказала:
— Я посплю, а ты тут управляйся сам.
Я ведь до сих пор ни одной страницы про бокс. Ни слова про посев и РДВ{72}. Он ищет только про себя и петербургскую родственницу Веру Слоним. Один раз в 100 лет. Так и было. Я не знал, что это с рыжей Юннки шерсти клок. Ничего не может быть раздражительней раздражительного голоса по телефону. Пыль от хартий не отряхай, а то хай поднимет виртухай.
«Высокий суд» и есть Нобелевская речь. Ты бы его не узнал: глаза горят, стремительная речь, не идет, а летит. И еще что-то церковно-славянское.
Мне приснилась война скифов с сарматами.
Откуда это взялось? Как нарочно в конце сезона. Я и непечатным словом не погребовал бы. Условно. Через «я бы», через «бы». Рецепт известный — это да. Но один монтаж по рецепту — это еще не все. Требуется еще кое-что. Вот в этом «кое-что еще» всегда загвоздка. Я бы упражнялся в падежах. Мне всегда видится Пятницкая улица, когда солдат с фронта за власть советов еще до анекдотов про кафе «Националь». Шутка Валентина Петровича, вы только не говорите Леониду Максимовичу{73}. Маятник качался все в ту же сторону: то подлинней, то покороче. Это правда. То мне вдруг ясны все комментарии со всех сторон, и тогда я свободно топчусь на месте, не без удовольствия повторяя зады написанных книг. То еще требуется что-то для равновесия. Что не поддается реестру, это верно. Как ехидство приходящих покупателей, когда нет сил просто стоять за прилавком. Да, было такое.
На этом можно, конечно, остановиться. Процитировал бы и дело с концом. А я все возвращаюсь без результата к поезду «Москва-Минводы», он шел тогда в Москву. Аччч оррр, вот именно. Ничего больше не скажешь.
Вот такие собеседники. Где-то были слова Александра Поупа. Их бы еще раз по-английски. Ушло все. Ушло без возврата. На этом пора ставить крест. Креститель-мститель Мечислав Мстиславович, неслышно его что-то, чи жив чи нет. Чи коегзистовач чи не енгзистовач{74}. Вопрос про козу: чи пуховая, чи чепуховая. Но она не поддержала шуточек на эту тему.
Ах да, радости галльской филологии: не 7 раз, а 9 раз и не у Тертулиана, а у Теренция. Кстати, не у Теренция Плавта. Тонкие мысли, чччоррр, да, весьма: вот Вы пишете «задница», а надо «срам». «Н.К.» — это, конечно, САМ Конрад, я так и понял. Резво написано, нельзя подписать именем академика.
Начать с того, что пометки нельзя было оставлять. Они выдавали тайны. Не очень-то, но все-таки. С пометками нельзя. С этого начались и новые взаимоотношения. В субботу разве достанешь. Следователь Комельо{75} по-русски. Зачем же так, не надо, я и так сделаю. Начать с того, что сбивало с толку. Странное было предприятие. Вот уже вражеские ритмы. Они вкрались, их уже незаметно, они будут бить по голове.
«Ты не волнуйся, береги здоровье, я все равно к тебе хорошо отношусь, и я рад за себя, что ты еще жив».
Вот какое письмо я получил.
Тут, конечно, ничего конкретного не было. Один запах, одно отчаяние. То, что нужно было преодолеть. Был еще один поворот, но я его не уловил.
Вот это и есть то самое нагромождение, которого я боялся.
Конечно, нехорошо, что и говорить. Откуда началось высокомерие. А оно все время присутствовало подспудно, иногда прорывалось, но всегда сдерживалось.
Пришел солдат с фронта.
ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА{76}
ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА
Вот что было важно. А разгадавшие загадку жизни всегда маячили на первом плане. Там ключевая фраза — «А вдруг в зад ударят православные»: для этого и написано.
Неприятные звуки, что и говорить.
Я уж не помню, к чему это относилось.
Выходил один ты на дорогу, и всю дорогу была только одна тревога. Дальше мысль обрывается, чтобы звучать значительней. Я выдумываю чужие заботы, конечно. Вроде 14 страниц без продолжения.
Собачий взвизг. Портняжные метафоры. Ты чего-нибудь понимаешь в этом деле? Немного языка, чуть побольше забот об архитектуре, но главное — интерес к музыке, самое удивительное из искусств. Проведи черту, заполни многоточия. Не понятен мне интерес. Я договорился не мешать чужому восприятию. Ну поехала. Уничтожать междометия нужно во всяком случае. Тот удивительный подход, который нам мерещился при освобожденном тщеславии, при затихшем честолюбии. Четыре письма не по адресу. Какая-то непонятная взволнованность по выдуманному поводу.
Легкий поворот в сторону французского языка. Разговор о сфинксах. Свинство явных сфинксов, упрямство мнимых. Все цитаты, цитаты. Слово «философия» уводило в фотографию с длинной бородой. Разумеется, приспособленность к еще чьим-то шагам в мире. Пока еще не заглохли звуки.
Непонятное дребезжание. Всходы другие. Иначе ложится копирка на шероховатую бумагу. Очень мешает карандаш. И еще одно замечание, от которого я воздержусь.
Потом все пошло иначе. Разве одного движения было недостаточно? Лексика мешала.
Запятую не успел поставить в одном месте. Все хорошо, только не успел поставить запятую.
Чем там вызвано, интересно. Ну конечно, удивительное остроумие. И начитанный человек при том. Есть, конечно, некоторые слабости. Приглупляет чужую точку зрения, но иначе как? Иначе своей не выскажешь. Нам поток бытовых деталей очень важен. Живи в моем мире, собака, хоть на 4 часа, но поживи. Подумай моим языком, может, пригодится. И он это всем читал вслух? А меня поражала осторожность. Именно продуманная целенаправленность на одного знакомого редактора из известного вам журнала. Впрочем, достаточно и для Армянского переулка. Кто это? Тут важно подчеркнуть математичность поэтического образа.
Я на этом еще не сосредоточился. У меня было другое наслоение из другого языка другой страны и другого характера. Жадность удивительная, она себя покажет. Был же такой период, ходили вокруг да около. Седина, военные метафоры, вы не знаете, с кем вы разговариваете и еще что-то насчет женской красоты на тюремный взгляд. Вот уже и нехорошо получается.
Узурпатор распорядился иначе. СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА не помог.
— А то они не дадут лодку.
Это сказал мой друг Сережка, и мы так и сделали. Вошли в трусах, с нас капала вода, мы, естественно, дрожали, а Сережка жалобным голосом передал ситуацию и попросил лодку. Через 5 минут мы, очень довольные, тащили весла, нам дали ключ от лодки учителя Карпова, мы ее отомкнули и гребли деловито на ту сторону озера.
Еще совсем недавно я видел Устинью Абрамовну и Дарью Федоровну на одной странице старого письма. Теперь это будет постоянно. Мне просто с этим нужно примириться.
Hold your hour and have another. You have time, nobody is waiting for you, you may sit down and drink one more cup of tea. I saw him through to the end. And I don't forget her words either, «You are so alike that one can be mistaken». Exactly!{77}
No great physical pleasure for either of us that night: it was too cold, I was too nervous, there was too much messing about with buttons and zips and straps{78}.
That's all. All the rest is in another book. Und ist ein wunderlich Kapitel. Just what I thought, exactly{79}.
Однажды был КРЕСТ НА Воздвиженке. Конечно, нарушение всей стилистики и даже характера, но все-таки. Тоже невпроворот. Т. е. нельзя провернуть. У моей мясорубки это не проворачивается.
Как только начинаются чужие звонки, так я начинаю вздрагивать. Нарушение стилистики, конечно.
— Я боюсь, они тебе не дадут закончить книгу.
Именно это было важно сказать — какое сегодня число? Я знаю день — сегодня, кажется, вторник (и не нужно звонить И БЕСПОКОИТЬ), но число все-таки? Если вторник, то 27 апреля 1971 года.
Ну что, вспомнить ужин у Киевского вокзала, что ли? Боже мой, с таким же успехом я могу вспомнить завтрак в буфете ИФЛИ{80} в день 8 декабря 1938 года. И написать письмо Симонову и Матусовскому.
«Бабы рязанские» или «Водоворот»{81} или что-нибудь страшное из первых театральных впечатлений или даже первый актерский успех при помощи буденовки с подозрительными следами на подкладке. Еще важней коричневая обложка сочинений Джека Лондона в 1930 году.
— Я люблю ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ, но еще больше «Вокруг света». Надо проверить таблицу выигрышей и купить тюбики с акварелью, пока он не уехал. Он уезжает и продает.
Вот это ОН УЕЗЖАЕТ И ПРОДАЕТ и было самым главным в эпоху великого переселения народов. Как вы к нам попали? По командировке. Зачем мне эти, я ведь по-немецки не читаю. Нет, вы оставьте у себя, это очень важно. И он махнул рукой и оставил.
ВЫЙДИ С ПЛОЩАДКИ!
Пришлось выйти. У волейбольной сетки опять шла классовая борьба.
Змея уползала с ужасом. За Далем Даль. Вот выйду на пенсию, буду писать юмористические рассказы. Сегодня отнесу медицинский детектив. Отошлю про «Тедди», ладно.
24.1.71{82}ТЕКСТ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ НЕ ПОПАЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, УВЫ
Где-то было в «Бесах» «но главное — своя собственная постановка себя в обстоятельствах эпохи» (надо найти). На тему «Не умеешь себя поставить!» Гнев по чужому поводу. И вся фразеология. Она себя так ставит. И умеет преподнести. Уж больно вы себя ставите. И что из себя вы ставите. И т. д.
Вот что получилось со «Странной жадностью» закованный смотрю за красную ВУаль и вижу берег и за Далем Даль. Как поживает М.Лютер НЕ-Кинг? Еще найти газету от 16 июля 1966 г.
— Чья это машинка?
— Не помню.
Он все, конечно, помнит, но делает вид. И «ТРЕТИЙ (раковый) КОРПУС» я не стал ему напоминать. Она такая чуткая, такая хрупкая, она так любит читать письма, и очень волновалась, пока не узнала от кого, она тебя боится, но узнав, что от тебя, почему-то успокоилась. Каким клеем? Пшеничным клейстером. Горячим столярным клеем. Слово «резиновый клей» с некоторых пор действует оскорбительно (наряду с роботом).
РЕЧЬ СУЛЛЫ рядом с разговором в очереди за стипендией. Это был Ождественский и кажется историк, но может и с русского цикла. Важно, что он сумел ответить на вопросы, и для наркома Бубнова это был голос ИФЛИ и даже всех новейших поколений, которым он обещал советский Оксфорд или Кембридж в 200 километрах от Москвы. А профессора поедут?
п е р е с т а н о в к а
Quel mystère! Quel poids étrange, lourd de mystère, qu'on pouvait tenir ainsi, doux et lourd, dans ses mains! C'était les racines, la racine de tout ce qui est beau, la racine primitive de toute beauté complète{83}.
Еще одна ПЕРЕСТАНОВКА.
Первая страница троцкистского романа никому ничего не говорила. Полковник крутил тетрадь и так и сяк, читал, перечитывал, потом все-таки отложил в сторону. Вот эти страницы со странной нумерацией и нужно взять.
С теперешней машинкой я не могу позволить себе такую роскошь. Заметил. В 2 раза медленнее. Это если не считать раздражения. Чем бы дитя ни тешилось. Странно, почему не берется то, что написано летом. Ритуал. При этом считается: я такая, а ты вот какой. Теперь ты понимаешь, в чем дело. Ну насчет ядерной гранаты я не скажу. Эффект чисто кинематографический: в кино для мальчишек это выглядит эффектно. С того и началось. Был такой текст, неприятно об этом подумать.
Рассказы, написанные 30 лет назад. Для колоссальности фигуры, что ли. Увы, печальное предприятие с одной стороны. Ни одного просвета. В той комнате я ничего не нашел. Чем же питалось остроумие? Это тот самый, который сказал те оскорбительные слова. Впрочем, шутовская сторона заразительна. Какой-нибудь другой одинокий мыслитель решит твою задачу, когда тебя не будет. Хотят удалить, хотят помешать. Разве серьезно силы бросаются в этом направлении?
Чуть-чуть нетуда. Я вот заложу цветной лист и буду печатать английские слова. До некоторой степени с некоторых пор активизируется нелепое слово. Впрочем, выглядит это не так уж плохо. Я забыл, что у меня выскочила скобка. Это верно, что каких-то вещей нехватало в другом смысле. Ты чертил незнакомый портрет, ты был счастлив.
Копирка плохая, ну это совсем не годится. Так же обстояло дело и с Айрис Мэрдок. Тебе не захотелось перечитать. Просто прочитать не захотелось, вот главное. Я сразу увидел, неинтересная книга. Хотя что делать с интересной книгой, кроме как читать ее вслух целый день с утра до вечера.
с бутылкой против танка
Вот сейчас я действительно попробую копирку. Засыпая я сразу шел дорогой к Дону на Низовскую пристань{84}. Очень редко дорогой к Тамбам. Еще реже трава и подход к первому озеру и все те картины, которые когда-то назывались «Озеро в жаркий день». Не в этом заключался РИТУАЛ. Ритуал был просто в машинке. Или если французские цитаты, то это назвалось ДИКТАНТ. И число стояло. Вот был ритуал. С аккуратным почерком все смешалось в доме Яблонских. Чем-то иначе мать моя родина. Чем-то иначе. Но спасибо успокоил, а то мне эти нервозные штуки у Дон Кихота очень не понравились. Не ахти какой защитник и вообще борец и конечно рыцарь, но зачем он так яростно лезет на танки в августе. С машиной можно бороться только сидя за рулем (другой одинаково мощной машины). С керосиновой бутылкой против танка — это геройство, но и самоубийство. Это подвиг камикадзе. Кстати, ЛЛИ{85} про «Легион самоубийц» и тактику Петруши Верховенского. Был такой тактический пункт у Нечаева, украден у Бакунина: в первой шеренге идут самоубийцы И ПРИКРЫВАЮТ.
была упомянута БЖВЧ
богатая жена вел. человека
Мне трудно говорить на эту тему.
произвело впечатление;
Оказывается я могу говорить по телеф. (в подпитии: «Я упился!» (А.Ц.)) под бут[ылку] мук[узани], осв[ещенную] солнцем
См. 6 стр. «Прощания».{86}
Братья Шайхеты: их было 4 брата, Борис Ефимов, Ефим Зозуля, Михаил Кольцов и только четвертый брат фотограф остался при своей фамилии{87}. Это информация владельца «победы». Ему лучше знать. И оскорбил он доброго монаха. Зима была. На снегу котенок играл с мышью. Низко пролетел самолет с черными крестами, но бомбы не сбросил. Ты подходил с другой стороны к этому зимнему пейзажу. А мы в бой пойдем. А мы презираем мороз. А вы можете лезть на печку, она горячая.
Раз уж она идет в этом направлении, пусть идет сознательно и навсегда. Там тоже имеет значение большими кусками. Скажем, 40 или лучше 60 страниц: что-то выглядывает из-под ХОДА МЫСЛИ независимо от тоски по ушедшей красоте и вульгарности напоминаний. Что-то совсем другое. Бесполезно говорить ему об этом. Ксенофоб останется ксенофобом. Его лучший телефонный друг тоже. Бывает и на старуху проруха. У Марселя Пруста периода Альбертины на этот счет выражались изысканней. 4.2.74
Достаточно поставить дату, чтобы убить интерес к пересмешнику и его «Словам в январе». Тут приходится говорить серьезно, по-деловому и без междометий. Если он деньги не получит в театре, то придет к закрытию магазина. Там перерыв с 2 до 3, так вот он постарается придти до двух. У нас в Стамбуле господин Вертинский начинал импровизацию под «Работу в движении» другими словами. «И я склонился над стаканом». И она склонилась ПОКА.
«Уберите от меня эту книгу». Смешной мальчик. Героическая личность. А за это время вот что опубликовано. Вот какие события. ОДИН КОСОЙ ГЛАЗ, но обязательно с полтинником 1922 года. Специально для Ираклия.
Странно, что пропорция стала привлекать. В этом смысле всякие «Гады» Брэма в старом издании.
Мы пошли и узнали: у них украли картину. У них переполох. Ходят бравые молодые сыщики, у них стало напряженно и весело.
14 лет — год пробивных способностей: тут пойдешь на подлог и на ложь, прибавить себе год, чтобы быть в рядах, потому что только в рядах — интересные события и завидная жизнь. В 15 лет легко сказать: паскудная провокация. Мы присматривались к этим титанам. Сначала нам захотелось под Матисса. Все они стилисты (из ССП или из КГБ): умеют отличать по свисту.
Свирепый жест у этой анаконды.
Ее больше всего оскорбило: человек не от мира сего, а тоже смеет судить и осуждать. Если одна «оргия в морге», то без рисунка. Под «любовь в Стамбуле». Старик — пустое место, осколок, окаменелость. Она еще выйдет замуж. А за молодым будущее и его во всяком случае можно понять, простить и извинить. Она ему нужна, как Бетховену образ Фиделио. Гад-искусствовед не должен вызывать симпатий, впрочем, он и не вызывает. Слишком много внимания требует и отнимает лучшие страницы, — это случайность. Тоже бывший абстракционист, теперь старший лейтенант.
Когда тебя затошнит от одной мысли. «А потом он принюхается и скажет что-нибудь ядовитое». «А у него по понедельникам? В карты играют!»
Он принял важное решение. Рассказ Бруно Ясенского «Форма носа» (1937). Тут же база курносых и фельетон Ильфа и Петрова о деборинских ошибках у Пети Крылова из 4 класса.
Они смеялись по своим причинам.
Я услышал смех, уже проходя к воде.
Как тот день на острове, когда кроме горячего солнца никого кругом не было.
Одна лежала засыпанная песком, а другая задумчиво сыпала горячий песок себе на колени. Я им что-то и кого-то напоминал.
Еще бы.
ОДИН АБЗАЦ
после 160 абзацев, конечно, а что делать?
179
Чем-то еще нужно было. Чем-то еще.
Закрепить плоды не удалось и в следующий раз пришлось начинать сначала. Было уже. Все было. И в таком виде. Какое к черту купание по-эстонски. Можно сказать, я штудировал 4 страницы из французского хроники 20-го столетия. Этих слов отыскивать я не буду. Еще 14 забот. Высохший источник. Ключ бил когда-то. Тут был родник. У самого края воды такой колодец и холодный светлый прозрачный ручей сбегал в теплую воду большой реки. (Это про станицу Казанскую, но еще ни слова про хутор Шумилин.) Это хотел бы проверить. Будем считать, что это тоже Чемордачка. (Замордовала она нам голову, это верно. Слово «Песковатка» — не то слово. В городе Франкфурт-на-Майне звучит дико, как вообще святая Русь и за Русь святую погибая.) Он был обижен, но промолчал и уехал в Болгарию. Там его ждала учительница, которая когда-то была княгиней. Это про хорунжего Кудинова из Вешек.
Горячий песок. Они мне строго сказали: «Не обижай нас». Я лег на песок и стал пожирать блины со сметаной, которой они меня угощали. «Чистый Пал Филиппыч. Ну вылитый Пал Филиппыч»{88}. Это они говорили потом, когда я ушел. Через 10 лет она удивилась: «Стал ниже».
Разные штуки, несовместимые по своему начертанию. Явно не то. Стремление похвальное, но вот что из него выходит. Хоть 20 раз попробуй. Объясни мне, что такое евгюбические надписи на 303 странице 1-го тома{89}. Рассказы о редких словах. Да, были такие. И все время насчет поклонников в «Национале». У них не спросили. Я тебе сейчас продиктую. Пошли их к черту. Это легко сделать. Просто не подходи и все. Размах. Мне всегда казалось, одного этого достаточно. Как было просто раньше. Это все нужно выбросить. Верно. Я так и сделаю. Такой чепухи еще не было. И все г. пританцовывают таким образом, научили их пританцовывать. Все не так. Все не так. Не такие там были слова.
Таким же путем все претворялось и дальше. Я напрасно остановился в поисках собеседников. Это была ошибка. Хватит. Но как ему сказать, этому Гречу?
Личные заботы романской филологии: не 7 раз, а 9 раз она уходила от них утомленная, но ненасытившаяся, это из Ювенала{90}. Но тут же и беспардонные опечатки, прямо для записной книжки раннего Ильфа.
Такое удивительное спокойствие в тот самый момент, когда кипят еще желанья и немного виноватого чувства, слегка похожего на задумчивую похвалу в забытый адрес, — очень трудно это выразить на обще-доступном языке. Важно, конечно, что она сказала такие слова. Значит были чувства в этом направлении, мимолетные, но были. В следующий раз такой же спич был построен на другую тему. Тут необходим широкий контекст.
Я пробовал восстановить. В том шалмане трое инвалидов, вот был интересный разговор. На собраньи целый день сидела, то голосовала, то врала. Как я от стыда не поседела? Как я от тоски не умерла. В подворотне с дворником курила, водку в забегаловке пила. Штрафники идут в разведку боем. Все полягут тут тихи{91}, вот были какие стихи. Это в районе «Кирпича» (1959 г. в «Отдыхе»).
В этом смысле пока до них дойдет, кто скрывался под несколькими псевдонимами, они будут ставить «Пока арба не перевернулась»{92}. Just for your information: I'm keeping you up to date. I keep you informed and you pay no attention, that's your mistake{93}.
ОНА HE АРЕСТОВАНА
And why should she be arrested? That is the question. It's up to you to answer it. You know better. For you it is not only the right, it is a duty. 2 times. A sacred duty{94}.
Поскольку ты сам не знаешь, каково направление мыслей «Хабаровского резидента»{95}, нет смысла на него намекать или его цитировать. Кому-нибудь может пригодится: на всякий случай. Такой теперь ритуал. Обречь себя на что-то определенное. Поэтому она и старается убежать из дома. Вы — это что-то определенное, вы это заметили? Но Вы здорово ей помогли, когда ей было трудно. Она и теперь помнит. Она и сейчас готова вас защищать. Вы слышите, как она вас защищает? Но это почему-то новый вариант. Я про Пушкина до сих пор не слышал. Впрочем, онегинская линия — тогда логично. А в тот раз была другая формулировка: вместо Пушкина было сказано «пишет лучше всех».
К 100-летию со дня рождения В.Гаевского.
«Думала — Пушкин, оказалось — Винтовкер».
Впрочем, она вышла замуж за грузина. А он в пику кому-то уже член-кор. У нее девочка, а не мальчик, и живет она тоже в том же районе.
Каким способом разговор о рыбе попал под «Красный телефон», об этом нужно спросить Голубые Шорты. Кстати, с тех пор его по всем известным местам я не встречал нигде. Это было в год выхода однотомника Пастернака{96} и проблемой было — а кто скрывается под псевдонимом Абрам Терц? Одно время было такое объяснение — их было трое, поэтому и Терц.
Усталая собака ни на шаг не отставала от задних колес. Она же сказала, что ей евреи надоели. И он тоже оказался еврей, но поскольку ученый и родом с Кавказа, то все его считают грузином. Родной язык у него грузинский и все тосты на академических попойках он говорит витиевато и по-грузински. Работа под Шодерло де Лякло на этом не кончилась. Но он уже забыл, что когда-то в чьих-то глазах он тоже был как виконт де Вальмон.
— У тебя одно на уме.
— Но я буду рисовать поясной портрет.
Разговор по телефону, актуальный для четырех человек на Комсомольском проспекте, не цитировался. Циркачка на Селигере распугала всю рыбу. Во всяком случае, отбила охоту рыбалить.
Мелькнул лохматый чичисбей. Но мы ошиблись. Во-первых, он ее верный рыцарь, во-вторых, родственник, ну и самое главное, конечно, — он умер. Именно про него говорили «тунеядец выдавал себя за поэта». В Ленинграде так говорили о Бродском, в Москве о Галанскове, в Минске о Горячеве, в Ростове о Москвичеве и Антонникове. Я цитировал К.Улак Урта. Что такое слава. Иногда нехватало одного слова на английской машинке. Она не арестована.
Рассказ про бутылки с молоком: как отец учил ребенка красть у молочника бутылки с молоком для больной мамы. Умению нечитать или пробрасывать неинтересное — сам научил, сам же теперь и страдаешь от этого. Если я возьму «Красный телефон», там почти все есть. А про двух поэтов и стихи про колхозы — в «Первой комнате». Разборчиво написанные слова — если они контекст, тогда конечно. Иногда они помогают прояснить сказанное. Но не настолько, чтобы их вынести из ритуала в самостоятельное сочинение. Вместе с тем, дайджест по «Холостому заряду» напоминает старую статью о Фолкнере еще когда он был жив. Два слова — зубной врач или Фрунзенская набережная — могут испортить настроение на целый день. Открыть и прочитать вслух как «Волны» или как «Поэму конца». Без всяких сверхзадач — найти и прочитать. Кое-что выписать или отметить карандашом. Или стереть отметки в конце концов. В очереди за стипендией он меня спрашивал:
— Еще что говорил Марциал?
Тут же в такой же очереди нарком Бубнов спрашивал у кого-то о причинах отказа Суллы от диктатуры. Такой чернявый с истфака ему что-то отвечал. Это мне рассказывали, сам я это не слышал. Я бы запомнил. Еще бы. Фотография не с комсомольским прошлым, это он ошибся. Ему так надо было извратить и перекарежить, чтобы смешнее было, по его мнению. Нет, вы все-таки возвратите фотографии. Переводчик Франца Кафки будет переводить Франца Кафку. Породнились. Объевреился или что-нибудь такое. Но каково внутреннее нахальство: «Кто-то повлиял». Он себе и представить не может, что кроме его рассуждений у его собеседника могут быть и свои. Если из вежливости промолчишь, он считает: ты с ним согласен. Он тебя переубедил или повлиял. Один разговор в «Праге» осенью 1938 года.
Длинный рассказ на кухне для другого воюющего автаркического государства:
— Такое предложение я уже получил еще раз.
Тут трудно остановиться. Тут как раз тот случай когда не лучшая награда для солдата. Но между прочим уже 14 месяцев спустя можно заметить как бы про второй телескоп у знаменитого поэта-переводчика, который собирался переводить стихи товарища Сталина{97}.
Вот гад взял и бросил хорошую женщину. А кто он? А что это — Прага? Это Чехословакия. Я понимаю, что не ресторан, но кто все-таки? Бледные строфы и косноязычие сравниваются интонациями чтения вслух. Это не показательно. Из этого нельзя делать выводы. Это как «более чем средние литературные способности» (имя этого гада противно говорить вслух; имя им — Легион). Самое время процитировать одно словечко из последней книги Бернарда Шоу. Что-то вроде «самохамовластие» — blackguardocracy.
Это остроумно? Exactly and why not?{98}
Нас сбили с толку, но мы попробуем возвратиться при помощи «Второго рождения».
— Прибой как вафли их печет{99}, — читал скелет в Изоляторе. Потом удивился, услышав «В конце января»:
— Я не знал, что проза может звучать как стихи.
— Об этом не сказала одна из ваших радиостанций, — в меру съиронизировал я. Он обиделся и замолк на полчаса.
А.Леонтьев чаще всего про «вакансию поэта».
Бледный худой поэт, на щеках которого горели красные пятна, говорил долго и доверительно. С ним нельзя было не согласиться, хотя эстетическая теория Белинского громила такие стихи и не позволяла считать их настоящей поэзией. «Частная жизнь» и Абрам Кузнецов в читальном зале на втором этаже.
Можно строчки выхватывать. Когда-то было интересное занятие. У вас в Стамбуле{100} зима была другая. И тут же проверяет сумки. Ничем не лучше. Выходит, что это давно перестало быть творческой процедурой. Машинка, к сожалению, создает иллюзию законченного текста. Листочки крохотного формата хороши для цитат перед тем, как их использовать.
В начале февраля, достав чернил и лучшей бумаги, хорошо плакать навзрыд. Овеянные чужими рассуждениями, хорошо читаются старые книги из библиотеки. Нам некуда больше спешить. Вам в «Иллюзионе» делать нечего. Мне не понравился шерсти клок.
Она ведет себя как героиня Ремарка. Ах ее, видите ли, не любят. Ах на нее клевещут сплетники и пасквилянты. Она этого не может перенести. Говорите о ней только хорошее, иначе она будет кусаться. Но все так же в века мудрость древнюю силы несут корпуса кораблей. Как будто бы достаточно для такой оценки. Мне не пригодилось.
Annamaria undressed in a swoop. Pumping slowly he nailed her to her cross. Why try to solve a problem? Dissolve it! Fear not to be coward, a traitor, a renegade. In this respect you can quote children's conversation. In this i. universe of ours there is room for all, perhaps even need for all{101}.
Кто-то мне сказал, что я, работая в магазине, больше понимал людей, занятых долгими заботами. Это прозвучало как упрек. Можно подумать, я живу в Швейцарии и у меня нет других забот. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
Загляни, ты увидишь. У нас теперь другой разворот.
Казалось бы, чрезмерное внимание. Нет. Тут просто такая бумага.
Она скользит и это плохо.
Забавные повороты мешали в другом смысле. Они создавали впечатление продолжения в другом направлении. Она же его устроила. Он бы без нее ни за что не возвратился. Как же он может. Он еще не такие вещи проделывал, но об этом не надо вспоминать. Например «Эй ты, Есенин!» Он тоже сложный человек и даже, можно сказать, амбивалентная индивидуальность. И Песталоцци к этому руку приложил. Началось все-таки с цитаты из «Счастливчика Джима».
— А вот ножи для убийц! Кому ножи для убийц?
Улица была как буря. «Ты ли нагадала и напела, ведьма древней русской маяты?»{102}
But I don't share his opinion of himself. I do not agree, for instance, that he is a philosopher, or a thinker. He is cunt-struck, that's all{103}.
— Моя система называется иронический функционализм.
Видали?
Отыскался след Тарасов. У меня куда-то исчезли объяснения на открытых письмах. Это она Стравинского видела? Собака. Кругом нас рать мыслителей. Вокруг нас рать теоретиков. А этот даже 4-ю книгу выпускает. 10 лет спустя после «Одного дня Леонида Израилевича». Лиходеев его помнит: «Как же, как же, приходил ко мне». Он имел в виду «Литературную газету» на Цветном бульваре. А я имел в виду в первом Обыденском переулке. Во втором, чтобы быть точней.
But I like this «dissolve it». Just for the sake of European conversation it's splendid{104}.
Тут можно цитировать «Хабаровского резидента». Был разговор о светском разговоре. До сих пор жалею, что Дорошевич не читал «Она не арестована». Подлый поступок заключается в том, что если его объяснить, то придется ссориться. Лучше промолчать и забыть. О ком-то еще она готова опубликовывать и показывать, а о себе, видите ли, «я вам простила и не такое». Помню. В этом все и дело. Нужно сказать одну фразу. Трудно сказать одну фразу по другому телефону, но придется. Я бы не хотел, чтобы он защищал меня. Это меня будет связывать. Я с трудом смог наскрести доказательств того, на основании чего можно сказать «Пижоны, не смогли оценить таких достоинств». Впрочем, даже от Алика я не получил информации по существу. Это неинтересно. Я и сам могу догадаться или придумать лучше. На этот счет Феликс Круль правильно сказал:
— Ни одного слова от этого теоретика мы не слышали. Хоть бы сказал что-нибудь, чтобы поддержать свою репутацию оригинального мыслителя.
Впрочем, это надо от автора. Не Анатоль Франс. В глазах одной девочки он может как Бердяев или Питирим Сорокин, но целый день мрачно молчал и ничего от него не услышали. А тут шло состязание умов и даже остроумий и вдруг такое. Там был просто ерник и молодой, совсем дитя, чем и объяснялась привлекательность. На старости лет потянуло на младенцев. Возможно, «Трава пробивается сквозь асфальт». Но тоже уезжает или, по крайней мере, декларирует уезд. «Левой рукой все преступники пишут одинаково». Мнения синьора Убипатриа не спросили.
Да, кстати, как у него с женой агрономшей и бритвой? Видимо, уже все в порядке. Другой шеф, другая агрономша, другие проблемы. «Со лжами».
В этом театре он не народный артист. Тут простой визит требует напряжения. Если там было рассказано 120 анекдотов, то неудивительно, что незаметно наступило утро. Всю ночь сидел и рассказывал. В том шалмане ДВОЕ инвалидов, а она была третья. Правильное объяснение, спасибо за информацию. Ему же важно было показать свои картины. Разумеется, он был обижен. Мальчик из Пензы. Для маскировки и для рифмы она его назвала мальчиком из Перми. Там я знаю каждое дерево в лесу и каждый поворот на дороге. 2 года ходил и в том возрасте, когда все это запоминается на всю жизнь. Трудно теперь себе представить страх перед композитором из большого города. Прямо как будто к Бетховену собирался. Причем к тому Бетховену, который уже окружен шумом, громом славы через 100 лет. Шекспир в свое время был настолько неизвестный драматург, что никто с ним и не считался. Нет, какие-то другие грани. Коротко будут называть «Респуктобельные грани», потому что много опечаток. Великий поэт произвел впечатление неграмотного человека. Б.Слуцкий: «Я еще без поправок эту книгу издам». Была надежда. Ю.Айхенвальд: «Мои книги не увидят света». В этом смысле роман без вранья — как слава А.Мариенгофа для Ю.К.Олеши. Опять перепутали фамилию. Первая часть жизни генерала Бонапарта была посвящена постоянным напоминаниям — не Буонапарте, а Бонапарт. И не корсиканец, а француз. Я сразу почувствовал себя ирландцем.
О своей Ирландии он с горечью сказал: «Продал бы, но никто не покупает». Сами ирландцы почему-то называют — Джембо Джойс. Ну им лучше знать. Что такое «Оклахома»{105}, это еще нужно выяснить.
Мне его способ припоминания не нравится. А ты вспоминай своим способом. А тебя никто не заставляет. Уйдут все эти заботы, как слова о почерке, о бумаге, о том, какое сегодня число. Кстати, туда же относится и такое замечание, что рядом с чем нужно читать. Противно слушать. Такой неприятный запах.
— Он для меня все сделает.
Рядом с «Нотами» на Неглинной. Вот как раз у лаборанта и были возможности не только этим интересоваться, но и записать. Все смотрели в будущее, а он глядел в прошлое. Не такое уж большое сочинение, но подводило итоги тоже. Почему-то тоже считалось 4000 страниц. Страниц общей тетради, исписанных мелким бисерным почерком — да. А вот какое было основание для уничтожения «Литературных тетрадей», теперь абсолютно непонятно. Видимо, действовал принцип «покороче». «А мне что — паки, паки, да?» На самом деле понятней слово «паче»: тем паче! Но они всю жизнь говорили «Паки! Паки!» и только так их надо цитировать. Джакомо Темпаче — итальянский композитор. Даже игра в великих людей в 49-й комнате не обходилась без классовой борьбы. Краснов — не великий человек. Давай другую фамилию. Какой Врангель? Барон. Они оба барона. Ладно, одного возьмем.
Потом я заглянул в третий угол. Я избежал все-таки одной ошибки — да, но радости от того мало. Есть там кое-что: не поддается соединению. Нарушение самостоятельного плавания — да. Ничего кроме отвращения к переплетам синего цвета — да. Такой корабль — почти бригантина. Бригадный генерал поморщился: «Куда девалась Гертруда Стайн 1943 года?» Ее заляпал грязью доцент Кашкин, но она видала еще и не такое. Нам не страшна Вирджиния Вульф.
«Тексты и поводы для текстов» — для книжного человека, конечно, важней, чем полемика с журналистом, получающим самый высокий гонорар за строчку репортажа, хотя ему важней иметь репутацию коротко пишущего человека. А еще важней — легенда о храбром мужчине. Тут мисс Ротшильд{106} — самый главный враг и клеветник и пасквилянт: она подрывала репутацию великого писателя и храброго человека. Сильвия Бийч этому не верила: «Завистников много, всегда много завистников».
Ожидание тайного удара в плавательном бассейне давно кончилось. На даче живут чужие люди. Читатель немецких книг о природе умер. У меня телефонов других номера, я тоже не хочу умирать, но два слова сказать некому. Нет у меня таких телефонов. Это как в троллейбусе, омываемом водой возле ресторана «Узбекистан» в день наводнения на Неглинной. Лодку нужно вызвать. А я могу только позвонить домой, но зачем? Зачем так рисковать. Зачем такие жертвы. Кроме того, действительно нужно снимать штаны. Они в трусах подходят к телефонной будке. А я могу заработать радикулит до конца жизни. Но самое главное — если еще 45 минут, мне придется. Тут уж ничего не поделаешь. Это можно сделать просто. Зайти по пояс в воду и сделать вид. Да. Так и придется сделать.
Единственный удовлетворенный зритель — это клевета на Жванецкого. Почему-то нет клеветы на Настроева{107}. Их там трое, поэтому легко кивать с Ивана на Петра. Перейди на попа Федота, с попа Федота на Якова, с Якова на всякого. Я так и сделал. Но меня обманули в магазине.
Tragicomical. «Tragi» for you, comical for everybody else. And what I told you?{108}
Just the way to do it. To collect all quotations which prove — the scale of scolding and blaspheming is unlimited. But TWENTY GOOD WORDS are difficult to be found. And what I told you?{109}
ОНА HE АРЕСТОВАНА
Еще одна цитата из «Ламмермурской невесты» и как будто бы всё. Можно не полемизировать с Вагнером{110}.
The legitimate assertion of personal dignity — just what Boris Shalypin was doing, of course. Not yesterday that was begun, not tomorrow it will be ended{111}.
Разумеется мура такая. Приблизительно так было с текстом для разрезки. И «Озеро в жаркий день» приятно вспомнить на морозе. Тут были странные заскоки.
«Но тогда и конец был бы другой».
Да, тогда бы и разговора не было. Насколько матушка Филология не помогла. Дайте ему денег и он будет разъезжать по Москве на такси, как будто в этом ритуал. «Четвертая проза» настолько прочно усвоена, что Мандельштам вошел в наш быт. Мы его не замечаем. Насколько филологи и теоретики декабристы были не мушкетеры, об этом уже в романе Александра Дюма 10 лет спустя все сказано. Может быть, 30 страниц уже ушли в этом направлении. Удивляюсь его отношению к французам. Когда я об этом говорил в кафе, он — ноль внимания. Не его идея.
THE INSTRUMENT{112}
by
John O'Hara
1967
p.49 «He's a writer. I can't write worth a shit, but I'm a press agent. Tell him what chutzpa is, Ellis».
«What you got plenty of», said Ellis Walton.
«What you got none of, Yank. Coupled with imagination, a different imagination than the one you got, Yank».
«How do you spell that word?» said Yank Lucas.
«Chutzpa? How would you spell chutzpa, Ellis? I wouldn't know how to go about spelling it. It isn't a word you write, it's a word you say, like in a conversation. Why do you want to know how you spell it?»
«I like to know how to spell things», said Yank Lucas.
«No, you don't want to infringe on Clifford Odets. That's his territory», said Sid Margoll{113}.
p.244 «Those women that watch bullfights. Something like that. When
I kissed you I was hoping I'd come, but I didn't. I can't come from just kissing any more»{114}.
p.206 «The second day after we were back in New York he had a cinq-à-sept with one of my bridesmaids».
«A what?»
«The sophisticated playwright. An afternoon lay», she said{115}.
«На грани острой»{116} — он это услышал на иврите в телефонном разговоре еще когда? Он думал, что это вольный перевод «в круге первом». Но разговор записан, он может документально подтвердить. Сухое вино заливается кофе, это по привычке. Турки кофе по-турецки запивают холодной водой. «Матэ» у него на каждом шагу — это как самодельный калужский квас. Но они в Москве не знают, какой квас на самом деле варят в Калуге. Это совсем другой напиток. Кроме того, он дорого обходится. Т. е. не так дорого, но его долго нужно варить и пьют его как деликатес и в небольших количествах. Как рассол с похмелья на второй день после водки.
Кожухи молчат. Кожевники ни слова. Ковтюх не сообщил: может он под псевдонимом — Кожух и вот почему он такой храбрый: надеется, что не скоро узнают. В конце концов, до сих пор не известно, кто из московских писателей опубликовал роман «Мнимые величины» под псевдонимом Н.Нароков{117}. Не дошла очередь. Что вы, что вы, у них пленки мало. У них другие инструкции. Так трудно стало работать. У них так мало возможностей. Если один из двух злодеев{118} что скажет, то сразу все средства массовой коммуникации бьют по черепу со всех сторон. А если они что хорошее по части демократизации — например, В.Максимова пустили в Париж — так об этом никто не знает. Несправедливо.
Вот куда сработал «Ассирийский словарь».
Мне противно туда заходить, а то я давно бы мог пополнить себе кинематографическую библиотеку. В конце концов, лучше, чем прозябать со старыми вырезками из Нины Хиббин{119}.
Strange that a few kisses and clumsy caresses should make such a difference. «And why did he stop make passes». That was the question. The word was «kadrizza». Why did he ceased to kadrizza? His wife was jealous{120}.
еще два слова про кинотеатр ВЕЛИКАН
Осталось на другом формате. Для другого читателя это было откровением, как книга Хулио Кортасара. Что он Раблэ аргентинской литературы, — невероятно. Слыхали, но не поверили. Таковы особенности московского издания{121}.
Придется делать как-то иначе. Что-то другое должно придти на смену. Другие напевы, сменив, не заменили вас, еврейские мелодии.
Я не мог сказать про РИТМЫ САКСОФОНА. 6 лет долбежки: зэке (6 по-немецки), сикс, секс, сакс.
Загадка, мистерия, тайна, головоломка — в таком порядке он говорил о России. Он сказал: не могу предсказать вам, как будет действовать Россия, эта загадочная страна.
121-я страница из романа Агаты Кристи «Большая четверка»{122}. Впрочем, это про платеж огромной суммы, а про китайца — где-то еще.
Ты же тоже не можешь сказать: «Мне неинтересно знать, что обо мне говорят в КГБ». А ты можешь сообщить? Могу. Правда с оговоркой: не из первоисточника, в пересказе, из четвертых рук, но можно поверить по существу. Так вот они теперь больше не верят в твои 100 дней. Я тебе поднял такую репутацию в 1958 году, что даже они поверили. Но годы летят, ты лысеешь, силы ушли на 100 ночей, теперь даже они сомневаются, что у тебя когда-нибудь будут 100 дней.
— Пусть сажают, тогда и буду разговаривать.
Не надо так про нее, а то она обидится и уедет в Израиль.
Опять точка зрения одной пионервожатой двух средних школ Москворецкого района.
СЛОПАЛА-ТАКИ ПОГАНАЯ ГУГНИВАЯ МАТУШКА РОССИЯ, КАК ЧУШКА СВОЕГО ПОРОСЕНКА
А.Блок(в письме Чуковскому из 8-го тома на 537 стр.)
УДОЧКУ нельзя никому. Каждый сам себе доносчик и спасибо говорит. Иначе не будет ловиться рыба. Непонятно откуда.
Теперь я вижу, что это ТАБУ.
Такая классификация просторов интонации при чтении вслух. Быстро. Медленно. Это нужно прокричать во весь голос. А это шопотом тихо на ухо. А это вообще читать вслух невозможно. Это как семь цветов радуги. Желтый переплет синего цвета с черными буквами — да. Нужен фразеологический словарь и шпаргалки указателя к словарю. Тут хотя бы [с] цитатами был порядок.
Огромная труба, из которой звучал голос. Я заглянул туда внутрь, как будто бы надеясь увидеть там хоть маленького человечка. Это называется граммофон. А внутри трубы ничего нет, а голос на самом деле записан на пластинке, которая крутится. Он у нас стоял в сарае, а потом у нас его забрали. Это он был у нас на хранении. Это они оставили, уйдя в «отступление». А кто именно — я так до сих пор и не знаю. Если при ней, значит мне было 3 или 4 года.
Расходов было много. Иначе проворачивался процесс припоминания. Я лучше про то, как ночью при свете керосиновой лампы, оставшись один, испытывал ужас, когда читал «Вий». Они ушли и оставили меня одного. А у меня была книга, и я ее читал с ужасом и удовольствием.
Я закинул удочку, клюнуло, поймал. Я закинул удочку, клюнуло, поймал. Почему 5 раз повторяется одно и то же? Потому что я поймал 5 рыбок. Аксаков шрифтом Гослитиздата действует по-другому, хотя я знаю, что сокращать и редактировать там нечего. Я хочу еще раз увидеть тоненькую книжку с названием «15 минут ежедневно для здоровья». Мало. Я буду 45 минут ежедневно. Буду в три раза более здоровым.
Очень часто читатель думает: «гений» и 22 «богини» с точки зрения американского подростка, перед которым герой Сэлинджера — гигант и мыслитель. А это болтун с единственным разговором и одной точкой зрения: в уборной среди мальчишек в 11 лет всегда такие разговоры. А этому 8 лет и он еще никогда не слышал, а кроме того, это же очень важно и интересно. От него скрывают. Можно сказать, тайну жизни и секрет вселенной, а он должен все знать и тяжкий путь к познанию мира только начинается.
«Инструмент», роман Джона О'Хары — действительно «театральный роман» с Брода.
28.3.74Четверг тоже в конце марта. Ладно, хорошо, что прислали что обещали. Зачем я буду бриться, когда мне нужно идти в парикмахерскую? Тут можно не ставить вопросительного знака.
«Шпион, которого я любила» — очень часто приходится вспоминать. И возле Дома ученых и возле Дома актера и возле всяких журналистов. С моей ТОЧКИ она нехорошая. Эстонская колбаса. Пасека спасена. Сады отошли в колхоз. Сливы погибли. За ними же нужно ухаживать. Два Стога остались. Они по легенде с Запорожской Сечи или с печенегов, а вероятнее всего с Силурийского периода Кайнозойской эры.
Кайнозойские воды Лукоморья питали сазанов, пока они не стали дохнуть. Я ведь о нем не знаю трех самых главных вещей.
1 — чего он боится? 2 — кого он ненавидит больше всех? И 3 — его любимые анекдоты. Над чем он смеется с такой готовностью? Его шуточки. Такой юмор.
Он усвоил в 9 классе на частных уроках языка еще до «Високосного года»{123} и Смоктуновского, но он не помнит. Шелли для него — это совсем в другом плане. Кроме того, ему нельзя позвонить. Грани алмаза, ум Спинозы. Где-то была такая сторона.
Когда приходится работать на роман «Прокофьев».
А меня волнует Нарышкинской проезд. Такси тут стоит одну секунду, но за эту секунду я всю ТОЧКУ С ЗАПЯТОЙ проворачиваю через новый мир и старых друзей.
Не врут календари. Не каждой бочке затычка. Не уход в каждый день. Не спешу и падаю. Не слово об учителе. Не самая красивая женщина в троллейбусе. Не заметили, под кого работает Эрика. ЭРИК Неизвестный подарил нам «Преступление и наказание». Эрикционер не в курсе. Была трава, трава пробивалась сквозь асфальт. Была работа с клеем и ножницами, теперь все позабыто, позаброшено.
Ладно.
Был такой, как же, как же, отлично помню. Мы еще тогда спускались вниз в «Праге», просто спешили вниз по лестнице, и она хохотала, а вокруг сидели сотрудники военного трибунала МВО и редакции журнала «Москва». Тут не ошибешься. Если это про Гогу, так он сам об этом иначе. Бледная копия на рассвете. Один раз промелькнул странный репортаж о бактериологическом оружии, было любопытно увидеть знакомую фамилию. Ваши знаменитые знакомые один раз в неделю.
Это интересно для ПФС{124}. 76-й абзац и дальше в переплет не лезет, как и вообще в любые ворота. Каждой затычке бочка тоже. По всем страницам рыболовной книги только польские имена, еще ложь и грусть. Это несомненно. Я помню, как лилась холодная вода на рыцаря, который за оруженосца был готов и в огонь и в воду. Правда, уже тогда было «Он — нарциссист», и дальше все по только что услышанной цитате, кажется, из Н.Мэйлера.
Но полковник финансовой службы этого читать не будет, пока на черном рынке не будут спрашивать с него 100 рублей.
Человек из трибунала и человек из легенды теоретически могли встретиться в «Праге». Такое бывает только в романах Достоевского. Практически и в журнале «Москва» на Арбате тот же разговор. Якобы недостоверная достоверность. «Горпожакс»{125} они не упоминали, а чего там, Сан Скерцович, давным-давно. О Киме Филби запрос в парламенте.
У того разговора с «Возвращением Василия Бортникова»{126} нехватало линии «для мужиков»: германская вежливость — это жена рассказывала, а вот германские женщины — он при ней ограничивался междометиями. И вообще германский плен — для него не юмор, не в тот момент я попал к нему. Ему грозили. Его упрекали. Ему сказали, что дело еще дойдет. Так не обойдется. Впрочем, все мальчишеские версии я знаю наизусть. Есть письма в приложении к «Айн Оффенес Ворт»{127}.
В «Дерзкий незнакомец» это попало случайно.
— Из опыта или по-наслышке?
На этот вопрос он, немного изменившись в лице, серьезно ответил.
— Протэз?
— Процесса не было.
Падение Парижа было, видимо, в начале мая. Мы привыкли: знание — это хорошо. С ним лично — нет.
— Но я же не перехожу на личности!
— Но вы оскорбляете идею!
И даже идеалы и прямо в лицо идеалисту.
Кондотьер — это наемный полководец. Не браво — наемный убийца и не ландскнехт — наемный солдат, а именно полководец. Начальник дружины викингов, а сами они могут быть и не викинги. У русского царя в чертогах есть палата.
Очертанья чертога в черный четверг были другие. А кто протащил В. в п.?{128} Вот ты, как твоя фамилия?
Кторов! Или Массальский. Когда они вдвоем, я точно знаю. Конечно, профессор Массальский. Этого не узнал. Кроме того, у него такая стремительная походка и свирепый вид, что не похож на Володю Заманского. Заманский конечно.
Всякую ерунду приходится загонять в 43 страницы. На самом деле надо переписать «Японский транзистор», а все остальное сократить и не распространяться. А все остальное отправить в РИТУАЛ.
Четверг 23 марта.Мы кажется идем в театр.
Ну[жно] ч[итать] про — себя — тихо{129}
Я копировал. Я переводил с языка радости на язык чужих слов. Нужен совершенно другой язык. Тебе приходилось замечать. В другом месте на большом формате два слова для другого человека. Как мало от нас осталось. Тебя там нет. Меня там нет. Там нет ни слова о нас с тобой. Я ехал на этом трамвае. Эти имена ничего не значат. Какой-то другой язык. Неужели самое интересное — цитаты из чужой книги? Странное впечатление. Я не сижу, я не порчу, я не размахиваю. Чем дальше сегодня, тем хуже будет завтра. Пустое место на первый взгляд. Я напишу 14 страниц. Не приходило в голову то соображение, что кое-что все-таки и тут осталось для читателя неизвестным. Отредактировано. У автора не спросили. Законченность такого звука. Потом два слова о лексике. Ты был голодный, ты шел в столовую, после столовой ты становился другим человеком. Не было такого. В таком эпизоде скрывать было нечего. А он остался жив? У кого можно спросить? Если есть название улицы, то вспомнишь номер трамвая. Ты напишешь потом письмо, тебе не ответят. Я когда-то из этого ящика извлекал слова. Это происходило таким образом. Звуки оттуда, кусок бумаги на столе, и я записываю слова, которые могут пригодиться. Слова из ящика похожи на слова старой газеты, если она интересна. Вот вырезка. Тут все есть, можешь не стараться, тут даже лучше. Трудно поверить. В каких отношениях такие клочки находились с готовыми словами из книги? Можно было просто брать слова из книги. Но там были имена. Там были другие имена. Будут схожи лица. Как только эти три слова, так сразу поворот. Звуки были удивительные. Просто нечего было сказать, а сказать что-то надо было. Меня там больше не будет.
«П. ч.»{130}Из ящика будут звуки. Я не хочу звуков. Пусть будет тихо. Иначе все это происходило. Иначе. Все слова надо выбросить. А ты не смотри. А я не буду обращать внимания. Мало того. Мало того. Много было всякой всячины. Песни не получилось. Я не хочу. Я не хочу. Грубость. Таким же путем. Пусть будет «Ритуал». Не поднимешь, не поймешь. Я когда-то писал диктант. Шпаргалки помогали. Когда их стало много, они стали мешать. Таких слов не употреблял. Потом вдруг показалось. Потом исчезло. Нет, это еще не все события. Про какие-то узлы. Потом пятый угол. Я считал пятым углом — куда не засматривал. Описание мятели. Последний номер журнала. Он тоже не помнит. Отчетливо «не то». Такой голос. Непонятно царапает. Я буду бояться новых царапин. Была без радостей любовь. Вот странное сочинение. Где у него конец, где начало? Как-то иначе все происходило. Как-то иначе. Ходишь у развалин крепости. Прошел мимо развалин. Тут была дорога на эшафот. Какие слова. Любым способом возвратить. Не хотел сказать «панцирь черепахи». Выбрасывать слова. Не было там ничего такого. На любой странице можно остановиться. Ты попал в переплет, ты нам больше не нужен. Уже такие слова. Я не знаю, зачем это нужно было. Такими вещами можно не заниматься. Вот еще как. Ни один из этих подходов не давал продолжения. Я смотрел на белую бумагу с надеждой. Вот это слово я и хотел найти. Разные способы отметить одно и то же. Плетеное кресло. Вот какое слово давно не употреблялось.
С угрюмым остервенением долбил одно и то же. Как отличить красноперку от плотвы, это просто. Вот как отличить плотву от красноперки, когда обе в озере, это трудней. Такой переплет тоже заморачивал голову. Пришлось покинуть. Не так резко.
Несколько раз подлетал к обреченному дому и каждый раз с той стороны. И каждый раз из школы, чтобы сразу же окунуться в другие занятия. Целый день катались на коньках, ноги болели на другой день. Прямо больно ногам было шагать, когда надо было идти в школу. Дело Домановых. Обложка журнала «Всемирный следопыт».
And his principal pleasure in life was denying robustly anything that anyone else said. It wasn't going to be easy. She had one weapon and one weapon only, and that was conversation{131}.
Жутко было интересно когда-то, я потом 5 лет только об этом и рассказывал. Разумеется, через 5 лет у нас появились другие источники. Через 10 лет тот же анекдот повторялся в новой аранжировке. На старой пожелтевшей бумаге «а эрудиция от Эдиты Пьехи до иди ты в» звучала как натяжка, потому что в 55 г. никто не знал Эдиту Пьеху. Тогда была Ружена Сикора.
Церковная кружка висела рядом с почтовым ящиком, и была остроумная надпись и о ней веселый рассказ в кафе «Один раз он был и у баронессы Фридэ». Один раз он всюду был. Там судебная хроника не зафиксирована. Французский текст не прочитан, оставлен на потом. На даче не было таких книг. У меня с ним был один разговор, а дружбы не было. Один раз был хорошо переписан, но почему-то с другим началом. Слишком большое значение придавалось началу и вообще монтажу и нумерации страниц. Иногда воспринимается как другой текст.
SNAKED APE Snake — naked — ape; the snake of a naked ape; sex starved cobra; some creature syncretic{132}
Мисс Снэй Кидэйп — чтобы звучало «змея», «голая» и «обезьяна» — это точно, но мало интересно для историка. Чтобы повторялось что-нибудь 125 раз вроде доктор Литвинов, доктор Эн. Эвлер-Мор{133}. Если 1416 раз повторить «граф Алексей Толстой», то забудут слова Бунина «но никто не видел графа Николая Толстого»{134}.
Перевод одной страницы Агаты Кристи «От себя не убежишь» или «Дуньку ожидает Европа» (ждет не дождется). Совершенно твердые понятия: «мэйл шовинист пиг» или «коншиэншес обжектерс»{135}.
ОНА НЕ АРЕСТОВАНА
That all about the syncretic creature by the name of Miss Snay Kid-Ape. She was known also by the name of Maria Chuana{136}.
Наши мамы 100 лет спустя
ОНА НЕ АРЕСТОВАНА
Это как про «когда пойдут на Запад поезда»{137}. На вокзале об этом ни слова.
Just what I told you.
БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА
p.21 from «Destination
Unknown»{138}.
20.3.74
Было в этом направлении. 20.3.74
Под таким девизом: они еще не взрослые, но уже не дети. Еще предупредила: не записывать. Какой-то она рассказала, а ты уже забыла. Я тоже не могу найти цитату, а ведь уже определил, из какой книги. Из второго романа Сола Беллоу.
Вы все им должны простить. Вы дайте им материнскую руку, протяните любовь. Ибо в этом святость. Католичка едет в монастырь. Отблудила раба Божия. Теперь будет молиться. А для этого на улицах Рима нужно увидеть окно папы римского. Она еще не мама, но уже давно бабушка.
Presumably maddening men
and infuriating women
p.74
Saul Bellow
Mr. Sammler's Planet{139}
Законченность каких-то других собачьих отношений. Все равно только шрифтом энциклопедического словаря братьев Гранат или Брэма в дореволюционном издании «Гады». Ответ на этот вопрос можно прочитать вслух с 56-й страницы карандашной нумерации в подборке «73 страницы» (только не в 73 году, а где-то раньше). Вот это уже лучше.
Но роман «Нищий» все-таки был написан, это верно. Он оказался без Ницше и называется не «Нищий», а «Ни дня без строчки». ЗЛЯ{140} без «Кво Вадис?» — неполный образ синкретического знакомого новейших поколений. А я что, должен употреблять такие сокращения, а как МОЩ? Менее опытный щенок — да? На кого хвост подымает? Тут как раз тот самый случай, когда собеседник рвется в рукопашный бой. Был новый год, видимо, 1964-й, нет, 1963-й, потому что иначе все остальное непонятно. Потом об этом будут писать Б.Шоу, Р.Олдингтон и И.Во.
Он уже успел занять 2000 долларов, 4000 франков и 5 000 000 лир. Когда приедет, тогда отдаст. Он считает, что он уже миллионер, раз у него вышла книга. В Италии миллионером стать легко, но они там считают на миллиарды. Там газета стоит 2000 лир. Там ему на сигареты нужно миллион в месяц.
Ничего особенного, просто РИТУАЛ и все. Всегда так бывало в конце хорошего периода на любом формате. 100 страниц ушло в «Ритуал». Можно даже сказать,
«ФИОЛЕТОВЫЕ РУКИ»
это один сплошной «Ритуал». Как между прочим и «Жизнь начинается в 66 лет». Не в первый раз. Но сначала я был огорчен такими результатами. Уважаемая читательская конференция, потерпите немного, через 4 часа отдохнете и вы.
ЗЛЯВ-ол и ЗЛЯВ-оленок — это не остроумно.
22.3.747 февраля было в четверг. Следовательно у них от четвергазма до четвергазма каждую неделю, Бог их прости. Могло быть хуже.
Не на грузина, а на хохла. На хохла, на парубка с мягким взглядом, на запорожца или на болгарского гайдука или как там они у них называются. Я сказал: на этом портрете он похож на грузинского князя. Без аргументации нельзя сказать ни одного слова. Начинаются убедительные контр-аргументы. Куда-то уходит. В тишь и благодать, не так уж важно иметь такое количество новых абзацев. Профсоюзные боссы Британии тоже имеют такой вид.
«Новый Завет есть?»
«К сожалению, еще не вышел. У нас есть старый, но вы его, конечно, прочли».
Вот такие шутки почему-то не кажутся теперь остроумными. Брендан Бихэн — «Разговор в книжном магазине».
«Кулацкие университеты» — это как раз хорошо, а «советский пролетариат» — это плохо. Но такова «одиозная фигура» члена КПСС с 1918 года. «Моя фамилия в ЦК считается одиозной», в порядке информации сообщил он. Макаров чешет затылок{141} на углу Б.Бронной.
«Селигер — любовь моя» в «Октябре» на проспекте Калинина на новом Арбате. «Шахматная новелла»{142} в МГУ сегодня не хочешь?
22.3.74ХОЧУ В КИНО.
«Закон и кулак»{143}в Повторном.
Чтобы каждое твое указание исполнялось в одно мгновение. Вот чего ты хочешь. Я еще собираюсь написать: когда умру, ты будешь читать. Долго ты собираешься. Умереть — да? Нет, написать. Это все насчет подарков ко дню рождения в марте месяце одного такого года.
«Ходи лохматый» (1954), а может быть немного раньше. Американский моряк в харчевне порта показал мне кулак. КУЛАК И ЗАКОН — не вижу разницы. Разница микроскопическая, но если рассматривать через лупу, можно заметить. Остроумие ораторов в британском парламенте. Уважаемый член придерживается фантастического представления о значении своей личности в истории Европы.
((воскр. 24 марта 24.3.74))р и т у а л
Когда не дальше РИТУАЛА.
В двух экземплярах — тут, по крайней мере, ситуация с Джойсом: по-русски это звучит ужасно, это уже всем известно, но без этого тоже нельзя обойтись{144}. Как будто важно было. «Гвоздь сезона» — тоже можно так перевести. Об этом юмористически рассказано в книге «Он все помнит».
— Четвергазмы!
Когда он улыбнулся широкой улыбкой, у него на лице было написано удовольствие. По четвергам, надвинув ниже шляпу, один эччеленца идет к другим эччеленца без шпаги, пробираясь от машины до парадного подъезда. Об этом он в первом томе. Теперь, когда вышел второй, требуется говорить о первом томе, но уже можно не называть «Он все помнит». И так всем известно, что это мемуары Хрущева.
Если это ЛИТЕРАТУРА НАЧИНАЕТСЯ С ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, то надо найти одного читателя.
С трех товарищей она как раз кончается.
Ванька Доманов в 1921 году.
При налете и восстании и расстреле он был малыш и недомерок, на него не обратили внимания. Желторотый. Плетью стебануть разок-другой, больше не будет.
Про Виктора Михайловича на стр — у Ильфа и Петрова ВСЛУХ можно, только не при Бескоэльсе{145}. Может обидеться. Будет мстить. «Вы хотели меня уесть, но у Вас не получилось».
Гвардейцы-гасконцы. Армейский автограф прод-комиссаром подписано АнлИз Мочи — значит, еврейская фамилия.
Донской казак Бен Тов в правительстве Голды Меир был министром здравоохранения{146} почему-то. Врач наверно. Хирург. ЯПОНСКИЙ ТРАНЗИСТОР надо поднимать.
«Скелет продан». А череп? А мозги?
Тут сразу же «Крупинка кобальта под подушкой» и «Практический совет делового человека». Последний разговор в КАФЕ.
Она все-таки уехала в Мурманск. И хорошо сделала. Кто кому проиграл бутылку коньяку, без шпаргалок уже не выяснишь. А в каком году? Или в 59 или в 61-м, трудно найти. «В неизвестном направлении». Скрылся из Москвы (информация 1939 года для философа Бродова). Вот у кого надо спросить. У «Вопросов философии».
— Мне нужно срочно в институт философии.
— Сейчас я вам покажу.
— Да вы не беспокоитесь, я знаю.
Наклоняется и что-то говорит тихо.
Есенин без буквы «Е» на секунду озадачен.
Нумерации что ль нехватает.
Сдохнешь с такой пагинацией.
— Авторское дело.
— Повторность такой ситуации приводит автора в тихое бешенство. «Мы же Вам возвратили!» «Я же Вам отдала!» И все через «же» и смотрит своими невинными глазами, надеясь на забывчивость или, просто скажем, считая собеседника дураком.
— Я понял: гиблое дело.
— Там же будет — вы представляете себе наши заботы? Если у человека было 10 миллионов, то он потерял 1 000 000 долларов. Нет, это как с «Цикутой». Представьте себе 10 поездов с золотом, золотой запас 10 царских империй. Один из них потерян, нет, вы представляете себе? ЗАПАС ИМПЕРИИ!
20.3.74Нет, вы органически неспособны войти в заботы другого человека.
ПОДАРОК ДЛЯ МУСОРОПРОВОДА.
Когда он у вас будет.
А когда я позвонил в Снобистский переулок и услышал «Мы прощались в интимной обстановке», я сразу вспомнил «Ребята!» и «Все будут свои: Мишка Лермонтов, Колька Некрасов и Федька Достоевский». После этого разговора все стало на место. Увидимся в Лозанне или через 4 года, когда вы будете проситься, а вас будут не пускать.
(Немножко КОНЬЯЧНЫХ РИТМОВ, но без шпаргалок 1961 года ПОКА. 26.3.74)
— Окстись, Дементный, побойся Бога! Изыде, Отроковица!
«И аборты не делай» (это уж деловой скороговоркой).Такая машинопись с оказией на 7 страниц, которую можно назвать «Письмо Рыжего» или «Он его не читал, он сам такое напишет, когда уедет». В том-то и дело, что такого не напишет. Некогда будет. У него просто не будет времени. Все время будут поглощать визиты в советское посольство с просьбой пустить назад: ибо и он — СССР. В этом состояла уникальность. Когда таких уникумов накопилось 1416 человек, их сразу партией пустили под одну КАМпанию.
Вот тогда меня ожидайте на дне рождения. Если не будет нашей окончательной победы над китайскими марксистами. Е Б Ж.
Придется цитировать «Четвертую чашку чая» на Пушкинской улице. А где же еще?
— Скажите, будьте добры: «Ее дома нет, А ОН К ТЕЛЕФОНУ НЕ ПОДХОДИТ».
Пахнет Боландом и сероводородом. И если этого недостаточно, то смени ленту. Выходит, что одного этого недостаточно. Но у правила есть и исключения. Когда дополнение подразумевается или фраза обрывается. Тогда отдельно пишется.
Человек моего темперамента — это он сказал про витебского художника: делает те же самые орфографические ошибки. Тогда они нашли общий язык. И тут же стали спорить «стиллистический» он всегда, всю жизнь писал через два «эл». Такая «драмма» (Г.Н.Поспелов говорил через три «эм»). Несколько раз. Самой важной лекции не было. Она самая спорная, почти двусмысленная и самая интересная.
Насчет впечатления от простых слов. Слова затасканные и обыкновенные — записывать нечего, но чем-то заражают и чего-то достигают, трудно это объяснить. Почти гипнотическое воздействие военно-стилистической простоты: примитивно и легко имитировать, но не дано — как это могут воображать некоторые перепуганные интеллигентики. Гурманы и гурманки, к вам обращаюсь я, друзья мои.
Вы тоже поймете, если вам объяснить. (Но кто будет объяснять?) У нас особые отношения и чрезвычайная дружба и исключительное товарищество: не вмешиваетесь в наши отношения. Это на реплику «не по-товарищески». Каков гусь? Видно птицу по полету.
— Я дам команду, а вы зайдите в секретариат, там вам оформят документы.
На другой день все было сделано. Все проблемы решены. «Я дам команду» было сказано спокойно, деловито, медленно, внушительно, тоном человека, который давно привык к тому, что все прислушиваются к его каждому слову.
ОДНООБРАЗНЫЙ ПЕЙЗАЖ
26.3.74Маневры продлятся до 30 марта. Приглашения и выяснения на уровне послов. Вернемся к сообщениям о библиотеке. Я был неожиданно изумлен тем чтением целой кипы тетрадей, когда обнаружилось, что все сказано в письме. Мне думалось: там что-то было такое, что можно добавить. Нет, наоборот, вся кипа тетрадей померкла, побледнела перед содержательностью письма, а в письме было не больше 12 страниц.
40 лет жизни при капитализме — это Вы будете писать, если доживете. Она будет писать трилогию из четырех миниатюр на тему — 22 дня при капитализме. Она уже написала 40 писем на эту тему, можно считать: все написано, надо только перепечатать на машинке. Глава так и называется — Европа, потом Америка, потом Рим, потом Париж, ну и само собой Лондон, подумаешь — 4 часа и 400 франков, это нам ничего не составляет. Да, конечно, Средиземное море и Симплонский тоннель, не считая Сикстинской Мадонны и Эйфелевой Башни.
Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться.
«СЦИЛЛА И ХАРИБДА в кафе на Пушкинской улице»{147} повторяется. Она будет не раз повторяться. Они ведь тоже повторяются. Весьма однообразный ПЕЙЗАЖ!
«Всадник без головы» — это очень плохо. Но меня примирил отзыв Набокова: ага, ему не нравится, значит это хорошо. Я на стороне художника, который умер на рассвете за 3 дня до победы{148}. А он все свои симпатии отдал окопам, солдатской дружбе и гибели во имя империи. «Свет погас» с одной стороны и «Смерть героя» с другой стороны, а посредине все-таки удивительная «Цветущая пустыня»{149}.
Он будет писать книгу «Новый класс космических объектов». Я его видел на Радиотелескопной улице. У них там какой-то свой Евтушенко. Объедки с барского стола. Разное отношение к стихам. Студент, стихи пишет, ничего особенного, лишь бы институт кончил. Или еще хуже. Фантазии. Это все фантазии! Делом нужно заниматься. Зародилось все это не вчера, но уже давно не имеет значения. Важно, что такую страницу под копирку не возьмешь. А осторожность опытного человека сказывается на каждой странице. Нам важно найти, где она все-таки прорывается, хотя бы косвенно.
У них была дружба и обмен идеями. Они делились мыслями. Два таких мыслителя стояли в стороне. Это как два многотомных романа, перевод с французского: никто не смог прочитать до конца уже из-за одного того, что они выходили в разное время. А когда были собраны воедино в собрании сочинений, то потеряли актуальность. Что касается «Жана Кристофа», то она всю жизнь собиралась прочитать «Очарованную душу». Мы даже из одной книги делали разные выписки. В данном случае почему-то неважно, что это было в январе какого-то года. Вот нашел слова в декабре и увидел, что я к ним 20 раз возвращался. Кстати, тоже 61-й год.
Употреблялась другая лексика. Ужасно много разных подходов. Жуткий тупик в одном смысле. Я остановился на французах. Не так много тут, но приятно вспомнить. Как сказать, они выходили на дорогу, по их понятиям. Еще не известно про кого. Я так и знал, что диктанта больше не будет. 125 раз одно и то же. Важно было не смотреть. Важно было повторять. Звуки решали дело. Ты видишь, открой машинку, там были другие цитаты. Мне нужно было отработать ту лексику. На хорошем французском языке одна статья о Марселе Прусте. Это классовая борьба с другими ценностями. По-моему, он ее не заменил. Трижды споткнулся. Лошади паслись на поляне. Было интересно для одноклассников в том году. А у нас была другая компания. Вот видишь, как все это происходило. Я Ваню на диване оскорбил напрасно. Бревно в твоем глазу. Эта библия говорит прямо, без обиняков. Если это самое важное, то что можно сказать об остальном? Нуждался ли в такой защите Кнут Гамсун? Текущие события заслонили рассказ об одном дне из жизни маленького мальчика. День рождения — это когда ты родился. Неужели он помнит все в тот день, когда он родился? А я вот не помню. Карл Иванович у него был, а у меня не было Карла Ивановича. О чем же я буду рассказывать? От неприятностей нужно отмахнуться. Асфальт, усыпанный желтыми листьями, уводил нас в ресторан «Варшава». Я никогда не видел его портрета. Только для того, чтобы написать одну фразу. Разве это «хроника»? Предполагалось, что все предыдущее было необходимо. Эстетика финального архива. Иные письма затрепаны до дыр. Они носились в сумочке и перечитывались, так надо понимать. Бешено пересекалось. Что упало, то пропало. Об этом ни слова. Потом вдруг идут такие слова, которые не берутся на машинку. Природа. Серенькое небо, заштатный город, печаль и грусть. Где же твой идол, стоит?{150}
Это хорошо само по себе. Я могу перечислить эпизоды. И память еще сохранилась в том смысле, что мог назвать когда и с кем. Что это такое? Комментарии к фотографиям? Рассматривание картинок из журнала? Чтение про кино на польском языке? А вот это нам напомнило два слова. А вот тут было произнесено: «Если бы у нас был Набоков, я бы прочитал тебе одну новеллу». Купола Ново-Девичьего монастыря. И сразу же пародия на великое стихотворение.
Это хорошо само по себе, но почему все-таки нужно было рассматривать клочки бумаги? Зачем это было нужно? Я прочитал 40 страниц. Не махнул рукой, не поморщился, не отвернулся. Если тебе так важно, читай вслух. Но не настолько, чтобы сделать выписки. Хотя сама сказала «Такая книга попадается один раз в жизни». Тоже можно было оставить в таком виде.
Рассказ только про удивительные события, но тон легкомысленный и слова, невсегда уместные. Речь идет о потрясениях, а рассказ такой, как будто все это ничего не значит. Не знаю, не уверен. Во всяком случае, по почте это не пошлешь. Только и разницы. Был бы английский перевод, читалось бы как «Конспект романа» или выписки из прочитанных книг. Не захотелось. Теперь такое отношение к старым цитатам. То вдруг кажется более интересным, чем все остальное. То вдруг тошнит от почерка, от необходимости что-то записывать.
Оглянулась при слове «Аполлинэр». При слове «цикута», тем более. Нет, при слове «цикута» она не оглянулась. Еще раз посмотреть. Чтобы определить, насколько прав был, когда увидел пустоту. СТОИТ СЗАДИ МЫСЛЬ, СВЕРКАЯ НЕДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ.
абзац 191244 картинки по четыре строчки к каждой картинке: издательский номер — в таком жанре. Их особенная точность — в ударности и неповторимости: про один кадр из целой ленты в том смысле, что весь эпизод или случай или рассказ целиком отражается этой главной картинкой. Комикс, только с чужой надписью. Особенность надписи —
рассказ не повторяется. Сразу же к другому роману, оттуда тоже только одна цитата. Такой сводный дайджест на одну тему. Все нейтральные слова таким образом опускаются. То, что ты хотел еще раз увидеть или то, что кто-то видел со стороны и мог увидеть, но разница громадная. Всегда что-нибудь не так. Или купание на мелком месте или третий лишний или не тот разговор или нечестный прием или болтовня для смеха. Чтобы скрыть смущение, он будет издеваться. Чтобы сказать «это про кого-то еще, сам я таких штук не люблю». Похоже на указатель страниц к одной прочитанной книге. Всегда готов отметить специальность владельца «Победы». Раскрыл, сунул палец и сказал «Этого даже я не знаю». «Это у меня было». Все главным образом втроем. Не считая групповых сцен, когда все равно все вдвоем и никто ни на кого не смотрит, это не считается. Потом прелесть внезапного перехода. Дело не в результате, а в постепенном приближении к результату. Кстати, полностью играет школа имени 905 года. А чего ты рвешь? А зачем уничтожаешь? Пусть все как есть. Это сделают за тебя другие. Не твоя забота.
В этом смысле, конечно — НЕ ТВОЯ ЗАБОТА — была такая процедура с французскими цитатами. Не сохранилось в памяти. Или не поддается кинематографичности впечатления. Скорее лестница на высоты, на небо, к Богу в рай или как там еще у мистиков Востока. Разумеется, 1001 ночь, вошедшая в привычку в течение 20 лет, — не в счет. Попробуй вспомнить записи Симоны де Бовуар, и к своему ужасу ничего не вспомнишь. Ничего кроме последнего подтверждения или расстройства компенсации или ущерб, изнеможенье и единственная награда: слишком много на другой стороне. Просто желание забыться и заснуть. Иногда просто засунуть и заснуть, иначе ничем. Только один способ почувствовать, что ты живешь. Не от хорошей жизни. 73-х страниц на эту тему не будет. Где были 2 страницы в 52 году? Жаль, что их нет под рукой. Этот жест стоит 12 копеек. Из-за копейки никто не нагнется. И еще что-то связанное как будто с указателем немецких цитат, а на самом деле только способ скоротать время ожидания. Он терпеть не может умных разговоров. Не ее дело выглядеть печальной и интеллектуальной. Сценаристка. Один нахал сказал «до колен», она и бровью не повела. Не было такого разговора. Что ты видишь за этим кадром. Только когда речь идет о горячо любимой и давно желанной женщине. Ну ладно. С этим напитком в крови, ты увидишь любимую женщину в каждой юбке. Иногда. Очень редко. Когда повторялось. Когда выхватывалась одна картина из целой серии картин. Когда нужно было ехать на пейзаже. И тут начиналась мура про ураган в Эстонии. Или чужие фантазии на твои личные темы: напоминает — хорошо, но совсем не так дело было. Памяти И.С.Б. Подпись расстрелянного тоже.
Не помню такого напоминания. Ритуал. Вечерело. Если взять одну страницу. Какое впечатление. Вот чем был занят человек. Борьба за сферы. Сокращенное расстояние, чтобы мучиться от разлук. Слишком сокращенное: ничего не понятно. Ничего не поймешь. Такой стиль. «Когда ты чего-нибудь поймешь, то ты мне скажешь своими словами». Это такой юмор. Ленту сменить. Бумаги купить. Громкий вынужденный смех. Это от напряжения. Выбросить. 12 апреля была пятница. Не зависит от силы удара, просто плохая лента. Закручивается. Чай греется. Ты меня ставишь в трудное положение. Ты так всегда делаешь, да? Это реакция на внезапное пробуждение.
12.4.74Казалось бы, одного этого вполне достаточно. Им ведь поговорить всего дороже. Не нравится мне это пробуждение. Значит какая-то сторона польского фильма. Об этом мы с вами поговорим после нашей окончательной победы. Я пошел в библиотеку. В открытом доступе на 4 этаже стоит энциклопедия. Можешь раскрыть. Пока коней мне запрягали{151}. Но здорово он усвоил целое четверостишие. Ни один из этих разговоров не работает на продолжение. Потом наступил такой день, когда ему потребовался новый слушатель. Когда это случилось в третий и четвертый раз, мы в общем махнули рукой. А где критерий?
Разговор его был прост и важен{152}. Выходит, главное теперь — шутовство без остроты{153}. Такой склероз. Еще 4 слова. Попадешь на базар, армяне ругаются по-армянски. Почему это тебя не беспокоило в свое время? Было единственное приключение ходить на базар и покупать масло. Трудно представить себе Эстонию без таких слов. А таких слов в Эстонии не было.
Не вышло из этой процедуры ничего хорошего.
Выяснили отношения. Открыть 2-й том «Фауста» на сцене в императорском дворце? Нет. «Кухня ведьмы» в первом томе. Выгадывал второй разряд. Сложные взаимоотношения. Три старика ползают по сцене. Старуха спешит на свидание. Откуда берется зритель? И ведь каков напор: билетов не достанешь. Немного «Точки с запятой». Под суровым взглядом «великой Голды»: но она их простила и, наконец, дала согласие ими руководить. Надоело ей это непослушание. Сами не знают, чего хотят. Телефон звонил через каждые 5 минут.
Слово «ритуал». Как только достоинство, так сразу же имя. Резко менялся антураж. До этого еще надо дожить. Попробуй мне еще что-нибудь сказать. Вот тут все меняется со страшной силой. Все обстоятельно описала: какого числа и кто звонил и откуда, а год не поставила. В каком году умер Григорий Семенович?
Киплинги т. бригад декламируют. Видимо, ТЕОРИЯ СТИХА. Немного Б.Слуцкого, но больше А.Синявского, судя по заявлению французского переводчика. Где было «Вам труднее было запомнить, чем написать»? Все с покойниками покойники разговаривали. Можно считать, Хаджи Мурат уже умер.
р. 288 John O'Hara, The Instrument (1967):
It was a full kiss, but with her it was also ritualistic: a fine, expensive meal, followed by love. He put his hand under her skirt and she parted her legs to accommodate him. Presently she said, «We better save that till we get home, Mama's asleep by now»{154}.
Кусок другого романа. Начало где-то у Шодерло де Лякло. Я не знаю, кому достались «Опасные связи» по-русски. По идее, они должны быть возвращены владельцу книги, который сейчас в Москве, но, в общем, я не знаю их отношений. Может, он давно передарил ей эту книгу.
Создается иллюзия повторения. Фисгармония из Чикаго. Еще был Вальтер Скотт, можно было у кого-то взять почитать. Единично доходили «Луна слева»{155} и «Золотой теленок». Вот ты не читал «Собачий переулок»{156}, не можешь судить. Демьян Бедный, знаешь, что бы сказал? Кто у вас там в ранге Демьяна Бедного? Тут мы попали в атмосферу, где другие ориентиры. Тебя ждут тонко очиненные карандаши и хорошая белая шероховатая бумага. Можно будет рисовать с натуры. Все великие художники рисовали с натуры.
Шпаргалки помогали. Нет никакой возможности. Сокращая расстояние, проявлять характер. Мы будем читать большой словарь и переводить по выбору. Перо не по кисти. Желание славы нам ни к чему. Тут такие ораторы, что с ними невозможно состязаться. Треп. Если бы еще у них были знания. Тогда бы от них спасу не было. Но есть возможность уйти в искусство.
А с ним драться не интересно, потому что он на каждый твой удар бьет больнее. Сначала я его стукнул, потом он меня, потом мы расстались на углу. Нет, мы дрались словесно. Перед лицом общего врага, нам нужно мириться. Подумаешь, «дымка», у нас будет «лимонад». Как ты собираешься встречать Троицу? Мы уйдем в сад под сливы, выпьем, закусим, потом будем ходить по улицам.
Обиды были на кулаков: хоть бы одну яму с зерном подбросили. Не говоря уж про «обрез». Ни одного настоящего кулака. Не получается в жизни «Охотники за кулацкими ямами». Классовая борьба какая-то скучная. Целую ночь идет болтовня, переливание из пустого в порожнее. Мишка Агафонов делает карьеру. Нет, это не Майн Рид. Хотя вот Шура Исаева сумела: «И как будто стоя спит». И рисунок хороший. Она, оказывается, умеет хорошо рисовать. Опять обман. Зачем же она скрывала?
And what is «boredom-whoredom»? Сkушное б…ство. No. The tumultuous personal life of a not always pleasant acquaintance. Friendship if you like{157}.
the row of questions{158}
Где это было? Разговор на грани нахальства. Хамить, но в пределах обычных шпилек. Или в «Четвертой чашке чая» или в отдельных выпусках. Они ругаются, а я как между двух огней. Где?
petsy-wetsy
Может быть, все это — как «Улялаевщина» 1933 г. с рисунками художника Тышлера{159}. Вот Тышлер и заплатит за нее 100 рублей.
— Си-коко?
40 barrels of dissidents{160}
Zatovarennaya botchkotara{161}
Ерунда все это, но слова были сказаны: — Я ведь присылал ему 58 рублей 10 коп. А он мне хоть бы 7–35{162}. Хоть бы раз. А у меня ведь тоже была учительская зарплата и я не chair à plaisir
ЗОЛОТО РЫЛ
В ГОРАХ.
Mädchen für Alle{163}
Нач-фин улыбался. Солигалич ничего не заметил. Сергей ВОЙ. помнит про чемодан. И про письмо об антисемитизме{164} тоже.
Весь «ковер почета» состоял в том, что дали место, где сесть, и рюмку, но это произвело на него впечатление. Кого это встречают с таким почетом? Кто это? Тут свои ранги и своя субординация. Вместе с тем, ответ на другие вопросы. Жена комитетчика. Теперь он входит в Комитет. Сидела, молчала, наматывала на ус. Источала тайное не то чтобы недоброжелательство, но желание чего-нибудь услышать полезное, как домашнее оружие. Один раз улыбнулась. Быстрее всех догадалась. Как по-французски «лягушка»? У нас в доме нет русско-французского словаря. Моя память в лучшем случае может работать как французско-русский словарь, но не наоборот. Кисло прозвучало. Но важно было поднять шум и привыкнуть к звукам. Через час начнет работать короткая волна по-русски. Уже неинтересно иметь такие цитаты под рукой. 9 томов нагнали тоску синего цвета. Мне нужен был рассказ про Серебряный Бор, как будто я сам там был и мне было 11 лет. Свистопляска. Концертное продолжение. Стилистика чужих наскоков. Вы поддержите меня, а я поддержу вас. Там же другое. Из какой эпохи суета. До сих пор непонятно зачем.
I need this outing like a hole in the head, he thought. Still, he was going, wasn't he. He was glad to reach the open air, to breathe. Not the obvious reason. I wonder who's scrubbing you now. The recondite reason if that was worth finding{165}.
Теперь нам понятно, почему это не пригодилось. Другой эпохи суета. Забавное идиотство. Если ты искал подтверждения, ты его нашел. Нет. Не пойдет. Нет. Звуки не с той стороны.
Нахальная точка зрения ставила в тупик.
Этот вопрос ему нужно задать 14 раз и один из 14 ответов будет похож на правду. Это как протоколы показаний Кристины Кийлер на военного министра Профьюмо{166}. До Вас — значит при царе Горохе.
Еще раз — «tragic» for you, comical for everybody else{167}.Ерунда получалась вокруг стихотворения «Телефон в гробу».
Одну страницу мы уже мысленно отметили. Еще бы.
Это как с одной страницей на чужой машинке. Другие слова. Ритмы другого разговора. Погоди, то ли будет впереди. Ну и разумеется, ни одна из них не играет на звуки из ящика. Таких сотни. Такие надо выбрасывать. Журналист не коллекционирует газеты. Только тем и занимается. Нет, не тем.
Совершенно непонятны такие заботы. Зачем я читал такие книги? Чтобы сказать случайной старушке: это можно прочитать? Чтобы она сказала: «Один лохматый старичок посоветовал мне». В своих кругах плывут другие земли. Новая линия. Другие заботы. Сообщите об этом агентству Рейтер. Европа будет взволнована. Чтобы он мог курсировать между Лондоном и Москвой, не лишившись гражданства. Париж будет блестеть мокрым асфальтом. А может не существует такой записи? Ты читал «Кирпич»? А «Кирпичный завод»? А роман «Максим Шостакович»? Как ты думаешь, это войдет в золотой фонд немецкого лексикона мировой литературы? Ну скажем, его портрет будет рядом с Гейне и Гете на букву Гэ? Вообще-то моя фамилия должна идти впереди Пушкина.
Для придания вида аккуратности на 2 дня существует резиновый клей. Где он провел ночь, никто не знает. Но это домашняя точка зрения. Но никто не знает. Они читают. Она схватила и унесла. Они будут давать реакцию. Устно в некоторых кругах. Вы не сможете ответить. И она тоже слышала много хорошего. А где бы почитать? Впрочем, ей нужно читать по-английски. Дайте английскую часть. А он, оказывается, не знает английского? Да, он знает только немецкий. 432 страницы первого варианта — это для кого разговор? Для Олиной бабушки.
Прелесть всех этих попыток заключается в том, что в момент написания они приходят в голову. А пересказать их невозможно. А читать их скучно.
Не захочется переписать. Цитат не будет. «Я для вас вот такую пачку написала». «Я вам сейчас покажу, где хранится ваша книга». «Неужели я пишу стихи только для того, чтобы их перепечатать на машинке?» «Архивы перепутали». «Что значит?» Не такие бывают точные слова.
И ПОТОМ С НАПРЯЖЕНИЕМ ЖДАТЬ, КОГДА ОН УДАЛИТСЯ. У цитаты понятен общий смысл, но он не помог написать сочинение. Нет, ты лучше своими словами. А у Вас есть журнал «Англия», где крупными буквами цитата из советского критика Гаевского? Институт мировой литературы примолчался. Подспудно маячил велосипед. Рассказ из жизни Тараса Бульбы был в четырех вариантах. С каждым вариантом отрабатывалась фраза про кость Гоголя. Про новости балета я не стал слушать. Как это похоже на «Эхо от холостого выстрела». Какие-то намеки. Нюансы. Для узкого круга и потом ужасно претенциозно. Тоже не для мальчика в 16 лет. Как ты воспитываешь свою дочь? У тебя дочь бандиткой растет. А знаешь какой анекдот она принесла из школы? Мама растерялась. Они думают, трудности сексуального воспитания. Секс — это не проблема. Они уже все знают. А вот такой анекдот — это проблема. Другие ритмы. Это как «Признание комиссара полиции прокурору республики». Нет. «Расследование по делу гражданина выше всякого подозрения»{168}. Он пользуется особым доверием.
Узкие полоски текста были хороши для разрезки. Их можно выдирать и приклеивать. Опять будет понятно по-своему. Ладно. Заботы 31-го читателя. «Смех у баб» — как всякая трагикомедия: смешно потому что про кого-то еще. Когда про нас, то реакция простая. «Вот гад». «Сволочь». Разговор окончен, трубка вешается. Трубка кладется на место. Лисицы уходят в норы. Зверь бежит на ловца. Анекдот пересказывается своими словами. У птиц гнездо, у зверя темный лог. Один сын человеческий не знает, где преклонить голову. По ее словам, 4 раза подчеркнуто. Музыкальная жизнь: дочка Катаева, внук Леонова, племянница Паустовского. Шекспировский актер разорялся на всю катушку. При всем старании лучшая сторона не проявилась, а так хотелось. А желание было. Гроза надвигалась. Впереди на фоне Останкинской телебашни маячила стая галок и ворон. Не такие были точные слова. Эти веселые рассказы остались в другом месте. Если вы уедете, у нас никого не останется. Не заметил. Укоризна через Черное море несется, как чайка, в плаваньи сестра{169}. Но корабли, что следуют за нами, не встретят в море нашего следа. Разве так надо защищать Беззащитного человека? Он полемизирует с бандитами. Он воюет с пиратами. Он еще на галере и не может забыть: еще не прислали выкуп. С ним обращаются хорошо. Где-то на Западе звенят дукаты. На Севере тугрики.
Законченность таких размышлений просто пугала. Что-то вроде ореола мелькнуло вокруг потемневшего лица, но я был занят подготовкой к операции. Укол. Мгновение. Вот и все. Через одну минуту все будет хорошо. Надо потерпеть. Наконец-то я вспомнил: я недочитал одну страницу. Здесь несколько больше, но не настолько. Есть указание на неопределенные отношения в Чертаново. А пошлите вы его к чертановскому резиденту. Это как с переплетом Андерсена. Андерсен ждал 100 лет, может и еще подождать. Цитаты из «Ни дня без строчки» не получилось. Т. е. цитата как раз была со ссылкой на смерть Самсонова, но чужие пики нам ни к чему, когда беспокоят свои провалы. Чем же он дышит? Страдает элегантно с комфортом, как актер на улице Левитана. Когда кончится мамино наследство, будет искать интеллектуальную жизнь и духовных руководителей. Насчет вождей это мы еще посмотрим. Мы всяких видали, у нас такие на каждом перекрестке. Насчет Юрия Олеши не скажу, потому что ему ведь главное — что было? Чтобы не напоминали в «Национале», что он задолжал 12 тысяч, за соседним столиком чтобы не появился красавец Мариенгоф. Ну и конечно, чтобы мистер Уистлер не напоминал Оскару Уайлду «Ты об этом еще напишешь». Когда является прототип, тут сдохнешь от тоски. Вы случайно не знаете такого Архангельского? Он лучше меня знает мои стихи. Профессор Хиггинс поморщился, но когда об этом же заговорил полковник Пикеринг, он стал употреблять аллитерации, свойственные поэтической речи.
Немножко от тех данных, которые не повторяются. Это как цитаты из несуществующей книги. Впрочем, картина существует в одном экземпляре. А она сожалеет. У всех есть драмы и запретные темы, а он с ней перестал кадриться. Теперь нечего вспомнить. А Маша переехала в другой район. А ей передали банкноту, разрезанную на две части. Вы за нее не беспокойтесь, у нее хватит на старость. Да мы — нет.
Издание из Датского государства: «Чорт у Манна» и «Смех у баб». Вот вы смеетесь, а дело обстоит серьезно. Ты не можешь повлиять? Ты не можешь позвонить Нике и сказать?
Сколько у него читателей? Он будет стоять в «Литературной энциклопедии» 21-го века? Как ты думаешь? Люди нашего круга все больше убеждаются, что бензин теряет свою популярность. Лучше на велосипеде. Два колеса хорошо, четыре колеса плохо. Как сказал Классик{170}. Почему в моем доме нельзя про велосипед?
Еще коварней «Любовь к трем мушкетерам». Он напьется и будет говорить. А она не может ехать. Особое простодушие. Прояви любовь и на тебя посмотрят большими глазами. Вопрос о шпаргалках из кафе не решился. А собственные комплименты прозвучали загадочно и печально. Абсолютно непонятен такой интерес к Н.Мейлеру. За неимением лучшего. Точные слова в другом месте. Пока есть туман, мы посмотрим, чем живет Дагестан.
Жутко неправильно идет примыкание. Это зависит от английской машинки.
Хотя надо было сказать только «приготовьтесь к операции». У меня был иначе подход. Ах вон что. Уже забылось. Или ссора с читателем или заботы пишущего человека. «Сейчас встретится писатель Катаев и расскажет о себе какую-нибудь гадость». Он любит о себе рассказывать гадости. Занимай его дачу. Заскок из этих диссиденций. Но 100 процентов прецедентов ты не обязан. Точка. Другие слова. Еще короче. Просто какие-то напрасные слова. Авеста действует на тебя как мескалин. Все это мы будем читать. Я посмотрел на кучу книг и подумал: «Откуда бы взять?» Но разве есть такие слова?
К операции приготовиться. Так горько было расставаться с сознанием, как будто входишь в гроб, в могилу, и там проснешься и ничего не увидишь. Это недолго. Ты проснешься и уже все будет кончено. Но как это себе представить? Это невыносимо. Этого нельзя себе представить. Смерть — это временно, потому что ты все равно ничего не почувствуешь. Ты слышишь: не больно, это я тебе даю укол. Все хорошо. Вот и все. А следующий миг — это все будет позади.
Светит, светит, а потом перестает греть. Черты прощания. Случайные черты. Ашкенази и Жбанов разделили сферы влияния. Но слово про актера-алкоголика, разыгрывающего из себя писателя{171}, — странно прозвучало в диапазоне 25 метров. Разумеется светит. Как «шипучий яд» в 65 году. Веселые разговоры приятно цитировать. Они хороши один раз в год на кухне в день рождения. Каждый день мы будем ходить в читальный зал. Из этой книги — конец про Спасителя. Из романа — про мальчишку на одесском базаре. Тут мы прочитаем вставную новеллу. Нет, не про город детских лет. Нет.
Вы такая странная, глазки очень узкие. Ножки очень толстые. Словно не было разговора о «Тропою грома»{172}. Но паразиты никогда. Но танец продолжается. Но рыжего возьмем: он дурак, но может работать на износ. «Дурак» оскорбляет на 5 минут, но его взяли все-таки в игру, а через 4 минуты они уже быстро бегают и он работает на износ.
В какой манере. А вы приносите в другой манере. Хранит и собирает, никому не дает и почитает. Это писатель при Цезаре. Был писателем при Антонии, потом при Клеопатре, теперь при мне. Вот так. Вот мы какие. Меньших не держим.
Рассказы про Кристину Кийлер и министра Профьюмо не туда. Кроме того, об этом нужно по-английски.
А чем вы будете заниматься, возвратившись в Лондон? А разве нельзя писать книги? Ну там разные эссэ? На самом деле не остается ни слова. Еще небрежней про Хому Брута. Еще раз про Емелю. Еще раз «не помню». Плохая бумага выйдет в критерий, а книга забудется. Не с вами читали, с кем-то еще придется говорить. Пока еще есть возможность проверить цитату. Да, правильно. Только и всего. А «Шуберта наверчивал» он пришлет. А «В том шалмане» у него нет. А стихи для «Зари Востока» он видел в другом месте. А вы забыли, что это ваша книга. Я ее у вас брал на 3 дня. Но она у меня стоит на полке. Считайте, что это ваша. А Рабиндранат Тагор терпеть не мог кагор. А Ксенофоб взволнован не ошибками, а бледностью жены. А Вы не в курсе. Не исчезайте, тогда вы будете в курсе. А цитата из «Назад к Мафусаилу» не пригодилась. Бернарда Шоу я не люблю и литература ничего бы не потеряла, если бы такого писателя не было.
Мощные переплеты по разным углам. Смешно было соединять их вместе. Вот намек на картину, которую приятно вспомнить. Тут была одна ошибка. С другой точки зрения. Или наоборот. Мне стыдно сейчас прочитать. Я не хотел этого показывать. Почему нет выписок из важной книги? Там все как-то иначе. Ты бы хотел иметь эпизод в самолете? Нет. Смешно. Неразборчивое предложение. Мне никто не напишет книгу «Ты и я». Зачем нужно было, неизвестно. Картины, которых я не трогал. Опять стоит велосипед, и я читаю стихи Есенина. Разница только одна. Ты хотела, я не хотел. Она была равнодушна, а я был неравнодушен. Это как книга про императора Клавдия{173}. Я не читал мемуаров генерала. Другая история. Вранье с характером. Тоже вынужденный шаг. Минимум халтуры. Твоя Россия. И эти слова не пригодились. Ефрем Сирин — кажется так. Забавно, как они читали «Войну и мир». Вот заморочили нам голову. Ладно, мы оставим эти картины без слов. Когда из таких кусков получается пипифакс. Когда не читается написанное. Утомленная кожа при свете дня. Я 4 раза вспомнил. Можно подумать, я постоянно размышлял только над одним погибшим романом. 4 картины — это верно. С тех пор я его никогда не видел и никогда не увижу. Он покупал сигареты у Пушкинской площади. Почему он ушел из философии, для меня до сих пор остается загадкой. Сейчас я буду переводить английскую фразу. Матрешка. Загадка, мистерия, тайна — три слова. Из трех слов комбинировалась одна фраза. И терпения хватило. Выскочить из кожи. Сдохнуть от тоски. Еще раз. Еще раз. 150 речей на тему. Вот еще раз.
Декларация с одной стороны. Именно такого удара требует электрическая машинка. Про саботаж — вот уж нелепость. Про 11 лет — это хорошо. А в год саботажа мне было 14 лет. А я прибавил один год, а то бы они меня не приняли в ряды. Жутко нелепо прозвучало такое с Марселем Прустом. Основы средизма-четвергизма — на миг показалось очень остроумным. Сметай следы усилий. Еще хуже что-то с лентой. Добиться сокращенного расстояния — для чего это нужно? Для самочувствия. Не так уж много. Картины не было и нет. Картина была в мозгу. Она была хороша тем, что к ней можно было время от времени возвращаться. Иногда она вспыхивала, иногда она освещалась, но ты не забывал, что картина в мозгу и то хорошо. Меньше всего. Чем бы дитя ни тешилось. Лучше программы кинотеатра «Иллюзион». Сходить в кино некогда. Такие книги отбивают охоту ходить в библиотеку. Триумф. Мчались колесницы, горели костры, расхаживали центурионы. Камни помнят, но не могут рассказать. Впереди огромные контуры внимательных глаз. Война идет. Чем он провинился? Тем, что невнимательно слушал. Все как в переплетной, только Айхенвальд на другом отделении и не выходит на работу. Придется изучать японский язык. Смешно было раз. Затяжной прыжок. Кажется нескончаемой процедура. Пора вздохнуть и улыбнуться. Не резануло, не задело, не обратил внимания. Слова не изучались, как дипломатическая нота. Актер читал со специальной целью — потом прочитать вслух. Теперь все так пишут{174}. И я так пишу. И я так требую от авторов. Магия слова. В этом и заключается моя работа с авторами. Он так и сказал «Мой путь»? В том-то и дело, что не сказал. Таких слов там нет, но подразумеваются.
Странные вещи начались в районе «Четырех кварков». Скажем прямо, нечитабельные фразы. Их невозможно прочитать вслух. Их не прочтешь. С другой стороны «Ритуал» и читать не надо. Это скучно и никому не интересно. К сожалению, 75 % текста «Фиолетовые руки» такого рода.
Вот собственно говоря «поднявший меч от меча и погибнет». Про этот щит нельзя вслух ни слова. Из записной книжки актера А.В.С.З.П. Это было интересно для Бор. Медведева, когда он был жив. С.Волков на этот счет не обольщался. Юмор служебного пользования. Например. На каждой книге, купленной в эту поездку, было написано: «Е.Хомутова. Вашингтон 1960.» Но для этого нужно знать Елену.
Великий рассказ Василия Аксенова о двух титанах науки новейшего поколения. Жаль, что он затерялся в завалах макулатуры. Его бы читать вместе с серьезным письмом академика Виноградова. Лучше юмора не надо. Ничего не надо придумывать. Вот тут я начинаю размазывать и повторяться.
Сегодня на воскресенье нужно приходить на сборище с паспортами. Милиционер предупредил в прошлое воскресенье. Он нарочно придет без паспорта. Я так и думал. Тут бы ЛЖР{175} выдавала себя за нашего человека в Гаванне. Под Люцину Винницкую играет эту роль. А они правда молодые и неопытные, и у них такие инструкции — быть на пределе вежливости. А мы будем читать «Инструмент» Джона О'Хары: очень много новых слов и выражений. Боюсь, список не пригодится. Если переходить на Жоржа Сименона, конечно.
7.4.74Тут придется поставить дату. Может из-за этой даты он и не уедет. И это предвидел человек. Он все предвидел. Такой хвастун, кроме всего прочего.
По делу гражданина, который САМ СЕБЕ ЗАКОН.
— Закон и кулак?
— Нет, это другой фильм.
СЛОВА ПОД ЧУЖУЮ ПЬЕСУ,
написанную ам. писателем Джоном О'Хара
под видом «Театрального романа с Брода»{176}.
Очень интересно для историка с. театра. Тут все заборные и кухонные вульгаризмы рядом с именами светил американского театра. «Инструмент» имеется в виду «орудие божественного вдохновения», но совершенно безошибочно с начала до конца воспринимается как старое, но грозное оружие в извечной классовой борьбе между классом мужчин и классом женщин. Тут сразу же список романов Жоржа Сименона. Если повезет, разговор отделается названиями романов Сименона. Если нет — ну тут уж придется терпеть. Всякая сопливка имеет право. Перед ней придется извиняться за твой счет. Ты правильно посчитала — мы его читаем — МЫ ЕЕ читаем с ноября прошлого года.
Это по поводу Вирджинии Вульф.
14.4.74Срок возврата — 27 января 74 года.
Жалкая замена для таланта, а талант у него в другой области. Считалось, что сочинения у него написаны талантливо. 61-й год, а потом вдруг 69-й год, т. е. год, не отмеченный никаким событием, кроме, может быть, того, что машинка вышла из строя. Темпы менялись. Черновики. Почерк. Черная тушь, потом красный шарик, потом зеленые чернила. Опять прочитал невыразительную страницу, и сразу как в холодную воду. Количество маленьких листочков. Один переплет. Остановитесь, виконт! Видимо, «Цитадель» я читал по-русски, а потом переписывал перевод отмеченных страниц. Т. е., наоборот, искал в библиотеке, как это звучит в оригинале. Что было с этим упражнением, до сих пор не понимаю. У меня был обратный перевод, а потом я его сравнивал с оригиналом. Я ходил по тонкому льду. Нет, я ходил по такому льду, о котором пока ничего не знал, и ждал, что он будет трещать, а потом я провалюсь. Вот на это я надеялся. На предупредительный треск. Лучше всего умел плавать, а пришлось бегать. Прыгать в высоту, имелись данные, но их надо затереть, чтобы человека обескуражить.
Предположим, что все это уже сделано. Вот лежит куча черновиков, вот переписаны 4 общих тетради окончательного текста. Их надо прочитать. Можно не переписывать на машинке. Тогда я буду просто цитировать, когда мне надо. Забыл о существовании такой книги. Письмо написано в расчете на салон. Письмо имеет в виду заявление Норы Джойс. Само заявление подразумевалось, потом забылось. Что значит «но во всяком случае»? Такой полемики не было. Есть старые друзья и есть новые. Наше слово отзывается неопределенно и неожиданно. Такой Марек Хласко был в Польше, и мы возлагали на него надежды. Кто-нибудь прочтет по-польски. Смешная надежда.
Приложения
Четвергазмы[5]
Велосипед в феврале[6]
26.2.74
Так и вырастал гибрид. Гены (в смысле гениальности) передаются от деда к внуку, отец у него талантливый, значит сынок будет так, гибрид.
Что на это скажет Домомучительница?
А ты поменьше слушай Вадика. Но ты же сам говорил и сам мне его навязал. А ты поменьше слушай кота в мешке. Этот ваш кот в мешке, которого я вам навязал.
Сколько я ждал разговора на эту тему, а выяснилось, что нет тут такой проблемы. Для него эпистолярность серьезное занятие только с перспективой опубликования в «Правде».
Гибрид был в том смысле, что Лёника ввели в самый центр, а Вадика удерживали от дурных влияний.
4.3.74
Ученики перемывают косточки учителям. Чего нам рассказали на уроке анатомии, а чего вам не рассказывали. Чего-то он обо мне знает такое, чего я не хотел бы разглашать в этом кругу. У меня здесь другое амплуа. Между нами странная связь — в том смысле, что я умею хранить тайну. Был такой ракурс: захочу быть кошкою, захочу собакою. Ка-ак, ты мне и это покажешь? Говорите, говорите, вам ничего не будет.
Одного гада допустили в святая святых и из него выросла домашняя кобра. Первая реакция: а чего ты улыбаешься, с тобой могло случиться то же самое. Другого держали в сторонке, и получился гибрид.
Что? Ортега? И Гассет? А кто они такие? А ты читал стенограмму Белинского монологов Станкевича на четвергах у Петрашевского? А у меня знаешь что есть? Да ну! Ну да! Эту открытку он мне тоже послал. Он мне тоже показывал. У меня есть сломанная авторучка моего учителя математики. А я видел нашу училку по чистописанию в булочной. А я видел, как наша пионервожатая в кустах писала.
Это значит, они читают только для того, чтобы знать, кто что про них сказал.
Асаркан считает, что с Византией уже ничего случится не может. А вот если бы обнаружилось письмо императора Николая к варшавскому монарху, где он намекает, что есть преданные люди, готовые организовать союз — предполагаемое название «Союз благоденствия», — и с моего ведома собираются организовать восстание в декабре, а под это дело мы с вами сговоримся по поводу польского вопроса; вот если бы такая переписка двух монархов обнаружилась, это перевернуло бы наши представления о ходе русской истории со времен декабрьского восстания и вообще кто кого разбудил.
Это не смешно, когда в завалах вавилонских глиняных табличек обнаруживают клинопись: «Вперед к победе капиталистического строя!»
Изображает отчаяние, а испытывает радость. Я буду переводить, а вы записывайте. Вы обращаете внимание на слова, а важны и оттенки жеста, например, рука на стакане: «Мне не надо, я не пью». Занятые все люди. Тем же языком.
Как листовка НТС. Помогите чем можете в борьбе за свержение анти-царизма и окончательную победу анти-коммунизма во всем анти-мире. На анти-том-же языке.
Катастрофа. Например, человеку вырвали зуб, и он вспомнил подлость человеческой натуры. Как все вокруг пошло, дико, жутко. Позвоночник зачесался: надо сообщить об этом агентству Рейтер. Поступил в четвертый класс, пишу политический памфлет на свою учительницу под названием «Третий класс».
Мы говорили громко и на высокие темы, стараясь перекричать друг друга, чтобы скрыть неприязнь друг к другу и заглушить косые взгляды вокруг. Тут и появляется смык. Я тебе сейчас расскажу одну гадость про человека, про которого ты, по слухам, коллекционируешь гадости. А за дверью слышался стук моей пишущей машинки.
От меня скрывали существование Магомета. Спутал Бога с пророком. Что это за новое чудовище? Пишет как Зиник, но только лучше. Если он по телефону говорит так же, как я, значит он на меня не похож: я по телефону звучу вообще иначе. На твой поэтический сборник «Почему я еще жив» отвечаю: «Потому что ты рассылаешь его по почте».
«Изоляция есть? Нож? Это надо изолировать. Дай нож. Веревку. Мыло». Он зубами оголил провода кофейной машины, сплюнул кусок резины, замотал, завинтил винты столовым ножом. Я старался пробить непроницаемость. Нарушить табу. Бросить камень в эту кофейную машину.
Но еще и проблема вины: он до сих пор не знает, за что его отшили.
Как встреча у кофейной машины: нет, он поднял на меня глаза, он заметил, но он смотрел и в упор не видел, а потом поднял руку и сказал: «Пошли!» Пошли. Пошлость, пошлость была в этой тайне, написанной на лбу вавилонской блудницы.
Но сначала надо было со всей серьезностью изучить язык предков и только потом позволить себе разрезать «Правду» и переклеить заново так, что из «искусства братской страны» получался «искус братской раны». Это ты прислал? Так это ты прислал!
Приблизительно то же самое с чехартмой и черемшой у трех сестер.
А за это время была написана только одна строчка этого письма: «А за это время…» Мы тут за ночь наговорили на магнитофон столько, сколько тебе за всю жизнь не написать.
26.2.74
Кстати, Набоков пишет на маленьких карточках, стоя за конторкой, принадлежащей Флоберу. Куплено с молотка? Теперь я понимаю, почему Набоков так хорошо пишет.
И вообще, даже если это и открытие велосипеда, я всегда считал, что чем больше велосипедов, тем лучше.
Расскажите мне, как я себя вел? Чужие слова оказались важнее собственных. Чужой звук — это такие два слова, из которых родилась целая судьба. И эта судьба стала кому-то мешать. Чем позже ты об этом узнаешь, тем лучше. Слова те же, но собеседники каждый раз менялись.
Чем отличается попугай от обезьяны: она еще может и рожу состроить.
Подонок, но стихи забавные. Почему меня не взяли? Всех забрали, а я на воле. Приспособление присноблаженно не приспособлено к равнодушию приспособленцев. Главное, это проявлять энтузиазм.
Мелькает что-то похожее на: «Ну, Мао-дзе-дуна вы по крайней мере уважаете?» и «так мало чехов в сравнении с вьетнамцами» и «возьмите 10 000 и уматывайте поскорее» и «вы жертва, разве вы можете быть объективны» и «в длинном темном коридоре пожал руку и с опаской оглянулся».
Нет, все-таки Похитительница Сигарет не права. Но почему он тогда все время на нее ссылается?
Не считая проблемы обратного перевода. Круг Первый превращается в первый круг. Кто бросит камень в этот пруд, а кто будет следить за кругами. Нам не дано предугадать. Мысль, изреченная в этом доме, есть ложь. После долгого перерыва он вошел в свой дом и увидел своего закадычного врага и в зубах у него свою берцовую кость. Вкусно.
Магнитофон крутился. Разговор на кухне о Шиллере, о славе, о судьбе закручивался. Глаза смотрели с такой пристальностью ужаса, что было ясно: она не слышит, что ей говорят.
Я знаю ненависть людей тридцатых годов. Знаю космополитизм сороковых. Гражданственность пятидесятников. Конституционность шестидесятников. Но что такое «экстровертированный», скажите на милость? Экстровертированный ты человек. РеспУктабельный. Ну просто ходячая энциклопУдия. Как с «мебелью» без буквы «м». Или с «Переделкино» без второго «е».
Чем позже Вы об этом узнаете, тем легче Вам будет. Это было сказано еще под снежную пургу на Пушкинской улице. «Ублюдка» он не простит. Как, впрочем, и «чей это почерк?» Забылось и хорошо: если все помнить, невозможно двигаться дальше. Стоило ли двигаться дальше Пушкинской улицы? Он навсегда останется. Он ничего не простит.
Важная мысль: моими устами глаголет вся присноблаженная, но как раз те, кто это слышит, и так все сами давно понимали. На трупах, на червивых трупах: какая тут может быть проясненная катарсисом исповедальность? В разговорах о свободе этот человек становится деспотичным.
Но зачем так про мою жену? И собака там слишком приставучая, хотя и сообразительная. Очень ловко тянет куски со стола, думая, что на нее никто не смотрит. Она на всех тут похожа.
Почему каждый шаг подтасовывался с одной лишь целью: уесть великую женщину? Бунт у заколоченного ларька. Мела пурга на Пушкинской улице.
У него столько преданных знакомых, которым он должен быть предан, что в целом это выходит как предательство. Он умеет с твердым доброжелательным взглядом выслушивать черт знает что, но не следует думать, что он с вами соглашается. Активность в пассиве.
Вы думаете, я славен только своим хорошим отношением к гомосексуалистам? У Вас за каждым словом стоит целая жизнь. За такую судьбу можно и 25 лет отсидеть. Озвучивать будем потом. Радости магнитофонщика.
Неделец: «А чего вы так бурно обсуждаете, как он вошел, как посмотрел, что сказал?» Встреча, разоблачение, гадючник, отъезд. Он запускает воздушный шарик и следит, как кто его отпарирует. На кого он бросил последний взгляд? Нахальство, поданное небрежно. Я тоже могу с матерными интонациями. Детский энтузиазм. На костях. К косноязычию не стремились. Прибой как вафли их печет. Все ниже будет загибаться. Именно так нужно было понимать фразу: «Звезда Зиновия все выше будет подниматься». Завтра нет — есть только послезавтра.
Лев Смирнов о Карлсоне: «Толстый человек в обтрепанных брюках, в грязных ботинках, с физиономией печальной и продувной. Он в той же мере далек от мечты, от веры, от надежды, в какой похож на воров, так что самой точной реакцией мамы было бы позвать полицейского» (журнал «Театр» № 8 за 1968 г., стр. 22). Но мы знаем, о ком это.
Нет, это не пятидесятые, и не шестидесятые, и даже не тридцать седьмые, не говоря уже о сорок восьмых.
Он притворялся пародией на самого себя.
Но вот появляется такой гибрид и везде оставляет следы своей эпистолярной деятельности. Заборное творчество. Например, когда рядом с сердцем и гигантской стрелой написано: «Умей любить, когда тебя не любят». А рядом еще одно последнее предупреждение дворника: «Еще раз напишешь — убью!» Это как открытка с целью проверки работы черного кабинета — с текстом: «Предполагается, что это никого не касается».
Он заметил кирпич в диване, но не придал этому особого значения. И только через десять лет понял, что именно из-за этого кирпича не мог спать спокойно все эти годы. (Я только сейчас понял, что речь шла о кирпиче толстой рукописи.)
Они там тоже рисуют круги. У них этажи магнитофонных лент, но вот с системой расшифровки до сих пор завал. Толковые словари от пола до потолка. Для просушки открыток. Вытащишь один том Истории инквизиции, все рухнет. Сколько страниц стенограмм я исписал?
Вы хотите одной ногой здесь, другой там. Он не вырастил из него домашнюю кобру. Но получился гибрид. И теперь будут из него как из отказника растить важную валютную единицу, заодно вычерчивая круги. Вы-то меня не знаете, но я вас за пять лет знаете как изучил?
26.2.74
Почему оборван уголок? Значит, было посвящение, а потом решили его убрать. Он сначала активно плавал на месте бывшего Христа Спасителя и Дворца Советов, а потом услышал от врача по бассейну: «Остерегайтесь неожиданного удара в поддых».
Здорово насобачился. Я его не люблю, и он мне все портит. На чужой машинке не та лексика. Ваша машинка меня ухандакала. Почему нужно унижать одного классика за счет другого? Англичанка пожала плечами. Сол Беллоу? Он приезжал к нам в Англию, выступал по телевизору, через пять минут я перестала понимать, о чем он говорит. Этрусская ваза хороша тем, что совершенно бесполезна.
Когда он лежит, вопрос о размере вообще не встает. Слово «подушка» в русском переводе отсутствует. Когда он в спокойном состоянии, он никому не интересен. Вот когда он встанет на дыбы, можно говорить о его величии.
И все равно — жулик. Потому что старается выглядеть так, каким, ему кажется, он должен выглядеть в чужих глазах.
Не считая гипноза. Кто вам сказал, что он нарушил подписку о неразглашении? Я узнал обо всем у него с помощью телепатии.
Вот тут еще есть комсомолка тридцатых годов, которая борется с душными мирками, она звонила и целый час обличала мой душный мирок. Из нее много чего можно выудить, но только некому будет записать, а то, что не записано, смысла не имеет, учитывая и то, что записанное тоже не имеет смысла.
Надежды на выход в свет первым. Америку открыл Колумб, а названа она именем Америго Веспучи.
Важно вовремя вспомнить уже написанное. Там черный хлеб дорого стоит. Там черный хлеб — деликатес.
ЧЕТВЕРГАЗМЫ
В неизвестном направлении[7]
10.1.74
ЧЕТВЕРГ В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ.
Москва продолжала дымиться от французов.
— У вас москвичи и ленинградичи говорят очень непохоже, как свинья и апельсин. Нашего комрада обозвали в Ленинграде и все компаньоны вокруг хохотали как резанный петух. Я спрашивала круги пешеходов в Москве, что это слово значит, но они смотрят на меня как баран на новую арку.
— Что за слово?
— Бабья порчА. Это женский материал?
Другс — это такая русификация английского языка. Вчера дринкал с двумя герлами. На одной были Байтовые трузера на зиперах, у другой — на батонах. По-русски так себе спикают. Особо не стараются воркать. А вот гошисты против этого протестуют. Они думают, что сделают революцию, но мерседесы при этом останутся. На чем кончается гошизм? На регламенте. Становится гошист постарше, и понимает, что ему тоже надо ложиться вовремя, чтобы вставать с утра пораньше на работу. На этом кончается гошизм. Но гошистами называются не все леваки, а только те, кто принимал участие в событиях 1968 г.
Ничто так не устаревает как модный жаргон. Все главные разговоры происходили на кухне. Все побочные разговоры идут в третьей комнате. А в детской — комната отдыха самого главного Четвергана.
— Я что у вас хочу спросить: у нас в России считают, что французы — лягушатники. Это правда?
— Пардон?
— Лягушатники. То есть едят — ам-ам — лягушек. Правда?
— Лягушка?
— Прыг-прыг.
— Сейчас я буду смотреть в словарь на слово прыгать. Вошь?! Мы не едим вошь!
— Ну да, это мы кормили вшей. Не об этом речь.
Обратно тот же разговор. Обратно мертвеца везут. Она изучала движение старообрядцев. Очень похоже на иудаизм. Но она еще не знает, какое влияние на двор Ивана Третьего имела секта жидовствующих и что по этому поводу сказал Нил Сорский своему противнику по диспуту. Ему в деревнях задаром дают. Пришли из Третьяковки и сразу предложили провести электросигнальную систему тревоги. А наутро иконы уже не было. Потому что КГБ плотно связано с Третьяковкой. КГБ отбирает иконы у фарцы и передает их в подвалы Третьяковки. Третьяковка продает их за границу, а потом нефтяной магнат Хаммер дарит их русскому народу.
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Мне никогда не перемыкать того матросика бушлат. Ты замотай меня неволя, чтоб я устал пережидать. Стихи, записанные с голоса в аэропорту.
Именно потому, что у него был в жизни такой человек, сердце которого в чужом краю. Где меня носит в такое дикое время?
Не за что уцепиться. Взгляд каждого устремлен в будущее. Слова постороннего человека стали важней знакомого взгляда. Спина болит. Сердце свербит. Совесть чешется. Предки разводятся.
У нас принято заниматься людоедством, и, согласно международной конвенции о правах человека, мы не собираемся отказываться от наших национальных обычаев: мы своих людей едим, а не ваших.
Идеи замечательные, но сапожность процесса подавляет.
Но если ты такой антимарксист из круга первого, чего ты по всем голосам декларируешь свою классовую позицию в борьбе с классовым врагом? На своем языке вы, наверное, великий поэт.
В свете заходящего солнца вороны летели на ночевку на фоне резинового завода. Я понял, что кончается беззаботная жизнь.
Человек переписывал печатное издание стихов Есенина печатными буквами. На последней странице были видны следы карандаша: разметка по строкам. Рисование по клеточкам. Без учителя.
Мне снился капитализм.
Когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть. Когда? Когда исчезнет ложь и грусть? Или ложь и грусть исчезнет, когда пройдет вражда племен?
Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, — помню. Главное: не отвечать на незаданные вопросы. Когда внезапно возникает еще неясный голос-труп. Но слова гордого отныне не сможет вымолвить.
Этого письма не помню. А вы вспомните. Не помню. А чьи пометки на полях? Ваши? А что, когда вы читали, этих пометок не было? Вот это был опасный момент. Внутренне дрожа, но не снижая тона обнаглевшей девицы: «Ну а дорогу хоть вы мне оплатите?»
Главный кибернетик под домашним арестом дает интервью иностранным корреспондентам через окно своей квартиры на третьем этаже, куда подсунули микрофон на десятиметровом шесте из автомобиля. Потом американские телезрители увидели широкую спину работника госбезопасности.
10.5.74
Разговоры, в ожидании которых провел десять лет. И вот тебе говорят о том, что от тебя скрывали. Но вопросы остались. Например: как Подросток превращается в Версилова? С чужими жестами и интонациями. Оказывается, сам Версилов говорил не очень чтобы от себя.
РАЗГОВОР НА КУХНЕ
Который существенно отличается от разговора в третьей комнате. Только под режущей голубизной палестинского неба, где под оливой — ни мертвых веток, ни калек, только там такой скачок возможен. Чтобы не страдать под небом Африки моей. Пожар на помойке, когда клочки обугленной бумаги, как вороны, летят вверх в колодце двора к голубому небу и испуганные жильцы дома следят за тобой сверху.
Подражать сознательно, чтобы понять: слияние невозможно. Один — деспот, другой — провокатор, третий — бунтарь. Тут изволь быть на полную катушку бунтарем, провокатором и деспотом, и только тогда есть надежда, что ты не станешь никем.
Все по поводу или фальшивомонетчиков или имморалиста. Разница между личностью и индивидуальностью. Когда тебя нет рядом, я гениально могу охмурить кого хочешь твоими интонациями и манерой подсовывать каждому подходящую идею. А она все запоминает и в следующий раз говорит: а в прошлый раз вы говорили все наоборот. Вот ты меня научил, а у меня в результате развивается какой-то цинизм. Научил на свою голову. Латинским шрифтом.
КОСМОС
РОСС
МОСКВА vodka sputnik samovar КЕРНЕМ?
НАС ЕВРЕЕВ НЕ ХВАТАЕТ В КОСМОСЕ
А В МОСКВЕ НЕ ТА ВЕРА
РОССАМ НЕ ХВАТАЕТ КВАСА
ОН НЕ ТОТ
ОНА НЕ ТА
ВСЕ НЕ ТЕ
Я закончил роман Сола Беллоу на тему «надо ли лететь в космос?»: никому не сидится на нашей бедной планете и никто не хочет смириться с собственной шкурой.
Асаркан считает, что между двумя революциями был просвет. Мы считаем, что не хватало электричества. Он считает, что Россия могла стать Западом, были свои десять праведников, но не хватало двух снайперов.
Новое лицо принималось в штыки. Ты сейчас новое лицо в этом муравейнике, а потом появится новый жук, и ты тоже будешь солидаризироваться с пауками.
А что такое человек как не учреждение, набитое до отказа отражениями лиц, с которыми он общается изо дня в день? Не расстреливал несчастных по темницам. Ведь он же не расстреливал.
А старый дед Айхенвальд, специалист по поэтическим силуэтам, пользовался неогласованной манерой письма русскими согласными. Послушайте опытного человека, послушайте старика, он умнее всех вас. А сам опытный человек не уставал повторять: «Никого не слушайте». Назначение неизвестно. Его заносит. И только улыбка в машине выдавала его с потрохами. Как трудно протащить английскую цитату в язык родных осин.
Разбитые скрижали страшно волновали. Не считая вавилонских клинописей. Психиатры забеспокоились: жалуется на наличие мыслей в голове. Если грязные мысли, значит и поступки не лучше. Если написал слово, изволь за него отвечать. Если подумал, то как бы уже и записал. Если дышишь, значит думай. А слова носились в воздухе и были ничьи. Глотать больно. Желание совершить преступление было настолько сильным, что оставило больше улик, чем настоящий преступник.
Тут мне придется перейти на язык родных осин, поскольку речь пойдет о березках. Твоих прав непризнанная волость — чужая суть. И граница и грань и межа и посев конечно же не на земле, возможно в языке, возможно, но, во всяком случае, не уходя, не уклоняясь от повинности, не путая дядю с соплемянником. И если есть что-то вокруг, то не дальше того, до чего ты можешь дотянуться рукой: до своей жены, до своей боли в позвоночнике, до собственных слов, которые и до губ еще не дошли.
Измерение всегда было четвертым. Для меня важна была судьба трех человек, а звезды и пророчества возникали только как повод для выяснения отношений. Но у каждого из тройки своя звезда, а какая звезда, такая и езда, и всякая езда нуждается в узде. Укатали сивку крутые горки.
7.5.74
Что интересно четырем домам и пятому колесу в телеге. Какова фуражка, таковы и мысли. Каковы погоны, таково и внутреннее достоинство. Каковы вопросы, таковы и свидетельские показания.
Пророчество о пепельном ничтожестве сбылось. Мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем.
Каков был образованный телеграфист, таковы и его образованные стихи.
8.5.74
Все мы вышли из этой шинели. Но ни один не догадался сшить себе из рукава этой шинели тришкин кафтан. Или сделать из пятого колеса телеги велосипед. Оказывается, у Пятикнижия есть автор. От меня скрывали существование Моисея.
«Вера, чаю!»
«Надо уметь оставаться слабым», сказал сильный человек. Перед глазами фигура Дзержинского, изучающего еврейский язык для работы с бундовцами. Такая манера говорить о тебе, обращаясь к третьему собеседнику. Почему я за тебя должен отвечать? Вы щенки. Слушайте меня. Время на ваших часах остановилось. Начало из Сталина, конец — из Солженицына.
Поэт зачитывает гостям стихи, его жена говорит с подругой по телефону. В паузах между стихами слышен ее голос:
— Бред.
— Не слушай его.
— Чушь какая.
Российская мистика: сидит человек и пишет «раздался стук в дверь и в комнату вошли двое» и тут действительно раздается стук и входят двое.
ТРЕТЬЯ КОМНАТА
4.4.74 четверг
Ты думаешь, если ты будешь разговаривать умело, ты их обманешь. Ты думаешь, если будешь разговаривать вежливо, ты сохранишь с ними нормальные отношения. Ты думаешь, если ты объяснишь им свою позицию, они от тебя отстанут. Наивная шельма. Ты думаешь, они ждут от тебя имен, адресов, дат. Не нужен им этот самиздат, они сами из дат. Не остроумно. Им важен контакт. Ты обращаешь внимание на их слова, а тут важно заметить наклон губ и прищур глаз. Им важно продолжение разговора, а не сам разговор. С умным человеком и поговорить интересно.
Уходя из мира, не забудьте хлопнуть дверью. А то никто не заметит. Макаров чешет затылок, но это не тот Макаров.
— Вы опоздали с вызовом на двадцать лет. На вашем месте я бы послал привет всем уже оттуда. И в конце концов: что за торговля верностью и преданностью? Вся эта верность и преданность хороша, пока не найдется еще одна верность и преданность.
КТО БРОСИТ КАМЕНЬ В ЭТОТ ПРУД ПОЖАР В ПЕПЕЛЬНИЦЕ
17.5.73 четверг
Они, знаешь, тоже умеют накручивать и перечертачивать. Это все равно что человеку посоветовать прыгнуть с четвертого этажа, чтобы избавиться от икоты. Вот такие пирожки. Она же вроде стерва, четырех мужей бросила?
Пожар в пепельнице заливается водой из-под крана и потом надо проветрить помещение. У тебя не глубинные противоречия души, а болезнь роста: с кем и куда идти? В какую школу: с английским уклоном или математическим?
Справа налево или слева направо? 37-й год или 73-й? А потом началась такая веселая жизнь за наш счет. Столпничество на паркетине. Их согревают девочки. Фонд подачек на тебя не рассчитывает.
Пока что тебе нужна совесть, чтобы сочувствовать стану умирающих за высокое дело. А когда ты сам очутишься в этом стане, совесть тебе уже будет не нужна. У них вся жизнь в этом: гульнуть на дне рождения, а потом обратно в лагеря на семь лет.
«Она фанатичка. Сикель. Кусок студня».
Он сломал нам штопор. А потом сварил пунш в чайнике для заварки. Придется перенести пятницу на четверг. Память враждебна всему личному. Ласкать и карябать. Но братьев наших меньших никогда не бил по голове. Надо этого мальчика, с фантасмагорическим мышлением, в нашу обойму. Получишь семь лет за клевету на личность. Я начал с того, что протоколы допросов Якира — это литература, и, следовательно, к личности Якира прямого отношения не имеют.
Потеряны грани. Не тот посев. Пародия на уровне пародируемого — это просто плохое воспроизведение жизни. Что останется от соц-арта, когда не станет соц-реализма?
Должна же обезьяна отличаться от попугая хотя бы на разницу между свиньей в ермолке и раввином с куском свинины? Скорей бы он уехал: метагалактические категории изложенные языком начальника отдела кадров.
Изложите письменно и я поверю. Подпишите протокол допроса. Судить будут по протоколам сионских мудрецов.
Но для Версилова беготня по городу под собственное бормотанье и случайные встречи и были жизнью. Для вас это — эпизод. Реликвии, которые берутся с собою в загробную жизнь. Еврейский вопрос по-русски это не вопрос, а ответ. Она задирает юбку. Под штанами ничего нет. Под юбкой ничего нет. А икона где? Ты куда, гадина, спрятала икону? Мы даже знаем, что вы увезли пластинку с аплодисментами к речи Сталина. Спасибо русскому народу за то, что он такой великий русский народ. А ему и великий человек не икона. Но где икона?
Но сроку быть. И мы еще попляшем. И мы еще посмотрим кто кого. И мы еще покажем вашим «нашим» кто перед Богом избранней всего.
31.5.74
Первая мысль была: может быть, после ареста, жена согласится уехать? Когда произойдет метагалактический взрыв, кому ты будешь тыкать в нос своей солнечной системой? А кобра, тем более домашняя кобра, не так уж опасна: она перед прыжком плюется.
Она помнит все личные обиды четырехлетней давности: как я ей не принесла кефир и как я слишком сексуально посмотрела на ее мужа. Но кто оказался победителем? Нищий монах под дырявым зонтиком. Человек, который помнит все тычки и затычины, но не подавал виду. Он стал диктовать им каждый шаг. Он у них сидит глубоко в Я. Он как Сократ, которого нельзя ни выгнать из дома, ни забыть. Его можно только убить. Для древнего грека это означало: лишить родины.
Жить не по лжи. Жид — не пол-жид. Путь гражданского неповиновения по Ганди. По «чем»? Не поганьте! Не обычай дегтем щи белить. Такое еще одно сестное место, которому в первом круге узел первый с барахлом невподым.
Человек в Европе в поисках родной Рязани.
Когда в комнате появилась дочь лондонского раввина, Оли в комнате как будто не стало. Когда дочь лондонского раввина возжелала закурить, Вадик так поспешно через голову Оли поднес ей спичку, что чуть нос не подпалил Оле. А с отъездом как произошло? Та же наглость. Асаркан решил, что Вадик поедет провожать кибуцную француженку на метро, а он, Оля и дочь лондонского раввина, вместе с Леней Иоффе поедут на такси вчетвером. Но Вадик совершенно нагло сказал, что так как и дочь лондонского раввина и кибуцная француженка и он сам едут в одном направлении, то в такси с иностранками поедет он, а Асаркан поедет сам по себе. Как? У Оли нет денег на такси. Ну, значит поедут обычным путем. Как? Обычным путем. Надо немедленно заявить протест начальнику железных дорог нашей жизни.
«Человек продолжает действовать. Смерть продолжает следить. Если вы чувствуете себя счастливым, скрывайте это. Если сердце ваше переполнено, не открывайте рта». (Saul Bellow)
С ними всегда можно разговаривать. На разные темы. И даже с улыбкой. У них отрывочные сведения. Они заходят с разных сторон. Когда граница достигается, ты должен немедленно пресекать продолжение разговора. И тут надо быть готовым к тому, что тебе придется испортить им настроение. Чего стоят слова об отчаянии, если пережил отчаяние, которому нету слов? Это вот что такое: это поиск подходящего взгляда на встречный ответ в чужих глазах.
Мы стояли у входа в кафе «Дружба», прячась от ураганного дождя. Градины величиной с грецкий орех отшвыривались ветром, и асфальт побелел, а потом хлынул тропический ливень, потоки воды не успевали сливаться в канализационные трубы, они неслись вниз по Неглинной, пенясь, переливаясь через кромку тротуара, и уже захлестывали окна подвальных помещений. Люди бежали, закрутив штаны чуть ли не до колен. Потом вдруг выглянуло солнце. Все почему-то улыбались. Через две коротких перебежки в паузах между ураганным дождем, мы добежали до кафе «Артистическое» и заказали триста граммов портвейна. Это было счастье.
«Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде тоже ничего не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что никогда ничего и не будет». (Ф.М. Достоевский, «Сон смешного человека».)
Я с упорством продолжал переписывать чужие сны. Когда спящий проснется.
Иностранцы продолжают изучать отжившие старинные русские обряды: например, отъезд евреев в Израиль. Но ее соотечественники ей тоже не нравятся: они — сантимники, ну прямо как русские в Америке. Сол Женицын в переводе лучше, наверное, читается: сестное место исчезает и остается обыкновенная жопа.
Вы думаете, будущего не будет?
Он теперь будет доказывать тем, кто относится к нему презрительно, что они презрительно к нему относятся. Все время требовать подтверждения их злобной сущности, при этом требуя, чтобы они от этой сущности отказались. Он такой человек: борется за отъезд, но уезжать не собирается. Он пойдет один к неведомым пределам, душой тоскующей навеки присмирев.
Заверни блюдо в свои брюки. С чемоданом туалетной бумаги. Он завезет туда тараканов. Не считая всего остального. Ты знаешь, что поезд в Вену отменяется? В Вену вошли войска Китайской Народной Республики. Вы что, радио не слушаете? Уже сходили за машиной? Чемодан с туалетной бумагой пойдет в первую очередь. Кофеварку я отдаю тебе. Она действует по принципу самогонного аппарата: два стеклянных шара, сверху закладывается кофе, снизу идет пар под давлением. У тебя будет много аллюзий, реминисценций и рекримаций. Ущербную посуду брать не надо. В крайнем случае высылай просто пустые открытки.
Евреи воспринимают мир как огромную тюремную камеру, от которой потерян ключ. Надо кричать и стучаться. Зря он не догадался устроить музейный экспонат «Купе отъезжающего», показывать всем до отхода поезда и брать по иконе за вход. Русских евреев там не любят. Бюрократия страшная. Но туда надо ехать, понимаешь? Может, устроить костер из старых чемоданов?
Там, где у нас все начинается, у них все кончается, потому что мы живем справа налево. В России кончается то, отчего все хотят уехать туда, где именно это все и начинается.
У них все в порядке, но они для порядка должны делать вид, что у них не все в порядке. Я не против традиции, но сапожность процесса подавляет.
— Когда я преодолеваю частицу тебя внутри себя, я чувствую себя настоящим человеком.
— А когда о твоих подвигах не знает сосед по лестничной площадке, ты чувствуешь себя ничтожеством.
Кончай-ка кофей да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит. (Современная идиллия.) Удавы — лучшие няньки. Но Оля не может таскаться с узлами по Европам. Оля подавлена. Но воля не хочет сдаваться. Воля настаивает на том, чтобы не было другой комнаты, куда можно уйти. Воле это дорого обойдется. Он и так распадается, но распад ведет к ядерному взрыву. И в кибитках с узлами настоящие женщины не поедут за нами.
Лови фантомами души летящие напрасно миги. Боинг 707?
В конечном счете виноватой окажется воля, которая не сказала: «Иди!» Гибрида тут не получится. Интонации сожаления уже не способствуют продолжению старого разговора. Вот чем обернулась фраза: «Ему некуда деться». Все равно тебе, воля, некуда деться. Будущее представлялось колодцем, на дне которого лежит удав — лучшая сиделка для стариков, впавших в детство.
Потерянный ключ и стал поводом для уклонения от повинности.
Чем больше ему не везет, тем виноватей выходит она. Что мне, по Европе с узлами таскаться? Пусть он не думает заводить себе вторую Пушкинскую улицу. У нее от твоих уговоров разболелось сердце. На собачьей выставке судьи кличут собаку по имени владельца: «Кобель Рабинович, наденьте ошейник!»
Общественное помешательство: вся страна думает, куда бы переехать. Пора уходить. Жаль уходить с четверга. Ты или уходи или оставайся. Нельзя уже четвертую чашку чаю, одновременно говоря, что пора двигаться. Сейчас закроется метро и тебе придется здесь ночевать. Места достаточно, но с бельем хуже.
Зиновий Зиник
Иллюстрации
Примечания
1
За два года до этого точно так же уезжал в Израиль мой друг, поэт Леонид Иоффе.
(обратно)2
Лев Малкин (фигурирует в прозе Улитина как Феликс Круль), чья жена была француженкой.
(обратно)3
См. Приложение.
(обратно)4
Аллюзия на стихотворение Павла Когана. Улитин процитировал мне эти стихи за год до отъезда в одном из своих писем:
Мой ЛУЧШИЙ ДРУГ 37 года подарил мне в 1937 году стихотворение. Я его долго помнил, а вот теперь восстановить не удалось.
/с пропусками/
в четверг 28 ноября 1974 года
Когда-нибудь осенней ранью Я брошу край родных отцов И на прощанье, злой и щедрый, Швырну им все, чем был богат: Стихи и горы [дочь], даль [дубы] и кедры Жену и голубой закат. И пусть несут когда сумеют. Тогда мне будет все равно, Что даль навеки онемеет В краю любимом и родном. И только прорыдает осень, Кому-то передав привет, Что этот край навек покинул Последний, может быть, поэт.Лучше был где-то кусок насчет
«Не без Интернационала, Но ближним не оставив славу»и т. д.
Можете прочитать на вокзале, можете на четверге, можете повесить в дабл-ю-си.
С приветствием
Вас помнящий
ВСЕГДА
28.11.74
(обратно)5
«Четвергазмы» — машинописный экземпляр из шести частей. Москва, 1974, 252 с.
(обратно)6
Дайджест первой части без сохранения нумерации страниц оригинала. В оригинале — «Велосипед в феврале», машинописная копия. Москва, 1974. 23 с.
(обратно)7
Дайджест пятой части «Четвергазмов» — без сохранения нумерации страниц оригинала. В оригинале — «в неизвестном направлении», машинописная копия. Москва. 1974. 57 с.
(обратно)Комментарии
1
«Путешествие без Надежды» в оригинале — 120 машинописных листов формата А5. Пагинация сделана простым карандашом. Есть исправления и рукописные добавления (у нас воспроизведены курсивом). Перед текстом лист более плотной бумаги с рукописным заглавием «Путешествие без Надежды» и (карандашом): «120 стр. / она остается с кем-то еще».
В подготовке комментариев принимали участие М.Н. Айзенберг, 3. Зиник, А.Ф. Ожиганов, Е.П. Шумилова.
(обратно)2
В 67 году ему было 22 года. Он только что окончил МГУ — речь здесь идет о 3. Зинике.
(обратно)3
Пошли по редакциям — это то, что предложил мне тогда Асаркан (3. Зиник). п.п. гр. — потомственный почетный гражданин.
(обратно)4
[1] Gynaecology is а… [2] Tell Clare… [3] WORK is… — [1] Гинекология это развлечение. Это вежливый способ сказать «они не хотят уменьшать частоту». [2] Передай Клер, что говорить надо громко, отвечать кратко. И пусть не острит. Право вызывать смех у публики принадлежит одному судье [Голсуорси. «Конец главы»: Через реку. 28]. [3] РАБОТА — это слово из четырех букв.
(обратно)5
«Существенный Джойс» — The Essential Joyce, a compact anthology edited by Harry Levin (1946,1963).
(обратно)6
«Человек и сверхчеловек» (1903) — пьеса Бернарда Шоу.
(обратно)7
[2] As a matter of fact… [1] For the time being… [3] She did not notice… — [2] «На самом деле это единственный способ уехать — она тебя никогда не отпустит». [1] В то время, конечно, он делал вид что все у него тип-топ. [3] Она ничего не заметила. Если ты объяснишь, она все поймет. (1, 2: Henry Miller «Tropic of Cancer» — цитаты из разных мест.)
(обратно)8
Discourage me if I know… — Разубедите меня, если я правильно понял, что вы имеете в виду. Я не могу выписать новую цитату, просто не могу.
(обратно)9
Not that I wanted to write… — He то чтобы я хотел написать эту историю, но тайну многих картин я помню! Они плывут. Они плывут. Ничего не могу с ними сделать. Первая любовь будет где-то в отдаленном будущем. И Большой Брат еще не родился. И все впереди. И счастье и Герострат и близость и стена или может быть комната.
(обратно)10
В Лопухинском переулке находилась после войны Библиотека иностранной литературы.
(обратно)11
«Лейтенант с лицом худощавой свиньи». Это был такой лохматый прозаик из Ленинграда, но мы не знали, что он пишет стихи — речь идет об Александре Кондратове (1937–1993); в его стихотворении — «сержант с лицом худощавой свиньи».
(обратно)12
«Место на верху» (Room At The Top) — роман Джона Брейна, называющийся в русском переводе «Путь наверх» (1960).
(обратно)13
Про Майн-Рида мы потом узнали, он его еще не обозвал Майн-Ридом — «Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида» (Владимир Набоков. Лолита. Постскриптум к русскому изданию (1965)). Ср. с. 98. II
(обратно)14
«Коньячными ритмами» Улитин называл свои собственные монологи в перевозбужденном, не слишком трезвом состоянии (3. Зиник).
(обратно)15
…цитаты из «Силуэтов» — «Силуэты русских писателей» Ю.И. Айхенвальда.
(обратно)16
…«один гражданин организовал вечер» — речь идет о вечере Булата Окуджавы, организованном в кафе «Артистическое» Асарканом. Тамара Красивая — официантка из кафе.
(обратно)17
Почему меня беспокоила вторая чашка чаю? — аллюзия на мое подражательное сочинение «Четвертая чашка чаю» (3. Зиник).
(обратно)18
Ученица 4-го класса написала сочинение под названием «Третий класс» — из «Четвергазмов» 3. Зиника.
(обратно)19
One day they would decide… — Когда-нибудь они решат его расстрелять. Неизвестно, когда это случится, но за несколько секунд, наверное, угадать можно. (Это для тебя, мой мальчик.) Стреляют сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит. (George Orwell. 1984 — кроме слов в скобках.)
(обратно)20
«Тайная жизнь Уолтера Митти» — перевод П.П. Улитина из James Thurber был опубликован в сборнике напечатанных в «Неделе» в 1960–1961 гг. «Зарубежных новелл» (М.: Известия, 1962 [Переводчики не указаны!]). Автор назван — Дж. Тарбер. См. также с. 22.
(обратно)21
По словам Ю.К. Олеши, Бернарда Шоу можно выбросить из мировой литературы — Ни дня без строчки. — М., 1965. С. 237.
(обратно)22
Не знали, что закончим перебежкой. Что договаривает все граната — из стихотворения И. Эренбурга «Все простота: стекольные осколки…»
(обратно)23
«Цикута» — текст Улитина (ср. с. 44 и 100).
(обратно)24
Literary world… — Литературный мир, некрофилический до мозга костей — они убивают своих писателей, а затем украшают их могилы. «Я думаю, что психологическое условие для работы в газете — быть лжецом по призванию и патриотом по принуждению». Она призналась, что в некоторые дни, предвидя такую возможность, она приходила без трусов, чтобы сэкономить время. Проклятый дурак, неужели он не видит что у нас только один долг?
(обратно)25
Бескоэльс — Бескин + Иоэльс.
(обратно)26
Nicht gewöhnt, allein Sie haben schrecklich viel geschrieben [измененная цитата из Фауста (Театральное вступление:…nicht gewöhnt, / Allein sie haben schrecklich viel gelesen)] — Не приучены, но они ужасно много написали.
Take саге… — Осторожно. То же самое было в самом начале. Рисковать — для других. А вот и результат, если позволите. / ДИКТАНТ
(обратно)27
«Черный обелиск» — роман Ремарка (1956).
(обратно)28
ГНБ — Государственная научная библиотека; в 1958 г. переименована в ГПНТБ.
(обратно)29
…четвертый том Бакеберга — вероятно, речь идет о шеститомной монографии «Die Cactaceae» (Кактусы), выходившей с 1958 по 1968 г. (Этот фрагмент связан с работой Улитина в немецком отделе магазина «Книги стран народной демократии»; ул. Горького, 15.)
(обратно)30
«Волны» — поэма Б. Пастернака (1931).
(обратно)31
«День триффидов» (М., 1966) — роман Джона Уиндема (1903–1969).
(обратно)32
«Шпион, которого я любила» — Philby, Eleanor. Kim Philby: the spy I loved. London, 1968.
(обратно)33
Drink generously… — Выпейте с ним, не скупясь на угощение, и он щедро расскажет вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий (Уэллс. Человек-невидимка).
I wonder who's reading it now… — Я заинтересовался, кто это читает. Он читал Пастернака громко, и теперь я думаю, что это мог быть сам Мандельштам. Может быть. Это было приблизительно в феврале 1939 или немного позже.
(обратно)34
Where there is no ventilation… — Там где нет вентиляции, свежий воздух объявляется вредным для здоровья. Там где нет религии, лицемерие становится хорошим тоном. Постарайтесь получить то, что вы любите, иначе вы будете вынуждены полюбить то, что у вас есть. (Б. Шоу «Афоризмы для революционеров» Maxims for Revolutionists, приложение к пьесе «Человек и сверхчеловек».)
(обратно)35
«He's het up…» (p. 186 Destination Unknown by Agatha Christie) — «Он немного возбужден, но я бы сказала что Том Беттертон так же [психически] здоров как вы и я» («Место назначения неизвестно», рус. перевод в ж. «Неман» 1970, № 1–3).
(обратно)36
Verbotene Liebe… — Запрещенная любовь. Пропавшая жизнь. Что ты на это скажешь?
(обратно)37
К.Ула-Курта (Кулак-у-Рта) — прозвище одного из сокамерников по ЛТПБ (Колька Сутыгин, он же Мишка Мотыгин [см. с. 42]), с уголовным прошлым, который разыгрывал из себя шизофреника. Он потом появился в Москве, разыскал Асаркана, и ему принадлежит фраза, которую любил цитировать Асаркан: «Иди, воруй, пока трамваи ходят» (3. Зиник).
(обратно)38
Did you see me… If you can keep your head [Kipling. If], keep it, do it. — Вы видели как я плачу по счетам и бегу как угорелый? Вы видели как я плаваю? Достаточно для надписи на стене. Если вы можете сохранять свой разум, сохраняйте, делайте [именно] это.
(обратно)39
But she wanted to be arrested… — Ho она хотела быть арестованной. Но она хотела чтобы ей запретили спокойно спать дома.
(обратно)40
Всю ночь гремят джазбанды и скалят искалеченные рты — А. Вертинский, «Желтый Ангел».
(обратно)41
But nobody compels you… — Ho никто не заставляет тебя читать это. Но никто не хотел сказать что-либо более определенно. Проклятый дурак, как он не понимает? Именно в тот самый момент, когда тебе нужно найти 20 хороших слов. Двадцать хороших слов могли бы изменить это.
(обратно)42
Just for you about justice… — Как раз для тебя о правосудии. Официальная церковь и высшая мера наказания. Она хотела остаться в одиночестве.
(обратно)43
Virginia Dignam said wittily… — Вирджиния Дигнэм остроумно сказала: «Если это искусство, это искусство с Ф[еррери].» (См. прим. к с. 41.)
(обратно)44
«Разговор о рыбе» (1967) — книга Улитина (М.: ОГИ, 2002).
(обратно)45
«Болван предал болвана, то были я да ты» — фрагмент перевода двустишия из «1984» Оруэлла: Под деревом каштана, любуясь на цветы, болван предал болвана. То были я и ты. [3. Зиник, цитирующий этот текст в одной из своих радиопередач, предполагает, что это перевод Улитина.]
(обратно)46
«Under the spreading chestnut tree I sold you and you sold me» — 1984. См. выше. Scrambler is the word… — Шифровальщик — вот слово. Именно то, что я забыл. Именно то, что мне не нужно помнить.
(обратно)47
Тут человека берегут как на турецкой перестрелке — Пушкин, «Гусар» (1833).
(обратно)48
«Озеро в жаркий день», «Холостой заряд» — тексты Улитина.
(обратно)49
Мы читаем «Похищение премьер-министра» вслух. Агата Кристи в московском издании — Agatha Christie. Selected Stories. М., 1969. «The Kidnapped Prime Minister».
(обратно)50
«Трэджи фо ю, комикал фор эврибоди элс». Игзэктли! — «Трагично для тебя, комично для всех остальных». Точно! (См. прим. к с. 75).
(обратно)51
«Круг чистой воды». «Заблудшие». «Фараон» — фильмы.
(обратно)52
…роман «Максим Шостакович» (см. также с. 40, 109) — вряд ли имеется в виду мифический роман Вен. Ерофеева — он называется во всех источниках либо «Дмитрий Шостакович» либо просто «Шостакович»; у ППУ везде именно «Максим Шостакович».
(обратно)53
…«мать Ермолая» — то есть мать сына Солженицына.
(обратно)54
«Америка в Сокольниках» — имеется в виду американская выставка в парке Сокольники в 1959 г.
(обратно)55
Лучшая виолончель СС заявила, что СВ создает артистический карантин вокруг него и его жены… это месть за дружбу с изгнанником — Ростропович, советская власть, Вишневская, Солженицын.
(обратно)56
«10 рассказов и их авторы» — ср. «Ten Novels and Their Authors» Сомерсета Моэма.
(обратно)57
В высотном доме на Котельнической набережной находился магазин «Филателист», марочники собирались там.
(обратно)58
«Демон, а не возлюбленный» (The Demon Lover) — рассказ из одноименного сборника.
(обратно)59
Let them go… — Пусть они уходят, чем скорее тем лучше. Слишком много для этой темы [Поговорили и хватит].
(обратно)60
Original, fahr hin in deiner Pracht Wie konnte dich die Einsicht kranken: wer kann was Kluges, wer was Dummes denken, dass schon die Vorwelt nicht gedacht? — искаженная цитата из «Фауст», ч. 2, акт 2. Пер. Б. Пастернака:
Ступай, чудак, про гений свой трубя! Что б сталось с важностью твоей бахвальской, Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской, Которой бы не знали до тебя! (обратно)61
«Истребление истуканов»… по мотивам книги «Весна в Фиалте» — в сборнике Набокова есть рассказ «Истребление тиранов».
(обратно)62
«Четырехэтажная тавтология», «Фотография пулеметчика» — книги Улитина.
(обратно)63
Военный человек — речь идет о В.М. Иоэльсе (3. Зиник).
(обратно)64
…у Бержераков — у Айхенвальдов.
(обратно)65
Is this film a sick… art with an F. Virginia Dignam (4.1.74) about «Le Grand Bouffe (Blow-out)». Eating themselves to death. — Является ли этот фильм неудачной шуткой или произведением искусства? Я склонна предполагать первое, но если верно второе, то я буду считать его искусством вместе с Ф. Вирджиния Дигнэм о [фильме] «Большая жратва» [реж. Марко Феррери (Ferreri) 1973] (Пирушка — [англ. название]). Поедая себя до смерти. [Art with an F = fart (пердеть)].
(обратно)66
АИЦ: они обмениваются письмами и каждая пишет под копирку. Обе отмежевываются от «этого клеветника С.» А то не выйдет книга во втором издании. — А.И. Цветаева. Воспоминания — первое издание 1971. 2-е — 1974. С. — вероятно, Дмитрий Сеземан.
(обратно)67
ЛТД — лучший телефонный друг; так ППУ обычно называл В. Гаевского…о. победы над к.м. — окончательной победы над китайскими марксистами (с. 95).
(обратно)68
Кто переводил «А Вы любите Брамса?» — русский перевод Н. Жарковой (1974).
(обратно)69
…великий поэт и шпионка Бенкендорфа — Пушкин и Каролина Собаньская.
(обратно)70
«Отныне и во веки веков», роман Джеймса Джоунза — Джеймс Джонс, «Отсюда и в вечность» (М.: Воениздат, 1969). Улитин более правильно переводит название «From Here to Eternity».
(обратно)71
Эмбахада — посольство (исп. embajada).
(обратно)72
РДВ — Радио Дойче Велле (Немецкая волна).
(обратно)73
Шутка Валентина Петровича, вы только не говорите Леониду Максимовичу — Катаев, Леонов.
(обратно)74
Чи коегзистовач чи не енгзистовач (польск.) — либо сосуществовать, либо не существовать.
(обратно)75
Следователь Комельо — персонаж нескольких романов Сименона — чиновник от угрозыска, антипод комиссара Мегрэ.
(обратно)76
Пришел солдат с фронта — фильм реж. Н. Губенко, 1972.
(обратно)77
Hold your hour and have another [название книги Brendan Behan]. You have time… — Перетерпи час и возьми еще один. У тебя есть время, никто тебя не ждет, ты можешь сесть и выпить еще одну чашку чая. Я был с ним до конца. И я не забываю и ее слова: «Вы так похожи, что можно обознаться». Точно!
(обратно)78
No great physical pleasure… — Оба мы не получили большого физического наслаждения в ту ночь: было слишком холодно, я слишком нервничал, было слишком много мороки с пуговицами, молниями и бретельками.
(обратно)79
Thafs all… Und ist ein wunderlich Kapitel [ «Фауст», ч. 1, Кухня ведьмы]. Just what I thought, exactly. — Это всё. Все остальное в другой книге. И есть одна чудесная глава. Именно то, что я думал, совершенно точно.
(обратно)80
…завтрак в буфете ИФЛИ — наутро после того, как ППУ послал анонимную антисоветскую записку лектору по марксизму, к нему в столовой подсел студент и сказал, что знает, чей почерк в записке (3. Зиник).
(обратно)81
«Бабы рязанские», «Водоворот» — советские фильмы, оба 1927 г. Т. е., очевидно, речь идет о детских впечатлениях.
(обратно)82
Отошлю про «Тедди», ладно. 24.1.71 — при разборе библиотеки ППУ в книге: И. Галинской «Философские и эстетические основы поэтики Сэлинджера» (М., 1975) обнаружилась вложенная открытка А.Н. Асаркану до востребования (отправленная и, очевидно, полученная) со следующим текстом: «Если для тебя так важно иметь „Тедди“ по-русски, возьми черновые тетради и перепечатай на своей машинке. Там есть даже варианты, из которых ты можешь сделать выбор. Там только 2 последних страницы по-английски, а так всё полностью. И не высказывай ту мысль, что мол завидую Вам, господин учитель, на Ваши заботы. Они и наши. 20.1.71 /19.2.71» (зачеркивания, подчеркивание и вторая дата сделаны другими чернилами). Рассказ «Тедди» был впервые опубликован в «Иностранной литературе» 1982, № 10 (пер. С. Таска).
(обратно)83
Quel mysterei. — Какая тайна! Какое странное бремя, груз тайны, который можно было держать таким, сладким и тяжелым, в моих руках! Это были корни, корни всего того, что прекрасно, примитивные корни всей совершенной красоты.
(обратно)84
Низовскую пристань — испр. автором — было Нижнюю пристань.
(обратно)85
ЛЛИ — Л.Л. Иерихонов, литератор, знакомый Улитина.
(обратно)86
Приписку внизу этой страницы не удалось разобрать с уверенностью.
(обратно)87
Братья Шайхеты: их было 4 брата, Борис Ефимов, Ефим Зозуля, Михаил Кольцов и только четвертый брат фотограф остался при своей фамилии. Михаил Кольцов и Борис Ефимов действительно братья (Фридлянд). Ефим Зозуля и Аркадий Шайхет — нет.
(обратно)88
Пал Филиппыч — отец Улитина.
(обратно)89
…евгюбические надписи на 303 странице 1-го тома — у Толстого в «Анне Карениной» (т. 8 с. 302) не комментируется. «„В кабинете Каренина лежала начатая французская книга о евгюбических надписях“ (с. 243). В 1444 г. в умбрийском городе Gibbio (Италия) были найдены семь бронзовых досок с надписями, относящимися к религиозным обрядам. В ноябрьском номере журнала „Revue de Deux Mondes“ за 1875 г. напечатана статья французского филолога Мишеля Бреаля об „евгюбических таблицах“ („Les tables Eugubines“). Ее, по-видимому, и читал Каренин» (Толстой Л. Н. Анна Каренина / Изд. подгот. В.А. Жданов и Э.Е. Зайденшнур. — М.: Наука, 1970.)
(обратно)90
утомленная, но ненасытившаяся, это из Ювенала — Сатира VI, 130: et lassata uiris necdum satiata recessit.
(обратно)91
В том шалмане трое инвалидов… полягут тут тихи. — ППУ припоминает (также на с. 73 и, возможно, 115) стихотворение О. Берггольц [в опубликованном тексте: «В той шаражке…»]:
На собранье целый день сидела — то голосовала, то лгала… Как я от тоски не поседела? Как я от стыда не померла?.. Долго с улицы не уходила — только там сама собой была. В подворотне — с дворником курила, водку в забегаловке пила… В том шалмане двое инвалидов (в сорок третьем брали Красный Бор) рассказали о своих обидах, — вот — был интересный разговор! Мы припомнили между собою, старый пепел в сердце шевеля: штрафники идут в разведку боем — прямо через минные поля!.. Кто-нибудь вернется награжденный, остальные лягут здесь — тихи, искупая кровью забубенной все свои небывшие грехи! И соображая еле-еле, я сказала в гневе, во хмелю: «Как мне наши праведники надоели, как я наших грешников люблю!» (обратно)92
«Пока арба не перевернулась» — пьеса О.Ш. Иоселиани.
(обратно)93
Just for your information… — Информация как раз для тебя: я поддерживаю тебя на уровне. Я информирую тебя, а ты не обращаешь внимания, это твоя ошибка.
(обратно)94
And why should she be arrested?.. — Ho почему она должна быть арестована? Вот в чем вопрос. Ты на него и отвечай. Тебе лучше знать. Для тебя это не только право, но и долг. 2 раза. Священный долг.
(обратно)95
«Хабаровский резидент» — произведение Улитина.
(обратно)96
…однотомник Пастернака с предисловием А. Синявского вышел в 1965 г.
(обратно)97
…телескоп у знаменитого поэта-переводчика, который собирался переводить стихи товарища Сталина — речь идет о Тарковском. одно словечко из последней книги Бернарда Шоу. Что-то вроде «самохамовластие» — blackguardocracy — это словечко из пьесы «На мели» (On the Rocks, 1933) — не последней.
(обратно)98
Exactly and why not? — Точно и почему бы нет?
(обратно)99
Прибой как вафли их печет — цитата из поэмы «Волны» из «Второго рождения».
(обратно)100
У вас в Стамбуле — ссылка на Стамбул, как и везде в этой книге — про первую эмиграцию, скажем, Вертинского. Отчасти еще и в связи с тем, что в письмах из Иерусалима я упоминал, что нынешний Иерусалим построен, практически, турками (3. Зиник).
(обратно)101
Annamaria undressed in a swoop. Pumping slowly he nailed her to her cross. [Bernard Malamud's «Still Life»] Why try… In this i. universe of ours there is room for all… — Аннамария разделась стремительно. Медленно войдя, он пригвоздил ее к ее кресту [цитаты из двух разных мест рассказа]. Зачем стараться разрешать задачи? Уничтожайте их! Не бойтесь быть трусом, предателем, изменником. В этом отношении вы можете воспроизводить детские разговоры. В этой [?] нашей вселенной для каждого есть место, и возможно каждый для чего-то нужен.
(обратно)102
«Ты ли нагадала и напела, ведьма древней русской маяты?» — из стихотворения С. Наровчатова «Евангелие от Фомы».
(обратно)103
But I don't share… Не is cunt-struck, that's all. — Ho я не разделяю с ним его мнения о себе. Я не согласен (-сна?), например, что он философ или мыслитель. Он просто пиздострадалец, вот и все.
(обратно)104
But I like this… — Но мне нравится это «уничтожайте их». Замечательно подходит для европейских разговоров.
(обратно)105
«Оклахома» — вероятно, речь идет о фильме «Оклахома как она есть», 1973, реж. С. Крамер, приз Московского кинофестиваля.
(обратно)106
…мисс Ротшильд — Дороти Паркер. Великий писатель и храбрый человек — очевидно, Хемингуэй.
(обратно)107
Настроев — литературный псевдоним Кукрыниксов.
(обратно)108
Tragicomical «Tragi» for you, comical for everybody else. And what I told you? Трагикомически!!. Трагический для тебя, комический для всех остальных. А что я тебе говорил?
(обратно)109
Just the way to do it… — Вот как надо это делать. Собрать все цитаты, которые доказывают — диапазон ругани и проклятий может быть неограничен. Но ДВАДЦАТЬ ХОРОШИХ СЛОВ найти нелегко. А что я тебе говорил?
(обратно)110
Еще одна цитата из «Ламмермурской невесты» и как будто бы всё. Можно не полемизировать с Вагнером. — «Ламмермурская невеста» — роман Вальтера Скотта; по нему опера Г.Доницетти «Лючия де Ламмермур».
(обратно)111
The legitimate assertion of personal dignity — just what Boris Shalypin [возможно здесь ошибочное написание сознательно — так часто неправильно писали на Западе эту фамилию] was doing… — Законное утверждение личного достоинства — именно это делает Борис Шаляпин, конечно. Не вчера это началось и не завтра закончится.
(обратно)112
Роман «Инструмент» был опубликован в пер. Н. Волжиной в сборнике Дж. О'Хары «Жажда жить» (М.: Прогресс, 1970).
(обратно)113
р. 49. He's a writer… — …Он писатель. Сам я хрен чего напишу стоящего, но я пресс-агент. [Дальше идет текст, пропущенный в рус. переводе (с. 49).] Расскажите ему, что такое хуцпа [наглость, нахрап (идиш)], Эллис.
— Чего у вас много, — сказал Эллис Уолтон.
— Чего у вас нет, Янк. Вместе с воображением, но не тем воображением, какое есть у вас, Янк.
— Как пишется это слово? — спросил Янк Лукас.
— Хуцпа? Как бы вы написали хуцпа, Эллис? Не представляю как его писать. Это не слово для письма, это слово для разговора, беседы. Зачем вам знать как его писать?
— Я вообще интересуюсь разными словами, — сказал Янк Лукас.
— Не надо вам соперничать с Клиффордом Одетсом. Это его территория, — сказал Сид Марголл.
(обратно)114
р. 244. Those women that watch bullfights… — Те женщины, которые смотрят бой быков. Что-то вроде этого. Когда я целовала тебя, я надеялась что кончу, но не кончила. Я не могу кончить от одних поцелуев. [Этого текста нет в рус. переводе. Вероятно, относится к ситуации на с. 171.]
(обратно)115
р. 206. The second day after… (с. 149 русского перевода) — …На другой же день после возвращения в Нью-Йорк у него было cinq-a-sept [с пяти до семи (франц.)] с одной из моих шафериц.
— Что было?
— Эх вы, искушенный драматург! Он днем с ней переспал, — сказала она.
(обратно)116
«На грани острой» — очевидно, «По грани острой» (Мюнхен, 1972) — книга Ю. Айхенвальда.
(обратно)117
…кто из московских писателей опубликовал роман «Мнимые величины» под…псевдонимом Н.Нароков — ко времени публикации романа (1952; о деятельности НКВД) его автор уже несколько лет жил на Западе.
(обратно)118
…два злодея — очевидно, Сахаров и Солженицын.
(обратно)119
Нина Хиббин писала о кино в английских коммунистических газетах «Daily Worker», затем «Morning Star», которые читал Улитин.
(обратно)120
Strange that… Why did he ceased to kadrizza?.. — Странно, что редкие поцелуи и неуклюжие ласки могли так повлиять. «А почему он перестал делать пассы». Такой был вопрос. Слово было «кадриться». Почему он перестал кадриться? У него ревнивая жена.
(обратно)121
…московское издание — Хулио Кортасар. Другое небо. 1971.
(обратно)122
121-я страница из романа Агаты Кристи «Большая четверка»: I noticed the paying out of the huge sum <…> to some Russian with apparently every letter of the alphabet in his name (в рус. пер.: я увидел, что он заплатил кому-то — фамилия была явно русская — большую сумму…)
(обратно)123
«Високосный год» — фильм А. Эфроса 1962 г. В гл. (отрицательной) роли И. Смоктуновский.
(обратно)124
ПФС — вероятно, полковник финансовой службы (в след, абзаце).
(обратно)125
«Горпожакс» — псевдоним автора (ГОРчаков, ПОЖенян, АКСенов) пародийного детективного романа «Джин Грин неприкасаемый. Карьера агента ЦРУ GB № 014» (М., 1972).
(обратно)126
«Возвращение Василия Бортникова» — фильм реж. В. Пудовкина, 1953 г.
(обратно)127
«Айн Оффенес Ворт» — «Откровенный разговор» (нем.). «Ein Offenes Wort — ein Buch über die Liebe» Berlin: Verlag neues Leben, 1957.
(обратно)128
А кто протащил В. в п.? — ср.: Хрущев. Воспоминания. Книга 2. Часть 3: «Сталин… вдруг спросил: „Кто входит в Бюро Президиума?“ Ему перечислили. Дошли до Ворошилова. „Кто, кто? Ворошилов? Как он туда пролез?“».
(обратно)129
Приписку вверху этой страницы не удалось разобрать с уверенностью.
(обратно)130
«П. ч.» — вероятно, «панцирь черепахи».
(обратно)131
And his principal pleasure… — А главное его наслаждение в жизни было отвергать с порога все, что говорят другие. Это было нелегко. У нее было только одно оружие, и это была беседа.
(обратно)132
SNAKED APE Snake — naked — ape; the snake of a naked ape; sex starved cobra; some creature syncretic — ЗМЕЯ-ОБЕЗЬЯНА Змея — голая — обезьяна; змея голой обезьяны; сексуально озабоченная кобра; некое синкретическое существо.
(обратно)133
…доктор Эн. Эвлер-Мор — Л. Невлер (искусствовед, знакомый Улитина и Асаркана).
(обратно)134
…слова Бунина «но никто не видел графа Николая Толстого» — полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмигращи в Pocciio (Бунин. Воспоминания. Париж, 1950). Речь идет об отце писателя А.Н. Толстого.
(обратно)135
…«мэйл шовинист пиг» или «коншиэншес обжектерс» — (male chauvinist pig, conscientious objectors) — свинский мужлан-шовинист, отказник по убеждениям — обиходные современные политические термины.
(обратно)136
That all about the syncretic creature by the name of Miss Snay Kid-Ape. She was known also by the name of Maria Chuana. — Вот и все о сикретическом существе по имени мисс Змей Кид-Эйп. Она также известна под именем Мария Хуана.
(обратно)137
…когда пойдут на Запад поезда — из стихотворения А. Вольпина «О сограждане, коровы и быки!».
(обратно)138
Just what I told you./р.21 from «Destination Unknown». — Это я и говорил. /с. 21 из «Место назначения неизвестно».
(обратно)139
Presumably maddening men / and infuriating women / Saul Bellow / Mr. Sammlefs Planet — Вероятно обезумевшие мужчины и разъяренные женщины. /Сол Беллоу, «Планета мистера Сэммлера».
(обратно)140
ЗЛЯ — Зиник, Лёник (Невлер), Яник (Каган). ЗЛЯВ — те же и Вадик (Паперный) [из комментария Л.А. Улитиной к «Ошибке Пекинской тюрьмы»].
(обратно)141
Макаров чешет затылок (1967) — книга Улитина (М.: Новое издательство, 2004).
(обратно)142
«Шахматная новелла» (ФРГ, 1960) — фильм Г. Освальда по новелле Стефана Цвейга.
(обратно)143
«Закон и кулак» (Польша, 1964) — фильм Е. Гоффмана и Э. Скужевски.
(обратно)144
…ситуация с Джойсом: по-русски это звучит ужасно, это уже всем известно…но без этого тоже нельзя обойтись — «Джойс по-русски» — название текстов Улитина эротического содержания.
(обратно)145
Бескоэльс — см. прим. к с. 23.
(обратно)146
Министром здравоохранения в правительстве Голды Меир был Виктор Шем-Тов.
(обратно)147
«Сцилла и Харибда в кафе на Пушкинской улице» — один из моих ранних текстов, посланных по почте Улитину, о скандале между ним и Асарканом в кафе (3. Зиник).
(обратно)148
Художник, который умер за 3 дня до победы — «Смерть героя».
(обратно)149
«Свет погас» (Киплинг) с одной стороны и «Смерть героя» (Олдингтон) с другой стороны, а посредине все-таки удивительная «Цветущая пустыня» (Голсуорси).
(обратно)150
Где же твой идол, стоит? — чуть измененная (вставлена запятая) последняя строка из стихотворения Н. Некрасова «Литература с трескучими фразами…».
(обратно)151
Пока коней мне запрягали — из стихотворения Пушкина «Калмычке» (1829).
(обратно)152
Разговор его был прост и важен — Арап Петра Великого.
(обратно)153
…шутовство без остроты — из эпиграммы Тютчева «Князю Суворову».
(обратно)154
р. 288 John O'Hara, The Instrument (1967): / It was a full kiss… (c. 195 русского перевода) — …Поцелуй был крепкий, но для Хелен он соответствовал ритуалу: хороший, дорогой ужин — потом любовь. [Он положил руку ей под юбку, и она раздвинула ноги, чтобы ему помочь.
Немного погодя] она сказала:
— Отложим, не торопитесь. Мама сейчас уже спит. [В квадратных скобках — пропущенное в рус. переводе.]
(обратно)155
«Луна слева» (1928) — пьеса В. Билль-Белоцерковского.
(обратно)156
«Собачий переулок» (1927) — роман Л.И. Гумилевского (1890–1976).
(обратно)157
And what is «boredom-whoredom»? Скушное б…ство. No. The tumultuous personal life… — Что такое…?… Нет. Бурная личная жизнь не всегда приятного знакомого. Дружба, если хотите.
(обратно)158
…the row of questions — ряд вопросов.
(обратно)159
…petsy-wetsy, chair a plaisir — Lawrence. Lady Chatterley's Lover. «Улялаевщина» 1933 г. с рисунками художника Тышлера. — Сельвинский Илья. Улялаевщина / Рис. А. Тышлера. Изд. 3-е. М.: ГИХЛ, 1933.
(обратно)160
40 barrels of dissidents — 40 бочек диссидентов.
(обратно)161
Zatovarennaya botchkotara — повесть В. Аксенова (1968).
(обратно)162
Я ведь присылал ему 58 рублей 10 коп. А он мне хоть бы 7–35. — 58–10 антисоветская агитация, 7–35 — социально-опасный элемент (см. мемуары Коржавина).
(обратно)163
Mädchen für Alle — девушка для всех.
(обратно)164
…письмо об антисемитизме — сокамерник по ЛТПБ Сергей Сергеевич Писарев в письме к Улитину поражался, что у Улитина, несмотря на его происхождение из казацкой станицы, нет антисемитских тенденций. Улитина веселило то, что автор письма исходил из того, что все те, кто родом из казацкой станицы, должны быть по природе антисемиты (3. Зиник).
(обратно)165
I need this outing like a hole in the head… — Эта прогулка нужна мне как пуля в затылок, подумал он. Все же он пошел, пришлось. Он рад был выйти на свежий воздух, подышать. Неочевидная причина. Интересно, кто тебя теперь чистит. Неясная причина, если это имело смысл искать.
(обратно)166
…протоколы показаний Кристины Кийлер на военного министра Профьюмо — речь идет о шпионском скандале 1963 г. в Англии.
(обратно)167
Еще раз — «tragic» for you, comical for everybody else. — см. прим. к с. 75.
(обратно)168
«Признание комиссара полиции прокурору республики» (реж. Д. Дамиани; 1971), «Расследование по делу гражданина выше всякого подозрения» (реж. Э. Петри; 1970) — итальянские фильмы о мафии, шедшие в советском прокате.
(обратно)169
…как чайка, в плаваньи сестра — из песни Н. Матвеевой «Братья капитаны»: чайка, плаваний сестра.
(обратно)170
Два колеса хорошо, четыре колеса плохо. Как сказал Классик — ср. Four legs good, two legs bad (Оруэлл. Ферма).
(обратно)171
…про актера-алкоголика, разыгрывающего из себя писателя — вероятно, речь идет о В.Н. Гусарове (1925–1996), авторе книги «Мой папа убил Михоэлса» (Посев, 1978). Улитин там упоминается.
(обратно)172
«Тропою грома» — балет К. Караева, либр. Ю.И. Слонимского по одноименному роману П.А. Абрахамса.
(обратно)173
…книга про императора Клавдия — вероятно, речь идет о романе Р. Грейвза «Я, Клавдий» (1934, рус. пер. 1990).
(обратно)174
Теперь все так пишут — Улитин цитирует реакцию одной из редакторш «Нового мира», куда он отнес свою прозу в начале 60-х годов.
(обратно)175
ЛЖР — лучшая женщина России — Елена Строева.
(обратно)176
В романе Джона О'Хара «Инструмент» описывается дебют на Бродвее молодого драматурга и, параллельно, его отношения с несколькими женщинами. Диалоги составляют основной интерес произведения. Очень интересно для историка современного театра.
(обратно)



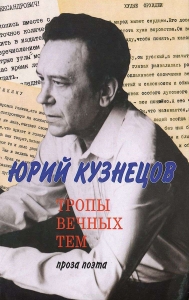
Комментарии к книге «Путешествие без Надежды», Павел Павлович Улитин
Всего 0 комментариев